[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Дин КУНЦ Избранные произведения III том

МАСКА (роман)
Так пусть, творя святой обряд, Панихиду поют для той, Что в гроб легла вдвойне мертва, Когда умерла молодой.Эдгар Аллан По. «Линор»
Безумие, немалый Грех И Ужас полнят его суть.Эдгар Аллан По. «Червь-завоеватель»
Жуткий страх возвращает нам детские повадки.Чезал
XIX век… Во время пожара в подвале дома заживо сгорает 15-летняя Лора Хейвенсвуд, которую психически неуравновешенная мать, зная, что больше всего на свете девочка боится пауков, послала туда убираться. Уверенная что мать нарочно подожгла дом, Лора, погибая, проклинает ее… Проходят годы, но душа Лоры жаждет отмщения. Она переселяется в девушек все новых и новых поколений, и через многие десятилетия тянется вереница леденящих кровь убийств…
Пролог
Лора делала в подвале генеральную уборку, и каждая минута этого занятия была ей ненавистна. Причина состояла не в самой работе — по натуре она была трудолюбивой девочкой и с превеликой радостью бралась за любые домашние дела. Она боялась подвала. Место и впрямь было мрачным. Четыре узких оконца, расположенных под самым потолком, по размерам напоминали бойницы, и лишь слабый бледный свет проникал сквозь плотную пелену пыли на стеклах. Даже несмотря на две горевшие лампы, этому большому помещению удавалось сохранять свои тени, словно оно не желало полностью разоблачаться. Неровный желтый свет ламп освещал сырые каменные стены и громоздкую печь. Печь топили углем, но в этот ясный и теплый майский день она стояла холодной и заброшенной. На многочисленных длинных полках тускло поблескивали ряды стеклянных литровых банок, однако их содержимое — домашние консервированные фрукты и овощи, заготовленные девять месяцев назад, — оставалось неосвещенным. Совершенно темными оставались и углы подвала, а с балок низкого потолка тени свисали, точно фалды длинного траурного крепа. В подвале неизменно отдавало какой-то затхлостью и из-за этой вони он был похож на известняковую пещеру. Весной и летом, когда влажность сильно возрастала по углам помещения иногда возникала отвратительная похожая на корку, пестрая серо-зеленая плесень, окаймленная сотнями крошечных белых спор, по виду напоминающих откладываемые насекомыми яйца. Эта уродливая поросль тоже добавляла свой мерзкий запашок к и без того противному воздуху подвала. Однако не мрак с гнусным запахом и плесенью служил поводом для Лориных страхов — ее пугали пауки. Пауки были хозяевами подвала: одни — маленькие, коричневые и шустрые; другие — серо-угольного цвета, чуть больше коричневых, но такие же шустрые, как и их меньшие собратья. А встречались там еще и иссиня-черные гиганты величиной с Лорин большой палец. Вытирая пыль и паутину с банок домашних консервов и опасаясь наткнуться на удиравших от нее пауков, Лора все сильнее злилась на свою мать. Лучше бы мама поручила ей убраться в комнатах наверху, а подвал могла бы почистить или она сама, или тетя Ракель, потому что никто из них не боялся пауков. Но мама знала, что подвал пугал Лору, и хотела ее наказать. В такие минуты у мамы было жуткое настроение, оно напоминало сгущение грозовых туч. Лоре оно уже было хорошо знакомо. Слишком хорошо. С каждым годом мама все чаще пребывала в нем и, оказываясь в его власти, переставала быть похожей на себя, такую улыбчивую, всегда что-то напевающую женщину. И хотя Лора любила свою мать, она не могла любить ту злобную, раздражительную женщину, в которую та подчас превращалась. Она не любила эту озлобленную женщину, отправившую ее в подвал к паукам. Протирая банки с персиками, грушами, помидорами, свеклой, фасолью и солянкой, нервно ожидая неизбежного столкновения с пауком и мечтая о том, чтобы поскорее вырасти, выйти замуж и жить самостоятельной жизнью, Лора вздрогнула от неожиданно резкого звука, раздавшегося в сыром подвальном воздухе. Поначалу он был похож на далекий крик одинокой экзотической птицы, но быстро становился более громким и более назойливым. Она замерла и, подняв глаза к темному потолку, внимательно прислушалась к жутковатому завыванию, доносившемуся сверху. Через несколько секунд Лора узнала голос тети Ракель и поняла, что он был полон тревоги. Наверху что-то с треском грохнулось, словно там разбили какую-то посуду. Наверняка это мамина ваза в виде павлина. Если это так, то ее крайне мрачное настроение продлится до конца недели. Отойдя от полок с консервами, Лора направилась к лестнице, ведущей из подвала наверх, но тут же остановилась, услышав мамин крик. Это не был крик негодования по поводу разбитой вазы, в нем слышался какой-то ужас. Через гостиную в направлении входной двери простучали шаги. Судя по знакомому пению длинной пружины, входная дверь открылась и затем захлопнулась. Теперь крик тети Ракель доносился уже с улицы, слова были неразборчивы, но в них безошибочно угадывался все тот же страх. Лора почувствовала запах дыма. Подбежав к лестнице, она увидела наверху бледные языки пламени. Дым был не густым, но едким. С колотящимся сердцем Лора добралась до верхней ступеньки. Ее обдало жаром. Невольно сощурившись, она все же увидела, что делалось на кухне. Пламя еще не полыхало сплошной стеной. Еще можно было убежать по узкому проходу — маленькому коридорчику спасительной прохлады, — выскочить через расположенную в противоположном конце дверь, ведущую на задний двор. Лора подобрала свою длинную юбку, стянула ее на бедрах и, удерживая получившийся узел обеими руками, чтобы он не размотался и не загорелся, опасливо ступила на уже окаймленную пламенем площадку лестницы, которая под ее весом тут же заскрипела. Она еще не успела добраться до открытой двери, когда кухня вдруг полыхнула языками желто-голубого пламени, быстро ставшего оранжевым. От стены до стены, от пола до потолка все превратилось в преисподнюю, и через это пекло было уже не пройти. Девочка в ужасе смотрела на объятый пламенем дверной проем, и он вдруг напомнил ей горящий глаз фонарика-тыквы. На кухне вышибло стекла, и под действием неожиданно изменившегося направления сквозняков огонь устремился в дверь подвала, на Лору. Вздрогнув, она отпрянула назад и, оступившись, полетела вниз. Падая, она пыталась ухватиться за перила, но не смогла и скатилась по короткой лестнице, сильно ударившись головой о каменный пол. Она старалась не терять сознания и отчаянно цеплялась за свои мысли, словно они были плотом, а она — тонущим пловцом. Она решилась подняться на ноги. Боль точно рассекла ей макушку. Дотронувшись рукой до брови, Лора ощутила кровь — небольшая ссадина. У нее кружилась голова, и она плохо соображала. Прошло не более минуты с момента ее падения, а огонь уже успел распространиться по всей верхней площадке лестницы и теперь спускался вниз на первую ступеньку. Девочке никак не удавалось сосредоточить свой взгляд. Уходящие вверх ступени и опускающееся по ним пламя то и дело сливались в одно светящееся оранжевое марево. Дым скользил вниз по лестнице, подобно привидениям. Они протягивали свои длинные призрачные руки, словно стремясь обнять Лору. Сложив руки рупором, она закричала: — Помогите! Никто не ответил. — На помощь, кто-нибудь! Я в подвале! Молчание. — Тетя Ракель! Мама! Господи, да помогите же мне! Единственным ответом был все усиливавшийся рев пламени. Лора еще никогда не чувствовала себя такой одинокой. Несмотря на обдавшие ее волны жара, она вся похолодела внутри. Она задрожала. Хотя в голове стучало еще сильнее и из ссадины над правым глазом продолжала сочиться кровь, ей все же удалось несколько сконцентрировать свой взгляд. Но то, что она увидела, ей совсем не понравилось. Пораженная смертоносным фейерверком, Лора точно окаменела. Пламя, подобно ящерице, сползало вниз по ступеням, обвиваясь вокруг перил и опускаясь по ним с похожим на хихиканье потрескиванием. Дым уже добрался до основания лестницы и окутал Лору. Она закашлялась, и кашель еще усилил боль в голове, и она вновь почувствовала дурноту. Чтобы сохранить равновесие, она оперлась рукой о стену. Все происходило слишком быстро. Дом полыхал, как хорошо высушенный трут. «Мне суждено здесь погибнуть». Вздрогнув от этой мысли, Лора вышла из оцепенения. Она вовсе не собиралась умирать. Она была еще слишком молода. У нее впереди почти целая жизнь, столько всего замечательного, столько такого, о чем она давно мечтала. Нет, это несправедливо. Она совсем не хотела умирать. Она задохнулась дымом. Отвернувшись от горящей лестницы, она закрыла нос и рот рукой, но это не слишком помогло. Лора увидела огонь в противоположном конце подвала, и на какое-то мгновение ей показалось, что пламя окружило ее и нет никакой надежды на спасение. От отчаяния она закричала, но затем поняла, что пожар еще не успел проникнуть в противоположный конец помещения. Теми двумя огнями, что она видела, были масляные лампы, освещавшие подвал, и пламя в них было совершенно безобидным, заключенным в высокие стеклянные плафоны. Она вновь закашлялась, и боль в голове опустилась куда-то за глаза. Ей было трудно сосредоточиться. Ее мысли, как ртуть, сливались одна с другой и менялись так быстро, что она не могла уследить за ними. Она беззвучно и страстно молилась. Прямо над ней потолок, застонав, будто зашевелился. На какое-то мгновение Лора затаила дыхание, стиснула зубы и вытянула сжатые в кулаки руки по швам, ожидая, что на нее сейчас упадет груда обломков. Но потолок пока еще держался. Пока еще. Дрожа и тихо поскуливая, она в панике бросилась к ближайшему из четырех высоко расположенных оконцев. Оно было прямоугольным, около восьми дюймов высотой и дюймов восемнадцать в ширину — слишком мало, чтобы дать ей возможность спастись. Остальные три окна такие же, и не было никакого смысла приближаться к ним, чтобы убедиться в этом. Дышать с каждой секундой становилось все труднее. Горячий воздух обжигал ноздри. Во рту стояла отвратительная горечь. Лора уже слишком долго стояла под окном, в отчаянии и смятении глядя на скудный бледный свет, проникавший сквозь грязное стекло, и скопившуюся возле окна дымовую завесу. Ей казалось, что она вот-вот вспомнит о каком-то запасном выходе, простом и удобном; она даже была уверена в этом. Такой выход существовал, и он никоим образом не был связан с окнами, но девочка никак не могла от них оторваться. Она словно приросла к ним взглядом, точно так же, как пару минут назад к ползущему на нее пламени. Пульсирующая боль в голове стала еще сильнее, и с каждым мучительным толчком у Лоры все больше путались мысли. «Мне суждено здесь погибнуть». Ей вдруг представилась жуткая картина. Она увидела себя, охваченную огнем, темные волосы становились светлыми от пожирающего их пламени и вставали дыбом у нее на голове, будто это были не волосы, а фитиль свечи; лицо, словно восковое, начало размягчаться, пузырясь и растекаясь, черты сливались воедино, и оно уже переставало быть похожим на человеческое, а превращалось в отвратительную гримасу жуткого демона с пустыми глазницами. «Нет!» Лора потрясла головой, отгоняя страшную картину. Головокружение и дурнота все сильнее одолевали ее. Только струя свежего воздуха могла бы прочистить ее отравленные легкие, но с каждым вдохом она вбирала в себя все больше дыма. Она почувствовала боль в груди. Где-то недалеко послышался ритмичный стук. Он был даже громче стука сердца, просто грохотавшего у нее в ушах. Она стала поворачиваться вокруг, кашляя и задыхаясь, пытаясь определить, откуда доносится этот стук, отчаянно пытаясь взять себя в руки и разобраться в своих мыслях. Стук прекратился. — Лора… Сквозь непрекращающийся рев огня она услышала, как кто-то позвал ее: — Лора… — Я здесь… в подвале! — закричала она. Но вместо крика у нее вырвался лишь едва слышный хрип. Ее сдавленное горло саднило от едкого дыма и жаркого воздуха. От нее требовалось слишком много усилий, чтобы оставаться на ногах. Опустившись на каменный пол на колени, она прислонилась к стене и продолжала сползать вниз до тех пор, пока не оказалась лежащей на боку. — Лора… Вновь раздался стук. Это били кулаком по двери. Лора обнаружила, что воздух возле пола был чище того, которым она дышала. Она судорожно вдохнула, благодаря Бога за эту отсрочку удушья. На несколько секунд пульсирующая боль за глазами поутихла, в голове прояснилось, и она вспомнила об уличном входе в подвал — о двух покосившихся дверях в северной стене дома. Они были заперты изнутри, и никто не мог зайти, чтобы спасти ее; в смятении и панике девочка забыла про эти двери. Но теперь, если она сохранит присутствие духа, она сможет спастись. — Лора! — Это был голос тети Ракель. Лора поползла к северо-западному углу подвала, где маленькая лесенка вела к покосившимся дверям. Держа голову возле пола, она старалась не поднимать ее и дышала гниловатым, но все же достаточно чистым воздухом. Выступающие из цементного пола края камней разорвали ей платье и разодрали колени. Слева от нее уже вся лестница была объята пламенем, и огонь распространялся, перекинувшись на потолок. Преломленный и рассеянный в дымном воздухе свет пламени пожара окружал Лору со всех сторон, создавая впечатление того, что она ползет по узкому огненному коридору. При такой скорости распространения огня эта иллюзия вскоре грозила стать реальностью. Ее глаза опухли и слезились, и она отчаянно терла их, медленно продолжая свой путь к спасению. Почти ничего не было видно, и приходилось ориентироваться лишь на голос тети Ракель, а в остальном полагаться на инстинкт. — Лора! — Голос был совсем близко. Прямо над ней. Она стала ощупывать стену, пока не нашла проем. Она двинулась туда, на первую ступеньку, подняла голову, но ничего не увидела — здесь была кромешная тьма. — Лора, отзовись же мне, детка. Ты там? Ракель была в истерике, она так истошно кричала, так колотила по дверям, что не услышала бы Лору, даже если бы та и была в состоянии ей ответить. Но где же мама? Почему мама тоже не стучала по двери? Разве это маму не тревожило? Извиваясь в этом тесном жарком темном пространстве, Лора протянула руку наверх к одной из перекошенных дверей, находившихся над ее головой. Надежная преграда подрагивала под натиском маленьких кулачков тети Ракель. Лора вслепую пыталась нащупать засов. Она почувствовала под рукой теплую металлическую щеколду и явно что-то еще. Нечто неожиданное и незнакомое. Что-то живое и шевелящееся. Маленькое, но живое. Она судорожно вздрогнула и отдернула руку. Но то, до чего она дотронулась, решило перебраться со щеколды на ее ладошку и покинуло дверь вместе с ее рукой. Выскользнув из ее ладони, оно быстро побежало по ее большому пальцу, по тыльной стороне руки, по запястью и юркнуло под рукав ее платья прежде, чем она успела его смахнуть. «Паук». Лора не видела его, но знала, что это он. Паук. Один из самых крупных, величиной с ее большой палец, с круглым и пухлым туловищем, блестящим, словно масляным иссиня-черным и безобразным. На какое-то мгновение она застыла, не в состоянии даже вздохнуть. Она чувствовала, как паук поднимается по ее руке, и его дерзость побудила ее к действию. Лора попыталась прихлопнуть его через рукав платья, но промахнулась. Паук укусил ее чуть выше локтя, она поморщилась от этой похожей на укол боли, а мерзкое создание стремительно перебралось к ней под мышку и укусило ее еще и там. Ей вдруг показалось, что она переживает самый страшный из кошмаров, потому что пауков она боялась больше всего на свете, и, разумеется, больше пожара. В своем отчаянном стремлении убить паука она даже и думать забыла о том, что дом над ней превращается в горящие руины. Она в панике колотила себя, потеряв равновесие, упала, вновь скатилась в подвал и больно ударилась бедром о каменный пол. Паук уже забрался под лиф ее платья и добежал до груди. Она вскрикнула, но никакого звука не последовало. Подняв руку к груди, она сильно надавила и даже через ткань почувствовала яростное сопротивление паука под своей ладонью. Лора еще отчетливей ощущала своей голой грудью, к которой он был прижат, его отчаянные попытки вырваться, но она не отпускала его до тех пор, пока не раздавила; и вновь чуть не задохнулась, но на этот раз не только от дыма. Убив паука, она несколько секунд лежала на полу, сжавшись в эмбриональной позе, сильно и безудержно вздрагивая. Гадкие мокрые остатки раздавленного паука очень медленно сползали по ее груди. Ей хотелось залезть под лиф и стряхнуть с себя эту мерзость, но она не решилась, потому что вопреки здравому смыслу боялась, что он вдруг как-то оживет и укусит ее за пальцы. Она почувствовала вкус крови. Она прикусила губу. Мама… Все это случилось с ней из-за мамы. Мама послала ее сюда, зная, что здесь пауки. Почему мама всегда была так нетерпима к проступкам, почему всегда так стремилась наказать? Заскрипев, над головой прогнулась балка. В полу кухни появилась трещина. Ей показалось, что она смотрит прямо в преисподнюю. Вниз посыпались искры. На ней загорелось платье, и она стала его тушить, обжигая руки. «Все это случилось из-за мамы». Она уже не могла ползти на четвереньках, потому что обожженная кожа на ладонях и пальцах покрылась волдырями и стала слезать. Ей пришлось подняться на ноги, хотя для этого потребовалось больше сил и упорства, чем, как ей казалось, у нее было. Она шаталась от дурноты и слабости. «Мама послала меня сюда». Лора видела лишь колеблющееся, всеохватывающее оранжевое зарево с дымом, похожим на бесформенных, скользящих и кружащихся призраков. С трудом передвигая ноги, она направилась к маленькой лестнице, ведущей к дверям из подвала на улицу, но, пройдя не больше двух ярдов, поняла, что шла не в ту сторону. Повернувшись, она стала возвращаться туда, откуда пришла, — по крайней мере туда, откуда, как ей показалось, она пришла, — но через два шага наткнулась на печь, возле которой и в помине не было никаких дверей. Она совершенно запуталась. «Это все из-за мамы». Лора сжала свои обожженные руки в окровавленные, с облупившейся кожей кулаки. Она в исступлении забарабанила по печи, представляя, что каждый из этих ударов она наносит своей матери. Она страстно желала этого. Пошатнувшись, верхняя часть дома с грохотом рухнула. Вдалеке, где-то за нескончаемой толщей дыма, как наваждение, эхом раздавался голос тети Ракель: — Лора… Лора… Но почему же мама не помогает тете Ракель сломать двери в подвал? Где же она, в конце концов? Подбрасывает уголь, подливает масло в огонь? Хрипя и задыхаясь, Лора оттолкнулась от печи и попыталась идти на голос тети Ракель. Одна из балок, сорвавшись, упала, ударила ее в спину и отбросила на полки с домашними консервами. Банки попадали, разбиваясь вдребезги. Лора упала под градом стекла. Запахло солянкой, персиками. Прежде чем она успела понять, есть ли у нее какие-нибудь переломы, прежде чем она даже успела поднять лицо из месива консервов, еще одна балка, сорвавшись, придавила ей ноги. Боль была настолько сильной, что ее рассудок словно отключился, не в состоянии воспринять все это. Ей еще не исполнилось и шестнадцати, и большего она вынести не могла. Она замуровала боль где-то в отдаленном уголке своего рассудка и, не поддаваясь ей, истерично билась и извивалась, негодуя на свою судьбу и проклиная свою мать. Ее ненависть к матери, лишенная здравого смысла, была настолько сильной и искренней, что полностью затмила боль, которую она не могла позволить себе чувствовать. Ненависть переполняла ее, она заряжала ее такой демонической энергией, что ей казалось, она вот-вот сбросит со своих ног эту тяжелую балку. «Провались ты пропадом, мама». Верхний этаж дома обвалился на нижний с грохотом, похожим на пушечную канонаду. «Будь ты проклята, мама! Будь ты проклята!» Пылающие обломки двух этажей проломили уже ослабленный потолок подвала. «Мама…»Часть I. ЧТО-ТО БЛИЗИТСЯ ДУРНОЕ…
Пальцы чешутся. К чему бы? К посещенью душегуба. Чей бы ни был стук, Падай с двери, крюк.Шекспир. «Макбет»
Глава 1
Молния рассекла мрачные серые тучи, словно трещина фарфоровую тарелку, резко осветив грозовыми отблесками машины, стоявшие без всякого укрытия во дворе перед офисом Альфреда О'Брайена. На деревья налетел порыв ветра. Дождь с неожиданной яростью забарабанил по трем высоким окнам кабинета, размывая открывавшийся из них вид. О'Брайен сидел спиной к окнам. Пока слышались раскаты грома, будто стучавшего по крыше здания, он читал поданное ему Полом и Кэрол Трейси заявление. «Какой аккуратный человечек, — думала Кэрол, наблюдая за О'Брайеном. — Когда он сидит вот так неподвижно, его можно принять за манекен». Он выглядел необычайно ухоженным. Глядя на его тщательно уложенные волосы, можно было подумать, что он не больше часа назад побывал у хорошего парикмахера. Его усы были подстрижены настолько мастерски, что их половинки смотрелись абсолютно симметричными. На нем был серый костюм, и стрелки брюк напоминали острые лезвия, а черные ботинки просто сияли. Ногти на руках носили следы маникюра, и его розовые, словно надраенные, руки казались стерильными. Когда меньше недели назад Кэрол представили О'Брайену, он показался ей чересчур официальным и даже чопорным, и она почувствовала к нему антипатию. Однако он тут же расположил ее к себе своей улыбкой, любезностью и искренним желанием помочь. Она взглянула на Пола. Обычно изящный, он сидел возле нее на стуле в несколько угловатой позе, что свидетельствовало о его волнении. Он внимательно смотрел на О'Брайена, но, почувствовав на себе взгляд Кэрол, повернулся и улыбнулся ей. Его улыбка была еще приятнее улыбки О'Брайена, и от этого у нее, как обычно, стало спокойнее на душе. Человека, которого она любила, нельзя было назвать ни красавцем, ни уродом; скорее его даже считали некрасивым, однако в его лице было нечто невероятно привлекательное благодаря приятным чертам, свидетельствовавшим о его необычайной нежности и чуткости. Его карие глаза обладали удивительной способностью передавать все малейшие оттенки чувств и эмоций. Шесть лет назад на университетском симпозиуме под названием «Психопатология и современная американская литература», где Кэрол и познакомилась с Полом, ее привлекли в нем именно эти теплые выразительные глаза, и все последующие годы они не переставая завораживали ее. Сейчас, подмигнув ей, он словно хотел сказать: «Не волнуйся, О'Брайен на нашей стороне; наше заявление будет принято, все сложится хорошо, я тебя люблю». Она подмигнула ему в ответ, пытаясь придать своему виду уверенность, хотя почти не сомневалась, что он видит всю ее браваду насквозь. Как бы ей хотелось быть уверенной в положительном ответе О'Брайена! Она знала, что не должно было быть и места для сомнений, потому что у О'Брайена просто не найдется причин отказать им. Они были молоды и здоровы. Полу было тридцать пять, ей — тридцать один — замечательный возраст для совершения такого смелого шага, который они собирались сделать. Им обоим повезло с работой. Они были материально обеспечены и даже преуспевали. Они пользовались авторитетом в тех кругах, где вращались. Их брак был счастливым, безоблачным и с каждым годом становился все крепче. Одним словом, их показатели для усыновления ребенка были просто безукоризненными, и тем не менее она все-таки волновалась. Она любила детей и очень хотела сама воспитать одного или двоих. За последние четырнадцать лет, в течение которых она получила три степени в трех университетах и утвердилась профессионально, ей множество раз приходилось отказывать себе в маленьких радостях и удовольствиях. На первом месте всегда стояло получение образования и начало карьеры. Она пропустила слишком много веселых вечеринок и бесчисленное количество развлекательных поездок на выходные и каникулы. С усыновлением ребенка ей больше тянуть не хотелось. Она ощущала сильную психологическую — чуть ли не физическую — потребность стать матерью, направлять и воспитывать детей, дарить им свою любовь и чуткость. Она была достаточно умна и довольно хорошо разбиралась в себе, чтобы понять, что эта сильная потребность, по крайней мере отчасти, была связана с ее собственной неспособностью родить ребенка. «Всегда больше всего хочется того, чего не можешь получить», — рассуждала она. Она сама была виновата в бесплодии, явившемся результатом непростительной глупости, совершенной ею много лет назад; и, разумеется, сознание собственной вины только усугубляло ее страдания, переносить которые было бы легче, если бы природа, а не ее дурость лишила ее способности к деторождению. Она была весьма неуравновешенным ребенком из-за тех многочисленных психологических истязаний, которым подвергалась со стороны своих родителей-алкоголиков, часто прибегавших даже к физическим расправам. К пятнадцати годам она превратилась в непримиримую бунтарку, отчаянно конфликтовавшую как со своими родителями, так и со всем миром вообще. В те годы ее ненависть не щадила никого, а тем более себя. И вот в самый разгар своей бурной и полной страданий юности ее угораздило забеременеть. В страхе и панике, не зная никого, к кому бы она могла обратиться за советом, Кэрол пыталась скрыть свое положение, затягиваясь эластичными поясами, ремнями, нося плотную облегающую одежду и сильно ограничивая себя в еде, чтобы не набирать вес. В конце концов она едва осталась жива после осложнений, вызванных ее попытками скрыть свою беременность. Ребенок родился преждевременно, но был здоров. Отдав его в приют, она пару лет почти не вспоминала о нем, но теперь эти мысли все чаще посещали ее, и она жалела, что не оставила его. То, что в результате перенесенных ею мучений она осталась бесплодной не особо угнетало ее в те дни, так как она не представляла себе, что ей вновь когда-нибудь захочется забеременеть. Но общение с детским психологом по имени Грейс Митовски, безвозмездно занимавшейся работой с неблагополучными подростками, забота и любовь этой женщины полностью изменили жизнь Кэрол. Ее ненависть по отношению к себе исчезла, и годы спустя она уже раскаивалась в своем бездумном поступке, сделавшем ее бесплодной. К счастью, усыновление ребенка она рассматривала как более чем просто приемлемый вариант решения этой проблемы. Она была способна подарить усыновленному ребенку не меньше любви, чем своему собственному. Она знала, что сможет стать хорошей заботливой матерью, и ей не терпелось доказать это — не всему миру, а просто себе; ей никогда ничего не нужно было доказывать никому, кроме себя, потому что именно она была самым беспощадным критиком по отношению к себе. Подняв глаза, мистер О'Брайен улыбнулся. У него были исключительно белые зубы. — Здесь все просто замечательно, — сказал он, показывая на их заявление, которое только что закончил читать. — Просто превосходно. Не многие из тех, кто к нам обращается, имеют такие характеристики. — Благодарю вас за комплимент, — ответил Пол. О'Брайен покачал головой: — Отнюдь. Это действительно так. Весьма впечатляюще. — Спасибо, — в свою очередь, поблагодарила его Кэрол. Откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, О'Брайен продолжил: — У меня есть к вам пара вопросов. Уверен, что именно их мне и зададут на рекомендательной комиссии, так что мне лучше узнать ваши ответы сейчас, чтобы потом избежать лишней волокиты. Кэрол вновь напряглась. Очевидно, заметив ее реакцию, О'Брайен поспешил тут же оговориться: — Ничего страшного. Поверьте, я не задам вам и половины тех вопросов, которые обычно задаю приходящим к нам супружеским парам. Несмотря на заверения О'Брайена, Кэрол не удалось расслабиться. Грозовое небо за окном все темнело по мере того, как тучи меняли цвет с серого на иссиня-черный, сгущались и все сильнее прижимались к земле. О'Брайен развернулся на своем стуле лицом к Полу. — Доктор Трейси, вам не кажется, что вы, так сказать, несколько «перевыполнили программу»? Вопрос, похоже, весьма удивил Пола. — Я не совсем вас понимаю, — поморгав, ответил он. — Ведь вы возглавляете отделение английского языка в колледже, не так ли? — Да. В этом семестре я взял отпуск и основную часть работы выполняет мой заместитель. А так я возглавляю это отделение на протяжении полутора лет. — Вы довольно молоды для такой должности, вам не кажется? — В общем-то, да, — согласился Пол. — Однако это для меня не большая честь. Понимаете, должность-то весьма неблагодарная — дел невпроворот. Это мои старшие коллеги по отделению постарались уговорить меня, чтобы самим не завязнуть в этой работе. — Не скромничайте. — Нет-нет, абсолютно, — возразил Пол. — Эта должность действительно не большая честь. Кэрол знала, что он скромничает. Возглавлять отделение считалось почетным. Но ей было понятно, почему Пол старался это как-то принизить: его несколько смутило выражение О'Брайена «перевыполнили программу». Признаться, и ее оно тоже смутило. До сего момента она никак не могла себе представить, что длинный список заслуг может вдруг в чем-то стать им помехой. За окном молния вновь зигзагом рассекла небо. Дневной свет на улице мигнул, как электричество в кабинете О'Брайена. — Вы еще и автор нескольких книг, — продолжал О'Брайен, по-прежнему обращаясь к Полу. — Да. — Вы написали очень хороший учебник для изучающих американскую литературу, с десяток монографий на разные темы и историю графства. Кроме этого, на вашем счету две детские книги и роман… — Ну, моя попытка написать роман похожа на попытку лошади пройтись по трапеции, — заметил Пол. — Один из критиков «Нью-Йорк таймс» назвал его «наглядным примером академической претенциозности, изобилующим символикой и глубокомыслием, с полным отсутствием сути и сюжетной увлекательности, воплощением бесконечной наивности». О'Брайен улыбнулся: — Интересно, всем писателям так запоминаются критические обзоры? — Думаю, нет. Но у меня он отчетливо запечатлелся на коре головного мозга, потому что в нем до смешного много правды. — Вы сейчас работаете над очередным романом? Вы ведь поэтому взяли отпуск? Пол не был удивлен этим вопросом. Он теперь ясно понимал, куда клонит О'Брайен. — Да, я действительно пишу следующий роман. И на этот раз в нем будет сюжет. Он рассмеялся с легким оттенком самоосуждения. — Помимо всего прочего, вы еще занимаетесь благотворительностью. — В довольно скромных масштабах. — В весьма внушительных, — возразил О'Брайен. — Фонд детской больницы, Объединенный благотворительный фонд, Фонд поощрительных стипендий для студентов — все это вдобавок к вашей повседневной работе и творческой деятельности. И вы тем не менее не считаете себя, так сказать, «перевыполнителем программы»? — Нет, должен вам честно признаться, что нет. Вся благотворительная деятельность сводится к двум заседаниям в месяц. Это не слишком утомительно. Учитывая мое положение, делать меньший вклад было бы просто неловко. — Пол немного подался вперед. — Может быть, вас беспокоит, что я не смогу уделять ребенку достаточно времени? Если так, то можете отбросить на этот счет всяческие сомнения. Я добьюсь того, что время у меня будет. Этот шаг для нас крайне важен, мистер О'Брайен. Мы оба очень хотим ребенка, и, если нам выпадет такое счастье, он никогда не будет страдать от недостатка внимания. — Нет, в этом я не сомневаюсь, — поспешил заверить О'Брайен, подняв для пущей убедительности руки. — Я вовсе не то хотел сказать. Разумеется, я целиком и полностью на вашей стороне в этом вопросе. Говорю вам это абсолютно искренне. — Он развернулся на своем стуле лицом к Кэрол. — Доктор Трейси, — я имею в виду миссис Трейси, — а как вы считаете? Вы не «перевыполняете программу»? Молния вновь прорезала толщу грозовых облаков, на этот раз уже ближе, чем прежде; казалось, она ударила в землю всего лишь в двух кварталах от офиса. Оконные стекла задрожали от последовавшего раската грома. Кэрол воспользовалась «громовой» паузой, чтобы обдумать свой ответ, и решила, что О'Брайен, возможно, больше оценит ее прямоту, нежели скромность. — Да. Пожалуй, я несколько «перевыполняю» план. Я вместе с Полом принимаю участие в двух из трех названных вами благотворительных акциях. Я знаю, что успех, которого я добилась в своей психиатрической практике, довольно необычен для моего возраста. К тому же меня достаточно регулярно приглашают читать лекции в колледже. Кроме этого, я занимаюсь научно-исследовательской работой по детскому аутизму. Летом я еще занимаюсь и огородом, а зимой — вышиванием; и наконец, я чищу зубы по три раза в день — строго регулярно, ежедневно. О'Брайен рассмеялся. — Неужели трижды в день? Ну тогда вы определенно работяга. Его добрый смех несколько успокоил Кэрол, и, вновь почувствовав уверенность, она сказала: — Мне кажется, я понимаю, что вас настораживает. Вы волнуетесь, что мы, возможно, потребуем от ребенка слишком многого. — Да, именно это, — ответил О'Брайен. Он стряхнул с рукава своего пиджака едва заметную пушинку. — Преуспевающие родители обычно слишком давят на своих детей, пытаясь добиться от них многого, опережая время. — Такая проблема, — возразил Пол, — возникает лишь тогда, когда родители не подозревают об опасности подобных действий. Несмотря на то что мы с Кэрол и считаемся такими уж преуспевающими — с чем я пока еще не совсем согласен, — мы никогда не станем требовать от своих детей невозможного. У каждого из нас свой жизненный ритм. Мы с Кэрол прекрасно понимаем, что ребенка надо направлять, а не подстегивать или вгонять в какие-то рамки. — Конечно, — поддакнула Кэрол. Похоже, О'Брайену это понравилось: — Я знал, что вы скажете именно это или что-то вроде этого. Вновь сверкнула молния. На этот раз, кажется, еще ближе — всего в квартале от них. Раздался раскат грома, затем еще. Верхний свет потускнел, замигал и, словно неохотно, опять загорелся с прежней яркостью. — В своей психиатрической практике мне приходится иметь дело с пациентами, страдающими различными недугами, — заметила Кэрол, — но я специализируюсь на душевных болезнях и эмоциональных расстройствах у детей и подростков. От шестидесяти до семидесяти процентов моих пациентов не старше семнадцати. Мне довелось иметь дело с детьми, страдавшими серьезными психическими расстройствами по вине своих чересчур требовательных родителей, которые слишком давили на них во всем, что касалось их индивидуального и интеллектуального развития. Я имела возможность видеть таких покалеченных детей, мистер О'Брайен, и я старалась сделать для них все, что в моих силах. Благодаря этому опыту я уже не смогу обращаться со своими детьми так, как это делают некоторые родители. Конечно, ошибки неизбежны. И я не гарантирована от них. И у меня их будет много. Но среди них не будет той, что вы упомянули. — Это очень важно, — кивнув, ответил О'Брайен. — И весьма убедительно. Не сомневаюсь, что рекомендательную комиссию вполне удовлетворит только что сказанное вами. — Он стряхнул со своего рукава еще одну едва заметную пылинку и поморщился, словно это было нечто отвратительное. — Они неизбежно зададут мне еще один вопрос: предположим, усыновленный вами ребенок не только не проявит каких-то выдающихся способностей, но окажется… ну, скажем… гораздо менее сообразительным, чем вам бы того хотелось. Интеллектуальная сторона жизни играет для вас немаловажную роль, и, если вы поймете, что ваш ребенок обладает средним уровнем интеллекта — а может быть, даже и несколько ниже среднего, — не будет ли это для вас крушением всех связанных с ним надежд? — Даже если бы мы и могли иметь своего собственного ребенка, никто не дал бы нам гарантии, что он окажется вундеркиндом или чем-то выдающимся, — сказал Пол. — Но мы бы любили его, каким бы он ни был. В этом нет никаких сомнений. То же самое будет и с усыновленным нами ребенком. — Мне кажется, вы нас слишком переоцениваете, — вступила Кэрол, обращаясь к О'Брайену. — Никто из нас не считает себя гением, упаси Бог! Мы достигли всего того, что мы имеем, благодаря упорному труду и настойчивости, а не из-за того, что мы обладаем какими-то необыкновенными способностями. Хотелось бы, конечно, чтобы все оказалось проще, но, к сожалению, это не так. — Кроме того, — добавил Пол, — человека любят не только за его большие умственные способности. Мы судим о личности в целом, а это — совокупность качеств, зависящая от многих факторов, состоящая из гораздо большего, чем просто интеллект. — Хорошо, — сказал О'Брайен. — Я рад, что вы так настроены. Комиссия отреагирует положительно и на этот ответ. В течение последних нескольких секунд Кэрол слышала далекое завывание сирен. Сирен пожарных машин. Теперь они были уже не такими далекими, как сначала, и быстро приближались, становясь громче. — Наверное, одна из молний во что-то попала, что-то повредила, — сказал Пол. О'Брайен развернулся на своем стуле к центральному окну, находившемуся прямо позади его стола. — Судя по звуку, это случилось где-то неподалеку. Кэрол обвела глазами все три окна, но не увидела, чтобы где-нибудь из-за ближайших крыш поднимался дым. Однако за окнами все было размыто дождем и с трудом удавалось что-либо разглядеть из-за его капель на стеклах и серой дождливо-туманной завесы на улице, то колышущейся, то порывисто трепещущей. Вой сирен нарастал. — Не одна машина, — заметил О'Брайен. Пожарные машины поравнялись с офисом — их было две или три — и пронеслись дальше, направляясь в соседний квартал. Поднявшись со стула, О'Брайен шагнул к окну. Еще не успели стихнуть первые сирены, как следом за ними раздались новые. — Должно быть, дело серьезное, — сказал Пол. — Похоже, едет по меньшей мере две пожарные команды. — Я вижу дым! — воскликнул О'Брайен. Пол тоже поднялся со своего стула и подошел к окну, чтобы получше рассмотреть. «Что-то произойдет». От этой неожиданной мысли Кэрол вздрогнула, словно перед ее лицом щелкнули кнутом. Ее вдруг охватила и будто наэлектризовала сильная необъяснимая паника. Она так вцепилась в подлокотники кресла, что сломала ноготь. «Сейчас… произойдет… что-то… ужасное…» Неожиданно воздух стал удушающе жарким, словно это был не воздух, а какой-то сильный отравляющий газ. Она попыталась вздохнуть, но не смогла. Ее грудь будто сдавило чем-то невидимым. «Отойдите от окон!» Она хотела выкрикнуть это предупреждение, но от паники у нее перехватило горло. Пол и О'Брайен стояли у разных окон, но оба были к ней спиной, и ни один из них не видел, что ее вдруг охватил жуткий, парализующий страх. «Страх чего? — допытывалась она у себя. — Чего же, в конце концов, я так боюсь?» Она попыталась сопротивляться этому безотчетному ужасу, сковавшему ее мышцы и суставы. Она начала было подниматься со своего кресла, и вот тогда-то все и случилось. Смертоносный огненный вал молнии был похож на минометный залп — семь или восемь ослепительных вспышек, а может, и больше — она их не считала, просто не могла сосчитать. Они следовали одна за другой почти без промежутков. Каждый новый разряд гремел, не давая стихнуть предыдущему и явно перекрывая его по силе. Они были настолько оглушительными, что она почувствовала, как вибрируют ее зубы и кости. Каждый новый разряд, несомненно, раздавался все ближе к дому, чем предыдущий, все ближе к окнам семифутовой высоты — ослепительно вспыхивающим, дрожащим, то черным, то молочно-белым, то сверкающим, то сияющим, то серебристым, то медно-красным… Яркие багрово-белые вспышки высветили угловатые стробоскопические очертания, навсегда оставшиеся в памяти Кэрол: силуэты стоявших на фоне этого естественного фейерверка Пола и О'Брайена, выглядевших крохотными и незащищенными; словно зависший в нерешительности дождь за окнами; гнущиеся от неистовых порывов ветра деревья; молния, ударившая в одно из них — высокий клен, и затем какая-то зловещая темная тень, выросшая в самом центре этого взрыва, похожая на торпеду, несущуюся прямо в центральное окно (все это случилось в какие-то считанные секунды, но вспышки молнии и замигавший вскоре электрический свет придали происходившему эффект замедленного действия); вскинутая к лицу рука О'Брайена, словно проделавшая с десяток разрозненных движений; повернувшийся и подавшийся к О'Брайену Пол — их фигуры казались снятыми на пленку, пробуксовывавшую в кинопроекторе; пошатнувшийся в сторону О'Брайен; Пол, схвативший его за рукав пиджака и тащивший вниз в безопасное место (лишь какую-то долю секунды спустя после того, как молния расщепила клен); здоровенный сук дерева, уже пробивший стекло, когда Пол все еще пытался оттащить О'Брайена в сторону; одна из густых ветвей, хлестнувшая О'Брайена по голове, сшибла с него очки, подбросив их в воздух («Что будет с его лицом, с его глазами?» — мелькнуло у Кэрол), и затем падавшие Пол с О'Брайеном скрылись из виду: гигантский сук расщепленного клена, пробивший стекло, рухнул на стол О'Брайена с каскадом воды, стекла, щепок и дымящихся кусков коры; треснувшие ножки стола не выдержали и подломились от сильнейшего удара поверженного дерева. Кэрол очнулась на полу возле своего перевернутого кресла. Она не помнила, как упала. Лампы дневного света, мигнув, потухли и больше не загорались. Она лежала на животе, щекой на полу, в ужасе глядя на усыпавшие ковер осколки стекла и изодранные кленовые листья. В грозовом небе продолжала сверкать молния, и врывавшийся сквозь разбитое стекло ветер, поднимая оборванные листья, кружил их в каком-то безумном языческом хороводе; под какофонический аккомпанемент шторма они неслись через весь офис в направлении зеленых ящичков картотеки. Сорвавшийся со стены календарь метался по воздуху, то паря, то пикируя на страницах января и декабря,словно на крыльях, подобно летучей мыши. Две картины дрожали на стене, стремясь освободиться от своих проволочных вешалок. Повсюду была бумага — просто белые листы, бланки, листки из блокнота, бюллетени, газеты — все это шелестело, кружилось то в одну сторону, то в другую, взвивалось вверх, падало вниз, сбивалось в кучу и ползло по полу со змеиным шипением. У Кэрол было какое-то жуткое ощущение того, что все это движение в комнате вызвано не просто ветром, а чьим-то… присутствием. Зловещим присутствием. Каким-то пагубным полтергейстом. В кабинете словно орудовали дьявольские призраки; благодаря своим невидимым мускулам они срывали все со стен, на какие-то мгновения вселялись в тело, состоящее лишь из листьев деревьев и бумажных листов. Это казалось просто сумасшествием, ничего подобного ей никогда не приходило в голову. Она была поражена и совершенно сбита с толку этим одолевшим ее невероятным суеверным страхом. Вновь сверкнула молния. Еще. Болезненно сжавшись от этого резкого звука, опасаясь, что молния может попасть в комнату через открытое окно, она закрыла голову руками, чтобы хоть как-то защититься. Ее сердце стучало, во рту пересохло. Кэрол вспомнила о Поле, и сердце заколотилось с новой силой. Он был там, возле окон, с противоположной стороны стола, где-то под ветвями клена. Она не верила, что он мог погибнуть. Он стоял несколько в стороне от смертоносного дерева. Погибнуть мог О'Брайен — его сильно ударило по голове ветвью, и все зависело от того, насколько ему повезло, потому что один из острых сучков мог попасть ему прямо в глаз, судя по тому, как с него слетели очки. Но Пол наверняка жив. Просто наверняка. Однако он мог получить серьезную травму, мог истекать кровью… Кэрол попыталась было встать на четвереньки, чтобы разыскать Пола и по возможности оказать ему первую помощь. Но очередная молния ослепительно и оглушительно разрядилась прямо возле здания, и от охватившего ее страха конечности Кэрол сделались ватными. У нее даже не было сил ползти, и эта слабость приводила ее в негодование, так как она всегда гордилась своей силой, целеустремленностью и несгибаемой волей. Проклиная себя, она вновь упала на пол. «Что-то пытается помешать нам усыновить ребенка». Эта невероятная мысль поразила ее так же, как и предостережение предыдущего взрыва, полученное ею за мгновение до того, как молния огневым валом ворвалась во двор. «Что-то пытается помешать нам усыновить ребенка». Нет. Это просто смешно. Гроза, молния — всего лишь разбушевавшаяся стихия. Не было же все это нацелено против О'Брайена только потому, что он собирался помочь им с усыновлением ребенка. Какая глупость. «Глупость? — подумала она, и в этот момент вновь раздался оглушительный гром, и комната осветилась дьявольским светом. — Просто природа? А ты когда-нибудь раньше видела такую молнию?» Дрожа и холодея, Кэрол приникла к полу; охвативший ее страх был еще сильнее, чем в детстве. Она пыталась убедить себя в том, что ее испугала лишь молния, так как это было бы вполне оправданным объяснением, но она понимала, что обманывает себя. Боялась она как раз не молнии, ее-то меньше всего. Было что-то еще, что-то неопределенное, бесформенное и безымянное; оно присутствовало в комнате, и само это присутствие, чье бы там оно ни было, словно нажимало внутри ее на какую-то неведомую кнопку, вызывавшую панику на каком-то подсознательном примитивном уровне. Страх этот был глубоким, инстинктивным. Гонимые ветром листья и бумаги, взметнувшись, устремились к ней, похожие на дервиша. Он был высоким: колонна диаметром фута в два и высотой — в пять-шесть, состоящая из сотен маленьких кусочков. Эта колонна приблизилась к Кэрол, извиваясь, вздымаясь, шелестя, меняя очертания, серебристо поблескивая в грозовом свете, и она почувствовала исходящую от нее угрозу. Она взглянула на этот вихрь, и ей вдруг показалось, что он сверху вниз тоже смотрит на нее. Через мгновение он сместился на несколько футов влево, потом вернулся, вновь задержался перед ней, потом вдруг метнулся вправо, но опять вернулся и навис над ней, словно раздумывая: не броситься ли на нее, не разорвать ли ее в клочки, не смешать ли ее с этими листьями, газетами, конвертами и прочим мусором, из которого он сам и состоял? «Ведь это же просто обыкновенный мусор!» — сердито пыталась убедить себя Кэрол. Созданный ветром фантом отпрянул от нее. «Видишь? — укоризненно спрашивала она себя. — Просто бездушный мусор. Что это со мной? Уж не схожу ли я с ума?» Она вспомнила известную аксиому, которая способствовала успокоению в подобные моменты: если тебе кажется, что ты сходишь с ума, значит, ты абсолютно нормальный — сумасшедшие никогда не сомневаются в своем здравомыслии. Будучи психиатром, она знала, что эта древняя мудрость слишком упрощала целый комплекс психологических принципов, но, по сути дела, в ней была немалая доля правды. Значит, она в своем уме. И тем не менее эта жуткая, необъяснимая мысль почему-то вновь вернулась к ней: «Что-то пытается помешать нам усыновить ребенка». Если кружащийся вокруг нее вихрь не был явлением природы, то чем же он был? Неужели ей надлежало поверить в то, что молния была ниспослана именно для того, чтобы превратить мистера О'Брайена в обугленный труп? Вот уж идиотская идейка-то. Кому же это дано стрелять молнией, как из пистолета? Господу? Господь явно не мог сидеть на небе и постреливать в мистера О'Брайена молниями — лишь бы помешать Кэрол и Полу Трейси усыновить ребенка. Тогда — дьявол? Он палил по несчастному мистеру О'Брайену из глубин преисподней? Какое-то сумасшествие. О Господи! Она не могла с уверенностью сказать, что верит в Бога но уж в дьявола-то она определенно не верила. Еще одно окно разорвалось, осыпая ее осколками стекла. Потом молнии прекратились. Гроза уже не ревела, а рокотала, словно удаляющийся товарный поезд. Сильно пахло озоном. Ветер все еще дул в разбитые окна, но с явно меньшей силой, чем за мгновение до этого, потому что взвивавшиеся вихри листьев и бумаг улеглись на пол и, будто выдохшись, лежали там кучами, слегка подрагивая. «Что-то…» «Что-то…» «Что-то пытается помешать нам…» Кэрол пыталась зажать эту мысль, как артерию, из которой била кровь. Черт возьми, она же, в конце концов, образованная женщина. Она всегда славилась своей рассудительностью и хладнокровием. Она не могла позволить себе поддаваться этим нелепым суеверным страхам. Мерзкая погода — вот в чем было дело, а не в молнии. Это все ее выходки. О подобном то и дело читаешь в газетах. И снежный покров в Беверли-Хиллз достигал толщины в полдюйма. И день тридцатиградусной жары среди холодной зимы в Миннесоте. И дождь с безоблачно голубого неба. И, хотя подобной силы молнии были явно нечастым явлением, они, вероятно, когда-нибудь и где-нибудь уже наблюдались, и не один раз. Даже наверняка. Не могло быть и сомнений. Стоит только взять одну из книжек, авторы которых собрали всевозможные мировые рекорды, раскрыть ее на главе «Погодные явления», найти раздел «Молнии», и там скорее всего будет напечатан список таких ударов молний, на фоне которых об этом будет просто стыдно рассказывать. Причуды погоды. Вот и все. Вот и все, что это было. Ни больше ни меньше. На какое-то время Кэрол по крайней мере удалось отбросить от себя всякие мысли о демонах, фантомах, зловещем полтергейсте и прочей подобной чертовщине. В относительной тишине, наступающей по мере удаления грозы, она чувствовала, как к ней возвращаются силы. Оттолкнувшись от пола, она поднялась на колени. Со звоном, подобным качнувшимся от ветра колокольчикам, с ее серой юбки и зеленой блузки посыпались осколки стекла; на ней не было ни одной раны, ни даже царапины. Однако она еще не успела выйти из своего обалдевшего состояния, и в первые мгновения пол, казалось, продолжал раскачиваться из стороны в сторону, словно все происходило в каюте корабля. В соседнем офисе какая-то женщина истерически зарыдала. Раздались другие тревожные крики, и кто-то стал звать мистера О'Брайена. Еще никто не успел забежать в офис, чтобы посмотреть, что случилось, и, судя по этому, с момента прекращения грозы прошли считанные секунды, хотя Кэрол они показались часами. Возле окон кто-то тихо застонал. — Пол? — позвала она. Если ответ и последовал, то его заглушил неожиданный порыв ветра, вновь зашелестевшего бумагами и листьями. Вспомнив, как ветвь хлестнула О'Брайена по голове, она содрогнулась. Но Пол же должен был остаться невредимым. Сук дерева прошел мимо него. Она, кажется, отчетливо это видела?.. — Пол! Вновь охваченная страхом, Кэрол поднялась на ноги и быстро обошла стол, перешагивая через поломанные кленовые ветви и опрокинутую мусорную корзину.Глава 2
В среду днем, после обеда, состоявшего из овощного супа «Кэмпбеллз» и запеченного сандвича с сыром, Грейс Митовски отправилась в свой кабинет и, свернувшись поуютнее на диване, решила часок-другой вздремнуть. Она никогда не спала днем в спальне, потому что, как ей казалось, это становилось бы одним из пунктов ее распорядка дня. И хотя она уже почти год три-четыре раза в неделю спала днем, она по-прежнему не хотела мириться с мыслью о том, что ей необходим дневной отдых. Она считала что дневной сон нужен детям и немощным, отжившим свое старикам. Ее детство было уже позади — как первое так и второе, благодарствуйте, — и, несмотря на то, что ей было много лет, она явно не чувствовала себя ни немощной, ни дряхлой. От дневного лежания в постели ее одолевала лень, которую она не переносила ни в ком и тем более в себе. Поэтому днем она дремала на диванчике в кабинете, повернувшись спиной к закрытым ставнями окнам, убаюкиваемая монотонным тиканьем каминных часов. В свои семьдесят лет Грейс по-прежнему отличалась живостью ума и энергией. Она совсем не утратила своей сообразительности, вот только тело предательски подводило ее, являясь причиной ее расстройств. Артрит коснулся рук, а в дни, когда влажность была высока, как, например, сегодня, плечи неумолимо ныли от бурсита. Несмотря на то что она делала все рекомендованные ей врачом упражнения и каждое утро проходила пешком по две мили, ей становилось все труднее поддерживать свой мышечный тонус. Всю жизнь с самого детства она обожала книги и могла читать все утро, весь день и большую часть вечера, не чувствуя никакого утомления для глаз; сейчас, проведя за чтением около двух часов, она, как правило, начинала ощущать в глазах резь и жжение. Она с негодованием относилась к своей очередной «болячке» и отчаянно боролась с ними, хотя прекрасно понимала, что в этой борьбе она в конечном итоге обречена на поражение. В ту среду днем она решила взять в своем поединке тайм-аут, коротенькую паузу, чтобы отдохнуть и расслабиться, и, растянувшись на диванчике, через две минуты уже уснула. Сны снились Грейс нечасто, а дурные сны почти совсем не донимали ее. Но, уснув в среду днем в своем уставленном книгами кабинете, она то и дело мучилась кошмарами. Несколько раз она вздрагивала, почти просыпалась, часто дыша от охватившей ее паники. А один раз, стремясь отдалиться от чего-то жутко зловещего, она услышала свой собственный крик ужаса и поняла, что мечется на диване, терзая свои ноющие плечи. Грейс хотела окончательно проснуться, но не могла; сон не отпускал ее — что-то темное и угрожающее протягивало к ней свои холодные, липкие руки и тянуло назад в дремоту, все глубже и глубже, в самую беспросветную бездну, где какое-то безымянное существо что-то невнятно ворчало и бормотало, усмехаясь, отвратительно гнусавым голосом. Часом позже, когда ей наконец удалось проснуться и стряхнуть с себя этот навязчивый сон, она обнаружила, что стоит посередине своей затененной комнаты в нескольких шагах от дивана, но она совершенно не помнила, как встала. Она была вся в поту и дрожала. — Нужно сказать Кэрол Трейси. — Что сказать? — Предупредить ее. — О чем предупредить? — Это вот-вот случится. О Боже… — Что случится? — Так же, как во сне. — А что во сне? Ее воспоминания о кошмаре уже начали рассеиваться: она помнила только какие-то обрывки, и каждый из этих разрозненных кусочков исчезал, подобно осколкам сухого льда. Ей удалось сохранить в памяти лишь то, что это было как-то связано с Кэрол и что ей грозила большая опасность. И она каким-то образом знала, что это был не просто сон… По мере отступления кошмара Грейс начала ощущать, насколько мрачно было в кабинете, и от этого ей стало не по себе. Перед сном она выключила весь свет. Ставни были наглухо закрыты, и лишь тонюсенькие полоски света проникали сквозь щели между деревянными реечками. У нее было какое-то противоречащее здравому смыслу, но совершенно очевидное чувство, что сон не совсем отпустил ее: что-то из него осталось с ней, что-то страшное и зловещее, обретшее плоть путем каких-то таинственных метаморфоз, затаившееся где-то здесь, в углу, в ожидании наблюдающее за ней. — Хватит! — Но сон был… — Только сон. Нити света по кромкам ставен внезапно заблестели, потом потускнели, затем вновь заблестели от очередной вспышки молнии. Тут же последовали сотрясающий крышу грохот и еще одна вспышка молнии, невероятной силы и яркости, один бело-голубой разряд за другим, и щели в ставнях с полминуты были похожи на раскаленные добела, искрящиеся током провода. Одурманенная сном и несколько ошеломленная, Грейс по-прежнему стояла посередине темной комнаты, раскачиваясь из стороны в сторону, прислушиваясь к шуму грозы и ветра, глядя на вспышки молнии. Страшная сила шторма казалась неправдоподобной, и она решила, что на нее все еще действует сон, мешая трезво оценить реальность. На улице наверняка все выглядит не так ужасно, как кажется изнутри. — Грейс… Она словно слышала, как кто-то позвал ее из-за самого высокого стеллажа с книгами, стоявшего прямо позади нее. Судя по тому, как невнятно и неотчетливо прозвучало ее имя, у произносившего его был жутко уродливый рот. «За мной же никого и ничего нет! Ничего». И все-таки она не решилась повернуться. После того как вспышки молнии наконец прекратились и долгий грохот грома поутих, стало еще душнее, чем минуту назад. Она с трудом дышала. В комнате потемнело. — Грейс… Она вдруг ощутила клаустрофобию, точно покрывало, опустившееся на нее. Едва различимые стены будто ожили и стали сдвигаться, создавая впечатление, что все помещение может сузиться вокруг нее до размеров и формы гроба. — Грейс… Пошатываясь, она направилась к ближайшему окну, ударилась бедром о письменный стол и чуть не упала, зацепившись за шнур лампы. Непослушными одеревеневшими пальцами она стала возиться с ручкой ставен, чтобы открыть их. Наконец реечки раздвинулись, и серый, но долгожданный свет заструился в кабинет, заставляя ее зажмуриться и как-то радуя. Припав к ставням, Грейс посмотрела на затянутое тучами небо, стараясь побороть безумное искушение взглянуть через плечо и проверить, действительно ли там таилось что-то чудовищное с алчной гримасой в виде улыбки. Она сделала несколько жадных судорожных вдохов, словно для поддержания сил ей нужен был не воздух, а дневной свет. Дом Грейс располагался на небольшом бугорке в конце тихой улочки в окружении нескольких больших сосен и невероятно ветвистой плакучей ивы; из окна кабинета была видна протекавшая в двух милях вздувшаяся от дождя Саскуэханна. По берегам реки, мрачно темнея, тянулся Гаррисберг, столица штата. Нависшие над городом тучи тащили с собой лохмотья тумана, скрывавшие верхние этажи самых высоких зданий. Когда наконец сон совсем улетучился из ее глаз и нервы несколько успокоились, она повернулась и оглядела комнату. По ней прокатилась волна облегчения. Она была одна. В момент затишья грозы она вновь услышала каминные часы. И это был единственный звук. «Ну, ты убедилась, черт возьми? — с упреком спрашивала она себя. — Или ты ожидала увидеть зеленого трехглазого гоблина с зубастой пастью? Тебе стоит последить за собой, Грейс Луиза Митовски, а то так и в сумасшедший дом недолго угодить, и будешь сидеть там в кресле-качалке, радостно беседуя с призраками, пока сердобольные сиделки будут вытирать тебе слюни с подбородка». Поскольку на протяжении многих лет ее жизнь была полна активной умственной деятельности, больше всего Грейс боялась старческого маразма. Она сознавала, что на сегодняшний день она совсем не утратила своей сообразительности и реакции. А что будет завтра? А послезавтра? Благодаря медицинскому образованию и неустанному знакомству с профессиональной литературой, даже после окончания своей психиатрической практики, она была в курсе всех последних исследований в этой области и знала, что маразмом страдают лишь пятнадцать процентов всех стариков. Она также знала, что при соответствующем лечении и упражнениях более половины этих случаев считались излечимыми. Грейс была уверена, что у нее не больше одного шанса из восемнадцати впасть в маразм. Она сознавала, что ее обеспокоенность на этот счет была явно чрезмерной, и все же беспокоилась. Поэтому ее, разумеется, взволновало столь необычное ощущение того, что кто-то или что-то было вместе с ней в кабинете всего несколько секунд назад, враждебное и… сверхъестественное. Будучи неисправимым скептиком, она едва ли доверяла разным астрологам и психотерапевтам и даже на минуту не могла поверить в какую-то суеверную чушь; она всегда считала подобные вещи, по меньшей мере, глупостью. Но, Боже милостивый, какой же это был кошмар! Никогда прежде во сне она не испытывала и десятой доли подобного. И хотя мрачные подробности полностью стерлись из памяти, она по-прежнему ясно помнила общее ощущение — страх, невероятный ужас, исходивший из каждого зловещего видения, каждого звука. Она почувствовала дрожь. Пот, выжатый из нее этим кошмаром, становился похожим на тонкую ледяную корку на ее коже. Единственное, что еще ей запомнилось из этого кошмара, — Кэрол. Она кричала, звала на помощь. До сего момента Кэрол никогда не фигурировала в редких снах Грейс, и в связи с этим ее появление в кошмаре казалось каким-то дурным предзнаменованием, предвестником опасности. С другой стороны, не было ничего удивительного в том, что Кэрол все-таки появилась в одном из снов, так как во сне очень часто что-то происходит с близкими и любимыми. Это мог бы подтвердить любой психолог, а Грейс и была психологом, и весьма неплохим правда, уже два с лишним года как на пенсии. Она с большой нежностью относилась к Кэрол. Если бы у нее были свои дети, она вряд ли могла любить их сильнее. Она познакомилась с этой девушкой шестнадцать лет назад, когда Кэрол еще была вредной, упрямой и хулиганистой пятнадцатилетней девчонкой, которой чуть было не стоило жизни родить ребенка и которую после этой душевной травмы арестовали за хранение марихуаны и множество других правонарушений. В то время, помимо своей частной психиатрической практики, Грейс по восемь часов в неделю безвозмездно работала в исправительной школе, где содержалась Кэрол. Готовая съездить по физиономии любому, посмевшему над ней посмеяться, Кэрол была просто неуправляема. Но, если приглядеться, в ней даже тогда за внешней грубоватостью угадывались ум и природная доброта. Грейс приглядывалась как следует и была весьма сильно удивлена, если не поражена. Нарочито скабрезный язык, злость и показная развязность служили для девочки не чем иным, как защитным механизмом, панцирем, ограждавшим ее от физических и психологических нападок ее родителей. По мере того как Грейс постепенно узнавала жуткие подробности жизни Кэрол дома, она все больше убеждалась, что исправительная школа была неподходящим местом для этой девочки. Воспользовавшись своим влиянием в суде, она постаралась навсегда оградить Кэрол от опеки ее родителей и позже сама официально стала ее приемной матерью. Она наблюдала, как девочка тянулась к любви и заботе, смотрела, как из замкнутого, эгоистичного и жестокого подростка она превращалась в нежную, уверенную в себе, восхитительную женщину, полную надежд и мечтаний, чуткую и с характером. Пожалуй, сыгранная Грейс в этом чудесном превращении роль была самым замечательным событием в ее жизни. Единственным моментом, омрачавшим их отношения с Кэрол, явилось определение ее ребенка в приют. Однако тому не было никакой разумной альтернативы. Кэрол еще не могла заботиться о ребенке ни морально, ни физически, ни материально. Если бы на нее свалилась такая ответственность, подобным переменам никогда не суждено было бы произойти. Она бы на всю жизнь осталась несчастной и сделала бы несчастным своего ребенка. Беда заключалась в том, что даже сейчас, шестнадцать лет спустя, Кэрол чувствовала себя виноватой за отказ от ребенка. И каждый год в день его рождения она была снедаема этой виной. В этот роковой день Кэрол одолевала сильная депрессия, и она становилась необычайно замкнутой. Испытываемые ею терзания свидетельствовали о постоянных муках, возможно, не таких резких, как те, что ей приходилось терпеть все остальное время. Грейс укоряла себя в том, что она недооценила возможность подобной реакции и не сделала большего, чтобы хоть как-то смягчить ее. «Ведь я же психолог, — не унималась она. — Я обязана была все это предвидеть». Возможно, когда Кэрол с Полом усыновят чьего-нибудь ребенка, Кэрол почувствует, что справедливость в некоторой степени восстановлена. Усыновление со временем могло бы хоть как-то облегчить ее вину. Грейс искренне надеялась на это. Она любила Кэрол как дочь и желала для нее только самого лучшего. Ей было страшно от мысли, что она может ее потерять. Поэтому появление Кэрол в кошмаре вовсе не было каким-то таинственным. И уж, конечно, не дурным знаком. Вся липкая от пота, Грейс вновь повернулась к окну в поисках тепла и света, но день был мрачно-серым, холодным и зловещим. Ветер давил на стекло, тихо шуршал наверху под крышей. В городе, недалеко от реки, навстречу дождю и туману, клубясь, поднимался столб дыма. Минуту назад Грейс почему-то его не заметила, хотя, судя по его обилию, он не мог появиться за несколько секунд. Даже на таком расстоянии ей был виден блеск огня у самого основания темного дымного столба. Сделала ли это молния свое черное дело? Грейс вспомнила, с какой невероятной силой сверкала и грохотала гроза в те первые секунды ее пробуждения. Тогда, еще одурманенная сном, она решила, что непроснувшиеся чувства подводят ее и ослепительная яркость вспышек молний была лишь кажущейся, а то и воображаемой. Действительно ли таким страшным был блеск этого смертоносного огня? Она взглянула на свои наручные часы. Меньше чем через десять минут ее любимая радиостанция будет передавать сводку новостей. Может, они что-нибудь скажут о пожаре, возникшем из-за молнии. Поправив на диванчике подушки, она вышла из кабинета и увидела возле входной двери, в дальнем конце нижнего холла, Аристофана. Он гордо сидел, обвившись хвостом, высоко подняв голову и словно объявляя: «Сиамский кот — это самое лучшее, что есть на земле, и я являюсь тому наглядным примером, и не смейте об этом забывать». Шевеля пальцами, Грейс протянула к нему руку. — Кис-кис-кис. Аристофан не шевельнулся. — Кис-кис-кис. Иди сюда, Ари. Иди сюда, малыш. Поднявшись, Аристофан свернул налево в арку и удалился в темную гостиную. — Вот упрямый котяра, — с нежным упреком произнесла она. Пройдя в нижнюю ванную, она умыла лицо и причесалась. Банальная потребность привести себя в порядок отвлекла ее от мыслей о кошмаре. Постепенно напряжение отпускало. Глаза были красными и слезились. Она протерла веки несколькими каплями косметического молочка. Выйдя из ванной, Грейс увидела, что Аристофан сидит на прежнем месте в холле и наблюдает за ней. — Кис-кис-кис, — она вновь попыталась подкупить его лаской. Он не мигая уставился на нее. — Кис-кис-кис. Поднявшись, Аристофан насторожился и изучающе оглядел ее своим ясным любопытным взглядом. Стоило ей сделать шаг в его направлении, как он вновь быстро улизнул и, оглянувшись лишь раз, опять исчез в гостиной. — Ну ладно, — сказала Грейс. — Хорошо же, негодник. Как хочешь. Ты, конечно, можешь меня и презирать. Но не забудь, что сегодня вечером ты можешь остаться и без своего «Мяу-микса». Войдя в кухню, она сначала включила свет, а затем — радио. Звук был достаточно хороший, хотя из-за грозы и слышался постоянный треск. Слушая новости об экономических кризисах, захватывающие истории об угонах самолетов и слухи о войне, Грейс вставила в кофеварку новый бумажный фильтр, засыпала молотый колумбийский кофе и добавила полложки цикория. О пожаре рассказали лишь в самом конце выпуска и в общих чертах. Корреспонденту было известно только то, что молния попала в пару зданий в центре города и одно из них — церковь — загорелось. О подробностях он обещал рассказать через полчаса. Грейс налила себе приготовленный кофе. Она поставила чашечку на маленький столик возле единственного на кухне окна, подвинула стул и села. Цветущие на заднем дворе мириады роз — красных, розовых, оранжевых, белых, желтых — выглядели неестественно яркими: они словно фосфоресцировали на пепельно-сером фоне дождя. Утром по почте пришли два журнала по психологии. Грейс раскрыла один из них, предвкушая удовольствие. Читая о новых исследованиях в криминальной психологии, она допила первую чашечку кофе, по радио в это время наступила пауза между песнями, несколько секунд тишины, и в это короткое затишье она услышала позади себя едва уловимое движение. Повернувшись, она увидела Аристофана. — Пришел просить прощения? — спросила она. Потом ей вдруг показалось, что он словно подглядывал за ней и теперь, когда его «застукали», оторопел; все его изящные упругие мышцы были напружинены, и шерсть на выгнутой спине встала дыбом. — Ари! Что случилось, дурачок? Стремительно развернувшись, он выскочил из кухни.Глава 3
Кэрол сидела в хромированном кресле с черными блестящими виниловыми подушками и медленно пила виски из бумажного стаканчика. Пол тяжело опустился в кресло возле нее. Свой стаканчик он осушил одним залпом. Это замечательное виски — «Джек Дэниелз», блэк лейбл — было заботливо предоставлено адвокатом по имени Марвин Квикер, чей офис располагался рядом с офисом Альфреда О'Брайена и который тут же сообразил, что оно необходимо для восстановления сил. «Квикер и ликер»[1], — объявил Марвин, предлагая виски Кэрол. Он, видимо, повторял этот каламбур бесчисленное множество раз, но с неизменным для себя удовольствием. Наливая двойную порцию Полу, он вновь повторил его. Хотя Пол не был большим любителем спиртного, сейчас он выпил все до последней капли. У него до сих пор дрожали руки. Приемная офиса О'Брайена была небольшой, но все, кто работал на том же этаже, собрались в ней, чтобы обсудить ударившую в дерево молнию, миновавшую опасность пожара, неожиданно быстро восстановленное электричество и, по очереди заглядывая в кабинет О'Брайена, посмотреть на учиненный там разгром. Доносившийся до Пола гул голосов не способствовал успокоению нервов. С интервалами приблизительно секунд в тридцать какая-то крашеная блондинка визгливо восклицала: «Просто не верится, что никто не погиб! Просто не верится, что никто не погиб!» Этот голос независимо от месторасположения его хозяйки доносился до Пола и заставлял его морщиться. «Просто не верится, что никто не погиб!» В ее тоне проскальзывали нотки разочарования. Альфред О'Брайен сидел за столом в приемной. Его секретарша, официально-строгого вида женщина с волосами, стянутыми в тугой пучок, пыталась обработать с полдюжины царапин на лице своего босса, однако О'Брайена, похоже, больше волновал его костюм. Он старательно смахивал и стряхивал приставшие к пиджаку грязь, пыль и ошметки коры. Пол допил виски и взглянул на Кэрол. Она все еще не могла прийти в себя. Ее лицо, обрамленное блестящими темными волосами, казалось очень бледным. Она, вероятно, заметила беспокойство в его глазах, потому что, взяв его руку, слегка сжала ее и попыталась улыбнуться. Однако улыбка не удалась, так как губы ее дрожали. Он наклонился, чтобы ей было его слышно на фоне шума возбужденных голосов. — Ты готова ехать? Она кивнула. Возле окна раздался голос, видимо, кого-то из молодых сотрудников: — Эй! Внимание все! К дому подкатили телевизионщики. — Если нас застанут журналисты, — заметила Кэрол, — мы проведем здесь еще не меньше часа. Не попрощавшись с О'Брайеном, они поспешили уйти. В холле, направляясь к боковому выходу, они уже на ходу накинули на себя плащи. Выйдя на улицу, Пол обнял Кэрол за талию и раскрыл зонт. Они торопливо пошли по мокрому асфальту стоянки, старательно огибая большие лужи. Порывистый ветер казался слишком холодным для начала сентября; постоянно меняя направление, он наконец дунул под зонт и вывернул его наизнанку. Ледяной дождь, подхлестываемый ветром, лил с таким ожесточением что его капли словно впивались Полу в лицо. Пока они добежали до машины, их волосы стали настолько мокрыми, что прилипли к голове; вода, попав за воротник плаща, струилась по шее. Пол бы почти не удивился, если бы видел, что их «Понтиак» пострадал от молнии, но машина оказалась целой и невредимой, и ее мотор послушно завелся. Выезжая со стоянки, он хотел было свернуть налево, но тут же нажал на педаль тормоза, увидев, что через полквартала улица перекрыта полицией и пожарными. Церковь все еще была объята пламенем, несмотря на проливной дождь и мощные струи воды, направленные на нее пожарниками. Черные клубы дыма поднимались в серое небо, и в окнах с вылетевшими стеклами плясали языки пламени. Было совершенно очевидно, что церковь уже не спасти. Он повернул направо и поехал домой по затопленным дождем улицам с переполненными водосточными канавами, где впадины в асфальте превратились в коварные озера, которые приходилось преодолевать с крайней осторожностью, чтобы мотор вдруг не захлебнулся и не заглох. Кэрол сидела, сжавшись и притулившись к дверце машины. Несмотря на включенное отопление, она явно мерзла. Пол чувствовал, что у него стучат зубы. Поездка домой заняла десять минут, и за это время никто из них не сказал ни слова. Единственными звуками были шелест шин по мокрому асфальту и глухой, равномерный, как метроном, стук «дворников». В этом молчании не было ни неловкости, ни натянутости, но чувствовалось какое-то странное напряжение, словно воздух наполняла какая-то затаенная энергия. Полу казалось, что, стоит ему заговорить, Кэрол от неожиданности вылетит из машины. Они жили в старательно отреставрированном по их инициативе доме, построенном в стиле эпохи Тюдоров, и, как всегда, от его вида — выложенной камнем дорожки, массивных дубовых дверей с фонарями по бокам, окон со свинцовыми стеклами, остроконечной крыши, — у Пола стало как-то хорошо и тепло на душе. Дверь гаража автоматически поднялась, и он, вкатив «Понтиак» внутрь, поставил его рядом с красным «Фольксвагеном» Кэрол. Они все так же молча вошли в дом. У Пола были мокрые волосы, влажные штанины прилипали к ногам, а рубашка — к спине. Он решил, что если тут же не переоденется во что-нибудь сухое, то неминуемо сляжет от простуды. Кэрол, по-видимому, грозила та же опасность, и они вместе отправились прямо наверх в спальню. Она раскрыла двери шкафа, а он включил стоявшую возле кровати лампу. Дрожа от холода, они стали снимать с себя мокрую одежду. Раздевшись почти догола, они взглянули друг на друга. Их глаза встретились. Они по-прежнему не разговаривали. В этом не было необходимости. Он обнял ее, и они нежно поцеловались. Ее губы, еще сохранявшие аромат виски, были теплыми и мягкими. Прильнув к Полу, Кэрол прижала его к себе, впиваясь пальцами ему в спину. Она вновь жадно поцеловала мужа, прикусывая его губы зубами, водя по его зубам языком; их поцелуи внезапно стали полны необузданной ярости. И в нем и в ней словно вдруг что-то оборвалось, и в их желании появилось нечто звериное. Они набросились друг на друга точно безумные, поспешно срывая с себя остатки одежды, ласкаясь, вжимаясь и впиваясь друг в друга. Она покусывала ему плечо. Он, взяв ее за ягодицы, яростно мял их, но она даже не пыталась отпрянуть; напротив, она прижималась к нему все сильнее, терлась об него грудью и бедрами, ее слабые стоны свидетельствовали не о боли; они говорили о безумном желании. В постели он сам был поражен своей силой и выносливостью. Они никак не могли насытиться друг другом. Они извивались и переплетались в абсолютной гармонии, словно они не только соединились, но слились воедино, словно они были единым организмом, попавшим под воздействие одного, а не двух раздражителей. Все признаки цивилизации были на какое-то время утрачены, и в течение этого времени они издавали лишь звериные звуки: сопение, рычание, гортанные стоны удовольствия, возбужденные вскрикивания. Наконец Кэрол произнесла первое слово, тех пор как они покинули офис О'Брайена: «Да». И вновь ее голова металась по подушке, а она, выгибая свое тонкое, изящное тело, повторяла: «Да, да!» Это не являлось невольно вырвавшимся подтверждением очередного оргазма: два предыдущих вызвали у нее лишь порывистое дыхание и легкий стон. Это было «да», сказанное жизни, являющееся подтверждением того, что она жива, а не превратилась в обуглившийся кусок мертвечины, подтверждением того чуда, что им обоим удалось избежать молнии и смертоносных ветвей поверженного ею клена. Их жаркие страстные объятия были пощечиной смерти, неосознанным, но приносящим удовлетворение неприятием веры в существование самого ее мрачного призрака. «Да, да, да!» — словно магическое заклинание повторял Пол; достигнув второго оргазма, он вместе с семенем как бы изгонял из себя страх смерти. Они в изнеможении лежали на спине друг возле друга на сбитой постели, долгое время слушая, как по крыше стучит дождь и не переставая гремит гром, уже не настолько сильно, чтобы сотрясать окна. Кэрол лежала с закрытыми глазами и выражением абсолютного умиротворения на лице. Пол изучал ее и уже в который раз за прошедшие четыре года задавал себе один и тот же вопрос: как случилось, что она согласилась выйти за него замуж? Она была красива, а он — нет. Любой составитель словаря мог бы в качестве определения слова «некрасивый» просто поместить его фотографию. Как-то раз он в шутку высказался по этому поводу, и Кэрол разозлилась на него за такое отношение к самому себе. Однако это была правда; только правдой было еще и то, что его не особо волновало, что он — не Берт Рейнолдс; главное, что этого не замечала Кэрол. Не замечала она не только его «некрасоты», она не отдавала себе отчет и в том, что сама была красива, и упорно отрицала это, считая себя «немного симпатичной», и даже не столько симпатичной, сколько просто «так, ничего», и то в несколько забавном плане. Ее темные волосы даже сейчас, будучи спутанными и закудрявившимися от дождя и пота, выглядели замечательными — густыми и блестящими. Ее кожа была атласной, а лицо — настолько прекрасным, что трудно было предположить, что природа могла создать такое своей неуклюжей рукой. Кэрол была из тех женщин, что держал в своих объятиях бронзовый Адонис, вовсе не похожий на Пола Трейси. Но она тем не менее была здесь, и он был благодарен за это судьбе. Он не переставал удивляться, насколько они подходили друг другу во всех отношениях — умственно, эмоционально, физически. Сейчас, когда дождь с новой силой забарабанил по крыше и окнам, Кэрол почувствовала, что он не отрываясь смотрит на нее, и открыла глаза. Они были настолько карими, что с расстояния нескольких дюймов казались черными. Она улыбнулась. — Я люблю тебя. — Я люблю тебя, — ответил он. — Я боялась, что ты погиб. — А я нет. — Потом, после молнии, я звала тебя, но ты долго не отзывался. — Я был занят — звонил в Чикаго, — улыбаясь, сказал он. — Нет, серьезно. — Хорошо, тогда — в Сан-Франциско. — Я испугалась. — Я просто был не в состоянии сразу откликнуться, — мягко сказал Пол. — Если помнишь, О'Брайен упал прямо на меня. Чуть не раздавил меня. Он вроде небольшой, но твердый, как скала. Он, видимо, накачал себе мускулы, отряхивая от пылинок свои костюмы и начищая себе ботинки по девять часов в день. — Ты проявил изрядную смелость. — Занявшись с тобой любовью? Пустяки, ничего особенного. Она игриво дала ему пощечину. — Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Ты спас О'Брайену жизнь. — Ерунда. — Не ерунда. Он тоже так считает. — Перестань, ради Бога. Я не вышел вперед, пытаясь его заслонить своей грудью. Я просто дернул его в сторону. Любой на моем месте сделал бы то же самое. Она покачала головой. — Ошибаешься. Не все так быстро соображают, как ты. — Значит, я сообразительный? Так-так. С этим я, пожалуй, могу и согласиться. Я — сообразительный, но никак не герой. Я не позволю тебе навесить на меня этот ярлык, потому что в дальнейшем ты будешь только и делать, что ждать от меня геройских поступков. Можешь себе представить, во что превратилась бы жизнь Супермена, если бы он вздумал жениться на Лоис Лейн с ее невероятными ожиданиями? — Как бы там ни было, — продолжала Кэрол, — хочешь ты это признать или нет, О'Брайен считает, что ты спас ему жизнь, а это для нас важно. — Правда? — Я была в достаточной степени уверена, что наше заявление об усыновлении ребенка будет одобрено. Теперь же у меня нет ни малейших сомнений на этот счет. — Всегда остается маленький процент… — Нет, — прервала она его. — О'Брайен не сможет тебя подвести после того, как ты спас ему жизнь. Ни в коем случае. Он уговорит и обработает всю комиссию. Поморгав, Пол расплылся в улыбке: — Черт побери, а я об этом и не подумал. — Так что, папаша, ты — герой. — Ну что ж, мамаша… быть может, так оно и есть. — Мне кажется, я с большим удовольствием буду откликаться на «маму». — А я — на «папу». — А если просто «па»? — Не годится — это скорее напоминает имитацию звука, с которым вылетает пробка из бутылки шампанского. — Ты предлагаешь отметить? — спросила она. — Я думаю, нам стоит во что-нибудь облачиться, отправиться на кухню и сочинить ранний ужин. Разумеется, если ты голодна. — Умираю. — Ты можешь сделать грибной салат, — сказал Пол. — А я займусь своим знаменитым феттучине Альфредо. У нас есть пара бутылок сухого шампанского, которые мы приберегли для особого случая. Мы их откупорим, навалим себе феттучине Альфредо и грибов, вернемся сюда и поужинаем в постели. — И посмотрим новости по телевизору. — А потом весь вечер будем читать детективы с боевиками и потягивать шампанское, пока не закроются глаза. — Как это заманчиво, чудесно, как порочно праздно! — воскликнула Кэрол. Подавляющее большинство вечеров он проводил, корректируя и редактируя свой роман. И ей редкий вечер удавалось отдохнуть от бумаг и писанины. Когда они облачились в домашние халаты и шлепанцы, Пол сказал: — Нам нужно учиться оставлять вечера свободными. Нам придется уделять много времени ребенку. Это наш долг перед ним. — Или перед ней. — Или перед ними, — добавил Пол. Ее глаза заблестели. — Ты думаешь, нам разрешат усыновить больше одного? — Конечно, как только мы докажем, что успешно справляемся с одним. В конце концов, — насмешливо проговорил он, — разве не я спас жизнь старику О'Брайену? По дороге на кухню, остановившись посередине лестницы, она повернулась и обняла его. — У нас будет настоящая семья. — Похоже на то. — Ах, Пол, я не помню, чтобы я когда-нибудь была так счастлива. Ну скажи, что это чувство останется у меня навсегда. Он обнял ее в ответ, и ему было приятно держать ее в своих объятиях. В конечном итоге чувство нежной любви было лучше секса; чувствовать себя нужным и любимым лучше, чем заниматься любовью. — Скажи мне, что все будет хорошо, — попросила Кэрол. — Все будет хорошо, и это чувство останется у тебя навсегда, и мне очень приятно, что ты так счастлива. Вот. Ты это хотела услышать? Она поцеловала его в подбородок и в уголки рта, а он чмокнул ее в нос. — А теперь, — сказал Пол, — позволь мне заняться феттучине, пока я не проглотил свой язык. — Очень романтично. — Даже романтикам знакомо чувство голода. Спустившись вниз по лестнице, они вздрогнули от неожиданно громкого постукивания. Оно было постоянным, но аритмичным: «Тук, тук, тук-тук-тук, тук-тук…» — Что еще за чертовщина? — спросила Кэрол. — Это раздается снаружи… где-то над нами. Они стояли на нижней ступеньке, задрав головы и глядя на второй этаж. Тук, тук-тук, тук, тук… — Проклятие, — проворчал Пол, — это наверняка из-за ветра разболталась одна из ставен. — Они еще прислушались, и он со вздохом сказал: — Придется мне выйти и закрепить ее. — Сейчас? Под дождем? — Если я ничего не сделаю, ветер может оторвать ее совсем. А еще хуже — она провисит и простучит всю ночь. Сами толком не выспимся и соседям спать не дадим. Кэрол нахмурилась. — Но там же молнии, Пол… После всего, что произошло, мне кажется, тебе не стоит рисковать и лезть в самую грозу на лестницу. Ему тоже не нравилась такая перспектива. Представив себя в грозу под дождем на лестнице, он ощутил на голове легкое неприятное покалывание. — Я не хочу, чтобы ты сейчас выходил… — начала было она. Постукивание прекратилось. Они подождали. Ветер. Барабанная дробь дождя. Шорох ветвей о стену дома. — Ну вот, — наконец произнес Пол, — теперь уже поздно. Если это и была ставня, то ее оторвало. — Но я не слышала, как она упала. — Если она упала в траву или в кусты, ты и не должна была почти ничего услышать. — Значит, теперь тебе не надо идти под дождь, — сказала она, направляясь через холл к маленькому коридорчику, ведущему на кухню. Он последовал за ней. — Не надо, но теперь мне предстоит более трудоемкий ремонт. Когда они входили на кухню, по каменному полу гулко раздавался звук их шагов. — Тебе не стоит беспокоиться об этом до завтра или до послезавтра. Сейчас тебя должен волновать соус для феттучине. Как бы он утебя не свернулся. Взяв медную кастрюлю с полки со сверкающей посудой, висевшей в самом центре кухни, он притворился обиженным ее высказыванием. — Разве у меня когда-нибудь свертывался соус для феттучине? — По-моему, в последний раз, когда ты его готовил, он… — Ничего подобного! — Да-да, — поддразнивая его, отозвалась Кэрол. — В последний раз он определенно был не на уровне. — Она вынула из холодильника пластиковый пакет с грибами. — Хоть мне и больно тебе об этом говорить, но в последний раз, когда ты делал феттучине Альфредо, соус своими комками напоминал матрас в мотеле, где берут десять долларов за ночь. — Какое незаслуженное оскорбление! Кстати, откуда тебе так хорошо известно, что и как в десятидолларовых мотелях? Может быть, ты втайне от меня с кем-то встречаешься? Они вместе готовили ужин, болтая о том о сем, подшучивая друг над другом, стараясь друг друга рассмешить. Когда они были вдвоем, мир для Пола суживался до размеров их теплой уютной кухни. Благодушное настроение было нарушено вновь сверкнувшей молнией. Она уже не ослепляла своим жутким блеском, как несколько часов назад в кабинете О'Брайена. Однако Пол замолчал на полуслове, его внимание отвлекла вспышка, его взгляд упал на длинное окно со многими стеклами, расположенное над мойкой. Деревья на лугу за окном словно извивались, волновались и дрожали в неровном грозовом свете, и казалось, будто он смотрит не на сами деревья, а на их отражения в озерной глади. Неожиданно еще какое-то движение привлекло его взгляд, хотя он толком и не мог разобрать, что он видел. День, сам по себе серый и мрачный, начал уступать место сумеркам и медленно опускавшемуся легкому туману. Повсюду появлялись тени. Скудный дневной свет стал тусклым и обманчивым; он скорее искажал, чем освещал то, на что падал. На фоне этого унылого пейзажа что-то неожиданно выскочило из-за толстого ствола дуба, пересекло по траве открытый участок и стремительно исчезло за кустом сирени. — Пол? Что случилось? — спросила Кэрол. — Там на лужайке кто-то есть. — В такой дождь? Кто? — Не знаю. Подойдя к окну, она встала возле него. — Я никого не вижу. — Кто-то пробежал от дуба к кусту сирени. Он бежал согнувшись и довольно быстро. — Как он выглядит? — Не могу сказать. Я даже не уверен, что это был мужчина. Возможно, и женщина. — Может, просто собака? — Слишком большой для собаки. — Это мог быть и Джаспер. Джаспер был датский дог, хозяева которого — семья Хэнрахан — жили через три дома от них. Эта крупная собака с умными глазами проявляла необычайное терпение по отношению к детям и очень любила печенье «Орео». — Джаспера бы в такую погоду не выпустили, — заметил Пол. — Они слишком любят своего пса. Последовала очередная неяркая вспышка молнии, яростный порыв ветра захлестнул деревья, рванул их взад-вперед, дождь ожесточился, и тут что-то метнулось из-за куста сирени. — Вон! — воскликнул Пол. Крадущийся за завесой дождя и тумана непрошеный гость казался тенью среди теней. Он был как-то странно на мгновение освещен молнией, и лишь воображение могло помочь представить его внешность. Он прыгнул в сторону кирпичной стены, ограничивающей их территорию, на секунду исчез за густым клочком тумана, вновь появился в виде аморфного черного силуэта, затем, изменив направление, двинулся вдоль стены в сторону калитки в северо-западном углу лужайки. Когда темнеющее небо вновь осветилось молнией, незнакомец, мелькнув в ее синих вспышках, выскочил за открытую калитку на улицу и исчез. — Это просто собака, — сказала Кэрол. Пол нахмурился. — Мне показалось, я видел… — Что? — Лицо. Словно женщина обернулась… лишь на мгновение, выходя из калитки. — Нет, — возразила Кэрол. — Это был Джаспер. — Ты его видела? — Да. — Отчетливо? — Ну не совсем отчетливо, конечно. Но я могла судить, что это была собака ростом с пони, а Джаспер здесь единственный пес, соответствующий таким размерам. — Похоже, Джаспер вдруг здорово поумнел. Кэрол недоумевающе моргнула. — Что ты хочешь этим сказать? — Ему же пришлось отпереть калитку, чтобы зайти во двор. Раньше ему это как-то не удавалось. — Ничего ему не пришлось отпирать. Мы наверняка оставили ее открытой. Пол покачал головой. — Я точно помню, что она была закрыта, когда мы подъехали. — Закрыта — возможно, но не заперта. От ветра она раскрылась, и Джаспер без труда проник во двор. Пол смотрел на рассекаемый дождем туман, уныло зависший в скудном свете уходящих сумерек. — Наверное, ты права, — не совсем уверенно согласился он. — Мне бы надо пойти и запереть калитку. — Нет-нет, — быстро запротестовала Кэрол. — Только когда кончится гроза. — Послушай меня, радость моя, из-за того, что произошло сегодня, я не собираюсь теперь каждый раз во время грозы прыгать в кровать и натягивать на голову одеяло. — И не надо, — ответила Кэрол. — Но дай же мне немного прийти в себя после того, что произошло сегодня прежде чем ты начнешь выплясывать под дождем, как Джин Келли. У меня еще слишком свежи воспоминания чтобы спокойно смотреть, как ты во время молнии поскачешь через лужайку. — Это же займет считанные секунды и… — Скажи уж, что ты просто пытаешься увильнуть от феттучине, — задиристо сказала она, с подозрением глядя на него. — Да нет, конечно. Как только я закрою калитку и вернусь, я все приготовлю. — Знаю, знаю, — продолжала она в том же тоне, — ты надеешься, что удар молнии спасет тебя от позора, потому что тебе ни за что не приготовить соуса без комочков. — Это чудовищный наговор! — притворно возмутился Пол, подхватывая игру. — В этой части Рима я готовлю самый нежный феттучине Альфредо. Нежнее атласных бедер Софии Лорен. — Я знаю лишь то, что в последний раз это было похоже на овсяную кашу. — По-моему, до этого ты сравнивала его с матрасом в десятидолларовом мотеле. — Ты же знаешь, я не люблю однообразия. — Она гордо вскинула голову. — Уж это-то я хорошо знаю. — Так ты собираешься готовить феттучине или ты трусливо убежишь и погибнешь от молнии? — Ты здорово пожалеешь о своих словах, — сказал он. — Думаю, это будет легче, чем есть твой комковатый феттучине, — с улыбкой парировала Кэрол. Он расхохотался. — Ладно, ладно. Твоя взяла. Закрою калитку утром. Он вернулся к плите, а она — к разделочной доске, на которой резала петрушку и лук для салата. Пол понимал, что жена, вероятно, была права насчет пришельца. Скорее всего это именно Джаспер: или гонял кошку, или искал, не угостит ли его кто-нибудь его любимым печеньем «Орео». То, что, как ему показалось, видел он — несколько искаженное бледное лицо женщины с отблеском молнии в глазах и ртом, словно перекошенным от ярости или ненависти, — наверняка было светотеневым обманом зрения. И все-таки ему стало как-то не по себе. После того как он посмотрел в окно, теплое чувство уюта так и не вернулось к нему.* * *
Грейс Митовски наполнила желтую пластмассовую миску «Мяу-миксом» и поставила ее в углу возле кухонной двери. — Кис-кис-кис. Аристофан не откликался. Кухня не была его излюбленным местом в доме, потому что только там ему не позволялось лазить туда, куда ему хотелось. Правда, особой страстью лазить он и не отличался. В нем отсутствовала присущая большинству котов жажда приключений, и он, как правило, оставался на полу. И все же, несмотря на то что ему вовсе не горело шастать по кухонным столам и полкам, Аристофану не хотелось слышать, чтобы кто-нибудь запретил ему это делать. Подобно большинству котов, он был противником дисциплины и презирал любые правила. Однако его прохладное отношение к кухне никогда не мешало ему наведываться туда в урочный для еды час. Он даже частенько нетерпеливо ждал возле своей миски, пока Грейс ее наполнит. — Кис-кис-кис, — громче позвала она. Но в ответ не последовало никакого «мяу». Аристофан не прибежал, как обычно, задрав хвост, чем обычно выражал свою готовность подкрепиться. — Ари-Ари-Ари! Суп тебя ждет, глупенький. Она убрала коробку с кошачьей едой и вымыла руки. Тук, тук-тук! Стук — за одним сильным ударом почти без паузы последовали еще два — был настолько громким и неожиданным, что Грейс вздрогнула и чуть не выронила полотенце, которым вытирала руки. Звук доносился от входной двери. Она немного подождала — шум ветра с дождем вот… Тук, тук! Грейс повесила полотенце на вешалку и направилась в сторону коридора. Тук-тук-тук! Она неуверенно подошла к входной двери и включила свет на крыльце. В двери был «глазок», через который открывался довольно широкий обзор. Она никого не увидела, крыльцо казалось пустым. Тук! Удар был нанесен с такой силой, что Грейс почудилось, будто дверь сорвалась с петель. Звук расщепляемого дерева заставил ее отпрыгнуть назад, так как ей показалось, разнесенная в щепки дверь вот-вот влетит в коридор. Однако дверь продолжала надежно оставаться на месте, хотя ее косяк основательно дрожал; железный засов гремел и ходил ходуном. ТУК! ТУК! ТУК! — Прекратите! — крикнула она. — Кто это? Кто там? Стук прекратился, и ей показалось, что она услышала детский смех. Она уже собралась либо звонить в полицию, либо бежать за пистолетом, который лежал у нее в тумбочке возле кровати, но, услышав этот смех, передумала. Уж с детьми-то она сможет управиться и без посторонней помощи. Она не была такой старой, дряхлой и немощной, чтобы не разобраться с кучкой шалопаев. Грейс осторожно отодвинула занавеску на длинном узком окне возле двери. Настороженно, готовая тут же отпрянуть от окна в случае какой-либо угрозы, она посмотрела на улицу. На крыльце никого не было. Она вновь услышала смех. Высокий, звонкий, будто девичий. Отпустив занавеску, она вернулась к двери, отперла ее и вышла на порог. Ночной ветер был холодным и сырым. Моросящий дождь стекал по зубчатым украшениям крыльца. Перед домом было достаточно мест, где могли спрятаться предполагаемые шутники. За перилами крыльца шелестел от ветра кустарник, и желтый свет верхней лампочки, отпугивающий насекомых, едва освещал лишь малую часть крыльца. Вдоль дорожки, начинавшейся у подножия крыльца и ведущей на улицу, тянулась живая изгородь, казавшаяся в темноте иссиня-черной. Среди многочисленных ночных теней никого не было видно. Грейс подождала, прислушиваясь. Вдалеке рокотала гроза, но никакого смеха из темноты не доносилось. — Может, это вовсе и не дети? — А кто еще? — По телевизору каждый день только про них и говорят. Кретины с оловянными глазами, которые убивают и душат людей ради своего развлечения. Они сейчас повсюду, эти выродки, психопаты. — Но смеялся не взрослый человек. Это проделки детей. — Все же мне лучше зайти в дом и запереть дверь. — Перестань походить на испуганную старушонку, черт возьми! Странно, если это кто-то из соседских детей решил так подшутить над ней, потому что она была в прекрасных отношениях с ними со всеми. Это, конечно, могли быть и не соседские дети. Через улицу она уже никого не знала. Повернувшись, Грейс осмотрела внешнюю сторону входной двери. На ней не было никаких следов от раздававшихся всего несколько минут назад ударов. На дереве не осталось ни вмятин, ни выбоин; не видно было ни малейшей царапины. Это привело ее в изумление, потому что она не сомневалась в том, что слышала характерные звуки. Чем же это дети колотили так громко, не оставляя никаких следов на двери? Мешками с горохом или еще чем-нибудь в этом роде? Нет. От подобных мешков не было бы такого жуткого грохота; удар мешка об дверь был бы громким, даже очень громким, если он нанесен с достаточной силой, но звук не был бы таким резким и жестким. Она опять медленно обвела двор глазами. Не было заметно ни малейшего движения, кроме шевелившейся от ветра листвы. С минуту Грейс всматривалась и прислушивалась. Она прождала бы и больше с целью показать каким-то озорникам, что она не старушонка, которую можно просто так припугнуть, но было сыро и промозгло, и она начала опасаться, как бы не простудиться. Грейс зашла в дом и закрыла дверь. Она еще подержала руку на ручке двери, ожидая, что дети могут вскоре вернуться. Стоит им только стукнуть по двери, как она резко распахнет ее и поймает их на месте преступления, прежде чем они успеют шмыгнуть с крыльца и спрятаться. Прошло две минуты. Три минуты. Пять. Как ни странно, по двери никто не стучал. Для озорников удовольствие заключалось не в первой вылазке, а во второй, в третьей, четвертой и так далее; цель состояла в том, чтобы досадить и поизводить. Возможно, ее грозное появление в дверях отбило у них всякую охоту развлекаться таким образом. Не исключено, что они направились к какому-нибудь другому дому в поисках более слабонервной жертвы. Она задвинула засов. Какие же родители позволяют своим детям болтаться на улице во время такой страшной грозы? Качая головой и сокрушаясь беспечности некоторых родителей, Грейс направилась назад в холл, ожидая, что в любой момент стук может повториться. Но этого не случилось. Она планировала приготовить себе легкий, но питательный ужин из вареных овощей с сыром и парой кусочков домашнего кукурузного хлеба, но была еще не голодна. Она решила посмотреть перед ужином новости Эй-би-си хотя и понимала, что, судя по тому, что творится в мире новости могут вообще отбить у нее желание ужинать. Не успела Грейс, войдя в кабинет, включить телевизор, чтобы послушать последние страсти, как обнаружила на своем большом кресле некоторый беспорядок. От неожиданности она с секунду лишь стояла и смотрела на этот разбой, не веря своим глазам: сотни перышек, кусочки тряпочек, разноцветные обрывки ниток — все это, бывшее когда-то вышивкой, валялось теперь цветастым комком среди гусиного пуха. Пару лет назад Кэрол Трейси подарила ей комплект из трех очаровательных подушечек с ручной вышивкой. Одна из них и лежала сейчас в кресле изодранная в клочья. Аристофан. Став взрослым котом, Ари ни разу ничего не разодрал. Такое варварство было совершенно на него не похоже, однако варваром несомненно был он. Говоря по правде, больше подозревать было просто некого. — Ари! Где ты прячешься, коварный сиамец? Она пошла на кухню. Аристофан стоял возле своей желтой миски и поглощал «Мяу-микс». Когда она вошла, он поднял голову и взглянул на нее. — Ах ты разбойник, — сказала она. — Что в тебя сегодня вселилось? Аристофан моргнул, чихнул, потер мордочку лапой и с кошачьей невозмутимостью, надменно, не придавая значения ее полным недоумения эмоциям, продолжал свою трапезу.* * *
Позже, тем же вечером, Кэрол Трейси лежала в темной спальне и, глядя в потолок со скользившими по нему тенями, слушала тихое равномерное дыхание мужа. Он уснул всего несколько минут назад. Ночь была тихой. Дождь перестал, и гром больше не сотрясал небо. Время от времени ветер шуршал по кровле и вздыхал возле окон, но яростный запал из него уже вышел. Кэрол пребывала в блаженно-полусонном состоянии. Она ощущала некоторую легкость в голове от шампанского которое потягивала весь вечер, и ей казалось, будто ее плавно несет поток теплой воды, нежно лаская своими волнами. Она мечтательно думала о ребенке, которого они собирались усыновить, и пыталась представить, как все это будет. В ее воображении проплывали нежные детские лица. Если он будет совсем крохотным, а не трех-четырехлетним, они сами назовут его: если мальчик — то Джейсоном, а если девочка — Джулией. Кэрол словно балансировала на ниточке между сном и реальностью, повторяя про себя эти два имени: Джейсон, Джулия, Джейсон, Джулия, Джейсон… Уже погружаясь в сон, она неожиданно вспомнила об отвратительной мысли, которую весь день старательно отбрасывала от себя: «Что-то пытается помешать нам усыновить ребенка». Затем она оказалась в каком-то странном месте, довольно скудно освещенном, где что-то незримо зловеще шипело и ворчало, где пурпурно-янтарные тени вдруг становились осязаемыми и угрожающе стягивались к ней. В этом незнакомом месте кошмар разворачивался в безумном нервозном ритме фортепьянной пьесы. Поначалу она бежала в каком-то совершенном мраке, затем стала бегать из одной комнаты в другую где-то в большом доме, пробираясь через груды мебели, сшибая торшер, ударяясь бедром об острый угол серванта, спотыкаясь о задравшийся угол восточного ковра и чуть не падая. Она бросилась в какой-то проем — в длинный коридор — и, оглянувшись, увидела, что той комнаты, из которой она выскочила, больше нет. Дом был только перед ней, позади же царила абсолютная беспросветная чернота. Чернота… затем что-то мелькнуло. Мерцание. Проблеск. Какое-то серебристое движение. Что-то качнулось из стороны в сторону, исчезая в темноте, через секунду появляясь вновь и опять исчезая — взад-вперед, взад-вперед, — точно маятник, ни разу не задержавшийся в пределах видимости, чтобы его можно было охватить взглядом. Хотя ей не удавалось рассмотреть эту серебристую вещь, она чувствовала, что та приближается к ней, и знала, что если она не скроется, то погибнет. По коридору она добежала до лестницы и быстро забралась на второй этаж. Оглянувшись и посмотрев вниз, она уже не увидела лестницы. Лишь черный провал. Затем — короткий блеск чего-то раскачивающегося в этом провале, взад-вперед… снова и снова… как метроном. Она ринулась в спальню, захлопнула дверь схватила стул, чтобы, вставив его в ручку двери, запереть ее… и вдруг обнаружила, что, пока она отвернулась, дверь исчезла, а с ней и стена, в которой она была. Там, где стояла стена, оказался подземный мрак. И серебристое мерцание. Теперь уже очень близко. Еще ближе. Она пыталась кричать, но крика не получилось, а таинственно поблескивавший предмет изогнулся над ее головой и… Тук! «Это не просто сон, — в отчаянии думала Кэрол. — Это нечто большее. Это напоминание, предсказание, предупреждение. Это…» Тук! Она уже бежала по другому дому, отличавшемуся от первого. Этот был меньше, мебель — не такая массивная. Она не понимала, где она, но знала, что уже бывала здесь раньше. Дом был ей знаком, как и первое место, в котором она очутилась. Она поспешила на кухню. На кухонном столе лежали две окровавленных отрезанных головы. Одна из них была мужской, другая — женской. Она узнала их, чувствовала, что была с ними знакома, но не могла вспомнить их имен. Четыре невидящих глаза были широко раскрыты; изо ртов с посиневшими губами торчали распухшие языки. Кэрол замерла от этого жуткого зрелища, а мертвые глаза, повернувшись в глазницах, уставились на нее. Холодные губы растянулись в леденящих душу улыбках. Повернувшись, Кэрол хотела убежать, но позади нее оказалась только пустота и слабый блеск твердой поверхности чего-то серебристого, и вот… Тук! Она бежала по горному лугу в красноватом предвечернем свете. Трава доходила ей до колен, а впереди маячили высокие деревья. Оглянувшись через плечо, она уже не увидела луга. Как и прежде — лишь чернота. И ритмично раскачивающаяся, поблескивающая, неумолимо приближающаяся… штука, которую она никак не могла назвать. Задыхаясь, выбиваясь из сил, она пыталась бежать быстрее, добралась до деревьев, вновь оглянулась, увидела, что бежала слишком медленно, чтобы убежать, закричала и… Тук! Долгое время кошмар перемещался с одного из трех мест действия на другое — из первого дома на луг, во второй дом, на луг, в первый дом — пока наконец Кэрол не проснулась с застывшим в горле и так и не вырвавшимся криком. Вся дрожа, она села в постели. Она была холодная и при этом липкая от пота; она спала лишь в майке и трусиках, и все это неприятно прилипло к телу. Преследовавший ее во сне страшный звук продолжал эхом раздаваться у нее в голове — тук, тук, тук-тук, тук, — и она поняла, что ее подсознание восприняло этот звук из реальности — стук болтавшейся ставни, который до этого встревожил их с Полом. Постепенно этот стук стал исчезать и сливаться со стуком ее сердца. Откинув простыни, Кэрол свесила голые ноги с кровати. Она села на краешек матраса и сжалась. Забрезжил рассвет. Через шторы стал просачиваться серый свет; он был слишком тускл, чтобы можно было разглядеть детали обстановки, но достаточно ярок, чтобы сгустить тени и исказить все очертания настолько, что комната казалась какой-то чужой, незнакомой. Дождь перестал за пару часов до того, как Кэрол легла спать, но гроза возобновилась, когда она уже спала. Дождь стучал по крыше и булькал в канавах и водостоках. Гром рокотал приглушенно, словно далекая канонада. Пол все еще спал, тихо похрапывая. Кэрол знала, что ей уже больше не удастся уснуть. Хотела она того или нет, чувствовала себя отдохнувшей или нет, день для нее уже начался. Не включая света, она отправилась в ванную. В слабых лучах рассвета она стащила с себя влажную майку и трусики. Стоя под душем и намыливаясь, она вспомнила свой ночной кошмар, который в значительной степени превосходил по натуральности все ее прежние сны. Этот неприятный резкий звук — тук, тук — был самым страшным в ее сне, и воспоминания о нем все еще изводили ее. Он не был похож на обыкновенное постукивание; к нему примешивалось какое-то странное эхо, необъяснимые для нее жесткость и резкость. Она чувствовала, что это был не просто стук болтавшейся ставни, подсознательно унесенный ею в сон. Причина этого жуткого звука была куда более тревожной, чем расшатавшаяся ставня. И Кэрол даже была уверена в том, что именно этот звук она уже где-то слышала. И не в кошмарном сне. В реальной жизни. В каком-то другом месте… давным-давно. Встав под струю горячей воды, смывающей с нее мыльную пену, она пыталась вспомнить, где и когда она слышала этот изводящий звук, потому что ей вдруг показалось необходимым как-то идентифицировать его. Сама не зная почему, она смутно чувствовала какую-то угрозу исходящую от его неизвестности. Однако воспоминание все время предательски ускользало от нее, подобно названию беспрестанно крутящейся в голове безымянной мелодии.Глава 4
Без четверти девять, позавтракав, Кэрол поехала на работу, а Пол поднялся наверх в заднюю спальню, переоборудованную им в рабочий кабинет. Чтобы ничто не отвлекало его от романа, он создал там себе спартанскую обстановку. Белые стены были абсолютно голыми, не украшенными ни одной картинкой. В комнате были только недорогой письменный стол, стул, электрическая пишущая машинка, стакан с многочисленными ручками и карандашами, глубокий канцелярский поднос, в котором уже лежали около двухсот машинописных страниц начатого им в творческом отпуске романа, телефон, книжный стеллаж из трех полок со справочной литературой, шкафчик с бутылками воды в одном углу и столик со стоящей на нем «ее величеством» кофеваркой. Этим утром Пол, как обычно, первым делом решил приготовить себе кофе. Как только он нажал на соответствующую кнопку и налил в кофеварку воды, зазвонил телефон. Присев на краешек письменного стола, он взял трубку. — Алло? — Пол? Это Грейс Митовски. — Доброе утро, Грейс. Как дела? — Мои старые кости не переносят дождя, а так в остальном ничего. Пол улыбнулся. — Послушай, по-моему, ты еще запросто можешь дать мне фору. — Чушь. Ты работяга, страдающий от комплекса своего права на досуг. Даже атомному реактору не занимать у тебя энергии. Пол рассмеялся. — Перестань психоанализировать меня, Грейс. С меня хватает жены. — Кстати, о ней… — Кстати, она только что ушла. И теперь ты сможешь застать ее в офисе через полчаса. Грейс замолчала. Горячий кофе начал капать в кофейник, и комната тут же наполнилась его ароматом. Чувствуя в молчании Грейс какое-то замешательство, Пол спросил: — Что случилось? — Да… — Она как-то нервно откашлялась. — Как она себя чувствует, Пол? Она здорова? — Кэрол? Да, конечно. — Ты уверен? Просто… ты же понимаешь, что я люблю ее как родную дочь. И если что-то не так, я хочу знать. — Да она прекрасно себя чувствует. Правда. Кстати, на прошлой неделе она проходила медицинский осмотр. Это необходимо для процедуры усыновления ребенка. И мы оба с честью выдержали это испытание. Грейс опять замолчала. — Что тебя встревожило? — нахмурившись, спросил Пол. — Э-э… Ты подумаешь, что старушка Грейси теряет рассудок, но мне приснились два дурных сна — один вчера днем, другой — минувшей ночью, и в обоих была Кэрол. Я редко вижу сны, и когда мне вдруг снятся два кошмара, я, просыпаясь, чувствую, что должна предупредить Кэрол… — О чем предупредить? — Не знаю. Я помню лишь, что оба сна были связаны с Кэрол. Я просыпалась с мыслями: «Это уже близко. Я должна предупредить Кэрол, что это скоро случится». Я понимаю, что все это выглядит довольно глупо. И пожалуйста, не спрашивай меня, что подразумевается под «этим». Я совершенно не помню. Но я чувствую, что Кэрол в опасности. И Бог его знает, что это; я не верю ни в сны, ни в предсказания. Я считаю, что не верю во все это, и тем не менее звоню тебе по этому поводу. Кофе был готов. Наклонившись, Пол выключил кофеварку. — Ко всему этому можно прибавить то, что вчера мы с Кэрол чуть было не пострадали от несчастного случая в кабинете О'Брайена. Он рассказал ей об ущербе, причиненном офису О'Брайена молнией. — О Господи! — воскликнула она. — Я видела эту молнию, когда проснулась днем, но я не представляла себе что вы с Кэрол… что эта молния — именно то, что я… что мой кошмар связан с этой молнией. Боже мой! Я боюсь произнести это, чтобы не показаться старой суеверной дурой, но все же: неужели в этом сне было что-то пророческое? Неужели я предвидела эту молнию за «несколько минут до того, как она ударила? — Это может быть, — неуверенно начал Пол, — просто незаурядным совпадением. Они некоторое время молчали, переваривая сказанное и услышанное, затем Грейс произнесла: — Послушай, Пол, я не помню, чтобы мы прежде говорили на эту тему, но ответь мне: ты веришь в сны, предсказания, ясновидение и прочее тому подобное? — Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я еще и сам не знаю. — А я всегда относилась к этому однозначно: всегда считала это ложью, обманом и просто чушью. Но теперь… — Теперь ты меняешь свое мнение. — Ну, скажем, в меня закралось крохотное сомнение. И теперь я еще больше беспокоюсь о Кэрол, чем когда я только позвонила тебе. — Почему? Говорю же тебе, у нее нет и царапины на теле. — Один раз пронесло, — ответила Грейс, — но я видела два сна, и второй приснился мне через несколько часов после молнии. Не исключено, что «этим» является что-то еще. Раз в первом сне была доля правды, то и второй может оказаться не пустым. О Боже, идиотизм какой-то. Стоит только раз поверить в эту ерунду, как она тут же одолевает тебя. Но я ничего не могу с собой поделать. Я по-прежнему волнуюсь за нее. — Даже если твой первый сон и оказался пророческим, — заметил Пол, — второй, вероятно, мог быть простым повтором, отголоском первого сна, а не очередным пророчеством. — Ты так думаешь? — Конечно. Раньше с тобой такого не бывало, так почему это должно опять с тобой случиться? Скорее всего это лишь стечение обстоятельств… как и вчерашняя молния. — Да, возможно, ты и прав, — с некоторым облегчением сказала Грейс. — Возможно, такое однажды случается. Пожалуй, это я могу допустить. Но я не Нострадамус. И гарантирую, что не буду вести еженедельную колонку предсказаний в «Нэшнл инкуайрер». Пол рассмеялся. — И все же, — продолжала она, — хотелось бы мне точно вспомнить, что было в этих двух кошмарных снах. Они еще немного поговорили, и, повесив трубку, Пол, хмурясь, какое-то мгновение смотрел на нее. Несмотря на свою относительную убежденность в том, что сны Грейс были странным совпадением, они произвели на него впечатление, и, как казалось, несколько больше должного. Это уже близко. Когда Грейс произнесла эти слова, Полу вдруг стало как-то жутко. Это скоро случится. «Совпадение, — сказал он себе. — Обыкновенное совпадение и чепуха. Забудь об этом». Постепенно до него вновь стал доноситься аромат горячего кофе. Поднявшись с краешка стола, он наполнил чашечку. С минуту или две Пол стоял позади своего письменного стола возле окна и, потягивая кофе, смотрел на несущиеся по небу грязно-серые тучи и непрекращающийся дождь. Потом, опустив глаза, он взглянул на задний двор, вспоминая про пришельца, увиденного ими накануне во время приготовления ужина: мелькнувшее в блеске молнии бледное искаженное лицо, лицо женщины, сверкающие глаза, искаженный то ли от ярости, то ли от ненависти рот. А может, это все-таки был просто Джаспер, датский дог, в сочетании со светообманом? ТУК! Звук был настолько громким и неожиданным, что Пол аж подпрыгнул от испуга. Если бы его чашечка не была наполовину пустой, он расплескал бы кофе по всему ковру. ТУК! ТУК! Это уже не могла быть та самая ставня, стук которой они слышали накануне вечером, потому что она бы тогда простучала всю ночь. Вполне возможно, что в ремонте нуждались теперь уже не одна, а две ставни. «Этого еще не хватало! — подумал он. — Родной дом разваливается на части». ТУК! Источник звука находился где-то поблизости; настолько близко, что чуть ли не в пределах комнаты. Пол прижался лбом к прохладному оконному стеклу и, взглянув налево, а затем направо, попытался определить, на месте ли ставни. Насколько он мог судить, ставни были закреплены должным образом. Тук, тук-тук, тук, тук… Став глуше, звук превратился в назойливое аритмичное постукивание, еще более изводящее, чем первые сильные удары. Теперь оно, казалось, доносилось из другого конца дома. Хотя ему вовсе не хотелось забираться на лестницу и под дождем возиться со ставней, именно этим ему и предстояло заняться, так как иначе под аккомпанемент такого постукивания ему ничего не удастся написать. По крайней мере, не сверкала молния. Поставив чашку на стол, Пол направился было к двери, но на полпути его остановил зазвонивший телефон. «Да, тот еще предстоит денек», — устало подумал он. Потом он вдруг понял, что, как только зазвонил телефон, ставня перестала стучать. Может быть, ветер вовсе сорвал ее, тогда с ремонтом придется подождать до более приемлемой погоды. Вернувшись к столу, он подошел к телефону. Это звонил Альфред О'Брайен. Поначалу разговор не клеился, и Пол очень смущался. О'Брайен настоятельно выражал свою благодарность: «Вы спасли мне жизнь! Вы по-настоящему спасли меня от смерти!» С не меньшей настойчивостью, хотя в этом не было никакой необходимости, он повторял свои извинения по поводу того, что не позвонил вчера, сразу же после случившегося в офисе: «Я был настолько потрясен и ошеломлен, что плохо соображал и не поблагодарил вас. Это непростительно с моей стороны». Каждый раз, когда Пол пытался возражать против громких слов типа «героический» или «отважный», О'Брайен заливался еще сильнее. Наконец Пол решил сдержать свои протесты и дать человеку выплеснуть все эмоции; О'Брайен был твердо намерен очистить совесть с не меньшей тщательностью, чем та, с которой он смахивал крохотные пылинки со своего пиджака. Наконец он, похоже, почувствовал, что в достаточной мере искупил свою (в большей степени вымышленную) оплошность, и Пол с облегчением перевел разговор в другое русло. О'Брайен звонил еще и по другому поводу, и теперь, словно тоже вдруг почувствовав смущение, он перешел к этой теме. Он никак не мог (это сопровождалось новой серией извинений) найти заявление, которое супруги Трейси подали ему накануне. — Разумеется, когда это дерево пробило окно, все бумаги разлетелись по полу. Жуткий беспорядок. Некоторые бумаги были смяты и перепачканы, когда мы их подняли, большинство были мокрыми от дождя. Несмотря на это, Марджи — моей секретарше — удалось кое-как все найти и сложить, но — увы! — кроме вашего заявления. Его нигде нет. Я думаю, его могло унести ветром через одно из разбитых окон. Я не знаю, почему так случилось именно с вашим заявлением, но рекомендательной комиссии мы должны представить его в должном виде. Мне очень неловко доставлять вам такие неудобства, мистер Трейси, я искренне сожалею. — Это не ваша вина, — ответил Пол. — Я заеду к вам за бланком, и мы с Кэрол заполним и подпишем его сегодня же. — Вот и хорошо, — сказал О'Брайен. — Потому что оно должно быть у меня завтра рано утром, чтобы успеть к очередному заседанию комиссии. Марджи понадобится три полных рабочих дня, чтобы должным образом оформить и заверить ваше заявление, а именно столько времени и осталось до среды, когда будет комиссия. Если мы пропустим это заседание, следующее состоится только через две недели. — Я заеду за бланком до полудня, — заверил Пол. — И привезу его вам в пятницу с утра. Они распрощались, и Пол положил трубку. ТУК? Услышав этот звук, он сник. Все-таки ему придется заняться ставней. А потом ехать в город за бланком заявления. Затем возвращаться домой. Полдня будет потеряно, и он не напишет ни единого слова. ТУК! ТУК! — Проклятие! — выругался Пол. Тук, тук-тук, тук-тук… Определенно, его ждал тот еще денек. Он спустился вниз и полез в шкаф, где были его плащ и резиновые сапоги.* * *
Взад-вперед, туда-сюда — «дворники» мотались по лобовому стеклу, резко поскрипывая, отчего у Кэрол сводило зубы. Подавшись вперед, она напряженно вглядывалась в дождевую завесу. Улицы блестели; асфальт казался жирным и прилизанным. Мутные потоки воды неслись по сточным канавам, образуя лужи над забитыми решетками водостоков. Было десять минут десятого; только что закончился утренний час пик. Хотя на улицах было еще оживленно движение казалось вполне равномерным. Для Кэрол все ехали слишком быстро, и она, чувствуя некоторую неуверенность, внимательно смотрела по сторонам. За два квартала до офиса эта осторожность оправдалась: правда, и ее оказалось недостаточно, чтобы предотвратить несчастье. Не глядя на приближавшийся транспорт, какая-то блондинка, проскочив между двумя фургончиками, выбежала прямо под колеса ее «Фольксвагена». — Господи! — вырвалось у Кэрол, когда она резко нажала на тормоз с такой силой, что даже приподнялась с сиденья. Подняв взгляд, блондинка оцепенела с широко раскрытыми глазами. Хотя «Фольксваген» ехал со скоростью не более двадцати миль в час, мгновенно остановить его было невозможно. Тормоза завизжали. Покрышки заскребли по мостовой, пытаясь вцепиться в мокрый асфальт. — Боже мой, нет! — вскрикнула Кэрол, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Машина, налетев на блондинку, подцепила ее своим капотом; «Фольксваген» стало заносить влево, и он оказался на пути приближавшегося «Кадиллака». Взвизгнув тормозами, «Кадиллак» резко вильнул, и шофер надавил на сигнал, словно решил, что от громкого звука Кэрол как по волшебству куда-то денется с его пути. В то мгновение она была уверена, что они неизбежно столкнутся, но «Кадиллак», даже не царапнув ее, прошел мимо в паре дюймов — все это произошло в считанные секунды, — и в тот же момент блондинка, скатившись с капота, упала на обочину. «Фольксваген» наконец-то остановился посреди улицы, раскачиваясь на своих рессорах, словно детская лошадь-качалка.* * *
Все ставни были на месте. Все до единой. Ни одна из них не болталась и не стучала на ветру, как думал Пол. В сапогах и плаще с капюшоном, он обошел вокруг дома, внимательно осматривая все ставни как на первом, так и на втором этажах, и не заметил никакой пропажи На доме не было видно никаких следов ненастья. Весьма озадаченный, он вновь обогнул дом, чавкая сапогами по пропитанному дождем лугу, как по мокрой губке. На этот раз он искал какие-нибудь сломанные сучья деревьев, которые при порывах ветра могли биться о стену. Деревья оказались невредимыми. Поеживаясь от преждевременного осеннего холода, он минуту-другую постоял на лужайке, приглядываясь и прислушиваясь, не раздастся ли стук, тревоживший дом всего несколько минут назад, поворачивая голову то вправо, то влево. Теперь ничего слышно не было: лишь дыхание ветра, шорох деревьев и тихий шелест падающего на траву дождя. В конце концов, почувствовав, что от холодного дождя с ветром у него застыло лицо, он решил прекратить свои поиски до тех пор, пока вновь не услышит стук и не поймет, откуда он происходит. А пока он съездит в город за бланком заявления. Дотронувшись рукой до лица, он почувствовал жесткую щетину, вспомнил безупречную опрятность Альфреда О'Брайена и подумал, что ему неплохо бы побриться, перед тем как ехать. Пол вернулся в дом через задний вход, оставив свой мокрый плащ на диване-качалке с виниловым сиденьем и скинув с себя сапоги, прежде чем отправиться на кухню. Закрыв за собой дверь, он с удовольствием почувствовал домашнее тепло. ТУК! ТУК! ТУК! Дом вздрогнул, словно от трех очень сильных и частых ударов кулака какого-то великана. В центре кухни, где к потолку была подвешена полка с кухонной утварью, звякнули кастрюли и сковородки. ТУК! Если бы настенные часы были не так хорошо прикреплены к стене, они наверняка бы упали. Пол вышел на середину помещения, пытаясь определить, откуда доносился стук. ТУК! ТУК! Раскрылась дверца духовки. Две дюжины маленьких склянок со специями зазвенели друг о друга. «Что ж это за чертовщина?» — подумал Пол, чувствуя, как ему стало не по себе. ТУК! Он начал медленно поворачиваться, прислушиваясь и присматриваясь. Вновь брякнули кастрюли и сковородки, а большой половник, сорвавшись со своего крючка, со звоном упал на стоявший под ним разделочный стол. В поисках источника Пол посмотрел наверх. ТУК! Он уже думал, что вот-вот посыплется штукатурка, но этого не произошло. Однако звук определенно доносился откуда-то сверху. Тук, тук-тук, тук… Неожиданно стук стал тише, чем был, но совсем не пропал. По крайней мере, дом перестал дрожать и посуда прекратила греметь. Пол направился к лестнице с твердым намерением установить причину творившегося безобразия.* * *
Блондинка упала навзничь в водосточную канаву, одна рука ладонью вверх была откинута в сторону, другая безжизненно лежала у нее на животе. Золотистые локоны были в грязи. Ее захлестывал поток трехдюймовой глубины, несущий к ближайшему водостоку листья, песок и обрывки бумажного мусора, и в этой мутной воде беспорядочно метались ее длинные волосы. Опустившись возле нее на колени, Кэрол поразилась, когда увидела, что жертвой оказалась вовсе не женщина, а девушка лет четырнадцати-пятнадцати. Она была необыкновенно хороша, с тонкими чертами лица, бывшего в тот момент жутко бледным. Для такой отвратительной погоды она была одета совершенно несоответствующим образом: белые теннисные туфли, джинсы и клетчатая сине-белая блузка. Ни плаща, ни даже зонтика у нее не было. Дрожащими руками Кэрол взяла ее правую руку и пощупала пульс. Она уловила его сразу же: он был ровным и отчетливым. — Слава Богу, — произнесла она слабым голосом. — Слава Богу, слава Богу. Кэрол начала осматривать девушку. У нее не оказалось никаких серьезных травм, только несколько ссадин и царапин. Тем не менее это не исключало внутреннего кровотечения. Водитель «Кадиллака», высокий мужчина с бородкой клинышком, остановился возле «Фольксвагена» и посмотрел на лежавшую девушку: — Мертва? — Нет, — ответила Кэрол. Она осторожно приподняла сначала одно веко девушки, затем другое. — Просто потеряла сознание. Возможно, легкое сотрясение. Кто-нибудь вызывает «Скорую помощь»? — Не знаю, — сказал он. — Тогда вызовите вы. Скорее. Развернувшись, он побежал прямо по луже, не заботясь о том, что ее глубина превышала высоту его ботинок. Кэрол нажала на подбородок девушки: ее челюсть была расслаблена, и рот легко открылся. В нем не было видно ничего затруднявшего дыхание, крови или чего-то, могущего вызвать удушье; язык находился в безопасном положении. Откуда-то из-за дождевой завесы появилась седая женщина в прозрачном плаще и с красновато-оранжевым зонтиком. — Вы не виноваты, — сказала она Кэрол. — Я видела, как это случилось. Все произошло на моих глазах. Девочка выскочила, не глядя, прямо под колеса. Вы абсолютно ничего не могли сделать, чтобы предотвратить несчастный случай. — Я тоже все видел, — поддержал ее представительный мужчина, несколько не соответствовавший своему черному зонтику. — Я видел, как девочка, словно в трансе, шла по улице. Без плаща или зонта. С будто бы ничего не видящими глазами. Она сошла с тротуара между двумя теми фургончиками и несколько секунд постояла, как бы ожидая очередную машину, чтобы покончить с собой. И, Бог свидетель, так оно и случилось. — Она жива, — сказала Кэрол, не в состоянии справиться с дрожью в голосе. — На заднем сиденье моей машины есть аптечка. Принесите мне ее, пожалуйста, кто-нибудь. — Конечно, — отозвался солидный мужчина, направляясь к «Фольксвагену». Среди всего прочего в аптечке первой помощи были депрессоры для языка, и Кэрол хотела, чтобы они находились у нее под рукой. Хотя у девушки не было признаков приближающихся конвульсий, Кэрол готовилась к худшему. Начала собираться толпа. Где-то неподалеку раздалась сирена. Ее вой стал быстро приближаться. Вероятно, это полиция: «скорая помощь» не могла бы приехать так быстро. — Какая прелестная девочка, — сокрушалась седоволосая женщина, глядя на лежащую без сознания девушку. Собравшиеся тоже что-то бубнили, соглашаясь с ней. Поднявшись, Кэрол сняла с себя плащ. Накрывать девушку было бессмысленно, так как она уже успела промокнуть насквозь. Свернув плащ, Кэрол вновь опустилась на колени и осторожно подсунула импровизированную подушку девушке под голову, чтобы приподнять ее из воды. Девушка не открыла глаз и даже не пошевельнулась. Спутанная прядь золотистых волос упала ей на лицо, и Кэрол аккуратно убрала ее. У девушки, видимо, был жар, потому что, несмотря на холодный проливной дождь, ее кожа казалась горячей на ощупь. Неожиданно, еще не успев отнять пальцев от щеки девушки, Кэрол почувствовала дурноту и недостаток воздуха. В какое-то мгновение ей показалось,что она вот-вот потеряет сознание и упадет на девушку. Словно черная волна поднялась у нее где-то за глазами, затем в этой темноте мелькнул серебристый отблеск, отблеск чего-то движущегося, чего-то таинственного из ее кошмарного сна. Заскрипев зубами, она тряхнула головой, сопротивляясь этой темной волне. Убрав свою руку от щеки девушки, она прикоснулась ею к своему лицу; дурнота прошла так же резко, как и началась. До приезда «скорой помощи» она несла ответственность за пострадавшую девочку и была твердо настроена не подвести. Немного запыхавшись, вернулся представительный мужчина с аптечкой первой помощи. На всякий случай Кэрол вынула из хрустящей целлофановой обертки один депрессор для языка. Выехав из-за угла, возле «Фольксвагена» остановилась полицейская машина. Ее вращающиеся сигнальные огни окрасили мокрую дорогу в красный цвет, и дождевые лужи стали похожи на лужи крови. Не успела затихнуть сирена полиции, как вдалеке прозвучала другая сирена, высокое завывание которой показалось Кэрол самым мелодичным звуком в ее жизни. «Сейчас придет конец этому ужасу», — подумала она. Но когда она взглянула на мертвенно-бледное лицо девушки, ее облегчение несколько отяготилось сомнениями. А вдруг ужас вовсе не заканчивается, а только начинается?..* * *
Наверху Пол медленно ходил из комнаты в комнату, прислушиваясь к постукиванию. Тук… тук… Звук по-прежнему исходил откуда-то сверху. С чердака. Или с крыши. Лестница, ведущая на чердак, находилась за дверью в конце коридора второго этажа. Ступени были узкими, некрашеными, и, когда Пол стал по ним подниматься, они заскрипели. Хотя пол на чердаке был настлан полностью, помещение еще нельзя было назвать завершенным. Конструкция стен оставалась открытой для обозрения: похожее на сырое мясо розовое стекловолокно, являющееся изолирующим материалом, и равномерно расположенные стойки, напоминающие ребра. Все это освещалось двумя стоваттными лампочками, и повсюду, особенно ближе к свесу крыши, таились тени. Высота чердака позволяла Полу не сгибаясь ходить по всей его длине и по половине ширины. Стук дождя по крыше раздавался здесь довольно громко. Это был несмолкаемый шелест, мягкий всепоглощающий гул. Однако тот, другой звук был слышен и на фоне барабанящего дождя: «Тук… тук-тук…» Пол медленно шел мимо многочисленных картонных коробок и других вещей, которым надлежало здесь храниться: пары больших чемоданов; старой шестирожковой вешалки; потускневшего латунного торшера; двух стульев с прорванными тростниковыми сиденьями, которые он намеревался как-нибудь починить. Все здесь было припорошено тонким слоем светло-серой пыли. Тук… тук… Он прошел по всей длине чердака, затем, вновь вернувшись на середину, остановился. Источник стука, казалось, был прямо перед его лицом, на расстоянии всего лишь нескольких дюймов. Но здесь не было ничего, что предположительно могло бы вызывать такой звук; ничто не шелохнулось. Тук… тук… тук… тук… Хоть постукивание и несколько поутихло по сравнению с тем, каким оно было несколько минут назад, оно по-прежнему было тяжелым и весомым; оно распространялось по всему каркасу дома. Кроме того, стук приобрел простую монотонность; удар от удара отделяли одинаковые промежутки времени, что отдаленно напоминало биение сердца. Пол стоял на чердаке, в пыли, вдыхая затхлый запах, присущий всем подобным местам, пытаясь засечь источник звука, стараясь понять, почему он раздается словно ниоткуда, и постепенно его восприятие этого раздражителя изменялось. Поначалу он считал его свидетельством нанесенного дому штормом ущерба, свидетельством того что ему предстоят утомительные и, возможно, дорогостоящие ремонтные работы, что ему придется ломать свое рабочее расписание, и просто неудобством. Но вот он стоял поворачивал голову из стороны в сторону и вглядывался в каждую тень, прислушиваясь к неумолкающему стуку, и вдруг неожиданно почувствовал в этом звуке нечто зловещее. Тук… тук… тук… По непонятным причинам этот шум теперь казался ему угрожающим, предвещающим что-то дурное. Ему вдруг стало холоднее в этом помещении, чем на улице, под ветром и дождем.* * *
Кэрол хотела поехать на «скорой помощи» в больницу вместе с пострадавшей девушкой, но понимала, что там будет не до нее. Кроме всего прочего, полицейский, первым приехавший к месту происшествия, молодой кудрявый человек по имени Том Уэзерби, должен был взять у нее показания. Они сели на переднее сиденье патрульной машины, где пахло мятными таблетками, которые сосал Уэзерби. Окна были мутными от струившегося по ним дождя. Полицейская рация фыркала и трещала. Уэзерби нахмурился. — Вы промокли до нитки. У меня в багажнике есть одеяло. Я сейчас вам его принесу. — Нет-нет-нет, — запротестовала она. — Со мной все в порядке. Ее зеленый вязаный костюм стал насквозь влажным. Намокшие от дождя волосы облепили голову и свисали на плечи. Но в тот момент внешность ее не волновала, и она не обращала внимания на появившиеся на коже мурашки. — Давайте закончим с этим. — Ну что ж… если вы настаиваете. — Да, пожалуйста. Повернув ручку термостата отопления машины, Уэзерби спросил: — Вы случайно не знаете эту девочку, что выскочила на дорогу? — Эту девочку? Нет. Нет, конечно. — У нее не было с собой никаких документов. Вы не заметили, она не несла какой-нибудь сумочки? — Затрудняюсь ответить. — Попытайтесь вспомнить. — Не думаю, чтобы у нее что-то было. — Скорее всего, что так, — заметил полицейский. — Раз уж она выскочила в такую погоду без плаща и без зонтика, то откуда у нее сумочка? Тем не менее, мы здесь все осмотрим. Не исключено, что она могла ее где-нибудь выронить. — Что будет, если вы не сможете выяснить, кто она? Как вы отыщете ее родителей? Она же не могла жить одна. — Это несложно, — ответил Уэзерби. — Когда она придет в себя, то скажет нам, как ее зовут. — Если она придет в себя. — Придет. Обязательно придет. Похоже, она не получила серьезных травм. Однако Кэрол не могла успокоиться. В течение следующих десяти минут Уэзерби задавал вопросы, и она на них отвечала. Когда он закончил писать свой отчет о происшествии, она быстро пробежала его глазами и подписала внизу. — Вы совершенно невиновны, — сказал Уэзерби. — Вы ехали в пределах допустимой скорости, и три свидетеля заявили, что вы не могли видеть девочку, выскочившую на дорогу прямо перед вашей машиной. Так что вашей вины здесь нет. — Мне бы следовало проявить большую осмотрительность. — Я не думаю, что в ваших силах было это как-то предотвратить. — Хоть как-нибудь. Наверняка я могла что-нибудь сделать, — удрученно произнесла Кэрол. Он покачал головой. — Нет. Послушайте, доктор Трейси, мне уже доводилось видеть подобные вещи. Несчастный случай, кто-то пострадал, а винить некого, — однако один из участников испытывает повышенное чувство ответственности и настаивает на том, что все произошло по его вине. В данном случае если кто-то и виноват, то это сама девочка, а не вы. По показаниям свидетелей, она вела себя довольно странно в тот момент, когда вы выезжали из-за угла: словно она и намеревалась броситься под колеса. — Но зачем такому прелестному ребенку бросаться под машину? Уэзерби пожал плечами. — Вы сказали мне, что вы — психиатр. Вы специализируетесь по детям и подросткам, верно? — Да. — В таком случае вам лучше должны быть известны ответы на все эти вопросы, чем мне. Почему ей вдруг захотелось покончить с собой? По причине какой-нибудь домашней неурядицы: отец — алкоголик, занимающийся рукоприкладством, а мать смотрит на это сквозь пальцы Или девочку бросил соблазнивший ее приятель, и для нее наступил конец света. А может быть, она вдруг обнаружила, что беременна, и не нашла в себе силы рассказать об этом родителям. Причин может быть сотни, и я уверен, вы все это уже неоднократно слышали на работе. Его слова были чистой правдой, но от этого Кэрол легче не стало. «Если бы я ехала медленнее… — думала она. — Если бы я быстрее среагировала, бедная девочка не оказалась бы сейчас в больнице». — Кроме этого, она могла еще находиться в наркотическом опьянении, — добавил Уэзерби. — Слишком много детей увлекается сейчас наркотиками. Большинство из них глотают все подряд, без разбора. Если это нельзя проглотить, они нюхают или вкалывают в вену. Этой вашей девчушке могло быть так хорошо, что она даже и не знала, где она, выскакивая на дорогу. И если окажется, что это так и есть, вы по-прежнему будете настаивать на том, что это ваша вина? Закрыв глаза, Кэрол откинулась на сиденье и порывисто выдохнула: — О Боже! Я не знаю, что вам сказать. Я просто чувствую себя как выжатый лимон. — Еще бы, после такого. А вот чувствовать себя виноватой не стоит. Не надо себя изводить чувством вины. Отбросьте это чувство и наслаждайтесь жизнью. Она открыла глаза и, посмотрев на него, сказала с улыбкой: — Знаете, офицер Уэзерби, мне кажется, из вас получился бы отличный психотерапевт. Он улыбнулся. — Или превосходный бармен. Кэрол рассмеялась. — Вам лучше? — спросил он. — Немного. — Обещайте, что вас из-за этого не будет мучить бессонница. — Постараюсь, чтобы не мучила, — ответила Кэрол. — Но состояние девочки меня все-таки тревожит. Вы не знаете, в какую ее отвезли больницу? — Я могу узнать. — Сделайте это, пожалуйста, для меня. Мне бы хотелось поговорить с врачом. Если он скажет, что все будет хорошо, мне будет гораздо проще воспользоваться вашим советом по поводу радостей жизни. Уэзерби взял рацию и, вызвав диспетчера, попросил его узнать, куда отвезли пострадавшую девушку.* * *
Телевизионная антенна! Стоя на чердаке, задрав голову кверху и глядя на крышу, Пол громко рассмеялся, когда понял, что являлось причиной стука. Звук не раздавался в воздухе из ничего, как ему показалось в один жутковатый момент. Он доносился с крыши, где была закреплена телевизионная антенна. Год назад они стали абонентами кабельного телевидения, но так и не демонтировали старую антенну. Она была очень громоздкой и крепилась к мощной скобе; болты скобы, проходя сквозь кровлю, затягивались на брусе крыши. Видимо, ослабла одна из гаек или другой крепеж и от порывов ветра антенна раскачивалась вместе с тяжелой скобой, которая и била по крыше. Разгадка тайны оказалась до смешного прозаической. Разгадка ли? Тук… тук… тук… Стук стал еще более мягким, чем прежде, он был едва различим в шуме дождя, барабанившего по крыше, и с легкостью верилось в то, что причиной оказалась антенна. Однако по мере того, как Пол обдумывал ответ к этой головоломке, у него возникло сомнение в его правильности. Он вспомнил, каким мощным и громким был стук всего несколько минут назад, когда он находился на кухне: содрогался весь дом, открылась дверца духовки, дрожали склянки со специями. Неужели разболтавшаяся антенна действительно могла производить такой шум и вибрацию? Тук… тук… Глядя в потолок, он пытался заставить себя поверить однозначно в теорию антенны. Возможно, разболтавшаяся антенна и могла вызвать стук и бряканье кастрюль со сковородками и создавать впечатление, что потолок вот-вот треснет, если она била по брусу крыши в определенном месте и под определенным углом. Если вызвать соответствующие колебания в одном правильно выбранном месте стального висячего моста, его можно развалить меньше чем за минуту, независимо от того, сколько болтов сварочных швов и тросов его держат. И хотя Пол не верил ни в малейшую возможность такой апокалиптической разрушительной силы антенны, с которой она может воздействовать на дом с деревянным каркасом, он знал, что даже небольшое усилие, примененное с исключительной точностью, способно вызвать эффект, пропорционально намного превосходящий затраченную энергию. Кроме того, именно антенна могла являться причиной всей происходящей фантасмагории, потому что это было единственным остававшимся у него объяснением. Стук стал еще тише и немного погодя совсем стих. Пол минуту-другую подождал, но единственным звуком был лишь шум барабанящего о кровлю дождя. Должно быть, ветер изменил направление. Когда он в очередной раз переменится, антенна вновь начнет раскачиваться на своей скобе и стук раздастся вновь. Как только погода улучшится. Полу придется достать из гаража раздвижную лестницу, подняться на крышу и демонтировать антенну. Ему бы следовало позаботиться об этом сразу же после того, как они стали абонентами кабельного телевидения. А теперь, промешкав, он будет терять драгоценное рабочее время — именно сейчас, когда у него в романе такой трудный и ответственный момент. От этой перспективы у него испортилось настроение. Пол решил побриться, съездить в город и взять новые бланки заявлений. Возможно, к тому времени дождь поутихнет. Если так, то, вернувшись домой, он в полдвенадцатого уже будет на крыше, снимет антенну, что-нибудь перекусит на обед и, отключившись от всего прочего, остаток дня проведет за работой над книгой. Однако он предвидел, что полностью отключиться не удастся. Пол почти смирился с мыслью, что денек у него ожидается тот еще. Пол уже уходил с чердака и потушил свет, когда дом вздрогнул от очередного удара. ТУК! На сей раз он оказался единственным. За ним вновь наступила тишина. Комната для посетителей в больнице напоминала наряд клоуна. Стены были канареечно-желтыми, стулья — ярко-красными, ковер — оранжевым, полки для журналов и столики — из густо-пурпурного пластика, а две абстрактные картины на стене были выполнены преимущественно в сине-зеленых тонах. В помещении явно поработал дизайнер, много читавший о воздействии цвета на психическое состояние людей, и комната должна была поднимать у посетителей настроение и отвлекать их от мыслей о больных друзьях и умирающих родственниках. Однако у Кэрол недвусмысленно бодрящие тона интерьера вызвали реакцию прямо противоположную задуманной. На ее взгляд, комната могла довести до исступления; она скребла по нервам, точно терка. Когда же в ней появился врач, его ослепительно белый халат так резко контрастировал с цветастым декором, что этот человек, казалось, светился, как святой. Кэрол поднялась к нему навстречу, и он, поинтересовавшись, не она ли миссис Трейси, представился Сэмом Хэннапортом. Он был высокого роста, весьма крепкого телосложения, с мужественным лицом, лет около пятидесяти. На первый взгляд казалось, что он был несколько грубоват и даже вульгарен, но на самом деле он говорил тихим, мягким голосом и искренне беспокоился о том, как подействовал на Кэрол этот несчастный случай — морально и физически. В течение нескольких минут она уверяла его, что с ней все в порядке в обоих отношениях, а затем они сели на красные стулья друг напротив друга. Подняв свои густые брови, Хэннапорт проговорил: — Судя по вашему виду, вам бы сейчас не помешали горячая ванна и бокал теплого бренди. — Я промокла до нитки, — сказала Кэрол. — Но сейчас я почти высохла. Как девочка? — Порезы, ушибы, царапины. — А внутреннего кровотечения нет? — Осмотр ничего не показал. — Переломы? — Ни одной трещины. Она удивительно хорошо отделалась. Вы, видимо, ехали очень медленно, когда сшибли ее. — Медленно. Но, глядя на то, как она упала на капот, а затем скатилась в канаву, я думала, что… Кэрол вздрогнула, не желая высказать свои мысли до конца. — С девочкой сейчас все хорошо. В машине «Скорой помощи» она пришла в себя, и, когда я увидел ее, она уже ясно мыслила. — Слава Богу. — У нее нет ни малейших признаков сотрясения мозга. И я не жду каких-либо продолжительных последствий случившегося. Несколько успокоенная, Кэрол откинулась на спинку красного стула. — Я бы хотела повидать ее, поговорить с ней. — Она сейчас отдыхает, — сказал доктор Хэннапорт. — Не стоит ее беспокоить. Но, если хотите, можете прийти сегодня вечером, в специально отведенное для посещений время. — Да-да, конечно. — Поморгав глазами, она как бы спохватилась: — Боже мой, ведь я даже не спросила, как ее зовут. Он вновь поднял свои мохнатые брови. — А вот тут у нас есть небольшая загвоздка. — Загвоздка? — Кэрол вновь напряглась. — Что вы имеете в виду? Она не может вспомнить, как ее зовут? — Пока еще не вспомнила, однако… — О Господи! — …она, конечно, вспомнит. — Вы же говорили, что обошлось без сотрясений… — Могу поклясться, что это не связано ни с чем серьезным, — заверил Хэннапорт. Он взял ее левую руку в свои большие крепкие ладони и держал ее так, будто она в любой момент могла треснуть и рассыпаться. — Пожалуйста, не мучьте себя лишними волнениями. С девочкой все будет хорошо. То, что она не может сейчас вспомнить своего имени, вовсе не говорит о сильном сотрясении или о какой-либо серьезной травме головы. Это не тот случай. Она ясно мыслит и не потеряла ощущения реальности. У нее прекрасная реакция и нормальное восприятие всего окружающего. Мы проверяли ее при помощи математических задач — на сложение, вычитание, умножение, — и она давала абсолютно правильные решения. Мы проверяли, как она пишет, и все продиктованные слова она написала без единой ошибки. У нее нет серьезного сотрясения. У нее лишь легкая амнезия. Частичная потеря памяти, а не утрата навыков или целых систем каких-либо понятий. Она, слава Богу, не разучилась писать и читать; она забыла лишь, кто она, откуда и как она сюда попала. Это воспринимается гораздо серьезнее, чем есть на самом деле. Разумеется, она еще встревожена и находится в некотором замешательстве. Но частичная потеря памяти восстанавливается быстрее всего. — Я знаю, — кивнула Кэрол. — Но из-за этого мне как-то очень не по себе. Хэннапорт крепко и бережно сжал ее руку. — Амнезия такого рода очень и очень редко бывает продолжительной и тем более постоянной. Скорее всего бедняжка вспомнит, кто она, уже к ужину. — А если нет? — Тогда полиция узнает, как ее зовут и откуда она, и, как только девочка услышит собственное имя, туман рассеется. — У нее не было с собой никаких документов. — Знаю, — сказал он. — Я разговаривал с полицией. — Так что же будет, если им не удастся узнать, кто она? — Они все выяснят. — Хэннапорт слегка похлопал Кэрол по руке. — Не понимаю, откуда у вас такая уверенность. — Родители заявят об ее исчезновении. Они принесут в полицию ее фотографию, и все выяснится. Ничего сложного. Она нахмурилась. — А если родители не заявят об ее исчезновении? — Почему? — А вдруг она не из этого штата? Даже если ее родители и заявят об исчезновении дочери у себя в городе, вовсе не обязательно, что об этом станет известно и здешней полиции. — Насколько мне известно из прежнего опыта, подростки-беглецы предпочитали Нью-Йорк, Калифорнию, Флориду — любое место, кроме Гаррисберга в Пенсильвании. — Всегда есть какие-то исключения. Рассмеявшись, Хэннапорт покачал головой. — Если бы проводились соревнования по пессимизму, вы были бы многократной чемпионкой. Удивленно моргнув, она улыбнулась. — Простите. Наверное, я слишком сгущаю краски. Взглянув на часы, он поднялся со стула. — Да, пожалуй. Особенно учитывая то, что девочка так удачно отделалась. Все могло быть гораздо хуже. Кэрол тоже встала. Несколько сбивчивой скороговоркой она произнесла: — Может быть, причина такого моего беспокойства связана с тем, что мне изо дня в день приходится иметь дело с психическими расстройствами у детей, и я должна им как-то помогать, именно этим я стремилась заниматься, окончив университет, — работать с больными детьми лечить их, а сейчас я оказалась в ответе за страдания этой бедной девочки. — Вам не следует казнить себя. Вы сделали это непреднамеренно. Кэрол кивнула. — Я понимаю, что, видимо, с моей стороны несколько глупо вести себя подобным образом, но я ничего не могу с собой поделать. — Мне необходимо поговорить еще с некоторыми родителями, — сказал Хэннапорт, вновь взглянув на часы. — Но мне все же хотелось бы оставить вас с мыслью, которая помогла бы справиться вам со своим состоянием. — Интересно. — Физически девочка пострадала минимально. Я не хочу сказать, что у нее совсем ничтожные травмы, но что-то близкое к этому. Поэтому вам на сей счет нечего мучиться. Что же до ее амнезии… не исключено, что она не имеет никакого отношения к несчастному случаю. — Никакого отношения? Но, как мне показалось, она ударилась головой об асфальт и… — Уверен, вам известно, что удар головой не единственная потенциальная причина амнезии, — сказал Хэннапорт. — Это даже не самая частая причина. Стресс, эмоциональный шок — вот что вызывает потерю памяти. Откровенно говоря, мы еще слишком плохо знаем человеческий мозг, чтобы с уверенностью говорить о причинах, вызывающих амнезию. Что же до этой девочки, то все говорит о том, что она уже пребывала в данном состоянии еще до того, как выскочила на дорогу. — Для пущей убедительности, называя очередной аргумент, подтверждающий правоту его теории, он разгибал пальцы правой руки. — Во-первых, у нее не было никаких документов. Во-вторых, она разгуливала под проливным дождем без плаща и зонтика, как в забытьи. В-третьих, насколько я могу судить по показаниям свидетелей, она вела себя довольно странно еще до вашего появления на той улице. — Он потряс тремя разогнутыми пальцами. — Три убедительные причины, по которым вам вовсе не стоит так отчаянно винить себя в случившемся с этой девочкой. — Возможно, вы и правы, но я все-таки… — Я абсолютно прав, — отрезал он. — Без всяких «возможно». И перестаньте терзать себя, доктор Трейси. Резкий и гнусавый женский голос, раздавшийся по селектору, вызывал доктора Хэннапорта. — Благодарю вас за уделенное мне время, — сказала Кэрол. — Вы очень любезны. — Приходите вечером и поговорите с девочкой. Уверен, вы поймете, что она вас ни в чем нисколько не винит. Повернувшись, он торопливо пошел по пестрому вестибюлю на вызов селектора; полы его белого халата развевались у него за спиной. Кэрол подошла к телефонам-автоматам и позвонила к себе в офис. Объяснив ситуацию своей секретарше Тельме, она попросила ее изменить расписание приема пациентов, которых намеревалась принять сегодня. Потом она набрала свой домашний номер, и после третьего гудка подошел Пол. — Я был уже в дверях, — сказал он. — Мне нужно съездить в офис к О'Брайену и взять новые бланки заявлений. Наши куда-то подевались во вчерашней кутерьме. А пока у меня денек складывается так, что лучше было бы спать и не просыпаться. — Здесь я с тобой согласна, — ответила она. — У тебя что-то случилось? Она рассказала ему о несчастном случае и коротко пересказала свой разговор с доктором Хэннапортом. — Могло быть и хуже, — заметил Пол. — Надо сказать спасибо, что никто не погиб и не покалечился. — Все мне это и говорят: «Могло быть и хуже». Но мне и так уже плохо. — Ты в порядке? — Да. Я же говорю: ни малейшей царапины. — Я имею в виду не физически, а эмоционально. У тебя что-то голос дрожит. — Да, есть немного. — Я приеду в больницу, — предложил он. — Нет-нет. В этом нет необходимости. — Ты уверена, что сможешь вести машину? — Я же нормально добралась сюда после происшествия, а сейчас мне уже лучше. Со мной все в порядке. Я, пожалуй, съезжу к Грейс. Она живет всего лишь в миле отсюда; это будет проще, чем возвращаться домой. Мне надо выжать одежду, высушить и погладить ее. И душ неплохо бы принять. Я, наверное, поужинаю с Грейс, если она не против раннего ужина, и вернусь в больницу. — Когда будешь дома? — Думаю, не раньше восьми — восьми тридцати. — Буду тебя ждать. — Я постараюсь побыстрее. — Передавай привет Грейс. Скажи, что ей суждено стать очередным Нострадамусом. — Что сие означает? — Грейс звонила некоторое время назад. Сказала, что ей приснились два кошмара и ты фигурировала в обоих. Она опасалась, что с тобой может что-то случиться. — Ты серьезно? — Да. Она стеснялась об этом рассказывать. Боялась, что я подумаю, будто у нее начинается старческий маразм. — Ты рассказывал ей про вчерашнюю молнию? — Да. Но ей казалось, произойдет что-то еще, что-то нехорошее. — Так оно и вышло. — Мрачновато, да? — Да уж, — ответила Кэрол. Она вспомнила свой собственный кошмарный сон: черная бездна, отблеск, что-то серебристое все ближе и ближе. — Грейс наверняка все тебе расскажет, — сказал Пол. — Увидимся вечером. — Целую, — попрощалась Кэрол. — И я тебя. Она повесила трубку и вышла на автостоянку. По небу катились темно-серые грозовые тучи, но дождь шел мелкий. Ветер по-прежнему был резким и холодным; он, словно осиный рой, гудел над головой электрическими проводами.* * *
В комнате стояли две кровати, но вторая сейчас была свободной. Не было в комнате и медсестры. Девушка лежала одна. Укрытая белоснежной простыней и кремовым одеялом, она лежала и смотрела в потолок, облицованный звукопоглощающей плиткой. У нее болела голова, и она ощущала все дергающие и жгущие царапины и ссадины на своем несчастном теле, уже зная, что серьезных травм у нее нет. Ее злейшим врагом был страх, а не боль. Ее пугало то, что она не могла вспомнить, кто она. С другой стороны, ее донимало какое-то необъяснимое чувство, что вспоминать свое прошлое для нее глупо и опасно. Непонятно почему, ей казалось, что воспоминания грозят ей смертью, — это странное ощущение пугало ее больше всего. Девушка знала, что причиной амнезии был не несчастный случай. Она смутно помнила, как шла по улице за минуту-две до того, как оказалась перед «Фольксвагеном». Уже тогда она испытывала страх и замешательство, уже тогда она не помнила своего имени и как оказалась в этом совершенно незнакомом ей городе. Ниточка воспоминаний начала раскручиваться еще до несчастного случая. У нее было подозрение, что амнезия была для нее своеобразным щитом, который защищал ее от чего-то жуткого в прошлом. Потеря памяти в целях безопасности? Почему? От чего надо спасаться? «От чего я должна убегать?» — спрашивала она себя. Она чувствовала, что в силах вспомнить, кто она есть. Ей казалось, что ее память еще подчиняется ей. Ей казалось, что прошлое лежит на дне какого-то темного пространства, но не так глубоко, чтобы не достать; надо лишь собраться с духом, сунуть руку в это черное отверстие и поискать правду, не боясь, что кто-то может ее там укусить. Однако, когда она напряглась, чтобы вспомнить, когда она попыталась ощупать эту «дыру», ее страх, усугубляясь, перестал быть обыкновенным испугом, превратившись в безудержный ужас. Ей словно скрутило живот, сдавило горло, и, покрывшись липким потом, она почувствовала такую дурноту, что чуть не потеряла сознание. На краю небытия она увидела и услышала что-то тревожное — то ли кусок сна, то ли какое-то наваждение, — и, даже не понимая, что это, она все равно испугалась. Видение состояло из единственного звука и образа, который, хоть и обладал гипнотическим воздействием, был простым: мелькнувший свет, серебристый отблеск какого-то едва видимого предмета, качавшегося среди густых теней взад-вперед, — возможно, блестящего маятника. Звук казался зловещим, резко отрывистым, но неопределенным, громким постукиванием, словно таящим что-то еще. Тук! Тук! Тук! Она вздрогнула, словно ее чем-то ударили. Тук! Она хотела было закричать, но не смогла. Она вдруг почувствовала, что ее руки сжались в кулаки вместе со сбитыми и мокрыми от пота простынями. Тук! Она прекратила вспоминать, кто она. «Может быть, мне лучше и не знать», — подумала она. Ее сердцебиение постепенно пришло в норму, и ей на конец удалось глубоко вдохнуть. Живот отпустило. Стук стих. Через некоторое время она посмотрела в окно. В беспокойном небе летела стая больших черных птиц. «Что со мной будет?» — спрашивала она себя. Несмотря на то, что ее пришла проведать медсестра, а затем к ней присоединился доктор, девочка ощущала крайне тягостное одиночество.Глава 5
На кухне у Грейс стоял аромат кофе и теплого фруктового пирога. Струившийся по окну дождь скрывал вид розового сада, раскинувшегося позади дома. — Я никогда раньше не верила ни в ясновидение, ни в предчувствия. — Я тоже, — согласилась Грейс. — А теперь и не знаю, что сказать. Я видела два кошмарных сна, где ты была в опасности, и я тут же узнаю, что ты дважды чудом уцелела, словно у тебя все и шло по этому сценарию. Они сидели за столиком возле кухонного окна. Одежда Кэрол сушилась, и на ней были один из халатов Грейс и ее домашние шлепанцы. — Уцелеть мне довелось лишь однажды, — ответила она Грейс. — Я имею в виду молнию. Вот тогда действительно небо с овчинку показалось. Но сегодня утром в опасности оказалась не я — это девочка чуть не погибла. Грейс покачала головой. — Нет. Ты тоже едва уцелела. Разве ты не говорила мне, что тебя вынесло на встречную полосу, когда ты затормозила, чтобы не наехать на девочку? По твоим словам, «Кадиллак» прошел чуть ли не в дюйме от тебя. А если бы он врезался? Если бы этот «Кадиллак» наехал на твой крошечный «Фольксваген», то у тебя наверняка была бы не одна царапина. — Об этом я как-то не подумала, — нахмурившись, пробормотала Кэрол. — Тебя так взволновало состояние этой девочки, что ты даже забыла про себя. Откусив кусочек пирога, Кэрол запила его кофе. — Не тебе одной снятся кошмары. — С этими словами она поведала ей о своем сне: об отрезанных головах, об исчезавших позади нее домах, о мерцавшем свете и серебристых отблесках какого-то предмета. Взяв свою кофейную чашечку двумя руками и склонившись над столом, Грейс задумалась. В ее голубых глазах была тревога. — Действительно дурной сон. Ну и что ты о нем думаешь? — Я не считаю его пророческим. — Почему же? Мой, похоже, оказался именно таким. — Да, но не следует же из этого, что мы с тобой обе становимся предсказательницами. Кроме того, в моем сне было слишком много нереального. Слишком уж он какой-то безумный, чтобы воспринимать его всерьез. Эти неожиданно ожившие отрезанные головы — уж такого-то, я думаю, как-нибудь удастся миновать. — Если он пророческий, то его вовсе не обязательно следует воспринимать буквально. На мой взгляд, в нем может быть какой-то символический смысл, предостережение. — Какое? — Я не берусь его толковать. Но серьезно думаю, что тебе некоторое время следует быть крайне осторожной. О Боже, кажется, я становлюсь похожей на полоумную цыганку-гадалку типа Марии Успенской из тех старых фильмов ужасов тридцатых годов, однако я по-прежнему считаю, что тебе не стоит пренебрегать всем тем, что ты увидела в своем сне. Особенно после того, что уже произошло.* * *
После обеда, брызнув жидкого мыла в раковину с грязной посудой, Грейс спросила: — А как ваши дела с усыновлением ребенка? Все идет хорошо? Кэрол замялась. Грейс взглянула на нее. — Что-нибудь не так? Снимая с крючка полотенце для посуды и разворачивая его, Кэрол сказала: — Да нет. В общем-то, нет. О'Брайен говорит, наше заявление будет рассмотрено положительно. По его словам, нет никаких сомнений. — Но тебя это все-таки беспокоит. — Немного, — призналась Кэрол. — Почему? — Не знаю. Просто… у меня такое чувство… — Какое чувство? — Что ничего не получится. — Но почему? — Никак не могу отделаться от мысли, что кто-то пытается помешать нам усыновить ребенка. — Кто? Кэрол пожала плечами. — О'Брайен? — спросила Грейс. — Нет-нет. Он на нашей стороне. — Кто-то из рекомендательной комиссии? — Я не знаю. У меня нет никаких конкретных доказательств проявления недоброжелательности по отношению ко мне или к Полу. Я не могу ни на кого показать пальцем. Вымыв серебряные приборы, Грейс положила их в сушилку и сказала: — Ты так давно ждала этого момента, что сейчас тебе просто не верится, и тебе уже мерещатся всякие невероятные вещи. — Возможно. — А еще ты напугана вчерашней молнией и сегодняшним происшествием. — Может быть. — Ничего удивительного. И меня это тоже до смерти напугало. Но с усыновлением все будет в порядке. — Надеюсь, — ответила Кэрол. Но тут же, вспомнив о потерянных заявлениях, засомневалась.* * *
Когда Пол вернулся из бюро с новыми бланками заявлений, дождь уже перестал, но по-прежнему дул сырой холодный ветер. Достав из гаража лестницу, он забрался на самую пологую часть крыши. Мокрые кровельные доски поскрипывали у него под ногами, когда он осторожно подбирался по скату крыши к телевизионной антенне, закрепленной возле кирпичной трубы. Ноги казались ватными. Он немного страдал акрофобией, но никогда не давал развиться этому страху, заставляя себя, как сейчас, преодолевать его. Добравшись до трубы, он взялся за нее рукой и посмотрел вокруг на крыши соседних домов. Мрачное сентябрьское небо нависло очень низко, настолько низко, что казалось всего в шести-восьми футах от самых высоких домов. Создавалось впечатление, что, подняв руку, можно было дотянуться до туч и постучать по ним, и тогда раздастся глухой металлический звук. Развернувшись спиной к трубе, Пол осмотрел антенну. Пластина основания держалась на четырех болтах, уходивших сквозь кровлю к брусу крыши или к обвязке двух брусьев. Все болты были на месте. Ни один из них не развинтился. Пластина жестко крепилась к крыше, и антенна была надежно закреплена. Она никак не могла являться причиной стука, сотрясавшего весь дом.* * *
Вымыв посуду, Грейс и Кэрол пошли в кабинет. Там стояла вонь кошачьих испражнений. На сиденье большого кресла Аристофан решил устроить себе туалет. — Я просто не верю своим глазам! — воскликнула ошеломленная Грейс. — Ари всегда ходит в отведенную ему коробку. Такого никогда раньше не было. — Он всегда отличался некоторой сумасбродностью, разве нет? И привередливостью. — Да, но ты только посмотри, что он натворил. Теперь на этом кресле придется менять обивку. Кажется, надо найти этого негодника, ткнуть его сюда мордой и задать ему хорошую трепку. Я не хочу, чтобы это вошло у него в привычку. Этого еще не хватало! Они осмотрели все комнаты, но Аристофана так и не нашли. Видимо, он улизнул из дома через свою крошечную дверку на кухне. Вернувшись вместе с Грейс в кабинет, Кэрол заметила: — Ты мне рассказывала, что Ари что-то разодрал. Грейс поморщилась. — Да. Не хотела тебе говорить… Он разделался с одной из подаренных тобой замечательных расшитых подушечек. Мне чуть дурно не стало. В них было вложено столько труда, и вдруг этот… — Успокойся, — ответила Кэрол. — Я сделаю тебе еще парочку таких же. Я обожаю этим заниматься. Вышивание меня успокаивает. Я спросила лишь потому, что, если Ари ведет себя каким-то непонятным образом, с ним, может быть, что-то не так. Грейс нахмурилась. — На вид он здоров. Шерсть блестит, и энергии хоть отбавляй, судя по всему. — Животные во многом похожи на людей. А когда человек неожиданно начинает себя странно вести, это может являться показателем какого-то физического недуга — от опухоли в мозгу до расстройства желудка. — Думаю, мне следует обратиться к ветеринару. — Может, нам стоит поискать Ари на улице, пока нет дождя? — предложила Кэрол. — Бесполезное занятие. Когда кот хочет, чтобы его не нашли, его не найдут. Кроме того, к ужину он вернется. Ночью я его не буду выпускать, а утром отвезу к ветеринару. — С этими словами Грейс взглянула на безобразие на кресле и сокрушенно покачала головой. — Это не похоже на моего Ари, — озабоченно произнесла она. — Совсем не похоже.* * *
…На открытой двери стоял номер триста шестнадцать. Кэрол нерешительно переступила порог бело-голубой больничной палаты и остановилась. В помещении стоял легкий запах лизола. Девочка сидела на ближайшей к окну кровати, отвернувшись от двери, глядя на окутываемую сумерками территорию больницы. Почувствовав, что она уже не одна, она повернулась и взглянула на Кэрол своими серо-голубыми глазами, совершенно не узнавая ее. — Можно войти? — спросила Кэрол. — Конечно. Кэрол подошла к кровати. — Как ты себя чувствуешь? — Нормально. — Нормально? Со столькими царапинами, ссадинами и синяками? — Да у меня совсем ничего не болит. Так, немножечко ноет. Ничего смертельного. Все такие ласковые; слишком уж много суеты вокруг меня. — Как твоя голова? — Болела, когда я пришла в себя, но давно уже прошла. — В глазах не двоится? — Абсолютно, — ответила девочка. Прядь золотистых волос соскользнула из-за уха к ней на щеку; она убрала ее. — Вы — врач? — Да, — сказала Кэрол. — Меня зовут Кэрол Трейси. — А вы можете называть меня Джейн. Так записано в карте. Джейн Доу. По-моему, неплохо. Может, даже лучше, чем мое настоящее имя. На самом деле я могу оказаться Зельдой, или Миртл, или еще кем-нибудь. — У нее была очаровательная улыбка. — Что касается докторов, то я уже сбилась со счета. Сколько же их у меня всего? — Я не считаюсь одним из твоих докторов, — ответила Кэрол. — Я пришла сюда, потому что… это… я была за рулем той машины, под колеса которой ты выскочила. — Простите меня, пожалуйста. Надеюсь, я не причинила большого ущерба? Удивленная такой реакцией и искренней тревогой в глазах девушки, Кэрол рассмеялась. — Ради Бога, не стоит беспокоиться о моей машине, милая. Главное — твое здоровье, а не «Фольксвагена». И извиняться следует мне. Я чувствую себя ужасно нехорошо. — Пустяки, — сказала девушка. — Зубы у меня целы, кости тоже, и доктор Хэннапорт говорит, что я по-прежнему буду привлекать внимание мальчиков. Она застенчиво улыбнулась. — Насчет этого он абсолютно прав, — подтвердила Кэрол. — Ты очень привлекательная девушка. В улыбке стало еще больше робости, и девочка, потупив взор, зарделась. — Я надеялась, что встречу здесь твоих родителей, — сказала Кэрол. Девочка старалась внешне не терять присутствие духа, но, когда она подняла глаза, в них мелькнули страх и неуверенность. — Я думаю, что они еще не успели заявить о моем исчезновении. Прошло слишком мало времени. — Ты что-нибудь вспомнила о своем прошлом? — Пока нет. Но вспомню. — Говоря это, она поправляла воротничок своего больничного халатика и расправляла простыню у себя на коленях. — Доктор Хэннапорт говорит, что я все вспомню, если не буду особо истязать себя воспоминаниями. Он говорит, мне повезло, что у меня не полная амнезия. Это когда разучиваешься и читать и писать. Так что я не так уж плоха! А то вот было бы дело! Пришлось бы учиться читать, писать, складывать, вычитать, умножать, делить — все снова-здорово. Тоска! — Она закончила разглаживать простыню и вновь подняла глаза. — Память скорее всего вернется ко мне через пару дней. — Конечно, — заверила Кэрол, хотя вовсе не была этом уверена. — Тебе здесь что-нибудь нужно? — Нет. Тут все есть. Даже крошечные тюбики зубной пасты. — А как насчет книг, журналов? Девочка вздохнула. — Сегодня днем я чуть не померла от тоски. Думаете, здесь у них есть какие-нибудь старые журналы для пациентов? — Возможно. Что тебе нравится читать? — Все. Читать я обожаю; уж это-то я помню. Но я не помню ни одного названия книги или журнала. Смешная штука эта амнезия, а? — Да, весело, — отозвалась Кэрол. — Ладно, погоди. Я сейчас вернусь. В помещении для обслуживающего персонала она объяснила, что хочет взять напрокат маленький телевизор для Джейн Доу. Дежурная пообещала тут же все устроить. Дежурившая старшая медсестра — плотная седоволосая женщина с висящими на шее на цепочке очками — сказала: — Она такая милая девочка. Она просто всех очаровала. Не сказала ни одного слова поперек. На редкость спокойная девочка. Спустившись на лифте в вестибюль, Кэрол направилась к газетному киоску. Она купила пару шоколадок и шесть журналов, которые, судя по обложкам, могли заинтересовать девушку ее лет. Когда она вернулась в комнату триста шестнадцать, дежурная уже заканчивала настраивать телевизор. — Вам не стоило беспокоиться обо всем этом, — сказала девушка. — Когда объявятся мои родители, я обязательно скажу им, чтобы они вернули вам деньги. — Я не возьму ни цента, — заявила Кэрол. — Но… — Никаких «но». — Не надо меня баловать. У меня и так все в порядке. Правда. Если вы… — Я и не балую тебя, милая. Считай, что телевизор и журналы входят в курс лечения. Не исключено, что именно они-то и являются самым необходимым, чтобы справиться с этой амнезией. — Что вы имеете в виду? — Если ты будешь смотреть телевизор, ты можешь увидеть какую-нибудь знакомую тебе передачу. И это может вызвать нечто вроде цепной реакции воспоминаний. — Вы думаете? — Уж это лучше, чем просто сидеть, уставившись в стены или в окно. Ничто здесь не способствует возвращению твоей памяти, потому что ничто здесь не связано с твоим прошлым. Однако есть вероятность, что телевизор поможет. Девочка взяла пульт дистанционного управления и включила телевизор. Шла популярная комедия. — Узнаешь? — спросила Кэрол. Девушка покачала головой: нет. В уголках ее глаз заблестели слезы. — Ну-ну, не расстраиваться, — сказала Кэрол. — Было бы удивительно, если бы ты вспомнила первую попавшуюся вещь. На все нужно время. Девушка кивнула и закусила губу, сдерживая слезы. Подвинувшись к ней, Кэрол взяла ее за руку; рука была холодной. — Вы придете завтра? — робко спросила Джейн. — Конечно. — Я хочу сказать… если это не займет у вас много времени. — Пустяки. — Иногда… — Что? Девушка содрогнулась. — Иногда мне так страшно. — Не бойся, милая. Прошу тебя. Все устроится. Вот увидишь. Скоро все станет на свои места. Говоря это, Кэрол пыталась подобрать нечто более утешительное, чем пустые банальные слова. Но она понимала, что ее неспособность происходила от того, что ее тожеодолевали немалые сомнения. Девушка вытащила салфетку из специального ящичка, встроенного сбоку прикроватной тумбочки. Высморкавшись, она достала еще одну салфетку и вытерла глаза. Она вновь выпрямилась, подняла голову, расправила свои узкие плечики и поправила простыню. Она уже опять улыбалась, глядя на Кэрол. — Простите, — сказала она. — Не знаю, что со мной. Слезами горю не поможешь. К тому же вы правы. Мои родители, вероятно, завтра объявятся, и все образуется. Послушайте, доктор Трейси, если вы завтра придете… — Конечно, приду. — Если придете, то обещайте не приносить больше ни конфет, ни журналов, ничего. Хорошо? Не стоит вам так тратить деньги. Вы уже слишком много сделали для меня Самое лучшее, что вы можете сделать еще, — это просто прийти. Приятно знать, что кто-то думает о тебе за пределами больницы. Приятно, что меня не бросили и не забыли. Нет, сестры и доктора здесь очень добрые. Они просто прелесть, и я им очень благодарна. Они заботятся обо мне но им вроде бы как положено заботиться. Понимаете? Это немножко разные вещи, ведь правда? — Она нервно рассмеялась. — Я, наверное, несу чушь? — Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь, — сказала Кэрол. Ей было до боли понятно, какое крайнее одиночество испытывала девушка, потому что и ей было страшно и одиноко, когда она была в том же возрасте, пока Грейс Митовски не взяла ее под свою опеку и не окружила ее заботой и любовью. Она пробыла с Джейн до конца разрешенного для посещений времени. Перед уходом она по-матерински поцеловала девочку в лоб, и это вышло как-то само собой. За удивительно короткое время они почувствовали расположение друг к другу. На больничной автостоянке все машины от света фонарей выглядели желтоватыми. Ночь была холодной. Дождь не шел ни днем, ни вечером, но воздух был сырым и тяжелым. Где-то вдалеке слышались раскаты грома, словно приближалась новая гроза. Кэрол немного посидела за рулем «Фольксвагена», глядя на третий этаж, на окно палаты, где лежала девочка. — Какой прелестный ребенок! — вслух сказала она. Ей казалось, будто кто-то необыкновенный вдруг появился в ее жизни.* * *
Около полуночи налетевший холодный западный ветер пустил деревья в пляс. Беззвездная, безлунная и непроглядная ночь, сомкнувшаяся вокруг дома, казалась Грейс живым существом; оно сопело возле дверей и окон. Начался дождь. Она легла спать, когда часы в холле били двенадцать. Минут через двадцать Грейс начала проваливаться в сон. Ей снилось, будто она — листок, уносимый каким-то холодным потоком к водопаду. Уже на самом краю, когда под ней оказалась лишь темная пустота, она вдруг услышала в спальне странное движение и тут же проснулась. Какие-то тихие звуки. Едва слышное царапанье. Легкий шорох. Грейс села, чувствуя, как учащенно забилось ее сердце, и открыла ящик стоявшей возле кровати тумбочки. Пытаясь одной рукой нащупать там пистолет, другой она судорожно искала выключатель лампы. И то и другое она нашла почти одновременно. При свете виновник производимого шума сразу оказался на виду. Ари сидел на верху высокого комода и смотрел на нее, словно собирался прыгнуть на кровать. — Ты что здесь делаешь? Ты что, забыл, что тебе можно и что нельзя? Он моргнул, но не пошевельнулся. Все его тело было напружинено; шерсть на загривке стояла дыбом. По гигиеническим соображениям Грейс не позволяла ему лазать ни по кухонным шкафам, ни по ее кровати; чтобы не искушать его, она в основном держала дверь в спальню плотно закрытой. Уборка и так отнимала у нее много лишнего времени, чтобы в доме не чувствовалось кошачьего запаха и чтобы гости, садясь в кресла и на диваны, не обнаруживали потом на себе кошачью шерсть. Она любила Ари и считала его своим замечательным компаньоном и часто разрешала ему бегать по всему дому, несмотря на то что потом уборка обходилась ей в несколько лишних часов. Однако ей вовсе не хотелось натыкаться на кошачью шерсть в еде или в постели. Встав с кровати, она сунула ноги в шлепанцы. Ари наблюдал за ней. — Ну-ка, быстро уходи оттуда, — сказала Грейс, глядя на него как можно строже. Его светящиеся глаза казались голубыми, как газовое пламя. Грейс подошла к двери в спальню, открыла ее, отошла в сторону и прикрикнула: — Брысь! Напряженные мышцы кота расслабились. Словно меховая шкурка, он повалился на комод, будто кости его растаяли. Зевнув, он стал лизать свою черную лапку. — Эй! — снова крикнула Грейс. Лениво подняв голову, Аристофан взглянул на нее. — Вон! — грозно сказала она. — Сию же минуту! Он вновь никак не отреагировал. Грейс направилась к комоду, и лишь тогда кот был вынужден подчиниться. Спрыгнув, он так молниеносно проскочил мимо нее, что она даже не успела наподдать ему. Он шмыгнул в холл и она закрыла дверь. Когда Грейс вновь легла в постель и выключила свет она вспомнила, как он выглядел, сидя на верху комода: он смотрел на нее точно на жертву, втянув опущенную голову в плечи, задние лапы напряжены, шерсть дыбом, пылающий и несколько безумный взгляд. Он готовился прыгнуть на кровать и до смерти испугал бы ее; в этом можно было бы не сомневаться. Но подобные вещи свойственны котятам; для Ари такие игры были не характерны в течение, по крайней мере, трех-четырех последних лет, с тех пор как он праздно дожил до своей зрелости. Какой же бес в него вселился? «Ну все, решено, — сказала она про себя, — утром первым делом едем к ветеринару. Не хватало мне только кота-шизофреника в доме!» В поисках покоя Грейс вновь попыталась забыться сном. Шелест ветра, похожий на журчание реки, начал убаюкивать ее. Через несколько минут ее вновь увлекло в водоворот сна. На самом краю она задрожала, ее охватило чувство беспокойства, страх, от которого она чуть было не проснулась, но вот она уже сорвалась в темноту… Ей снилось, что она проплывала где-то под водой среди ярких кораллов, водорослей и каких-то причудливых качающихся растений. Среди них мелькнул кот, довольно крупный, больше тигра, но окраской похожий на сиамского. Он следил за ней. Она видела в мутной морской воде за раскачивавшимися стеблями морской растительности его круглые глаза. Ей было слышно его низкое урчание. По пути она часто останавливалась, чтобы наполнить многочисленные желтые плошки щедрыми порциями «Мяу-микса», надеясь хоть как-то ублажить кота, но сердцем чувствовала, что зверь не уймется, пока не запустит в нее свои когти. Она продолжала плыть среди нагромождений кораллов, мимо гротов, по подводным долинам с песчаными дюнами, ожидая, что кот вот-вот зарычит и прыгнет на нее, вцепится ей в лицо и выцарапает глаза… Раз, проснувшись, ей показалось, что Аристофан настойчиво скребется в закрытую дверь спальни. Но, пребывая в полусне, она подумала, что ослышалась: будучи не в состоянии стряхнуть с себя сон, она вновь через несколько секунд погрузилась в него. В час ночи на третьем этаже больницы было так тихо, что Хэрриет Гилби, старшей сестре ночной смены, казалось, будто она где-то глубоко под землей, на каком-то военном объекте, внутри подножия горы, вдалеке от всего мира и наполнявших его звуков. Здесь же единственными звуками были шелест системы обогрева и тихое поскрипывание резиновых подошв тапочек медсестер по блестящим плиткам пола. Хэрриет — миниатюрная, симпатичная, темнокожая и аккуратно одетая — сидела у себя в комнате для дежурных за углом от лифтов и вносила сведения о пациентах в их карты, когда тишину на третьем этаже неожиданно нарушил истошный крик. Он доносился из палаты номер триста шестнадцать. Когда Хэрриет, толкнув, открыла дверь, вошла в комнату и включила верхний свет, крик прекратился так же неожиданно, как и начался. Девушка по имени Джейн Доу лежала в постели на спине; одна рука, согнутая в локте, закрывала лицо, словно она пыталась защититься от удара, другой рукой она вцепилась в поручень кровати. Простыни и одеяло, сбитые в ком, лежали у нее в ногах, больничный халат задрался до бедер. Ее голова металась по подушке из стороны в сторону; задыхаясь, она умоляла своего воображаемого насильника: «Нет… нет… нет… Пожалуйста, не убивайте меня! Нет!» Ласково, нежным голосом, но настойчиво Хэрриет пыталась успокоить девушку. Поначалу Джейн ничего не воспринимала. Она все еще находилась под действием снотворного и никак не могла проснуться. Однако постепенно ей удалось отделаться от кошмарного сна и успокоиться. Возле Хэрриет появилась другая сестра, Кей Хэмилтон. — Что случилось? Она разбудила чуть ли не пол-этажа. — Просто дурной сон, — ответила Хэрриет. Сонно моргая, Джейн смотрела на них. — Она пыталась убить меня. — Тсс, — сказала Хэрриет. — Это всего лишь сон. Никто здесь не пытается причинить тебе зла. — Сон? — невнятно переспросила Джейн. — Да. Просто сон. Ну и сон! Тоненький халатик и сбитые в комок простыни были влажными от пота. Хэрриет вместе с Кей поменяли белье. Как только постелили постель, Джейн вновь оказалась во власти снотворного. Повернувшись на бок, она что-то пробормотала и даже улыбнулась во сне. — Похоже, она переключилась на нечто более веселое, — заметила Хэрриет. — Бедная девочка. После всего, что с ней произошло, ей необходимо хотя бы хорошо поспать. С минуту посмотрев на нее, они выключили свет вышли из комнаты и закрыли за собой дверь.* * *
Оставшись одна, в глубоком сне, в который она перенеслась из предыдущего кошмара, Джейн вздыхала, улыбалась и тихо посмеивалась. — Топор, — шептала она во сне. — Топор. Ах да, да. Топор. Ее пальцы немного согнулись, словно она держала что-то увесистое, но невидимое. — Топор, — прошептала она, и будто тихое эхо прозвучало в темноте больничной палаты: «Топор».* * *
Тук! Кэрол пересекла огромную гостиную по персидскому ковру, стукнувшись бедром об угол серванта. Тук! Тук! Она метнулась в арку, в длинный коридор, к лестнице, ведущей на второй этаж. Когда она оглянулась, то увидела, что дом позади нее исчез и вместо него образовалась черная пропасть, в которой поблескивало что-то серебристое — взад-вперед, взад-вперед… Тук! Вдруг ее осенило точно вспышкой; она поняла, что тускло поблескивало. Топор. Его лезвие. Это оно блестело, раскачиваясь из стороны в сторону. Тук… тук-тук… Тихонько поскуливая, она стала забираться на второй этаж. Тук… тук… Порой казалось, что топор вгрызается в дерево; судя по звуку, оно было сухим, от него летели щепки. Но иногда звук был совершенно иным, словно тяжелое лезвие неумолимо врезалось во что-то гораздо более податливое, чем дерево, во что-то мокрое и мягкое. В мясо? В тело? Тук! Кэрол стонала и металась во сне, сбрасывая с себя простыни. Потом она уже бежала по лугу. Впереди — деревья. Позади — пустота. И топор. Топор.Глава 6
В пятницу утром дождь вновь перестал, но день был туманным. Проникавший в больничное окно свет казался по-зимнему бледным, холодным. У Джейн остались лишь смутные воспоминания о том, как дежурные ночью меняли ей постель и влажный от пота халат. Едва ли помнила она и дурной сон, не говоря уже о том, чтобы воспроизвести хоть какую-нибудь его деталь. Она по-прежнему не знала своего имени и ничего о себе. Ее воспоминания заканчивались вчерашней утренней аварией или, может, минутой до нее, но далее, где должно было быть ее прошлое, начиналась глухая стена. За завтраком она прочла статью в одном из журналов, купленных Кэрол Трейси. Хотя по больничному расписанию посетителей до полудня быть не могло, Джейн уже с нетерпением ждала прихода этой женщины. Доктор Хэннапорт и медсестры были очень приветливы с ней, но никто из них не действовал на Джейн так благотворно, как Кэрол Трейси. По непонятным для нее причинам Джейн чувствовала себя в большей безопасности, более непринужденно и менее напуганной амнезией, когда рядом была именно доктор Трейси, а не кто-то другой. Может быть, это и имеется в виду, когда говорят о врачах, которые умеют найти подход к больным.* * *
В девять с небольшим, когда Пол ехал по шоссе к центру города, направляясь в офис Альфреда О'Брайена с новым заявлением, у «Понтиака» вдруг заглох мотор. Он не чихал и не фыркал; просто заклинило поршни, когда машина неслась со скоростью пятьдесят миль в час. По мере снижения скорости начались трудности с рулевым управлением. Машины проносились по обе стороны от «Понтиака» на скорости шестьдесят — шестьдесят пять миль в час, превышая допустимый предел, что было довольно рискованно для такого тумана. Отчаянно маневрируя, Пол стал съезжать через два ряда к правой обочине шоссе. Он ждал, что вот-вот резко взвизгнут тормоза и он ощутит жуткий удар врезавшегося в него автомобиля но удивительным образом он как-то избежал столкновения. В упорной борьбе с неподдающимся рулем ему все-таки удалось откатить «Понтиак» на обочину. Откинувшись назад, он сидел с закрытыми глазами, пока к нему не вернулось самообладание. Наконец он, наклонившись, повернул ключ зажигания, однако стартер с аккумулятором на это никак не отреагировали. Он попробовал еще несколько раз, но потом отказался от этой затеи. Шоссе кончалось недалеко впереди, и там, на расстоянии квартала, находилась станция технического обслуживания. Пол добрался туда пешком всего за десять минут. На станции было весьма оживленно, и хозяин не мог отпустить своего помощника — здоровенного рыжего парня с открытым лицом по имени Корки — до десяти часов, пока количество клиентов не поубавилось. Потом Пол с Корки отправились на тягаче к злополучному «Понтиаку». Они попытались завести машину, но аккумулятор явно выдохся. Нужно было оттаскивать «Понтиак» на станцию. Корки собирался заменить аккумулятор и привести машину в порядок в течение получаса. Однако оказалось, что дело вовсе не в аккумуляторе, и ориентировочное время окончания ремонта все оттягивалось и оттягивалось. В конце концов Корки нашел неисправность в электросистеме и устранил ее. Пол задержался на три часа, в течение которых он каждые двадцать-тридцать минут ожидал, что вот-вот сможет поехать дальше. Когда он наконец остановил свой «Понтиак» перед офисом О'Брайена, было уже час тридцать. Альфред О'Брайен вышел в приемную навстречу Полу. Он был в великолепно сидевшем на нем коричневом костюме, безупречно отглаженной кремовой рубашке с изящно торчавшим из нагрудного кармана пиджака бежевым носовым платком и в идеально начищенных коричневых полуботинках. Он принял заявление, но не стал обнадеживать Пола заверениями, что оно наверняка пройдет все необходимые формальности до следующего заседания рекомендательной комиссии, которое должно состояться утром в среду на следующей неделе. — Мы постараемся сделать все в срочном порядке, — сказал он Полу. — Я перед вами в долгу. Однако эти формальности связаны не только с нами. Нам приходится иметь дело с людьми и вне нашего учреждения, и некоторые из них не любят торопиться. На завершение этой процедуры, как правило, уходит три полных рабочих дня, иногда — четыре-пять, а бывает даже и больше, так что у меня есть серьезные сомнения, что мы успеем к ближайшему заседанию рекомендательной комиссии, хоть мне бы этого очень и хотелось. Вероятно, нам придется представить ваше заявление на второе заседание комиссии, которое состоится в конце сентября. Мне очень неудобно по этому поводу, мистер Трейси. Я просто не могу выразить, как я сожалею. Я искренне говорю вам об этом. Если бы мы не потеряли эти документы во вчерашней сумятице… — Не стоит так беспокоиться, — сказал Пол. — Молния ударила не по вашей вине, и не по вашей вине у меня сломалась машина. Мы с Кэрол уже давно мечтаем усыновить ребенка. Еще две недели ничего не изменят. — Как только ваши документы попадут на комиссию, все быстро решится, — сказал О'Брайен. — У меня еще никогда не было такой уверенности в положительном результате. Я нимало не сомневаюсь по поводу вас, и именно так я и скажу на заседании. — Я вам очень признателен, — проговорил Пол. — Если мы не успеем к среде — хотя, заверяю вас, мы приложим все усилия со своей стороны, — считайте это лишь короткой временной задержкой. Без всякого повода для беспокойства. Просто маленьким невезением.* * *
Доктор Брэд Тэмплтон был превосходным ветеринаром. Однако, обслуживая очередную кошку или собаку, он всегда казался Грейс как бы не на месте. Он был могучего вида, и ему больше подходило лечить лошадей или каких-нибудь других животных на ферме, где нашлось бы более достойное применение его широким плечам и мускулистым рукам. Он был шести футов пяти дюймов ростом, весил около двухсот двадцати фунтов и имел несколько грубоватое, но располагающее лицо. Когда он выдернул Аристофана из специальной мягкой корзинки для перевозки животных, кот в его здоровенных ручищах показался игрушечным. — По-моему, он в добром здравии, — заявил Брэд, опуская Аристофана на стол из нержавеющей стали, стоящий посреди идеально чистого кабинета. — С тех пор как он вырос, он никогда не драл мебель, — сказала Грейс. — Он никогда не любил лазить по мебели. А сейчас стоит мне отвернуться, как он залезает на самый верх чего-нибудь и следит оттуда за мной. Брэд осматривал кота, ожидая обнаружить опухшие железы или суставы. Кот совсем не сопротивлялся, даже когда Брэд воспользовался ректальным термометром. — Температура нормальная. — Что-то не то, — настаивала Грейс. Замурлыкав, Аристофан перевернулся на спину, предлагая, чтобы ему погладили живот. Брэд удовлетворил его просьбу и был вознагражден еще более громким мурлыканьем. — Аппетит у него не пропадал? — Нет, — ответила Грейс. — Ест он хорошо. — Его не тошнило? — Нет. — Не слабило? — Нет. Ничего подобного не наблюдалось. Просто он… как-то изменился. Он совсем не такой, как был. Все наблюдаемые мною симптомы указывают на изменение характера, а не на какой-то физический недуг: то, что он разодрал подушку, наделал на кресло, вдруг стал везде лазить… И к тому же в последнее время стал каким-то вороватым — все время крадется, прячется от меня, следит за мной, считая, что я его не вижу. — Все коты несколько вороваты, — хмурясь, заметил Брэд. — Такова их природа. — Ари этим не отличался, — возразила Грейс. — Последние два дня он совсем не похож на себя: перестал быть дружелюбным, ни разу не приласкался, не хотел, чтобы его погладили. Продолжая хмуриться, Брэд, подняв глаза, посмотрел на Грейс: — Но посмотрите же на него. Ари по-прежнему лежал на спине, и, пока ему гладили живот, он просто наслаждался всем направленным на него вниманием. Он болтал своим хвостом по металлическому столу и, подняв лапку, играл с огромной ручищей доктора. — Я знаю, о чем вы думаете, — со вздохом сказала Грейс. — Я старая женщина. А у старух часто возникают бредовые идеи. — Нет-нет-нет. Ничего подобного я и не думал. — Старухи очень сильно привязываются к своим питомцам, потому что порой они оказываются их единственными друзьями. — Я прекрасно понимаю, что это к вам не относится, Грейс. Уж у вас-то в этом городе полно друзей. Я просто… Улыбнувшись, она похлопала его по щеке. — Не надо так бурно возражать, Брэд. Я отлично понимаю, что вы думаете. Старухи так боятся потерять своих питомцев, что подчас замечают признаки болезни там, где ими и не пахнет. И у вас есть основания так реагировать. Меня это не обижает. Однако я отчаиваюсь из-за того, что чувствую: с Ари что-то не то. Брэд вновь посмотрел на кота, продолжая гладить ему живот, и спросил: — Не было никаких изменений в питании? — Нет. Я даю ему ту же пищу, в то же время и в тех же количествах. — А компания никак не меняла свою продукцию? — Что вы имеете в виду? — Ну, например, на упаковке не написано «новинка», «улучшенное качество», или «ароматизированное», или что-то еще в этом роде? На секунду задумавшись, она затем покачала головой: — По-моему, нет. — Иногда они меняют состав, добавляют или новый консервант, или какую-нибудь добавку для запаха или цвета, чем вызывают у некоторых животных аллергическую реакцию. — Но ведь это вызвало бы физическую реакцию? Я же говорю, что у него явно наблюдаются изменения характера. Брэд кивнул: — Вам наверняка известно, что пищевые добавки могут являться причиной изменений в поведении у некоторых детей. Многие дети, отличающиеся повышенной возбудимостью, становятся гораздо спокойнее, когда их пища более диетическая. На животных это тоже может отражаться. Судя по вашим рассказам, Аристофан периодически кажется весьма возбужденным, и это может являться результатом незначительных изменений в пище. Покормите его чем-нибудь другим, подождите с недельку, пока его организм очистится от, возможно, раздражавших его добавок, и не исключено, что все войдет в норму. — А если нет? — Тогда привозите его сюда, оставьте на пару деньков и я устрою ему настоящий осмотр. Но в первую очередь я настоятельно рекомендую вам изменить питание, прежде чем начинать тратить деньги на все эти процедуры. «Он просто подыгрывает мне, — подумала Грейс. — Просто подтрунивает над старушкой». — Ну что ж, — сказала она, — хорошо, я изменю ему питание. Но, если он и через неделю будет сам не свой, я хочу, чтобы вы его тщательно осмотрели и взяли анализы. — Разумеется. — Мне нужно знать, что с ним. Лежа на металлическом столе, Аристофан мурлыкал радостно повиливал хвостом и выглядел возмутительно нормальным.* * *
Придя домой, Грейс едва успела открыть крышку корзинки, как Аристофан со свирепым шипением вырвался из своего заточения; шерсть стояла дыбом, уши прижаты к голове, глаза безумные. Он когтями вцепился ей в руку и взвизгнул, когда она отбросила его от себя. Бросившись по коридору, он исчез на кухне, где через свою маленькую дверку мог выскользнуть на задний двор. Ошеломленная Грейс уставилась на свою руку. Когти Ари оставили на ее ладони три глубокие царапины. Выступившая кровь потекла по запястью.* * *
Последний пациент Кэрол в пятницу должен был прийти в час: ее ждал пятидесятиминутный сеанс с Кэти Ломбино, пятнадцатилетней девочкой, страдавшей от отсутствия аппетита на нервной почве. Пять месяцев назад, когда ее впервые привели к Кэрол, Кэти весила всего семьдесят пять фунтов, то есть по крайней мере на тридцать фунтов меньше нормального для нее веса. Она была на грани голодной смерти; не только вид, но и мысль о еде вызывала у нее отвращение; она упрямо отказывалась от любой пищи, за исключением сухого печенья или кусочка хлеба, частенько давясь даже этими крохами. Когда ее поставили перед зеркалом и обратили внимание на то удручающее зрелище, которое представляло собой ее изможденное тело, она продолжала казнить себя за полноту, не поддаваясь убеждениям в том, что она в самом деле была страшно худой. Надежд на ее спасение не оставалось почти никаких. Теперь она весила девяносто фунтов, поправившись на целых пятнадцать; она еще здорово не дотягивала до положенного ей веса, но по крайней мере ей уже не грозила голодная смерть. Отсутствие уверенности в себе и чувства самоуважения почти неизменно являлось причиной потери аппетита, а Кэти уже перестала испытывать ненависть к себе — верный знак того, что она была на пути к выздоровлению. Нормальный аппетит еще не вернулся, порой она еще чувствовала слабое отвращение к еде, однако ее отношение заметно изменилось к лучшему: она осознала потребность питаться, хотя и не имела желания насытиться. До полного выздоровления было еще далеко, но самое страшное уже осталось позади; со временем она вновь станет получать удовольствие от еды и начнет набирать вес гораздо быстрее, чем сейчас, пока не дойдет до ста пяти — ста десяти фунтов. Кэрол радовалась успехам Кэти, и сегодняшний сеанс лишь подтвердил, что радость была вполне оправданной. Как обычно, они с девушкой обнялись после сеанса, и объятия Кэти показались ей более крепкими и продолжительными, чем прежде. Уходя из офиса, девушка улыбалась. Через несколько минут, в два часа, Кэрол отправилась в больницу. В вестибюле в магазинчике сувениров она купила колоду игральных карт и шашечную доску с миниатюрными шашками, сложенными в виниловый футлярчик. Наверху, в комнате триста шестнадцать, работал телевизор, а Джейн читала журнал. Когда вошла Кэрол, она подняла глаза и воскликнула: — Вы действительно пришли! — Я же говорила, что приду, разве нет? — Что это вы принесли? — Карты, шашки. Я решила, что они тебя как-то развлекут. — Вы же обещали больше ничего мне не покупать. — Разве я сказала, что я их тебе подарю? Ни за что. Не тут-то было. Я принесла их тебе на время. И, надеюсь, потом ты мне их вернешь. И я хочу, чтобы ты вернула их мне в том же хорошем состоянии, в котором они сейчас, а то я подам на тебя в Верховный суд и потребую возмещения убытков. Джейн улыбнулась. — Сурово. — Я на завтрак грызу гвозди. — Между зубов не застревает? — А я их выдергиваю клещами. — А как насчет колючей проволоки? — На завтрак — никогда. Это уже на обед, довольно часто. Они обе расхохотались, и Кэрол спросила: — Так ты умеешь играть в шашки? — Не знаю. Я не помню. — А в карты? Девушка пожала плечами. — Ничего пока не вспомнилось? — спросила Кэрол. — Ничего. — Не беспокойся, все вспомнится. — Родители мои тоже не появлялись. — Прошел только один день с тех пор, как ты потерялась. Они же не могут сразу отыскать тебя. Не стоит пока тревожиться насчет этого. Они сыграли три партии в шашки. Джейн вспомнила все правила, но вспомнить, где и с кем она играла прежде, ей так и не удалось. День прошел незаметно, и Кэрол радовалась каждой его минуте. Джейн была очаровательна, сообразительна и отличалась великолепным чувством юмора. Во что бы они ни играли — в карты или в шашки, — она старалась победить, но в то же время вовсе не дулась, когда проигрывала. С ней было очень хорошо. Глядя на обаяние и внешнюю привлекательность девушки, казалось просто невероятным, что о ней никто не поинтересуется или никто не придет за ней. Некоторые подростки настолько эгоистичны, упрямы и дерзки, что, когда они убегают из дому, у родителей это вызывает лишь вздох облегчения. Но когда пропадают такие прелестные дети, как Джейн Доу, о них начинает тревожиться множество людей. «Не может быть, чтобы она не имела любящей ее семьи, — думала Кэрол. — Они, наверное, сходят сейчас с ума. Рано или поздно они объявятся и будут плакать и смеяться от счастья, что их девочка нашлась целой и невредимой. Но почему же они до сих пор не нашлись? Где же они?»* * *
Звонок в дверь раздался ровно в три тридцать. Открыв дверь, Пол увидел невероятно бледного, сероглазого мужчину лет пятидесяти. На нем были широкие серые брюки, бледно-серая рубашка и темно-серый свитер. — Мистер Трейси? — Да. Вы из инспекции по безопасности жилья? — Совершенно верно, — ответил «серый» человек. — Меня зовут Билл Элсгуд. Я и есть та самая инспекция. Я основал свою компанию два года назад. Они пожали друг другу руки, и Элсгуд зашел в фойе, с интересом оглядываясь по сторонам. — Хорошо здесь. Вам повезло, что мне удалось прийти в тот же день. Обычно у меня заявок на три дня вперед. Но, когда вы сегодня утром позвонили и сказали, что вам нужно срочно, у меня как раз была отмена вызова. — Так вы инспектор по строительству? — поинтересовался Пол, закрывая дверь. — Точнее, я инженер-строитель. Наша компания в основном осматривает дома перед продажей, как правило, за счет покупателя. Мы рассказываем ему обо всех возможных неприятностях, с которыми он может столкнуться, — худая крыша, текущие трубы в подвале, осыпающийся фундамент, плохая электропроводка, сантехника и тому подобное. Мы даем гарантийные обязательства, и в случае, если мы что-то упустим, клиент имеет полное право требовать с нас компенсацию. Вы — покупатель или продавец? — Ни тот, ни другой, — ответил Пол. — Этот дом принадлежит нам с женой, и мы пока не собираемся его продавать. Но у нас здесь с ним возникла кое-какая проблема, и мы никак не можем понять ее причины. Я решил, что вы сможете мне помочь. Элсгуд приподнял свою седую бровь. — С вашего позволения, я бы посоветовал вам обратиться к хорошему мастеру. Это обошлось бы вам значительно дешевле, и он бы смог сразу устранить проблему. Мы же, как вам известно, ремонтом не занимаемся. В наши обязанности входит только осмотр. — Да, это мне известно. Ремонт я прекрасно могу сделать и сам, но я не знаю, в чем проблема и как ее устранить. Я решил, что мне нужен совет специалиста, который ни один мастер мне бы не дал. — Вам также известно, что за осмотр мы берем двести пятьдесят долларов? — Да, — ответил Пол. — Однако упомянутая проблема нас очень угнетает и к тому же может причинить серьезный ущерб конструкции дома. — В чем же дело? Пол рассказал ему о стуке, от которого временами содрогается весь дом. — Весьма странно, — заметил Элсгуд. — Ничего подобного я еще не слышал. — Немного подумав, он спросил: — Где у вас печка? — В подвале. — Возможно, что-нибудь с теплопроводом. Хотя маловероятно. Но мы можем начать оттуда и постепенно долезть до самой крыши, пока не выясним, в чем дело. В течение следующих двух часов Элсгуд заглядывал в каждую щель, простукивая и осматривая дюйм за дюймом в доме, затем на крыше, и Пол следовал за ним повсюду, по возможности помогая ему. Когда они были на крыше, пошел мелкий дождь, и, спустившись вниз после осмотра, они промокли до нитки. Спрыгивая с нижней перекладины лестницы на мокрую от дождя траву, Элсгуд сильно подвернул левую ногу. Весь этот риск с неудобством был впустую, потому что Элсгуд не обнаружил ничего подозрительного. В половине шестого, сидя на кухне, они согревались кофе, и Элсгуд писал свой отчет. Мокрый и забрызганный грязью, он выглядел просто мертвенно-бледным. От дождя его серая одежда — со множеством оттенков — превратилась в однообразно унылую, похожую на серую робу-униформу. — У вас крепкий дом, мистер Трейси. Он в великолепном состоянии. — Так что же это, черт возьми, был за звук? И почему от него трясся весь дом? — Если бы я его слышал. — Я был уверен, что он раздастся хоть раз, пока вы здесь. Элсгуд потягивал кофе, но теплый напиток не прибавлял цвета его щекам. — Конструкция дома не вызывает никаких сомнений. Именно это я напишу в своем отчете, и в этом я готов поклясться своей репутацией. — Отчего мне ничуть не легче, — заметил Пол, взяв кофейную чашечку обеими руками. — Мне жаль, что вы безрезультатно потратили столько денег, — сказал Элсгуд. — Мне действительно очень неловко из-за этого. — Здесь нет вашей вины. Я убежден, что вы тщательно выполнили свою работу. Если я когда-нибудь соберусь покупать другой дом, я, несомненно, предпочту, чтобы вы его предварительно осмотрели. По крайней мере теперь я знаю, что дело не в конструкции; это исключает некоторые предположения и сужает сферу поиска. — Не исключено, что больше вы его и не услышите. Он мог прекратиться так же неожиданно, как и начался. — У меня есть подозрения, что тут вы ошибаетесь, — ответил Пол. Позже, уже в дверях, Элсгуд сказал: — У меня есть еще одна мысль, но я не решаюсь ее высказывать. — Почему? — Вам она может показаться бредовой. — Мне уже не до шуток, мистер Элсгуд. Я твердо намерен выяснить все, каким бы невероятным это ни казалось. Подняв глаза к потолку, Элсгуд затем опустил взгляд, потом обвел глазами холл позади Пола и вновь уставился себе под ноги. — Привидение, — тихо произнес он. Пол посмотрел на него в полном недоумении. Нервно откашлявшись, Элсгуд вновь опустил глаза, затем наконец поднял и встретился взглядом с Полом. — Возможно, вы в это не верите. — А вы? — поинтересовался Пол. — Верю. Меня это интересовало почти всю жизнь. Я прочел и собрал много литературы о разного рода спиритизме. И кроме того, мне довелось побывать в домах с призраками. — Вы видели привидение? — Кажется, да, четыре раза. Эктоплазменные видения. Полупрозрачные человеческие силуэты, проплывающие в воздухе. И еще мне дважды доводилось быть свидетелем полтергейста. Что же касается этого дома… — Замолчав, он нервно облизал губы. — Если вы считаете это нелепым и бессмысленным, я не хочу отнимать у вас время. — Если честно, — сказал Пол, — то я с трудом представляю себе, как буду вызывать заклинателя злых духов, чтобы он разобрался со всем этим. Однако я не стал бы категорично отрицать все, что касается призраков. Мне трудно в это поверить, но я, разумеется, готов выслушать. — Разумно, — заметил Элсгуд. Впервые с тех пор, как два часа назад он позвонил в дверь, его бледная кожа слегка зарумянилась и бесцветные глаза оживились. — Ну что ж, судите сами. Исходя из того, что вы мне рассказали, не исключено, что здесь не обошлось без полтергейста. Конечно, никто невидимый ничего не швырял и ничего не ломал, хотя призраки просто обожают все крушить. Но тряска дома, стук кухонной утвари и звон склянок на полочке — все это намекает на начинающийся полтергейст. Если это так и есть, можете ждать худшего. Да-да. Несомненно. Мебель начнет двигаться сама по себе. Со стен будут падать картины, будут разбиваться лампы. Тарелки птицами залетают по комнатам. — От возбуждения на его бледной коже появился румянец, он продолжал описывать возможный ущерб, который могут причинить сверхъестественные силы: — От пола начнут отрываться тяжелые предметы типа диванов, кроватей и холодильников. Должен вам заметить, что случаются и, так сказать, доброкачественные полтергейсты, которые не вызывают большой разрухи, но большинство все-таки злокачественные, и именно с таким вам придется иметь дело, если, конечно, все обстоит именно так. — Явно увлекаясь темой, он закончил монолог почти скороговоркой: — Даже доброкачественный полтергейст в наиболее активной форме способен напрочь выбить из колеи, лишить сна и настолько измотать, что у вас могут появиться сомнения в своем здравом уме. Удивленный страстной речью Элсгуда и странным блеском в его глазах, Пол произнес: — Ну… э-э… пока-то все не так уж плохо. Нет ничего такого, о чем вы говорите. Просто стук и… — Вот именно… пока, — зловеще сказал Элсгуд. — Если вы имеете дело с полтергейстом, ситуация может быстро ухудшиться. Если вам еще не доводилось это видеть, мистер Трейси, вы просто не представляете себе, что это такое. Столь неожиданная перемена в этом человеке привела Пола в совершенное замешательство. Он чувствовал себя так, словно, открыв дверь добропорядочному человеку, напоролся на религиозного фанатика с его бреднями, который обещал неминуемый Страшный суд. В Элсгуде чувствовался какой-то нездоровый пыл. — Если это окажется полтергейстом, — продолжал Элсгуд, — если ситуация ухудшится, сообщите мне, пожалуйста. Как я уже говорил, мне довелось видеть полтергейст дважды. Мне бы очень хотелось в третий раз посмотреть на его проделки. Не часто выдается такая возможность. — Пожалуй, — заметил Пол. — Так вы скажете мне? — Я весьма сомневаюсь, что здесь речь идет о полтергейсте, мистер Элсгуд. Если у меня хватит терпения и времени как следует с этим разобраться, я смогу найти логичное объяснение всему происходящему. Но если вдруг здесь окажется злой дух, будьте покойны: как только первый холодильник или шкаф оторвется от пола, я тут же сообщу вам. Элсгуд не видел в их беседе ничего смешного. Несерьезный тон Пола заставил его нахмуриться, и он сказал: — Я так и знал, что вы мне не поверите. — Прошу вас, не думайте, что я не испытываю благодарности за то, что вы… — Нет-нет, — ответил Элсгуд, показывая жестом Полу, чтобы тот замолчал. — Никаких обид. — Интерес в его глазах потух. — Вас приучили верить лишь научно доказанным открытиям. Вас приучили верить лишь в то, что можно увидеть, потрогать и померить. Это в духе времени. — Он поник плечами. Его румянец пропал, и кожа вновь стала бледной, сероватой и дряблой, как и несколько минут назад. — Просить вас поверить в привидения так же бессмысленно, как доказывать обитателю морских глубин существование птиц. Грустно, но никуда не денешься, и мне не стоит по этому поводу убиваться. — Он открыл входную дверь, и шум дождя стал слышнее. — Как бы там ни было, я от всей души желаю вам, чтобы это оказался не полтергейст. Надеюсь, вам удастся найти то логическое объяснение, о котором вы говорили. Я очень надеюсь, мистер Трейси. Прежде чем Пол успел ответить, Элсгуд повернулся и исчез за завесой дождя. Он уже не был похож на фанатика; от его пыла не осталось и следа. Это был просто худой, серый человек, шагнувший в серую пелену, слегка втянув голову, как бы пряча ее от серого дождя в сером свете ненастья; он и сам был похож на призрак. Закрыв дверь. Пол прислонился к ней спиной, обвел глазами холл и через арку посмотрел в гостиную. Полтергейст? Черт возьми, это же невероятно. Ему больше пришлось по душе другое предположение Элсгуда: стук может просто прекратиться так же неожиданно и необъяснимо, как и начался, без видимой причины. Он взглянул на часы. Шесть минут седьмого. Кэрол говорила, что пробудет в больнице до восьми часов и ужинать они будут поздно. Значит, у него есть еще около часа времени, чтобы поработать над романом, прежде чем он приступит к готовке ужина — пожарит куриные грудки, натушит овощей с рисом и зеленым перцем. Пол поднялся к себе в кабинет и сел за машинку. Взяв в руки последнюю напечатанную им страницу, он хотел было перечитать ее несколько раз, чтобы вновь проникнуться духом и настроением своего повествования. ТУК! ТУК! Дом вздрогнул. Задребезжали стекла. Пол подскочил на стуле. ТУК! Стоявший на его письменном столе стакан со множеством ручек и карандашей упал и разлетелся на несколько кусков; его содержимое раскатилось по полу. Тишина. Пол подождал. Минуту. Другую. Ничего. Только стук дождя по стеклам окон и крыше. На этот раз ударов было только три. Сильнее всех предыдущих. Но лишь три. Будто кто-то насмехался над ним, дразнил его.* * *
Незадолго до полуночи девушка в комнате триста шестнадцать тихо рассмеялась во сне. За окном больницы, озаряя ночь, сверкала молния и темнота, подобно огромному хищнику, словно делала прыжок. Не просыпаясь, девушка перевернулась на живот. — Топор, — пробормотала она в подушку и, томно вздохнув, повторила: — Топор…* * *
В полночь, через сорок минут после того, как она уснула, Кэрол подскочила в постели, безудержно дрожа. Стремясь прийти в себя от кошмара, она услышала чей-то голос: — Уже близко! Близко! Ничего не понимая и ничего не различая в темноте, она не сразу сообразила, что это был ее собственный искаженный от паники голос. Неожиданно темнота стала совершенно невыносимой. Она начала судорожно искать выключатель настольного ночника и, найдя его, облегченно вздохнула. Свет не разбудил Пола. Что-то пробормотав во сне, он продолжал спать. Облокотившись о спинку кровати, Кэрол слушала, как постепенно успокаивалось ее отчаянно колотившееся сердце. Ее пальцы были ледяными. Сунув руки под одеяло, она сжала их в кулаки, чтобы побыстрее согреть. «С кошмарами надо кончать, — сказала она себе. — Я не выдержу, если они будут повторяться каждую ночь. Мне нужен нормальный сон». Возможно, пришло время взять отпуск. Слишком долго она напряженно работала. Не исключено, что причиной кошмаров являлась ее накопившаяся усталость. На нее еще наложились недавние стрессы: хлопоты по поводу усыновления ребенка, чуть не разыгравшаяся трагедия в офисе О'Брайена в среду, вчерашняя авария, амнезия девочки, из-за которой она чувствовала себя виноватой… Подобное напряжение вполне способно было вызвать такие кошмары, от которых она страдала. Вдобавок ко всем этим стрессовым моментам приближался еще и тот самый день — день рождения ребенка, которого она отдала в приют. Через неделю, если не считать завтрашнего дня, через субботу, исполнится шестнадцать лет с тех пор, как она его бросила. Оставалось еще восемь дней, но Кэрол уже начинала тяготиться мыслями о своей вине. К следующей субботе она скорее всего вновь будет пребывать в обычной для себя глубокой депрессии. Неделя в горах, вдалеке от всех проблем, включая и эту душевную боль, могла бы оказаться великолепным лекарством. В прошлом году они с Полом купили маленький домик на акре лесистой местности в горах. Местечко было необычайно уютным — две спальни, ванная, гостиная с большим камином и кухня — уединенный уголок в сочетании со всеми удобствами цивилизации, чистым воздухом, живописными окрестностями и недосягаемым в городских условиях спокойствием. Летом они намеревались проводить там, по крайней мере, два уик-энда в месяц, но за последние четыре месяца побывали там всего лишь трижды — более чем в два раза реже, чем планировали. Пол упорно старался выполнять намеченные им же самим сроки работы над своим романом, а у нее выросло количество пациентов — прибавились двое серьезно больных детей, которым она просто не могла отказать в лечении, — и работа стала отнимать у них все свободное время. Возможно, Альфред О'Брайен и был прав, когда говорил о том, что они несколько «переусердствовали». «Но все будет иначе, когда мы обзаведемся ребенком, — говорила себе Кэрол. — Мы будем выделять массу времени для досуга, потому что создание для ребенка наиболее благоприятных условий и является главной целью нашей работы». И вот теперь, сидя в кровати и стараясь выбросить из головы мрачные остатки кошмарного сна, она решила не откладывая начать менять свою жизнь. Они прервут работу на несколько дней, может быть, на неделю, и поедут в горы до заседания рекомендательной комиссии, которое должно состояться в конце месяца, чтобы ко времени встречи со своим ребенком быть отдохнувшими и собранными. На будущей неделе это, конечно, не выйдет. Ей понадобится время, чтобы изменить расписание приема пациентов. К тому же ей бы не хотелось уезжать из города, пока не объявились родители Джейн Доу и с девочкой все как-то не определилось, что, возможно, тожепроизойдет через несколько дней. Но они просто обязаны выкроить время через неделю, и она решила прямо с утра начать настраивать на это Пола. От такого решения ей стало лучше. Перспектива пусть даже короткого отпуска сняла с нее большую долю напряжения. Взглянув на Пола, она произнесла: — Я люблю тебя. Он продолжал тихо посапывать. Улыбнувшись, Кэрол выключила свет и вновь залезла под одеяло. Пару минут она еще слушала шум дождя и ритмичное дыхание мужа, а затем погрузилась в крепкий безмятежный сон. Завершая безрадостную и бессолнечную неделю, дождь шел всю субботу. Дул резкий ветер, и день был весьма прохладным. В больницу к Джейн Кэрол пришла после полудня. Они играли в карты и беседовали о некоторых статьях, прочитанных девочкой в журналах. Во время каждого разговора, независимо от темы, Кэрол пыталась определить, стараясь не вызвать у девушки подозрений, насколько еще глубока была ее амнезия; она пробовала ее память, не давая ей понять, что делает это специально. Однако все оказалось безрезультатным, и прошлое Джейн оставалось для нее тайной. Когда по окончании дневного времени для посещений Кэрол уже направлялась к лифтам на третьем этаже, она встретила в коридоре доктора Сэма Хэннапорта. — Неужели полиции так ничего еще не удалось выяснить? — спросила она. Он пожал плечами. — Пока нет. — После несчастного случая прошло уже два дня. — То есть не так уж и много. — Этому бедному ребенку они кажутся вечностью, — заметила Кэрол, показывая рукой на палату номер триста шестнадцать. — Я знаю, — ответил Хэннапорт. — И мне от этого не легче вашего. Но еще слишком рано отчаиваться и испытывать пессимизм по этому поводу. — Если бы у меня была такая дочь и если бы она вдруг пропала хоть на один день, я бы не слезла с полиции и позаботилась о том, чтобы о ней написали во всех газетах; я бы трезвонила об этом по всему городу, надоедая всем и вся. Хэннапорт кивнул. — Не сомневаюсь. Я видел вас в действии и восхищаюсь вашей настойчивостью. Кстати, мне кажется, что ваши приходы к девочке в большой степени способствуют ее хорошему настроению. Очень хорошо, что вы проводите с ней столько времени. — Я вовсе не считаю это какой-то сверхъестественной благотворительностью, — сказала Кэрол. — Я делаю лишь то, что, как мне кажется, и должна делать. Я в какой-то мере в ответе за нее. Мимо, толкая каталку с пациентом, прошла санитарка. Кэрол и Хэннапорт отошли с дороги. — Слава Богу, что Джейн хоть здорова физически, — заметила Кэрол. — Я же говорил вам в среду: нет никаких серьезных травм. Кстати, именно потому, что она физически здорова, у нас и возникает проблема — ей незачем лежать в больнице. Я очень надеюсь, что ее родители появятся до того, как я буду вынужден выписать ее. — Выписать? Но как же так, если ей некуда идти? Куда же она денется? Боже милостивый, она ведь даже и не знает, кто она! — Разумеется, я постараюсь продержать ее здесь столько, сколько смогу. Однако не сегодня-завтра у нас не останется свободных мест. Тогда, если количество поступающих тяжелобольных превысит количество запланированных к выписке пациентов, нам придется смотреть, кого еще можно выписать без риска осложнений. В это число пациентов может попасть и Джейн. Если к нам поступит кто-нибудь с пробитой в дорожной аварии головой или «скорая помощь» привезет женщину, которую ревнивый любовник полоснул ножом, я не смогу не принять людей с серьезными травмами из-за того, что здесь лежит совершенно здоровая девушка с синяком на левом плече. — Но ведь у нее амнезия… — Так или иначе это не наш случай. — Но ей же некуда пойти, — продолжала протестовать Кэрол. — Что же с ней будет? Своим тихим, ровным и успокаивающим голосом Хэннапорт ответил: — С ней все будет в порядке. Мы же не собираемся просто взять и выбросить ее. Мы подадим заявление в суд, чтобы он взял над ней опеку как над несовершеннолетней, пока не объявятся ее родители. А она тем временем будет находиться в одном из заведений в таких же условиях, как и здесь, в больнице. — О каком это заведении вы говорите? — Оно находится всего в трех кварталах отсюда; там содержатся убежавшие из дома и беременные девочки; там гораздо чище и пристойнее, чем в других государственных заведениях подобного рода. — «Полмар хоум», — сказала Кэрол. — Я знаю, что это такое. — Тогда вам должно быть хорошо известно, что это не притон и не помойка. — И тем не менее мне бы не хотелось, чтобы она уходила отсюда, — возразила Кэрол. — Она будет чувствовать, будто от нее попытались избавиться, решили забыть про нее, отмахнуться. Она и так ощущает себя крайне неуверенно. А это ее вообще до смерти напугает. Нахмурившись, Хэннапорт сказал: — Мне и самому все это не нравится, но у меня, откровенно говоря, нет другого выбора. Если у нас не будет хватать мест, то по закону мы обязаны учитывать, кто из пациентов может оказаться в большей опасности, если ему будет отказано в помощи или она будет оказана ему несвоевременно. Я связан по рукам и ногам. — Понимаю. Я не виню вас. Почему же никто из ее родных не объявился до сих пор? — Кто-нибудь может объявиться в любой момент. Кэрол покачала головой. — Нет. У меня какое-то предчувствие, что здесь не все так просто. Вы еще ничего не рассказывали Джейн? — Нет. В суд мы все равно не обратимся раньше, чем в понедельник утром, так что до завтра я могу ей ничего не объяснять. А вдруг в этот отрезок времени произойдет нечто такое, что в этом отпадет необходимость. Не стоит волновать ее до последнего момента. Кэрол с тоской вспомнила о том времени, что она сама провела в подобном заведении, пока к ней на помощь не пришла Грейс. Она была бойкой и отчаянной уличной девчонкой, но тем не менее и ей пришлось не сладко. Джейн же, несмотря на свою сообразительность, находчивость, стойкость и обаяние, вовсе не была таким тертым калачом, как Кэрол в ее возрасте. Как повлияет на нее эта жизнь, если ей придется провести там не день или не два? Если ее просто поместят среди этих уличных хулиганок, увлекающихся наркотиками и имеющих бихевиориальные отклонения, она просто станет их жертвой, возможно, самым жестоким образом. Ей нужен настоящий дом, любовь, забота… — Ну конечно! — воскликнула Кэрол. На ее лице появилась улыбка. Хэннапорт вопросительно посмотрел на нее. — А почему бы ей не пойти со мной? — спросила Кэрол. — Что? — Послушайте, доктор Хэннапорт, если Пол — мой муж — не будет возражать, почему бы вам не порекомендовать суду, чтобы мне доверили временную опеку над Джейн, пока не объявится кто-то из ее родных? — Подумайте как следует на этот счет, — сказал Хэннапорт. — Если вы ее возьмете к себе, это сильно изменит вашу жизнь… — Не думаю, что это так ужасно, — возразила Кэрол. — Напротив, будет просто великолепно. Она такая очаровательная девочка. Хэннапорт долго смотрел на нее, словно разглядывая ее лицо и пытаясь найти ответ в ее глазах. — В конце концов, — как можно убедительнее продолжила Кэрол, — единственный врач, который может помочь ей избавиться от амнезии, — психиатр, кем, позвольте вам напомнить, я и являюсь. Я не только смогу окружить ее домашней заботой, но и буду интенсивно лечить. Наконец Хэннапорт улыбнулся. — На мой взгляд, это необычайно великодушно с вашей стороны, доктор Трейси. — Так вы походатайствуете за меня перед судом? — Да. Правда, никогда нельзя с уверенностью сказать, какое решение примет судья. Однако в данном случае, по-моему, трудно не заметить, что это в интересах девочки. Несколько минут спустя Кэрол из телефона-автомата в вестибюле больницы звонила Полу. Она пересказала ему свой разговор с доктором Хэннапортом, но, прежде чем она успела задать ему главный вопрос, Пол неожиданно спросил ее: — Ты хочешь приютить Джейн? — Как ты догадался? — воскликнула удивленная Кэрол. Он рассмеялся. — Уж я-то знаю тебя, радость моя. Когда разговор заходит о детях, твое сердце размягчается до консистенции ванильного пудинга. — Она не будет тебе мешать, — тут же сказала Кэрол. — Она не будет отвлекать тебя от романа. А теперь, поскольку О'Брайен не сможет представить наше заявление раньше конца месяца, двух детей у нас на руках не окажется. В конце концов, может быть, эта задержка с заявлением не случайна — мы позаботимся о Джейн, пока не объявятся ее родственники. Это же только временно, Пол. В самом деле. И мы… — Ладно, ладно, — ответил он. — Не надо меня упрашивать. Я совсем не возражаю. — Если ты хочешь приехать сюда, чтобы сначала познакомиться с Джейн, то… — Нет-нет. Уверен, что она полностью соответствует твоему описанию. Однако не забудь, что ты собиралась где-то через недельку съездить в горы. — Может быть, она у нас столько и не пробудет. А если и пробудет, то мы, наверное, сможем взять ее с собой, известив об этом суд. — Когда нам надо быть в суде? — Не знаю. Возможно, в понедельник или во вторник. — Я постараюсь вести себя наилучшим образом, — сказал Пол. — Тебе за ушком почесать? — Ну что ж. И еще я надену ботинки. — Не задирай перед судьей носа, — уже улыбаясь, сказала Кэрол. — Если он своего не задерет. — Целую тебя, доктор Трейси, — сказала она. — И я тебя, доктор Трейси. Когда Кэрол повесила трубку и отошла от телефона-автомата, она чувствовала себя превосходно. Ей даже не действовала на нервы бездарно выкрашенная комната для посетителей.* * *
В ту ночь в доме Трейси не было ни стука, ни признаков полтергейста, которым пугал Пола мистер Элсгуд. Ничего не произошло и на следующий день, и через день. Странный стук и вибрация прекратились так же необъяснимо, как и начались. Кэрол перестали мучить ночные кошмары. Она спала крепко и безмятежно. Она вскоре забыла о поблескивавшем серебристом лезвии топора, раскачивавшемся взад-вперед в непонятной пустоте. Улучшилась и погода. В воскресенье рассеялись тучи. Понедельник был по-летнему ясным. Во вторник днем, когда Пол с Кэрол были в суде, добиваясь разрешения на временную опеку над Джейн Доу, Грейс Митовски убиралась на кухне. Она как раз закончила протирать верх холодильника, когда раздался телефонный звонок. — Алло? Ей никто не ответил. — Алло? — повторила она. Едва слышный мужской голос, почти шепот, проговорил: — Грейс… — Да? Слова, доносившиеся из трубки, были невнятны словно звонивший говорил в консервную банку. — Я не понимаю вас, — сказала она. — Вы можете говорить громче? Казалось, он пытался, но слова оставались едва различимыми. Голос будто бы долетал откуда-то издалека, из какой-то невероятной бездны. — Слышно отвратительно, — повторила она. — Говорите громче. — Грейс, — его голос прозвучал чуть громче. — Грейси… как бы не было слишком поздно. Ты должна… спешить. Останови… не дай этому повториться. — Голос был сухой и ломкий, он то и дело трещал, как сухие осенние листья под ногами. — Уже может быть… слишком… слишком поздно… Она узнала этот голос и застыла в оцепенении. Ее рука судорожно сжимала трубку, стало трудно дышать. — Грейси… это не может продолжаться бесконечно. Ты должна… положить этому конец. Защити ее, Грейси. Защити ее… Голос стих. В трубке была тишина. Но не такая тишина, которая обычно наступает по окончании разговора. Не было слышно ни шороха, ни треска. Никаких электронных гудков. Тишина была абсолютной, ее не нарушал ни малейший щелчок, ни малейший писк телефонной электроники. Всепоглощающая тишина. Бесконечная. Грейс положила трубку. Ее охватила дрожь. Она подошла к серванту и достала оттуда бутылку шотландского виски, которая всегда стояла у нее там для гостей. Налив себе двойную порцию, она села за кухонный стол. Но виски не согрело ее. Ее по-прежнему колотил озноб. Голос, который она узнала по телефону, принадлежал Леонарду. Ее мужу. Он умер восемнадцать лет назад.Часть II. ЗЛО ХОДИТ РЯДОМ С НАМИ…
Зло не безликий незнакомец, живущий где-то вдалеке. У Зла вполне пристойное, приветливое лицо с веселыми глазами и простодушной улыбкой. Зло ходит рядом с нами в маске, ничем не выделяясь среди нас.Книга Печалей
Глава 7
Во вторник, получив разрешение на временную опеку над Джейн Доу, Пол поехал домой работать над своим романом, а Кэрол с девочкой отправились по магазинам. У Джейн не было никакой одежды, за исключением той, в которой она выскочила утром в четверг под колеса «Фольксвагена», и даже на несколько дней ей нужно было много всего. Она чувствовала неловкость из-за того, что Кэрол тратила на нее деньги, и поначалу не признавалась, что ей нравится то или другое. В конце концов Кэрол сказала: — Милая, ведь тебе все это необходимо, так что позволь мне позаботиться о тебе таким образом. Хорошо? Так или иначе, я не думаю, что понесу большие убытки. Скорее всего или твои родители, или одно из соответствующих государственных детских учреждений вернут мне эти деньги. Это подействовало. Они тут же купили две пары джинсов, несколько блузок, белье, спортивные туфли, носки свитер и ветровку. Когда они подъехали к дому, его тюдоровский стиль произвел на Джейн большое впечатление. Она пришла в неописуемый восторг от выделенной ей комнаты для гостей. Там был сводчатый потолок, длинный диван в нише с окном и во всю стену тянулся встроенный шкаф с многочисленными зеркальными дверцами. Насыщенные голубые и бледно-бежевые тона гармонировали с мебелью из вишневого дерева в стиле королевы Анны. — Неужели это только комната для гостей? — удивленно воскликнула Джейн. — И вы постоянно здесь не живете? Ничего себе! Если бы это было у меня дома, я бы только в ней и сидела! Читала бы себе здесь — вот там, в нише, — читала и наслаждалась бы обстановкой. Кэрол всегда нравилась эта комната, но, посмотрев на нее глазами Джейн, она увидела в ней для себя нечто новое, большее. Глядя на то, как девочка все осматривала — открывала раздвижные двери шкафа, смотрела с разных ракурсов в окно, прыгала на широченной кровати, проверяя мягкость матраса, — Кэрол поняла, что благодаря невинной детской непринужденности у родителей появляется ощущение молодости, они становятся менее замкнутыми. В тот вечер Кэрол, Пол и Джейн готовили ужин вместе. Несмотря на свою робость, девочка быстро освоилась. За ужином они много и весело смеялись. После ужина, пока Кэрол и Пол убирали со стола, Джейн взялась мыть посуду. Оказавшись на какую-то минуту в одиночестве в столовой, Пол тихо сказал Кэрол: — Потрясающая девчонка. — А разве я тебе не говорила? — Смешно, однако. — О чем ты? — С тех пор, как я впервые встретил ее сегодня днем возле суда, — ответил Пол, — меня не покидает чувство, что я уже где-то ее видел. — Где? Он покачал головой. — Хоть убей, не могу вспомнить. Но в ее лице есть что-то знакомое.* * *
Весь вторник Грейс ждала очередного телефонного звонка. Ей было страшно подходить к телефону. Чтобы снять с себя нервозность, она пыталась переключиться на уборку дома. Скребла пол на кухне, протерла во всех комнатах пыль, почистила ковры. Но воспоминания о звонке не давали ей покоя: сухой, шелестевший, как бумага, голос, похожий на голос Леонарда; какие-то странные сказанные им вещи; последовавшая затем зловещая тишина; какое-то жуткое ощущение огромного расстояния, невообразимая бездна пространства и времени… Это наверняка чья-то шутка. Но чья? Кому могло понадобиться изводить ее имитацией голоса Леонарда через восемнадцать лет после его смерти? Какой смысл в подобных игрушках сейчас, по прошествии такого времени? Она попыталась отвлечься от своих дурных мыслей при помощи запеченных в тесте яблок. Сочные, с корочкой, приготовленные с добавлением корицы, молока и небольшого количества сахара — в свое время она больше всего любила их на ужин: ведь она родилась и выросла в Ланкастере, в самом сердце Немецкой Пенсильвании, где это блюдо считалось одним из традиционных. Однако во вторник вечером ей не хотелось даже запеченных яблок. Пару раз куснув, она не осилила даже и половины яблока, хотя обычно съедала за ужином два. Грейс продолжала нехотя ковырять еду вилкой, когда раздался звонок. Она вскинула голову и уставилась на телефон, висевший на стене над столиком возле холодильника. Телефон продолжал звонить вновь и вновь. Не в силах унять дрожь, она подошла к телефону и сняла трубку. — Грейси… Голос был едва слышен, но она различила слова. — Грейси… как бы не оказалось слишком поздно. Это был он. Леонард. Или кто-нибудь еще с таким же голосом. Она не могла ему ответить. У нее свело горло. — Грейси… Ей вдруг показалось, что ее ноги сделаны из воска и они начали под ней оплавляться. Она поспешно вытащила из-под стола табуретку и села на нее. — Грейси… не дай этому повториться. Нельзя, чтобы… это продолжалось… бесконечно… кровь… убийство… Закрыв глаза, она пыталась выдавить из себя слова. Ее голос был слабым, дрожащим, она даже не узнала его. Это был голос незнакомки — изможденной, запуганной, жалкой старухи: — Кто это? — Защити ее, Грейси, — послышался в ответ шепчущий вибрирующий голос. — Что вы хотите от меня? — Защити ее. — Зачем вам это надо? — Защити ее. — Кого защитить? — спросила она. — Уиллу. Защити Уиллу. Грейс все еще пребывала в страхе и смятении, однако в ней уже начало подниматься раздражение. — Черт возьми, я не знаю никого по имени Уилла! Кто это? — Леонард. — Нет! Вы что, считаете меня выжившей из ума старой маразматичкой? Леонард умер. Восемнадцать лет назад! Вы — не Леонард. Что за шутки вы затеяли? Она уже хотела повесить трубку, прекрасно зная, что с подобными кретинами именно так и надо поступать, но не могла. Его голос был так похож на голос Леонарда, что, казалось, загипнотизировал ее. Он вновь заговорил, еще тише, чем раньше, но она могла разобрать: — Защити Уиллу. — Я же говорю, я не знаю ее. И если вы будете продолжать надоедать мне с этой чушью, я сообщу в полицию, что какой-то ненормальный… — Кэрол… Кэрол… — Голос слабел с каждым слогом. — Уиллу… ты называешь… Кэрол. — Да что же это за чертовщина такая? — Остерегайся… кота… — Что? Голос теперь был таким далеким, что ей приходилось изо всех сил напрягаться, чтобы услышать. — …кот… — Аристофан? Что с ним? Вы что-нибудь с ним сделали? Вы отравили его? Поэтому он последнее время сам не свой? Молчание. — Вы меня слышите? Тишина. — Что с котом? — вновь спросила она. Ответа не последовало. Прислушиваясь к абсолютной тишине, она начала так дрожать, что едва удерживала в руке трубку. — Кто вы? Зачем вам понадобилось меня так изводить? Зачем вы хотите что-то сделать с Аристофаном? Откуда-то издалека до боли знакомый голос ее давно покойного мужа произнес последние едва слышимые слова: — Жаль… что я не могу… попробовать запеченных яблок.* * *
Джейн забыли купить пижаму. Она легла спать в гольфах, трусиках и в одной из маек Кэрол, которая была ей немного велика. — А что будет завтра? — спросила она, когда улеглась, приподняв голову с мягкой подушки. Кэрол присела на краешек кровати. — Мне кажется, мы можем начать лечебные сеансы, чтобы как-то попробовать вернуть тебе память. — Что это за лечение? — Ты знаешь, что такое гипнотическая регрессия? Джейн вдруг испугалась. После несчастного случая она несколько раз делала осознанные попытки вспомнить, кто она, но каждый раз, подходя, как ей казалось, к тревожной догадке, она ощущала дурноту, панику и полнейшее смятение. Когда она заставляла себя вспоминать еще и еще, приближаясь к правде, срабатывал механизм психологической защиты и ее любопытство мгновенно пресекалось, словно какой-то душитель перекрывал ей доступ воздуха. И каждый раз, находясь на пороге беспамятства, она видела странный серебристый предмет, раскачивающийся взад-вперед в темноте, и от этого непостижимого зрелища кровь стыла у нее в жилах. Она чувствовала, что прошлое таило нечто жуткое, страшное и ей было бы лучше это не вспоминать. Она уже почти пришла для себя к выводу, что не стоит искать того, что потеряно, а надо принять новую жизнь безымянной сиротой, даже если жизнь эта будет полна тягот. Но в результате лечения гипнотической регрессией она волей-неволей может столкнуться с прошлым. От этой перспективы ей стало страшно. — С тобой все в порядке? — спросила Кэрол. Моргнув, девочка облизала губы. — Да. Я просто подумала о том, что вы сказали. О гипнотической регрессии. Это значит, вы введете меня в транс и заставите все вспомнить? — Нет, все не так просто, милая. Нет гарантии, что все получится. Я загипнотизирую тебя и попрошу мысленно вернуться к несчастному случаю, который произошел в четверг утром; потом я попробую помочь тебе перенестись все дальше и дальше в прошлое. Если ты хорошо поддаешься гипнозу, ты можешь вспомнить, кто ты и откуда. Гипнотическая регрессия порой очень помогает, когда мне нужно заставить пациента оживить в памяти какую-то тяжело пережитую им в далеком прошлом травму. Мне не доводилось использовать этот метод на пациентах, страдающих амнезией, но мне известно, что он применим в подобных случаях. Однако желаемого результата добиваются лишь в пятидесяти процентах случаев. Чтобы добиться успеха, нужно больше чем один-два сеанса. Процесс может оказаться нудным и разочаровывающим. Вряд ли у нас завтра что-то получится, и не исключено, что твои родные объявятся раньше, чем я смогу помочь тебе оживить твою память. Но почему бы нам не попробовать? Разумеется, лишь в том случае, если ты не против. Она не хотела, чтобы Кэрол узнала про ее страхи, и поэтому ответила: — Конечно, нет. Похоже, это будет интересно. — У меня на завтра четыре пациента, но я смогу найти для тебя время в одиннадцать часов. Тебе придется довольно долго сидеть в приемной до и после сеанса, так что завтра первым делом мы найдем тебе какую-нибудь книжку, чтобы ты взяла ее с собой. Тебе нравятся детективы? — Наверное. — А как насчет Агаты Кристи? — Что-то знакомое, но я не могу вспомнить, читала ли я ее книги. — Ну вот, завтра и посмотришь. Если ты увлекалась детективами, то, возможно. Агата Кристи и поможет тебе что-нибудь вспомнить. Любой стимул, любая деталь могут приоткрыть тебе дверь в прошлое. — Наклонившись, она поцеловала Джейн в лоб. — А сейчас выкинь все из головы. Тебе нужно хорошенько выспаться, малыш. После того как Кэрол вышла из комнаты и закрыла за собой дверь, Джейн не стала тут же выключать свет. Она несколько раз медленно обвела глазами комнату, останавливая взгляд на всех красивых деталях. «Господи, — думала Джейн, — оставь меня здесь. Позволь мне остаться в этом доме навсегда. Не отправляй меня туда, откуда я пришла, где бы это ни было. Я хочу жить здесь… и умереть. Здесь так хорошо». Протянув руку, она наконец выключила ночник. Ночь, как летучая мышь крыльями, окутала ее темнотой. Найдя подходящий материал и четыре гвоздя, Грейс Митовски решила временно забить изнутри дверцу, через которую Аристофан выходил погулять. Аристофан стоял в центре кухни и, склонив голову набок, с интересом наблюдал за происходящим. Через каждые несколько секунд он мяукал, как казалось, из любопытства. — Ну вот, — сказала Грейс, забив последний гвоздь, — твои прогулки на некоторое время откладываются. Не исключено, что какой-то тип давал тебе яд или еще какую-нибудь дрянь и из-за этого ты так себя и ведешь. А теперь мы посмотрим, исправишься ли ты. А может, ты пристрастился к наркотикам, глупый котик? Аристофан вопросительно мяукнул. — Да-да, — продолжала Грейс. — Я понимаю, что это кажется нелепым. Однако если я не имею дело с ненормальным, тогда по телефону действительно звонил Леонард. А это еще более нелепо, как ты считаешь? Кот вертел головой из стороны в сторону, словно и впрямь силясь понять, о чем она говорит. Замолчав, Грейс протянула к нему руку. — Кис-кис. Иди сюда, кис-кис-кис. Аристофан зашипел, фыркнул и, повернувшись, убежал.* * *
На этот раз они выключили свет. Он чувствовал на шее горячее дыхание Кэрол. Она прижималась к нему; ее тело то раскачивалось, то напрягалось, то извивалось, сливаясь с его; своими легкими и плавными движениями она напоминала теплую струю течения реки. Изящно выгибая спину, она поднималась и опускалась в такт с ним. Она была такой же гибкой, мягкой и всеокутывающей, как темнота. Потом они еще о чем-то разговаривали, постепенно засыпая, держась за руки. Кэрол уснула, в то время как Пол еще продолжал что-то говорить. Когда она не ответила на один из его вопросов, он осторожно высвободил свою руку. Пол чувствовал усталость, но не мог так быстро уснуть, как она. Он все думал о девочке. Он был уверен в том, что видел ее еще до того, как они встретились возле суда этим утром. За обедом ее лицо казалось ему все более и более знакомым. Это не давало ему покоя. Но как Пол ни пытался, он так и не мог вспомнить, где мог ее видеть. Лежа в темной спальне и роясь в своей памяти, он вдруг ощутил, что ему как-то не по себе. Он почему-то почувствовал — по совершенно необъяснимой причине, — что его предыдущая встреча с Джейн была необычной, если не сказать неприятной. Ему в голову неожиданно пришла мысль о том, что девочка может представлять для них с Кэрол какую-то угрозу. «Ну это уж слишком, — подумал Пол. — Чушь какая-то. Видимо, я устал гораздо сильнее, чем мне казалось. И логика мне уже не подвластна. Какую угрозу может представлять Джейн? Она такая милая девочка. Замечательная девочка». Вздохнув, он повернулся и стал думать о своем первом романе (том, что оказался неудачным), и это быстро навеяло на него сон.* * *
В час ночи Грейс Митовски, сидя в кровати, смотрела поздний фильм по своему портативному «Сони». Она видела, что главные герои вели на экране какой-то остроумный диалог, но не слышала ни слова из того, что они говорили. Не прошло и нескольких минут с момента начала фильма, как она совершенно отвлеклась от него. Она вспоминала Леонарда, своего мужа, умершего от рака восемнадцать лет назад. Он был интересным человеком, трудолюбивым, с открытой душой и любящим сердцем, прекрасным собеседником. Она очень любила его. Однако Леонарда любили далеко не все. Разумеется, он не был лишен недостатков. Самым большим из них была его нетерпимость и связанная с ней язвительность. Он не выносил лентяев, равнодушных, невеж и дураков. «А это — две трети человечества», — частенько повторял он, когда его что-то заедало. Будучи откровенным человеком и не страдая от избытка тактичности, он прямо говорил людям, что о них думает. В результате в его жизни в значительной степени отсутствовал обман, но было полно врагов. Мог ли кто-то из тех врагов звонить ей, выдавая себя за Леонарда? Больной человек, мучая вдову Леонарда, мог бы получать не меньше удовольствия, чем если бы он издевался над самим Леонардом. Не исключено, что он испытывает наслаждение, отравляя ее кота и изводя ее идиотскими телефонными звонками. Но ведь прошло уже восемнадцать лет! Кто же мог так хорошо запомнить голос Леонарда, чтобы с такой точностью имитировать его после стольких лет? Она, естественно, была единственным в мире человеком, который мог по-прежнему с одного-двух слов узнать этот голос. И при чем тут Кэрол? Кэрол появилась в жизни Грейс через три года после смерти Леонарда; он ничего и не знал об этой девушке. И какое дело до Кэрол его врагам? Что мог иметь в виду тот, кто звонил, когда называл Кэрол Уиллой? И самым тревожным казалось то, что звонивший откуда-то знал, что она как раз приготовила запеченные яблоки. Могло быть и еще одно объяснение, о котором Грейс всячески старалась не думать. Возможно, звонивший и не был старым врагом Леонарда. Возможно, это был действительно звонок от Леонарда. От мертвеца. — Нет. Этого не может быть. — Многие верят в призраков. — Но я — нет. Она вспомнила о своих снах на прошлой неделе. Тогда она не верила в пророческие сны. А теперь поверила. Так, может, поверить и в призраков? Нет. Она была здравомыслящей женщиной, вела размеренную упорядоченную жизнь, занималась наукой и всегда считала, что все можно объяснить с научной точки зрения. И теперь, в возрасте семидесяти лет, если она поверит в существование привидений при всем ее здравомыслии, она может оказаться на пороге безумия. Если ты действительно веришь в привидения, то что дальше? Вампиры? Может, стоит повсюду таскать с собой остро заточенный кол и распятие? Или оборотни? Тогда лучше купить упаковку серебряных пуль. А может быть, злобные карлики, живущие под землей и вызывающие землетрясения и извержения вулканов? Ну конечно! А что? Грейс тоскливо усмехнулась. Она не могла просто так взять и поверить в призраков, так как вера в этот предрассудок повлекла бы за собой веру и в бесчисленное множество других. Она уже не в том возрасте, у нее уже слишком устоявшиеся взгляды, чтобы сейчас коренным образом их менять. Естественно, она не будет делать такую невероятную переоценку только из-за двух нелепых телефонных звонков. Теперь оставалось решить только одно: стоит ли говорить Кэрол о том, что кто-то изводит ее, упоминая при этом имя Кэрол. Она попыталась представить, как это будет выглядеть, когда она начнет объяснять свои предположения по поводу телефонных звонков и Аристофана которому подбрасывают яд или наркотики. Вряд ли это прозвучит привычно из уст той Грейс Митовски, какую все знают. Она будет похожа на старую истеричку, которой за каждой дверью и под каждой кроватью мерещатся несуществующие заговорщики. Еще решат, что у нее начинается маразм. «А может, так и есть? — засомневалась Грейс. — Уж не придумала ли я все эти телефонные звонки? Нет. Абсолютно точно нет». И перемена в Аристофане тоже не была вымышлена ею. Она посмотрела на свою ладонь со следами когтей; они по-прежнему были красными и распухшими. Вот и доказательство. Эти следы являлись подтверждением того, что что-то не так. «Я не маразматичка, — сказала она себе. — Нисколечко. Однако я вовсе не хочу убеждать Кэрол или Пола, что у меня с головой все в порядке, после того как я расскажу им о том, что мне звонил Леонард. Не стоит пока спешить. Надо подождать. Посмотрим, что будет дальше. Что бы там ни было, я сама смогу с этим разобраться. Я справлюсь». На экране «Сони» главные герои фильма улыбнулись друг другу.* * *
Проснувшись среди ночи, Джейн поняла, что бродила во сне. Она оказалась на кухне, но не могла вспомнить, как встала с постели и спустилась вниз. На кухне была тишина. Единственным звуком казалось тихое урчание холодильника. Светила лишь луна, но, поскольку она находилась в фазе полнолуния, было достаточно светло. Джейн стояла возле столика неподалеку от раковины. Открыв один из ящиков, она вынула оттуда разделочный нож. Она смотрела на нож и не понимала, как он мог оказаться у нее в руке. Холодное лезвие тускло поблескивало в лунном свете. Она положила нож обратно в ящик. Закрыла ящик. Она сжимала нож с такой силой, что теперь у нее болела рука. «Зачем мне понадобился нож?» По спине, подобно многоножке, пробежал холодок. Ее голые руки и ноги покрылись мурашками, и она вдруг поняла, что на ней были лишь маечка, трусики и гольфы. С резким постукиванием отключился холодильник, и от этого звука она, вздрогнув, обернулась. В доме воцарилась неестественная тишина. Ей уже стало казаться, что она оглохла. «Что же я делала с ножом?» Она обхватила себя руками, чтобы избавиться от пробиравшего ее озноба. Может быть, ей снилось что-нибудь связанное с едой и она спустилась сюда во сне, чтобы сделать себе сандвич? Ну да. Вероятно, все так и произошло. Она действительно была немного голодна. Вот она и вытащила нож из ящика, чтобы отрезать себе кусочек ростбифа для сандвича. В холодильнике лежал ростбиф. Она заметила его, когда помогала Кэрол и Полу готовить ужин. Но сейчас ей, похоже, уже не хотелось ни сандвича, ни чего-либо другого. Ее голые ноги мерзли все сильнее, в тонких трусиках и маечке она чувствовала себя неприлично раздетой. Ей хотелось лишь поскорее оказаться в постели под одеялом. Поднимаясь в темноте по лестнице, Джейн держалась ближе к стене: так было меньше вероятности, что ступени заскрипят. Никого не разбудив, она вернулась в свою комнату. Где-то на улице завыла собака. Джейн юркнула под одеяло. Какое-то время она никак не могла уснуть, чувствуя себя виноватой в том, что украдкой ходила по дому, пока супруги Трейси спали. Она чувствовала себя воришкой. Она чувствовала себя так, будто воспользовалась их гостеприимством. Конечно, это было глупо. Она не собиралась ничего высматривать. Все это случилось во сне, а в таком состоянии человек не может контролировать свои действия. Просто все было во сне.Глава 8
Главным объектом внимания в кабинете Кэрол Трейси был Микки Маус. Эта достопримечательность располагалась на полках, которыми была увешана одна длинная стена комнаты. Там были пуговицы с Микки Маусом, заколки, наручные часы, пряжки ремней, телефон в виде Микки Мауса, бокалы с изображением знаменитого мышонка, пивная кружка с Микки Маусом, одетым в тирольскую одежду. Но в основном коллекция состояла из фигурок мультзвезды: Микки возле маленькой красной машины; свернувшийся калачиком, спящий Микки в полосатой пижаме; Микки, танцующий джигу; Микки с Минни, Микки с Гуфи; Микки со штангой; Микки с Плюто; Микки и Дональд Дак обнимают друг друга за плечи, как лучшие друзья; Микки верхом на лошади с ковбойской шляпой в лапе, одетой в белую перчатку; Микки — солдат; Микки — моряк; Микки — доктор; Микки в плавках, держащий доску для серфинга. Тут были и деревянные, и металлические, и гипсовые, и фарфоровые, и пластмассовые, и стеклянные, и глиняные фигурки Микки; некоторые из них были до фута высотой, некоторые — лишь дюймовые, но большинство было средних размеров. Эти сотни Микки были схожи лишь в одном — все они широко улыбались. Коллекция не оставляла равнодушным никого из пациентов. Никто не мог устоять перед Микки Маусом. В этом смысле Джейн ничем не отличалась от всех других посетителей этого кабинета. Радостно смеясь, она то охала, то ахала. К тому времени, когда девочка, закончив восторгаться коллекцией, уселась в одно из больших кожаных кресел, она была готова к сеансу; от напряжения и настороженности не осталось и следа. Микки в очередной раз сотворил свое чудо. Кушетки в кабинете Кэрол не было. Она предпочитала проводить сеансы, сидя в кресле с подголовником, усадив пациента в аналогичное кресло по другую сторону восьмиугольного стола. Шторы всегда были наглухо задернуты; торшеры наполняли комнату мягким золотистым светом. За исключением стены с Микки Маусами, в комнате царила атмосфера девятнадцатого века. Поговорив пару минут о коллекции, Кэрол затем сказала: — Ну что ж, милая. Я думаю, нам пора начинать. Девочка обеспокоенно наморщила лоб: — Вы правда думаете, что этот гипноз может оказаться полезным? — Да. Я считаю, что это лучшее средство для оживления твоей памяти. Не волнуйся. Это простая процедура Ты лишь расслабься и не противься мне. Хорошо? — Ну что ж… хорошо. Поднявшись, Кэрол обошла столик, и Джейн тоже было начала вставать. — Нет, ты сиди, — сказала Кэрол. Обойдя кресло, она приложила кончики пальцев к вискам девушки. — Расслабься, милая. Откинься на спинку. Руки на колени. Ладонями вверх, пальцы свободно разжаты. Отлично. А теперь закрой глаза. Закрыла? — Да. — Хорошо. Очень хорошо. А теперь я хочу, чтобы ты представила себе бумажного змея. Большого, напоминающего по форме бриллиант. Вообрази его. Большущий голубой бумажный змей летит высоко в синем небе. Видишь его? — Да, — ответила девушка после некоторой паузы. — Следи за этим змеем, милая. Смотри, как плавно он то взмывает вверх, то падает вниз. Взмывает и падает, вверх-вниз, вверх-вниз, туда-сюда, он так красиво парит высоко над землей, посередине между облаками и землей, высоко-высоко над головой. — Кэрол продолжала говорить мягким, спокойным, ровным голосом, глядя на густые светлые волосы девушки. — Пока ты наблюдаешь за змеем, ты сама постепенно становишься такой же легкой и свободной. Ты научишься парить высоко-высоко в небе, как этот воздушный змей. — Кончиками пальцев она круговыми движениями слегка массировала виски девушки. — Все напряжение покидает тебя, все заботы и печали уплывают прочь, и ты думаешь только об этом змее, бумажном змее в синем небе. Тяжесть ушла из твоей головы, лба и висков. Ты уже чувствуешь себя намного легче. — Ее руки опустились девочке на шею. — Мышцы шеи расслаблены. Напряжение исчезает. Тяжесть уходит. Ты становишься такой легкой, что тебе кажется, что ты поднимаешься к змею… вот… уже… почти… — Она опустила руки девушки на плечи. — Расслабься. Пусть исчезнет напряжение. Пусть оно отпадет как ненужный груз. Ты становишься все легче и легче. С груди тоже свалилась тяжесть. И вот ты уже летишь. Всего в нескольких дюймах от земли, но летишь. — Да… лечу… — проговорила Джейн глуховатым голосом. — Змей парит выше, но ты медленно, постепенно поднимаешься к нему… Она продолжала говорить еще с минуту, потом вернулась к своему креслу и села. Джейн полулежала в кресле напротив, ее голова склонилась набок, глаза закрыты, лицо безмятежно и расслаблено, дыхание мягкое и спокойное. — Ты в очень глубоком сне, — сказала ей Кэрол. — Спокойно и крепко спишь. Понимаешь? — Да, — пробормотала девушка. — Ты ответишь мне на несколько вопросов. — Хорошо. — Ты будешь спать и отвечать на мои вопросы до тех пор, пока я не скажу тебе, что пора просыпаться. Понятно? — Да. — Хорошо. Очень хорошо. А теперь скажи мне, как тебя зовут? Девушка не отвечала. — Как тебя зовут, милая? — Джейн. — Это твое настоящее имя? — Нет. — А какое твое настоящее имя? Джейн нахмурилась. — Я… не помню. — Откуда ты? — Больница. — А что было до нее? — Ничего. В уголке рта девочки заблестела капелька слюны. Она лениво слизнула ее. Кэрол спросила: — Милая, ты помнишь те часы с Микки Маусом, которые ты рассматривала несколько минут назад? — Да. — Вот я их взяла с полки, — сказала Кэрол, не двигаясь с места, — и теперь поворачиваю стрелки назад по циферблату — раз, еще раз — назад и назад. Ты видишь, как на часах с Микки Маусом стрелки движутся назад? — Да. — И вот происходит нечто необычное. Само время вместе со стрелками тоже пошло назад. Уже не четверть двенадцатого. Теперь одиннадцать часов. Это волшебные часы. Они управляют временем. И вот уже десять часов утра… девять часов… восемь часов… Посмотри вокруг. Где ты сейчас? Девочка открыла глаза. Ее взгляд был сосредоточен на чем-то далеком. — Гм… кухня, — произнесла она. — Да. Завтрак. О, какой замечательный вкусный бекон. Кэрол постепенно возвращала ее во времени к дням, проведенным ею в больнице, и наконец к прошлому четвергу, когда произошел несчастный случай. Девочка зажмурилась, переживая момент столкновения, и вскрикнула. Кэрол успокоила ее, и они вернулись еще на несколько минут. — Ты стоишь на тротуаре, — сказала Кэрол, — одетая лишь в джинсы и блузку. Дождь. Холодно. Девушка опять закрыла глаза. Она дрожала. — Как тебя зовут? — спросила Кэрол. Молчание. — Как тебя зовут, милая? — Я не знаю. — Где ты только что была? — Нигде. — Ты хочешь сказать, что у тебя амнезия? — Да. — Уже до аварии? — Да. Несмотря на свою тревогу по поводу состояния девочки, Кэрол все же с облегчением для себя отметила, что не она была ему виной. Она на какое-то мгновение почувствовала себя тем голубым змеем, способным взмыть ввысь и парить в небе. — Хорошо, — сказала она. — Ты собираешься шагнуть на проезжую часть. Ты просто хочешь перейти улицу или ты хочешь пройти прямо перед носом у машины? — Я… не знаю… — Что ты чувствуешь? Ты счастлива? Подавлена? Или тебе все безразлично? — Мне страшно, — пролепетала девочка дрожащим голосом. — Почему тебе страшно? Молчание. — Чего ты боишься? — Уже приближается. — Что приближается? — Позади меня! — Что позади тебя? Девушка вновь открыла глаза. Она по-прежнему смотрела куда-то вдаль, но теперь ее глаза были полны ужаса. — Что же позади тебя? — повторила Кэрол. — О Господи! — жалобно воскликнула девочка. — Что такое? — Нет, нет. Она потрясла головой. Ее лицо стало мертвенно-бледным. Не вставая со стула, Кэрол подалась вперед. — Расслабься, милая. Ты расслабишься и успокоишься. Закрой глаза. Ты спокойна… как тот воздушный змей… высоко-высоко… ты паришь… тебе тепло. Напряжение исчезло с лица Джейн. — Ну вот и хорошо, — сказала Кэрол. — Оставайся спокойной, спокойной и расслабленной, ты расскажешь мне, чего ты боишься. Девочка ничего не ответила. — Чего ты испугалась, милая? Что позади тебя? — Что-то… — Что же? — Что-то… — Поточнее, — терпеливо сказала Кэрол. — Я… не знаю, что это… но оно приближается, и… мне страшно. — Ну ладно. Давай-ка вернемся еще немного назад. При помощи воображаемых стрелок на часах с Микки Маусом она вернула девушку еще на целый день дальше в прошлое. — Ну а теперь посмотри вокруг. Где ты? — Нигде. — Что ты видишь? — Ничего. — Должно же там что-то быть, милая. — Темнота. — Ты в темной комнате? — Нет. — В этой темноте есть стены? — Нет. — Ты на улице ночью? — Нет. Она вернула девушку в прошлое еще на один день. — Ну а что ты видишь теперь? — Все ту же темноту. — Должно быть что-то еще. — Нет. — Открой глаза, милая. Девочка послушалась. Взгляд ее голубых глаз был отсутствующим, стеклянным. — Ничего. Кэрол нахмурилась. — Ты сидишь или стоишь в этом темном месте? — Я не знаю. — Что ты чувствуешь под собой? Стул? Пол? Кровать? — Ничего. — Нагнись. Дотронься до пола. — Здесь нет пола. Смущенная, не зная, как дальше продолжать сеанс, Кэрол поерзала в кресле и посмотрела на девушку, обдумывая, что ей теперь делать. Через несколько секунд веки Джейн задрожали и она закрыла глаза. Наконец Кэрол сказала: — Хорошо. Я вновь поворачиваю стрелки часов назад. Время пошло вспять. Так будет продолжаться час за часом, день за днем, все быстрее и быстрее, до тех пор, пока ты меня не остановишь. Я хочу, чтобы ты остановила меня лишь тогда, когда ты выйдешь из темноты и сможешь сказать мне, где ты находишься. Итак, я поворачиваю стрелки. Назад… еще назад… Десять секунд прошло в тишине. Двадцать. Тридцать. Минуту спустя Кэрол спросила: — Где ты? — Пока нигде. — Тогда иди дальше. Возвращайся во времени… Еще через минуту Кэрол уже начала думать, что что-то не так. Ее охватило волнение, что она теряет контроль над ситуацией и подвергает свою пациентку какой-то непредвиденной опасности. Но когда она уже собралась было прекращать регрессию и вернуть девушку в настоящее, Джейн наконец заговорила. Она вскочила с кресла на ноги, размахивая руками и крича: — Помогите мне! Кто-нибудь! Мама! Тетя Ракель! Ради Бога, помогите! Это был голос не Джейн. Слова вылетали из ее рта, произносились ее языком и губами, но голос был совершенно не ее. Он не был просто искажен паникой. Это был совершенно чужой голос. У него были свои характерные особенности, своя интонация, свой тембр. — Я же умру здесь! Помогите! Вытащите меня отсюда! Кэрол тоже вскочила на ноги. — Хватит, милая, все. Успокойся. — Я горю! Я вся горю! — истошно кричала девочка и била себя по одежде, словно стараясь потушить пламя. — Нет! — решительно сказала Кэрол. Она обошла столик, и ей удалось схватить девушку за руку, несмотря на то, что по ней пришлось несколько скользящих ударов. Джейн дергалась, пытаясь вырваться. Не отпуская ее, Кэрол начала тихо, но настойчиво успокаивать девушку. Джейн перестала сопротивляться, но стала жадно хватать ртом воздух и хрипеть. — Дым, — задыхаясь, произнесла она. — Как много дыма. Кэрол разубедила ее и в этом и постепенно вывела ее из истерического состояния. Наконец Джейн вновь опустилась в кресло. Она казалась мертвенно-бледной, и ее лоб был усеян капельками пота. Взгляд ее голубых глаз, устремленных куда-то вдаль, в прошлое, был мучительно тревожным. Опустившись возле кресла на колени, Кэрол взяла девушку за руку. — Ты слышишь меня, милая? — Да. — С тобой все в порядке? — Я боюсь… — Нет никакого огня. — Но был. Повсюду. — Девочка продолжала говорить не своим голосом. — Уже больше нет. Никакого пламени. — Раз вы так говорите… — Да. Именно так. А теперь скажи мне твое имя. — Лора. — Ты помнишь свою фамилию? — Лора Хейвенсвуд. Кэрол торжествовала. Ее щеки зарделись. — Очень хорошо. Просто замечательно. Где ты живешь, Лора? — В Шиппенсбурге. Шиппенсбург был маленьким городишком в часе езды от Гаррисберга: тихое, приятное местечко, где находился один из известных колледжей штата, окруженное многочисленными фермерскими хозяйствами. — Ты помнишь свой адрес в Шиппенсбурге? — спросила Кэрол. — Это загородный дом. Он стоит на улице. Неподалеку от Уолнат Ботом-Роуд. — Значит, если понадобится, ты могла бы мне его показать? — Ну конечно. Красивое местечко. На обочине проселочной дороги стоят два каменных столба, от них и начинается наша земля. К дому ведет длинная дорожка, по обеим сторонам которой растут клены, а дом окружен большими дубами. Благодаря этим деревьям летом там прохладно. — А как зовут твоего отца? — Николас. — А какой у него телефон? Девушка нахмурилась. — У него — что? — Какой у вас номер телефона? Девушка покачала головой. — Я не понимаю, о чем вы? — У вас в доме есть телефон? — А что такое телефон? — спросила девушка. Кэрол в недоумении уставилась на нее. В состоянии гипноза человек не способен что-то скрывать или притворяться подобным образом. Обдумывая, как ей быть дальше, она заметила, что Лорой вновь овладевает беспокойство. На лбу появились морщины, глаза округлились. Ей опять стало трудно дышать. — Лора, слушай, меня. Ты спокойна. Ты расслабляешься и… Девочка стала отчаянно извиваться в кресле. Часто дыша, она с криками сползла с кресла и скатилась на пол, задев столик и отпихнув его в сторону. Извиваясь и дрожа, она словно билась в эпилептическом припадке, хотя это было не так; она что-то отчаянно стряхивала с себя, ей вновь казалось, что она горит. Она звала кого-то по имени Ракель и задыхалась в несуществующем дыму. Кэрол понадобилась почти целая минута, чтобы успокоить ее, что указывало на потерю контроля над ситуацией, так как обычно гипнотизеру нужны на это считанные секунды. Очевидно, Лоре довелось пережить какой-то жуткий пожар или в огне сгорел кто-то из ее близких. Кэрол хотелось продолжить сеанс и узнать, что же на самом деле произошло, но сейчас было не время. После того как ей так долго пришлось успокаивать своего пациента, она понимала, что сеанс следует поскорее закончить. Когда Лора вновь сидела в своем кресле, Кэрол, подсев рядом, попросила ее вспомнить все, что происходило и говорилось во время сеанса. Затем она вернула девушку в настоящее и вывела из транса. Вытерев влажный уголок глаза, девушка потрясла головой и откашлялась. Потом, посмотрев на Кэрол, она сказала: — Наверное, ничего не получилось, а? Это вновь была Джейн; голос Лоры исчез. Но почему же в первую очередь изменился ее голос? Кэрол не могла этого понять. — Ты ничего не помнишь, что было? — спросила Кэрол. — А что я могла запомнить? Этот разговор о голубом змее? Я поняла, что вы пытались сделать, как вы старались ввести меня в транс, поэтому-то мне кажется, ничего и не вышло. — Наоборот, получилось, — возразила Кэрол. — И тебе нужно все вспомнить. Взгляд девочки был полон недоверия. — Что — все? Что произошло? Что вы узнали? Кэрол внимательно смотрела на нее. — Лора. Девочка даже не моргнула. Она просто выглядела растерянной. — Тебя зовут Лора. — Кто сказал? — Ты. — Лора? Нет. По-моему, нет. — Лора Хейвенсвуд, — сказала Кэрол. Девочка наморщила лоб. — Что-то это не вызывает никакого отклика в моей памяти. Удивившись, Кэрол продолжила: — Ты сказала мне, что живешь в Шиппенсбурге. — А где это? — Примерно в часе езды отсюда. — Никогда не слышала. — Ты живешь в загородном доме. На въезде в частное хозяйство твоего отца стоят каменные столбы, возле них начинается длинная дорожка, по обеим сторонам которой растут клены. Вот что ты рассказала мне, и я не сомневаюсь, что все именно так и есть. В состоянии гипноза практически невозможно обманывать или давать ложные ответы. Кроме того, тебе просто незачем меня обманывать. Терять тебе нечего, а пользу преодоление этого барьера памяти принести может. — Возможно, я и Лора Хейвенсвуд, — проговорила девочка. — Возможно, все, что я рассказала вам в трансе, и правда. Но я не могу этого вспомнить, и, когда вы говорите мне, кто я, это для меня совершенно ничего не значит. Господи, я считала, что, как только я вспомню свое имя, все тут же встанет на свои места. Однако это по-прежнему все та же пустота. Лора, Шиппенсбург, загородный дом — я не вижу здесь никакой связи со мной. Кэрол все еще сидела возле кресла девочки. Наконец она поднялась, чувствуя, как затекли ноги. — Мне никогда не доводилось видеть ничего подобного. И насколько мне известно, о такой реакции еще ни в какой литературе не упоминалось. Когда пациент поддается гипнозу и когда его удается вернуть к моменту пережитой им травмы, эффект всегда весьма ощутим. А на тебя это совершенно не подействовало. Очень странно. Если ты что-то вспомнила под гипнозом, то должна сейчас это помнить. А уж твое имя наверняка должно было открыть для тебя прошлое. — Но не открыло. — Странно… Девочка подняла на нее глаза: — Что же теперь? Немного задумавшись, Кэрол сказала: — Думаю, нам нужно обратиться за помощью к властям, чтобы узнать, живут ли там на самом деле Хейвенсвуды. Подойдя к столу, она взяла трубку и набрала номер гаррисбергской полиции. Диспетчер соединил ее с неким Линкольном Уэртом, детективом, занимавшимся делами, связанными с розыском пропавших людей, который вел дело Джейн Доу. С интересом выслушав Кэрол, он пообещал немедленно все проверить и перезвонить, как только узнает что-нибудь о Хейвенсвудах.* * *
Четыре часа спустя, в 3.55, после того как Кэрол попрощалась со своим последним пациентом и они с девочкой уже собрались уходить домой, перезвонил Линкольн Уэрт. Кэрол взяла трубку, а Джейн, заметно нервничая, примостилась на краешке стола. — Доктор Трейси, — начал Уэрт, — я весь день звонил в шиппенсбургскую полицию и офис шерифа. К сожалению, должен вам сообщить, что все оказалось бесполезно. — Это какая-то ошибка. — Нет. Мы не можем найти никаких Хейвенсвудов ни в Шиппенсбурге, ни в его окрестностях. Телефон на их имя тоже не зарегистрирован и… — Может быть, у них просто нет телефона. — Разумеется, мы предусмотрели и это, — сказал Уэрт. — Мы не делаем поспешных выводов, поверьте. Мы, например, связались и с энергетической компанией, узнали, что и у них не значатся клиенты по имени Хейвенсвуд во всем округе Камберленд. Однако мы и на этом не успокоились. Мы предположили, что те, кого мы ищем, могут оказаться эмишами[2]. В тех лесах живет много эмишей. Если они эмиши, то, разумеется, у них в доме нет электричества. Так что мы решили проверить налоговые ведомости в окружных конторах. Мы узнали, что во всем регионе никто по имени Хейвенсвуд не владеет домом, не говоря уже о фермерском хозяйстве. — Они могут его снимать, — возразила Кэрол. — Возможно. Однако я склонен думать, что их просто нет. Должно быть, девочка выдумывает. — Зачем это ей? — Не знаю. Не исключено, что и вся эта амнезия тоже выдумка. Может быть, она просто сбежала из дому. — Нет. Определенно нет. Кэрол взглянула на Лору — нет, ее все еще звали Джейн, — посмотрела в ее чистые и ясные голубые глаза и, обращаясь к Уэрту, сказала: — Кроме того, в состоянии гипноза невозможно лгать или так складно выдумывать. Хотя Джейн могла слышать лишь половину разговора, она уже начала догадываться, что проверка имени Хейвенсвудов ничего не дала. Ее лицо помрачнело. Встав, она подошла к полкам с фигурками Микки Маусов. — Во всем этом есть что-то очень и очень странное, — заметил Уэрт. — Странное? — переспросила Кэрол. — Когда я давал описание этого дома с фермой со слов девочки — каменные столбы, длинная дорожка с кленами — и когда я сказал, что это неподалеку от Уолнат Ботом-Роуд, камберлендский шериф и другие шиппенсбургские полицейские, с которыми я разговаривал, сразу же узнавали это место. То есть оно действительно существует. — Ну вот, значит… — Но там не живут никакие Хейвенсвуды, — сказал Уэрт. — Это собственность семьи Олмайер. Их там все хорошо знают. Они весьма уважаемые люди. Оурен Олмайер, его жена и двое сыновей. Как мне сказали, у них никогда не было дочери. До Оурена ферма принадлежала его отцу, который купил ее семьдесят лет назад. Один из людей шерифа отправился туда и поинтересовался у Олмайеров, не знают ли они о девочке по имени Лора Хейвенсвуд или что-то вроде этого. Нет, они ничего такого не слышали. И не знают никого подходящего под описание Джейн Доу. — Однако этот дом с фермой все же есть, как она нам и сказала. — Да, — отозвался Уэрт. — Забавно, правда?* * *
По дороге домой, когда они ехали в «Фольксвагене» по улицам, залитым осенним солнцем, девочка спросила: — Вы думаете, я притворялась, что была в трансе? — О Господи, конечно же, нет! Ты была в состоянии глубокого гипноза. И я просто уверена, что ты не настолько великолепная актриса, чтобы выдумать всю эту сцену с пожаром. — С пожаром? — Ты и это, наверное, не помнишь. — Кэрол рассказала ей об истерике Лоры, об ее истошных криках о помощи. — Твой ужас был искренним. Такое нужно только пережить. Даю голову на отсечение. — Я совсем ничего не помню. Вы считаете, что я действительно пережила пожар? — Возможно. — Впереди загорелся красный свет. Остановив машину, Кэрол взглянула на Джейн. — На тебе нет ни шрамов, ни следов ожогов, так что, если ты была в горящем доме, тебе удалось остаться целой и невредимой. Конечно, может быть, ты потеряла во время пожара кого-то из близких, кого-то очень дорогого тебе, а сама ты там вовсе и не была. В этом случае в состоянии гипноза твой страх за этого человека мог смешаться со страхом за свою собственную жизнь. Тебе понятно, о чем я говорю? — Думаю, да. В таком случае возможно, что пожар — вызванный им ужас — и явился причиной моей амнезии? И возможно, мои родители так и не объявились, потому что… потому что их нет, они сгорели? Кэрол взяла девушку за руку. — Тебе не стоит сейчас об этом тревожиться, милая. Не исключено, что я совсем не права. Вероятно, так и есть. Но я просто думаю, что ты должна быть готова и к такому повороту событий. Прикусив губу, девочка кивнула. — Меня это немножко пугает. Но я не могу сказать что мне очень тоскливо. Ведь я совсем не помню своих родителей, так что потерять их — почти как потерять незнакомых мне людей. Водитель стоявшего сзади зеленого «Датсуна» посигналил им. Свет переменился. Кэрол отпустила руку Джейн и нажала на акселератор. — Попробуем разобраться с пожаром на завтрашнем сеансе. — Вы все еще думаете, что я — Лора Хейвенсвуд? — Ну, пока будем продолжать называть тебя Джейн. Однако я не понимаю, почему тебе вздумалось назвать имя Лора, если оно не имеет к тебе никакого отношения. — Личность не подтвердилась, — напомнила девушка. Кэрол покачала головой. — Не совсем так. Пока мы ничего не можем с уверенностью сказать о Хейвенсвудах. Мы лишь знаем наверняка, что ты никогда не жила в Шиппенсбурге. Однако побывать тебе хоть один раз там довелось, потому что дом с фермой существует и ты видела его, хотя бы просто проезжая мимо. Очевидно, даже под гипнозом, даже во время регрессии в прошлое до начала амнезии в твоей памяти все смешалось. Я не знаю, как это могло случиться и почему. Я еще ни с чем подобным не сталкивалась. Но мы попробуем расставить все по своим местам. Все может упираться в мои вопросы и в то, как я их задаю. Подождем — увидим. Некоторое время они ехали в молчании, а потом девочка сказала: — Хотелось бы надеяться, что все выяснится не слишком быстро. С того момента, как вы мне рассказали о вашем домике в горах, я просто мечтаю туда поехать. — Конечно, поедешь. Не волнуйся на этот счет. Мы уезжаем в пятницу, и, даже если завтрашний сеанс пройдет хорошо, мы все равно не сможем так быстро разобраться с Лорой Хейвенсвуд. Я предупреждала тебя, что все это может затянуться и принести разочарования. Я удивлена тем, что сегодня мы хоть чего-то добились, но я удивлюсь еще больше, если завтра нам удастся хотя бы наполовину повторить сегодняшний успех. — Похоже, вам придется со мной некоторое время повозиться. Кэрол вздохнула с притворной усталостью. — Да, похоже, что так. Ты оказалась для меня жутчайшим бременем. Просто невыносимым. — Убрав одну руку с руля, она театрально схватилась за сердце, и Джейн рассмеялась. — Нет! Это просто невыносимо! Ах, ах! — Знаете что? — спросила Джейн. — Что? — Вы мне тоже нравитесь. Переглянувшись, они улыбнулись друг другу. Когда они остановились на красный свет очередного светофора, Джейн сказала: — У меня есть предчувствие по поводу поездки в горы. — Что же это за предчувствие? — Я почти уверена, что там будет просто здорово. Настоящий восторг. Что-то необычное. Какое-то приключение. Ее голубые глаза засветились ярче обычного.* * *
После ужина Пол предложил сыграть в скрэбл[3]. Пока он устанавливал доску на игровом столике в общей комнате, Кэрол объясняла правила Джейн, которая не могла вспомнить, играла ли она в эту игру раньше. Джейн выпало начинать, и она составила слово, принесшее двадцать два очка, которые сразу удвоились, потому что это было первое слово в игре:КЛИНОК— Неплохое начало, — заметил Пол. Он хотел, чтобы девочка выиграла, потому что она испытывала большое удовольствие от таких маленьких радостей. Скромный комплимент, малейший триумф приводили ее в восторг. Однако Пол вовсе не собирался поддаваться ей ради того, чтобы доставить ей удовольствие, уж ей придется постараться, чтобы победить. Он просто не умел поддаваться в игре кому бы то ни было; во что бы он ни играл, Пол всегда полностью отдавался игре так же, как своей работе. Он не просто играл на досуге ради удовольствия, он был азартным игроком. — Мне кажется, — сказал он Джейн, — что ты относишься к тем ребятам, которые говорят, что никогда в жизни не играли в покер, а потом начинают быстренько выигрывать все ставки подряд. — А в скрэбл можно делать ставки? — спросила Джейн. — Можно, но мы не будем, — ответил Пол. — Боитесь? — Жутко. Еще свой дом тебе проиграем. — Я позволю вам остаться. — Как любезно с твоей стороны. — За скромную плату. — О, у этого ребенка поистине золотое сердце! Пока он вел шутливую перебранку с Джейн, Кэрол внимательно рассматривала свои буквы. — Послушайте-ка, — воскликнула она, — у меня получилось слово, которое как раз подходит к тому, что предложила Джейн. Она добавила «кровь» к «к» в слове «клинок», и получилось — КРОВЬ. — Судя по вашим словам, — заметил Пол, — вы, кажется, собираетесь резаться не на жизнь, а на смерть. Простонав в тон его шутке, Кэрол и Джейн пополнили свои запасы букв, взяв их из крышки коробки. Посмотрев на свои буквы, Пол с удивлением заметил, что и у него получалось слово под стать заданной теме. Добавив несколько букв к концу слова «кровь», он выложил СМЕРТЬ. — Мрачно, — отметила Кэрол. — А вот кое-что и помрачнее, — сказала Джейн, продолжая игру и добавляя свои буквы к «м» в слове «смерть»:
КЛИНОК Р О В СМЕРТЬ О Г И Л АПол уставился на доску. Ему вдруг стало не по себе. Насколько же мал шанс того, что первые четыре слова в игре окажутся так тесно связаны по теме? Один из десяти тысяч? Нет. Должно быть, еще меньше. Один из ста тысяч? Один из миллиона? Оторвавшись от своих букв, Кэрол подняла глаза. — Вы просто не поверите. Она добавила еще пять букв:
КЛИНОК Р О В СМЕРТЬ О Г И Л ЖЕРТВА— «Жертва»? — воскликнул Пол. — Ну нет уж, хватит. Убирай все это и придумай что-нибудь другое. — Не могу, — ответила Кэрол. — У меня больше ничего нет. Все остальные буквы не годятся. — Но ты могла бы подставить «вер» к той же самой букве в слове «могила», — не унимался Пол, — и получилось бы «вера» вместо «жертва». — Разумеется, могла бы, но за это я получила бы меньше очков. Ясно? Тут нет буковки, за которую очки удваиваются. Слушая объяснения Кэрол, Пол отметил, что у него какое-то странное состояние. Он вдруг ощутил внутри себя холод. И пустоту. Словно он шел по натянутому канату, зная, что вот-вот упадет и полетит в пропасть… Его внезапно охватило чувство, что он это уже когда-то испытывал, у него появилось отчетливое ощущение, что этот эпизод уже был пережит им прежде, и на какое-то мгновение у него словно остановилось сердце. И все-таки ничего подобного еще никогда не случалось, когда он играл в скрэбл. Так откуда же у него такая уверенность в том, что ему уже доводилось это видеть? Даже задавая себе этот вопрос, он уже догадывался об ответе. Ощущение уже пережитого не имело отношения к словам на доске скрэбл, по крайней мере прямого отношения. Жутко знакомым было ему то непривычное, леденящее душу ощущение, появившееся от совпадения этих слов; холодом веяло не снаружи, а скорее изнутри; пугающая пустота была глубоко внутри; он словно шел, балансируя, по проволоке, под которой зияла бездонная темнота. Абсолютно то же самое он испытывал на прошлой неделе, находясь на чердаке, когда прямо перед его лицом, из ниоткуда раздавался тот таинственный звук; каждый стук напоминал удар молота о наковальню и доносился будто из другого времени, другого измерения. Сейчас, сидя перед доской скрэбл, у него были точно такие же ощущения: словно он столкнулся с чем-то непонятным, неведомым, может, даже сверхъестественным. — Послушай, — сказал он Кэрол, — не лучше ли тебе убрать с доски последние пять букв, положить их в коробку, выбрать новые буквы и составить какое-нибудь другое слово вместо «жертва»? Он заметил, что его предложение удивило ее. — Но почему? — воскликнула Кэрол. Пол нахмурился. — Клинок, кровь, смерть, могила, жертва — все эти слова как-то не увязываются с такой замечательной и мирной игрой, как скрэбл. Несколько секунд она не отрываясь смотрела на мужа, и от ее пронзительного взгляда Полу стало не по себе. — Это же просто совпадение, — пыталась оправдаться Кэрол, явно озадаченная его встревоженностью. — Я понимаю, что это чистое совпадение, — сказал он, хотя на самом деле ничего не понимал. Он просто никак не мог логически объяснить то жуткое ощущение, что слова на игровой доске были результатом воздействия какой-то силы, а не обыкновенным совпадением — чем-то более страшным. — И все-таки мне от этого не по себе, — неуверенно произнес Пол, поворачиваясь к Джейн в поисках союзника. — А тебе? — Да. Немножко, — согласилась девушка. — Но ведь это и страшно интересно: сколько нам еще удастся подобрать соответствующих слов? — И мне интересно, — поддержала Кэрол. Она шутливо шлепнула Пола по плечу. — Знаешь, в чем твоя беда, малыш? У тебя полностью отсутствует экспериментаторская любознательность. Давай-ка. Твоя очередь. Выложив на доске «смерть», Пол забыл пополнить свой запас букв. Он вытащил из крышки коробки маленькие деревянные квадратики и разложил их перед собой. И похолодел. О Боже! Он вновь шел по канату над бездной. — Ну и что же? — поинтересовалась Кэрол. Совпадение. Ничего другого и быть не может. — Так что же? Подняв глаза, он посмотрел на нее. — Что там у тебя? — не унималась Кэрол. Не говоря ни слова, он перевел взгляд на девочку. Облокотившись о стол, она с таким же нетерпением, как и Кэрол, ждала его ответа, сгорая от любопытства узнать, будет ли продолжена зловещая тема. Пол вновь опустил взгляд на ряд букв. Слово как было, так и осталось. Невероятно. Но так или иначе оно по-прежнему было там. — Пол? Он сделал такое быстрое и неожиданное движение, что Кэрол с Джейн чуть не подпрыгнули. Собрав все свои буквы, он почти швырнул их назад в коробку. Потом, прежде чем кто-либо успел опомниться, он сгреб все пять зловещих слов с доски и высыпал составлявшие их буквы в ту же коробку. — Пол, да что с тобой, ради Бога? — Мы начнем новую игру, — сказал он. — Вам, может быть, и ничего, а меня эти слова как-то разволновали. Мне бы хотелось расслабиться за игрой. Когда мне захочется услышать про смерть, кровь и жертвы, я включу телевизор и посмотрю новости. — А какое у тебя получилось слово? — спросила Кэрол. — Не знаю, — солгал он. — Я не стал разбираться со своими буквами. Давайте. Начинаем все заново. — У тебя было какое-то слово, — настаивала она. — Нет. — Мне тоже показалось, что слово у вас было, — сказала Джейн. — Ну, раскрой нам тайну, — не отступала Кэрол. — Хорошо, хорошо. Было у меня слово, но непристойное. Разве может такой джентльмен, как я, использовать непристойное слово в благородной игре скрэбл, тем более в присутствии дам. В глазах Джейн появились озорные искорки. — Правда? Скажите нам. Не будьте консервативно старомодным. — Старомодным? Неужели вы так плохо воспитаны, юная леди? — Ага! — Неужели у вас нет ни капельки скромности? — Не-а. — Вы ведете себя просто как вульгарная девчонка. — Да-да, именно так, — быстро закивала головой Джейн. — Вульгарная до мозга костей. Так скажите же нам, что у вас было за слово. — Стыд-позор, — сокрушался он. Постепенно ему удалось уйти от их домогательств, и они начали новую игру. На этот раз все слова были обычными и между ними не прослеживалось никакой тревожной связи.
* * *
Он не чувствовал сильного сексуального возбуждения, когда позже в постели занимался любовью с Кэрол. Ему просто хотелось быть как можно ближе к ней. Потом, когда нежное бормотание сменилось обоюдным молчанием, Кэрол спросила: — Что у тебя было за слово? — Мммм? — промычал он, притворяясь, что не понимает, о чем она. — То непристойное слово в скрэбл. Только не говори, что ты его уже забыл. — Да так, ерунда. Она рассмеялась. — После того, чем мы только что занимались в постели, ты можешь не стесняясь сказать мне! — Не было там никакой непристойности. — Это соответствовало истине. — У меня вообще не было никакого слова. — Тут он солгал. — Просто… просто я решил, что те первые пять слов могут отрицательно сказаться на Джейн. — На Джейн? — Да. Ты же говорила мне, что, может быть, ее родители или один из них сгорели во время пожара. Не исключено, что она вот-вот узнает или вспомнит об ужасной трагедии, случившейся в ее недалеком прошлом. Сегодня ей необходимо было немного расслабиться, посмеяться. А как тут отдохнешь с такой игрой, в которой слова на доске напоминают ей о том, что ее родителей, возможно, нет в живых? Повернувшись на бок, Кэрол немного приподнялась и склонилась над ним, касаясь обнаженной грудью его тела. Она посмотрела ему в глаза. — Ты правда только поэтому казался таким расстроенным? — Тебе кажется, я не прав? Или я несколько переиграл? — Может быть — да, может быть — нет. Но стало действительно не по себе. — Она поцеловала его в нос. — Знаешь, почему я так сильно люблю тебя? — Потому что тебе нравится, как я занимаюсь с тобой любовью? — Нравится, но люблю я тебя не поэтому. — Потому что у меня упругая задница? — И не поэтому. — Потому что у меня всегда чистые ухоженные ногти? — Нет. — Сдаюсь. — Потому что ты такой чуткий и заботливый по отношению к другим. Как это похоже на тебя — заботиться о том, чтобы Джейн получила удовольствие от скрэбл! Вот почему я тебя люблю. — А я думал, за мои карие глаза. — Не-а. — За мой классический профиль. — Шутишь? — Или за то, что третий палец на моей левой ноге наполовину заходит за второй. — Вот об этом-то я и забыла. Ай-ай-ай. Ты прав. Именно поэтому я тебя и люблю. Вовсе не потому, что ты такой чуткий. Меня сводят с ума именно пальцы у тебя на ноге. Их шутки привели к ласкам, поцелуям и ко вновь вспыхнувшей страсти. Она достигла оргазма лишь несколькими секундами раньше его, и, когда их объятия ослабли, уступая сну, он чувствовал приятную истому. Однако, когда она уснула, он еще не спал. Он смотрел в темный потолок спальни и думал о скрэбл. КЛИНОК, КРОВЬ, СМЕРТЬ, МОГИЛА, ЖЕРТВА… Он думал о том слове, что утаил от Кэрол и Джейн, которое вынудило его положить конец той игре и начать новую. После того как он прибавил «смерть» к «крови», у него остались всего три буквы: «ф», «ю» и «к»; «ф» и «ю» не имели отношения к тому, что получилось. Но когда он пополнил свой запас четырьмя новыми буквами, они невероятным образом подошли к «к». Сначала он вытащил «э», затем — «р». Он уже знал, что произойдет, и не хотел продолжать; в тот момент он думал, не бросить ли все буквы назад в коробку, потому что ему было страшно увидеть то слово, которое должно было получиться после прибавления еще двух букв. Но он не остановился. Слишком велико было его любопытство, когда надо было остановиться. Он вытащил третью букву, которая оказалась «о», и затем четвертую — «л».К… Э… Р… О… Л… КЛИНОК, КРОВЬ, СМЕРТЬ, МОГИЛА, ЖЕРТВА, КЭРОЛ.Даже если бы у него и хватило духу, он, разумеется, не смог бы выложить КЭРОЛ на доске, так как это было имя собственное, а по правилам не допускается использование собственных имен. Но это уже другой вопрос. Главное то, что ее имя каким-то жутким образом так ясно и недвусмысленно выложилось из его букв. Боже мой, он вытащил их именно в том порядке! А это что, тоже совпадение? Это казалось каким-то зловещим предзнаменованием. Предупреждением о том, что с Кэрол должно что-то произойти. Таким же пророчеством, как и два кошмарных сна, приснившихся Грейс Митовски. Он вспомнил о других недавно происшедших странных вещах: жуткой молнии, ударившей в офис Альфреда О'Брайена; стуке, от которого сотрясался весь дом; незваном госте на лужайке во время грозы. Он чувствовал, что все они как-то взаимосвязаны. Но, черт возьми, как?
КЛИНОК, КРОВЬ. СМЕРТЬ, МОГИЛА. ЖЕРТВА, КЭРОЛ.Если в этих словах на доске скрэбл содержалось какое-то пророческое предупреждение, то что ему надлежало делать? Зловещий знак — если это был он — казался слишком расплывчатым, чтобы на него как-то отреагировать. Было неизвестно, чего остерегаться. Он не мог защитить Кэрол, не зная, откуда надвигается опасность. Автокатастрофа? Авиакатастрофа? Нападение? Рак? Все, что угодно. Он не видел смысла рассказывать Кэрол о том, что из его букв получилось ее имя; она, как и он, не сможет ничего предпринять, и это лишь вызовет у нее тревогу. Ему не хотелось волновать жену. Вместо этого он, лежа в темноте и ощущая озноб даже под одеялом, сам волновался за нее.
* * *
Несмотря на то что было уже два часа ночи, Грейс все еще читала у себя в кабинете. Не было смысла ложиться спать в течение еще, по крайней мере, пары часов. События прошлой недели лишили ее сна. Можно сказать, что прошедший день был относительно спокойным. Аристофан по-прежнему вел себя странным образом — прятался от нее, следил за ней исподтишка, когда ему казалось, что она не подозревает о его присутствии, но ни подушек, ни мебели больше не драл и ходил в отведенную ему коробку, что обнадеживало. Человек, выдававший себя за Леонарда, больше не звонил, и она была благодарна за это. Да, день выдался довольно обычный. И тем не менее… Грейс по-прежнему чувствовала напряжение и не могла спать, потому что ее не оставляло ощущение, что она находится в эпицентре бури. Она чувствовала, что тишина и покой в ее доме обманчивы, что вокруг нее неистовствуют громы и молнии, которых она пока не видит и не слышит. Она чувствовала, что ураган вот-вот вновь захлестнет ее, и от этого ожидания она не могла расслабиться. Услышав какой-то шорох, она оторвалась от своего романа. Из коридора в открытую дверь кабинета заглядывал Аристофан. Из-за косяка двери виднелась только его изящно вытянутая голова. Их глаза встретились. На какое-то мгновение Грейс показалось, что она смотрит не в глаза бессмысленному зверьку. Взгляд казался умным. Смышленым. И даже мудрым. Это была не просто звериная настороженность. Аристофан зашипел. Его глаза стали холодными. Два ясных зелено-голубых ледяных шарика. — Ну и что ты хочешь? Он первым отвел взгляд, отвернулся от нее и с надменным равнодушием тихо удалился в коридор, делая вид, что вовсе и не следил за ней, хотя они оба знали, что именно так и было. «Следил? — подумала Грейс. — Я схожу с ума? Кто приказал ему шпионить за мной? Котсильвания? Великомурлындия? Персия?» Однако каламбуры, сколько бы она их ни придумала, не вызывали у нее улыбки. Положив книгу на колени, Грейс сидела, сомневаясь в своем здравомыслии.Глава 9
В четверг днём. Шторы в офисе были, как обычно, плотно закрыты. От двух торшеров струился золотистый рассеянный свет. Микки Маус во всех своих воплощениях по-прежнему широко улыбался. Кэрол и Джейн сидели в креслах с подголовниками. Кэрол очень легко удалось ввести девушку в транс. Во второй раз большинство пациентов гораздо быстрее поддавались гипнозу, чем в первый, и Джейн не была исключением. Вновь, вращая стрелки воображаемых часов назад, Кэрол вернула Джейн в прошлое. На этот раз девушке не понадобилось двух минут, чтобы выбраться за пределы амнезии. Всего за двадцать-тридцать секунд она вернулась к тому моменту, где память ожила для нее. Вздрогнув, она неожиданно выпрямилась в кресле, вытянувшись как струна. Ее глаза раскрылись широко, как у куклы; она смотрела сквозь Кэрол. Лицо исказилось от ужаса. — Лора? — окликнула Кэрол. Обе руки девушки взметнулись к горлу. Она схватилась за него, хрипя, задыхаясь и корчась от боли. Она словно вновь переживала тот же драматический эпизод, что и во время сеанса накануне, только сегодня она не кричала. — Ты не чувствуешь огонь, — сказала ей Кэрол. — Нет никакой боли, милая. Расслабься. Успокойся. Дыма ты тоже не чувствуешь. Ты совершенно не обращаешь на него внимания. Тебе дышится легко, как обычно. Успокойся и расслабься. Девочка не подчинялась. Ее била дрожь, на коже выступил пот. Ее мучили сильные сухие и беззвучные рвотные позывы. Опасаясь, что она опять потеряла контроль над своей пациенткой, Кэрол приложила еще больше усилий, чтобы успокоить ее, но безрезультатно. Джейн начала отчаянно размахивать руками, ее руки, рассекая воздух, то словно что-то тащили, то колотили по пустоте. Кэрол неожиданно поняла, что девочка пыталась что-то сказать, но по какой-то причине потеряла голос. По лицу Джейн покатились слезы. Она беспомощно шевелила губами, силясь выдавить из себя слова, которые упрямо отказывались выходить. Помимо страха в ее глазах появилось отчаяние. Кэрол быстро взяла со своего стола блокнот и фломастер. Положив блокнот на колени Джейн, она вложила фломастер ей в руку. — Напиши мне, милая. Девочка с такой силой сжала фломастер, что суставы пальцев на ее руке побелели и так заострились, словно на руке совершенно не было мяса. Она посмотрела на блокнот. Рвотные позывы прекратились, но дрожь все еще била ее. Кэрол присела возле ее кресла, чтобы видеть блокнот. — О чем ты хочешь мне рассказать? Ее рука дрожала, как у парализованной старухи. Джейн торопливо нацарапала два слова, которые едва можно было разобрать: «Помоги мне». — Как тебе помочь? Вновь: «Помоги мне». — Почему ты не можешь сказать? «Голова». — Поточнее. «Моя голова». — Что с твоей головой? Рука девочки начала чертить какую-то букву, потом, дернувшись, перескочила на строчку ниже, вновь начала писать, опять перескочила уже на третью строчку, словно она не знала, как выразить то, о чем она хотела рассказать. Наконец она в безумном отчаянии начала полосовать фломастером бумагу, оставляя на ней бессмысленные черные перекрестные штрихи. — Прекрати! — сказала Кэрол. — Ты все-таки расслабишься, черт возьми. И успокоишься. Джейн перестала полосовать бумагу. Она молча смотрела на лежавший у нее на коленях блокнот. Кэрол вырвала из него исчерканную страницу и бросила ее на пол. — Хорошо. Теперь ты спокойно и по возможности подробно будешь отвечать на мои вопросы. Как тебя зовут? «Мнили». Кэрол посмотрела на написанное рукой девочки имя, удивляясь, куда делась Лора Хейвенсвуд. — Милли? Ты уверена, что тебя зовут именно так? «Милисент Паркер». — А где же Лора? «Кто такая Лора?» Кэрол посмотрела на изможденное лицо девочки. Появившийся на ее атласной коже пот начинал высыхать. Взгляд ее голубых глаз был пуст и рассеян, рот приоткрыт. Кэрол резко взмахнула перед лицом девушки рукой. Джейн не шевельнулась. Она не притворялась. — Где же ты живешь, Милисент? «В Гаррисберге». — Значит, здесь, в этом городе. А какой у тебя адрес? «Франт-стрит». — Возле реки? А номер дома? Девочка написала. — Как зовут твоего отца? «Рэндолф Паркер». — А мать? На странице блокнота появилась бессмысленная закорючка. — Как зовут твою мать? — повторила Кэрол. Девочку вновь охватила дрожь. Ее снова мучили беззвучные рвотные позывы, и она опять схватилась руками за горло. На подбородке остался след от черного фломастера. Очевидно, ее пугало одно лишь упоминание о матери. Вот над чем придется поработать, но только не сейчас. Успокоив ее, Кэрол задала новый вопрос: — Сколько тебе лет, Милли? «Завтра у меня день рождения». — Правда? И сколько же тебе исполняется? «Мне не дожить». — До чего не дожить? «До шестнадцати». — Так тебе сейчас пятнадцать? «Да». — И ты думаешь, что не доживешь до шестнадцати? Так? «Не доживу». — Почему? Пот уже было почти исчез с лица девушки, но вот у основания волос стали появляться новые капельки. — Почему ты не доживешь до своего дня рождения? — настаивала Кэрол. Девушка вновь, как и до этого, начала неровно полосовать фломастером страницу блокнота. — Перестань, — твердо сказала Кэрол. — Расслабься, успокойся и отвечай на мой вопрос. — Она вырвала из блокнота испорченную страницу. — Так почему ты не доживешь до своего шестнадцатилетия, Милли? «Голова». «Снова-здорово», — подумала Кэрол и спросила: — Что — голова? Что с ней случилось? «Отрублена». Уставившись на это слово, Кэрол затем подняла глаза на девушку. Милли-Джейн пыталась оставаться спокойной, как ей велела Кэрол. Но ее глаза нервно дергались, и в них был ужас. Дрожащие губы стали совершенно бесцветными. Кожа под стекавшими со лба струйками пота была бледной, похожей на воск. Она продолжала что-то нервно вычерчивать в блокноте, но это оказалось лишь повторением одного и того же; «отрублена, отрублена, отрублена, отрублена…» Она нажимала на фломастер с такой силой, что его кончик совсем разлохматился. «Боже мой, — подумала Кэрол, — это похоже на прямой репортаж с того света». Лора Хейвенсвуд, Милисент Паркер. Одна кричит от боли, объятая пламенем; другой отрубили голову. Какое отношение имеют эти девочки к Джейн Доу? Не может же она быть и той и другой. А может, она и не та и не другая? Может, они просто ее знакомые? Или это все плод ее воображения? «Господи, да что же, в конце концов, здесь происходит?» — недоумевала Кэрол. Положив свою руку на руку Джейн, она остановила ее. Говоря ровным мягким голосом, она объяснила девочке, что все хорошо, что она в безопасности и ей необходимо расслабиться. Глаза девушки перестали дрожать. Она откинулась на спинку кресла. — Хорошо, — сказала Кэрол. — Я думаю, на сегодня достаточно, милая. При помощи воображаемых часов она начала переносить девочку в настоящее. Несколько секунд все шло нормально, потом вдруг Милли-Джейн вскочила со своего кресла, сбрасывая на пол блокнот, и швырнула фломастер через всю комнату. Ее бледное лицо вспыхнуло, и вместо безмятежности на нем появилась откровенная ненависть. Поднявшись, Кэрол встала перед девушкой. — Что случилось, милая? В глазах девочки было безумие. Она стала яростно кричать, брызгая слюной: — Скотина! Мерзкая тварь, это она виновата! Подлая сука! Это был голос не Джейн. Он казался непохожим и на голос Лоры. Это был какой-то новый, третий голос, со своими отличительными чертами, и Кэрол предположила, что он не принадлежал и бессловесной Милисент Паркер. Она подозревала, что проявилась совершенно новая личность. Девочка стояла напряженная как струна, сжав руки в кулаки и глядя в никуда. Ее лицо было искажено ненавистью. — Мерзкая гадина, это она сделала! Это опять она! Девочка продолжала истошно визжать, и половина выкрикиваемых ею слов были гнусной непристойностью. Кэрол попыталась ее успокоить, однако на этот раз все оказалось непросто. Еще около минуты она кричала и изрыгала проклятия. Но в конце концов, по настоянию Кэрол, она все-таки овладела собой. Крик прекратился, но ненависть с лица не исчезла. Взяв девушку за плечи и глядя ей в глаза, Кэрол спросила: — Как тебя зовут? — Линда. — Как твоя фамилия? — Бектерман. Кэрол не ошиблась, это была очередная личность. Она попросила девочку произнести свое имя по буквам. — Где ты живешь, Линда? — затем спросила она. — Сэконд-стрит. — В Гаррисберге? — Да. Кэрол поинтересовалась насчет точного адреса, и девушка ответила. Это было всего в нескольких кварталах от Франт-стрит — того адреса, что давала Милисент Паркер. — Как зовут твоего отца, Линда? — Герберт Бектерман. — А как зовут твою мать? Вопрос возымел на Линду такое же действие, как и на Милли. Она тут же вышла из себя и вновь закричала: — Сука! Господи, что же она со мной сделала! Мерзкая, подлая сука! Ненавижу ее! Ненавижу! Потрясенная яростью, смешанной со страданием в голосе девушки, Кэрол быстро успокоила ее. — Сколько тебе лет, Линда? — затем спросила она. — Завтра у меня день рождения. Кэрол нахмурилась. — Я уже разговариваю с Милисент? — Кто такая Милисент? — Я по-прежнему разговариваю с Линдой? — Да. — И завтра у тебя день рождения? — Да. — Сколько тебе исполнится? — Я не доживу. Кэрол моргнула. — Ты хочешь сказать, что ты не доживешь до своего дня рождения? — Да. — Тебе должно исполниться шестнадцать лет? — Да. — Сейчас тебе пятнадцать? — Да. — А почему ты боишься умереть? — Потому что я знаю, что умру. — Откуда ты знаешь? — Потому что я уже умираю. — Ты уже умираешь? — Умерла. — Ты уже умерла? — Умру. — Пожалуйста, поточнее. Ты говоришь мне, что ты уже умерла? Или ты хочешь сказать, что боишься умереть завтра? — Да. — Так что же все-таки? — И то идругое. Кэрол показалось, что она попала на «сумасшедшее чаепитие» в Страну Чудес. — Почему ты думаешь, что умрешь, Линда? — Она убьет меня. — Кто? — Эта сука. — Твоя мать? Девочка согнулась, схватившись за бок, словно ее ударили. Она вскрикнула, повернулась, сделала два неуверенных шага и тяжело упала. Оказавшись на полу, она все еще держалась за бок, дергала ногами, извивалась. Очевидно, ей приходилось терпеть невероятную боль. И хотя боль, конечно, была лишь воображаемой, для девочки она не отличалась от настоящей. Испуганная Кэрол опустилась возле нее на колени и, взяв ее за руку, стала убеждать успокоиться. Когда наконец девушка расслабилась, Кэрол быстро вернула ее в настоящее и вывела из транса. Джейн заморгала, посмотрела на Кэрол и провела возле себя рукой по полу, будто желая удостовериться, что глаза не обманывают ее. — Фу, что это я здесь делаю? Кэрол помогла ей встать на ноги. — Ты, видимо, не помнишь? — Нет. Я вам что-нибудь еще рассказывала о себе? — Нет. Пожалуй, нет. Ты говорила мне, что тебя зовут Милисент Паркер, потом ты сказала мне, что твое имя — Линда Бектерман, но ты ведь не можешь быть и той и другой, да еще и Лорой в придачу. Так что я подозреваю, что ты не являешься ни одной из них. — Я тоже так думаю, — ответила Джейн. — Эти два новых имени значат для меня не больше, чем Лора Хейвенсвуд. Но кто же они такие? Откуда я взяла их имена и почему я вам представлялась ими? — Если бы я только знала! — воскликнула Кэрол. — Но рано или поздно мы все выясним. Мы все узнаем, малыш. Я тебе обещаю. «Однако до чего же мы там можем докопаться, в этом мраке? — спрашивала себя Кэрол. — Может быть, до чего-то такого, что лучше было бы и не раскапывать?»* * *
В четверг днем Грейс Митовски работала в своем розарии позади дома. День оказался теплым и ясным, и она ощутила потребность в физическом труде. Кроме того, в саду не слышен телефон, а без звонков ей было как-то спокойнее. Она еще не была психологически готова подходить к телефону; она пока не решила, как ей быть с этим незнакомцем, если он вновь позвонит, представляясь ее давно умершим мужем. Из-за проливных дождей на прошлой неделе розы выглядели весьма уныло. Последние цветы этого сезона должны были быть сейчас в самой красе, но от дождя с ветром множество больших цветков потеряли пятую, а то и четвертую часть своих лепестков. И тем не менее розарий радовал глаз своими красками. Грейс выпустила Аристофана на улицу немного размяться. Она поглядывала за ним, готовая позвать его сразу же, как только он навострится бежать куда-нибудь за пределы сада. Она была твердо намерена не допускать к нему никого, кто мог бы чем-то отравить или одурманить кота. Но Аристофан, похоже, никуда и не собирался; он находился поблизости, бродя среди роз или целеустремленно гоняясь за мотыльками. Грейс стояла на четвереньках возле разноцветных — желтых, темно-красных и оранжевых — цветов и рыхлила совком землю, когда кто-то сказал: — У вас замечательный сад. Вздрогнув, она подняла голову и увидела худого мужчину с желтой кожей в мятом синем костюме, давным-давно вышедшем из моды. Его рубашка с галстуком тоже безнадежно устарели. Он словно сошел с фотографии, сделанной где-то в сороковых годах. У него были редеющие непонятного цвета волосы, необычные светло-карие, почти бежевые, глаза. Его лицо отличалось тонкими чертами и угловатостью, из-за чего он отчасти походил на ястреба, отчасти напоминал скупого диккенсовского ростовщика. На вид ему было немногим за пятьдесят. Грейс взглянула на калитку в белом дощатом заборе, отделявшем ее владения от улицы. Калитка была распахнута настежь. Очевидно, мужчина прогуливался мимо, увидел из-за тополей растущие с внешней стороны забора розы и решил зайти, чтобы посмотреть на них поближе. На его лице была приятная улыбка, глаза светились добротой; к нему не подходило определение непрошеного гостя, хотя именно таковым он и был. — У вас, должно быть, дюжины две сортов роз. — Три, — поправила Грейс. — Просто очаровательно! — кивая головой, воскликнул незнакомец. В отличие от его внешности голос этого человека не был резким и пронзительным. Он был глубоким, густым и дружелюбным и больше бы подошел дюжему, крепкому парню. — Вы сами ухаживаете за этим садом? Грейс села на корточки, по-прежнему держа в руках совок. — Конечно. Я получаю от этого удовольствие. И к тому же… я не чувствовала бы, что это мой сад, если бы наняла кого-нибудь в помощники. — Верно! — согласился незнакомец. — Я вас очень хорошо понимаю. — Вы недавно сюда переехали? — спросила Грейс. — Нет-нет. Я жил в квартале отсюда, но это было давным-давно. — Глубоко вздохнув, он вновь улыбнулся. — Ах, как замечательно пахнут розы! Ничего даже близко не может сравниться с их ароматом. Да, у вас великолепный сад. Просто великолепный. — Благодарю вас. Ему в голову пришла какая-то идея, и он щелкнул пальцами. — Я должен что-нибудь об этом написать. Может получиться первоклассная статейка, которая понравится читателям. Фантастический островок на заднем дворе. Я уверен, что из этого кое-что получится. А в мою работу это внесет некоторое разнообразие. — Вы — писатель? — Журналист, — ответил он, глубоко вдыхая и наслаждаясь ароматом цветов. — Вы из местной газеты? — «Морнинг ньюс». Меня зовут Палмер Уэйнрайт. — Грейс Митовски. — Я надеялся, вам знакомы мои статьи, — улыбаясь сказал Уэйнрайт. — К сожалению, я не читаю «Морнинг ньюс». Мне каждое утро приносят «Пэтриот ньюс». — Ну что ж, — ответил он, пожимая плечами, — это тоже неплохая газета. Но раз вы не читаете «Морнинг ньюс», то вы, естественно, не могли прочесть моей статьи о деле Бектерманов. Когда Грейс поняла, что Уэйнрайт не собирается быстро уходить, она встала, разминая свои затекшие ноги. — Дело Бектерманов? Что-то знакомое. — Это, конечно, было во всех газетах. Но у меня получился целый сериал из пяти частей. Очень неплохо, хоть и нескромно говорить об этом самому. Меня даже выдвинули кандидатом на Пулитцеровскую премию[4]. Не слышали? Честное слово. — Правда? Да, это о чем-то говорит! — воскликнула Грейс, не зная, насколько она должна воспринимать его всерьез, и в то же время не желая его обидеть. — Ну надо же! Подумать только — кандидатом на Пулитцеровскую премию! Ей вдруг показалось, что их беседа принимает какой-то странный оборот. Она уже не была мимолетной. Грейс почувствовала, что Уэйнрайт пришел не для того, чтобы восхищаться ее розами или просто поболтать, а для того, чтобы рассказать ей, совершенно незнакомому ему человеку, о том, что он был кандидатом на Пулитцеровскую премию. — Премию я так и не получил, — продолжил Уэйнрайт, — но, на мой взгляд, быть кандидатом почти ничем не хуже, чем быть обладателем этой премии. Я хочу сказать, что из десятков тысяч ежегодно публикуемых газетных статей лишь несколько удостаиваются такой чести. — Вы мне не напомните, — попросила Грейс, — что это за дело Бектерманов? Добродушно рассмеявшись, он покачал головой. — Это оказалось совсем не то, что я думал. Провалиться мне на этом месте. Я представлял его как запутанную загадку в стиле Фрейда. Ну, знаете, суровый папаша, видимо, испытывающий порочное влечение к своей же собственной дочери, неравнодушная к алкоголю мать и бедная девочка, оказавшаяся среди этих проблем. Несчастный ребенок подвергается страшному, непостижимому для нее и невыносимому психологическому давлению и в один прекрасный момент просто не выдерживает — ломается. Вот как я себе это представлял. Вот так я все и описал. Я считал себя блестящим детективом, докопавшимся до самых истоков трагедии Бектерманов. Но это оказалось заблуждением. На самом деле все было намного невероятнее, чем я мог бы себе представить. Это было слишком невероятно, чтобы кто-нибудь из серьезных репортеров рискнул написать. Ни одна из известных газет не поместила бы это среди информационных сообщений. Если бы я знал правду и если бы мне как-то удалось ее опубликовать, пришел бы конец моей карьере. «Что же, черт возьми, происходит? — недоумевала Грейс. — Похоже, ему просто не терпится рассказать мне об этом со всеми подробностями, его просто так и подмывает это сделать, хотя он видит меня в первый раз». Глядя в бежевые глаза Уэйнрайта, она вдруг поняла, что оказалась один на один с этим странным человеком. Вокруг по периметру ширмой росли деревья, и место выглядело весьма уединенным. — Это было дело об убийстве? — спросила Грейс. — Было и есть, — ответил Уэйнрайт. — Дело не кончилось на Бектерманах. Все еще продолжается. Это бесконечное проклятье. Оно продолжается, и сейчас ему пора положить конец. Поэтому-то я здесь. Я пришел, чтобы сказать вам, что это имеет непосредственное отношение к Кэрол. Она оказалась в опасности. Вы должны помочь ей. Уберите ее от девчонки. Вытаращившись на него, Грейс отказывалась верить в то, что, без сомнения, только что услышала. — Есть определенные силы, темные и могущественные, — спокойно продолжал Уэйнрайт, — которым бы хотелось… Злобно завопив, Аристофан прыгнул на Уэйнрайта с яростной ненавистью. Вскочив к нему на грудь, он добрался до лица. Вскрикнув, Грейс в страхе отпрянула. Пошатнувшийся Уэйнрайт схватил кота обеими руками и безуспешно попытался отцепить его от своего лица. — Ари! — крикнула Грейс. — Прекрати! Аристофан вонзил когти Уэйнрайту в шею и кусал его за щеку. Уэйнрайт почему-то не кричал. Он беззвучно сражался с котом, хотя тот определенно норовил разодрать ему лицо. Грейс дернулась было в сторону Уэйнрайта, чтобы помочь ему, еще не зная как. Кот пронзительно вопил. Он откусил у Уэйнрайта кусок щеки. «О Господи! Нет!» Грейс быстро подошла, замахнулась совком, но замешкалась. Она испугалась, что вместо кота может ударить мужчину. Уэйнрайт неожиданно повернулся и с продолжающим висеть на нем котом пошел прочь через розовые кусты, мимо белых и желтых цветов. Он зашел в живую изгородь, доходившую ему до пояса, и, словно упав на газон, исчез из виду. Грейс, слыша, как колотится ее сердце, поспешила к кустам и, обогнув их, обнаружила, что Уэйнрайт пропал. Там был только кот. Он стремглав прошмыгнул мимо нее, пронесся через сад к крыльцу задней двери и через открытую дверь исчез в доме. Куда же делся Уэйнрайт? Ушел в полубессознательном состоянии, раненный? Истекая кровью, отключился где-нибудь в углу сада? Во дворе хватало кустов, довольно обширных и густых, чтобы в них мог скрыться человек комплекции Уэйнрайта. Грейс осмотрела каждый куст, но не нашла и следа репортера. Она взглянула в сторону калитки, которая вела на улицу. Нет. Он не мог пройти такое расстояние незаметно для нее. Испуганная и сбитая с толку, Грейс, недоуменно моргая, смотрела на залитый солнечным светом сад и пыталась понять, в чем дело. В гаррисбергском телефонном справочнике не нашлось телефонов ни мистера Рэндолфа Паркера, ни Герберта Бектермана. Хоть это и озадачило Кэрол, но она уже ничему не удивлялась. Попрощавшись со своим последним на тот день пациентом, они с Джейн отправились на Франт-стрит, по тому адресу, что дала Милисент Паркер. Там оказался большой, впечатляющий, построенный в викторианском стиле особняк, но он уже давно не был чьим-то домом. Газон перед ним был переоборудован под стоянку для машин. Перед въездом красовалась небольшая табличка:МОЭМ ЭНД КРИКТОН МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯМного лет назад эта часть Франт-стрит была одним из самых роскошных районов столицы Пенсильвании. За последние пару десятилетий многие старые особняки были снесены, чтобы освободить место для безликих современных зданий. И все же некоторые старинные дома оставили — их красиво отреставрировали снаружи и, переоборудовав внутри, приспособили под различные коммерческие офисы. К северу по Франт-стрит еще сохранился привлекательный жилой район, но не здесь, куда они приехали по данному Милисент Паркер адресу. «Моэм энд Криктон» представляла собой клинику, где работали семь врачей — два терапевта и пять специалистов. Кэрол побеседовала в приемной со служащей, женщиной с крашенными хной волосами по имени Полли, которая поведала ей, что среди докторов не было ни одного Паркера. Она сообщила Кэрол также и то, что ни среди санитарок, ни среди других служащих не было никого с такой фамилией. Более того, «Моэм энд Криктон» располагалась по этому адресу уже почти семнадцать лет. Кэрол пришло в голову, что Джейн могла оказаться среди пациентов клиники и в ее подсознании остался адрес «Моэм энд Криктон», который и назвала «личность» Милисент Паркер. Однако Полли, работавшая там с самого первого дня, уверяла, что никогда не видела девочку. Но амнезия Джейн не оставила ее равнодушной, и, будучи чуткой от природы, Полли согласилась проверить в регистратуре «Моэм энд Криктон», были ли Лора Хейвенсвуд, Милисент Паркер или Линда Бектерман пациентками клиники. Все оказалось впустую — ни одно из этих имен в картотеке не значилось. Грейс вышла через калитку на улицу и посмотрела налево и направо. Палмера Уэйнрайта не было и в помине. Она вернулась в свой дворик, закрыла и заперла калитку и направилась к дому. Уэйнрайт в ожидании ее сидел на ступеньках крыльца. Оторопев, она остановилась футах в пятнадцати от него. Он встал. — Ваше лицо… — плохо соображая, произнесла она. На его лице не было ни единой царапины. Он улыбнулся, будто ничего и не произошло, и сделал пару шагов в ее сторону. — Грейс… — Кот… — сказала она. — Я видела, как ваша щека… шея… он когтями выдрал… — Послушайте, — начал Уэйнрайт, сделав еще шаг, — силы, темные и могущественные, действуют так, чтобы все закончилось плохо. Темные силы упиваются трагедией. Они хотят, чтобы все закончилось бессмысленным убийством и кровью. Этого нельзя допустить, Грейс. Нельзя, чтобы это повторилось. Вы должны уберечь Кэрол от девочки ради них обеих. Грейс смотрела на него, раскрыв от удивления рот. — Кто вы, черт возьми? — Кто вы? — сказал Уэйнрайт, приподняв одну бровь. — Сейчас это гораздо важнее. Вы не только та, кем себя считаете. Вы — не только Грейс Митовски. «Он сумасшедший, — подумала Грейс. — А может быть, я… или мы оба… совершенно выжили из ума?» — Так это вы звонили по телефону?! — возмутилась она. — Вы тот мерзавец, который имитировал голос Леонарда?! — Нет, — ответил он. — Я… — Немудрено, что Ари бросился на вас. Это вы дали ему яд, наркотики или что-нибудь еще вроде этого. Это были вы, и он вас узнал. «Но куда же подевались раны на лице, что с истерзанной шеей? Как, черт побери, все так быстро могло зажить?» — спрашивала себя Грейс. Как? Она старалась отбросить от себя эти мысли, отказывалась об этом думать. Должно быть, она ошиблась. Ей наверняка померещилось, что Ари ранил этого человека. — Да-да, — продолжала она, — именно вы стоите за всеми этими зловещими вещами, которые творятся. Убирайтесь отсюда, мерзавец! — Грейс, есть силы… — Внешне Уэйнрайт теперь казался таким же, как и несколько минут назад, когда впервые заговорил с ней. Теперь, как и тогда, он не выглядел сумасшедшим. На вид он не представлял никакой опасности, но продолжал что-то нести по поводу каких-то темных сил: — …добра и зла, темные и светлые. Вы — на стороне праведников, Грейс. А вот кот… С ним дело обстоит иначе. Вам следует всегда остерегаться кота. — Убирайтесь прочь! — не выдержала Грейс. Уэйнрайт направился было к ней. Она угрожающе взмахнула своим совком, едва не попав странному гостю по лицу, и продолжала размахивать им в воздухе, хотя и не желая в действительности ударить его, пока не окажется в безвыходном положении, а просто стремясь не подпускать его и, улучив момент, попытаться сбежать, поскольку он находился на ее пути к дому. И вот ей это удалось; она побежала к двери на кухню, болезненно ощущая свои старые, пораженные артритом ноги. Сделав всего несколько шагов, Грейс сообразила, что ей не следовало бы поворачиваться спиной к этому ненормальному, и она резко повернулась, чтобы дать ему отпор, тяжело дыша, уверенная в том, что он догоняет ее, и, возможно, с ножом в руке… Но он исчез. Пропал. Как и прежде. У него не было времени добраться до кустов, довольно больших, чтобы скрыть человека. Он бы не успел это сделать за ту долю секунды, что она была к нему спиной. Даже если бы он был гораздо моложе, опытным бегуном в отличной форме, и то за это время он успел бы пробежать лишь полпути до калитки. Так где же он? Где он? Из клиники «Моэм энд Криктон» на Франт-стрит Кэрол и Джейн поехали по адресу на Сэконд-стрит, где предположительно жила Линда Бектерман. Это было красивое место с замечательным домом во французском стиле, построенным лет пятьдесят назад и находившимся в отличном состоянии. Дома никого не оказалось, но на почтовом ящике значилась фамилия Николсон, а не Бектерман. Они позвонили в соседний дом и поговорили с некой Джин Гантер, которая подтвердила, что «французский» дом является собственностью семьи Николсон. — Мы с мужем живем здесь шесть лет, — сказала миссис Гантер, — и со дня нашего переезда сюда Николсоны были нашими соседями. Кажется, они говорили, что живут в этом доме с 1965 года. Фамилия Бектерман не вызвала у Джин Гантер никаких ассоциаций. В машине, уже по дороге домой, Джейн сказала: — Я действительно доставляю вам много хлопот. — Не говори ерунду, — отозвалась Кэрол. — Мне где-то даже нравится играть роль детектива. Кроме того, если мне удастся прорваться сквозь завесу твоей памяти, если я докопаюсь до истины, разгадав все загадки твоего подсознания, я смогу написать об этом случае в любом журнале, имеющем отношение к вопросам психологии. Я смогу сделать себе имя. Не исключено, что я смогу даже написать об этом и книгу. Так что, видишь, благодаря тебе, малыш, я когда-нибудь смогу стать известной и богатой. — А когда вы станете известной и богатой, вы снизойдете до того, чтобы поговорить со мной? — ехидно спросила девочка. — Ну конечно же. Правда, тебе, разумеется, придется договориться со мной о приеме за неделю. Они улыбнулись друг другу.
* * *
С кухонного телефона Грейс позвонила в редакцию «Морнинг ньюс». Диспетчер в офисе не нашла телефона Палмера Уэйнрайта. — Насколько мне известно, он здесь не работает, — сказала она. — Уверена, что он — не репортер. Может быть, он один из новых редакторов или еще кто-нибудь. — Не могли бы вы соединить меня с главным редактором? — попросила Грейс. — Его зовут мистер Куинси, — ответила диспетчер и соединила с нужным телефоном. Куинси не было на месте, а его секретарша не знала, работал ли в газете человек по имени Палмер Уэйнрайт. — Я здесь недавно, — извиняющимся тоном поведала она — Я исполняю обязанности секретарши мистера Куинси только с понедельника и еще многих не знаю. Если вы оставите свое имя и номер телефона, я скажу мистеру Куинси, чтобы он вам перезвонил. Дав ей свой телефон, Грейс сказала: — Передайте ему, что с ним хотела бы поговорить доктор Грейс Митовски и что я займу у него всего несколько минут. Она редко прибавляла к своему имени «доктор», но это был один из подходящих моментов, так как докторам всегда перезванивают. — У вас что-нибудь срочное, доктор Митовски? Боюсь, что мистер Куинси появится не раньше завтрашнего утра. — Вот и хорошо, — ответила она. — Пусть сразу же позвонит мне, как бы рано это ни было. Положив трубку, она подошла к кухонному окну и посмотрела на свой розарий. Не мог же Уэйнрайт сквозь землю провалиться?!* * *
Третий вечер подряд Пол, Кэрол и Джейн готовили ужин вместе. С каждым днем девочка все больше осваивалась и к ней все больше привыкали. «Если она останется у нас еще на неделю, — думал Пол, — мне покажется, что она так все время здесь и жила». На ужин были зеленый салат и баклажаны со спагетти. Когда они перешли к десерту — маленьким порциям ароматного спумони[5], — Пол сказал: — А что, если мы отложим нашу поездку в горы на пару деньков? — Почему? — спросила Кэрол. — Я немного отстал от своего графика, и у меня сейчас очень ответственное место в книге, — ответил Пол. — Я написал две трети самой сложной сцены в романе, и мне бы не хотелось оставлять ее незавершенной на время отпуска. Я не смогу полностью отвлечься. Если бы мы поехали не завтра, а в воскресенье, у меня была бы возможность завершить главу. И у нас бы осталось на поездку восемь дней. — Делайте, как вам удобнее, без оглядки на меня, — вставила Джейн. — Я как лишний груз — только добавляю вам хлопот. Я поеду с вами, куда бы и когда бы вы меня ни взяли. Кэрол потрясла головой. — Не далее как на прошлой неделе, когда мистер О'Брайен заметил, что мы слишком усердствуем в работе, мы решили измениться, разве не так? Нам нужно научиться отводить время для досуга и урезонивать свой трудовой энтузиазм. — Ты права, — согласился Пол. — Но лишь в этот раз… Он не договорил, потому что увидел, что Кэрол неумолима. Она не отличалась несговорчивостью, но, когда твердо решала не идти на компромисс, переубедить ее было все равно что сдвинуть с места Гибралтар. — Ну хорошо, — со вздохом сказал Пол. — Твоя взяла. Едем завтра утром. Я просто возьму с собой машинку и рукопись. Я смогу закончить этот эпизод и в домике… — Вот уж этому не бывать, — заявила Кэрол, для пущей убедительности отстукивая каждое слово ложкой по десертной тарелочке. — Если ты возьмешь все это с собой, ты на одной сцене не остановишься. И ты сам это прекрасно знаешь. Слишком большой соблазн, когда пишущая машинка под рукой. Тебе не устоять. И весь наш отдых пойдет коту под хвост. — Но я не могу откладывать незавершенный эпизод на десять дней, — жалобно произнес он. — Если я продолжу его после поездки, сменится эмоциональная окраска, будет утрачена легкость изложения. Отправив в рот полную ложку спумони, Кэрол сказала: — Ладно. Сделаем так. Мы с Джейн отправимся завтра же утром, как мы и собирались. Ты останешься, закончишь свой эпизод и приедешь к нам, как только освободишься. Он нахмурился. — Не уверен, что это хорошая идея. — А что? — По-моему, это несколько неосмотрительно — ехать вам одним. Летний сезон уже закончился. Там сейчас не так много отдыхающих, большинство домиков пустуют… — Ради Бога, перестань, — возразила Кэрол. — Страшного снежного человека в тех горах еще никто не видел. Мы же в Пенсильвании, а не в Тибете, Пол. — Она улыбнулась. — Мне очень приятно, что ты о нас беспокоишься, дорогой, но с нами все будет в порядке. Позже, когда Джейн уже пошла спать. Пол сделал последнюю попытку переубедить Кэрол, хотя заранее знал, что это бесполезно. Прислонившись к встроенному шкафу, он смотрел, как Кэрол отбирала для поездки одежду. — Послушай, давай начистоту, а? — По-моему, никогда и не было иначе. Ты о чем? — Девочка. Она нисколько не опасна? Кэрол отвлеклась от одежды и, обернувшись к нему, посмотрела с явным удивлением. — Джейн? Опасна? Такая прелестная девушка, как она, вероятно, разобьет много сердец. И если бы красота сражала наповал, то она бы оставляла после себя улицы, усеянные трупами. Его это не забавляло. — Мне бы не хотелось, чтобы ты отнеслась к этому легкомысленно. На мой взгляд, вопрос серьезный. И я хочу, чтобы ты хорошенько подумала. — Мне не о чем думать, Пол. У нее, несомненно, потеря памяти. А так она нормальный ребенок с устойчивой психикой. Действительно, нужна необыкновенная стойкость, чтобы при амнезии держать себя в руках так, как это делает она. Окажись я на ее месте, думаю, мне бы едва ли удалось это процентов на пятьдесят. Я или превратилась бы в неврастеничку, или утонула бы в депрессиях. Она же живая и жизнерадостная. А такие люди не опасны. — Никогда? — Почти. Ломаются, как правило, замкнутые и негибкие. — Однако после того, что происходило с ней на твоих сеансах, мое беспокойство по этому поводу вполне оправдано, — заметил он. — Она здорово настрадалась. Я думаю, что ей пришлось пережить жуткую драму, нечто настолько ужасное, что она отказывается воспроизвести это даже под действием гипноза. Она уводит от необходимой информации, сбивает с нее, старается не выдавать, но это не значит, что она хоть в малейшей степени опасна. Она испугана. Я почти уверена, что она когда-то подверглась физическому или психологическому воздействию. Она была жертвой, Пол, а не обидчиком. Кэрол отнесла к разложенным на кровати чемоданам две пары джинсов. Пол последовал за ней. — Ты намерена продолжать с ней сеансы и там, в домике? — Да. Мне кажется, следует продолжить попытки пробить возникшую у нее стену смятения и замешательства. — Нечестно. — Ммм? — Это — работа, — сказал он. — Мне с собой работу брать нельзя, а сама собираешься работать. Это не по правилам, доктор Трейси. — К черту правила, доктор Трейси. Для сеансов с Джейн мне нужно лишь полчаса в день. А тащить с собой в хвойный лес «Ай-би-эм Селектрик» и стучать по клавишам по десять часов в день — нечто иное. Ты что, не соображаешь, что все белки, олени и зайцы будут жаловаться на шум?* * *
Еще позже, когда они уже легли в постель и выключили свет, Пол сказал: — Черт, похоже, я слишком увлекся своей книгой. Отложу-ка я эту сцену на десять дней. У меня, может быть, даже и лучше получится, если я не торопясь все обдумаю. Пожалуй, я поеду завтра с тобой и Джейн без пишущей машинки. Идет? Даже карандаша с собой не возьму. — Нет, — отозвалась Кэрол. — Как — нет? — Я хочу, чтобы, оказавшись в горах, ты совсем выкинул эту свою книгу из головы. Я хочу подолгу гулять в лесу. Я хочу поплавать на лодке по озеру, поудить рыбу, почитать что-нибудь и вести праздный образ жизни, словно работы не существует. Если ты до поездки не закончишь этот свой эпизод, то будешь без конца думать о нем весь отпуск. У тебя не будет ни минуты умиротворения, а вместе с тобой и у меня. И не говори мне, что я не права. Я знаю тебя лучше, чем себя. Так что ты останешься, допишешь все, что тебе надо, до конца и приедешь к нам в воскресенье. Поцеловав его и пожелав ему спокойной ночи, она взбила подушки и приготовилась засыпать. Он лежал, глядя в темноту, и думал о словах во вчерашней игре в скрэбл.КЛИНОК Р О В СМЕРТЬ О Г И Л ЖЕРТВАИ еще одно слово, про которое он так никому и не сказал, — КЭРОЛ… Он по-прежнему считал, что бессмысленно было говорить ей об этом последнем из шести слов. Какую реакцию могло бы это у нее вызвать, кроме беспокойства? Никакой. Ни она, ни он не могли ничего сделать. Оставалось только ждать. Угроза — если она была реальной — могла исходить из десятков, а то и из сотен тысяч источников. Она могла возникнуть где угодно и когда угодно. Как дома, так и в горах. Одно и то же место могло оказаться как опасным, так и безопасным. Однако, может быть, все же те шесть слов были лишь совпадением? Диким, но бессмысленным совпадением? Уставившись в темный потолок, он изо всех сил пытался убедить себя в том, что не существует никаких потусторонних посланий, дурных предзнаменований и сверхъестественных предсказаний. Всего какую-то неделю назад ему бы не пришлось себя так убеждать.
* * *
Кровь. Нужно скорее убрать, стереть ее, каждую липкую капельку, смыть, скорее, скорее, смыть все предательские брызги, пока никто не узнал, пока никто не увидел и не понял, в чем дело, смыть, смыть… Девочка проснулась в ванной, горела лампа дневного света. Она опять бродила во сне. Она с удивлением обнаружила, что была совершенно голой. Гольфы, трусики и майка валялись возле нее на полу. Она стояла перед раковиной и терла себя мокрой мочалкой. Взглянув на себя в зеркало, она оцепенела при виде своего отражения. Ее лицо было измазано кровью. Ее руки забрызганы кровью. На ее соблазнительно вздернутой обнаженной груди блестела кровь. Она тут же поняла, что кровь не ее. На ней не было ни пореза, ни раны. Это она кого-то ранила или порезала. «О Боже!» Она смотрела на свое жуткое отражение, не в силах оторвать глаз от перепачканных кровью губ. «Что же я наделала?» Медленно опуская взгляд вниз по окрасившейся в густо-красный цвет шее, она посмотрела на отражение своего правого соска, на кончике которого висела большая пунцовая капля крови. Переливающаяся кровавая жемчужинка, задрожав на ее упругом соске, уступила силе тяжести и упала. Оторвавшись от зеркала, она опустила голову, чтобы посмотреть, куда упала капля. Крови не было. Когда она посмотрела на себя, а не на свое отражение, она не увидела никакой крови. Она прикоснулась к своей голой груди. Грудь была мокрой, потому что она терла ее мочалкой, но это была просто вода. Брызги крови исчезли и с рук. Она отжала мочалку. С нее стекала чистая вода. Озадаченная, она вновь подняла глаза к зеркалу и опять увидела кровь. Она вытянула руку. Рука на самом деле не была покрыта кровью, но в зеркале она казалась одетой в кровавую перчатку. «Воображение, — решила она. — Зловещая иллюзия. Вот и все. Никого я не трогала. Ничьей крови я не проливала». Пока она силилась понять, что происходит, ее отражение исчезло и стекло перед ней почернело. Оно словно превратилось в окно, выходящее в другое измерение, потому что в нем не отражалось ничего из того, что стояло в ванной. «Это сон, — думала она. — Я на самом деле лежу в уютной постельке. Мне только снится, что я в ванной. Я могу все это прекратить, стоит мне только проснуться». С другой стороны, если это сон, то почему же она так явно чувствует босыми ногами холодные керамические плитки? Если бы это был только сон, ощутила бы она на своей груди холодную воду? Ее охватила дрожь. В беспросветной пустоте по ту сторону зеркала что-то блеснуло. «Проснись!» Что-то серебристое. Оно продолжало поблескивать вновь и вновь, раскачиваясь взад-вперед, увеличиваясь в размерах. «Проснись же, ради Бога!» Она хотела побежать. Не смогла. Она хотела крикнуть. Не крикнула. Мгновение спустя серебристый предмет заполнил собой все зеркало, вытеснив темноту, из которой он появился; потом он как-то вырвался из зеркала, не разбив стекла, и, продолжая раскачиваться, оказался в ванной. Она увидела, что это нацеленный ей в лицо топор, блестевший, как серебро, при свете лампы дневного света. Когда зловещее оружие уже готово было опуститься ей на голову, у нее подкосились ноги и она потеряла сознание. Незадолго до рассвета Джейн вновь проснулась. Она лежала в постели. Голая. Откинув одеяло, она села и увидела свою майку, трусики и гольфы на полу возле кровати. Она поспешно оделась. В доме была тишина. Супруги Трейси еще спали. Джейн тихо проскользнула по коридору к ванной для гостей. Помедлив на пороге, она зашла в нее и включила свет. Никакой крови. Зеркало над раковиной было просто зеркалом, отражавшим лишь ее встревоженное лицо без каких-то сверхъестественных дополнений. «Ну хорошо, — подумала она, — возможно, я и разгуливала во сне. Возможно, я и приходила сюда голая и пыталась смыть с себя несуществующую кровь. Но все остальное происходило в кошмарном сне. Этого не было. Просто не могло быть. Невероятно. Зеркало не может так изменяться». Она смотрела в свои голубые глаза. Она не могла понять, что в них. — Кто же я? — тихо спросила она.* * *
Всю неделю Грейс мучила бессонница, но, даже когда и удавалось заснуть, сны ей не снились. Однако этой ночью она в течение нескольких часов металась в постели, пытаясь очнуться от кошмара, казавшегося бесконечным. Ей снилось, что горел дом. Большой роскошный викторианский дом. Она стояла около него и стучала по покосившимся дверям подвала, выкрикивая одно и то же имя: «Лора! Лора!» Она знала, что Лора осталась в подвале горящего дома и выйти оттуда можно было только через эти двери. Двери оказались запертыми изнутри. Она колотила по дереву голыми руками, и каждый удар больно отдавался у нее в локте, в плечах и в спине. Из-за отсутствия топора, какой-нибудь другой железки или инструмента, при помощи которых можно было бы пробить двери подвала, ее охватывало отчаяние — у нее были только ее кулаки, но она продолжала звать Лору и колотить, не обращая внимания на то, что ее израненные руки кровоточили. На втором этаже выбило окна, и ее всю обсыпало стеклами, но она не ушла от покосившихся подвальных дверей, не убежала прочь. Она продолжала колошматить своими окровавленными кулаками по деревянным дверям, молясь, чтобы девочка наконец ответила ей. Она не обращала внимания на сыпавшиеся сверху искры, грозившие поджечь ее платье. По ее щекам текли слезы, она кашляла всякий раз, когда ветер гнал в ее сторону едкий дым, и проклинала двери, которым ничего не стоило выдерживать ее яростные, но безрезультатные атаки. Снившийся ей кошмар не имел кульминационного момента или какого-нибудь жуткого апогея. Он просто продолжался всю ночь, методично изматывая ее, и лишь за несколько минут до рассвета Грейс удалось вырваться из жарких цепких объятий сна и проснуться, с беззвучным криком на устах колотя по матрасу. Сев на краешек кровати, она обхватила голову руками, чувствуя, как в висках стучит кровь. Во рту был привкус пепла и горечи. Сон показался настолько явным, что она даже ощущала на себе бело-голубое платье, несколько тесноватое в плечах и стягивающее грудь, когда она била по дверям подвала. И теперь, совершенно стряхнув с себя сон, она все еще продолжала ощущать на себе это узковатое платье, хотя на ней была свободная ночная рубашка и она не носила подобного платья никогда в жизни. И, что еще хуже, она чувствовала запах увиденного во сне пожара. Ощущение дыма так долго не проходило, что Грейс уже подумала, будто горит ее собственный дом. Накинув на себя халат и надев шлепанцы, она обошла все комнаты. Никакого огня. Но еще на протяжении часа ее преследовал запах паленого дерева и смолы.Глава 10
В десять утра в пятницу Пол, сев за свой письменный стол, позвонил Линкольну Уэрту, полицейскому детективу, который вел дело Джейн Доу. Он сказал Уэрту, что Кэрол собирается поехать на несколько дней отдохнуть за город и хочет взять с собой девушку. — Никаких возражений, — согласился Уэрт. — У нас пока нет ничего обнадеживающего, и я почти уверен, в ближайшее время ничего не будет. Мы, разумеется, расширяем район поисков. Поначалу мы лишь передали фотографию с описанием девочки властям соседних округов. Когда это не помогло, мы передали имевшиеся у нас сведения во все полицейские управления штата. Вчера утром мы пошли дальше — разослали информацию в семь соседних штатов. Но, если хотите, я вам по секрету расскажу свои соображения. У меня такое чувство, что, даже если мы расширим территорию поисков аж до Гонконга, мы все равно не найдем никого, кто знал бы эту девочку. У меня просто такое предчувствие. Все поиски окажутся напрасными. Поговорив, с Уэртом, Пол спустился в гараж, где Кэрол и Джейн укладывали свои вещи в багажник «Фольксвагена». Чтобы не огорчать девушку, Пол не стал рассказывать ей пессимистичные прогнозы Уэрта. — Он сказал, что не возражает, если тебя несколько дней не будет в городе. Суд не ограничивал твое передвижение Гаррисбергом. Я объяснил ему, где находится домик, так что, если кто-нибудь из близких объявится, гаррисбергская полиция сообщит местному шерифу, и тот доберется до нас или пришлет кого-то из своих людей, чтобы сказать, что тебе необходимо вернуться. Кэрол поцеловала его на прощание. Джейн тоже робко поцеловала его в щеку и, садясь в машину, густо покраснела. Стоя перед домом, он смотрел им вслед, пока красный «Фольксваген» не скрылся из виду. Небо, почти неделю остававшееся чистым, вновь затягивали тучи. Они были однородно серыми, как шифер. И отвечали настроению Пола. Когда на кухне зазвонил телефон, Грейс вся напряглась, ожидая услышать голос Леонарда. Она села на стул возле небольшого встроенного столика, протянув руку, положила ее на трубку висевшего на стене телефона, подождала, пока он прозвонит еще раз, и затем ответила. К ее облегчению, это оказался Росс Куинси, главный редактор «Морнинг ньюс», который перезванивал ей по ее вчерашней просьбе. — Вы интересовались одним из наших репортеров, доктор Митовски? — Да. Палмером Уэйнрайтом. Последовала пауза. — Он у вас работает? — спросила Грейс. — Гм… Палмер Уэйнрайт работал в «Морнинг ньюс», верно. — Кажется, он чуть не получил Пулитцеровскую премию. — Да. Но… с тех пор прошло уже довольно много времени. — Правда? — Раз вам известно, что он был кандидатом на получение Пулитцеровской премии, вы, вероятно, должны знать, что его выдвигали за серию статей об убийствах Бектерманов. — Да. — Это было еще в 1943 году. — Так давно?! — Э-э… А что вы конкретно хотели узнать о Палмере Уэйнрайте, доктор Митовски? — Я бы хотела с ним поговорить, — ответила она. — Мы встречались, и у нас осталось одно незавершенное дело, которым мне нужно было бы заняться. Это… личный вопрос. Куинси ответил не сразу. — Вы одна из его родственниц? — Мистера Уэйнрайта? О нет. — Кто-то из его друзей? — Нет-нет, и не подруга. — Тогда, мне кажется, я могу быть с вами совершенно откровенным, доктор Митовски. К сожалению, Палмера Уэйнрайта нет в живых. — Он умер! — воскликнула пораженная Грейс. — Вы наверняка не исключали, что может быть и такое. Он никогда не отличался здоровьем, сильно болел. Вы, очевидно, давно не общались с ним. — Да не так уж и давно, — заметила Грейс. — Как минимум лет тридцать пять, — сказал Куинси. — Он умер в 1946 году. Воздух за спиной Грейс внезапно словно вдруг похолодел, будто ей в затылок выдохнул мертвец. — Тридцать один год, — ошеломленно произнесла она. — Вы, должно быть, ошибаетесь. — Нисколько. Я был тогда еще юнцом, мальчиком на побегушках. Палмер Уэйнрайт являлся одним из моих героев. Я очень переживал, когда он умер. — Мы случайно говорим не о разных людях? — спросила Грейс. — Он довольно худой, с заостренными чертами лица, светло-карими глазами и желтовато-бледной кожей. У него несколько более густой голос, чем можно предположить, глядя на него. — Да-да, это Палмер. — Ему где-то около пятидесяти пяти? — Он умер в тридцать шесть, но выглядел он лет на двадцать старше, — сказал Куинси. — Он постоянно болел, просто не вылезал из болезней, и все закончилось раком. От этого он быстро состарился. Он был стойким человеком, но больше уже выдержать не мог. «Его похоронили тридцать один год назад? — думала она. — Но ведь я только вчера его видела. У нас был весьма странный разговор в розарии. Что вы на это скажете, мистер Куинси?» — Доктор Митовски? Вы меня слышите? — Да. Извините. Послушайте, мистер Куинси, мне очень неудобно отнимать ваше драгоценное время, но это очень важно. Я думаю, что дело Бектерманов довольно тесно связано с тем личным делом, которое я хотела обсудить с мистером Уэйнрайтом. Однако я ничего не знаю об этих убийствах. Вы бы не могли рассказать мне, в чем там суть? — Семейная трагедия, — сказал Куинси. — Накануне своего шестнадцатилетия дочь Бектерманов обезумела. У нее что-то случилось с головой. Кажется, она вбила себе в голову, что ее мать собирается убить ее до того, как ей исполнится шестнадцать, что, разумеется, было совершеннейшей ерундой. Однако она была в этом уверена и бросилась на мать с топором. Отец и гостивший в то время у них ее двоюродный брат пытались ей помешать, но она убила их. Матери все-таки удалось отнять у нее топор. Но девчонка не успокоилась. Она схватила каминную кочергу. Когда мать, миссис Бектерман, оказалась загнанной в угол и ее голова в любую секунду могла расколоться от удара кочергой, ей ничего не оставалось делать, кроме как пустить в ход топор. Она нанесла девочке всего один удар. Однако рана оказалась довольно глубокой. На следующий день ребенок скончался в больнице. Миссис Бектерман совершила убийство в целях самообороны, и против нее не было выдвинуто обвинения, но она так мучилась из-за убийства своей собственной дочери, что лишилась рассудка и оказалась в соответствующем учреждении. — И благодаря этой статье мистер Уэйнрайт стал кандидатом на Пулитцеровскую премию? — Да. У других репортеров этот материал читался как какое-то очередное сенсационное барахло. А Палмер был молодцом. Он написал трогательную и глубокомысленную статью о семье со сложными взаимоотношениями и серьезными эмоциональными проблемами. Отец был деспотичный человек, слишком много требовавший от своей дочери и, вероятно, испытывавший к ней противоестественное влечение. Мать неизменно чувствовала в отце соперника в стремлении добиться большей любви, доверия и преданности девушки, а когда поняла, что уступает, начала пить. Дочь подвергалась невероятному психологическому давлению, и Палмер в своей статье дал читателю понять и прочувствовать это давление. Поблагодарив Росса Куинси за уделенное ей время и внимание, она положила трубку. Некоторое время она так и сидела, уставясь на тихо гудевший холодильник, пытаясь переварить все, что ей было сказано. Если Уэйнрайт умер в 1946 году, то с кем же она вчера разговаривала в саду? И какое отношение имели убийства Бектерманов к ней? А Кэрол? Она вспомнила о том, что говорил ей Уэйнрайт: «Это бесконечное проклятие все еще продолжается, и сейчас ему пора положить конец… Я пришел сказать вам, что Кэрол в опасности… Вы должны помочь ей. Уберите от нее девчонку». Ей казалось, что она вот-вот должна понять, что он имел в виду. И ей стало страшно. Несмотря на то что за последние двадцать четыре часа произошло немало невероятных вещей, она больше не сомневалась ни в своем здравомыслии, ни в правильности своего восприятия. Она не теряла рассудка, была в абсолютно здравом уме и полностью владела собой. Угрозастарческого маразма уже казалась нереальной. Она чувствовала, что объяснение всех этих событий было гораздо более страшным, более жутким, чем даже когда-то пугавшая ее перспектива старческого одряхления. Она вспомнила еще кое-что из того, что Палмер Уэйнрайт говорил вчера в саду: «Вы не только та, кем себя считаете. Вы — не только Грейс Митовски». Она понимала, что ухватилась за разгадку этой головоломки, чувствовала, что владеет знанием чего-то мрачного, давно забытого, ждущего пробуждения в памяти. Она боялась его пробуждения, но знала, что ей надлежит сделать именно это — ради Кэрол, а возможно, и ради себя. Неожиданно в абсолютно чистом воздухе на кухне сильно запахло паленым деревом и смолой. До Грейс донесся треск огня, хотя сейчас здесь нигде не было пламени. Ее сердце часто забилось, во рту пересохло, и появился неприятный привкус. Закрыв глаза, она увидела перед собой горящий дом так же отчетливо, как и во сне. Она увидела двери подвала и услышала свой крик: «Лора!» Она понимала, что это не просто сон. Это были воспоминания, давно забытые, ожившие сейчас, напоминающие ей о том, что она и на самом деле была не только Грейс Митовски. Она открыла глаза. На кухне было жарко, душно. Она почувствовала, что ее влекут какие-то неведомые ей силы, и подумала: «Хочу ли я этого? Стоит ли мне продолжать все это, чтобы добраться до правды и перевернуть все в своем маленьком мирке вверх дном? Справлюсь ли я?» Все сильнее пахло дымом. Все громче доносился рев пламени. «Похоже, теперь уже назад не повернуть», — подумала она. Подняв руки, Грейс поднесла их к лицу и потрясенно уставилась на них. Они были обезображены язвами. Кисти рук избиты и изодраны в кровь. В ладони вонзились занозы — занозы от деревянных дверей подвала, по которым она колотила так много лет назад.* * *
В десять часов, когда зазвонил телефон. Пол уже около часа работал над романом. Все как раз только начало ладиться. Он несколько раздраженно схватил трубку: — Да? В трубке раздался незнакомый женский голос: — Могу ли я поговорить с доктором Трейси? — Я слушаю. — Но… э-э… — та доктор Трейси, которая мне нужна, — женщина. — Это моя жена, — ответил он. — Она на несколько дней уехала из города. Я могу ей что-нибудь передать? — Да, будьте любезны. Передайте ей, пожалуйста, что звонила Полли из «Моэм энд Криктон». Он записал имя в телефонном блокноте. — И по какому поводу вы звоните? — Доктор Трейси была у нас здесь вчера с девушкой, у которой амнезия… — Да-да, — ответил Пол, неожиданно испытывая большой интерес. — Я в курсе. — Доктор Трейси интересовалась некой Милисент Паркер. — Верно. Она мне рассказывала об этом прошлым вечером. Это очередной ложный след, насколько я могу судить. — Вчера казалось, — сказала Полли, — а теперь оказывается, что одному из наших врачей знакомо это имя. Доктору Моэму. — Послушайте, чем ждать, пока моя жена вам перезвонит, расскажите-ка лучше мне, что вы узнали, а я ей все передам. — Хорошо, конечно. Доктор Моэм — самый старший из врачей нашей клиники. Он приобрел этот дом с землей восемнадцать лет назад и сам занимался реставрацией его внешнего вида и внутренней перестройкой. Доктор Моэм любит копаться в истории и, естественно, решил узнать прошлое купленного им дома. Он рассказал, что здание было построено в 1902 году неким Рэндолфом Паркером. У Паркера была дочь по имени Милисент. — В 1902 году? — Совершенно верно. — Любопытно. — Вы еще не знаете самого интересного, — продолжала Полли, и в ее голосе послышались нетерпеливые нотки сплетницы. — Якобы в 1905 году, накануне шестнадцатилетия Милли, миссис Паркер была на кухне и украшала для девочки большой пирог. Милли тихо зашла со спины и четыре раза ударила ее ножом. От неожиданности Пол машинально сломал карандаш, который держал в руке. Один из сломанных кусков покатился по столу и упал на пол. — Она ударила ножом свою собственную мать? — переспросил он в надежде, что ослышался. — Да, как вам это нравится? — Она убила ее? — ошеломленно спросил он. — Нет. Доктор Моэм сказал, что, судя по тогдашним газетам, у ножа было короткое лезвие. Он вошел неглубоко и никаких жизненно важных органов и сосудов не задел. Луиза Паркер — так звали мать — успела схватить с полки разделочный нож. Она пыталась им отпугнуть ее, не подпустить девочку. Но, насколько я поняла, Милли совсем свихнулась, потому что она вновь бросилась прямо на миссис Паркер, и той пришлось защищаться разделочным ножом. — Боже мой! — Да, — отозвалась Полли, явно получая удовольствие от его реакции. — Доктор Моэм говорит, что удар ножом пришелся прямо в горло дочери. Чуть ли не отрезал ей голову. Жуть, а? Но что ей оставалось делать? Ждать, пока девчонка вновь воткнет в нее свой нож? Оцепенев, Пол думал о вчерашнем сеансе гипнотической регрессии, который Кэрол довольно подробно ему пересказала. Он вспомнил, как Джейн заявила, что она — Милисент Паркер, начала писать ответы на вопросы и написала, что не может говорить, потому что у нее отрезана голова. — Вы слушаете? — спросила Полли. — Э-э… да, простите. Вы можете еще что-нибудь добавить? — Еще? — удивилась Полли. — Куда же больше? — Да, — согласился он. — Вы совершенно правы. Хватит. Дальше уже некуда. — Не знаю, насколько эта информация поможет доктору Трейси. — Не сомневайтесь. — Не понимаю, какое это может иметь отношение к девушке, с которой она приходила вчера. — Я — тоже. — Ведь эта девушка не может оказаться Милисент Паркер. Милисент Паркер умерла семьдесят шесть лет назад.* * *
Грейс стояла в своем кабинете возле стола и смотрела в раскрытый словарь.«ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ — 1). Теория о том, что после смерти тела душа возвращается на землю в другом теле, ином виде, форме и т. д. 2). Возрождение души в другом теле. 3). Новое воплощение, олицетворение».Вздор? Чепуха? Суеверие? Чушь собачья? В недалеком прошлом она использовала бы именно эти слова, чтобы выразить презрение, давая определение перевоплощению. Но не теперь. Теперь уже нет. Закрыв глаза, она почти безо всякого усилия смогла воспроизвести картину пожара в доме. Она не просто видела ее, она была там, она барабанила кулаками по подвальным дверям. Она была уже не Грейс Митовски; она была Ракелью Эдамс, тетей Лоры. Сцена пожара была далеко не единственной частью жизни Ракель, которую Грейс могла воспроизвести с необыкновенной ясностью. Ей были известны самые потаенные мысли женщины, ее надежды и мечты, страх и отвращение, самые сокровенные тайны, так как все те мысли, надежды, мечты, страхи и секреты были ее собственными. Когда она открыла глаза, то не сразу смогла сфокусировать взгляд.
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕОна закрыла словарь. «Помоги мне, Господи, — думала Грейс. — Неужели я поверила в это? Неужели я действительно жила в прошлом? И Кэрол тоже? И та девушка, которую они зовут Джейн Доу?» Если это правда — если ей было позволено вспомнить свою предыдущую жизнь в образе Ракель Эдамс, чтобы таким образом спасти жизнь Кэрол, тогда она теряет драгоценное время. Она взяла трубку, чтобы позвонить Трейси, еще не зная, как она будет убеждать их поверить ей. Она не услышала гудков. Она постучала по рычагам, на которых должна лежать трубка. Ничего. Положив трубку, она обогнула стол и подошла к стене проверить шнур и вилку с розеткой. Розетка была в порядке, шнур — перекушен пополам. Аристофан. Она вспомнила, что еще говорил в саду Палмер Уэйнрайт: «Силы, темные и могущественные, действуют так, чтобы все кончилось плохо. Темные силы упиваются трагедией. Они хотят, чтобы все закончилось бессмысленным убийством и кровью… Вы — на стороне светлых сил, Грейс. А вот кот — с ним дело обстоит иначе. Вам следует всегда остерегаться кота». Она также вспомнила, когда начались эти паранормальные явления, и поняла, что кот был их неотъемлемой частью с самого начала. Со среды на прошлой неделе. Когда в тот день она резко проснулась, очнувшись от снившегося ей кошмара о Кэрол, за окнами кабинета ослепительно ярко и яростно сверкнула молния. Пошатываясь, она подошла к ближайшему окну, и, пока стояла возле него в полусне на своих пораженных артритом ногах, ею овладело какое-то странное чувство, что нечто жуткое, чудовищное проследовало за ней из того кошмара, что-то демоническое с алчной улыбкой на лице. В течение нескольких секунд это чувство было настолько сильным, настолько явным, что она даже боялась повернуться и посмотреть назад в полутемную комнату. Потом она поспешила отделаться от этой зловещей мысли, посчитав ее за оставшийся после кошмара жутковатый осадок. Теперь она, разумеется, понимала, что ей не стоило так быстро забывать об этом. Что-то странное было вместе с ней в комнате — дух, привидение, его можно называть как угодно. Но оно было. И теперь это оказалось в коте. Выйдя из кабинета, она торопливо пошла по коридору. На кухне она обнаружила, что телефонный шнур был перегрызен и там. Аристофана нигде не было видно. Однако Грейс знала, что он поблизости, возможно, даже так близко, что мог наблюдать за ней. Она чувствовала его присутствие. Она прислушалась. В доме казалось слишком тихо. Ей хотелось пересечь несколько футов, отделявших ее от двери, решительно открыть ее и покинуть дом. Но она почти не сомневалась, что при любой попытке уйти последует яростное нападение. Она подумала о кошачьих зубах и когтях. Аристофан был не просто домашним зверьком, очаровательным сиамским котиком с симпатичной пушистой мордочкой. Он был еще и беспощадным убийцей; его дикие инстинкты скрывал лишь тонкий налет одомашненности. С ним считались и его боялись и мыши, и птицы, и белки. Но могли он убить взрослую женщину? «Да, — с тревогой призналась она себе. — Да, Аристофан мог бы меня убить, если бы застал врасплох и вцепился мне в горло или добрался до глаз». Лучшее, что она могла бы сделать, — это оставаться дома и не проявлять никаких признаков враждебности по отношению к коту, пока она, чем-нибудь не вооружившись, не будет чувствовать себя уверенной в победе. Еще один телефон находился на втором этаже в спальне. Она стала осторожно подниматься наверх, хотя и была почти уверена в том, что и третий аппарат тоже не работает. Так оно и оказалось. Однако в спальне было еще кое-что, ради чего туда стоило подняться. Пистолет. Она выдвинула верхний ящик стоявшей возле ее кровати тумбочки и достала оттуда заряженное оружие. Что-то подсказало ей, что оно ей пригодится. Шелест. Шорох. Позади. Прежде чем она успела развернуться, чтобы встретить своего противника, он уже атаковал. Он вспрыгнул с пола на кровать, а оттуда — к ней на спину с такой силой, что чуть не сшиб ее с ног. Пошатнувшись, она едва не упала на ночник. Аристофан шипел и фыркал, пытаясь посильнее вцепиться ей в спину. К счастью, она удержала равновесие и не упала. Развернувшись, она резко дернулась, отчаянно стараясь сбросить его с себя, пока он не успел ее покалечить. Он зацепился когтями за одежду. Несмотря на то что на ней были блузка со свитером, Грейс почувствовала, как пара когтей иголками впилась ей в кожу, причиняя жгучую боль. Он не отцепился. Втянув голову в плечи, она прижала подбородок к груди, стараясь по возможности защитить свою шею. Она попробовала ударить кулаком за спиной, но промахнулась, еще раз — удар пришелся по коту, но был слишком слабым, чтобы добиться какого-либо эффекта. И все-таки Аристофан, возопив от ярости, вцепился ей в шею. Ему мешали ее ссутуленные плечи и густые волосы, которые набивались ему в рот, мешали дышать. Ей никогда ничего не хотелось так сильно, как прибить этого маленького мерзавца. Он уже не был милым домашним любимцем; это был какой-то дикий, ненавистный звереныш, и она не испытывала к нему ни тени симпатии. Грейс надо было применить пистолет, который она сжимала в правой руке, но сделать это, не задев себя, она никак не могла. Она несколько раз ударила кота левой рукой; плечо резко и болезненно напомнило ей об артрите, когда она, поднимая руку, неестественно выворачивала ее назад. По крайней мере, на какие-то мгновения кот отказался от своей свирепой, но пока безрезультатной атаки на ее шею. Он полоснул когтями по ее кулаку, распоров ей кожу на суставах. Пальцы Грейс сразу стали липкими от крови. Это была такая жгучая боль, что ее глаза наполнились слезами. Запах или вид крови подзадорили кота. Он торжествующе заорал. Грейс в голову полезли невероятные мысли: она может проиграть эту схватку. «Нет!» Она старалась отогнать от себя страх, грозивший парализовать ее, пыталась преодолеть внутреннее смятение, и вдруг ей в голову пришла мысль, которая, как ей показалось, могла спасти ей жизнь. Она добралась до ближайшего участка стены слева от комода. Кот цепко держался у нее на спине, с ворчанием и шипением упорно тычась мордой в основание черепа. Он стремился добраться до ее втянутой шеи, чтобы перегрызть яремную вену. Оказавшись возле стены, Грейс повернулась к ней спиной и ударилась об нее всем своим весом, припечатывая кота к штукатурке, расплющивая его своим телом, в расчете сломать ему хребет. От удара ее плечи пронзила боль, а когти зверя еще глубже вонзились в ее спинные мышцы. Кот аж завизжал, да так сильно, что у нее чуть не лопнули барабанные перепонки, это было похоже на крик ребенка. Но он не собирался ее отпускать. Оттолкнувшись от стены, она ударилась об нее второй раз, и кот завопил, как и раньше, но не отпустил ее. Грейс вновь оттолкнулась от стены, собираясь сделать третью попытку сокрушить своего врага, но, прежде чем она успела навалиться на него, кот соскользнул со спины. Спрыгнув на пол, он перевернулся, вскочил на лапы и поспешил прочь, поджимая правую переднюю лапу. Хорошо. Она покалечила его. Грейс прислонилась к стене, подняла свой пистолет, который по-прежнему был у нее в правой руке, и нажала на курок. Ничего. Она забыла снять его с предохранителя. Кот выскочил через открытую дверь и исчез в коридоре. Подойдя к двери, Грейс закрыла ее и устало прислонилась к косяку. Она тяжело дышала. Ее левая рука была изранена и кровоточила, на спине горели с полдюжины следов от когтей, однако первый раунд остался за ней. Кот хромал; он был покалечен, вероятно, не меньше, чем она, и вынужден был отступить. Но это не повод для торжества. Пока нет. Пока она не выберется из дома живой. Пока у нее не появится уверенность в том, что и Кэрол в безопасности.
* * *
После этого тревожного телефонного разговора со служащей из приемной «Моэм энд Криктон» Пол и представить себе не мог, как ему быть. Писать он уж точно был не в состоянии. В этом не оставалось никаких сомнений. Все его мысли были заняты Кэрол. Пол хотел позвонить Линкольну Уэрту в полицейское управление и договориться, чтобы возле домика Кэрол и Джейн ждал помощник шерифа. Он хотел, чтобы их привезли назад домой. Но при мысли о том, какой разговор выйдет у него с детективом Уэртом, ему становилось не по себе: — Вы хотите, чтобы возле домика их встретил помощник шерифа? — Совершенно верно. — Почему? — Мне кажется, моя жена в опасности. — В какой опасности? — Я боюсь, что девочка, Джейн Доу, может стать агрессивной. Не исключено, что есть угроза убийства. — Почему вы так думаете? — Потому что в состоянии гипноза она заявила, что она — Милли Паркер. — Кто это? — Милли Паркер пыталась убить свою мать. — Правда? Когда это было? — В 1905 году. — Простите, но в таком случае она должна сегодня быть старушкой. А девочке только четырнадцать-пятнадцать лет. — Вы не понимаете. Милли Паркер умерла почти семьдесят шесть лет назад и… — Погодите, погодите! Что вы такое говорите? Вашу жену может убить девочка, которой почти сто лет уже нет в живых? — Нет. Разумеется, это не так. — Ну а что же вы в таком случае хотите сказать? — Я… я сам не понимаю.* * *
Уэрт решит, что он всю ночь пил, а утром уже успел покурить «травки». Кроме того, несправедливо было бы называть Джейн потенциальной убийцей. Возможно, Кэрол и права. Не исключено, что девочка является просто жертвой. Если не принимать во внимание то, что она сказала под гипнозом, она вовсе не казалась агрессивной. С другой стороны, почему она ни с того ни с сего назвалась именно Милисент Паркер, ставшей убийцей? Где она могла услышать это имя? Разве употребление этого имени не свидетельствует о скрытой агрессивности? Развернувшись на своем стуле к окну, Пол смотрел через него на серое небо. Ветер усиливался с каждой минутой. По всему небу на запад неслись облака, похожие на огромные быстроходные темные корабли, мчавшиеся под парусами цвета грозовых туч.КЛИНОК, КРОВЬ, СМЕРТЬ, МОГИЛА, ЖЕРТВА, КЭРОЛ.«Я должен ехать туда, к Кэрол», — с неожиданной решимостью подумал Пол и встал со стула. Может быть, он и преувеличивал относительно Милисент Паркер, но не мог же он сидеть здесь и гадать… Пол отправился в спальню побросать кое-какие вещи в чемодан. После короткого колебания он решил положить туда и свой револьвер.
* * *
— Далеко еще до домика? — спросила девочка. — Еще двадцать минут, — ответила Кэрол. — Вся поездка обычно занимает два часа пятнадцать минут, и мы пока почти не выбиваемся из графика. В горах было зелено и прохладно. Некоторых деревьев уже коснулась искусная рука осени, и в ближайшие недели они — кроме хвойных — собирались менять цвет листвы. Однако сегодня доминировали оттенки зеленого, то тут, то там слегка припорошенные золотом, с отдельными красными вкраплениями. Опушки леса возле лугов и дорог украшали последние полевые цветы сезона — голубые, белые, багряные. — Красиво здесь, — сказала Джейн на одном из поворотов проселочной дороги. Склон холма, начинавшегося справа возле самого асфальта, был покрыт кустами ярко-зеленого рододендрона. — Я люблю горы Пенсильвании, — проговорила Кэрол. Уже на протяжении многих недель она не чувствовала такого умиротворения. — Здесь так тихо и спокойно. Поживешь денек-другой в домике — и забываешь про весь остальной мир. За поворотом начинался подъем. Переплетавшиеся наверху ветки деревьев местами образовывали тоннель. Там, где деревья, размыкаясь, позволяли взглянуть на небо, было видно, как огромные темно-серые, почти черные тучи собирались в уродливые угрожающие нагромождения. — Я очень надеюсь, что наш первый день не будет испорчен дождем, — сказала Джейн. — Ничего, нам дождь не помеха, — успокоила ее Кэрол. — Если придется сидеть в домике, мы подкинем побольше дров в камин и пожарим себе «хот-доги». У нас там припасена масса игр, чтобы не скучать во время дождя. И «Монополия», и скрэбл, и «Риск», и «Морской бой», и еще с десяток других. Думаю, от тоски мы там не умрем. — Как здорово! — воодушевившись, воскликнула Джейн. Лиственный полог разомкнулся, открывая мятежно-темное сентябрьское небо.Глава 11
Держа в руках пистолет, Грейс сидела на краешке кровати и обдумывала варианты. Их было немного. Чем больше она раздумывала, тем больше ей казалось, что кот имел более предпочтительные шансы победить в этом поединке, чем она. Если она рискнет покинуть дом через окно в спальне, то наверняка сломает себе ногу, а то и шею. Было бы ей лет на двадцать поменьше, она бы попробовала. Но в семьдесят лет прыжок из окна второго этажа на бетонную площадку, принимая во внимание распухшие суставы и хрупкие кости, неминуемо окончился бы трагедией. И кроме того, задача состояла не только в том, чтобы как-то выбраться, а выбраться по возможности удачно, чтобы быть в состоянии добраться через весь город до Кэрол и Пола. Можно было бы открыть окно и позвать на помощь. Но Грейс боялась, что Аристофан — или то, что в него вселилось, — набросится на любого, кто войдет и попытается ей помочь, а она не хотела, чтобы на ее совести оказалась смерть кого-нибудь из соседей. Это была ее схватка. И только ее. Она должна справиться в одиночку. Грейс обдумала все возможные пути выхода из дома с нижнего этажа — если ей удастся до него добраться — и пришла к выводу, что все они были одинаково опасны. Кот мог оказаться где угодно. Везде. Единственным безопасным местом в доме была спальня. Как только она покинет свое убежище, кот набросится на нее независимо от того, как она захочет уйти — через входную дверь, кухонную дверь или через какое-нибудь из окон первого этажа. Он затаится где-нибудь в темном углу, а может быть, и на книжном шкафу, на серванте или где-то еще, готовый броситься и вцепиться прямо в ее испуганное повернутое к нему лицо. У Грейс, конечно, было оружие. Но кот, крадущийся и от природы бесшумный, всегда будет иметь преимущество за счет неожиданности. Стоит ему опередить ее всего на две-три секунды, стоит ей лишь на мгновение промедлить — и у него будет достаточно времени, чтобы вцепиться ей в лицо, перегрызть горло или выцарапать ей глаза своими молниеносными стальными когтями. Странно, что, несмотря на принятие ею теории перевоплощения, несмотря на то, что она теперь не сомневалась в существовании какой-то жизни и после смерти, она все-таки боялась умирать. Уверенность в вечной жизни ни в коей мере не уменьшала цену настоящей. Напротив, теперь, когда она знала о существовании скрытых могущественных потусторонних сил, ей показалось, что ее жизнь приобрела больший смысл и цель, чем прежде. Грейс не хотелось умирать. Однако несмотря на то, что ее шансы покинуть дом целой и невредимой были в лучшем случае пятьдесят на пятьдесят, она не могла вечно оставаться в спальне. У нее не было ни воды, ни пищи. Кроме того, если ей не удастся выбраться отсюда в ближайшие несколько минут, она может опоздать на помощь к Кэрол. «Если Кэрол погибнет только из-за того, что у меня не хватило смелости справиться с этим проклятым котом, — подумала Грейс, — тогда мне тоже незачем жить». Она сняла пистолет с предохранителя. Она встала и подошла к двери. С минуту она стояла, прижав ухо к двери, пытаясь услышать царапанье или какие-нибудь другие звуки, выдававшие присутствие Аристофана. Ничего не было слышно. Держа пистолет в правой руке, она попробовала повернуть ручку двери разодранной когтями окровавленной левой рукой. Открывая дверь с крайней осторожностью, по полдюйма, она ожидала, что кот вот-вот впрыгнет в комнату, как только дверь откроется достаточно широко для него. Но этого не случилось. Наконец она опасливо высунула голову в коридор. Посмотрела налево. Направо. Кота нигде не было видно. Она вышла в коридор и остановилась, боясь отходить от двери в спальню. «Иди же! — с негодованием сказала она себе. — Шевелись, Грейси!» Она сделала шаг по направлению к лестнице. Еще один. Стараясь не шуметь. Лестница казалась за километр от нее. Оглянулась. Аристофана по-прежнему не было видно. Еще шаг. Это был для нее самый длинный путь в жизни.* * *
Пол закрыл чемодан. Взяв его, он уже отошел от кровати и… вздрогнул от неожиданности, когда весь дом сотрясся, словно по нему ударили демонтажной гирей. ТУК! Он посмотрел на потолок. ТУК! ТУК! ТУК! За последние пять дней стук не нарушал тишины. Разумеется, Пол не забыл про него; вспоминая, он не переставал удивляться, откуда происходил этот таинственный звук. Но в основном он старался не думать о нем; хватало других проблем. И вот… ТУК! ТУК! ТУК! От этого жуткого звука дрожали стекла и стены. Полу казалось, будто он отдавался у него в зубах и костях. ТУК! После того как он потратил пять дней на поиски источника, его, точно вспышка, осенила догадка. Топор. Стук уже не казался таким, каким он представлял его себе поначалу. Нет. В нем была какая-то резкость, в каждом ударе слышался ломающийся, трескающийся призвук. Словно что-то рубили. ТУК! Однако определение характера звука отнюдь не помогло установить, откуда он происходил. Вместо молотка оказался топор. Ну и что? Пол по-прежнему не понимал, что к чему. Почему от этих ударов сотрясался весь дом? Такой невероятной силой мог обладать только какой-нибудь мифический топор. И в конце концов, будь там хоть топор, хоть молоток или Бог знает что еще, но как этот звук мог раздаваться ниоткуда? Пол вдруг неожиданно вспомнил о большом разделочном ноже, что Луиза Паркер вонзила в горло своей помешанной дочери в 1905 году. Вспомнил о жутких разрядах молнии, попавшей в офис Альфреда О'Брайена; о непрошеном госте, появившемся в тот же вечер во время грозы у них на газоне; об игре в скрэбл два дня назад (КЛИНОК, КРОВЬ, СМЕРТЬ, МОГИЛА, ЖЕРТВА, КЭРОЛ); о двух пророческих снах Грейс. И он уже знал наверняка — не понимая, как это ему удалось, — что звук топора был той нитью, которая связывала все эти сверхъестественные события. Он интуитивно понял, что именно топор является оружием, угрожающим жизни Кэрол. Он не представлял ни как, ни почему. Он просто знал. ТУК! ТУК! Картина сорвалась со стены и грохнулась на пол. Пол почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Ему необходимо добраться до домика. Скорее. Он направился к двери спальни — она захлопнулась прямо перед ним. Никто не притрагивался к ней. Не было никакого сквозняка, от которого она могла бы закрыться. Только что дверь была настежь открыта, а в следующую секунду она с силой захлопнулась, как будто ее толкнула чья-то невидимая рука. Краем глаза Пол заметил какое-то движение. С колотящимся сердцем, тяжело дыша, он резко повернулся в сторону этого движения и инстинктивно поднял свой чемодан, чтобы хоть как-то защититься. Одна из тяжелых дверей встроенного шкафа с зеркалом начала двигаться в сторону. Он ждал, что из шкафа вот-вот кто-то выйдет, но, когда дверь полностью открылась, за ней ничего не было, кроме висевшей на плечиках одежды. Дверь закрылась, начала открываться вторая. Затем раздвигаться начали обе одновременно, заезжая одна на другую, туда-сюда, туда-сюда, бесшумно катаясь на своих пластмассовых колесиках. ТУК! ТУК! С одной из тумбочек свалился и разбился ночник. Со стены упала еще одна картина. ТУК! Стоявшие на комоде фарфоровые фигурки — балерина со своим партнером — начали кружиться, словно они ожили и решили выступить перед Полом. Сначала они двигались медленно, потом все быстрее и быстрее, пока их не подбросило в воздух, и они, перелетев через всю комнату, упали на пол.* * *
Сооруженный из бревен домик уютно устроился в тени у подножия деревьев. У него была длинная веранда, откуда открывался замечательный вид на озеро. Это был один из девяноста летних домиков, расположившихся в живописной горной долине на участках размером в акр или в пол-акра. Все они были построены на южном берегу озера, и подъехать к ним можно было лишь по частной, закрывавшейся воротами, посыпанной гравием дороге, извивавшейся вдоль самой воды. Некоторые домики, как тот, что купили Пол с Кэрол, были бревенчатыми, некоторые — дощатыми, в новоанглийском стиле, некоторые — современные сборной конструкции, а некоторые напоминали швейцарские шале. Кэрол остановила машину в конце небольшого ответвления от основной дороги, также посыпанного гравием, возле своего домика. Они с Джейн вылезли из машины и какое-то время молча стояли, прислушиваясь к тишине и вдыхая необыкновенно свежий воздух. — Здесь замечательно, — промолвила наконец Джейн. — Правда, здорово? — Так тихо. — Это не всегда. Особенно если в большинстве домиков живут. Но сейчас здесь, вероятно, никого нет, кроме Пег и Винсента Джервисов. — А кто они? — спросила Джейн. — Сторожа. Общество владельцев домов платит им зарплату. Они живут в крайнем домике у озера круглый год. Когда сезон заканчивается, они на всякий случай ежедневно раза по два обходят все домики. Приятные люди. Над дальним северным берегом озера в зловещем небе сверкнула молния. В тучах раздался хлопок грома, эхом прокатившийся над водой. — Нам бы лучше достать чемоданы и продукты из машины сейчас, чтобы не пришлось все это делать под дождем, — сказала Кэрол. Грейс ждала, что нападение на нее произойдет на лестнице, потому что там ей было бы труднее всего защищаться. Если она, испуганная котом, потеряет равновесие, то может упасть. Если она упадет, то, вероятно, сломает себе или ногу, или бедро, и, пока будет временно парализована шоком и болью падения, кот раздерет и искусает ее. Поэтому она спускалась по лестнице боком, спиной к стене, чтобы смотреть и вперед и назад. Но Аристофан не появлялся. Грейс спустилась в холл без приключений. Внизу она посмотрела в обе стороны. Чтобы добраться до входной двери, ей нужно было миновать открытую дверь кабинета и ведущую в гостиную арку. Кот мог выскочить как из одного, так и из другого места у нее на пути и прыгнуть ей на лицо, прежде чем она увидит его, направит пистолет и нажмет на курок. Чтобы добраться до другой двери, той, что была с обратной стороны дома, ей нужно было идти направо по коридору мимо открытой двери в столовую, на кухню. Этот путь казался не менее опасным. «Между молотом и наковальней, — тоскливо подумала она. — Или — к дьяволу, или — в морскую пучину». Тут Грейс вспомнила, что ее ключи от машины были на кухне, висели на крючке возле двери, и теперь уже выбирать не приходилось. Придется пытаться выйти через кухню. Она стала осторожно продвигаться по коридору, пока не дошла до висевшего на стене зеркала, под которым стоял узкий декоративный столик. На столике по обе стороны от зеркала возвышались две вазы. Взяв одну из них в израненную левую руку, она продолжила свой путь боком к открытой двери в столовую. Добравшись до двери, она остановилась, прислушалась. Ни звука. Подавшись вперед, Грейс рискнула заглянуть в столовую. Кота не было видно. Правда, это не значило, что его там нет. Шторы были наполовину задернуты, а день был мрачным; благодаря обилию теней кот мог спрятаться где угодно. На случай, если Аристофан сидел где-нибудь там, Грейс в качестве отвлекающего маневра бросила в комнату вазу. В тот момент, когда ваза с грохотом разбилась, она, переступив через порог, схватилась за ручку двери и резко закрыла ее, поспешно выходя в коридор. Если кот был там, то пусть он теперь там и остается. Из столовой до нее не доносилось ни единого звука — вероятно, ей не удалось поймать там коварную бестию. Если бы он оказался в комнате, он уже вопил бы от ярости и скребся бы изнутри в закрытую дверь. Скорее всего она лишь потеряла время и попусту потратила энергию на свой маневр. Но теперь внизу была хотя бы одна комната, к которой она может смело повернуться спиной. Поглядывая то налево, то направо, туда-сюда, она добралась до двери на кухню и, немного помедлив, вошла, держа перед собой пистолет. Она медленно внимательно осмотрела помещение, прежде чем пройти дальше. Столик со стульями. Урчащий холодильник. Огрызок телефонного шнура. Блестящие хромированные ручки плиты. Двойная раковина. Белые полочки. Коробка для печенья и контейнер для хлеба, стоящие рядом. Ничто не шелохнулось. Холодильник отключился, и последовала глубокая, ничем не нарушаемая тишина. «Ладно, — думала она. — Стисни зубы, и вперед, Грейси». Она тихо пересекла кухню, скользя глазами по всем углублениям и уголкам: под столиком, узкое пространство возле холодильника, сбоку от шкафчиков. Кота не было. «Может, я травмировала его сильнее, чем мне показалось? — с надеждой подумала она. — Может, он не просто стал хромать, а отполз куда-нибудь и умер?» Грейс добралась до двери на улицу. Она боялась дышать из-за того, что ее собственное дыхание могло заглушить тихие звуки крадущегося кота. Брелок с ключами, среди которых были и ключи от машины, висел на крючке возле двери. Она сняла его с крючка. Потянулась к дверной ручке. Кот зашипел. Невольно вскрикнув, Грейс повернула голову вправо, откуда донесся звук. Она находилась в конце длинного ряда шкафчиков. На противоположном конце стояли рядом контейнер для хлеба и коробка с печеньем; когда она вошла на кухню, они были прямо перед ней. Теперь же она увидела их сбоку. Под таким углом ей было видно то, чего она не могла увидеть спереди. Коробка с печеньем и хлебный контейнер, стоявший обычно вплотную к стене, находились сейчас в нескольких дюймах от нее. Коту удалось протиснуться за эти два предмета, с трудом отодвинув их от стены. В этом укромном месте он и сидел, следя за дверью. Он был футах в двадцати от нее, а затем и того меньше, потому что уже с шипением устремился вперед. Схватка продолжалась всего несколько секунд, но в эти секунды время словно поползло, и Грейс показалось, будто все происходит как в замедленном кино. Она отпрянула назад от шкафчика и кота, но тут же наткнулась на стену; одновременно она подняла пистолет и сделала два выстрела подряд. Коробка с печеньем словно взорвалась, от дверцы шкафчика отлетели щепки. Но кот все приближался и приближался плавными прыжками по гладкой поверхности кухонных шкафчиков, оскалив пасть и обнажив клыки. Грейс поняла, что непросто попасть в такую маленькую и юркую цель даже и с такого малого расстояния. Она выстрелила вновь, но поняла, что рука с пистолетом дернулась, и не удивилась, услышав жужжание пули, которая с пронизывающим «взззз…» отскочила от чего-то вдалеке. В ее искаженном страхом восприятии эхо рикошета казалось нескончаемым «вззз… вззз… вззз…». Кот был уже на краю шкафчика и прыгнул. Грейс вновь выстрелила. И на этот раз попала. Кот взвизгнул. Пуля летела с достаточной силой, чтобы отбросить зверя за какое-то мгновение до того, как он вцепился бы Грейс в лицо и впился в нее зубами. Он отлетел назад и влево, словно тряпичная кукла, и, ударившись о кухонную дверь, безжизненно упал на пол.* * *
Пол никак не мог понять, для чего полтергейст демонстрировал свои внушительные возможности. Он не знал, следует ли ему опасаться? Пытался ли он задержать его, не дать ему вовремя прийти на помощь Кэрол? А может быть, наоборот — подгонял, изо всех сил стараясь дать ему понять, что он должен немедленно ехать к ней в домик? Держа чемодан в руке. Пол подошел к двери спальни, которая захлопнулась перед ним невидимым духом. Стоило ему только взяться за дверную ручку, как дверь задрожала в своей коробке — поначалу слегка, потом все яростнее. Тук… тук… тук… ТУК! Он отдернул руку, не зная, как ему быть. ТУК! Стук топора доносился теперь от двери, а не сверху, как до этого. Хотя это была тяжелая рельефная дверь из пихты, а не из какой-то хилой фанеры, она ходила ходуном и треснула посередине, словно сделанная из бальзы. Пол попятился от нее. В комнату полетели щепки, и параллельно первой трещине появилась вторая. Двигавшиеся двери встроенного шкафа и взлетавшие фарфоровые фигурки могли быть и полтергейстом, но это уже было что-то другое. Никакой призрак не смог бы прорубить такую мощную дверь, как эта. Наверняка за дверью кто-то размахивает вполне реальным топором. Пол чувствовал себя беззащитным. Он скользнул глазами по комнате, надеясь увидеть что-нибудь подходящее для защиты, но ему ничего не попалось. Его револьвер лежал в чемодане, о чем он теперь отчаянно жалел. ТУКТУКТУКТУКТУК! Дверь спальни влетела в комнату, разваливаясь на несколько кусков и бесчисленное множество щепок. Пол пытался рукой защитить лицо и глаза. Вокруг него сыпались куски дерева. Опустив руку, он увидел, что за дверью никто не стоял, там не было никого. Взломщиком оказался все тот же невидимый призрак. ТУК! Перешагнув через выломанный кусок двери, Пол вышел в коридор.* * *
Электрощиток находился в кухонной кладовке. Кэрол ввинтила пробки, и загорелся свет. Телефона не было. Это фактически являлось единственным отсутствующим удобством в домике. — Как ты считаешь, холодновато? — спросила Кэрол. — Чуть-чуть. — У нас здесь есть газовая печка, но если не слишком холодно, то лучше затопить камин. Давай-ка принесем Дров. — Вы хотите сказать, что нужно срубить дерево? Кэрол рассмеялась. — В этом нет необходимости. Пошли, увидишь. Она повела девочку на улицу за дом, где открытая веранда заканчивалась ступеньками, спускающимися на небольшой задний дворик. За двориком начинался маленький луг, на котором росла трава высотой по колено и который поднимался к возвышавшимся в пятидесяти ярдах деревьям. Когда Кэрол увидела этот знакомый пейзаж, она остановилась, с удивлением вспоминая зловещий сон, приснившийся ей несколько раз на прошлой неделе. В том кошмаре она бежала по одному дому, затем — по другому, потом — через горный луг, и позади в темноте поблескивало что-то серебристое. Тогда она не поняла, что во сне бежала именно по этому лугу. — Что-то случилось? — спросила Джейн. — А? Нет… нет. Пошли за дровами. Она повела девочку по ступенькам вниз и налево, где к юго-западному углу дома был пристроен сарайчик. Вдалеке рокотал гром. Дождя еще не было. Открыв ключом тяжелый навесной замок, она вынула его из двери и сунула в карман куртки. Его незачем было вешать до их отъезда в Гаррисберг дней через девять-десять. Дверь сарайчика заскрипела на несмазанных петлях. Войдя внутрь, Кэрол дернула за цепочку, и загоревшаяся стоваттная лампочка осветила укрытые от ненастной погоды сухие дрова. С потолка на крюке свисала корзинка для дров. Сняв ее с крючка, Кэрол протянула корзинку девочке. — Если ты принесешь четыре-пять полных корзинок, нам с лихвой хватит дров до утра. Когда Джейн вернулась, отнеся первую порцию дров в домик, Кэрол стояла возле чурбана и рубила топором короткое бревно на четыре части. — Что вы делаете? — поинтересовалась девочка, держась подальше и опасливо косясь на топор. — Когда я разжигаю огонь, — пояснила Кэрол, — я кладу в самый низ эти щепки, потом — щепки покрупнее, а уж сверху — поленья. Этот метод еще никогда не подводил. Понимаешь? Я настоящий Дэниел Бун[6]. Девочка нахмурилась. — Этот топор кажется таким острым. — Он и должен быть таким. — А это не опасно? — Мне уже много раз приходилось этим заниматься — как здесь, так и дома, — сказала Кэрол. — Я уже эксперт в этом деле. Не беспокойся, милая. Я не собираюсь ненароком лишать себя пальцев. Она взяла еще одно бревнышко и начала рубить его на четыре части. Джейн прошла в сарай, старательно огибая чурбан. Выйдя оттуда со второй корзинкой дров и направляясь к домику, она беспрестанно тревожно оглядывалась через плечо. Кэрол принялась за очередное бревно. ТУК!* * *
С чемоданом в руках Пол шел по холлу второго этажа к лестнице. Полтергейст сопровождал его. По обеим сторонам распахивались и захлопывались двери, распахивались и захлопывались вновь и вновь, сами по себе, и с такой страшной силой, что казалось, будто он попал под артобстрел. Когда он стал спускаться вниз, люстра, висящая на цепи над лестницей, начала описывать круги либо от дуновения ветра, которого не мог почувствовать Пол, либо движимая какой-то незримой рукой. Когда же он шел по первому этажу, со стен начали падать картины. Переворачивались стулья. Диван в гостиной вдруг стал отчаянно раскачиваться на своих изящных ножках. На кухне затряслась полка с посудой; загремели кастрюли и сковородки. Пока Пол добирался до гаража, где стоял его «Понтиак», он понял, что ему не стоит тащить в горы свой чемодан. Поначалу он не хотел врываться в домик лишь с пистолетом в руке, потому что, если бы все оказалось в порядке, он бы выглядел идиотом, не говоря уже о том, насколько это было бы несправедливо по отношению к Джейн. Но теперь, после звонка Полли из «Моэм энд Криктон» и после невероятного представления полтергейста, он знал, что ничего уже не могло быть в порядке; даже невозможно было себе представить, что, добравшись до домика, он обнаружит, что там все спокойно. Его неминуемо ждет какой-то кошмар. Никаких сомнений на этот счет не оставалось. Открыв на полу возле машины свой чемодан, он достал оттуда заряженный револьвер, оставляя все остальное в гараже. Выезжая задним ходом на дорогу, он увидел, как из-за поворота на непривычно большой скорости вынырнул голубой «Форд» Грейс Митовски. Машина резко свернула к их дому и так основательно задела бордюр, что от покрышек пошел бело-голубой дымок. Не успел «Форд» остановиться, как Грейс уже была на улице. Она кинулась к «Понтиаку». Открыв переднюю дверцу с противоположной от Пола стороны, она заглянула в машину. Ее волосы были совершенно растрепаны, лицо — мертвенно-бледным и с брызгами крови. — Боже мой, Грейс, что с вами случилось? — Где Кэрол? — Она уехала в горы. — Уже? — Сегодня утром. — Черт! Во сколько? — Три часа назад. В глазах Грейс была обреченность. — Девочка поехала с ней? — Да. Она закрыла глаза, и Пол заметил, что она боролась с охватывающей ее паникой, стараясь взять себя в руки. Наконец Грейс сказала: — Мы должны ехать к ним. — Именно туда я и собираюсь. Когда ее взгляд упал на лежавший возле него на сиденье револьвер, Пол увидел, как округлились ее глаза. Грейс перевела взгляд с оружия на него. — Ты знаешь, что происходит? — удивленно спросила она. — Не совсем, — ответил он, убирая револьвер в ящик для перчаток. — Я знаю только одно — Кэрол в беде. Ей грозит серьезная опасность. — В опасности не только Кэрол, — возразила Грейс. — Речь идет о них обеих. — Об обеих? И девочка тоже? Но я думал, что это из-за девочки… — Да, — ответила Грейс. — Она собирается убить Кэрол. Но все может закончиться и ее смертью. Как это уже было раньше. Она села в машину и захлопнула дверцу. — Раньше? — переспросил Пол. — Я не… — Он обратил внимание на ее окровавленную руку. — Это нужно показать врачу. — Нет времени. — Что же, черт возьми, происходит? — воскликнул он, его страх за Кэрол на какое-то мгновение сменился отчаянием. — Я вижу, что творится нечтонепонятное, но я не знаю, что же это, в конце концов. — Я знаю, — ответила она. — Знаю. Я даже знаю несколько больше, чем хотелось бы. — Если вам известно что-то логичное, что-то конкретное, — сказал он, — нужно звонить в полицию. Они свяжутся с шерифом, и помощь подоспеет к домику гораздо быстрее, чем мы туда доберемся. — Да, мне кое-что известно, и, насколько я могу судить, настолько конкретное, что полиция может даже и не поверить, — ответила Грейс. — Они решат, что я просто старая маразматичка. И для моего же блага им захочется упрятать меня в тихое надежное местечко. А в лучшем случае просто посмеются надо мной. Он вспомнил о полтергейсте — стуке топора, разбитой в щепки двери, летающих фарфоровых фигурках, переворачивающихся стульях — и сказал: — Да. Я вас понимаю. — Нам придется справляться самим, — продолжала Грейс. — Поехали. По пути я расскажу тебе все, что знаю. С каждой потерянной минутой мне становится все страшнее при мысли о том, что сейчас может происходить там в домике. Выехав на улицу, Пол поехал от дома в направлении ближайшего выезда на скоростную магистраль. Оказавшись на шоссе, он нажал на акселератор, и машина рванулась вперед. — Сколько обычно занимает дорога туда? — спросила Грейс. — Около двух часов. — Как долго! — Мы доедем быстрее. Стрелка спидометра достигла восьмидесяти.Глава 12
Они привезли с собой массу еды в картонных коробках и дорожных холодильниках. Разложив все это по буфетам и в холодильник, они решили обойтись без обеда, чтобы по-настоящему насладиться ужином. — Ну вот, — сказала Кэрол, извлекая какой-то список из кухонного столика, — вот что нам предстоит сделать, чтобы привести все в жилой вид. — Она начала перечислять по списку: — Убрать с мебели целлофановые чехлы; протереть все от пыли; почистить кухонную раковину; убраться в ванной; постелить простыни и покрывала. — И это называется отдых? — спросила Джейн. — А что? Тебя не радуют такие перспективы? — Просто дух захватывает от счастья. — Послушай, это же не дворец огромных размеров. Вдвоем мы управимся со всеми делами за час-полтора. Не успели они начать, как раздался стук в дверь. Пришел Винс Джервис, местный сторож. Это был широкоплечий великан, с огромными бицепсами, здоровенными ручищами и такой же, под стать внешности, широченной улыбкой. — Делал свой обход, — сказал он. — Смотрю — ваша машина. Дай-ка, думаю, зайду поздороваться. Кэрол представила его Джейн, пояснив, что это ее племянница (маленькая невинная ложь). — Доктор Трейси, а где же другой доктор Трейси? — поинтересовался Джервис, обменявшись с Кэрол несколькими традиционными вопросами. — Я был бы рад его поприветствовать. — Его сейчас с нами нет, — ответила Кэрол. — Он подъедет в воскресенье, после того как закончит одну важную работу, которую он не смог отложить. Джервис слегка нахмурился. — Что-нибудь случилось? — спросила Кэрол. — Да… мы с женой планировали поехать в город по магазинам, может быть, сходить в кино или в ресторан. В основном мы всегда так делаем по пятницам. Но здесь нет ни души, кроме вас с Джейн. Вот завтра, в субботу, если погода совсем не испортится, кто-нибудь да и приедет. А сегодня пока, кроме вас, никого. — Не беспокойтесь, — сказала Кэрол. — С нами все будет в порядке. Вы с Пег поезжайте в город, как и намечали. — Но… мне бы не хотелось оставлять вас, двух дам, здесь одних, когда на двадцать миль вокруг больше никого нет. Нет-нет, мне это очень не нравится. — Да никому мы здесь не нужны, Винс. Дорога закрывается воротами; сюда даже проехать нельзя без специальной карточки. — Кому надо — зайдет, а то и по воздуху перелетит. Кэрол потребовалось несколько минут и немалое количество слов, чтобы разубедить его, и он наконец решил, что они с женой все-таки не будут рушить свои планы. Вскоре после ухода Винса пошел дождь. Тихий шум сотен миллионов капель, шелестящих по листве, успокаивал Кэрол. Но Джейн в этом шуме слышалось что-то неприятное. — Не пойму, в чем дело, — сказала она, — только этот звук почему-то ассоциируется у меня с пожаром. Шелест… словно пламя, пожирающее все на своем пути. Шипя и потрескивая, шипя и потрескивая…* * *
…Из-за дождя Полу пришлось сбавить скорость до шестидесяти, хотя для данных условий и это было слишком быстро, однако в такой ситуации риск казался неизбежным. Глухо и ритмично, как метроном, стучали «дворники», и по мокрому асфальту тихо жужжали шины. Мрачный день становился все мрачнее. Несмотря на полдень, казалось, что наступили сумерки. Ветер трепал над скользкой сырой дорогой плотную дождевую завесу, и серо-коричневые брызги, поднятые другими машинами, будто зависали в воздухе, образовывая густой грязный, туман. «Понтиак» казался крохотным суденышком в глубоком и бескрайнем холодном море, единственным островком света и тепла на тысячи миль вокруг. — Ты, видимо, не поверишь тому, что я тебе расскажу, да это и понятно, — сказала Грейс. — После того, что сегодня случилось со мной, я готов поверить чему угодно, — ответил Пол. «А может быть, — подумал Пол, — именно это и являлось целью полтергейста. Может быть, все это для того, чтобы подготовить меня к рассказу Грейс. В самом деле, если бы меня не задержал полтергейст, я бы уехал из дому до приезда Грейс». — Я попробую все рассказать как можно проще, — начала Грейс. — Но дело это непростое. — Она держала свою израненную левую руку в правой; кровь уже перестала течь и запеклась, образовав на ранах корку. — Это началось в Шиппенсбурге. В семействе Хейвенсвудов. Пол мельком взглянул на нее, услышав вдруг знакомую фамилию. Грейс смотрела вперед на мокрую от дождя дорогу, по которой они мчались. — Мать звали Уилла Хейвенсвуд, а дочь — Лорой. Они не очень-то ладили между собой. Точнее, совсем не ладили. Виноваты в этом были обе, и причины их постоянных споров и пререканий не имеют прямого отношения к случившемуся. Важно то, что как-то раз весной 1865 года Уилла послала Лору в подвал делать генеральную уборку, хотя и прекрасно знала, что девочка до смерти боялась подвала. Это было нечто вроде наказания. Пока Лора находилась в подвале, наверху начался пожар. Лора не смогла оттуда выбраться и сгорела заживо. Умирая, она, должно быть, обвиняла свою мать в том, что та послала ее в эту могилу. Возможно, она даже считала, что пожар начался из-за нее, хотя это было и не так. Пожар начался из-за Ракели, Лориной тети. Лора могла даже подумать, что ее мать специально устроила пожар, чтобы отделаться от нее. Девочка была эмоционально неустойчивой и склонной к подобным идеям. У матери тоже было не все в порядке с психикой; она вполне могла способствовать подобным параноическим всплескам. Одним словом, Лора умерла жуткой смертью, и можно не сомневаться, что ее последней мыслью было горячее желание отомстить. Как она могла знать, что ее мать тоже погибла в этом пожаре?! «Так вот почему полиция ничего не выяснила про Хейвенсвудов, когда Кэрол наводила справки, — подумал Пол. — Чтобы что-то узнать про семейство Хейвенсвудов, нужно было возвращаться в прошлое столетие. Вероятно, в округе уже и нет сведений за это время». Впереди из тумана показался медленно ехавший грузовик, и Пол стал его обгонять. В какое-то мгновение грязные брызги из-под колес грузовика забарабанили по боку «Понтиака», и Грейс замолчала, потому что из-за этого шума ее все равно не было бы слышно. Когда грузовик остался позади, она продолжила: — С 1865 года стремление отомстить не давало Лоре покоя на протяжении двух, а то и трех жизней. Это — перевоплощение. Пол. Можешь ли ты поверить? Можешь ли ты поверить, что в 1943 году Лора Хейвенсвуд была пятнадцатилетней девочкой по имени Линда Бектерман, которая в ночь накануне своего шестнадцатилетия пыталась убить свою мать, перерожденную Уиллу Хейвенсвуд? Это не выдумка. Линда Бектерман сошла с ума и пыталась зарубить свою мать, но получилось так, что они поменялись ролями и вместо матери погибла девочка. Так что Лоре не удалось отомстить. И можешь ли ты поверить в то, что Уилла вновь жива, и на сей раз это наша Кэрол? И Лора тоже жива. — Джейн? — Да. Вместе Кэрол и Джейн убрались в домике за час пятнадцать минут. Кэрол с радостью отмечала, что девочка оказалась весьма трудолюбивой и получала удовольствие от тщательно выполненной, пусть даже и не очень приятной работы. Закончив, они в качестве награды налили себе по стакану пепси и уселись в кресла напротив огромного камина. — Еще рановато готовить ужин, — сказала Джейн. — И сыровато для прогулки. Так в какую игру вы бы хотели поиграть? — Я с удовольствием поиграю в любую, какая тебе понравится. Посмотри все игры, которые у нас лежат в шкафу, и выбери сама. Но, мне кажется, сначала нам лучше провести лечебный сеанс. — Мы будем продолжать даже здесь? — спросила девочка с явным беспокойством, которого раньше не наблюдалось, даже в день первого сеанса, позавчера.* * *
— Конечно, нужно продолжать, — ответила Кэрол. — Раз мы уже начали, лучше продолжать работу, пытаясь хоть немного продвинуться дальше. — Ну… хорошо. — Давай-ка развернем эти стулья лицом друг к другу. Пламя метнулось вбок, и на камине возникли пляшущие тени. На улице дождь беспрерывно шелестел по листве и стучал по крыше, и Кэрол вдруг показалось, что он действительно больше напоминал по звуку огонь, как сказала Джейн, и они словно попали в окружение шипящего и потрескивающего пламени. На этот раз ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы ввести Джейн в транс. Но, как и во время первого сеанса, девочке понадобилось почти две минуты, чтобы вернуться к тому времени, где ее память оживала. Теперь длительное молчание уже не беспокоило Кэрол. Наконец девочка заговорила голосом Лоры: — Мама? Это ты? Это ты, мама? — Лора? Глаза девочки были крепко закрыты. Голос звучал тревожно, натянуто. — Это ты? Мама, это ты? Ты? — Расслабься, — сказала Кэрол. Однако вместо этого девочка явно еще больше напряглась. Она несколько ссутулила плечи, сжала коленями стиснутые в кулаки руки. На лбу и в уголках рта появились напряженные морщинки. Сидя в кресле, она подалась немного вперед, в сторону Кэрол. — Я хочу, чтобы ты ответила на несколько вопросов, — сказала Кэрол. — Но прежде ты должна успокоиться и расслабиться. Делай так, как я тебе говорю. Ты разожмешь свои кулаки. Ты… — Нет! Девочка резко открыла глаза. Она вскочила с кресла и, дрожа, встала перед Кэрол. — Сядь, милая. — Я не стану делать то, что ты мне говоришь! Мне опротивело тебе подчиняться, мне надоели твои наказания. — Сядь, — мягко, но настойчиво велела Кэрол. Девочка сверкнула на нее глазами. — Ты сделала это со мной, — сказала она голосом Лоры. — Ты послала меня в это жуткое место. Поколебавшись, Кэрол решила не останавливать ее. — О каком месте ты говоришь? — Сама знаешь. Ненавижу тебя. — Где это жуткое место, о котором ты говоришь? — настойчиво спрашивала Кэрол. — Подвал. — А чем же он так ужасен? Взгляд девочки был полон ненависти. Поджав губы, она зловеще оскалила зубы. — Лора? Отвечай мне. Чем так ужасен подвал? Девочка ударила ее по лицу. Кэрол оцепенела от неожиданности. Удар был таким резким, сильным, неожиданным. В какое-то мгновение она даже не могла поверить, что ее ударили. Но девочка вновь ударила ее. И еще. Сильнее. Кэрол схватила ее за худенькие запястья, но девочке удалось вывернуться. Она ударила Кэрол по ногам и, когда та, вскрикнув, на какое-то мгновение обмякла, попыталась схватить ее за горло. Кэрол, хоть и не без труда, удалось от нее отбиться; она попыталась встать со стула. Толкнув ее назад, Джейн бросилась на нее. Кэрол почувствовала, как девочка укусила ее за плечо, и неожиданно ее смятение переросло в страх. Стул перевернулся, и они обе, размахивая руками, скатились на пол.* * *
Равнина, по которой они ехали, начала переходить в покатые холмы, но до гор было еще далеко. Если за последние полчаса погода и изменилась, то только в худшую сторону. Дождь шел все сильнее; тяжелые крупные капли падали на асфальт, точно стеклянные, разлетаясь множеством брызг. Стрелка спидометра по-прежнему была на восьмидесяти. — Перевоплощение, — задумчиво произнес Пол. — Всего несколько минут назад я говорил вам, что сегодня готов поверить чему угодно, но это — что-то непостижимое. Перевоплощение? Откуда же, черт возьми, у вас взялась вся эта теория? Под глухой стук «дворников» по лобовому стеклу и навязчиво-заунывное жужжание шин по мокрой дороге Грейс рассказала ему о телефонных звонках Леонарда, о приходе давно умершего репортера, о пророческих снах и о ее страшной схватке с Аристофаном. — Я — Ракель Эдамс, Пол. Та, другая, жизнь открылась мне, чтобы я смогла остановить эту смертоносную последовательность. Пожар случился не из-за Уиллы. Он случайно произошел по моей вине. Девочке незачем мстить. Все это ошибка, страшное заблуждение. Если мне удастся поговорить с Джейн, когда в ней проявится личность Лоры, я расскажу ей правду. Я знаю, что смогу убедить ее. Я смогу положить конец всему этому раз и навсегда. Ты думаешь, это бред? Маразм? Нет, кажется, нет. Я просто уверена, что нет. И я предполагаю, что и тебе в последнее время довелось стать свидетелем весьма странных событий, подтверждающих то, что я тебе рассказала. — Здесь вы угадали, — согласился Пол. И все же перевоплощение — возрождение в другой телесной оболочке — что-то жуткое, леденящее душу. Смерть не может продолжаться. Да, поверить в это было гораздо сложнее, чем в полтергейст. — Вы знаете о Милисент Паркер? — спросил он ее. — Никогда не слышала этого имени, — ответила Грейс. Дождь пошел еще сильнее. Пол нажал кнопку, «дворники» задвигались быстрее. — В 1905 году, — начал он, — Милли Паркер пыталась убить свою мать в канун своего шестнадцатилетия. Как и в случае с Линдой Бектерман, получилось все наоборот и кончилось тем, что мать убила Милли. Чисто из самозащиты. И вот что вам может показаться непонятным: во время гипноза Джейн говорила, что она — Лора, Милли и потом Линда Бектерман. Но для нас эти имена ничего не значили. — И вновь в этой истории с Милисент Паркер, — сказала Грейс, — девочкина жажда отомстить так и осталась неудовлетворенной. Да. Я знала, что между жизнями Лоры и Линды должна быть еще чья-то. — Но почему эти вещи творятся накануне дня рождения? — Лора с большим нетерпением ждала своего дня рождения, — ответила Грейс-Ракель. — Она говорила, что это будет лучший день в ее жизни. У нее было множество разных планов — о том, как изменится ее жизнь по достижении того волшебного возраста. Я думаю, она рассчитывала, что и отношение матери к ней изменится, как только она станет взрослой. Но она умерла, не дожив до дня рождения. — И из жизни в жизнь по мере приближения шестнадцатилетия в ее подсознании растет страх перед матерью и ненависть к ней… Грейс кивнула. — …происходя из подсознания той, кем она была в 1865-м… Минуты две они ехали молча. Пол чувствовал, какими влажными были ладони его рук, державших руль. Мысли кружились у него в голове, пока он пытался переварить то, что она ему рассказала, и у него вновь появилось ощущение, что он идет по канату, натянутому над глубокой темной пропастью. Потом он сказал: — Но Кэрол не является матерью Джейн. — Ты кое-что забываешь, — возразила Грейс. — Что? — Кэрол родила внебрачного ребенка, когда была еще подростком. Я знаю, что она тебе об этом рассказывала. Так что я не выдаю ничьих секретов. Пол всем телом ощутил дрожь. Он похолодел до мозга костей. — О Боже… Вы хотите сказать… Джейн — та самая девочка, которую Кэрол отдала в приют? — У меня нет доказательств, — ответила Грейс. — Но я уверена в том, что, когда полиция расширит зону поиска, когда наконец-то где-нибудь в другом штате найдутся родители девочки, мы узнаем, что ее удочерили. А ее настоящая мать — Кэрол.* * *
Их борьба на полу возле камина, казалось, продолжалась уже целую вечность. Девочка, извиваясь, пыталась наносить удары. Кэрол, сопротивляясь, но стараясь при этом не причинять ей боли, защищалась. Когда наконец стало ясно, что Кэрол, бесспорно, сильнее и наверняка одержит верх, девочка, оттолкнув ее, поднялась на ноги и, пнув ее в бедро, выбежала из комнаты на кухню. Кэрол была в смятении и шоке от неожиданной ярости девочки и маниакальной силы ее ударов. Лицо горело, и она чувствовала, что на нем будут синяки. Укус на плече кровоточил; спереди на ее блузке медленно расплывалось большое влажное красное пятно. Она встала, слегка пошатываясь, и пошла вслед за девочкой. — Милая, подожди! Откуда-то с улицы донесся истошный крик Лоры: — Ненави-и-и-и-жу тебя! Кэрол добралась до кухни и прислонилась к холодильнику. Девочки не было. Задняя дверь осталась открытой. С улицы доносился шум дождя. Кэрол поспешила к двери и, выглянув, посмотрела на дворик, на маленький луг и на возвышавшийся за ним лес. Девочка исчезла. — Джейн! Лора! «Может быть, Милисент? — подумала она. — Или Линда? Как же мне ее звать?» Пройдя по веранде, Кэрол по ступенькам спустилась вниз во дворик под холодный проливной дождь. Она взглянула направо, затем повернулась налево, не зная, где начинать искать. И вдруг появилась Джейн. Девочка вышла из пристроенного к юго-западному углу дома сарая. В руках она держала топор.* * *
«А ее настоящая мать — Кэрол». Сказанное Грейс многочисленным эхом раздавалось в голове Пола. На какое-то мгновение он лишился дара речи. Ошеломленный, он смотрел вперед, не замечая дороги, и чуть было не врезался в багажник неповоротливому «Бьюику». Он нажал на тормоз. Они с Грейс дернулись вперед, проверяя надежность привязных ремней. Он сбавил скорость, пока не обрел контроль над собой. Наконец слова выплеснулись из него нескончаемым потоком: — Но как же, черт возьми, ребенок узнал, кто ее настоящая мать, таких сведений не дают детям ее возраста; как она добралась сюда из другого штата, где бы она ни жила; как ей удалось нас найти и устроить все, что случилось? Боже праведный, ведь она неспроста попала под машину Кэрол. Это было подстроено. Все это проклятие было подстроено! — Я не знаю, как ей удалось разыскать Кэрол, — ответила Грейс. — Возможно, ее родители знали, кто мать ребенка, и ее имя было где-то записано на тот случай, если девочка в зрелом возрасте захочет его узнать. Возможно, и нет. Все возможно. А может быть, ее привели к Кэрол те же силы, что хотели добраться до меня через Аристофана. Этим можно было бы объяснить, почему она казалась в забытьи, выходя на дорогу прямо под колеса машин. Однако я не знаю, как это получилось на самом деле. Возможно, мы никогда и не узнаем. — Проклятие, — сказал Пол, и голос его задрожал. — О нет… Нет, нет. Господи! — Что такое? — Вы же знаете, какой становится Кэрол в эти дни, — с отчаянием произнес он. — В дни, когда родился ее ребенок, ребенок, от которого она отказалась. Она становится совершенно непохожей на себя, на ту, какой она бывает во все остальные дни. Подавленная, замкнутая. Этот день всегда настолько плох, что дата запечатлелась в моей памяти. — И в моей, — сказала Грейс. — Это будет завтра, — продолжал он. — Если Джейн — ребенок Кэрол, то завтра ей будет шестнадцать. — Да. — И сегодня она попытается убить Кэрол.* * *
Завеса темного дождя дрожала и колыхалась на ветру, как полог шатра. Стоя на мокрой траве, Кэрол словно приросла к месту, оцепенев от страха и ледяного дождя. В двадцати футах от нее, сжимая обеими руками топор, стояла девочка. Ее намокшие волосы свисали до плеч, одежда прилипла к телу. Она будто не ощущала ни грозы, ни холода. Ее взгляд казался безумным, словно она находилась под действием наркотиков, ее лицо было искажено ненавистью. — Лора? — наконец произнесла Кэрол. — Послушай меня. Ты сейчас послушаешь меня. Ты бросишь топор. — Ты мерзкая, подлая тварь, — сквозь стиснутые зубы сказала девочка. Молния расколола небо, и непрекращающийся дождь на какое-то мгновение заблестел в стробоскопических вспышках на небосводе. Когда стих последовавший за этим раскат грома и стал слышен ее голос, Кэрол сказала: — Лора, я хочу, чтобы ты… — Я ненавижу тебя! — оборвала девочка. Она сделала шаг в направлении Кэрол. — Прекрати немедленно, — велела Кэрол, не желая отступать. — Ты успокоишься. Расслабишься. Девочка сделала еще один шаг. — Брось топор, — настаивала Кэрол. — Послушай меня, милая. Ты послушаешь меня. Ты просто находишься в состоянии гипноза. Ты… — Ну на этот раз я доберусь до тебя, мама. На этот раз тебе не уйти! — Я — не твоя мать, — сказала Кэрол. — Лора, ты… — Сейчас я снесу тебе башку, дрянь! Голос изменился. Голос уже был не Лорин. Это говорила Линда Бектерман, третья личность. — Я снесу твою глупую голову и положу ее на кухонный стол рядом с папашиной. Вздрогнув, Кэрол вдруг вспомнила свой ночной кошмар на прошлой неделе. В каком-то месте в том жутком сне она, войдя в кухню, увидела на столе две отрубленных головы, мужскую и женскую. Но откуда Джейн было известно про тот кошмарный сон? Наконец Кэрол сделала шаг назад, затем — еще. Несмотря на ледяной дождь, у нее вдруг выступила испарина. — Я говорю тебе в последний раз, Линда. Ты должна положить топор и… — Я снесу тебе голову и изрублю на тысячу мелких кусочков, — сказала девочка. И теперь это был голос Джейн. Этот голос не принадлежал ни одной из личностей, проявлявшихся только в трансе. Это был голос Джейн. Ей самой удалось выйти из транса. Она знала, кто она. Она знала, кто такая Кэрол. И тем не менее продолжала угрожать топором. Кэрол бросилась к ступеням на веранду. Девочка, побежав наперерез, отсекла ей путь к домику. Она стала стремительно, с улыбкой на лице, наступать на Кэрол. Повернувшись, Кэрол бросилась в сторону луга. Несмотря на яростный дождь, барабанивший по лобовому стеклу, подобно граду пуль, несмотря на висевший над дорогой грязный туман и страшно скользкий асфальт, Пол, нажимая до отказа на акселератор, вывел «Понтиак» в крайний ряд. — Маска, — произнес он. — Что ты хочешь сказать? — переспросила Грейс. — Личность Джейн Доу, Линды Бектерман и Милли Паркер — каждая из них была только маской. Пусть очень натуральной и убедительной, но всего лишь маской. Под маской неизменно было одно и то же лицо, один и тот же человек — Лора. — И мы должны раз и навсегда положить конец этому маскараду, — ответила Грейс. — Если мне удастся поговорить с ней как тете Ракель, я смогу покончить с этим сумасшествием. Я уверена в этом. Она послушает меня… Ракель. Она считала меня своим самым близким человеком. Ближе матери. Я смогу объяснить ей, что ее мать Уилла не устраивала пожара тогда, в 1865 году, и он вообще произошел не по ее вине. Она наконец поймет. Она поймет, что ее жажда мести неоправданна. И придет конец смертоносной цепочке. — Если мы успеем, — добавил Пол. — Да — если, — сказала Грейс.* * *
Кэрол бежала по траве под обжигающим дождем. Она бежала вверх по склону луга с прижатыми к бокам руками, высоко поднимая ноги, задыхаясь. Каждый шаг вызывал у нее сильную, до мозга костей, дрожь. Впереди возвышался лес, казавшийся ее единственным спасением. Там было где спрятаться в зарослях и по бесчисленным тропинкам скрыться от преследовательницы. Для нее местность все же была более-менее знакомой в отличие от девочки, оказавшейся здесь впервые. Где-то на середине луга она рискнула оглянуться. Девочка была всего футах в пятнадцати от нее. Молния рассекла тучи, и топор блеснул — раз, другой, — отражая холодные ослепительные вспышки. Кэрол опять смотрела вперед, ускоряя бег в стремлении добраться до деревьев. Луг был мокрым, мягким и порой очень скользким. Она боялась упасть или подвернуть ногу, но ей удалось добраться до опушки леса, избежав этого. Она кинулась в заросли, в багровые, коричневые и черные тени, в густые кусты, и у нее появилась надежда — возможно, только крохотная, но все-таки надежда — на то, что ей удастся остаться живой.* * *
Подавшись вперед, всматриваясь в завесу хлеставшего по дороге дождя. Пол сказал: — Я хочу, чтобы один момент был у нас предельно ясен. — Какой? — спросила Грейс. — Прежде всего меня волнует Кэрол. — Конечно. — Если мы попадем в домик во время какой-то критической ситуации, я пойду на все, что угодно, ради защиты Кэрол. Грейс покосилась на отделение для перчаток. — Ты подразумеваешь… оружие? — Да. Если я буду вынужден, если не будет другого выхода, я буду стрелять, Грейс. Я убью девочку, если у меня не будет выбора. — Вряд ли мы окажемся там именно в критический момент, — предположила Грейс. — Либо до него еще не дойдет, либо все будет кончено к тому времени, когда мы туда доберемся. — Я буду защищать от нее Кэрол, — с мрачной решимостью сказал Пол. — И если дойдет до худшего, я прошу вас не останавливать меня. — Ты должен кое-что учитывать, — заметила Грейс. — Что? — Прежде всего то, что, если Кэрол убьет девочку, будет большая трагедия. По крайней мере, пока все именно так и было. И Милли, и Линда пытались убить своих матерей, но сами оказывались жертвами. Вдруг так произойдет и на этот раз? Что будет, если Кэрол, защищаясь, будет вынуждена убить ее? Ты же знаешь, что она так и не избавилась от чувства вины за то, что отказалась от ребенка. Вот уже шестнадцать лет это тяготит ее. А что случится, когда она узнает, что убила свою собственную дочь? — Она этого не вынесет, — не задумываясь ответил Пол. — Боюсь, что такое очень даже может случиться. А как отразится на ваших с Кэрол отношениях, если ты убьешь ее дочь, даже если ты этим и спасешь Кэрол жизнь? — Это может все погубить, — сказал он. И содрогнулся. Некоторое время, несмотря на извилистую тропинку среди деревьев, Кэрол не могла оторваться от девочки. Она перебежала с одной тропинки на другую, пересекла маленький ручей, вернулась к началу своего пути. Она старалась приседать и нагибаться, скрываясь за кустами. Она не производила никаких звуков, которые были бы слышны сквозь шум дождя, старалась наступать на старую листву, перепрыгивать с камня на камень, с бревна на бревно, чтобы не оставлять следов на голой сырой земле. И тем не менее Джейн безошибочно и неотступно следовала за ней, словно ищейка. Наконец у Кэрол все же появилась уверенность в том, что ей удалось оторваться от девочки. Она присела на корточки под большой сосной, прислонилась к сырой коре и глубоко, часто и порывисто дышала, ожидая, пока успокоится ее сердце. Прошла минута. Две. Пять. Единственным звуком был шум дождя, моросящего по листве и густым сосновым иголкам. Она стала ощущать влажный запах лесной растительности — мха, грибов, травы, чего-то еще. Ничто не шелохнулось. Опасность миновала, по крайней мере на этот момент. Но не сидеть же ей под сосной в ожидании помощи. В конце концов Джейн перестанет ее искать и будет пытаться найти дорогу к домику. Если девочка не заблудится — что может произойти скорее всего, — если она как-то доберется до домика и все еще будет пребывать в таком же психическом состоянии, она может убить первого попавшегося ей человека. Стоит ей застать врасплох Винса Джервиса, против топора ему не помогут даже его гигантский рост и здоровенные мускулы. Кэрол поднялась и, отойдя от дерева, пошла по направлению к домику. Ключи от «Фольксвагена» были у нее в сумочке, а сумочка — в одной из спален. Ей нужно будет взять ключи, поехать в город и обратиться за помощью к шерифу. «В чем же дело? — недоумевала она. — Девочка не должна была стать агрессивной. Не было и намека на то, что она способна на такое. Склонность к убийству просто не соответствовала ее психологическому портрету. Опасения Пола подтвердились. Но почему?» Продвигаясь с крайней осторожностью, ожидая, что девочка может броситься на нее из-за любого дерева или куста, Кэрол через пятнадцать минут добралась до опушки леса, недалеко от того места, где она вбежала в него, преследуемая девочкой. Луг был пуст. У подножия склона под проливным дождем виднелся домик. «Девочка потерялась, — решила Кэрол. — Как ей было не заблудиться после такой беготни и петляния по незнакомому лесу то в одну сторону, то в другую! Она сама ни за что не найдет дорогу к домику. Людям шерифа, разумеется, все это не понравится: искать под дождем в лесу какую-то девочку в состоянии агрессивности, вооруженную топором. Да уж, вряд ли им это придется по душе». Кэрол сбежала по лугу вниз. Задняя дверь домика все еще была открыта, как она ее оставила. Она вскочила внутрь и, захлопнув дверь, задвинула щеколду. Она почувствовала волну облегчения. Пару раз нервно сглотнув, Кэрол перевела дыхание и направилась через кухню к двери, ведущей в гостиную. Она едва не перешагнула порог, когда ее неожиданно остановило жуткое ощущение того, что она не одна. Она отпрыгнула назад лишь по воле интуиции, и в этот момент топор рассек воздух там, где она только что стояла. Если бы она не отпрянула, то оказалась бы разрубленной пополам. Девочка вошла в кухню, угрожающе размахивая топором: — Сука. Кэрол попятилась к только что запертой ею самой двери. Она пыталась нащупать за спиной засов и не могла его найти. Девочка наступала. Поскуливая от отчаяния, Кэрол повернулась к двери и схватилась за щеколду. Она ощутила, как за ее спиной в воздух взлетел топор, и поняла, что дверь она открыть не успеет. Она шарахнулась в сторону, и топор врезался в дверь в том месте, где была бы ее голова. Каким-то сверхчеловеческим усилием девочка выдернула топор из дерева. Едва переводя дыхание, Кэрол бросилась в гостиную. Она пыталась найти что-нибудь, чем бы она могла защитить себя. Единственным, что ей попалось на глаза, была кочерга, висевшая возле камина. Она схватила ее. — Я ненавижу тебя! — услышала она позади себя голос Джейн. Кэрол резко повернулась. Девочка взмахнула топором. Кэрол едва успела поднять кочергу, и она зазвенела о поблескивавшее, зловещее острое лезвие топора, отражая удар. Отдача прошла по всей длине кочерги до рук Кэрол. Они онемели от удара. Она не смогла удержать этот металлический прут, и он выпал из ее дрогнувших рук. По деревянной ручке топора вибрация не распространялась, и с прежней одержимостью Джейн крепко держала его. Пятясь, Кэрол поднялась на широкую каминную плиту. Она почувствовала ногами жар. Бежать ей больше было некуда. — Вот сейчас, — произнесла Джейн. — Сейчас. Наконец-то. Она высоко занесла топор, Кэрол вскрикнула в ожидании боли, но в это мгновение распахнулась, с грохотом ударившись о стену, входная дверь. За ней стоял Пол. И Грейс. Девочка мельком взглянула на них, но ее внимание было сосредоточено на другом: она целилась в лицо Кэрол. Кэрол упала на каминную плиту. Топор ударил по каминной облицовке над ее головой; полетели искры. Пол кинулся к девочке, но она почувствовала его приближение. Повернувшись к нему, она замахнулась на него топором. Затем она вновь переключилась на Кэрол. — Попалась, дрянь, — с улыбкой произнесла она. Взмах топора. «Теперь она не промахнется», — подумала Кэрол. Вдруг чей-то голос крикнул: — Пауки! Девочка оцепенела. Топор застыл в воздухе. — Пауки! — Это была Грейс. — У тебя на спине пауки, Лора. О Господи, они ползают у тебя по всей спине. Пауки! Берегись пауков, Лора! Кэрол ошеломленно смотрела, как на лице девочки отразился неподдельный ужас. — Пауки! — вновь крикнула Грейс. — Большие, черные, мохнатые пауки, Лора. Сбрось их! Стряхни их со своей спины. Скорее! Вскрикнув, девочка бросила топор, и он звонко ударился о каменную плиту. Она словно безумная начала отряхивать свою спину, выворачивая назад руки. Она сопела и хныкала, точно маленький ребенок. — Помоги мне! — Пауки, — вновь повторила Кэрол. Пол поднял топор и отнес его подальше. Девочка пыталась сорвать с себя блузку. Она упала на колени, потом повалилась на бок, что-то бубня от страха. Она извивалась на полу, стряхивая с себя воображаемых пауков. Через минуту она, казалось, дошла до шокового состояния; она лежала на полу, содрогаясь и рыдая. — Она всегда боялась пауков, — сказала Грейс. — Поэтому-то она и ненавидела подвал. — Подвал? — переспросила Кэрол. — В котором она умерла, — ответила Грейс. Кэрол не поняла. Но ей было не до этого. Она смотрела на извивавшуюся на полу девочку и вдруг почувствовала к ней невероятную жалость. Опустившись возле Джейн на колени, она приподняла и обняла ее. — Ты в порядке? — спросил ее Пол. Она кивнула ему в ответ. — Пауки, — произнесла девочка, безудержно дрожа. — Нет, милая, — сказала Кэрол. — Пауков нет. Никаких пауков на тебе нет. Уже нет. И никогда не будет. И она удивленно посмотрела на Грейс.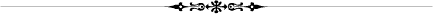
ДОМ ГРОМА (роман)
Попав в страшную автомобильную катастрофу, молодая привлекательная женщина, талантливый физик Сюзанна Тортон, теряет память. Врачи выводят ее из состояния полной амнезии, но по непонятной причине у нее оказываются заблокированными участки памяти, касающиеся ее прошлой работы в сверхсекретной корпорации «Майлстоун». Последствия аварии усугубляются тем, что Сюзанна оказывается в плену леденящих кровь кошмаров, связанных с давним убийством ее жениха.
Часть I. СТРАХ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ИСПОДВОЛЬ…
Глава 1
«Неужели я ослепла?!» — подумала она, очнувшись. Перед глазами проплывала тьма, окрашенная в пурпурные тона, зловещие бесформенные тени блуждали во мраке. Она уже готова была закричать от ужаса, когда темнота вдруг плавно перешла в дымку, а дымка обернулась белым потолком из звукопоглощающих плиток. Пахло свежевыглаженным постельным бельем. Ноздри щекотал запах антисептики, дезинфицирующих средств и спирта. С первым же поворотом головы пронзительная боль мучительным разрядом просверлила череп от виска к виску. От судороги она зажмурилась, а когда снова смогла открыть глаза, то обнаружила, что лежит в больничной палате. Как она в нее попала, припомнить не было никакой возможности. Она даже не могла восстановить, в каком городе находится эта неизвестная ей больница. Что со мной? Своей пугающе слабой рукой она сумела дотянуться до лба и обнаружила на нем повязку, покрывающую весь лоб до самых волос. К тому же ее коротко остригли. Ведь были же у нее когда-то пышные и длинные волосы? Держать руку поднятой не было больше сил; она уронила ее на край кровати. Левой рукой она не могла шевелить вовсе — та была накрепко прибинтована к поручню кровати, и из нее торчала игла. Ее силы поддерживали внутривенными вливаниями, рядом с кроватью стояла хромированная стойка для капельницы, в пластмассовом сосуде слегка вздрагивала жидкость — раствор глюкозы. Она вновь смежила веки, решив про себя, что все это ей лишь мерещится. К ее удивлению, когда она, открыв глаза, огляделась вокруг, все осталось на своих местах. Та же больничная палата, тот же белый потолок и те же белые стены, зеленоватая плитка на полу и бледно-желтые занавески по сторонам большого окна. За окном виднелись высокие вечнозеленые деревья неизвестной ей породы и пасмурное небо с редкими островками голубизны. В палате стояла вторая кровать, пустая, так что она была здесь в полном одиночестве. Для того чтобы она не упала на пол, на ее кровати имелось ограждение с боков. Она беспомощна, словно младенец в колыбели. Она вдруг поняла, что не знает своего имени. Не знает своего возраста, вообще ничего о себе не знает. Она стояла перед высокой глухой стеной, не ведая, как пробраться через нее к бесценным сокровищам своей памяти. Все попытки преодолеть препятствие успеха не имели, стена стояла нерушимо. Ледяной цветок страха раскрывал свои холодные лепестки у нее под сердцем. Еще несколько отчаянных, судорожных шагов на ощупь в полной темноте. Тупик. Амнезия. Повреждение головного мозга. Эти черные слова безжалостно возникли в ее сознании. Она попала в катастрофу и получила серьезную травму головы. Да, так и есть, и теперь ей предстоит жизнь калеки, беспомощной и жалкой. От такой перспективы ее бросило в дрожь. Внезапно, однако, неизвестно какими путями, имя ее вернулось к ней. Сюзанна. Сюзанна Тортон. Тридцати двух лет от роду. Неожиданный прилив воспоминаний оказался, впрочем, скорее игрой случая. Она не смогла восстановить в памяти ничего, кроме своего имени с фамилией и возраста. Она старательно обшаривала все закоулки памяти, но была не в силах припомнить, где жила прежде. Где и кем работала? Была ли замужем? Были ли у нее дети? В какую школу она ходила в детстве? Какие блюда больше всего любила? Какую музыку? Ответа не было ни на один из вопросов, независимо от того, были ли они жизненно важными или пустяковыми. Амнезия. Повреждение головного мозга. Страх заставил ее сердце биться чаще. Затем, в какой-то момент, она с облегчением вспомнила, что этим летом она поехала во время своего отпуска в Орегон. Откуда она уехала и куда должна была вернуться — это было покрыто мраком, но, по крайней мере, она теперь знала, где находится. Где-то в штате Орегон. Последнее, что высветилось в ее памяти, оказалось великолепной горной дорогой. Почему-то именно этот пейзаж вернулся к ней во всех, даже самых мельчайших деталях. Она мчалась в машине по шоссе, по сторонам которого росли сосны, где-то совсем рядом плескалось море, она слушала радио и наслаждалась прекрасным безоблачным утром. В какой-то момент она миновала сонную деревушку с домами из камня и дерева, затем обогнала пару медленно ползших по шоссе грузовиков, затем ехала по дороге в полном одиночестве, затем… затем… Пустота, провал в памяти. Затем она очнулась в смятении, с глазами, совершенно отвыкшими от дневного света, в этой больнице. — Так, так. Ну, наконец-то. Сюзанна повернула голову, пытаясь увидеть, кто говорит с ней. В глазах от боли опять все поплыло, молния снова пронзила череп. — Как себя чувствуете? Пока вид действительно бледный, но чего же вы хотите? После того, что с вами стряслось, это совсем не удивительно. По-другому и быть не может, это совершенно естественно. Голос, как оказалось, принадлежал медсестре, которая подошла к кровати со стороны двери. Сестра была пышной, но не чрезмерно, женщиной в возрасте, с начинающими седеть волосами, с теплым взглядом карих глаз и с широкой улыбкой на лице. Она носила очки в светлой оправе, в настоящий момент они, закрепленные на цепочке, покоились поверх халата, облегающего ее пышные формы. Сюзанна попыталась что-то сказать в ответ. Но язык не слушался ее. Даже слабое усилие, необходимое для артикуляции, вызывало у нее головокружение, она едва не потеряла сознание. Она еще больше испугалась сама за себя. Медсестра подошла поближе к кровати и ободряюще улыбнулась. — Я же говорила, милая моя, что ты обязательно выкарабкаешься. Я просто была уверена в этом. Не все, кстати, здесь разделяли эту уверенность. Но я-то знала, что ты будешь молодчиной. — Сестра нажала одну из кнопок на табло, укрепленном рядом с кроватью. Сюзанна снова попробовала ответить, и на этот раз ей удалось издать слабый звук, больше, правда, похожий на кашель. Она вдруг представила себе, что вполне могла навсегда лишиться дара речи. Неужели ей придется всю оставшуюся жизнь не произносить ничего, кроме этих ужасных, похожих на крик животного звуков! Ведь, насколько ей помнится, повреждение головного мозга иногда приводит к потере речи. Не случилось ли это и с ней? Голова гудела, сосуды сжимал страшный спазм. Ее раскручивала какая-то гигантская карусель, раскручивала все быстрее и быстрее, и она молила, чтобы кто-нибудь прекратил это вызывающее дурноту движение. Медсестра, должно быть, заметила отчаяние в глазах Сюзанны и ласково заговорила: — Ну же, ну же, успокойся, детка. Все будет хорошо. — Она проверила капельницу, затем приподняла запястье правой руки у больной и стала считать пульс. «Боже мой! — думала Сюзанна. — Я не могу разговаривать. Возможно, ходить я тоже не смогу». Она попыталась пошевелить ногой под одеялом. Оказалось, что ног своих она почти не ощущает; они были такими тяжелыми, налитыми свинцом, как и руки. Медсестра отпустила ее руку, но Сюзанна вцепилась пальцами в подол халата и отчаянно пыталась что-то произнести. — Ну не торопись, милая, — ласково посоветовала медсестра. Но Сюзанна чувствовала, что ей надо подстегивать себя. Она вновь была на грани обморока. К боли в голове прибавились черные тени, которые все больше заслоняли от ее взора окружающий мир. В палату вошел врач в белом халате, он явился, вероятно, по вызову медсестры. Крепко сложенный, с обветренным лицом, на вид лет около пятидесяти. Прямые черные волосы были зачесаны без пробора назад. Когда он подошел к кровати, Сюзанна умоляюще взглянула на него и спросила: «У меня парализованы ноги?» Она думала, что ей удалось сказать это вслух, но почти сразу эта надежда развеялась в прах. Прежде чем она смогла сделать новую попытку, клубящаяся чернота затмила ее взор, ограничив поле зрения сначала небольшим кружком, который вскоре превратился в жалкую точку. Затем наступила темнота. Она погрузилась в сон. Сон был тяжелый, ужасный, кошмарный. Наверное, уже в двухсотый раз ей снилось, что она попала в «Дом Грома» и снова всюду вокруг кровь, теплая кровь.Глава 2
Когда Сюзанна открыла глаза, головной боли не было и в помине. Зрение тоже прояснилось, головокружение прекратилось. Наступал вечер. За окном начинало темнеть, в палате горел неяркий свет. Капельницу уже унесли. Бледные, исколотые иглами, неправдоподобно худые руки Сюзанны лежали поверх простыни и являлисобой весьма жалкое зрелище. Сюзанна повернула голову и увидела рядом с кроватью все того же врача с обветренным лицом. Он возвышался над ней, взгляд его был устремлен на нее сверху вниз. Взгляд этот обладал какой-то странной, тревожащей властью, казалось, его карие глаза смотрят не на нее, а скорее внутрь ее, тщательно извлекая все секреты из тайников ее души. При этом сами глаза врача не выдавали никаких чувств своего обладателя, они были будто стеклянными. — Что… случилось… со мной? — спросила Сюзанна. Она могла теперь говорить. Голос ее был слабым, хрипловатым и, вероятно, трудным для восприятия, но теперь все ее страхи о пожизненной немоте в результате травмы мозга рассеялись как дурной сон. Слабость, однако, оставалась. Ее жалкие запасы сил уменьшались с каждым произносимым словом, даже шепот давался ей с трудом. — Где я… нахожусь? — прошептала она срывающимся голосом. Каждый трудный звук болью обжигал горло. Врач не сразу ответил на ее вопрос. Сначала он взял в руки пульт управления, от которого тянулся провод, исчезающий под кроватью, и нажал одну из четырех кнопок. Часть кровати вместе с подушкой приподнялась, приводя Сюзанну в сидячее положение. Затем врач положил пульт на столик у кровати и наполнил водой из металлического графина стакан. — А теперь пейте, но очень-очень медленно, — посоветовал он. — Прошло довольно много времени, с тех пор как вы в последний раз пили и ели таким вот привычным образом. Сюзанна благодарно припала к воде. Вода была изумительна вкусна. К тому же она успокаивала ее раздраженное горло. Когда Сюзанна выпила воду, врач взял стакан из ее рук и поставил его обратно на столик. Он отстегнул от своего нагрудного кармана крошечный фонарик в виде ручки, наклонился и стал внимательно обследовать ее глаза. Его собственные глаза оставались все такими же непроницаемыми, спрятанными под густыми бровями, к тому же он наморщил лоб, что придавало его лицу какой-то недовольный вид. В ожидании конца этой процедуры Сюзанна пыталась пошевелить ногами под одеялом. Несмотря на ужасную слабость и ощущение страшной тяжести, ноги слушались. Значит, и паралич ног миновал ее. Доктор, закончив обследование глаз, вытянул ладонь в нескольких дюймах от лица Сюзанны. — Вы видите мою руку? — Да, безусловно, — ответила та. Голос, оставаясь слабым и дрожащим, теперь, по крайней мере, стал не таким хриплым и неразборчивым. Что касается голоса доктора, то он, на ее слух, оказался густым, с легким гортанным акцентом, который она, пожалуй, не смогла бы четко определить. Доктор продолжал: — Сколько пальцев я поднял сейчас вверх? — Три, — ответила она, сообразив, что ее проверяют на симптомы сотрясения головного мозга. — А сейчас сколько? — Два. — А теперь? — Четыре. Врач в знак одобрения закивал, и глубокие морщины, прорезавшие его лоб, слегка разгладились. Глаза доктора тем не менее продолжали внимательно разглядывать ее, и это было весьма неприятно. — Вы помните, как вас зовут? — Да. Я — Сюзанна Тортон. — Правильно. А ваше второе имя? — Кэтлин. — Отлично. Сколько вам лет? — Тридцать два. — Хорошо. Очень хорошо. Все говорит о том, что у вас в голове полная ясность. Голос Сюзанны вдруг снова стал хриплым и невнятным. Она прокашлялась и сказала: — Но это практически все, что я могу вспомнить о себе. Брови доктора, так и не разгладившие до конца его лоб, снова сошлись и разделили морщинами его квадратное широкое лицо. — Что вы имеете в виду? — Ну, я не могу вспомнить, где я жила раньше… где работала… была ли замужем… Он внимательно посмотрел на нее, затем проговорил: — Вы живете в Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Как только он произнес название этого города, в ее сознании возник ее дом — затейливого испанского стиля, с красной черепичной крышей, с белыми стенами, с видом из окон на несколько высоких пальм во дворе. Но сколько она ни силилась вспомнить, ни название улицы, ни номер дома так и не пришли ей на память. — А работаете вы в корпорации «Майлстоун» в Ньюпорте, — добавил доктор. — «Майлстоун»? — повторила Сюзанна. Сквозь туманную дымку в ее сознании возник какой-то слабый свет при упоминании этого названия. Врач продолжал внимательно вглядываться в нее. — Что случилось?! — нервно вскрикнула Сюзанна. — Почему вы так смотрите на меня? Доктор от неожиданности заморгал, затем как-то неловко улыбнулся. Было ясно, что ему пришлось искусственно вызывать улыбку у себя на лице, и от этого она получилась натянутой. — Как вам сказать… я ведь очень беспокоюсь за вас. И хотел бы убедиться, что вы на пути к выздоровлению. Ничего удивительного в вашей временной потере памяти нет, к тому же этот симптом легко поддается лечению. Но, к сожалению, в вашем случае мы имеем дело с несколько иной вещью, чем временная потеря памяти, нам надо будет выработать особый подход. Поэтому-то так важно для меня знать, говорит ли название «Майлстоун» что-нибудь вам или нет. — «Майлстоун», — задумчиво повторила Сюзанна. — Да, пожалуй, в нем есть что-то знакомое мне. Что-то слегка знакомое. — Так вот, вы работали там физиком. Вы получили степень доктора в Калифорнийском университете несколько лет тому назад, и сразу же после этого вам была предложена работа в «Майлстоуне». — Да-да, — поддакнула она, и в памяти стали вырисовываться какие-то более четкие контуры. — Нам удалось уже узнать кое-что о вас от ваших коллег по «Майлстоуну», — продолжал врач. — У вас нет детей, вы не замужем и никогда не были замужем. — Он посмотрел на нее, чтобы проверить ее реакцию на сказанное. — Ну как? Теперь все встает на свои места? Сюзанна вздохнула с облегчением. — Да. В какой-то степени. Кое-что возвращается в память… но не все. Скорее отдельные фрагменты, куски. — Это займет еще некоторое время, — подбодрил доктор. — После такой травмы, как у вас, нельзя надеяться на мгновенное выздоровление. У Сюзанны накопилось немало вопросов к доктору, но все возрастающая слабость пересиливала ее любопытство. Она откинулась на подушки, чтобы перевести дух, и попросила еще воды. На этот раз врач налил в стакан не больше трети его объема и снова предупредил, чтобы она не торопилась. Сюзанна и сама чувствовала, что ей надо быть осторожной. Отпив всего несколько глотков, она почувствовала такую тяжесть в желудке, как будто съела сытный ужин. Утолив жажду, она произнесла: — Не знаю вашего имени. — О, извините, я не представился. Витецкий. Доктор Леон Витецкий. — Я услышала, что вы говорите с акцентом. Я ведь не ошиблась, нет? Витецкий… наверное, это влияние польского языка? Доктор почему-то смутился, отвел взгляд в сторону. — Да, я остался сиротой во время войны. Приехал в эту страну в 1946 году, когда мне было семнадцать лет. Меня сюда пригласил мой дядя. — Доктор вдруг стал говорить медленней, его речь стала напоминать тщательно выученный монолог. — Я утратил большую часть моего польского акцента, но боюсь, что совсем от него мне никогда не избавиться. Видимо, сама того не желая, Сюзанна затронула неприятную для доктора тему. Любое упоминание о его акценте вызывало у врача странное смущение. Он сразу же заговорил о другом, перейдя опять на скороговорку: — Я главврач этой больницы, у меня в подчинении весь персонал. Кстати, вы имеете представление о том, где мы с вами сейчас находимся? — Да, я, кажется, припоминаю, что поехала провести свой отпуск в Орегон, но не скажу точно, в какое место я направлялась. Вероятно, эта больница где-то в Орегоне, не так ли? — Да. Этот город называется Уиллауок. Население — около восьми тысяч. Этот город — центр округа. Округ Уиллауок — по большей части сельский, поэтому здесь ничего нет, кроме нашей больницы. Да и больница сама по себе небольшая. Пятиэтажное здание, двести двадцать коек. Но, в общем-то, здесь неплохо. Мне на самом деле здесь нравится, я предпочитаю это место любому суперсовременному заведению в огромном городе, ведь здесь мы имеем возможность подойти внимательно к каждому из наших пациентов. А это очень важно, это напрямую влияет на процент выздоравливающих. В голосе доктора совсем не чувствовалось оттенка гордости или энтузиазма, несмотря на то, что он произносил все эти высокопарные слова. Речь его была ровной и монотонной. «Или мне все это кажется? — подумала Сюзанна. — Может быть, что-то произошло с моими чувствами, и я теперь неверно оцениваю окружающих?» Превозмогая свою слабость и возобновившуюся головную боль, она сумела приподнять голову над подушкой и спросить доктора: — Скажите, почему я здесь оказалась? Что случилось со мной? — Разве вы не помните о той катастрофе, в которую вы попали? — Нет. — У вашей машины отказали тормоза. Это произошло на чрезвычайно опасном повороте, в двух милях[7] южнее поворота на Вьютоп. — Вьютоп? — Да, это название того места, куда вы направлялись. У вас в бумажнике было найдено подтверждение на заказ гостиничного номера именно в этом местечке. — Там что, есть гостиница? — Да. «Вьютоп Инн». Это же курортное место. Там отдыхают с незапамятных времен. Вернее, этот городишко построен лет пятьдесят-шестьдесят назад, и, как мне представляется, сейчас он пользуется большей популярностью среди отдыхающих, чем в прежние времена. Для того, чтобы укрыться от современной цивилизации, лучшего места не найти. Доктор Витецкий говорил, а Сюзанна понемногу вспоминала. Она закрыла глаза, и перед ней начали проплывать фотографии этого курорта, увиденные ею в журнале «Путешествия» в феврале прошлого года. Да, она действительно заказала себе номер в «Вьютоп Инн» на часть своего отпуска, так как была совершенно очарована видами, открывающимися с широких веранд этой гостиницы, очарована ее старинной, с колоннами, архитектурой, роскошными садами, в которых утопал этот приморский отель. — Так вот, — продолжал Витецкий. — У вашей машины отказали тормоза, и вы не смогли с ней справиться. Вы перелетели вместе с машиной через ограждение вдоль дороги, дважды перевернулись и остановились лишь тогда, когда натолкнулись на деревья. — Боже мой! — От вашей машины осталась лишь груда искореженного железа. — Он покачал головой. — Это просто чудо, что вам удалось остаться в живых. Она слегка притронулась к повязке на голове. — Насколько серьезна эта травма? Брови Витецкого вновь сошлись вместе, обозначив его обеспокоенность, но она почему-то показалась Сюзанне наигранной, неестественной. — Вообще-то травма не слишком тяжелая, — пояснил он. — У вас в этом месте была довольно широкая рваная рана, и она довольно-таки медленно заживала. Но, к счастью, не сегодня-завтра вам уже должны снять швы, и я не думаю, что в дальнейшем шрам будет приносить вам много огорчений. Мы приложили немало усилий для того, чтобы шов был зашит очень аккуратно. — У меня сотрясение мозга? — Да. Но не очень сильное, недостаточно сильное для того, чтобы вызвать такую продолжительную кому. Сюзанна чувствовала, что к ней с каждой минутой все ближе подступает усталость и головная боль. Она отчего-то вновь ощутила тревогу. — Кома? Витецкий утвердительно кивнул. — Мы провели рентгеновское сканирование мозга, но не обнаружили никаких признаков закупорки сосудов. Нет также никаких следов какой-то травмы тканей мозга. Никаких гематом, никаких признаков повышенного внутричерепного давления. Вы, конечно же, получили сильный удар в голову, но мы пока не можем сказать, почему это привело к такой продолжительной коме. Несмотря на разрекламированные успехи в медицине, она пока, к сожалению, не может дать ответа на все вопросы. Что действительно важно, так это то, что вам удалось выйти из состояния комы без каких-либо тяжких последствий. Я понимаю, что вас беспокоят некоторые провалы вашей памяти, они действительно внушают определенные опасения, но я уверен, что пройдет некоторое время — и все образуется, все вернется. «Он все так же говорит, как будто произносит заранее вызубренный наизусть текст», — подумала Сюзанна. Но эта мысль не слишком долго занимала ее сознание, гораздо важнее для нее сейчас было то, что сказал доктор. Кома. От этого слова по всему телу пробежала холодная дрожь. Кома. — Как долго я находилась в бессознательном состоянии? — спросила она. — Двадцать два дня. Она воззрилась на доктора, от неожиданности потеряв дар речи. — Да-да, это правда, — подтвердил он. Она покачала головой. «Нет, этого просто не может быть». В своей жизни она всегда действовала совершенно осознанно. Она тщательно планировала каждый последующий шаг, стараясь не допустить в будущем никакой неожиданности. Свою личную жизнь она выверяла с той же научной тщательностью, которая позволила ей получить докторскую степень на год раньше других ее сверстников. А тема ее научного исследования была очень серьезной — ядерная физика. Она всей душой ненавидела всяческие неожиданности, не могла терпеть никакой зависимости от других людей и, конечно же, была в ужасе при одной только мысли о том, что человеку иной раз приходится быть в состоянии полной беспомощности. Когда доктор Витецкий сообщил ей, что двадцать два дня она была именно в таком состоянии, то есть полностью зависела от воли других людей, Сюзанна почувствовала себя потрясенной. А что было бы, если бы она вовсе не вышла из этого состояния? Или — что еще хуже — если бы она вышла из комы полностью парализованным человеком, обреченным на всю жизнь зависеть от заботы окружающих людей? Она бы не смогла ни самостоятельно есть, ни одеваться, ни мыться в ванной без помощи платной прислуги. По телу пробежала судорога. — Нет-нет, — попыталась она возразить Витецкому. — Я не могла так долго пробыть в этом состоянии. Я просто не могла. Тут какая-то ошибка. — Вы, наверное, заметили, как похудели, — убеждал ее Витецкий. — Вы потеряли не меньше пятнадцати фунтов[8] веса. Сюзанна подняла перед собой руки. Они напоминали две тоненькие ветки. Она и раньше осознавала, насколько сильно похудела, но не хотела задумываться о причинах этого. — Вы, конечно же, получали набор питательных веществ вместе с жидкостью, — объяснил Витецкий. — Иначе вы давно погибли бы от обезвоживания. Мы внутривенно давали вам глюкозу, другие поддерживающие элементы, но нормальной еды — я имею в виду пищу в твердом виде — вы не получали очень долго, больше трех недель. Рост у Сюзанны был пять футов пять дюймов[9], и ее нормальный вес составлял (с учетом хрупкого телосложения) порядка ста десяти фунтов. Сейчас же она весила фунтов девяносто — девяносто пять, и потеря веса для нее была, безусловно, катастрофической. Она положила руки поверх одеяла и даже сквозь его плотную ткань ощутила, что от ее рук остались теперь кожа да кости. — Двадцать два дня… — повторила она в задумчивости. Как бы то ни было, приходилось верить в то невероятное, что произошло с ней. Теперь, когда она сдалась под напором очевидных фактов, усталость и боль предприняли на нее новую атаку. Обессиленная, она откинулась на подушки. — Я полагаю, что на сегодня достаточно, — заключил Витецкий. — Вероятно, я даже разрешил вам разговаривать дольше, чем нужно. Вы совершенно измотаны. Теперь вам необходимо долго-долго отдыхать. — Отдыхать?! — возразила Сюзанна. — Нет-нет. Ради Бога, только не это. Я уже отдыхала двадцать два дня. — О каком отдыхе можно говорить в состоянии комы? — возразил Витецкий. — Это же совсем не то, что обычный сон. Вам еще долго придется восстанавливать свою физическую форму и утраченные силы. Врач взял со столика пульт управления, нажал кнопку и вернул кровать в исходное положение. — Нет-нет! — панически закричала Сюзанна. — Подождите, пожалуйста, подождите хоть еще немного! Витецкий не обратил внимания на ее протесты. Сюзанна схватилась руками за ограждение кровати и попыталась сесть самостоятельно, но сил для этого было явно недостаточно. — Вы же не будете заставлять меня спать, верно? — взмолилась она, хотя сама прекрасно понимала, что нуждается в сне и отдыхе. Глаза наливались тяжестью и закрывались сами собой. — Сон — это именно то, что вам сейчас просто необходимо, — пытался убедить ее Витецкий. — Но я не могу. — Мне кажется, вам удастся заснуть, вы выглядите ужасно изможденной. И это неудивительно. — Нет-нет, я имею в виду другое — мне страшно засыпать. Вдруг я никогда уже не проснусь? — Уверяю вас, это невозможно. — А если я опять впаду в кому? — Исключено. Разочарованная неспособностью врача понять ее страхи, Сюзанна сжалась как пружина и предприняла новую атаку. — Что будет, если я опять окажусь в коматозном состоянии? — Но, послушайте, нельзя же теперь всю жизнь бояться обычного сна. — Витецкий говорил медленно, терпеливо, как будто уговаривал маленького ребенка. — Попытайтесь расслабиться. Кома — это то, что уже позади. Скоро вы совсем поправитесь. Сейчас уже довольно поздно, я и сам сейчас поужинаю и отправлюсь спать. Расслабьтесь. Договорились? Сбросьте с себя всякое напряжение. «Если так он ведет себя у постели больной, — подумала Сюзанна, — то каков же он, когда не прикидывается заботливым?» Доктор направился к двери. Она уже хотела закричать ему вслед: «Не оставляйте меня одну!» Но ее развитое чувство самостоятельности не позволило ей вести себя, подобно испуганному ребенку. Она не собиралась полагаться во всем на доктора Витецкого или на кого-либо другого. — Теперь вам надо отдохнуть, — повторил врач. — Завтра вы на все посмотрите другими глазами. Он выключил верхний свет. По комнате сразу же поползли тени, словно они были живыми существами и до этого прятались за мебелью или по углам. И хотя Сюзанна не припоминала, что когда-либо боялась темноты, ей теперь было явно не по себе; сердце забилось как сумасшедшее. Палата теперь освещалась лишь холодным мигающим светом из коридора, который лился через открытую дверь, да немного света добавляла дежурная лампочка на столике в углу палаты. Витецкий стоял в проеме двери, виден был только его силуэт, черты лица неразличимы, он походил на куклу, вырезанную из картона. — Спокойной ночи, — сказал доктор на прощание. Он закрыл за собой дверь, и свет из коридора исчез. В комнате горел только ночник, его слабого света едва хватало лишь на то, чтобы осветить пространство в метре-двух от него. Темнота подкралась к Сюзанне совсем близко, простерла свои длинные пальцы у нее над кроватью. Она была один на один с этой темнотой. Сюзанна взглянула на вторую кровать, на ней лежали черные тени, словно полосы траурного крепа, сама кровать теперь больше напоминала гроб. Если бы хоть кто-нибудь был сейчас в палате. «Но это же ненормально, — подумала Сюзанна, — больных в таком состоянии нельзя оставлять одних. Я же только что вышла из состояния комы. Здесь обязательно должен быть кто-то — медсестра, сиделка, кто-нибудь». Глаза наливались страшной, свинцовой тяжестью. «Нет, — сердито шептала она сама себе, — я не должна засыпать. По крайней мере до тех пор, пока у меня не будет уверенности, что невинный сон не превратится в новую трехнедельную кому». Еще несколько минут Сюзанна пыталась противиться цепким объятиям сна, но даже ногти ее, впившиеся в ладони, не придали ей бодрости. Глаза болели и горели от усталости, и она решила хоть на минутку прикрыть их, чтобы дать отдохнуть. Она была совершенно уверена, что не заснет, если закроет глаза. Конечно, она продержится. Это ясно. Она рухнула в сон, словно камень в бездонную пропасть. Она погрузилась в сновидения. Ей снилось, что она лежит на холодной, сырой, утоптанной земле. Она была не одна. Они были с ней. Она побежала, натыкаясь на стены темных коридоров, углубляясь в них все дальше и дальше. Она убегала от кошмара, который на самом деле произошел с нею. Она помнила точное время и место, где это произошло. Она пережила это, когда ей было девятнадцать. Это произошло в «Доме Грома».Глава 3
На следующее утро, всего через несколько минут после того, как Сюзанна проснулась, к ней в палату вошла уже знакомая ей пожилая медсестра. Как и вчера, очки у нее болтались на цепочке на груди. Она сразу дала Сюзанне термометр, посчитала пульс, затем нацепила очки на нос и посмотрела на шкалу термометра. Выполняя все эти процедуры, она не умолкала ни на одну секунду. Звали ее Тельма Бейкер. Она еще раз повторила, что с самого начала верила в силы Сюзанны. Медсестрой она работает уже тридцать пять лет, сначала в Сан-Франциско, а затем уже здесь, в Орегоне, и она редко ошибается в предсказании шансов на выздоровление. Она сказала, что считает себя прирожденной медсестрой и даже предполагает, что и в предыдущей жизни у нее тоже была эта же профессия. — Ну, конечно, на другое у меня просто не хватает ни сил, ни времени, — чистосердечно призналась она. — Например, я знаю, что хозяйка в своем собственном доме из меня совершенно никудышная. А уж про деньги, про все эти налоги и говорить нечего: каждый месяц разбираться со счетами — для меня это воистину адская работа. Да и в браке мне не очень-то повезло. Было двое мужей, было два развода, а детей не было. Готовить Бог не дал таланта. Шить что-то для себя — тоже мука. Зато я прекрасная медсестра и горжусь этим, — заключила Тельма с чувством и повторила это еще не один раз, всегда сопровождая свои слова широкой улыбкой, в которой расплывался ее рот, и сверкая карими глазами, искренне говорящими о ее гордости за свою прекрасную профессию. Сюзанне эта женщина сразу понравилась, хотя обычно она не очень уважала неутомимых говорунов. Но болтовня миссис Бейкер была настолько забавной, нетщеславной и легкой, что это сразу извиняло ее слабость к непрестанным разговорам. — Проголодалась небось? — поинтересовалась она. — Умираю от голода, — призналась Сюзанна, она действительно проснулась с ощущением зверского аппетита. — Сегодня в первый раз попробуешь настоящую еду, — сказала миссис Бейкер, — но, конечно, для начала это будут только легкие блюда. Как только она проговорила это, в палате появился молодой светловолосый санитар, прикативший тележку с завтраком: Сюзанне полагалось вишневое желе, кусочек хлеба без масла, но с виноградным желе и несколько тоненьких отваренных плодов тапиоки. Никогда еще никакая еда не казалась ей такой привлекательной. Она только была несколько разочарована размером предложенных ей порций и даже призналась в этом медсестре. — Да, это, конечно, далеко не пир, — согласилась миссис Бейкер, — но поверь, милая, ты почувствуешь, что насытилась, как только съешь половину из этого. Вспомни, ведь ты ничего не ела три недели. Твой желудок сжался в комок. Пройдет еще время, прежде чем ты сможешь нормально есть любую пишу. Миссис Бейкер поспешила к другим больным, а Сюзанна вскоре убедилась, насколько права была медсестра. Хотя на подносе было совсем немного еды и выглядела она очень аппетитно, она не смогла сразу с ней справиться. За завтраком она вспомнила о докторе Витецком. Она все еще была на него в обиде за то, что он оставил ее на ночь одну, без сиделки. Несмотря на дружелюбие миссис Бейкер, больница по-прежнему представлялась ей холодным, неприветливым местом. Насытившись, Сюзанна вытерла салфеткой губы, отодвинула от кровати столик с подносом — и внезапно почувствовала на себе чей-то взгляд. Она подняла глаза. Он стоял в проеме двери — высокий элегантный мужчина лет тридцати восьми. Темные туфли, темные брюки, белый халат, белая рубашка с галстуком в зеленых тонах. Лицо у него было привлекательным, пожалуй, даже чувственным, с правильными чертами, словно вышедшее из-под резца гениального скульптора. Голубые глаза, преисполненные каким-то сиянием, чудесным образом сочетались с его темной шевелюрой; пышные волосы зачесаны назад. — Мисс Тортон, — проговорил он. — Счастлив видеть вас бодрой и свежей. — Он подошел ближе к кровати. У него была приятная улыбка, приятнее даже, чем у Тельмы Бейкер. — Я ваш лечащий врач доктор Макги. Джеффри Макги. Он протянул ей свою руку, и она слегка пожала ее. Ладонь была сухой, пожатие сильным, но в то же время мягким, бережным. — А я думала, что моим врачом будет доктор Витецкий. — Нет, он у нас главврач, он начальник над всем медицинским персоналом больницы, — пояснил Макги, — а я буду заниматься непосредственно вами. — В его голосе чувствовались и надежная мужская сила, и мягкая обволакивающая доброта. — Я был дежурным врачом как раз в тот день, когда вас доставили к нам в приемное отделение. — Но вчера доктор Витецкий сказал… — Вчера у меня был выходной день, — перебил ее Макги. — У меня два дня выходных от моей частной практики и всего один выходной день от обходов в больнице. Так вот, я до сих пор не понимаю, как это вы умудрились выбрать для своего возвращения в сознание именно этот день. Вы лежали без движения три недели, двадцать два дня я не переставал думать о том, как вывести вас из этого состояния, — и — на тебе, — вы выбираете именно тот день, когда меня нет в больнице. — Макги покачал головой, изображая и обиду, и огорчение. — Да мне и сообщили-то об этом только сегодня утром. — Он нахмурил брови, взглянув на мисс Тортон с насмешливым упреком. — А теперь, мисс Тортон, — продолжал подшучивать он, — если вы намерены преподносить нам еще какие-либо чудеса, то я настаиваю на моем присутствии при них. Как же иначе я смогу в них поверить и разделить с вами славу победы? Договорились? Сюзанна в ответ только рассмеялась, приятно удивленная шутками доктора. — Конечно, доктор Макги, я согласна. — Ну и прекрасно. Отлично. Я рад, что нам удалось договориться. — Он улыбнулся. — Как вы себя чувствуете сегодня утром? — Уже лучше, — ответила она. — Уже готовы провести вечер в баре и потанцевать? — Может быть, отложим до завтра? — Так, значит, и договоримся. — Он взглянул на поднос с остатками завтрака. — Я вижу, у вас появился аппетит. — Я попыталась съесть все, но не смогла. — Именно так сказал Орсон Уэллс[10]. Сюзанна от души рассмеялась. — Ну что же, начали вы неплохо, — сказал доктор, показав на поднос. — Вам поневоле приходится начинать с небольших порций, тут ничего не поделаешь. Но не беспокойтесь, вы быстро восстановите свои силы. Вы даже сами не заметите, как дела пойдут на лад и вы окончательно выздоровеете. Сегодня утром кружилась голова, были боли? — Нет, не было ни того, ни другого. — Давайте-ка я проверю ваш пульс, — сказал он, собираясь взять ее запястье. — Пульс уже измерила миссис Бейкер незадолго до завтрака. — Я в курсе. Я просто некая предлог, чтобы вновь дотронуться до вашей руки. Сюзанна снова рассмеялась. — Вы так не похожи на других врачей. — А вы считаете, что врач обязан быть строгим, деловым, серьезным и без чувства юмора? — Совсем не обязательно. — Вы считаете, что мне следует взять в пример доктора Витецкого? — Безусловно нет. — Он велик-к-колепный врач, — продолжал Макги, мастерски подражая польскому акценту Витецкого. — Я в этом не сомневаюсь. Но подозреваю, что вы ему ни в чем не уступаете. — Благодарю вас. Ваш комплимент должным образом отмечен, и он, безусловно, обеспечит вам маленькую скидку, когда я буду подводить окончательные итоги. Макги все еще продолжал удерживать в своей руке ее запястье. Наконец он взглянул на часы и посчитал пульс. — Я буду жить? — спросила она, когда он закончил. — Никаких сомнений не может быть. Вы теперь будете выздоравливать на всех парах. — Он все еще не отпускал ее руки. — А если серьезно, то я честно думаю, что шутки между врачом и пациентом только на пользу последнему. Поднимается тонус, а с ним и жизненные силы организма. Но дело в том, что некоторые люди на дух не переносят, когда с ними шутят люди в белых халатах. Для таких людей, вероятно, лучше, когда врач как бы несет у себя на плечах всю тяжесть мира, наверное, им от этого становится легче. Так что, если мои шутки вас раздражают, я могу «убавить громкость или вовсе выключить звук». Самое главное для меня, чтобы вы чувствовали себя удобно и верили в тех людей, которые заботятся о вашем выздоровлении. — Нет-нет, что вы, продолжайте, ваши шутки меня вполне устраивают, — уверила доктора Сюзанна. — Больше того, они просто необходимы, от них поднимается настроение. — Вам вовсе не из-за чего быть мрачной. Самое худшее у вас позади. Отпуская ее руку, он слегка сжал ее напоследок. К своему удивлению, Сюзанна почувствовала — ей жаль, что это рукопожатие так быстро кончилось. — Доктор Витецкий сказал мне, что у вас были какие-то провалы в памяти, — продолжал Макги. Сюзанна нахмурилась. — Наверное, теперь их стало меньше, чем вчера, да и все остальное, видимо, рано или поздно вспомнится. Хотя вспоминать еще придется многое. — Я собирался поговорить с вами на эту тему. Но прежде мне надо завершить обход больных. Я вернусь через пару часов, и, если вы не возражаете, мы вместе поможем вашей памяти восстановить утраченные фрагменты. — Конечно, я не возражаю, — ответила Сюзанна. — А сейчас вам лучше отдохнуть. — Ничего другого мне не остается. — Но в теннис я вам пока играть запрещаю. — Как же так! У меня же назначен матч с миссис Бейкер. — Придется отменить. — Слушаюсь, доктор Макги. Она улыбкой проводила его до дверей. Он шел уверенной походкой, стройный и элегантный. Он уже помог ей. Мрачные мысли сами собой улетучивались из сознания, и теперь она понимала, что все ее страхи были не чем иным, как порождением ее собственной фантазии, результатом ее слабости и неуверенности в своих силах; никакого иного объяснения просто не могло быть. Странное поведение доктора Витецкого больше не казалось ей заслуживающим внимания, да и сама больница теперь уже не казалась ей такой мрачной, как вчера.* * *
Через полчаса, когда миссис Бейкер снова заглянула к ней, Сюзанна попросила принести зеркало. Когда она взглянула на себя, то тут же пожалела о своем опрометчивом желании. Из зеркала на нее смотрело бледное, вытянутое лицо. Ее зеленоватые глаза были воспалены до красноты, и вокруг них лежали темные круги, к тому же веки были опухшими. Вероятно, с тем, чтобы облегчить перевязки, ей отстригли со лба ее некогда длинные светлые пряди волос, не слишком заботясь о красоте. В результате получилось нечто убогое и уродливое. Кроме того, после трехнедельного сна волосы загрязнились до невозможности и скатались в неопрятные клочья. — Боже, на кого я похожа! — воскликнула Сюзанна. — Ну что вы, ничего страшного, — попыталась ее успокоить миссис Бейкер. — Просто несколько изможденный вид, вот и все. Все восстановится, уверяю вас. Вы снова наберетесь сил, на лице появится румянец, а круги под глазами исчезнут. — Мне необходимо вымыть голову. — Но вы же не сможете сейчас пойти в ванную, у вас еще слишком мало сил. К тому же мы пока не можем снять повязку со лба, вероятно, только завтра будут снимать швы. — Нет-нет. Теперь, сейчас. У меня ужасно грязные волосы и голова. Я выгляжу жалкой, а от этого не прибавляется сил для выздоровления. — Ну, не будем спорить, милая моя. Вам все равно не уговорить меня, не тратьте понапрасну энергию. Единственное, чем могу помочь, — это помыть вам голову сухим способом. — Сухим? Это как? — Сначала присыплем волосы тальком, смажем косметическим маслом, а потом расчешем, — пояснила миссис Бейкер. — Мы проделывали это дважды в неделю, пока вы были в коме. Сюзанна притронулась к своим волосам. — Это поможет? — В какой-то степени. — О'кей, я согласна. Миссис Бейкер принесла флакон с тальком и щетку. — У меня в машине оставался кое-какой багаж, — поинтересовалась Сюзанна. — Что-нибудь уцелело из него? — Конечно. Все, что осталось, лежит у нас в кладовой. — Может быть, там найдется и моя косметичка? Миссис Бейкер улыбнулась. — Не правда ли, он чертовски хорош собой. И такой добрый. — Она подмигнула и добавила: — Кстати, он еще не женат. Сюзанна вспыхнула. — Я не понимаю, что вы хотите сказать. Миссис Бейкер ласково засмеялась и погладила Сюзанну по руке. — Не смущайся, детка. Я не знаю ни одной пациентки доктора Макги, которая не старалась бы выглядеть перед ним как можно лучше. Если речь идет о молоденькой девушке, то она использует сразу весь запас своей косметики, когда он должен пройти с обходом. У женщин постарше при знакомстве с ним сразу появляется характерный блеск в глазах. Даже седовласые почтенные леди, согнутые пополам своим артритом, лет на двадцать старше меня, — и те чистят себе перышки, лишь бы выглядеть перед ним получше. А так как красота дает женщине чувство уверенности в себе, то эти попытки понравиться можно воспринимать как своего рода терапию.* * *
Ближе к полудню доктор Макги вернулся к ней в палату. Перед собой он катил две тележки. — Я подумал, почему бы нам не обсудить проблемы вашей памяти за обедом? — Разве врачи могут обедать вместе с пациентами? — Мы здесь у себя стараемся не соблюдать формальностей, характерных для больниц в больших городах. — А кто платит за обед? — Конечно, вы. Не могу же я не соблюдать формальности до такой степени? Сюзанна улыбнулась. — Что же у нас на обед? — Для меня — сандвич с цыпленком и с салатом, а также яблочный пирог, а для вас — хлеб без масла, тапиока… — Мне кажется, для меня выбор блюд не очень-то меняется. — Ну что вы, на этот раз мы можем вам предложить кое-что поэкзотичней, чем вишневое желе, — торжественно провозгласил Макги. — Пожалуйста — лимонное желе! — О, боюсь, мое сердце не выдержит такой неожиданности. — А также небольшое блюдо с консервированными персиками. Настоящий праздник для гурмана. — Он подвинул столик с подносом поближе к кровати, принес стул и привел изголовье кровати в вертикальное положение, так что теперь у них появилась возможность нормально поболтать за обедом. Макги переставил поднос с едой для Сюзанны на столик, приподнял пластиковую крышку и, подмигнув ей, сказал: — Выглядите вы просто отлично — сама свежесть. — Что вы! Я выгляжу сейчас страшнее смерти. — Вот и ошибаетесь. — Нет, к сожалению. — Это ваша тапиока выглядит не очень аппетитно в вареном виде, а вы выглядите бодрой и свежей. И запомните: я — доктор, а вы — пациент, а пациент не должен никогда, вы слышите — никогда возражать своему доктору. Разве вы не знакомы с медицинским этикетом? Если я говорю вам, что вы выглядите бодрой и свежей, значит, так оно и есть на самом деле. Сюзанна засмеялась и включилась в игру. — Боже! Как я могла оказаться такой непонятливой? — Вот и славно. Значит, вы выглядите бодрой и свежей, Сюзанна. — Спасибо на добром слове, доктор Макги. — Вот так уже лучше. Сюзанна до прихода доктора успела не только «сухим» способом вымыть голову, но и немного подкрасить лицо и подвести помадой губы. Благодаря нескольким каплям «Мурина» из глаз исчезла краснота, оставив лишь легкий налет желтизны на белках. Она также переоделась, сменив больничную рубашку на голубую шелковую пижаму, нашедшуюся у нее в багаже. Она знала, что выглядит не так хорошо, как в лучшие ее дни, но, по крайней мере, кое-что удалось поправить, а это придавало ей ни с чем не сравнимое чувство уверенности в себе. Все происходило так, как и предсказывала любезная миссис Бейкер. За обедом они поговорили о «белых пятнах» в памяти Сюзанны, стараясь уменьшить их количество и размеры. К счастью, проснувшись сегодня утром, она сама смогла безо всяких усилий вспомнить многое из того, что вчера казалось намертво забытым. Она вспомнила, что родилась и выросла в пригороде Филадельфии, в очень милом белом доме из двух этажей на одной из самых обычных улиц. Зеленые лужайки перед домами. Изогнутые террасы. Веселые вечеринки 4 июля. Рождественские песнопения. Соседей звали Оззи и Харриет. — Мне кажется, что у вас было счастливое детство, — предположил Макги. Сюзанна взяла себе еще немного лимонного желе и проговорила: — Для счастливого детства действительно было все необходимое, но, к несчастью, все обернулось не так, как хотелось бы. Я была очень одиноким ребенком. — Когда вы попади к нам, — сказал Макги, — мы пытались связаться с кем-нибудь из вашей семьи, но не смогли никого найти. Сюзанна стала рассказывать ему о своих родителях, отчасти потому, что хотела проверить свою память, отчасти потому, что Макги оказался благодарным слушателем. Кроме того, она сама испытывала потребность высказаться после двадцати двух дней молчания и беспросветного мрака. Ее мать, Регина, погибла в дорожной катастрофе, когда Сюзанне было всего семь лет. У шофера огромной цистерны случился инфаркт, когда он находился за рулем, и его машина вылетела на перекресток при красном свете светофора. «Шевроле» Регины в это время как раз был на середине перекрестка. Сюзанна смутно помнила свою мать, но, конечно, не из-за своего нынешнего сотрясения мозга. Она прожила рядом с ней всего семь лет, а после катастрофы миновало целых двадцать пять, и образ матери стерся из ее памяти так же, как выцветает на ярком солнце старая фотография. Отца она помнила гораздо лучше. Фрэнк Тортон был высоким, солидным мужчиной, владельцем в меру процветающего магазина по торговле готовой мужской одеждой. Сюзанна по-настоящему любила своего отца. Она также знала, что и он любит ее, хотя он в этом никогда не признавался вслух. Он был всегда уравновешенным, говорил тихо, был довольно скромен и вполне доволен своим существованием. Самыми счастливыми часами в жизни для него были те, когда он мог уединиться у себя с хорошей книжкой и своей неизменной трубкой. Наверное, если бы у него был сын, а не дочь, он был бы с ним более открыт. Он всегда лучше ладил с мужчинами, чем с женщинами, и воспитание дочери стало для него, несомненно, нелегким испытанием. Он умер от рака через десять лет после гибели Регины, через год после того, как Сюзанна закончила школу. Так что поступать в университет и вступать во взрослую жизнь ей пришлось, как никогда, одинокой. Доктор Макги покончил со своим сандвичем и с курицей, вытер рот салфеткой и поинтересовался: — Разве у вас не было других родственников? — Один дядя и одна тетя. Но и тот, и другая всегда были чужими для меня. Я не застала ни дедушек, ни бабушек. Но знаете, одинокое детство — не такая уж плохая вещь. Благодаря ему я научилась всегда быть самостоятельной, и это мне очень помогло в жизни. Макги принялся за яблочный пирог, а Сюзанна наслаждалась консервированными персиками, и они говорили теперь о ее студенческих годах. Сначала она училась в колледже Брайерстеда в Пенсильвании, затем переехала в Калифорнию и получила звания магистра и доктора наук в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Эти годы она помнила с необычайной ясностью, хотя с удовольствием изгнала бы из памяти некоторые воспоминания, связанные со вторым годом ее обучения в Брайерстеде. — Что-то неладно? — спросил Макги, положив на тарелку недоеденный кусок пирога. Сюзанна удивленно заморгала. — Да вроде ничего. — У вас на лице появилось какое-то выражение… — Он нахмурился. — Вот сейчас, минуту назад, вы выглядели так, словно увидели перед собой привидение. — Да, это недалеко от истины. — Внезапно у нее пропал всякий аппетит. Она положила ложку на столик и отодвинула от себя поднос. — Может быть, вы не хотите об этом говорить? — Нет, это просто очень неприятное воспоминание, — пояснила она. — Нечто такое, о чем я с удовольствием забыла бы навсегда. Макги отодвинул от себя поднос с пирогом. — Расскажите, если можно, подробнее. — Зачем вам эти кошмары? Мне жалко вас. — Ну не жалейте меня. — Это отвратительная история. — Если это вас беспокоит, лучше рассказать об этом. Кстати, я люблю иногда послушать кошмарные истории. Сюзанна не улыбнулась в ответ. Даже доктор Макги не мог перекрасить в другой цвет историю о «Доме Грома». — Так вот… на втором году учебы в Брайерстеде я стала встречаться с парнем, которого звали Джерри Штейн. Он был очень милым. Он мне нравился, нравился по-настоящему. Мы даже начали обсуждать с ним планы женитьбы после окончания колледжа. А вскоре его убили. — Простите, — сказал Макги. — Но как это случилось? — Он должен был вступить в студенческое общество. — Боже! — воскликнул Макги, заранее предполагая, что могло произойти. — Он должен был пройти испытание… все пошло совсем не по сценарию. — Что за жестокая, нелепая смерть! — У Джерри было большое будущее, — тихо прошептала Сюзанна. — Он был просто гениальным, таким внимательным, он так много работал… — Однажды вечером, когда я был здесь на дежурстве, в приемное отделение принесли мальчишку, у которого на всем теле были страшные ожоги. Все случилось во время вот таких же дурацких испытаний огнем. Как нам объяснили его друзья, это было испытание: якобы он должен был доказать свою зрелость, мужественность. Какая-то ребяческая глупость, и, как назло, что-то там не заладилось. У него оказался ожог восьмидесяти процентов кожи. Он умер через два дня. — Джерри Штейн погиб не из-за огня, — сказала Сюзанна. — Его убила ненависть. — Она вздрогнула всем телом от ужасных воспоминаний. — Ненависть? — переспросил Макги. — Что вы имеете в виду? Она помолчала немного, мысленно возвращаясь на тринадцать лет назад. Несмотря на то, что в палате было тепло, Сюзанне вдруг стало холодно, так же чертовски холодно, как было тогда, когда они попали в «Дом Грома». Макги терпеливо ждал, слегка подавшись вперед на стуле. Наконец она мотнула головой и промолвила: — Я не хотела бы вдаваться в детали. Все это слишком мрачно. — Да, вам пришлось пережить так много смертей своих близких. Когда тебе всего двадцать один год, это тяжело. — Да-да. Временами мне казалось, что я чуть ли не проклята кем-то и все такое. Все, кто мне был действительнодорог, умирали. — Ваша мать, ваш отец, ваш жених… — Он еще не был моим женихом. Еще не был. — Но вы же собирались выйти за него замуж. — Он успел только подарить мне кольцо в знак помолвки. — Все понятно. Может быть, вам все-таки стоит рассказать всю историю, чтобы как-то убрать ее подальше из памяти? — Нет, — возразила она. — Конечно, так сразу вы от этого кошмара не избавитесь, если он висит над вами вот уже тринадцать лет… Она прервала его: — Знаете, мне кажется, тут уже ничего не поможет, никакие рассказы. Это всегда будет со мной. Слишком страшно, чтобы забыть. Кроме того, разве вы забыли то, что сами мне недавно говорили: для быстрого выздоровления нужны положительные эмоции. Помните? — Помню, помню, — улыбнулся доктор. — Так, значит, мне не надо рассказывать о вещах, которые действуют на меня угнетающе. Он посмотрел на нее долгим взглядом своих неправдоподобно голубых глаз. Эти глаза светились таким участием, что не могло быть никаких сомнений в искренности его намерения помочь ей. Он вздохнул и сказал: — О'кей. Давайте теперь вернемся к тому, с чего мы начали наш разговор, — к вашей амнезии. У меня такое впечатление, что вам удалось вспомнить почти все, что вы считали забытым. Какие «белые пятна» мы еще не устранили? Прежде чем ответить, Сюзанна сама взяла в руки пульт управления и, нажав на одну из кнопок, привела изголовье кровати в еще более вертикальное положение. Спина у нее болела, но не из-за травмы, а от долгого пребывания в неподвижном состоянии. Найдя более удобный угол наклона, она положила пульт на место и продолжила разговор: — Я все еще не могу вспомнить обстоятельств катастрофы, в которую попала. Я помню, что ехала в своей машине по извилистому участку дороги и была примерно в двух милях от поворота к «Вьютоп Инн». Я хотела попасть туда побыстрее, чтобы успеть к ужину. А после этого — мрак, словно кто-то выключил свет. — Будет не удивительно, если вы вообще никогда не сможете восстановить все подробности этой аварии, — пояснил Макги. — В случаях, подобных вашему, пациент почти всегда способен восстановить любые воспоминания, за исключением тех, что были непосредственной причиной потери памяти. Это «белое пятно» так и остается «белым». — Да, похоже, так оно и есть, — согласилась Сюзанна. — И, по правде говоря, я не очень-то жалею об этом. Но есть другая вещь, которая совершенно вылетела из моей памяти и которая доводит меня буквально до панического состояния. Это моя работа. Черт возьми, я не могу припомнить ни малейшей детали, ничего. Я, конечно, помню, что работала физиком. Помню, как получала ученые степени в Калифорнийском университете; все эти сложные, специфические понятия прекрасно сохранились в моей памяти. Я могу приступить к работе хоть сейчас, мне даже не надо восстанавливать полученные в ходе учебы навыки и знания. Но где я работала все эти годы? Чем я там занималась? Кто был моим начальником? Кто были мои коллеги по работе? Был ли у меня офис или лаборатория? Как физик, я ведь должна была работать в лаборатории, не так ли? Но я совершенно не могу припомнить, где все это находилось… — Вы работали в корпорации «Майлстоун» в Ньюпорт-Бич в Калифорнии, — напомнил Макги. — Именно это сказал мне и доктор Витецкий. Но это название ничего мне не говорит. — Вам уже удалось многое вспомнить. И это придет на память, надо только подождать. — Нет-нет, — замотала головой Сюзанна. — Здесь какой-то особый случай. Все остальные воспоминания выплывали словно из тумана. Туман рассеивался, и все становилось на свои места. Но когда я начинаю вспоминать свою работу, то вместо тумана на этом месте… чернота… непроглядная темень. Все словно провалилось в какую-то черную бездонную пропасть. В этом есть что-то… пугающее. Макги подвинулся поближе к кровати, переместившись на самый край стула. Брови его нахмурились. — У вас в бумажнике мы обнаружили пропуск корпорации «Майлстоун», — объяснил он. — Может быть, эта карточка на что-то натолкнет вас. — Может быть, — с сомнением проговорила Сюзанна. — Но мне бы хотелось, конечно, на нее взглянуть. Ее бумажник находился в нижнем ящике столика, стоящего у кровати. Макги достал его и протянул Сюзанне. Она открыла бумажник и сразу же обнаружила пропуск. Он был запрессован в пластмассу, и на нем имелась ее фотография небольшого формата. По верхнему краю карточки синими буквами на белом фоне читалась надпись из двух слов: КОРПОРАЦИЯ «МАЙЛСТОУН». Под ней черными буквами были напечатаны имя и фамилия Сюзанны, еще ниже шла информация о владелице пропуска — возраст, рост, вес, цвет волос и глаз. Внизу карточки красным шрифтом был отпечатан номер пропуска. Больше никаких надписей не было. Доктор Макги привстал со стула и посмотрел на Сюзанну в тот момент, когда она разглядывала свой пропуск. — Это на что-то наталкивает вас? — Нет, — коротко ответила она. — Совсем никаких ассоциаций? — Не могу даже припомнить, что когда-либо раньше видела этот пропуск. Она вертела карточку у себя в руках, пытаясь нащупать хоть какой-нибудь знакомый признак, выйти на нужную тропинку памяти. Карточка казалась ей все такой же незнакомой, она бы не удивилась, если бы ей сказали, что эту карточку обнаружили на корабле, прилетевшем с Марса. — Все это очень и очень странно, — размышляла Сюзанна вслух. — Я пыталась вспомнить, когда я в последний раз была на работе. Это был день перед отпуском. Я даже могу восстановить кое-какие фрагменты. Некоторые — очень отчетливо. Я помню, как встала в то утро, как готовила себе завтрак, ела, просматривала газеты. Это так же свежо в моей памяти, как и завтрак, который был сегодня утром. Помню, как пошла в гараж, села в машину, завела ее… — Замолчав, она завороженно смотрела на карточку, сжимала ее в пальцах, словно пытаясь ощутить ими какую-то невидимую субстанцию, заключенную в этом пластмассовом прямоугольнике. — Я помню, как выехала на машине из гаража… и после этого помню уже только возвращение вечером на машине домой. В середине ничего нет, кроме черноты, пустоты. И это касается почти всех воспоминаний о моей работе, таков почти каждый день. Я пытаюсь за что-то ухватиться, но это ускользает от меня. Эти воспоминания не в тумане. Они просто не существуют. Все еще продолжая стоять рядом с ее кроватью, доктор Макги заговорил мягким, ободряющим голосом: — Конечно же, на самом деле эти воспоминания существуют, Сюзанна. Надо только хорошенько порыться в подсознании. Представьте себе, что вы сидите за рулем своей машины утром того дня. — Я уже пробовала. — Попробуйте еще раз. Она закрыла глаза. — Вероятно, это был обычный августовский день в южной Калифорнии. — Макги пытался помочь ей восстановить картину того утра. — Жара, голубое небо, возможно, легкая дымка. — Жара, голубое небо — точно, — подтвердила Сюзанна. — А вот дымки не было, и на небе не было ни единого облачка. — Итак, вы сели в машину и стали выезжать на шоссе. Попробуйте теперь вспомнить, по какой дороге вы поехали на работу. Сюзанна молчала целую минуту. Затем промолвила: — Бесполезно. Я не могу вспомнить. — Как назывались те улицы, по которым вы ехали? — настаивал Макги. — Не знаю. — Да нет же, знаете. Назовите хотя бы одну улицу. Хотя бы одну, чтобы клубок начал разматываться. Сюзанна изо всех сил пыталась ухватиться пусть за самый слабый след исчезнувшего из ее памяти куска жизни. Пыталась вспомнить чье-нибудь лицо, голос, деталь из обстановки комнаты на работе — все было тщетно. — Простите, — призналась она, — но я не могу вспомнить ни одного названия улицы. — Вы рассказывали, что выезжали на шоссе из гаража. Правильно? Если вы помните это, значит, вы должны помнить и то, куда вы поехали, когда оказались на шоссе. Вы свернули налево или направо? С закрытыми глазами Сюзанна пыталась найти ответ на этот вопрос до тех пор, пока у нее снова не началась головная боль. Наконец она открыла глаза, посмотрела на Макги и, вздохнув, сказала: — Я просто не знаю. — Филипп Гомез, — произнес Макги. — Что? — Филипп Гомез. — Кто это? Кто-нибудь из тех, кого я должна помнить? — Это имя вам что-нибудь говорит? — Нет. — Так зовут вашего патрона в «Майлстоуне». — Правда? — она попыталась представить себе Филиппа Гомеза. Но припомнить лицо этого человека ей не удалось. Ей не удалось также вспомнить что-либо о нем. — Мой патрон? Филипп Гомез? Вы уверены в этом? Макги засунул руки в карманы своего халата. — После того как вы поступили в нашу больницу, мы попытались связаться с кем-нибудь из вашей семьи и обнаружили, что семьи у вас практически нет — у вас же нет близких родственников. Тогда мы позвонили к вам на работу. Я сам разговаривал с Филиппом Гомезом. По его словам, вы проработали в «Майлстоуне» больше четырех лет. Он был очень обеспокоен тем, что случилось с вами. Он даже звонил сюда сам четыре или пять раз и интересовался вашим здоровьем. — Мы можем позвонить ему сейчас? — попросила Сюзанна. — Если я услышу его голос, может быть, мне удастся сдвинуть что-то в моей памяти. Может быть, это поможет мне. — Да, но у меня нет номера его домашнего телефона, — сказал Макги. — Так что мы сможем позвонить ему только завтра на работу. — Почему не сегодня? — Сегодня воскресенье. — О-о, — простонала Сюзанна. Оказывается, она даже не знала, какой сейчас день недели, и это обстоятельство опять вывело ее из равновесия. — Мы обязательно позвоним ему завтра, — заверил ее Макги. — Что будет, если поговорю с ним и все равно не смогу вспомнить ничего о своей работе? — Я уверен, что сможете. — О, послушайте, не надо говорить со мной, как с маленькой девочкой. Давайте будем откровенны. О'кей? Ведь не исключено, что я так и не смогу ничего вспомнить о своей работе? — Вряд ли это возможно. — Но не исключено полностью? — Ну… всякое бывает. Она откинулась на подушки, внезапно почувствовав страшную усталость и огорчение. — Послушайте, — продолжал Макги. — Даже если вы вообще ничего не вспомните о вашей работе в «Майлстоуне», это вовсе не значит, что вы не сможете туда вернуться. В конце концов, вы же не забыли физику, вы все еще являетесь компетентным специалистом в этой области. При вас осталось ваше образование, ваши знания. Вот если бы у вас была полная потеря памяти, если бы вы не умели даже читать и писать — это было бы ужасно. Но надо благодарить Бога, что этого с вами не случилось. Пройдет какое-то время — и вы прекрасно все вспомните. Я просто уверен в этом. Сюзанна надеялась, что доктор окажется прав. Сейчас ее некогда размеренная, расписанная до мелочей жизнь вышла из привычной колеи, и это очень угнетающе действовало на ее психику. Если этот сбой останется с ней на всю жизнь, она этого просто не вынесет. Она всегда управляла своей жизнью, она нуждалась во власти над обстоятельствами. Макги вынул руки из карманов и взглянул на часы. — Мне пора уходить. Я еще загляну к вам ненадолго, перед тем как уходить домой. А вы используйте это время для отдыха, если захотите, — доешьте то, что не доели из обеда. И главное — не расстраивайтесь. Вы все вспомните о «Майлстоуне», когда придет время. Совершенно неожиданно, слушая слова Макги, Сюзанна поймала себя на мысли, что будет лучше, если она вообще никогда ничего не вспомнит о «Майлстоуне», она даже не могла понять, откуда к ней явилась эта нелепая мысль. Ее вдруг охватил озноб, она почувствовала страшный холод, которому невозможно было найти объяснения. Сюзанна проспала часа два. Никакие сны ей на этот раз не снились или снились, но она их не запомнила. Она почувствовала, что во время сна покрылась испариной. Волосы на голове спутались. Пытаясь расчесать их расческой, она несколько раз вскрикнула от боли. Сюзанна как раз закончила приводить себя в порядок, когда в палату вошла миссис Бейкер, толкая перед собой инвалидную коляску. — Hv вот и пришло время попутешествовать немного, деточка. — Куда мы отправимся? — О, всего лишь исследуем коридоры и закоулки экзотического третьего этажа этого романтического, загадочного, фантастического места, которое называется окружная больница Уиллауока, — патетически провозгласила миссис Бейкер. — Путешествие будет незабываемым. Вы получите массу удовольствий. Кстати, доктор пожелал, чтобы вы начали привыкать к движению. — Я не очень-то привыкну, если буду сидеть в этой коляске. — Вы, может быть, мне не поверите, но, даже сидя в коляске, глядя на больницу, на других пациентов, вы страшно устанете. Вы же далеко не в той форме, в какой находятся олимпийские чемпионы, сами должны это понимать. — Но я уверена, что смогу идти самостоятельно, — упорствовала Сюзанна. — Меня надо только слегка поддержать, вы же позволите мне слегка опереться на вашу руку, а затем я смогу… — Завтра вы сможете попробовать сделать пару шагов, — перебила ее миссис Бейкер, опуская боковое ограждение кровати. — А сегодня вам придется довольствоваться прогулкой на транспорте, а я сыграю роль шофера. Сюзанна изобразила на лице недовольство. — Нет ничего хуже, чем быть инвалидом. — О, Бога ради, вы же совсем не инвалид, у вас просто временная слабость. — И это тоже мне не по душе. Миссис Бейкер установила кресло возле кровати. — Во-первых, я попрошу вас сесть на край кровати и пару минут подвигать ногами. — Зачем? — Чтобы слегка размять мышцы ног. Сидя на кровати безо всякой опоры за спиной, Сюзанна чувствовала себя неуверенной и ослабевшей. Руками она вцепилась в матрас, так как боялась соскользнуть на пол. — С вами все нормально? — поинтересовалась миссис Бейкер. — Да, все отлично, — пытаясь изобразить бодрость в голосе, отозвалась Сюзанна. — Тогда продолжайте разминать ноги, милая. Сюзанна болтала ногами, и ей казалось, что к каждой из них подвешено по чугунной гире. Наконец миссис Бейкер скомандовала: — Ну, пожалуй, достаточно. Сюзанна, к своему огорчению, обнаружила, что даже от этого легкого упражнения она вспотела. К тому же она уже чувствовала себя утомленной. Несмотря на это, вслух она заявила: — Я уверена, что смогу идти самостоятельно. — Завтра, это будет завтра, — сказала миссис Бейкер. — Но я действительно чувствую себя хорошо. Миссис Бейкер направилась к стенному шкафу и достала оттуда халат, вполне подходящий по цвету к пижаме Сюзанны. Пока та надевала халат, медсестра отыскала в шкафу пару шлепанцев и помогла нацепить их на ослабевшие ноги пациентки. — Теперь все в порядке, милочка. Начинайте потихоньку сползать с кровати, опирайтесь на меня, а я помогу вам сесть в коляску. Поднимаясь с кровати, Сюзанна попыталась вопреки указаниям медсестры самостоятельно сделать пару шагов, чтобы доказать, что она вовсе не инвалид. Но как только ее ступни коснулись пола, она сразу же поняла, что ноги ни за что не выдержат ее веса — они, казавшиеся еще минуту назад сделанными из чугуна, теперь гнулись подобно тростнику. Решив не рисковать и не позориться перед миссис Бейкер, Сюзанна схватилась покрепче за руку медсестры и позволила перенести себя в кресло-коляску, словно маленького ребенка. Миссис Бейкер лукаво подмигнула. — Ну как? Вы все еще думаете, что одолеете пару миль бегом? Сюзанне было и смешно, и грустно от ее никчемного упрямства. Улыбнувшись и покраснев, она ответила: — Отложим забег до завтра. А завтра — вот увидите — я пройду сама столько, что протру эти шлепанцы до дыр. Вот посмотрите. — Да, милая, не знаю, сколько в тебе здравого смысла, но уверена в одном — силы воли у тебя столько, что тебе можно только по-хорошему позавидовать. Миссис Бейкер встала за спинку кресла-коляски и вывезла ее из палаты. Поначалу от движения Сюзанну слегка подташнивало, но вскоре она сумела справиться с неприятными ощущениями. Больница была выстроена в виде буквы Т, а палата Сюзанны находилась в правом крыле более короткой части здания. Вскоре они преодолели пересечение коридоров и выбрались в прямой и длинный коридор, который вел к основанию буквы Т. Даже сам факт перемещения из палаты в коридоры больницы подействовал на Сюзанну успокаивающе, ободряюще. Полы в коридорах были выложены темно-зеленой виниловой плиткой, стены на высоту трех футов выкрашены в гармонирующий с полом цвет, а выше — в светло-зеленый, тем же цветом был выкрашен и потолок. Все это давало ощущение глубины пространства, чувство простора. В коридорах царила такая же стерильная чистота, как и в палате Сюзанны. Она вспомнила огромную больницу в Филадельфии, в которой умирал от рака ее отец, — там все было таким обветшавшим, неухоженным и неуютным, покрытым пылью и трещинами, что Сюзанна поблагодарила небо за то, что попала в окружную больницу Уиллауока. Врачи, медсестры, санитары также своим поведением отличались от тех, что она видела в больнице, где умер ее отец. Все эти люди при встрече с ней улыбались. На лице у каждого читалась участливость, желание помочь. За то время, пока она объезжала коридоры больницы, несколько человек успели обменяться с ней дружескими приветствиями, интересовались, как она себя чувствует, и желали ей скорого выздоровления. Миссис Бейкер довезла Сюзанну до конца длинного коридора и повернула обратно. Усталость уже брала свое, но Сюзанна чувствовала, что болезнь отступает от нее с каждым часом. Сегодня ей было гораздо лучше, чем вчера, а в этот послеобеденный час лучше, чем утром. Будущее теперь рисовалось ей в куда более радужных тонах. Прекрасное настроение внезапно исчезло, с неожиданностью ружейного выстрела. Они как раз проезжали мимо одного из сестринских постов — он находился в середине коридора, — когда Двери располагавшегося здесь же лифта открылись и в коридор вышел мужчина, который оказался прямо на пути кресла-коляски. Он был одет как обычный больной: полосатая пижама, коричневый халат, на ногах — шлепанцы. Миссис Бейкер остановила кресло-коляску, чтобы дать ему дорогу. Сюзанна вгляделась в человека, стоящего перед ней, и едва удержалась от того, чтобы не закричать от ужаса. Она готова была кричать, но не могла. Леденящий, парализующий страх сковал все ее тело. Его звали Эрнест Харш. Широкие плечи, квадратное лицо с грубыми чертами и глаза цвета грязного льда. Когда она повторяла в суде свои свидетельские показания, направленные против него, он сверлил ее вот этими ледяными глазами и не отвел их в сторону ни на секунду. Она без труда поняла, что он хотел выразить своим устрашающим взглядом: ты еще очень и очень пожалеешь о той минуте, когда решила дать свидетельские показания. Но это было тринадцать лет назад. Она тогда еще приняла все меры, чтобы этот человек не нашел ее, когда выйдет из тюрьмы. Она уже давно перестала бояться. И вот он здесь. Он смотрел на нее сверху вниз. Сюзанна беспомощно застыла в своем кресле под взглядом безжалостных глаз, в которых ясно читалось — он ее узнал. Несмотря на прошедшие годы, несмотря на ее изможденный вид, он узнал ее. Она хотела бы вскочить с кресла и бежать куда глаза глядят. Но страх парализовал ее, она не могла двинуться с места. С тех пор как открылась дверь лифта, прошло секунды две, не более, но они показались ей бесконечными. Время словно перестало течь и застыло. Харш изобразил на своем лице улыбку. Кому-то другому, но только не Сюзанне, эта улыбка могла бы показаться совершенно невинной, даже дружеской. Но она ясно видела в ней ненависть и угрозу. Эрнест Харш отвечал за проведение испытаний для новичков в студенческом обществе, в которое так хотел вступить Джерри Штейн. Именно Эрнест Харш убил Джерри Штейна. Он убил его не случайно. Это было преднамеренное, хладнокровное убийство. Убийство в «Доме Грома». И вот теперь, сохраняя на лице улыбку, этот человек подмигивает Сюзанне. Страх на какое-то мгновение ослабил свою власть над ее телом, и ей удалось найти в себе силы и, опершись на кресло, встать на ноги. Она сделала один шаг, пытаясь уйти от Харша, пытаясь убежать от него, она слышала за спиной удивленный возглас миссис Бейкер. Она попыталась сделать второй шаг, она словно брела по быстрому потоку — и вот этот поток уже сшиб ее с ног. Она падала, но в последнюю секунду кто-то сумел подхватить ее. В том мраке, который снова начал распускать свои крылья над ее сознанием, Сюзанна еще успела разглядеть, что Эрнест Харш был одним из тех, кто держал ее. Она была у него в руках. Она посмотрела вверх, в его огромное, как луна, лицо. Затем полная темнота заслонила от нее все происходящее.Глава 4
— Вам угрожает опасность? — недоумевал Макги. Миссис Бейкер, стоявшая возле задней спинки кровати, нахмурилась. Сюзанна изо всех сил пыталась выглядеть спокойной и убедительной. Она отдавала себе отчет в том, что рассказ истеричной женщины никто не воспримет всерьез, тем более если эта женщина перенесла травму головы. Все ее слова могут вполне счесть за бред. Поэтому очень важно, чтобы Макги поверил ей сразу. Очнулась она в своей палате буквально через несколько минут, после того как потеряла сознание в коридоре. Открыв глаза, она увидела, что Макги меряет ей давление. Она набралась терпения и дождалась, пока он закончит процедуру, затем начала свой рассказ об опасности, которая ей отныне угрожает. Макги стоял сбоку от кровати, держась рукой за боковую стенку. Он слегка наклонился вперед, на шее у него болтался стетоскоп. — Кто вам угрожает? — Тот человек. — Какой? — Мужчина, который встретился нам возле лифта. Макги вопросительно посмотрел на миссис Бейкер. Медсестра пояснила: — Это был один из пациентов. — И вы полагаете, что он может быть опасен для вас? — Макги задавал вопросы, всем своим видом выражая крайнее недоумение. Сюзанна, нервно теребя воротничок пижамы, начала свой рассказ: — Доктор Макги, вы помните, наверное, я говорила о моем друге, которого звали Джерри Штейн? — Конечно, помню. Тот юноша, с которым вы были почти помолвлены. Сюзанна кивнула. — Он погиб совсем нелепо — когда хотел вступить в какое-то студенческое общество. — Да что вы! — с чувством воскликнула миссис Бейкер, она впервые услышала о Джерри. — Какой ужас! У Сюзанны пересохло в горле. Она судорожно попыталась справиться с собой и продолжала: — В студенческом обществе это называлось «испытанием через унижение». Испытуемый должен был вытерпеть какой-нибудь унизительный для него обряд в присутствии девушки, с которой он в это время дружит. Он ничем не должен выдать своего недовольства перед теми, кто его унижает. Так вот, Джерри и меня привели в одну из пещер в паре миль от студенческого городка Брайерстеда. Это было обычное место для испытаний новичков, там все было как будто нарочно предусмотрено для идиотских представлений. Надо сказать, что я долго не соглашалась туда идти. Я с самого начала не хотела участвовать в этом спектакле. Не потому, что мне что-то угрожало, нет. Кстати, сначала ничто не предвещало беды, все были настроены на развлечение, на игру. Джерри так не терпелось, чтобы это началось поскорей. А я, где-то на подсознательном уровне, предчувствовала… что-то нехорошее. Кроме того, как мне показалось, те ребята, которые должны были исполнять этот ритуал, приняли внутрь порядочную дозу спиртного. Я даже не хотела садиться к ним в машину. Но в конце концов они уговорили меня, и мы поехали — ведь Джерри так стремился вступить в это общество; я не желала быть ему помехой. Сюзанна посмотрела в окно на пасмурное сентябрьское небо. Поднялся ветер, он раскачивал верхушки высоких елей. Она не любила рассказывать о смерти Джерри. Но сейчас у нее не было другого выхода — она должна была рассказать все, чтобы Макги и миссис Бейкер поняли, почему Эрнест Харш представляет для нее серьезную, очень серьезную угрозу. Она продолжала: — Меловые пещеры близ Брайерстеда имеют внушительные размеры. Там существуют то ли восемь, то ли десять подземных залов. Может быть, их даже больше — не знаю. Некоторые залы просто огромны. В них очень сыро, темно и пахнет плесенью, должно быть, это настоящий рай для спелеологов. Подталкивая ее к продолжению рассказа, Макги произнес: — Эти огромные пещеры, должно быть, пользуются популярностью у туристов, но я никогда о них ничего не слышал. — О нет, там никто ничего не организовывал для туристов, это вовсе не то, что Карлсбадские пещеры или пещеры в Люре. Место это малопривлекательно из-за страшной сырости и однообразия меловых стен. Единственное, что отличает пещеры в Брайерстеде, — это размеры. Самая большая из них величиной с готический собор. Индейцы племени шоуни даже дали ей название — «Дом Грома». — Грома? — переспросил Макги. — Почему? — В одном из углов этой пещеры с большой высоты низвергается подземный водопад, звук которого многократно отражается от меловых стен, так что в этой пещере как бы постоянно гремит гром. Сюзанна настолько живо представила себе эту пещеру, что ее вмиг словно окутал сырой знобящий воздух. Она содрогнулась и повыше натянула на себя одеяло. Ее глаза встретились со взглядом Макги. В его глазах читалось понимание и сочувствие… Она ясно видела, что он полностью отдает себе отчет в том, как тяжело ей рассказывать о Джерри Штейне. Те же чувства выражало и лицо миссис Бейкер. Казалось, медсестра в любой момент может совсем расчувствоваться, наклониться к ней и, обняв, защитить от опасности. Макги вновь мягко напомнил Сюзанне о прерванной истории: — Так, значит, обряд унижения должен был состояться в «Доме Грома»? — Да. Уже наступила ночь. Мы продвигались к пещере, освещая себе путь фонариками, а когда пришли на место, то зажгли свечи и расставили их на камнях вокруг площадки. Там были только я, Джерри и четверо ребят из студенческого общества. Я никогда не забуду ни их имен, ни как они выглядели. Их звали Карл Джеллико, Герберт Паркер, Рэнди Ли Куинс… и Эрнест Харш. Харш в тот год исполнял обязанности магистра студенческого общества. С улицы начали доноситься раскаты грома, небо за окном быстро темнело. Серые тени вылезли из углов палаты и, казалось, готовы были вот-вот захватить комнату в свою власть. Сюзанна вновь заговорила. Макги зажег настольную лампу. — Как только мы пришли в пещеру и зажгли свечи, Харш и его приятели вновь приложились к фляжкам с виски, которые они захватили с собой. Они и так уже хорошо поднабрались и продолжали пить все время, пока длилось это испытание. Чем пьянее они становились, тем отвратительнее казался мне этот обряд. Поначалу они просто слегка поиздевались над Джерри, но не выходили за рамки, и все это можно было счесть за шутку, хотя и не совсем удачную. Но чем дальше, тем издевательство их становилось все безобразней… все изощренней. В какой-то момент они даже позабыли о приличиях. Это было просто грязно. Я чувствовала себя ужасно и не знала, что делать. Я хотела уйти, и об этом же просил негодяев Джерри, но они не отпустили меня, не дали мне ни фонаря, ни свечи. Я бы не смогла выбраться на поверхность в этой непроглядной темноте, поэтому мне пришлось остаться. Когда они начали издеваться над еврейским происхождением Джерри, то они уже не шутили, и я поняла, что дело может принять очень плохой оборот. К тому времени они уже были пьяны до безобразия. Но их подталкивал вовсе не хмель. Или, во всяком случае, не только хмель. Я вам говорила о ненависти, которая убила Джерри. Так вот, эта ненависть, ненависть к евреям, была не случайной, она была у всех четверых, а особенно у Эрнеста Харша, в крови. В Брайерстеде не было привычного для большинства университетов смешения разных языков и культур, — продолжала Сюзанна. — Евреев там было совсем мало, а в обществе, куда хотел вступить Джерри, их не было вовсе. И не потому, что законы этого общества предписывали этот запрет, нет. Несколько лет назад в это общество приняли несколько евреев, и все было нормально. Большинство членов общества выступали за то, чтобы принять в свои ряды Джерри. Против были только Харш и трое его приятелей, они-то и решили, что не допустят Джерри, устроив ему настолько тяжелые испытания, что он сам откажется от своей затеи. Испытания должны были длиться целый месяц, и «унижение» в «Доме Грома» являлось только началом в их длинной цепи. Они не планировали убить Джерри. Во всяком случае, они не думали об этом вначале, когда привели его в пещеру, когда по-свински напились. Они, вероятно, хотели унизить его, втоптать в грязь. Они хотели показать ему, с кем он связался, они хотели запугать его, внушить ему мысль об отказе от своих планов. После словесных издевательств они принялись избивать Джерри. Они окружили его и стали по очереди толкать, пытаясь одновременно сбить его с ног. Джерри, конечно же, понял, что это никакое не испытание, но он никогда не был трусом и ответил им ударом на удар. Это, видимо, совсем вывело их из себя. Они продолжали бить его, и тогда он ударил Харша и разбил ему в кровь губу. — И тогда они словно с цепи сорвались, — предположил Макги. — Да, и тогда они совсем рассвирепели. За окном прогрохотал гром, вслед за этим мигнул свет лампы в палате, и Сюзанне показалось, что какая-то сверхъестественная сила несет ее назад, в прошлое, в переполненную громовым грохотом пещеру. Она сказала: — Что-то в самой этой пещере — ее мрак, сырость, постоянный грохот, изолированность от внешнего мира — развязало в этих людях дремлющие в них дикие инстинкты. Они начали по-настоящему избивать Джерри… сбили его с ног и продолжали бить лежащего. — Сюзанна вздрогнула. Дрожь перешла в озноб, она почувствовала ужас и омерзение от нахлынувших воспоминаний. — Они напоминали диких собак, набросившихся всей стаей на чужака, — еле сдерживая себя, промолвила она. — Я… я пыталась кричать… но это не могло их остановить. В конце концов Карл Джеллико вроде бы осознал, что они зашли слишком далеко, и отошел в сторону. Вслед за ним прекратили это издевательство Куинс и Паркер. Харш был последним, кто опомнился, и он же первый понял, что всем им грозит теперь тюрьма. Джерри уже лежал без сознания. Он был… Голос Сюзанны сорвался, она не могла говорить. Как будто не было этих тринадцати лет, казалось, все совершилось вчера. — Продолжайте, — спокойно сказал Макги. — У него… кровь текла из носа… изо рта… из ушей. Он был очень сильно избит. Он был без сознания, но все тело его как-то странно подергивалось. Наверное, у него была сильная травма мозга. Я попыталась… — Продолжайте, Сюзанна. — Я попыталась приблизиться к Джерри, но Харш оттолкнул меня и сбил с ног. Он начал втолковывать остальным, что надо действовать, иначе им всем не миновать тюрьмы. Он говорил, что теперь все их планы рухнули, что у них нет будущего… если только они не сумеют скрыть то, что сделали. Он пытался убедить их, что им необходимо прикончить Джерри, а затем убить меня и сбросить трупы в одну из глубоких расщелин, имевшихся в пещере. Джеллико, Паркер и Куинс наполовину протрезвели от происшедшего, но хмель еще сильно действовал на них, они были растеряны и запуганы. Поначалу они возражали Харшу, а затем согласились с ним, но после недолгих раздумий опять начали спорить. Они боялись убивать, но не меньше боялись и оставить все как есть. Харш был вне себя, его раздражала их трусость. Он решил заставить их действовать, лишив возможности выбора. Он подошел к Джерри и… он… Ей стало дурно, когда она вспомнила о происшедшем. Макги сжал ее руку в своей. Сюзанна проговорила: — Он ударил Джерри… в голову… три раза… и пробил ему череп. Миссис Бейкер охнула. — Он убил его, — выкрикнула Сюзанна. За окном молния прорезала небо, и сквозь трещину в небесах на волю вырвался гром. Первые крупные капли дождя ударили в стекло. Макги еще крепче сжал руку Сюзанны. — Я подхватила с земли один из фонарей и бросилась бежать, — продолжала она, — они смотрели только на тело Джерри, и это позволило мне оторваться от погони. Ненамного, но оторваться. Они думали, что я побегу к выходу из пещеры, но я выбрала другой путь, так как знала, что у выхода они непременно схватят меня. Таким образом, мне удалось выиграть еще несколько секунд. Я все глубже забиралась в пещеры по извилистым подземным коридорам. Пол местами был покатым… сначала я оказалась в одной большой пещере, затем в другой, расположенной еще ниже. К счастью, я сообразила, что мне лучше выключить фонарик, чтобы им труднее было за мной следить. Я шла на ощупь, спотыкаясь, до тех пор, пока не нашла возле одного из сталагмитов небольшую нишу в стене. Я нырнула в нее и замерла. Харш и его приятели еще несколько часов прочесывали пещеры, пока наконец не решили, что мне удалось каким-то образом выбраться наружу. Я прождала еще часов шесть, боясь покинуть свое убежище. Выбралась наверх только тогда, когда была уже не в силах бороться с жаждой и клаустрофобией. Дождь на улице пошел вовсю, затуманив растрепанные ветром деревья и лохматые черные тучи. — Боже мой! — воскликнула миссис Бейкер, ее лицо было мертвенно-бледным. — Бедная девушка! — Их судили? — спросил Макги. — Да. Прокурор округа полагал, что он не сможет добиться наказания, если выдвинет обвинение в тяжком преднамеренном убийстве. Было слишком много смягчающих обстоятельств, в том числе сильное опьянение обвиняемых и тот факт, что Джерри ударил первым и повредил Харшу губу. Так или иначе, Харш был обвинен в непреднамеренном убийстве и приговорен к пяти годам лишения свободы в тюрьме штата. — Всего к пяти годам? — переспросила миссис Бейкер. — Я-то полагала, что он вполне заслуживает пожизненного заключения, — сказала Сюзанна с той же горечью в голосе, которая захлестнула ее тринадцать лет назад, когда она услышала решение суда. — Что стало с тремя остальными? — поинтересовался Макги. — Их обвинили в покушении на убийство и в пособничестве Харшу, но, исходя из того, что прежде они никогда не привлекались к уголовной ответственности и все были из благополучных семей, а также из-за того, что ни один из них не нанес смертельного удара, все они были приговорены условно и отпущены из-под стражи в зале суда. — Чудовищно! — только и могла сказать миссис Бейкер. Макги продолжал сжимать руку Сюзанны в своей руке; она была благодарна ему за этот жест поддержки. — Конечно же, все четверо были немедленно исключены из Брайерстеда. И, что удивительно, судьба все-таки наказала Паркера и Джеллико. В Брайерстеде они учились на предпоследнем курсе и сумели каким-то образом закончить последний год в другом учебном заведении. Но после этого выяснилось, что ни один из нормальных медицинских институтов не принимает документы от людей, совершивших серьезные уголовные преступления. Они перепробовали все варианты и наконец сумели поступить в какой-то второразрядный медицинский институт. Так вот, в тот вечер, когда они получили письмо о приеме их в институт, они напились и оба погибли в автомобильной катастрофе из-за того, что пьяный Паркер не справился с управлением. Может быть, нельзя так говорить, но мне стало легче, когда я услышала о случившемся. — И вы были правы, — поддержала ее миссис Бейкер. — Это совершенно естественно. Нормальный человек отреагировал бы именно так. — Остался еще Рэнди Ли Куинс, — напомнил Макги. — Я ничего о нем не слышала, — призналась Сюзанна. — Мне, впрочем, все равно, я знаю, что рано или поздно судьба и его накажет. Две последовавшие друг за другом вспышки молний с раскатами грома словно взорвали мерный рокот дождя за окном. Сюзанна, Макги и миссис Бейкер повернулись к окну и какое-то время вслушивались в усиливавшийся шум дождя. Затем миссис Бейкер нарушила молчание: — Ужасный случай, просто ужасный. Но я не совсем поняла, какое отношение он имеет к вашему обмороку в коридоре. Прежде чем Сюзанна начала отвечать, Макги произнес: — Судя по всему, тот человек, который вышел из лифта и оказался прямо перед Сюзанной, был одним из участников кровавого события в Брайерстеде. — Да, именно так, — подтвердила Сюзанна. — Это мог быть или Харш, или Куинс. — Эрнест Харш, — сказала Сюзанна. — Невероятное совпадение, — воскликнул Макги, напоследок пожав еще раз ладонь Сюзанны и выпустив ее. — Прошло целых тринадцать лет. И вы видели его в последний раз за тысячи миль отсюда. Миссис Бейкер нахмурилась. — Вы скорее всего перепутали этого человека с Харшем. — О нет, — решительно отвергла это предположение Сюзанна. — Я никогда не забуду его лицо. Никогда. — Но фамилия этого человека вовсе не Харш, — настаивала миссис Бейкер. — Не может быть! — Я точно вам говорю. Его фамилия Ричмонд. Билл Ричмонд. — Значит, он успел сменить фамилию. — Я не думаю, что злостный преступник смог бы это проделать, — покачала головой миссис Бейкер. — Я не имею в виду, что он проделал это в официальном порядке, через суд, — пояснила Сюзанна, расстроенная нежеланием медсестры поверить ей. — Но это действительно был Харш. — По какому поводу поступил в нашу больницу этот пациент? — спросил Макги у миссис Бейкер. — Ему завтра предстоит операция, — ответила медсестра. — Доктор Витецкий будет удалять ему две кисты в области поясницы. — Не в области позвоночника? — Нет. В жировых тканях. Довольно крупные по размеру. — Доброкачественные? — уточнил Макги. — Да. Но я предполагаю, что они доставляют ему немало беспокойства, так как глубоко укоренились в теле. — Он поступил сегодня утром? — Да. — И его фамилия Ричмонд. Вы уверены в этом? — Да. — Но раньше его фамилия была Харш, — настаивала на своем Сюзанна. Миссис Бейкер сняла очки и оставила их болтаться у нее на груди на цепочке. Она потерла переносицу, испытующе посмотрела на Сюзанну и спросила: — Сколько лет было этому Харшу в момент убийства Джерри Штейна? — Он был самым старшим по возрасту среди студентов своего курса, — ответила Сюзанна. — То есть ему исполнился двадцать один год. — Тогда мне понятно, в чем ошибка, — облегченно вздохнула медсестра. — В чем? — спросил Макги. Миссис Бейкер вновь нацепила очки на нос и объяснила: — Дело в том, что Биллу Ричмонду едва исполнилось двадцать лет. — Этого не может быть, — прошептала Сюзанна. — Вспомнила. Ему как раз двадцать один год. То есть, когда убили Джерри Штейна, ему было от силы восемь лет. — Но ему не может быть столько лет, — возбужденно воскликнула Сюзанна. — Ему сейчас тридцать четыре года. — Да, он действительно не выглядит как мужчина, которому исполнился двадцать один год, — согласилась медсестра. — Он выглядит гораздо моложе. Гораздо моложе. Он скорее напоминает ребенка. И если он по какой-то причине скрывает сейчас свой возраст, то уж наверняка прибавляет себе несколько лет, но никак не отнимает. Темнота за окнами опять осветилась молнией, и новый раскат грома прокатился по мрачному небу. Доктор Макги посмотрел на Сюзанну и спросил: — На сколько лет выглядел человек, напугавший вас около лифта? Она начала обдумывать ответ, чувствуя, как с каждой секундой сердце уходит в пятки. — Ну… он выглядел точно так же, как Эрнест Харш. — Точно так же, как выглядел Эрнест Харш тринадцать лет назад? — О-о… да. — Он выглядел как студент, которому совсем недавно исполнился двадцать один год? Сюзанна в ответ обреченно кивнула. Макги продолжал уточнять: — Таким образом, получается, что вам он не показался человеком тридцати четырех лет? — Нет. Но, может быть, он так хорошо сохранился. Иногда тридцатилетние выглядят лет на десять моложе. — Сюзанна была смущена явным несоответствием возраста, но насчет личности человека у нее не было никаких сомнений. — Это точно Харш. — Может быть, здесь просто случай сильного сходства двух людей? — предположила миссис Бейкер. — Нет-нет, — настаивала на своем Сюзанна. — Это он здесь не может быть сомнений. Я узнала его и увидела по его глазам, что он узнал меня. И теперь я вновь чувствую, что мне угрожает опасность. Ведь именно из-за моих показаний он отправился в тюрьму. Если бы вы только видели его, когда он сверлил меня глазами в зале суда… Макги и миссис Бейкер застыли в молчании, устремив взгляды на Сюзанну, и в этих взглядах было что-то очень напоминающее ей все тот же зал суда, когда она стояла и слушала приговор. Она какое-то время смотрела в глаза своих собеседников, но затем отвела взгляд в сторону, так как не могла вынести тяжести сомнений, которые без труда читались в их глазах в ходе этого безмолвного диалога. — Послушайте, — нарушил молчание Макги. — Я сейчас пойду и посмотрю документы на этого пациента. Может быть, даже поговорю с ним самим. Надеюсь, это каким-то образом разъяснит ситуацию. — Да, я в этом уверена, — выдохнула Сюзанна, понимая всю безнадежность своего положения. — Если он действительно окажется Харшем, мы примем меры, чтобы он не смог приблизиться к вашей палате. А если это совершенно другой человек, вы сможете вздохнуть свободно и больше не будете об этом беспокоиться. «Но это же он, черт возьми!» Так подумала Сюзанна, но вслух не сказала ничего, только кивнула Макги. — Я вернусь через несколько минут, — сказал он. Сюзанна молча рассматривала свои бледные, исхудавшие руки. — С вами все будет в порядке? — уточнил Макги. — О да. Будьте уверены. Она почувствовала, что между медсестрой и врачом состоялся какой-то безмолвный диалог, но глаз не поднимала. Макги вышел из палаты. — Сейчас все очень быстро прояснится, моя милая, — успокаивающим тоном промолвила миссис Бейкер. За окнами новый раскат грома сорвался с неба с грохотом падающей лавины.* * *
Близилась ночь. Буря за окном унесла с собой последние отсветы осеннего дня. Сумерки надвинулись раньше обычного. — Его зовут Билл Ричмонд, и это совершенно точно, — было первое, что произнес Макги, когда вернулся в палату. Сюзанна почувствовала, как ее тело безвольно обмякло в кровати, но все еще не могла поверить. Они были теперь вдвоем в палате. Было время пересменки, и миссис Бейкер отправилась домой. Макги вертел в руках стетоскоп. — И возраст этого человека —совершенно точно — двадцать один год. — Но, насколько я могу понять, вы отсутствовали недолго, значит, ваши выводы основываются только на том, что вы смогли прочитать в медицинской карте. Это ничего не доказывает. Этот человек вполне мог ввести доктора в заблуждение, поверьте мне. — Да, но оказалось, что Леон — я имею в виду доктора Витецкого — знал даже родителей этого парня. Их звали Грейс и Гарри Ричмонд, и они были его пациентами на протяжении двадцати пяти лет. Витецкий сказал, что он принимал роды у Грейс Ричмонд трижды. И это происходило в этой самой больнице. Уверенность в своей правоте таяла, Сюзанна начала сомневаться в том, что еще минуту назад казалось ей неоспоримым. Макги продолжал: — Леон в качестве семейного доктора лечил все детские болезни Билла Ричмонда. Он уверен на сто процентов в том, что тринадцать лет назад, когда Эрнест Харш убил Джерри Штейна, Биллу Ричмонду было восемь лет и он занимался тем, чем занимаются все восьмилетние дети. И жил он тогда здесь, а вовсе не в Пенсильвании. — За три тысячи миль отсюда, — эхом отозвалась Сюзанна. — Вот именно. Сюзанна казалась сломленной под тяжким грузом сомнений и тревоги. — Но он выглядит точно так же, как Харш. Когда он сегодня днем вышел из лифта мне навстречу, когда я посмотрела в его глаза, в его проклятые серые глаза, клянусь… — О, я уверен, что вы бы не стали поднимать панику, если бы не было серьезной причины, — без тени иронии сказал Макги. — Я уверен, что это просто случай абсолютного сходства. Несмотря на весьма дружелюбные чувства к Макги, в данный момент Сюзанна была обижена на него из-за небольшого оттенка превосходства, который она уловила в его тоне. Волнение и обида придали ей сил, она выпрямила спину и, чтобы показать свою решимость, уперлась руками в бока. — Это не просто сходство. Он как две капли воды похож на Харша. — Да, конечно, но вы не должны забывать о том, что с тех пор, как вы видели убийцу, прошло довольно много времени. — Что из этого? — Вы вполне могли забыть что-нибудь из его облика. — О нет, я помню его. Великолепно помню. Этот Ричмонд одного с ним роста, наверняка одного веса и сложен он точно так же, как Харш. — У него довольно распространенный тип фигуры. — Такие же светлые волосы, такое же квадратное лицо, такие же глаза. Такие светло-светло-серые, почти прозрачные. Много людей с такими глазами? Нет. Если их сравнивать, то Билл Ричмонд и Эрнест Харш — двойники. Это не простое сходство. Это гораздо загадочней. Это просто дьявольское сходство. — О'кей, о'кей, — Макги жестом руки остановил Сюзанну. — Возможно, они поразительно похожи друг на друга, возможно, они — двойники. Если мы имеем дело с таким случаем, значит, просто произошло удивительное совпадение — вы встретили в своей жизни двух одинаковых людей, встретили их в разное время, в разных концах страны; но это все равно не более чем совпадение. Руки Сюзанны похолодели. Они превратились в две ледышки. Она потерла ладони, пытаясь согреть их. — Если уже речь зашла о совпадениях, — сказала она, — то тут я согласна с Филиппом Марло. — С кем? — С Марло. Это частный детектив из романов Раймонда Чандлера. «Девушка в озере», «Большая спячка», «Долгое прощание»… — Ах да, конечно, Марло. О'кей, так что он говорил о совпадениях? — Он говорил: «Дайте мне расследовать какое-либо совпадение. Когда я раскрою его тайный смысл, то в нем окажутся замешанными как минимум двое людей, задумавших провернуть темное дельце». Макги нахмурился и покачал головой. — Эта философия подходит для персонажа из детектива. В реальной жизни такой взгляд на вещи похож на паранойю, вам не кажется? Он был прав, Сюзанна не могла долго сердиться на него. По мере того как ее обида уходила, ее покидали и силы, и она все глубже оседала в подушки. — Разве могут двое людей быть до такой степени похожими друг на друга? — Я слышал о теории, по которой у каждого человека на земле есть где-то двойник. Это то, что люди называют вторым «я». — Наверное, так бывает, — промолвила Сюзанна, не убежденная до конца. — Но здесь все было… по-другому. Это было очень странно. Я поклянусь чем угодно, что он узнал меня. Он так странно улыбался. И еще… он мне подмигнул! В первый раз Макги рассмеялся. — Подмигнул вам? Ну знаете, в этом нет ничего странного или загадочного, милая моя. — В его голубых глазах сверкали веселые искорки. — Если вам еще об этом неизвестно, то знайте — мужчины очень часто подмигивают привлекательным женщинам. Только не рассказывайте мне, что вам раньше никто не подмигивал. Не рассказывайте мне, что вы всю жизнь провели в женском монастыре или на необитаемом острове. — Макги вновь рассмеялся. — Но сейчас во мне нет ничего привлекательного, — настаивала на своем Сюзанна. — Чепуха. — Мне надо еще обязательно вымыть голову по-настоящему, а не при помощи этого талька. Кроме того, я страшно похудела, у меня круги под глазами. Мне что-то с трудом верится, что в таком состоянии я могу вызвать у кого-либо романтические чувства. — Вы себя недооцениваете. Разве у вас изможденный вид? Да нет, вы просто вылитая Одри Хепберн[11]. Сюзанне пришлось сдержать себя, чтобы не поддаться на комплимент. Она решила высказать до конца все то, что мучило ее. — Надо сказать, что это было совсем не то подмигивание, о котором вы говорите. — А-а-а! — продолжал шутить Макги. — Так, значит, вы все-таки признаете, что вам подмигивали мужчины. Вы, кажется, уже эксперт по подмигиваниям? Сюзанна не поддержала шутливого настроя доктора и своим молчанием дала понять, что к человеку, испугавшему ее сегодня у лифта, относится серьезно. — Так все же, как он вам подмигнул? — спросил доктор, все еще сохраняя смешливость. — Он подмигнул мне зловеще. У меня мороз прошел по коже от его взгляда. Ни о каком флирте не могло быть и речи. И это было, конечно, никакое не дружеское подмигивание. Он дал понять, что ничего хорошего меня не ждет. Это была неприкрытая злоба… и угроза, — попыталась объяснить свои чувства Сюзанна и тут же поняла, как нелепы ее попытки приписать столько чудовищных знамений такой простой вещи, как подмигивание. — Хорошо еще, что я не попросил вас передать общее выражение его лица, — улыбнулся Макги. — Наверное, рассказов хватило бы до завтрашнего утра! Сюзанна наконец сдалась — она улыбнулась и призналась: — Наверное, это звучит ужасно глупо, а? — Да, пожалуй. Особенно с тех пор, как мы выяснили, что этого человека зовут Билл Ричмонд и ему всего двадцать один год. — Итак, подмигивание — это всего лишь подмигивание, а угроза — не более чем плод моего воображения? — Не кажется ли вам, что все обстоит именно так? — дипломатично заметил доктор. Сюзанна вздохнула. — Да, мне и вправду так кажется. И я, наверное, должна извиниться перед вами за то, что доставила столько хлопот. — Ну что вы, ерунда, — любезно сказал Макги. — Я так страшно устала, ослабела, что воспринимаю все в каком-то болезненном свете. Прошлой ночью мне приснился сон о Харше, так что, когда я увидела человека, вышедшего из лифта, так похожего на Харша, я просто… потеряла голову. Это была паника. Ей было трудно сделать это признание. Другим людям свойственно вести себя в трудных ситуациях как маленьким детям, но Сюзанна Кэтлин Тортон всегда считала себя — и была на самом деле — выдержанной, спокойной, готовой к любым испытаниям, которые преподнесет судьба. Она вела себя так и в детстве, отчасти из-за того, что ее одиночество обязывало ее полагаться только на саму себя. Она не поддалась панике даже в «Доме Грома», когда Эрнест Харш наносил смертельные удары по голове Джерри Штейна; тогда она смогла убежать, спрятаться, выжить — и все благодаря тому, что постоянно сохраняла самообладание. В такой ситуации большинство людей не смогли бы действовать так взвешенно. Но теперь она не выдержала, мало того, позволила другим людям видеть ее в состоянии паники. Она чувствовала себя смущенной и униженной из-за своего собственного поведения. — Зато теперь я буду у вас образцовой пациенткой, — сказала она Макги. — Я буду глотать все лекарства не пикнув. Я буду есть все, что мне принесут, и быстро-быстро восстановлю свои силы. Буду делать гимнастику, когда скажут, и столько, сколько скажут. К тому времени, когда меня пора будет выписывать, вы и думать забудете о той сцене, которую я вам сегодня устроила. Вы наверняка захотите, чтобы все ваши пациенты были такими, как я. Обещаю, что так все и будет. — Я уже сейчас хочу, чтобы все мои пациенты были бы такими, как вы, — признался доктор. — Поверьте, гораздо приятнее иметь дело с приятной молодой женщиной, чем со стариком-инфарктником. После того как Макги ушел, Сюзанна договорилась с одним из санитаров, чтобы тот принес к ней в палату телевизор. Вечер за окном уступал место ночи, и она успела посмотреть последнюю часть фильма из сериала «Дела Рокфордов», затем очередной повтор шоу с Мэри Тайлер Мур. Изображение из-за близкой грозы время от времени портилось, но она досмотрела до конца также и выпуск новостей из Сиэтла. Она разочарованно отметила про себя, что главные места в программе новостей занимают все те же международные события, что и три недели назад, когда она выпала из обычной жизни. Чуть позже она с аппетитом съела ужин, принесенный ей. Еще попозже позвонила и вызвала дежурную медсестру, попросив ее принести еще что-нибудь из еды. Крашеная блондинка по имени Мария Эдмондс принесла ей тарелку шербета с консервированными персиками. Вскоре и эта тарелка опустела. Сюзанна старалась не думать о Билле Ричмонде, двойнике Харша. Она старалась не думать о «Доме Грома», о драгоценном времени, потерянном в состоянии комы, о пустотах, зияющих в ее памяти, о своей ужасной беспомощности или о чем-либо еще, что могло бы ее расстроить. Она приготовилась быть образцовой пациенткой и хотела вновь обрести свой оптимизм, так как иного пути к выздоровлению не было. Несмотря на все ее усилия, ее не покидало неясное, но леденящее душу предчувствие опасности. Бесформенный злой дух витал где-то рядом. Всякий раз, когда этот дух оказывался совсем близко, она отгоняла его мыслями о чем-нибудь хорошем. Главным образом это были мысли о Макги: о его удивительно мягкой манере двигаться, о его ласкающем слух тембре голоса, о его удивительных глазах, полных сияния и жизнелюбия, о его руках, их благородных линиях и длинных пальцах. Когда пора уже было засыпать, она приняла прописанное ей доктором успокоительное. Сквозь подступающий сон она расслышала, как осенний дождь перестал стучать в стекло. Ветер, однако, продолжал свои атаки, завывая, шепча, а иногда и рыча. Он как бы обнюхивал оконную раму и, подобно огромной собаке, пытался скрестись лапой о стекло, прося, чтобы его пустили внутрь. Возможно, именно из-за ветра Сюзанне в эту ночь снились сны о собаках. Сны о собаках и шакалах. О шакалах и волках. И еще — об оборотнях. Эти существа без труда превращались из волков в людей, а затем вновь становились волками. И вот они снова в человеческом обличье и снова преследуют ее или подстерегают в какой-то темной чаще. В этом человеческом образе она сразу опознала их — это были Джеллико, Паркер, Куинс и Харш. Ей снилось, что в своих скитаниях по ночному лесу она выбралась на освещенную луной поляну. Четыре огромных чудовища в образе волков терзали на траве тело Джерри Штейна. Они оторвали взгляд от своей жертвы и злобно оскалились в ее сторону. Их морды, их клыки были в крови. В другой раз ей приснилось, что они преследуют ее в пещерах, среди сталактитов и сталагмитов, в узких и тесных меловых проходах. Однажды они погнались за ней по огромному полю из удивительных черных цветов, они преследовали ее и на городских улицах, вынюхивая ее и не давая ей спрятаться. Это была бесконечная гонка, жестокая и беспощадная. Один раз одно из чудовищ проникло в ее больничную палату; оно ползло по полу, пряталось в тени, она не могла рассмотреть его в подробностях, а видела лишь мерцающий взгляд диких глаз совсем рядом с ее кроватью. Затем существо вступило в круг желтого света от ночника, и Сюзанна явственно увидела, как с ним произошло еще одно превращение: из волка оно вновь сделалось человеком. Это был Эрнест Харш. В пижаме и больничном халате… «Нет, это уже не сон!» — подумала она, дрожа от накатывающих на нее холодных волн ужаса. …он подошел к кровати. Он даже наклонился, чтобы лучше разглядеть ее. Она хотела закричать, но не могла. Она не могла даже пошевелить рукой, защитить себя. Лицо Харша стало расплываться, Сюзанна изо всех сил пыталась сосредоточиться на этом лице, но чувствовала, как ее медленно уносит назад — на поле из черных цветов… «Я должна сбросить с себя это наваждение. Надо проснуться. Проснуться. Ведь это лекарство было всего лишь легким успокоительным. Легким, черт возьми!» …лицо Харша превратилось в серую массу. Больничная палата куда-то исчезла, и она снова ощутила себя бегущей по полю из черных цветов, спасающейся от стаи воющих волков. В небе была полная луна, но странно — она давала так мало света. Сюзанна не могла понять, куда она бежит. Неожиданно она споткнулась и упала лицом в цветы и поняла, что споткнулась о бездыханное, изувеченное тело Джерри Штейна. Рядом появился один из волков, он все ближе и ближе, вот он уже тычет свою морду прямо ей в лицо, вот она уже ощущает прикосновение его холодного носа к своей щеке. В этот момент морда зверя расплылась и превратилась в лицо не менее зловещее — в лицо Эрнеста Харша. Теперь к ее лицу прикасалась не волчья морда, это был короткий тупой палец Харша. Сюзанна вздрогнула, и сердце внутри забилось так сильно, что она испугалась, что оно вот-вот выскочит из груди. Харш отвел свою руку от ее щеки, и его лицо расплылось в улыбке. Поле из черных цветов исчезло. Ей опять снилась ее больничная палата… Хотя это был вовсе не сон. Это было на самом деле. Харш находится рядом с ней и собирается убить ее. …она попыталась приподняться с постели, но не было сил. Тогда она решила дотянуться до кнопки вызова медсестры, но находящаяся всего в нескольких дюймах кнопка вдруг оказалась недосягаемой, как далекая звезда. Она не отступала и неожиданно поняла, что ее рука начинает медленно вытягиваться в сторону кнопки. Вот она уже вытянулась, словно змея, и приобрела необыкновенную гибкость. До кнопки оставалось еще немного. Сюзанна чувствовала себя Алисой, попавшей в Зазеркалье. В данный момент она находилась в той части Страны чудес, в которой не действуют обычные законы перспективы. Здесь большое казалось маленьким, а маленькое — большим, то, что близко, было далеко, и наоборот; не было разницы между верхом и низом, между снаружи и внутри, между над и под. Это странное состояние, вызванное, вероятно, сном и действием лекарства, доводило ее до тошноты, она ощущала горький привкус желчи во рту. Разве так бывает во сне? Вряд ли. Где все это происходит — во сне или наяву? Ответ на этот вопрос ей очень хотелось бы получить как можно быстрее. «Давненько не виделись», — произнес Харш. Сюзанна заморгала, пытаясь получше разглядеть расплывающееся лицо, но это ей плохо удалось. В какой-то момент ей показалось, что у него необычные глаза — волчьи, со звериным блеском. «Думала, что избавилась от меня навсегда?» — прошептал Харш, наклоняясь к ней еще ближе, едва не касаясь ее своим лицом. У него был отвратительный запах изо рта, и она подумала, что ощущать запахи можно только наяву, значит, и Харша она видит не во сне. «Думала, что избавилась от меня навсегда?» — повторил свой вопрос Харш. Она не могла ответить, в горле стоял комок, она ничего не могла с этим поделать. «Ты, проклятая стерва», — продолжал Харш, и его улыбка превратилась в звериный оскал. «Ты, вонючая, мерзкая, гнусная стерва. Ну, каково тебе сейчас? А? Небось теперь жалеешь, что засадила меня в тюрьму? Хе-хе. Да уж. Вижу, вижу, что жалеешь». Он рассмеялся, и на время его смех превратился в подобие волчьего лая. «Знаешь, что я собираюсь с тобой сделать? — спросил он. Его лицо опять стало расплываться. — Знаешь, что я собираюсь с тобой сделать?» Она снова была в пещере. Прямо на каменном полу росли черные цветы. Она убегала от стаи воющих и лающих волков. Вот она свернула за угол и оказалась на улице вечернего города. Один из волков, стоявший под уличным фонарем, спросил у нее: «Знаешь, что я собираюсь с тобой сделать?» Сюзанна побежала по улице, и бег этот сквозь длинную, пугающую, расплывающуюся ночь был бесконечным. В понедельник на рассвете она проснулась с тяжелой головой и в страшной испарине. Она вспомнила свои сны о волках и об Эрнесте Харше. При свете неяркого серого утра мысль о том, что Харш мог появиться ночью у нее в палате, показалась ей совершенно нелепой. Она была жива, невредима. Это был просто кошмарный сон. Все, что было, было сном. Обычным кошмарным сном.Глава 5
Утро началось с того, что Сюзанна с помощью сиделки обтерлась влажной губкой. Освежившись таким образом, она переоделась в запасную пижаму, зеленую в желтый горошек, а старую забрала санитарка, выстирала и повесила тут же, за дверью, сохнуть. Завтрак на сей раз был плотнее. Сюзанна съела все до последней крошки и все-таки осталась голодной. Вскоре появилась миссис Бейкер, сменившая ночную медсестру. Она пришла в палату вместе с доктором Макги, который совершал утренний обход больных, прежде чем отправиться на свою частную практику в город Уиллауок. Вдвоем они сняли повязку со лба Сюзанны. Ей совсем не было больно, только пару раз она испытала покалывание — очевидно, пластырь прилип к краю раны. Макги, поддерживая ее затылок, вертел голову в разные стороны и рассматривал заживавшую рану. — Ну что же, портной явно старался и зашил все очень ровно. Приходится немножко хвалить самого себя. Миссис Бейкер взяла со столика зеркало и подала его Сюзанне. Сюзанна была приятно удивлена, увидев, что шов выглядел вовсе не безобразным, как она того боялась. Он был четырех дюймов в длину и тянулся вдоль лба тонкой розовой блестящей полоской, параллельно которой шли точки от удаленных ниток. — Эти точки исчезнут дней через десять, — успокоил Сюзанну Макги. — А я-то думала, что у меня на лбу огромная кровавая рана, — сказала Сюзанна, подняв руку и прикасаясь пальцами к ровной гладкой коже. — Как видите, она совсем небольшая, — ответил Макги. — Однако крови из нее было много, она буквально хлестала фонтаном, когда вас привезли сюда. Рана, кстати, не так легко заживала, возможно, из-за того, что вы часто хмурили лоб, когда были в коме. Но с этим мы ничего не могли поделать. Страховая компания не стала бы оплачивать круглосуточные выступления клоунов у вас в палате. — Макги улыбнулся. — Так или иначе вместе со следами от ниток постепенно будет исчезать и сам шрам. Он станет еще уже, но, к сожалению, не будет одного цвета с кожей. Если он вам совсем не понравится, вы сможете обратиться к хирургам-косметологам, они обязательно помогут. — О, я уверена, что до этого дело не дойдет, — перебила его Сюзанна. — Я просто уверена, что шрам будет практически незаметен. У меня, честно говоря, отлегло от сердца, когда я увидела, что не похожа на Франкенштейна. Миссис Бейкер рассмеялась. — Да разве это возможно! С вашей-то красотой! Боже мой, дорогая Сюзанна, вы себя недооцениваете. Сюзанна покраснела. Макги весело рассмеялся. Покачивая головой, миссис Бейкер прихватила ножницы и остатки бинтов и вышла из палаты. — Ну и как? — сразу приступил к делу Макги. — Готовы разговаривать с вашим шефом в «Майлстоуне»? — Филипп Гомез, — повторила Сюзанна имя и фамилию, сказанные ей вчера Макги. — Я до сих пор не могу припомнить ничего связанного с этим именем. — Надо немного подождать, и все вспомнится. — Доктор взглянул на часы. — Рановато, но мы попробуем. Он уже должен быть у себя в офисе. Он поднял трубку телефона, стоявшего на столике рядом с кроватью, и попросил телефонистку больничного коммутатора соединить его с компанией «Майлстоун» в Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Гомез был уже на работе, он сам взял трубку. В течение нескольких минут Сюзанна слушала Макги, разговаривающего с Филиппом Гомезом. Доктор сообщил, что Сюзанна недавно вышла из состояния комы, но у нее сохраняется временная частичная потеря памяти. Он делал особое ударение на слове «временная». Наконец он передал трубку Сюзанне. Сюзанна взяла ее, как берут в руки змею. Она не могла разобраться в своих мыслях и не была уверена, что правильно поступает, вступая в разговор со своим шефом из «Майлстоуна». С одной стороны, она не хотела бы жить всю оставшуюся жизнь с зияющей пустотой в памяти о значительной части своей жизни. С другой — она отлично запомнила чувство, которое вызвал у нее разговор о «Майлстоуне». Ее не покидало тревожное ощущение того, что ей лучше не вспоминать о своей прежней работе. Вчера в ее душу вполз призрак страха. Сегодня она почувствовала, как этот призрак возвращается. — Алло! — Сюзанна? Неужели это вы? — Да. Это я. У Гомеза был высокий тембр голоса, он говорил быстро, выпаливая фразу за фразой. — Сюзанна, слава Богу, я снова слышу ваш голос, слава Богу, честное слово, мы так и знали, нет, действительно, иначе и быть не могло. Мы так переживали за вас, так сильно переживали. Даже Брекенридж переживал. Представляете, кто бы мог подумать, кто мог знать, что он способен переживать? Так как вы? Как вы себя чувствуете? Звук этого голоса не пробуждал у Сюзанны никаких воспоминаний. Это был голос совершенно постороннего человека. Они разговаривали минут десять. Гомез пытался помочь Сюзанне вспомнить что-нибудь о ее работе. Он рассказал, что «Майлстоун» является независимой частной компанией, специализирующейся на выработке стратегических технологий, и работает по контрактам с ITT, IBM и другими крупными компаниями. Это ничего не давало Сюзанне, она не могла представить, что такое «независимая частная корпорация, специализирующаяся на выработке стратегических технологий». Гомез растолковывал ей, что она работала над применением лазерных технологий в производстве средств связи. Никакого проблеска в памяти. Он описал ее кабинет в «Майлстоуне» — это прозвучало как рассказ о месте, в котором она никогда не бывала. Он перечислил ей друзей и коллег по «Майлстоуну»: Эдди Джилрой, Элла Хэверсби, Том Кавински, Энсон Брекенридж и другие. Ни одна из фамилий не была ей знакома. К концу разговора в голосе Гомеза уже чувствовалось беспокойство. Он просил ее звонить ему в любое время, когда это понадобится, а также посоветовал позвонить и другим сотрудникам «Майлстоуна». — И знайте, — сказал он, — сколько бы ни продолжалось ваше выздоровление, ваша работа будет вас ждать. — Благодарю вас, — ответила она, тронутая его благородством. — Ну что вы, — заключил Гомез. — Вы же одна из лучших сотрудниц нашей компании, и мы не хотим терять вас. Если бы мы находились от вас не за тысячу миль, я уверен, мы бы не отходили от вас, помогали бы как могли, чтобы вы побыстрей встали на ноги. Мы бы просто дневали и ночевали у вас в палате. Сюзанна попрощалась с Гомезом и повесила трубку. — Ну как? Что-то прояснилось? — сразу задал вопрос Макги. — Ничего. Я не могу припомнить ничего о моей работе. Но Фил Гомез показался мне очень любезным. Про себя же она подумала: «Если он такой любезный, такой заботливый, то как же я могла его забыть?» И еще одна мысль мучила ее — на протяжении всего разговора в душе нарастала странная тревога. Откуда это чувство? Любезный Фил Гомез и непонятное ощущение опасности. Она… боялась даже мысли о «Майлстоуне». И не могла понять — почему.* * *
После того как Макги ушел, Сюзанна повторила упражнение для мышц ног. Миссис Бейкер, прикатившая кресло-коляску, помогла ей перебраться в нее и сказала: — На сей раз, я думаю, вы сможете ехать самостоятельно. Сделайте один полный круг по третьему этажу. Если устанут руки, попросите любую из медсестер докатить вас до палаты. — Я чувствую себя великолепно, — заверила ее Сюзанна. — Я не устану. Может быть, мне сделать два круга по этажу? — Я так и знала, что вы об этом попросите, — отреагировала миссис Бейкер. — Но сейчас вам можно проехать только один круг, этого будет вполне достаточно. Не надо устраивать марафонских забегов. После обеда и дневного сна отправитесь по второму кругу. — Вы так нянчитесь со мной. Я гораздо выносливей, чем вам кажется. — Ну вот, опять за старое. Дитя мое, вы неисправимы! Сюзанна покраснела, вспомнив, как вчера не послушалась медсестру и чуть было не упала, пересаживаясь с кровати в кресло-коляску. — О'кей, один круг. Но после обеда и сна я проеду по тому же маршруту два раза. Кстати, вчера вы обещали, что разрешите мне сделать несколько шагов самостоятельно, так что придется сдержать слово. — Вы неисправимы, — повторила миссис Бейкер, улыбаясь. — Сначала, — сообщила Сюзанна, — я собираюсь посмотреть на вид из окна. Она проехала мимо второй кровати, которая продолжала пустовать, и остановилась у окна. Лежа в кровати, она могла видеть через него лишь небо и верхушки деревьев. Подоконник был довольно высокий, и ей пришлось вытягивать шею, чтобы рассмотреть открывающийся вид. Больница была выстроена на одном из холмов, кольцом окружающих неширокую долину. Склоны холмов заросли соснами, обычными и голубыми елями; среди деревьев виднелись поляны с изумрудно-зеленой травой. Городок располагался в долине, но его пригороды уже вторгались на склоны холмов. Дома из камня, кирпича и дерева ровными линиями выстроились вдоль прямых улиц. День был серый и непогожий, по небу ползли грозовые тучи, однако даже в этих мрачных декорациях городок казался спокойным и красивым. — Какое приятное место! — воскликнула Сюзанна. — Еще бы, — подхватила миссис Бейкер. — Я ни разу не пожалела, что уехала сюда из большого города. — Она вздохнула. — Ах, да мне же еще нужно переделать массу дел. Но как только вернетесь в палату, сразу вызовите меня, я помогу вам лечь в постель. — Она шутливо погрозила Сюзанне пальцем. — И не вздумайте проделать это самостоятельно. Несмотря на всю вашу храбрость, вы еще слишком слабы. Обязательно вызовите меня. — Обещаю, — отозвалась Сюзанна, подумав про себя, однако, что она, может быть, попробует обойтись без помощи медсестры, если будет хорошо себя чувствовать после прогулки. Миссис Бейкер вышла, а Сюзанна все не могла оторвать взгляда от окна, любуясь пейзажем. Спустя некоторое время она с ужасом осознала, что в палате ее задерживает вовсе не красивый вид из окна. Она подсознательно боялась покинуть комнату. Она боялась вновь встретиться с Биллом Ричмондом, с человеком, похожим на Эрнеста Харша. Она боялась, что опять увидит на его лице эту злобную усмешку, опять увидит его мутно-серые глаза, опять он будет подмигивать ей и еще, пожалуй, чего доброго, начнет издевательски интересоваться, как себя чувствует Джерри Штейн. «Черт побери, да это же просто смешно!» — подумала Сюзанна, злясь на саму себя. Она резко выпрямилась в кресле, как бы пытаясь сбросить с себя прокравшийся в душу страх. «Никакой он не Харш. И с призраками не имеет ничего общего, — сурово выговаривала она себе. — Он на тринадцать лет моложе настоящего Харша. Зовут его Ричмонд, Билл Ричмонд. Он родом из Пайн Уэллс и со мною незнаком. Так почему же я, как дура, сижу здесь и дрожу от страха при одной мысли о том, что он может встретиться мне в коридоре. Что со мной?» Она до такой степени застыдила себя, что уже не могла оставаться на месте. Вращая руками колеса, она выкатилась в коридор. К ее большому удивлению, руки начали уставать еще до того, как она покрыла пятую часть расстояния. На перекрестке коридоров боль стала уже невыносимой, и она остановилась, чтобы помассировать мышцы рук и плеч. Она случайно взглянула на свои пальцы и поняла то, что хотела бы забыть, — тонкие прозрачные пальцы явно свидетельствовали о крайней степени истощения ее организма. Собрав волю в кулак, Сюзанна двинулась дальше и свернула в самый длинный коридор больницы. Управление тяжелым креслом-коляской требовало много сил и внимания, и она даже сама удивилась, как ей удалось при этом заметить мужчину, стоявшего возле поста дежурной медсестры. Но она на самом деле сразу его увидела и остановила кресло-коляску. Не в силах сдвинуться с места, она уставилась прямо на него. Потом ей все-таки удалось закрыть глаза, сосчитать до трех и открыть их снова — человек стоял на том же месте, облокотившись на стол, и продолжал болтать с медсестрой. Он был высокого роста, шести футов двух дюймов. Брюнет. Карие глаза. Удлиненное лицо, как будто Господь Бог вытянул глину, чтобы лепить его, да так и бросил работу на полдороге. Широкий лоб, длинный нос со вздернутыми вверх ноздрями и заостренный подбородок. Он был одет в белую пижаму и вишневый халат, то есть как обычный пациент. Но для Сюзанны он был далеко не обычным человеком. Она ожидала, что ей встретится Билл Ричмонд, двойник Харша. Она уже внутренне приготовилась к этой встрече, примирилась с ней. Но такого она не ожидала. Этот человек был Рэнди Ли Куинсом. Еще один из четверки убийц. В шоке, в испуге, не веря своим глазам, она воззрилась на него, моля об одном — только бы он исчез. Пусть он будет лишь игрой ее разгоряченного воображения. Человек, однако, безжалостно оставался таким, каким он был, и никуда не исчезал. Сомнений в реальности происходящего не оставалось. Тогда Сюзанна начала лихорадочно соображать, бежать ли ей обратно или продолжать двигаться вперед. Она еще не успела ничего решить, как человек спокойно повернулся к ней спиной и, не обращая на нее никакого внимания, пошел по коридору. Как вскоре стало ясно, он всего лишь направлялся к себе в палату, которая была пятой по счету от лифта. Сюзанна вдруг поняла, что все это время ее горло сжимал спазм. Она смогла теперь глубоко вздохнуть, и воздух, который она вобрала в себя, показался ей таким же обжигающе-холодным, как воздух февральских вечеров в Хай Сьерра, куда она иногда отправлялась покататься на лыжах. Ей не верилось, что она сможет сдвинуться с места. Ей казалось, что она окаменела, превратилась в ледяную глыбу. Мимо прошла санитарка, ее туфли на резиновой подметке слегка поскрипывали на гладком линолеуме. Этот звук напоминал хлопанье перепончатых крыльев летучих мышей. По коже поползли мурашки. Там, в «Доме Грома», тоже было много летучих мышей. Они притихли, когда в пещере зажгли много ярких свечей. Они нервно заметались, когда четверка парней начала избивать Джерри. Они со свистом рассекали темноту и едва не натыкались на нее, когда она, погасив фонарь, бежала, спасая свою жизнь. Медсестра, с которой только что разговаривал Куинс, обратила на Сюзанну внимание, должно быть, заметив у нее испуг на лице. — С вами все в порядке? Сюзанна выдохнула. Воздух, согретый ее теплом, растопил лед, сковывавший гортань. Она облегченно кивнула медсестре. Поскрипывание мышиных крыльев стало едва слышным, а затем и вовсе пропало в другом конце коридора. Сюзанна подкатила свое кресло поближе к столу дежурной и обратилась к медсестре, брюнетке, имени которой она не знала: — Тот человек, который только что говорил… Медсестра перегнулась через стол, посмотрела на Сюзанну сверху вниз. — Вы имеете в виду парня, который ушел в шестнадцатую палату? — Да, его. — И что? — Мне кажется, я его знаю. Или, вернее, была с ним когда-то знакома. Это было очень давно. — Она нервно посмотрела в ту сторону, куда ушел Куинс. — Но я могла ошибиться, я не хочу подходить к нему с глупыми вопросами. Вы не знаете, как его зовут? — Конечно, знаю. Его зовут Питер Джонсон. Нормальный парень, только очень поговорить любит. Он часто подходит сюда поболтать, из-за него я не успеваю заполнить истории болезни. Сюзанна удивленно заморгала. — Питер Джонсон? Вы уверены? Вы уверены, что его зовут не Рэнди Ли Куинс? Медсестра нахмурилась. — Куинс? Нет, он Питер Джонсон, это точно. Какие могут быть сомнения? Говоря больше сама с собой, чем с медсестрой, Сюзанна зашептала: — Тринадцать лет назад… в Пенсильвании… я знала одного человека, он был похож на этого… — Тринадцать лет назад? — переспросила медсестра. — Ну, тогда точно это был другой. Питеру сейчас не то девятнадцать, не то двадцать лет… Тринадцать лет назад он был ребенком. Сюзанна вздрогнула, мгновенно вспомнив, что в самом деле тот, которого медсестра назвала Питером, был молодым человеком. Он совсем недавно вышел из подросткового возраста. Он выглядел так, как выглядел Рэнди Ли Куинс тринадцать лет назад, но совсем не так, как Куинс, доживший до этого дня. Человек мог настолько хорошо сохраниться только в замороженном виде, больше — никак.* * *
Из обеденного меню на сей раз почти исчезли легкие блюда, зато появилось больше нормальной еды. Сюзанне такое изменение пришлось по вкусу, и вскоре тарелки опустели. Она как можно скорее хотела восстановить силы и выписаться из больницы. Чтобы угодить миссис Бейкер, Сюзанна опустила изголовье кровати, повернулась на бок и притворилась, что спит. Ни о каком сне речи, конечно же, не было. Голова была занята мыслями о Билле Ричмонде и Питере Джонсоне. Целых два двойника? Два абсолютных двойника внезапно объявились в одном и том же месте с интервалом в один день? Это не просто маловероятно, это — невозможно. И все-таки это случилось. Так как оба они находятся здесь, в больнице. Она видела их собственными глазами. Отбросив мысль о двойниках, Сюзанна принялась анализировать другие возможности. Что, если Куинс и Харш попали в больницу одновременно с ней? В этом, по крайней мере, не было ничего сверхъестественного. Или они не были двойниками от природы, а были гениальными подделками под настоящих Харша и Куинса? Нет, такая вероятность ничтожна, не стоит даже терять на это время. Вернемся к первой версии. Предположим, Харш и Куинс в свое время, отбыв наказание, сумели каким-то образом сменить фамилии и получить новые документы. Неудивительно, если эти двое поддерживали связь друг с другом на протяжении всего этого времени, ведь они были когда-то близкими друзьями. Возможно, что они вместе решили приехать сюда, в Орегон. Все эти предположения были вполне логичными. Они могли заболеть и обратиться в больницу примерно в одно и то же время. Это уже совпадение, но вполне допустимое. Но дальше начиналась полная чепуха, которая опрокидывала всю логическую конструкцию. Они не могли так молодо выглядеть! Пусть один из них хорошо сохранился, пусть один был исключением из правил. Но двое?! Нет, такого на свете не бывает. «Итак, что же остается? — спросила она себя. — Версия о двух двойниках? Опять старая теория второго «я»? Если это двойники Харша и Куинса, то почему они появились здесь в одно и то же время? По чистой случайности? Или была какая-то причина для их появления в одном месте в одно и то же время? Какая причина? Им нужна я? Но это же полная чушь, прости, Господи!» Сюзанна открыла глаза и устремила свой взгляд на серое небо за окном. Внезапный озноб заставил ее поглубже зарыться под одеяло. Она пыталась найти другие объяснения случившемуся. Может быть, эти люди вовсе не так сильно похожи на Харша и Куинса, как она думает? Макги ведь говорил, что с годами память на лица у людей тускнеет, стирается. Возможно, он прав. Если взять настоящих Харша и Куинса и поставить рядом с ними Ричмонда и Джонсона, то сходство между ними будет небольшим. Не исключено, что вся эта история с двойниками — не более чем игра ее воображения. Что-то мешало ей остановиться на этой мысли. Эти двое — дети Харша и Куинса? Бред. Не могли же они иметь детей в возрасте тринадцати-четырнадцати лет. Вслед за этой мыслью о родственных корнях удивительного сходства пришла в голову еще одна подобная версия. Не было ли у Харша и Куинса братьев? Она видела семью Харша в зале суда, там были его родители, сестра, никакого брата не было. Что касается Куинса, то она смутно припоминала его брата, присутствовавшего на суде. Сделав над собой усилие, она вспомнила также, что оба Куинса были похожи между собой. Не очень сильно, но похожи. И кроме того, брат Куинса совершенно точно был старше Рэнди. Может быть, был еще один брат? Братья… Мысли путались у нее в голове. Во всяком случае, этот вариант не содержал ничего невозможного. Опять что-то мешало ей остановиться и успокоиться. Оставалась последняя версия — все эти двойники привиделись ей. Возможно, она медленно сходит с ума. У нее начинается бред. Галлюцинации. Из обычных житейских вещей ее болезненное воображение лепит призраков. Нет, об этом даже не хочется думать. Она всегда слишком серьезно относилась к жизни, этого нельзя отрицать. Иногда ей казалось, что ее методичность чрезмерна, что она напрасно выверяет каждый свой шаг. Она даже порой завидовала людям, способным на непредсказуемые, зачастую нелепые или слишком смелые поступки. Позволь она себе чуть больше, будь она чуть раскованней, ей не пришлось бы чувствовать себя обделенной в радостях жизни. Но ничего не поделаешь, она такая — серьезная, сдержанная, деловитая — одним словом, муравей, а вовсе не стрекоза из известной басни. Разве может она сойти с ума? Нет, это невозможно. Итак, головоломку с двойниками ей разгадать не удалось. Много версий, но ни одна из них не удовлетворяет ее. Сюзанна решила на всякий случай не рассказывать о Питере Джонсоне ни миссис Бейкер, ни доктору Макги. Она боялась, что ее… засмеют. Она не могла найти себе места и ворочалась с боку на бок, время от времени поглядывая на мрачное небо за окном. Она подумала о том, как хорошо было бы просто забыть о существовании двойников, выбросить их из памяти. Она не могла понять, какие чувства вызывает в ней эта странная история. Она успела подумать еще о многом… В этот вечер Сюзанна обошлась без посторонней помощи и сама перебралась из кровати в кресло-коляску. Правда, она успела почувствовать в те несколько секунд, когда ее ноги касались пола, как слабы они, из них словно вытащили кости. У нее слегка закружилась голова, и пот выступил на лбу, но она смогла сделать все сама. Миссис Бейкер вошла, когда Сюзанна уже сидела в кресле. Медсестра застыла в изумлении. — Вы сами встали с постели? — Ну да. Я же говорила вам, что я только с виду такая хрупкая. — Но нельзя же так рисковать. — О, ничего страшного. — В самом деле? — Проще простого. — Тогда почему же у вас лоб в испарине? Сюзанна, изобразив удивление, провела рукой по лбу. — Нет, правда, я чувствую себя сейчас воскресшей для новой жизни. — Не пытайтесь меня рассмешить, — напустила на себя строгость миссис Бейкер. — Вы заслуживаете выговора и не рассчитывайте, что ваш поступок останется незамеченным. Вы оказались на редкость упрямой, скажу я вам. — Я? Упрямая? — Сюзанна продолжала изображать непонимание. — Вовсе нет. Я просто знаю себя — это никакое не упрямство. Миссис Бейкер нахмурилась. — Вы на редкость упрямы и непослушны, не спорьте. Подумайте, ведь вы запросто могли упасть на пол. — Но я же не упала. — Вы же могли сломать себе руку или ногу и провалялись бы в больнице еще несколько месяцев. Клянусь, будь вы помоложе, я бы хорошенько отшлепала вас за такие вольности. Сюзанна не могла не расхохотаться. Вслед за ней зашлась смехом и миссис Бейкер. Она прислонилась к спинке кровати, и ее величественные формы заколыхались от неудержимого хохота. Сюзанна уже изнемогла от смеха, но тут ее взгляд встретился с веселыми глазами миссис Бейкер, и она снова расхохоталась. Наконец миссис Бейкер вытерла слезы с глаз и проговорила: — Неужели я могла такое сказать? — Ну так почему бы вам не отшлепать меня в самом деле? — Того и гляди, я из медсестры превращусь в вашу матушку. — Да, медсестры обычно такого себе не позволяют, — согласилась Сюзанна. — Спасибо, что вы так нормально отнеслись к моей реплике. — А я благодарна судьбе, что не оказалась моложе и не подверглась наказанию, — добавила Сюзанна, и они обе снова начали хохотать. Когда через пару минут Сюзанна выехала в коридор на прогулку, она почувствовала, что к ней возвратилась давно покинувшая ее бодрость духа. Безумный взрыв смеха оказал на нее воистину живительное действие. Неожиданный поворот в разговоре с чужим человеком, внезапно сблизивший их, изменил и ее отношение к больнице, еще несколько часов назад казавшейся холодной и враждебной, а сейчас превратившейся в милую и уютную. Руки еще болели от утренней прогулки, но она твердо решила, что проедет по крайней мере один полный круг по коридорам. Возможность встречи с Ричмондом и Джонсоном уже не угнетала ее. Теперь у нее хватит духа, чтобы достойно отреагировать на любую ситуацию. Она даже отчасти хотела этой встречи. В близком разговоре она сможет наконец разобраться, действительно ли они так похожи на ее мучителей из далекого прошлого. Может быть, первое впечатление было обманчивым, и теперь, разглядев их поближе и поговорив с ними, ей удастся избавиться от гнетущего чувства угрозы с их стороны. Несмотря на мрачные откровения Филиппа Марло, ей хотелось верить в благополучный исход странных совпадений. Иной вариант развития событий представлялся ей чересчур мрачным. Сюзанна уже добралась до двери шестнадцатой палаты, а никто из двойников так и не встретился. Она слегка помедлила перед открытой дверью в палату Питера Джонсона, набралась храбрости и двинулась внутрь. В дверях она изобразила на лице безмятежную улыбку. В голове стучали затверженные наизусть слова: «Сегодня утром я увидела вас в коридоре, и вы так напомнили мне моего старого хорошего друга, что я просто не могла не зайти и не переговорить с вами…» Питера Джонсона в палате не было. Палата была двухместной, и человек, занимавший одну из коек, сразу же сказал ей: — Вам нужен Питер? Он на первом этаже, ему делают рентген. Эти врачи не дадут полежать спокойно. — О, — овладела собой Сюзанна. — Тогда я зайду попозже. — Что-нибудь передать Питеру? — Нет, ничего, спасибо. Оказавшись снова в коридоре, она прикинула, не спросить ли ей у медсестры номер палаты Билла Ричмонда,но отказалась от этого намерения, так как вспомнила, что ему сегодня должны были сделать операцию. Когда Сюзанна возвратилась к себе в палату, она застала там миссис Бейкер. Медсестра задергивала полог, целиком закрывавший вторую кровать. — Теперь у вас будет соседка, — пояснила она, повернувшись к Сюзанне. — Слава Богу, — обрадовалась та. — В компании время не будет тянуться так медленно. — К сожалению, — вздохнула миссис Бейкер, — компания у вас будет не очень веселая. Эта больная большую часть времени спит. Она как раз только что получила снотворное. — Как ее зовут? — Джессика Зейферт. — У нее какая-то серьезная болезнь? Миссис Бейкер еще раз вздохнула и утвердительно кивнула головой. — У нее рак, и боюсь, что в последней стадии. — О, прошу прощения. — Не стоит, Джессике все-таки уже семьдесят восемь лет, и, в конце концов, она прожила весьма полноценную жизнь. — Вы знакомы с ней? — Она живет здесь, в Уиллауоке. Кстати, как вы себя чувствуете после прогулки? Не хотите ли сделать пару шагов, чтобы потренировать ноги? — С удовольствием. Медсестра подкатила кресло-коляску к кровати. — Когда встанете на ноги, держитесь правой рукой за ограждение кровати, а левой — за меня. Мы совершим небольшую прогулку вокруг кровати. Первые шаги дались с трудом, зато с каждым следующим шагом у Сюзанны прибавлялось уверенности в себе. Она была пока не готова состязаться с кем-либо в ходьбе, даже со старушками вроде этой Джессики Зейферт, но мышцы ног начинали работать, и это доставляло ей немыслимое прежде наслаждение. Теперь она была уверена, что ей удастся выздороветь гораздо быстрее, чем предрекал Макги. Когда они достигли другой стороны кровати, миссис Бейкер сказала: — А теперь — в постель и отдыхать. — Подождите. Я одну секунду отдохну, а потом мы пройдем на другую сторону. — Не стоит себя переутруждать. — Мне это не будет сложно, вот увидите. — Уверены? — Разве я стала бы вас обманывать? Вы же наверняка отшлепали бы меня за обман. Медсестра улыбнулась. — Правильно делаете, что не забываете. Стоя в промежутке между кроватями, обе они не могли не бросить взгляд на плотно затянутый полог второй кровати, находившейся всего в двух-трех футах от них. — У нее есть семья? — спросила Сюзанна. — Практически нет. Никого из близких. — Как это ужасно, — прошептала Сюзанна. — Что? — Умирать в одиночестве. — Не бойтесь говорить громче, — посоветовала миссис Бейкер. — Она вас не услышит. Кстати, Джессика держится молодцом. Хоть болезнь нанесла чувствительный удар по ее тщеславию. Она сохранила поразительную красоту до самой старости. Но за время болезни она страшно похудела и превратилась в мумию. Она всегда очень гордилась своей внешностью, и теперь ее вид доставляет ей даже больше страданий, чем сама болезнь. У нее масса друзей в городе, но она попросила их, чтобы они не навещали ее в больнице. Ей хочется навсегда остаться для них молодой и красивой. А к себе она допускает только врача и медсестер. Вот почему я задернула полог кровати. Сейчас она спит, но если проснется и увидит, что полог открыт, то страшно рассердится. — Бедняжка, — посочувствовала Сюзанна. — Да уж, — согласилась миссис Бейкер. — Но не переживайте за нее слишком сильно. К сожалению, смертный час наступает для каждого из нас, а для Джессики по сравнению с остальными он наступил довольно поздно. Они не спеша совершили обход вокруг кровати. Сюзанна улеглась в постель и блаженно вытянулась под одеялом. — Проголодались? — спросила миссис Бейкер. — Вы напомнили, и мне сразу захотелось есть. — Отлично. Вам надо набираться сил. Сейчас я принесу что-нибудь поесть. Сюзанна привела изголовье кровати в вертикальное положение. — Как вы думаете, я помешаю Зейферт, если включу телевизор? — Нет, конечно. Даже если она проснется и услышит передачу, она наверняка захочет посмотреть ее вместе с вами. Может быть, хоть это заставит ее покинуть свое укрытие. Миссис Бейкер вышла из палаты. Сюзанна пультом дистанционного управления включила телевизор и стала искать подходящую программу. Она остановилась на канале, по которому только что начали показывать старый фильм «Ребро Адама» с участием Спенсера Трейси и Кэтрин Хепберн. Она уже смотрела раньше этот фильм, но он был одним из тех, которые можно смотреть по нескольку раз, все время открывая для себя что-то новое. Сюзанна отложила пульт дистанционного управления в сторону и, предвкушая удовольствие, устроилась поудобнее. Однако она так и не смогла насладиться первыми кадрами картины. Ее взгляд невольно притягивала кровать, затянутая пологом. Она ощущала странное беспокойство. Полог был такой же, как и на ее кровати. Занавеска двигалась по направляющим на потолке и свешивалась почти до самого пола, оставляя видимыми только ножки кровати с колесиками. На кровати Сюзанны полог завешивали, только когда она переодевалась в пижаму. Несмотря на привычность этой детали больничного интерьера, в ней было что-то пугающее. «Дело не в задернутом пологе, — подумала она. — Так занавешивают кровать, когда больной умирает. Любому станет не по себе». Она уставилась на белоснежный полог. Нет, присутствие смерти вызывает совсем другие чувства. Тут что-то другое. Что-то необъяснимое. Полог висел неподвижно, ни одна складка на нем не шевелилась, он казался нарисованным. Показ фильма прервался рекламным роликом, и Сюзанна полностью убрала звук. Комната сразу погрузилась в звенящую тишину. Полог был по-прежнему неподвижен, ткань его не шелохнулась ни разу. — Миссис Зейферт! — позвала Сюзанна. Ответа не последовало. В палату вошла миссис Бейкер с тарелкой ванильного мороженого, украшенного сверху черникой. — Как вы на это смотрите? — спросила она, ставя тарелку на стол и пододвигая его поближе к кровати. — Великолепно, — сказала Сюзанна, отводя взгляд от полога. — Но, по-моему, я все не осилю. — Ошибаетесь, вы сейчас выздоравливаете, и аппетит у вас улучшается с каждым часом. Вот увидите, через неделю или две у вас будет просто волчий аппетит. — Медсестра поправила волосы и добавила: — Мое дежурство заканчивается. Надо идти домой и приводить себя в порядок. У меня сегодня вечером свидание, если можно назвать свиданием партию в боулинг и ужин с гамбургерами и вином. Но вы бы видели этого молодца, с которым мне предстоит встречаться! Редкий экземпляр. Будь я на тридцать лет моложе, я бы все ради такого бросила. Он всю жизнь проработал столяром. Широченные плечи, а руки, руки! Это надо видеть! Огромные, сильные, заскорузлые, но зато какие нежные! Сюзанна улыбнулась. — Вам, кажется, действительно предстоит запоминающийся вечер. — Да уж, — согласилась медсестра, собираясь уходить. — М-м, прежде чем уходить… Медсестра повернулась к Сюзанне. — Да, милая, что вы хотели? — Не могли бы вы… м-м… взглянуть на миссис Зейферт? Миссис Бейкер была явно озадачена такой просьбой. — Дело в том, — сделав над собой усилие, сказала Сюзанна. — Там так тихо… она не издала ни одного звука… я понимаю, человек спит, но так тихо… вот я и подумала… Миссис Бейкер, не говоря ни слова, направилась прямо ко второй кровати и раздвинула полог. Сюзанна попыталась заглянуть в образовавшийся просвет, но ей ничего не удалось рассмотреть, кроме широкой спины медсестры. Она посмотрела на экран телевизора, на котором беззвучно жестикулировали Трейси и Хепберн. Съела ложку великолепного мороженого, от которого сразу же заныли зубы. Снова повернулась к занавеске на второй кровати. Миссис Бейкер в то же мгновение возникла из-за нее, и опять Сюзанне не удалось ничего увидеть. — Успокойтесь, — сказала миссис Бейкер. — С ней ничего не случилось. Она спит как ребенок. — Ох. — Послушайте, дитя мое, не волнуйтесь по этому поводу. Если миссис Зейферт станет совсем плохо, ее сразу заберут из этой палаты. Она побудет здесь всего несколько дней. Потом ее переведут в палату интенсивной терапии. Там-то, вероятно, она и встретит свой последний час среди всех этих попискивающих приборов. Так что вам не надо беспокоиться, договорились? Сюзанна кивнула в ответ. — Ну вот, вы же умница. А теперь принимайтесь за мороженое. Завтра я снова буду с вами. Тельма Бейкер вышла из палаты, Сюзанна увеличила громкость телевизора, расправилась с мороженым и заставила себя не смотреть в сторону кровати миссис Зейферт. Утомительная прогулка и калорийное мороженое подействовали на нее усыпляюще. Фильм еще продолжался, а она уже погрузилась в сон. Ей снилось, что она присутствует на телевизионном шоу, но зрители в студии были одеты в какие-то странные костюмы. Сама она, словно пациентка, была в пижаме и с марлевой повязкой на голове. Она сообразила, что присутствует на игре под названием «Давайте заключим пари». Ведущий программы Монти Холл стоял рядом с ней. «Итак, Сюзанна, — сказал он своим слащавым голосом, — что вы выбираете — тысячу долларов, которую вы уже выиграли, или суперигру? Вы должны будете делать ставку и получить то, что скрывается за занавеской под номером один». Сюзанна посмотрела на сцену и увидела, что на ней вместо обычных для шоу кабинок с занавесками стояли три кровати с задернутыми пологами. «Я хочу остаться со своей тысячей долларов», — сказала она. Монти Холл не отступал: «О, Сюзанна, все ли вы взвесили? Вы уверены, что приняли единственно правильное решение?» Она стояла на своем: «Я сохраняю свою тысячу, Монти». Монти Холл оглядел аудиторию, сверкая своей белозубой улыбкой. «Так как вы думаете, господа? Должна ли она сохранить эту тысячу долларов, которые в наше тяжелое время инфляция обесценивает с каждой минутой, или она должна поставить их на то, что скрывается за занавеской под номером один?» Зрители заорали во весь голос. «Делаем ставки, делаем ставки!» Сюзанна упрямо качала головой и твердила: «Мне не нужно то, что за занавеской. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Монти Холл — который к этой минуте уже перестал быть похожим на настоящего Монти Холла и напоминал какой-то сатанинский персонаж с густыми высокими бровями, мрачным взглядом и злобно перекошенным ртом — вырвал у нее из рук пачку долларов и произнес: «Вам придется отдернуть занавеску, Сюзанна, так как вы по праву заслужили то, что находится за ней. Вы сейчас получите это, Сюзанна! Занавес! Давайте посмотрим, что скрывается за занавеской под номером один». Занавес, закрывавший первую кровать на сцене, был сдернут, и она увидела двух мужчин, одетых в больничные пижамы, сидящих на краю кровати. Это были Харш и Куинс. Каждый держал в руке скальпель, и яркий свет прожекторов играл на острие отточенных лезвий. Харш и Куинс встали с кровати и, угрожающе выставив вперед скальпели, побежали через сцену к зрителям, туда, где стояла Сюзанна. Зрители ревели от восторга. Мгновение спустя Сюзанна очнулась ото сна, ее разбудил телефонный звонок. Она сняла трубку. — Алло? — Сюзанна? — Да. — Господи, как же я рада была услышать, что вы наконец пришли в сознание. Берт и я чертовски волновались за вас. — Извините. А… я… я не знаю, с кем говорю. — Это же я, Фрэнни. — Фрэнни? — Фрэнни Паскарелли, ваша соседка. — О, Фрэнни, конечно же. Извините меня. Фрэнни помолчала, затем проговорила: — Вы… вы же помните меня, не так ли? — Конечно. Я просто не сразу узнала ваш голос. — Я слышала… у вас была какая-то… амнезия. — К счастью, это уже в прошлом. — Слава Богу. — Как у вас дела, Фрэнни? — Обо мне-то что беспокоиться. Я потихоньку карабкаюсь по жизни, лечу свои болячки. Все у меня нормально, вы же меня знаете. Но, Боже, как с вами-то могло такое случиться? Как вы себя сейчас чувствуете? — Я иду на поправку. — Ваши коллеги по работе рассказывали, что у вас была такая тяжелая кома, что шансов выкарабкаться было совсем мало. Мы так тревожились за вас. Только сегодня позвонил мистер Гомез и сказал, что у вас наступило улучшение. Я так обрадовалась, что за чаем съела кекс, которого мне обычно хватает на неделю. Сюзанна рассмеялась. — Послушайте, — продолжала Фрэнни, — ни в коем случае не волнуйтесь за свой дом или о чем-то в этом роде. Мы обо всем позаботимся. — Спасибо. Какое счастье, что у меня такая соседка, как вы, Фрэнни. Они поговорили еще пару минут о всяких пустяках; Фрэнни пересказала последние сплетни про их соседей по улице. Сюзанна положила трубку и ясно ощутила казавшуюся потерянной навсегда связь со своим прошлым. У нее не было такого ощущения, когда она разговаривала с Филиппом Гомезом, так как она не могла восстановить тогда в памяти лицо своего собеседника. Сейчас же она отчетливо представила себе пухлую Фрэнни Паскарелли, и это сыграло решающую роль. Они с Фрэнни никогда не были близкими подругами, однако простой разговор с соседкой заставил ее поверить в существование иного мира за стенами больницы и, что еще важнее, — поверить в возможность возвращения в этот мир. К этому чувству примешивалась какая-то странная горечь — она вдруг ощутила свое одиночество, оторванность от людей. Доктор Макги совершал вечерний обход больных после ужина. Он был одет, как всегда, в белоснежный халат. Темно-синие брюки с яркой рубашкой под синим же свитером — таков был его туалет на сегодняшний вечер, и каждый мог любоваться им сквозь распахнутые полы халата. Ворот рубашки был также расстегнут, и на груди виднелись завитки густых волос, таких же черных, как у него на голове. Он был так красив и элегантен, словно только что сошел с обложки модного мужского журнала. Он принес Сюзанне подарки — красиво перевязанную коробку шоколада и несколько книг в мягких обложках. — Вам не стоило так беспокоиться, — тихо сказала она, смущенно принимая подарки. — О, это мне не составило никакого труда, мне, наоборот, было приятно чем-то порадовать вас. — Да… спасибо. — Кроме того, для вас это будет замена лекарствам. Сладости помогут вам восстановить вес, а книги отвлекут вас от грустных мыслей. Я не знал, что выбрать из книг, но раз уж вы упомянули однажды Филиппа Марло и Раймонда Чандлера, то я подумал, что вам должны понравиться книги, в которых есть какие-нибудь трудноразрешимые загадки. — О, вы угадали, — призналась Сюзанна. Он придвинул стул поближе к ее кровати, и они проговорили почти двадцать минут о ходе ее тренировок, о ее аппетите, об оставшихся провалах в ее памяти, но больше всего — о ее любимых книгах, фильмах, блюдах. Она не сказала ни слова о Питере Джонсоне, двойнике Куинса, которого Сюзанна встретила сегодня утром. Она боялась, что ее примут за истеричку или вообще за сумасшедшую. Двое абсолютных двойников? Макги наверняка подумает, что у нее не все в порядке с головой. Она не хотела давать ему ни малейшего повода для подозрений в психической неуравновешенности. Сюзанна и сама порой думала, что эти совпадения напрямую связаны с травмой головы. Правда, она слабо в это верила, так как слишком реальны были события, произошедшие с ней за последние дни. Макги уже собирался уходить, когда она остановила его вопросом: — У вас, наверное, совсем не остается свободного времени, вы же столько часов уделяете своим пациентам. — Начнем с того, что на других пациентов я трачу не так уж много времени. С вами — особый случай. — Что, так редко приходится иметь дело с пациентами, страдающими амнезией? Макги улыбнулся. Улыбался не только его рот идеальной формы, улыбались глаза — сверкающие, голубые, источающие радость. — Вы же сами знаете — особенной делает вас вовсе не амнезия. Сюзанна пока не могла разобраться в своих чувствах. То ли он нарочно рассыпает комплименты, чтобы поднять ей настроение, то ли он на самом деле находит ее привлекательной. Но разве может она нравиться в ее нынешнем состоянии? Всякий раз, когда она смотрела на себя в зеркало, в голову лезли сравнения с болотной кикиморой. Вот на кого она похожа. Так что все его заигрывания — это обычная манера поведения врача у постели тяжелого пациента. — Как себя ведет ваша соседка по палате? — заговорщицки тихо спросил Макги. — Тихо, как мышь, — прошептала Сюзанна, покосившись на полог соседней кровати. — Это хорошо. Это значит, что она не испытывает болей. Пожалуй, единственное, чем я могу ей помочь, — это сделать ее последние дни относительно безболезненными. — Разве она ваша пациентка? — Да. Изумительная женщина. Как жаль, что ей досталась такая мучительная смерть. Она заслуживала лучшего исхода. Он подошел к соседней кровати и скрылся за занавеской. И на этот раз Сюзанне не удалось ничего рассмотреть. Из-за полога послышался голос Макги: — Привет, Джесси. Как вы себя сегодня чувствуете? В ответ раздалось едва слышное бормотание, больше похожее на хрип. Оно прозвучало так тихо, что Сюзанна не смогла разобрать ни слова, она даже не была уверена, что слышит человеческий голос. Таким образом, она могла слышать только то, что говорил Макги. Прошло минуты две, наступила пауза. Когда доктор выходил из-за занавески, Сюзанна вовсю вытянула шею, пытаясь увидеть старую леди. Но Макги раздвинул занавеску ровно настолько, чтобы пройти, и сразу же плотно задернул ее за собой. — Она великолепно держится, — сказал он с восхищением и, подмигнув Сюзанне, добавил: — В этом смысле она похожа на вас. — Чепуха, — возразила Сюзанна. — Про меня нельзя сказать, что я великолепно держусь. Вы бы видели меня сегодня утром, когда я, цепляясь за бедную миссис Бейкер, еле-еле обошла один раз кровать и при этом умудрилась несколько раз оступиться, так что едва не свалила нас обеих на пол. — Я имел в виду, что вы великолепно держитесь в смысле силы духа. — Просто я упрямая, вот и все. — Сюзанна смущалась от комплиментов Макги, так как до сих пор не могла разобраться, что он имеет в виду. Может быть, он так выражает свое неравнодушие к ней? Или просто хочет произвести впечатление? Сюзанна сменила тему разговора. — Если вы раздвинете занавеску, миссис Зейферт сможет посмотреть телевизор вместе со мной. — Она сейчас уснула, — пояснил доктор. — Она заснула прямо во время нашего с ней разговора. Я думаю, она проспит до самого утра. — Но она же может проснуться раньше, — не отступала Сюзанна. — Дело в том, что она сама не хочет, чтобы отдергивали полог ее кровати. Она очень щепетильна по поводу своей внешности. — Миссис Бейкер тоже говорила мне об этом. Но я уверена, что со мной она будет чувствовать себя хорошо. Может быть, поначалу ей будет неловко, но я такой человек… я найду с ней общий язык. — Я в этом ни секунды не сомневаюсь, — сказал Макги. — Но я… — Ей же, должно быть, чудовищно тяжело лежать целыми днями в постели. Телевизор развлечет ее, и время для нее не будет течь так мучительно медленно. Макги взял руку Сюзанны в свою. — Сюзанна, я знаю, что вы хотите сделать как лучше, но мне кажется, что мы угодим Джесси, если оставим полог задернутым. Не забывайте, она умирает. Она может не захотеть, чтобы время для нее текло побыстрее. Или она может предпочесть раздумья наедине с собой какой-нибудь очередной серии «Далласа» или «Джефферсонов». Макги старался говорить как можно мягче, но Сюзанне все равно было неловко. Конечно, он прав. Никакая телепередача не развеселит умирающую женщину, которую бросает от страшных болей к забытью, вызванному снотворными. — Не подумайте, что я какая-нибудь бесчувственная, — попросила Сюзанна. — Ну что вы! Я же понимаю вас. Так давайте позволим Джесси спокойно спать и не будем беспокоиться о ней. — Макги сжал ладонь Сюзанны, погладил ее и выпустил из своей руки. — Завтра утром я загляну к вам. Она почувствовала, что он колеблется и не решается наклониться и поцеловать ее в щеку. Он сделал лишь робкую попытку и тут же отпрянул назад, как бы не уверенный в ее реакции. Или, может быть, ей это всего лишь показалось, она не могла понять, что он чувствует по отношению к ней. — Спите спокойно. — Я постараюсь, — пообещала Сюзанна. Он пошел к двери, но на полдороге обернулся и сказал: — Кстати, на утро завтрашнего дня я прописал вам новый вид лечения. — Какой? — Физиотерапию. Это будут различные упражнения, тренировка для ваших мускулов. Для мышц ног в основном. А кроме того, вы поплаваете в бассейне с гидромассажем. После завтрака за вами придет санитар, чтобы помочь добраться до отделения физиотерапии.* * *
Миссис Зейферт не могла есть самостоятельно, поэтому ужином ее кормила медсестра. Но даже эта процедура была скрыта от взгляда Сюзанны плотным занавесом. Сюзанна съела свой ужин и начала читать одну из принесенных книг, это отвлекло ее от мыслей о двойниках Харша и Куинса. После этого она слегка перекусила молоком с печеньем и побрела по стенке в ванную комнату. Затем так же, по стенке, вернулась обратно. Путь назад показался ей вдвое длиннее. Медсестра принесла снотворное, от которого Сюзанна сначала хотела отказаться, но передумала и выпила. Вскоре она заснула мертвым сном… — Сюзанна… Сюзанна… Сюзанна… …от звука этого тихого голоса она проснулась и села в постели. — Сюзанна… Сердце тревожно забилось, так как в голосе этом чувствовалась угроза. От дежурного освещения в палате было темновато, но она могла хорошо разглядеть все углы палаты. Кроме старой леди за пологом соседней кровати, в комнате никого не было. Она притаилась, ожидая снова услышать свое имя. Ночь отвечала тишиной. — Кто здесь? — не выдержала Сюзанна, до боли в глазах всматриваясь в темные углы. Нет ответа. Стряхнув с себя остатки сна, она вдруг сообразила, что голос доносится слева, со стороны занавешенной кровати. И этот голос, несомненно, был мужским. Полог был по-прежнему задернут. Несмотря на полумрак, она отчетливо это видела. Слабый свет от лампы отражался и даже усиливался белой тканью полога так, что, казалось, сам он светится фосфорическим светом. — Здесь кто-то есть? — еще раз спросила она. Молчание. — Миссис Зейферт? Полог не шелохнулся. Все застыло в неподвижности. Светящиеся стрелки часов на ночном столике показывали три часа сорок две минуты. Сюзанна решилась и, протянув руку, щелкнула выключателем лампы, стоявшей на столике рядом с кроватью. Яркий свет ударил в глаза, она постепенно привыкла к нему и оглядела все углы палаты. Полог на кровати Джессики Зейферт при ярком свете уже не был таким таинственным. Она выключила лампу. Тени вновь нырнули в свои гнезда, а гнезда у них были повсюду, в каждом углу. Вероятно, это был сон, подумала она. Просто какой-то голос позвал меня во сне. С другой стороны, Сюзанна была совершенно уверена, что именно сегодня она спала крепко, без всяких сновидений. Она нащупала рукой кнопку и привела изголовье кровати в полусидячее положение. Она вслушивалась в ночь и ждала. Вряд ли ей удастся снова заснуть. Странный голос вновь напомнил ей о двойниках Харша и Куинса, а это означало для нее бессонницу. Однако она ошиблась в своих предположениях. Снотворное снова подействовало, и она задремала.Глава 6
Весь вчерашний день в небе собиралась гроза. Небо в лохматых тучах было как побитая собака. Утром во вторник гроза началась без предупреждения. Первый удар грома был так силен, что, казалось, встряхнул всю больницу. Грянул ливень. В небе с треском прорвался огромный тент, и вода с него с урчанием ринулась вниз. Сюзанна грозы не видела, так как полог над соседней кроватью загораживал от нее окно. Она только слышала гром и замечала всполохи молний. Да еще барабанную дробь дождя по оконному стеклу. На завтрак ей полагалась каша, хлебцы, сок и сладкая трубочка с кремом. Затем она совершила прогулку в ванную комнату. Это упражнение отняло у нее меньше сил, чем вчерашнее путешествие вдоль стенки. После этого она устроилась в кровати и принялась за книгу. Ей удалось прочесть всего несколько страниц до того, как в палату вошли два санитара с каталкой. Один из них еще с порога объявил: — Мы пришли, чтобы помочь вам добраться до отделения физиотерапии, мисс Тортон. Она отложила книгу в сторону, взглянула на них — и почувствовала, как холодный февральский ветер разрывает ей легкие. Оба санитара были одеты в белые больничные халаты, а на нагрудных карманах у них имелись нашивки с надписью «БОЛЬНИЦА ОКРУГА УИЛЛАУОК», но они были кем угодно, но только не санитарами. Нет, они решительно были из какого-то другого мира, в этом не было сомнений. Первый, тот, кто заговорил с порога, был ростом пяти футов семи дюймов, полноватый, с немытыми светлыми волосами, круглым лицом, короткой шеей, приплюснутым носом и маленькими свинячьими глазками, бегающими из стороны в сторону. Второй был повыше, около шести футов, с рыжими волосами и карими глазами. Правильные линии его лица слегка портили веснушки, он не был красавцем, но его открытое лицо с мягкими чертами все же обладало какой-то притягательной силой. Судя по всему, предки его были из Ирландии. Толстяк был не кто иной, как Карл Джеллико. Рыжий был Гербертом Паркером. Это были те самые люди, которые составили компанию Харшу и Куинсу в их зверстве в «Доме Грома». Немыслимо. Откуда здесь эти исчадия ада? Она же всегда считала, что их можно увидеть только в кошмарном сне. Но сейчас она видела их наяву. Они были явью, они были в двух шагах от нее. — Гроза-то какая сильная, — полез в разговор Джеллико, когда раздался очередной раскат грома. Паркер подкатил каталку и установил ее параллельно кровати. Оба санитара изображали на лице улыбку. Сюзанна сообразила, что оба злодея очень молодо выглядят — им лет по двадцать, не больше. Как и предыдущие двое, эти на удивление хорошо сохранились за прошедшие тринадцать лет. Еще два двойника? В одном и том же месте, в одно и то же время? И оба санитары в окружной больнице Уиллауока? Нет. Это просто смешно. Невероятно. Такого совпадения просто не может быть ни при каких обстоятельствах. Они могут быть только настоящими Джеллико и Паркером, ни о каких абсолютных двойниках и речи не может быть. Но в то же мгновение с ужасающей ясностью Сюзанна вспомнила, что оба, Паркер и Джеллико, погибли. Черт возьми, они же мертвы. И все же они здесь и улыбаются прямо ей в лицо. Она сошла с ума. — Нет! — закричала Сюзанна, отпрянув от санитаров, забиваясь от них в другой угол кровати, прижимаясь к боковому ограждению из металла, который прожег ее холодом даже сквозь пижаму. — Нет! Я не пойду с вами! Я не пойду! Джеллико изобразил на своем лице удивление. Прикидываясь, что он не замечает ее ужаса, он покосился на Паркера и сказал: — Разве мы что-то перепутали? Насколько я понимаю, мы должны были помочь мисс Тортон из пятьдесят восьмой палаты на третьем этаже. Правильно? Паркер достал из кармана скомканный листок бумаги, расправил его и прочитал. — Все верно. Тортон из пятьдесят восьмой. Сюзанна не могла точно сказать, узнала ли она голоса Паркера и Джеллико. В первый раз она увидела их уже в пещере, в ту ночь, когда убили Джерри Штейна. В суде Джеллико вообще не сказал ни слова, так как воспользовался своим правом отказаться от показаний, с тем чтобы они не были использованы против него. Паркер выступал в суде, но его речь была не слишком большой. Она и не могла узнать голос Карла Джеллико. Но когда заговорил Паркер, читая написанное на листочке, Сюзанна вздрогнула от неожиданности, услышав бостонский акцент, которого не слышала очень давно. Он был вылитый Паркер. Он говорил голосом Паркера. Кем же он мог еще быть, если не Паркером? Но Герберт Паркер умер. Он похоронен, и тело его уже превратилось в прах на каком-то из кладбищ! Оба санитара как-то странно смотрели на нее. Она хотела взглянуть на столик у кровати, чтобы присмотреть себе хоть какое-нибудь оружие для защиты, но боялась отвести от злодеев глаза. Джеллико заговорил: — Разве ваш доктор не сказал вам, что сегодня вы пойдете на первый этаж в отделение физиотерапии? — Убирайтесь отсюда! — закричала Сюзанна. — Уходите немедленно! Санитары переглянулись. Сразу целая серия молний пронзила невидимое ей небо, и свет от них расцветил загадочным узором стену напротив ее кровати. Необычное освещение преобразило лицо Карла Джеллико, глаза его провалились в глазные впадины и засияли оттуда каким-то сверхъестественным светом. Обращаясь к Сюзанне, Паркер проговорил: — Эй, послушайте, вам не о чем беспокоиться. Это всего лишь лечебная гимнастика. Вам не будет больно, уверяю вас. — Да-да, — затараторил Джеллико. Теперь, при обычном свете, его лицо вновь приобрело поросячье выражение и вдобавок расплылось в широкой улыбке. — Вам понравится физиотерапия, мисс Тортон. — Он приблизился к кровати и начал опускать боковое ограждение. — Особенно вам понравится наш бассейн с гидромассажем. — Я же сказала, убирайтесь! — завизжала Сюзанна. — Вон! Вон, черт бы вас побрал! Джеллико вздрогнул и отступил от кровати. Сюзанну трясло. Сердце билось как в лихорадке. Если она согласится перебраться на каталку и они увезут ее вниз, она больше не вернется обратно. Это будет конец. Она поняла, что ей угрожает. Она поняла. — Я вам глаза выцарапаю, если вы попытаетесь забрать меня отсюда, — стараясь подавить дрожь в голосе, бушевала Сюзанна. — Я вам это обещаю. Джеллико посмотрел на Паркера. — Мне кажется, лучше позвать медсестру. Паркер выскочил из палаты. Свет в больнице на мгновение погас, и какое-то время палату озарял лишь погребальный отблеск серого утра. Затем снова дали электричество. Джеллико впился своими поросячьими, близко посаженными глазками в Сюзанну и опять изобразил на своем лице улыбку, от которой кровь стыла в жилах. — Ну-ну, успокойтесь. Расслабьтесь, мисс, не волнуйтесь. Сделайте милость. — Прочь от меня! — Никто и не собирается подходить к вам. Так что можете быть спокойны, — говорил он мягким, тягучим голосом, сопровождая его неумелыми театральными жестами. — Никто вас здесь не обидит. Мы все здесь ваши друзья. — Черт бы вас побрал, вы что, принимаете меня за сумасшедшую? — продолжала кричать Сюзанна. Она была и напугана, и взбешена одновременно. — Вы прекрасно знаете, что с головой у меня все в порядке. Вы же прекрасно понимаете, что здесь происходит. Это я никак не могу понять, но вы-то, вы… Он уставился на нее, не говоря ни слова. Но в его глазах была явная насмешка, а в уголках нелепо разъехавшегося рта затаилось ехидство. — Прочь! — орала Сюзанна. — Отойдите от моей кровати! Немедленно! Джеллико попятился к двери, но из палаты не вышел. У Сюзанны так сильно стучало в ушах, что она даже перестала воспринимать громкий шум дождя на улице. Горло пересохло, и каждый вдох давался ей с трудом. Джеллико издали наблюдал за ней. «Этого просто не может быть, — лихорадочно убеждала она себя. — Я же разумное существо. Я не верю в чудесные совпадения, я никогда не верила в сверхъестественное. Призраков не существует. Мертвецы не могут вставать из могил. Не могут!» Джеллико продолжал наблюдать за ней. Сюзанна проклинала свое слабое изможденное тело. Даже если у нее появится возможность убежать, она не сможет сделать больше двух шагов. А если ей придется бороться с ними за свою жизнь, то долго она не протянет. Наконец появился Паркер с медсестрой — строгой блондинкой, которую Сюзанна прежде не видела. — Что здесь происходит? — спросила медсестра. — Мисс Тортон, чего вы так испугались? — Этих людей, — объяснила Сюзанна. — По какой причине? — уточнила медсестра, подходя ближе к кровати. — Они угрожают мне, — прошептала Сюзанна. — Да нет же, они просто хотят помочь вам добраться до отделения физиотерапии на первом этаже, — пыталась успокоить ее медсестра. Она уже стояла рядом с кроватью, с той стороны, где Джеллико опустил ограждение. — Вы не понимаете, — взмолилась Сюзанна, ломая голову над тем, как объяснить этой женщине ситуацию, не превращая себя в посмешище или сумасшедшую. — Она грозилась выцарапать нам глаза, — подал голос стоявший в дверях Паркер. Джеллико стал пробираться поближе к кровати, вот он уже совсем рядом. — На место, прочь отсюда, негодяй! — закричала Сюзанна, едва ли не брызжа в него слюной. Джеллико не испугался. Тогда Сюзанна обратилась к медсестре: — Скажите ему, чтобы он отошел. К сожалению, я не могу вам всего объяснить. Но у меня есть серьезные причины опасаться этих людей. Скажите ему! — Ну, вам совершенно нечего бояться, — проговорила медсестра. — Мы все здесь ваши друзья, — подпевал ей Джеллико. — Сюзанна, вы понимаете, где вы сейчас находитесь? — спросила медсестра голосом, которым разговаривают с маленькими детьми, старыми маразматиками и умственно неполноценными. В отчаянии, кипя от злости, Сюзанна набросилась на медсестру: — Да, черт бы вас побрал, я понимаю, где я. Я в больнице округа Уиллауок. У меня травма головы, я три недели пролежала без сознания. Но я не сошла с ума. У меня нет бреда, я не истеричка! А эти люди… — Сюзанна, могу ли я попросить вас об одном одолжении? — продолжала медсестра, сохраняя в голосе намеренно ровный успокаивающий тон. — Не могли бы вы не кричать? Не могли бы вы говорить чуть тише? Если вы не будете повышать голос и переведете дух, уверяю вас, вы сразу успокоитесь. Все получается хорошо, только когда мы спокойны и ладим друг с другом, тогда, когда мы вежливы друг с другом. — Боже! — застонала Сюзанна, замученная нравоучениями. — Сюзанна, я хотела бы предложить вам вот это, — сказала медсестра, поднимая руку, в которой у нее был смоченный спиртом тампон и шприц, наполненный жидкостью янтарного цвета. — Нет, — замотала головой Сюзанна. — Это поможет вам расслабиться. — Нет. — Разве вы не хотите успокоиться? — Я не хочу впадать в бессознательное состояние. — Я не сделаю вам больно, Сюзанна. — Отстаньте от меня. Медсестра наклонилась к ней со шприцем в руке. Сюзанна схватила книгу, которую читала, и бросила ее в лицо медсестре. Медсестра отскочила назад, книга пролетела мимо. Она обернулась к Джеллико: — Вы можете мне помочь? — Конечно, — сказал тот. — Не приближайтесь ко мне, — предупредила Сюзанна. Джеллико начал обходить кровать с другой стороны. Сюзанна изловчилась, схватила со столика стакан и запустила им в голову Джеллико. Она промахнулась, и стакан со звоном разлетелся, ударившись о стену. Сюзанна огляделась вокруг, ища какой-нибудь предмет для защиты. Джеллико не терял времени. Она даже не успела вцепиться в него, как он, опередив ее, сжал ей запястья. Он оказался сильнее, чем можно было ожидать. Она, пожалуй, не смогла бы освободиться от его зажима, даже если была бы здорова. — Не надо сопротивляться, — уговаривала ее медсестра. — Мы все здесь ваши друзья, — нудно твердил Джеллико. Сюзанна попыталась вырваться, но Джеллико только сильнее прижал ее руки к матрацу. Она была совершенно беспомощна. Руки ее были прикованы к постели. Медсестра задрала рукав пижамы. Сюзанна брыкалась и звала на помощь. — Держите ее крепче, — попросила медсестра. — Не так это просто, — вздохнул Джеллико. — С ней сам черт не справится. Тут он не ошибся. Сюзанна и сама удивлялась, откуда у нее берутся силы. Должно быть, отчаяние добавило ей энергии. Медсестра сказала: — Хорошо, что она напряглась, я вижу, где у нее вены. Вон как они взбухли. Сюзанна заскрежетала зубами. Медсестра поспешно провела по руке влажным тампоном. Сюзанна поняла, что ей уже ничего не поможет, и застонала. За окном раздалась целая серия громовых раскатов. Свет в палате замигал. — Сюзанна, если вы не будете лежать ровно, я могу сломать иглу. Вы же не хотите этого, правда? Сюзанна не послушалась. Она изворачивалась как могла, пытаясь вырвать руки из-под пресса Джеллико. В этот момент послышался знакомый голос: — Боже мой, что здесь происходит? Что вы с ней делаете? Медсестра-блондинка отдернула шприц, уже готовый вонзиться в кожу Сюзанны. Джеллико обернулся на голос и слегка разжал руки. Сюзанна напрягла последние силы, чтобы подняться с постели. Возле кровати стояла миссис Бейкер. — У нее истерика, — объяснила медсестра-блондинка. — Она совсем разбушевалась, — добавил Джеллико. — Разбушевалась? — переспросила миссис Бейкер, выражая всем своим видом недоверие. Она посмотрела на Сюзанну. — Милая моя, что случилось? Сюзанна взглянула на Карла Джеллико, еще продолжавшего удерживать ее запястья. Он буквально впился в нее глазами. К тому же он посильнее сжал ее запястья, и она вдруг только сейчас осознала, что его руки были теплыми, а вовсе не холодными, как у трупа. Она перевела взгляд на миссис Бейкер и сказала спокойным голосом: — Вы помните, что случилось со мной тринадцать лет назад? Я вчера рассказывала об этом вам и доктору Макги. — Да, — подтвердила миссис Бейкер, медленно водружая на переносицу очки. — Конечно, я помню. Это ужасная история. — Так вот, мне опять приснился кошмарный сон про тот случай. — Значит, виной всему этот кошмарный сон? — Ну да, — солгала Сюзанна. Ей очень важно было любым путем заставить санитаров и медсестру-блондинку выйти из палаты. Если они уйдут, возможно, ей удастся объяснить все миссис Бейкер. Начни она сейчас, Тельма Бейкер, пожалуй, согласится с диагнозом второй медсестры — истерия. — Отпустите ее, — скомандовала миссис Бейкер. — Я сама с ней разберусь. — Она словно с цепи сорвалась, — оправдывался Джеллико. — Просто ей приснился кошмарный сон, — сказала миссис Бейкер. — Сейчас она окончательно очнулась. Отпустите ее. — Но, Тельма, — возразила блондинка, — мне что-то не показалось, что она спала, когда швыряла мне в лицо вот эту книгу. — Ей так не повезло, бедняжке. — Миссис Бейкер, подходя поближе к изголовью кровати, вежливо отстраняла медсестру-блондинку. — А теперь все уходите. Уходите же. Сюзанна и я поговорим и все уладим. — На мой взгляд… — начала опять блондинка. — Милли, — твердо прервала ее миссис Бейкер, — вы знаете, как я уважаю ваши взгляды. Но здесь особый случай. Я справлюсь сама. Я уверена в этом. Джеллико неохотно высвободил запястья Сюзанны. Сюзанна с облегчением вздохнула, затем села в кровати. Она помассировала сначала одну руку, потом другую. Она до сих пор чувствовала боль в тех местах, где ее запястья сжимал Джеллико. Оба санитара удалились из палаты, захватив с собой каталку. Медсестра-блондинка какое-то время колебалась, покусывая свою тонкую нижнюю губу, но затем и она удалилась с тампоном в одной руке и шприцем в другой. Миссис Бейкер обошла кровать вокруг, стараясь не наступить на осколки разбитого стакана, заглянула под полог миссис Зейферт, затем вернулась к Сюзанне и сказала: — Старушка даже не проснулась от всей этой суматохи. Она достала из стола другой стакан и наполнила его водой из металлического кувшина. — Я так вам благодарна, — произнесла Сюзанна, принимая из ее рук воду. Она жадно выпила весь стакан. Горло от крика пересохло и нещадно саднило. От воды ей стало легче. — Налить еще? — Нет, спасибо, — поблагодарила Сюзанна, поставив стакан на столик у кровати. — А теперь, — попросила миссис Бейкер, — объясните же мне, ради Бога, что здесь произошло? У Сюзанны чувство облегчения сменилось тревогой и ужасом, так как она внезапно поняла, что кошмар еще не кончился. Пожалуй, он только начинался.Часть II. ЗАНАВЕС РАЗДВИГАЕТСЯ…
Глава 7
Гроза уже отодвинулась за горизонт, однако дождь продолжался, с неба низвергались нескончаемые потоки воды, и день был промозглым и серым. Сюзанна сидела, нахохлившись, в кровати и чувствовала себя изможденной и с каждой минутой уменьшающейся в размерах, словно дождь, не касаясь ее, смывал и смывал частички ее естества. Джеффри Макги стоял у кровати, руки в карманах. — Итак, теперь вы утверждаете, что уже трое двойников тех людей появились здесь? — Четверо. — Что? — Я не рассказала еще об одном, я видела его вчера. — И это, судя по всему… Куинс? — Да. — Вы видели его? Или кого-то, кто очень на него похож? — Я заметила его в коридоре, когда совершала прогулку в кресле-коляске. Он пациент этой больницы, так же как и Харш. Лежит в шестнадцатой палате. Зовут его вроде бы Питер Джонсон. — Сюзанна нехотя добавила: — Внешне он выглядит так, как будто ему девятнадцать лет. Макги изучающе посмотрел на нее, не произнося ни слова. Сюзанна боялась встретиться взглядом с его глазами, несмотря на то, что Макги пока не высказал никакого осуждения. Чувствовалось тем не менее, что ему стоит немалого труда поверить в правдивость ее слов. Все это было настолько нелепо и немыслимо, что ее рациональное мышление восставало даже против самого рассказа о событиях, произошедших в эти дни. Она сидела и изучала свои лежащие на коленях руки. Макги продолжал: — Именно в таком возрасте находился Рэнди Ли Куинс, когда он помогал Харшу убивать Джерри Штейна? Ему ведь было тогда девятнадцать лет? — Да. Он был самым молодым из четверки. «Я понимаю, о чем вы сейчас размышляете, — подумала Сюзанна. — Вы размышляете о моей травме, о коме, в которой я так долго находилась, о том, что мой мозг, вероятно, поврежден, хотя этого не показало рентгеновское обследование. Достаточно лопнуть маленькому сосуду, и работа мозга уже нарушена. И возможно, по удивительному стечению обстоятельств поврежден именно тот крохотный участок мозга, где хранилась память о трагических событиях в «Доме Грома». Вы размышляете сейчас о том, возможна ли такая реакция на травму — галлюцинации именно на тему этих событий? Неужели все эти кошмары наяву — следствие кровоизлияния? Я вижу в двух санитарах людей из моего прошлого, притом они совсем не похожи на них. Возможно ли такое объяснение? Да. Но возможны ведь и другиеверсии. И так все время. Меня бросает из стороны в сторону. Возможно, они не двойники. Возможно, они — настоящие, все эти Харши, Куинсы, Джеллико и Паркеры. Я просто теряюсь. Боже, помоги мне! Я не понимаю, что со мной, поэтому, дорогой Макги, я не могу сердиться на вас за ваши сомнения». — Итак, мы имеем всех четырех, — задумчиво произнес доктор, — все четыре абсолютных двойника оказались в одной больнице. — Ну… я не могу сказать точно… — Но вы же мне сами только что рассказали… — Я имею в виду, что все эти люди выглядят так же, как и те, которые убили Джерри. Но я не могу точно утверждать, ограничивается ли их сходство только внешними признаками или… — Да, продолжайте. — Или здесь что-то другое… — А именно? — Что касается Паркера и Джеллико… — Продолжайте, — взмолился Макги. Сюзанна просто не могла заставить себя рассуждать вслух на тему о призраках. Однако факт остается фактом. Погибший много лет назад Карл Джеллико налетел на нее и прижал ей руки к матрацу. В обычной жизни такого не бывает. Но сейчас ей казалось совершенно неуместным говорить о мертвецах, возвращающихся из могил, чтобы отомстить живым. — Сюзанна? Она наконец осмелилась поднять на него глаза. — Продолжайте, — опять попросил Макги. — Если два санитара не двойники Паркера и Джеллико, а кто-то еще, как вы выразились, то объясните, что вы имеете в виду. Сюзанна медленно начала отвечать: — О Боже, я просто ничего не понимаю. Я не знаю, как вам объяснить, я не могу это толком объяснить даже самой себе. У меня в голове все путается. О чем мне рассказать? О том, что я видела собственными глазами? Или о том, что мне показалось? — Послушайте, я не хочу вас мучить, Сюзанна, — быстро проговорил Макги. — Я знаю, как тяжело вам вспоминать все, что связано с этой историей. Она увидела по его глазам, как он искренне сочувствует ей, и мгновенно отвернулась. Она терпеть не могла, когда ее жалели, особенно она не хотела быть объектом жалости для Макги. Она и думать об этом не хотела. Доктор молчал, в задумчивости потупив глаза. Сюзанна незаметно вытерла свои вспотевшие ладони о простыни и откинулась на подушки. Закрыла глаза. За окном барабанный бой дождя превратил весь Уиллауок в площадь для проведения парадов. Макги заговорил: — У меня есть одно предложение. — Я готова его выслушать. — Но вам оно может не понравиться. Сюзанна открыла глаза. — Давайте попытаемся. — Я предлагаю привести сюда Брэдли и О'Хару. Прямо сейчас. — То есть Джеллико и Паркера? — Но их зовут Брэдли и О'Хара. — Да-да, миссис Бейкер говорила мне об этом. — С вашего разрешения я приглашу их сюда. Я попрошу каждого из них рассказать немножко о себе: где они родились и выросли, в какую школу ходили, каким образом попали на работу в эту больницу. Затем вы зададите им любые вопросы, все, что захотите. Возможно, после этого разговора, после знакомства с ними… — Вы хотите сказать, что после этого они уже не будут напоминать мне настоящих Паркера и Джеллико? — закончила Сюзанна мысль доктора. Макги приблизился и положил ладонь ей на плечо, таким образом, у нее не было другого выхода, кроме как смотреть ему в глаза и видеть в них жалость. — Разве это не шанс для вас, узнав их получше, избавиться от своих страхов? — О да, — кивнула Сюзанна. — Это даже не шанс или возможность, это единственный выход. Судя по всему, такой ответ поразил доктора, вероятно, он ожидал от нее скорее эмоциональной реакции. Сюзанна добавила: — Я и вправду считаю, что все эти загадочные появления двойников скорее всего связаны с моим психическим состоянием. Может быть, это следствие автокатастрофы, а может быть, трехнедельной комы. Макги рассмеялся, теперь он попал впросак. — Я и забыл, что вы — ученый. — Да-да, и это означает, что со мной вовсе не обязательно нянчиться, доктор Макги. Доктор, так быстро найдя понимание у Сюзанны, не скрывал своей радости, он даже захлопал в ладоши, после чего уселся на край кровати. Эта непосредственность только добавила ему молодости и очарования в глазах Сюзанны. — Знаете, — признался он. — Я же собирался вам мягко дать понять, что все эти двойники — всего лишь плод вашего воображения, а тут вы мне сами это говорите. Так что я могу смело отбрасывать один из мрачных диагнозов — у вас все в порядке с психикой и вы не бредите вслух о воображаемых призраках. Да-да, все в порядке, и вы восхитительны! — Зато расстройство какой-то функции мозга мне гарантировано, — с мрачной иронией сказала Сюзанна. Макги вздохнул: — Ну послушайте, это же совсем не смертельно. Это ни в коем случае не обширное кровоизлияние. С таким диагнозом люди сразу впадают в маразм. У вас просто небольшая дисфункция, такая крошечная, что ее не заметил даже наш томограф во время обследования. Какая-нибудь ерунда, мы это быстро восстановим. Сюзанна покорно кивнула. — Но вы и сейчас боитесь Брэдли, О'Хару и тех двоих? — спросил Макги. — Да. — Даже теперь, когда вы понимаете, что все это скорее всего плод вашего воображения? — Это «скорее всего» меня и беспокоит. — А если я нахально скажу, что все это однозначно связано лишь с небольшой дисфункцией мозга? — Я надеюсь, что вы окажетесь правы. — Но вы продолжаете их опасаться? — Да, очень. — Выздоровление пошло бы быстрее, если бы вам удалось избавиться от стрессов и депрессий, — нахмурившись, проговорил доктор. — Но у меня остается надежда. Не зря же мое «среднее» имя — Полианна[12]. — Вот и чудесно, пусть ваш добрый дух будет с вами. «Так-то оно так, — подумала про себя Сюзанна, — но я-то в душе знаю, что никакая дисфункция или психическая травма тут ни при чем. Я просто не приму таких объяснений. Мой разум их, может, и примет, но сердцем я чувствую, что дело совсем в другом. Предложенное Макги объяснение на самом деле ничего не объясняет — ведь все четыре двойника существуют не в моем воображении, они реально существуют и при этом чего-то хотят от меня. Возможно, моей жизни». Она провела рукой по лицу, словно пытаясь снять с себя паутину тревожных мыслей, и сказала: — Ну что ж… давайте покончим с этим делом. Приглашайте сюда Джеллико и Паркера, и посмотрим. — Их зовут Брэдли и О'Хара. — Да-да, я про них говорю. — Послушайте, если вы будет думать о них как о Джеллико и Паркере, тогда они и впрямь будут казаться вам Джеллико и Паркером. Вы будете сами путаться в своих мыслях. Думайте о них как о Брэдли и об О'Харе, это поможет вам, вы будете воспринимать их такими, какие они есть. — О'кей. Буду думать о них так, как вы сказали, но если они опять будут выглядеть точно так же, как Джеллико и Паркер, мне, наверное, придется лечиться у изгонителя злых духов, а не у врача-невропатолога. Макги рассмеялся. Сюзанне было не до смеху.* * *
…Макги, прежде чем привести Брэдли и О'Хару в палату к Сюзанне, вкратце объяснил им ситуацию. Они появились у ее кровати с выражением сочувствия на лицах и явным желанием помочь. Сюзанна, в свою очередь, старалась ничем не выдать свою обеспокоенность их присутствием. У нее дрожали поджилки и бешено колотилось сердце, но она изобразила на лице улыбку и старалась казаться совершенно спокойной. Она хотела дать возможность Макги показать ей, что эти два человека при ближайшем рассмотрении — всего лишь обычные и совершенно невинные молодые люди, не замышляющие ничего дурного. Макги стоял сбоку от кровати. Он опирался на металлическое ограждение и время от времени легко касался рукой ее плеча, показывая тем самым, что ей нечего бояться. Санитары стояли напротив кровати. Сначала они чувствовали себя скованно, как школьники перед строгим учителем, но постепенно их скованность прошла. Первым рассказывал Дэннис Брэдли. Именно он прижимал ее запястья к кровати, когда медсестра готовилась сделать ей укол. — Прежде всего, — начал он, — я хотел бы извиниться перед вами за мою непреднамеренную грубость. Поверьте, я не хотел причинить вам боль. Я же тоже был напуган, вы понимаете. — Он неловко переступил с ноги на ногу. — Я хотел сказать, что, исходя из ваших слов… вы понимаете… про то, что вы… ну, в общем, что вы собирались сделать с нашими глазами… — Я вас прощаю, — проговорила Сюзанна, хотя она до сих пор помнила его грубую хватку, его пальцы, до боли впившиеся в ее запястья. — Я сама была напугана. Я думаю, мне тоже нужно просить у вас прощения, у вас обоих. По просьбе Макги Брэдли перешел к рассказу о себе. Он родился в Тусоне, штат Аризона, двадцать лет назад, в июле. В возрасте девяти лет он переехал вместе с родителями в город Портленд, штат Орегон. Братьев у него нет, есть только старшая сестра. Он учился два года в колледже и посещал курсы по подготовке санитаров. Год назад он пришел на работу в эту больницу. Брэдли ответил на вопросы Сюзанны. Он всем своим видом выражал готовность оказать всяческую помощь. То же самое можно было сказать о рыжем Патрике О'Харе. Родился и вырос он, правда, в другом городе, в Бостоне. Из семьи ирландских католиков. Нет, он никогда не встречал человека, которого зовут Герберт Паркер. Среди его знакомых в Бостоне не было ни одного Паркера. У него действительно есть старший брат, но между ними почти нет сходства. Он сам никогда не учился в колледже Брайерстеда и никогда не слышал о существовании этого учебного заведения. На Западное побережье он переселился три года назад, тогда ему было восемнадцать лет. В больнице города Уиллауок он работает один год и пять месяцев. Сюзанне ничего не оставалось, как признать, что Дэннис Брэдли и Патрик О'Хара настроены по отношению к ней очень дружелюбно. Теперь, когда она получила представление об их биографиях, было бы нелепо считать их своими врагами. Ни тот, ни другой не лгали, это было очевидно. Ни тот, ни другой явно не пытались что-то скрыть. Несмотря на это, в ее глазах Брэдли представал точным воплощением Карла Джеллико. Они были похожи как две капли воды. О'Хара продолжал оставаться точной копией Герберта Паркера. При этом у Сюзанны было ощущение, не подтверждаемое никакими их словами или поступками, что эти люди выдают себя за других. Она чувствовала: они лгут, они что-то скрывают. Интуитивно, вопреки всем весомым доказательствам, она ощущала, что все эти рассказы были всего лишь умело разыгранным спектаклем. «Наверное, я просто страдаю тяжелой формой паранойи, наверное, мозги у меня набекрень», — мрачно решила Сюзанна. Санитары покинули палату, и Макги сразу поинтересовался: — Ну как? — Ничего не получается. Я все время пыталась думать о них как о Брэдли и об О'Харе, но они все равно похожи как две капли воды на Джеллико и Паркера. — Но вы же понимаете, что это обстоятельство ни в коей мере не влияет на нашу теорию о том, что у вас нарушены функции мозга в результате автокатастрофы. — Я понимаю. — Тогда так — завтра же начнем новую серию обследований, а для начала повторим рентген. Сюзанна покорно кивнула. Макги вздохнул. — Как жаль. А я-то надеялся, что разговор с Брэдли и О'Харой поможет вам успокоиться и избавит от чувства тревоги по крайней мере до того момента, когда мы сможем устранить причину вашего недуга. — Да что вы! Я как боялась их, так и боюсь — до чертиков. — Вот это совсем не дело. Вам надо поправляться, а для этого нужна спокойная обстановка. Но вас ведь не переубедишь логическими доводами? — Угадали. Разумом я целиком и полностью принимаю ваши объяснения. Но интуитивно, на подсознательном уровне, я не могу избавиться от чувства, что эта четверка явилась сюда, чтобы… отомстить мне. Сюзанне вдруг стало страшно холодно. Она поплотнее закуталась в одеяло. — Давайте порассуждаем, — сказал Макги, решив все-таки сделать попытку убедить Сюзанну. — Да, я согласен, вы можете подозревать в чем-то Ричмонда и Джонсона. Вероятность, пусть ничтожно малая, в их случае существует, они могут иметь какое-то отношение к истории тринадцатилетней давности. — О доктор, не забывайте, что мне для выздоровления нужны покой и положительные эмоции. — Я закончу свою мысль. Так вот, в отличие от первых двух, вам не в чем подозревать Брэдли и О'Хару. Они никак не могут быть Джеллико и Паркером по той простой причине, что Джеллико и Паркер умерли. — Да, я понимаю. Они действительно умерли. — Но тогда Брэдли и О'Хара не должны вызывать у вас подозрений! — Нет, это не так. — Пошли дальше. Брэдли и О'Хара никак не могут участвовать в заговоре против вас. Они появились здесь давно, еще до того, как вы запланировали эту злополучную поездку на отдых в Орегон, еще до того, как вы узнали, что есть на свете такое место — «Вьютоп Инн». Или вы думаете, что кто-то каким-то сверхъестественным, магическим образом узнал о том, что именно здесь вы попадете в автокатастрофу и вас привезут именно в больницу округа Уиллауок? Тогда получается, что во имя осуществления этого заговора против вас в эту больницу семнадцать месяцев назад внедрили О'Хару, а год назад — Брэдли? Сюзанна почувствовала, как кровь приливает у нее к лицу, так как Макги явно старался высмеять ее страхи. — Конечно же, я так не думаю, — сухо ответила она. — Вот и хорошо. — Это же глупо — строить такие версии. — Правильно — глупо. Поэтому вам не следует опасаться Брэдли и О'Хару. На это Сюзанна могла сказать только: — Но я не могу не опасаться их. — Но вы не должны. Медленно закипавшее возмущение Сюзанны дошло до критической точки. Она взорвалась: — Черт возьми, неужели вы думаете, что я — раба своих эмоций, что я — беспомощная жертва своих страхов? Да нет же! Я никогда такой не была и, надеюсь, не буду. Это не в моем характере. Просто я чувствую… что теряю над собой контроль. Никогда в своей жизни я не принимала никаких решений, основываясь на эмоциях, никогда. Я же ученый, поймите это. Я всегда взвешивала каждый свой поступок и горжусь этим. В этом сумасшедшем мире я гордилась своим рациональным подходом, моей уверенностью в себе. Разве вы не видите? Разве вы не видите, что сейчас со мной происходит? У меня такой склад ума. Я с детства была такой. Я никогда не позволяла себе никаких фантазий, даже когда была ребенком. Иногда мне кажется, что у меня и детства-то никогда не было. К своему изумлению, Сюзанна вдруг почувствовала, что готова выплеснуть все свои печали, все свои жалобы на жизнь, все свои сокровенные мысли, так долго таимые за семью запорами. Все это, подобно ливню за окном, должно было пролиться ничем не сдерживаемым потоком. Она даже не узнала свой голос, дрожащий от напряжения. — Бывает так — особенно по ночам, когда я остаюсь одна, хотя я одна и днем… и всегда. Так вот, бывает так, что мне делается страшно от мысли, что во мне чего-то недостает, недостает какой-то важной детали, которая должна быть в любом нормальном человеческом существе. Я чувствую, что я не такая, как все, я словно пришелица с другой планеты. То есть я хочу сказать… Боже, я путаюсь… Я хочу сказать, что в мире должно быть и то, и другое: должен быть и разум и должны быть чувства. Я вижу, как другие руководствуются только чувствами, забывая про разум, они творят Бог знает что, не задумываясь о последствиях. Бог знает что творят эти люди! А я всегда задумывалась о последствиях. Но я много раз замечала, что люди, отдающиеся во власть эмоций, испытывают от этого буквально наслаждение. А я не могу так. И никогда не могла. Я всегда собранна, всегда контролирую себя. Наверное, меня можно назвать «железной женщиной». Я не проронила ни одной слезинки, даже когда умерла моя мать. Хорошо, положим, в семь лет, когда это случилось, я могла не понимать, что в таких случаях плачут. Но я же не плакала и на похоронах своего отца. Я отдавала распоряжения о церемонии похорон, я заказывала цветы и все такое, но я не пролила ни слезинки, оплакивая своего отца. А ведь я любила его, несмотря на всю его чопорность, я не могла без него жить, но глаза мои оставались сухими. О черт! Я не плакала! И еще я говорила сама себе, что я лучше других людей, что я выше их, что они, в отличие от меня, жалкие рабы своих страстей. Я безмерно возгордилась из-за своего непреклонного характера и на этом строила всю свою жизнь. — Сюзанну бил озноб. Она сжалась в комок, стараясь усмирить сотрясающую ее дрожь. Подняла глаза на Макги. Доктор, судя по всему, был поражен до глубины души. А Сюзанна не могла уже остановиться. — Да, черт возьми, я строила на этой гордости свою жизнь. Может быть, с какой-то точки зрения это была не самая удачная жизнь. Но это была моя жизнь. Я жила в мире сама с собой. И теперь вот это случилось со мной. Я прекрасно понимаю, что нет никаких оснований бояться Ричмонда, Джонсона, Брэдли, О'Хару… Но я все равно боюсь их. Я не могу ничего с этим поделать. Во мне живет совершенно нелепое с точки зрения разума, но необычайно сильное чувство, что здесь, в этой больнице, происходит что-то неописуемо странное, сверхъестественное, может быть, даже колдовское. Я потеряла контроль над собой. Я теперь во власти чувств. Я стала такой, как те люди, которых я ставила ниже себя. Меня отрывают от моего прошлого, меня влекут куда-то… Я больше не Сюзанна Тортон… меня… кто-то… разрывает на части. Страшная судорога прошла по всему ее телу, согнула его в дугу, прижала ее лицо к коленям. Она задыхалась, ловила ртом воздух. Все тело покрыла испарина. Макги стоял как громом пораженный. Затем он очнулся, подал ей салфетку, затем еще одну. — Сюзанна, простите меня, — промолвил он. Он испугался. — Сюзанна, с вами все в порядке? Он протянул ей стакан с водой. Она отказалась. Он поставил стакан обратно на стол. Он был явно растерян. Он спросил: — Что я могу для вас сделать? Он сказал: — Боже! Он прикоснулся к ней. Он обнял ее. Это было именно то, что он мог для нее сделать. Она положила голову ему на плечо и зарыдала. Не сразу, но она поняла, что ее слезы вовсе не делают ее жалкой в его глазах и их совсем не стоит скрывать. Наоборот, от этих слез ей становилось легче и светлей, они словно смывали с ее души боль и тревогу, которые были их причиной. Он сказал: — Все хорошо, Сюзанна. Он сказал: — Все у тебя будет хорошо. Он сказал: — Ты не одна теперь. Он согрел ее в своих объятиях, прежде этого никто не делал с ней, — может быть, потому, что она не позволяла этого делать никому. Прошло несколько минут. — Еще салфетку? — спросил он. — Нет, спасибо. — Как ты себя чувствуешь? — Совершенно не осталось сил. — Извини. — Ты совсем не виноват. — Я же замучил тебя разговорами про Брэдли и О'Хару. — Нет-нет, ты же хотел мне помочь. — Это была медвежья услуга. — Ты на самом деле помог мне. Ты заставил меня трезво взглянуть на вещи, на которые я раньше не хотела обращать внимания. Я очень нуждалась в том, чтобы взглянуть на себя по-новому. Оказалось, что я вовсе не такая бессердечная. И, наверное, это хорошо. — Ты что, серьезно думала так о себе, о других людях? — Да. — Все эти годы? — Да. — Но у каждого есть свои слабости. — Теперь я это знаю. — И ничего страшного нет в том, что человек иногда не может найти общего языка с окружающими его, — уговаривал ее Макги. — Да, я именно такой и была все эти годы. Макги подложил руку ей под голову, приподнял ее и заглянул ей в глаза. Его голубые глаза были сейчас, как никогда, прекрасны. Он произнес: — Что бы с тобой ни случилось, в какую бы историю ты ни попала, ты можешь быть уверена, что я приду к тебе на помощь. Вместе мы сможем справиться с самыми неразрешимыми проблемами. Ты веришь мне, Сюзанна? — Да, — сказала она, осознавая, что впервые в жизни соглашается доверить свою судьбу постороннему человеку. — Мы обязательно выясним, что вызывает у тебя это нарушение восприятия, разберемся, почему твой мозг все время сосредоточен на проклятом «Доме Грома», и найдем средство, чтобы избавиться от этого недуга. Тебе не придется жить в страхе и видеть в окружающих тех негодяев из пещеры. — В жизни разное может произойти… — Мы сделаем так, чтобы этого не произошло. — Согласна. А пока средство от моей болезни не найдено, я постараюсь сделать все возможное, чтобы не поддаваться страхам и не видеть в санитарах восставших мертвецов. Обещаю, что буду стараться. — Ты сможешь, я не сомневаюсь. — Но это не значит, что я не буду никого бояться. — Теперь бояться не запрещено. Ты же больше не «железная женщина». Сюзанна улыбнулась и вытерла слезы. После паузы Макги продолжил разговор: — Ну вот, теперь у тебя есть средство от страха и паники. Когда увидишь опять двойника, то не пугайся, а вспомни нашу сегодняшнюю беседу. — Я так благодарна тебе. — Кстати, хочу рассказать тебе одну историю. Много лет назад — не хочется даже вспоминать сколько — я работал в одной из больниц Сиэтла и столкнулся с интересным случаем. К нам привезли человека, вколовшего себе большую дозу наркотиков. Такое случается довольно часто, иногда наркоманов привозила полиция, иногда они приходили сами, не выдерживая кошмаров, которые преследовали их, — им мерещилось, что они ходят по потолку, что их преследуют убийцы. Так вот, независимо от того, чем кололись наши пациенты, ЛСД, ПСП или другой гадостью, мы никогда не применяли для лечения одни только лечебные препараты. Нет, кроме них, мы всегда использовали беседы с пациентами. Убеждали их бросить это дело. Мы проводили буквально целые часы у кровати и говорили с людьми. Говорили о том, что у них есть шанс избавиться от призраков, преследующих их. И знаешь что? Многим помогали не лекарства, а именно эти беседы, люди успокаивались, устранялась сама причина, приведшая к употреблению наркотиков. — Так ты советуешь мне заняться тем же самым? Уговаривать саму себя, что никаких призраков не существует? — Ну да. — Просто говорить себе, что они не настоящие? — Конечно. Ты проговоришь это про себя, и тебе сразу станет легче. — Что-то вроде заклинаний от вампиров. — Почему бы и нет. Если эти заклинания могут помочь, надо их использовать. Надо использовать все средства. — Но я никогда не верила ни во что сверхъестественное. — Ну и что же? Если тебе помогает молитва, молись. Надо пользоваться любой возможностью. Надо во что бы то ни стало продержаться до тех пор, пока мы не найдем средство вылечить тебя. — Хорошо. Я буду стараться. — Как приятно, когда пациент вдруг начинает прислушиваться к советам своего доктора. Она улыбнулась. Макги взглянул на часы. — Я тебя задержала? — Ерунда. — Извини. — Не беспокойся. У меня сегодня на утренний прием были записаны только ипохондрики, у них в любом случае плохое настроение. Сюзанна рассмеялась, удивляясь, что до сих пор сохранила способность смеяться. Он поцеловал ее в щеку. Это был быстрый, почти незаметный поцелуй, скорее прикосновение. Она вспомнила, как вчера он не решился поцеловать ее. Сегодня это свершилось, но она так и не могла понять, что бы это могло значить. Простая симпатия или жалость? Просто жест дружелюбия? Или нечто большее? Макги был уже на ногах, он поправлял слегка смявшийся от сидения халат. — Теперь тебе надо расслабиться. Почитай, посмотри телевизор и ни в коем случае не думай о «Доме Грома». — Я, пожалуй, приглашу сюда всех четырех двойников, и мы все вместе сыграем в покер, — пошутила Сюзанна. Макги улыбнулся: — Ты поправляешься прямо не по дням, а по часам. — Как велел доктор. Он ведь советовал мне любыми способами поддерживать хорошее настроение. — Я вижу, миссис Бейкер права. — В чем? — Она как-то сказала мне, что ты — самая жизнерадостная особа, которую она когда-либо видела. — Наверное, она слишком впечатлительный человек. — Миссис Бейкер? Если бы в эту дверь сейчас вошли папа римский под ручку с нашим президентом, на нее это не произвело бы никакого впечатления. Все же Сюзанна чувствовала, что она не заслуживает таких комплиментов, после того как едва не сорвалась в истерику. Поэтому она поправила одеяло и никак не ответила на похвалы доктора. — Обязательно съешь все, что тебе дадут на обед, — наставлял Макги. — Физиотерапию, которой не было утром, мы перенесем на вторую половину дня. Сюзанна внутренне напряглась. Макги заметил ее реакцию и добавил: — Для тебя очень важны физические упражнения. Они помогут тебе быстрее встать на ноги. К тому же, если мы поймем, что тебе нужна операция, ты перенесешь ее значительно лучше, если будешь в хорошей физической форме. Смирившись, Сюзанна кивнула: — Согласна. — Ну и отлично. — Только, пожалуйста… — Что такое? — Не присылай больше Джел… — Она спохватилась. — Не присылай больше Брэдли и О'Хару, чтобы помочь мне добраться до первого этажа. — Конечно. У нас ведь много других санитаров. — Спасибо. Сюзанна приподняла пальцем свой подбородок и со смешливым видом придала своему лицу выражение героической решимости. — Вот что значит дух, — поддержал игру Макги. — Представь, что ты Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки». — Ты считаешь, что я похожа на Сильвестра Сталлоне? — Ну, во всяком случае, скорее на него, чем на Марлона Брандо. — О-о-о, вы непревзойденный мастер комплиментов в адрес особ женского пола, доктор Макги. — Да, я известный сердцеед. — Он подмигнул Сюзанне, и она сразу отметила про себя, как не похоже его подмигивание на злобный прищур Билла Ричмонда вчера в коридоре. — Я зайду к тебе позже, когда буду делать вечерний обход. Он вышел. Она осталась в одиночестве. Если не считать Джессики Зейферт. Которая была как бы не в счет. Она до сих пор так и не смогла увидеть свою соседку. Сюзанна посмотрела на задернутую пологом постель. Из-за занавески не доносилось ни звука. Именно сейчас ей хотелось разделить с кем-нибудь свое одиночество. — Миссис Зейферт! — позвала она. Ответа не было. Сюзанна подумала, не подойти ли ей к соседней кровати и не проверить ли, как себя чувствует старая леди. Но по какой-то странной, необъяснимой боязни она не могла подойти и раздвинуть занавеску.Глава 8
Сюзанна попыталась последовать советам доктора. Она взяла книгу и несколько минут читала, но рассказ не вызвал у нее никакого интереса. Она включила телевизор, но не смогла выбрать подходящую программу. Ее мысли занимала тайна четырех двойников, загадка их появления в этой больнице. Что они собираются с ней сделать? Вопреки совету Макги большую часть времени она провела в раздумьях о Харше и о трех его подручных, и раздумья эти были мрачными. «У меня все признаки психической болезни — навязчивые идеи, мания преследования, — думала она. — Я, кажется, говорила, что не верю в сверхъестественное, в разного рода чудеса. При этом я совершенно отчетливо верю в существование двух двойников, которые давно уже покоятся в могиле. Это какая-то бессмысленность». От этих мыслей ей стало совсем плохо, и она с ужасом ждала, когда ее заберут в отделение физиотерапии. Не из-за того, что в палате она чувствовала себя в безопасности, нет. Из-за того, что она боялась неизвестного. А там, на первом этаже, ее ждала неизвестность. Она вспомнила слова Джелл… слова Дэнниса Брэдли. «Мы пришли, чтобы помочь вам добраться вниз». Эти слова приобрели для нее сейчас зловещий смысл. Вниз. Сожалея, что пренебрегла советами Макги, Сюзанна съела все, что ей привезли на обед. Она решила последовать совету доктора хотя бы в этом пункте. «Приговоренная к смерти женщина с аппетитом проглотила обильную трапезу, последнюю в ее жизни», — подумала она с мрачным юмором. Затем, разозлившись на себя, решила: «Нет, хватит! Тортон, тебе надо собраться и не падать духом!» Она уже заканчивала свой обед, когда зазвонил телефон. Звонили ее коллеги по работе в «Майлстоуне». Она Не смогла восстановить память о них, но в разговоре была любезна и старалась держаться с ними как со старыми друзьями. Все же разговор получился неуклюжим и сбивчивым, и она почувствовала облегчение, когда он закончился. Примерно через час после обеда в палату вошли двое санитаров с каталкой. Ни тот, ни другой и близко не были похожи на четырех негодяев из ее студенческого прошлого. Первый был плотным мужчиной лет пятидесяти, с выпирающим вперед животом, вероятно, большой любитель пива. У него были густые седеющие волосы и седые усы. — Эй, красотка, вы заказывали такси? — завопил он с порога. Второму было лет тридцать пять. Он был совершенно лысым, а черты лица были удивительно мягкими, почти детскими. — Мы решили, что вам будет приятно прокатиться с ветерком, не век же лежать здесь, — радостно сообщил он. — Я думала, мне подадут лимузин, — скривила губы Сюзанна, поддерживая игру. — Э-э, милая, что вы скажете об этом? — спросил старший по возрасту, показывая рукой в сторону каталки и как бы представляя элегантную машину. — Обратите внимание на строгость линий! — Он похлопал рукой по трехдюймовому матрацу каталки. — А обивка! Где вы найдете лучше? Вмешался лысый: — В каком еще лимузине вы можете совершать прогулки в лежачем положении, леди? — Да еще с шофером! — воскликнул старший, откидывая боковое ограждение кровати. — С двумя шоферами! — уточнил лысый, ставя каталку параллельно кровати. — Меня зовут Фил. Второго джентльмена — Элмер Мэрфи. — Ребята меня просто Мэрфи называют. Страх у Сюзанны еще не прошел, но веселая болтовня санитаров подбодрила ее. Их дружелюбие и желание помочь, а также ее собственная решимость не огорчать больше доктора Макги заставили ее покинуть кровать и переместиться на каталку. Посмотрев снизу вверх на санитаров, она поинтересовалась: — Вы всегда такие? — Какие такие? — спросил Мэрфи. — Она хочет сказать — такие обаятельные, — сказал за Сюзанну Фил, подсовывая ей под голову небольшую жесткую подушку. — О да! — воскликнул Мэрфи. — Мы всегда такие обаятельные. — Кэри Грант — ничто по сравнению с нами. — У нас это врожденное. Фил добавил: — Если вы посмотрите в словаре статью про «обаяние», вы… — Вы найдете там наши физиономии в качестве иллюстрации, — закончил Мэрфи мысль товарища. Они набросили на Сюзанну тонкое покрывало, перекрестили каталку ремнями и вывезли ее в коридор. Вниз. Чтобы не думать о том, куда ее везут, Сюзанна заговорила с санитарами: — Почему вдруг эта штуковина? Нельзя было поехать туда на кресле-коляске? — Мы не имеем дела с пациентами в колясках, — начал Фил. — За ними не угонишься, — закончил Мэрфи. — Американцы обожают быструю езду. — Не сидится им на одном месте. Фил с серьезным видом пояснил: — Если оставить пациента в коляске одного хотя бы на десять секунд… — …к тому времени, когда ты вернешься, он будет уже на полпути в Месопотамию, — закончил Мэрфи. Они уже добрались до лифта. Мэрфи нажал белую кнопку с надписью «ВНИЗ». — Чудное место, — воскликнул Фил, когда двери лифта открылись. — Что? — не понял Мэрфи. — Этот лифт? Чудесное место? — Нет, — успокоил его Фил. — Я имел в виду Месопотамию. — Ты разве бывал там, а? — Я несколько раз проводил там свой зимний отпуск. — А я-то думал, что Месопотамия давно уже не существует. — Хорошо, что тебя сейчас не слышат жители Месопотамии, — с чувством проговорил Фил. Они продолжали свою шутливую болтовню на всем пути из лифта до отделения физиотерапии, которое находилось на первом этаже в одном из крыльев здания. Здесь они передали Сюзанну миссис Флоренс Аткинсон, специалисту по физиотерапии. Маленькая, темноволосая, похожая на небольшую птичку, Флоренс Аткинсон буквально кипела энергией и энтузиазмом. Первое занятие длилось полчаса и включало в себя самые разнообразные упражнения на тренажерах для различных групп мышц. Упражнения были несложные, здоровому человеку они показались бы детской забавой. — В течение первых двух занятий мы ограничимся только пассивными упражнениями, — пояснила миссис Аткинсон. Однако получаса хватило, чтобы довести Сюзанну до полного изнеможения и боли во всех мышцах. После упражнений наступил черед массажа, во время которого Сюзанна чувствовала себя каким-то набором костей и связок, которые Господь Бог кое-как соединил в одно целое. Бассейн с гидромассажем, с горячей бурлящей водой быстро смыл с нее накопившееся напряжение, она почувствовала, что тело ее вот-вот само примет жидкую форму. Но лучше всего оказался душ, который был оборудован специальным сиденьем со спинкой и подлокотниками. Чувство легкости и восхитительный запах мыла, горячей воды и пара были настолько необычайны и возвышенны, что купание в обычной ванне казалось в этот момент просто святотатством. Флоренс Аткинсон высушила волосы Сюзанны электрическим феном, в то время как сама Сюзанна сидела перед большим зеркалом. Прошел, наверное, целый день с тех пор, как она не смотрелась в зеркало, и сейчас она, к своему удовлетворению, заметила, что темные круги под глазами почти исчезли. Синева вокруг глаз еще была слегка заметна, но на щеках уже появился легкий румянец. Даже шрам на лице, на ее взгляд, стал менее заметным, и теперь она вполне верила, что, как и говорил доктор, со временем след от шрама окончательно исчезнет. Она снова надела свою зеленую пижаму, взобралась на каталку, и миссис Аткинсон вывезла ее в соседнюю комнату. — Фил и Мэрфи придут за вами через пару минут, — объяснила она. — Они могут не торопиться. Мне так хорошо здесь, я словно купаюсь в ласковых и теплых морских волнах, — призналась Сюзанна, недоумевая по поводу своего нелепого страха перед отделением физиотерапии. Темные точки на потолке из белой звукопоглощающей плитки образовали очертания, в которых Сюзанне виделся то жираф, то рыбачья лодка, то пальма. Устав искать глазами новые сочетания точек, она закрыла глаза и зевнула. — Кажется, ей здесь понравилось, Фил. — Точно, понравилось, Мэрфи. Сюзанна открыла глаза и улыбнулась шутникам. — Не слишком ли мы нянчимся с пациентами? — продолжал Фил. — Массаж, бассейн, шоферы… — Чего доброго, скоро она захочет, чтобы ей подавали завтрак в постель. — Где мы находимся, Фил, в больнице или в загородном клубе? — Иногда я тоже задаюсь этим вопросом, Мэрфи. — Не находимся ли мы в клубе «Лаурелл и Гарди», открывшем свой филиал в больнице округа Уиллауок? — включилась в игру Сюзанна. Санитары в этот момент вывозили каталку в коридор. Мэрфи не оставил реплику Сюзанны без ответа: — «Лаурелл и Гарди»? Нет, это слишком шикарно, мы скорее находимся в заведении «Боб и Рэй»[13] в городе Уиллауок. Они свернули в длинный коридор главного здания больницы. Даже не поднимая головы с подушки, Сюзанна могла видеть, что в коридоре, кроме них, никого не было. В первый раз она видела пустынный коридор в этой обычно шумной, как улей, больнице. — «Боб и Рэй»? — обратился Фил к Мэрфи. — Может быть, тебе и место в таких сомнительных заведениях, но моей ноги там не будет. Я ничем не хуже Роберта Редфорда. — Роберт Редфорд[14], между прочим, не нуждается в париках. — Со мной как раз аналогичный случай. — Да, тебе парик не поможет. Чтобы прикрыть твою лысину, нужна целая медвежья шкура. Они уже добрались до лифта. — Мэрфи, Мэрфи, откуда такая жестокость? — Фил, я просто помогаю тебе открыть глаза на самого себя. Мэрфи нажал белую кнопку с надписью «ВВЕРХ». Фил обратился к Сюзанне: — Ну как, мисс Тортон, вам понравилось это маленькое путешествие? — Безумно понравилось, — призналась Сюзанна. — Вот и отлично, — сказал Мэрфи. — А мы можем вам гарантировать, что следующая часть программы также не оставит вас равнодушной. — Будет очень интересно, — поддержал товарища Фил. Сюзанна услышала, как открылись двери лифта. Санитары втолкнули каталку в лифт, а сами остались стоять на месте. В лифте уже были люди. Все четверо. Харш, Куинс, Джеллико, Паркер. Харш и Куинс были в пижамах и в больничных халатах, они стояли по левую сторону от каталки. Джеллико и Паркер в белых халатах санитаров стояли по правую сторону. В шоке, не веря своим глазам, Сюзанна посмотрела на Мэрфи и Фила. Они продолжали стоять возле дверей лифта снаружи, они смотрели на нее и улыбались. Затем в знак прощания помахали ей руками. Двери лифта закрылись. Он пошел вверх. Эрнест Харш нажал одну из кнопок, и лифт остановился между этажами. Он смотрел прямо на нее. Его холодные серые глаза, похожие на кусочки грязного льда, обжигали ее неземным холодом. — Привет, стерва, — заговорил он, — я так и думал, что встречу тебя здесь. Джеллико заржал. Это был какой-то хлюпающий, визгливый звук, который был под стать его поросячьей физиономии. — Нет, — прошептала она помертвевшими губами. — Нет — это значит, что ты не будешь кричать? — схохмил Паркер, осклабившись, словно прыщавый веснушчатый мальчик из церковного хора. — А мы-то надеялись, что ты покричишь, — разочарованно протянул Куинс. Его продолговатое лицо казалось сейчас еще более вытянутым. — От удивления она не может даже кричать, — сообщил Джеллико и снова прыснул своим поросячьим смехом. Сюзанна закрыла глаза и сделала так, как советовал ей Макги. Она сказала самой себе, что они не причинят ей никакого вреда. Она сказала самой себе, что они — всего лишь призраки, что они — всего лишь сон наяву, вернее — страшный сон наяву. Их нет на самом деле. Кто-то схватил ее за горло. Сердце вот-вот выскочит из груди. Она открыла глаза. Это был Харш. Он слегка сжал ей горло, и, наверное, это доставило ему большое удовольствие, так как он захихикал. Сюзанна попробовала обеими руками оторвать его от себя. Это оказалось ей не под силу. Он держал ее мертвой хваткой. — Не беспокойся, стерва, — сказал он. — Я не собираюсь тебя убивать. Это был тот самый голос, который она слышала в «Доме Грома». Этот голос она не забудет до самой смерти. Низкий, холодный, беспощадный голос. — Нет, мы не будем тебя убивать, — повторил Куинс. — Пока не будем. — Еще не время, — сказал Харш. Она опустила руки. Они словно онемели. Их сковал холод. Она тряслась, будто старая колымага; еще немного — и ее прыгающее сердце в груди разнесет ее на мелкие кусочки. Харш провел ладонью по горлу, он словно гладил ее шею. Сюзанну передернуло от отвращения, и она повернула голову в сторону, где стоял Джеллико. Поросячьи глазки блеснули. — Как вам понравились наши песни и танцы у вас в палате сегодня утром? — Тебя зовут Брэдли, — проговорила Сюзанна, страстно желая, чтобы это было так, чтобы кончился этот кошмарный сон. — Нет, — протянул человек с поросячьими глазками, — меня зовут Джеллико. — А я — Паркер, а не О'Хара, — добавил рыжий. — Вы оба — мертвые, — прошептала она дрожащими губами. — Все мы — мертвые, все четверо, — произнес Куинс. Она посмотрела на вытянутое лицо Куинса, пораженная, как громом, его словами. Куинс продолжал: — После того как меня вышибли из Брайерстеда, я отправился к себе домой в Виргинию. Нельзя сказать, что мои домашние очень мне обрадовались. Точнее, они вовсе не захотели иметь со мной ничего общего. Вы же понимаете, добропорядочная семья, безупречная репутация. Скандальные истории не должны запятнать честь семьи. — Лицо Куинса потемнело от гнева. — Мне дали гроши, чтобы я не подох с голоду, пока не найду работу. Меня просто выставили за дверь. Выставили за дверь. Мой папаша — самовлюбленный святоша, мать его, — просто отсек меня, как сухую ветку с дерева. Где я мог найти работу, не оскорблявшую моего достоинства? Я вырос в хорошей семье, я не мог пойти чернорабочим. — Теперь Куинс цедил слова сквозь сжатые зубы. — Мне не повезло, я не попал в юридический колледж. Все из-за тебя, из-за твоих проклятых показаний в суде. Господи, как же я тебя ненавижу! Из-за тебя я подох, как собака, в грязном мотеле в Ньюпорт-Ньюс. Из-за тебя я перерезал себе вены в грязной маленькой ванне. Сюзанна опять смежила веки. Она твердила: «Их нет на самом деле. Они не опасны». — А меня убили в тюрьме, — услышала она голос Харша. Она решила ни за что не открывать глаза. — Это случилось за месяц и один день до того момента, когда меня должны были выпустить, — говорил Харш. — Боже, я отсидел пять лет, а за какой-то месяц до срока мне попался этот негр. Он прятал нож у себя в камере. Их нет на самом деле. Они не опасны. — Теперь наконец-то я пришел за тобой, — продолжал Харш. — Я же обещал тебе, что приду. В тюрьме я говорил себе, наверное, тысячу, нет, десять тысяч раз, что приду за тобой. Ты знаешь, стерва, что такое следующая пятница? В пятницу — годовщина моей смерти. В пятницу исполняется семь лет с того дня, как проклятый негр припер меня к стенке и перерезал мне ножом горло. В пятницу. Так вот, в пятницу мы с тобой и рассчитаемся. В пятницу вечером. У тебя осталось еще три дня, стерва. Мы просто хотели, чтобы ты знала. Чтобы тебя холодный пот прошиб. Так, значит, в пятницу. У нас кое-что для тебя приготовлено на этот день. — Мы же все подохли по твоей милости, — добавил Джеллико. Их нет на самом деле. Их голоса терзали ее, разрывали на части. — …если бы мы нашли, где она пряталась… — …мы бы размозжили ей голову… — …мы бы перерезали ее тонкую шейку… — …черт, мы бы вырезали ей сердце из груди… — …у стерв не бывает сердца… Они не опасны. — …она всего лишь грязная подстилка для евреев… — …но вообще что-то в ней есть… — …надо бы трахнуть ее, прежде чем убивать… — …так хорошенечко трахнуть… — …к пятнице она должна быть не такой худой, как сейчас… — …эй, тебя когда-нибудь трахал мертвец, а?.. Она просто не могла открыть глаза. Их нет на самом деле. — …мы все залезем на тебя… — …мы все залезем в тебя… Они не опасны. — …вся наша мертвая плоть… — …окажется в тебе… Они не опасны, не опасны, не опасны… — …в пятницу… — …в пятницу… Чья-то рукаприкоснулась к ее груди, другая надавила на глаза. Она закричала. Кто-то закрыл ей рот тяжелой, грубой ладонью. — Стерва, — сказал ей Харш, и, наверное, он же с силой сжал ей правую руку. Сжимал ее все сильней и сильней. В этот момент она потеряла сознание.Глава 9
Мрак рассеялся. На смену ему пришла молочно-густая, светящаяся дымка, в которой проплывали неясные тени, время от времени издающие какие-то мелодичные звуки. Туманные силуэты как будто обращались к ней, голоса были далекими, но странно знакомыми. — Посмотри-ка, кто здесь, Мэрфи. — Кто это, Фил? — Спящая красавица. Сюзанна могла уже кое-что различить вокруг себя. Она лежала на каталке. Моргая от изумления, она обнаружила рядом с каталкой двух санитаров, смотрящих на нее сверху вниз. — Ты, конечно, думаешь, что ты — Прекрасный Принц, — спросил Фила Мэрфи. — Ну не ты же принц, это было бы смешно, — заявил Фил. Сюзанна уже могла различить белые звукопоглощающие плитки на потолке. — Он воображает себя принцем, — обратился Мэрфи к Сюзанне. — А на самом деле он всего лишь один из гномов. — Гномов? — переспросил Фил. — Да, один из гномов, — подтвердил Мэрфи. — Только я не пойму, который — то ли Ворчун, то ли Брюзга. — Брюзга? Такого гнома не было. — Значит, ты — Ворчун. Сюзанна осмотрелась вокруг и не могла поверить собственным глазам — она опять была в приемном отделении физиотерапии. — Кстати, — продолжал Фил, — Спящая красавица никогда не имела никаких дел с гномами. Гномы были только в сказке о Белоснежке. — О Белоснежке? — Да, о Белоснежке, — подтвердил Фил. Он взялся за поручень каталки и начал выталкивать ее из комнаты, Мэрфи помогал ему. Они поехали по направлению к перекрестку, где находился лифт. Изумление Сюзанны сменилось страхом. Она попыталась сесть, но обнаружила, что ей мешает это сделать ремень, стягивающий одеяло выше пояса. Тогда она закричала: — Эй, подождите, подождите. Остановитесь на минуту, черт бы вас побрал! Санитары притормозили. На лице у обоих было написано искреннее удивление. Мэрфи нахмурил свои густые брови. По-детски круглое лицо Фила выражало растерянность. — Куда вы меня везете? — потребовала ответа Сюзанна. — Куда?.. Обратно в вашу палату, — объяснил Мэрфи. — Что-нибудь не так? — поинтересовался Фил. Сюзанна нащупала застежку на ремне, который сковывал движения, и попыталась расстегнуть ее. Однако она не успела это сделать. Ладонь Мэрфи легла на ее руку и вежливо, но решительно отвела ее в сторону. — Не торопитесь, — сказал он, — успокойтесь сначала, мисс Тортон. Что с вами? Сюзанна изумленно посмотрела на санитаров. — Вы же совсем недавно уже забирали меня отсюда и довезли до самого лифта… — Да не было ничего подобного… — …мало того, вы еще запихнули меня в лифт к этим, а сами остались снаружи. Но знайте, больше я не позволю так обращаться со мной! — Но, мисс Тортон, мы… — Как вы могли? Зачем вам понадобилось это делать? За что? Разве я вам что-нибудь плохое сделала? Я вас не знала, и вы меня не знали, за что же мне такое устраивать? Мэрфи покосился на Фила. Фил вздрогнул. Обращаясь к Сюзанне, Мэрфи спросил: — К кому это, к каким людям мы вас запихнули? — Вы сами все прекрасно знаете, — с горечью проговорила Сюзанна. — Не прикидывайтесь, не делайте из меня дурочку. — Нет, я правда ничего не понимаю, — добавил Фил. — К этим людям! — в отчаянии прокричала Сюзанна. — К Харшу и ко всем остальным. Ко всем этим четырем мертвецам, черт бы их побрал! — Мертвецам? — переспросил Фил. Мэрфи посмотрел на нее, как на сумасшедшую, но вдруг лицо его расплылось в улыбке. — А, я все понял. Наверное, вам это приснилось. Она перевела взгляд от одного к другому, в облике обоих санитаров читалось искреннее недоумение по поводу ее обвинений. Мэрфи сказал, обращаясь к Филу: — Должно быть, ей приснилось, что мы забрали ее из отделения и посадили в лифт, в котором находились какие-то другие пациенты, которые… отдали Богу душу. — Он вопросительно посмотрел на Сюзанну. — Так было дело? Именно это вам приснилось? — Ничего мне не снилось, я не засыпала ни на одно мгновение, — резко ответила Сюзанна. — Ну конечно же, вы спали, — проговорил Фил успокаивающим голосом, не обращая никакого внимания на резкость ее тона. — И мы только что наблюдали, как вы проснулись. — Настоящая Спящая красавица. Сюзанна в знак протеста замотала головой. — Нет, нет и нет, я же говорю вам, я не спала, когда вы пришли за мной в первый раз. — Сюзанна пыталась объясниться, но с ужасом понимала, что слова ее звучат нелепо. — Я… я просто закрыла глаза на пару секунд, после того как миссис Аткинсон вышла. Я не спала, когда вы вошли и повезли меня к лифту… — Но вы же сами понимаете, что это был сон, — мягко уговаривал ее Мэрфи, ободряюще улыбаясь. — Конечно, сон, — поддержал его Фил. — Это мог быть только сон, так как покойников мы перевозим в морг совсем в другом лифте. — На этом лифте мы их никогда не возили, — отозвался Мэрфи. — Покойников перевозят на служебном лифте, — пояснил Фил. — Надо щадить чувства наших пациентов, — добавил Мэрфи. — Да-да, щадить, — согласился Фил. Она уже собиралась крикнуть им: «Это вовсе не те покойники, о которых вы говорите, вы, наглые пройдохи! Я говорю о покойниках, которые вышли из могил и которые обладают способностью двигаться и говорить, я говорю о тех покойниках, которые собираются убить меня». Но она не произнесла ни слова, так как понимала, что ее крик воспримут как бред сумасшедшего. — Это просто сон, — повторил Мэрфи, убеждая ее. — Просто кошмарный сон, — подтвердил Фил. Она смотрела на их лица, казавшиеся огромными из-за необычного угла зрения. Седовласый Мэрфи хлопал своими добрыми глазами. А разве мог круглолицый добрый Фил таить какие-нибудь злобные мысли? Нет, она не могла в это поверить. Его невинные, широко открытые глаза были сама искренность. — Но разве так бывает во сне? — поделилась она своими сомнениями. — Это было… так ярко. Как на самом деле. — У меня тоже так бывало — спишь и видишь сон. А потом проснешься, а сон все продолжается. Только через пару минут начинаешь приходить в себя, — поделился опытом Фил. — Да, — сказал Мэрфи, — у меня тоже так бывало. Сюзанна вспомнила рассказ Куинса о его самоубийстве. Она вспомнила тяжелую руку убийцы, коснувшуюся ее груди, она вспомнила, как другая рука надавила ей на веки, как третья рука зажала ей рот, когда она захотела позвать на помощь. — Но все это… было на самом деле, — повторила она, хотя сомнения уже проникли в ее душу. — По крайней мере, все это казалось… таким реальным, таким чудовищно реальным. — Клянусь вам, — торжественно произнес Мэрфи. — Всего пять минут назад мы услышали звонок от миссис Аткинсон, она просила нас прийти и забрать вас обратно в палату. — И мы сразу пошли в отделение, — добавил Фил. — И вот мы здесь. Но раньше времени мы сюда не приходили. Сюзанна провела языком по сухим губам. — Я думаю… — Это был сон, — помог ей Мэрфи. — Это мог быть только кошмарный сон, — убежденно повторил Фил. Наконец она неохотно кивнула: — Да. Кажется, так оно и есть. Послушайте… я должна перед вами извиниться. — О, зачем так мучить себя? — укоряюще сказал Мэрфи. — Вам не за что извиняться. — Мне не следовало так набрасываться на вас с обвинениями, — проговорила Сюзанна. — Разве тебя оскорбили, Фил? — Да вовсе нет. А тебя, Мэрфи? — Тоже нет. — Итак, вы сами видите, — объяснил Фил, обращаясь к Сюзанне, — вам абсолютно незачем извиняться. — Никаких оснований, — поддержал его Мэрфи. — Итак, как вы теперь смотрите на то, чтобы продолжить наше путешествие? — спросил Фил. — Нам предстоит уникальная захватывающая прогулка, — пообещал Мэрфи. Фил нахваливал: — Это будет маршрут экстракласса. — Первоклассное обслуживание! — Роскошный стол в компании капитана корабля! — Каждый вечер танцы на палубе! — Прогулки на катере и бесплатный коктейль! Сюзанне уже порядком надоели их шуточки, она не могла дождаться, когда они закончат свою болтовню. У нее отчего-то кружилась голова, ее подташнивало, она продолжала недоумевать по поводу произошедшего с ней — словом, она чувствовала себя так, как будто выпила много спиртного или проглотила сильное лекарство. Реплики санитаров отдавались болью в голове, ей с каждой минутой становилось все хуже. Но она не могла ничего сказать, боясь опять оскорбить их, если случай в лифте действительно был сном, то она и так позволила себе слишком многое. Наконец она не выдержала: — Ну… ладно. Давайте снимемся с якоря и выйдем из бухты. — Счастливого путешествия! — воскликнул Фил. — Катер уже мчится со скоростью шестнадцать узлов! — прокричал Мэрфи. Они разогнали каталку и на скорости выехали в главный коридор, ведущий к лифту. — Ты уверен, что Спящая красавица не имела никаких дел с гномами? — спросил Мэрфи Фила. — Я же тебе сказал, с гномами была Белоснежка. Мэрфи, я начинаю подозревать, что ты совершенно безграмотен. — Это ты зря, Фил. Я — очень образованный человек. Теперь они были уже совсем недалеко от лифта. Мэрфи пояснил: — Это все из-за того, что я давно не читаю детские сказки. Может быть, для тебя и подходит этот вид литературы, но я предпочитаю что-нибудь более серьезное. — Ты, конечно, имеешь в виду бюллетени о скачках? — Нет, скорее Чарлза Диккенса, Фил. — Наверное, не забываешь и «Нэшнл инкуайрер»? Вот и лифт. Сюзанна поняла, что дрожит от напряжения. — Если хочешь знать, я прочел все опубликованные романы Луиса Ламура, — пробурчал Мэрфи, нажимая кнопку с надписью «ВВЕРХ». — От Диккенса до Ламура, — изумился Фил. — Какой диапазон интересов! — Да, я такой разносторонний человек, — признался Мэрфи. Сюзанна затаила дыхание в ожидании того момента, когда откроются двери лифта. В горле у нее застыл крик, готовый вырваться наружу. «Господи, не дай повториться этому кошмару», — молила она. — А как у тебя с этим, Фил? Встречалось что-нибудь увлекательное среди этикеток на консервных банках? Двери лифта с легким шипением разошлись в стороны. Они находились за изголовьем каталки, и Сюзанна не могла видеть, есть ли кто-нибудь в кабине лифта. Мэрфи и Фил вкатили Сюзанну в лифт и вошли вслед за ней. На сей раз никаких мертвецов в лифте не оказалось. Сюзанна с облегчением выдохнула и блаженно закрыла глаза. Напряжение не прошло бесследно, у нее начала болеть голова. Оставшийся отрезок пути до палаты также был пройден благополучно, если не считать одной мелочи — когда она перебиралась с каталки на кровать, то ощутила колющую боль в предплечье. Она мгновенно вспомнила, что Харш — или кто-то из его помощников — очень сильно дернул ее именно за эту руку, после этого она потеряла сознание. Санитары уже ушли, а Сюзанна все сидела, обхватив руками колени и боясь пошевелить ноющей от боли рукой. Наконец она решилась и засучила правый рукав пижамы. На бледной коже сразу бросался в глаза багровый синяк. Он был размером с долларовую монету. К нему было больно прикоснуться. Это был свежий синяк — в этом не было никаких сомнений. Что это могло означать? Может быть, этот синяк доказывает, что встреча с Харшем и его подручными была явью, а не кошмарным сном? А может быть, она заработала этот синяк, занимаясь физиотерапией, и потом боль от этого синяка вошла составной частью в приснившийся ей сон? Она попыталась восстановить в памяти, когда она могла получить этот синяк. Ни малейшего проблеска. Вряд ли она не заметила бы его, когда была в душе. Но бывает, синяк образуется не сразу, а спустя какое-то время. «Я должна была заработать его на занятиях, — начала убеждать она себя. — Всякое другое объяснение — это безумие. Ни Эрнеста Харша, ни его компании на самом деле не существует. Они не могут представлять для меня никакой опасности. Они — всего лишь призраки, порожденные моим мозгом, выбитым из колеи во время аварии. Я обязательно приду в себя. Макги обязательно найдет причину моей болезни, и я поправлюсь, я больше никогда не буду бредить мертвецами, которые ходят и умеют говорить. А пока мне надо просто помнить: они для меня не опасны».* * *
Джефф Макги появился в половине шестого, во время вечернего обхода. Он был одет как на званый вечер. Темно-синий, прекрасно сшитый костюм, белоснежная рубашка, галстук-бабочка в полоску и светло-синий платок в нагрудном кармане пиджака. Неотразимость Макги обернулась для Сюзанны на этот раз совершенно неожиданными последствиями — она вдруг осознала, что смотрит на него уже не как пациентка на своего врача, а как женщина на мужчину. Ею овладела самая настоящая страсть, она отчетливо помнила, что раньше видела в Макги только человека приятной наружности и обходительных манер. «Боже, — игриво подумала она, — да я и вправду пошла на поправку. Надо же — дойти до такого бесстыдства!» Макги направился прямиком к ее кровати и на этот раз уже без всяких стеснений наклонился и поцеловал ее в щеку, почти в уголок рта. Он, судя по аромату, пользовался очень приятным лосьоном после бритья с запахом лимона и каких-то душистых трав, но сквозь аромат Сюзанна ощутила и непередаваемое благоухание мужской свежевыбритой кожи. Что, если забросить ему руки за плечи, обнять его, прижать к себе и взять от него хоть немного тех сил, которые так и играли в его мужском теле! Но нет, она не могла себе этого позволить, она прекрасно отдавала себе отчет, что она ладила с доктором, но их отношения не перешли еще черты, за которой начинаются объятия. Макги далеко не равнодушен к ней — в этом у нее сомнений не было. Но она оставалась его пациенткой, а он — ее лечащим врачом, и это накладывало свой отпечаток. Вдруг она ошибается и никаких чувств он к ней не испытывает? Лучше не рисковать. И она ограничилась легким прикосновением губ к щеке доктора в ответ на дарованный им поцелуй. — Сегодня ужасно тороплюсь, — произнес он, отстраняясь от нее, пожалуй, слишком поспешно. — Сейчас я навещу Джесси Зейферт, а потом вернусь, и мы немножко поболтаем. Он подошел к другой кровати и нырнул за занавеску. Сюзанну вдруг обожгла непонятная ревность. Для кого это он вырядился в этот шикарный костюм? С кем это у него сегодня вечеринка? С женщиной? Ну конечно, с женщиной, да еще наверняка с хорошенькой. На встречу с приятелем за кружкой пива он не стал бы так наряжаться. Таким красавчикам, как Макги, нигде проходу нет от смазливых девиц. Да и выглядит он вовсе не как женоненавистник — наверняка у него все в порядке с личной жизнью, он наладил ее задолго до того, как на горизонте появилась Сюзанна Кэтлин Тортон, — это ясно. Разве она имеет право ревновать его к кому бы то ни было? Конечно, нет. Между ними ничего не было, с какой стати ему хранить верность ей? Это было бы просто смешно. Тем не менее она ревновала его самой настоящей женской ревностью. Макги вышел из-за занавески и подошел к Сюзанне. Взял ее за руку, улыбнулся. Его рука была сильная и горячая, улыбка — белозубая и открытая. — Ну-ка, расскажи мне, как прошла физиотерапия. Как ты провела время в компании с Фло Аткинсон? Сюзанна подумывала, не рассказать ли ей об ужасном сне, в котором она вновь встретилась с четверкой негодяев, но сейчас пришла к выводу, что говорить об этом Макги совершенно необязательно. Зачем выставлять себя в образе перепуганной, жалкой женщины? Она вовсе не хотела, чтобы ее жалели. — Это было что-то потрясающее, — ответила она. — Я рад за тебя, рад, что ты довольна. — Да, физические упражнения — это именно то, что мне сейчас нужно, — сказала Сюзанна, радуясь, что хоть в этом ответе ей не приходится обманывать Макги. — У тебя и румянец появился. — Мне даже удалось по-настоящему помыть голову. — Да, я вижу, у тебя прекрасные волосы. — Вы жалкий обманщик, доктор Макги. Мои волосы еще месяца два будут в безобразном состоянии благодаря усилиям больничного парикмахера. Он, вероятно, использует для стрижки пациентов электропилу. Ну да ладно, я рада и тому, что теперь у меня чистые волосы. — Но я на самом деле считаю, что у тебя прекрасные волосы, — настаивал Макги. — В этой прическе есть какой-то особенный шарм. С этими вихрами ты напоминаешь мне… Питера Пэна[15]. — Спасибо за комплимент. Насколько мне известно, Питер Пэн был все-таки мальчишкой. — Ну, с мальчишкой-то тебя не перепутаешь. Ладно, забудь про Питера Пэна. Скажем так, с этой прической ты похожа на… — На английскую овчарку, ты это хотел сказать? — Кажется, ты твердо решила отучить меня говорить комплименты. — Ладно, послушаем, что ты еще скажешь. Итак, я напоминаю английскую овчарку, правильно? Макги, продолжая шутить, принялся со всех сторон разглядывать прическу Сюзанны на предмет ее сходства с представителями собачьего рода. — Раз уж ты заговорила о собаках… ты что же, хочешь сказать, что знаешь все собачьи трюки? Ты что же, и тапочки умеешь приносить хозяину? — Га-ав, га-ав, — сквозь смех прорычала Сюзанна. — А если серьезно, — продолжал Макги, — ты действительно выглядишь прекрасно. У тебя уже не такой изможденный вид, какой был несколько дней назад. — Не-ет, вот кто действительно прекрасно выглядит, так это ты. Мужчина что надо! — Спасибо, — улыбнулся Макги, но не объяснил, по какому случаю он так принарядился. Сюзанна, говоря комплимент, надеялась, что ей удастся что-нибудь разузнать. — Сегодня Харш и компания на горизонте не появлялись? — Ни разу, — солгала она. — Вот и хорошо. На завтра я запланировал серию анализов. Будет анализ крови, мочи, рентген… и, возможно возьмем пункцию спинного мозга. — О-о-о! — Обещаю, что будет не очень больно. — Тебе легко говорить. Не тебе же будут делать пункцию. — Точно, не мне. Но в этом действительно может возникнуть необходимость. Я все сделаю сам, у меня легкая рука. — Доктор покосился на часы. — А теперь мне пора, боюсь опоздать. — Она терпеть не может, когда опаздывают на свидания? — Если бы так! К сожалению, мне надо торопиться всего лишь на собрание ассоциации медиков округа. Я сегодня на нем председательствую и дрожу от страха, как актер перед премьерой. У Сюзанны едва не вырвался вздох облегчения. — Дрожишь от страха? — переспросила она, надеясь, что он не заметил ее переживаний. — Разве такое возможно? Мне казалось, что ты никого и ничего не боишься. — Ну, это не совсем так, — протянул Макги. — Я, к примеру, ужасно боюсь змей. Еще я замечал за собой признаки клаустрофобии и боязнь публичных выступлений. — А как насчет английских овчарок? — Вот эту породу я просто обожаю, — признался он и снова поцеловал Сюзанну в щеку. — А эта порода обожает, когда ей так говорят, — сказала Сюзанна. — Надеюсь, мое выступление все же будет не самым плохим, — продолжал доктор. — Ну, во всяком случае, оно не будет хуже тех дежурных блюд, которыми нас потом будут потчевать на банкете в «Холидей Инн». Сюзанна улыбнулась. — Тогда до завтра. Макги все еще не спешил уходить. — Ты уверена, что чувствуешь себя нормально? — Да, все в порядке. — Помни: если опять их увидишь — повторяй про себя, что их нет на самом деле и… — …и они не могут причинить мне никакого вреда. — Помни об этом постоянно. — Я помню. — И еще, все сиделки на твоем этаже знают, в каком состоянии ты находишься. Если у тебя начнутся кошмары… галлюцинации, то просто сразу вызывай сиделку, и она тебе поможет. Она сама убедит тебя, что все страхи напрасны. — Так мне будет спокойнее, спасибо. — Ты же не одна здесь. — Да, теперь я это понимаю и очень тебе благодарна. Он вышел, обернувшись на прощание в дверях и помахав ей рукой. Он ушел, но Сюзанна успокоилась только через несколько минут, до этого момента ее продолжал сжигать огонь страсти, все тело было в сладкой истоме. «Боже, — подумала она с удивлением, — я с ним чувствую себя молоденькой девушкой. Девчонкой, помешанной на сексе». Она посмеялась сама над собой. Потом, прекрасно понимая, что она не одна, она вдруг почувствовала себя страшно одинокой. Позднее, за ужином, она вспомнила слова Макги о ее нетерпимости к комплиментам. Да, тут он был прав. Странная вещь. Она начала размышлять. Да, она никогда не любила, когда мужчины говорили ей комплименты, это верно. Но почему-то и от Макги ей совсем не хотелось их слышать. Почему так? Может быть, ей инстинктивно хочется, чтобы он изобретал для нее что-нибудь новое и неизбитое? Нет. Чем больше она размышляла над этим вопросом, тем чаще приходила к выводу, что скорее всего она отвергала лесть из боязни попасть полностью под влияние очаровательного доктора, она боялась своего чувства к нему, боялась, что оно перельется через край и его уже не удержишь, не проконтролируешь. Да, у нее в прошлом были любовники, всего несколько человек, но она всегда держала отношения с ними под неусыпным контролем. Когда наступала пора расставаться, она сжигала все мосты, не травмируя себе душу сожалениями о прошлом. Она тщательно следила за своими сердечными делами, пожалуй, так же тщательно, как за своей профессиональной карьерой. Сейчас она понимала, что с Макги — совсем другой случай. С ним нельзя быть холодной, с ним нельзя идти только до половины пути. Наверное, это и пугало ее, и манило. Да, она знала, что хочет испытать с ним все. Он завладел ее чувствами. Но что это — телесный порыв или любовь, настоящая любовь? Никогда прежде ей не приходилось искать ответа на такой вопрос. Любовь? «Это невозможно, черт возьми, — уговаривала она себя. — Я просто не могу любить человека, которого впервые увидела несколько дней назад. Я почти ничего не знаю о нем. Я даже и не целовалась-то с ним толком. И он меня не целовал всерьез. Так, поцелуйчики в щечку. Да с чего я взяла, что он испытывает ко мне хоть какое-то чувство? Так не бывает, что за один день ты по уши влюбляешься в человека. Так просто не бывает». И тем не менее она чувствовала, что именно это с ней случилось. Прямо как в кино. «Ладно, — сказала она себе, — если это любовь, то откуда она возникла? Может быть, всего лишь из-за того, что я беспомощна и слаба, а рядом сильный красивый мужчина, и я ему за это безумно благодарна?» Если это так, то любовь тут ни при чем, это просто чувство благодарности, чувство, которое бесследно улетучится, когда она твердо встанет на ноги. Однако после долгого размышления она не смогла переубедить себя, что чувство к Макги сильнее простой благодарности. Возможно, все это возникло одновременно — и страсть, и необходимость в твердом плече мужчины. Все это напоминает спор о том, что появилось раньше — курица или яйцо. Какая разница? Ведь главное — что я чувствую по отношению к этому человеку, а меня действительно неудержимо влечет к нему. Но сначала надо поправиться, решила она и постаралась переключиться на что-нибудь другое. После ужина она прочитала несколько глав из книги и съела три-четыре шоколадные конфеты. Ночная медсестра, яркая брюнетка, которую звали Тина Сколари, принесла Сюзанне бокал некрепкого эля. Она еще немного почитала и почувствовала себя гораздо лучше. Монотонный стук дождя о стекло прекратился. Медсестра не отказала ей во втором бокале эля. Вечер был довольно-таки приятным. По крайней мере пока.Глава 10
Медсестра Сколари зашла к ней еще раз в 21.15. — Вам завтра рано вставать. Предстоит много анализов. — Она дала Сюзанне снотворное, которое ей прописал Макги. Пока Сюзанна запивала лекарство остатками эля, медсестра успела заглянуть за полог к Джессике Зейферт. Вынырнув оттуда, она посоветовала Сюзанне: — Как только почувствуете сонливость, выключайте свет. — Конечно, я только дочитаю главу, — кивнула та. — Мне совсем немножко осталось. — Вам помочь потом дойти до ванной? — О нет. Я уже справляюсь с этим сама. — Уверены? — Да-да. У дверей медсестра остановилась и щелкнула выключателем дежурного освещения, теперь Сюзанне не придется добираться до него через всю палату. Медсестра также сняла фиксатор, который не позволял двери закрываться днем, и после этого захлопнула ее за собой. Сюзанна дочитала книгу до конца главы и, опираясь о стену, побрела в ванную комнату. Почистила зубы, вернулась в кровать. В ногах она по-прежнему ощущала слабость и боль, особенно в голенях, но радовало ее то, что она уже могла уверенно ходить, не рискуя свалиться в любую минуту на пол. Она взбила подушки и привела изголовье кровати в горизонтальное положение. Выключила настольную лампу. Голубоватый, лунный свет дежурного освещения опять, как и прошлой ночью, превратил полог в мрачное, источающее мертвенный свет сооружение. Сюзанна не могла оторвать от него взгляда, в ней вновь проснулось любопытство и странное беспокойство, возникшее с тех пор, как невидимая миссис Зейферт поселилась в палате. — Сюзанна… От неожиданности она едва не слетела с кровати. Затем она села и отбросила в сторону одеяло. Она затаила дыхание, сердце замерло. — Сюзанна… Голос был тонкий-тонкий, шелестящий, словно кто-то тронул струны старинного, покрытого пылью инструмента. В нем звучала необъяснимая тревога, от него мороз шел по коже и было жутко, жутко. — Сюзанна… Сюзанна… Несмотря на то, что голос был очень тих и как бы надтреснут, он, несомненно, принадлежал существу мужского пола. И еще одно было совершенно ясно — доносился он из-за полога над кроватью Джессики Зейферт. Сюзанне наконец удалось вздохнуть полной грудью, но ее продолжала бить дрожь. В груди у нее, будто молот, ухало сердце. — Сюзанна… Прошлой ночью, услышав тот же голос из-за занавески, она сумела убедить себя, что это было лишь кошмарным сном, и смогла снова уснуть. Но тогда, как она понимала, ей дали слишком большую дозу снотворного, и она не могла понять, звучал ли таинственный голос на самом деле или был частью сна. Но сегодняшней ночью она даже не успела заснуть, снотворное еще не начало действовать. Не могло быть никаких сомнений — она слышит этот голос наяву. Жалобный зов невидимой печальной сирены вызывал у нее в душе гнетущее, тревожное чувство, доходящее до физической боли. Она боялась этого голоса, она дрожала от страха перед неведомым существом, звавшим ее из-за полога кровати миссис Зейферт, но одновременно необычайная сила притягивала ее к белому пологу, призывала подойти и отдернуть занавес. Сюзанна вцепилась одной рукой в простыню, другой — в перекладину кровати и едва удерживала себя от безумного порыва. — Сюзанна… Дрожащей рукой она нащупала выключатель настольной лампы и нажала кнопку. Свет разогнал тени, которые, как ей показалось, с большой неохотой разошлись по углам палаты, словно они были волками, бросившими добычу, уже почти полностью попавшую в их лапы. Сюзанна впилась глазами в полог соседней кровати и замерла в ожидании. Ни звука. Прошло десять секунд. Двадцать. Уже полминуты. Ничего. Полная тишина. Наконец, не выдержав, она спросила: — Кто там? Ответом было молчание. Прошло уже больше суток, с тех пор как, вернувшись с прогулки, она обнаружила, что у нее в палате появилась соседка. Миссис Бейкер сказала, что ее зовут Джессика Зейферт, иначе она так и не смогла бы узнать имя той женщины, с которой ей пришлось жить рядом. Минуло больше суток, а она не видела миссис Зейферт даже краешком глаза. Она даже не слышала толком ее голоса, только какое-то невнятное хрипение в ответ на вопрос доктора Макги да какие-то отрывистые всхлипы на обращения к ней медсестер. Окружающие не обходили пациентку вниманием — медсестры и сиделки сновали за занавеску весь день, вынося «утку», принося еду, меряя давление и пульс, давая лекарства, меняя простыни, ободряя ее словами, — но, несмотря на эту суматоху, Сюзанна и понятия не имела о том, что за человек лежит на соседней кровати. Теперь ее начинало мучить мрачное подозрение, что никакой Джессики Зейферт в кровати за пологом и в помине не было. Там был кто-то другой. Эрнест Харш? Один из его подручных? Или еще кто-то — еще более страшный? Это безумие. Никого, кроме Джессики Зейферт, там нет и не может быть, иначе придется сделать вывод о том, что весь персонал госпиталя замешан в каком-то зловещем заговоре. Такое просто невозможно себе представить. Мысли наподобие этой — о сетях заговоров вокруг нее — просто еще одно свидетельство ее болезни, нарушения функции мозга. Миссис Бейкер никогда не стала бы ей лгать. Она в этом абсолютно уверена. И все же, несмотря на эти доводы, Сюзанна не могла избавиться от ощущения, что Джессики Зейферт в палате нет, а есть некто, гораздо более опасный и ничего общего не имеющий с безобидной, умирающей от рака женщиной. — Кто там? — спросила она. Ответа не было. — Черт возьми! — возмутилась Сюзанна. — Знать тебя не знаю и знать не хочу! Или хочу! — Я слышала, как ты звал меня, — проговорила она. Или я только вообразила, что слышала голос? — Кто ты? Что ты здесь делаешь? Что ты хочешь от меня? — Сюзанна… Она содрогнулась. Голос, прозвучавший вновь, леденил душу, ибо звучал при свете. Прежде он был частью мрака, и то, что он звучал сейчас, казалось немыслимым, ужасающим. «Успокойся, — сказала она себе, — будь хладнокровна. Соберись, не падай духом. Если из-за моей болезни меня посещают видения, то почему не может быть слуховых галлюцинаций? Такое тоже бывает». — Сюзанна… Она должна во что бы то ни стало убедить себя, пока ей не стало хуже, пока она не сорвалась в истерику. Ей надо убедить себя, что никакого голоса из-за полога не доносится, что это ей только кажется. Самое лучшее средство — подойти к соседней кровати и отдернуть занавес. Никого, кроме старой больной женщины, она там не обнаружит. — Сюзанна… — Замолчи, — потребовала она. Ладони похолодели и были влажными от испарины. Она провела ими по простыне. Сделала глубокий вдох, словно хотела вдохнуть в себя побольше смелости, оставшейся где-то там, вне ее. — Сюзанна… Сюзанна… «Не тяни время! — приказала она самой себе. — Вставай, иди, надо положить конец этому кошмару». Она опустила боковое ограждение, выбралась из-под одеяла и села на край кровати. Встала на ноги, придерживаясь за матрац. До соседней кровати надо было сделать всего несколько шагов. Ее шлепанцы по другую сторону кровати, и ступни обжигал холодом пол. Всего три-четыре шага. Первый уже сделан. — СЮЮЮЮЗЗЗЗААААННННАААА… Существо на соседней кровати — а она, несмотря на все доводы разума о слуховых галлюцинациях, могла думать об обладателе голоса только как о живом существе — словно почувствовало ее приближение и ее страх. Голос из ровного превратился в надрывный, рыдающий вопль — существо не просто звало ее по имени, оно издавало протяжный вой. — СЮЮЮЗЗЗАААНННААА… Она уже подумывала, не повернуть ли ей назад и не вызвать ли на помощь дежурную медсестру. Но что, если та придет и не услышит никакого голоса? Что, если она отдернет занавеску и обнаружит за ней всего лишь несчастную старую женщину, почти беззвучно шевелящую губами в тяжелом сне? Что тогда? Она сделала второй шаг в направлении соседней кровати, и ледяной пол показался ей еще холоднее. Полог заколыхался, словно кто-то изнутри задел его рукой. У Сюзанны кровь застыла в жилах, даже сумасшедшее биение сердца не могло протолкнуть ее по сосудам. — СЮЮЮЗЗЗАААНННААА… Она отступила на один шаг. Полог затрепетал, и она разглядела неясный силуэт за плотной тканью. Голос снова позвал ее, но на этот раз в нем слышалась нескрываемая угроза. Полог снова закачался, а затем вдруг забился, словно пытаясь сорваться с крючков, которыми был прикреплен к направляющей под потолком. За занавесом металась бесформенная тень, слишком большая, чтобы принадлежать страдающей раком старой женщине, тень словно искала выхода наружу. На Сюзанну повеяло дыханием смерти. Возможно, это было еще одним признаком ее душевного расстройства, возможно, это еще раз доказывало нелепость воображаемых кошмаров. Однако ощущение было слишком сильным, чтобы не обращать на него внимания. Смерть. Смерть совсем близко. Она вдруг поняла, что меньше всего на свете ей хочется заглядывать за этот занавес. Она повернулась и попыталась спастись бегством. Споткнувшись, она замерла и оглянулась назад. Занавес трепало и крутило каким-то загадочным вихрем, при том что в комнате не было никакого сквозняка. Ткань полога дрожала, вздымалась, рвалась вверх. И понемногу начинала расходиться в стороны. Сюзанна каким-то чудом добралась до ванной комнаты, до двери в коридор путь был длиннее — она не дошла бы до нее на своих подгибающихся ногах. Оказавшись в ванной, она первым делом закрыла дверь и прижалась к ней спиной. Она задыхалась. На самом деле ничего этого нет. Мне не угрожает опасность. В ванной комнате было темно, она не могла терпеть долго темноту и одиночество. Стала искать выключатель и наконец нащупала его — в свете яркой лампы засверкали белизной стены, умывальник. Мне не угрожает никакая опасность. Сюзанна продолжала держаться за дверную ручку. Вдруг она ощутила, что неподвижная доселе рукоятка пришла в движение. Кто-то поворачивал ее с другой стороны, пытаясь открыть дверь. Она попробовала закрыть дверь на задвижку, но та была сломана и не двигалась с места. — Нет! — взмолилась Сюзанна. — Нет! Она изо всех сил вцепилась в ручку и прижала дверь плечом, упираясь ногами в скользкий, выложенный плитками пол. Потянулись секунды, больше похожие на минуты, в течение которых существо с другой стороны пыталось повернуть ручку. Сюзанне было безумно тяжело удержать ее в неподвижном положении, она стиснула зубы и напрягла свои ослабленные мускулы. Неожиданно ручку оставили в покое. Сюзанна сообразила, что затишье может оказаться уловкой, и еще крепче схватилась за нее. Кто-то начал скрестись в дверь с другой стороны. Скрежет раздавался на уровне головы. Она не могла поверить своим ушам. Тихий поначалу скрежет становился все громче. Это когти. Когти, вонзающиеся в дерево. — Кто там? В ответ — тишина. Скрежет раздавался в течение примерно тридцати секунд. Затем затих. Затем возобновился, но как бы нехотя. Затем снова стал требовательным. — Что тебе надо? Ответом был только скрежещущий звук из-за двери. — Послушай, если ты скажешь мне, кто ты, я открою тебе дверь. Никакой реакции. Она беспокойно вслушивалась в скрежет когтей. Существо методично исследовало всю дверь, включая и щель между дверью и косяком. Оно словно примеривалось, хватит ли у него сил, вцепившись когтями, сорвать дверь с петель. Спустя две-три минуты, после безуспешных попыток, существо притихло. Сюзанна напряглась, приготовившись к новой атаке на дверную ручку, но, к ее радости и удивлению, ничего подобного не случилось. Она выжидала, затаив дыхание, боясь надеяться на благополучный исход. Ванная комната продолжала сиять в ярком свете люминесцентных ламп. Из крана упала капля воды, в тишине этот звук показался удивительно звонким. Постепенно панический страх покидал ее, уступая место доводам разума. Она снова подумала, что кошмар, посетивший ее, был всего лишь бредом наяву. В самом деле, если за пологом прятался мужчина, то ему ничего не стоило бы справиться с дверью, она не смогла бы ему противостоять. Если действительно кто-то поворачивал рукоятку с другой стороны — а она уже начала в этом сомневаться, — значит, надо сделать вывод, что это существо слабее ее. Следовательно, никакой опасности для нее не представляет. Она ждала. На всякий случай подпирая плечом дверь. Дыхание стало свободнее. Время тянулось медленно, не спеша, и в такт времени успокаивалось биение ее сердца. Царила полная тишина. Однако она до сих пор не могла разжать пальцы и выпустить дверную ручку. Суставы на пальцах побелели, сами же пальцы больше походили на тонкие веточки, обвившиеся вокруг металлической рукоятки. Сюзанна вдруг сообразила, что в палате находится человек, еще более беззащитный и слабый, чем она сама, — миссис Зейферт. Может быть, она сама пыталась подняться со своей кровати? Может быть, именно из-за этого так странно колыхался полог? Возможно, старая женщина каким-то образом пересекла комнату, не в силах справиться со страшной болью или под воздействием наркотических лекарств? Возможно, именно она скреблась в дверь, не имея возможности высказать какую-то просьбу словами? Возможно, она таким образом хотела привлечь к себе внимание? «О Господи! — подумала Сюзанна. — Неужели я не пускала в ванную всего лишь бедную умирающую женщину, которая нуждалась в помощи с моей стороны?» Но открыть дверь она все же не решилась. Она просто не могла. Пока. Но потом она подумала: «Нет, нет. Миссис Зейферт, если она на самом деле существует, слишком истощена, чтобы встать с постели и добраться до ванной. Она наверняка в параличе, одна кожа да кости. Это не она. Тень, которую было видно из-за полога, была слишком большой для старой женщины. Слишком большой». Она снова услышала, как в полной тишине в раковину упала капля воды. Но, с другой стороны, возможно, никакой тени и не было. И занавеска была неподвижна. Да и голоса никакого не было, никто не крутил ручку двери, никто не скребся в нее. Все это ей померещилось. Дисфункция мозга. Разрыв всего лишь одного маленького сосудика. Крошечное кровоизлияние в мозг. Какое-нибудь незаметное нарушение связей между нейронами. Чем больше она об этом думала, тем легче ей было уходить от всяческих объяснений, связанных с заговорами или со сверхъестественными силами. Спустя некоторое время у нее осталось всего два варианта — либо вообще все это ей померещилось, либо… бедная миссис Зейферт лежит сейчас на полу по другую сторону двери, умершая вследствие того, что напуганная Сюзанна не смогла ей помочь. И в том и в другом случае нет никакой необходимости продолжать удерживать дверь. Она наконец смогла покинуть свой пост — плечо страшно ныло, весь левый бок занемел. Она перестала сжимать ручку двери, которая теперь стала ужасно скользкой от ее влажной ладони. Она открыла дверь. Дверь слегка скрипнула. Никто не ворвался в ванную комнату. Еще дрожа от страха, готовая закрыть дверь при малейшей опасности, Сюзанна начала растворять ее пошире — два дюйма, три. Она посмотрела на пол, ожидая увидеть самое худшее, однако никакой мертвой женщины на полу не было, не было серого лица, искаженного предсмертной гримасой ужаса и упрека. Палата выглядела как обычно. Возле ее собственной кровати горела настольная лампа, постель была такой же раскиданной, какой она ее оставила. Так же горело дежурное освещение. Полог вокруг кровати Джессики Зейферт продолжал оставаться задернутым, ткань его висела абсолютно неподвижно. Сюзанна медленно раскрыла дверь настежь. Никто не напал на нее. Никакой надтреснутый, получеловеческий голос не звал ее по имени. «Итак… похоже, что это все плод моего воображения, — меланхолически размышляла Сюзанна. — Мое разгоряченное воображение совершило еще один прыжок в безумие. Мой бедный, несчастный, предавший меня мозг». Всю свою жизнь Сюзанна очень осторожно относилась к алкоголю и никогда не выпивала за один вечер — а такое бывало очень и очень редко — больше двух бокалов коктейля. Всего один раз она помнила себя пьяной, это случилось в старшем классе школы, и это воспоминание было столь же памятным, сколь и неприятным. Сюзанну больше всего отвращало от опьянения то, что оно всегда было связано с потерей контроля над собой. Теперь же, не приняв ни грамма алкоголя, она потеряла над собой контроль и даже не знала, в какой момент это произошло. Это куда хуже любого опьянения, так как при последнем человек хотя бы чувствует, когда своим ощущениям уже нельзя доверять. В случае дисфункции мозга даже этого нельзя определить. Такое развитие болезни пугало Сюзанну больше всего. Что будет, если Макги не сможет найти средства, чтобы вылечить ее? Что будет, если всю жизнь ей придется влачить жалкое существование, рискуя в любую минуту сорваться в бездну безумия, в бред наяву? Она знала, что не сможет выдержать такую жизнь. Она скорее предпочтет смерть жалкому существованию калеки. Она выключила свет в ванной и тут же ощутила спиной притаившуюся сзади темноту. Медленно, превозмогая боль в ногах, двинулась по стенке к своей кровати. Дойдя до кровати, Сюзанна с помощью пульта управления опустила ее пониже, откинула боковое ограждение и села. Но что-то мешало ей оставаться в покое. Она снова поднялась на ноги и какое-то время стояла, впиваясь взглядом в полог соседней кровати. Она поняла, что еще долго не сможет заснуть. Она поняла, что ей надо сделать то, на что она не решалась ранее, — она должна сейчас пойти туда, отдернуть занавеску и доказать самой себе, что ее соседкой является всего лишь старая больная женщина. Если она этого не сделает, у нее снова начнутся галлюцинации, как только она ляжет в кровать. Ведь если не бороться с болезнью, то она одолеет тебя быстрее, чем если бы ты сопротивлялся ей. Она же была Сюзанной Кэтлин Тортон, а Сюзанна Кэтлин Тортон никогда не пасовала перед трудностями. Рядом с кроватью стояли ее шлепанцы. Она сунула в них застывшие на холодном полу ноги. Она начала обходить свою кровать, держась за нее руками. Еще пара шагов — и вот она уже рядом с пологом, здесь не за что держаться. Она подняла руку и коснулась ткани. В комнате стояла необычная тишина — словно не только она, а все в больнице затаили дыхание. Воздух был неподвижен, как в гробнице. Она уверенней схватилась за ткань, сжав ее в кулаке. «Ну открой же, открой, ради Бога, — умоляла она саму себя, поняв, что не решится сделать последний шаг. — Там нет ничего опасного, там только старая женщина, которая мирно спит, ей ведь так немного осталось жить». Отдернув рывком занавеску, она сделала еще один шаг и вцепилась рукойв металлическое ограждение кровати. Она посмотрела вниз. Сердце ушло в пятки, она поняла, что попала в Ад, что ей нет спасения. В кровати не было никакой миссис Зейферт. Там лежало нечто иное. Нечто кошмарное, сводящее с ума. Труп. Труп Джерри Штейна. Нет. Нет. Это ей только мерещится! У нее нарушено восприятие. Это болезнь — дисфункция мозга. Крошечное кровоизлияние в мозг. О… да… разрыв всего лишь одного маленького сосудика. Сюзанна опять проговорила про себя череду медицинских терминов, но труп не исчезал и не превращался в миссис Зейферт. Тем не менее Сюзанна не закричала от ужаса. Не убежала. Она решила довести дело до конца, она решила во что бы то ни стало вернуть себя к реальности. Еще крепче вцепилась она в ограждение, стараясь не упасть в обморок. Она закрыла глаза. Сосчитала до десяти. Мне все это мерещится. Открыла глаза. Труп лежал на прежнем месте. Мертвец лежал на спине, одеяло покрывало его до половины груди, он словно спал. Череп его был смят с одной стороны, на коже запеклась кровь, именно сюда нанес три смертельных удара Эрнест Харш. Руки были вытянуты по бокам поверх одеяла, их кисти вывернуты ладонями кверху, мертвец будто цеплялся пальцами за уже ускользавшую от него жизнь. Труп выглядел не совсем так, как Джерри Штейн той страшной ночью, наверное, потому, что уже начал разлагаться, смерть брала свое. Кожа стала серой с зеленоватыми разводами возле глаз и у краев рта. Веки были прикрыты. Из ноздрей вытекала и запеклась черная кровь. Кровоподтеки были и по сторонам сломанного носа несчастного. Несмотря на разложение и обезображенные черты лица, никакого сомнения не возникало — это был именно Джерри Штейн. Но Джерри умер тринадцать лет назад! За это время смерть наверняка не пощадила его. Тело давно уже подверглось бы полному разложению. Он должен был представлять собой скелет с остатками волос на черепе. И, однако, перед ней лежал труп Джерри Штейна — такой, каким он мог бы быть через неделю, максимум через десять дней после своей гибели. «Значит, ты бредишь наяву, — доказывала себе Сюзанна, сжимая изо всех сил металлический поручень кровати. — Это всего лишь галлюцинация. Так не бывает в действительности, это противоречит природе, разуму, это полная чушь. Это всего лишь бредовое видение, оно существует только в твоей голове». Еще больше убеждало то, что от трупа вообще не доносилось никакого запаха разложения. Если бы перед ней был действительно труп, пусть даже недавно умершего человека, здесь стоял бы невыносимый запах. Но воздух был абсолютно чист. «Прикоснись к нему, — приказала она себе. — Видение сразу исчезнет. Не бывает осязаемых миражей. Если попытаться взять в руки привидевшееся в мираже, то руки обнаружат пустоту. Ну же, смелей. Прикоснись и докажи, что на самом деле здесь ничего нет». Она не могла это сделать. Рука, словно примороженная к железному поручню, не подчинялась ей, у нее не хватало смелости дотронуться до серой холодной плоти трупа. Вместо этого Сюзанна вдруг стала вслух шептать слова заклинания, которые должны были, по ее мысли, развеять видения: «На самом деле ничего нет. Мне все только мерещится. Все это лишь у меня в голове». Веки трупа вздрогнули. Нет! Веки начали подниматься. «Нет, нет, — отчаянно уговаривала она себя. — На самом деле все это мне только кажется». Глаза, показавшиеся из-под век, не были похожи на глаза живого человека — они вышли из орбит и закатились так, что видны были только белки; хотя, впрочем, и белками их назвать было нельзя — они были желтыми, пронизанными коричневатой сеткой сосудов. Но неожиданно они задвигались вернулись на место, вылупились, и стали отчетливо видны карие зрачки, подернутые молочно-белой пленкой. Они вглядывались сначала в потолок, ничего не замечая, и лишь затем повернулись в сторону Сюзанны. Она закричала, но не услышала своего крика. Крик замер в ней, прокатившись где-то внутри, словно мячик, скатывающийся по ступенькам лестницы вниз. Она отчаянно замотала головой, вздрогнув от отвращения и поперхнувшись слюной. Труп начал поднимать закоченевшую серую руку. Его согнутые пальцы стали медленно распрямляться. Он тянулся к ней. Она отдернула свою руку от металлического поручня, словно обжегшись о раскалившийся металл. Труп раскрыл свой тронутый тлением отвратительный рот. Остатки языка и губ в немыслимом усилии зашептали: — СЮЮЮЗЗЗАААНННААА… Она отшатнулась. Это мне кажется, кажется, кажется… Внезапно, в одно мгновение, будто под воздействием электрошока, труп сел в кровати. «Все это мне только мерещится», — твердила она себе, из последних сил пытаясь следовать совету Макги. Мертвец снова позвал ее по имени и ощерился улыбкой. Сюзанна рванулась прочь от кошмара и помчалась к двери в коридор, шлепанцы с громовым звуком хлопали о кафельный пол. (Я уже не знаю, что я делаю.) Путь до двери показался ей безумно длинным, наконец она схватилась за ручку двери, начала вертеть ее, но дверь (Мне надо остановиться и позвать на помощь.) не поддавалась, она казалась чертовски массивной. Сюзанна стала проклинать свою слабость, которая отнимала у нее драгоценные секунды. Она уже слышала какие-то отвратительные шлепающие звуки у себя за спиной. (Все это только кажется.) Она навалилась на дверь всей тяжестью и наконец смогла ее открыть. (Я убегаю от призрака.) Она выбежала в коридор, не осмеливаясь оглянуться назад, чтобы проверить, не бежит ли мертвец за ней. (Это всего лишь призрак.) Она споткнулась, почти упала, повернула налево по коридору, петляя из стороны в сторону. Ноги жгла невыносимая боль, мускулы, казалось, плавились, словно воск, при каждом шаге. Она припала к стене и начала ползти вдоль нее, она задыхалась, не зная, удастся ли сделать ей следующий шаг, она упала на пол, ощутив у себя на затылке холодное дыхание мертвеца. (Это только кажется.) Каким-то образом ей удалось подняться на ноги, она вбежала в главный коридор больницы и увидела возле лифта пост дежурной медсестры. Она пыталась снова крикнуть, но крик опять замер у нее в горле. Она оттолкнулась от стены и устремилась к столику медсестры. За помощью. За спасением. Медсестра Сколари и пышная розовощекая медсестра Бет Хоуи сделали вдвоем для Сюзанны то, что она не смогла сделать сама, — они успокоили ее так, как когда-то доктор Макги успокаивал своих бредящих от наркотиков пациентов в госпитале в Сиэтле. Они провели ее за стол и усадили в удобное кресло. Дали воды. Они уговорили ее не беспокоиться ни о чем, они облегчили ей душу, выслушали ее, пожалели, успокоили. Но они так и не смогли ее убедить, что она может без боязни возвратиться в свою палату. Сюзанна хотела бы провести остаток ночи в другой, в любой другой палате. — Боюсь, что это невозможно, — развела руками Тина Сколари, — видите ли, у нас был вчера большой наплыв пациентов. Теперь больница переполнена. Да к тому же и ваша палата, 258-я, ничем не хуже остальных. Точно такая же, как и другие. Вы же знаете, что это так, Сюзанна? Вы же понимаете, что случившееся было всего лишь очередным приступом вашей болезни. Это было просто проявление недуга. Сюзанна кивала, но в душе она не верила медсестре. — Я еще… я… не хочу… туда возвращаться, — пролепетала она, дрожа всем телом. Пока Тина Сколари уговаривала Сюзанну, Бет Хоуи пошла бросить взгляд на 258-ю палату. Она вернулась через пару минут и доложила, что там все в порядке. — А миссис Зейферт? — спросила Сюзанна. — Она так и спит в своей кровати, — ответила Бет. — Вы уверены, что это она? — Безусловно. Она спит детским сном. — А вы не нашли чего-нибудь?.. — Абсолютно ничего, — успокоила ее Бет. — Вы проверили? Может быть, это куда-нибудь спряталось? — Там и прятаться-то негде. — Но вы проверили? — Да. Там, кроме старой женщины, никого нет. Они усадили Сюзанну в кресло-коляску и вдвоем повезли в 258-ю палату. Чем ближе они подъезжали, тем больше Сюзанну пробивала дрожь. В палате полог над кроватью миссис Зейферт был плотно задернут. Они миновали кровать Сюзанны и двинулись к соседней. — Постойте, — сказала Сюзанна, разгадав их намерения. — Я хочу, чтобы вы сами убедились, — пояснила Бет Хоуи. — Нет, я не смогу. — Сможете, сможете, — подбодрила ее Бет. — Вы просто должны это сделать, — добавила Тина Сколари. — Но… я не думаю… что смогу. — А я уверена, что вы не побоитесь, — настаивала медсестра. Они подвезли ее прямо к кровати Джессики Зейферт. Бет Хоуи отдернула полог. Сюзанна в ту же секунду закрыла глаза. Руками схватилась за подлокотники кресла-коляски. — Посмотрите же сюда, Сюзанна, — предложила Тина. — Посмотрите, — сказала Бет, — это всего лишь Джесси. — Вы уверены? — Конечно, это точно Джесси. Закрыв глаза, Сюзанна снова увидела мертвеца — человека, которого когда-то давно любила, а теперь боялась, так как он стал воплощением смерти. Она отчетливо видела, как он сидит в кровати и улыбается ей губами, напоминающими ошметки сгнившего фрукта. Кошмар, представший перед ее мысленным взором, был до того невыносим, что она открыла глаза, надеясь увидеть что-нибудь менее страшное. В кровати лежала старая женщина, настолько высохшая, маленькая, изъеденная болезнью, что она казалась ребенком с лицом в морщинах, которого по ошибке положили во взрослую постель. Отличие было только в коже — кожа старой леди пожелтела и стала похожей на пергамент. Сморщенный рот вытянулся тоненькой нитью. Рядом с кроватью стояла капельница, игла от нее торчала из левой руки Джессики, которая была еще тоньше, чем руки Сюзанны. — Значит, это и есть Джессика Зейферт, — промолвила Сюзанна, чувствуя огромное облегчение от того, что такой человек на самом деле существует. Но одновременно она недоумевала, каким образом ее сознание могло так легко превратить безобидную старушку в ожившего мертвеца мужского пола. — Да, это наша бедная Джесси, — сказала Бет. — Она была знаменита на весь Уиллауок еще с тех пор, как я была ребенком, — добавила Тина. — Она, по-моему, стала знаменита еще с незапамятных времен, — возразила Бет. — И все ее просто обожали, — заявила Тина. Джессика продолжала мирно спать, заметно было, как вздрагивали при дыхании ее ноздри. — Если бы она разрешила пускать к себе посетителей, сюда бы сразу пришло не менее двухсот человек, — продолжала Бет. — Но она не хочет, чтобы ее видели в таком вот виде, — вздохнула Тина, — как будто кто-нибудь может подумать о ней хуже из-за этой худобы. — Ее же любили не из-за внешности, это точно, — подхватила Бет. — Конечно, — поддержала Тина. — Теперь чувствуете себя лучше? — спросила Бет, обращаясь к Сюзанне. — Да, вроде бы. Бет задернула полог. Сюзанна не унималась: — Вы посмотрели в ванной комнате? — О да, — ответила Бет, — там никого нет. — Мне бы хотелось взглянуть самой, если вы не возражаете, — попросила Сюзанна. Она чувствовала, что выглядит очень глупо, но ничего не могла пока поделать со своими страхами. — Конечно, ради Бога, — не подала виду Бет. — Давайте заглянем туда, раз это необходимо для вашего спокойствия. Тина подкатила кресло к двери в ванную комнату, а Бет зажгла свет. В ванной никаких мертвецов не было. — Я, наверное, выгляжу полной идиоткой, — сказала Сюзанна, чувствуя, как ее щеки заливает краска стыда. Тина Сколари была невозмутима: — Доктор Макги оставил нам очень подробные письменные указания о состоянии вашего здоровья. Очень подробные указания. — Мы все тут болеем за вас, — успокаивающе проговорила Бет. — Мы вам обязательно поможем встать на ноги, — пообещала Тина. — Вы очень скоро поправитесь. Нет, правда, скоро. Доктор Макги умеет творить чудеса. Самый лучший врач в нашей больнице. Медсестры помогли Сюзанне перебраться на ее кровать. — А теперь, — сказала Тина Сколари, — мы дадим вам вторую таблетку снотворного, раз первая не подействовала. Снотворное слабое, но, по-моему, его вам будет не хватать. Так что выпьем таблетку. — Да, я без него точно не смогу заснуть, — призналась Сюзанна. — Я еще подумала… не могли бы вы… — Что сделать? — Как вы считаете… не могла бы одна из вас посидеть со мной… пока я засну? Сюзанна, высказывая эту просьбу, чувствовала себя беспомощным ребенком — жалким, зависимым, запуганным привидениями тридцатидвухлетним ребенком. Она ненавидела в этот момент саму себя, но ничего не могла поделать. Несмотря на все свои заклинания о болезненном восприятии, связанном с травмой мозга, она не могла избавиться от страха, боязни того, что она проснется в своей палате и опять услышит странный голос и увидит ожившего мертвеца. Тина Сколари вопрошающе посмотрела на Бет Хоуи. Бет подумала и сказала: — Кажется, сегодня вечером у нас не очень много работы, правда? — Нет-нет, — ответила Тина, — дежурная смена в полном составе, и пока что не было никаких происшествий. Бет улыбнулась Сюзанне. — Сегодня спокойная ночь. Ни одного вызова по «Скорой» на автомобильную аварию, драку в пивной или что-то в этом роде. Я думаю, одна из нас вполне может провести с вами часок, пока снотворное не подействует. — Наверное, даже часа не понадобится, — добавила Тина. — Вы напрасно беспокоитесь, Сюзанна. Снотворное подействует через несколько минут, и вы заснете детским сном. — А я подежурю около вас, — сказала Бет. — Спасибо вам огромное. — Сюзанна в душе испытывала неимоверный стыд из-за того, что она боялась оставаться одна в темноте. Тина вышла и вскоре вернулась с лекарством. Сюзанна даже не смогла налить толком воду в стакан, чтобы запить снотворное. Расплескав половину, она припала к воде, стараясь скрыть дрожь. В довершение всего она поперхнулась таблеткой. — Не сомневайтесь, что теперь вы сможете спокойно отдохнуть, — сказала на прощание Тина Сколари. Бет пододвинула стул поближе к кровати, села, расправив халат, и принялась читать журнал. Сюзанна сначала смотрела в потолок, затем перевела взгляд на завешенную пологом кровать Джессики Зейферт. Теперь кровать не производила такого мрачного впечатления. Темнота из полуоткрытой двери в ванную комнату также не пугала Сюзанну. Она вспомнила мертвеца, настойчиво скрежещущего в дверь ванной, ее отчаянные попытки удержать дверь закрытой. В ушах явственно звучал нестерпимый скрежет ногтей о дерево. Да нет же, такого просто не могло быть. Мало ли что может померещиться. Она закрыла глаза. «Джерри, я на самом деле когда-то была в тебя влюблена, — проносились у нее в голове слова. — Я была влюблена так, как влюбляются, наверное, все, кому девятнадцать. Ты говорил мне, что любишь меня. Зачем ты явился теперь и нагоняешь на меня смертельный ужас? Разве я виновата перед тобой в чем-нибудь?» «Конечно, мне все померещилось. Такого просто не могло быть». «Пожалуйста, Джерри, покойся с миром на кладбище в Филадельфии, там, где твое тело было предано земле. Оставайся там, пожалуйста. Не приходи ко мне больше. Останься там. Пожалуйста». Не осознавая, что засыпает, она переступила порог сна и погрузилась в него.Глава 11
Медсестра разбудила Сюзанну в шесть часов утра. Наступила среда, день был пасмурный, но без дождя. В половине седьмого пришел Макги. Еще один поцелуй в щеку, пожалуй, более продолжительный по сравнению с предыдущими. — Я не ожидала, что ты придешь так рано, — призналась Сюзанна. — Хочу сам посмотреть на результаты твоих анализов, — объяснил Макги. — Наверное, вчера поздно пришел домой? — Не угадала. Я быстренько прочитал свой доклад и незаметно исчез. Не стал дожидаться суда Линча. — А если серьезно, как твой доклад? — Скажем так — десертом в меня никто не бросался. — Я же говорила, тебя ждет колоссальный успех. — Возможно и другое объяснение: десерт был единственным съедобным блюдом из всего ужина и никто не захотел от него отказываться. — Я не сомневаюсь — ты был великолепен. — Предупреждаю — переключаться на чтение лекций я не собираюсь. А вообще, хватит обо мне. Насколько я понял, прошлой ночью не обошлось без приключений. — Боже, неужели им надо было все рассказать тебе? — Конечно. Тебе придется сделать то же самое. Я настаиваю на подробном рассказе. — Зачем? — Затем, что я требую этого. — А доктора надо слушаться. — Совершенно верно. Я готов тебя выслушать. Преодолевая неловкость, Сюзанна рассказала подробно о мертвеце, обнаруженном ею за занавеской. На свежую голову ей самой эта история казалась дикой и нелепой, и она не переставала удивляться тому, что могла хотя бы на время поверить в реальность произошедшего с ней. Когда рассказ подошел к концу, Макги воскликнул: — Хорошенькая сказочка! Волосы дыбом встают! — Не знаю, стал ли бы ты шутить, оказавшись на моем месте. — Скажи, теперь, все обдумав, ты понимаешь, что это был всего лишь очередной эпизод твоей болезни? — Ты хочешь сказать — очередная серия из «мыльной оперы» про Сюзанну Тортон? — Нет, я хочу всего лишь сказать, что это была очередная галлюцинация, еще один приступ болезни, — серьезно проговорил доктор. — Теперь ты это понимаешь? — Да, — сказала она с подавленным видом. Он заметил ее настроение и спросил: — Что-то не в порядке? — Нет-нет, все хорошо. Он нагнулся и приложил ладонь к ее лбу, словно хотел проверить, нет ли у нее повышенной температуры. — Ты себя нормально чувствуешь? — Да, если все, что происходит, считать нормальным, — угрюмо ответила она. — У тебя озноб? — Нет. — Ты же вся дрожишь. — Совсем чуть-чуть. — Не чуть-чуть, а сильно. Сюзанна сжалась и ничего не ответила. — Что-то случилось? — продолжал допытываться Макги. — Я… я боюсь. — Тебе совершенно нечего бояться. — Боже, что со мной? — Я обязательно найду причину. Сюзанна, как ни старалась, не могла унять дрожь. Вчера утром, когда она не сдержала своих чувств перед Макги и расплакалась, уткнувшись ему в плечо, она думала, что ее переживаниям наступил предел и дальше ей будет лучше и лучше. Не тут-то было. Вчера она впервые в жизни поняла, что нуждается в других людях, в их помощи, в крепком плече человека, стоящего рядом. Это был страшный удар для женщины, построившей всю свою жизнь на принципах рациональности, изгнавшей из нее все чувства. Но сегодня утром ее ждал новый удар судьбы — еще более жестокий: она вдруг поняла, что люди которым она доверилась, могут когда-нибудь подвести Она всецело поверила Макги, медсестрам, они должны были спасти ей жизнь. Конечно, она не имела в виду, что они подведут ее осознанно, злонамеренно. Просто все они были людьми, обычными людьми со свойственными им слабостями. Не все в их власти. Просто у них может ничего не получиться, вот и все. И тогда она будет на всю жизнь приговорена к чудовищному существованию, в котором не отличишь болезненного бреда от действительности. В конце этого пути ее ждет сумасшедший дом. Поэтому она не могла унять сотрясавшей ее дрожи. — Что со мной будет? — С тобой все будет хорошо, — сказал Макги. — Но… пока мне все хуже и хуже, — прошептала она, стараясь скрыть предательскую дрожь в голосе. — Нет, ты ошибаешься, никакого ухудшения нет. — Мне на самом деле гораздо хуже, — настаивала Сюзанна. — Послушай, Сюзанна, эта ночная галлюцинация в самом деле могла быть мрачнее предыдущих… — Могла быть? — Ну хорошо, она была мрачнее, чем все предыдущие… — Мало того, нынешней ночью кошмар был слишком похож на явь, слишком. — Да, похож, но заметь, что он привиделся тебе после довольно большого перерыва. Предыдущий был, когда ты приняла двух санитаров за Джеллико и Паркера. То есть тебя, во всяком случае, не бросает постоянно из одного кошмара в другой. Сюзанна покачала головой и прервала рассуждения Макги: — К сожалению, все не так. Между этими двумя случаями, о которых ты только что говорил, был еще третий. Я о нем не упоминала. Это… случилось вчера… днем. Макги нахмурил брови. — Когда это произошло? — Я же говорю — вчера днем, после обеда. — После обеда ты была в отделении физиотерапии у миссис Аткинсон. — Правильно. После того как я с ней попрощалась, все и началось. Сюзанна рассказала, как Мэрфи и Фил втолкнули ее в лифт, в котором уже находились четыре негодяя. — Почему ты вчера вечером ничего мне не сказала? — спросил Макги, он явно был недоволен. — Ты так спешил… — Спешил, но не до такой же степени… Разве я не внимательный врач? Я всегда думал, что это именно так. А внимательный врач всегда найдет время для того, чтобы выслушать пациента, у которого нервы на пределе. — Когда ты вчера заходил, с моими нервами было все в порядке. — Да? А мне кажется, что ты просто запрятала свои страхи в себя. От этого не становится легче, поверь мне. — Еще я не хотела, чтобы ты опоздал на свое совещание. — Это не оправдание, Сюзанна. Я твой врач. Ты должна постоянно держать меня в курсе всех своих дел. — Извини, — тихо проговорила она, потупив глаза. Она не смела поднять голову и встретить взгляд его неотразимых, синих-синих глаз. Она не могла заставить себя рассказать об истинных причинах своего молчания. Она боялась, что он примет ее за истеричку, что он, чего доброго, начнет в душе посмеиваться над ее нелепыми страхами. Но больше всего она опасалась, что он будет жалеть ее. А теперь, когда ей в голову начали приходить мысли о любви, больше всего на свете она боялась жалости с его стороны. — Ни в коем случае не скрывай от меня ничего. Рассказывай обо всем, даже о том, что тебе показалось, померещилось. Абсолютно обо всем. Если у меня не будет полной картины твоего состояния, я не смогу докопаться до причин твоего недуга. Мне нужно знать все до мелочей. Сюзанна покорно кивнула. — Ты прав. Отныне ничего от тебя скрывать не буду. — Обещаешь? — Обещаю. — Вот и хорошо. — Но пойми, — продолжала она, не поднимая глаз. — Мне действительно все хуже и хуже. Он погладил ее по щеке. Сюзанна подняла на него глаза. — Послушай, — начал он мягко, ободряющим тоном. — Даже если признать, что приступы болезни идут один за другим, все равно нельзя отрицать, что тебе удается выходить из них без серьезных потерь. Кризис проходит, и ты опять в состоянии проанализировать случившееся. Ты приходишь каждый раз к выводу, что это были всего лишь галлюцинации. Так? Вот если бы ты продолжала после приступа считать, что к тебе на самом деле приходил мертвец, тогда твои дела были бы совсем плохи. Если бы твои дела были так плохи, я стоял бы сейчас здесь перед тобой и обливался бы потом от ужаса, от отчаяния. Точно тебе говорю. Но это же не так. Разве у меня сейчас лоб в испарине? Посмотри. Он сухой. Никакого повода для паники у меня нет. Поэтому я не волнуюсь, не исхожу потом и не могу рекламировать по телевидению лучшее средство от пота — дезодорант «Райт Гард». Так? Сюзанна улыбнулась. — Так. — Я сухой, как спичка. Нет, слушай, я сухой, как передержанная в печке курица по-французски, когда я пытаюсь ее приготовить для гостей. Кстати, ты сама-то умеешь готовить курицу по-французски? — У меня было несколько попыток. — Неудачных? — Удачных. — Сюзанна снова улыбнулась. — Отлично. Я так и думал — ты прекрасно готовишь. «Что он хочет этим сказать?» — подумала Сюзанна. Судя по глазам, он совсем не прикидывается, он действительно интересуется ею так же, как она искренне заинтересована знать побольше о нем. Все же сомнения остаются, она не доверяет до конца своему восприятию. — А теперь, — бодро продолжал доктор, — прочь все дурные мысли, разрешается думать только о чем-нибудь хорошем. — Я буду стараться, — пообещала она, однако продолжала дрожать как осиновый лист. — Так-так, надо не просто постараться, надо приложить все силы. Надо выпрямить спину. Вот так. Это указание врача, надо подчиняться беспрекословно. А теперь я схожу за санитарами, они привезут сюда каталку, и мы направимся вниз, чтобы начать наконец серию анализов и тестов. Ты готова? — Готова. — Где улыбка? Сюзанна улыбнулась. Он улыбнулся ей в ответ и сказал: — Запрещается менять выражение лица до следующего указания. — Он направился к двери, обронив: — Я вернусь через минуту. Макги вышел из палаты, и улыбка тотчас сползла с лица Сюзанны. Она вновь повернула голову в сторону завешенной пологом кровати. Дорого бы она дала за то, чтобы этой кровати здесь не было. Так хочется взглянуть на небо. Пусть даже на пасмурное, на такое, каким оно было вчера. Если бы хоть кусочек неба, у нее не было бы ощущения, что она в западне. Никогда еще она не чувствовала себя столь несчастной. Она была вымотана, сил не осталось совсем, и это несмотря на то, что выздоровление шло полным ходом. Депрессия. Вот имя ее нынешнего врага. Она подавлена. Подавлена не тем, что посторонние взялись что-то решать за нее. Нет. Больше всего угнетало то, что они решают за нее все. Она беспомощна, как грудной ребенок. Ей одной не победить недуг. Она может только лежать на этой проклятой каталке, подобно безжизненному телу, и ждать, пока они проделают над ней все возможные анализы и опыты. Еще один взгляд в сторону кровати миссис Зейферт. Полог висит ровно, ткань не колышется. Прошлой ночью она не просто отдернула занавес, скрывавший больничную кровать. Она отдернула занавес, за которым притаилось безумие. На несколько мгновений она погрузилась в тот мир, из которого немногим удается вынырнуть. А еще она подумала о том, что было бы, если бы прошлой ночью ей не удалось вырваться из круга галлюцинаций. Что случилось бы, останься она рядом со вздыбившимся трупом Джерри Штейна? К своему ужасу, она знала ответ на этот вопрос. Останься она там, у кровати, дождись она, пока ее погибший возлюбленный встанет во весь рост и поцелует ее своими ледяными разложившимися губами, случись все это с ней, исход был бы очевиден — она сошла бы с ума. Ее сознание не выдержало бы кошмара, оно лопнуло бы, подобно натянутой нити, и уже никому не удалось бы связать эту нить воедино. Ее нашли бы на полу, корчащейся в припадке безумия, с вылезшими из орбит глазами. Ее перевезли бы из больницы округа Уиллауок в какую-нибудь тихую психиатрическую лечебницу. Там она провела бы остаток дней, там, в чудной комнате со стенами, обшитыми мягким поролоном. Если такое случится с ней еще раз, она не выдержит. Даже для доктора Макги она не сможет этого сделать. Даже ради их будущей жизни вдвоем она не сможет этого пережить. Слишком сильно натянута нить. «Господи, помоги, — просила она, — пусть врачам удастся найти причину моего недуга. Помоги доктору Макги вылечить меня. Пожалуйста, помоги».* * *
…Стены и потолок были выкрашены в один и тот же голубоватый цвет. Сюзанна лежала на каталке, голова ее покоилась на невысокой твердой подушке, и она, глядя в потолок, ощущала себя как бы подвешенной где-то совсем рядом с голубыми летними небесами. Появился Джефф Макги. — Начнем, пожалуй, с электроэнцефалографии. — Никогда раньше не сталкивалась с такой штукой, — призналась Сюзанна. — Ошибаешься, — поправил ее доктор, — мы делали тебе электроэнцефалограмму, когда ты была в коме. Ты, конечно, ничего не почувствовала тогда. А теперь главное — не бояться, это совсем не больно. — Я понимаю. — После этой процедуры мы будем иметь полное представление о состоянии мозга. Если где-то есть нарушение, мы увидим его на энцефалограмме почти наверняка. — Почти? — К сожалению, этот прибор несовершенен. Медсестра выкатила прибор из угла процедурного кабинета и поставила его рядом с каталкой. — Он будет работать лучше, если ты расслабишься. — Я уже расслабилась. — Дело в том, что показаниям этого прибора, снятым с человека, находящегося в стрессовом состоянии, доверять нельзя. — Я точно расслабилась, — повторила Сюзанна. — Давай проверим. Подними руку. Она послушно приподняла правую руку. — Держи ее перед собой, пальцы выпрями. О'кей. Теперь разведи пальцы. — Он внимательно посмотрел, затем удовлетворенно кивнул. — Хорошо. Ты и в самом деле расслабилась, стала спокойнее. Дрожи уже нет. Переместившись на первый этаж больницы, в лабораторию, Сюзанна действительно немного успокоилась, так как наглядно увидела процесс своего лечения. Как и всякий хороший ученый, она с уважением относилась к происходящему — к тестам, процедурам, анализам. Она видела, что идет планомерный поиск причин ее недуга, одна за другой отбрасываются не оправдавшие себя гипотезы. Ей стало легче, она поверила в правильность того, что происходит. Она также поверила в Джеффри Макги. Она не сомневалась в его врачебной квалификации и способностях. Он знает, что делает, он знает, как ее вылечить. После всех процедур причина будет найдена. Это займет определенное время, но другого выхода нет. Сейчас Макги делает только первые шаги к разгадке тайны ее болезни. Он обязательно избавит ее от мук и кошмаров. Она была уверена в этом. — Моему спокойствию могут позавидовать улитки, — сказала она. — Я бы скорее сравнил с морскими ракушками. — Да?! Почему это? — Тебе это сравнение больше подходит. — Неужели я больше похожа на морскую раковину, а не на улитку? — Нет. Просто в морских раковинах находят жемчуг. — Ах вот как? — она рассмеялась. — Да, ты выкрутишься из любой ситуации. — Ага, я парень не промах. Макги подсоединил восемь проводков к голове Сюзанны, по четыре с каждой стороны. — Для начала снимем сигналы с левого и правого полушарий мозга, — объяснял он попутно, — затем сравним их. Возможно, разница в сигналах покажет нам, где именно произошел сбой. Медсестра включила прибор. — Держи голову ровно, любое резкое движение может повлиять на результат. Сюзанна покорно уставилась в потолок. Макги тем временем пристально вглядывался в зеленый подмигивающий экран, который был вне поля зрения Сюзанны. — Нормальная картина, — произнес он, в голосе чувствовалось легкое недоумение. — Никаких острых всплесков, никаких плоских участков на диаграмме. Хорошая, ровная картина. Все параметры соответствуют норме. Сюзанна продолжала лежать, боясь пошевелиться. — Никаких отклонений, — произнес Макги, как бы обращаясь к себе, а не к Сюзанне или медсестре. Сюзанна услышала, как он щелкнул каким-то переключателем. — Теперь я смотрю на результаты сравнительного анализа, — пояснил он. Затем наступила пауза. Медсестра отошла в сторону и начала готовить другую аппаратуру — то ли для Сюзанны, то ли для какого-то пациента. Прошло еще несколько минут. Макги выключил прибор. — Ну как? — сразу спросила Сюзанна. — Ничего не нашел. — Совсем ничего? — Дело в том, что электроэнцефалограф, безусловно, полезная штука, но он ни в коем случае не может дать ответ на все вопросы. Некоторые пациенты с серьезными нарушениями в работе мозга дают на экране совершенно нормальную картину, а другие, без явных симптомов, — диаграмму, от которой волосы дыбом встают. Этот прибор иногда помогает поставить диагноз, но далеко не всегда. Мы начали с него, но впереди еще много процедур. Сюзанна была слегка разочарована, но надежда продолжала согревать ее. — Что будем делать дальше? Макги снял с ее головы провода и сказал: — Теперь пойдем на рентген. Мы его уже делали, но я хочу повторить. — Должно быть, хорошая штука. — О да! Повеселимся вдоволь. Рентгеновский кабинет представлял собой комнату с белоснежными стенами, всю заставленную множеством сверкающих полированным металлом приборов. Ей показалось, что оборудование кабинета было не самым современным. Она, конечно, не являлась специалистом по рентгеновскому оборудованию, просто ей так показалось. Впрочем, в этом не было ничего удивительного — откуда в провинциальной больнице может быть суперсовременное оборудование. «Оно устаревшее, но выглядит вполне нормально», — подумала она. Рентгенолог был совсем молодым человеком, звали его Кен Пайпер. Они подождали, пока он проявит рентгеновские снимки. Когда они были готовы, он закрепил их на специальном экране с подсветкой. Пайпер и Макги о чем-то зашептались, показывая пальцем на снимки. Сюзанна наблюдала все это с каталки, на которую она перебралась с кушетки под рентгеновским аппаратом. Первые снимки были просмотрены, настал черед второй серии. Снова шепот и указующие жесты. Макги закончил просмотр и с задумчивым видом обернулся. Сюзанна не выдержала, спросила: — Что-нибудь нашли? Он вздохнул и ответил: — Могу сказать, чего мы точно не нашли — мы не нашли никаких повреждений тканей мозга. — Нет также никаких признаков кровоизлияний, — добавил Кен Пайпер. — В гипоталамусе тоже нет патологии. Многие пациенты, страдающие болезненными галлюцинациями, имеют нарушения именно в этом отделе мозга, — объяснял Макги. — Никаких следов внутричерепных травм, повышенного внутричерепного давления. — Вашим рентгеновским снимкам можно просто позавидовать. — Кен Пайпер сиял от радости. — Вам совершенно не о чем беспокоиться, мисс Тортон. Сюзанна посмотрела на Макги и увидела, что он разделяет ее тревогу. К несчастью, Кен Пайпер ошибался, у нее была масса причин для беспокойства. — Что дальше? — спросила она. — Я бы хотел взять пункцию спинного мозга. Эта процедура может дать ответ на вопросы, которые не смогли прояснить рентген и электроэнцефалограмма. Есть параметры, которые можно определить только через анализ спинномозговой жидкости. Макги позвонил из кабинета рентгенолога в лабораторию и попросил приготовить все необходимое для анализа спинномозговой ткани, которую он собирался взять у пациентки. Положив трубку, он произнес, обращаясь к Сюзанне: — Чем раньше мы с этим покончим, тем будет лучше.* * *
Несмотря на новокаиновую блокаду, Сюзанна все же ощутила боль, но она была к ней готова и не испугалась. Она лишь прикусила губу, гораздо труднее ей было оставаться в неподвижном состоянии из боязни того, что игла сломается при резком движении. Вытягивая жидкость в шприц, Макги покосился на измеритель давления и прокомментировал: — Давление в норме. Пару минут спустя, когда была взята последняя проба, Сюзанна облегченно вздохнула и вытерла рукой слезинки, появившиеся на глазах во время болезненной процедуры. Макги посмотрел на свет пробирку с образцом жидкости. — Пока можно сказать только то, что она — прозрачная. — Как долго придется ждать результатов? — спросила Сюзанна. — Совсем недолго, — ответил Макги. — А пока займемся остальными анализами. Как насчет того, чтобы сдать кровь? — Ради выяснения истины готова на все, — дурачась, заявила Сюзанна.* * *
Около десяти часов утра Макги отправился в лабораторию узнать, как идет работа. За Сюзанной пришли Мэрфи и Фил, чтобы помочь ей добраться до палаты. Она понимала, что санитары не виноваты в кошмаре, посетившем ее вчера, и никакого злого умысла у них и в помине не было — все это лишь привиделось ей в бредовом сне, но побороть себя до конца не смогла — пришлось выдавливать из себя дружелюбную улыбку. — Все население третьего этажа страшно скучает без вас, — начал Фил, выходя с каталкой в коридор. — Очень много скорбных лиц, людям трудно перенести разлуку, — добавил Мэрфи. — Не может быть, — притворно удивилась Сюзанна. — Точно-точно, — подтвердил Фил. — Вообще без вас на третьем этаже очень мрачно, — пожаловался Мэрфи. — Как в темнице, — подхватил Фил. — Как на кладбище, — поправил товарища Мэрфи. — Как в больнице, — выдал сравнение Фил. — Так мы и находимся в больнице, — серьезно проговорила она, включаясь в игру и пытаясь не падать духом. До лифта им оставалось совсем немного. — Вы абсолютно правы! — воскликнул Мэрфи. — Это — больница, тут не может быть никаких сомнений, — с важным видом подтвердил Фил. — Но когда вы рядом, волшебница… — …все поет, сверкает… — …как на роскошном курорте… — …словно в сказочной стране, где всегда светит солнце… — …словно живешь в экзотической, невиданной стране… — …вроде Месопотамии. Они доехали до лифта, и Сюзанна затаила дыхание. — Фил, я же говорил тебе вчера — никакой Месопотамии давно уже не существует. Один из санитаров нажал на кнопку, вызвал лифт. — Тогда куда же, по-твоему, я езжу каждую зиму, Мэрфи? В моем туристическом агентстве мне говорили, что эта страна называется Месопотамией. — Боюсь, Фил, что тебя в этом агентстве водят за нос. Скорее всего они посылают тебя каждый год в Нью-Джерси. Двери лифта раздвинулись. Сюзанна сжалась в комок. В лифте никого не оказалось. — Но, Мэрфи, я точно никогда не был в Нью-Джерси. — Я рад за штат Нью-Джерси, Фил. «Черт возьми, я больше не могу, — подумала Сюзанна, когда они выруливали из лифта в коридор третьего этажа. — Я просто не смогу жить, подозревая каждого встречного. Я не выдержу постоянного ожидания новых ужасов. Я ведь жду, что кошмар может начаться за каждой дверью, за каждым углом». Да есть ли вообще на земле человек, способный вынести эту пожизненную пытку, это бесконечное путешествие через дебри кошмаров, мимо круглосуточных балаганов, где демонстрируют смертельные ужасы. Разве есть человек, который согласится жить такой жизнью?* * *
Джессики Зейферт в палате не было. Занавес убрали. Санитар снимал с кровати постельное белье и отправлял его в корзину. На вопрос Сюзанны он ответил: — Миссис Зейферт стало хуже. Ее пришлось срочно переправлять в палату интенсивной терапии. — Бедная женщина. — Это должно было случиться в какой-то момент, — сказал санитар. — Хотя я согласен, ее действительно очень жаль. Такая милая старая леди. Сюзанна искренне сочувствовала Джессике Зейферт, но одновременно ощущала безмерное облегчение, оставшись в одиночестве в своей палате. Необыкновенно приятно было смотреть прямо с кровати в окно, хотя день казался пасмурным и предвещал грозовое ненастье.* * *
Минут через десять, после того как Мэрфи и Фил попрощались с Сюзанной, в палате появилась миссис Бейкер с подносом в руках. — Вы сегодня утром остались без завтрака. А вам вовсе ни к чему поститься, вы же не такая толстушка, как я. Вот мне действительно стоило бы недельку обойтись без еды. — Вы правы, я ужасно голодная. — Я в этом ни капли не сомневаюсь. — Медсестра поставила поднос на столик у кровати. — Как вы себя чувствуете, милая моя? — Меня искололи, как подушечку для иголок, — пошутила Сюзанна, ощущая тупую боль в спине, оставшуюся после неприятной процедуры. — Наверное, доктор Макги все делал сам? — Да. — Вам, считайте, повезло, — сообщила миссис Бейкер, снимая крышку с подноса. — Здесь у нас есть врачи, которые далеко не так аккуратны, как доктор Макги. — Боюсь, из-за меня он опоздает на свой частный прием. — У него нет приема по средам в первой половине дня. Только после обеда. — О, я совсем забыла! — воскликнула Сюзанна. — Мы вчера так мало виделись, что я даже не успела вас спросить. Как прошел вечер в понедельник? Миссис Бейкер растерянно заморгала и наморщила лоб. — Вечер в понедельник? — Как прошло ваше свидание? Ну вы же сами мне говорили — партия в боулинг, ужин с гамбургерами? Медсестра все не могла взять в толк, о чем говорит Сюзанна. Затем просияла. — О! Свидание! Конечно. С моим весельчаком-столяром. — С плечами, не влезающими в дверной проем, — повторила Сюзанна слова медсестры про ее красавчика. — И сильными, но нежными руками, — сказала миссис Бейкер с тоской в голосе. Сюзанна улыбнулась. — Так-то лучше. Такое, наверное, не забывается. — Да, это был запоминающийся вечерок. — Рада за вас. Миссис Бейкер лукаво улыбнулась. — Мы погуляли, конечно, с размахом. Я имею в виду не только партию в боулинг. Сюзанна от души рассмеялась. — Вот как, миссис Бейкер, вы, оказывается, любительница погулять. Не знала, не знала. Озорные глаза медсестры блеснули из-под очков. — Если не добавлять пряностей, жизнь станет невыносимо пресной. Сюзанна расправила салфетку и заткнула ее за ворот своей голубой пижамы — она успела в нее переодеться после того, как вернулась с первого этажа. — Я подозреваю, что речь идет о чем-то более весомом, чем щепотка пряностей. — Да, иногда приходится добавлять их целыми большими ложками. — Понятно. Миссис Бейкер, вы настоящая кутила. — Нет, я всего-навсего человек, приверженный методистской вере. Но методистам, конечно, не чуждо ничто человеческое. А теперь, моя милая, к столу! Вам предстоит съесть все, что находится на этом подносе. Как приятно видеть, что вы идете на поправку. Надо не снижать темпов. В течение следующего получаса Сюзанна завтракала и посматривала в окно, за которым бушевала непогода. Низкие серые тучи застилали все небо. В начале двенадцатого вошел Макги. — Извини, пришлось задержаться. Результаты анализа уже давно готовы, но мне надо было побывать в палате интенсивной терапии у Джесси Зейферт. — Как она? — Угасает с каждым часом. — Бедная женщина. — Да, обидно, что уходят такие люди. Но мы не можем ей больше ничем помочь, и слава Богу, что ей не придется долго мучиться. С ее темпераментом было трудно переносить болезнь, постоянную неподвижность. Бедняжка так страдала в последние недели, что ее было просто жалко. — Он сокрушенно покачал головой, а затем неожиданно прищелкнул пальцами, вспомнив важную мысль. — Послушай, я понял одну вещь, когда был там, наверху, у Джесси. Знаешь, почему у тебя могли возникнуть галлюцинации, связанные с Джерри Штейном, когда ты увидела Джесси? Я понял, что есть одна вещь, которая подтолкнула твою психику к кошмару. — Подтолкнула? — Да. Это инициалы[16]. — Инициалы, —повторила Сюзанна, не понимая, что он имеет в виду. — Ну да, инициалы. Разве ты не видишь — они одни и те же у обоих. — О-о, я бы ни за что не заметила. — Ты не заметила это на уровне сознания, но твое подсознание наверняка остановилось на этой детали. Я уверен, что так оно и было. Именно это совпадение инициалов заставило тебя сосредоточиться на пологе ее кровати и вызвало в тебе ужас. Если дела обстоят таким образом, то, наверное, есть своя причина и у других кошмаров, то есть они возникают не спонтанно, а под воздействием определенных факторов. Какая-то незримая ниточка связывает совершенно невинные эпизоды со страшными воспоминаниями о «Доме Грома», и у тебя сразу же начинается приступ болезни. Эта догадка явно воодушевила Макги, но Сюзанна не разделяла пока его чувств. — Если все это так, то разве что-нибудь меняется? — Конечно, тут еще многое надо продумать. Но это обстоятельство обязательно надо учесть, когда будет ставиться окончательный диагноз и решаться вопрос, в чем корень недуга — в физиологии или в психике. Сюзанне такой поворот в разговоре был явно не по душе. Хмурясь, она заговорила: — Если мои кошмары не следствие травмы головного мозга, если все они не случайны, тогда что же, мне придется лечиться у психоаналитика? — Нет, нет, — замахал руками Макги, — у нас просто нет никаких оснований делать такие выводы. Мы, как и собирались, будем продолжать обследование головного мозга, так как имеется как минимум два основания для этого диагноза — травма головы и трехнедельная кома. Сюзанна, безусловно, хотела бы, чтобы причина ее болезни была в состоянии ее мозга. Если речь идет о кровоизлиянии, о травме мозга, то медицина может ей помочь. Она верила в возможности терапии и хирургии, потому что в ее понимании эти дисциплины были наукой. Психиатрия же представлялась ей по большей части шарлатанством, она не верила психиатрам и боялась их. Она упрямо замотала головой. — Нет-нет, ты ошибаешься, никакого толчка в виде инициалов не было и быть не могло. Мое состояние никак не связано с больной психикой. — Я бы с удовольствием согласился с тобой, но, с другой стороны, мы не должны упускать ни одной мало-мальски правдоподобной версии. — А я ее отметаю. Сразу же. — А я — нет. Я врач и должен всегда оставаться объективным. При этих словах он взял ее за руку, и ей сразу стало легче. Она спросила: — Так каков результат моего анализа? Свободной рукой Макги задумчиво почесал за ухом. — Анализ на протеин не показал никаких отклонений от нормы. Кроме него, мы проверили состояние крови. Если бы обнаружилось слишком большое количество красных кровяных телец, это могло означать, что где-то в головном мозге произошло кровоизлияние. — Но цифра оказалась нормальной, — опередила его Сюзанна. — Да. Если бы оказалось слишком много белых кровяных телец, это означало бы, что в организме есть инфекция. — Но и этот тест показал норму, так? — Да. Холодные, безжалостные факты загоняли ее в угол. «Ты здорова, — выпаливали прямо ей в лицо эти факты. — Твое тело работает прекрасно. Твой мозг работает безукоризненно. Вот с психикой у тебя непорядок. Это не болезнь тела, Сюзанна, это болезнь души. Ты — душевнобольная. Ты — чокнутая, Сюзанна. По тебе плачет сумасшедший дом». Она старалась прогнать от себя эти назойливые страшные мысли, старалась заглушить в себе хор сомнений, терзаний, тревог. Она жалобно и с надеждой спросила: — Ну хоть что-нибудь ненормальное показал этот анализ? — Ничего. Мы даже проверили твою спинномозговую жидкость на содержание сахара. Есть вирусы, которые понижают уровень сахара, но в твоем случае была норма. Чуть ниже, чем обычно, но на это не обращают никакого внимания. — Получается, что я хрестоматийный пример здоровой женщины тридцати двух лет? Макги был явно встревожен затянувшимися поисками верного диагноза. — К сожалению, нет. Где-то затаилась болезнь. — Где? — Не знаю. — Звучит не очень-то ободряюще. — Мы будем продолжать исследования. — Наверное, это затянется надолго? — Нет. Мы постараемся поставить диагноз как можно быстрее. — Каким образом? — Ну, во-первых, я сегодня же возьму рентгеновские снимки, электроэнцефалограмму и все результаты анализов домой, чтобы еще раз внимательно их изучить. Может быть, удастся найти какую-то деталь, ускользнувшую от нашего внимания. — А если не удастся ничего найти? Он замешкался, не зная, как сказать, и наконец проговорил: — В общем… есть еще один тест, который придется пройти. — В чем он заключается? — Там довольно сложная процедура. — По твоему лицу можно догадаться, что непростая. — Это церебральная ангиограмма. Мы применяем ее обычно по отношению к больным, страдающим тяжелыми формами паралича. Если им предстоит операция на сосудах головного мозга, то без этого теста не обойтись. — В чем он состоит? — Мы вводим в кровь радиоизотопы. Это делается через артерию в области шеи. Неприятная процедура. — Я догадываюсь. — Да, болезненная. Сюзанна инстинктивно потрогала свою, шею. Макги продолжал: — К сожалению, эта процедура несет с собой определенный риск для пациента. Небольшой процент пациентов после этой процедуры получает осложнения. Иногда бывает смертельный исход. Заметь, что я не употребил слов «ничтожно малый процент». — Да, ты сказал «небольшой процент», и это означает, что такие случаи довольно редки, но опасность нельзя сбрасывать со счетов. — Именно так. — По-видимому, это какой-то усложненный вариант рентгеновского обследования? — Да. Как только радиоизотопы попадают в мозг, мы делаем серию снимков, отслеживая их путь по всем сосудам мозга. Это дает наиболее полную картину состояния сосудистой системы. Мы определяем размер просветов во всех сосудах, определяем точное место кровоизлияния, тромба. Это очень точный метод, при нем ни одна мелочь не ускользает. — Кажется, это именно то, что нужно в моем случае. — Обычно я прибегаю к ангиограмме только в самых тяжелых случаях — при потере речи, при параличе или при инсульте, когда пациент не может надеяться на возвращение к полноценной жизни. — Это как раз про меня, — мрачно сказала Сюзанна. — О нет. Совсем не про тебя. Между тяжелым поражением мозга при инсульте и галлюцинациями такого типа, как у тебя, — колоссальная разница. Поверь мне, твой случай куда более легкий. Они замолчали и долго держали друг друга за руки, не произнося ни слова. Затем Сюзанна заговорила: — Предположим, ты не найдешь ничего нового в результатах анализов. — Предположим. — Будешь ли ты готовить меня в этом случае к ангиограмме? Макги закрыл глаза и молчал. Сюзанна заметила, как подергивается его левое веко. — Я просто не знаю, — медленно начал он. — Это зависит от многих вещей. Вообще я исповедую старое правило врачей: «Если не можешь принести пользу, не делай по крайней мере вреда». Я хочу сказать, что, если обнаружится хоть малейший намек на то, что твоя болезнь не связана с состоянием тканей мозга… — Она связана только с этим, — оборвала его Сюзанна. — Даже если будет необходимость в ангиограмме, я хотел бы подождать несколько дней, чтобы ты окрепла. Сюзанна облизнула пересохшие губы. — Если и ангиограмма не обнаружит никаких отклонений, а галлюцинации будут продолжаться, что тогда? — Этой процедурой мы исчерпаем все методы, доступные современной медицине в подобных случаях. — О-о, нет, этого быть не может. — Да, к сожалению, мы будем вынуждены отвергнуть диагноз недуга, связанного с физическим состоянием мозга, и должны будем перейти к другого рода обследованиям. — Нет, только не это! — Сюзанна, у нас нет другого выхода. — Нет. — Нет ничего стыдного в обследовании психиатра. Это всего лишь… — Я не стыжусь, просто не верю в то, что это может помочь. — Современная психиатрия достигла… — Нет, — оборвала она разговор. Она ни на минуту не могла допустить, что ее будут годами лечить, что ей предстоят долгие годы кошмаров. — Нет. Причина наверняка есть, она в состоянии моего мозга. Ее надо отыскать. Ты сможешь сделать это. Она наверняка существует. Макги решил не настаивать. — Я сделаю все, что в моих силах. — Очень тебя прошу. — еще не все возможности исчерпаны. — Вот-вот, я же говорила. Макги, должно быть, заметил, как Сюзанна облизывает пересохшие губы. — Хочешь выпить воды? — предложил он ей. — Да, с удовольствием. Он подал ей стакан с водой, и она выпила его большими жадными глотками. — Ты так ничего и не вспомнила о своей работе? — поинтересовался Макги. Вопрос застал ее врасплох. В последний раз корпорация «Майлстоун» всплывала у нее в памяти, когда ей звонил Филипп Гомез. Это было в понедельник утром. С тех пор прошло много времени — больше двух суток. Мало того, она старалась не вспоминать о своей работе, гнала прочь мысли о ней, словно с ними было связано что-то смертельно опасное. Она на самом деле испытывала страх. Простое упоминание доктора о «Майлстоуне» окатило ее ледяным ужасом. Неизвестно откуда в сознании возникло убеждение, что галлюцинации — кошмарные встречи с мертвецами — каким-то образом связаны напрямую с ее работой в «Майлстоуне». Это убеждение было и странным, и тревожным одновременно. Макги, вероятно, заметил ее беспокойство, он нагнулся к ней и спросил: — Сюзанна, что-то случилось? Она поделилась странной мыслью о том, что галлюцинации и ее работа в «Майлстоуне» каким-то образом связаны между собой. — Ты говоришь — связаны? — Макги был явно озадачен. — Но каким образом? — Не имею ни малейшего представления. Я просто чувствую, что связь существует. — То есть ты хочешь сказать, что у тебя были подобные галлюцинации еще до автокатастрофы? — Нет, разве такое могло быть? — Ты не можешь точно сказать — были галлюцинации или их не было? — Не было. Точно не было. — Как-то неуверенно ты говоришь. Сюзанна попыталась сосредоточиться и вспомнить получше. Макги терпеливо ждал ответа. — Я абсолютно уверена, что галлюцинации начались у меня только после аварии. Такие вещи не забываются. Случись такое со мной раньше, я бы вспомнила. Макги склонил голову набок и вопросительно посмотрел на Сюзанну. — Ты и я предполагаем, что в основе твоего недуга лежит травма мозга, которая произошла после автокатастрофы. Так? — Да, именно так. — Но тогда эта травма никак не может быть связана с твоей работой в корпорации «Майлстоун». Если же твои галлюцинации связаны со стрессами на работе или с чем-то подобным… — …тогда надо говорить о психической основе моей болезни, — закончила она мысль Макги. — Это мог быть нервный срыв, что-то вроде этого. — Да, именно это я и хотел сказать. — Но никакого нервного срыва и в помине не было. — Тогда откуда возникла связь с твоей работой в «Майлстоуне»? Сюзанна нахмурилась: — Не знаю. — Значит, тебе, наверное, это просто показалось. — Может быть. Но я все равно… — Боишься чего-то? — Да. — Это вполне объяснимо, — сказал Макги. — Ты боишься корпорации «Майлстоун» примерно по той же причине, по которой ты боялась полога над кроватью Джесси. Ты не видела, что находилось за занавеской, поэтому воображение рисовало самые немыслимые картины. Твоя работа тоже таит для тебя в данный момент нечто неизвестное, забытое. Часть твоей жизни как бы закрыта от тебя занавесом, и ты начинаешь воображать Бог знает что, начинаешь пугать саму себя. Возможно, это происходит из-за того, что микроскопическая травма находится именно в той части мозга, где хранились воспоминания о «Доме Грома», об ужасах, которые тебе пришлось там пережить. Из-за этой травмы ты и зацикливаешься на этих воспоминаниях, как только твое воображение получает возможность работать свободно, без всяких ограничений. Тебя постоянно относит туда, на тринадцать лет назад. Так что твои галлюцинации никак не связаны с твоей работой, не имеют с ней ничего общего. Причина — «Майлстоун» никак не связан с «Домом Грома». Ты просто подсознательно пытаешься связать их, так как… ну, скажем, по той причине, что кошмар в «Доме Грома» был самым сильным переживанием в твоей жизни и превратился для тебя в навязчивую идею. Понимаешь? — Да. — Но корпорация «Майлстоун» все так же вызывает у тебя страх? — Всякий раз, когда о ней упоминают, у меня мороз по коже. В подтверждение ее слов кожа на руке, там, где рукав пижамы слегка задрался, покрылась мурашками. Макги все время их разговора стоял, склонившись к Сюзанне. Теперь он выпрямился и затем сел на край кровати. Руку Сюзанны он не выпустил ни на минуту. — Я вижу — ты сама не своя, — ласково сказал он. — У тебя даже рука похолодела. В начале разговора она была теплая, а как только мы заговорили о твоей работе, она стала ледяной. — Ну вот, ты же сам видишь. — Да, но все эти ощущения лишь внешние проявления твоей зацикленности на одном из эпизодов жизни. Это кошмар в миниатюре, из той же серии, когда ты видишь разгуливающих по палате мертвецов. Другого логического объяснения просто не существует, тебе совершенно незачем бояться «Майлстоуна», твоих бывших коллег. Сюзанна в знак согласия кивнула. Новая сторона ее болезни еще больше выбила ее из колеи. — Я понимаю, что бояться глупо, но ничего не могу с собой поделать. — Надо переубедить себя, заставить. Сюзанна тяжело вздохнула. — Знаешь, до чего я уже дошла? Я начинаю жалеть, что на свете не существует таких вещей, как призраки. Представляешь? Я уже жалею, что мертвецы не могут возвращаться из могил, как в мультиках с ужасами. То есть я хочу сказать, что в этом случае бороться мне с ними было бы куда легче. Не надо никаких пункций спинного мозга никаких ангиограмм. Не надо мучиться бесконечными терзаниями по поводу происходящего. Надо просто позвать священника и попросить его изгнать отсюда всю нечистую силу, прогнать ее обратно в ад, туда, откуда она явилась. Макги исподлобья посмотрел на нее. В глазах у него читалась нескрываемая тревога. — Эй, мне что-то не нравятся эти разговоры. — Не беспокойся, — успокоила Сюзанна. — Я вовсе не собираюсь увлекаться мистицизмом. Прекрасно знаю, что никаких призраков на свете нет. Да к тому же, если бы они и были, они совсем не были бы похожи на то, что мне довелось увидеть. Призраки — это же нечто нематериальное, прозрачное. Или нечто в белых простынях с дырками вместо глаз. Вот это призраки. Они совсем не похожи на вполне реальные создания, у которых и руки-то теплые. Именно они все время посещают меня. — Тут Сюзанна улыбнулась. — Э-э, я, кажется, догадалась, почему ты так забеспокоился, когда я заговорила о призраках! Потому что, если это призраки, тогда ты больше не сможешь ничем мне помочь. Врачи ведь не занимаются изгнанием дьяволов, верно? Макги улыбнулся в ответ. — Верно. — Ты испугался, что я откажусь от твоих услуг, променяю тебя на какого-нибудь священника с молитвенником и крестом. — Неужели правда променяешь? — Нет, никогда. Боже, не хватало мне еще понадеяться на священника. Вдруг… я буду исповедоваться священнику, который сам потерял веру в Бога? Представляешь? Или обращусь к священнику-католику, а призраки в состоянии исчезнуть только от молитв протестанта. Нет, от этого польза небольшая. Она была уверена, что Макги прекрасно видит, как тяжело ей заставлять себя шутить. Он явно отдавал себе отчет в ее подавленном состоянии. Несмотря на это, он не показывал виду и шутил вместе с ней. Она слишком глубоко погрузилась в мрачные размышления нынешним утром, слишком близко принимала их к сердцу и поэтому остро нуждалась в разрядке, в том, чтобы сменить тему разговора. Он поддерживал ее в этом. — Насколько я понимаю, изгнание нечистой силы происходит вне зависимости от веры, — начал он. — Ты сама подумай, какая неразбериха могла бы начаться, если бы потусторонние силы брали бы во внимание человеческую логику, если бы они разбирались, кто католик, кто протестант. Ведь в мире масса религий, и, если священник-католик не может изгнать дьявола из прихожанина-протестанта, тогда и распятие бессильно против вампира иудейской веры. — Тогда как, по-твоему, отогнать иудейского вампира? — Не знаю, может быть, попробовать мезузу[17]. — Или предложить этому вампиру ветчину на завтрак? — Ну, это подействует только на истово верующего вампира из иудеев. А как же тогда насчет мусульманских вампиров? — Знаешь, — сказала Сюзанна. — Все это так сложно. Я, по-видимому, не стану отказываться от твоих услуг и призывать священника. — Как приятно знать, что ты нужен. — Конечно, нужен, — успокоила она его. — Ты мне очень нужен. Ты мне необходим. — Она вдруг поняла, что голос у нее задрожал и вместо шуточного тона в нем появилась чувственная нота. — Я не могу без тебя, я это поняла. — Она сама не ожидала от себя таких слов, не ожидал их и Макги, но она уже не могла остановиться, а могла только говорить и говорить и признаваться ему в том, что она чувствовала в эти последние два дня. — Я не могу без тебя, Джефф Макги. Если хочешь, я могу повторять это целый день без перерыва, пока не охрипну. Он смотрел на нее во все глаза, и глаза эти были в этот момент так прекрасны, как никогда. Она попробовала прочитать, что кроется за взглядом этих синих глаз, но не смогла понять. Она ждала от него ответа и лихорадочно соображала, не сделала ли она какую-нибудь глупость. Не ошиблась ли она, не напридумывала ли Бог знает чего, чего на самом деле нет? Может быть, все его слова и жесты — это всего лишь врачебный прием. Если это так, то ближайшие мгновения будут самыми тяжелыми и неприятными в ее общении с окружающими. Какой будет позор! Она уже начала было страшно жалеть о том, что она только что сказала, она хотела бы вернуть назад эти несколько минут. В это мгновение он нагнулся и поцеловал ее. Это был совсем не такой поцелуй, какими он жаловал ее в последние дни, — нет, это был поцелуй страсти. Он поцеловал ее прямо в губы, нежно, но сильно, умоляя и требуя ответа. Она ответила на его поцелуй с такой поспешностью и страстью, какой сама от себя не ожидала. На сей раз в ней ничего не осталось от недотроги, от «железной женщины». Она ни на секунду не задумалась о последствиях своего порыва, она отдалась ему всецело. Это совсем другое, такого у нее раньше никогда не было. Она растворилась в этом поцелуе, она забыла про все на свете. Это было не только соединение губ, это было соединение страстей. Макги взял ее лицо в свои руки, словно боясь, что она отпрянет от него. Он не мог допустить и мысли об этом. Когда они отпустили друг друга и посмотрели глаза в глаза. Сюзанна увидела во взгляде Макги целую бурю переживаний — счастье, удивление, смущение. Он тяжело дышал. Она тоже чувствовала, что задыхается. В какой-то момент ей показалось, что она увидела в его глазах что-то еще, что-то… мрачное. Ей на одно мгновение показалось также, что и страх мелькнул в его взгляде. Мелькнул и исчез, исчез, словно юркая летучая мышь. Страх? Прежде чем она успела сообразить, что это могло означать, еще до того, как она успела проверить, не ошиблась ли она, молчание было нарушено, и странный отблеск в глазах Макги улетучился. — Для меня это было так неожиданно, — начал он. — Я даже… — А я боялась, что ты меня не поймешь или… — Нет. Нет. Я просто… не ожидал… — …и для меня тоже это было неожиданно… — …для нас обоих. — Я думала, что правильно тебя поняла… Ну, в общем, я чувствовала, как ты ко мне относишься… — …а этот поцелуй положил конец всем сомнениям… — Да! О Боже! — Какой это был поцелуй! — воскликнул он. — Удивительный! Они снова слились в поцелуе, но на этот раз он длился недолго. Макги явно с обеспокоенностью поглядывал на дверь. Она не могла осуждать его. Он оставался врачом, а она — пациенткой, и продолжительным объятиям было не время и не место. Но как же ей хотелось обнять его, прижать к себе, обладать им и покориться ему. Придется ждать. Она спросила: — Ты давно?.. — Сам не знаю. Наверное, еще тогда, когда ты лежала без сознания. — Неужели? И ты тогда влюбился в меня?.. — Ты была так прекрасна. — Но ты же совсем не был знаком со мной. — Значит, это нельзя было тогда назвать любовью. Но это было чувство. Я чувствовал… — Как приятно слушать. — А после того как ты пришла в сознание… — Ты понял, что я неподражаема, и дело было сделано. Он улыбнулся. — Точно. И я еще обнаружил, что у тебя есть то, что миссис Бейкер называет «умением выкарабкиваться». А мне всегда нравились те, кто умеет это делать. Они помолчали. Она спросила: — Разве бывает, что все происходит так быстро? — Но так произошло. — Нам надо очень о многом поговорить. — О миллионе разных вещей, — улыбнулся он. — О миллиарде, — поправила она его. — Я ведь почти ничего не знаю о твоей жизни. — Прошлое его было покрыто мраком, — пошутил он. — Нет, серьезно, я все-все хочу о тебе знать, — сказала она, не выпуская его рук. — Все-все. Но, мне кажется… здесь не самое лучшее место для этого… — Да, здесь не поговоришь. — Место, слегка не подходящее для того, чтобы возлюбленным поближе узнать друг друга. — Придется пока изображать из себя врача и пациента. Я думаю, уже скоро, когда ты будешь лучше себя чувствовать, мы сможем найти более спокойное место… — Пожалуй, ты прав, — согласилась она. Но как же ей хотелось, чтобы это время наступило сейчас, чтобы они могли позволить себе все, что только можно себе вообразить. — Но неужели мы будем играть в нашу игру на полном серьезе, неужели мы не сможем хоть капельку отойти от роли? Ты же сможешь хотя бы целовать меня в щеку? Ну хоть иногда? Джефф улыбнулся и прикинулся, что всерьез думает над ее вопросом: — Ну… вот… давай рассудим… насколько я помню, в клятве Гиппократа нет запрета для врачей целовать пациентов в щеку. — Может быть, сейчас сразу и приступим? Он поцеловал ее в щеку. — А если серьезно, — продолжал он, — то самое главное для нас сейчас — сделать все для твоего быстрейшего выздоровления. Если все будет нормально, тогда мы сможем позволить себе и все остальное. — Ого! У меня появился новый стимул поскорее встать на ноги. — Я уверен, что дело быстро пойдет на лад, — сказал он тоном, не допускающим возражений. — Мы оба приложим к этому все усилия. Посмотрев на него в это мгновение, Сюзанна вдруг поняла, откуда несколько минут назад у него был в глазах страх. Он не высказал сейчас никаких сомнений в успехе лечения, но его жгли сомнения — это читалось по глазам. Он, как и всякий разумный человек, не мог исключать и полного провала. Значит, он боялся, испытывал страх? Да. Он же имел на это право. Да, он испытывал страх от того, что связался с женщиной, которая в любую минуту может сорваться в истерику, с женщиной, у которой впереди вполне реально маячит сумасшедший дом. — Не тревожься за меня, — попросила она. — Постараюсь. — Я же сильная. — Я знаю. — У меня хватит сил. Если ты немного поможешь мне. Он снова поцеловал ее в щеку. Сюзанне вновь пришли в голову мысли о призраках. Она на самом деле хотела бы верить в существование потусторонних сил. Как просто было бы решать все проблемы! Призраки. Их же можно прогнать чтением молитв, орошением святой водой. Если веришь. Как стало бы ей легче жить, знай она, что причина ее кошмаров — во внешнем мире. Она знала, что так не бывает, но неистребимая вера в чудо продолжала жить в ней. Она почему-то верила, что призрак-Харш и его подручные призраки в какой-то момент окажутся реальностью, а сама она совершенно здоровой. Прошло совсем немного времени, и чудо произошло. Или, во всяком случае, нечто, очень похожее на чудо.Глава 12
Обед принесли вскоре после позднего завтрака, поэтому Сюзанна была не в состоянии съесть все, но съела достаточно много, чтобы заслужить похвалу миссис Бейкер. Через полтора часа ее проводили на первый этаж для очередного сеанса физиотерапии с миссис Аткинсон. Она попала туда в сопровождении двух санитаров. Ни один из них даже близко не был похож на персонажей из ее прошлого. У лифта она все равно готовилась к самому худшему. Но ничего не произошло. Галлюцинации не посещали ее с прошлой ночи, когда она обнаружила труп Джерри Штейна в кровати Джессики Зейферт. По дороге из лифта в отделение физиотерапии она подсчитывала, сколько часов прошло с тех пор. Получалось — шестнадцать. Почти шестнадцать часов спокойной жизни. Может быть, кошмары вообще больше не будут ее мучить? Может быть, странные видения исчезнут так же внезапно, как и начались? Упражнения с Флоренс Аткинсон были лишь чуть сложнее, чем вчера, зато массаж доставил ей массу удовольствия, а душ полностью оправдал самые лучшие ожидания. На обратном пути у лифта она вновь затаила дыхание. И вновь все прошло спокойно. Со времени последней галлюцинации минуло более семнадцати часов. У нее даже появилась мысль о том, что если она продержится без кошмаров целые сутки, то они навсегда оставят ее. Один спокойный день — это, возможно, именно то, что необходимо ее душе и разуму, чтобы очиститься от наваждения. Надо продержаться еще семь часов. Даже меньше. В палате ее ждал сюрприз — на столике у кровати стояли два букета цветов: хризантемы, розы, гвоздики. Из обоих букетов выглядывали карточки. В первой ей желали скорейшего выздоровления и стояла подпись: Фил Гомез. Вторая гласила: «Нам всем здесь очень не хватает вас», — и много-много подписей. Сюзанна опознала многие фамилии, но только потому, что Фил Гомез упоминал о них в телефонном разговоре в понедельник утром. Элла Хэверсби, Энсон Брекенридж, Том Кавински… Девять фамилий. Ни одного лица она не могла восстановить в памяти. Как и прежде, от очередного напоминания о корпорации «Майлстоун» по телу пробежал ледяной озноб. Она не могла понять, чем это вызвано. Твердо решив не расстраиваться ни по какому поводу, она отогнала мысли о своей работе. Лучше сосредоточиться на цветах. Они такие красивые. Неважно, кто их послал. Сюзанна попыталась взяться за книгу, но сразу поняла, что физические упражнения и горячий душ отняли слишком много сил. Глаза слипались. Она задремала. Никакие сны ей на этот раз не снились. Проснувшись, она обнаружила, что палату уже населили вечерние тени. Солнце за окном уходило за горизонт. Небо темнело тучами. Она зевнула и потерла ладонями глаза. Вторая кровать как была, так и оставалась пустой. Судя по часам на столике у кровати, сейчас была половина пятого. Кошмаров не было вот уже девятнадцать часов. Возможно, кошмарные призраки оставили ее в покое из-за того, что она теперь была целиком поглощена чувством к Джеффу Макги. Любить и быть любимой — что может быть лучше. Она по-прежнему страшилась психических причин своего недуга, но если все несчастья позади, то почему бы и не отнести их на счет вышедшей из-под контроля психики. Может быть, самое действенное лекарство в ее случае — это любовь Джеффа. Она встала с кровати, сунула ноги в шлепанцы и пошла в ванную комнату. Щелкнула выключателем. На крышке унитаза покоилась мертвая голова Джерри Штейна. Белый кафель, белый свет люминесцентных ламп. И такое же белое от ужаса ее лицо. Она отказывалась верить своим глазам. Этого не может быть. Голова несла на себе те же следы разложения, что и прошлой ночью, когда Джерри поднялся с кровати Джесси Зейферт, шепча своими обезображенными губами ее имя. Зеленые трупные пятна на серой коже. Страшный кровоподтек на верхней губе. И вокруг изуродованного носа. Следы разложения у глаз. У глаз, широко открытых. У глаз, вылезших из орбит. Зрачки, как и прошлой ночью, были покрыты белесой пленкой, отдающей в желтизну, со следами крови. Но сейчас это были, по крайней мере, глаза трупа — неподвижные, застывшие, слепые. Голова была оторвана от тела, вероятно, с необычайной жестокостью, кожа на шее свешивалась лохмотьями. В складках кожи на шее поблескивало что-то. Что-то на тонкой цепочке. Это была золотая мезуза, которую Джерри никогда не снимал. Этого не может быть, этого не может быть… Заклинание не помогало, жуткая голова с каждой минутой казалась все более реальной. Скованная ужасом, Сюзанна заставила себя сделать один шаг по направлению к страшному предмету. Она хотела, чтобы наваждение исчезло, как только она начнет приближаться к нему. Мертвые глаза продолжали взирать на нее своим невидящим взором. Они смотрели сквозь нее, на тот свет. Этого не может быть. Вот она уже так близко, что может дотянуться до мертвой головы. Она не решалась. Вдруг голова оживет, как только Сюзанна прикоснется к ней? Что будет, если эти глаза уставятся прямо на нее? Что, если изуродованные тлением губы раздвинутся и зубы вонзятся ей в руку? Что, если… «Прекрати!» — приказала она себе. Она услышала странный свистящий звук и поняла, что это звук ее дыхания. «Расслабься, — уговаривала она себя. — Черт бы тебя побрал, Сюзанна Кэтлин Тортон, разве можно верить в такую чепуху?» Но от этих мыслей голова никуда не исчезла. Наконец она решилась и протянула свою дрожащую руку. Она прикоснулась к щеке. Пальцы ощутили кожу. Голова была настоящей. Кожа на щеке была холодной и скользкой. Она отдернула руку, ее бил озноб. Зрачки мертвой головы были по-прежнему неподвижны. Сюзанна посмотрела на свои пальцы и увидела, что они покрыты блестящей слизью. Следы разложения. К горлу подступила тошнота. Она вытерла пальцы о пижаму. На ткани остался блестящий след. Этого не может быть, не может быть… От повторения заклинаний легче не стало, наоборот, у нее пропало всякое желание переубеждать себя и хотелось только одного — бежать со всех ног из этой ванной комнаты, в коридор, туда, где медсестры, туда, где помощь. Она повернулась… …и застыла в ужасе. В дверном проеме, загораживая его всем телом, стоял Эрнест Харш. — Нет, — глухо прошептала она. Харш оскалил зубы. Он вошел в ванную комнату и запер за собой дверь. Его нет на самом деле. — Не ждала? — низким голосом спросил Харш. Он не может причинить мне вреда. — Стерва, — сказал он. Харш больше не стремился быть похожим на Билла Ричмонда, больничного пациента. Пижаму и халат он сменил на одежду, в которой был тринадцать лет назад в пещере «Дом Грома». Черные ботинки, черные носки. Черные джинсы. Темно-синяя рубашка, почти черная. Она вспомнила, как он был тогда одет, потому что в пещере в мерцающем свете свечей он напомнил ей гестаповца из какого-то старого фильма. Или эсэсовца. В общем, кого-то из тех, кто носил черную форму. Квадратное лицо, грубые черты лица, светлые, в желтизну, волосы, мутно-голубые глаза — таков был облик этого штурмовика, который он, вероятно, старательно подчеркивал соответствующей одеждой. Наверное, он испытывал наслаждение, пугая людей. — Как тебе мои маленький подарок? — спросил Харш, показывая на мертвую голову. Онемевшая Сюзанна не могла произнести ни слова. — Я же знаю, как ты любила этого жиденка, — голос Харша наливался злобой. — Поэтому я решил принести тебе хоть кусочек от него. Чтобы он служил тебе напоминанием о прошлом. Правильно я сделал, а? — Он захохотал. Дар речи внезапно вернулся к Сюзанне, и она закричала: — Ты же мертвый, черт бы тебя побрал, мертвый! Ты же сам мне это сказал! Ты — мертвый! «Не ввязывайся в разговоры, — отчаянно убеждала она себя. — Ради Бога, вдумайся в то, что ты сама только что сказала. Не поддавайся этому бреду, выходи из него поскорей». — Да, — промолвил в ответ Харш. — Конечно, я мертвый. Она затрясла головой, стараясь сбросить с себя наваждение. — Я не собираюсь слушать, что ты говоришь. Тебя нет здесь. Ты мне мерещишься. Он сделал еще шаг. Он уже совсем близко от нее. Сюзанна прижалась спиной к кафельной стенке, по левую сторону от нее была раковина, по правую — унитаз. Бежать некуда. Мертвые глаза Джерри Штейна продолжали смотреть на дверь, не обращая никакого внимания на Харша. Сильная ручища Харша мгновенным движением схватила ее левое запястье, она даже не успела отдернуть руку. Вырваться было невозможно, он сжимал ее мертвой хваткой. Во рту пересохло. Язык приклеился к небу. Харш, самодовольно скалясь, медленно притягивал ее к себе — шлепанцы с визгом скользили по гладкому кафелю — вот он уже подтянул ее руку и прижал ее к своей широкой груди. — Ну что, теперь ты убедилась, что я не призрак? — спросил он, торжествуя победу. Она жадно ловила ртом воздух. Каждый его глоток, казалось, переполнял ее легкие свинцом, и под этой тяжестью она вот-вот рухнет на пол, провалится сквозь землю. «Нет! — взбунтовалась она, испугавшись, что из этого обморока она выйдет уже настоящей сумасшедшей. — Господи, помоги, не дай мне потерять сознание! Я должна выдержать. Во что бы то ни стало!». — Убедилась, что я — самый что ни на есть настоящий, ты, стерва? Убедилась, спрашиваю? Как я тебе? Нравлюсь, наверное? При свете люминесцентных ламп его глаза, обычно имевшие цвет грязного льда, казались почти белыми. В них горел какой-то неземной блеск — они были именно такими, какими она запомнила их той ночью, в пещере «Дом Грома», при свете свечей. Он провел несколько раз рукой, в которой было зажато запястье Сюзанны, по своей груди. Она почувствовала грубую ткань его рубахи и холод от пуговиц на ней. Пуговицы? «Разве это возможно — чувствовать холодные пуговицы в кошмарном сне? Разве возможно вообразить такую деталь? Разве галлюцинации бывают такими подробными, такими похожими на реальность?» — Теперь видишь, что я здесь, перед тобой? — спросил Харш со все той же издевательской усмешкой. У нее хватило сил еще раз высказать ему все, что она думает. Присохший к небу язык каким-то чудом отклеился и истово запричитал: — Нет. Тебя нет. Тебя здесь нет. — Нет, говоришь? — Ты мне мерещишься. — Откуда взялась такая непонятливая сука? — Ты не можешь причинить мне вреда. — Посмотрим-посмотрим, сучка. Насчет этого обязательно посмотрим. Он приподнял ее руку к своему плечу, провел по предплечью, где под рубашкой бугрились мощные мышцы. Еще одна попытка освободиться от железной хватки. И еще одна неудача. Он до боли сжал ей руку. Казалось, вместо пальцев у него стальные клещи. Он переместил ее запястье вниз, на свой мускулистый живот. — Ну что, существую я или нет? А? Как ты думаешь? Ну, скажи свое слово, Сюзанна? Существую я или меня нет? Сюзанна почувствовала, как где-то у нее внутри что-то рассыпалось на части. Ее последняя надежда? Или остатки ее самообладания? Или и то и другое? «Это всего лишь призрак, порождение твоего больного мозга. Это кошмарный сон. Он скоро кончится. Он не может длиться вечно». Она знала и ответ на свой вопрос — этот кошмар может длиться вечно, всю оставшуюся жизнь, до последнего момента, когда она испустит дух в палате сумасшедшего дома. Почему бы и нет? Харш опустил ее руку еще ниже, к своей ширинке. Его член стоял. Даже сквозь плотную ткань она ощущала его обжигающую плоть. Твердую, упругую, пульсирующую кровью плоть самца. Но он же мертвый. — Чувствуешь это? — спросил он, жмурясь от удовольствия и похохатывая. — Ну, а это для тебя существует? Откуда-то из глубины ее измученной души вдруг начал прорываться нервный смешок, он был подобен беспощадной акуле, которая выныривает из глубины на поверхность, чтобы добить истекающую кровью жертву. — В пятницу вечером я воткну эту штуку в тебя. Знаешь, что за день будет в эту пятницу? Седьмая годовщина моей смерти. Семь лет назад, в пятницу, грязный негр воткнул свой нож мне в глотку. Поэтому в эту пятницу я воткну свою штуку в тебя, воткну глубоко, а потом дело дойдет и до острого ножика. Вот так-то. Где-то у нее в груди уже звенел серебристый безумный смех, но она понимала, что ей надо до конца сдерживать его. Ведь это был страшный, сладкий, манящий смех безумия. Если она выпустит его на волю, то уже не сможет никогда остановиться; она так и проведет остаток своих дней — скорчившись в углу в непреодолимом припадке этого смеха. Харш вдруг отпустил ее руку. Она сразу же отдернула ладонь от его ширинки. Он прижал ее к стене, едва не раздавив ей грудную клетку. Всем телом навалился на нее. Надавил на нее своими бедрами. И захохотал. Ей не выскользнуть. Слишком он тяжел. Она в ловушке. — Нам следовало позабавиться с тобой еще тогда, тринадцать лет назад, — прошипел он ей в ухо. — Мы бы чудесно провели время там, прямо в пещере. Правда, потом пришлось бы перерезать тебе глотку и утопить в реке вместе с твоим жиденком. Этого не может быть, он не может причинить мне вреда, он не… «Нет. Бесполезно повторять эти бессмысленные заклинания. Он же здесь, перед тобой. Он существует, он есть на самом деле». Конечно же, это невозможно, немыслимо. Но он здесь, он рядом, он может убить ее, он убьет ее. Она отказалась от попыток освободиться, ей нужно было сначала обдумать план действий. Она откинула голову назад и закричала. В то же мгновение Харш оторвался от нее. Он, покачивая головой, разглядывал ее с нескрываемым удовольствием. Он радовался, его вдохновляли ее крики, они были музыкой для него. Никто не пришел, чтобы узнать, почему она кричит. Где же медсестры, где врачи? Неужели никто не слышит ее? Даже сквозь закрытую дверь ванной комнаты они все равно должны были услышать ее крики. Харш наклонился к ней, он дышал ей прямо в лицо. Его светлые глаза горели огнем, словно глаза дикого зверя, выхваченные из мрака лучами автомобиля. — Ну-ка, покажи, на что ты способна. Чтобы я знал, что от тебя ждать в пятницу вечером, — прошипел он своим мерзким голосом. — Всего лишь один поцелуй. Один маленький поцелуйчик. А? Ну всего лишь один поцелуйчик для старого дяди Эрни. Сон это или явь, она все равно не может не сопротивляться. Даже в кошмарном сне она не может поцеловать это чудовище. Она замотала головой из стороны в сторону, уклоняясь от его рта. — Ты, вонючая сучка, — угрожающе проворчал он, оставив свои попытки поймать ее рот. — Приберегаешь все свои поцелуи для своего жиденка? — Он отступил от нее на шаг. Покосился на голову, стоявшую на унитазе, перевел взгляд на Сюзанну. Рот его расплылся в гадливой усмешке. Он заговорил, предвкушая удовольствие, захлебываясь слюной. — Так ты бережешь поцелуи для своего дружка Джерри, так? Ой, как трогательно! Какое постоянство! Какая верность! Тронут до глубины души. Мои поздравления. О да, конечно, детка, ты должна дарить свои невинные поцелуйчики только Джерри, больше никому. Харш театрально развернулся к полуразложившейся голове. Нет. Он протянул к ней руку. Сюзанна представила себе разлагающуюся массу у своих губ, и к горлу подступила тошнота. Продолжая отпускать шуточки насчет вечной верности Харш схватил мертвую голову за волосы и приподнял. Дрожа от омерзения, Сюзанна понимала, что он хочет заставить ее приложиться к этим холодным, тронутым тлением губам. Сердце стучало как бешеное. Она вдруг сообразила, что у нее появилась возможность ускользнуть. Не возможность даже, а слабый шанс. Она, не раздумывая, решила им воспользоваться. С криком она бросилась к двери. Харш в это мгновение стоял к ней спиной, он был занят мертвой головой. Она проскользнула мимо него; ожидая, что в любую секунду ей на спину опустится его тяжелая рука, повернула ручку двери и распахнула ее. Из ярко освещенной ванной комнаты она очутилась в полутьме своей палаты. Дверь она успела захлопнуть. Сначала она хотела повернуть к кровати, чтобы нажать на кнопку вызова медсестры, но потом сообразила, что Харшу ничего не стоит настичь ее там. Поэтому она устремилась к чуть приоткрытой двери в коридор. Ноги с трудом слушались ее, но она не могла позволить себе остановиться. Продолжая кричать, она добежала до двери и на пороге столкнулась с миссис Бейкер. Они едва не ударились лбами, Сюзанне с трудом удалось остаться на ногах, медсестра поддержала ее. — Что случилось, милая моя? — Там, там, в ванной… — Что с тобой, ты вся в испарине! — Там, в ванной! Миссис Бейкер обняла ее за плечи. Сюзанна, дрожа, припала всем телом к могучей медсестре, ища у нее спасения. — Так что там, в ванной, деточка? — Он. — Кто он? — Э-э-тот м-мерзавец. Сюзанна дрожала. — О ком ты? — переспросила медсестра. — О Харше. — Ну что ты! Его там не может быть. — Он там, там, говорю вам. — Милая моя, ты просто… — Он там! — Тебе просто что-то померещилось. — Нет, не померещилось! — Ну, давай тогда пойдем и проверим. — Куда?.. — Иди со мной и не бойся. — О нет, ни за что. — Пойдем же. — Давайте лучше вообще уйдем из этой палаты. — Пойдем, не бойся. Медсестра, не выпуская из своих объятий Сюзанну, повела ее в палату. — Там еще голова Джерри… — Боже, до чего ты себя довела, деточка! — Его оторванная голова… — Там ничего нет, уверяю тебя. — Нет, есть. — Да, на этот раз тебя совсем напугал этот кошмар. — Он хотел заставить меня поцеловать это. — Давай теперь войдем и проверим. Они остановились у закрытой двери в ванную комнату. — Давай посмотрим. — Боже, что вы делаете? Миссис Бейкер уже поворачивала ручку двери. — Я просто хочу тебе показать, что бояться совершенно нечего. Сюзанна схватила медсестру за руку. — Нет! — Тебе совершенно нечего бояться, — повторила та успокаивающим голосом. — Да если бы это было просто галлюцинацией… — Это она самая и есть. — …тогда почему же я чувствовала, какие холодные пуговицы на его проклятой рубашке? — Сюзанна… — И еще я чувствовала, какая у него эрекция. Такое тоже бывает, по-вашему? Миссис Бейкер, казалось, потеряла дар речи. «Мне ни за что не удастся переубедить ее, — подумала Сюзанна. — Онавоспринимает мои слова как бред сумасшедшей. Да и мне самой все это уже кажется бредом». Внезапно она поняла, как глупо выглядит в глазах миссис Бейкер. Она проиграла. — Ну, посмотри сюда, Сюзанна. — Пожалуйста, не надо мне это показывать. — Тебе сразу станет легче. — Пожалуйста, не надо. — Посмотри, здесь нет ничего страшного. Сюзанна начала ныть: — Пожалуйста… Миссис Бейкер пошире отворила дверь. Сюзанна в то же мгновение закрыла глаза. — Посмотри, Сюзанна. Сюзанна только плотнее сжала веки. — Сюзанна, здесь нет ничего страшного. — Нет, он здесь! — Здесь никого нет. — Я чувствую, что он здесь. — Здесь только ты да я, больше никого. — Но… — Разве я стану обманывать тебя, милая моя? Капля холодного пота нырнула с шеи Сюзанны под воротник и холодным слизняком поползла по спине. — Сюзанна, посмотри же: Разрываясь от противоречивых чувств, она все-таки выполнила просьбу медсестры. Открыла глаза и заглянула в ванную комнату. Она стояла у порога. Яркий свет люминесцентных ламп. Белые стены. Белый умывальник. Белая плитка на полу. Никаких следов Эрнеста Харша. Никакой мертвой головы на крышке унитаза. — Ну, видишь? — ободряюще проговорила миссис Бейкер. — Да, ничего нет. — И никогда не было. — О-о-о! — Теперь тебе полегче? Сюзанна застыла, не в силах ответить. Ее словно сковало льдом. — Сюзанна! — Да, да, мне уже лучше. — Бедная девочка. Сюзанна почувствовала, как все тело наливается тяжестью. — Боже, да у тебя от пота вся пижама насквозь мокрая! — Такая холодная. — Представляю себе. — Нет, нет, голова. Голова такая холодная и страшная. — Да не было же никакой головы! — Нет, там, на унитазе… — Нет, Сюзанна, никакой головы на унитазе не было говорю тебе точно. Это была всего лишь часть твоих галлюцинаций. — О-о. — Ты же отдаешь себе в этом отчет? — О да. Конечно. — Сюзанна? — А? Что? — С тобой все в порядке, милая? — Да, да, все в порядке. Я чувствую себя хорошо. Она позволила, чтобы ее довели до кровати и уложили. Миссис Бейкер включила настольную лампу. Серые вечерние тени попрятались по углам. — Прежде всего, — сказала миссис Бейкер, — необходимо переодеть тебя во все сухое. Запасная пижама, которую выстирали сегодня утром, еще не высохла. Миссис Бейкер помогла снять промокшую насквозь пижаму — ее можно было выжимать — и надела на нее обычную больничную рубашку с завязками на спине. — Так лучше? — спросила миссис Бейкер. — Лучше? Молчание. — Сюзанна? — А? Что? Да-да. Сейчас. — Ты мне что-то не нравишься, детка. — Не беспокойтесь. Мне просто надо немного отдохнуть. Просто немного отключиться. — Отключиться? — Да-да, совсем чуть-чуть. Отключиться.Глава 13
— Сюзанна? Она открыла глаза и увидела Джеффа Макги. Он склонился к ней, брови его сошлись у переносицы, он был явно озабочен. Она улыбнулась и сказала: — Привет. Он в ответ тоже улыбнулся. Это было забавное зрелище. Переход от выражения озабоченности на лице к улыбке занял довольно много времени. Она наблюдала за этой метаморфозой, напоминающей замедленную съемку. — Как ты себя чувствуешь? Голос у него был какой-то странный. Он звучал как бы издалека, глухо и хрипло. Словно запись на старой пластинке, которую поставили не на ту скорость. — Я чувствую себя, в общем, неплохо, — ответила она. — Мне сказали, что был еще один приступ. — Да. — Ты можешь мне рассказать, как это произошло? — Нет. Это будет скучно. — Уверяю тебя, мне не будет скучно. — Тебе, наверное, нет, зато мне — да. — Если мы поговорим на эту тему, тебе станет легче. — Нет, мне легче ото сна. — Тебе удалось поспать? — Да… совсем немного. Джефф обратился к кому-то, стоявшему по другую сторону кровати: — Ей действительно удалось заснуть? Оказывается, там стояла миссис Бейкер. Она сказала: — Скорее она дремала. И, как вы сами видите, все еще несколько рассеянна. — Я просто очень устала, — вмешалась в их разговор Сюзанна. Джефф Макги снова посмотрел на нее. На его лице снова появилась озабоченность. Она улыбнулась ему и закрыла глаза. — Сюзанна, — позвал он. — А? Что? — Я не хочу, чтобы ты сейчас засыпала. — Ну, я совсем чуть-чуть. Она ощущала себя плывущей по теплым волнам. Так приятно было опять расслабиться и плыть все дальше и дальше. — Нет, — сказал Джефф. — Я хочу, чтобы ты говорила со мной. Не спи. Разговаривай. Он взял ее за плечо и слегка встряхнул. Она открыла глаза, улыбнулась. — Тебе сейчас нельзя спать, — сказал он. — Тебе надо пересилить себя. Нельзя спать. — Нельзя спать? — удивилась она. — Сейчас нельзя. — «Сон разрывает паутину чар», — пробормотала Сюзанна когда-то слышанную ею строчку стихов. И вновь закрыла глаза. — Сюзанна? — Не сейчас, — прошептала она. — Чуть позже… — Сюзанна? — А? Да-да… — Я хочу сделать тебе укол. — О'кей. Что-то звякнуло. — После него тебе станет лучше. — Мне и так хорошо, — сквозь сон пробормотала Сюзанна. — Укол снимет сонливость. — О'кей. Холод на коже руки. Запах спирта. — Сейчас будет больно, но всего на одну секунду. — О'кей, — согласилась она. Игла проткнула кожу. Сюзанна вздрогнула. — Ну вот и все. — О'кей. — Сейчас тебе станет лучше. — О'кей.* * *
Сюзанна сидела в кровати. Глаза у нее слипались и болели. Она пыталась их протереть, но это не помогало. Тогда Макги попросил медсестру принести капли для глаз и сам закапал их Сюзанне. После капель ей стало легче. Во рту сохранялся неприятный металлический привкус. Стакан с водой, протянутый Макги, лишь слегка ослабил это ощущение. Сонливость все еще была, но с каждой минутой уходила. Сюзанна даже немного обиделась на Макги за то, что он прервал ее сладкий сон. — Что это был за укол? — спросила она, потирая покрасневшую точку на руке. — Метилфенидат, — ответил он. — Что это такое? — Антидепрессант. Он хорошо помогает людям, страдающим от сильной депрессии. — У меня не было никакой депрессии, просто хотелось спать. — Сюзанна, еще немного, и ты бы полностью отключилась. — Мне просто хотелось спать, — проворчала она недовольно. — У тебя была депрессия в очень опасной стадии, — настаивал на своем Макги. Он присел на край кровати. — А теперь я хочу, чтобы ты рассказала мне подробно о том, что случилось в ванной комнате. Она тяжело вздохнула. — Это обязательно? — Да. — Тебе нужен подробный рассказ? — Да, подробный. Она почти полностью очнулась. Если у нее и была депрессия, то она теперь вышла из нее окончательно. Наоборот, она чувствовала себя сейчас полной сил, даже, пожалуй, чересчур возбужденной. Она вспомнила Эрнеста Харша. Мертвую голову в ванной комнате. По телу прошла судорога. Она посмотрела на Джеффа, и от его ободряющей улыбки ей стало теплее. Она заставила себя улыбнуться. Как тяжело ей будет рассказывать о случившемся. Но ничего не поделаешь. — Итак, дети, рассаживайтесь у камина, я расскажу вам сейчас страшную-престрашную историю, — начала она.* * *
Ужин задержался на час позднее обычного. Есть совершенно не хотелось. Однако Джефф настоял на том, чтобы она поела, и, сидя с ней рядом, следил, чтобы ужин был съеден без остатка. Они проговорили больше часа. Его присутствие удивительным образом успокаивало ее. Она не хотела, чтобы он уходил, но он никак не мог оставаться дольше. Ему еще надо было поработать с результатами ее анализов. Наступил момент прощания. Он сказал: — У тебя все будет хорошо. Желая выглядеть в его глазах бодро, она ответила: — Я знаю, все будет хорошо. Не бойся за меня. Ты же знаешь, мне сам черт не страшен. Он улыбнулся. — Метилфенидат перестанет оказывать действие примерно к тому моменту, когда тебе надо будет ложиться спать. Тебе дадут сегодня снотворное, более сильное, чем обычно. — Я думала, что ты, наоборот, не хочешь дать мне заснуть. — Это другое. У тебя был ненормальный сон, близкий к потере сознания. А сегодня вечером тебе надо хорошенько выспаться. «Может быть, он считает, что я не буду больше страдать кошмарами? — подумала Сюзанна. — Не знаю. Вполне вероятно, что мне придется совершить еще путешествие в эту страну ужасов. Вернусь ли я оттуда — неизвестно. Слишком чудовищно все это, чтобы рассчитывать на благополучный исход. Слишком чудовищно». — Сегодня ночью медсестры будут часто заходить к тебе и проверять, как ты себя чувствуешь, — пообещал Джефф. — Каждые четверть часа или даже чаше. Чтобы ты знала, что ты не одна. — Хорошо. — А пока я советую тебе чем-нибудь заняться. — Да, пожалуй. — Включи телевизор. Тебе надо отвлечься. — Все будет исполнено, — пообещала она. Он поцеловал ее. Какой нежный, сладкий поцелуй! От него становится гораздо лучше. Затем он вышел, не забыв оглянуться в дверях. Она снова осталась одна.* * *
Она напряженно ждала весь вечер, что что-то произойдет. Однако ничего не случилось. Она посмотрела телевизор. Съела пару шоколадных конфет из коробки, которую два дня назад принес Джефф. Ночные медсестры — Тина Сколари и Бет Хоуи — по очереди навещали ее, и Сюзанна с удивлением обнаружила, что сохранила даже возможность перебрасываться с ними шутками. Позже, после того как она выпила снотворное, ей понадобилось сходить в ванную комнату. Она с ужасом посмотрела на дверь в ванную и подумала, не попросить ли ей у медсестры «утку». Пока она раздумывала, ей стало стыдно своих страхов. Куда девалось ее хваленое бесстрашие? Где знаменитая смелость Тортонов? Она протянула пуку к кнопке вызова медсестры и тут же отдернула ее назад. Наконец, движимая скорее чувством протеста против собственной трусости, она отбросила в сторону одеяло, встала и решительно двинулась в ванную комнату. Открыла дверь. Включила свет. Никаких мертвецов. Никаких оторванных голов. — Слава Богу, — выдохнула она с облегчением. Она вошла, закрыла за собой дверь и занялась вечерним туалетом. Когда Сюзанна мыла руки, сердце уже почти вошло в нормальный ритм. Кажется, обойдется без приключений. Она взяла кусок бумажного полотенца и начала вытирать руки. Внезапно ее взгляд остановился на каком-то блестящем предмете, лежащем на кафельном полу. Он лежал у стены, в углу. Совсем маленькая вещь, но с очень сильным блеском. Клочок скомканного бумажного полотенца полетел в корзину. Она сделала шаг от умывальника. Нагнулась. Подняла с полу блестящий предмет. Долго смотрела на него, не веря своим глазам. Совсем недавно она хотела, чтобы призраки на самом деле существовали. Сейчас, казалось, кто-то решил исполнить ее желание. У нее в руке было доказательство. Вещь, которую она только что подняла с полу. Тонкая золотая цепочка, а на ней золотой медальон. Мезуза Джерри Штейна. Та самая, что обвивала истерзанную шею его оторванной головы.Часть III. В ГОРОДЕ…
Глава 14
В этот вечер Сюзанна легла спать, так никому и не показав свою находку — золотую мезузу. И это при том, что тогда, в ванной, первой мыслью было — надо бежать и показать находку медсестрам. Ей хотелось показать ее всем, кого она встретит, так как поначалу была уверена, что нашла доказательства своего полного умственного здоровья и что явления мертвецов — вещь гораздо более загадочная, чем простые галлюцинации. Чуть позже она передумала и решила соблюдать осторожность. Ей вдруг пришла в голову мысль, что у нее в тот момент начался какой-нибудь новый приступ болезни и золотая мезуза ей только мерещится. Она попробует показать ее кому-нибудь, и внезапно окажется, что у нее в руке зажата скомканная бумажка или винтик, словом, ерунда. Лучше подождать, отложить находку в сторону, а когда ясно будет, что она точно находится в сознательном состоянии, тогда она сможет убедиться в реальном существовании этого блестящего предмета. К тому же ей теперь вовсе не хотелось, чтобы мертвецы, вышедшие из могил, оказались бы чем-то реальным для нее. Тогда, в разговоре с Макги, она просто шутила, не задумываясь над такой перспективой. Сейчас такая возможность, пусть совершенно дикая для разума, но все-таки существующая, угнетала ее еще больше, чем возможность закончить свои дни в сумасшедшем доме. Ее ум ученого просто не мог смириться с призраками, облекшимися в плоть. Она всегда смеялась над коллегами по работе, если они верили во что-то сверхъестественное. Она выдержала нечеловеческие муки своих кошмаров только потому, что верила в разумное объяснение их причин — травму мозга. Но если причина в другом, если эти призраки — реальность… Что тогда? Что ее ждет? Она посмотрела на себя в зеркало и увидела, что похожа на затравленного зверька. Перед ее мысленным взором теперь открывались новые пропасти ужасов и кошмаров. Что будет дальше? Она прогоняла от себя эти мрачные мысли. Да и какой смысл строить предположения сейчас, когда она еще не знает, существует ли медальон на самом деле или он ей мерещится. Кроме того, на нее уже начало действовать снотворное. Веки наливались тяжестью, мысли расплывались. Сюзанна осторожно завернула мезузу в полоску бумажного полотенца. Она вышла из ванной, погасила свет. Забралась в кровать и положила маленький сверток в верхний ящик столика, рядом с бумажником. И задвинула ящик со своей тайной. Снотворное действовало, подобно огромной волне, сон накатывался на нее сверху, опуская вниз, вниз. Она потянулась к выключателю, чтобы погасить свет настольной лампы, но тут заметила, что в палате забыли включить дежурное освещение. Если она погасит лампу, то окажется в полной темноте, если не считать слабого отсвета из-под двери в коридор. Такой вариант ее не устраивал, она решила спать со светом. Сюзанна лежала на спине, глядя в потолок, стараясь ни о чем не думать. Минуту спустя она рухнула в сон, словно кто-то внезапно выключил ее.* * *
Четверг. Утро. На небе снова тучи. Между ними редкие полоски синего неба — проблески во мраке. Проснувшись, Сюзанна некоторое время лежала неподвижно, рассматривая небо за окном, и лишь потом вспомнила о сокровище, запрятанном в ящике стола. Она села в кровати, приподняв ее изголовье, взбила волосы на голове. Открыла ящик. Сверток лежал на том же месте, куда она вчера положила его. Значит, ей это все не приснилось. Она взяла его и держала на ладони, не решаясь открыть. Наконец развернула бумагу. Медальон лежал на белой бумаге. Золотая цепочка спуталась в клубок и поблескивала. Сюзанна взяла предмет в руки и разглядела его со всех сторон. Медальон существовал на самом деле, в этом не было никаких сомнений. Из этого обстоятельства следовал только один вывод — «мертвецы» на самом деле существовали, как бы невероятно это ни звучало. Призраки? Она вертела мезузу в руках, перебирала цепочку и пыталась привести в порядок свои мысли. Неужели всерьез можно думать о призраках? Неужели это возможно? Весь ее жизненный опыт восставал против такой гипотезы, отвергал ее. Она просто не могла перескочить через него и поверить в сверхъестественное. Но даже если бы она была с самого начала настроена на мистические объяснения, существовало одно обстоятельство, которое путало все карты. Это был все тот же медальон. Если призраки появлялись и исчезали в мгновение ока — как Харш вчера из ванной комнаты, — то вместе с ними должен был исчезнуть и медальон. Однако он здесь, у нее в руке. Вчера, под воздействием снотворного, она не сообразила, что реально существующий медальон не мог быть доказательством теории призраков. Он доказывал только то, что люди, являвшиеся ей, не были галлюцинацией. Он даже не доказывал, он указывал на это. Так что никаких призраков не было, да и не могло быть. Версия о дисфункции мозга тоже казалась сейчас надуманной. Она не могла выбросить полностью эти версии из головы, но сейчас они не могли ничего объяснить, поэтому их можно было отодвинуть на задний план. Что же оставалось? Она хмуро смотрела на мезузу. Казалось, все варианты исчерпаны и придется начинать по новой. Опять теория двойников. Никуда не годится. Четверо двойников собрались со всего света, чтобы убить ее, — полная чепуха. Теория заговора против нее тоже не годилась. Ею никак нельзя было объяснить удивительное исчезновение Харша из ванной комнаты, где не было ни окна, ни места, чтобы спрятаться. Как мог Харш так быстро оправиться после операции? Непонятно. Каким образом двигалось в кровати мертвое тело Джерри Штейна? Почему оно так хорошо сохранилось? Опять призраки? Опять дисфункция мозга? Ни одна из версий не давала ответа на все вопросы. Наоборот, любая из них только сильней запутывала клубок таинственных событий. Сюзанна почувствовала, что уже ничего не понимает. Она сильнее стиснула кулак с зажатым в нем предметом, словно надеясь выдавить из него хоть какое-нибудь разумное объяснение. В эту минуту в палату вошла медсестра. Это была Милли, стройная блондинка с заостренным личиком. Во вторник утром именно она собиралась сделать Сюзанне укол, в то время как двое мнимых санитаров держали ее за руки. — Сейчас вам будет подан завтрак, — сказала Милли, направляясь мимо кровати прямо в ванную комнату. — Подождите еще пару минут, — добавила она, исчезая в ванной. Через полуоткрытую дверь Сюзанна могла видеть, как медсестра наклонилась и принялась что-то высматривать на полу возле унитаза. Особенно внимательно она осмотрела углы ванной комнаты. Затем она еще раз прошлась по всему помещению, внимательно вглядываясь в кафельный пол. Заглянула под умывальник. Сюзанна случайно перевела взгляд на свою руку, в которой была зажата мезуза. Медальон, казалось, становился с каждым мгновением все холоднее, отбирая тепло у ее ладони. Золотая цепочка выскользнула из кулака между пальцев. Незаметным движением Сюзанна спрятала ее обратно. Накрыла зажатый кулак с медальоном другой рукой. Кроме того, она постаралась расслабиться. Теперь она сидела в кровати, позевывая, моргая на свет из окна, аккуратно сложив руки на коленях. Милли вышла из ванной и приблизилась к кровати Спросила: — Вы случайно не находили вчера одну безделушку? — Безделушку? — Ну да. — Где? — изобразила удивление Сюзанна. — Вы имеете в виду — в ванной комнате? — Да. — Это было что-то вроде жемчужных бус или бриллиантового колье? — Сюзанна хотела свести разговор к шутке. — Нет. Совсем в другом роде. Это мое украшение. Я потеряла его вчера где-то здесь и никак не могу найти. — И что это было за украшение? Милли слегка замялась, затем сказала: — Мезуза. На золотой цепочке. Сюзанна успела заметить напряженный тон медсестры, ее желание что-то скрыть. «Это не твое украшение, — подумала она. — Ты здесь ничего не теряла. Ты просто лжешь». Мезузу явно потеряли случайно. Она просто соскользнула с мертвой головы. А теперь они хотят исправить оплошность, чтобы продолжать свои игры. — К сожалению, — сказала Сюзанна, — я ничего не находила. Медсестра продолжала смотреть ей прямо в глаза. «Они хотят, чтобы я поверила, что мезуза принадлежит Милли. Потом они скажут, что это случайно найденное мною украшение вызвало у меня ассоциации с Джерри Штейном и подтолкнуло меня к новому приступу с галлюцинациями». Так думала она сначала. Но, внимательно приглядевшись к Милли, поняла, что их расчет, видимо, был направлен вовсе не на психологические объяснения ее кошмаров. Нет, тут другое. Они заставляют ее пройти через… целую серию испытаний… они сознательно запутывают ее. Но зачем, с какой целью? Этого она пока не знала. Но в намерениях она уже не сомневалась. Кто же занимается этим? — Будем надеяться, что эта вещь скоро найдется, — сказала она, улыбаясь. — Наверное, лопнула цепочка, — сокрушенно вздохнула Милли. — И неизвестно, где это случилось, где ее теперь искать. Медсестра, видно, не привыкла лгать. И глаза, и голос выдавали ее. В палату вошел санитар, он катил перед собой сервировочный столик с подносом. Милли переставила поднос с завтраком на столик у кровати. Затем и она, и санитар вышли. Оказавшись снова в одиночестве, Сюзанна разжала кулак. Медальон лежал на влажной от испарины ладони. Сюзанна направилась в ванную комнату, зажмурилась на секунду от яркого света и затем закрыла за собой дверь. Завтрак остался остывать на подносе. Она принялась исследовать стены ванной комнаты. Начала с той, у которой стоял унитаз. Стены были из сухой штукатурки, на их матовой, выкрашенной белой краской поверхности не было ни единой трещины. Дойдя до угла, Сюзанна особенно внимательно осмотрела стык между панелями сухой штукатурки. Ничего подозрительного. Вторая стена также оказалась совершенно гладкой. Третья, с умывальником и зеркалом, тоже. Лишь дойдя до угла за дверью, она обнаружила то, что искала. Вдоль стыка на высоте человеческого роста до потолка тянулась едва заметная и идеально ровная трещина. Но это же безумие. Она ожесточенно потерла глаза ладонями и снова посмотрела на угол с трещиной. Она была настолько прямой, что никак не могла возникнуть из-за деформации здания. Сюзанна вернулась к умывальнику, стала внимательно изучать зеркало. Зеркало было гладким, никаких трещин, закреплено так, что без специального инструмента снять его невозможно. Тогда Сюзанна встала на колени и заглянула под умывальник. Трубы к кранам и слив выходили из пола. Она подобралась поближе к стене и обнаружила тонкую, но опять-таки очень ровную трещину, идущую вверх. Вдоль плинтуса также имелась узкая щель, она соединяла две вертикальные трещины. В нее свободно входил ноготь, ясно было, что никто никогда не замазывал трещину замазкой. Из трещины дуло, Сюзанна явственно ощущала холодное дыхание на ладони, которую приложила к щели в стене. Она выбралась из-под умывальника и стряхнула с рук пыль. Еще раз оглядела панель шириной футов в шесть, по сторонам которой шли трещины. Очевидно, вся эта часть стены могла каким-то образом открываться. Так вот куда исчез Эрнест Харш, вот куда он унес мертвую голову, с которой случайно соскользнула цепочка с медальоном. Что же находится там, за стеной? Это безумие.* * *
Вернувшись в палату, Сюзанна начала обследовать стену за кроватью, на которой лежала Джессика Зейферт. Еще одна щель толщиной с человеческий волос. Она тянулась от пола до потолка, с расстояния в шесть футов ее невозможно было заметить. Вторая щель тянулась по стыку в углу. Сюзанна нажала на панель в нескольких местах по краям, пытаясь отыскать точку, прикосновение к которой сможет привести панель в движение. Но потайная дверь не поддавалась. Встав на колени, она провела ладонью вдоль плинтуса. Из этой щели также веяло холодом. На стене у левой части панели она обнаружила маслянистый след. Смазка для петель потайной двери? Вдоль плинтуса также не было никаких следов потайного рычага для открывания. Неужели здесь и вправду есть потайные двери? Очень странно. Таинственные заговорщики, незаметно выходящие прямо из стен. Классический параноидальный бред. Но откуда тогда загадочные трещины? Игра воображения? Сквозняки, дующие сквозь эти трещины? Нарушение восприятия? А как быть со следами смазки? Искаженное восприятие, вызванное дисфункцией мозга. Точечное кровоизлияние. Микротравма мозга. Или… — Сам черт тут ногу сломит, — проворчала она. Завтрак совсем остыл и выглядел не очень аппетитно. Но Сюзанна все равно съела его. Сейчас, как никогда, ей необходимы были силы, много сил. За едой она попробовала еще раз проанализировать случившееся. Все указывало, что подтверждается версия заговора, хотя она казалась абсолютно бессмысленной. У кого могли найтись силы и средства, чтобы организовать этот спектакль, в котором приняли участие четыре абсолютных двойника? Даже просто найти этих двойников — немыслимая по сложности задача. И с какой целью все это затеяно? К чему эти траты времени, сил и денег? Во имя чего? Может быть, ей мстят таким странным образом родственники этой четверки? Но мыслимо ли такое — спустя тринадцать лет? Нет, это полный абсурд. Такое бывает только в комиксах для детей. Люди не мстят столь изощренными и дорогостоящими способами. Есть куда более простые средства — нож, пистолет, яд, наконец. И зачем ждать целых тринадцать лет? За это время выветривается даже самая кровожадная ненависть. И еще один неразрешимый вопрос — что это за больница, в которой имеются потайные двери и помещения? Такое, наверное, бывает только в воображении у пациентов сумасшедшего дома — им вечно чудятся заговоры против них. Но она-то не пациентка психиатрической клиники, а обыкновенная больная, из обычной окружной больницы. И щели в стенах не воображаемые, а самые настоящие. Эти факты невозможно опровергнуть. Вспоминая, что произошло за последние четыре дня, Сюзанна восстановила несколько эпизодов, показавшихся ей незначительными, но теперь приобретшими совершенно иную окраску. Эти эпизоды указывали на то, что люди из этой больницы выдавали себя не за тех, кем они были на самом деле. Витецкий. Первый сигнал о необычности происходящего исходил от него. Когда Сюзанна очнулась в субботу вечером, доктор Витецкий явно был сам не свой. Он рассказывал ей об автокатастрофе, о больнице, и его речь звучала так, словно была заранее записана на магнитофон. Он словно заучил ее наизусть. Возможно, так и было на самом деле. Миссис Бейкер также допустила оплошность. В понедельник она, собираясь домой, рассказала Сюзанне о предстоящем ей свидании с каким-то «широкоплечим» красавцем. Когда Сюзанна два дня спустя задала ей совершенно невинный вопрос об этом свидании, миссис Бейкер замешкалась и долго не могла взять в толк, о чем ее спрашивают. Слишком долго не могла взять в толк. Как теперь стало ясно, эта история с красавцем-столяром была не чем иным, как выдумкой, рассчитанной на то, чтобы роль, которую играла медсестра, казалась более рельефной. Никакого столяра, конечно, и в помине не было, не было и никаких безумных ночей в его объятиях. Сюзанна покончила наконец с невкусным завтраком. Следующим подозрительным моментом был синяк у нее на руке. Он появился после того, как Харш со всей силы сжал ее руку в лифте. Тогда она убеждала саму себя, что синяк появился после сеанса физиотерапии и позже стал частью ее галлюцинации. Но, вероятно, с синяком была та же история, что и с мезузой, — совершенно реальные предметы никак не могли быть доказательством мнимых галлюцинаций. Внезапно Сюзанна поняла также причину, по которой Харш сделал ей больно тогда, в лифте. Он вовсе не собирался мучить ее, он просто хотел скрыть таким образом боль от укола, который ей наверняка сделали в лифте. Очередную сцену спектакля необходимо было заканчивать, значит, всей четверке надо было незаметно исчезнуть. Сделать это они могли, только усыпив Сюзанну. Они не были никакими призраками, поэтому нуждались в помощи шприца со снотворным, они не могли исчезнуть в облаке дыма, раствориться в воздухе. Сюзанна закатала рукав своей ночной сорочки и посмотрела на синяк. На его месте было уже желтое пятно, как она ни вглядывалась, ей нигде не удалось найти след от укола. Несомненно, ее мучители допустили массу других оплошностей, которые она просто не заметила. Она бы не заметила и этих, если бы не мезуза. Случайно оброненный медальон пролил неожиданный свет на события, казавшиеся ей малозначительными. Но, несмотря на эти оплошности, нельзя было не признать — игра им удалась, они с блеском провели ее почти до самого конца. Но кто эти люди? Кто потратил столько времени, сил и денег на постановку этого полномасштабного спектакля? С какой целью все это разыгрывалось? Боже мой, что все они хотят от меня? Это не месть, это что-то другое — более странное и опасное. Она с большой неохотой перешла к роли Макги в этом спектакле. Он не мог не принимать во всем этом участия. Он был частью заговора. Он был одним из них, кем бы они ни были. Она отодвинула от себя поднос. Она же поверила ему. А он предал ее. Она любила его. А он воспользовался ее чувством в своих целях. Хуже всего было то, что она доверила этому человеку свою судьбу, она сделала то, что никогда прежде не делала. Она стала рассчитывать на него, он выманил ее из скорлупы ее одиночества, он так искусно признавался ей в верности… И вот результат — он предал ее. Как и все прочие, он просто играл свою роль в спектакле, единственной целью которого, как сейчас казалось, было — свести ее с ума. Ее использовали как какой-то предмет. Ее одурачили. Теперь она ненавидела его.* * *
Корпорация «Майлстоун». Каким-то неведомым образом все события последних дней были связаны именно с этой фирмой. Она потратила долгие минуты на еще одну попытку хоть слегка заглянуть за занавес, отделявший от ее сознания все воспоминания о корпорации. Но занавес оказался неприступной стеной, оттуда не доносилось ничего. Чем сильнее она пыталась восстановить хоть что-нибудь, тем острее становился ее страх, она понимала, что ей не дано вспомнить, что за работу она выполняла в «Майлстоуне». В воспоминаниях притаилась смерть. Она ощущала это, но не могла понять причину. Боже, что же такого дьявольского в этой корпорации?* * *
Автомобильная авария тоже теперь вызывала у нее много вопросов. Была ли она на самом деле? Или это тоже ложь? Закрыв глаза, она попыталась оживить в памяти мгновения, которые предшествовали автокатастрофе. Ей говорили, что произошла она месяц тому назад. Вот дорога делает поворот… ее машина плавно вписывается в него, она едет медленно… медленно… затем — полный провал в памяти. Она попробовала заглянуть в этот провал, но ничего не увидела в его черной пропасти. Только шестое чувство настойчиво подсказывало ей, что никакой катастрофы не было. На этом повороте горной дороги действительно произошло нечто страшное, но это не было столкновением двух машин. Нет, там было другое: ее ждали на повороте — она пока не могла понять, кто именно, — они схватили ее, применив силу, и привезли сюда. Тогда-то и появилась рана на ее голове. У нее не было пока никаких доказательств ее похищения, но и сомнений в том, что все произошло именно так, тоже не было. Через двадцать минут, после того как Сюзанна закончила свой завтрак, в палату вошел Джефф Макги, совершавший свой обычный утренний обход. Он поцеловал ее в щеку, и она ответила на его поцелуй, хотя предпочла бы обойтись без этого. Она улыбнулась и притворилась, что рада ему. Важно было не показать, что она что-то подозревает. — Как самочувствие? — спросил он улыбаясь. Вероятно, он был полностью уверен в своей способности бесконечно водить ее за нос. — Прекрасное, — ответила она, испытывая острое желание влепить ему пощечину. — Великолепное. — Спала как убитая? — Как медведь, впавший в спячку. Ну и снотворное ты мне подсунул. — Я рад, что оно тебе помогло. Кстати, если уж мы заговорили о лекарствах. Я прописал тебе на сегодня две таблетки метилфенидата, одну — на девять, вторую — на пять часов вечера. — Да они мне и не нужны. — Вот как? Ты уже сама ставишь себе диагнозы? Может быть, тебе удалось за одну ночь получить медицинское образование? — Да, мне даже не пришлось ничего зубрить. Мне должны вот-вот прислать мой диплом по почте. — Сколько это сейчас стоит? — Пятьдесят долларов. — О! Мне он обошелся гораздо дороже. — Я тоже на это надеюсь, — сказала она и выдавила из себя улыбку. — Послушай, метилфенидат мне не нужен по той простой причине, что я уже больше не чувствую никакой депрессии. — Да, в данный момент ты ее не ощущаешь, скажем так. Но очередной приступ может нагрянуть в любой момент, особенно если опять начнутся галлюцинации. Я предпочитаю профилактические меры. Думаю, так будет лучше. «А я думаю, что ты — наглый лжец, доктор Макги», — пронеслось в голове Сюзанны. Однако вслух она сказала другое: — Но мне на самом деле не нужны никакие таблетки. Я же говорю — я чувствую себя прекрасно. — Я тоже тебе говорю, я — твой врач. — Я должна тебя слушаться? — Всегда. — Ладно, хорошо. Одну таблетку — в девять, другую — в пять. — Ну вот, умница. «Почему бы тебе не погладить меня по голове и не почесать за ухом, как любимую собаку?» — мрачно подумала Сюзанна, а вслух спросила: — У тебя нашлось вчера время для моих анализов? — Да, я просидел над ними часов пять, не меньше. «Подлый обманщик, — подумала она. — Ты не потратил и десяти минут. Ты же прекрасно знаешь, что никаких проблем с мозгом у меня и в помине нет». — Неужели? Целых пять часов! Наверное, ни на кого другого ты не стал бы тратить столько времени? Я так тебе благодарна. Тебе удалось что-нибудь обнаружить? — Боюсь, что нет. На энцефалограмме та же картина, которую я наблюдал вчера на экране монитора. А рентгеновские снимки — это вообще учебный материал по теме «Здоровый мозг здорового человеческого существа женского пола». — Спасибо и на том, что «человеческого существа», а не какого-нибудь другого. — Причем великолепный образец. — Причем женского пола. — Повторяю — великолепный образец, — проговорил он, смеясь от души. — А как насчет анализа пункции спинного мозга? — спросила Сюзанна, смягчая голос и добавляя в него нотку беспокойства. Она хотела, чтобы Макги наглядно убедился в ее тревоге за собственное здоровье. — Анализ проделан в лаборатории по всем правилам, — сказал Джефф. — Они совершенно верно интерпретировали результат, не пропустили ни одной цифры которая могла бы вызвать беспокойство. Сюзанна тяжело вздохнула и в знак уныния поникла головой. Макги заметил ее огорчение и, пытаясь утешить, взял ее за руку. Ей стоило больших сил сдержать себя, не вырвать руку и не залепить ему пощечину. Вместо этого она, всхлипывая, прошептала: — Что же… будет дальше? Неужели придется делать ангиограмму, о которой ты вчера говорил? — Нет-нет! Пока не надо. Я же говорил тебе, на этот анализ можно пойти только в случае крайней необходимости. Ты должна набраться еще сил. Так что в ближайшие два дня мы ничего предпринимать не будем. Подождем. Я прекрасно понимаю, Сюзанна, что для тебя это ожидание будет пыткой, но ничего другого, к сожалению, сделать нельзя. Они проговорили еще минут пять, в основном обо всяких пустяках. Судя по всему, Макги так и не догадался, что Сюзанна смотрит на него теперь совсем другими глазами и в глазах этих уже нет любви. Она и сама себе удивлялась — никогда раньше не подозревала, что умеет так хорошо водить людей за нос. У нее это получалось не хуже, чем у миссис Бейкер. «Я разобью этих негодяев их же собственным оружием, — подумала она удовлетворенно. — Мне бы только узнать, кто они такие и чего хотят». Надо было честно признать, что в их спектакле не было актера более блистательного, чем Макги. У него был свой неповторимый стиль, железная выдержка и способность к импровизациям. Даже сейчас, когда Сюзанна знала о его лжи, пятиминутный разговор с ним посеял в ней сомнения, ей показалось, что он говорит совершенно искренне. Он был так добр и внимателен. У него был такой открытый, прямой взгляд, что по нему никак нельзя было догадаться об обмане. Он так участливо относился к ней. Был так мил, так трогательно мил. И смех у него такой естественный, такой непринужденный. Но поразительнее всего было ощущение света, любви, которое источало его лицо, его взгляд. Сюзанна чувствовала, что она купается в его любви, что она скользит в ней. В ее жизни было всего два случая, когда мужчины были так сильно влюблены в нее, но в обоих случаях от влюбленных не исходило никакого сияния, она не чувствовала, что рядом с ней сгорают от любви. Теперь же ее обжигал настоящий огонь. И это при том, что ее разыгрывают. Ее разыгрывают — в этом не может быть никаких сомнений. Макги не мог не знать об этом спектакле. Однако, как только он вышел из палаты, чтобы продолжить утренний осмотр, ее снова стали мучить сомнения. Может быть, все-таки дело в ней самой, может быть, она сошла с ума? Потайные двери, заговорщики в больнице? Зачем все это могло понадобиться? Мысль о заговоре против нее казалась настолько дикой, что легче было поверить в собственное безумие, чем в то, что Джефф Макги — лжец и негодяй. Сюзанна даже зарылась головой в подушку и проплакала несколько минут. Она сама не могла понять, что она оплакивает — внезапно открывшееся лицемерие Макги или свою собственную утрату веры в него. Она чувствовала себя совершенно несчастной. В ней еще слишком ярок был образ человека, о котором она мечтала всю жизнь, с которым была готова связать себя навеки. Теперь этот человек, этот образ ускользает от нее. А может быть, она сама отталкивает его от себя? Запутавшись в своих мыслях, она не могла понять и своих чувств. Случайно она просунула руку под подушку и обнаружила там мезузу. Снова начала вглядываться в нее. Вертеть в руках, осматривая со всех сторон. Мало-помалу реальность этой вещицы, тяжесть золотого украшения вновь вернули ее на землю, привели в чувство. Сомнения исчезли. Нет, она не сошла с ума. Она в полном здравии, но — вне себя от ярости.* * *
В девять часов утра Милли принесла первую таблетку метилфенидата. Сюзанна взяла таблетку из упаковки и спросила: — А где же миссис Бейкер? — По четвергам у нее выходной, — ответила Милли наливая в стакан воду из графина. — Она, кажется, собиралась утром помыть свою машину, а потом поехать куда-то на пикник со своими друзьями. Не знаю, повезет ли им, обещали, что после обеда будет сильный дождь. «Великолепно. Продумана каждая деталь, — подумала Сюзанна с сарказмом и искренним восхищением перед титаническими усилиями этих людей создать новую реальность. — Итак, по четвергам у нее выходной. Как это оживляет человеческий образ! Больница — на самом деле не больница, и миссис Бейкер — не медсестра, но выходной должен быть — так записано в сценарии. По сценарию она должна вымыть утром машину, а затем отправиться на пикник. Великолепно! Аплодисменты сценаристу». Милли подала Сюзанне стакан. Сюзанна сделала вид, что положила лекарство в рот, хотя на самом деле спрятала его в ладони. Сделала пару глотков из стакана. Отныне она не будет пить никаких лекарств. Судя по всему, эти люди дают ей какой-то медленно действующий яд.* * *
Мысль о том, что она каким-то неведомым образом стала участницей научного эксперимента, тоже приходила ей в голову. Возможно, она даже добровольно дала согласие на участие в нем. Бывают же научные эксперименты, связанные с исследованиями в области восприятия или управления сознанием. Она вспомнила, что когда-то читала о подобных вещах. В 60-х и 70-х годах некоторые ученые добровольно участвовали в таких экспериментах. Их изолировали от мира в сурдокамерах на длительный срок. В какой-то момент человеческий мозг не выдерживал, и у ученых начинались галлюцинации. Сюзанна была уверена, что у нее никаких галлюцинаций нет, но тем не менее не могла исключить, что под видом больницы организован загадочный центр по управлению сознанием и контролю за психикой. Возможно, именно этим занимается корпорация «Майлстоун»? Но по здравом размышлении она поняла, что и эта версия никуда не годится. Она в жизни не поверила бы, что может согласиться на работу, связанную с добровольным или обязательным участием в экспериментах, затрагивающих ее собственное сознание. Кто же мог пойти на такие чудовищные опыты над живыми людьми? Это могло быть только в нацистской Германии, больше нигде. Во всяком случае, она полагала, что ни один мало-мальски уважающий себя ученый не пойдет на это. Кроме того, она была физиком по специальности и никак не могла быть связанной с психологией. Контроль над психикой — это было настолько далеко от ее тематики, что только в кошмарном сне можно было представить, что она участвует в чем-нибудь подобном. Никогда в жизни она не согласилась бы на такую работу, никогда.* * *
На десять часов в это утро был назначен очередной сеанс физиотерапии. Незадолго до десяти за ней явились, как обычно, Фил и Мэрфи. Всю дорогу, как обычно, не смолкала их веселая болтовня. Сюзанну так и подмывало сказать им, что, по ее мнению, они вполне могли бы давать уроки театрального искусства, но она молчала, не желая раскрываться прежде времени. Когда настал черед упражнений в гимнастическом зале, то Сюзанна проделала только половину из них. Затем она пожаловалась Флоре Аткинсон на сильные боли в мышцах, хотя на самом деле ей совсем не было больно. Просто она не хотела расходовать много сил, они могли понадобиться ей позже. Сегодня вечером она собиралась улизнуть из больницы. Миссис Аткинсон с большим участием отнеслась к ее жалобам. Она разрешила не делать больше упражнения и устроила вместо этого хороший массаж. Кроме того, продлила на десять минут купание в бассейне с гидромассажем. К тому времени, когда Сюзанна высушила волосы, она чувствовала себя просто великолепно. На обратном пути в палату она опять ждала нового подвоха со стороны Фила и Мэрфи, но в лифте не оказалось посторонних людей, и все прошло благополучно. Она пока не решила, как ей себя вести, когда перед ней снова появятся мнимые мертвецы. Она знала только, как ей хочется отреагировать на их появление. Она с удовольствием дала бы волю рукам и набросилась бы на них с кулаками. Вероятно, они от неожиданности не стали бы даже защищаться. Она бы выцарапала им глаза, исцарапала бы кожу до крови. Да-да, кровь у них на коже, пожалуй, была бы лучшим доказательством, что они не принадлежат к миру призраков. Аеще она выкрикнула бы им в лицо все, что она думает о них. Но поступить так она не могла. Преимущество было на ее стороне только до тех пор, пока они не знают об ее осведомленности в их замыслах. Как только они узнают об этом, у нее резко уменьшится поле для маневра. Спектакль закончится, и они вынуждены будут переменить тактику — вместо того, чтобы медленно сводить ее с ума, они скорее всего пойдут на крайние меры. В этом она была уверена.* * *
Обед она съела весь до последней крошки. Когда Милли пришла, чтобы забрать поднос с пустыми тарелками, Сюзанна зевнула и сказала: — Господи, как же хочется спать. — Я закрою дверь, чтобы вам не мешал шум из коридора, — предложила медсестра. Как только медсестра вышла, плотно прикрыв за собою дверь, Сюзанна встала с кровати и подошла к стенному шкафу. На верхней полке шкафа лежали подушки и одеяла для второй кровати, а на нижней — чемоданы Сюзанны, которые якобы удалось спасти из потерпевшей аварию машины. Она вытащила чемоданы на пол и открыла их, умоляя небо, чтобы никто не застал ее за этим занятием. Быстро перебрала вещи, вылавливая те, которые больше подходят для побега. Пара джинсов. Темно-синий свитер. Носки, кроссовки. Все эти вещи она сложила у стенки шкафа и завалила чемоданами так, чтобы ничего не было видно. Закрыв шкаф, она быстро нырнула в постель, опустила изголовье, забралась под одеяло и закрыла глаза. Она чувствовала себя великолепно. Теперь только она отвечает за себя и за свою жизнь. Среди тревожных мыслей, посещавших ее в последнее время, одна была особенно тревожной. Она боялась, что за ней постоянно наблюдают с помощью скрытой телекамеры. Если у них есть потайные двери и помещения, то почему бы им не устроить и круглосуточное наблюдение за ней с помощью телекамер? Может быть, они уже увидели, как она обнаружила мезузу и теперь готовится к побегу? Некоторое время ею владело полное отчаяние. Она опять дрожала и не могла справиться с ознобом. Однако ей удалось пересилить страх. Она сообразила, что если бы они увидели, как она поднимает с пола мезузу, то наверняка давно подняли бы тревогу и не посылали бы Милли на поиски медальона. Разве не так? Скорее всего они, увидев, что ее больше нельзя водить за нос, прекратят свои попытки внушить ей новые «галлюцинации». Хотя кто их знает. Остается только ждать и следить, как будут развиваться события. Если ей удастся удрать из больницы, она будет знать, что в палате нет телекамер. А что, если, выбежав в коридор, она встретит там четверку «мертвецов», которые будут улыбаться ей своими омерзительными улыбками… И хотя она прекрасно знала, что они — никакие не «мертвецы», ее опять пробила дрожь. Остается только ждать. И наблюдать за происходящим.Глава 15
Во второй половине дня в четверг сильный ветер залатал осеннее рваное небо новыми заплатками, не оставив на нем ни единого светлого места. В больничной палате стемнело раньше времени. Ливню предшествовали отдаленные раскаты грома, эхом прокатившиеся по окрестностям. Первые крупные капли дождя пулеметными очередями заплясали по стеклу. Ветер взвыл, затем перешел на стон, а потом заскулил, словно от невыносимой боли. Изредка ливень превращался в ураган, он, казалось, нашел свой стиль и по большей части сбивался на методичный ритм, лишь изредка позволяя себе разбушеваться. Просветлений в тучах не было видно, и день неуклонно двигался к закату. Сюзанна ждала вечера со смешанным чувством возбуждения и страха. Почти час она притворялась, что спит, повернувшись спиной к двери и наблюдая за грозой в окне. В палату за все это время так никто и не зашел. Затем она села в постели и включила телевизор, она провела перед экраном весь остаток дня. Ее не слишком волновало, что мелькает на экране, мысли ее были направлены совсем на другое — она продумывала планы и пути побега. Ровно в пять часов вечера медсестра Сколари, которая только что заступила на дежурство, принесла ей вторую таблетку метилфенидата. Сюзанна опять сделала вид, что пьет лекарство, а сама тем временем спрятала его в ладони. Когда подошло время ужина, вошел Макги с двумя подносами и объявил, что собирается поужинать вместе с ней. — К сожалению, не при свечах. И без шампанского, — извинился он. — Но зато у нас на ужин аппетитное жаркое из свинины, а на десерт — пирог с яблоками и орехами. — Не верю своим ушам, — сказала Сюзанна. — А что касается свечей, то я их никогда не любила из-за запаха воска. Макги принес также несколько журналов и пару книг. — Я подумал, что тебе, наверное, уже нечего читать. Он провел с ней больше двух часов, и все это время они разговаривали. Боязнь раскрыться, а также необходимость разыгрывать влюбленность при ее полном отсутствии настолько утомили Сюзанну, что она не могла дождаться ухода врача. Она еще раз убедилась в своих хороших артистических способностях и с ужасом поняла, что двухчасовая игра отняла у нее почти все силы. Поэтому она вздохнула с облегчением, когда Макги наконец поцеловал ее, пожелал доброй ночи и ушел. Да, ей стало легче, но она с удивлением обнаружила, что испытывает грусть от прощания с Макги. До того момента, пока он скрылся за дверью, она и представить не могла, что ей станет грустно, что она будет жалеть о его уходе и испытывать чувство опустошенности и потери. Возможно, им уже никогда не доведется встретиться — разве только в суде по делу о ее похищении и издевательстве над ее человеческим достоинством. Он был, несомненно, лжецом и мошенником, и тем не менее ей нравилось быть в его компании. Он все так же очаровывал ее, все так же увлекал своими разговорами. У него было неподражаемое чувство юмора и необыкновенно заразительный смех. Но удивительнее всего было то, что он, как и раньше, прямо-таки светился любовью к ней. Она приложила немало сил для того, чтобы разглядеть хотя бы тень лицемерия в его лице, услышать хотя бы тень фальши в его голосе, но не обнаружила ничего подобного. «Если ты хочешь себе добра, забудь о нем, — убеждала себя Сюзанна. — Выбрось его из головы. Насовсем. Думай лучше, как отсюда выбраться. Вот что важно для тебя сейчас. Выбраться отсюда». Она взглянула на часы. Было 20. 03. За окном полыхнула молния. Дождь не переставал ни на минуту. В девять часов Тина Сколари принесла снотворное. Сюзанна опять проделала фокус с таблеткой и сделала несколько глотков воды из стакана. — Спокойной вам ночи, — пожелала медсестра. — Спасибо, — ответила Сюзанна. Несколько минут спустя после ухода медсестры Сюзанна выключила настольную лампу. Фосфорический свет из окна окрасил палату в два цвета — пепельно-серый и призрачно-лунный. В углах затаились тени, но Сюзанне для побега был необходим именно такой полумрак. Еще несколько минут в кровати, с глазами, устремленными в потолок, на котором пляшут отблески от вспышек молний. Ей надо убедиться, что в палату вновь не войдет медсестра с напоминанием про ранний подъем. Вот теперь пора. Сюзанна встала и направилась к стенному шкафу, достала с верхней полки пару подушек и одеяла. С их помощью соорудила некое подобие куклы на своей кровати. При свете из окна ее можно было принять за спящую женщину. Она не особенно старалась — не было времени. Вернулась к шкафу. Достала из-за чемоданов приготовленную заранее одежду. К тому времени, когда она переоделась в джинсы, свитер и кроссовки и подошла к столику у кровати, чтобы забрать свой бумажник, часы показывали 21. 34. Мезузу она положила в карман джинсов, хотя прекрасно понимала, что эта вещь ни для кого, кроме нее, не может служить доказательством чего-либо. Подошла к двери и припала к ней, прислушиваясь. Полная тишина в коридоре. Поколебавшись немного и вытерев вспотевшие ладони о джинсы, она толкнула дверь. Слабый скрип. Яркий свет из коридора. Открыла дверь пошире. Высунула голову. Огляделась. Вокруг никого. В коридоре было тихо и пустынно. Настолько тихо и пустынно, что, казалось, в этом здании уже давным-давно никто не обитает. Сюзанна вышла из палаты, аккуратно прикрыв за собою дверь. Затаив дыхание, прижалась к двери, готовая в любое мгновение нырнуть обратно в палату под одеяло. Налево от нее был перекресток коридоров, на котором сводились два коротких прохода и один длинный. Опасность могла исходить в первую очередь оттуда, так как за углом в длинном коридоре находился пост дежурной медсестры. Было все так же тихо, только где-то далеко слышался слабый рокот дождя. Понимая, что каждая минута промедления увеличивает опасность, она осторожно двинулась вправо по коридору к запасной двери, над которой висел указатель «ВЫХОД». Она держалась поближе к стене и время от времени оглядывалась назад. Кроссовки на резиновой подошве, соприкасаясь с полом, издавали скрипучие звуки, не очень громкие, но действующие на нервы. «Словно гвоздем по стеклу», — подумала Сюзанна. Она без приключений добралась до двери и открыла ее. Зажмурилась, когда несмазанные петли издали довольно громкий скрежещущий звук. Как в омут, бросилась на лестничную клетку и еще раз содрогнулась от звука закрываемой двери. Лестничная клетка из бетона безо всякой отделки была скупо освещена слабыми лампочками, горевшими на каждой площадке. На шершавых серых стенах словно висела паутина из пыльных теней. Сюзанна прислушалась. Здесь, на лестнице, было еще тише, чем в коридоре. Значит, если этот выход из здания охранялся, то звука скрипящей двери не могли не услышать. У нее было, однако, неизвестно откуда взявшееся убеждение, что она на этой лестнице одна. Вероятно, они не выставили охрану, так как не предполагали, что она может убежать, что она в курсе их замыслов. А прочий персонал больницы — или иного учреждения — пользовался лифтами и никогда не заходил в эти темные углы. Она перегнулась через перила и посмотрела вниз и вверх. Четыре лестничных пролета было вверху, два с половиной — внизу. Она пошла вниз по лестнице. На нижней площадке было две двери — одна вела, по всей видимости, в коридор первого этажа, вторая — на улицу. Ручка наружной двери поддалась, и Сюзанна приоткрыла ее на пару дюймов. На лестничную клетку ворвался холодный осенний ветер. Он казался огромным псом, который обнюхивал ее со всех сторон своим холодным носом и решал — то ли завилять хвостом, то ли укусить. На улице прямо перед дверью была автомобильная стоянка, освещенная двумя люминесцентными светильниками в виде больших шаров, укрепленных на столбах. Стоянка была небольшой и, судя по всему, предназначалась для машин медперсонала. Но даже в этом случае машин здесь было маловато — всего четыре: один «Понтиак», один «Форд» и две неизвестные ей марки. На стоянке никого не было, и Сюзанна вышла на улицу, захлопнув за собой дверь. Дождь почти утих, на лицо сеялась мелкая водяная пыль. Ветер, однако, свирепел с каждой минутой. Он развевал ее светлые волосы, резал холодом глаза, заставляя их слезиться. Когда порывы его стали невыносимо сильными, она закрыла глаза ладонями. Ветер пронизывал ее даже сквозь теплый свитер, она пожалела, что не захватила с собой куртку. Ветер, пожалуй, был слишком холодный для сентября в Орегоне. Скорее такие ветры могли дуть здесь в ноябре. Или даже в декабре. Неужели они наврали ей и про время года? На кой черт им это понадобилось? Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Ведь и все остальные их уловки так же лишены всякого смысла. Она скользнула от двери в тень каких-то вечнозеленых кустарников и осмотрелась, решая, в какую сторону двинуться. Пойти к главному входу в больницу и двинуться в сторону города? Или предпочесть другой, более извилистый, но и более безопасный путь? Вновь вспыхнула молния и прогрохотал гром. Каким бы путем она ни пошла, через короткое время она вымокнет до нитки. Уже сейчас у нее промокли волосы. Решение пришло неожиданно, и она, особо не задумываясь о последствиях, решительно двинулась к ближайшей к ней машине — зеленому «Понтиаку». На стоянке было четыре машины, значит, у нее было четыре шанса на удачу, на то, что в одной из них она обнаружит ключи зажигания, оставленные в автомобиле. В маленьких городках, подобных Уиллауоку, почти все жители были знакомы между собой и поэтому не особенно заботились о безопасности своих машин, не то что в больших городах. Доверяй соседу — такова неписаная заповедь, еще сохранившая свою силу в некоторых благословенных местах. Четыре машины, четыре шанса. Надо испытать судьбу, может быть, повезет. Сюзанна добежала до «Понтиака» и дернула ручку двери. Она подалась. Дверь открылась, и одновременно с этим загорелся свет в салоне. Свет был таким ярким, что она решила, что все пропало и сейчас со всех сторон взвоют сирены. — А-а, черт! Сюзанна нырнула в машину и быстро захлопнула дверь, не обращая внимания на громкий звук. Лишь бы поскорее погас этот проклятый свет. «Идиотка!» — мысленно выругала она себя. Насколько позволяло видеть покрытое дождевыми каплями ветровое стекло, на стоянке никого не было. Она взглянула на освещенные окна больницы. Судя по всему, никто оттуда не наблюдал за ней. Теперь ей надо успокоиться и отдышаться. Только сейчас она почувствовала, что салон машины насквозь пропах табаком. Она не любила запаха табачного дыма, но в эти минуты он казался ей изысканным ароматом — до такой степени ей опостылел въедливый больничный запах. Сюзанне уже начинало казаться, что ее попытка удалась. Она наклонилась вперед, ощупывая сиденье и пол машины в поисках ключей… …как вдруг похолодела от неожиданности. Ключ торчал в замке зажигания. Желтоватый металл слегка поблескивал в тусклом свете, проникавшем сквозь стекло. Неожиданная находка привела Сюзанну в состояние шока. Она уставилась на ключ, не зная, радоваться ли ей или бежать со всех ног, опасаясь провокации. Мысли проносились в голове, противореча одна другой. — Что-то здесь не так. — Да нет же, мне просто наконец повезло. — Слишком легко все получается. — Но я же сама надеялась на такую удачу. — Все-таки это странно. — В небольших городах люди часто оставляют ключи в машинах. — Странно, тебе повезло с первой же машиной. — Какая разница — первая она, или четвертая, или трехсотая? — Это важно, так как легкость обманчива. — Но бывает же так, что человеку везет. — Слишком уж все просто. Лезвия молний опять разрезали ночное небо, высекли из него гром. Притихший было дождь вновь обрушился сплошной стеной на землю. Сюзанна вслушивалась в дождь, стучащий по крыше автомобиля, смотрела на бесконечные потоки воды, струящиеся по ветровому стеклу, и все больше убеждалась в том, что нет никакого смысла упускать такой шанс и, испугавшись непонятно чего, идти пешком в город целую милю, а то и больше, под проливным дождем. Зачем это нужно, если в ее распоряжении есть прекрасный автомобиль? Да, конечно, на первый взгляд кажется, что все идет слишком легко, но, с другой стороны, с какой стати бояться этого. Почему бы не принять эту неожиданность как подарок судьбы. Разве есть другие разумные объяснения? Она повернула ключ зажигания. Мотор завелся сразу же. Она включила фары и «дворники», нажала педаль сцепления и сняла машину с тормоза. Выехала со стоянки и завернула за угол, к фасаду больницы. Проезд был узким, рассчитанным на одну машину. Ей пришлось сделать поворот, запрещенный знаком, так как если бы она повернула по стрелке, то оказалась бы прямо у входа в больницу, где ее могли заметить. К счастью, встречных машин не было, и она легко добралась до перекрестка со светофором. Дальше начиналось шоссе с двумя полосами движения. Сюзанна оглянулась назад, на здание больницы, из которой ей только что удалось выбраться, и увидела на газоне перед ней транспарант — футов восемь в длину и футов пять в высоту. Транспарант освещали четыре прожектора, в их свете можно было легко разобрать белые буквы на синем фоне. Даже сквозь потоки дождя Сюзанна без труда прочитала: КОРПОРАЦИЯ «МАЙЛСТОУН». Не веря своим глазам, она вглядывалась в четкие буквы. Затем она подняла взгляд и еще раз посмотрела на здание, испытывая смятение, страх и ярость. Значит, это никакая не больница! Но что ж это тогда, Господи? Разве корпорация «Майлстоун» не в Ньюпорт-Бич, Калифорния? Ведь и она сама жила там. Жила и работала именно в этой корпорации. «Надо поскорей уносить отсюда ноги», — лихорадочно подумала Сюзанна. Она повернула налево и начала спускаться вниз по дороге по направлению к городу Уиллауок. Сквозь дождь и туман, накрывший долину, Уиллауок представлялся скоплением мерцающих огоньков желтовато-белого цвета. Сюзанна вспомнила, что, по словам доктора Витецкого, в городе было около восьми тысяч человек населения. Судя по огням, там не было и половины этого числа. На середине спуска она вновь стала всматриваться в лежащий внизу городок. Ей показалось, что все скопление огней странно подмигивало, словно испорченная неоновая реклама. Но это, вероятно, был обман зрения, с ней шутили туман и дождь. Однако чем ближе она подъезжала к городу, тем меньше он ей казался. Там, пожалуй, не было и четырех тысяч жителей. Вот и последний поворот и первые дома. В части из них окна уже погашены. Шоссе перешло в улицу под названием Мэйн-стрит[18]. Ничего оригинальнее жители, наверное, придумать не могли. Центр Уиллауока был похож на тысячи других небольших американских городов. Здесь, как и везде, был крошечный парк с памятником павшим на войне. Был бар под названием «Нью Дроп Инн» с неоновой вывеской оранжевого цвета. Окна украшены рекламой различных сортов пива. В городе было много маленьких магазинчиков, были и местные отделения крупных фирм — «Дженкинс», «Лаура Ли», «Сиэрс». В кафе сидели несколько клиентов, их хорошо было видно через огромные стекла окон. Были также местный банк и кинотеатр, в котором, судя по афише, шли две лучшие комедии этого лета — «Артур» и «Континентальный раздел». Банк с огромным уличным градусником и термометром у входа, три бензозаправки у перекрестка и множество маленьких магазинчиков на все вкусы… Хотя городок походил на тысячи других, кое-что в нем показалось Сюзанне… странным. Во-первых, весь город был неправдоподобно чист, словно его вылизывали целый месяц. Бензозаправки, магазины — все сверкало чистотой. Деревья посажены, как по нитке, и кроны их пострижены ровно-ровно. Ни одной разбитой лампочки в фонарях. Только в одном месте слегка подмигивали несколько букв на неоновой рекламе. Может быть, в этом городе жили какие-то образцово-показательные люди? Или дождь и туман так странно исказили его облик? Но, с другой стороны, такая мрачная погода никак не может украсить город. И разве бывают люди, способные день и ночь наводить порядок в городе? Не роботы же здесь живут. Другой странностью было очень маленькое количество машин на улицах. Проехав всю улицу, она не встретила и восьми машин, причем все они были припаркованы и ни одна не попалась ей навстречу. Ну ладно, тут хоть можно все объяснить погодой — люди сочли более благоразумным остаться дома. Но разве может быть столько благоразумных людей? Не может. Во всяком случае, не столько же их, не весь же город. Единственным местом, где ей встретились люди, был бар «Нью Дроп Инн». Вероятно, именно здесь собирались отпетые алкоголики. «Езжай вперед, — приказала она себе. — Проезжай этот город насквозь. Не останавливайся. Здесь что-то не так». Но у нее не было даже карты, она не знала, сколько ехать до ближайшего города. И еще она боялась, что мания преследования, постигшая ее в больнице, превратится в паранойю. Поэтому, найдя в конце концов место где ей могли бы оказать помощь, она свернула с улицы и поставила машину на стоянку.ШЕРИФ ОКРУГА УИЛЛАУОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС УИЛЛАУОК, ШТАТ ОРЕГОНЗдание не отличалось ничем особенным, входная дверь была стеклянной. В таких домах на юге обычно располагаются окружные суды. Сюзанна припарковала похищенный «Понтиак» прямо у входа. Ей уже хотелось выбраться из машины на свежий воздух, запах табака уже не казался ей таким приятным, как в начале поездки. Она выбралась из машины под дождь. Добежала сначала до гигантской ели, в ветвях которой свистел неистовый ветер. От ели до крыльца дома оставалось совсем немного, и она преодолела это расстояние в несколько прыжков. Стеклянная дверь не была заперта. Она очутилась в обычной казенной комнате с серыми стенами, люминесцентными лампами и полом из линолеумных плиток. Комната была разделена на две неравные части перегородкой. Пройдя мимо казенных стульев и столов, Сюзанна направилась прямо к перегородке. За ней находилось несколько рабочих столов, картотека, копировальная машина, большая карта округа и огромная доска, усеянная объявлениями и фотографиями. Где-то в соседней комнате за закрытой дверью раздавался голос женщины-диспетчера, разговаривающей по радио с полицейским патрулем. Было слышно, как в эфире раздается треск от грозовых разрядов. В комнате перед Сюзанной находился только один человек. Он что-то печатал, сидя спиной к ней. — Извините, — обратилась к нему Сюзанна, стряхивая с ресниц капли дождя. — Мне нужна ваша помощь. Человек развернулся на своем поворачивающемся кресле, улыбнулся и произнес: — Лейтенант Уитлок. Я к вашим услугам. Лейтенант оказался совсем молодым, лет двадцати. Он был довольно упитанным мужчиной. У него были светлые волосы, круглое лицо, двойной подбородок, нос картошкой и маленькие, быстрые, поросячьи глазки. У него была наглая, кривая усмешка на лице. Это был Карл Джеллико. Сюзанна втянула в себя воздух, который, казалось, пронзил ее легкие ножом, и уже не могла сделать выдох. Когда этот человек был в одежде санитара, он называл себя Дэннисом Брэдли. Теперь он был одет в форму полицейского с нашивками округа Уиллауок на кармане и на рукаве, и на боку у него висел револьвер в кобуре. Теперь он, оказывается, лейтенант Уитлок. Сюзанна не могла произнести ни слова, ее будто парализовало. Горло пересохло, в нем застыл крик. Сдвинуться с места она также не могла. Ей с невероятным трудом удалось выдохнуть и набрать еще немного воздуха, но ноги по-прежнему были как будто приклеены к полу. — О, я вижу, вы не можете скрыть своего удивления, — протянул, всхлипывая от смеха, Джеллико и поднялся со своего кресла. Сюзанна тряхнула головой, пытаясь сбросить с себя наваждение. — Ты что, на самом деле думала, что тебе удастся скрыться от нас? На самом деле? — заорал он, резко меняя тон. Он подскочил к перегородке, придерживая рукой болтающуюся на боку кобуру. Сюзанна так и оставалась стоять на одном месте. Рукой она изо всех сил вцепилась в перегородку, словно та была единственным предметом, связывающим ее с реальностью. Не спуская своих поросячьих глаз с Сюзанны, Джеллико обратился к кому-то, находящемуся в соседней комнате: — Эй, посмотрите-ка, кто к нам пожаловал. В комнату вошел второй полицейский. Он был того же возраста, что и Джеллико, но глаза у него были нормальные. Только лицо портили веснушки. В бытность свою санитаром он представился ей Патриком О'Харой. Сюзанна не знала, как он назовет себя сейчас, но тринадцать лет назад, в «Доме Грома», участвуя в убийстве Джерри Штейна, он был Гербертом Паркером — это она запомнила на всю жизнь. — О-о-о! — зацокал языком Паркер. — Кажется, леди чем-то встревожена. — Видишь ли, бедняжка думала, что ей удалось избавиться от нас навсегда, — пояснил Джеллико. — Неужели такое могло прийти ей в голову? — с деланным изумлением воскликнул Паркер. — Да-да, представь себе. — Неужели она не знает, что мы с ней навсегда? Неужели она не знает, что мы умерли? Джеллико опять захихикал: — Ты разве не знаешь, что мы — мертвецы, ты, вонючая сучка? — Ты же наверняка прочитала об этом в газетах, — напомнил ей Паркер. — Теперь хоть вспоминаешь? — Это произошло в автокатастрофе, — подхватил Джеллико. — Примерно одиннадцать лет тому назад. Из соседней комнаты по-прежнему доносились слова женщины-диспетчера, разговаривающей с патрулем. Казалось, диспетчер не знала о том, что творится в приемной. Хотя, с другой стороны, не могла не знать. — Наша машина перевернулась, словно игрушечная, — не унимался Джеллико. — Перевернулась два раза, — добавил Паркер. — Ее всю искорежило. — И нас тоже искорежило. — И все из-за этой вот сучки. Оба начали приближаться к перегородке, не спеша, с наглыми улыбками на лицах. — А теперь она думает, что сможет запросто убежать от нас, — прогнусавил Карл Джеллико. Паркер добавил: — Мы же мертвые, пойми ты, стерва. Это значит, что ты никуда не сможешь спрятаться от нас. — Мы повсюду… — …везде. — …всегда. — Такое возможно только у мертвецов. В этом одно из наших преимуществ. — Хотя вообще-то преимуществ немного. Джеллико захихикал. Они уже подошли вплотную к перегородке. Сюзанна жадно ловила ртом воздух, она задыхалась. — Вы не мертвецы, черт бы вас побрал, — внезапно у Сюзанны прорезался голос. — Ошибаешься, мы — мертвые… — …нас давно похоронили… — …мы уже побывали в аду… — …а теперь вернулись обратно… — …теперь здесь будет ад. — Для тебя, Сюзанна, для тебя. Это место ненадолго превратится в ад для тебя, Сюзанна. Джеллико уже направлялся к проходу в перегородке, к тому месту, где верхняя доска откидывалась и можно было пройти в отсек для посетителей. На перегородке рядом с Сюзанной стояла массивная пепельница из стекла. Мгновенным движением она схватила ее и запустила в голову Джеллико. Джеллико не стал дожидаться, пока пепельница пролетит сквозь него, как это сделало бы каждое уважающее себя привидение. Напротив, он с ловкостью, свойственной всем смертным в подобной ситуации, нырнул вниз и спрятался за перегородкой. Пепельница ударилась о стену и разлетелась вдребезги. На перегородке еще оставался полицейский фонарь, довольно тяжелый на вид. Недолго думая, Сюзанна схватила его, чтобы нанести второй удар по Джеллико, но в этот момент краем глаза заметила, что Герберт Паркер достает из кобуры свой револьвер. Тогда она повернулась и в несколько прыжков достигла двери, ища спасения на темной улице. В эту минуту очередная молния ярко высветила и превратила из зеленых в серебряные тысячи иголок старой ели, росшей у входа. Сюзанна подбежала к «Понтиаку» и рванула дверцу. Нырнула в машину и протянула руку к ключу зажигания, который оставила в замке. Ключа не было. Это место превратится в ад для тебя. Она оглянулась на ярко освещенную стеклянную дверь. Джеллико и Паркер были уже на ступеньках и бежали по направлению к ней. Сюзанна перебралась через соседнее сиденье к другой дверце и выбралась из машины. Оглянулась, выбирая путь к спасению, умоляя небо, чтобы не подвели ее ноги. Слава Богу, они немного окрепли во время занятий с Фло Аткинсон. Но сил все же было маловато, и она быстро выдохнется, ей не убежать далеко от этих здоровяков. Перекрывая шум дождя и свист ветра, Джеллико крикнул: — Не трать понапрасну силы, Сюзанна. — Тебе от нас не спрятаться, — прокричал велел ним Паркер. — А пошли вы… — выругалась Сюзанна и побежала.
Глава 16
Дом выглядел вполне гостеприимно. Низкая белая ограда, дорожка с кустами по сторонам, просторная веранда из дерева. Из окон первого этажа сквозь занавески пробивался мягкий желтоватый свет. Сюзанна простояла какое-то время у калитки, прикидывая, найдет ли она здесь спасение. Она уже продрогла, вымокла насквозь, а дождь все продолжал хлестать с прежней силой. Хотелось в тепло, но в еще одну ловушку попадаться не было ни малейшего желания; она хотела понять, что это за дом, прежде чем входить в него. «Ну, иди же, — подбадривала она себя. — Вперед. Смелее. Не может быть, чтобы весь город участвовал в заговоре». Ясно, что в больнице нельзя было доверять ни одному человеку. Но больница-то оказалась бутафорской. Это была не больница, а корпорация «Майлстоун», занимающаяся какой-то непонятной деятельностью. Полиция тоже под подозрением, это внушало страх, но, в общем-то, было вполне объяснимо. В маленьких городах, подобных этому, достаточно мощная компания могла оказывать самое разнообразное влияние: сначала — на местную общину путем умелой налоговой политики и политики занятости. Затем такое влияние распространялось на местные власти, включая сюда и полицию, которая могла быть использована в нужный момент в качестве силового рычага и в целях обеспечения безопасности самой компании. Сюзанна не была уверена, что компания «Майлстоун» являлась основным работодателем в этом городе, но она явно оказывала свое влияние и, как она только что сама убедилась, даже протянула свои щупальца в полицейское управление. Случай редкий, однако не выходящий за рамки здравого смысла, логики. Но очевидно, что заговор имел какие-то пределы. Пусть в нем участвуют служащие компании, полиция — это логично. Но он не может охватывать тысячи людей, просто немыслимо, это противоречит самой сути любых заговоров. Так она стояла, не решаясь войти, завидуя людям, находящимся в тепле и уюте, и одновременно боясь их. Она была в трех кварталах от полицейского управления Ей с трудом удалось оторваться от погони, скрываясь в тени деревьев, избегая открытых мест. Пожалуй, теперь, когда она отдышалась, ее удача стала казаться ей какой-то подозрительной, ей слишком легко удалось уйти от преследования. Очень похоже на историю с ключами, предостерег ее разум. Еще одна вспышка на мгновение осветила окрестности дома. Дождь ударил с новой силой, ее трясло от холода. Сюзанна наконец решилась и побежала по дорожке к дому. Позвонила. Просто ничего другого нельзя было сделать. Ей некуда было идти, для нее все в этом городе были чужими, все дома были одинаковыми, незнакомыми, странными. На веранде зажегся свет. Сюзанна изобразила на лице улыбку. Она отдавала себе отчет в том, что может, чего доброго, перепугать хозяев дома своим видом — перепутавшиеся мокрые волосы, изможденное лицо, отчаяние в глазах. Вероятно, улыбка не слишком улучшит этот удручающий образ, но ничего другого она не могла сделать. К счастью, дверь открыли, и перед ней предстала женщина, не скрывавшая своего удивления поздним визитом. Ей было лет сорок, короткая стрижка обрамляла миловидное лицо. Не дав сказать Сюзанне ни слова, она защебетала: — Боже! Почему же это вы оказались на улице в такой поздний час без зонтика и дождевика? С вами что-то случилось? — Видите ли, я попала в такую историю… — начала Сюзанна. — Я была… — У вас история с машиной? — затараторила женщина, не дав Сюзанне договорить. Она, очевидно, принадлежала к тому типу взбалмошных говорливых женщин, которых хлебом не корми, дай только почесать языком. — Вот всегда так — они ломаются в самую ужасную погоду. А летом в хорошую погоду днем едешь себе спокойно и едешь. Как только ночь да еще с дождем, так на тебе — мотор глохнет, и что хочешь, то и делай. Вы, наверное, хотели вызвать механика, а монетки для телефона-автомата не нашлось? Так ведь? Ну, конечно, конечно, вы можете войти и позвонить. А я вам, кстати, пока приготовлю кофе. Вам же обязательно надо выпить что-нибудь горячее иначе вы заболеете. — Она отступила в сторону, чтобы Сюзанна могла пройти в дом. Пораженная любезностью женщины и ее невероятной болтливостью, Сюзанна пробормотала: — Извините, я вам тут наслежу… — Не беспокойтесь, что вы! У нас здесь специально положен темный ковер, дети, знаете ли… Представляете, что было бы, будь тут светлый ковер? А это такой специальный материал — «Антрон Плюс», кажется, называется, ну совершенно нет никаких следов, даже если эти чертенята вывозятся на улице в грязи. Ничего страшного, проходите, мокрые следы, это ерунда, бывают вещи и похуже. Ну, проходите, проходите. Сюзанна вошла в дом, и хозяйка закрыла дверь. Она оказалась в уютной прихожей. Обои в цветочек были, пожалуй, чересчур пестрыми, на ее взгляд, но не безвкусными. Здесь стоял маленький столик, над столиком зеркало в бронзовой раме. На столе в вазе — букет из высушенных цветов. В соседней комнате был включен телевизор. Смотрели, вероятно, боевик — слышались крики, выстрелы, визжали покрышки. — Меня зовут Энид, — представилась женщина. — Энид Шипстат. — Сюзанна Тортон, очень приятно. — Знаете, Сюзанна, все-таки стоит брать с собой зонтик, даже если кажется, что дождя не будет. Обязательно надо иметь зонтик в машине, фонарик и набор самых необходимых инструментов. Эд, мой муженек, еще всегда возит с собой насос, знаете, такой, электрический, воткнешь его в гнездо для прикуривателя — и можно подкачать колесо, доехать до ближайшей станции техобслуживания. Конечно, если у вас неисправность с клапаном или еще какая-нибудь ерунда. И главное, вам в этом случае не надо самой возиться с заменой колеса. В такую погоду это не очень-то приятно, согласитесь. Но, Боже мой, что это я разговорилась, сейчас ведь совсем не время давать полезные советы. Я болтаю, болтаю, а вы дрожите как осиновый лист. Что это со мной? Извините, я такая болтушка. Пойдемте на кухню, скорей. У нас очень теплая кухня, я вам быстро сварю кофе. Телефон у нас, кстати, тоже на кухне. Сюзанна решила не спешить, а выпить горячего кофе и уже потом объяснить, что ее появление здесь не связано с поломкой автомобиля. Она прошла вслед за Энид Шипстат по коридору, который освещался только светом из прихожей да голубоватым мерцанием телевизора из комнаты. Когда они проходили мимо гостиной, Сюзанна даже замерла на секунду от удивления, увидев, что там творится. В общем-то, это была обычная американская гостиная, главное место занимал телевизор, но в ней было огромное количество кресел и стульев… и детишек. Целая дюжина детей разного возраста сидела, уставившись в экран. Они одновременно повернули к ней головы, словно у них было одно туловище, посмотрели на нее глазами, в которых отражался голубоватый свет от телевизора, и так же одновременно повернулись обратно к экрану, где в это время раздались опять выстрелы и завыла полицейская сирена. Их молчание и поведение показались ей странноватыми. — К сожалению, у меня кофе только «Хиллс Браверс», — извинилась Энид, входя в кухню. — Эд никакого другого не признает. Я сама предпочитаю «Фолджерс», но Эд считает, что «Фолджерс» не такой крепкий, и даже не может смотреть телевизор, когда дают рекламу этого сорта. Знаете, в этой рекламе мелькает миссис Олсен. Эд говорит, что она напоминает ему очень противную учительницу из школы, в которой он учился. — Я с удовольствием выпью любой, — успокоила ее Сюзанна. — Ну да, я же говорю вам, у нас дома только «Хиллс Браверс», так что ничего другого, к сожалению, не могу предложить. — Спасибо, я с удовольствием. Сюзанна про себя удивилась, как Шипстатам удалось вырастить дюжину детей в таком невзрачном двухэтажном доме. Здесь, конечно, было просторно, но не до такой степени. Должно быть, в спальнях у них спят по четверо детей и кровати двухъярусные. Вслух она только сказала: — Ну и семейка у вас. — Теперь вы понимаете, почему у нас у входа нет светлого ковра? — задала вопрос Энид, и они обе рассмеялись. Кухня оказалась очень ярко освещенной комнатой с белой мебелью и желтой плиткой на стенах. На стуле рядом с дверью сидел юноша. Оперевшись локтями о стол и обхватив голову ладонями, он что-то читал, не обратив внимания на вошедших. — Это Том, мой самый старший, — с гордостью сказала Энид. — Он на следующий год заканчивает колледж вот и корпит целыми днями над учебниками. Когда-нибудь он станет знаменитым юристом и обеспечит своим родителям достойную старость. Верно, Том? — Она подмигнула Сюзанне, давая понять, что шутит. Том опустил руки и поднял голову. Посмотрел на Сюзанну. Это был Эрнест Харш. «Я сошла с ума, — пронеслось в голове Сюзанны. — Просто я сошла с ума». — У этой женщины что-то стряслось с машиной, — обратилась Энид к своему сыну. — Ей надо позвонить от нас по телефону. Харш улыбнулся и сказал: — Привет, Сюзанна. Энид удивленно заморгала. — О, вы, оказывается, знакомы. — Да, — подтвердил Харш. — Мы старые знакомые. У Сюзанны из-под ног начал уходить пол. Харш встал из-за стола. Сюзанна отшатнулась назад и уперлась спиной в холодильник. — Мам, — обратился Харш к Энид. — Я могу помочь Сюзанне, а ты, если хочешь, досмотри фильм. — Да? — Энид недоверчиво переводила взгляд с Сюзанны на Харша и обратно. — Я собиралась приготовить кофе для нашей гостьи… — Я как раз сварил только что, — сказал Харш. — Ты же знаешь, я всегда пью кофе, когда готовлюсь к занятиям. — Ну ладно, — проговорила Энид, обращаясь к Сюзанне и делая вид, что не произошло ничего необычного. — Видите ли, это мой любимый сериал, и я боюсь пропустить даже одну серию, потом ведь ничего не поймешь… — Заткнись, заткнись, заткнись! — не своим голосом вдруг заорала Сюзанна. У Энид отпала нижняя челюсть, и она заморгала с глупым видом, словно не понимая, что вызвало у Сюзанны этот крик. Харш расхохотался. Сюзанна уже сделала один шаг в сторону двери из кухни. — Не вздумайте приближаться ко мне, — предупредила она. — Я вам глаза выцарапаю, я вам глотку перегрызу. Клянусь, я это сделаю. — Вы с ума сошли, — пробормотала Энид Шипстат. Продолжая хохотать, Харш начал приближаться к Сюзанне. Энид спросила: — Том, твоя приятельница что, шутит? — Не подходи ко мне, — закричала Харшу Сюзанна. — Даже если это шутка, то она мне кажется весьма глупой, — произнесла Энид. Харш продолжал ржать. — Сюзанна, Сюзанна, разве ты еще не поняла, что от нас не убежишь? Разве не поняла? Сюзанна повернулась и со всех ног пустилась по коридору. Она предполагала, что дети попытаются преградить ей путь, но в коридоре никого не было. Дети все так же продолжали сидеть у телевизора, она заметила это, пробегая мимо. Погруженные в события на экране, они, казалось, не обратили никакого внимания на шум, доносившийся из кухни. Что за странный дом? Такой вопрос вертелся у нее в голове. Вот и прихожая. Что за странные дети? Не дети, а какие-то маленькие зомби во власти телеэкрана. Наконец-то дверь, ведущая на улицу. Она толкнула ее и с ужасом поняла, что дверь заперта. В прихожую вошел Харш. Он явно не торопился, вел себя также нагло и самоуверенно, как Паркер и Джеллико. — Послушай, ты, безмозглая сучка, мы же тебя все равно поймаем, пойми это. Сюзанна, не обращая внимания на его слова, яростно вертела ручку двери. Харш медленно приближался. — Завтра вечером ты заплатишь за все. Завтра вечером исполняется семь лет со дня моей смерти. Мы с тобой сочтемся. Ох, мы с тобой позабавимся, каждый по очереди, а потом, потом мы вывернем тебя наизнанку, мы вышибем мозги из твоей башки… Сюзанна ломилась в дверь так, что та ходила ходуном, но не поддавалась. — …мы будем трахать тебя так, как собирались тогда, в пещере, да жаль, не успели. А потом мы отрежем тебе голову. Так, как мы собирались сделать тогда, в пещере тринадцать лет назад. Если бы обернуться сейчас и вцепиться ногтями в его мерзкое лицо, вцепиться зубами в его горло! Но вдруг это не причинит ему боли?! За себя-то она уверена — она сможет сражаться, как дикий зверь, она не испугается даже вкуса чужой крови во рту — она готова к этому. К одному она не готова — к тому, что крови никакой не будет, к тому, что он на самом деле окажется мертвецом. Она понимала, что думать так — безумие. Но теперь, после очередной встречи с этим убийцей, с его глазами цвета грязного льда, с его нечеловеческой ненавистью к ней, после всего этого она уже не могла отбросить мысли о привидениях. Логика была бессильна, ее окутал вязкий холодный страх. Она сопротивлялась, она не хотела погружаться в эту трясину, но ничего не могла сделать. На память пришли слова Джеллико: «Это место превратится для тебя в ад». Сюзанна в отчаянии навалилась всем телом на дверь, и дверь, заскрипев, распахнулась. Оказалось, она не заперта, а просто разбухла от сырости. — Зря стараешься, крошка, — крикнул ей вслед Харш. — Лучше побереги силенки для пятницы. Мне не понравится, если ты устанешь и это помешает нам вдоволь позабавиться. Сюзанна уже бежала через открытую веранду к дорожке в саду. Она бежала к калитке, бежала туда, где бушевали ветер и дождь. Она уже была на улице. Утопая по щиколотку в лужах, попадавшихся на каждом шагу, она бежала, не разбирая дороги. Откуда-то издалека доносился голос Харша. — …зря стараешься… не трать силы… от нас не уйдешь…* * *
До кинотеатра «Мэйн-стрит» Сюзанна добралась переулками. Прежде чем выйти из-за угла на ярко освещенную главную улицу города, она внимательно осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что нигде поблизости нет полицейских. Касса была уже закрыта. В зале заканчивался последний сеанс, и билеты уже не продавали. Она толкнула дверь и вошла в вестибюль. Здесь никого не было. Но зато здесь было тепло, даже жарко. За стойкой буфета свет не горел. Это показалось ей странным: обычно во всех кинотеатрах буфет работал до тех пор, пока хозяин не запирал дверь за последним зрителем — доходы от продажи еды и напитков превышали доходы от продажи билетов на сеансы. Из-за дверей зрительного зала раздалась музыка и пьяный смех Дадли Мура. По всей видимости, показывали фильм «Артур» с его участием. Сюзанна забрела в этот кинотеатр, чтобы согреться и обдумать случившееся. Если она не приведет в порядок свои мысли, ей прямая дорога в психушку. С тех пор как она встретила в полицейском управлении Джеллико и Паркера, она перестала действовать осознанно и лишь безучастно реагировала на события. Необходимо было отползти от бездны, в которую ее толкали. Необходимо было восстановить контроль над событиями. Сюзанна подумала, не пойти ли ей вверх по улице в кафе, но быстро сообразила, что слишком велика опасность встречи сполицейским патрулем. Да и за огромными окнами кафе она не будет чувствовать себя спокойно. Лучше уж остаться здесь. Тут по крайней мере тепло и достаточно темно. Она на цыпочках прошла через вестибюль, осторожно приоткрыла дверь в зрительный зал и проскользнула туда. На экране в этот момент Артур как раз пробуждался после разгульной ночи. Это был момент первого появления Джона Гилгуда. Сюзанна смотрела этот фильм сразу после выхода его на экран, и он ей так понравился, что она посмотрела его во второй раз. Это было в конце лета. Она хорошо помнила, что сцена пробуждения находится в самом начале фильма, и у нее впереди как минимум час времени на то, чтобы в тепле и спокойной обстановке обдумать все, что с ней случилось в этот вечер. Глаза еще не привыкли к темноте, и она не могла разобрать, сколько народу находится в зале. Возле кинотеатра стояли всего две машины, значит, зрителей немного, да и погода неподходящая для прогулок в кино. Сюзанна стояла рядом с креслом, которое было крайним в последнем ряду. Недолго думая, она заняла его, поиск более укромного места мог бы привлечь внимание. Только сейчас она почувствовала, до какой степени вымокла, одежда липла к телу. Она не видела и не слышала, что происходит на экране. Она размышляла о загадочных призраках. Или они демоны? Или просто ожившие мертвецы? Теперь ей снова было невмоготу смириться с такими объяснениями. Что с того, что она признает мистическое происхождение этих негодяев, это ничего не даст ей. Если против нее действуют силы ада, она обречена. Значит, ей надо искать другое объяснение — безвыходность ее не устраивает. Версию собственного сумасшествия она также отвергла сразу. Это тоже безысходность, и это противно ее натуре. Нечего терять на это время. Что же остается? Остается все та же версия тотального заговора. Версия версией, но никакого разумного объяснения случившемуся не находится. Она до сих пор не знает, кому понадобилось вести эту сложную игру и какова цель этих хитроумных построений. Сюзанна билась над своими вопросами, когда ход ее рассуждений прервал громкий смех, раздавшийся в зале. Несмотря на то, что ему предшествовала действительно смешная сцена в фильме, смех этот показался Сюзанне чрезвычайно странным. Пожалуй, странным было то, что смех был довольно громким, смеялось человек сто или больше, хотя такое вряд ли могло быть в столь поздний час. Но еще более странным было другое. Смех этот звучал как-то очень ненормально. Он прекратился, и мысли Сюзанны вернулись к обстоятельствам ее побега. Когда же начались эти странности? Да, совершенно точно, странности эти начались, когда она переступила порог больницы — или, вернее, порог загадочной корпорации «Майлстоун». Во-первых, это был ключ зажигания, забытый в «Понтиаке». Слишком уж складно все получалось. Значит, они знали о ее планах побега и решили помочь ей в этом, преследуя какие-то свои цели. Именно они подсунули ей этот чертов «Понтиак». Но каким образом они догадались, что она будет именно в нем искать ключ зажигания? Каким образом они могли предполагать, что она поедет за помощью именно в полицию, а не куда-то еще? Каким образом они угадали, что она выберет именно дом Шипстатов? В Уиллауоке сотни подобных домов, в любой из них она могла постучаться. Почему двойник Харша преспокойно дожидался ее именно на кухне этого дома? У нее был ответ на все эти вопросы, который совершенно не противоречил логике и здравому смыслу, но она боялась этого ответа как огня. Ей не хотелось даже думать про такое. Ответ заключался в следующем — они заранее знали обо всех ее планах, так как запрограммировали ее заранее. Возможно, они внедрили все это в ее подсознание, когда она находилась в коме. Эта версия объясняет и их странное поведение при погоне — они никогда не спешили, словно зная заранее, что их жертва никуда не ускользнет. Возможно, она уже не в состоянии действовать по своей собственной воле. Эта мысль заставила ее похолодеть от ужаса. Кем же были эти таинственные люди, распоряжающиеся ее поведением, обладающие воистину божественной властью над ее поступками? Ход мыслей Сюзанны вновь был нарушен хохотом, прокатившимся по кинотеатру, и на этот раз она поняла, что отличало этот смех от обычного. Смеялись совсем молодые люди, смех был тонкий, как у подростков, у которых ломается голос. Сейчас, когда ее глаза уже привыкли к темноте, она смогла оглядеться вокруг и рассмотреть зрителей в зале. На сеансе было по меньшей мере две сотни зрителей. Может быть, даже ближе к трем сотням. И все, кто сидел поблизости от нее, были детьми. Подросткового возраста. От тринадцати до восемнадцати лет. Все, вероятно, учащиеся старших классов. По-видимому, она была единственным взрослым человеком в этом зале. С какой стати три сотни подростков отправились в такую непогоду в кино, чтобы посмотреть фильм, который уже полгода как вышел на экраны? Что это за родители, которые отпустили своих детей в такую темень и грозу, нисколько не опасаясь за их здоровье? Ей вспомнилась дюжина детей в доме Шипстатов, их остекленевшие глаза, уставившиеся в телевизор. Кажется, не одни они помешались на приключенческих фильмах. И каким образом все это связано с ее собственными странными приключениями в этом городе? Какая-то связь несомненно существует. Но какая? В то время как Сюзанна была полностью поглощена этими мыслями о странностях молодежи в Уиллауоке слева от экрана открылась дверь. На пол упала вытянутая прямоугольная полоска света. В зрительный зал вошел человек высокого роста и аккуратно прикрыл за собой дверь. Он зажег фонарик и начал шарить его слабым лучом у себя под ногами. Билетер?[19] Мужчина стал подниматься от двери вдоль рядов. Прямо по направлению к Сюзанне. Зрительный зал был достаточно просторным, и в длину больше, чем в ширину. Мужчина уже прошел десяток-другой ступеней, прежде чем Сюзанна осознала, что этот человек может представлять для нее опасность. Она поднялась со своего места. Одежда противно липла к телу. Ей удалось побыть в тепле всего минут пятнадцать-двадцать и уходить опять под дождь, конечно, не хотелось. Билетер продолжал подниматься вверх по ступенькам. Узкий луч фонарика рыскал по полу и стенам. Сюзанна выбралась из своего ряда в боковой проход и попыталась разглядеть лицо билетера. Между ними еще оставалось футов сорок, мужчина шел не спеша, черт его лица было не разобрать из-за света фонарика. Дадли Мур на экране опять отпустил какую-то шуточку. Молодежь опять заржала. Сюзанну начало трясти. Теперь уже в остроумии изощрялся Джон Гилгуд, а Лайза Минелли не оставалась у него в долгу. Еще один взрыв хохота. «Если они запрограммировали меня на похищение «Понтиака», на посещение полиции, а затем дома Шипстатов, тогда, по всей видимости, я была обречена на то, чтобы прийти сюда, вместо того чтобы отправиться в кафе». Билетер уже совсем близко. Сюзанна поднялась на три ступеньки вверх и толкнула рукой дверь, которая вела в вестибюль кинотеатра. Билетер поднял свой фонарик и посветил прямо в лицо Сюзанны. Луч не был особенно ярким, но она все же вынуждена была зажмурить глаза. «Это наверняка один из них. Один из этой четверки мертвецов. Вероятно, Куинс, так как Куинс сегодня еще не показывался», — подумала она. Или Джерри Штейн, со своим обезображенным следами тления лицом, со своими губами, напоминающими раздавленные сгнившие ошметки фруктов. Джерри Штейн, разряженный в форму билетера. Он пришел поздороваться с ней, он хочет, чтобы она его поцеловала. «Ничего сверхъестественного тут нет», — старалась убедить себя Сюзанна, делая отчаянную попытку не впасть в панику. Но если это действительно Джерри, то он будет так же невыносимо ужасен, как тогда, в палате. Если это он, то, не дай Бог, она ощутит на себе его ледяные руки, не дай Бог, он склонится к ней и обдаст ее могильным холодом поцелуя с того света. Это место станет адом для тебя, Сюзанна. Не колеблясь больше ни секунды, Сюзанна открыла дверь и выскочила в вестибюль. Через секунду она была уже у дверей, ведущих на улицу. Она боялась оглянуться назад. Завернув за угол здания, она выбежала на автомобильную стоянку и направилась в одну из темных улочек. Она жадно ловила ртом густой влажный воздух, плотный, словно намокшая вата. Через несколько минут она вновь промокла до нитки. Ослабевшие ноги пронзала иглами боль, но Сюзанна старалась не замечать ее. Она говорила себе, что при необходимости готова бежать хоть всю ночь. Она прекрасно понимала, что обманывает сама себя. Она слишком быстро расходовала силы, накопленные за пять недолгих дней отдыха и тренировок. Их у нее оставалось совсем немного. Совсем на донышке. Бензозаправка «Арко» была уже закрыта на ночь. Дождь поливал заправочные колонки, хлестал в большие окна станции техобслуживания и в металлические ворота гаражей. Рядом со зданием станции виднелась кабина телефона-автомата. Сюзанна вошла в нее, нарочно оставив дверь открытой, так как в противном случае в кабине погас бы свет. Она опустила монетку и набрала номер междугородной связи. Ее била непрестанная дрожь. Ей было холодно и страшно. — Телефонный узел слушает. — Девушка, я хотела бы заказать телефонный разговор с другим городом. Я оплачу разговор по моему домашнему номеру. — Назовите, какой номер вам нужен. Сюзанна дала телефонистке номер Сэма Уолкера в Ньюпорт-Бич. Она встречалась с ним больше года, и, надо признать, он относился к их отношениям серьезнее, чем она. Они расстались друг с другом прошлой весной, разрыв принес боль им обоим, но они не стали с тех пор врагами. Наоборот, нередко разговаривали по телефону, а если случайно встречались в ресторане, то с удовольствием проводили вечер за одним столиком. Должно быть, в наказание за ее независимый, гордый нрав у нее не было ни одной близкой подруги, ей не с кем было поговорить, некого попросить о помощи. Самым близким человеком оставался Сэм. В последний раз они виделись примерно за месяц до того, как она уехала в отпуск в Орегон. — По какому номеру послать счет за телефонный разговор? — спросила телефонистка. Сюзанна дала ей свой домашний телефон в Ньюпорт-Бич. После того как она убежала из кинотеатра на Мэйн-стрит, она потеряла надежду на то, чтобы выбраться из этого проклятого города без посторонней помощи. Правда, пока она не знала, какими словами ей убедить Сэма, что она действительно находится в опасности и никто, в том числе и местная полиция, не в состоянии ей помочь. Он прекрасно знал, что она не употребляет ни алкоголя, ни наркотиков, но все же ее слова могли прозвучать для него как полный бред. Разумеется, ей некогда было рассказывать ему всю историю от начала до конца. Надо было каким-то образом убедить его, что ей нужна экстренная помощь, что он должен либо срочно примчаться сюда сам, либо обратиться от ее имени в ФБР. Боже! В ФБР! До чего она дошла! Но кому еще звонить, если местной полиции нет никакого доверия? К кому еще обратиться? Кроме того, речь шла о похищении человека, а это уже предмет для разбирательства федеральными властями. Она, конечно, могла сама позвонить в отделение ФБР в Орегоне, но вряд ли ей удалось бы убедить совершенно незнакомого дежурного, что ей угрожает смертельная опасность. Она сомневалась даже насчет Сэма, хотя Сэм был достаточно хорошо с ней знаком. В трубке раздались долгие гудки. «Пожалуйста, будь на месте, пожалуйста», — умоляла она. В кабину ворвался порыв ледяного ветра и бросил ей в спину холодные брызги дождя. Уже три длинных гудка. Четыре. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста… Пять гудков. Наконец-то кто-то взял трубку. — Сэм? — Слушаю. В трубке раздавался сильный треск. — Сэм? — Да. Кто говорит? Она едва слышала его голос. — Сэм, это я, Сюзанна. Молчание. Затем: — Сюзи, это ты? — Я. — Сюзи Тортон? — Да, это я, — прокричала она, чувствуя необычайное облегчение от того, что ей удалось связаться с кем-то, находящимся за пределами Уиллауока. — Где ты? — Город Уиллауок, это в Орегоне. — Какая вилла в Орегоне? Не понимаю. — Нет-нет, город Уиллауок. — Она продиктовала название по буквам. — А слышно так, словно ты забралась на Таити или куда-нибудь еще дальше, — сказал он, когда треск в трубке слегка уменьшился. Чем дольше Сюзанна вслушивалась в этот далекий голос, тем глубже к ней в душу влезало страшное подозрение. Ее опять затрясло, обдало могильным холодом. Она обреченно проговорила: — Я плохо тебя слышу. Он повторил: — Я же говорю, тебя слышно так, словно ты забралась на Таити. Сюзанна прижала трубку к уху, а другое ухо зажала ладонью. — Сэм, ты… — Что, что, Сюзи? Плохо слышно. — Сэм… ты… у тебя какой-то странный голос. — Сюзи, о чем ты, я не понимаю. Она открыла рот, но сказать правду было безумно тяжело. — Сюзи? В этом проклятом Уиллауоке нельзя доверять даже телефонной компании. — Сюзи, я тебя не слышу! Голос Сюзанны дрогнул от возмущения, но она все же выкрикнула в трубку: — Ты же не Сэм Уолкер! Треск. Опять молчание. Снова треск. Затем в трубке раздался смешок, и голос на другом конце линии произнес: — Конечно, я не Сэм Уолкер, ты права, стерва. Она наконец узнала этот голос, это был Карл Джеллико. Сюзанна почувствовала страшную, непреодолимую усталость, в один миг она словно постарела на тысячу лет. Ветер на улице сменил направление, теперь он бросался на боковое стекло телефонной кабины, подобно дикому зверю. Джеллико сказал: — Напрасно ты вбила себе в голову, что тебе удастся уйти от нас. Сюзанна промолчала. — Тебе нигде не удастся спрятаться. Тебе некуда бежать. — Сволочи, — прошипела она. — Твои денечки сочтены, готовься, — не унимался Джеллико. — Добро пожаловать в ад, тебя там очень ждут. Эй, вонючая стерва, ты меня слышишь? Сюзанна бросила трубку. Она вышла из кабины и осмотрелась. Нигде, ни на бензозаправке, ни на улице никого не было. Никто не гнался за ней. Пока. Она все еще была на свободе. Нет-нет, не на свободе. Она была всего лишь на длинном поводке. К тому же она чувствовала, что в самое ближайшее время этот поводок укоротят.* * *
Некоторое время она шла, не обращая внимания на дождь и холодный ветер, забыв о боли в ногах, не в состоянии понять, что же ей делать дальше. Она просто ждала, ждала, когда за ней придут. Она остановилась перед порталом лютеранской кирки святого Джона. Внутри церкви горел свет. Он просачивался сквозь цветные витражи в окнах и окрашивал дождь в зеленые, синие, красные и желтые цвета, устраивал цветную радугу в клубящемся тумане. К кирке был пристроен жилой дом для пастора. Перед домом расстилалась аккуратно подстриженная лужайка, освещенная большим садовым фонарем и двумя лампами, укрепленными по сторонам лестницы у входа в дом. На калитке висела табличка:«ПАСТОР ПОТТЕР Б. КИНФИЛД»Сюзанна стояла у калитки, опершись на нее всем телом, не в силах открыть ее и сделать еще несколько шагов. Упасть же прямо здесь на землю ей не позволяла собственная гордость, хотя она и чувствовала себя как побитая собака. Она уже ни на что не надеялась, ей уже некуда было идти, и все же она машинально прошагала несколько метров до крыльца дома. Священникам вообще-то доверяют, к ним идут, чтобы излить свои чаяния, чтобы найти у них поддержку. Но можно ли доверять священнику из Уиллауока? По всей видимости, нет. И все же она нажала на кнопку звонка. В окнах дома света не было. Возможно, пастор уже лег спать. Она совершенно не представляла, который сейчас час, но, видимо, было поздно. Вероятно, скоро полночь. Еще один звонок. Еще. Никто не зажег свет. Никто не ответил ей. Как, должно быть, приятно, тепло и уютно там, в этом пасторском доме! Как приятно было бы переодеться в теплый домашний халат, выпить горячего какао с тостами. Как хочется услышать слова поддержки, обещание помощи. Как хочется юркнуть в постель с хрустящими накрахмаленными простынями, теплым одеялом и мягкими подушками. Как хочется почувствовать себя в безопасности! Стоя у запертой двери и представляя себе все это сказочное блаженство, она уже не могла успокоиться. Мечты о тепле и уюте довели ее до слез, она забыла об опасности угрожающей ей, о разгуливающих по городу мертвецах, о заговоре против нее, организованном загадочным «Майлстоуном». Она толкнула рукой дверь. Закрыто на замок. Она пошла вдоль фасада здания и проверила, не открыты ли окна. Три окна справа были закрыты, но второе слева от двери оказалось незапертым. Рама размокла от дождя и поддавалась с трудом, однако ей удалось поднять ее достаточно высоко, чтобы проникнуть внутрь дома. Да, она позволила себе сейчас то, что не позволяла никогда, — она вломилась без спросу в чужой дом. Но ее толкнуло на этот шаг отчаяние, и пастор Кинфилд наверняка простит ее, когда услышит ее страшный рассказ. К тому же здесь, в Уиллауоке, штат Орегон, по-видимому, жили по каким-то своим, особым законам. В доме было темно, хоть глаз выколи. Оказалось, что здесь не так уж тепло. Дом, видимо, совершенно не отапливался. Сюзанна прошла вдоль стенки и добралась до входной двери. Нащупала выключатель, включила свет. От яркого освещения она заморгала. Потом ей пришлось заморгать от удивления, дом пастора оказался изнутри совсем не таким, каким она его себе представляла. Ничто даже близко не напоминало старый добрый викторианский стиль. Дом оказался обыкновенным складом. Все пространство внутри занимал большой зал высотой в два этажа, не было ни перегородок, ни перекрытий. Под потолком были подвешены декорации из папье-маше, предназначенные, очевидно, для празднования Рождества, а весь пол зала был уставлен коробками, нагроможденными одна на другую. Коробки были картонными, деревянными, железными и были расставлены в аккуратные ряды с узкими проходами между ними. Не в силах оправиться от изумления, Сюзанна стала бродить по складу. Открыв пару железных высоких ящиков, она обнаружила в них множество черных строгих платьев, такие обычно надевают участницы церковных хоров. Каждое платье было подвешено на вешалке и укутано в пластмассовый мешок. В третьем ящике оказалась одежда для Санта-Клауса, несколько комплектов одеяний для других церковных праздников. В стоящих рядом картонных коробках, судя по имевшимся на них надписям, находились книги для богослужений. Безусловно, все эти вещи должны были храниться при каждой церкви. Вот только место было выбрано какое-то странное — дом пастора. Но вскоре Сюзанна обнаружила массу других вещей. Они не имели никакого отношения к церкви, и коллекция их производила какое-то дикое впечатление. Несколько тысяч коробок и ящиков, заполнявших большую часть склада, были набиты всякого рода одеждой. Целый исторический музей! Примерно на сотне ящиков имелась следующая надпись:
АМЕРИКАНСКАЯ МОДА ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ 1960–1964 (ЭПОХА КЕННЕДИ)Другой ряд, с меньшим количеством ящиков, судя по надписи, представлял собой комплекты мужской одежды:
АМЕРИКАНСКАЯ МОДА МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ И ГАЛСТУКИ 1960–1964 (ЭПОХА КЕННЕДИ)Рядом располагались другие ящики с комплектами женской, мужской и детской одежды. Они отражали повороты американской моды 60-х и 70-х годов. Несколько ящиков содержали одежду специфических социальных групп:
АМЕРИКАНСКАЯ МОДА МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА ДВИЖЕНИЕ ХИППИВидимо, все эти горы одежды были предназначены не только для отправки в другие страны для помощи неимущим. Судя по всему, местная церковь собирала эту одежду для реализации какого-то проекта в области культуры. Однако на обычный музей истории моды это было не похоже. Такого количества одежды хватило бы, чтобы одеть сотни людей. Это выглядело так, словно все жители города, сговорившись, решили не выбрасывать старую одежду, а тщательно складывать ее, возможно, в надежде, что мода когда-нибудь вернется к старым образцам и эту одежду снова можно будет носить. Неужели такое возможно? Тем более в Америке, где законодатели моды и производители одежды всегда готовы удовлетворить любые вкусы. Что же это за сообщество людей, которое взялось за столь масштабный проект? На такое способны только роботы. Или муравьи. Чем дольше Сюзанна ходила по складу, тем больше росло в ней изумление перед этой странной коллекцией. Она обнаружила в углу несколько коробок с надписями:
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ — ХЭЛЛОУИНОткрыв наугад пару коробок, она увидела, что они до краев заполнены масками — здесь были маски ведьм, гоблинов, гномов, вампиров, оборотней. Здесь также были прочие атрибуты — флажки, фонарики, вырезанные из бумаги фигурки. Этого количества с лихвой хватило бы не только прихожанам церкви, но и всему городу. Далее шли ряды коробок со следующими надписями:
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ: ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: РОЖДЕСТВО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: НОВЫЙ ГОД ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК: ДЕНЬ СВАДЬБЫ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК: БАР МИЦАВ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК: ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ИНСТИТУТАСюзанна наконец прекратила свои прогулки по складу, так как поняла, что среди этих коробок она не найдет ответа на вопрос, откуда они взялись и зачем они здесь. Возникали лишь новые вопросы. Этот странный город все больше угнетал ее, действовал на нервы. Она будто попала подобно Алисе, в Страну чудес. Правда, эта страна была еще более странная, чем в сказке, и гораздо менее гостеприимная. С какой стати принадлежности для еврейского праздника бар мицав сложены в лютеранской кирке? А разве не странно видеть атрибуты для семейных праздников в таком месте? Например, вот эти плакаты с обнаженными девицами, скатерти с непотребными сценами на них. Все это для вечера, на котором веселятся расшалившиеся выпускники институтов. Но зачем это здесь, в двух шагах от церкви? Может быть, это и не дом пастора и не существует в природе никакого преподобного Поттера Б. Кинфилда? Может быть, действительно в этом городе живут четыре тысячи скряг, которые не выбрасывают ни одной старой вещи? Что вообще происходит в этом городе? Здесь только на первый взгляд чисто и спокойно. Но если приглядеться, на каждом шагу увидишь весьма и весьма странную картину. Может быть, и остальные дома изнутри вовсе не такие, какими они кажутся снаружи? Сюзанна прошла уже практически по всем рядам и сейчас вернулась к входной двери. Ей было не по себе, кружилась голова, подкашивались ноги. Она уже с трудом верила, что когда-нибудь ей удастся выбраться из этой странной Страны чудес. По-видимому, шансов на это почти нет. Она снова была на улице, под проливным дождем. Намокшая одежда, безумный ветер тянули ее к земле, она едва держалась на ногах. Она понимала, что рано или поздно за ней вновь явятся Харш и его дружки. У нее уже не было ни сил, ни воли, чтобы бежать дальше. Единственное, чего ей хотелось, — это побыть хоть немного до их прихода в тепле. Она подумала, что в самом здании кирки должно быть тепло. По крайней мере — сухо. Если только это действительно церковь, а не очередная декорация. В кирке горел свет. Это добрый знак, подумала Сюзанна, есть свет, значит, должно быть и тепло. Она взошла вверх по каменным ступеням к массивным дубовым дверям. Не может быть, чтобы кирку закрывали на ночь. Верующие должны иметь возможность в любое время посетить церковь для молитвы и покаяния — такой порядок был совершенно естествен в нормальном мире. Но в этом проклятом Уиллауоке могли действовать совсем другие законы. Сюзанна толкнула одну из массивных створок. Дверь открылась. Хоть что-то в этом городе не перевернуто с ног на голову. Уже в дверях Сюзанна услышала шум приближающейся машины. Визг шин на мокром асфальте. Она обернулась и посмотрела вниз, на улицу. У церкви притормозила машина «скорой помощи». На боку у нее крупными буквами были выведены три слова:
БОЛЬНИЦА ОКРУГА УИЛЛАУОК«Такой больницы не существует, черт бы вас побрал», — выругалась Сюзанна, с удивлением обнаружив, что в омуте отчаяния и равнодушия, сомкнувшемся над ней, еще сохранились остатки праведного гнева. Из машины вышли Паркер и Джеллико. Они стояли у ступеней и смотрели на нее. Форму полицейских они сменили на одежду санитаров «скорой помощи». Сюзанна не собиралась никуда убегать. У нее не было сил, она полностью выдохлась. Спешить к ним навстречу она тоже не собиралась. Если им надо, пусть сами поднимутся и отнесут ее в машину. А пока она вполне может войти в церковь и хоть немного погреться в тепле. Заодно и им досадить — пусть тащат ее от алтаря до автомобиля, пусть надрываются. Только так она могла выразить свой протест против произвола, иначе — никак. В кирке и в самом деле было тепло. Ее охватило блаженство. Она пошла через весь зал прямо к алтарю. Кирка поражала своим богатым убранством. Дерево, мрамор, бронза создавали впечатление величия. Должно быть, при дневном свете, когда через витражи сюда льется солнечный свет, церковь выглядит еще прекраснее. Сюзанна услышала шаги у себя за спиной — в церковь вошли Джеллико и Паркер. Ноги уже почти не сгибались, еще несколько шагов — и она рухнет на пол. — Эй, стерва, — крикнул Джеллико. Она не обернулась, не хотелось показывать этим подонкам, что она чего-то боится. Она села на скамью в первом ряду. — Эй, сучка, — не унимался Джеллико. Сюзанна продолжала смотреть перед собой на распятие из бронзы, установленное перед алтарем. В эти мгновения она жалела о том, что никогда не была верующей. Слева от алтаря приоткрылась небольшая дверь, и оттуда вышли двое мужчин. Эрнест Харш. Рэнди Ли Куинс. Теперь ей стало понятно, что они уже давно начали управлять ее поступками. Ее побег — это вовсе не ее инициатива. Это была их задумка, часть их игры. Они играли с ней так, как играет кошка с пойманной мышью — сначала отпустит, а потом снова поймает, чтобы испытать удовольствие от беспомощных попыток жертвы скрыться. Медальон вовсе не случайно оказался на полу в ванной, они оставили его умышленно, чтобы навести ее на мысль о побеге, чтобы поиграть с ней, как кошка с мышью. Она была обречена на неудачу с самого начала. Харш и Куинс спустились со ступенек алтаря и направились к скамьям. Джеллико и Паркер появились сзади и остановились в проходе между рядами. На лицах у них была кривая усмешка. Сюзанна не могла сдвинуться с места. Она была даже не в состоянии поднять руку, чтобы защитить себя. — Ну-что, детка, понравилась игра в прятки? Что касается нас, то мы давно так не веселились, — сказал Карл Джеллико. Паркер захохотал. Сюзанна молчала. Она смотрела перед собой невидящим взглядом. Харш и Куинс подошли ближе. Они смотрели на нее сверху вниз и улыбались. Сюзанна впилась глазами в распятие. Только бы ничем не выдать свой страх, не дать этим подонкам насладиться чувством превосходства. Харш подошел к ней вплотную, заслонив распятие и заставив ее взглянуть вверх, ему в лицо. — Бедное дитя, — запричитал он своим надтреснутым голосом. — Неужели наша бедная сучка устала? Неужели она так набегалась этой ночью, что теперь у нее ни на что не хватит сил? Сюзанне захотелось закрыть глаза и погрузиться во мрак, который уже подстерегал ее. Она хотела забыться и долго-долго не просыпаться от этого забытья. Но она поборола это желание. Она посмотрела прямо в глаза Харша, в его глаза цвета грязного льда. Ей было страшно, но она не отвела взгляда. — Ты что, язык проглотила? — Надеюсь, он у нее на месте, — вмешался Куинс. — Я же хотел самолично его отрезать. Джеллико заржал. Обращаясь к Сюзанне, Харш процедил сквозь зубы: — Хочешь объясню, что сейчас происходит? Сюзанна молчала. — Хочешь знать, что происходит вокруг тебя, еще раз спрашиваю? Сюзанна молча продолжала смотреть прямо в глаза Харшу. — О, я вижу, ты — крепкий орешек, — продолжал он издеваться. — Сильная женщина. Обожаю сильных женщин. Трое других негодяев захохотали. — Ты наверняка хочешь понять, что происходит. Ты просто до смерти хочешь это понять. — До смерти, — эхом отозвался Джеллико, корчась от смеха. Остальные тоже дружно хохотали, они явно видели за этим выражением какой-то скрытый смысл. — Авария, в которую ты попала, — заявил Харш, — произошла на самом деле в двух милях к югу от поворота на «Вьютоп Инн». Сюзанна решила никак не реагировать на все их слова. — Протаранив ограждение, твой автомобиль перевернулся, — медленно говорил Харш. — После этого он врезался в дерево. Все было так, тебе говорили правду. Но то, что произошло потом, не имеет ничего общего с теми россказнями, которые тебе плели. — Здорово мы тебя разыграли, детка? — не удержался Джеллико. — Не было никакой трехнедельной комы, — монотонно бубнил Харш. — Не было никакой больницы. Все это был обман, спектакль, кстати, весьма умело разыгранный. Нам ведь так хотелось повеселиться. Сюзанна продолжала хранить молчание, не отводя взгляда от холодных глаз Харша. — Не надейся, тебе не удалось понежиться в коме, — прошипел Харш. — Ты умерла во время аварии. «Дерьмо, — мысленно выругалась она. — Что это они еще задумали?» — Ты умерла мгновенно, — подал голос Паркер. — Тебе размозжило голову, — заорал Джеллико. — А ты думала — у тебя на лбу маленькая царапина? Не-ет. Все гораздо хуже. — Ты умерла, Сюзанна, — констатировал Харш. — И теперь ты здесь, с нами, — пропел Джеллико. «Нет, нет, нет, — взмолилась она про себя. — Только не это. Это же безумие». — Ты сейчас в аду, — сказал Харш. — Вместе с нами, — взвизгнул Джеллико. — Нам приказали развлечь тебя, чтоб тебе не было скучно, — пояснил Куинс. — Ну, мы и решили постараться, не ударить в грязь лицом, — самодовольно заявил Паркер. — Мы очень стараемся, поверь, — поддакнул Куинс. Нет! — Никогда бы не подумал, что встречу тебя здесь, — признался Джеллико. — Ты же всегда слыла образцом для подражания, ты, маленькая стерва, — снова подал голос Паркер. — Должно быть, ты предпочитала грешить втайне от всех, — с лица Джеллико не сходила кривая усмешка. — Если это так, то считай, что ты нам подошла, — осклабился Куинс. Харш пока молчал, не спуская с нее взгляда своих мрачных глаз цвета грязного льда. — Так что нам предстоит веселый праздник, готовься, — предупредил Джеллико. — Праздник, праздник, вечный праздник, — добавил Куинс. — В узком кругу. Нас пятеро. Больше никого не будет, — захихикал Джеллико. — Мы же старые друзья, сама понимаешь, — вставил Паркер. Сюзанна закрыла глаза. Она понимала, что перед ней разыгрывают очередной акт спектакля. Ничем другим это не могло быть. На свете нет никакого ада. Ни ада, ни рая. Она в это никогда не верила. Интересно, попадают ли неверующие в ад? — Может, прямо сейчас и трахнем ее? — предложил Джеллико. — Ну да, чего ждать-то? — поддакнул Куинс. Сюзанна открыла глаза. Джеллико уже расстегивал «молнию» на штанах. Харш властно произнес: — Нет. Подождем до следующей ночи. Это будет седьмая годовщина со дня моей смерти. Я хочу, чтоб она осознала это в полной мере. Джеллико замешкался, затем стал застегивать ширинку. — Кроме того, — вмешался Паркер, — мы собирались заняться этим в подходящем месте. А это место — неподходящее. — Совершенно верно, — подтвердил Харш. «Пожалуйста, Боже, пожалуйста, — взмолилась Сюзанна, — дай мне возможность найти обратную дорогу из этого кошмара, из этой мрачной Страны чудес… или дай мне возможность просто уснуть. Я упаду на пол и усну… усну… навечно». — Ну-ка, давайте уберем ее отсюда, — предложил Харш. Он нагнулся, схватил Сюзанну за свитер и поставил ее на ноги. — Долго мне пришлось ждать этой минуты, — прошипел он прямо ей в лицо. Она попыталась освободиться. Он наотмашь ударил ее по лицу. У нее лязгнули зубы, в глазах потемнело. Она осела на пол, и ее подхватили еще несколько рук. Ее вынесли из церкви. Они не церемонились, ее просто выволокли за руки. В машине «скорой помощи» ее уложили на носилки. Харш начал готовить шприц для инъекции. В какой-то момент она очнулась и, едва шевеля губами, прошептала: — Если мы в аду, то зачем шприц? Что, у вас нет других способов справиться с человеком? — Просто с уколом выходит забавнее, а мы любим веселиться, — усмехнулся Харш и вонзил иглу в вену. Она закричала от боли. И уснула.
Глава 17
Мигающий свет. Танцующие тени. Высокий темный потолок. Сюзанна лежала в кровати. В больничной кровати. Место на руке, куда Харш накануне грубо вонзил иглу шприца, теперь страшно ныло. Да и во всем теле чувствовалась тупая боль. Это была не ее прежняя палата. Может, это место вовсе и не палата, здесь холодно и мрачно. Одеяло не доходило ей до плеч, и она чувствовала, что плечи, шея и голова замерзли, ей хотелось укрыться с головой. К тому же она ощущала в воздухе страшную сырость. И еще она чувствовала, что когда-то уже бывала здесь. В глазах все плыло. Она тряхнула головой, но это не помогло. Зато из-за резкого движения у нее начала кружиться голова. Она как будто попала на карусель, карусель крутилась все быстрей и быстрей, и в какой-то момент она снова влетела в сон.* * *
Прошло много времени. Сюзанна очнулась и, еще не открыв глаза, услышала, как где-то совсем рядом шумит вода. Опять дождь на улице? Но шум воды был гораздо сильнее, это был, вероятно, настоящий потоп, Великий Потоп, Страшный Суд. Она открыла глаза, и у нее снова закружилась голова. Опять тот же мерцающий свет, те же танцующие тени. Теперь она поняла, откуда это — у кровати горели свечи, их пламя приплясывало из-за сквозняков, пронизывающих холодное помещение. Она повернула голову и увидела эти свечи. Десяток больших свечей был расставлен вокруг нее на камнях. Нет! Она повернулась в другую сторону, на шум падающей воды, но не смогла ничего рассмотреть. Света от свечей хватало лишь для того, чтобы осветить пространство футов на пятнадцать. Вода шумела дальше, футах в ста. Но было совершенно ясно, что вода шумит не на улице, а здесь, в этой пещере. Она была в «Доме Грома». «Нет, нет, нет, — подумала она. — Мне все это снится. Или у меня уже начался бред». Она закрыла глаза. Мерцающий свет свечей исчез, но остался шум падающей воды, осталось ощущение сырости в воздухе. Но ведь она находится в трех тысячах миль от «Дома Грома». Она же в Орегоне, а вовсе не в Пенсильвании. Безумие. Или она на самом деле в аду? Кто-то грубо сдернул с нее одеяло, и она, вскрикнув от неожиданности и ужаса, открыла глаза. Это был Эрнест Харш. Он прикоснулся к ее ноге, и в этот момент она сообразила, что лежит совершенно голая. Харш медленно провел ладонью по всему ее телу — по бедру, по волосам на лобке, по животу, по грудям. Она напряглась, собирая силы для того, чтобы защищаться. Он усмехнулся. — Нет-нет, сучонка, еще не вечер. Придется немного подождать. Вот придет ночь, тогда и начнем. Так я решил и так будет. Ровно в тот самый час, когда я подох в этой грязной тюрьме. В ту самую минуту, когда проклятый черномазый всадил нож мне в горло, я всажу свой нож в твое нежное горлышко. Но до этого я всажу в тебя свой член, я буду в тебе, слышишь, ты, подстилка. Я буду трахать тебя так, что ты завоешь, и в этот самый момент всажу нож в твое воющее горло. Это свершится сегодня ночью, осталось совсем немного времени. Он снял свою тяжелую лапу с ее грудей, поднял вторую руку, и Сюзанна увидела в ней шприц. Сделала попытку сесть. Неизвестно откуда взявшийся Джеллико подскочил к ней и прижал к матрацу. — Я думаю, сейчас тебе лучше отдохнуть, — сказал Харш. — Чтобы быть в форме к нашей ночной забаве. С этими словами он вонзил шприц ей в руку. Вытаскивая иглу, он прохрипел, обращаясь к Джеллико: — Карл, по-моему, это будет самое приятное из всех убийств, которые мне приходилось совершать в своей жизни. Знаешь почему? — Почему? — Потому что это будет бесконечное убийство. Я ведь смогу убивать ее раз за разом, снова и снова. Джеллико зашелся от визгливого смеха. Харш продолжал: — Такая уж у тебя судьба, стерва. Сама виновата, обрекла себя на вечные муки. Запомни — начиная с нынешней ночи мы будем забавляться с тобой, а потом убивать. Так будет повторяться вечно. Только способы развлечений и убийств мы будем время от времени менять. Ты узнаешь, что на свете существуют тысячи способов убивать. Безумие. Она вновь погрузилась в тяжелый наркотический сон. Она под водой. Она под водой и тонет. Сюзанна открыла глаза, отчаянно хватая ртом воздух, и только тогда поняла, что ее ввел в заблуждение шум падающей воды. Она тонула в этом шуме. Она все так же лежала на кровати. Она попыталась сесть, одеяло сползло к ногам, но удержать себя в таком положении она не смогла и вновь рухнула на подушки. Сердце колотилось как сумасшедшее. Она закрыла глаза. Всего лишь на одну минуту. Или, может быть, на целый час. Она уже потеряла счет времени. — Сюзанна… Она открыла глаза, охваченная ужасом. Перед глазами все плыло, но ей казалось, что она видит знакомое лицо в мерцающем свете свечей. — Сюзанна… Человек подошел ближе, и она увидела его совершенно ясно. Джерри. Это было его жуткое, полуразложившееся лицо. Губы на этом лице уже потеряли всякие очертания, они расплылись гнойной слизнеобразной мякотью. — Сюзанна… Она закричала. Чем громче она кричала, тем сильнее какая-то невидимая карусель раскручивала ее кровать. Вот она уже летит сквозь черный бесконечный мрак…* * *
Сюзанна снова очнулась. Лекарство уже перестало, видимо, оказывать на нее действие. Она лежала, закрыв глаза, страшась того, что она увидит, если откроет их. Лучше бы ей вовсе не просыпаться. Заснуть навеки. Мертвым сном. — Сюзанна? Она лежала, стараясь не шелохнуться. Харш приподнял ей одно веко, она вздрогнула от его прикосновения. Он усмехнулся: — Меня не обманешь, напрасно стараешься. Я же вижу, что ты уже проснулась, тварь. Сюзанна чувствовала, что все тело у нее онемело. Да, она испытывала ужас, но ничего поделать не могла, ее словно парализовало. Может быть, ей повезет и ее парализует на самом деле, тогда она ничего не будет ощущать, только это онемение во всем теле. — Ну что же, время подходит, — промолвил Харш. — Примерно через час, чтоб ты знала, мы и начнем. А через три часа я перережу тебе глотку. Стало быть, на развлечения у нас остается целых два часа. Ты уж постарайся, не разочаруй моих приятелей, они ведь так давно ждали этого часа. Как ты думаешь, за два часа ты их сможешь удовлетворить, а? Я думаю, сможешь, ты их раньше измочалишь. Ты ведь способная к этому делу, а? Разве так может быть на самом деле? Нет-нет, это бред это безумие, так бывает только в кошмарном сне. Больничная койка в пещере? Это же чушь. Этот ужас, эти угрозы, этот Харш в роли черта… нет-нет, все это дурной сон. И при этом она совершенно отчетливо чувствовала боль в тех местах руки, где ей делали уколы. Это совершенно реальная боль. Харш сдернул с нее одеяло, она вновь оказалась перед ним голой и беззащитной. — Мерзавец, — только и могла она прошептать так тихо, что сама едва слышала собственный голос. — Ну-ка, ну-ка, посмотрим, какова ты, — заговорил Харш, потирая руки. — Эй, малышка, ты, наверно, тоже ерзаешь от возбуждения, как и я, а? Что, угадал? Она закрыла глаза, умоляя, чтобы Господь даровал ей полное забытье и… — Харш! …это голос Макги. Она открыла глаза и увидела, что Харш отвернулся от нее и смотрит куда-то в сторону. На лице у него застыло выражение неподдельного изумления. Он говорит дрогнувшим голосом: — Ты что здесь делаешь? Не в силах подняться и сесть в кровати, она лишь слегка оторвала голову от подушки и увидела Макги. Тот находился всего в нескольких футах от ее кровати. Мечущееся пламя свечей бросало на него слабые отблески, и казалось, что он облачен с ног до головы в какой-то темный плащ. В руке он держал пистолет со странно удлиненным дулом и целился в Харша. — Какого черта ты здесь?.. — пролепетал Харш. Выстрел Макги пришелся прямо в лицо. Харш рухнул на землю, раздался глухой звук упавшего тела. Звук выстрела оказался совсем слабым, и Сюзанна сообразила, что насадка на дуле пистолета была глушителем. Выстрел, разнесенное пулей лицо Харша, звук упавшего тела — все это было слишком зримо, чтобы быть частью сна. Это совсем не похоже на вычурное, вымученное издевательство, которое она терпела на протяжении нескольких последних дней. Это уже был не спектакль, это была смерть в ее ничем не приукрашенном, голом виде. Макги подошел ближе к кровати. Она с ужасом следила за пистолетом в его руке. Неожиданный поворот событий застал ее врасплох, она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. — Кто следующий? Я? Вместо ответа Макги убрал пистолет в карман своего плаща. В другой руке у него был какой-то мешок. Он бросил его на кровать. Нет, это был не мешок, это была наволочка, набитая какими-то тряпками. — Нам нужно как можно быстрее выбираться отсюда, — коротко пояснил он. Он начал вытаскивать из наволочки содержимое. Это была ее одежда. Трусики. Брюки. Белый свитер. Туфли. На дне наволочки виднелся какой-то круглый темный шар. Сюзанна смотрела на него с ужасом. Над ней снова навис кошмар, она вдруг поняла, что на дне наволочки лежит полуразложившаяся голова Джерри Штейна. — Нет! — крикнула она. — Только не это! Макги все-таки извлек темный шар наружу. Она узнала в нем свою черную кожаную куртку, свернутую в комок. Никакой мертвой головы не было и в помине. Но легче ей не стало. Она все еще не могла прийти в себя, она все еще была на краю бездны, из которой на нее дышал ужасом мрачный кошмар. — Нет, — промолвила она. — Нет. Я больше ничего не хочу. Оставьте все меня в покое. Макги как-то странно взглянул на нее, затем, очевидно, что-то поняв, улыбнулся. — Ты что, подумала, что спектакль продолжается? — Я безумно, безумно устала, — проговорила Сюзанна. — Поверь мне, никаких спектаклей больше не будет, — сказал он. — Мне все надоело. Хватит. — Послушай, на тебя еще оказывает действие лекарство. Пройдет совсем немного времени, и ты почувствуешь себя гораздо лучше. — Уходи. Ей стало невмоготу держать голову над подушкой. Она даже не беспокоилась о том, что лежит перед ним совсем голая. Не было сил натянуть на себя одеяло. Кроме того, после всего, что они сделали с ней, такой жест стыдливости выглядел бы смешным. Ей было холодно. Но это тоже ее не волновало теперь. Ей было все равно. — Послушай, — продолжал Макги. — Я не требую чтобы ты понимала, что здесь происходит. Я объясню тебе все позже. Пока тебе придется поверить мне на слово. — Это уже было, — обреченно сказала Сюзанна. — Я верила тебе. — И поэтому я здесь. — Да. И поэтому ты здесь. — Я здесь для того, чтобы спасти тебя, глупая. — Он сказал это с неподдельным чувством волнения и сочувствия. — Спасти меня? От чего? — От этого ада. Ведь в последнее время они вдалбливали в тебя именно это. Ад. Так называлась программа, по которой они работали с тобой. — Программа? Он кивнул и тут же сделал нетерпеливый жест. — Сейчас не время для подробных объяснений. Поверь мне на слово. — Уходи. Макги аккуратно взял ее за плечи и усадил в кровати. Затем он попытался надеть на нее белый свитер. Сюзанна сопротивлялась как могла. — С меня хватит, — кричала она. — Хватит играть в эти грязные игры. — О Боже! — не выдержал Макги. Он выпустил ее, и она упала на подушки. — Ладно, тогда лежи и слушай. Можешь ты выслушать меня, в конце концов? Не дождавшись ответа, он достал из кармана плаща фонарик, включил его и исчез в темноте пещеры. Вскоре его шаги стали совсем не слышны из-за рокота подземного водопада. Неужели он решил оставить ее в покое? Или все-таки собирается прикончить? Одно из двух. Она снова закрыла глаза. Внезапно шум воды прекратился. В одно мгновение «Дом Грома» превратился в «Дом Тишины». От удивления она открыла глаза. Мелькнула мысль — не умерла ли она в самом деле. Из мрака пещеры раздался голос Макги: — Слышала? Это была всего лишь магнитная запись звуков водопада. — Судя по звукам шагов, он был уже где-то совсем близко. — Эту запись прокручивали через магнитофон на мощную квадрафоническую систему. — Он подошел к кровати и погасил фонарик. — Ты, наверное, и не догадывалась, что бывают водопады, в которых нет ни капли воды? А как тебе нравится пещера? Несколько настоящих камней, скалы из картона и папье-маше. Настоящая театральная декорация. Вот почему здесь около кровати так мало свечей. Если бы ты могла видеть лучше, ты бы скоро убедилась сама, что тебя разыгрывают. На самом деле мы сейчас находимся в гимнастическом зале местной школы, он довольно просторный, так что создается иллюзия большого пространства. Не хочется привлекать внимания, а то бы я тебе показал, как все это выглядит при включенном свете. Окна, конечно, задрапированы, но достаточно появиться узкой полоске света, как сюда прибежит охрана. Они продумали даже вопрос с запахом — долго бились в лаборатории, пока не получили нужное сочетание. Неплохо получилось, а? — А что такое сам Уиллауок? — спросила она. Любопытство брало верх над страхом. — Я все объясню тебе в машине, — пообещал Макги. — У нас сейчас очень мало времени. Ты должна поверить мне. Сюзанну все еще одолевали сомнения, она недоверчиво покачала головой. Макги был близок к отчаянию. — Если ты мне не будешь доверять, то вряд ли тебе вообще когда-либо удастся узнать, что же такое Уиллауок на самом деле. Сюзанна вздохнула. — Ладно, согласна. — Я всегда знал, что так просто ты не сдашься, — улыбнулся он. — Но мне понадобится твоя помощь. — Конечно, конечно. Она позволила, чтобы он одел ее. Она чувствовала себя маленькой девочкой, когда он натягивал на нее свитер, надевал ей трусики и джинсы, завязывал шнурки на ее туфлях. — Не знаю, смогу ли я идти сама, — поделилась она сомнениями. — Я и не собирался тебя заставлять. Просто подержи фонарь, чтобы осветить нам дорогу. — Конечно, давай. Он взял ее на руки. — Да ты легкая, как перышко. Ну, может быть, не как маленькое перышко, а как большое. Ну-ка, крепче держись за мою шею свободной рукой. Она направляла свет туда, куда он велел, и они пошли прочь от этой проклятой «пещеры». Луч фонарика плясал по деревянному полу, и в какой-то момент она поняла, что они проходят по разметке для игры в баскетбол. Они спустились по ступенькам к какой-то двери и прошли в соседнюю комнату. В этой комнате горел свет. На полу, рядом со столом для тренера, были распростерты три трупа. Половина головы Джеллико была снесена выстрелом, у Паркера — два пулевых отверстия в спине. Куинс упал на скамейку, и из раны в его шее все еще сочилась кровь. Макги, очевидно, уже начал уставать, он дышал все тяжелее. Они прошли через тренерскую комнату в ярко освещенный коридор. Здесь на полу лежал еще один мертвец. — Кто это? — спросила Сюзанна. — Охранник, — коротко ответил Макги. Они прошли по коридору, повернули за угол и приблизились к металлическим дверям, возле которых лежал еще один труп, видимо, это был второй охранник. — Выключи фонарик, — прошептал Макги. Сюзанна выключила фонарь. Макги осторожно приоткрыл тяжелую дверь, и они оказались на улице. Ночь была холодной и ясной. Значит, с тех пор как ей сделали укол наркотика в машине «скорой помощи», прошли целые сутки. У здания школы стояли две машины. Макги направился к синему «Шевроле» и усадил Сюзанну в автомобиль. На полной скорости они помчались прочь из Уиллауока по Мэйн-стрит. Здание больницы оставалось в противоположной стороне. До тех пор пока последние огни города не скрылись из виду, ни один из них не раскрыл рта. Теперь они неслись вдоль зеленых полей пригорода. Со своего места Сюзанна вглядывалась в лицо Макги. В зеленоватом свете от приборной доски это лицо казалось странным. Странным, но не угрожающим. Однако она пока не могла полностью поверить ему. Она не могла довериться ему целиком. — Расскажи мне то, что ты обещал, — попросила Сюзанна. — Даже не знаю, с чего начать. — Начни с чего хочешь. О Господи, ну рассказывай же! — Тогда я начну с корпорации «Майлстоун». — Это которая там, на холме? — Нет-нет. Вывеска, которую ты видела, когда выезжала с холма на «Понтиаке», — это всего лишь прием, который был использован, чтобы еще больше запутать тебя, вывести из равновесия. — Значит, то место на самом деле больница? — Да, больница, но не только. А настоящая корпорация «Майлстоун» находится в Ньюпорт-Бич. — Я действительно там работала? — Да. Тут никакого обмана не было. Однако разговаривал с тобой вовсе не Фил Гомез. Разговаривал человек, живущий в Уиллауоке и прикидывающийся Филом Гомезом. — Скажи, какую работу выполняла я в «Майлстоуне»? — «Майлстоун» — это на самом деле исследовательский центр, в этом я тебя не обманывал. Но он не выполняет заказы частных корпораций. «Майлстоун» — всего лишь прикрытие для сверхзасекреченного исследовательского центра министерства обороны США. Он работает под непосредственным контролем министра обороны и президента США. Конгресс даже не подозревает о его существовании, деньги для центра поступают по секретным статьям бюджета. В «Майлстоуне» собраны лучшие ученые страны, по-моему, ведущих специалистов там человек двадцать пять. В их распоряжении самые совершенные базы данных и суперсовременные компьютерные системы. Каждый из этих ученых — блестящий специалист в своей области, работа ведется на основе синтеза знаний из всего научного спектра. — Значит, я — один из этих специалистов? — спросила Сюзанна. Она и сейчас не могла припомнить ничего о корпорации, она даже не была уверена, что такая существует. — Да, ты и еще один человек — ведущие специалисты по ядерной физике. — Но я ничего не помню. — Я знаю. Они продолжали мчаться вдоль пустынной, заросшей лесами местности, и Макги рассказывал ей все, что он знал, или, по крайней мере, думал, что знает, о корпорации «Майлстоун». «Майлстоун», по словам Макги, работал над одной основной темой. Это была разработка супероружия — лазера с ядерной накачкой, биологических супербоеприпасов, словом, всего того, что могло тем или иным образом свести эффект от использования обычного ядерного оружия к нулю, сделать его применение бессмысленным. В свое время американское правительство считало, что Советский Союз стремится к ядерному превосходству над США, с тем чтобы нанести победоносный первый ракетно-ядерный удар и таким образом вывести из строя американский потенциал возмездия. Осознавая эту угрозу, американское правительство вместе с тем отдавало себе отчет в том, что идея новых колоссальных затрат на довооружение не вызовет энтузиазма у налогоплательщиков. Поэтому в середине семидесятых годов президент и министр обороны видели спасение только в создании некоего чудо-оружия, которое смогло бы уравновесить советский ядерный арсенал и избавить человечество от призрака атомного апокалипсиса. Если невозможно запустить многомиллиардную программу перевооружения, то вполне возможно иное — создание секретного исследовательского центра с наилучшим творческим потенциалом в надежде на то, что интеллект американских ученых спасет Америку. В каком-то смысле «Майлстоун» превратился в последнюю надежду для США. — Но я уверена, что подобные исследования проводились и раньше, — возразила Сюзанна. — Какая необходимость была в запуске новой научной программы? — Дело в том, что в обычных исследовательских центрах было полно пацифистов, особенно среди лаборантов и студентов. Они похищали информацию и делали ее достоянием гласности, с тем чтобы завоевать в свои ряды больше сторонников борьбы с «кознями Пентагона». Так что эти центры, базировавшиеся в середине семидесятых в университетах, практически потеряли свое значение. Президент настаивал на том, чтобы исследования были продолжены за завесой абсолютной секретности, он хотел, чтобы технологический прорыв стал достоянием только Америки. — На протяжении нескольких лет советская разведка не подозревала о существовании «Майлстоуна». Когда КГБ наконец узнал о корпорации, у Советов волосы встали дыбом при мысли о том, что США близки или, хуже того, уже достигли желаемого результата — нейтрализации советского ядерного потенциала. Перед КГБ была поставлена задача — выкрасть одного из специалистов «Майлстоуна» и любым путем добиться от него сведений о ходе работ над чудо-оружием. Машина на уклоне начала разгоняться, и Макги стал притормаживать. — Дело в том, что каждый из двух дюжин специалистов «Майлстоуна» должен был постоянно находиться в курсе работ своих коллег, поэтому каждый из них обладал уникальными знаниями о процессе работ по всем перспективным проектам. Это означало, что далеко идущие планы Пентагона могли быть сорваны, если бы в руки КГБ попали сведения хотя бы от одного специалиста из «Майлстоуна». — Итак, Советы остановили выбор на мне, — сделала вывод Сюзанна. Она была уже готова поверить Макги, хотя в душе еще шевелились кое-какие сомнения. — Да. КГБ раздобыл список специалистов «Майлстоуна» и начал собирать сведения по каждому из них. Ты представляла для них объект наибольшей заинтересованности, так как, по имеющимся данным, в прошлом у тебя были определенные сомнения по поводу участия в разработках ядерного оружия, это не совсем согласовывалось с твоими моральными воззрениями. Ты включилась в эту работу сразу же после получения степени доктора, в двадцать шесть лет, и у тебя тогда не было еще четко сформировавшейся системы ценностей. С возрастом у тебя появились сомнения, касающиеся твоей работы и ее роли для будущего. Ты даже высказала эти сомнения вслух. Ты поделилась ими с одним из твоих коллег и даже взяла месяц отпуска за свой счет, чтобы обдумать свои планы на будущее. Но, вероятно, ни к каким окончательным выводам ты не пришла и поэтому вернулась на работу, хотя сомнения и оставались. — Все это звучит так, словно ты говоришь о каком-то третьем, совершенно постороннем человеке, — проговорила Сюзанна, испытующе глядя на Макги. — Я что-то не припоминаю ничего из того, о чем ты сейчас говорил. — Я все тебе объясню, подожди немного, — успокоил он. — Сейчас нам придется сделать остановку. Они уже спустились с холма и выехали на прямой участок дороги. Невдалеке дорогу перегораживал шлагбаум. — Что это? — с беспокойством спросила Сюзанна. — Контрольно-пропускной пункт. — Ты случайно не собираешься вернуть меня опять к ним в лапы? Может быть, все эти разговоры только продолжение спектакля? — недоверчиво спросила она. Макги, нахмурившись, покосился на нее. — Наберись терпения, очень тебя прошу. Мы сейчас выезжаем из строго охраняемой военной зоны и должны обязательно проехать через все посты без инцидентов. — Он вытащил из внутреннего кармана какие-то бумаги. — Будет лучше, если ты притворишься спящей. Сюзанна повиновалась, но сквозь полусомкнутые веки видела, как они подъехали совсем близко к посту со шлагбаумом. В этот момент она закрыла глаза и больше ничего не видела. — Ни в коем случае не открывай рта. — Поняла. — Что бы ни случилось, ты — немая. Макги остановил машину и опустил боковое стекло. Сюзанна услышала, как где-то совсем рядом прогрохотали сапоги. Часовой что-то сказал, и Макги тут же ответил. Но говорили они оба не на английском. Сюзанна была до такой степени поражена этим, что едва не раскрыла глаза от удивления. Она не успела спросить его, зачем ей притворяться спящей, если у него есть документы на них двоих. Теперь все было ясно: скажи она хоть одно слово по-английски — и они оба пропали. Ожидание, как ей показалось, было бесконечным. Наконец послышался шум поднимающегося шлагбаума. Машина тронулась с места. Сюзанна открыла глаза, но назад оборачиваться не смела. — Где мы? — спросила она Макги. — Разве ты не поняла, на каком языке мы говорили? — Неужели… — Да-да, на русском, — подтвердил он. Сюзанна потеряла дар речи. Она только безмолвно качала головой. — В тридцати километрах от нас Черное море, — заявил Макги. — Как раз туда мы и едем. К берегу Черного моря. — Так мы на территории Советского Союза? Это невозможно. Это какое-то сумасшествие. — Но это так. — Нет-нет, — бормотала Сюзанна. — Так не бывает. Просто для меня приготовили очередной спектакль. — Нет, — твердо сказал Макги. — Выслушай меня. Выбора не было. Не выбрасываться же ей из машины на полной скорости. Да и уйти далеко она не сможет, в ногах все еще чувствовалась предательская слабость. К тому же в голосе Макги была неподдельная искренность. Ей очень хотелось верить. Он продолжал. — Так вот, агенты КГБ похитили тебя, когда ты проводила свой отпуск в Орегоне. — Никакой автокатастрофы не было? — Нет. Эта история с аварией была необходима лишь для того, чтобы спектакль в Уиллауоке начался. На самом деле тебя просто похитили и вывезли из США вместе с дипломатическим грузом. Сюзанна нахмурилась. — Но я не могу припомнить ничего подобного. — На всех этапах операции тебе делались уколы. Лекарство, которое заглушает все чувственные восприятия. — Но я же должна была помнить по крайней мере то, как меня похищали! — настаивала она. — Все воспоминания об этом периоде стирались из твоей памяти при помощи специальных приемов гипноза и лекарственной терапии. — Проще говоря, мне устроили «промывание мозгов». — Да, если хочешь. Для того чтобы ты включилась в программу «Уиллауок», необходимо было, чтобы все воспоминания, противоречащие этой программе, отсутствовали. У Сюзанны был еще десяток вопросов о загадочной программе, но она сдержала себя и решила выслушать рассказ Макги до конца. — После того как ты попала в Москву, тебя поместили в специальную тюрьму на Лубянке. Весьма мрачное место, должен сказать. Первые допросы ничего не дали, ты не отвечала на их вопросы. Тогда они сменили тактику. Нет, они не били тебя, не загоняли под ногти булавки. Они применили весьма жестокую методику, хотя она и не была связана с физическим насилием. Тебе вводили целый спектр различных наркотических веществ с весьма неблагоприятными побочными эффектами. В сущности, такие вещества нельзя вводить человеку, они его могут просто изуродовать. Но в КГБ они применялись очень часто для извлечения ценной информации из тех, кто слишком уж упрямится на допросе. Однако, как только они перешли к этим методам, случилась странная вещь — ты стала утрачивать память даже о тех второстепенных моментах твоего пребывания в «Майлстоуне», которые еще сохранялись у тебя в голове. — И такое состояние длится по сей день. — Да. Даже под действием сильных наркотиков, с подавленной волей ты не рассказала им ничего. С тобой работали пять дней, пять напряженных дней, и только после этого наконец поняли, что же произошло. Макги замолчал и снизил скорость. Они подъезжали к населенному пункту. Это, по всей видимости, была деревня, в ней не было ничего похожего на Уиллауок, она вообще не была похожа ни на какой американский городок. Если бы не несколько фонарей вдоль улиц, можно было подумать, что они перенеслись в прошлый век. Жалкие строения с небольшими оконцами производили впечатление средневековых построек. Они промчались через деревню и вновь выехали на простор. Макги прибавил газу. — Ты остановился на том, что я забыла обо всем связанном с «Майлстоуном», — напомнила Сюзанна. — Да. Так вот, по всей видимости, каждый поступавший на работу в «Майлстоун» должен был соглашаться на серию специальных сложных манипуляций, в результате которых человек лишался возможности разгласить сведения о своей работе. Если человек отказывался пройти подобную обработку, это автоматически лишало его права на занятие должности в «Майлстоуне». В дополнение к этому служащие корпорации, вероятно, подвергались процедуре, после которой вся информация о «Майлстоуне» блокировалась, если к человеку применялись методы психического воздействия. В случае применения наркотиков, гипноза или другого сильного средства информация должна была уходить в глубины подсознания, и извлечь ее оттуда становилось практически невозможно. Только теперь Сюзанна начинала понимать, почему она не могла восстановить в памяти даже внешний вид лаборатории в «Майлстоуне». — Значит, эта информация все-таки хранится во мне? — Да. Если нам удастся выбраться отсюда и ты попадешь в Штаты, то в «Майлстоуне» наверняка найдут способ, как разблокировать твою информацию и извлечь ее на свет Божий. Возможно даже, что нигде в другом месте, кроме «Майлстоуна», этого проделать нельзя. Возможно, сама процедура связана с какими-то ключевыми словами, которые можно получить только после абсолютной идентификации по отпечаткам пальцев. Конечно, это всего лишь мое предположение. Если бы мы знали, как это делается, мы бы сами проделали это с тобой. Но мы не знали, и потому нам пришлось прибегнуть к программе «Уиллауок». Суть ее заключалась в том, чтобы разблокировать твою память с помощью серии психологических встрясок. Они летели сквозь ночь. Пейзаж в этих местах был не такой холмистый, как в окрестностях Уиллауока, деревья встречались все реже. В небе взошла луна, ее призрачный свет серебрил дорогу. Сюзанна, вжавшись в свое сиденье, со страхом следила за лицом Макги, боясь обнаружить в нем следы нового обмана, новой, еще более жестокой «психологической встряски». — Блокировка памяти может быть основана на различных видах эмоций — на любви, ненависти, страхе, — но из них самый эффективный тормоз получается, конечно, из страха, — продолжал Макги. — Именно на этой эмоции, на страхе, по-видимому, и основывалась блокировка, которая была тебе внедрена в «Майлстоуне». Вероятно, при помощи методик, связанных с гипнозом и лекарственной терапией, тебе в подсознание была внедрена мысль о том, что при раскрытии доверенных тебе секретов ты мгновенно погибнешь, испытав при этом невыносимую боль. Эту блокировку чрезвычайно трудно, практически невозможно снять, особенно если она внедрялась в подсознание профессионалами. А это как раз твой случай. — Но вам удалось найти такой способ. — Ну, я-то не имел никакого отношения к его разработке. Просто в КГБ есть масса специалистов по манипулированию сознанием, по «промыванию мозгов» и так далее, которые и разрабатывают эти методики. Одна из них предполагает, что блокировка, основанная на страхе, может быть снята, если в подсознание человека внедрить страх, еще больший по масштабу. Но найти страх, который был бы больше страха смерти, не так легко. Это касается большинства из нас. КГБ, основательно покопавшись в твоей биографии, обнаружил в ней твое слабое место. Они специально обращали внимание на те события, которые можно было бы вновь воскресить и таким образом создать для тебя настоящий кошмар наяву, им нужно было нечто сопоставимое со страхом смерти. — «Дом Грома», — едва шевеля губами, пробормотала она, — Эрнест Харш. — Да, именно так, — сказал Макги. — Именно эти события они положили в основу своей игры. После тщательного изучения твоей биографии КГБ пришел к выводу, что у тебя есть необычная страсть к порядку во всем, они поняли, что ты ненавидишь все, что выходит за рамки здравого смысла. По их гипотезе, твое стремление к рациональности во всем приняло гипертрофированные, маниакальные формы. — Маниакальные? Да, наверное, — согласилась Сюзанна. — Наверное, я действительно такая. Вернее, была такой. — По замыслу КГБ, ты должна была быть в первую очередь выведена из равновесия. Для этого тебя поместили в условия, в которых все окружающее мало-помалу становилось все более иррациональным, бессмысленным. В этом искусственно созданном мире мертвые могли являться перед живыми, каждый новый персонаж оказывался совсем не тем, кем он был на самом деле. Они привезли тебя в Уиллауок и поместили в одном из отсеков больницы, специально оборудованном для подобного рода спектаклей. Тебя потихоньку подталкивали к моральному и (или) психологическому слому. Кульминацией кошмара должна была стать сцена в декорациях «Дома Грома». Сценарий последнего акта был очень мрачным. Тебе предстояло быть многократно изнасилованной. Четверо «мертвецов» должны были насиловать тебя и подвергать изощренным пыткам. Сюзанна замотала головой, не веря своим ушам. — Меня хотели подтолкнуть к моральному слому?.. Но зачем? Даже если бы им удалось снять блокировку с моей памяти, они все равно не сумели бы получить от меня ничего путного. Перед ними оказалась бы женщина, сошедшая с ума, вот и все. — Это не так. Психическое помешательство, вызванное кратковременным воздействием насилия, легко поддается лечению, — пояснил Макги. — После того как они сломили бы твою волю, они пообещали бы прекращение пыток в обмен на полное подчинение и сотрудничество. После этого началось бы активное лечение, восстановление нервной системы до того уровня, при котором возможно возобновление допросов. Они рассчитывали получить от тебя достоверную информацию. — Погоди, — остановила его Сюзанна. — Погоди. Для того чтобы подобрать двойников, продумать сценарий игры, дооборудовать помещения, нужно время, много времени. Но меня ведь похитили всего несколько недель назад… не так ли? Макги не спешил с ответом. — Не так ли? — повторила она свой вопрос. — В Советский Союз ты попала больше года тому назад, — наконец медленно проговорил он. — Нет! О-о, нет. Нет, этого не может быть! — Так было. Большую часть времени ты провела на Лубянке, в камере, томясь мучительным ожиданием. Ты просто не помнишь этого периода. Его стерли из твоей памяти еще до того, как ты прибыла сюда. Недоумение Сюзанны сменилось приступом яростного гнева. — СТЕРЛИ? — Она выпрямилась, сжала пальцы в кулаки. — Ничего себе словечко! Стерли! Что я тебе — магнитофонная лента, чтобы меня стирали? Боже, я целый год провела в тюрьме, они похитили у меня этот год, а потом опрокинули на меня кошмар с Харшем и всеми остальными… — От крика ее голос сорвался. Но теперь она поняла, что верит ему. Почти на сто процентов. Она была почти уверена, что все сказанное было правдой. — Ты, конечно, имеешь все основания для возмущения, — спокойно сказал Макги, мельком взглянув на нее. — Но, пожалуйста, не обвиняй меня. К тому, что случилось с тобой тогда, в Москве, я не имел ни малейшего отношения. Я впервые увидел тебя только здесь, в Уиллауоке. Мне было совсем непросто дожидаться момента, когда я смогу спасти тебя. Они ехали какое-то время молча, и гнев Сюзанны понемногу стихал. Показалось освещенное луной море. Они свернули на магистраль, шедшую вдоль побережья. Здесь уже начали попадаться машины, большей частью грузовики. Сюзанна нарушила молчание: — А теперь скажи мне, кто ты такой? Какова твоя роль во всем этом кошмаре? — Чтобы ты лучше поняла, я должен буду сначала рассказать о том, что такое Уиллауок. У Сюзанны опять появились сомнения. — Даже за один год они не успели бы построить целый город. Только не рассказывай мне, что все это они построили, чтобы выкачать из меня информацию про «Майлстоун», я не поверю. — Да, ты права, — сказал он. — Уиллауок действительно построен не сейчас, а в пятидесятые годы. Он должен был представлять собой типичный американский городишко. С той поры он многократно перестраивался и обновлялся, чтобы соответствовать современным требованиям. — Но с какой целью? Зачем нужен образцовый американский город в самом центре Советского Союза? — Уиллауок — это учебный центр, — отчеканил Макги. — В этом центре советские агенты глубокого прикрытия учатся быть американцами, учатся американскому образу мышления. — Что это?.. Агенты глубокого прикрытия? — изумленно спросила Сюзанна. Макги в это время обгонял тяжелый, груженный доверху грузовик советской марки. — Каждый год примерно триста-четыреста одаренных детей в возрасте трех-четырех лет, пройдя предварительный отбор, приезжают в Уиллауок. Их забирают от родителей, которым объясняют, что их дети избраны для выполнения очень важного задания и что они их больше никогда не увидят. В Уиллауоке все эти дети распределяются по семьям, которые заменяют им их прежнюю родню. После этого начинается новая жизнь, о которой надо сказать прежде всего две вещи. Первое — они подвергаются массированной идеологической обработке, которая призвана сделать из них фанатиков коммунистической доктрины. Не думай, что слово «фанатики» я употребляю здесь для красного словца. Нет, дело куда серьезнее, по сравнению с этими ребятами последователи аятоллы Хомейни — это смиренные овечки. Каждый день два обязательных часа посвящены идеологической подготовке. Кроме того, для воздействия на подсознание ребятам прокручивают идеологические материалы во время сна. — Похоже, они готовят целую армию маленьких роботов, — заметила Сюзанна. — Именно. Дети-роботы, роботы-шпионы. Теперь второе — эти ребята вовсю учатся быть американцами, учатся думать по-американски, жить по-американски. В итоге они должны стать американскими патриотами, будучи в душе фанатичными приверженцами коммунистической доктрины. В Уиллауоке говорят исключительно на американском варианте английского языка. Эти дети не знают ни одного слова по-русски. Все книги — на английском, все фильмы — на английском. Телепередачи записываются с трех американских телепрограмм и передаются вперемежку во все дома Уиллауока по закрытой системе вещания. Так что у этих детей примерно тот же фон телепередач, что и у их сверстников в США. За этим очень строго следят. После того как эти ребята пропитаются насквозь американским образом мышления, американской культурой, их отправляют в США, снабдив безукоризненно выполненными документами. Им в это время от восемнадцати до двадцати одного года. Часть из них попадает в американские колледжи и университеты. У каждого есть тщательно проработанная легенда, к тому же каждый факт из этих легенд поддерживается американцами, симпатизирующими Советам, так что сомнений в их американском происхождении почти никогда не возникает. Эти тайные агенты постепенно пробираются на важные посты в промышленности, администрации, они спокойно работают на протяжении десяти, двадцати лет, делают карьеру. Часть из них никогда не будет востребована Советами, они так и будут жить в образе американских патриотов, будучи в глубине души настоящими русскими. Другую, большую часть будут использовать для шпионажа и диверсий. Их и используют — каждый день, каждый час. — Боже! — воскликнула Сюзанна. — Но на это же уходят безумные деньги! Даже трудно себе вообразить, каких средств это требует. И что, эти затраты хоть немного окупаются? — Во всяком случае, советское правительство считает, что окупаются, — мрачно сказал Макги. — В истории этих операций действительно было несколько ошеломляющих удач. Им удалось внедрить своих людей на руководящие посты в аэрокосмической промышленности. Выпускники Уиллауока служат офицерами в американском флоте, сухопутных войсках, авиации. Я думаю, их не больше нескольких сотен, но некоторые работают на крупных должностях. В американских средствах массовой информации тоже есть люди из Уиллауока, благодаря им удается проводить операции, связанные с дезинформацией. С точки зрения Советов наличие одного преданного им сенатора пары конгрессменов, одного губернатора штата и множества влиятельных чиновников — это уже успех, он оправдывает любые затраты. — Боже мой! Боже! Сюзанна забыла на время о своем возмущении, пораженная размахом зловещего замысла, открывшегося ей. — Кстати, превращений выпускников Уиллауока в двойных агентов практически не происходит, они слишком хорошо натренированы, слишком фанатичны. Больница, в которой ты находилась, кроме своего прямого назначения — она является одной из самых лучших в СССР, — служит еще и исследовательским центром, где проводятся работы по контролю за поведением и воздействием на психику. Именно благодаря этим исследованиям стало возможным превращение детей Уиллауока в послушных роботов. Именно поэтому стало возможным создание самой надежной шпионской сети в мире. — А что же ты? Ты-то как здесь оказался, Джефф Макги? Что ты здесь делаешь? Да, наверное, тебя и зовут как-то по-другому. — Да, — сказал он. — Мое настоящее имя Дмитрий Никольников. Я русский, родился в Киеве. Было это тридцать семь лет назад. Фамилию Макги я получил здесь, в Уиллауоке. Я был одним из первых выпускников, правда, тогда, на начальном этапе, они пытались делать агентов из подростков пятнадцати-шестнадцати лет. Это потом они перешли на детей младшего возраста. Так вот, я один из тех немногих, кто стал «двойным агентом». Правда, они пока об этом не подозревают. — Боюсь, что ждать осталось недолго — они скоро обнаружат трупы тех четверых. — Ну, к тому моменту мы будем уже далеко. — Ты так уверенно это говоришь. — Ничего другого не остается, — улыбнулся он. — О других вариантах просто не хочется думать. Сюзанна вновь изумилась силе этого человека. Именно сила, дремавшая в нем, привлекла ее к нему и разожгла ее страсть. «Неужели я по-прежнему влюблена в него?» — удивилась она. «Да». «Нет». «Возможно». — Сколько тебе было лет, когда ты попал в Уиллауок? — Я же говорил — это было тогда, когда они брали сюда только подростков. Я приехал сюда в тринадцать лет, а закончил обучение в восемнадцать. — С тех пор прошло почти двадцать лет. Тебя не отправили в США? Почему? Почему ты был в Уиллауоке, когда я появилась здесь? Макги не ответил, он был занят тем, что происходило на дороге. Идущие впереди машины начали притормаживать, а затем и вовсе остановились. Их машина также замерла на месте. — Что происходит? — заволновалась Сюзанна. — Это контрольно-пропускной пункт при въезде в Батуми. — Что это? — Они осуществляют контроль за движением по этой дороге, вот и все. В Батуми нам необходимо попасть, так как именно там мы сможем сесть на корабль, который уходит за границу. — Звучит так, словно ты собираешься на воскресную прогулку. — Это действительно может обернуться приятной прогулкой, — сказал Макги. — Если нам еще чуть-чуть повезет. Машины время от времени трогались с места и ползли с черепашьей скоростью. На посту у каждого водителя проверяли документы. На плече у проверяющего висел автомат. Второй страж порядка был занят тем, что при помощи фонарика осматривал содержимое фургонов и кузовов. — Они кого-то ищут? — шепотом спросила Сюзанна. — Не знаю. Обычно на этом посту не бывает такого тщательного контроля. Может быть, они ищут нас? Сомневаюсь. По моим подсчетам, они обнаружат наш побег из Уиллауока не раньше чем к полуночи. У нас в запасе есть еще один час. Скорее всего здесь не происходит ничего существенного. Просто дежурная проверка документов. Очередной грузовик проехал под шлагбаум, и колонна опять тронулась с места. Между постом и их машиной оставалось еще три грузовика. — Они скорее всего ищут контрабандистов, — предположил Макги. — Если бы искали нас, их было бы в десять раз больше, и они бы тщательнее проводили проверку. — Неужели мы такие важные птицы? — Да уж, поверь мне. Если они упустят тебя, они проиграют одну из самых крупных разведывательных операций. Еще один грузовик выехал за пределы поста. Макги продолжал: — Если бы им удалось расколоть тебя и получить нужные сведения, они не преминули бы этим воспользоваться. А это означало бы ни больше ни меньше как изменение баланса сил между Западом и Востоком в пользу Востока. Ты, девочка, для них очень важная птица. А если они еще узнают, что я перешел на другую сторону, они вообще будут вне себя. Они постараются сделать все, чтобы не дать нам уйти. Особенно это касается меня, так как они прекрасно представляют себе, сколько проваленных агентов появилось в США после моего ухода. Они наверняка захотят поговорить со мной на эту тему. — Макги усмехнулся. — Ты действительно «провалил» многих агентов? — Я «провалил» всех. Они уже подъехали к посту. Макги опустил стекло и протянул проверяющему документы. Часовой бросил на них беглый взгляд и тут же вернул. Макги сказал часовому «спасибо». Тот уже отвернулся и ждал, когда подъедет следующая машина. Они въехали в Батуми. — Ну точно, вылавливают контрабанду, как я и думал, — облегченно вздохнул Макги. Они мчались теперь по улочкам портового города. Сюзанна спросила: — Если ты закончил свое обучение здесь в восемнадцать лет, то почему же тебя не отправили в США? — Меня туда и отправили. В Штатах я закончил медицинский колледж, у меня была специализация по поведенческой психологии. Но к тому времени, как я получил серьезную работу, связанную с доступом в систему министерства обороны США, я уже не был фанатиком коммунистической доктрины. Меня ведь начали «обрабатывать» поздно, в подростковом возрасте. Это совсем не то, что начинать в три-четыре года. Двенадцать лет до моего приезда в Уиллауок я жил обычной жизнью и имел возможность позднее сравнить американскую и советскую системы. Свой выбор я сделал без колебаний. Я понял, что свобода для меня дороже всего. Я пошел в ФБР и рассказал им все о себе и об Уиллауоке. На первых порах меня использовали для передачи Советам дезинформации. Американцам нужно было разобраться в намерениях русских. Примерно пять лет тому назад было решено, что я отправлюсь обратно в СССР в качестве двойного агента. ФБР инсценировало мой «арест». Был громкий процесс, но я на нем больше молчал. В газетах меня обозвали «молчаливым агентом». — Боже, я что-то припоминаю! Этот процесс наделал много шума. — Особенно много крика было по поводу того, что я не признавался, на какую страну работаю. Хотя меня схватили за руку при передаче секретных документов и всем было ясно, что я советский агент, я разыгрывал роль великого молчальника. Мои начальники из КГБ были в восторге. — Именно на это и был рассчитан спектакль. — Конечно. После суда меня приговорили к длительному сроку заключения, но не прошло и месяца, как я был обменен на американского агента, пойманного в Москве с поличным. Я вновь оказался в СССР и был встречен как герой. Еще бы! Я ведь не выдал секрет Уиллауока и сети агентов глубокого прикрытия. Я был знаменитым «молчаливым агентом». Меня направили в мою «альма-матер». Таким образом, была достигнута цель, поставленная ЦРУ. — Значит, после этого ты уже передавал информацию с обратной стороны, отсюда? — Да, у меня были два связника в Батуми — рыбаки. Маленький бизнес, разрешенный властями. У каждого из них свое небольшое судно. Они — грузины. Мы же находимся на территории Грузинской ССР. Так вот, многие местные жители отнюдь не симпатизируют правительству, которое сидит в Москве. Я передавал мои сообщения этим рыбакам, а те, в свою очередь, — турецким рыбакам, которые выходят на ловлю в этот район Черного моря. Затем эта информация каким-то образом попадает в ЦРУ. Один из этих рыбаков и переправит нас к туркам, так же, как он до этого переправлял секретные документы. По крайней мере, я надеюсь, что так оно и будет. В Батумский порт мог попасть далеко не каждый смертный. Даже те, кто ежедневно отправлялся на лов рыбы должны были пройти проверку. На одном из постов проверяли грузовые машины, следующие в порт, через другой проходил военный транспорт; рабочие, рыбаки и служащие порта шли через проходную. Сюзанна и Макги, оставив машину, отправились пешком. Территория порта была освещена очень скудно, но у проходной горел яркий фонарь. Документы проверяли двое солдат с «Калашниковым» за плечами. Они сидели в своей будке и о чем-то оживленно спорили. Никто из них, видимо, не собирался покидать теплое помещение и выходить к турникету. Макги протянул документы в окошко будки. Старший по званию проверил их и тут же вернул, ни на секунду не прерывая разговор со своим помощником. Солдат нажал кнопку, турникет открылся, и Макги с Сюзанной как ни в чем не бывало прошли на территорию порта. Сюзанна крепко вцепилась в руку Макги, и они не спеша пошли в темноте к рядам мрачных зданий, загораживающих вид на бухту. — Куда теперь? — прошептала она. — Теперь к рыбацкому причалу. Нам нужно судно под названием «Золотая сеть». — Как просто! — Да, пожалуй, даже слишком, — произнес он с беспокойством в голосе. Макги обернулся, чтобы бросить прощальный взгляд на проходную, и было видно, что он все еще опасается погони.* * *
Леонид Голодкин, хозяин «Золотой сети», рыболовецкого судна, на котором, кроме всего прочего, было установлено и мощное холодильное оборудование, был коренастым мужчиной с обветренным лицом и сильными натруженными руками. Один из матросов вызвал его на причал, и они начали о чем-то оживленно беседовать с Макги. Сюзанна не могла понять ни одного слова из их разговора, но сомнений в том, в каком настроении находится капитан Голодкин, у нее не возникало. Капитан был явно раздражен и чем-то напуган. Обычно Макги передавал свои сообщения через спекулянта водкой, который жил неподалеку от порта. Макги и Голодкин встречались чрезвычайно редко, а на судно к Голодкину Макги вообще никогда не приходил. Вплоть до сегодняшнего вечера. Голодкин время от времени нервно оглядывался по сторонам, вероятно, подозревая, что за ними могут следить. В какой-то момент Сюзанна даже подумала, что он может не пустить их на борт. Но, еще немного поговорив, Голодкин открыл дверку, и они по трапу перешли на корабль. Он поторапливал их, явно опасаясь, что его гостей заметят с берега. Спустившись по винтовой лестнице вниз, они пошли по мрачному, тускло освещенному коридору. Этот корабль явно не нравился Сюзанне. Каюта капитана находилась в самом конце коридора и была очень неуютной. В ней стоял простой стол с недопитой бутылкой бренди, книжный шкаф и четыре стакана. Кровать, очевидно, находилась за занавеской, которая была в этот момент задернута. Голодкин предложил им сесть. Показав рукой на бутылку, Макги спросил: — Не хочешь выпить немного? Сюзанну не оставляла нервная дрожь. Она просто не знала, что с ней делать. — Да, пожалуй, — согласилась она. — Может, полегчает. Макги, обратившись по-русски к Голодкину, попросил дать ему стаканы, но, прежде чем тот успел ответить, занавеска отъехала в сторону… и перед ними возник доктор Леон Витецкий. В руке у него был пистолет с глушителем, он улыбался. Сюзанну словно ударило током. Она почувствовала, что ее снова предали, и это привело ее в бешенство. Она посмотрела на Макги. Как она могла поверить этому человеку?! Однако Макги, казалось, был также ошарашен неожиданным появлением Витецкого. Он начал подыматься со стула, пытаясь нащупать рукоятку пистолета в кармане своего плаща. Капитан Голодкин перехватил его руку и забрал у него оружие. — Леонид, — обратился Макги к капитану, в голосе его чувствовалось возмущение. Он добавил еще несколько слов по-русски, которых Сюзанна не поняла. — Не стоит накидываться на капитана, — вмешался Витецкий. — У него не было выбора. А теперь — сядьте на место. Макги неохотно сел. Он виновато взглянул на Сюзанну и произнес: — Я не знал, что все кончится этим. Ей страшно хотелось верить ему. Лицо у Макги было пепельно-серым, он выгляделтак, словно только что столкнулся лицом к лицу со смертью. «Но он — великолепный актер, — напомнила она себе. — Он много дней водил тебя за нос. Возможно, он и сейчас разыгрывает из себя жертву». Витецкий обошел вокруг стола и уселся в капитанское кресло. Голодкин стоял у двери, сохраняя на лице невозмутимое выражение. — Мы следим за вами уже два с половиной года, — сказал Витецкий, обращаясь к Макги. Макги покраснел. Он был явно не готов к такому повороту событий, и его замешательство казалось совершенно искренним. — За вашими контактами с Леонидом мы также наблюдаем уже давно, — продолжал Витецкий. — Капитан согласился работать с нами сразу же с того момента, как мы обнаружили, что он выполняет функции одного из ваших связников. Макги перевел взгляд на Голодкина. — Это действительно так, Леонид? — спросил он. Голодкин нахмурился и что-то пробормотал по-русски. Сюзанна смотрела на Макги, а тот впился глазами в капитана. Он казался полностью сломленным. — Леониду ничего не оставалось, кроме как играть на нашей стороне, — говорил Витецкий. — У нас в руках были все рычаги для того, чтобы влиять на него. Я имею в виду прежде всего его семью. Ему, конечно, было не очень легко играть роль двойного агента, но деваться некуда. Он нам очень помог, и я уверен, в будущем поможет еще больше. Макги все еще не мог поверить случившемуся: — То есть вы хотите сказать, что каждый раз, когда я передавал сообщения Леониду… — …он передавал их нам, — подтвердил Витецкий. — Мы просматривали сообщения, вносили необходимые изменения и передавали дезинформацию для ЦРУ. Далее Леонид действовал уже по плану, то есть передавал сообщения туркам. — Дерьмо, — процедил сквозь зубы Макги. Витецкий захохотал. Он взял со стола стакан с бренди и отпил из него несколько глотков. Сюзанна наблюдала за мужчинами, и ей все больше становилось не по себе. Она начала убеждаться, что все происходящее сейчас — правда, а не розыгрыш. Она понимала, что Макги действительно хотел спасти ее и что его на самом деле предали. Это означало, что теперь для них был потерян великолепный шанс обрести свободу. Обращаясь к Витецкому, Макги сказал: — Если вы знали, что я собираюсь бежать вместе с Сюзанной, почему вы не задержали меня раньше, еще до того, как я проник в ваш фальшивый «Дом Грома»? Вы бы, по крайней мере, смогли продолжать игру с ней. Витецкий еще раз приложился к стакану с бренди. — Мы уже поняли, что ее не удастся сломить. Она совершенно неадекватно реагировала на программу, которая к ней применялась. Вы же сами наблюдали это. — Да, вам удалось наполовину свести меня с ума, — тихо проговорила Сюзанна. Витецкий посмотрел на нее и кивнул. — Вот именно, лишь наполовину. Нас это не устраивало, мы не смогли полностью сломить вашу волю. Эксперимент мог бы кончиться банальным тихим помешательством. Нам же нужно было совсем другое. Тогда мы решили свернуть эксперимент и начать действовать по запасному варианту. — Что это еще за запасной вариант? — спросил Макги. Витецкий обратился к Голодкину с несколькими фразами на русском языке. Голодкин кивнул и вышел из каюты. — Что вы еще задумали? — повторил вопрос Макги. Витецкий ничего не ответил. Он только чему-то улыбнулся и опять пригубил бренди. Сюзанна, тоже обеспокоенная, спросила у Макги: — Что происходит? — Не знаю, — сказал тот. Он протянул ей руку, и Сюзанна коснулась ее. Он улыбнулся, пытаясь ободрить ее, но чувствовалось, что сам он тоже боится. Витецкий нарушил молчание: — Неплохое бренди. Наверное, через спекулянтов достали. В госторговле такого не купишь, разве что в каком-нибудь закрытом спецраспределителе для партийных боссов. Надо будет спросить у капитана, как разыскать этого спекулянта. Дверь открылась, и в каюту вошел Леонид Голодкин. Вместе с ним вошли еще двое. Один из вошедших был Джеффом Макги. Вторая была Сюзанной Тортон. Еще два двойника. Они были даже одеты точно так же, как Джефф и Сюзанна. У Сюзанны кровь, казалось, застыла в жилах. Она, не мигая, смотрела на свое ожившее отражение. Лже-Сюзанна улыбнулась. Сходство было поразительным. Бледный, как мел, Макги посмотрел сначала на своего двойника, затем на Леона Витецкого и спросил: — Что все это значит, черт побери? — Вот это и есть наш запасной вариант, — улыбнулся Витецкий. — Мы разработали его еще в самом начале операции, но, естественно, не посвятили в него вас. Лже-Сюзанна сказала, обращаясь к настоящей Сюзанне: — Чертовски волнующе оказаться в одной комнате со своим оригиналом. Сюзанна была в шоке. — Она и говорит моим голосом! — Ничего удивительного, — проговорил лже-Макги, — мы же работали с записями вашего голоса почти целый год. — Голос его звучал точно так же, как голос настоящего Макги. Витецкий смотрел на двойников с таким выражением, словно он был их создателем. Он явно гордился и не скрывал этого. Затем, обращаясь к настоящему Макги, сказал: — Вас застрелят и утопят, когда корабль выйдет в открытое море. Эти двое отправятся в Штаты вместо вас. И наша Сюзанна приступит к работе в корпорации «Майлстоун». — Он повернулся к Сюзанне и продолжал: — Дорогая моя, нам, конечно, было бы приятнее получить необходимые сведения от вас. Это дало бы нам выигрыш во времени. Но ничего не поделаешь, придется наверстывать упущенное, внедрив нашу Сюзанну в «Майлстоун». Примерно через год мы рассчитываем получить необходимый нам объем информации. А может быть, нам удастся таким путем получить больше сведений, чем мы получили бы от вас. — Витецкий снова обратился к Макги: — Мы рассчитываем, что ваш двойник займет серьезный пост в разведывательных органах, может быть, он подключится к американским разработкам в области контроля за поведением. Таким образом мы получим еще один весьма ценный источник информации. — У вас ничего не выйдет, — сказал Макги. — Да, эти люди говорят нашими голосами, хирурги сделали все возможное, чтобы они были похожи на нас, как близнецы. Но одного вы не в силах сделать — дать им отпечатки наших пальцев. — Совершенно верно, — согласился Витецкий. — Но у нас есть возможность выйти из этого положения. Дело в том, что в США для идентификации отпечатков пальцев существует система, о которой мы прекрасно осведомлены. Американцы называют ее СИСБ — система идентификации для служб безопасности. Она подключена к центральному компьютеру министерства обороны США. Так вот, мы в какой-то момент получили доступ к этой компьютерной системе. Поэтому нам ничего не стоит убрать из системы данные о ваших отпечатках и ввести в нее новые данные на лиц, которых мы собираемся внедрить. В компьютерный век, как видите, стало гораздо проще решать многие проблемы. — Да, похоже, это сработает, — вырвалось у Сюзанны. Ей было страшно при мысли о том, как ее тело сбросят за борт в холодные воды Черного моря. — Конечно, сработает, — потирая руки, произнес Витецкий. — Скажу вам больше, мы собирались проделать этот трюк с двойниками даже в том случае, если бы нам удалось получить от вас всю информацию. — Витецкий допил до дна свое бренди, крякнул от удовольствия и встал из-за стола, поигрывая пистолетом. — Капитан, свяжите-ка руки этим людям. У Голодкина наготове уже была веревка. Он приказал Макги и Сюзанне встать и связал им за спиной руки. — Теперь, — скомандовал Витецкий, — отведите их в другую каюту. — Обратившись к Макги и Сюзанне, он добавил: — Ваши двойники еще навестят вас. Им надо будет расспросить вас о ваших привычках, им ведь необходимо полностью войти в образ. Советую вам говорить правду, в наш вопросник мы включили контрольные вопросы, на которые уже знаем правильные ответы. Если вы начнете врать, у нас есть способы наказать вас за это. Эти люди не пожалеют вас. Сюзанна покосилась на двойника Макги. Он улыбался, но его улыбка ей очень не понравилась. Он был копией Макги во всем, кроме одного — в его глазах не было сочувствия и душевности. Этот человек, кажется, и впрямь был способен на то, чтобы пытать и издеваться над другими людьми. Сюзанна содрогнулась от ужаса. — Теперь я вынужден попрощаться, — сказал Витецкий. — Мне придется остаться на берегу. — Он ехидно сощурился. — Приятного путешествия! Голодкин вывел Сюзанну и Макги в коридор, Витецкий и двойники остались в капитанской каюте. Голодкин молча вел своих пленников по коридору, не реагируя на вопросы Макги. Они спустились еще ниже, в трюм корабля, туда, где находились рефрижераторные секции. Воздух здесь был насквозь пропитан рыбьим запахом. Он завел их в крохотный отсек шириной не больше четырех метров. По стенам были развешаны канаты, несколько бухт было сложено на стеллажах. На полу валялись запасные блоки для корабельных лебедок. Голодкин приказал им усесться на свободную скамью. Связал им ноги, проверил, не ослабли ли узлы на руках. Выходя, он погасил свет, и помещение погрузилось в полную темноту. — Я боюсь, — прошептала Сюзанна. Макги промолчал. Она услышала, что он возится с каким-то предметом, раздался непонятный скрип. — Джефф? Макги не отвечал. Ему, видимо, удалось встать, было слышно, как тяжело он дышит. — Что ты там делаешь? — чуть слышно проговорила Сюзанна. — Т-с-с, — был его ответ. Через мгновение она поняла, что кто-то прикоснулся к ней, и едва не вскрикнула от ужаса, прежде чем поняла, что это сделал Макги. Ему каким-то образом удалось освободить руки, и теперь он пытался развязать узлы за спиной Сюзанны. Освободив ей руки, он приник прямо к ее уху и тихо зашептал: — Вряд ли нас подслушивают, но осторожность никогда не помешает. Голодкин не затянул узлы за моей спиной, он, наоборот, ослабил их. Сюзанна размяла слегка затекшие руки. — Как ты думаешь, он сможет еще чем-нибудь помочь нам? — Вряд ли, — ответил Джефф. — Он и так слишком многим рискует. Нам отныне стоит рассчитывать только на самих себя. У нас просто не будет больше такой возможности. Макги помог ей развязать веревки, стягивающие ноги. Затем он поднялся и начал ощупывать стены в поисках выключателя. Наконец в их каморке зажегся свет. Сюзанна сразу поняла, что он задумал. Поняв, что им предстоит, она содрогнулась. Макги подошел к одной из стен, на которой висели рыболовные снасти, и снял два гарпуна, предназначенных для крупной рыбы. Острые крюки на концах гарпунов ярко отсвечивали даже при слабом свете лампочки. Сюзанна приняла из рук Макги один из них и прошептала: — Я не смогу. — Но у нас нет другого выхода. — О Боже! — Или мы, или они. Сюзанна кивнула. — Ты справишься, я уверен, — сказал он. — Если нам повезет, то и все остальное нам тоже удастся. Я уверен, они не в курсе, что Голодкин запер нас в отсеке, в котором полно оружия. Макги выбрал самое удобное место для нападения и показал Сюзанне, где встать ей. Затем он погасил свет. Они оказались в полном мраке.* * *
Макги услышал какой-то шорох. Он напрягся, прислушался, но затем понял, что это было, и успокоил Сюзанну: — Это всего лишь крыса. Сюзанна не отвечала. — Сюзанна? — Со мной все в порядке, — шепотом отозвалась она. — Крыс я не боюсь. Макги, несмотря на всю серьезность их положения, не мог не улыбнуться. Они замерли в долгом, казавшемся бесконечным ожидании. «Золотая сеть» вздрогнула всем корпусом и завибрировала, это заработал двигатель корабля. Где-то прозвенел корабельный колокол. Двигатель набрал обороты, корабль, видимо, уже отходил от берега. Прошло, вероятно, десять или пятнадцать минут, судно наверняка уже покинуло пределы Батумского порта, когда за дверью послышались чьи-то шаги. Макги приготовился и поднял гарпун. Дверь распахнулась, в отсек упал свет из коридора. Вошли двойники, женщина шла впереди, мужчина сзади. Макги стоял слева от двери. Он сделал шаг вперед, размахнулся и нанес удар по своему двойнику. Удар пришелся по животу, Макги рванул свое страшное оружие, выворачивая внутренности жертвы наизнанку. Двойник рухнул, словно рыба, попавшаяся на крючок. Удар был так неожидан и страшен, что лже-Макги не смог даже позвать на помощь. В руках у лже-Сюзанны был пистолет с глушителем. Она обернулась и выстрелила в Макги. Звука выстрела практически не было слышно. Мимо. Еще выстрел. Макги почувствовал, как пуля обожгла ему руку. Сюзанна выступила вперед и ударила лже-Сюзанну со спины. Из горла женщины хлынула кровь, она выронила из рук оружие. У Макги защемило в груди. Хотя он прекрасно понимал, что перед ним всего лишь копия его любимой, вид ее окровавленного лица, искаженного страшной мукой, потряс его до глубины души. Лже-Сюзанна упала на колени, затем повалилась набок, глаза выкатились из орбит, рот был открыт в крике, который так и не успел вырваться из ее груди. Макги обернулся и посмотрел на своего двойника. Мужчина корчился на полу, зажимая руками вываливающиеся внутренности. Он был в агонии, еще мгновение — и из глаз его ушла жизнь. «Будто присутствуешь на собственной кончине», — горько подумал Макги, глядя на застывшее лицо двойника. Он чувствовал себя совершенно опустошенным. Он никогда не испытывал удовольствия от убийств, хотя всегда был готов защищаться до конца. Но отныне он вряд ли сможет поднять на кого-нибудь руку. Сюзанна отвернулась и пошла в угол отсека. Она припала к стене, ее рвало. Макги прикрыл дверь.* * *
Чуть позже они уже сидели в каюте, предназначенной для их двойников. Сюзанна спросила: — Как ты думаешь, Голодкин знает, кто мы такие — двойники или настоящие? Макги встал, подошел к иллюминатору. — Знает. — Почему ты так уверен в этом? — Он ведь ни разу не обратился к тебе — он знает, что ты не можешь ответить ему по-русски. — Итак, мы отправляемся теперь в Штаты и начинаем снабжать русских дезинформацией. А они считают, что их верные агенты шлют им бесценные сообщения. Так? — Да, — усмехнулся Джефф. — Но это может произойти только в том случае, если мы каким-то чудом узнаем, какие каналы передачи информации собирались использовать наши двойники. Они помолчали. Макги не мог оторвать глаз от погружающегося в ночной мрак моря. Сюзанна вглядывалась в свои ладони, проверяя, не осталось ли на них следов крови. Затем она сказала: — Там в бутылке бренди, которую оставил Голодкин, еще есть что-нибудь? — Да, немного. — Мне надо выпить глоток. — Я налью тебе два.* * *
…Они плыли на корабле. Уже рассветало. Сюзанна проснулась оттого, что в горле у нее замер душащий ее крик. Макги включил лампу. Некоторое время Сюзанна не могла понять, где она находится. Поняв, она все равно не могла прийти в себя, так как сон ее все еще был с ней, а она уже знала, что сны зачастую оборачиваются явью. Джефф присел к ней на кровать и попытался успокоить. — Ну же, Сюзанна, все в порядке. Все хорошо. Мы плывем на корабле, нам уже ничто не грозит. — Неправда, — всхлипнула она. — Что ты имеешь в виду? — Здесь есть команда. — И что с того? — Харш, Куинс, Джеллико и Паркер. Они все в этой команде. — Нет, нет, — уговаривал он ее. — Просто тебе это приснилось. — Они здесь! — панически вскрикнула она. — Нет, нет, спектакль окончен, — погладил ее Макги. — Он уже больше никогда не возобновится. — Но они здесь! Он был не в силах переубедить ее. Пришлось одеться и идти на палубу, где команда судна уже начинала готовить снасти для рыбной ловли. Они обошли также все помещения на корабле. Только после того, как Сюзанна вгляделась в лицо каждого матроса, ей стало легче, она поверила, что ни Харша, ни его компаньонов на борту нет.* * *
Завтракали они у себя в каюте, чтобы не ставить в неловкое положение Голодкина, который не мог обращаться к Сюзанне по-русски. Сюзанна спросила: — Где им удалось отыскать двойников для Харша и его дружков? — Советская агентура в Штатах раздобыла фотографии Харша и остальных. Это были газетные фотографии, а также фото из архивов колледжа, — объяснил Макги. — Затем были отобраны несколько русских, имевших с ними небольшое сходство. Для того чтобы дополнить это сходство, им сделали пластические операции. Кроме того, применялся грим. — Но глаза Харша… — Это были специальные контактные линзы. — Как в кино. — Что ты говоришь? — Я говорю, что там тоже много специалистов по спецэффектам. — Да, эти люди поработали на славу. — А труп Джерри Штейна? — Мрачноватая деталь, правда? Сюзанну пробрала дрожь. — Эй, — склонился к ней Макги. — Успокойся. Сюзанну трясло. Он сжал ее в своих объятиях.* * *
…Когда они перебрались на турецкое судно, ей стало легче. Теперь у них была более комфортабельная каюта. Меню также изменилось к лучшему. За завтраком, состоявшим из холодного мяса с сыром, Сюзанна наклонилась к Макги и сказала: — Должно быть, я действительно важная птица для Штатов, если ради моего спасения они готовы были рискнуть своим агентом. — Дело в том… что первоначальный план предусматривал совсем другое, — проговорил Джефф после недолгой паузы. — Вот как! — Первоначально совсем не предполагалось, что я буду вывозить тебя в Штаты. Сюзанна не понимала. Он объяснил: — Предполагалось, что я ликвидирую тебя еще до того, как станет ясно, что программа Уиллауок сработала. Немножко воздуха, попавшего из шприца в вену, и ты умираешь от эмболии головного мозга. Очень просто, как видишь. И на мне нет никаких подозрений. Я бы остался работать на прежнем месте, и Советы остались бы без всякой информации о «Майлстоуне». Сюзанна побледнела. Она отложила вилку в сторону. — Почему же ты не прикончил меня? — Потому что я в тебя влюбился. Она смотрела на него, мигая и ничего не понимая. — Да-да, это так, — наконец сказал он. — В течение тех нескольких недель, когда мы готовили тебя к программе, когда через гипноз внушали тебе, что ты должна пойти в полицейский участок, затем в дом к Шипстатам, я совершенно потерял от тебя голову. Я восхищался твоей волей, твоей силой. Было очень и очень непросто внушить тебе программу, заставить тебя подчиняться. Ты оказалась… крепким орешком. — И ты влюбился в «крепкий орешек»? Он улыбнулся. — Да, можно и так сказать. — И не смог поднять на меня руку? — Нет. — Они же с ума сойдут там, в Штатах, когда увидят что ты вернулся. — Ну и черт с ними.* * *
Два дня спустя Сюзанна опять проснулась ночью в своей комнате в резиденции посла США в Стамбуле и страшно закричала. К ней тут же вбежала служанка. Затем охранник. Затем сам посол и Макги. — Прислуга, — всхлипывала Сюзанна, припав к груди Джеффа. — Прислуга, ей ни в коем случае нельзя доверять. Макги попытался ее успокоить: — Ты же сама видишь, никто из них даже близко не похож на Харша. — Не знаю. Всех я не видела. — Сюзанна, сейчас же три часа ночи, — напомнил охранник. — Я должна увидеть всех, — как раскапризничавшийся ребенок, хныкала Сюзанна. Посол посмотрел на нее, затем на Макги. Затем скомандовал охраннику: — Соберите здесь весь обслуживающий персонал. Ни Харша, ни Куинса, ни Джеллико, ни Паркера среди прислуги посла США в Турции не оказалось. — Простите меня, — сказала Сюзанна. — Ничего, ничего, — успокоил Макги. — Это займет еще немного времени, — пообещала она. — Конечно, конечно. — Может быть, всю оставшуюся жизнь, — добавила она.* * *
Неделю спустя в Вашингтоне, в гостиничном номере, оплаченном американским правительством, Сюзанна впервые легла в постель с Джеффом Макги. Им было хорошо вдвоем. Они подходили друг другу как нельзя лучше. Их движения были плавны, они сразу нашли ритм, устраивающий их обоих. Впервые с того момента, как она покинула Уиллауок, Сюзанна спокойно спала обнаженная рядом с Макги. И никакие сны ей не снились.
ФАНТОМЫ (роман)
Молодая женщина и девочка-подросток, пугливо озираясь, идут по странно тихим улицам маленького городка. Городок мертв. Часть его жителей жестоко убита, часть исчезла без следа. Кто же уничтожил Сноуфилд? Неизвестная болезнь? Отравляющий газ? Банда садистов-маньяков? Или тут действовала некая таинственная и страшная сила, непонятная и глубоко враждебная человеку? О борьбе честных и чистых людей с воплощением Мирового Зла, о конечной победе человеческого разума над силами тьмы и хаоса рассказывает этот фантастический триллер.
Часть I. ЖЕРТВЫ
Объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои.Книга Иова, 4:14
Цивилизованный человеческий дух… не в состоянии избавиться от ощущения что в мире существует нечто сверхъестественное.Томас Maнн. «Доктор Фаустус»
Глава 1
В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ
Где-то в отдалении раздался и мгновенно стих пронзительный вопль. Кричала женщина. Пол Хендерсон, помощник шерифа, оторвался от журнала «Тайм» и насторожился, прислушиваясь. В лучах солнца, настолько ярких, что казалось, они пронзают саму раму окна, медленно кружились пылинки. Тонкая красная секундная стрелка настенных часов беззвучно скользила по циферблату. Единственным звуком в комнате был скрип кресла под Хендерсоном, когда он слегка изменил позу. Сквозь большие окна фасадной стены участка Хендерсону была видна часть Скайлайн-роуд, главной улицы Сноуфилда. В этот послеполуденный час, под золотыми лучами солнца, улица была совершенно пустынной и спокойной. Лишь трепетали листья и слегка раскачивались ветви деревьев под легкими дуновениями ветра. Какое-то время Хендерсон старательно прислушивался, пока наконец сам не засомневался, не померещился ли ему этот крик. «Воображение разыгралось, — решил он. — Мне просто хочется, чтобы хоть что-нибудь произошло». Ему действительно почти хотелось, чтобы это и в самом деле оказался чей-то крик. Его неугомонная, деятельная натура испытывала сейчас какое-то тревожное беспокойство. В межсезонье, с апреля и до конца сентября, он был единственным полицейским, постоянно приписанным к участку в Сноуфилде, и это была не служба, а тоска. Зимой, когда в городок съезжались несколько тысяч лыжников, приходилось возиться с пьяными, разнимать драки, расследовать кражи из номеров в гостиницах, пансионатах и мотелях, где останавливались отдыхающие. Но сейчас, в начале сентября, работали только два небольших мотеля, охотничий домик и гостиница «При свечах». Местные жители были людьми спокойными, и Хендерсон — которому было всего двадцать четыре и который дослуживал лишь самый первый год в должности помощника шерифа — помирал от скуки. Он вздохнул, взглянул на лежавший перед ним на столе журнал — и снова услышал вопль. Как и в первый раз, кричали где-то далеко и звук мгновенно оборвался; но на этот раз вроде бы кричал мужчина. Это был не возглас восторга и даже не крик о помощи; это был вопль ужаса. Нахмурившись, Хендерсон встал и направился к двери, поправляя на ходу кобуру с револьвером, висевшую на правом бедре. Он миновал открывающуюся в обе стороны дверцу в ограждении, отделяющем «стойло» — внутреннюю часть участка — от предбанника для посторонних, и уже почти дошел до выхода, как вдруг услышал позади себя какое-то движение. Этого просто не могло быть. Весь день он просидел в участке в полном одиночестве. В трех камерах, расположенных в тыльной части здания, арестованных не было уже больше недели. Задняя дверь была заперта, других входов в участок не было. Однако, обернувшись, Хендерсон обнаружил, что он здесь уже действительно не один. И вся обуревавшая его скука исчезла в мгновение ока.Глава 2
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
В предзакатный час того воскресного дня, в самом начале сентября, горы были окрашены лишь в два цвета: зеленый и синий. Сосны и ели выглядели так, словно были сделаны из сукна, каким покрывают биллиардные столы. И повсюду лежали холодные голубые и синие тени, с каждой минутой становившиеся все длиннее, все темнее, приобретавшие все более глубокий оттенок. Сидя за рулем своего «понтиака», Дженифер Пэйдж радостно и беззаботно улыбалась при виде красоты этих гор и в предвкушении возвращения домой. Она искренне любила эти края и душой всегда была здесь. Она свернула с трехполосной магистрали, дороги штата, на местное, покрытое черным асфальтом, узкое шоссе. Еще четыре мили непрерывных поворотов, подъем к перевалу — и они будут в Сноуфилде. — Мне здесь так нравится! — проговорила сидевшая рядом ее сестра, четырнадцатилетняя Лиза. — Мне тоже. — А снег когда будет? — Через месяц. Может быть, раньше. Деревья подступили почти вплотную к дороге. «Понтиак» въехал в тоннель, который образовывали смыкавшиеся над асфальтом кроны деревьев, и Дженни включила фары. — Я никогда не видела снег. Только на картинках, — сказала Лиза. — К следующей весне он успеет тебе надоесть. — Только не мне. Никогда. Я всегда мечтала жить в таких краях, где бывает снег. Как ты. Дженни искоса посмотрела на девочку. Даже для сестер они были поразительно похожи друг на друга: одинаковые зеленые глаза, одинаковые рыжеватые волосы, одинаково высокие скулы. — Научишь меня кататься на лыжах? — спросила Лиза. — Ну, голубушка, когда сюда съезжаются лыжники, бывает обычно масса сломанных ног, растянутых мышц, поврежденных спин, порванных связок… Я тогда бываю занята по горло. — Да-а-а… — протянула Лиза, не в силах скрыть свое разочарование. — А потом, зачем учиться у меня, если ты можешь брать уроки у настоящего профессионала? — У профессионала? — Лицо Лизы немного просветлело. — Конечно. Если я его попрошу, Хэнк Андерсон тебя научит. — А кто он такой? — Владелец охотничьего домика, который называется «Сосновая гора». И он инструктор по горным лыжам. Но учит только очень немногих, тех, кто ему правится. — Он твой парень? Дженни улыбнулась, вспомнив, какой была сама, когда ей было четырнадцать лет. В этом возрасте большинство девчонок одержимы мальчиками, прежде всего мальчиками, и ничем больше. — Нет, Хэнк не мой парень. Я его знаю уже два года, с тех самых пор, как приехала в Сноуфилд. Но мы просто хорошие друзья. Они проехали мимо зеленого щита, на котором белыми буквами было написано:«ДО СНОУФИЛДА — 3 МИЛИ»— На спор: здесь наверняка будет много ребят что надо моего возраста. — Сноуфилд не очень большой городок, — предупредила сестру Дженни. — Но, думаю, пару хороших ребят ты здесь найдешь. — Но во время лыжного сезона их же должно тут быть десятки! — Господи, малышка! Не станешь же ты встречаться с приезжими! По крайней мере еще несколько лет тебе это нельзя. — Почему это? — Потому что я так сказала. — Но почему нельзя? — Прежде чем встречаться с каким-нибудь мальчиком, ты должна узнать, откуда он, из какой семьи, что собой представляет. — Ну, я потрясно разбираюсь в людях! — заявила Лиза. — На мое первое впечатление всегда можно положиться целиком и полностью. Можешь обо мне не беспокоиться. Какой-нибудь маньяк-убийца или сумасшедший насильник меня не подцепит. — Надеюсь, — ответила Дженни, притормаживая перед крутым поворотом, — но все-таки встречаться ты будешь только с местными ребятами. Лиза вздохнула и покачала головой, подчеркнуто театрально изображая разочарование и чувство безысходности. — Если ты не заметила, Дженни, то могу сказать: пока тебя не было, я уже вполне созрела и больше не ребенок. — Это я заметила, не беспокойся. Они проехали поворот. Впереди лежал прямой участок дороги, и Дженни снова нажала на газ. — У меня уже даже сиськи есть, — похвасталась Лиза. — На это я тоже обратила внимание, — ответила Дженни, решив не дать сестре вывести себя из равновесия ее подчеркнуто откровенными заявлениями. — Я уже больше не ребенок. — Но ты еще и не взрослая. Ты пока подросток. — Я молодая женщина! — Молодая? Да. Женщина? Еще пет. — Ха! — Послушай. По закону я твоя опекунша. Я несу за тебя ответственность. А кроме того, я твоя сестра и я тебя люблю. И я буду делать то, что, на мой взгляд, будет лучше для тебя же. Я уверена, что лучше. Лиза демонстративно громко вздохнула. — Потому что я тебя люблю, — повторила Дженни. — Значит, ты будешь такая же придира, какой была мама, — бросив на сестру злой взгляд, проговорила Лиза. — Может быть, даже строже, — согласно кивнула Дженни. — Жуть! Дженни искоса посмотрела на Лизу. Девочка глядела в боковое окно машины, и поэтому Дженни видела только ее профиль. Но все-таки по лицу не было заметно, чтобы Лиза сердилась по-настоящему. И губы у нее не были надуты, скорее уж они непроизвольно стремились растянуться в улыбке. «Детям необходимы строгие правила, понимают они это сами или нет, — подумала Дженни. — Дисциплина — это выражение любви и заботы. Главная трудность в том, чтобы не навязывать правила и дисциплину жесткими, грубыми методами». Переводя взгляд снова на дорогу и немного разминая лежащие на руле руки, Дженни проговорила: — Могу сказать, что я разрешу тебе делать. — Что? — Я разрешу тебе самой застегивать туфли. — Ну да?! — Лиза подмигнула ей. — Разрешу принимать ванну в любое время, когда тебе только захочется. Не в силах больше выдерживать позу оскорбленного собственного достоинства, Лиза захихикала: — А есть, если мне захочется, ты мне позволишь? — Безусловно, — широко улыбнулась Дженни. — Я тебе позволю даже убирать за собой по утрам постель. — Ах, какая вольница! — проговорила Лиза. В этот момент девочка казалась даже еще младше, чем была на самом деле. В теннисных туфлях, джинсах и свободной, как носят на Западном побережье, блузке, не в силах сдержать смех, Лиза выглядела сейчас особенно милой, хрупкой, нежной и ужасно беззащитной. — Друзья? — спросила ее Дженни. — Друзья. Дженни была удивлена и обрадована той легкостью, с которой она и Лиза общались друг с другом во время этой долгой поездки на север от Ньюпорт-Бич. Все-таки, несмотря на кровное родство, они были практически незнакомыми, чужими людьми. Дженни была на семнадцать лет старше Лизы — ей уже исполнился тридцать один год. Она уехала из дома, когда Лизе не сравнялось еще и двух лет, за полгода до того как умер их отец. На протяжении всего того времени, что она училась в медицинском колледже, а потом проходила практику в пресвитерианском госпитале при Колумбийском университете в Нью-Йорке, Дженни постоянно приходилось очень много работать, к тому же она была слишком далеко от дома, чтобы более или менее регулярно видеться с матерью и Лизой. Потом, закончив обучение, она вернулась в Калифорнию с намерением открыть собственный кабинет в Сноуфилде. В течение двух последних лет она трудилась изо всех сил, чтобы обзавестись надежной врачебной практикой в самом Сноуфилде и нескольких других таких же небольших городках, разбросанных в горах. Недавно умерла их мать, и только тогда Дженни пожалела о том, что у нее не сложились более близкие отношения с Лизой. Может быть, теперь, когда они остались вдвоем, они смогут как-то восполнить то, что было упущено в прошлом. Узкая дорога шла на подъем, долина с ее тенями и полусумраком осталась уже позади, и, по мере того как «понтиак» забирался все выше, сгущавшиеся сумерки вокруг машины как бы на время отступали. — Такое ощущение, словно уши заложило ватой, — проговорила Лиза, широко зевая, чтобы скомпенсировать разницу в давлении. Они въезжали в крутой поворот, и Дженни притормозила. Дальше, за поворотом, шел еще один длинный, взбирающийся вверх прямой отрезок, и в конце его узкое местное шоссе переходило в Скайлайн-роуд, главную улицу Сноуфилда. Лиза с жадным любопытством всматривалась вперед, через испещренное полосами от разбившихся насекомых ветровое стекло. Городок явно произвел на нее впечатление: — Это вовсе не то, что я ожидала! — А что ты ожидала? — Ну, знаешь, что-нибудь вроде скопления безобразных мотелей с неоновыми вывесками, массу бензоколонок, что-нибудь в этом роде. А тут так симпатично! — У нас очень жесткие правила застройки, — сказала Дженни. — Неоновые вывески запрещены. Пластмассовые щиты и знаки тоже. Никаких кричащих цветов, никаких кафе, которые были бы выстроены в форме кофейника. — Тут здорово, — сказала Лиза, глазея с любопытством по сторонам, пока они медленно ехали по городу. Вся уличная реклама ограничивалась лишь грубо обструганными, выдержанными в деревенском стиле досками, на которых было написано название заведения и то, чем оно занимается. Архитектура была несколько эклектичной — можно было видеть дома, выстроенные в норвежском, швейцарском, баварском, франко-альпийском и итало-альпийском стилях, — но каждое здание было выдержано в стиле, принятом в той или иной горной стране или местности. Широко использовались самые разные строительные материалы и приемы отделки: камень и кирпич, дерево и шифер, проолифенные или искусственно состаренные брусья и доски, цветное и затемненное стекло, оконные рамы с разнообразными вычурными переплетами. Жилые дома, выстроившиеся вдоль дальнего конца Скайлайн-роуд, выставляли напоказ цветочные ящики под окнами, балконы и парадные крылечки с перилами, под которыми красовались причудливые решетки. — Очень красиво, — сказала Лиза. Они ехали в гору, в сторону лыжных подъемников, что были установлены в противоположной от въезда части города. — А тут всегда так тихо? — Ну нет, — ответила Дженни. — Зимой тут бывает очень оживленно и… Она не закончила фразу, внезапно поняв, что городок выглядит не просто тихим, но мертвым. Обычно в сентябрьское воскресенье, после обеда, когда на улице тепло и сухо, кто-нибудь из местных жителей обязательно прогуливался бы по вымощенным булыжником тротуарам, кто-нибудь сидел бы на крыльце дома или на одном из балконов, что выходили на Скайлайн-роуд. Приближалась зима, и горожане очень ценили эти последние погожие деньки. Сегодня же, хотя вечер еще только начинался, на балконах, тротуарах, возле домов не было ни одного человека. Даже в тех домах и магазинах, где горел свет, не было никаких признаков жизни. Единственной машиной, движущейся по довольно длинной улице, был «понтиак» Дженни. Она затормозила перед знаком «стоп» возле первого перекрестка. Здесь Скайлайн-роуд пересекала Сент-Мориц-уэй, которая шла на три квартала к востоку и на четыре к западу от главной улицы. Дженни посмотрела в обе стороны, но и там никого не было видно. Следующий квартал вдоль Скайлайн-роуд был тоже совершенно пустынен. Как и следующий за ним. — Странно, — сказала Дженни. — Наверное, по телевизору показывают что-нибудь потрясное, — проговорила Лиза. — Наверное. Они миновали ресторан «Горный вид», стоящий на углу Скайлайн-роуд и Вейл-лэйн. В ресторане горел свет, но внутри — это было отлично видно сквозь большие окна — не было ни души. Местные жители любили заглядывать в «Горный вид» и зимой, и в межсезонье, и потому было очень необычно, чтобы в такое время дня ресторан стоял совершенно пустой. Не видно было даже официанток. Лиза, кажется, уже потеряла интерес к этой противоестественной тишине, хотя она первая обратила на нее внимание. Но сейчас она снова во все глаза смотрела по сторонам и восторгалась зданиями необычной архитектуры. Дженни, однако, не могла поверить, будто все жители городка действительно засели перед телевизорами, как предположила Лиза. Озадаченная, она, нахмурившись, медленно ехала в гору, вглядываясь по дороге в каждое окно. Но нигде не было видно ни малейших признаков жизни. Сноуфилд протянулся вдоль своей идущей снизу вверх главной улицы на шесть кварталов. Дом Дженни находился в центре самого дальнего квартала, с западной стороны Скайлайн-роуд, там, где начинались лыжные подъемники. Это было двухэтажное шале, выстроенное яз камня и дерева, с тремя мансардными окнами с той стороны чердака, которая была обращена к улице. Причудливо изломанная крытая шифером крыша была выкрашена в серый, синий и черный цвета. Дом стоял позади живой изгороди из вечнозеленого кустарника, высотой примерно по грудь взрослого человека, футах[20] в двадцати от мощеного тротуара. На углу, возле входа, был врыт столбик, на котором была табличка: «ДЖЕНИФЕР ПЭЙДЖ, доктор медицины» и стояли часы приема. Дженни припарковала «понтиак» на дорожке перед гаражом. — Отличный домик! — восхитилась Лиза. Это был первый дом, который смогла приобрести Дженни за всю свою жизнь, и она любила его а гордилась им. Оджн только вид этого дома пробуждал в ней самые теплые чувства и действовал успокаивающе, и на какое-то время Дженни позабыла о той странной тишине, что, подобно одеялу, опустилась на весь Сноуфилд и накрыла его. — Ну, он для меня немножечко мал, особенно если учесть, что половину первого этажа занимают мой кабинет и приемная. И принадлежит он в большей мере банку, чем мне. Но у него есть свое лицо, правда? — А то! — подтвердила Лиза. Они вышли из машины, и Дженни обнаружила, что с заходом солнца подул холодный ветер. На ней были джинсы и зеленый свитер с длинными рукавами, тем не менее она задрожала. В горах Сьерры осенью теплые, приятные дни всегда сменялись как бы контрастирующими с ними холодными, даже морозными ночами. Она потянулась, расправляя мышцы, одеревеневшие за время долгой поездки, потом захлопнула дверцу машины. Звук захлопывающейся дверцы эхом отозвался наверху, в горах, и внизу, в городке. И это был единственный звук, раздавшийся в сумеречной тишине. Дженни постояла минуту-другую возле багажника «понтиака», глядя вдоль Скайлайн-роуд в сторону центра Сноуфилда. Все было по-прежнему неподвижно. — Я бы могла здесь жить вечно, — заявила Лиза, обхватывая себя руками от холода, но радостно вглядываясь в открывшийся ее взгляду городок внизу. Дженни прислушалась. Эхо, вызванное хлопком дверцы, растаяло, но на смену ему не возник никакой другой звук. Только легкие, в южную сторону, дуновения ветра. Бывает тишина — и тишина: различные ее разновидности не похожи друг на друга. Скорбная тишина в обитой черным бархатом и устланной толстыми коврами похоронной конторе сильно отличается от мрачной, холодной и жуткой скорбной тишины в спальне вдовы. Дженни казалось очень странным, что царившая в Сноуфилде тишина как будто бы несла на себе отпечаток скорби. Она, однако, не могла понять, чем вызвано у нее такое ощущение, да и откуда оно вообще возникло. Она подумала о той тишине, которая бывает теплой летней ночью и которая на самом деле вовсе не тишина, но причудливое сочетание хлопанья крыльев бьющейся о стекло ночной бабочки, стрекота сверчков и чьих-то шорохов в траве, потрескиваний на веранде и других с трудом различимых звуков. В безмолвной дремоте Сноуфилда тоже было нечто похожее, она рождала ощущение, что где-то рядом идет лихорадочная деятельность — что-то движется, звучат голоса, кто-то с кем-то борется, — но все это происходит на грани и за гранью человеческого восприятия. Однако было в этом безмолвии и нечто большее. Есть ведь еще и особая тишина зимней ночи — тишина глубокая, холодная и бессердечная, но скрывающая в себе ожидание, что по весне все взорвется звуками пробуждающейся, растущей жизни. В этом безмолвии тоже было скрыто ожидание, и оно-то и вселяло в Дженни чувство тревоги. Ей захотелось позвать кого-нибудь, окликнуть: «Кто тут?» Но она не стала этого делать, на ее крик могли выйти соседи, которые сейчас спокойно сидят по своим домам, и тогда она оказалась бы в глупом положении. А врач, который в понедельник на виду у всех повел себя глупо, во вторник лишился бы практики. — …жить здесь вечно, всегда-всегда, — говорила Лиза, все еще не в состоянии прийти в себя от восторга, вызванного красотой этого горного городка. — А тебя ничего… не настораживает? — спросила Дженни. — Что именно? — Тишина. — Что ты, мне она нравится! Здесь так спокойно. Вокруг действительно было спокойно. Ни малейшего признака беды, никаких причин для волнений. «Тогда отчего же мне так чертовски не по себе», — подумала Дженни. Она открыла багажник и достала оттуда вначале один чемодан Лизы, потом другой. Лиза подхватила второй чемодан и полезла в багажник за сумкой с книгами. — Не перегружайся, — сказала Дженни. — Все равно придется еще пару раз сходить. По лужайке они прошли до выложенной камнем дорожки и направились по ней к парадному крыльцу, вокруг которого в янтарно-красных лучах заходящего солнца пролегли уже во все стороны удлиняющиеся тени, чем-то напоминающие расходящиеся лепестки ночного цветка. Дженни открыла входную дверь и вошла в темную прихожую. — Хильда, мы приехали! Никакого ответа. Единственный свет в доме горел в дальнем конце холла, за открытой дверью, что вела на кухню. Дженни поставила чемоданы на пол и включила свет в холле. — Хильда?! — А кто такая эта Хильда? — спросила Лиза, бросая свой чемодан и сумку с книгами. — Моя экономка. Она знала, в котором примерно часу мы должны приехать. Я думала, что она уже накрывает на стол. — Ого, экономка! И она постоянно тут живет? — У нее квартира над гаражом, — ответила Дженни, кладя сумочку и ключи от машины на небольшой столик под огромным зеркалом в бронзовой раме. На Лизу эти слова произвели впечатление. — Ого! А ты что, богатенькая? — Да нет, — засмеялась Дженни. — На самом-то деле экономка мне не по средствам. Но и без нее я тоже не могу обойтись. Недоумевая, почему на кухне горит свет, если Хильды там нет, Дженни направилась туда через холл. Лиза почти вплотную шла за ней следом. — Мненадо строго выдерживать часы приема, да еще выезжать на срочные вызовы на дом в три других городка в здешних горах. Если бы не Хильда, мне пришлось бы питаться одними бутербродами. — Она хорошо готовит? — спросила Лиза. — Великолепно. А десерты так даже слишком хорошо. Кухня была большая, с высоким потолком. В центре нее была устроена рабочая зова — гриль и рабочие столы, — по периметру которой на полке из сверкающей нержавеющей стали стояли, лежали и висели кастрюли, сковородки, черпаки, большие ложки и всевозможные приспособления. Шкафы были сделаны из темного дуба, верхняя часть столов покрыта керамической плиткой. В дальнем углу кухни стояли двойная мойка, большая, двойного размера плита, микроволновая печь и холодильник. Войдя в дверь, Дженни сразу же повернула влево, к секретеру, за которым Хильда составляла меню и списки того, что необходимо будет купить. Именно здесь она должна была оставить им записку. Но никакой записки тут не оказалось, и Дженни уже направилась обратно, когда вдруг услышала потрясенное «Ах!» Лизы. Девочка прошла к дальнему углу центральной рабочей зоны и сейчас стояла возле холодильника, уставившись на что-то, что лежало на полу около мойки. Лицо у нее было мертвенно-бледным, ее всю трясло. Почувствовав вдруг прилив необъяснимого ужаса, Дженни быстро обогнула центральную часть кухни и подошла к сестре. На полу на спине лежала Хильда Бек. Она была мертва. Ничего не видящими глазами она уставилась в потолок, а между сведенных судорогой губ был зажат кончик языка, сейчас уже обескровленного и обесцветившегося. Лиза оторвала взгляд от мертвой женщины, перевела его на Дженни, попыталась что-то сказать, но не смогла произнести ни звука. Дженни схватила сестру под руку и оттащила ее в противоположную часть кухни, откуда труп не был виден. Там она обняла Лизу. Лиза тоже обняла ее и прижалась к ней. Крепко. Изо всех сил. — Как ты себя чувствуешь, малышка? Лиза ничего не ответила. Ее продолжало трясти. Всего лишь шесть недель тому назад, в Ньюпорт-Бич, вернувшись как-то в начале вечера из кино домой, Лиза вот так же обнаружила в кухне на полу свою мать, умершую от массированного кровоизлияния в мозг. Для девочки рухнул сразу весь мир. Она никогда не знала отца, скончавшегося, когда ей было всего два года, и поэтому всегда была необычайно близка с матерью. Утрата глубоко потрясла ее, на какое-то время ввергла в депрессию и вытеснила из ее сознания все остальное. Постепенно, однако, Лиза примирилась со смертью матери, научилась снова улыбаться и смеяться. В последние несколько дней она, кажется, вновь стала самой собой. А теперь вот это. Дженни отвела девочку к секретеру, усадила ее, а сама присела перед ней на корточки. Она вытянула бумажную салфетку из стоявшей на столе пачки «клинекса» и промокнула выступивший у сестры на лбу холодный пот. Лиза была не только мертвенно-бледна, но и холодна, как лед. — Что сделать, сестричка? — Н-и-ничего, сейчас все пройдет, — дрожащим голосом ответила Лиза. Они взялись за руки. Хватка Лизы была сильной, почти до боли. Спустя какое-то время она проговорила: — Мне показалось… Когда я увидела ее здесь… вот так, на полу… мне показалось… смешно, но показалось… будто это мама. — Глаза у Лизы были полны слез, но она не давала себе расплакаться. — Я з-з-знаю, что мама умерла. И эта женщина на нее даже не похожа. Но это было… так неожиданно… так страшно… я так растерялась. Они продолжали держать друг друга за руки, и постепенно судорожная хватка Лизы ослабевала. Через некоторое время Дженни спросила ее: — Тебе лучше? — Да. Немного. — Хочешь прилечь? — Нет, — она отпустила руку Дженни, чтобы вытащить салфетку из коробки «клинекса», вытерла нос и посмотрела в ту сторону, где лежало тело. — Это Хильда? — Да, — ответила Дженни. — Как жалко… Дженни очень любила Хильду Бек и в глубине души была потрясена ее смертью. Но в этот момент больше всего на свете ее волновала Лиза. — Сестричка, думаю, будет лучше всего, если ты отсюда уйдешь. Посиди пока в моем кабинете, ладно? А я тем временем осмотрю тело. А потом надо будет вызвать шерифа и коронера. — Я побуду здесь с тобой. — Будет лучше, если… — Нет! — воскликнула Лиза, и ее снова затрясло. — Я не хочу быть одна. — Ну ладно, — успокаивающим тоном сказала Дженни. — Посиди здесь. — Господи… — со страхом проговорила Лиза. — Как она выглядит… вся раздувшаяся… черно-синяя: А какое у нее выражение на лице. — Лиза вытерла глаза тыльной стороной ладони. — Почему она вся черная и так раздулась? — Ну, она явно умерла уже несколько дней назад, — ответила Дженни. — Но, знаешь что, тебе сейчас лучше не думать о таких вещах… — Если она умерла уже несколько дней назад, — дрожащим голосом спросила Лиза, — то почему же здесь не воняет? Тут ведь должно вонять, верно? Дженни нахмурилась. Конечно, здесь должно было вонять, если Хильда Бек умерла так давно, что тело ее успело уже потемнеть и раздуться. Здесь обязательно должно было вонять. Но никакого запаха не было. — Дженни, что с ней произошло? — Я еще не знаю. — Я боюсь. — Не бойся. Сейчас уже нечего бояться. — Какое у нее выражение на лице, — проговорила Лиза. — Просто ужасное. — Как бы она ни умерла, это должна была быть быстрая смерть. Непохоже, чтобы она мучилась пли с кем-то боролась. И ей, судя по всему, было не очень больно. — Но… впечатление такое, словно в момент смерти она кричала.
Глава 3
МЕРТВАЯ ЖЕНЩИНА
Дженни Пэйдж никогда не видела трупа, хотя бы отдаленно похожего на тот, что лежал сейчас перед ее глазами. Ни учеба в колледже, ни ее собственная врачебная практика не подготовили ее к встрече с таким феноменом, какой представляло собой тело Хильды Бек. Дженни опустилась рядом с трупом на корточки и принялась рассматривать его, испытывая одновременно грусть, отвращение и любопытство. И чем дольше она изучала его, тем сильнее становилось ее любопытство и тем быстрее росло изумление. Лицо мертвой женщины раздулось; круглое, гладкое, даже как будто блестящее, оно напоминало сейчас карикатуру на то, какой была Хильда Бек при жизни. Тело тоже вздулось, туго натянув в некоторых местах швы серо-желтого домашнего платья, в котором она обычно хлопотала по хозяйству. Там, где были видны отдельные участки тела — на шее, на кистях и в нижней части рук, на икрах ног и коленях, — ткани казались мягкими и внешне естественными для пролежавшего несколько дней трупа. Складывалось, однако, впечатление, что это вздутие не было следствием обычного при начинающемся распаде обильного выделения газов. Во-первых, живот должен был быть уже наполнен газом и раздут гораздо сильнее, чем остальные части тела; он, однако, вздулся очень умеренно. А кроме того, отсутствовал характерный трупный запах. При более близком и внимательном осмотре складывалось также впечатление, что и кожа — темная, покрытая крапинками — стала такой не в результате распада тканей. Дженни не могла обнаружить никаких явных, зримых признаков начавшегося разложения: не было ни повреждений, ни волдырей, ни вскрывшихся гнойников. Признаки физического распада и разложения обычно быстрее всего проявляются на глазах трупа, потому что они состоят из относительно мягких тканей. Но широко раскрытые, смотрящие вверх глаза Хильды Бек были в безупречном состоянии. Белки были совершенно чистыми, не пожелтевшими и не обесцвеченными из-за разрыва кровеносных сосудов. Зрачки тоже были абсолютно ясными и сохраняли теплый голубой цвет, на них не было даже обычной посмертной мутной пленки. При жизни глаза Хильды всегда лучились добротой и жизнелюбием. Это была седая шестидесятидвухлетняя женщина с очень милым и приятным лицом, всем своим обликом и манерами напоминавшая добрую бабушку. Говорила она с легким немецким акцентом, голос у нее был удивительно мягкий и певучий. Прибираясь в доме или готовя что-нибудь на кухне, она часто напевала; и она умела находить радость и удовольствие в самых простых вещах. Дженни почувствовала вдруг острый приступ горя и скорби и поняла, как будет ей не хватать Хильды. Она закрыла глаза и посидела так некоторое время, не в силах смотреть на труп. Потом взяла себя в руки, подавила уже готовые было пролиться слезы. Наконец, восстановив в себе способность к профессиональной отстраненности, она открыла глаза и продолжила осмотр. Чем дольше смотрела она на тело, тем больше складывалось у нее впечатление, будто вся кожа трупа покрыта синяками и кровоподтеками. Об этом свидетельствовал цвет кожи: местами она была черпая, местами синяя или темно-желтая, причем цвета эти переходили один в другой. Но и таких ушибов Дженни тоже не доводилось видеть. Насколько она могла судить, ушиблено было все тело; не было пи одного кусочка кожи, на котором не было бы синяков. Дженни осторожно взялась за рукав платья и подняла его вдоль вздувшейся руки настолько, насколько это удалось. Но и под рукавом поверхность кожи была точно такой же, и Дженни стала подозревать, что, видимо, все тело представляло собой один невообразимый синяк. Она еще раз посмотрела на лицо миссис Бек. И здесь тоже вся поверхность кожи была в кровоподтеках. Бывает, жертвы серьезных автомобильных катастроф получают такие повреждения, в результате которых у них тоже почти все лицо оказывается сплошным кровоподтеком; но это всегда сопровождается более тяжелыми травмами — переломом носа, челюсти, разрывом губ… Как же получилось, что при столь страшных синяках у миссис Бек нет никаких других, более серьезных ранений? — Дженни? — окликнула се Лиза. — Почему ты так долго? — Я уже скоро. Посиди пока там. Тогда… возможно, ушибы, покрывающие тело миссис Бек, не были результатом каких-то внешних ударов? Могло ли получаться так, что этот странный цвет кожи был вызвал не ушибами, а давлением изнутри тела, отеком подкожных тканей? В конце концов, такой отек очевиден. Однако, чтобы вызвать подобные синяки, он должен был произойти мгновенно и с огромной силой. Но, черт возьми, это же невозможно! Живая ткань не может вспухнуть с такой скоростью. Конечно, при некоторых аллергиях бывает быстрый отек, это их симптом; самый тяжелый отек такого рода бывает при сильной аллергической реакции на пенициллин. Однако Дженни не знала ничего, что могло бы вызвать столь внезапный и мощный отек тканей, результатом которого стало бы превращение всего тела в один огромный, ужасающий синяк. И даже если тот стек, который она видела, не был обычным, простым, классическим посмертным вздутием — а Дженни была уверена, что он им не был, — и если он был причиной синяков и кровоподтеков, то что же, о Господи, могло послужить причиной самого этого отека? Аллергическую реакцию Дженни исключала. Если причиной был яд, то наверняка какой-то очень экзотический. Но каким образом столь необычный яд мог попасть к Хильде? Врагов у нее не было. Сама мысль о том, что кто-то захочет ее убить, казалась абсурдом. И если ребенок еще мог бы потащить что-то незнакомое в рот, чтобы попробовать его на вкус, то Хильда подобной глупости наверняка бы не сделала. Нет, это был не яд. Болезнь? Но если это действительно была болезнь, бактериальная или вирусная, то она была совершенно непохожа на все то, чему учили Дженни. А что, если она окажется заразной? — Дженни? — позвала Лиза. Болезнь. Испытывая чувство облегчения от того, что она не прикасалась непосредственно к телу, и запоздало сожалея о том, что все-таки дотронулась до рукава платья, Дженни тяжело поднялась, покачнулась на слегка затекших ногах и, сохраняя равновесие, отступила на шаг от трупа. По всему ее телу пробежали холодные мурашки. Только сейчас она обратила внимание на то, что лежало на разделочной доске рядом с мойкой. Там были четыре крупные картофелины, кочан капусты, несколько морковок, нож для чистки овощей и длинный нож для резки. В тот момент, когда ее настигла смерть, Хильда была занята готовкой. Все произошло совершенно внезапно. Бах! — и конец. Совершенно очевидно, что она не была больна и вообще не предчувствовала ничего подобного. Ежу ясно, что болезнь не могла быть причиной столь внезапной смерти. Какая болезнь приводит к смерти без того, чтобы предварительно пройти через стадии заражения, плохого самочувствия, постепенного упадка сил и физического увядания? Никакая. Ни одна из тех, что известны современной медицине. — Дженни, давай уйдем отсюда, — попросила Лиза. — Тихо! Погоди минутку. Дай мне подумать, — ответила Дженни, облокачиваясь на стол и продолжая рассматривать мертвую женщину. Где-то в глубине сознания у Дженни шевелилась еще не определившаяся, но уже пугающая мысль: чума. Бубонная и некоторые другие разновидности чумы иногда встречались в Калифорнии и на Юго-Западе. За последние годы было около полудюжины сообщений о таких случаях. Теперь, однако, редко кто умирал от чумы: она излечивалась стрептомицином, хлорамфениколом или любым из тетрациклинов. Для некоторых разновидностей чумы характерно появление сыпи: маленьких красных зудящих точек на коже. При очень тяжелых формах болезни сыпь бывает почти черной и распространяется чуть не по всему телу: во времена средневековья эту болезнь так и называли — «черная смерть». Но может ли сыпь выступить в таком количестве, чтобы все тело почернело полностью, как у Хильды? А кроме того, Хильда умерла внезапно, в тот момент, когда занималась готовкой; у нее не было ни рвоты, ни лихорадки, пи недержания — а это исключало чуму. Это исключало вообще любую из известных инфекционных болезней. Но не было и никаких явных признаков того, что на Хильду Бек было совершено нападение. Ни кровоточащих огнестрельных ран. Ни ран от холодного оружия. Никаких признаков того, что экономку забили насмерть или задушили. Дженни обошла вокруг тела и подошла к мойке. Она дотронулась до капусты и с удивлением обнаружила, что кочан еще холодный. Он пролежал на разделочной доске не больше часа. Отвернувшись от стола, Дженни снова посмотрела на тело Хильды, но теперь уже с ужасом. Эта женщина умерла не больше часа тому назад. Если дотронуться до ее тела, то оно еще, наверное, теплое. Но что же ее убило? Сейчас Дженни оказалась не ближе к ответу, чем тогда, когда только начинала осмотр. И хотя болезнь вряд ли могла быть причиной этой смерти, полностью исключить такую возможность Дженни не могла. Мысль, что это окажется нечто очень заразное, пугала ее. Стараясь не показать своей озабоченности Лизе, Дженни проговорила: — Пойдем, голубушка. Я позвоню из своего кабинета. — Ничего, мне уже лучше, — ответила Лиза, но сразу же поднялась, явно желая как можно быстрее уйти из кухни. Дженни обняла сестру, и они вышли. Во всем доме стояла какая-то неземная тишина. Она была столь глубокой, что даже шорох шагов сестер по ковру по контрасту с ней казался громом. Кабинет Дженни, хотя его и освещали установленные на потолке люминесцентные лампы, оказался вовсе не таким холодным и обезличенным, какие предпочитают большинство из современных врачей. Наоборот, он был выдержан в старомодном стиле кабинета сельского доктора и как будто сошел с картин Нормана Роквелла, репродукции с которых печатает «Сэтердей ивнинг пост». Книжные полки были до отказа забиты литературой и медицинскими журналами. Вдоль стен стояли шесть старинных деревянных шкафов для историй болезни; в свое время Дженни удалось купить их на аукционе по очень сходной цене. На стенах были развешаны ее дипломы, анатомические схемы и две большие акварели с видами Сноуфилда. Рядом с запертым шкафом для лекарств стояли аптекарские весы, около них, на небольшом столике — коробка с дешевыми игрушками — маленькими пластмассовыми машинками, солдатиками, куколками — и с жевательной резинкой без сахара; все это раздавали в качестве наград, а иногда и взяток тем детям, которые не ревели со время осмотра. Главной вещью в кабинете был громоздкий темный, местами поцарапанный сосновый письменный стол. Дженни подвела сюда Лизу и усадила се в стоявшее возле стола большое кожаное кресло. — Извини меня, — сказала девочка. — Извинить? — удивилась Дженни, садясь на край стола и придвигая к себе телефон. — Извини, что я расклеилась. Но когда я увидела… это тело… я… ну… со мной приключилась истерика. — Никакой истерики у тебя не было. Ты была просто потрясена и напугана, что совершенно естественно. — Но ты же не была пи потрясена, ни испугана. — Я тоже была, — сказала Дженни. — И не просто потрясена: ошеломлена. — Но ты ведь не перепугалась так, как я. — Перепугалась. Я и сейчас еще боюсь. — Немного поколебавшись, Дженни решила, что не должна все-таки скрывать от сестры правду, и рассказала ей о возможности заражения чем-то неизвестным. — Я не думаю, что это и вправду какая-то болезнь. Но я могу и ошибаться. А если я ошибаюсь… Девочка смотрела на Дженни широко раскрытыми от удивления глазами. — Ты перепугалась так же, как я, но ты просидела там столько времени, осматривая тело! Господи, я бы так не могла. Только не я. Никогда. — Ну, голубушка, я же врач. Меня ведь этому учили. — Все равно… — Ни капельки ты не расклеилась, — заверила ее Дженни. Лиза согласно кивнула, но было видно, что слова сестры не убедили ее. Дженни подняла трубку телефона, намереваясь позвонить вначале в полицейский участок Сноуфилда, а потом коронеру в Санта-Миру, главный город их округа. Гудка не было, в трубке слышался только слабый свистящий шорох. Она постучала по рычагу, но линия по-прежнему молчала. В том, что телефон вышел из строя именно тогда, когда на кухне лежала мертвая женщина, было нечто зловещее. В конце концов, возможно, что миссис Бек действительно убили. Если кто-то перерезал телефонную линию, пробрался в дом, если он тихо и осторожно подкрался к Хильде… ну… он мог бы ударить ее в спину длинным ножом, который вошел бы достаточно глубоко, попал ей в сердце, и тогда наступила бы мгновенная смерть. В этом случае рана оказалась бы не видна, если только не перевернуть труп со спины на живот. Но тогда не ясно, почему совсем нет крови. Не ясно, почему опухли внутренние ткани и откуда взялся этот сплошной кровоподтек. Но все-таки на спине у экономки могла быть рана, а поскольку она умерла не больше часа тому назад, то вполне возможно, что убийца — если это действительно убийца — еще находится где-нибудь здесь, в доме. «Кажется, у меня просто разыгрывается воображение», — подумала Дженни. Но все же она решила, что ей и Лизе лучше всего сейчас же уйти из дома. — Придется сходить к соседям, к Винсу и Энджи Сантини, и попросить разрешения позвонить от них, — спокойно сказала Дженни, поднимаясь с краешка стола. — Наш телефон не работает. Лиза удивленно замигала. — А это как-нибудь связано с тем… с тем, что произошло? — Не знаю, — ответила Дженни. Она направилась к полуприкрытой двери кабинета, сердце ее при этом колотилось вовсю: она думала о том, не притаился ли кто-нибудь по другую сторону двери. — Но если телефон испортился именно сейчас… это ведь несколько странно, верно? — проговорила Лиза, идя вслед за Дженни. — Пожалуй. Дженни почти ожидала увидеть за дверью какого-нибудь высоченного незнакомца с ножом и со зловещей ухмылкой на лице. Одного из тех ненормальных, которых в наше время, кажется, развелось в изобилии. Какого-нибудь очередного Джека-Потрошителя, чьи кровавые дела заполняют программы телевизионных новостей. Прежде чем рискнуть выйти в холл, она выглянула туда, готовая отпрыгнуть назад и захлопнуть дверь, если кого-нибудь увидит. Но там никого не было. Взглянув краем глаза на Лизу, Дженни увидела, что девочка все поняла. Они быстро прошли через холл к входной двери. Когда они поравнялись с лестницей, ведущей на второй этаж, нервы Дженни были напряжены до предела. Убийца — а он вряд ли на самом деле существует, отчаянно успокаивала она себя, — мог притаиться на лестнице, и тогда ему были бы хорошо слышны их шаги. Он мог броситься на них сверху, сзади, когда они проходили мимо него к двери. Броситься, высоко подняв руку с зажатым в ней ножом… Но на лестнице никто их не подкарауливал. И в холле тоже. И на крыльце. На улице уже сгустились сумерки, быстро переходившие в ночь. Свет солнца еще был багряным, но отовсюду, откуда оно уже ушло, из десятков тысяч укромных местечек протянулись тени, похожие на целую армию зомби. Через десять минут станет совсем темно.Глава 4
В ДОМЕ СОСЕДЕЙ
Дом супругов Сантини, из камня и калифорнийской секвойи, был построен по более современному проекту, чем дом Дженни. Все углы в нем были закруглены, поверхностей, пересекающихся под острым углом, не было вовсе. Он стоял на фоне высоких сосен, словно вырастая из каменистого грунта и вписываясь своими очертаниями в склон горы, и впечатление было такое, будто этот дом не построен, но возник здесь каким-то естественным образом. В нескольких комнатах первого этажа горел свет. Входная дверь была приоткрыта. Из дома доносилась классическая музыка. Дженни позвонила и отошла на несколько шагов от двери, туда, где стояла Лиза. Она считала, что им не следует подходить слишком близко к супругам Сантини: вполне возможно, что они уже заразились чем-то, просто побывав в той самой кухне, где лежит труп миссис Бек. — Лучших соседей и пожелать невозможно, — сказала она Лизе, мечтая, чтобы рассосался и исчез тот твердый и холодный комок, который она ощущала внутри себя. — Прекрасные люди. На их звонок никто не вышел. Дженни подошла к двери, снова нажала кнопку звонка и отступила назад к Лизе. — У них в городе два магазина: сувениров и лыжных принадлежностей. Музыка играла, то немного затихая, то становясь громче. Это был Бетховен. — Наверное, никого нет дома, — проговорила Лиза. — Кто-то там должен быть. Музыка, свет горит… Внезапный и резкий порыв ветра вдруг закрутился вихрем под крышей крыльца, и порожденные им звуки слились с нотами Бетховена, превратив прекрасную музыку в неприятный дисгармоничный шум. Дженни распахнула дверь до отказа. Молочный люминесцентный свет лился через открытую дверь кабинета в холл с дубовыми паркетными полами и освещал небольшое пространство возле двери гостиной, в остальном погруженной во мрак. — Энджи? Винс? — позвала Дженни. Никакого ответа. Только Бетховен. Ветер стих, и разрушенная было музыка снова возродилась в наступившей тишине. Третья симфония, «Героическая». — Эй? Дома кто-нибудь? Прозвучали заключительные аккорды симфонии, и, когда стих последний звук, музыка прекратилась. Стереопроигрыватель явно выключился сам. — Эй? Ничего. Ночь за спиной у сестер хранила полное молчание, и дом перед ними молчал тоже. — Ты туда не пойдешь, правда? — обеспокоенно спросила Лиза. Дженни посмотрела на девочку. — А в чем дело? Лиза прикусила губу. — Что-то здесь не так. Ты ведь и сама это чувствуешь, верно? Немного поколебавшись, Дженни неохотно призналась: — Да. Чувствую. — Такое ощущение… словно мы здесь одни… только ты и я… и в то же время… не одни. У Дженни действительно было очень странное чувство, что за ними наблюдают. Она обернулась и внимательным, изучающим взглядом обвела лужайку и кусты, уже почти полностью погруженные во тьму. Потом посмотрела на окна. Свет горел только в кабинете, все остальные окна были закрыты и темны, их стекла слегка поблескивали. В темноте, за этими стеклами, мог скрываться кто угодно. И если он там действительно был, то ему все было видно прекрасно, сам же он оставался невидимым. — Пойдем, пожалуйста, — сказала Лиза. — Пойдем, позовем полицию или еще кого-нибудь. Ну пойдем же! Пожалуйста. Дженни отрицательно покачала головой. — Мы с тобой просто перевозбуждены. И у нас разыгралось воображение. Мне нужно зайти посмотреть, вдруг там кто-нибудь ранен — Энджи, Винс или кто-нибудь из ребят… — Не надо! — Лиза схватила Дженни за руку, пытаясь ее не пустить. — Я врач. Я обязана помочь. — Но если ты подхватила от миссис Бек микроб или что-нибудь еще, ты можешь их всех заразить. Ты же сама так сказала. — А что, если они умирают сейчас от того же, от чего умерла Хильда? Что тогда? Может быть, им нужна медицинская помощь. — Мне кажется, что это не болезнь, — мрачно сказала Лиза, выражая вслух мысли и самой Дженни. — Это нечто худшее. — Что может быть хуже? — Не знаю. Но… я это чувствую. Нечто гораздо худшее. Снова поднялся ветер и зашумел в кустах возле крыльца. — Ну ладно, — сказала Дженни. — Ты подожди здесь, а я пойду и взгляну на… — Нет, — мгновенно возразила Лиза. — Если ты пойдешь, то и я с тобой. — Голубушка, не считай, что ты расклеиваешься, если ты… — Я с тобой, — повторила девочка, отпуская руку Дженни. — Пошли. Они вошли в дом. Остановившись в холле, Дженни посмотрела через открытую дверь влево. — Винс? Две лампы освещали теплым золотистым светом каждый уголок в кабинете Винса Сантини, но в комнате никого не было. — Энджи? Винс? Есть тут кто-нибудь? Ни один звук не нарушал сверхъестественную тишину, однако сама темнота казалась какой-то настороженной, присматривающейся, выжидающей — словно она была громадным притаившимся зверем. Гостиная справа от Дженни была погружена в непроницаемый мрак. С противоположной стороны гостиной узкие полоски света проникали сквозь щели неплотно прикрытых дверей, ведущих в другие комнаты, но этот слабый свет не мог рассеять глубокую темноту, царившую по эту сторону дверей. Дженни нащупала на стене выключатель и включила свет. Гостиная была пуста. — Вот видишь, — сказала Лиза, — никого нет дома. — Пойдем посмотрим в столовой. Они пересекли гостиную, обставленную удобными бежевыми диванами и элегантными изумрудно-зелеными креслами в стиле королевы Анны, с широкими, напоминающими крылья подлокотниками. В углу, возле стены, не бросаясь в глаза, стоял музыкальный центр с проигрывателем и магнитофоном. Отсюда-то и доносилась музыка, которую они слышали: хозяева ушли, оставив стереосистему включенной. Дженни открыла двойные двери, ведущие в столовую; они слегка скрипнули. В столовой тоже никого не было, однако горела люстра, освещая необычную сцену. Стол был накрыт к раннему воскресному ужину: лежали четыре большие салфетки, на которых стояли четыре большие мелкие тарелки. Рядом с ними стояли четыре тарелки поменьше, для салата; три из них были абсолютно чистые и блестели, на четвертой лежала порция салата. Около каждого прибора лежали металлические нож и вилка; стояли четыре стакана — два из них были наполнены молоком, один водой, а в четвертом была жидкость янтарного цвета, по-видимому, яблочный сок. В воде и соке плавали лишь чуть-чуть подтаявшие кубики льда. В центре стола стояло то, что было приготовлено на ужин: большая миска с салатом, блюдо с окороком, керамический горшок с запеченным в нем картофелем и большое блюдо с морковью и зеленым горошком. За исключением миски с салатом, все остальные блюда были нетронуты. Окорок уже остыл. Запеченная сырная корочка поверх картофеля была цела, и когда Дженни приложила к горшку руку, то почувствовала, что он еще почти горячий. Все эти блюда поставили на стол не больше часа тому назад; возможно, даже не больше получаса. — Похоже, они все уходили отсюда в дикой спешке, — сказала Лиза. — Такое впечатление, что их забрали отсюда вопреки их воле, — проговорила, нахмурившись, Дженни. Некоторые детали обращали на себя внимание. Например, опрокинутый стул. Он лежал на боку, в нескольких футах от стола. Другие стулья стояли совершенно нормально, но на полу возле одного из них лежали большая раздаточная ложка и двузубая вилка для мяса. На полу, в углу комнаты, валялась смятая в комок салфетка, причем впечатление было такое, что ее не просто уронили, но отшвырнули в сторону. На самом столе была опрокинута солонка. Все это были мелочи. Ничего особенного. И ничего определенного. Тем не менее Дженни испытывала беспокойство. — Забрали вопреки их воле? — удивленно переспросила Лиза. — Возможно. — Дженни по-прежнему говорила тихо, как и ее сестра. У нее все еще было неприятное ощущение, что рядом с ними постоянно кто-то есть, что он прячется, наблюдая за ними или по меньшей мере подслушивая. «Ты становишься параноиком», — предупредила она себя. — Никогда не слышала о том, чтобы похищали сразу целую семью, — сказала Лиза. — Н-ну… может быть, я не права. Возможно, кто-то из детей внезапно почувствовал себя плохо и они все уехали в Санта-Миру, в больницу. Или что-нибудь еще в этом роде. Лиза еще раз внимательно осмотрела комнату, прислушалась к стоявшей в доме могильной тишине и почесала голову. — Нет, я так не думаю. — Да и я тоже так не думаю, — призналась Дженни. Лиза медленно обошла вокруг стола, внимательно разглядывая его, словно ожидала найти где-нибудь оставленное семейством Сантини секретное послание. Страх, который она испытывала раньше, теперь явно уступал место любопытству. — А знаешь, — проговорила она, — мне все это немного напоминает те странные вещи, о которых я читала в одной книжке. Кажется, она называлась «Бермудский треугольник» или что-то в этом роде. Там говорилось о большом парусном судне «Мария Селеста»… Это было в 1870 году или около того… Так вот, «Марию Селесту» обнаружили, когда она дрейфовала в Атлантике, и там тоже стол был накрыт к обеду, но вся команда исчезла. Судно не было повреждено штормом, в нем не было течи или каких-либо других неисправностей. У команды явно не было никаких причин покидать судно. А кроме того, все спасательные шлюпки были на борту. Горели сигнальные фонари, были нормально подняты нужные паруса, и стол, как я уже сказала, был накрыт. В общем, все было так, как должно было быть, но только все люди с корабля, до последнего человека, куда-то исчезли. Это одна из самых больших загадок на море. — Ну, я уверена, что в этом-то случае никаких загадок нет, — возразила Дженни, но как-то неуверенно. — Не сгинули же Сантини навечно! Обойдя половину стола, Лиза вдруг остановилась, глаза у нее широко раскрылись и заморгали: — А если их и вправду забрали отсюда против их воли, это может быть как-то связано со смертью твоей экономки? — Возможно. Мы пока слишком мало знаем, чтобы что-нибудь утверждать. Еще более тихим голосом, чем раньше, Лиза спросила: — А тебе не кажется, что нам надо было бы найти пистолет или что-либо еще, что стреляет? — Да нет! — Дженни снова посмотрела на остывающую пищу, на рассыпанную соль, на перевернутый стул и отвернулась от стола. — Пойдем, дорогая. — Куда? — Посмотрим, работает ли телефон. Они прошли через дверь, соединявшую столовую с кухней, и Дженни зажгла свет. Телефон висел на стене около мойки. Дженни подняла трубку, послушала, постучала по рычагу, но гудка не было. На этот раз, однако, линия не была совсем мертвой, как в ее собственном телефоне. Здесь были слышны легкий свист и шипение и казалось, что соединение есть, отсутствовал только гудок. Внизу под телефоном была приклеена бумажка с номерами пожарной части и шерифа, однако линия не соединяла. Дженни уже собиралась было повесить трубку, как вдруг ей показалось, что кто-то на другом конце линии слушает ее. — Алло? — сказала она в трубку. Но там раздавалось только отдаленное шипение, чем-то похожее на то, как шипит яичница на сковородке. — Алло? — повторила она. Тот же самый отдаленный звук; его еще называют «белым шумом». Дженни постаралась убедить себя в том, что звук, который она слышит, — это всего лишь обычный звук молчащей телефонной линии. И все-таки ей продолжало казаться, что кто-то вслушивается на другом конце линии в ее молчание точно так же, как она. Чепуха какая-то. Чепуха или нет, но по шее у нее побежали мурашки, и Дженни поспешно положила трубку. — В таком маленьком городке полицейский участок должен быть где-нибудь недалеко, — то ли спросила, то ли сказала Лиза. — В двух кварталах отсюда. — Почему бы нам туда не сходить? Дженни намеревалась вначале осмотреть весь дом, чтобы убедиться, что члены семьи Сантини не лежат в других комнатах больные или раненые. Но теперь она задумалась: если кто-то действительно подслушивал ее по телефону, он вполне мог слушать по параллельной трубке, находящейся где-то в этом же доме. Такая возможность в корне меняла положение. К своим обязанностям врача она относилась очень серьезно. Ей даже нравилась та особая ответственность, с которой была связана ее работа, потому что она принадлежала к числу людей, нуждающихся в постоянном применении своего ума, знаний и способностей. Трудная задача всегда поднимала ей настроение и жизненный тонус. Но сейчас она несла ответственность прежде всего за Лизу, да и за саму себя. Пожалуй, лучше всего будет сходить в полицейский участок, привести сюда Пола Хендерсона, а уже потом вместе с ним осмотреть весь дом полностью. Хоть она и продолжала убеждать себя в том, что у нее просто разгулялось воображение, но она все еще чувствовала на себе чей-то внимательный взгляд: кто-то наблюдал… и выжидал. — Давай сходим, — сказала она Лизе. — Пошли. С явным облегчением девочка первой устремилась назад, через столовую и гостиную, к входной двери. На город уже опустилась ночь. Стало еще прохладнее, чем было в сумерки, а скоро станет просто холодно — температура может упасть до семи-девяти градусов мороза: напоминание о том, что осень в горах Сьерры проходит очень быстро и что зиме не терпится вступить в свои права. Вдоль Скайлайн-роуд автоматически зажглись уличные фонари. В окнах и витринах некоторых магазинов тоже включилось ночное освещение: его включали фотоэлементы, чувствительные к наступлению темноты на улице. Выйдя на тротуар перед домом Сантини, Дженни и Лиза остановились, пораженные открывшейся их взору картиной. Идущий террасами вниз по склону горы городок с его то островерхими, то плоскими крышами был сейчас, ночью, даже еще более красив, чем в сумерки. Из нескольких труб поднимался вверх дым, похожий на размытые привидения. В некоторых окнах ярко горел свет. Большинство же окон были темны и, будто черные зеркала, отражали лучи света, что падали на них от уличных фонарей. Под легкими дуновениями ветра деревья слегка колыхались в ритме колыбельной песни, и возникающий при этом шелест напоминал легкие вздохи и тихое сонное бормотание мирно посапывающих во сне детей. Но внимание к себе приковывала не эта красота. Полная, абсолютная тишина и неподвижность — вот что заставило Дженни остановиться. Когда они только приехали сегодня в городок, ей эта тишина и неподвижность показались странными. Теперь они казались ей зловещими. — Полицейский участок на главной улице, — сказала она Лизе. — В двух с половиной кварталах отсюда. Они торопливо зашагали в центр Сноуфилда, не подающий никаких признаков жизни.Глава 5
ТРИ ПУЛИ
В погруженном во мрак здании полицейского участка горела единственная люминесцентная лампа, но раздвижная штанга, на которой она держалась, круто изгибалась вниз, так что свет падал только на крышку письменного стола, оставляя почти всю остальную часть большой комнаты в темноте. Прямо под лучом яркого белого света, поверх книги регистрации происшествий лежал раскрытый журнал. И если не считать проникавшего через окно слабого отблеска уличных фонарей, в участке была полная темнота. Дженни открыла дверь и вошла внутрь. За ней вошла и Лиза, стараясь держаться поближе к сестре. — Эй? Пол? Ты здесь? Дженни нащупала на стене выключатель, нажала кнопку, включая верхний свет, — и в полном смысле слова отпрянула назад, увидев то, что лежало прямо перед ней на полу. Пол Хендерсон. Потемневшая, покрытая синяками и кровоподтеками кожа. Весь опухший. Мертвый. — О Господи! — воскликнула Лиза, быстро отворачиваясь. Пошатываясь, она вернулась к входной двери, оперлась о косяк и стала жадно, большими глотками вдыхать холодный ночной воздух. Сделав над собой огромное усилие, Дженни подавила начавший было подниматься в ней животный страх и подошла к Лизе. Положив руку на хрупкое плечо сестры, она спросила: — Как ты себя чувствуешь? Тебя не тошнит? Казалось, Лиза с трудом сдерживала позывы к рвоте. Наконец она справилась с собой и отрицательно покачала головой: — Н-нет. Не тошнит. Сейчас все будет хорошо. П-пойдем отсюда. — Подожди минутку, — сказала Дженни. — Мне хочется сперва взглянуть на тело. — Быть не может, чтобы тебе этого действительно хотелось. — Ты права. Мне не хочется, но, может быть, я сумею понять, с чем мы тут имеем дело. Постой пока здесь, в дверях. Дженни вернулась к распростертому на полу трупу и опустилась возле него на колени. Пол Хендерсон был точно в таком же состоянии, в каком она нашла Хильду Бек. Насколько она могла видеть, каждый квадратный дюйм его кожи представлял собой сплошной кровоподтек. Все тело опухло; лицо было отекшее и искаженное; шея стала толстой, сравнявшись почти с головой; раздувшиеся пальцы рук напоминали сардельки; живот тоже вздулся. Однако Дженни не чувствовала даже самого слабого трупного запаха. Невидящие вытаращенные глаза особенно выделялись на фоне побагровевшего, испещренного крапинками лица. Эти глаза в сочетании с широко открытым и перекошенным ртом ясно передавали то чувство, которое испытал погибший перед самой смертью: страх. Как и Хильда, Пол Хендерсон, по-видимому, умер внезапно — по ощутив перед этим приступ сильнейшего, непередаваемого ужаса. Дженни не относилась к числу близких друзей покойного. Она его, конечно же, знала — потому что в таком маленьком городке, как Сноуфилд, всегда все друг друга знают. Он был хорошим полицейским и казался ей приятным человеком. Ей было очень жаль, что его постигла такая страшная участь. Она смотрела в его искаженное лицо и чувствовала, как комок в горле от горя и сострадания становится все больше, заполняя ее тело почти физической болью. Не выдержав, она отвернулась. Револьвер Хендерсона был не в кобуре. Он лежал на полу, рядом с телом. Это был револьвер сорок пятого калибра. Она пристально смотрела на револьвер, стараясь понять, что же все это означает. Возможно, он просто выскользнул из кожаной кобуры, когда полицейский упал на пол. Возможно. Но она сомневалась в том, что это было действительно так. Самым очевидным и естественным представлялся ей другой вывод: что Хендерсон вытащил револьвер из кобуры сам, чтобы защититься от нападения. Но тогда, значит, его сразили не яд и не болезнь. Дженни оглянулась. Лиза все еще стояла возле открытой двери, опираясь о косяк и уставившись на Скайлайн-роуд. Поднявшись с колен, Дженни отвернулась от трупа и, присев на корточки около револьвера, некоторое время внимательно разглядывала его, пытаясь решить, стоит его трогать или нет. Теперь ее уже не так тревожила возможность заразиться, как при осмотре трупа миссис Бек. Происходящее все меньше и меньше напоминало ей чуму или какую-нибудь иную болезнь. А кроме того, если Сноуфилд и вправду поразила какая-то необычная, экзотическая эпидемия, столь сильная и страшная, то к этому времени Дженни уже наверняка заразилась. Стало быть, она ничего не потеряет, если возьмет револьвер в руки и осмотрит его более внимательно. Больше всего ее сейчас волновало, не сотрет ли она при этом отпечатки пальцев преступника, не уничтожит ли какие-нибудь другие важные улики. Но даже если Хендерсон на самом деле был убит кем-то, маловероятно, чтобы убийца воспользовался для этого оружием своей жертвы и, для удобства следствия, оставил на нем свои отпечатки. А кроме того, не похоже, чтобы Пола застрелили. Если здесь кто и стрелял, то скорее всего это был сам Пол. Она подняла револьвер и внимательно осмотрела его. Резкий запах сгоревшего пороха подсказал ей, что из револьвера стреляли совсем недавно — сегодня, возможно даже, в течение последнего часа. Она поднялась и, держа револьвер в руке, прошла по комнате, внимательно рассматривая выложенный голубой керамической плиткой пол. Ее взгляд остановился на характерном желтом металлическом блеске: одна гильза, другая, третья. Три стреляные гильзы от использованных патронов. Ни один из выстрелов не был направлен вниз или в пол. Все начищенные до блеска голубые плитки были невредимы. Через открывающуюся в обе стороны дверцу в деревянной загородке Дженни прошла в ту часть комнаты, которую полицейские в телевизионных фильмах обычно называют «стойлом». Она двинулась по проходу мимо письменных столов, стоящих друг напротив друга, и шкафов с документами. Дойдя до центра комнаты, она остановилась и медленно обвела взглядом светло-зеленые стены и белый, сделанный из звукопоглощающего материала потолок, стараясь отыскать следы пуль. Но следов ее было видно. Это удивило ее. Если стреляли не в пол и не в окна — явно не в окна, потому что все стекла были целы, — то ствол должны были направить куда-то в комнату, на уровне пояса или выше. Так куда же пошли пули? Не было видно ни поврежденной мебели, ни расщепленного дерева, ни пробитых стальных стенок в сейфах, ни отбитой штукатурки. А Дженни отлично знала, что пуля такого калибра при ударе обо что-нибудь вызывает значительные повреждения. Если пуль не было нигде в комнате, то оставалось только одно: они должны были попасть в того человека или в тех людей, в которых целился Пол Хендерсон. Но если бы полицейский ранил нападавшего — или даже двоих или троих — тремя выстрелами из своего служебного револьвера такого большого калибра, причем ранил так, что пули застряли в теле, а не прошли насквозь, то в комнате должны были остаться лужи крови. Но крови не было ни капли. Озадаченная и сбитая с толку, Дженни вернулась к столу, где люминесцентная лампа на раздвижном штативе по-прежнему освещала открытый номер «Тайма». Здесь же лежал бронзовый полицейский знак, на котором стояло имя владельца: «СЕРЖАНТ ПОЛ ДЖ. ХЕНДЕРСОН». Вот здесь он и сидел, когда случилось…то, что случилось. На этот раз уже твердо уверенная в том, что она услышит, Дженни сняла трубку стоявшего на столе телефона. Никакого гудка. Только свистящий электронный шум на линии, чем-то похожий на свист крыльев насекомых. Как и тогда, в доме Сантини, ей показалось, что на линии она не одна. Она бросила трубку — поспешно и очень резко. Руки у нее дрожали. На противоположной стене комнаты висели две доски для объявлений, около стены стояли фотокопировальное устройство, запертый сейф с оружием, полицейская радиостанция и телетайп. Дженни не знала, как пользоваться телетайпом. К тому же он молчал и казался неисправным. Но и радиостанция тоже не хотела работать. Она была явно включена, но лампочка индикатора не загоралась, динамик и микрофон не действовали. По-видимому, тот, кто убил полицейского, заодно вывел из строя телетайп и радиостанцию. Повернувшись, чтобы выйти из «стойла», Дженни вдруг увидела, что Лизы в дверях нет. Сердце у нее упало, но тут она обнаружила, что Лиза присела рядом с телом Пола Хендерсона и внимательно разглядывает его. Когда Дженни вышла из-за загородки, Лиза подняла голову и, показывая на сильно раздувшийся труп, сказала: — Никогда не думала, что кожа может так растягиваться и не рваться. — Своим тоном и позой она старательно изображала хладнокровный научный интерес, отстраненность наблюдателя, наигранное равнодушие к ужасу всей этой сцены. Но глаза, мечущиеся из стороны в сторону, выдавали ее. Делая вид, будто ей все нипочем, Лиза поднялась и отвернулась от мертвого полицейского. — Голубушка, почему ты не подождала у двери? — Мне стало стыдно, что я такая трусиха. — Послушай, сестричка, я же тебе говорила… — Я хочу сказать, я действительно боюсь, что с нами что-нибудь случится здесь, в Сноуфилде. Что-нибудь очень плохое и прямо сегодня, в любую минуту. Возможно, что-то действительно ужасное. Но этого страха мне не стыдно, потому что он ведь совершенно естественный… после всего, что мы сегодня здесь увидали. А вот что я испугалась мертвого полицейского — это уже совсем по-детски. Лиза замолчала, но и Дженни не проговорила ни слова. Девочке явно необходимо было выговориться, и она сказала еще далеко не все, что у нее накопилось. — Он ведь мертвый. Он не может причинить мне никакого вреда. Его нечего бояться. Нельзя поддаваться иррациональным страхам. Это глупо, неправильно, и это проявление слабости. Человек должен уметь противостоять таким страхам. — Лиза говорила так, словно убеждала кого-то. — С ними можно справиться, только если противостоять им. Верно? Вот я и решила противостоять этому. — Кивком головы она показала на лежащий у ее ног труп. «Какое у нее страдание в глазах», — подумала Дженни. Дело было не только во всем том, что обрушилось на девочку в Сноуфилде. Она еще очень хорошо помнила тот солнечный жаркий июльский день, когда, придя домой, обнаружила свою мать умершей от удара. И сегодняшние события заставили ее вспомнить это и заново пережить все, что было пережито тогда. Заставили резко, внезапно, грубо. — Я уже в порядке, — сказала Лиза. — Я все еще боюсь того, что может случиться с нами. Но я уже не боюсь его. — Она посмотрела вниз, на труп, как бы доказывая верность сказанного, но тут же подняла взгляд и посмотрела прямо в глаза Дженни: — Видишь? Ты уже можешь на меня положиться. Больше я не расклеюсь. Дженни вдруг впервые осознала, что стала для Лизы примером. Выражением глаз и лица, тоном, жестами Лиза уже бессчетное количество раз, сама не сознавая того, высказала свое уважение к Дженни и восхищение ею; уважение и восхищение гораздо большие, чем сама Дженни могла бы предположить. Не прибегая для этого к словам, девочка высказала Дженни нечто глубоко ее тронувшее: «Я тебя люблю; но больше того, ты мне нравишься; я горжусь тобой; по-моему, ты просто потрясающая сестра; и, если ты будешь со мной терпелива, я добьюсь того, что ты тоже сможешь мною гордиться и будешь счастлива, что у тебя такая младшая сестренка». Столь видное место в мире Лизиных авторитетов явилось для Дженни полной неожиданностью. Из-за разницы в возрасте и еще потому, что она почти не бывала дома с тех пор, как Лизе исполнилось два года, Дженни казалось, что она должна быть для девочки практически посторонним человеком. Новая грань их взаимоотношений и польстила Дженни, и заставила ее почувствовать признательность к сестре. — Я и так знаю, что могу на тебя положиться, — заверила она девочку. — Ничего иного я и не думала. Лиза застенчиво улыбнулась. Дженни обняла ее и притянула к себе. На несколько мгновений Лиза изо всех сил прижалась к ней, а потом, когда они разомкнули объятия, спросила: — Так все-таки… ты нашла какое-нибудь объяснение того, что же здесь произошло? — Ничего такого, что можно было бы счесть разумным. — И телефон не работает, да? — Не работает. — Значит, он не работает во всем городе. — Возможно. Они подошли к двери и вышли на улицу, на мощеный тротуар. Оглядев молчащую улицу, Лиза проговорила: — Все мертвы. — Ну, мы не можем этого утверждать. — Все, — тихо и печально повторила девочка. — Весь городок. Абсолютно все. Это чувствуется. — Сантини не мертвы, они исчезли, — напомнила ей Дженни. За то время, что Дженни и Лиза пробыли в полицейском участке, над горами взошла луна, светившая сейчас в три четверти своего диска. В укромных уголках, куда не доставал свет от окон, витрин и уличных фонарей, серебристый свет луны высветил новые причудливые тени. Он как бы накрыл городок вуалью, которая к одним предметам приникла плотнее, к другим — свободнее, придав их очертаниям некую расплывчатость и заставив их казаться гораздо таинственнее и мрачнее, чем в полной темноте. — Кладбище, — проговорила Лиза. — Весь городок — кладбище. Давай-ка сядем в машину и поедем за помощью. — Ты же понимаешь, что мы не можем этого сделать. Если болезнь уже… — Никакая это не болезнь. — Мы не можем быть в этом уверены. — Я уверена. Полностью. Да ты и сама говорила, что почти исключаешь болезнь. — Но пока есть пусть даже самая ничтожная вероятность, что это все-таки какая-то зараза, мы должны считать себя находящимися как бы в карантине. Лиза, кажется, впервые обратила внимание на револьвер. — Это револьвер полицейского? — Да. — Он заряжен? — Из него трижды стреляли, но в нем еще есть три патрона. — Стреляли во что? — Хотела бы я знать. — Ты решила его взять? — спросила, вся дрожа, Лиза. Дженни посмотрела на револьвер, который она продолжала держать в правой руке, и утвердительно кивнула. — Пожалуй, да. На всякий случай. — Д-да. Но ведь… ему-то это не помогло, верно?Глава 6
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Они двинулись вдоль Скайлайн-роуд, поочередно попадая то в густую тень, то в свет: натриево-желтый — уличных фонарей, бледный, фосфоресцирующий — луны. С левой стороны улицы через равные интервалы росли посаженные деревья, с правой были магазины. Они прошли мимо магазина сувениров, небольшого кафе, мимо принадлежащего Сантини магазина лыжных принадлежностей. У каждой из витрин они останавливались и всматривались внутрь, стараясь увидеть какие-нибудь признаки жизни, но нигде их так и не обнаружили. Прошли они и мимо нескольких жилых домов, выходивших прямо на тротуар. Возле каждого из них Дженни поднималась на крыльцо и звонила в дверь. Никто нигде им не открыл, даже в тех домах, где в окнах горел свет. Вначале она хотела подергать двери и, если бы они оказались не заперты, зайти внутрь. Но потом решила не делать этого, поскольку предполагала — так же, как и Лиза, — что если они даже и найдут внутри хозяев дома, то, скорее всего, окажутся в таком же кошмарном состоянии, что Хильда Бек и Пол Хендерсон. Надо найти живых, уцелевших, свидетелей и очевидцев. Трупов с нее уже хватало. — Тут нет где-нибудь в окрестностях атомной станции? — спросила Лиза. — Нет. А что? — А большой военной базы? — Тоже нет. — Я подумала, что, может быть, это… радиация. — Радиация не убивает так быстро. — А если это какая-то очень сильная вспышка радиации? — Тогда жертвы выглядели бы совсем не так, как то, что мы видели. — Не так? — Были бы ожоги, волдыри, повреждения тканей. Они подошли к парикмахерской, в которую всегда ходила Дженни. Внутри никого не было, что для обычного воскресенья было бы только естественно. «Интересно, что произошло с владелицами — с Мздж и Дэйни», — подумала Дженни. Ей нравились и Мэдж, и Дэйни, и она искренне надеялась, что те уехали на весь день из города, куда-нибудь к своим парням в Маунт-Ларсон. — А если яд? — спросила Лиза, когда они отошли от парикмахерской. — Как может отравиться сразу весь город? — Какая-нибудь испорченная еда. — Ну, только если весь город выехал на пикник и все ели одно и то же: зараженную свинину, испорченный картофельный салат, что-нибудь в этом духе. Но ведь ничего подобного не было. Общегородской пикник бывает здесь только раз в году, четвертого июля[21]. — Отравленная вода? — Только если все выпили ее одновременно, и потому ни у кого не было возможности предупредить других. — То есть это практически невозможно. — А кроме того, то, что мы видели, совершенно непохоже ни на один из всех известных мне видов отравлений. Они подошли к булочной Либермана. Это было аккуратное белое здание с бело-голубым полосатым тентом над тротуаром. Во время лыжного сезона здесь целыми днями стояла очередь на полквартала, без выходных: всем приезжим хотелось попробовать большие слоеные лимонные пончики, сделанные в форме баранок, горячие пышные кексы, шоколадные пирожные, янтарные ромовые бабы со сладкой начинкой из мандаринов и шоколада и прочие сладости, которыми Яков и Аида Либерманы очень гордились и которые они выпекали с потрясающим артистизмом. Либерманам доставляла такое удовольствие их работа, что они даже жили в этом же доме, в квартире, расположенной над пекарней и булочной, — сейчас там не было света, И хотя в несезонное время их доходы были не так велики, как во время сезона, они и тогда работали шесть дней в неделю, с понедельника по субботу включительно, и люди приезжали к ним из всех окрестных городков — из Маунт-Ларсона, из Шейди-Руст и из Пайнвилля — и целыми сумками покупали все, что пекли Либерманы. Дженни наклонилась поближе к витринному стеклу, а Лиза прижалась к нему лбом. В задней части дома, там, где стояли печи, из открытой внутренней двери лился яркий свет, освещая половину торгового зала, а через нее и все остальное, что было видно сестрам. Слева стояли маленькие столики, возле каждого из них было по паре стульев. На застекленных белых прилавках было пусто. Дженни в душе молилась, чтобы Яков и Аида избежали той участи, что, кажется, выпала сегодня всему Сноуфилду. Это были чудеснейшие люди, самые добрые из всех, кого ей когда-либо доводилось знать. Именно такие люди, как Либерманы, делали Сноуфилд приятным для жизни местом, убежищем от грубого мира, в котором насилие и взаимное недоброжелательство были обычным делом. — А может быть, это какие-нибудь химические отходы? Ядовитые выбросы или что-нибудь, что могло нагнать на город облако смертоносного газа? — спросила Лиза, отворачиваясь от витрины булочной. — Только не здесь, — ответила Дженни. — В наших горах нет никаких свалок токсичных отходов. Никаких заводов. Ничего подобного. — Иногда такое происходит, если сходит с рельсов поезд и лопается цистерна с какой-нибудь химической дрянью. — До ближайшей железной дороги отсюда двадцать миль. Наморщив в задумчивости лоб, Лиза отошла от булочной и пошла вперед по тротуару. — Подожди-ка. Я хочу сюда заглянуть, — сказала Дженни, направляясь к двери магазина. — Зачем? Тут никого нет. — Я не уверена. — Она подергала дверь, но не смогла открыть ее. — Свет горит в задней комнате и на кухне. Возможно, они там, пекут к утру товар и даже не знают, что творится в городе. Эта дверь заперта. Давай обойдем сзади. Между булочной Либерманов и парикмахерской стояли крепкие деревянные ворота, сразу за которыми начинался узкий крытый проезд внутрь, в заднюю часть двора. Ворота были закрыты на засов, но Дженни сумела дотянуться до него, и засов поддался. Несмазанные петли громко заскрипели, ворота раскрылись. Проезд между домами был черен как ночь и казался туннелем; только в отдалении, где-то в самом конце его, где он переходил в открытую аллею, едва угадывалось в темноте что-то серое, очертаниями напоминающее арку. — Мне тут не нравится, — сказала Лиза. — Ничего, сестренка. Иди за мной и старайся держаться поближе. Если потеряешь ориентировку, нащупай рукой стену и иди вдоль нее. Дженни не хотела обнаруживать собственные сомнения и тем еще больше усиливать страхи сестры, но вид неосвещенного проезда и у нее вызвал нехорошее чувство. С каждым следующим шагом он словно становился все уже и уже, как бы сжимая Дженни со всех сторон. Они прошли примерно четверть туннеля, когда Дженни охватило вдруг сильнейшее ощущение, что она и Лиза тут не одни. Еще через мгновение она уловила, как что-то движется в самой темной части этого замкнутого пространства, наверху, под крышей, в восьми или десяти футах над их головами. Дженни не смогла бы объяснить, как именно она это почувствовала. Не было никаких звуков, кроме ее собственных и Лизиных шагов, отзывавшихся слабым эхом. Не было ничего видно. Просто она вдруг ощутила присутствие чего-то враждебного и, кося глазами вперед и вверх, в угольно-черный потолок, была уверена, что темнота там как-то… меняется. Перемещается, Движется. Переливается с места на место. Передвигается под стропилами. Дженни принялась убеждать себя, что у нее опять разыгралось воображение, но, когда она дошла до середины туннеля, ее животный инстинкт уже вовсю кричал ей: «Сматывайся отсюда! Беги!» Врачи не должны впадать в панику, их специально учат умению сохранять хладнокровие. Дженни немного ускорила шаг, но только очень немного, самую малость, без всякой паники; через мгновение она ускорила его снова, и снова, и снова, пока, наконец, не побежала — вопреки собственной воле. Она выскочила в аллею. Там было темно и мрачно, но все же не так черно, как в туннеле, который она только что миновала. Следом за ней выскочила Лиза. Она споткнулась, угодила на влажный грунт, поскользнулась и чуть не упала. Дженни вовремя подхватила ее и не дала ей свалиться. Обе они попятились, внимательно следя за выходом из темного крытого проезда. Дженни подняла револьвер, который прихватила из полицейского участка. — Ты тоже почувствовала?! — спросила, задыхаясь, Лиза. — Что-то там есть, наверху, под самой крышей. Возможно, птицы. В крайнем случае, несколько летучих мышей. — Нет, нет. Н-не под крышей. — Лиза отрицательно покачала головой. — Оно с-сидело возле с-стены, н-на к-корточках. Они продолжали внимательно всматриваться в зев туннеля. — Я видела что-то под стропилами, — сказала Дженни. — Нет! — убежденно возразила девочка, в подтверждение своих слов энергично тряся головой. — В таком случае, что именно ты видела? — Оно было возле стены. Слева. Примерно в средней части туннеля. Я на него почти наткнулась. — Но что это было? — Я… я не знаю точно. Я его не разглядела. — Ты что-нибудь слышала? — Нет, — ответила Лиза, не в силах отвести глаз от темной дыры выхода. — Какой-нибудь запах? — Нет. Но… темнота была… В одном месте темнота там была… какая-то другая. Я чувствовала, что в ней что-то движется… или как будто движется… переливается… — Вот и мне показалось в точности то же самое — но только под стропилами. Они еще немного постояли и подождали. Из проезда никто не показывался. Постепенно сердце Дженни, колотившееся как бешеное, немного успокоилось и стало биться просто учащенно. Она опустила револьвер. Дыхание у сестер тоже успокоилось. Ночная тишина снова окутала все вокруг — точно погрузила в жидкое масло. К Дженни опять вернулись сомнения. Она стала подозревать, что она сама и Лиза просто поддались истерии. Ей совершенно не нравилось такое объяснение, оно никак не согласовывалось со сложившимся у нее представлением о самой себе. Но она была достаточно честна с собой, чтобы признать тот неприятный факт, что по крайней мере на этот раз она, по-видимому, запаниковала. — Мы с тобой просто перевозбуждены, — сказала она Лизе. — Тебе не кажется, что если там действительно был кто-то или что-то, что представляет для нас опасность, то он бы уже давно напал на нас? — Возможно. — Ой, слушай, а знаешь, что это могло быть? — Что? — спросила Лиза. Налетел порыв холодного ветра; он прошуршал негромко вдоль аллеи и стих вдали. — Это могли быть кошки, — сказала Дженни. — Несколько кошек. Они любят такие темные места. — Мне так не показалось. — Вполне могло быть. Парочка кошек наверху, на стропилах. И одна или две внизу, на дороге, возле стены, там, где ты на что-то чуть не наткнулась. — Мне оно показалось больше кошки. Намного больше кошки, — с сильным беспокойством в голосе ответила Лиза. — Ну хорошо, может быть, не кошки. Скорее всего там вообще ничего не было. У нас просто перенапряжены нервы. — Дженни вздохнула. — Пойдем проверим, открыта ли задняя дверь. Мы ведь с тобой именно для этого сюда и пришли, помнишь? Они направились к задней двери булочной Либерманов, по пути непрерывно оглядываясь на темневший позади них туннель. Служебный вход оказался не заперт, за дверью было тепло и светло. Дженни и Лиза вошли и очутились в узкой и длинной кладовке. Следующая дверь вела из кладовки в огромную кухню, где приятно пахло мукой, корицей, грецкими орехами и апельсиновым экстрактом. Дженни жадно и глубоко вдохнула. Витавшие в кухне аппетитные запахи были такими домашними, такими естественными и так напоминали об обычной жизни и нормальных временах, что Дженни немного успокоилась и почувствовала, как спадает напряжение. Кухня была хорошо оборудована. Здесь стояли двойные мойки, большой, размером с целую комнату холодильник, в который можно было просто войти, несколько печей, несколько огромных белых эмалированных шкафов для хранения припасов, принадлежностей и готовых изделий, тестомесильная машина и масса разных приспособлений. Центр кухни занимал длинный и широкий стол, наподобие прилавка, на котором и делалась вся основная работа. На одном его конце шла обычно разделка теста; на другом, покрытом нержавеющей сталью — ближе к кладовке, откуда вошли на кухню Дженни и Лиза, — горой лежали кастрюли, противни и формы, предназначенные для выпечки всевозможных изделий. Все они были вычищены, вымыты и блестели. Да и вся кухня сияла чистотой. — Никого нет, — сказала Лиза. — Похоже, действительно никого, — согласилась Дженни. Она прошла чуть дальше по кухне, настроение у нее заметно улучшилось. Если уцелела семья Сантини и если удалось спастись Якову и Аиде, то, возможно, не все жители городка погибли. Возможно… О Боже! На другом конце стола, за горой противней и форм, лежал большой круг приготовленного для пирогов теста. Сверху на этом тесте лежала скалка, которой его обычно раскатывали. С обоих концов эту скалку держали руки. Две отрезанные кисти человеческих рук. Попятившись назад, Лиза с такой силой ударилась спиной о металлический шкаф, что его содержимое громко зазвенело. Что за дьявольщина! Что тут везде происходит, черт возьми? Движимая болезненным интересом и нетерпеливым стремлением разобраться в происходящем, Дженни подошла поближе к столу и уставилась на эти руки, не веря собственным глазам, одновременно с чувством отвращения и страха — пронзительного и ледяного, словно лезвие ножа. Кисти были без синяков и не вспухшие, цвет у них был серовато-бледный. Кровь — первая кровь, которую она увидела за весь сегодняшний день, — накапала из того места, где кисти были грубо я неровно оторваны от рук, и теперь поблескивала среди тонкой пленки мучной пыли капельками и отдельными струйками. Руки были сильные, точнее — они были сильными когда-то, при жизни их владельца. Толстые короткие пальцы. Большие суставы. На наружной стороне видны были слегка вьющиеся жесткие седые волосы. Несомненно, это были мужские руки. Руки Якова Либермана. — Дженни! Дженни испуганно обернулась на зов. Поднятая и вытянутая рука Лизы указывала куда-то на противоположную от них часть кухни. Дальше, за разделочным концом стола, в дальней части кухни, вдоль длинной стены стояли три печи. Одна из них была огромная, с парой больших стальных дверец, закрывавших соответственно верхнюю и нижнюю части печи. Две другие были значительно меньшего размера, но все же более крупные, чем те, какие используются, как правило, в домашних кухнях. У каждой из этих печей была только одна дверца, в центре которой было вставлено стекло. Сейчас печи были выключены, и слава Богу, потому что, работай они, вся кухня оказалась бы заполненной невыносимой вонью. В каждой из этих печей лежала отрезанная голова. Господи Иисусе! Ужасные мертвые лица смотрели из печей в кухню, носы их были прижаты изнутри к стеклу. Яков Либерман. Седые волосы перепачканы кровью. Один глаз полузакрыт, другой вытаращен. Губы плотно сжаты в гримасе боли. Аида Либерман. Глаза распахнуты, рот широко открыт, причем так, словно верхняя и нижняя челюсти утратили соединение друг с другом. Поначалу Дженни даже не поверила, что головы настоящие. Это было уже слишком. Слишком шокирующим. На память ей пришли очень натуральные и очень дорогие маски, которые обычно выставляются в витринах и используются на маскарадах в канун Дня Всех Святых. Вспомнила она и о страшных, способных вогнать в ужас новинках, что продаются в магазинах розыгрышей — о всех этих восковых головах с нейлоновыми волосами и стеклянными глазами, об этих отвратительных игрушках, которые почему-то иногда страшно нравятся мальчишкам, — уж такие-то игрушки, как эти, им бы наверняка понравились! Как ни странно, но на память ей пришла вдруг строчка из телевизионной рекламы сухих смесей для приготовления дома тортов и кексов: «Никто так не ждет и не любит вас, как тот, кто сидит в печи сейчас!». Сердце Дженни гулко колотилось. Ее била лихорадка, у нее кружилась голова. Оторванные кисти рук на разделочном столе по-прежнему держали скалку. Дженни казалось, что они вот-вот зашевелятся и побегут по столу, как два краба. Но где же в таком случае обезглавленные тела Либерманов? Уложены в большой печи за стальными дверцами, в которых нет окошек? Или заморожены и лежат в том большом холодильнике? В горле у нее поднялся горький комок, но она сумела подавить его. Револьвер сорок пятого калибра казался ей теперь никуда не годной защитой против столь изощренно жестокого и неизвестного врага. У Дженни снова возникло ощущение, что за ними наблюдают, и сердце ее заколотилось так, словно готово было вот-вот выпрыгнуть из груди. Она повернулась к Лизе: — Уйдем отсюда! Девочка направилась к двери кладовки. — Не сюда! — резко остановила ее Дженни. Лиза обернулась к сестре и заморгала, не понимая, в чем дело. — Через аллею мы не пойдем, — сказала Дженни. — И через тот темный проезд тоже. — Ой, верно, — согласилась Лиза. Они быстро пересекли кухню и через противоположную дверь вышли в торговый зал. Прошли мимо пустых прилавков. Мимо столиков и стульев кафетерия. С замком входной двери Дженни пришлось повозиться. Его заело. Она даже подумала, что, возможно, им все-таки придется выходить прежней дорогой, через аллею. Но потом поняла, что пытается повернуть замок не в ту сторону. Когда она повернула его в другую, замок с легким щелчком открылся и Дженни распахнула дверь. Они выскочили на улицу, в холодный ночной воздух. Лиза пересекла тротуар и направилась к высокой сосне. Ей явно необходимо было на что-то опереться. Дженни подошла и встала рядом с сестрой, продолжая настороженно и со страхом смотреть в сторону булочной. Она бы нисколько не удивилась, если бы увидела сейчас два обезглавленных тела, приближающихся к ним с какими-нибудь дьявольскими намерениями. Но возле булочной не было никакого движения, только края полосатого бело-голубого тента негромко похлопывали под легкими порывами ветра. Ночь по-прежнему была совершенно беззвучна. С того времени как Дженни и Лиза вошли под крышу темного прохода, луна успела подняться немного выше. Помолчав немного, девочка сказала: — Господи, что мы только не перебрали — радиация, инфекция, яд, смертельный газ… Знаешь, я думаю, мы ошиблись с самого начала. Подобные мерзости может делать только человек, больной человек. Все это сделал какой-то психопат. Дженни отрицательно покачала головой. — Один человек не мог все это сделать. Чтобы расправиться с городком, в котором жили почти пятьсот человек, понадобилась бы целая армия психопатов. — Ну, значит, их была целая армия, — ответила, вся дрожа, Лиза. Дженни с беспокойством посмотрела вдоль пустынной улицы. Ей казалось очень опрометчивым, даже опасным стоять здесь, на открытом месте, на виду; но она не могла придумать, какое место оказалось бы сейчас для них безопасным. Наконец она сказала: — Психопаты не собираются вместе и не планируют массовых убийств. Они не похожи на членов какого-нибудь клуба, готовящих благотворительный бал. Они почти всегда действуют поодиночке. Беспокойно переводя взгляд от одной тени к другой, как бы опасаясь, что они вдруг материализуются и обнаружат недобрые побуждения, Лиза спросила: — А помнишь, в шестидесятые годы была эта коммуна Чарльза Мэнсона? Они еще убили кинозвезду. Как ее звали? — Шарон Тейт. — Верно. Может быть, и тут действует группа таких же ненормальных? — Основу группы Мэнсона составляли максимум полдюжины человек, и это было редчайшее исключение — как правило, подобные люди бродят сами, как одинокие волки. Но даже полдюжины человек не могли бы натворить ничего подобного в Сноуфилде. Чтобы это сделать, понадобилось бы человек пятьдесят, может быть, даже сто или больше. А в таком количестве психопаты не способны действовать вместе. Они немного постояли молча. Потом Дженни сказала: — Есть и еще кое-что, не укладывающееся в такое объяснение. Почему на кухне было так мало крови? — Там была кровь. — Очень мало. Всего несколько небольших пятен на столе. Там все должно быть залито кровью. Обхватив себя руками, Лиза быстро поводила ими вверх-вниз, стараясь хоть немного согреться. В желтоватом свете стоявшего неподалеку от них уличного фонаря лицо ее казалось восковым. И внешне ей можно было дать гораздо больше, чем четырнадцать лет. Пережитый ужас заставил ее повзрослеть. — И никаких следов борьбы тоже нет, — сказала девочка. — Верно, — нахмурилась Дженни, — нет. — Я сразу обратила на это внимание, — добавила Лиза. — Мне это показалось очень странным. Такое впечатление, что никто из них не сопротивлялся. Ничего не перевернуто. Ничего не сломано. Скалка могла бы послужить неплохим оружием, верно? Но они ею не воспользовались. И ничего не опрокинуто, не разбито. — Действительно, похоже, что они вообще не сопротивлялись. Как будто… добровольно положили свои головы на плаху. — Но почему они так себя вели?! И в самом деле, почему они так себя вели? Дженни посмотрела вдоль Скайлайн-роуд в сторону своего дома, находившегося менее чем в трех кварталах отсюда, потом в противоположную сторону, туда, где располагались ресторанчик «Старая городская таверна», галантерейный магазин, пиццерия Марио и кафе-мороженое Паттерсона. Бывает тишина — и тишина. Они не похожи друг на друга. Есть тишина смерти, что живет в склепах и на заброшенных кладбищах, в холодильниках городских моргов, а иногда и в больничных палатах. Это тишина полная, беззвучная, абсолютная. Будучи врачом, которому неизбежно приходится соприкасаться со смертью, Дженни хорошо знала эту особую, мрачную тишину. Именно такая тишина висела сейчас над всем Сноуфилдом. Тишина смерти. Дженни не хотела себе в этом признаться. Вот почему она до сих пор пи разу не крикнула во весь голос, не попыталась никого позвать. Она боялась, что никто не откликнется. Теперь же она не звала и не кричала, потому что стала бояться, что кто-нибудь действительно может откликнуться. Кто-нибудь или что-нибудь. Кто-нибудь или что-нибудь очень опасное. В конце концов у нее не осталось иного выбора, кроме как признать очевидные факты. Весь Сноуфилд был бесспорно мертв. Это был уже не город, но кладбище — искусное собрание каменных, деревянных, кирпичных могил с фронтонами, балконами, с разнообразными крышами и отделкой; забавное кладбище, устроенное в виде симпатичной альпийской деревни. Снова налетел ветер, засвистел под крышами домов, и в звуках его было что-то от зова самой вечности.Глава 7
ШЕРИФ ОКРУГА
Власти округа, расположенные в Санта-Мире, еще ничего не знали о постигшей Сноуфилд катастрофе. Они пока занимались решением собственных проблем. Лейтенант Талберт Уитмен вошел в комнату для допросов в тот самый момент, когда шериф Брайс Хэммонд включил магнитофон и начал перечислять подозреваемому его конституционные права. Тал бесшумно прикрыл дверь. Не желая мешать только начинавшемуся допросу, он не стал садиться за большой стол рядом с шерифом, а подошел к единственному в этой продолговатой комнате окну. Департамент полиции округа Санта-Мира занимал здание в испанском стиле, построенное еще в конце тридцатых годов. В нем были массивные громко хлопавшие двери, а стены были такие толстые, что ширина подоконников превышала фут. Вот на таком подоконнике и устроился сейчас Тал Уитмен. Там, за окном, лежала Санта-Мира, главный город округа. Население города составляло около восемнадцати тысяч человек. По утрам, когда солнце наконец поднималось над горами Сьерры и разгоняло отбрасываемые ими тени, Тал иногда ловил себя на том, что с радостным удивлением смотрит на поросшие лесом невысокие отроги гор, на которых расположилась Санта-Мира: это был на удивление чистый и аккуратный городок, и его железобетонным корням каким-то чудом удавалось не повредить первозданную красоту природы, на которой он вырос. Сейчас на Санта-Миру опустилась ночь. На склонах холмов зажглись тысячи огней, и казалось, будто само звездное небо спустилось вниз и улеглось у подножия гор. Выходец из Гарлема, черный, как сама ночь, родившийся и выросший в окружении нищеты и невежества, Тал Уитмен в свои тридцать лет оказавшись здесь, не переставал удивляться. Удивляться и восхищаться. Однако в сцене, что разворачивалась по эту сторону окна, не было ничего особенного. Комната для допросов внешне была похожа на тысячи других таких же комнат в полицейских участках и отделениях, разбросанных по всей стране. Пол, выложенный квадратами из дешевого линолеума. Старые, обшарпанные шкафы с бумагами. Круглый стол с пятью стульями около него. Выкрашенные в зеленый цвет стены. Люминесцентные лампы без плафонов. Место подозреваемого возле стола занимал сейчас высокий и симпатичный двадцатишестилетний торговец недвижимостью по имени Флетчер Кейл, старательно вгонявший себя в состояние оскорбленной невинности и праведного возмущения. — Послушайте, шериф, — говорил Кейл, — кончайте нести всю эту муть. Сколько можно повторять мне мои права, Господи? Вы мне их уже десятки раз излагали за эти последние три дня. Боб Робин, адвокат Кейла, быстро похлопал своего клиента по руке, давая ему знак не заводиться. Робин был толст, пухл, с круглым лицом и приятной улыбкой, но с жесткими глазами хозяина игорного притона. — Флетч, — сказал Робин, — шериф Хэммонд знает, что задержал тебя по одному только подозрению и продержал здесь почти столько, сколько позволяет закон. И он знает, что я тоже это знаю. Поэтому в течение ближайшего часа он должен будет решить это дело — так или иначе. Кейл прищурился, кивнул и сменил тактику. Он сполз немного вниз на стуле, словно плечи ему придавила тяжесть огромного горя. Когда он заговорил снова, то голос его слегка дрожал. — Простите, если я на время потерял голову, шериф. Я не должен был так с вами разговаривать. Но мне сейчас так тяжело… очень, очень тяжело. — Лицо его как будто обмякло, дрожание в голосе стало заметнее. — Я хочу сказать… О Господи, я же ведь потерял всю свою семью… Моя жена… сын… их обоих нет. — Сожалею, если вам показалось, что я был к вам предубежден, мистер Кейл, — проговорил Брайс Хэммонд. — Я лишь пытаюсь делать то, что считаю верным. Иногда я оказываюсь прав. Возможно, в данном случае я ошибаюсь. Явно решив, что ничего серьезного ему не угрожает и что поэтому он может позволить себе проявить сейчас великодушие, Флетчер Кейл вытер размазанные по лицу слезы, уселся на стуле попрямее и сказал: — М-да… ну что ж… в общем-то я вас понимаю, шериф. Кейл сильно недооценивал Брайса Хэммонда. Боб Робин знал шерифа лучше, чем его нынешний клиент. Он нахмурился, взглянул на Тала, потом вперил свой жесткий взгляд в Брайса. По своему опыту Тал Уитмен знал, что большинство из тех, кому приходилось иметь дело с шерифом, недооценивали его точно так же, как сейчас Флетчер Кейл. Недооценить его было очень легко. Внешне Брайс не производил большого впечатления. Ему было тридцать девять лет, но выглядел он намного моложе. Густые, песочного цвета волосы спадали ему на лоб и казались взъерошенными, придавая ему мальчишеское выражение. У него был курносый нос с веснушками на переносице; веснушки покрывали и щеки. Голубые глаза были ясными и смотрели пристально, но их прикрывали крупные тяжелые веки, из-за которых выражение лица становилось недовольным, сонным, даже туповатым. Голос его тоже мог ввести в заблуждение. Он был мягкий, негромкий, мелодичный. Иногда Хэммонд специально говорил очень медленно, и кое-кто приходил на этом основании к выводу, что ему трудно формулировать собственные мысли. Ничто, однако, не могло быть дальше от истины, чем подобное предположение. Брайс Хэммонд отлично отдавал себе отчет в том, как его воспринимают, и, если ему это было выгодно, усиливал подобные заблуждения: нарочито старался понравиться, или бессмысленно улыбался, или еще больше растягивал и смягчал свою речь, в результате чего он начинал казаться классическим деревенщиной, таким, какими и изображают обычно полицейских. В полной мере наслаждаться начавшимся допросом мешало Талу только одно обстоятельство: он знал, что расследование дела Кейла лично и весьма сильно затрагивает Брайса Хэммонда. В глубине души Брайс был потрясен и остро переживал бессмысленную гибель Джоанны и Денни Кейлов. Дело в том, что нечто подобное случилось в его собственной жизни. Как и Флетчер Кейл, шериф тоже потерял жену и сына, хотя и при совершенно иных обстоятельствах. Год назад жена шерифа Эллен Хэммонд погибла в автомобильной катастрофе. Семилетний Тимми, сидевший на переднем сиденье рядом с матерью, получил очень тяжелую травму головы и на протяжении всего последнего года находился в бессознательном состоянии. Врачи очень сомневались, что сознание когда-нибудь вернется к нему. Эта трагедия почти сломала Брайса. Лишь совсем недавно у Тала Уитмена появилось ощущение, что его друг вроде бы начал постепенно выходить из полосы полного отчаяния. Дело Кейла снова разбередило рану Брайса Хэммонда, по он не позволял горю притупить его чувства и разум и сумел ничего не проглядеть. Тал Уитмен мог в точности назвать момент — в прошлый четверг, вечером, — когда Брайс начал подозревать, что Флетчер Кейл виновен в двух преднамеренных убийствах, потому что именно с того момента в глазах Брайса, под тяжелыми веками, появилось нечто холодное и неумолимое. Сейчас, рисуя что-то в желтом блокноте с таким видом, словно голова его занята не столько допросом, сколько какими-то другими делами, шериф проговорил: — Мистер Кейл, пожалуй, я не буду заново задавать вам все те вопросы, на которые вы уже отвечали не меньше десяти раз. Давайте-ка я лучше попытаюсь суммировать все то, что вы нам рассказали. Согласны? Если мое изложение покажется вам достаточно полным и верным, тогда мы перейдем к новым вопросам, которые я хотел бы вам задать. — Согласен. Давайте еще раз по всему пройдемся и будем кончать с этим делом, — ответил Кейл. — Вот и хорошо, — сказал Брайс. — Мистер Кейл, согласно данным вами показаниям, ваша жена, Джоанна, считала, что, выйдя замуж и став матерью, она угодила в ловушку; что она еще слишком молода, чтобы нести такую ответственность. Она считала, что допустила ужасную ошибку и что теперь ей предстоит всю жизнь расплачиваться за это. Она хотела как-то отвлечься от подобных мыслей, забыться и поэтому стала употреблять наркотики. Я верно с ваших слов пересказываю ее состояние? — Да, — ответил Кейл. — Точно. — Хорошо, — продолжал Брайс. — Значит, поэтому она начала курить марихуану. Спустя какое-то время она дошла до того, что почти постоянно была под действием наркотика. Два с половиной года вы прожили в этом наркотическом аду, все время надеясь, что вам удастся заставить ее измениться. Потом, неделю тому назад, она впала в неистовство, перебила массу посуды, разбросала по кухне еду, и вам стоило большого труда ее успокоить. Тогда-то вы и обнаружили, что она перешла на более сильный наркотик, на тот, который на уличном жаргоне называют «ангельской пыльцой». Вас это поразило. Вы знали, что некоторые люди под действием этого наркотика становятся маниакально агрессивны, поэтому вы заставили ее показать вам, где она хранила свои запасы, и полностью уничтожили все, что там было. Потом вы ее предупредили, что, если она, находясь поблизости от маленького Денни, еще хоть раз воспользуется наркотиком, вы ее изобьете до смерти. Кейл откашлялся. — Да, но она надо мной только посмеялась. Она сказала, что я не смогу ударить женщину и что нечего мне прикидываться суперменом. Она сказала: «Черт возьми, Флетч, даже если я тебе двину по яйцам, ты скажешь мне спасибо за то, что я подняла тебе настроение». — И в этот момент в вас что-то надломилось и вы расплакались? — спросил Брайс. — Я просто… ну, я понял, что не имею на нее никакого влияния, — ответил Кейл. С того места на подоконнике, где он сидел, Талу Уитмену было видно, как лицо Кейла передернулось от горя — а возможно, и потому, что он умел им хорошо владеть. Этот паршивец действительно здорово держался. — И когда она увидела, что вы заплакали, — продолжал Брайс, — это немного привело ее в чувство. — Точно, — подтвердил Кейл. — Когда такой бык, как я, плачет как ребенок… мне кажется… это на нее как-то подействовало. Она тоже заплакала и пообещала, что больше не будет принимать «ангельскую пыльцу». Мы поговорили с ней о прошлом, о том, что каждый из нас ожидал от нашего брака, высказали много такого, что, наверное, должно было быть сказано намного раньше. И мы почувствовали себя гораздо ближе друг к другу, чем это было за последние два года. По крайней мере, я себя так почувствовал. Мне показалось, что и она тоже. Она поклялась, что начнет постепенно сокращать дозу. Продолжая рисовать в блокноте чертиков, Брайс продолжил: — Потом, в прошлый четверг, вы пришли с работы раньше, чем обычно, и увидели в своей спальне, на кровати, своего сына Денни. Он был мертв. Вы услышали у себя за спиной какие-то звуки. Это оказалась Джоанна. В руках у нее был большой нож для разделки мяса, тот самый, которым она убила Денни. — Она была накурившаяся, — сказал Кейл. — Этой самой «ангельской пыльцы». Я это сразу понял. У нее в глазах было такое особое, дикое, какое-то животное выражение. — Она стала на вас орать, кричала что-то насчет змей, которые живут в головах у людей, что эти злые змеи управляют людьми и их поступками. Вы пытались, пятясь, обойти ее, она на вас наступала. Вы не пытались отнять у нее нож… — Я боялся, что она меня убьет. Я старался как-то отвлечь и успокоить ее разговором. — Поэтому вы кружили по комнате, пока не добрались до тумбочки, где у вас лежал пистолет тридцать восьмого калибра. — Я ей говорил, чтобы она бросила нож. Я ее предупреждал! — А она, вместо того чтобы бросить, замахнулась ножом и бросилась на вас. Тогда вы в нее выстрелили. Один раз. В грудь. Теперь Кейл сидел, наклонившись вперед и закрыв лицо руками. Шериф положил ручку, которой рисовал. Он сложил руки на животе и принялся крутить пальцами. — Ну что ж, мистер Кейл. Надеюсь, вы еще сможете немного потерпеть меня. Еще лишь несколько вопросов, и мы сможем закончить и уйти отсюда. Кейл убрал руки от лица. Талу Уитмену было ясно, что слова «уйти отсюда» он воспринял как указание на то, что его наконец-то освободят. — Ничего, шериф. Я в порядке. Продолжайте. Боб Робин не проронил ни слова. Ссутулившись и приняв нескладную позу, так что казалось, будто у него в теле совсем нет костей, Брайс Хэммонд сказал: — Пока мы держали вас под арестом по подозрению, мистер Кейл, у нас возникло несколько вопросов и надо их обговорить, чтобы у всех у нас была наконец ясность в отношении этого ужасного дела. Некоторые вопросы могут показаться вам сущей мелочью, не стоящей ни моего, ни вашего времени. Да это и в самом деле мелочи, я согласен. Почему я вас ими мучаю… Понимаете, мистер Кейл, через год предстоят выборы шерифа, и я хотел бы оказаться избранным еще на один срок. А если мои оппоненты смогут подловить меня на мелких технических упущениях, даже на какой-нибудь последней мелочи, они сумеют раздуть из этого скандал. Меня станут обвинять в лености, небрежности или еще в чем-нибудь подобном. — Брайс улыбнулся Кейлу, действительно улыбнулся ему. Тал не верил собственным глазам. — Да, шериф, я понимаю, — сказал Кейл. Сидя на подоконнике, Талберт Уитмен напружинился и слегка наклонился вперед. И Брайс Хэммонд договорил: — Так вот, первое. Я бы хотел знать, почему после того как вы застрелили жену, то прежде чем позвонить нам, вы провернули довольно солидную стирку?Глава 8
ЗА БАРРИКАДОЙ
Отрезанные руки. Отрезанные головы. Торопливо шагая вместе с Лизой по тротуару, Дженни никак не могла прогнать от себя эти ужасные и отвратительные видения. На Вейл-лэйн, в двух кварталах к востоку от Скайлайн-роуд, ночь была столь же тиха, беззвучна и полна таинственной опасности, как и во всем Сноуфилде. Деревья здесь были выше, чем на главной улице, и потому сюда проникало значительно меньше лунного света. Уличные фонари стояли реже, и небольшие островки желтого света отделяли друг от друга довольно длинные отрезки зловещей темноты. Дженни свернула в калитку и по выложенной кирпичом дорожке направилась к стоящему в глубине участка одноэтажному дому в английском стиле, из окон которого лился теплый свет. Центр каждой оконной рамы украшала ромбовидная вставка, а сами окна были сделаны из затемненного стекла. Дом Тома и Карен Оксли снаружи казался небольшим, но это впечатление было обманчиво: на самом деле в нем было семь комнат и две ванные. Том работал бухгалтером почти во всех мотелях и охотничьих домиках города. Карен во время сезона открывала небольшое, но очаровательное французское кафе. Оба они были радиолюбителями и имели коротковолновую радиостанцию: именно поэтому Дженни и решила сюда зайти. — Если кто-то испортил радио в полицейском участке, почему ты думаешь, что они не добрались и сюда? — спросила Лиза. — Они могли не знать об этом месте. В любом случае, стоит заглянуть. Она позвонила и, когда на звонок никто не вышел, подергала дверь. Та оказалась заперта. Они обошли вокруг дома и зашли с тыльной стороны. Золотистый свет лился тут изо всех окон. Дженни с подозрением посмотрела на лужайку, где чернели тени окружавших ее высоких деревьев. Когда они поднялись на деревянное заднее крыльцо, их шаги отозвались гулким эхом. Дженни подергала кухонную дверь, но она тоже оказалась запертой. Занавески ближайшего к этой двери окна были раздвинуты. Дженни заглянула внутрь и увидела самую обычную кухню: стены, окрашенные в кремовый цвет, дубовые шкафы и рабочие столы с зелеными крышками, сверкающие кастрюли и кухонные принадлежности. Никаких признаков насилия. Свет в следующем окне горел, но занавески были задернуты. Как знала Дженни, это было окно кабинета. Она побарабанила по стеклу — никто не отозвался. Попыталась открыть окно, однако оно было заперто изнутри. Взяв револьвер за ствол, она разбила ромбовидную вставку в середине окна. Звон разбиваемого стекла почти оглушил их. Прекрасно понимая, что это особый случай, Дженни все равно чувствовала себя забирающимся в чужой дом воришкой. Она просунула руку внутрь ромба, нащупала щеколду и открыла ее, потом распахнула створки окна и влезла через подоконник в дом. Запуталась в занавесках, затем раздвинула их, чтобы Лизе было легче влезать. Внутри кабинета было два трупа: Том и Карен Оксли. Карен лежала на полу, на боку, ноги ее были подтянуты к животу, плечи полусогнуты вперед и вниз, руки сложены на груди — точь-в-точь поза ребенка в чреве матери. Вся она была покрыта кровоподтеками и распухла, глаза в ужасе вылезли из орбит, рот широко открыт и навеки застыл в вопле. — Какие у них лица! Самые страшные из всего, что мы видели, — сказала Лиза. — Не понимаю, почему лицевые мускулы не расслабляются после смерти. Они не должны, просто не могут оставаться такими натянутыми. — Интересно, что же они такое увидели? — спросила Лиза. Том Оксли сидел перед коротковолновой радиостанцией, когда его настигла смерть. Он тяжело упал на нее, голова его была повернута вбок. Весь он, как и Карен, был покрыт синяками в кровоподтеками и ужасно распух, Правая рука его мертвой хваткой сжимала микрофон, и казалось, что он погиб, пытаясь не отдать его, не выпустить из рук. Но совершенно ясно, что передать призыв о помощи он не успел, иначе полиция уже давно была бы в Сноуфилде. Радио не работало. Дженни поняла это, как только увидела трупы. Но самым потрясающим, однако, здесь была не умолкшая радиостанция и даже не трупы, а баррикада. Дверь, ведущая в кабинет, была закрыта и, по всей видимости, заперта. Карен и Том изнутри приперли ее шкафом, который сумели подтащить, несмотря на его тяжесть. К шкафу они придвинули два кресла, а между креслами и столом, на котором стояла радиостанция, вогнали заклинивший все это сооружение телевизор, так что открыть дверь в кабинет снаружи было бы невозможно. — Они явно старались не дать кому-то сюда войти, — сказала Лиза. — Но оно тем не менее проникло. — Как? Обе они оглянулись на окно, через которое залезли сами. — Оно было заперто изнутри, — сказала Дженни. В комнате было еще только одно окно. Они подошли к нему и раздвинули занавеску. И это окно было прочно заперто изнутри. Дженни уставилась в ночь и смотрела так до тех пор, пока не почувствовала: что-то скрывающееся в темноте смотрит оттуда на нее и прекрасно видит, как она стоит здесь, ничем не защищенная, в освещенном окне. Дженни резко задернула занавеску. — Совершенно запертая комната, — проговорила Лиза. Медленно поворачивая голову, Дженни внимательно оглядела весь кабинет. Здесь было закрытое металлической решеткой с узкими щелями вентиляционное отверстие, через которое поступал теплый воздух при отоплении. Щель под забаррикадированной дверью была не больше полудюйма. Попасть в запертую комнату было невозможно. — Насколько я могу судить, проникнуть сюда и убить их могли только ядовитый газ, радиация или бактерии, — сказала Дженни. — Но Либерманов убило не это. — Да, — кивнула Дженни. — А кроме того, против радиации, газа или бактерий не воздвигают баррикад. Интересно, сколько же жителей Сноуфилда пытались забаррикадироваться изнутри, считая, что нашли надежную защиту, — а в результате погибали так же молниеносно и таинственно, как и те, кто не успел убежать? И что же это было такое, что обладало способностью проникать в запертые комнаты, не открывая ни окон, пи дверей? Что могло пройти сквозь такую баррикаду, даже не тронув ее? Тишина в доме Оксли была такая же, какая, наверное, бывает на Луне. — И что же дальше? — спросила наконец Лиза. — Думаю, нам надо рискнуть, даже если мы распространим инфекцию. Надо выехать из города, доехать до первого телефона-автомата, позвонить в Санта-Миру шерифу, описать ему положение, и пусть он сам решает, что и как предпринять. А мы с тобой вернемся сюда и будем ждать здесь. Мы не должны вступать ни с кем в непосредственный контакт. Телефонную будку, если понадобится, они смогут потом дезинфицировать. — Мне очень не нравится мысль о том, чтобы вернуться, если уж мы отсюда уедем, — с беспокойством в голосе сказала Лиза. — Мне тоже. Но мы должны вести себя с чувством ответственности. Поехали, — сказала Дженни, поворачиваясь к окну, через которое они забрались в дом. Зазвонил телефон. Дженни испуганно обернулась на его резкий звонок. Телефон стоял на том же самом столе, где и радиостанция. Он зазвонил снова. Дженни схватила трубку: — Алло? Никто не ответил. — Алло? Ледяное молчание. Рука Дженни изо всех сил сжимала трубку. Кто-то внимательно слушал, сохраняя полное молчание и ожидая, чтобы она заговорила первой. Но она отнюдь не собиралась доставлять ему такое удовольствие. Она только прижимала трубку к уху и старалась что-нибудь уловить. Неважно что, что угодно. Пусть даже только его дыхание или звук, не более громкий, чем шорох морского отлива. Ни малейшего звука не было, но Дженни чувствовала, что на другом конце провода кто-то есть и этот кто-то тот же самый, чье присутствие она обнаружила, когда снимала трубки телефонов в доме Сантини и в полицейском участке. Стоя в забаррикадированной комнате, в этом молчащем доме, в который каким-то непостижимым образом пробралась Смерть, Дженни Пэйдж ощущала, как внутри нее происходит странная трансформация. Она была хорошо образованной женщиной, разумной и логичной, начисто лишенной веры в какие бы то ни было суеверия и предрассудки. До сих пор она пыталась разрешить загадку Сноуфилда путем логического анализа и рассуждений. Но впервые в ее жизни все это оказалось абсолютно несостоятельно. И сейчас в глубине ее сознания что-то… сдвинулось, словно приподняли и откинули в сторону огромную тяжеленную стальную плиту, придавливавшую и скрывавшую бездну ее подсознания. В этой бездне, в ее мрачных глубинах, таились совершенно новые для нее первобытные эмоции и чувства, унаследованные с незапамятных времен, благоговейный страх перед сверхъестественным. И она поняла, что же происходило тут, в Сноуфилде; поняла на уровне животной памяти, заложенной в генах и передаваемой из поколения в поколение. Она и раньше понимала это, это знание жило в ней, но было настолько непривычно и чуждо, казалось таким алогичным, что она сопротивлялась ему сколько могла, изо всех сил стараясь подавить вскипавший в ней суеверный ужас. Сжимая трубку телефона, она вслушивалась в чье-то молчаливое присутствие и внутренне спорила сама с собой: — Это не человек; это нечто. — Чепуха. — Оно вообще чуждо человеческой природе; но оно обладает сознанием. — У тебя истерика. — Оно неописуемо злобно; это чистое зло в высшем его выражении. — Прекрати, прекрати, прекрати! Ей хотелось швырнуть трубку, но она не могла, не в состоянии была сделать это. Нечто находившееся на другом конце провода гипнотизировало ее. Лиза подошла поближе: — Что там такое? Что происходит? Вся дрожа, мокрая от внезапно выступившего пота, чувствуя, что ее отравляет уже одно вслушивание в это чье-то омерзительное присутствие, Дженни готова была оторвать трубку от уха, когда услышала свист, щелчок — и в трубке появился гудок. В первое мгновение она застыла, пораженная, не в силах что-либо сделать. Потом она лихорадочно ткнула пальцем в кнопку 0. Раздался гудок вызова. Это был прекрасный, сладостный, волнующий звук. — Оператор слушает. — Соедините меня с окружным шерифом в Санта-Мире, — сказала Дженни. — Очень срочно!Глава 9
ПРИЗЫВ НА ПОМОЩЬ
— Стирку? Какую стирку? — переспросил Кейл. Брайс видел, что его вопрос застал Кейла врасплох и тот только притворяется, будто не понимает, о чем его спрашивают. — Какое это имеет отношение к делу, шериф? — спросил Боб Робин. Глаза Брайса оставались по-прежнему полуприкрытыми, он продолжал говорить спокойно и медленно: — Видишь ли, Боб, я просто пытаюсь выяснить все мелочи, чтобы мы могли закрыть это дело. Клянусь, я терпеть не могу работать по воскресеньям, а дело уже почти закончено. У меня есть еще несколько вопросов, мистер Кейл может не отвечать ни на один из них, если не хочет, но я их все-таки задам. Тогда я смогу с чистой совестью отправляться домой пить пиво. Робин вздохнул и посмотрел на Кейла. — Не отвечайте без моего разрешения, — сказал он. Кейл, теперь уже откровенно обеспокоенный, кивнул. Нахмурившись, Робин посмотрел на Брайса: — Продолжайте. — Когда мы в прошлый четверг приехали в дом мистера Кейла по его вызову, — заговорил опять Брайс, — я обратил внимание на то, что отворот на одной из штанин и нижняя, утолщенная кромка его свитера выглядели немного влажными. Самую малость, так, что это даже трудно было заметить. У меня сложилось впечатление, что перед нашим приездом он перестирал все, что было на нем надето, но не успел как следует высушить выстиранное. Поэтому я заглянул в ту комнату, где стоит стиральная машина, и обнаружил там кое-что интересное. В шкафу рядом со стиральной машиной, там, где миссис Кейл держала мыло, стиральные порошки и тому подобное, на большой коробке порошка были два отпечатка пальцев. Один немного смазанный, другой совсем четкий. Оба отпечатка были оставлены окровавленными пальцами. Наша лаборатория утверждает, что это отпечатки пальцев мистера Кейла. — Чья кровь была на коробке? — резко спросил Робин. — И у миссис Кейл, и у Денни была нулевая группа крови. У мистера Кейла та же группа. Поэтому нам было достаточно сложно… — Чья кровь была на коробке с порошком? — перебил его Робин. — Кровь была нулевой группы. — Тогда это вполне могла быть кровь моего клиента! Эти отпечатки могли оказаться на коробке гораздо раньше. Допустим, за неделю до того он что-то делал в саду и порезался. Брайс отрицательно покачал головой. — Как вы знаете, Боб, сейчас научились делать очень подробные анализы крови. Ее образец раскладывают на такое число энзимов и молекул протеина, что в результате анализа можно определить ее принадлежность только данному человеку, как и его отпечатки пальцев. И лаборатория нам совершенно однозначно сообщила, что кровь на коробке с порошком — а следовательно, и на руке мистера Кейла, когда он оставил там эти отпечатки, — принадлежала маленькому Денни Кейлу. Глаза Флетчера Кейла оставались все такими же спокойными, лишенными выражения, но сам он сильно побледнел. — Я могу объяснить, как это получилось, — сказал он. — Погодите! — остановил его Робин. — Объясните сначала мне одному! — Адвокат отвел своего клиента в самый дальний угол комнаты. Брайс, ссутулившись, сидел на своем стуле. Чувствовал он себя препротивно. Совершенно разбитым. Такое ощущение появилось у него с прошлого четверга, с того момента, когда он увидел жалкое изувеченное тельце Денни Кейла. Он думал, что ему доставит большое удовольствие наблюдать за тем, как будет корчиться и извиваться, словно червяк, Кейл, когда он его прижмет. Но никакого удовольствия в этом не было. Робин и Кейл вернулись за стол. — Шериф, боюсь, мой клиент сделал глупость. Кейл постарался изобразить на своем лице должное смущение. — Он совершил поступок, который мог быть неверно истолкован. И вы его действительно неправильно истолковываете. Мистер Кейл был тогда испуган, находился в замешательстве, был потрясен свалившимся на него горем. Он не вполне отдавал себе отчет в собственных действиях. Я уверен, что любой состав присяжных окажется на его стороне. Видите ли, когда он обнаружил тело своего сына, то поднял его и… — Он утверждал, что не прикасался к нему. Кейл выдержал прямой взгляд Брайса и произнес: — Когда я увидел лежавшего на полу Денни… я вначале просто не поверил, что он… и вправду мертв. Я его подхватил… подумал, что надо побыстрее отвезти его в больницу… А потом, после того как я уже застрелил Джоанну, я посмотрел на себя и увидел, что я весь… в крови Денни. Я действительно убил жену; но тут я вдруг понял, что может сложиться впечатление, будто и своего сына тоже убил я. — В руке у вашей жены был зажат нож, — напомнил Брайс. — И она тоже вся была в крови Денни. Кроме того, вы могли бы предположить, что коронер найдет в ее крови наркотик. — Сейчас я все это понимаю, — сказал Кейл, вытаскивая из кармана носовой платок и вытирая глаза. — Но тогда я был напуган, что меня могут обвинить в том, чего я не делал. Характеристика «психопат» не подходит к Флетчеру Кейлу, решил Брайс. Он не сумасшедший. Нельзя его назвать и в полном смысле слова социопатом[22]. Пожалуй, его вообще невозможно описать каким-то одним словом. Хороший полицейский, однако, сразу же распознает подобных типов, угадывая в них и способность пойти на преступление, и своего рода талант к проявлениям грубого насилия и жестокости. Есть такой тип людей, у которых прорва жизненных сил, которые любят постоянно находиться в действии, наделены немалой долей обаяния; это люди, которые носят более дорогую одежду, чем могут себе позволить; у которых нет ни одной книги — у Кейла их и не было; у которых нет своей выношенной точки зрения ей по какому серьезному вопросу, будь то сфера экономики, политики, искусства или чего угодно другого; которые не верят в Бога, если только на них не свалилось какое-нибудь несчастье или они не хотят произвести на кого-нибудь впечатление своей набожностью — как Кейл, который хотя и не принадлежал ни к какой религии, сейчас не меньше четырех часов в день проводил за чтением в своей камере Библии; люди, атлетически сложенные, но не терпящие никаких полезных физических нагрузок или упражнений, проводящие все свое свободное время в барах и забегаловках; люди, привычно, по инерции обманывающие свою жену — что, судя по всем отзывам, делал Кейл; импульсивные, ненадежные, всегда и всюду опаздывающие — что тоже было характерно для Кейла; люди, не имеющие перед собой ясных и реалистических целей — «Кто? Флетчер Кейл? Ну, это мечтатель!», — лгущие в денежных вопросах и часто забирающие со своего счета в банке больше, чем на нем есть, легко берущие взаймы и трудно отдающие долг; склонные к преувеличениям, твердо знающие, что в один прекрасный день они разбогатеют, но не имеющие ни плана движения к этой цели, ни представления о том, как и почему это произойдет; люди, которые никогда не задумываются о будущем, но и не сомневаются в том, что оно сложится для них удачно; люди, думающие и заботящиеся только о себе, и то обычно тогда, когда уже бывает поздно. Флетчер Кейл был идеальным образцом подобного человеческого типа. Брайсу доводилось и раньше встречать таких людей. Глаза у них всегда лишены выражения, заглянуть в них невозможно. Лица способны принимать любое выражение, которое необходимо им в данный момент, хотя оно всегда оказывается немного слишком правильным. Если они проявляют заботу и внимание к кому-то другому, кроме себя, от этого за несколько миль несет неискренностью. Их не отягощают угрызения совести, соображения морали, способность любить или испытывать сочувствие. Обычно они живут, сея вокруг себя всевозможные разрушения: портят настроение и существование тем, кто их любит, вносят потрясения в жизнь своих друзей, доверившихся им и понадеявшихся на них, нарушают договоренности и соглашения, обманывают доверие, но при этом так никогда и не пересекают ту черту, за которой начинается преступление. Однако время от времени такие люди заходят далеко. А поскольку они никогда и ничего не делают наполовину, то в этом случае они непременно заходят очень, страшно далеко. Брошенное на пол маленькое, истерзанное, окровавленное тельце Денни Кейла. Мрачное отвращение, переполнявшее Брайса, казалось, становилось все более густым и тягучим, погружая его рассудок в холодный туман. Обращаясь к Кейлу, он спросил: — Вы нам говорили, что ваша жена на протяжении двух с половиной лет была заядлой курильщицей марихуаны? — Совершенно верно. — По моей просьбе коронер обратил особое внимание на некоторые обстоятельства, которыми обычно не принято интересоваться при вскрытиях. В частности, на состояние легких Джоанны. Она не курила не только марихуану, она вообще не курила. Легкие у нее чистые. — Я не говорил, что она курила табак, Только марихуану, — сказал Кейл. — И дым марихуаны, и дым обычного табака разрушающе действуют на легкие, — сказал Брайс. — У Джоанны же легкие были чистые, вообще без всяких следов воздействия дыма. — Но я… — Помолчите, — прервал своего клиента Робин. Он уставил длинный тонкий палец на Брайса, повращал им в воздухе и спросил: — Была ли в ее крови «ангельская пыльца» или нет? Вот что существенно. — Была, — ответил Брайс. — В крови была. Но она ее не курила. Джоанна, видимо, принимала ее внутрь. Очень большое количество этой «пыльцы» было обнаружено у нее в желудке. Робин заморгал от удивления, но быстро преодолел замешательство. — Ну вот, — сказал он, — значит, она ее все-таки принимала. И какая разница, как именно? — В желудке, — продолжал Брайс, — было обнаружено гораздо больше «пыльцы», чем в крови. Кейл попытался изобразить одновременно любопытство, напряженную работу мысли и полную невинность, но даже его весьма подвижному лицу справиться с этим оказалось затруднительно. — Значит, в желудке ее оказалось гораздо больше, чем в крови. И что же из этого следует? — спросил, нахмурившись, Боб Робин. — Ангельская пыльца поглощается кровью очень быстро. Если принимать ее внутрь, то она не может оставаться в желудке долгое время. Джоанна проглотила ее столько, что могла бы свихнуться. Но эта «пыльца» не могла успеть на нее подействовать. Дело в том, что она съела эту «пыльцу» с мороженым. А мороженое сокрыло изнутри ее желудок тонкой пленкой и мешало попаданию наркотика в кровь. Во время вскрытия коронер обнаружил в желудке частично еще не переваренное мягкое шоколадное мороженое. А это означает, что «пыльца» не успела проникнуть в кровь и вызвать у Джоанны галлюцинации или заставить ее впасть в неистовую ярость. — Брайс остановился, перевел дыхание и немного помолчал. — В желудке у Денни тоже были остатки мягкого шоколадного мороженого, но без наркотика. Когда мистер Кейл говорил нам о том, что в четверг он пришел домой с работы пораньше, он забыл упомянуть, что принес домашним угощение. Полгаллона мягкого шоколадного мороженого. Лицо Флетчера Кейла стало абсолютно бесстрастным. Похоже, он наконец исчерпал весь имевшийся у него в запасе арсенал выражений. — В морозильнике у Кейлов мы нашли банку с остатками мороженого, — продолжал Брайс. — Мягкого, шоколадного. Мне кажется, дело происходило следующим образом, мистер Кейл. Вы разложили мороженое по тарелкам, для всех. И я думаю, тайком подсыпали в тарелку жене «ангельской пыльцы», чтобы иметь потом возможность утверждать, что она неистовствовала под влиянием наркотика. Вам не пришло в голову, что коронер сможет все это установить. — Черт возьми, подождите минуту! — воскликнул Робин. — А потом, когда вы стирали свою окровавленную одежду, — продолжал Брайс, обращаясь к Кейлу, — вы вымыли тарелки из-под мороженого и убрали их, потому что, по вашей версии, когда вы пришли домой с работы, маленький Денни был уже мертв, а его мать уже свихнулась на почве наркотиков. — Все это только предположения, — сказал Робин. — А о мотивах вы забыли? Ради Бога, зачем бы моему клиенту понадобилось совершать столь омерзительное деяние? Пристально глядя в глаза Кейла, Брайс произнес: — Высокогорные инвестиции. Лицо Кейла оставалось бесстрастным, но глаза его дрогнули. — Высокогорные инвестиции? — переспросил Робин. — Что это такое? Брайс продолжал, не отрывая взгляда от Кейла. — В прошлый четверг, перед тем как идти домой, вы покупали мороженое? — Нет, — категорически ответил Кейл. — А владелец магазина на Кальдер-стрит утверждает, что покупали. Кейл яростно сжал зубы, и скулы у него напряглись. — Что такое «Высокогорные инвестиции»? — снова спросил Робин. Брайс выстрелил в Кейла следующим вопросом: — Вам известен человек, которого зовут Джин Терр? Кейл молчал. — Его еще иногда называют Джитер. — Кто это такой? — спросил Робин. — Главарь «Хромированных дьяволов», — ответил Брайс, внимательно наблюдая за Кейлом. — Банды мотоциклистов. Джитер занимается торговлей наркотиками. Самого его поймать с поличным нам, правда, ни разу не удавалось. Но кое-кого из членов его банды мы посадили. В связи с этим делом мы нажали на Джитера, и он вывел нас на одного из своих людей, который признался, что мистер Кейл регулярно покупал у него марихуану. Мистер, не миссис Кейл. Она никогда ничего не покупала. — И кто это говорит? — возмутился Робин. — Рокер! Подонок! Торговец наркотиками! Как можно верить показаниям такого свидетеля?! — По имеющейся у нас информации, мистер Кейл покупал в прошлый четверг не только марихуану. Он покупал и «ангельскую пыльцу». Человек, который продал ему все это, готов дать показания в суде в обмен на то, что его не будут преследовать по закону[23]. Со звериной быстротой и внезапностью Кейл вскочил, схватил стоявший рядом с ним пустой стул, запустил его через стол в Брайса Хэммонда и кинулся к выходу. В то мгновение, когда стул еще был в воздухе, Брайс уже бросился за убегавшим, поэтому стул пролетел мимо головы шерифа, не причинив ему никакого вреда, и грохнулся на пол позади него. Брайс в этот момент огибал стол. Ударом ноги Кейл распахнул дверь и выскочил в коридор. Брайс отставал от него всего на четыре шага. Тал Уитмен слетел с подоконника так, словно его снесло оттуда взрывом, и сейчас мчался на шаг позади Брайса, крича во все горло. Выскочив в коридор, Брайс увидел, что Флетчер Кейл несется по направлению к желтой входной двери, находившейся от него примерно в двадцати футах. Он припустился вдогонку за этим сукиным сыном. Кейл с разбега налетел на ручку и распахнул металлическую дверь. В следующее мгновение, когда Кейл уже заносил ногу через порог, собираясь выскочить на посыпанную щебнем стоянку возле полицейского участка, Брайс настиг его. Чувствуя, что Брайс уже у него за спиной, Кейл с невероятной быстротой и гибкостью развернулся и выбросил вперед свой огромный кулак. Брайс увернулся от удара и сам влепил кулаком по твердому и плоскому животу Кейла, а потом со всего маху ударил его по шее. Кейл отшатнулся назад, прижав руки к горлу, кашляя и ловя ртом воздух. Брайс двинулся на него. Но Кейлу досталось не так сильно, как он притворялся. Он прыгнул навстречу Брайсу и крепко зажал его своей железной хваткой. — Ах ты гад! — рычал Кейл, брызжа слюной. Его серые глаза были широко раскрыты, рот свирепо оскален, во всем его облике появилось что-то волчье. Руки Брайса оказались прижатыми к телу, и, хотя он и сам был достаточно силен, вырваться из тисков Кейла не мог. Так, вместе, борясь друг с другом, они сделали несколько шагов назад, споткнулись и грохнулись, причем Кейл очутился наверху. Голова Брайса больно ударилась о мостовую, и на мгновение ему почудилось, что он вот-вот потеряет сознание. Кейл ударил его, но не очень сильно, потом вдруг скатился с него и быстро пополз на карачках куда-то в сторону. С трудом прогоняя возникшую у него перед глазами темную пелену и удивляясь, что Кейл почему-то не воспользовался преимуществом, которое имел, Брайс перевернулся и встал на четвереньки. Он потряс головой — и тут увидел, куда устремился его противник. За револьвером. Он лежал на щебенке в нескольких ярдах от них, мрачно поблескивая в желтоватом свете натриевых ламп. Брайс схватился за кобуру. Пустая. Валявшийся на земле револьвер был его собственным. По-видимому, когда шериф упал, револьвер выскользнул из кобуры и отлетел в сторону. Рука убийцы сомкнулась на оружии. В этот момент Тал Уитмен изо всей силы ударил Кейла сзади по шее полицейской дубинкой и тот свалился без сознания прямо на револьвер. Присев с ним рядом, Тал перевернул Кейла на спину и проверил его пульс. Держась за собственный раскалывающийся затылок, Брайс, прихрамывая, подковылял к ним. — Как он, Тал? Цел? — Вполне. Через пару минут оклемается. — Уитмен подобрал револьвер Брайса и поднялся. — Я тебе обязан, Тал, — поблагодарил Брайс, принимая из его рук оружие. — Чепуха. Как твоя голова? — Пройдет. На этот раз повезло. — Я не ожидал, что он бросится удирать. — Я тоже не ожидал, — сказал Брайс. — Такие люди, когда их по-настоящему припрешь, обычно становятся все спокойнее, хладнокровнее и осторожнее. — Ну, этот, видимо, решил, что для него уже все кончено. В дверях полицейского участка стоял Боб Робин, с ужасом глядел на них и молча качал головой.Некоторое время спустя, когда Брайс Хэммонд уже сидел за столом, заполняя бланки, в которых Флетчеру Кейлу предъявлялось обвинение в совершении двух предумышленных убийств, в открытую дверь его комнаты постучал Боб Робин. Брайс поднял голову. — Ну что, адвокат, как ваш клиент? — С ним все в порядке. Но он уже больше не мой клиент. — Вот как? Это было его решение или ваше? — Мое. Я не могу вести дела клиента, который лжет мне буквально во всем. Не люблю, когда из меня делают дурака. — Так что, ему прямо сейчас потребуется другой адвокат? — Нет. Он намерен просить у судьи общественного защитника, когда ему будет предъявлено обвинение. — Это будет завтра утром, первым делом. — Не теряете даром времена, а? — Только не с этим типом, — ответил Брайс. — Правильно, — кивнул Робин. — Это очень мерзкий тип, Брайс. — Робин помолчал, а затем негромко произнес: — Знаете, я на целых пятнадцать лет отошел от католической веры. Я уже давным-давно решил для себя, что ангелов, чертей, чудес и тому подобного не существует. Я считал себя слишком образованным человеком, чтобы верить в то, будто Зло — Зло с заглавной буквы — ходит по миру на козлиных копытах. Но сейчас здесь, в камере, Кейл вдруг окрысился на меня и заявил: «Ничего они со мной не сделают. Меня не сломить. Никому. Я из этого выпутаюсь». А когда я предостерег его против чрезмерного оптимизма, он сказал: «Я таких, как вы, не боюсь. И никаких убийств я не совершал. Я просто избавился от мусора, который отравлял мне жизнь». — Господи Иисусе, — проговорил Брайс. Они помолчали оба. Потом Робин вздохнул. — А что все-таки такое эти «Высокогорные инвестиции»? Как они связаны с мотивами его преступления? — спросил он. Но прежде чем Брайс успел ответить, в комнату торопливо вошел Тал Уитмен. — Брайс, можно тебя на пару слов? — Он взглянул на Робина. — Если можно, наедине. — Конечно, — проговорил Робин. Адвокат вышел, Тал прикрыл за ним дверь. — Брайс, ты знаешь доктора Дженифер Пэйдж? — Она некоторое время тому назад открыла кабинет в Сноуфилде. — Точно. Но что она за человек, ты знаешь? — Я с ней незнаком. Слышал, правда, что она неплохой врач. Жители этих маленьких горных деревушек теперь довольны, что им не надо больше ездить к врачам в Санта-Миру. — Я тоже с ней незнаком. Я престо хотел спросить… может быть, до тебя доходило… не выпивает ли она. Я хочу сказать… не пьет ли? — Нет, я ничего подобного про нее ее слышал. А что? Что случилось? — Она позвонила пару минут назад. Говорит, что в Сноуфилде произошла катастрофа. — Катастрофа? Какая катастрофа? — Она говорит, что не знает. — А когда ты с ней разговаривал, у нее не было истерики? — спросил, помолчав немного, Брайс. — Голос звучал испуганно, это верно. Но истерики не было. Она хочет говорить непременно с тобой, никому другому не хочет ничего говорить. Она сейчас на третьем канале. Брайс потянулся к трубке телефона. — И еще кое-что, — проговорил Тал, озабоченно морща лоб. Брайс положил руку на трубку, но не снял ее. — Она мне сказала… — проговорил Тал. — Я просто не могу этому поверить… Она сказала… — Ну? — Она сказала, что там все мертвы. Весь Сноуфилд. По ее словам, единственные, кто там пока живы, это она сама и ее сестра.
Глава 10
СЕСТРЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Дженни и Лиза выбрались из дома Оксли тем же путем, каким попали туда: через окно. Ночь становилась все холоднее. И опять подул ветер. Они поднялись в гору по Скайлайн-роуд, дошли до дома Дженни и прихватили там жакетки, чтобы было не так холодно. Потом опять спустились вниз и вернулись в полицейский участок. Прямо перед ним, на тротуаре, к бордюрному камню была привинчена деревянная скамья, и они уселись на нее в ожидании, пока придет помощь из Санта-Миры. — Как ты думаешь, когда они сюда доберутся? — спросила Лиза. — Ну, до Санта-Миры отсюда больше тридцати миль, причем по горной дороге с массой крутых поворотов. А кроме того, они должны еще принять особые меры предосторожности. — Дженни посмотрела на свои часы. — Думаю, они здесь будут минут через сорок пять. Самое большее через час. — Ого! — Это не так долго, голубушка. Лиза подняла воротник хлопчатобумажной, отделанной шерстяной с начесом тканью, жакетки. — Дженни, когда в доме Оксли зазвонил телефон и ты сняла трубку… — Да? — Кто тогда звонил? — Никто. — А что ты слышала? — Ничего, — солгала Дженни. — Судя по выражению твоего лица, я подумала, что тебе кто-нибудь угрожал или говорил что-то очень неприятное, нехорошее. — Ну конечно, я была очень встревожена и расстроена. Когда он зазвонил, я подумала, что телефоны заработали. Но когда я сняла трубку и услышала все ту же гробовую тишину, я… во мне как будто что-то сломалось. Вот и все. — А потом в трубке раздался гудок? — Да. «Наверное, она мне не верит, — подумала Дженни. — Считает, что я стараюсь оградить ее от чего-то. Что я, разумеется, и делаю. Но как передать ей ощущение, что на другом конце провода было тогда какое-то неимоверное зло? Я и сама-то пока еще не понимаю, в чем тут дело. Кто или что слушал тогда меня по телефону? Почему он — или оно — в конце концов позволило мне позвонить?» По улице ветром пронесло клочок бумаги. За исключением этого, все остальное было неподвижно. По луне скользнуло и прошло легкое облачко. Помолчав немного, Лиза сказала: — Дженни, если со мной сегодня ночью что-нибудь случится… — Ничего с тобой, голубушка, не случится. — Но если все-таки случится, — настойчиво повторила Лиза, — я хочу, чтобы ты знала, что я… ну… честное слово, горжусь тем, что у меня такая сестра. Дженни обняла девочку за плечи, и они еще теснее прижались друг к другу. — А жаль, сестренка, что все эти годы мы с тобой так редко виделись. — Ты же ведь не могла чаще приезжать домой, — ответила Лиза. — Я понимаю, как трудно тебе приходилось. Я прочла десятка два книг о том, через что приходится пройти, прежде чем стать врачом. Я всегда знала, какой груз лежит у тебя на плечах и о скольком тебе приходится думать и беспокоиться. — Ну, все-таки я бы могла приезжать и почаще, — проговорила Дженни. Иногда она действительно могла бы приехать, но не делала этого, потому что не могла выносить молчаливого обвинения и укора, которые читала в грустных глазах матери; обвинения тем более задевавшего ее, что оно ни разу не было высказано вслух: «Ты убила отца, Дженни. Ты разбила его сердце, и это его убило». — И мама тоже всегда тобой очень гордилась, — сказала Лиза. Это заявление не просто удивило Дженни. Оно потрясло ее. — Мама всегда веем рассказывала, что ее дочь врач, — улыбнулась при воспоминании об этом Лиза. — Иногда мне казалось, что ее друзья по бридж-клубу выставят ее за дверь, если она скажет еще хоть слово о тебе, твоих хороших отметках и стипендиях. — Ты это серьезно? — Дженни часто заморгала. — Конечно, серьезно. — Но разве мама не… — Не что? — переспросила Лиза. — Ну… разве она никогда ничего не говорила о… об отце? Он умер двенадцать лет тому назад. — Да, я знаю. Он умер, когда мне было два с половиной года, — Лиза наморщила лоб. — Но какое это имеет отношение?.. — Ты ни разу не слышала, чтобы мама винила меня? — Винила тебя в чем? Но прежде чем Дженни успела ответить, Сноуфилд стал еще больше походить на погруженное в могильную тишину и спокойствие кладбище. В городе внезапно погасли все огни.Три полицейские машины, сверкая красными мигалками, выехали из Санта-Миры и направились мимо погруженных в ночную темень и тишину холмов в сторону высоких гор Сьерры, склоны которых были сейчас залиты лунным светом. За рулем самой первой машины в этой идущей на большой скорости колонне был Тал Уитмен, рядом с ним сидел шериф Хэммонд. На заднем сиденье расположились два помощника шерифа — Горди Брогэн и Джейк Джонсон. Горди был в состоянии панического страха. Он знал, что внешне ничем не выдает этот страх, и радовался хотя бы этому. Внешне он производил впечатление человека, который вообще не умеет бояться. Он был высок, крупного телосложения, широк в кости и мускулист. Руки у него были большие, как у профессионального баскетболиста, и сильные. Казалось, он может одним щелчком прибить любого, кто станет ему досаждать. У него было довольно красивое лицо, и он это знал: женщины не раз говорили ему об этом. Но оно в то же время казалось грубым и мрачным, а тонкие губы придавали его рту жестокое выражение. Впечатление от его внешности лучше всех выразил Джейк Джонсон, сказавший как-то: «Горди, когда ты хмуришься, то кажешься человеком, который ест на завтрак живых цыплят». И все-таки, несмотря на столь свирепый внешний вид, Горди Брогэн был сейчас панически напуган. Страх у него вызывала не опасность заразиться неизвестной болезнью или отравиться. Шериф перед выездом предупредил: есть вероятность того, что жителей Сноуфилда убили не микробы и не яды, но какие-то люди. И теперь Горди боялся, что, впервые за все восемнадцать месяцев службы в полиции, ему придется воспользоваться оружием. Боялся, что придется стрелять в кого-нибудь, чтобы спасти свою жизнь, жизнь другого полицейского или потенциальной жертвы. Он был уверен, что не сможет этого сделать. Он открыл в себе эту опасную слабость пять месяцев тому назад, когда выезжал на вызов, поступивший из магазина спортивных принадлежностей Доннера. Здоровый парень по имени Лео Сайпс, бывший работник этого магазина, разозленный тем, что его оттуда выгнали, заявился в магазин через две недели после увольнения, избил управляющего, сломал руку сотруднику, которого взяли на его место, и принялся крушить все вокруг. К тому моменту, когда Горди появился на месте происшествия, Лео Сайпс — высокий, тупой и пьяный — был занят тем, что топором, каким обычно пользуются лесорубы, бил и разносил вдребезги выставленные на прилавках товары. Уговорить его сдаться Горди не удалось. А когда Сайпс, размахивая топором, бросился на него самого, Горди вытащил револьвер. Тогда-то он и обнаружил, что не в состоянии заставить себя воспользоваться оружием. Указательный палец, которым надо было нажать на спуск, внезапно окаменел и перестал его слушаться. Горди пришлось засунуть оружие назад и пойти на риск рукопашной схватки с Сайпсом. Каким-то чудом ему удалось тогда отнять у этого балбеса топор. Сейчас, пять месяцев спустя, Горди сидел на заднем сиденье патрульной машины, прислушивался краем уха к разговору Джейка Джонсона и шерифа Хэммонда, а живот у него сводило судорогой при одной мысли о том, что может причинить человеку полая внутри пуля сорок пятого калибра. Она в самом прямом смысле слова способна снести ему голову. Может превратить плечо в кашу из разорванных тканей и разбитых на длинные корявые иглы костей. Разворотить грудную полость, разметав на кусочки сердце и все, что попадется ей на пути. Оторвать ногу, если попадет в коленную чашечку, или превратить лицо человека в сплошное кровавое месиво. Горди Брогэн, да поможет ему Всевышний, был просто-напросто неспособен причинить кому бы то ни было подобные увечья. В этом-то и заключалась его самая большая слабость. Он знал, что некоторые люди назвали бы его неспособность выстрелить в другого человека не слабостью, но признаком морального превосходства. Он, однако, понимал и то, что такие рассуждения оказываются не всегда верны. Бывают ситуации, когда выстрелить в другого — это и значит совершить моральный поступок. Офицер полиции приносит присягу в том, что будет защищать людей. И если он не способен выстрелить, когда применение оружия явно оправданно и необходимо, то это уже не слабость, а слабоумие, пожалуй, даже грех. На протяжении последних пяти месяцев, после того случая в магазине спорттоваров, Горди везло. Ему пришлось всего несколько раз выезжать на вызовы, связанные с применением насилия. По счастью, ему удавалось смирять нарушителей угрозами, кулаками, дубинкой, на худой конец предупредительными выстрелами в воздух. Один раз, когда стрельба по преступнику была неизбежной, другой полицейский, Фрэнк Отри, выстрелил раньше и тем избавил Горди от непосильной задачи — нажать на спусковой крючок. Но сейчас в Сноуфилде произошло что-то невообразимо страшное. А Горди хорошо знал по опыту, что насилию часто приходится противопоставлять встречное насилие. Револьвер, болтавшийся в кобуре у него на бедре, весил, казалось, тысячу тонн. Горди думал о том, что приближается момент, когда его слабость обнаружится и станет известна всем. Думал, что, возможно, сегодня ночью он погибнет, — а быть может, его слабость станет причиной бессмысленной гибели кого-то еще. Он истово молился про себя, чтобы суметь справиться с этим наваждением. Безусловно, должно существовать какое-то решение, позволяющее человеку быть по природе своей мирным, по при этом обладать достаточной силой воли и характера, чтобы суметь защитить самого себя, своих друзей а других людей — таких же, как он сам… Сверкая ярко-красными мигалками, три бело-зеленые полицейские машины забирались по серпантину шоссе все выше в темные ночные горы, все ближе к самым их вершинам, блестевшим под лунным светом так, что со стороны могло показаться, будто там, наверху, уже выпал первый в этом сезоне снег. Горди Брогэн был в состоянии панического страха.
Уличные фонари и все другие огни погасли, и городок погрузился в кромешную тьму. Дженни и Лиза вскочили с деревянной скамейки. — Что случилось? — Тссс! — прервала ее Дженни. — Слушай! Но вокруг стояла все та же абсолютная тишина. Ветер затих, как будто тоже испугался наступившей в городке темноты. Лес молчал, и ветви деревьев висели неподвижно, как старая одежда в шкафу. «Слава Богу, что хоть луна светит», — подумала Дженни. С колотящимся вовсю сердцем она обернулась и принялась внимательно рассматривать все, что их окружало. Полицейский участок. Небольшое кафе. Магазинчики. Жилые дома. Тени лежали на входных дверях всех домов, настолько густые тени, что было невозможно сказать, открыты эти двери или заперты — или именно в этот момент потихоньку открываются и выпускают на темные ночные улицы страшных, раздувшихся, каким-то дьявольским образом восставших мертвецов. «Прекрати! — подумала Дженни. — Мертвецы не оживают». Взгляд ее остановился на воротах крытого служебного проезда между полицейским участком и магазином сувениров. Проезд этот в точности напоминал тот мрачный узкий туннель, что находился рядом с булочной Либерманов. Не прячется ли что-нибудь и здесь тоже? И может быть, сейчас, когда погас свет, оно неумолимо подбирается там, внутри, поближе к воротам,готовясь выскочить прямо на темный тротуар? Опять этот первобытный страх. Это ощущение присутствия Зла. Этот суеверный ужас. — Пойдем, — сказала она Лизе. — Куда? — На улицу. Там на нас ничто не нападет… — …так, что мы его даже не увидим, — докончила, сразу все поняв, Лиза. Они вышли на самую середину освещенной лунным светом мостовой. — Сколько еще до приезда полиции? — спросила Лига. — Минут пятнадцать-двадцать, не меньше. В этот момент во всем городке внезапно зажегся свет. Яркий электрический поток ослепил их — и тут же снова настала темнота. Дженни подняла револьвер — растерянно, не зная, в какую сторону его направить. В горле у нее будто застрял сухой комок страха, рот мгновенно пересох. Над всем Сноуфилдом пронесся вдруг громкий и ужасный, резкий и отвратительный вой. Дженни и Лиза завопили от страха, резко обернулись, наткнувшись друг на друга, а затем принялись лихорадочно оглядываться по сторонам, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь во мраке, лишь чуть-чуть разбавленном лунным светом. Опять наступила полная тишина. Потом опять раздался такой же вой. Снова тишина. — Что это? — спросила Лиза. — Пожарная сирена! Звук раздался снова: короткое, разрывающее уши завывание, донесшееся с восточной стороны Сент-Мориц-уэй, оттуда, где располагалось депо добровольной пожарной дружины Сноуфилда. Вам-м-м! Дженни опять подскочила от неожиданности и обернулась. Бам-м-м! Бам-м-м! — Церковный колокол, — сказала Лиза. — Это в католической церкви, в западной части Вейл-лэйн. Колокол прозвонил еще раз, и его громкий, глубокий и скорбный звук отозвался дребезжанием стекол во всех темных окнах погруженной во мрак Скайлайн-роуд, во всех не видных сестрам окнах по всему мертвому городку. — Чтобы звонил колокол, кто-то должен тянуть за канат, — проговорила Лиза. — А чтобы завыла сирена, надо нажать кнопку. Так что кто-то здесь есть, кроме нас с тобой. Дженни ничего ей не ответила. Снова подала голос сирена: взвыла и затихла, еще раз взвыла и затихла. Потом опять зазвонил колокол. Потом колокол и сирена зазвучали одновременно — и еще раз, еще и еще, как бы возвещая о пришествии кого-то чрезвычайно важного.
Ночной пейзаж в горах, по дороге на Сноуфилд, был выдержан исключительно в черных и серебристо-лунных тонах. Лес, чуть в отдалении от дороги, казался скоплением мрачных силуэтов и черных теней, среди которых в слабом лунном свете то здесь, то там не столько были видны, сколько угадывались белесые вкрапления листьев и иголок. С этим пейзажем резко контрастировали кроваво-красные отблески вращающихся мигалок, установленных на крышах трех «фордов», надписи и гербы на передних дверцах которых свидетельствовали об их принадлежности полицейскому департаменту округа Санта-Мира. Вторую машину вел помощник шерифа Фрэнк Отри; на переднем сиденье рядом с ним, ссутулившись и сползая вниз, сидел Стю Уоргл. Фрэнк Отри был строен, жилист, с аккуратно подстриженными темными волосами, в которых уже проглядывала седина. Черты его лица были четки и экономны, словно в тот день, когда Бог создавал генетическую линию Фрэнка, он не был расположен ничего тратить зря. Карие глаза под узкими, слегка изогнутыми бровями; узкий патрицианский нос; рот, не чересчур маленький, но и не слишком большой; небольшие уши, почти без мочек, плотно прижатые к голове. Усы Фрэнка были подстрижены и ухожены самым тщательнейшим образом. Полицейскую форму он носил именно так, как предписывали правила: черные ботинки были начищены до зеркального блеска; складка на широких коричневых брюках заглажена, как бритва; кожаный пояс и кобура вычищены и блестели от ланолина; коричневая сорочка всегда свежая и накрахмаленная. — Мать его, это же нечестно, — пробурчал Стю Уоргл. — Командиру не обязательно быть честным. Достаточно, чтобы он был прав, — ответил Фрэнк. — Это какому еще командиру? — раздраженным, ворчливым тоном спросил Уоргл. — Шерифу Хэммонду. Ты же о нем говоришь? — Я его командиром не считаю. — И тем не менее он командир, — возразил Фрэнк. — Сукин он сын, — проворчал Уоргл. — Готов меня со свету сжить. Фрэнк ничего не ответил. До того как он пришел на работу в полицию округа, Фрэнк Отри был профессиональным армейским офицером. В возрасте сорока четырех лет, после двадцати пяти лет безупречной службы в армии, он вышел в отставку и вернулся в Санта-Миру — городок, в котором родился и вырос. Он намеревался открыть здесь какое-нибудь небольшое дело, чтобы подрабатывать к пенсии и просто чем-то заниматься, по так и не смог подыскать ничего подходящего. Постепенно он стал осознавать, что для него не имеет смысла и не кажется привлекательной никакая работа, где нет необходимости носить форму, командовать и подчиняться, нет элементов физического риска и ощущения того, что, выполняя ее, ты служишь обществу. Три года назад, в сорокашестилетнем возрасте, он поступил на работу в полицию и, несмотря на то, что здесь он был рядовым полицейским, а не майором, как в армии, с тех пор чувствовал себя счастливым. Если точнее, то счастливым он себя чувствовал всегда, за исключением тех дней — обычно за месяц их набиралась неделя, — когда ему выпадало дежурить в паре со Стю Уорглом. Уоргл был невыносим. Фрэнк терпел его только потому, что оттачивал на нем свою способность сохранять хладнокровие и выдержку. Уоргл был разгильдяем. Волосы у него нередко бывали грязные. Когда он брился, то всегда оставлял на лице островки невыбритой щетины. Форма на нем была вечно измятая, ботинки он вообще никогда не чистил. У него был слишком широкий зад, чересчур широкие бедра, и вообще весь он как-то неприятно расширялся книзу. Уоргл был тупицей. У него начисто отсутствовало чувство юмора. Он ничего не читал, ничего не знал, однако всегда имел непоколебимую точку зрения по любым вопросам текущей политической и общественной жизни. Уоргл был ничтожеством. В свои сорок пять лет он все еще ковырял в носу, не смущаясь ничьим присутствием. Он мог с апломбом рыгать, выпускать газы, издавать другие неприличные звуки. Не меняя своей раскоряченной позы, Уоргл произнес: — Мое дежурство заканчивается в десять часов. В десять, черт побери! И Хэммонд поступил нечестно, что потащил меня в этот Сноуфилд. А у меня там уже все было на мази. Фрэнк не клюнул на крючок и не спросил, с кем там у Уоргла намечалось свидание. Сосредоточившись на дороге, он продолжал вести машину, искренне надеясь, что Уоргл не станет рассказывать, кто это у него там «был на мази». — Официанточка из этого ресторана, «Для тех, кто торопится», — проговорил Уоргл. — Возможно, ты ее видел. Такая блондиночка. Зовут Беатриса. Там ее кличут Бо[24]. — Я туда редко заезжаю, — сказал Фрэнк. — А-а. Да, так вот, мордашка у нее очень даже ничего. И все остальное тоже. В общем, фигурка что надо. Есть малость лишнего веса, но малость. А она считает, что слишком толстая и некрасивая. Неуверенная в себе, понимаешь? Если правильно подойти, если поиграть на ее сомнениях, понимаешь, а потом сказать ей, что ты ее все равно хочешь, пусть даже она немного и толстовата, — да она тогда все для тебя сделает. Все, понимаешь? И он расхохотался, словно сказал что-то очень смешное. Фрэнку захотелось врезать этому подонку по физиономии. Но он сдержался. Уоргл был женоненавистником. Он обычно говорил о женщинах как о существах низших. Мысль о том, что с ними можно быть счастливым, жить одной жизнью, делиться самыми сокровенными мыслями или же что женщину можно любить, лелеять, восхищаться ею, уважать, ценить за ее мудрость, прозорливость, чувство юмора, — подобные представления были абсолютно чужды Стю Уорглу. Фрэнк Отри, напротив, был вот уже двадцать шесть лет женат на своей симпатичной Рут. Он обожал ее. И хотя сознавал, что думать так — это проявление эгоизма, но иногда молился о том, чтобы ему выпало умереть первому и не пришлось бы жить без Рут. — Этот Хэммонд, мать его, явно хочет меня допечь. Вечно он ко мне придирается. — По поводу чего? — Всего. И форма моя ему не нравится. И то, как я пишу донесения. Он мне тут заявил, что я должен изменить свое отношение к службе. Отношение мое ему, видишь ли, не нравится! Он меня хочет допечь, но ничего у него не выйдет. Еще пять лет оттрублю, и будет у меня тридцать лет выслуги и соответствующая пенсия, понимаешь? Не выйдет у этого сукина сына лишить меня моей пенсии. Он меня из полиции не выживет! Почти два года тому назад избиратели Санта-Миры проголосовали за то, чтобы ликвидировать свою городскую полицию, передав ее обязанности в городе департаменту окружного шерифа. Так они выразили доверие Брайсу Хэммонду, отлично поставившему работу полиции округа. Но при этом было выдвинуто одно условие: никто из бывших городских полицейских не должен лишиться ни работы, ни выслуги лет перед пенсией. Это означало, что все они должны были перейти на работу в полицию округа. Вот почему Брайс Хэммонд не мог избавиться от Стюарта Уоргла. Они подъехали к повороту на Сноуфилд. Фрэнк взглянул в зеркало заднего вида и увидел, что третья машина отделилась от колонны. Как они и договаривались, машина встала поперек дороги на Сноуфилд, заблокировав подъезд к городку. Машина шерифа Хэммонда продолжала двигаться по направлению к Сноуфилду, и Фрэнк последовал за ней. — А зачем, черт возьми, мы везем воду? — спросил Уоргл. Три пятигаллонных канистры воды стояли на полу машины вдоль заднего сиденья. — Вода в Сноуфилде может быть заражена, — ответил Фрэнк. — А для чего мы набили полный багажник еды? — Возможно, продукты там тоже нельзя использовать. — Не верю, что там все вымерли. — Шериф не смог дозвониться в наш участок, Полу Хендерсону. — Ну и что? Пол Хендерсон подонок. — Докторша, которая оттуда звонила, сказала, что Пол Хендерсон мертв, как и все остальные… — О Господи, да эта докторша чокнутая или наклюкалась. Да и какая она докторша? Чтобы женщина была врачом?! Она, наверное, только через постель всего этого и добилась. — Что? — Ни одна баба не способна честно выучиться на доктора! — Уоргл, ты не перестаешь меня удивлять. — А чем я тебе-то на хвост наступил? — спросил Уоргл. — Ладно. Оставим это. Уоргл рыгнул. — Я все-таки не верю, что все они там померли. Еще одним недостатком Стю Уоргла было полное отсутствие воображения. — Дерьмо. Сплошное дерьмо. А у меня там уже все было на мази. Фрэнк Отри, напротив, был наделен очень хорошим воображением. Возможно, даже слишком хорошим. И сейчас, когда они поднимались все выше в горы и уже проехали знак «ДО СНОУФИЛДА — 3 МИЛИ», его воображение работало, как хорошо смазанная машина. У него было очень неприятное ощущение — предчувствие? подозрение? — что они въезжают прямиком в Ад.
Сирена на пожарном депо взвыла снова. Церковный колокол зазвонил все чаще и чаще. Городок захлестнула оглушительная какофония. — Дженни! — закричала Лиза. — Смотри во все глаза! Следи, нет ли какого движения! Но улицу заполняли, переплетаясь друг с другом, тысячи мрачных теней, и разглядеть среди них что-либо не было никакой возможности. Непрерывно выла сирена, отчаянно трезвонил колокол, и в довершение всего в городке замигал свет. Уличные фонари, освещение в домах и в витринах магазинов — все это стало включаться и выключаться с такой скоростью, что от непрерывных вспышек закружилось и замельтешило в глазах. Скайлайн-роуд замелькала, как кадры в кино: дома словно бы подпрыгнули ближе к улице, потом отскочили обратно, снова скакнули вперед; тени заплясали, как сумасшедшие. Дженни, держа револьвер прямо перед собой, повернулась и сделала полный оборот. Но если что-то и подбиралось к ним под прикрытием этой световой свистопляски, то разглядеть она все равно ничего не смогла бы. «А что, если, когда шериф приедет, — подумала Дженни, — он обнаружит посередине улицы лишь две отрезанные головы? Мою и Лизы». Церковный колокол звонил непрерывно, как сумасшедший, и гул его становился все громче и громче. Вой сирены становился все выше, от него сводило скулы, начинали болеть зубы и ныть жести. Казалось чудом, что до сих пор от него не разлетелось ни одно окно. Лиза зажала уши руками. Револьвер в руке у Дженни прыгал во все стороны. Держать его неподвижно у нее не было сил. Все прекратилось так же внезапно, как началось. Смолкла сирена. Перестал гудеть колокол. Освещение зажглось и уже больше не гасло. Дженни быстро пробежала взглядом по улице, ожидая, что сейчас должно произойти что-то еще, что-то гораздо худшее. Но ничего не случилось. В городке опять все было тихо и спокойно, как на кладбище. Неизвестно откуда снова налетел ветерок, и деревья дружно и ритмично закачались, словно пританцовывая под музыку эфира, недоступную обычному человеческому слуху. Лиза потрясла головой, словно стряхивая с себя какое-то наваждение, и сказала: — Такое впечатление, будто… нас пытались напугать, понарошку… дразнили нас. — Да, дразнили, — согласилась Дженни. — И у меня тоже было такое впечатление. — Играли с нами. — Как кошка с мышкой, — тихо добавила Дженни. Они стояли посередине погруженной в тишину улицы и не двигались с места, боясь, что, если опять сядут на скамейку возле полицейского участка, это может снова вызвать колокольно-сиренную какофонию. И тут они услышали низкий рокот. На какое-то мгновение желудок у Дженни судорожно сжался, и она снова подняла револьвер, хотя и не видела вокруг себя ничего такого, по чему требовалось бы стрелять. Потом она поняла, что это за звук: так шумит мотор круто поднимающейся в гору машины. Она обернулась и стала смотреть вдоль улицы. Шум моторов становился все сильнее. И вот из-за поворота у самого въезда в городок появилась машина. На крыше у нее сверкали красные мигалки. Значит, полиция. За первой полицейской машиной шла еще одна. — Слава Богу! — воскликнула Лиза. Дженни взяла сестру под руку, они отошли с мостовой на тротуар и встали перед полицейским участком. Две бело-зеленые патрульные машины медленно проехали по пустынной улице и остановились под углом к тротуару прямо напротив деревянной скамьи. Их двигатели смолкли одновременно, и над всем Сноуфилдом снова повисла ночная тишина, так похожая на кладбищенское молчание. Из первой машины вышел довольно красивый негр в форме помощника шерифа. Дверцу он оставил открытой. Он посмотрел на Дженни и Лизу, но ничего не сказал им: его внимание сразу же привлекла сверхъестественно тихая улица, на которой не было видно ни одного человека. С другой стороны этой же машины, с переднего сиденья, выбрался еще один полицейский. Его песочного цвета волосы были растрепаны, глаза из-под тяжелых век смотрели так, что казалось, он вот-вот уснет. Он был не в форме — серые широкие брюки, бледно-голубая рубашка, темно-синий нейлоновый пиджак, — но к пиджаку был приколот полицейский знак. Из подъехавших машин вышли еще четверо. Все долго стояли молча, не говоря ни слова, скользя взглядом по притихшей улице, домам и магазинам. И пока ничто не нарушало это странное, затянувшееся молчание, у Дженни возникло леденящее душу предчувствие, к которому она отказывалась прислушаться. Она была уверена — она чувствовала, нет, знала наверняка, — что не все из них выберутся отсюда живыми.
Глава 11
РЕКОГНОСЦИРОВКА
Брайс опустился на одно колено рядом с телом Пола Хендерсона. Остальные семеро — его подчиненные, доктор Пэйдж и Лиза — сгрудились перед деревянной загородкой, в посетительской части полицейского участка Сноуфилда. Перед лицом Смерти все молчали. Пол Хендерсон был при жизни хорошим и добропорядочным человеком, и смерть его казалась всем бессмысленной и ужасной. — Доктор Пэйдж? — позвал Брайс. Она присела на корточки по другую сторону трупа: — Да? — Вы не переворачивали тело? — Я к нему даже не прикасалась, шериф. — Крови не было? — Все было так, как вы видите. Никакой крови. — Рана может быть на спине, — сказал Брайс. — Даже если она там, на полу все равно должна быть кровь. — Наверное. — Он посмотрел прямо в ее удивительные глаза — зеленые с золотыми крапинками. — При других обстоятельствах я бы не стал трогать тело до приезда коронера. Но это особый случай. Надо его перевернуть. — Не знаю, вполне ли безопасно дотрагиваться до него. — Кому-то же придется это сделать, — ответил Брайс. Доктор Пэйдж поднялась, и все отступили на пару шагов назад. Брайс приложил руку к багрово-черному, искаженному лицу Хендерсона. — Кожа еще немного теплая, — удивленно произнес он. — Мне кажется, они все умерли очень недавно, — сказала доктор Пэйдж. — Но тело не может обесцветиться и вздуться всего за какие-то два часа, — проговорил Тал Уитмен. — И тем не менее с этими телами именно так и произошло, — ответила доктор. Брайс перевернул труп спиной вверх. Никакой раны. Полагая, что на черепе может быть повреждение, Брайс запустил пальцы в густые волосы покойного и ощупал кости головы. Если его кто-то ударил по голове сзади… Но нет, эта версия тоже не годилась. Череп был совершенно цел. Брайс поднялся на ноги. — Доктор, эти две отрезанные головы, о которых вы говорили… Может быть, пойдем посмотрим на них? — А не мог бы кто-нибудь из ваших людей остаться здесь с моей сестрой? — Я понимаю ваши чувства, — ответил Брайс. — Но, по-моему, мне лучше не разбивать своих людей. Возможно, числом здесь не возьмешь, а, с другой стороны, всем вместе как-то безопаснее. — Ничего, я пойду, — заверила сестру Лиза. — Я бы все равно здесь не осталась. Смелая девочка. Она и ее старшая сестра с самого начала заинтересовали Брайса Хэммонда. Обе были бледны, в их глазах еще читались пережитые ими потрясение, страх и ужас, но обе держались намного лучше, чем абсолютное большинство людей на их месте — в условиях столь странных, неожиданных, кошмарных. Они вышли из полицейского участка, и сестры повели всю группу к булочной. Брайсу почти не верилось, что всего несколько часов назад Сноуфилд был еще обычным, занятым своими повседневными делами городком. Сейчас он напоминал какой-нибудь давно уже мертвый, выжженный временем и иссушенный ветрами древний город, затерянный где-то в пустыне на самом краю света, куда уже и ветер-то стал забывать дорогу. Казалось, что окутавшая все тишина висит здесь уже бессчетное число лет, десятилетий, веков, что прошла невообразимая череда эпох, не слышавших здесь ничего, кроме этой тишины. Вскоре после того как они приехали в Сноуфилд, Брайс включил сирену на одной из полицейских машин в надежде, что хоть кто-то отзовется на нее из молчащих домов. Сейчас ему уже начинало казаться нелепым, что он всерьез ожидал тогда какого-то ответа. Они вошли в булочную Либерманов с улицы, через основную дверь, и прошли прямо в тыльную часть дома, на кухню. На разделочном конце длинного стола две оторванные кисти все так же сжимали ручки скалки. Две отрезанные головы смотрели на них сквозь стекла в дверцах плит. — О Господи! — тихо проговорил Тал. Брайса передернуло. Джейк Джонсон, которому явно необходимо было на что-то опереться, прислонился к высокому белому шкафу. — Боже, их же забили, как обычную скотину, — произнес Уоргл, и все заговорили разом. — …за каким чертом кому-то понадобилось… — …больные, ненормальные… — …а тела-то где? — Да, — сказал Брайс, повышая голос, чтобы перекричать говоривших, — действительно, где же тела? Давайте-ка их поищем. Несколько мгновений никто не двигался с места. Все словно застыли при одной мысли о том, что они могут обнаружить. — Доктор Пэйдж, Лиза, вам незачем помогать нам в поисках, — сказал Брайс. — Обождите где-нибудь в сторонке. Дженни кивнула. Лиза благодарно улыбнулась. С внутренним трепетом они обыскали все шкафы, осмотрели все ящики, заглянули за каждую дверь. Горди Брогэн посмотрел в самой большой печи, в дверце которой не было стекла, а Фрэнк Отри зашел в холодильник. Брайс проверил маленькую, безукоризненно чистую уборную. Но они не нашли ни тел Либерманов, ни хотя бы отдельных частей их тел. — Зачем, интересно, убийцам понадобилось увозить тела? — спросил Фрэнк. — Быть может, это последователи какого-нибудь культа, — предположил Джейк Джонсон. — И тела им нужны были для ритуала. — Если какой-то ритуал и состоялся, — возразил Фрэнк, — то, по-моему, его провели прямо здесь. Горди Брогэн, махая рукой, чтобы ему освободили дорогу, на подкашивающихся ногах устремился к туалету. В этот момент он казался долговязым и нескладным подростком, который весь состоит из локтей, коленок, длинных рук и длинных ног. Он захлопнул за собой дверь, и из туалета донеслись звуки, свидетельствовавшие, что его рвало. — Господа, ну и дурачок! — захохотал Стю Уоргл. — Что в этом такого смешного, Уоргл? — Брайс резко повернулся к нему и нахмурился. — Здесь трупы. По-моему, реакция Горди куда более естественна, чем реакция любого из нас. Лицо Уоргла, с маленькими поросячьими глазками и тяжелым подбородком, потемнело от злости — он был органически неспособен испытать неловкость. «Боже, до чего же презренный тип», — подумал Брайс. Со смущенным видом вернулся Горди. — Извините, шериф. — Не за что извиняться, Горди. Все вместе они прошли через кухню, через торговый зал и вышли на тротуар. Брайс тут же подошел к деревянным воротам, висевшим между булочной и соседним магазином, и стал пристально всматриваться поверх них в неосвещенный крытый проезд. Доктор Пэйдж подошла и встала рядом с ним. — Это вот здесь вам показалось, что что-то было под стропилами? — спросил он. — Ну, Лиза считает, что оно сидело внизу, у стены. — Но это было в этом проезде? — Да. Брайс взял у Тала длинный электрический фонарь, открыл заскрипевшие ворота, вытащил из кобуры револьвер и вошел внутрь. Тут ощущался слабый запах сырости. Звук шагов шерифа улетал эхом вперед по туннелю. Луч фонаря был очень сильным, он доставал до середины проезда и даже немного дальше. Но Брайс не направлял его так далеко: он поводил фонарем вокруг себя, осмотрел бетонные стены, потом направил луч наверх, на крышу, что была футах в восьми или десяти у него над головой. По крайней мере в этой части проезда на стропилах никого и ничего не было. С каждым следующим шагом Брайс утверждался в мысли, что вытаскивать из кобуры револьвер было вовсе незачем — пока не дошел почти до середины туннеля. И тут он внезапно ощутил… нечто странное… звон в ушах, покалывание в теле, холодную, что-то предвещающую дрожь в позвоночнике. Почувствовал, что он здесь уже не один. Брайс был из тех, кто привык доверять своей интуиции, и потому он не отмел свои ощущения в сторону. Он остановился, поднял револьвер, еще внимательнее, чем прежде, вслушался в тишину, быстро провел лучом фонаря по стенам и крыше, особенно сосредоточив внимание на стропилах, всмотрелся в темноту впереди себя, стараясь различить все, что можно, почти до самого конца туннеля, и даже бросил взгляд назад, чтобы проверить, не подкрался ли кто-нибудь к нему таинственным образом оттуда. В темном проезде ничего не было. И тем не менее у него оставалось ощущение, что за ним наблюдают чьи-то враждебные глаза. Он снова двинулся вперед, и тут луч его фонаря выхватил что-то из темноты. В полу было сделано канализационное отверстие размером примерно в квадратный фут, накрытое сверху металлической решеткой. Под этой решеткой что-то несомненно блестело, отражая луч фонаря; и оно двигалось. Брайс осторожно подошел поближе и направил фонарь прямо под решетку. То, что мгновение назад там сверкнуло, теперь исчезло. Он присел возле отверстия на корточки и стал всматриваться между прутьями решетки вглубь. Но в луче света видны были только стенки трубы. Это был обычный водосток для дождя, диаметром около восемнадцати дюймов, внутри совершенно сухой; а значит, то, что он увидел, не могло быть просто отблеском от поверхности воды. Крыса? В Сноуфилд приезжала на отдых относительно состоятельная публика, и поэтому городок тщательно следил за тем, чтобы на его территории не было пи крыс, ни всяких прочих паразитов. Но, естественно, несмотря на самые строгие меры, полностью исключить возможность появления здесь парочки-другой крыс было нельзя. То, что он видел, в принципе вполне могло быть и крысой. Но Брайс был убежден, что в данном случае это была не крыса. Он прошел дальше, до самого выхода из проезда на аллею, потом тем же путем вернулся назад к воротам, где его ждали Тал и все остальные. — Видели что-нибудь? — спросил Тал. — Не очень много, — ответил Брайс, выходя на тротуар и закрывая за собой ворота. Он рассказал им о том, как у него возникло ощущение, будто за ним наблюдали, и о том, что он видел возле решетки водостока. — Вряд ли убийцей Либерманов могло быть что-то настолько маленькое, чтобы забраться под решетку, — проговорил Фрэнк Отри. — Это, пожалуй, верно, — согласился Брайс. — Но вы почувствовали, что там действительно что-то было? — встревоженно спросила Лиза. — Я действительно что-то почувствовал, — ответил ей Брайс. — Правда, у меня это ощущение было не таким сильным, каким оно, судя по всему, было у вас. Но там явно было что-то… странное. — Очень хорошо, — сказала Лиза. — Я рада, что вы по крайней мере не будете считать нас обычными истеричками. — Если вспомнить, что вам пришлось здесь пережить, то вы обе поразительно неистеричны. — Ну, Дженни врач, — проговорила девочка, — и я тоже, наверное, стану когда-нибудь врачом. А врачи не могут позволить себе впадать в истерики. Милая и умная девочка; однако Брайс не мог про себя не отметить, что ее сестра все же красивее. У обеих были рыжеватые волосы, густые и блестящие, очень своеобразного оттенка: как будто темно-красные с переходом в коричневый, цвета хорошо отполированного вишневого дерева, очень красивые. У обеих была золотистого цвета кожа. Но черты лица и весь облик доктора Пэйдж были более зрелыми и законченными, чем у Лизы, и потому она казалась Брайсу более интересной и привлекательной. И глаза у нее были чуть зеленее, чем у ее младшей сестры. — Доктор Пэйдж, я бы хотел посмотреть тот дом, где баррикада, — сказал Брайс. — Да, — поддержал Тал. — Где было убийство в запертой комнате. — Это в доме Оксли, на Вейл-лэйн. — И она повела их по улице к перекрестку Вейл-лэйн и Скайлайн-роуд. Сухое шуршание их шагов было единственным звуком, который раздавался на темной улице, и Брайсу опять пришли на ум мысли о пустынях, о затерянных там могильниках и о скарабеях, деловито снующих в кипах странных хрупких свитков папируса. Свернув за угол на Вейл-лэйн, доктор Пэйдж приостановилась и сказала: — Том и Карен Оксли живут… э-э… жили в двух кварталах отсюда, дальше по этой улице. Брайс посмотрел вперед, подумал немного и проговорил: — Вместо того чтобы идти прямо к дому Оксли, давайте-ка осмотрим все подряд дома и магазины отсюда и до их дома, хотя бы по этой стороне улицы. Мне думается, что без особого риска для себя мы вполне можем разделиться на две группы, по четыре человека в каждой. Мы все будем двигаться в общем-то в одном и том же направлении и будем недалеко друг от друга, так что в случае чего сможем прийти на помощь. Доктор Пэйдж и Лиза, вы будете вместе со мной и Талом. Фрэнк, вы старший во второй группе. Фрэнк кивнул. — Держитесь все четверо вместе, — предупредил их Брайс. — В полном смысле слова вместе. Чтобы каждый из вас постоянно видел трех других. Понятно? — Да, шериф, — ответил Фрэнк Отри. — Хорошо. Значит, вы четверо осмотрите первый дом сразу же за этим вот рестораном, а мы заглянем в следующий. Пройдем так по всей улице, а в конце квартала встретимся и сравним впечатления. Если обнаружите что-нибудь необычное, а не просто очередные трупы, позовите меня. Если потребуется помощь, сделайте два-три выстрела. Мы услышим, даже если будем в это время внутри дома. И прислушивайтесь, не стреляем ли мы. — Можно мне кое-что сказать? — спросила доктор Пэйдж. — Конечно, — ответил Брайс. Она обратилась к Фрэнку Отри: — Если вам попадутся тела, у которых что-то текло из глаз, ушей, носа или рта, немедленно дайте мне знать. И то же самое, если будут признаки рвоты или поноса. — Это может свидетельствовать о какой-нибудь инфекции? — спросил Брайс. — Да, — ответила она. — Или об отравлении. — Но мы ведь это исключили, разве не так? — спросил Горди Брогэн. Джейк Джонсон, который сейчас выглядел гораздо старше своих пятидесяти семи лет, проговорил: — Те головы отрезала не болезнь. — Я думала об этом, — сказала доктор Пэйдж. — Но что, если это какая-то болезнь или ядовитое вещество, с которыми мы еще никогда не встречались, и оно одних людей просто убивает, а у других вызывает что-то вроде бешенства, острого помешательства? А эти помешавшиеся уже начинают убивать других людей? — А тут возможно что-то подобное? — спросил Тал Уитмен. — Нет. Но, с другой стороны, не поручусь, что невозможно. И кроме того, кто вообще может сказать, что тут вероятно или невероятно? Разве мог кто-нибудь раньше предположить, что в Сноуфилде произойдет то, что здесь случилось? Фрэнк Отри подергал себя за усы и спросил: — Но если здесь были толпы буйных помешанных, то… где же они сейчас? Все посмотрели на тихую и неподвижную улицу, на глубокие тени, пролегавшие по тротуарам, лужайкам, автомобилям. Посмотрели на неосвещенные окна чердаков и такие же темные окна первых этажей. — Прячутся, — предположил Уоргл. — Выжидают, — сказал Горди Брогэн. — Нет, это явная чепуха, — проговорил Брайс. — Буйные помешанные не стали бы прятаться, выжидать и замышлять что-то. Они бы на нас просто напали. — Никакие это не буйные помешанные, — тихонько произнесла Лиза. — Это что-то гораздо более странное. — Возможно, она права, — согласилась доктор Пэйдж. — И мне от этого почему-то не легче, — заметил Тал. — В общем, если мы найдем какие-нибудь признаки поноса, рвоты или каких-то выделений, то сможем делать выводы, — сказал Брайс. — А если не найдем… — Тогда мне придется предложить какое-то другое объяснение, — закончила доктор Пэйдж. Они немного помолчали, стоя неподвижно и не торопясь начинать осмотр, потому что не знали, что они могут найти — или что может найти их. Им казалось, что время остановилось. «Если мы не сдвинемся с места, — подумал Брайс Хэммонд, — то так никогда и не рассветет». — Пошли, — сказал он. Самый первый дом оказался узким, но сильно вытянутым в глубину. На первом этаже его располагалась небольшая художественная галерея, служившая одновременно и магазинчиком произведений прикладного искусства и кустарных промыслов. Фрэнк Отри выбил одно из замысловатых окошечек, украшавших входную дверь, просунул туда руку, дотянулся до замка и открыл его. Потом вошел внутрь и включил свет. Показав жестом, чтобы остальные следовали за ним, он сказал: — Рассредоточьтесь. Не держитесь слишком близко друг к другу. Чтобы нас не накрыло всех сразу. Произнося эти слова, Фрэнк вспомнил те два срока, что почти двадцать лет назад он прослужил во Вьетнаме. Сегодняшние поиски очень напомнили ему тогдашние противопартизанские операции: такое же неимоверное напряжение нервов. Крадучись, они осторожно прошли через картинную галерею, но никого не обнаружили. Никого не было и в небольшом кабинете позади демонстрационного зала. Но одна из дверей кабинета открывалась на лестницу, которая вела на второй этаж. По лестнице они поднимались, как военная штурмовая группа. Первым, с оружием наготове, шел Фрэнк; остальные следили за ним, ожидая внизу. Он нащупал наверху выключатель, включил свет и понял, что находится в квартире владельца галереи, в самом углу гостиной. Убедившись, что в этой комнате никого нет, он дал знак остальным двигаться тоже. Когда все поднялись, Фрэнк прошел в глубь гостиной, стараясь держаться поближе к стене и внимательно глядя по сторонам. Они обыскали всю квартиру, беря каждую дверь приступом, так, словно за ней их поджидал вооруженный, готовый к нападению противник. В небольшой комнатке и в столовой никого не было. Никто не прятался и в стенных шкафах. Но в кухне на полу они наткнулись на мертвого мужчину. На нем были только голубые пижамные брюки, а его посиневшее и распухшее тело лежало так, что не давало закрыться дверце холодильника. Никаких ран на теле видно не было. Как не было и выражения ужаса на лице. Он явно умер совершенно внезапно, не успев даже мельком увидеть своего убийцу и осознать, что смерть подстерегает его совсем рядом. В момент смерти он был занят тем, что делал себе бутерброд: об этом свидетельствовали разбросанные по полу разбитая баночка с горчицей, пакетик салями, частично раздавленный помидор, пакетик швейцарского сыра. — Его-то уж, конечно, не болезнь убила, — с чувством произнес Джейк Джонсон. — Какой же он был больной, если собирался съесть бутерброд с колбасой? — И все произошло очень быстро, — добавил Горди. — Руки у него были заняты тем, что он достал из холодильника, и, когда он поворачивался назад… вот тогда все и случилось. Просто чик — и готово. В спальне они обнаружили еще один труп. Женщина лежала в постели, совершенно обнаженная. По возрасту ей было что-нибудь между двадцатью и сорока годами: точнее определить было трудно, потому что тело тоже посинело и вздулось. Лицо ее искажала гримаса ужаса, точь-в-точь как лицо Пола Хендерсона. В момент смерти она кричала. Джейк Джонсон достал из кармана рубашки авторучку и продел ее в петлю спускового крючка пистолета двадцать второго калибра, который лежал на смятых простынях рядом с телом. — Думаю, можно с ним не осторожничать, — сказал Фрэнк. — Ее не застрелили. Ран нет, и крови тоже нет. Если кто-то и пользовался этим пистолетом, то она сама. Дай-ка я взгляну. Он взял у Джейка пистолет и вынул обойму. Она была пуста. Он оттянул затвор, направил пистолет на прикроватную лампу и заглянул в ствол: патрона в патроннике не было. Он поднес ствол к носу и, понюхав, почувствовал запах сгоревшего пороха. — Стреляли недавно? — спросил Джейк. — Совсем недавно. Если обойма была полная, когда она начала стрелять, то значит, она сделала десять выстрелов. — Смотри сюда, — сказал Уоргл. Фрэнк повернулся и увидел, что Уоргл показывает на дырку от пули в стене напротив кровати. Дырка была на высоте примерно семи футов. — Вот еще одна, — проговорил Горди Брогэн, показывая на другую пулю, застрявшую в высоком, на ножках, комоде из темной сосны. На кровати и вокруг нее они нашли десять латунных стреляных гильз, но следов от восьми других пуль обнаружить нигде не смогли. — Не может же быть, чтобы она восемь раз попала в того, в кого стреляла? — спросил Горди Фрэнка. — Господи, ну конечно, нет, — вмешался Уоргл, поправляя на своих толстых бедрах ремень с кобурой. — Если бы она попала в кого-нибудь восемь раз, в этой комнате был бы не один труп, черт возьми. — Верно, — проговорил Фрэнк, хотя ему крайне не хотелось хоть в чем-то соглашаться со Стю Уорглом. — А кроме того, нет крови. При восьми попаданиях ее бы тут было полно. Уоргл подошел к изножью кровати и посмотрел на мертвую женщину. Она полулежала на двух пышных подушках, ноги у нее были широко расставлены, и вся сцена напоминала карикатуру на ожидание любовных ласк. — Тот парень, которого мы видели на кухне, должно быть, потрахался здесь с этой красоткой, — сказал Уоргл, — а потом пошел малость подкрепиться. Когда он ушел, кто-то вошел сюда и убил ее. — Человека на кухне убили первым, — возразил Фрэнк. — Его никак не застали бы врасплох, если бы напали на него после того, как она здесь десять раз подряд выстрелила. — Черт, хотел бы я весь день проваляться в постели с такой бабой, — проговорил Уоргл. Фрэнк изумленно уставился на него: — Ну и мерзкий же ты тип, Уоргл! Тебя что, даже раздувшийся труп заводит — был бы только голый, да? Уоргл покраснел и отвернулся от покойницы. — Чего это ты, Фрэнк? Ты меня что, за извращенца держишь, да? Ничего подобного. Просто я посмотрел на эту карточку. — Он показал на фотографию в серебряной рамке, стоявшую на тумбочке, рядом с лампой. — Смотри, она там в бикини. Видишь, какая красотка? А сиськи какие здоровые! И ножки тоже отличные. Вот что меня завело, приятель. Фрэнк покачал головой: — Я поражен, что тебя вообще что-то может завести посреди всего этого, посреди смерти. Уоргл решил, что это комплимент, и подмигнул, довольный. «Если выберусь отсюда живым, — подумал Фрэнк, — никогда больше не позволю Брайсу Хэммонду ставить меня в пару с Уорглом. Лучше уволюсь». — Как могло получиться, — проговорил Горди Брогэн, — что она попала восемь раз в цель и тем не менее не смогла остановить нападавшего? И почему нет пи одной капли крови? Джейк Джонсон запустил ладонь в свои седые волосы. — Этого я не знаю, Горди. Я знаю только одно — мне бы очень хотелось оказаться подальше от этого места и никогда здесь не появляться. Рядом с художественной галереей стояло симпатичное двухэтажное здание, на вывеске которого было написано:БРУКХАРТ ПИВО ВИНО ЛИКЕРЫ ТАБАК ЖУРНАЛЫ ГАЗЕТЫ КНИГИСвет в доме горел, входная дверь была не заперта. Магазин Брукхарта даже в несезонный период и даже по воскресеньям торговал до девяти вечера. Брайс вошел первым, за ним Дженифер и Лиза Пэйдж, Тал был последним. В опасных ситуациях, когда надо было, чтобы кто-то прикрывал со спины, Брайс всегда предпочитал Тала Уитмена. Никому не доверял он в такой мере, как Талу. Даже Фрэнку Отри. Магазин Брукхарта был суматошным местом, но на удивление приятным и теплым. Здесь размещались высокие холодильники со стеклянными дверцами, забитые банками и бутылками с пивом. На полках, стеллажах и деревянных ларях в изобилии стояли бутылки с винами и ликерами. Другие стеллажи были до отказа заполнены книжками в мягких обложках, журналами и газетами. Лежали коробки с сигарами, пачки сигарет, на нескольких прилавках в невероятных количествах стояли металлические коробки с трубочным табаком. Многие товары просто приткнуты там, где оставалось еще хоть немного свободного места: шоколадки, жевательная резинка, пакетики с орешками, попкорн, картофельные и кукурузные чипсы, мексиканские кукурузные лепешки… Брайс первым двинулся через пустой магазин, проверяя, нет ли трупов между прилавками и за ними. Трупов не было. На полу, однако, стояла большая, в полмагазина, и глубокая, почти в целый дюйм глубиной, лужа воды. Они осторожно обошли ее сбоку. — Откуда здесь взялось столько воды? — удивилась Лиза. — Наверное, натекло из-под одного из холодильников с пивом, — предположил Тал Уитмен. Они обошли вокруг винного прилавка и тщательно осмотрели все шкафы-холодильники. Их моторы мягко гудели, воды возле них не было. — Может быть, водопровод протекает? — спросила Дженифер Пэйдж. Они продолжили осмотр, спустились в погреб, который использовался как склад для картонных коробок с вином и пивом, потом поднялись на второй этаж, где, прямо над магазином, располагался небольшой офис. Но ничего необычного нигде не увидели. Когда они снова вернулись в торговый зал и уже направлялись к выходу, Брайс вдруг остановился возле лужи, присел на корточки и стал ее внимательно разглядывать. Он сунул в лужу палец: на ощупь это была обычная вода, никакого запаха у нее не было. — Что такое? — спросил Тал. — Все-таки странно: откуда здесь эта вода? — ответил, вставая, Брайс. — Скорее всего, доктор Пэйдж права: где-то протек водопровод, — сказал Тал. Брайс кивнул. Ему, однако, по-прежнему казалось, что в этой большой луже есть какой-то смысл — хотя он и не мог бы объяснить, чем вызвано это ощущение. Аптека Тэйтона, очень небольшая, обслуживала Сноуфилд и все прилегающие к нему горные поселки и деревушки. Квартира владельца, располагавшаяся прямо над аптекой, занимала два этажа. Отделана она была в кремовых и персиковых тонах, с вкраплениями изумрудно-зеленого, и была буквально набита отличным антиквариатом. Фрэнк Отри провел свою группу через все здание; ничего достойного внимания они не обнаружили. Только ковер в гостиной был почему-то мокрым. Причем мокрым в самом прямом смысле слова: он хлюпал у них под ногами.
Гостиница «При свечах» просто излучала очарование и уют, хотя и с некоторой долей претензии на аристократизм: нижняя часть высокой крыши большим козырьком нависали над стенами, карнизы были украшены затейливой резьбой, окна в частых переплетах, а по бокам красовались белые резные ставни. По обе стороны от входа на каменных пилястрах были установлены старинные каретные фонари, а между ними шла короткая, выложенная камнем дорожка. Фасад гостиницы освещали три небольших прожектора, отбрасывавшие на него расходящиеся конусом лучи. Дженни, Лиза, шериф и лейтенант Уитмен остановились на тротуаре возле гостиницы, и Хэммонд спросил: — Они работают в это время года? — Да, — ответила Дженни. — Здесь даже в несезонное время половина номеров всегда занята. У них очень хорошая репутация среди знающих толк туристов. Да и номеров-то в гостинице всего шестнадцать. — Ну что ж… давайте заглянем. Входные двери вели в маленький, но со вкусом обставленный и отделанный вестибюль: дубовый пол, темный, восточной работы ковер, светло-бежевые диваны, пара кресел в стиле королевы Анны, обитых розовой тканью, несколько столиков из вишневого дерева, бронзовые лампы. Место дежурного администратора находилось справа от входа. На деревянной стойке был укреплен колокольчик. Дженни несколько раз подряд ударила по нему без всякой надежды, что кто-нибудь отзовется. Никто и не отозвался. — Там, за конторкой, квартира Дэна и Сильвии, — сказала Дженни, показывая на расположенное за стойкой довольно тесноепомещение. — Это владельцы гостиницы? — спросил шериф. — Да. Дэн и Сильвия Канарски. Шериф молча посмотрел на нее, потом спросил: — Ваши друзья? — Да. Близкие друзья. — Тогда, пожалуй, мы в их квартиру лучше заходить не будем, — сказал он. Его голубые глаза под тяжелыми веками светились теплотой, симпатией и сочувствием. Дженни удивилась, осознав вдруг, что у него интеллигентное и доброе лицо. Наблюдая за его работой на протяжении последнего часа, она уже начала постепенно понимать, что на самом деле он гораздо более энергичный, зоркий и знающий свое дело человек, чем кажется с первого взгляда. Сейчас, глядя в его умные, полные сострадания глаза, она поняла, что шериф — человек проницательный, интересный, а как противник еще и грозный. — Не можем же мы просто уйти, — сказала она. — Рано или поздно все равно придется обыскать весь дом. Весь городок надо осмотреть. Так что давайте уж зайдем и в гостиницу, чтобы она на нас не висела. Она подняла барьер в деревянной загородке и стала открывать дверцу, которая вела в конторку. — Пожалуйста, доктор, — остановил ее шериф, — всегда пропускайте первым меня или лейтенанта Уитмена. Дженни послушно отступила, пропуская его вперед. Они осмотрели квартиру Дэна и Сильвии, но никого там не нашли. Трупов не было. Слава Богу! Когда они вернулись к столу администратора, лейтенант Уитмен перелистал книгу регистрации постояльцев гостиницы. — Сейчас заняты только шесть номеров, все они на втором этаже. Шериф взял нужные ключи с доски, расположенной рядом с ящичками для почты. С повторявшейся уже почти как ритуал осторожностью они поднялись наверх и осмотрели шесть номеров. В первых пяти лежали багаж, фотоаппараты, недописанные открытки и прочие свидетельства того, что в гостинице действительно проживали постояльцы; но самих постояльцев они не обнаружили. В шестом номере, когда лейтенант Уитмен попытался открыть дверь в ванную, та оказалась заперта. Он несколько раз стукнул кулаком и прокричал: — Полиция! Есть там кто-нибудь? Никто не отозвался. Уитмен посмотрел на ручку замка, потом на шерифа. — С этой стороны она не запирается, так что внутри там должен кто-то быть. Высадить дверь? — По-моему, она достаточно прочная, — проговорил Хэммонд. — Не калечь плечо, прострели замок. Дженни взяла Лизу под руку и отвела ее в сторонку, чтобы в них не попали осколки и щепки. Лейтенант Уитман прокричал предупреждение тому, кто мог находиться в ванной комнате, затем выстрелил в замок, ударом ноги распахнул дверь и заскочил внутрь. — Здесь никого нет. — Может быть, выбрались в окно? — предположил шериф. — Тут нет никаких окон, — ответил Уитмен, нахмурившись. — А ты уверен, что дверь действительно была заперта? — Абсолютно. И запереть ее можно было только изнутри. — Но как, если там внутри никого не было? Уитмен пожал плечами. — Тут есть кое-что интересное. Зайди-ка, взгляни. Посмотреть зашли все, но ванная комната оказалась достаточно большой, так что четыре человека не испытывали там особой тесноты. На зеркале, висевшем над раковиной, большими жирными черными печатными буквами, явно в спешке, было написано:
ТИМОТИ ФЛАЙТ ВЕКОВЕЧНЫЙ ВРАГВ следующей квартире, расположенной над следующим магазинчиком, Фрэнк Отри и полицейские из его группы обнаружили еще один совершенно мокрый ковер, который хлюпал у них под ногами. Те ковры, что лежали в гостиной, в столовой и в спальнях, были сухими. А тот, что лежал в холле, по пути на кухню, можно было выжимать. На самой же кухне пол, выложенный виниловой плиткой, был на три четверти залит водой, глубина которой в некоторых местах составляла почти дюйм. — Наверное, где-то труба протекла, — сказал Джейк Джонсон, стоя в холле и разглядывая оттуда, что творилось на кухне. — Ты это и в том доме говорил, — напомнил ему Фрэнк. — Странное совпадение, тебе не кажется? — Но это самая обычная вода. Не понимаю, какая тут может быть связь со всеми… этими убийствами, — сказал Горди Брогэн. — Черт, мы просто зря тратим время, — проговорил Стю Уоргл. — Ничего тут нет. Пошли отсюда. Не обращая внимания на их реплики, Фрэнк вошел на кухню и осторожно прошел по краешку стоявшего там небольшого озерца, направляясь к сухому месту возле шкафов с посудой. Немного порывшись в них, он отыскал пластмассовую банку, в какие хозяйки обычно складывают остатки еды: чистую, сухую, с завинчивающейся крышкой, которая не пропускала воздух. В одном из ящиков нашел большую ложку и с ее помощью собрал в банку немного воды с пола. — Чего это ты делаешь? — спросил его от двери Джейк. — Веру пробу. — Пробу? Зачем? Это простая вода. — Да, — сказал Фрэнк, — но как-то это все странно.
Ванная. Зеркало. Большие жирные черные буквы. Дженни пристально разглядывала четыре написанных там слова. — А кто такой Тимоти Флайт? — спросила Лиза. — Возможно, тот, кто это написал, — сказал лейтенант Уитмен. — Этот номер записан на имя Флайта? — поинтересовался шериф. — Такого имени вообще не было в регистрационной книге, я уверен, — ответил лейтенант. — На обратном пути проверим, но я точно помню, что такого имени там не было. — Быть может, Тимоти Флайт — это один из убийц, — сказала Лиза. — Возможно, тот, кто жил здесь, узнал его и оставил эту надпись. Шериф отрицательно покачал головой: — Нет. Если бы Флайт был как-то связан с тем, что произошло в городке, он бы не оставил на зеркале свое имя. Он бы его стер. — А может быть, он не знал, что оно тут написано, — предположила Дженни. — А возможно, даже и знал, но он — один из тех буйных помешанных, о которых вы говорили, и поэтому ему наплевать, поймают его или нет, — сказал лейтенант. Брайс Хэммонд посмотрел на Дженни: — Есть в городке кто-нибудь по имени Флайт? — Никогда не слышала этого имени. — А вы всех в Сноуфилде знаете? — Да. — Всех пятьсот человек? — Почти всех, — ответила Дженни. — Почти всех, да? Значит, здесь все-таки может оказаться житель по имени Тимоти Флайт? — Даже если я сама ни разу с ним не встречалась, я должна была слышать от кого-нибудь его имя. Это маленький городок, шериф, очень маленький, по крайней мере в несезонный период. — Может быть, это кто-то из Маунт-Ларсона, Шейди-Руста или Пайнвилля, — высказал предположение лейтенант. Дженни страшно хотелось побыстрее выбраться из ванной и обсудить надпись на зеркале где-нибудь в другом месте. Не тут. А на открытом месте, где ничто не могло бы подобраться к ним, само оставаясь незамеченным. У Дженни было какое-то сверхъестественное, ни на чем не основанное, но тем не менее совершенно отчетливое чувство, что именно в эту самую минуту нечто — нечто чертовски странное — находилось в другой части гостиницы и втайне от них занималось там чем-то ужасным; и то, что ни она сама, ни Лиза, ни шериф, ни его помощник не знали этого, представляло для них величайшую опасность. — А что означает вторая часть? — спросила Лиза, показывая на слова «ВЕКОВЕЧНЫЙ ВРАГ». После долгого молчаливого раздумья Дженни наконец сказала: — Наверное, Лиза в самом начале была все-таки права. По-видимому, тот, кто сделал эту надпись, хотел сообщить нам, что Тимоти Флайт — его враг. Я полагаю, что и наш враг тоже. — Возможно, — с сомнением в голосе произнес Брайс Хэммонд. — Но он выбрал очень необычный способ сделать это. Странные слова: «вековечный враг». Почти архаичные. Если он заперся в ванной, чтобы спрятаться от Флайта, и в спешке писал предупреждение, то почему он просто не написал: «Тимоти Флайт, мой старый враг» или что-нибудь другое, но ясно и прямо? — В самом деле, — согласился лейтенант Уитмен, — если бы он хотел оставить сообщение с обвинением против Флайта, он бы написал: «Это сделал Тимоти Флайт» или «Флайт убил всех». И уж меньше всего он бы хотел как-то затемнить суть того, о чем писал. Шериф принялся перебирать и осматривать то, что стояло на широкой полке прямо под зеркалом: здесь были флакон лосьона для кожи, лимонный крем после бритья, мужская электрическая бритва, пара зубных щеток, зубная паста, расчески, щетки для волос, набор женской косметики. — Судя по всему, в этом номере жили двое. Возможно, они и в ванной заперлись вдвоем — а значит, оба растворились потом в воздухе. Но чем же они сделали эту надпись на зеркале? — Похоже, что карандашом для бровей, — сказала Лиза. — Да, мне тоже так кажется, — кивнула Дженни. Они обыскали всю ванную в поисках черного карандаша для бровей, но так и не смогли его найти. — Потрясающе, — раздраженно произнес шериф. — Значит, карандаш для бровей исчез вместе с тем, а возможно, и с теми двумя, кто заперся здесь в ванной. Двое похищены из запертой комнаты. Они спустились вниз и снова подошли к столу администратора. Согласно записи в регистрационной книге, номер, где они обнаружили надпись на зеркале, числился за супругами Орднэй из Сан-Франциско. — Постояльца по имени Тимоти Флайт нет вообще, — заметил шериф Хэммонд, закрывая регистрационную книгу. — Ну что ж, — произнес лейтенант Уитмен, — больше мы сейчас здесь все равно ничего не выясним. Услыхав эти слова, Дженни почувствовала облегчение. — Ладно, — сказал Брайс Хэммонд. — Пошли к остальным. Быть может, они нашли что-нибудь такое, чего мы не увидели. Они двинулись через вестибюль к выходу, но едва успели сделать пару шагов, как громкий вскрик Лизы заставил их остановиться. Буквально через секунду уже все увидели то, что первоначально привлекло внимание одной только Лизы. Оно находилось на одном из столиков, прямо в свете лампы под розовым абажуром, и было освещено настолько красиво, что казалось выставленным тут произведением искусства. Это была мужская рука. Отрезанная рука. Лиза отвернулась от ужасного зрелища. Дженни обняла сестру и прижала к себе, глядя через ее плечо на эту руку с отвращением, но не в силах отвести от нее взгляд. Рука казалась исчадием ада, она издевалась над ними, она была реальна и в то же время невероятна. Между большим и указательным пальцами она крепко держала карандаш для бровей. Тот самый карандаш для бровей. Именно его. Это должен был быть именно тот карандаш. Дженни испытала не меньший ужас, чем Лиза, но она прикусила губу и подавила вскрик. Ее ужас и отвращение были вызваны не только видом этой руки. У нее перехватило дыхание и возникло жжение в груди при мысли о том, что еще совсем недавно никакой руки на этом столике не было. Кто-то поставил ее здесь, пока они были наверху; поставил, зная наверняка, что они на нее наткнутся. Кто-то издевался над ними. Кто-то с крайне извращенным чувством юмора. Дженни еще не приходилось видеть, чтобы глаза Брайса Хэммонда, постоянно спрятанные под тяжелыми веками, распахивались так широко. — Черт побери, но ведь раньше этой штуки здесь не было, верно? — Не было, — согласилась Дженни. До сих пор шериф и его помощник держали свои револьверы хотя и в руках, но направив их стволами в пол. Сейчас они взяли оружие на изготовку, словно опасаясь, что отрезанная рука может бросить карандаш для бровей, подлететь к чьему-нибудь лицу и выдавить глаза. Никто из них не в силах был произнести ни слова. От спирального орнамента на восточном ковре, казалось, исходили потоки ледяного воздуха, как от труб мощного холодильника. Наверху, в одной из дальних комнат, скрипнула то ли доска пола, то ли несмазанная дверная петля. Потом еще раз скрипнула, потом издала протяжный стонущий звук. Брайс Хэммонд посмотрел вверх, на потолок вестибюля. К-р-р-и-и-и-к. Это мог быть совершенно естественный звук, какие всегда издает дом при усадке. Но могло быть и что-то другое. — Теперь уже сомнения нет, — сказал шериф. — В чем нет сомнения? — спросил лейтенант Уитмен, глядя не на шерифа, но сразу на все выходящие в вестибюль двери. Шериф повернулся к Дженни: — Помните, вы мне сказали, что когда незадолго до нашего приезда услышали сирену и звон церковного колокола, то подумали, что случившееся со Сноуфилдом, возможно, еще продолжается. — Да. — Вы были правы. Теперь мы можем быть в этом уверены.
Глава 12
ПОЛЕ БОЯ
В конце квартала, на ярко освещенном участке тротуара возле продовольственного магазина Гилмартина, их ждали Фрэнк, Горди, Стю Уоргл и Джейк Джонсон. Джейк следил взглядом за Брайсом Хэммондом с момента, как тот вышел из гостиницы «При свечах», и молил Бога, чтобы шериф двигался поживее. Ему очень не нравилось стоять тут, на ярком свете. Все равно как на сцене, черт возьми. На этом месте Джейк чувствовал себя уязвимым. Правда, несколько минут тому назад, когда они занимались осмотром домов, им приходилось пересекать совершенно темные участки, где казалось, что тени дышат и движутся, словно живые существа; и там Джейку не терпелось поскорее оказаться именно на том ярко освещенном участке улицы, где он сейчас стоял. Тогда Джейк боялся темноты точно так же, как теперь боялся яркого света. Он нервно провел рукой по своим густым седым волосам. Другую руку он держал на спусковом крючке револьвера, хотя тот и лежал в кобуре. Джейк Джонсон не просто верил в осторожность — он молился на нее, осторожность была его богом. «Лучше перебдеть, чем недобдеть; лучше синица в руках, чем журавль в небе; не спеши, солдат, будет команда «отставить!»… Таких правил у него было в запасе не меньше миллиона. Они служили для него чем-то вроде бакенов на реке, указывающих единственно безопасный путь; все, что находилось вне обозначенных этими бакенами пределов, было зоной стихии, хаоса, неопределенности и риска. Джейк никогда не был женат. Брак означал бы необходимость взять на себя огромную дополнительную ответственность, он потребовал бы рискнуть своим душевным спокойствием, своими деньгами, всем своим будущим. Джонсон вел осторожный и экономный образ жизни, особенно бережлив он был во всем, что касалось финансовых вопросов. Ему удалось отложить довольно значительную сумму на черный день, вложив свои сбережения в несколько надежных предприятий. Из своих пятидесяти восьми лет больше тридцати семи Джейк Джонсон проработал в окружной полиции Санта-Миры. Уже давным-давно он мог бы уйти в отставку и получать пенсию. Но он очень опасался инфляции и потому продолжал служить, увеличивая тем самым размеры своей пенсии и откладывая на будущее все больше и больше денег. То, что Джейк Джонсон стал полицейским, было, по-видимому, единственным неосторожным поступком за всю его жизнь. Он не хотел быть полицейским. Боже упаси! Но его отец, Ральф Джонсон — Большой Ральф, как его называли — на протяжении 40-х и 50-х годов был шерифом этого округа и ожидал, что сын пойдет по его стопам. Ответов «нет» Большой Ральф не признавал в принципе. Джейк ни минуты не сомневался, что, если он не поступит на работу в полицию, Большой Ральф лишит его наследства. А этого он никак не хотел. Не то чтобы в их семье скопилось огромное наследство: по правде сказать, никакого особого богатства у них не было. Но все-таки был неплохой дом и солидные счета в нескольких банках. А позади дома, на лужайке, за гаражом, на глубине трех футов были закопаны несколько больших каменных кувшинов, до отказа набитых туго скрученными пачками двадцати-, пятидесяти- и стодолларовых купюр. Когда-то Большой Ральф получил эти деньги как взятки и отложил их на черный день. Вот почему Джейк тоже стал полицейским, как и его папочка, который в конце концов умер в возрасте восьмидесяти двух лет, когда Джейку было уже пятьдесят один. К этому времени Джейк был обречен оставаться полицейским до конца своих дней, потому что ничего другого делать он не умел. Он был осторожным полицейским. Например, он старался не попадать на те выезды, где причиной вызова полиции были семейные скандалы: в такого рода столкновениях страсти разгорались вовсю, и, если полицейский встревал между разгоряченными мужем и женой, его иногда даже убивали. Зачем далеко ходить за примерами: этот агент по продаже недвижимости, Флетчер Кейл. Год назад Джейк купил с его помощью небольшой участок в горах, и тогда Кейл показался ему совершенно нормальным и обычным человеком. А теперь вот он убил жену и сына. Если бы в тот момент у них в доме оказался полицейский, Кейл бы и его прикончил. Когда же от дежурного поступало сообщение о происходящем где-либо в данный момент грабеже, Джейк обычно неверно указывал свое местонахождение, выбирая район как можно дальше от места преступления. Дежурный направлял туда те патрули, которые оказывались поближе; когда Джейк в конце концов приезжал, все, как правило, было уже кончено. Он не был трусом. Ему случалось оказываться на линии огня, и, когда это происходило, он дрался, как тигр, как лев, как разъяренный медведь. Он был просто осторожен. В работе полицейского были обязанности, которые даже доставляли ему удовольствие. Ему нравилось дорожное патрулирование. А бумажную работу он выполнял просто-таки с наслаждением. Единственной светлой стороной ареста была для него необходимость заполнять потом огромное число разных бумаг, что давало возможность минимум пару часов просидеть в полицейском участке, в тишине и безопасности. На этот раз, к сожалению, его подвела именно любовь к бумажной работе. Когда поступил звонок от доктора Пэйдж, он как раз сидел за столом, заполняя очередные бумаги. Если бы в тот момент он оказался где-нибудь на улице, в патрульной машине, то избежал бы необходимости ехать в Сноуфилд. А теперь вот он здесь. Стоит под ярким уличным фонарем и изображает из себя прекрасную мишень. Черт возьми. Но хуже всего было то, что в магазине Гилмартина явно произошло нечто очень неприятное, и сомнений в этом не могло быть никаких. Две из пяти больших стеклянных витрин, что шли по фасаду супермаркета, были разбиты изнутри, так что весь тротуар перед магазином был засыпан стеклом. Банки с консервами для собак и упаковки с водой и пивом — по шесть банок в каждой — были вышвырнуты через эти витрины и теперь валялись по всей мостовой. Джейк опасался, что шериф заставит их идти осматривать магазин, но боялся он и ждать здесь, на улице, где тоже могла таиться опасность. Но вот наконец подошли шериф, Тал Уитмен и две женщины, и Фрэнк Отри продемонстрировал им пластмассовую банку со взятой им пробой воды. Шериф сказал, что они тоже обнаружили огромную лужу в магазинчике Брукхарта, и все согласились, что за этим что-то кроется. Тал Уитмен рассказал об увиденном в гостинице «При свечах»: о надписи на зеркале в об отрезанной руке, — Господи, какой ужас! — но и тут ни у кого не было никаких разумных объяснений. Шериф Хэммонд повернулся к разбитым витринам супермаркета к произнес именно те слова, которые Джейк так боялся услышать: — Давайте-ка посмотрим. Джейк не хотел входить в магазин первым. Но он не хотел быть и последним. И потому протиснулся в дверь в середине группы. Внутри весь продовольственный магазин был разгромлен. Черные металлические стеллажи с товарами, что стояли ближе к трем кассам, были опрокинуты, и по всему полу разлетелись пачки жевательной резинки и лезвий для бритья, шоколадки, конфеты, книги и прочие мелочи, какими обычно торгуют возле кассы. Они прошли вдоль витрин фасада, заглядывая по дороге в каждый проход. Везде товары были сброшены с полок и раскиданы по полу. Коробки с пшеничными, кукурузными и другими хлопьями были смяты, разорваны, раскрыты, их содержимое грудами лежало на полу, а поверх были разбросаны прежние яркие упаковки. Бутылки с уксусом были перебиты, из-за чего в магазине стоял едкий запах. Варенья, маринады, горчица, майонез, приправы были вывалены из банок и свалены в одну огромную клейкую кучу. Возле самого последнего прохода Брайс Хэммонд повернулся к доктору Пэйдж: — А сегодня вечером этот магазин должен был быть открыт? — Нет, — ответила она, — но, по-моему, иногда в воскресные вечера они выставляли товары на полки. Не каждое воскресенье, но иногда они это делали. — Давайте посмотрим в задней части магазина, — сказал шериф. — Может быть, найдем что-нибудь интересное. «Вот этого-то я и боюсь», — подумал Джейк. Все направились вслед за Брайсом Хэммондом, переступая через наваленные на полу пятифунтовые пакеты с сахаром и мукой. Некоторые из пакетов лопнули, их содержимое просыпалось. В задней части магазина стояли высокие, по грудь, охлаждаемые прилавки для мяса, сыра, яиц и молока. Дальше за ними находилась блистающая чистотой зона, где резали, взвешивали и упаковывали для продажи мясо. Взгляд Джейка нервно пробежал по разделочным столам и фаянсовым блюдам. Не увидев на них ничего, Джейк вздохнул с облегчением. Он бы не удивился, если бы здесь оказалось тело управляющего магазином, аккуратно разделанное на вырезку, суповые наборы и котлеты. — Давайте заглянем в складское помещение, — сказал Хэммонд. «Лучше бы не надо», — подумал Джейк. — Быть может… — Хэммонд не договорил. В этот момент погас свет. Единственными окнами в магазине были витрины, но и оттуда не проникало никакого света, потому что уличные фонари тоже погасли. В задней же части магазина темень стояла полная, кромешная. Несколько голосов заговорили одновременно: — Фонари! — Дженни! — Фонари! Все последующее происходило с неимоверной быстротой. Тал Уитмен включил электрический фонарь, и его сильный, похожий на лезвие меча луч уперся в пол. В тот же самый момент что-то ударило Тала сзади, нечто невидимое, подкравшееся к ним в темноте с невероятной скоростью и совершенно бесшумно. От удара Уитмен полетел вперед и столкнулся со Стю Уорглом. Отри как раз вынимал из специальной петли на ремне свой фонарь, но, прежде чем он успел включить его, на него налетели Уоргл и Уитмен и все трое повалились на пол. От падения фонарь Тала вылетел у него из рук. Луч крутящегося в воздухе фонаря на миг выхватил из темноты Брайса Хэммонда, тот попытался поймать фонарь, но промахнулся. Фонарь со стуком упал на пол и откатился в сторону. Пока он катился, его луч с каждым поворотом бросал вокруг дикие пляшущие тени, но ни разу не высветил ничего необычного или угрожающего. И тут что-то холодное дотронулось сзади до шеи Джейка. Холодное и слегка влажное, — но несомненно живое. Он вздрогнул от этого прикосновения и попытался обернуться. Что-то обвило его шею с такой же быстротой, как захлестывающаяся вокруг шеи плеть. Джейк, раскрыв рот, лихорадочно ловил воздух. Но прежде чем он успел хотя бы поднять руку, чтобы схватиться с тем, кто напал на него, руки его оказались плотно прижатыми к телу. Он почувствовал, что его поднимают в воздух с такой легкостью, словно он был ребенком. Он попытался крикнуть, но чья-то железная рука зажала ему рот. По крайней мере, он подумал, что это была рука. Но по ощущению это было что-то холодное и сырое, скорее похожее на угря. И оно воняло. Не очень сильно. Оно не распространяло вокруг себя зловоние. Но его запах настолько отличался от всего, с чем приходилось раньше сталкиваться Джейку, был таким резким, горьким и непонятным, что даже в очень малых количествах был почти невыносим. Джейк почувствовал, как его захлестывают волны отвращения и ужаса, как они все нарастают и нарастают. Он ощутил присутствие чего-то невообразимо странного и безусловно враждебного и злого. Фонарь все еще крутился по полу. С того момента, когда Тал выронил его, прошло не больше двух секунд, хотя Джейку казалось, что прошло гораздо больше времени. Но вот фонарь крутнулся в последний раз, ударился о нижнюю часть охлаждаемого прилавка, его стекло разлетелось на мелкие кусочки, и они остались даже без этого небольшого пляшущего света: пусть он ничего не освещал, но все же с ним было лучше, чем в полной темноте. Вместе с погасшим лучом фонаря гасла и всякая надежда. Джейк напрягал все свои силы, извивался как только мог, он отчаянно сопротивлялся, стараясь вырваться, освободиться, сбросить с себя эти сковавшие его непонятные тиски. Его судорожные движения напоминали одновременно и припадок эпилептика, и панические метания, и какой-то фантастический танец. Но ему не удавалось высвободить даже одну руку. Его невидимый противник стискивал Джейка все сильнее и сильнее. Джейк слышал, как остальные члены группы окликают друг друга; ему казалось, что их голоса долетают до него откуда-то очень издалека.Глава 13
НЕОЖИДАННОСТЬ
Джейк Джонсон исчез. Прежде чем Талу удалось найти уцелевший фонарь, тот, который уронил Фрэнк Отри, свет в супермаркете замигал, а потом загорелся ярко и ровно. Темнота длилась не больше пятнадцати-двадцати секунд. Но Джейк исчез. В поисках его они осмотрели весь магазин. Его не было ни в проходах между прилавками, ни в холодильнике, где лежало мясо, ни на складе, ни в помещении конторы, ни в раздевалке и душевых для продавцов. Они вышли из магазина — теперь их оставалось только семеро, — двигаясь вслед за Брайсом со всеми предосторожностями и в глубине души надеясь, что Джейк ждет их снаружи, на улице. Но и там его тоже не было. Повисшая над Сноуфилдом тишина казалась им теперь приглушенным издевательским смешком. Тал Уитмен подумал, что ночь стала гораздо более темной, нежели казалась всего несколько минут назад. Она напоминала какую-то огромную, бездонную и ненасытную утробу, готовую поглотить их в любой момент. А они, не зная и не сознавая того, уже сами ступили в эту утробу. — Куда он мог подеваться? — спросил Горди. Выглядел он взбешенным, но так бывало всегда, когда Горди хмурился, на самом деле он вовсе не злился, а был просто напуган. — Никуда он не подевался, — ответил Стю Уоргл. — Его утащили. — Но он же не звал на помощь. — Не успел. — Вы думаете, он еще жив или… уже умер? — спросила Лиза Пэйдж. — На твоем месте, куколка, — ответил Уоргл, потирая щетину на подбородке, — я бы особенно не надеялся. Готов прозакладывать последний доллар, что где-нибудь мы его найдем и он будет неподвижен, как камень, и такой же вздувшийся и побагровевший, как все, кого мы тут видели. Девочка вздрогнула и еще сильнее прижалась к сестре. — Эй, ребята, давайте не будем списывать Джейка так быстро, — произнес Брайс Хэммонд. — Согласен, — сказал Тал. — В этом городке действительно много мертвых. Но сдается мне, что большинство жителей не мертвы. Они просто исчезли. — Они мертвее, чем те младенцы, которых зажарили напалмом. Верно, Фрэнк? — Уоргл никогда не упускал возможности подколоть бывшего офицера, служившего в свое время во Вьетнаме. — Мы их просто пока еще не нашли. Фрэнк не ответил на этот выпад. Он был достаточно умен и умел контролировать себя, чтобы не отвечать на такие наскоки. Не реагируя на слова Уоргла, он проговорил: — Чего я не могу понять, так это того, почему оно не схватило нас всех, когда имело такую возможность? Почему оно только сбило Тала с ног? — Я включал фонарь, — ответил Тал. — Оно этого явно не хотело. — Да, — продолжал Фрэнк, — но почему из всех нас оно схватило только Джейка и почему сразу же после этого мгновенно исчезло? — Оно нас дразнит, — сказала доктор Пэйдж. В свете уличного фонаря глаза ее, казалось, горели зеленым огнем. — Помните, я вам говорила о церковном колоколе и пожарной сирене? Что-то похожее и тут. Оно играет с нами, как кошка с мышью. — Но зачем? — раздраженно спросил Горди. — Что оно от этого имеет? Чего хочет? — Погодите-ка минутку, — перебил Брайс. — Почему это мы все вдруг стали говорить «оно»? Когда я последний раз спрашивал у каждого его мнение, по-моему, все сошлись на том, что подобное могла сделать только шайка убийц-психопатов. Маньяков. То есть людей. Все стояли молча и неловко переглядывались между собой. Никто не торопился первым высказать то, что было на уме у всех. То, что раньше представлялось совершенно немыслимым, теперь казалось уже вполне мыслимым, даже реальным. Но есть вещи, которые нормальному разумному человеку обычно непросто бывает выразить в словах. Из темноты налетел сильный порыв ветра, и деревья склонились почтительно и благоговейно. Свет в уличных фонарях опять заколебался. Все насторожились, встревоженные этим миганием. Тал положил руку на рукоятку револьвера, хотя и не стал доставать его из кобуры. Но на этот раз свет не погас. Они напряженно вслушивались в кладбищенскую тишину городка. Но единственным звуком был шелест потревоженных ветром деревьев, похожий на долгий, постепенно иссякающий выдох на краю могилы, на протяжный предсмертный вздох. «Джейк и вправду мертв, — подумал Тал. — На этот раз Уоргл прав. Джейк мертв, а может быть, и все мы уже трупы, просто мы этого еще не знаем». Обращаясь к Фрэнку Отри, Брайс спросил: — Фрэнк, почему ты сказал «оно», а не «они» или как-нибудь еще? Фрэнк посмотрел на Тала, ища поддержки, но Тал и сам толком не понимал, почему он тоже говорил «оно». Фрэнк откашлялся, прочищая горло, переступил с ноги на ногу, поглядел на Брайса, пожал плечами: — Ну, наверное, сэр, я сказал «оно» потому… ну… солдат, то есть если бы противником был человек, убил бы нас там, в супермаркете, раз у него была такая возможность. Всех сразу, прямо в темноте. — Значит, ты считаешь, что наш противник — что? — не человек? — Может быть, это какое-то… животное? — Животное? Ты и в самом деле так думаешь? Чем дольше продолжался этот разговор, тем больше Фрэнку становилось явно не по себе. — Нет, сэр. — Ну, а что же ты думаешь? — спросил Брайс. — Черт возьми, я даже не знаю, что и думать, — с отчаянием в голосе произнес Фрэнк. — Вы знаете, я человек военный. Военные не любят ни во что ввязываться вслепую. Они обычно очень тщательно планируют свою стратегию. А хорошее, основательное стратегическое планирование зависит от того, каким опытом мы обладаем и насколько он надежен. Что происходило в похожих сражениях в прошлых войнах? Что делали другие в подобных обстоятельствах? Добились они успеха или потерпели неудачу? А тут у нас не только нет в прошлом чего-либо похожего, нам вообще не с чем это сравнивать. Нет никакого опыта, на основе которого можно было бы строить предположения. Все это так странно. Вот поэтому я и думаю о нашем враге как о каком-то неопределенном, безличном «оно». — А вы? — спросил Брайс, поворачиваясь к доктору Пэйдж. — Почему вы говорили «оно»? — Не знаю. Наверное, по тем же причинам, что и Отри. — Но ведь именно вы высказали гипотезу о том, что под влиянием болезни здесь могли появиться помешанные, которые потом превратились бы в стаю маньяков-убийц. Сейчас вы это исключаете? — Нет, — нахмурилась она. — Пока еще мы ничего не можем исключать. Но, шериф, я никогда не утверждала, что такое объяснение — единственно возможное. — У вас есть другие объяснения? — Нет. — А у тебя? — Брайс посмотрел на Тала. Тал, как и Фрэнк несколькими минутами раньше, тоже не знал, что ответить, и чувствовал себя крайне неудобно. — По-моему, я стал говорить «оно», потому что я уже не могу соглашаться с предположением о маньяках-убийцах. — Вот как? А почему нет? — Тяжелые веки Брайса поднялись от удивления небывало высоко. — Из-за того, что произошло в гостинице «При свечах», — ответил Тал. — Когда мы спустились вниз и обнаружили в вестибюле на столике эту руку, сжимающую карандаш для бровей, который мы искали… ну… мне кажется, маньяк-убийца такого бы не сделал. Все мы уже достаточно давно работаем в полиции и навидались подобных типов. Кому-нибудь из вас когда-либо доводилось встречать психопата, у которого было бы чувство юмора? Пусть даже какое-нибудь гнусное, извращенное, но чувство юмора? Все они — люди, абсолютно лишенные этого чувства. Они утратили способность смеяться над чем бы то ни было. Может быть, отчасти поэтому они и чокнутые. И когда я увидел эту руку на столике в вестибюле, я сразу понял, что она не стыкуется с предположением о маньяке. Я согласен с Фрэнком: я тоже склонен пока думать о нашем враге как о безличном «оно». — Почему никто из вас не хочет признаться в том, что вы на самом деле думаете? — тихо проговорила Лиза Пэйдж. Ей было четырнадцать лет, она была подростком, который вот-вот должен был превратиться в красивую молодую девушку, но сейчас она смотрела на всех остальных с той наивностью и прямотой, с какой смотрят обычно маленькие дети. — Ведь в глубине души по-настоящему каждый из нас знает, что все это сделали не люди. Господи, все так ужасно — одни ощущения при виде этого чего стоят, — так странно и отвратительно. И чем бы оно ни было, все мы чувствуем, что оно здесь. Мы все боимся этого «оно». И поэтому из последних сил стараемся сделать вид, будто его тут нет. Не признаемся себе в очевидном. Один только Брайс выдержал взгляд девочки, не отводя глаз, и задумчиво, изучающе глядел на Лизу. Все остальные потупились. Друг на друга они тоже избегали смотреть. «Не любим мы вглядываться в самих себя, — подумал Тал, — а девочка призывает нас именно к этому. Нам не хочется всмотреться в себя и обнаружить внутри голое примитивное суеверие. Мы же ведь все цивилизованные, образованные, взрослые люди. А взрослые не должны верить во всякую чертовщину». — Лиза права, — сказал Брайс. — Единственный способ разрешить эту загадку — а может быть, и единственный способ нам самим не стать очередными жертвами — это подойти к ней непредубежденно, ничем не сдерживать свое воображение. — Согласна, — сказала доктор Пэйдж. — И что же нам прикажете думать? — с сомнением покачал головой Горди Брогэн. — Вообще все что угодно? Я хочу сказать: какие-нибудь пределы нашему воображению должны быть? Или надо учитывать и такие версии, как привидения, оборотни… даже вампиры? Должно же быть что-то такое, что мы могли бы заведомо исключить. — Разумеется, — терпеливо проговорил Брайс. — Никто не утверждает, Горди, что мы имеем дело с привидениями или оборотнями. Но мы должны понимать, что столкнулись с чем-то неизвестным. Вот и все. С неизвестным. — Не согласен, — угрюмо возразил Стю Уоргл. — Какое, черт возьми, неизвестное! Рано или поздно мы выясним, что все это — дело рук какого-нибудь извращенца, какого-нибудь грязного вонючего подонка, одного из тех мерзавцев, которых все мы уже насмотрелись. — При таком взгляде, как у тебя, Уоргл, — сказал Фрэнк, — мы обязательно упустим какую-нибудь существенную улику. И кончится тем, что нас всех перебьют. — Не торопись с выводами, — ответил Уоргл. — Увидишь, что я прав. — Он сплюнул на тротуар, заложил большие пальцы за пояс, на котором была подвешена кобура, и принял вид человека, осознающего, что во всей этой компании он единственный, кому удалось сохранить хладнокровие и трезвость мысли. Тала Уитмена эта поза не обманула: он ясно видел, что и Уоргл тоже испытывает страх и ужас. Хоть Стю и был одним из самых толстокожих людей, с какими доводилось встречаться Талу, он все-таки не утратил тех примитивных инстинктов, о которых говорила Лиза. Хотел он это признать или нет, но он явно ощущал ту же самую до костей пробирающую холодную дрожь, как и все они. Фрэнк Отри тоже понял, что спокойствие и невозмутимость Уоргла — не более чем поза. Тоном, в котором сквозило преувеличенное и неискреннее восхищение, Фрэнк проговорил: — Своим прекрасным примером, Стю, ты нас вдохновляешь. Укрепляешь наши силы. И что бы мы только без тебя делали? — Без меня, Фрэнк, — ехидно ответил Уоргл, — ты бы уже давным-давно был в дерьме. — По-моему, это здорово похоже на самомнение, а? — Фрэнк с деланным смущением посмотрел на Тала, Горди и Брайса. — Есть малость. Но не вини Стю, — сказал Тал. — В его случае самомнением природа просто лихорадочно пыталась заполнить вакуум. Шутка была не особенно удачной, но она вызвала взрыв громкого хохота. Даже Стю, который, хоть и обожал подкалывать других, терпеть не мог, когда подкалывали его самого, изобразил тем не менее некое подобие улыбки. Тал понимал, что смеются не над шуткой, смеются, скорее над самой Смертью, хохочут прямо в ее костлявое лицо. Но когда смех затих, ночь оставалась все такой же темной. Городок был противоестественно тих. Джейк Джонсон не появился. И оно было где-то рядом. Доктор Пэйдж повернулась к Брайсу Хэммонду и спросила: — Хотите взглянуть на дом Оксли? — Не сейчас, — отрицательно покачал головой Брайс. — Я считаю, нам надо приостановить дальнейший осмотр городка до тех пор, пока мы не получим подкрепления. Я не собираюсь терять людей. Во всяком случае, рисковать не буду. Тал увидел, как в глазах Брайса отразилось страдание — он вспомнил о Джейке. «Брайс, дружище, — подумал он, — если что-то не так, ты всегда берешь всю ответственность на себя; а если все хорошо, то готов поделиться успехом со всеми, даже когда заслуга целиком и полностью принадлежит тебе». — Пойдемте обратно, в местный участок, — сказал Брайс. — Надо хорошенько продумать все, что нам необходимо будет сделать. И мне нужно позвонить. Они двинулись назад тем же путем, каким пришли сюда. Стю Уоргл, все еще преисполненный решимости доказать свое бесстрашие, настоял на том, что на этот раз он должен быть замыкающим, и всю дорогу с важным видом тащился сзади. Когда они дошли до Скайлайн-роуд, раздался звон церковного колокола, заставивший всех вздрогнуть. Колокол протяжно ударил снова, потом еще раз и еще. Талу показалось, что этот металлический звук отдается резонансом у него в зубах. Они остановились на углу, вслушиваясь в звук колокола и вглядываясь в противоположный, западный конец Вейл-лэйн. Кирпичная церковная колокольня возвышалась совсем недалеко, чуть больше чем в квартале от них; на каждом углу ее островерхой крыши светились неяркие огоньки. — Это католическая церковь Божьей Матери на Горе, — пояснила полицейским доктор Пэйдж, стараясь перекричать звук колокола. — Сюда ездят из всех здешних деревушек. Церковный колокол может звучать как вдохновенная жизнерадостная музыка. Но в этом звоне, решил Тал, не было ничего жизнерадостного. — Кто же в него звонит? — спросил, ни к кому конкретно не обращаясь, Горди. — Возможно, и никто, — сказал Фрэнк. — Он может быть соединен с каким-нибудь механическим приспособлением или с таймером. Колокол на освещенной колокольне раскачивался из стороны в сторону, издавая все тот же, на одной ноте, звук и отбрасывая вокруг слабый медный отблеск. — А обычно по воскресеньям в это время здесь звонят? — спросил Брайс у доктора Пэйдж. — Нет. — Значит, это не таймер. Колокол, раскачивавшийся высоко над землей, снова подмигнул им медным боком и прогудел еще раз. — Но кто же дергает за веревку? — спросил Горди Брогэн. У Тала Уитмена возникла перед глазами зловещая картина: это мертвый Джейк Джонсон, раздувшийся, посиневший и холодный как лед, стоит там, в комнате звонаря, в нижней части колокольня, и обескровленными руками сжимает веревку колокола; он мертв, но каким-то непостижимым образом в состоянии двигаться; он мертв, по тем не менее он дергает эту веревку, дергает ее снова и снова, задрав кверху свое мертвое лицо и улыбаясь широкой, но мрачной улыбкой мертвеца, а его вылезающие из орбит глаза смотрят на раскачивающийся под островерхой крышей гудящий колокол. Тала передернуло. — Может быть, стоит дойти до церкви и посмотреть, кто там есть, — предложил Фрэнк. — Нет, — мгновенно возразил Брайс. — Именно этого оно от нас и хочет. Чтобы мы подошли посмотреть. Чтобы мы зашли в церковь, а тогда оно опять выключит свет… Тал про себя отметил, что Брайс теперь тоже стал говорить «оно». — Да, — согласилась Лиза Пэйдж. — Оно сейчас там, в эту самую минуту, и оно нас поджидает. Даже Стю Уоргл на этот раз не поддержал мысль о том, чтобы заглянуть сейчас в церковь. Было видно, как колокол на верхней, открытой части колокольни раскачивался из стороны в сторону, бросая медные отблески: качнулся, сверкнул, опять качнулся, еще раз сверкнул — как будто вместе с монотонным гудением он световой азбукой Морзе передавал им послание, обладающее некоей гипнотической силой: «У вас закрываются глаза, вас тянет в сон, хочется вздремнуть, еще сильнее хочется, вы засыпаете, засыпаете… вы уже спите, глубоко спите, вы в трансе… вы мне подчиняетесь… вы пойдете в церковь… пойдете сейчас, прямо сейчас… вы придете, придете в церковь и увидите тот удивительный сюрприз, который вас тут ждет… придете… придете… идите…» Брайс передернул плечами, как будто сбрасывая с себя наваждение, и сказал: — Раз оно хочет, чтобы мы зашли в церковь, значат, именно этого делать не стоит. Пока не рассветет, ничего больше осматривать не будем. Они повернулись к Вейл-лэйн спиной и пошли по Скайлайн-роуд на север, мимо ресторана «Горный вид», по направлению к полицейскому участку. Они успели пройти не больше двадцати футов, как церковный колокол вдруг замолчал. Жуткая и таинственная тишина стала снова расползаться по городку, заливая собою все вокруг, словно вязкая жидкость. Когда они добрались до полицейского участка, то обнаружили, что труп Пола Хендерсона исчез. Бесследно. Как будто мертвый полицейский просто встал и ушел, словно Лазарь[25].Глава 14
ОПЕРАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ
Брайс сидел на столе, за которым раньше работал Пол Хендерсон. Открытый номер «Тайма», который Пол, должно быть, читал в тот самый момент, когда Сноуфилд подвергся нападению, Брайс сдвинул в сторону. Сейчас перед ним лежал лист желтой бумаги из блокнота, заполненный убористым почерком Хэммонда. Все остальные, находившиеся в комнате, были заняты выполнением поручений, которые он им дал. В полицейском участке воцарилась атмосфера военного лагеря. Твердая решимость каждого выжить во что бы то ни стало непонятным образом сплотила всех, породив пока еще слабое и хрупкое, но с каждой минутой крепнущее чувство товарищества. Возник даже своеобразный осторожный оптимизм, возможно, основанный на том, что хотя вокруг них были одни трупы,но сами они до сих пор еще живы. Брайс быстро пробежал глазами составленный им список, проверяя, не забыл ли он чего. Просмотрев листок еще раз, он пододвинул к себе телефон. Гудок в трубке раздался сразу же, и шериф вздохнул с облегчением, вспомнив, с какими трудностями пришлось совсем недавно столкнуться Дженифер Пэйдж. Он немного поколебался, прежде чем набрать первый номер. На него тяжким грузом давило осознание всей неимоверной значимости происшедшего. Ничего подобного случившемуся — полному истреблению населения целого города, причем невероятному по жестокости, не было нигде и никогда. Уже через несколько часов в Санта-Миру начнут слетаться десятки и сотни журналистов со всего мира. К утру сообщения из Сноуфилда и репортажи о нем вытеснят с первых страниц газет все другие новости. Сколько бы ни продлился этот кризис, на всем его протяжении Си-би-эс, Эй-би-си и Эн-би-си будут прерывать свои обычные программы, чтобы передавать самые последние известия из Сноуфилда. Все средства массовой информации будут обсуждать случившееся. И пока не станет ясно, сыграл ли какую-нибудь роль в происшедшем неизвестный микроб или бактерия, сотни миллионов людей будут, затаив дыхание, гадать, не подписан ли в Сноуфилде смертный приговор и им тоже. Но даже если версию с инфекцией можно будет исключить, внимание всего мира не переключится на что-нибудь другое до тех пор, пока тайна Сноуфилда не найдет объяснения. И давление на тех, от кого зависит как можно более быстрое решение этой загадки, наверняка будет невыносимым. Жизнь самого Брайса в результате всех этих событий, конечно же, изменится до неузнаваемости. Он возглавляет местную полицию, а значит, будет обязательно фигурировать во всех телерепортажах и газетных сообщениях. Подобная перспектива приводила его в ужас. Он не принадлежал к числу тех шерифов, что любят красоваться перед объективами. Он предпочитал держаться в тени. Но теперь уж, после всего того, что произошло в Сноуфилде, никуда от такой перспективы не денешься. Не прибегая к помощи оператора, он напрямую набрал тот номер в своем департаменте в Санта-Мире, который всегда использовал в экстренных случаях. Дежурил сержант Чарли Мерсер, толковый человек, на которого всегда можно положиться — он сделает все в точности так, как будет сказано. Чарли поднял трубку посередине второго гудка: — Департамент шерифа. — У него был вялый, немного гнусавый голос. — Это Брайс Хэммонд, Чарли. — Так точно, сэр. Мы здесь все гадаем, что у вас там произошло. В нескольких фразах Брайс обрисовал ему сложившееся в Сноуфилде положение. — О Господи! — проговорил Чарли. — А Джейк что, погиб? — Мы пока не знаем точно, погиб ли он. Можно надеяться, что нет. А теперь слушай внимательно, Чарли. В ближайшие пару часов нам надо многое успеть сделать. Нам будет значительно легче, если до тех пор, пока мы но организуем здесь свою базу и не возьмем под контроль окрестности Сноуфилда, будет сохраняться полная секретность. Что бы это ни было, надо удержать его здесь, внутри. Удерживание, Чарли, — вот ключевое слово. Сноуфилд нужно плотно запечатать, а добиться этого будет гораздо проще, если мы успеем сделать все необходимое раньше, чем сюда начнут подваливать журналисты. Я знаю, что на тебя я могу положиться, ты будешь держать язык за зубами, но вот некоторые другие… — Не беспокойтесь, — ответил Чарли, — пару часов мы выдержим, не протрепемся. — Хорошо. Прежде всего мне нужны еще двенадцать человек. Двоих на тот пост, который мы выставили на повороте к Сноуфилду, я десять сюда, ко мне. По возможности постарайся отобрать холостяков и тех, у кого нет детей. — Неужели настолько серьезно? — Да. И лучше присылай тех, у кого нет в Сноуфилде родственников. Дальше: пусть они захватят с собой питьевую воду и еду из расчета на два дня. Я не хочу пользоваться здесь, в Сноуфилде, ничем, пока мы не убедимся, что это безопасно. — Понял. — Пусть каждый захватит личное оружие, гранаты со слезоточивым газом и ружье для борьбы с уличными беспорядками. — Понял. — У вас там останется мало народу, и особенно трудно станет, когда начнут съезжаться журналисты. Вызовите дополнительные полицейские силы для регулирования движения и предотвращения уличных беспорядков. Теперь, Чарли: ты ведь хорошо знаешь эту часть нашего округа, верно? — Я родился и вырос в Пайнвилле. — Я так и думал. Я вот смотрю сейчас на карту округа, и, насколько я понимаю, в Сноуфилд ведут только две дороги. Одна — это шоссе, которое мы уже закрыли. — Он повернулся на кресле и уставился на огромную карту, висевшую в рамке на стене. — И кроме того, есть след от старого пожара, поднимающийся с той стороны горы примерно на две трети ее высоты. Там, где этот след кончается, начинается что-то вроде естественной тропы. По-видимому, это пешая тропа, а не дорога, но, если верить карте, она выходит прямо к началу самой длинной лыжной трассы, которая идет с этой стороны горы и ведет прямо в Сноуфилд. — Да, — ответил Чарли. — Я там ходил в свое время с рюкзаком за плечами, по тем лесам. Официально это называется «старая горная лесная тропа». А мы, местные, называли ее «тропой измора». — Надо поставить двух человек в самом низу, у начала пожарища, и поворачивать назад всякого, кто попытается подойти с той стороны. — На это может отважиться только какой-нибудь совсем уж ненормальный репортер. — Рисковать мы не можем. А еще дороги есть кроме тех, что показаны на карте? — Нету, — ответил Чарли. — Если только идти в Сноуфилд напрямую, прокладывая себе дорогу самому. Но там действительно совершенно дикие места. Не такие, где можно поставить палатку на выходные, отнюдь. Туда и опытный-то турист не сунется. Это было бы просто глупо. — Ну ладно. Теперь мне нужен номер телефона, который у нас где-то записан. Помнишь, я ездил в Чикаго на семинар для офицеров полиции… где-то года полтора назад. И там выступал этот представитель из армии… По-моему, его звали Копперфильд. Да, генерал Копперфильд. — Точно, — ответил Чарли. — Военно-медицинская служба, отдел бактериологической защиты. — Совершенно верно. — По-моему, то, где служит Копперфильд, называется бригадой гражданской обороны. Подождите немного. — Чарли отсутствовал меньше минуты. Вернувшись, он продиктовал Брайсу номер. — Это в Дагвэе, штат Юта. Господи, а вы считаете — в Сноуфилде произошло что-то такое, что заставит этих ребят туда примчаться? Тогда это действительно ужас. — Это действительно ужас, — согласился Брайс. — Еще вот что. Передай по телетайпу это имя: Тимоти Флайт. — Брайс продиктовал по буквам. — Словесного портрета нет. Адрес неизвестен. Узнай, не числится ли он в розыске. И проверь в ФБР тоже. А потом выясни все, что сможешь, о супругах Орднэй из Сан-Франциско. — Он дал Чарли адрес, который был записан в гостиничной книге регистрации. — И еще одно. Пусть те, кто сюда поедет, захватят из нашего окружного морга пластиковые мешки для трупов. — Сколько? — Ну, для начала… две сотни. — Две… сотни?! — Потом может понадобиться гораздо больше. Возможно, придется просить в соседних округах. Так что узнай заранее, смогут ли они нам столько дать. Здесь пропала масса народу, но их тела еще могут отыскаться. В городке жило около пятисот человек. Возможно, столько мешков нам и понадобится. «А может быть, и больше, чем пятьсот, — подумал Брайс. — Несколько мешков могут понадобиться и для нас самих». Хотя Чарли слушал самым внимательным образом, когда Брайс говорил ему, что не стало целого городка, и хотя он, безусловно, верил словам Брайса, но сердцем он не прочувствовал всех масштабов этой страшной катастрофы до тех пор, пока не услышал просьбу прислать двести мешков для тел. Истинным смыслом случившегося он проникся только тогда, когда представил себе все эти трупы, запечатанные в светонепроницаемые пластиковые мешки и разложенные вдоль улиц Сноуфилда. — Пресвятая Богородица! — выговорил Чарли Мерсер.Пока Брайс Хэммонд говорил по телефону с Чарли Мерсером, Фрэнк и Стю начали разбирать массивную полицейскую радиостанцию, что стояла возле задней стены комнаты. Брайс поручил им выяснить, почему она не работала, так как никаких видимых повреждений на ней не было. Лицевая панель радиостанции закреплялась десятью туго завинченными шурупами. Фрэнк был занят тем, что один за другим отвертывал их. От Стю, как всегда, особой помощи не было. Он главным образом глазел на доктора Пэйдж, которая занималась чем-то вместе с Талом Уитменом в другой части комнаты. — А она ничего, неплохой кусочек, — проговорил Стю, бросая алчные взгляды на докторшу и одновременно ковыряя в носу. Фрэнк промолчал. Стю посмотрел на то, что извлек из носа, так, словно это была только что найденная в раковине необыкновенная жемчужина, затем опять перевел взгляд на врачиху: — Ты только посмотри, как на ней джинсы сидят, а? Эх, хорошо бы ей вставить! Фрэнк уставился на три уже вывинченных им шурупа и сосчитал до десяти, стараясь подавить в себе желание загнать один из них прямо в толстый череп Стю. — Надеюсь, у тебя хватит ума не пытаться к ней подъехать. — А почему нет? Такой кадр! А я их повидал, знаю. — Только попробуй, шериф тебе покажет. — Шерифом меня не запугаешь. — Ты меня поражаешь, Стю. Как ты можешь думать сейчас о сексе? Тебе не приходило в голову, что мы все тут запросто можем погибнуть еще сегодня ночью, может быть, даже в следующую минуту? — Тем больше оснований подъехать к ней, если удастся, — ответил Уоргл. — Черт возьми, если все равно помирать, так чего церемониться? Не пропадать же ей зря? Верно? Да и другая ничего. — Кто другая? — Девчонка, — сказал Уоргл. — Ей же только четырнадцать. — То, что надо! — Она же ребенок, Уоргл. — Для этого уже вполне годится. — Ты больной. — А тебе бы разве не хотелось, Фрэнк, чтобы эти плотненькие хорошенькие ножки обвились вокруг тебя, а? Отвертка выскользнула из головки шурупа и со скрежетом проехала по металлу. Тихим, почти неслышным голосом, от которого тем не менее мгновенно сдуло ухмылку с физиономии Уоргла, Фрэнк произнес: — Если только я услышу, что ты хоть одним своим вонючим пальцем дотронулся до этой девочки — или до любой другой, где бы то ни было и когда бы то ни было, — я не просто помогу отдать тебя под суд. Я тобой сам займусь. Я знаю, как это делать, Уоргл. Я не зря служил во Вьетнаме. Я там воевал, а не по штабам отсиживался. И знаю, как надо обращаться с такими, как ты. Хорошо расслышал? Понял меня? На какое-то время Уоргл лишился дара речи и только бессмысленно смотрел в глаза Фрэнку. Из разных углов довольно большой комнаты до них долетал шум разговоров, но разобрать слова было невозможно. Ясно было, что никто из окружающих не слышал Фрэнка и Уоргла и не понял смысла сцены, только что разыгравшейся возле радиостанции. Наконец Уоргл моргнул, облизал губы, посмотрел вниз, на ботинки, поднял взгляд и изобразил на лице улыбку, которая должна была показать, что все сказанное раньше — чепуха, обычный, ничего не значащий треп: — Да брось ты, Фрэнк, не психуй. И не заводись. Это же я так, несерьезно. — Ты меня понял? — повторил Фрэнк. — Понял, понял. Но говорю тебе, я же это несерьезно. Просто так, самая обычная трепотня. Что, ты никогда не слышал, как ребята треплются в раздевалке? Или сам не трепался? Ты же знаешь, что я ничего подобного не сделаю. Что я, извращенец какой, прости Господи? Брось, Фрэнк, расслабься. О'кей? Фрэнк посмотрел на него еще немного, а потом произнес: — Давай-ка разберем это радио.
Тал Уитмен открыл высокий металлический сейф, в котором хранилось оружие. — Боже, да здесь целый арсенал, — сказала Дженни Пэйдж. Тал начал передавать ей оружие, а она раскладывала его на стоящем поблизости столе. Для такого городка, как Сноуфилд, запасы огнестрельного оружия в сейфе были, пожалуй, чрезмерными. Две мощные винтовки со снайперскими прицелами. Два карабина. Два специальных короткоствольных ружья, которые применяются при уличных беспорядках: они стреляют пластмассовыми мягкими пулями и не могут никого убить. Две ракетницы. Два ружья для стрельбы гранатами со слезоточивым газом. Три револьвера: два тридцать восьмого калибра и один большой «смит-веесон — магнум». Пока лейтенант выкладывал на стол коробки с патронами, Дженни взяла «магнум» и рассмотрела его повнимательнее. — Чудовищная штука, правда? — Да. Таким быка остановить можно. — А Пол держал здесь все в отличном состоянии. — Похоже, вы разбираетесь в оружии, — сказал лейтенант, продолжая выкладывать коробки. — Всегда терпеть его не могла. И никогда не думала, что обзаведусь своим, — ответила Дженни. — Но после того как я здесь прожила уже месяца три, нам стала досаждать банда мотоциклистов, устроившая что-то вроде своего летнего лагеря возле шоссе на Маунт-Ларсон. — Хромированные дьяволы. — Они, — подтвердила Дженни. — Мерзкие типы. — Мягко говоря. — Пару раз, когда я вечерами ездила по вызовам в Маунт-Ларсон или в Пайнвилль, ко мне приставали мотоциклисты. Они ехали и справа, и слева от моей машины, держались очень близко, так что это было небезопасно, скалились, махали руками, что-то кричали мне. В общем, вытворяли разные глупости. Ничего плохого они в общем-то не пытались делать, но я все равно чувствовала, что мне… — Угрожают. — Верно. Поэтому я купила револьвер, научилась стрелять и получила разрешение на ношение. Лейтенант принялся вскрывать коробки с патронами. — А воспользоваться хоть раз им пришлось? — Ну, стрелять, слава Богу, не пришлось ни разу, — сказала она. — Но показать один раз пришлось. Я ехала в Маунт-Ларсон, только-только стемнело, и «дьяволы» опять ко мне прицепились, но на этот раз не так, как обычно. Четверо окружили меня со всех сторон, взяли в «коробочку» и начали притормаживать, заставляя меня остановиться. В конце концов они все-таки вынудили меня встать прямо посередине дороги. — Сердечко у вас, наверное, заколотилось, а? — Еще как! Один из этих «дьяволов» слез с мотоцикла. Здоровый такой, больше шести футов ростом, с длинными курчавыми волосами и с бородой. Вокруг головы повязка. И золотая серьга в ухе. Прямо как пират. — У него на ладонях не были вытатуированы глаза — красный и желтый? — Точно! По крайней мере на той руке, которой он оперся о ветровое стекло моей машины, когда смотрел на меня. Лейтенант облокотился на стол, на котором было разложено оружие. — Его зовут Джин Терр. Он главарь «Хромированных дьяволов». Одна из худших банд подобного толка. Два или три раза он побывал за решеткой, но его никогда не сажали за что-нибудь серьезное и он никогда не задерживался подолгу. Всякий раз, когда казалось, что уж теперь-то он должен сесть крепко, кто-нибудь из его людей брал всю вину на себя. У него потрясающая власть над членами банды. Они сделают все, что он захочет. Они на него разве что не молятся. И даже попав в тюрьму, они сохраняют ему верность, а Джитер продолжает о них заботиться, переправляет им туда деньги, наркотики. Он знает, что мы не можем ничего ему сделать, и потому доводит нас почти до бешенства своей вежливостью, заявлениями о том, что всегда готов нам помочь, и вообще тем, что изображает из себя честного и сознательного гражданина. У него это любимая шутка. Так значит, Джитер подошел к вашей машине и уставился на вас. И что же было дальше? — Да. Он хотел, чтобы я вышла из машины, а я не хотела этого делать. Требовал опустить окно, чтобы нам не приходилось кричать. Я ответила, что не возражаю немного покричать. Тогда он пригрозил, что разобьет окно, если я его не опущу. Я понимала, что, если опущу окно, он просунет руку внутрь и отопрет дверь, поэтому решила лучше сама выйти из машины. Я ему сказала, что выйду, если он отойдет немного подальше. Он отошел, и я выхватила из-под сиденья револьвер. Как только я открыла дверцу и вышла, он на меня полез. А я воткнула ствол револьвера прямо ему в пузо. Револьвер был взведен, курок оттянут — это он сразу увидел и понял. — Хотел бы я поглядеть на его физиономию в тот момент! — улыбнулся лейтенант Уитмен. — Я была перепугана до смерти, — продолжала вспоминать Дженни. — Конечно, я боялась его. Но я боялась и того, что мне, может быть, придется выстрелить. Я даже не была уверена в том, смогу ли нажать на спусковой крючок. Но я понимала: нельзя показать Джитеру свою неуверенность. — Если бы он ее увидел, он бы вас живьем сожрал. — Вот и я так подумала. Поэтому я держалась очень хладнокровно и очень твердо. Я ему сказала, что я врач, что я еду к тяжелому больному и что я очень тороплюсь. Говорила я тихо. Трое других сидели на своих мотоциклах: им не было видно револьвера и они не слышали, о чем мы говорили. Этот Джитер, как мне показалось, из разряда тех, кто скорее умрет, чем позволит, чтобы другие видели, как им командует женщина. Поэтому я не хотела, чтобы его дружки поняли, что происходит: тогда он мог бы выкинуть какую-нибудь глупость. — Верно вы его раскусили, — одобрительно покачал головой лейтенант. — Я ему напомнила, что ему самому может когда-нибудь понадобиться врач. Допустим, он врежется во что-нибудь на своем мотоцикле и будет валяться на дороге с тяжелой раной, и тут по вызову приеду я: если он сделает мне что-нибудь плохое, мне ведь захочется ему ответить тем же, верно? Я ему сказала, что у врача много возможностей сделать так, чтобы рана была как можно более болезненной, чтобы она долго и тоже болезненно заживала, чтобы возникли всякие осложнения. И посоветовала подумать обо всем этом. Лейтенант Уитмен пораженно смотрел на нее. — Не знаю, — продолжала Дженни, — это ли на него подействовало, или просто то, что у меня был револьвер. Но он смешался, а потом разыграл великолепную сцену для своих дружков. Он им сказал, что я — знакомая его близкого друга. Сказал, что видел меня всего раз, несколько лет назад, и поэтому не сразу узнал. «Хромированным дьяволам» было велено оказывать мне всяческое почтение. Никто из них и никогда не должен ко мне приставать. После этого он уселся на свой «харлей» и укатил, а остальные двинулись за ним. — И после всего этого вы поехали в Маунт-Ларсон? — А что же мне было делать? Пациент-то ждал. — Невероятно. — Но могу вам признаться: всю дорогу до Маунт-Ларсона меня трясло и прошибал холодный пот. — И с тех пор ни один мотоциклист больше к вам не приставал? — Наоборот, теперь, когда они меня обгоняют на местных дорогах, то всегда улыбаются и машут рукой. Уитмен расхохотался. — Вот вам ответ на ваш вопрос, — сказала Дженни. — Я умею пользоваться револьвером, по надеюсь, что мне никогда не придется ни в кого стрелять. Она посмотрела на «магнум», который так и держала в руке, нахмурилась, открыла коробку с патронами и принялась заряжать револьвер. Лейтенант взял несколько патронов из другой коробки и зарядил карабин. Они помолчали некоторое время, потом лейтенант спросил: — А вы бы и вправду сделали то, о чем говорили Джину Терру? — Что? Выстрелила бы? — Нет. Я хочу сказать, если бы он действительно сделал вам что-нибудь плохое, может быть, изнасиловал бы, а потом попал к вам в качестве пациента… вы бы и вправду?.. Дженни полностью зарядила «магнум», повернула на место цилиндр и положила револьвер. — Ну, искушение так поступить у меня бы возникло. Но с другой стороны, я очень уважаю клятву Гиппократа. Поэтому… что ж… наверное, в глубине души я тряпка, но — я бы сделала для Джитера все, что необходимо, самым лучшим образом. — Так я и знал, что вы это скажете. — Я только на словах твердая и решительная, а внутри я кисель. — Ну прямо, — возразил Уитмен. — Далеко не у каждого хватило бы духу так противостоять ему, как это сделали вы. Но если бы он причинил вам вред, а вы потом, чтобы поквитаться с ним, нарушили бы клятву врача… это уже было бы другое дело. Дженни подняла взгляд от револьвера тридцать восьмого калибра, который взяла со стола из общей кучи оружия, и внимательно посмотрела на чернокожего полицейского. Его глаза глядели ясно, открыто, дружелюбно. — Доктор Пэйдж, у вас, как мы говорим, «правильное нутро». Если хотите, зовите меня Тал. Меня почти все так зовут. Это сокращенное от Талберт. — Хорошо, Тал. А ты зови меня Дженни. — Ну, не знаю, хорошо ли это. — Вот как? А в чем дело? — Вы все-таки доктор, и все такое. Моя тетушка Бекки — она меня вырастила и воспитала — очень уважала всех докторов. И мне как-то странно называть доктора просто… по имени. — Знаешь, врачи тоже люди. А с учетом переделки, в которую мы все тут попали… — Все равно, — отрицательно покачал головой Уитмен. — Ну, если для тебя это так важно, зови меня так, как зовет большинство пациентов. — Это как? — Просто док. — Док? — Он задумался, и по лицу его стала медленно расплываться улыбка. — Док. Как-то при этом слове вспоминаются те седые сварливые простаки, которых давным-давно, еще в тридцатые и сороковые годы играл в кино Барри Фитцджеральд. — Уж извини, но я пока не седая. — Ну, положим, вы и не старая простушка. Дженни негромко рассмеялась. — А мне нравится это слово. В нем есть какая-то дружеская ирония, — сказал Уитмен. — Док. Да, пожалуй, оно подходит. Когда я представляю себе, как вы ткнули револьвер в пузо этому Джину Терру — что ж, в тот момент вас можно было назвать «цок». Они зарядили пару винтовок. — Тал, зачем нужно столько оружия в полицейском участке такого маленького городка, как Сноуфилд? — Если полиция округа хочет получать в свой бюджет еще такие же суммы, как те, которыми она располагает, от властей штата и от федерального правительства, то приходится выполнять их требования, какими бы странными они ни были. А одно из этих требований — перечень минимального запаса оружия, которое должно быть в наличии на таком вот полицейском участке. А сейчас… может быть, и хорошо, что у нас тут есть такой арсенал. — Но пока что мы даже не вздели, в кого могло бы понадобиться стрелять. — Подозреваю, что увидим, — сказал Тал. — И знаете, что еще я вам скажу? — Что? Его широкое темное красивое лицо способно было, оказывается, принимать торжественно-спокойное и строгое выражение. — Думаю, вам незачем переживать насчет того, сможете ли вы выстрелить в человека. Мне почему-то кажется, что нам тут придется иметь дело не с людьми. Брайс набрал личный, не указанный в телефонных книгах, номер резиденции губернатора штата в Сакраменто[26]. Вначале к телефону подошла горничная, долго повторявшая ему, что губернатор не может взять сейчас трубку, даже для разговора со старым другом и даже если этот разговор касается вопросов жизни и смерти. Она настойчиво предлагала Брайсу передать ей то, что он хотел бы сообщить губернатору. Потом трубку взял управляющий домом — то есть начальник всей работающей в доме прислуги, — посоветовавший Брайсу то же самое, что и горничная. Затем Брайс долго дожидался у телефона, пока наконец трубку с другой стороны не взял Гэри По, помощник и главный политический советник губернатора Джека Ретлока. — Брайс, — заговорил Гэри, — Джек сейчас никак не может подойти к телефону. Он сидит на очень важном обеде. Мы принимаем японского министра торговли и их генерального консула в Сан-Франциско. — Гэри… — Мы прилагаем прорву усилий к тому, чтобы заполучить сюда, в Калифорнию, новый совместный японо-американский завод по производству всякой электроники, и мы очень боимся, как бы этот проект не перехватили у нас Техас, Аризона или даже Нью-Йорк. Господи Боже мой, Нью-Йорк, ты себе можешь это представить! — Гэри… — Я не понимаю, почему японцы вообще даже рассматривают вариант с Нью-Йорком? Они что, не знают, какие там проблемы с рабочей силой и какой там уровень местных налогов?! Иногда я просто думаю, что… — Гэри, заткнись! — Что?! Брайс никогда ни на кого не повышал голоса. Вот почему даже Гэри По, обладавший способностью говорить быстрее и громче любого ярмарочного зазывалы, был на этот раз поражен и смолк. — Гэри, у нас ЧП. Позови Джека. — Брайс, я уполномочен… — обиженным голосом заговорил По. — Гэри, в ближайшие два часа мне нужно сделать чертову уйму разных дел. Если, конечно, я проживу эти два часа и успею хоть что-то сделать. Поэтому я не могу тратить пятнадцать минут на то, чтобы объяснить все происходящее тебе, а потом еще столько же, чтобы снова объяснить то же самое Джеку. Послушай, я сейчас нахожусь в Сноуфилде. Такое впечатление, что все, кто тут жил, мертвы, Гэри. — Что? — Все пятьсот человек. — Брайс, если это какая-то шутка… — Пятьсот трупов. Причем по меньшей мере пятьсот. А теперь, ради Бога, позови мне Джека. — Но, Брайс, пятьсот… — Позови Джека, черт побери! Гэри помолчал немного, затем произнес: — Ну что ж, старина, надеюсь, ты это не придумал. — Он положил трубку рядом с аппаратом и отправился за губернатором. Брайс был знаком с Джеком Ретлоком уже семнадцать лет. Когда он только поступил на работу в полицию Лос-Анджелеса, то на первый год к нему в качестве наставника прикрепили Джека. Ретлок к тому времени проработал в полиции уже семь лет и считался ветераном и закаленным бойцом. Он и вправду производил впечатление человека, настолько знающего и понимающего все тонкости жизни улицы, что Брайс с отчаянием спрашивал себя, сможет ли он когда-нибудь стать хотя бы наполовину столь же искусным полицейским, как Джек. Однако уже через год он превзошел Ретлока. Они решили и дальше продолжать работать вместе, в одной паре. Но еще через полтора года, пресытившись выше головы правосудием, сплошь и рядом выпускающим на свободу подонков, которых он с таким трудом отправлял за решетку, Джек ушел из полиции и занялся политикой. В бытность свою полицейским, Ретлок неоднократно удостаивался наград за храбрость. Этот образ бравого и смелого полицейского помог ему занять место в городском совете Лос-Анджелеса, а потом успешно провести избирательную кампанию на пост мэра города и победить с абсолютным преимуществом. Уже оттуда он перепрыгнул в кресло губернатора штата. По сравнению с Брайсом, сумевшим за то же время дослужиться только до поста шерифа в округе Санта-Мира, Джек совершил головокружительную карьеру, но из них двоих он всегда отличался гораздо большей агрессивностью. — Дуди? Это ты? — спросил Джек, беря трубку телефона в Сакраменто. Дуди было прозвищем Брайса. Джек всегда говорил, что светлые, песочного цвета волосы Брайса, его веснушчатое, пышущее здоровьем лицо и кукольные голубые глаза делали его похожим на Хауди Дуди. — Я, Джек. — Гэри несет какой-то совершеннейший бред… — Все действительно так, — прервал его Брайс. Он рассказал Джеку обо всем, что произошло в Сноуфилде. Выслушав его рассказ, Джек глубоко вздохнул и сказал: — Жаль, Дуди, что у тебя нет репутации любителя заложить за галстук. — Джек, это не пьяная болтовня. Послушай, самое первое, что мне нужно… — Национальная гвардия? — Только не это! — ответил Брайс. — Пока у нас есть хоть какая-то возможность обойтись без них, я хочу, чтобы их тут не было. — Если я не воспользуюсь Национальной гвардией и вообще всеми официальными ведомствами, какие есть в моем подчинении, а потом выяснится, что я первым делом должен был задействовать именно их, то меня смешают с дерьмом и на мне спляшет целое стадо голодных коров. — Джек, я рассчитываю на то, что в этом деле ты станешь принимать правильные, а не просто политически верные решения. Пока мы не разобрались до конца в ситуации, толпы национальных гвардейцев нам здесь ни к чему. Они будут только путаться под ногами. Они очень нужны, когда надо спасать людей при наводнении, разносить почту во время забастовки почтовиков и в других подобных случаях. Вот тогда они полезны. Но они не профессиональные военные. Это коммивояжеры, юристы, плотники, школьные учителя. А в данном случае нужна небольшая, эффективная, жестко контролируемая полицейская операция. Ее могут провести только настоящие, профессиональные полицейские и никто другой. — А если твои люди не справятся? — Тогда я буду первым, кто попросит прислать гвардейцев. — Ну хорошо, — сдался наконец Ретлок. — Обойдемся без гвардейцев. Пока. Брайс облегченно вздохнул. — И я хочу, чтобы управление здравоохранения штата тоже пока не вмешивалось. — Дуди, это уже чересчур. На это я пойти не могу. Если есть хоть самая малая вероятность того, что в Сноуфилде все погибли в результате массовой инфекции или какого-то крупного отравления окружающей среды… — Джек, послушай, управление здравоохранения способно что-то сделать, когда надо проследить, не распространяется ли по штату чума, нет ли массового отравления продуктов или питьевой воды. Но в общем-то они бюрократы и обычно разворачиваются медленно. У меня есть какое-то внутреннее ощущение, что нам отпущено очень мало времени. В любой момент может произойти катастрофа. Я даже буду очень удивлен, если она не произойдет. Кроме того, у управления здравоохранения нет необходимого оборудования и нет планов действий на случай гибели целого города. Все это есть у других, Джек. В военно-медицинской службе есть отдел бактериологической защиты — ОБЗ, — а в нем существует относительно новая программа, которую они назвали «бригадой гражданской обороны» — БГО. — ОБЗ? — переспросил Ретлок, и голос его зазвучал еще более встревоженно. — Это те, кто занимается противохимической и бактериологической защитой? — Да. — О Боже! Ты что, думаешь, что происшедшее может быть как-то с этим связано?.. — Возможно, и нет, — ответил Брайс, вспомнив отрезанные головы Либерманов, странное чувство, которое испытал он сам в крытом проезде позади их булочной, а также ту невероятную внезапность, с которой исчез Джейк Джонсон. — Но пока еще я слишком мало знаю, чтобы исключать эту, да и любую другую возможность. В голосе губернатора зазвучала, становясь все сильнее, откровенная ярость: — Если эти разгильдяи-военные опять проворонили какой-нибудь из своих проклятых вирусов, я добьюсь того, чтобы им головы поснимали! — Не заводись, Джек. Может быть, это не их вина. Возможно, это работа террористов, которым в руки каким-то образом попал образец бактериологического оружия. А возможно, русские просто проводят небольшое испытание готовности наших аналитических и оборонных систем в случае бактериологического нападения. Чтобы во всем этом разобраться, и существует военно-медицинская служба, отдел бактериологической защиты, а в нем группа генерала Копперфильда. — Кто такой этот Копперфильд? — Генерал Гэйлен Копперфильд. Он командует бригадой гражданской обороны, входящей в состав ОБЗ. И у нас сейчас сложилось именно такое положение, о котором их надо ставить в известность. Копперфильд за несколько часов сможет прислать в Сноуфилд группу хорошо подготовленных специалистов. С первоклассными биологами, вирусологами, бактериологами, патологоанатомами, прекрасно осведомленными о самых последних достижениях судебной медицины; с иммунологом, биохимиком, нейрологом и даже с нейропсихологом. У бригады Копперфильда есть очень хорошо оснащенные передвижные лаборатории. Они размещены по всей стране, так что одна из таких баз должна быть где-то достаточно близко к нашему штату. Не пускай сюда здравоохранение штата, Джек. У них нет ни специалистов такого класса, каких может прислать Копперфильд, ни такого оборудования, ни передвижных лабораторий. Я хочу позвонить генералу. То есть я ему обязательно позвоню, но я бы хотел предварительно заручиться твоим согласием и обещанием, что наши бюрократы не будут путаться тут под ногами и мешать. Джек Ретлок помолчал немного и спросил: — До чего же мы дожили, Дуди, если в нашем мире оказываются необходимы такие вещи, как бригада Копперфильда? — Ты не пустишь сюда здравоохранение штата? — Ладно, не пущу. Что еще тебе нужно? Брайс посмотрел на лежавший перед ним список. — Договорись с телефонной компанией, чтобы Сноуфилд отключили от автоматической сети. Когда мир узнает о том, что здесь произошло, тут станут обрывать все телефоны и мы сами не сможем никуда позвонить. Если бы они могли переключить Сноуфилд на ручное соединение и не пропускали бы пустопорожних звонков… — Сделаю, — пообещал Джек. — Конечно, телефонная связь может вообще оборваться в любой момент. Когда доктор Пэйдж пыталась нам дозвониться, ей это не сразу удалось. Так что мне понадобится коротковолновая радиостанция. Ту, что была в местном полицейском участке, похоже, вывели из строя. — Пришлю тебе передвижную, на машине, со своим электрогенератором. В нашем отделе помощи при землетрясениях есть пара таких. Еще что-нибудь? — Кстати о генераторах. Было бы хорошо, если бы мы могли не зависеть от городской электросети. Наш противник явно способен отключать ее по собственному усмотрению. Не мог бы ты прислать нам пару мощных генераторов? — Будет сделано. Что еще? — Пока больше ничего. Но если что-нибудь понадобится, я попрошу. Стесняться не буду. — Хочу тебе сказать, Брайс: как твоему другу, мне страшно неприятно, что ты угодил в подобную катавасию. Но как губернатор я чертовски рад, что этим делом — что бы у вас там ни произошло — занимаешься именно ты. Некоторые паскудники, попади это дело к ним в лапы, уже успели бы напортачить так, что не расхлебаешь. Если это инфекция, они бы ее разнесли уже как минимум на полштата. А в тебе я уверен. — Спасибо, Джек. Они оба помолчали немного. Потом Ретлок сказал: — Дуди? — Да, Джек? — Береги себя. — Постараюсь, Джек, — ответил Брайс. — Ну что ж, надо звонить Копперфильду. Перезвоню тебе попозже. — Пожалуйста, Брайс, — сказал губернатор. — Обязательно перезвони. Не пропадай, старина. Брайс положил трубку и огляделся вокруг. Все, кто находился в большой комнате полицейского участка, были чем-то заняты. Стю Уоргл и Фрэнк снимали переднюю панель с радиостанции. Тал и доктор Пэйдж заряжали оружие. Горди Брогэн и Лиза Пэйдж, самый здоровенный и самая маленькая в этой группе, готовили кофе и накрывали на стол. Даже здесь, посреди катастрофы, возможно, на грани жизни и смерти, подумал Брайс, надо пить кофе, ужинать. Жизнь продолжается. Он снова поднял трубку, чтобы набрать номер Копперфильда в Дагвэе, штат Юта. Гудка не было. Он несколько раз нажал на рычаг. — Алло? — сказал он. Ничего. Брайс чувствовал, что кто-то или что-то слушало его сейчас на другом конце провода. Он ощущал чье-то присутствие, причем именно так, как описывала ему это явление доктор Пэйдж. — Кто там? — спросил он. Брайс не ожидал никакого ответа, но вдруг получил его. Это не был человеческий голос. Это была смесь очень странных, но все-таки знакомых звуков: как будто крики птиц, скорее всего чаек; да, морских чаек, кричащих высоко в небе на фоне прибоя и сильных порывов ветра. Потом эти звуки сменились другими. Шумом и треском. Стуком. Так стучат семена в высохшей, полой внутри тыкве. Стук этот был очень похож на тот предупреждающий сигнал, что издает перед нападением гремучая змея. Да, несомненно. Совершенно отчетливый стук гремучей змеи. Звук в трубке опять изменился. Теперь это было жужжание, вроде того, какое издают некоторые электронные приборы. Нет, не приборы. Пчелы. Так гудит обычно пчелиный рой. Потом опять послышался крик чаек. Потом крик какой-то другой птицы, очень музыкальная трель. Тяжелое дыхание. Так дышит уставшая собака. Рычание. Но уже не собаки. Кого-то покрупнее. Шипение и мяуканье дерущихся котов. В самих этих звуках не было ничего угрожающего — может быть, только за исключением стука гремучей змеи и рычания, — но у Брайса они почему-то вызвали дрожь. Потом голоса стихли. Брайс подождал, послушал, спросил: — Кто там? Никакого ответа. — Чего вы хотите? И здесь в трубке раздались другие звуки, от которых Брайса словно окатило ледяной водой. Звуки, терзающие, рвущие душу. Это были крики. Крики мужчин, женщин, детей. Причем не одного или двух, не нескольких. А десятков, сотен людей. Кричали не понарошку, не так, как это обычно делают, изображая сцены ужаса. Это были настоящие, потрясающие, леденящие кровь вопли обреченных на смерть людей: вопли отчаяния, вопли страха, вопли агонии. Брайс чувствовал, что ему становится плохо. Сердце его бешено колотилось. Ему казалось, что его телефон соединен с самой преисподней, с самыми глубинами Ада. Были ли это записанные на пленку голоса погибших жителей Сноуфилда? Если так, то кто их записал? И зачем? Или эти люди кричат сейчас, это не пленка? Наконец раздался последний вопль. Детский. Маленькой девочки. Она кричала вначале от ужаса, потом от боли, потом от невообразимых страданий, словно ее в этот момент разрывали пополам. Ее вопль становился все выше и тоньше, тоньше, тоньше… Тишина. Тишина оказалась еще хуже, чем эти крики: Брайс чувствовал присутствие на проводе кого-то неизвестного и непонятного, причем сейчас это ощущение стало у него гораздо сильнее, чем прежде. Внезапно он четко осознал, что тот, кто молчал сейчас в трубку, был чистейшим, лишенным какого бы то ни было милосердия Злом. Это было Оно. Брайс быстро бросил трубку. Его трясло. Он не подвергся никакой опасности — и тем не менее его всего трясло. Он огляделся. Все остальные занимались тем, что он им поручил. Никто явно не обратил внимания на то, что последний разговор шерифа по телефону очень сильно отличался от всех предыдущих. Сзади по шее у него ручьем лил пот. Ему, конечно, надо будет рассказать всем об этом разговоре. Но не сию минуту. Потому что сейчас он вряд ли сможет говорить спокойно. Его наверняка выдаст нервная дрожь в голосе, и все услышат и поймут, насколько это потрясло его. Пока не прибыло подкрепление, пока они не организовали в Сноуфилде хорошую и надежную базу, пока они все не преодолели первоначальный страх и не почувствовали себя спокойнее и увереннее, — до тех пор нельзя никому показывать, что его тоже может бить дрожь от ужаса. В конце концов, все ждут от него твердого руководства и он не имеет права их разочаровывать. Брайс глубоко вздохнул, успокаиваясь и сбрасывая с себя напряжение от только что пережитого. Он снова поднял трубку, и в ней сразу же раздался гудок. С чувством огромного облегчения он набрал номер расположенного в Дагвэе, в штате Юта, штаба бригады гражданской обороны отдела бактериологической защиты.
Лизе понравился Горди Брогэн. Поначалу он показался ей мрачным, замкнутым и как бы излучающим вокруг себя угрозу. Он был очень крупного телосложения, и руки у него были такие большие, что он казался чудовищем из фильмов о Франкенштейне. Правда, лицо у него было довольно приятное и красивое, но когда он хмурился — даже если он при этом не сердился, а просто бывал обеспокоен или напряженно думал о чем-то, — то брови его сходились на переносице, придавая лицу свирепое выражение, совершенно черные глаза становились еще темнее, чем обычно, и он казался самим воплощением рока. Улыбка совершенно меняла его, и это было просто поразительно. Когда Горди улыбался, всем немедленно становилось ясно, что вот именно сейчас, в этот самый момент они и видят перед собой настоящего Горди Брогэна. А тот, другой Горди — каким он показался, когда он хмурился или не улыбался, — был всего лишь плодом воображения. Его теплая и широкая улыбка сразу же делала заметными и доброту, которой светились его глаза, и мягкие изгибы его широких бровей. Тем, кто узнавал его получше, он начинал казаться большим щенком, которому страшно хочется, чтобы его все любили. Он принадлежал к числу очень немногих взрослых, кто умеет говорить с детьми, не испытывая при этом смущения или застенчивости, не снисходя до них, без покровительственных поз и интонаций. Способностью общаться с детьми он был наделен ничуть не меньше, чем Дженни. И он сохранил способность смеяться даже в том положении, в котором они все сейчас очутились. Пока они занимались тем, что резали консервированное мясо, хлеб, сыр, раскладывали пирожки и фрукты, варили кофе и накрывали на стол, Лиза сказала: — Вы мне кажетесь совершенно не похожим на полицейского. Ни чуточки не коп[27]. — Вот как? — проговорил Горди. — А как должен выглядеть настоящий коп? — Ой, я сказала что-нибудь не то? Разве «коп» обидное слово? — В некоторых местах его считают обидным. В тюрьме, например. Лиза сама удивилась, что после всего, что случилось сегодня вечером, она еще могла смеяться. — Нет, правда? — проговорила она. — А как вы предпочитаете, чтобы вас называли? Полицейским? — Неважно как. Я помощник шерифа, полицейский, коп. Называйте, как вам больше нравится. Главное, что я вам кажусь не соответствующим этой роли. — Нет, внешне-то вы похожи, — сказала Лиза. — Особенно когда хмуритесь. Но вы не кажетесь полицейским. — А кем же я вам кажусь? — Дайте подумать. — Она уже увлеклась этой игрой, позволявшей ей на время позабыть о творящемся вокруг кошмаре. — Вы мне кажетесь похожим… скорее на… молодого священника. — Я?! — Ну, вы бы великолепно смотрелись в церкви, на кафедре, когда произносили бы зажигательную проповедь. И я очень хорошо представляю себе, как вы могли бы сидеть в своем приходе, с доброй, сочувственной улыбкой на лице, и выслушивать людей, приходящих к вам поделиться своими проблемами. — Я священник! — повторил он, явно пораженный. — С таким воображением вам надо будет стать писательницей, когда вырастете. — Нет, думаю, я стану врачом, как Дженни. Врач может сделать столько хорошего. — Она помолчала. — Знаете, почему вы мне кажетесь не похожим на копа? Потому что я не могу себе представить, как бы вы смогли воспользоваться вот этим. — Она показала рукой на его револьвер. — Я не могу представить вас в кого-нибудь стреляющим. Даже если тот человек будет заслуживать, чтобы в него выстрелили. Ее удивило и немного напугало выражение, появившееся на лице Горди Брогэна. Он был явнопотрясен. Но прежде чем она успела спросить, что его так поразило, свет в комнате задрожал, погас на мгновение, зажегся снова. Она подняла голову и посмотрела вверх. Свет снова мигнул. Потом еще раз, и еще. Она взглянула на окна, что выходили на проезжую часть. Уличные фонари тоже мигали. «Господи, только не это, — подумала она. — Господи, ну пожалуйста, не надо. Сделай так, чтобы мы не оказались снова в темноте. Пожалуйста, ну пожалуйста!» Свет потух.
Глава 15
ВИДЕНИЕ В ОКНЕ
Брайс Хэммонд переговорил с дежурным офицером, который был в этот поздний час у круглосуточного телефона в штаб-квартире БГО ОВЗ в Дагвэе, штат Юта. Ему не пришлось долго объясняться, прежде чем дежурный перевел разговор на домашний телефон генерала Гэйлена Копперфильда. Копперфильд внимательно все выслушал, по почти ничего не сказал в ответ. Брайсу хотелось узнать, считает ли генерал вообще возможным и вероятным, чтобы весь Сноуфилд погиб и исчез под воздействием какого-то химического или биологического реагента. Копперфильд ответил: «Да». Но кроме этого, он не захотел говорить ничего. Он предупредил Брайса, что они разговаривают по открытой телефонной линии, и неопределенно, но жестко напомнил ему о существовании таких вещей, как секретная информация и допуски к пей. Выслушав самое главное, он оборвал Брайса, когда тот заговорил о некоторых подробностях, причем довольно грубо, и заявил, что все остальное они обсудят при личной встрече. «Того, что я услышал, мне достаточно. Я уверен, что это представляет интерес для моей организации». Он пообещал, что к утру или чуть позже пришлет в Сноуфилд передвижную лабораторию и бригаду специалистов. В тот момент, когда Брайс уже клал трубку, свет начал мерцать, потускнел, снова замигал, стал слабеть — и потух. Он на ощупь отыскал на столе, за которым сидел, электрический фонарь, схватил его и включил. Сегодня, когда они снова вернулись в участок, им удалось отыскать здесь еще два полицейских фонаря на длинных рукоятках. Один из этих фонарей взял Горди, другой — доктор Пэйдж. Сейчас они тоже одновременно включили свои фонари, и несколько сильных лучей прорезали в разных направлениях наступившую темноту. Они заранее договорились о том, как действовать и какого плана придерживаться в случае, если освещение в городке снова погаснет. И теперь, в соответствии с выработанным планом, все сошлись в центре комнаты, встав подальше от дверей и окон, и образовали круг, повернувшись спинами внутрь него, а лицами наружу — так они могли больше видеть и лучше защищать друг друга. Все молчали и напряженно вслушивались. Слева от Брайса, ссутулившись и вобрав голову в узкие плечики, стояла Лиза Пэйдж. Справа от Брайса был Тал Уитмен. Он беззвучно скалился, как будто собирался зарычать, и старался разглядеть то, что скрывалось в темноте, за пределами, которые очерчивал расходящийся конусом луч фонаря. Тал и Брайс держали свои револьверы на изготовку. Эти трое стояли лицом к задней части комнаты. Четверо других — доктор Пэйдж, Горди, Фрэнк и Стю — оказались лицом к окнам. Брайс водил лучом фонаря во все стороны, потому что в возникавшей при этом игре теней самые невинные предметы вдруг начинали казаться угрожающими. Но среди ставших уже привычными вещей и мебели не было видно ничего подозрительного. Стояла полная тишина. В задней стене комнаты, ближе к правому ее углу, располагались две двери. Одна вела в коридор, по сторонам которого находились три камеры для содержания арестованных. Они еще раньше осмотрели эту часть здания: камеры для задержанных, комната для проведения допросов и два умывальника, занимавшие в общей сложности половину первого этажа, были пусты. Вторая дверь вела наверх, в квартиру помощника шерифа, — и там тоже никого не было. Тем не менее Брайс все время направлял луч своего фонаря то на одну, то на другую дверь: они вызывали у него чувство беспокойства. Где-то в темноте что-то сильно, но глухо стукнуло. — Что это? — спросил Уоргл. — Оно было вон с той стороны, — сказал Горди. — Нет, с этой, — возразила Лиза Пэйдж. — Тихо! — резко скомандовал Брайс. Тук… тук-тук. Звуки напоминали мягкие удары. Словно уронили подушку на пол. Брайс быстро поводил вправо-влево лучом фонаря. Тал сопровождал луч движениями своего револьвера. «Что мы будем делать, если свет не зажжется всю ночь, — подумал Брайс. — И что делать, когда рано или поздно сядут батарейки фонарей? Что произойдет тогда?» Он не боялся темноты уже давным-давно, с тех пор как перестал быть маленьким ребенком. Сейчас он ясно вспомнил, что иногда испытывал в те далекие детские годы. Тук-тук… тук… тук-тук. Звук стал громче. Но не приблизился. Тук. — В окнах! — воскликнул Фрэнк. Брайс резко обернулся, переводя луч своего фонаря с одного окна на другое. Три ярких луча от трех фонарей одновременно упали на окна, превратив каждое из стекол в зеркало, надежно скрывавшее все, что происходило по другую сторону окна. — Направьте свет на потолок или на пол, — сказал Брайс. Один из лучей поднялся вверх, два опустились вниз. Теперь отраженный свет падал на окна так, что не превращал их в блестящие зеркальные поверхности, и можно было рассмотреть, что делается за окном. Тук! Что-то ударилось в окно, поколотилось по задребезжавшему стеклу и снова исчезло в ночи. Брайсу показалось, что он видел крылья. — Что это было? — … птица… — … я такой птицы никогда в жизни… — … что-то… — … ужас какой… Видение снова вернулось и принялось биться в стекло сильное и настойчивее, чем прежде: тук-тук-тук-тук-тук! Лиза закричала. Фрэнк Отри раскрыл от изумления рот, а Стю Уоргл проговорил: — Твою мать! Горди издал какой-то странный, сдавленный вскрик. Брайс не отрываясь смотрел на окно, и ему казалось, будто из мира реальности он переносится в мир иллюзий и кошмаров. Уличные фонари не горели, и вся Скайлайн-роуд была погружена в темноту, если не считать отраженного лунного света. Тем не менее то, что билось о стекло, разглядеть все-таки было можно. Даже при очень слабом освещении видение в окне производило чудовищное впечатление. То, что увидел Брайс по другую сторону стекла — или то, что ему привиделось в калейдоскопическом мелькании фонарных лучей, в слабом мерцании лунного света и в причудливом переплетении теней, — казалось вышедшим прямо из какого-то жуткого, лихорадочного сна. Размах крыльев у этого кошмарного существа достигал трех или четырех футов. Голова у него была как у насекомого. Из нее торчали короткие, непрерывно дрожащие антенны. Челюсти с мелкими острыми зубами находились в непрестанном движении. Тело состояло из нескольких частей, как у муравья. Оно было подвешено между бледно-серыми крыльями и по форме и размеру напоминало два бейсбольных мяча, приставленных друг к другу острыми концами. Тело было тоже серое, того же оттенка, что и крылья — неприятно серое, словно слегка покрытое плесенью, поросшее пушком и как будто влажное. Брайсу удалось разглядеть и глаза: огромные, чернильно-черные, сильно выпуклые и состоящие из массы ячеек, они вбирали в себя свет, преломляя и отражая его, и смотрели мрачным, голодным взглядом. Если то, что он увидел через стекло, и вправду существовало, то оно было чем-то вроде ночного мотылька, только размером с крупного орла. Но это же чистейший бред, это невозможно! Оно стало биться в окно еще сильнее и ожесточеннее, словно в неистовстве, его бледно-серые крылья колотили по воздуху с такой частотой, что их очертания стали расплываться, размазываться. Оно перелетало с одного стекла на другое, время от времени отлетало и скрывалось в ночи, потом возвращалось вновь и лихорадочно пыталось пробиться через окно. Туктуктуктуктуктуктук! Но у него явно не было сил пробиться внутрь. Не было у него и щитка или твердого панциря, какие бывают у насекомых: все его тело было совершенно мягким, и при всем своем чудовищном размере и устрашающем внешнем виде разбить стекло оно было не в состоянии. Туктуктуктуктук! Наконец оно улетело. Свет снова зажегся. «Как в дурном спектакле», — подумал Брайс. Когда они поняли, что то, что было в окне, не собирается возвращаться, то все, не сговариваясь, двинулись в переднюю часть комнаты. Они прошли через дверцу в загородке, вышли в посетительскую часть помещения, подошли к окнам и уставились в них, пораженные увиденным и по-прежнему не произнося ни слова. На Скайлайн-роуд ничто не изменилось. В ночи никого не было видно. Ничто не двигалось. Брайс уселся в заскрипевшее под ним кресло за столом Пола Хендерсона. Все остальные сгрудились вокруг него. — Ну? — проговорил Брайс. — Вот так вот, — сказал Тал. Остальные переглянулись. Все они были взвинчены, взбудоражены, находились в нервном напряжении. — Кто что думает? — спросил Брайс. Никто не произнес ни слова. — Кто-нибудь может объяснить, что это такое было? — Такое огромное, — проговорила Лиза, и ее передернуло. — Действительно большое. Ну да ничего, — сказала доктор Пэйдж и положила руку на плечо сестры, стараясь успокоить ее. На Брайса произвела большое впечатление присутствие духа и выдержка Дженифер Пэйдж. Кажется, она без малейшего труда переносила любой удар и любую неожиданность, которые обрушивал на нее Сноуфилд. Внешне, во всяком случае, она держалась даже лучше, чем его подчиненные. Она единственная не отвела взгляда в сторону, когда он посмотрел ей в глаза, а так же прямо, не мигая, ответила ему встречным взглядом. «Очень необычная женщина», — подумал он. — Нечто невозможное, — сказал Фрэнк Отри. — Это было нечто совершенно невозможное, вот что. — Черт побери, ребята, что с вами творится? — спросил Уоргл и почесал свое мясистое лицо. — Это была птица. Ничего другого. Самая обычная птица, черт возьми. — Черта с два обычная, — ответил Фрэнк. — Какая-то мерзкая, но птица, — продолжал настаивать на своем Уоргл. Когда все остальные выразили свое несогласие с таким объяснением, он добавил: — Освещение плохое, повсюду тени — вот они и создали у вас такое впечатление. Ничего такого вы на самом деле и не видели, вам это только померещилось. — И что же, по-твоему, нам померещилось? — спросил Тал. Лицо Уоргла залила краска. — Мы ведь видели то же самое, что и ты, верно? — нажимал на него Тал. — Ты просто не хочешь в это поверить. Мы видели мотылька, так? Большого, безобразного, невероятного мотылька. Ты его видел? Уоргл уставился вниз, на свои ботинки. — Я видел птицу. Всего лишь птицу. Брайс понял: Уоргл настолько лишен воображения, что он неспособен осознать и принять возможность невозможного даже тогда, когда он видел это невозможное собственными глазами. — Откуда оно взялось? — спросил Брайс. На этот счет ни у кого не было никаких соображений. — Чегооно хотело? — спросил шериф. — Оно хотело нас, — ответила Лиза. С такой оценкой, похоже, согласны были все. — Но то, что было в окне, не могло утащить Джейка, — сказал Фрэнк. — Эта штука была слабая и легкая. Она не смогла бы утащить взрослого мужчину. — Тогда что же утащило Джейка? — спросил Горди. — Что-то более крупное, — ответил Фрэнк. — Что-то гораздо более сильное и мерзкое. Брайс решил, что настало наконец время рассказать всем о том, что он слышал — и почувствовал — тогда по телефону, между звонками губернатору Ретлоку и генералу Копперфильду: о чьем-то молчаливом присутствии; об истошных криках чаек; о предупреждающем стуке гремучей змеи и о самом худшем — об отчаянных предсмертных воплях мужчин, женщин и детей. Поначалу он не собирался рассказывать об этом до утра, до тех пор пока не рассвело и не прибыло подкрепление. Но все вместе они могли бы обнаружить нечто существеннее, что сам он, возможно, упустил или чему не придал должного значения: какую-нибудь мелочь, какую-то ниточку, которые могут оказаться полезными. А кроме того, теперь, после того как все видели эту тварь в окне, то, что он испытал тогда, уже не казалось чрезмерно шокирующим или способным потрясти. Все внимательно выслушали рассказ Брайса, и на всех услышанное произвело самое неприятное впечатление. — Каким же надо быть дегенератом, чтобы записывать на магнитофон вопли своих жертв? — спросил Горди. Тал Уитмен отрицательно покачал головой. — Возможно, дело вовсе не в этом. Могло быть и так… — Да? — Ну, может быть, не стоит сейчас об этом говорить. — Раз уж начал, так договаривай, — сказал Брайс. — Ладно, — сдался Тал. — А что, если вы слышали не запись? Я хочу сказать, мы же знаем, сколько народу в Сноуфилде пропало неизвестно куда. Судя по тому, что мы видели, пропавших должно быть гораздо больше, чем мертвых. Так вот… что, если пропавших где-то удерживают? Как заложников? И что, если вопли, которые вы тогда слышали по телефону, исходили от еще живых людей, которых в тот самый момент пытали, а возможно, и убивали? Вспомнив эти ужасные крики, Брайс почувствовал, как у него внутри все словно бы леденеет. — Запись это или живые голоса, — сказал Фрэнк Отри, — не думаю, чтобы их взяли заложниками. — Если мистер Отри хочет сказать, что мы должны ограничивать свои поиски привычными объяснениями, — проговорила доктор Пэйдж, — то с этим я целиком и полностью согласна. Но мне все случившееся кажется совершенно непохожим на традиционные похищения заложников. Здесь происходит что-то чертовски необычное, что-то такое, с чем никто не сталкивался никогда раньше. И давайте не будем скатываться к привычным объяснениям только потому, что нам с ними было бы приятнее и удобнее. И кроме того, если мы имеем дело с террористами, то как объяснить появление той твари, которую мы видели в окне? Какая между ними может быть связь? — Вы правы, — кивнул головой Брайс. — Но мне кажется, Тал вовсе не хотел сказать, что здешних жителей похитили по каким-то традиционным мотивам. — Нет, нет, — проговорил Тал. — Я не имел в виду обычных террористов или тех, кто похищает детей. Даже если здешних жителей удерживают сейчас как заложников, это вовсе не означает, что те, кто их удерживает, тоже люди. Я даже готов согласиться, что их может удерживать нечто, имеющее совсем не человеческую природу. Как тем, кто считает себя непредубежденным, понравилась бы вот такая версия? Возможно, что их удерживает оно, то самое оно, которое никто из нас не может определить. И возможно, оно удерживает их только для того, чтобы продлить собственное удовольствие, которое оно получает, вбирая в себя, вдыхая, как дым от сигареты, жизнь этих людей. Не исключено, что оно удерживает их только для того, чтобы дразнить нас их криками, как оно дразнило по телефону Брайса. Черт побери, если мы имеем дело с чем-то действительно необычайным, сверхъестественным, действительно нечеловеческим, то причины, по которым оно удерживает заложников — если оно в самом деле их удерживает, — должны быть выше нашего понимания. — Господи, вы рассуждаете, как лунатики, — проговорил Уоргл. Никто ему не ответил. Они уже вошли в Зазеркалье, вступили в страну чудес. Невозможное становилось тут возможным. А врагом была сама неизвестность. Лиза Пэйдж откашлялась, прочищая горло. Лицо у нее было совсем бледным. Едва слышным голосом она сказала: — Может быть, оно сплело здесь где-нибудь в темном потаенном месте, в пещере или в погребе, паутину, связало этой паутиной всех пропавших людей, упрятало их в коконы, прямо живыми, и будет так держать до тех пор, пока не проголодается снова. Если возможным отныне становилось абсолютно все, если самые фантастические предположения могли оказаться верными, то вполне возможно, что девочка и права, подумал Брайс. Быть может, где-нибудь в темнота сейчас действительно раскачивалась и вибрировала гигантская паутина, в которой, упакованные по отдельности ради удобства и для сохранения свежести, висели, как лакомые кусочки, сотни две, а то и больше, мужчин, женщин, детей. Где-нибудь здесь, в Сноуфилде, живые человеческие существа, низведенные до положения чьей-то еды, ждали, возможно, лишь того момента, когда их захочет проглотить грубая, невообразимо злобная и ужасная, наделенная мрачным интеллектом сила. Нет. Невероятно. А с другой стороны, все может быть. О господи!Брайс присел на корточки перед коротковолновой радиостанцией и в задумчивости уставился на ее искалеченное нутро. Печатные схемы были разбиты. Некоторые детали были расплющены, словно их зажимали в тиски или колотили по ним молотком. — Чтобы до всего этого добраться, им, как и нам, надо было снять лицевую панель, — проговорил Фрэнк. — Тогда зачем, после того как они разнесли все внутри, — возразил Уоргл, — им понадобилось ставить эту панель обратно? — И зачем вообще нужна была вся эта возня? — удивленно продолжал Фрэнк. — Радиостанцию можно было вывести из строя, просто вырвав провод. Лиза и Горди подошли в тот самый момент, когда Брайс, отвернувшись от радиостанции, уже поднимался на ноги. — Если кто-нибудь хочет перекусить, то еда и кофе готовы, — сказала девочка. — Я так помираю от голода, — сказал Уоргл, облизывая губы. — Обязательно надо поесть, даже если и не хочется, — проговорил Брайс. — Шериф, — сказал Горди, — мы тут с Лизой вспомнили о разных зверях и домашних животных. Вспомнили, когда вы сказали, что слышали по телефону собачий лай и кошачье мяуканье. Что произошло со зверями, сэр? — Никто из нас не видел ни одной собаки или кошки, — сказала Лиза. — И лая не слышали. Брайс вспомнил стоящую на улице тишину, нахмурился и произнес: — Да, вы правы. Странно. — Дженни говорит, что в городке было несколько довольно больших собак. Несколько немецких овчарок. Один доберман, это она точно знает. И даже датский дог. Они же должны были бы сопротивляться, как вы думаете? А некоторые собаки, может быть, сумели бы и убежать, а? — спросила девочка. — Хорошо, — быстро вмешался Горди, предвидя возражения Брайса, — допустим, оно достаточно большое и легко справится с обычной рассвирепевшей собакой. Мы знаем также, что пули его не останавливают, а значит, возможно, что и ничто другое тоже не может его остановить. Ясно, что оно очень большое и очень сильное. Но, сэр, большое и сильное не обязательно справится с кошкой. Кошки — они все как молнии. И чтобы переловить всех кошек в городе, надо уметь чертовски здорово подкрадываться. — Уметь подкрадываться и быть очень быстрым, — добавила Лиза. — Да, — озабоченно произнес Брайс, — очень быстрым.
Дженни только откусила сандвич, когда в кресло у стола рядом с ней присел шериф Хэммонд и пристроил тарелку у себя на колене: — Не возражаете, если я составлю вам компанию? — Пожалуйста. — Тал Уитмен говорил мне, что вы — гроза нашей местной банды мотоциклистов. — Тал преувеличивает, — улыбнулась она. — Этот человек не умеет преувеличивать, — сказал шериф. — Я вам расскажу один случай, который с ним приключился. Это было шестнадцать месяцев назад, я тогда уезжал на три дня в Чикаго, на правоохранительную конференцию, а когда вернулся, то Тал был самым первым, кого я встретил. Я его спросил, что тут было в мое отсутствие, не было ли каких особых происшествий, и он сказал, что все как обычно — пьяные за рулем, драки в барах, пара краж со взломом, обычные КПД… — Что такое КНД? — спросила Дженни. — Кошка на дереве. — Кошек полицейские не спасают, да? — Вы нас что, совсем уж бессердечными считаете? — спросил Брайс, изображая деланное возмущение. — Спасаете? Кошек с деревьев? Да бросьте! Он улыбнулся. Улыбка у него была удивительная. — Раз в пару месяцев нам и вправду приходится снимать кошек с деревьев. Но КНД означает не только это. Мы так называем любые вызовы по пустякам, которые отрывают нас от более важной работы. — А-а. — Так вот, когда я в тот раз вернулся из Чикаго, Тал мне сказал, что три дня без меня прошли в общем-то как обычно. А потом, словно поначалу запамятовал, добавил, что была попытка ограбления продовольственного магазина. Когда это произошло, он случайно находился в магазине, просто как покупатель, и был не в форме. Но по закону полицейский обязан всегда иметь при себе оружие, даже когда он не на дежурстве, поэтому у Тала был с собой револьвер. Как он мне объяснил, один из этих подонков был вооружен, поэтому пришлось его пристрелить, но применение оружия было оправданно — он даже сказал, что несомненно оправданно, чистейший хрестоматийный случай, — и мне не о чем беспокоиться. Когда я поинтересовался, все ли в порядке с ним, Тал ответил: «Брайс, это был не арест, а прогулка». А потом я узнал, что эти два подонка намеревались перестрелять всех, кто находился тогда в магазине, Тал убил одного из них — но только после того, как его самого уже ранили. Этот тип прострелил Талу левую руку, но буквально в следующую секунду Тал его убил. Рана у Тала была несерьезная, но кровь лила из нее ручьем, и боль, должно быть, была ужасная. Разумеется, бинтов я на нем не увидел, они были под рубашкой, а сам Тал не удосужился мне ничего об этом сказать. Так вот, тогда в магазине из Тала вовсю хлещет кровь, и тут он обнаруживает, что у него кончились патроны. Второй из этих мерзавцев хватает оружие первого, убитого, но у него тоже кончаются патроны, и тогда он решает убежать. Тал бросается за ним, догоняет, и они начинают бороться друг с другом и кататься при этом по полу, по всему этому маленькому магазинчику. Тот тип был на два дюйма выше Тала и фунтов на двадцать тяжелее, причем он-то не был ранен. Знаете, что увидели наши ребята, когда они туда прибыли? Один из них мне потом рассказал. Они увидели Тала, восседающего на прилавке около кассы, без рубашки, в руках у него чашечка кофе, которым его там угостили, а продавщица пытается остановить ему кровь. Один из нападавших лежит мертвый. А другой распростерт без сознания посреди кучи всяких раздавленных продуктов. Оказывается, в разгар борьбы они свалили стеллаж, на котором лежали готовые обеденные наборы. Около сотни коробок разлетелось по полу, и Тал с этим типом, пока боролись, передавили эти коробки. Они раскрылись, и все содержимое вывалилось на пол: пирожки, бутерброды, разные пирожные. Все было раскидано по проходу, а поскольку во время борьбы они еще на это наступали, а потом разносили по полу, то по следам можно было восстановить весь ход борьбы. Шериф закончил свой рассказ и теперь смотрел, какое впечатление он произвел на Дженни. — Ну что ж. Он ведь вам сказал, что это был не арест, а прогулка. — Да уж. Действительно прогулка, — рассмеялся шериф. Дженни бросила взгляд на Тала Уитмена, который в противоположном по диагонали углу комнаты жевал бутерброд и о чем-то говорил с Брогэном и Лизой. — Теперь вы понимаете, — проговорил шериф, — что когда Тал говорит мне, что вы гроза «Хромированных дьяволов», то я знаю, что он не преувеличивает. Преувеличения просто не в его характере. Дженни покачала головой. Рассказ шерифа и в самом деле произвел на нее впечатление. — Когда я говорила Талу о моей встрече с этим парнем, которого он называет Джин Терр, то Тал отреагировал так, будто я совершила чуть ли не величайший подвиг. По сравнению с его «прогулкой» мои приключения должны, казаться мелкой ссорой в детском саду. — Вовсе нет, — возразил Хэммонд. — И Тал совсем не иронизировал в ваш адрес. Он действительно считает, что вы вели себя очень храбро. И я тоже так считаю. Джитер — это змея, доктор Пэйдж. Притом очень ядовитая. — Если хотите, зовите меня просто Дженни. — А вы, тоже если хотите, зовите меня просто Брайс. Она никогда еще не видела таких голубых глаз, как у него. И улыбка его казалась по-особому располагающей и из-за этих лучистых глаз, и из-за какой-то специфической линии его рта. Они ели, болтая о каких-то пустяках, словно это был самый обычный вечер и вокруг не творилось ничего чрезвычайного. Брайс обладал удивительной способностью держаться так, что, независимо от обстоятельств, все, кто находился с ним рядом, чувствовали себя легко и непринужденно. Он как будто излучал спокойствие, и Дженни была благодарна ему за возможность хоть ненадолго забыть о том положении, в котором они все очутились. Тем не менее когда они поели, об первый завел разговор именно об их положении. — Вы знаете Сноуфилд лучше, чем я. Нам нужно найти какое-то место, которое могло бы стать нашим штабом и базой. Тут слишком тесно. Скоро должны явиться еще десять моих людей. А утром прибудет бригада Копперфильда. — Сколько у него будет народу? — Человек десять-двенадцать, не меньше. Возможно, даже двадцать. Мне нужен штаб, из которого можно было бы координировать все наши действия. Не исключено, что мы пребудем тут несколько дней, поэтому понадобится помещение, где могли бы спать те, кто свободен от дежурства. И нужно что-то вроде столовой, где все могли бы есть. — Можно занять одну из гостиниц, — предложила Дженни. — Можно. Но я не хочу, чтобы люди разбились по одному-два, по разным комнатам. Так их легко будет застать врасплох. Нужно какое-то помещение, где могли бы разместиться сразу все. — Тогда лучше всего организовать такое общежитие в гостинице «На горе». Она примерно в квартале отсюда, на противоположной стороне улицы. — И правда. Это ведь самая большая гостиница в городе, да? — Да. И в ней очень большой вестибюль, потому что он переходит прямо в бар. — Верно. Я туда заезжал пару раз пропустить стаканчик. Если переставить в вестибюле мебель, то там получится удобное место для работы и все смогут разместиться. — Там еще есть большой ресторан, разделенный на два зала. В одном зале можно устроить столовую, а в другой снесем матрасы из номеров и сделаем общежитие. — Давайте сходим посмотрим, — предложил Брайс. Он поставил пустую бумажную тарелку на стол и встал. Дженни взглянула на окна. Она подумала о том странном создании, которое недавно колотилось в стекло, и в памяти ее сам собой ожил негромкий, но ожесточенный звук: «туктуктуктуктук!» — Что… прямо сейчас сходим? — спросила она. — А почему нет? — Может быть, лучше подождать, пока прибудет подкрепление? — Они могут приехать еще не скоро. Нет смысла просто сидеть здесь, не зная, куда себя девать. Если мы будем чем-то заняты, нам будет легче: это хоть нас отвлечет от… того, что мы тут видели. Дженни никак не могла выбросить из памяти эти черные, фасетчатые, как у насекомого, глаза, также злобные и голодные. Она задумчиво посмотрела на окно, на чернеющую за ним ночь. Городок уже не казался ей родным и знакомым. Теперь он превратился в совершенно чужое и враждебное место, в котором сама она была нежеланным чужаком. — Здесь, внутри, мы отнюдь не в большей безопасности, чем там, на улице, — тихо проговорил Брайс. Дженни кивнула, вспомнив супругов Оксли, забаррикадировавшихся изнутри в комнате. — Здесь вообще нигде нет безопасного места, — сказала она, поднимаясь из-за стола.
Глава 16
ТЕНЬ ИЗ МРАКА
Брайс Хэммонд вывел группу из полицейского участка. Сам он шел впереди. Они пересекли освещенный неровным лунным светом тротуар, прошли через оранжевое световое пятно под уличным фонарем и вышли на Скайлайн-роуд. Брайс нес в руке карабин, Тал Уитмен — тоже. Все в городке было неподвижно. На деревьях не шевелился ни один листик, а дома казались миражами, готовыми растаять в воздухе. Брайс миновал освещенное место и вышел на покрытую пятнами лунного света мостовую. Он двинулся, стараясь держаться посередине улицы и по возможности все время в тени. Все время в тени. Остальные молча шли за ним следом. Под ногой Брайса что-то хрустнуло, и он насторожился. Но это оказался лишь упавший с дерева сухой лист. Чуть дальше впереди, примерно в квартале от того места, где они находились, прямо перед ними видна была гостиница «На горе» — четырехэтажное здание из серого камня. Сейчас оно было погружено во мрак. В некоторых окнах четвертого этажа отражалась полная луна, но в самом здании не горела ни одна лампочка. Уже почти вся группа вышла на середину улицы, как вдруг из мрака к ним что-то метнулось. Брайс вначале увидел только, как в свете луны по мостовой скользнула какая-то тень, словно рябь от ветра на поверхности воды. Он инстинктивно пригнулся и присел. Услышал шелест крыльев, почувствовал, как что-то легонько зацепило его на лету по голове. Громко закричал Стю Уоргл. Брайс мгновенно выпрямился и обернулся. Мотылек. Тот самый. Он крепко прилепился к лицу Уоргла. Как и на чем он держался, Брайсу не было видно: это существо полностью накрыло собой голову Уоргла. Кричал не только Уоргл. Все остальные тоже завопили и от неожиданности попадали на землю. Пронзительно кричал и этот мотылек, издавая высокие и резкие звуки. В серебристых лучах лунного света огромные бархатистые бледно-серые крылья невероятного насекомого хлопали, сворачиваясь и разворачиваясь, с жуткой красотой и грацией, лупя Уоргла по голове и плечам. Уоргл отшатнулся, сделал несколько шагов вбок, присел, пытаясь пригнуться и закрыться руками; он ничего не видел из-за этого ужасного создания, словно прилипшего к его лицу. Его крики, однако, становились все глуше и глуше, а через несколько секунд затихли вообще. Брайс, как и все остальные, застыл от изумления и отвращения, не веря собственным глазам, и был не в силах сдвинуться с места. Уоргл побежал, но сделал всего несколько шагов и остановился. Руки у него опустились, колени подгибались, он уже не пытался сбросить эту тварь со своего лица. Брайс, преодолев секундное замешательство, отбросил в сторону бесполезный сейчас карабин и бросился к Стю. Но Уоргл все-таки не упал на землю. Его трясущиеся колени вдруг словно налились силой, и он резко выпрямился, расправив плечи. Тело его дергалось, словно по нему пропускали электрический ток. Брайс попытался ухватить мотылька и сорвать его с Уоргла. Но от боли и страданий Стю начал извиваться, будто в пляске Святого Витта, и Брайсу не удавалось поймать ничего, кроме воздуха. Уоргл шарахался то в одну сторону, то в другую, он то отпрыгивал, то приседал, то начинал вертеться, наклоняясь вниз, и казалось, будто это не человек, а кукла, которую дергает за веревочки пьяный кукловод. Руки его повисли и безвольно болтались во все стороны, отчего его лихорадочные, судорожные движения вызывали у тех, кто их видел, еще больший суеверный страх и ужас. Уоргл уже не пытался оторвать от себя то, что на него напало. Сейчас казалось, что он скорее впал в экстаз, а не корчится от боли. Брайс старался догнать его, схватить, но это никак не удавалось. Наконец Уоргл упал. В то же мгновение мотылек отцепился от него и взлетел, зависнув в воздухе на одном месте и быстро махая крыльями. Он повернулся, его кромешно-черный, налитый ненавистью глаз уставился на Брайса, и он устремился на шерифе. Брайс инстинктивно закрыл лицо руками, сделал несколько шагов назад, оступился и упал. Существо пролетело прямо у него над головой. Брайс перекатился на живот и поднял голову. Ночная бабочка размером с крупную хищную птицу плавно и беззвучно скользила в воздухе, направляясь к домам на противоположной стороне улицы. Тал Уитмен поднял свой карабин. В накрывшей городок тишине его выстрел прогрохотал, как артиллерийская канонада. Бабочка резко вильнула в сторону, перекувырнулась, словно хотела сделать мертвую петлю, скользнула вниз, но, чуть-чуть не долетев до земли, снова взмыла вверх и улетела, скрывшись из виду за крышами. Стю Уоргл остался на мостовой. Он лежал на спине, распростершись и не двигаясь. Брайс с трудом поднялся на ноги и подошел к Уорглу. Стю лежал прямо посередине улицы. Света там было мало, но все же достаточно для того, чтобы разглядеть, что лицо у него исчезло. О господи! Исчезло. Как будто его просто сорвали. Волосы и разодранный на узкие полоски скальп торчали вверх прямо над белой лобной костью. На Брайса смотрел голый череп.Глава 17
ЗА ЧАС ДО ПОЛУНОЧИ
Тал, Горди, Фрэнк и Лиза сидели в обитых красной искусственной кожей креслах в одном из уголков вестибюля гостиницы «На горе». Гостиница не работала с того времени, как завершился прошлый лыжный сезон, поэтому, прежде чем они, отупевшие от пережитого потрясения, смогли шлепнуться в эти кресла, им пришлось снять покрытые пылью белые матерчатые чехлы. Овальный кофейный столик все еще стоял под чехлом, и все они молча взирали на этот зачехленный предмет, не в силах посмотреть друг на друга. В дальнем конце вестибюля Брайс и Дженни стояли над длинным низким столиком возле стены, на котором лежало тело Стю Уоргла. Никто из сидевших в креслах не мог заставить себя взглянуть в том направлении. Глядя на зачехленный кофейный столик, Тал проговорил: — Я же попал в эту чертову штуку. Я ранил ее. Я знаю, что попал. — Пуля ее задела, мы все это видели, — подтвердил Фрэнк. — Так почему же ее не разнесло в клочья? — одновременно недоумевал и возмущался Тал. — В нее попали почти в упор из карабина двадцатого калибра. Ее должно было разорвать на мелкие кусочки, черт возьми. — Оружие нас тут не спасет, — проговорила Лиза. — Ведь на месте Стю мог бы оказаться любой из нас, — каким-то чужим, замогильным голосом произнес Горди. — Эта тварь могла убить меня. Я шел прямо за Стю. Если бы он пригнулся или отскочил в сторону… — Нет, — возразила Лиза. — Нет. Оно хотело Уоргла. Никого другого. Именно Уоргла. — Что ты хочешь сказать? — Тал изумленно уставился на девочку. Она была бледна как смерть. — Уоргл отказывался признать, что видел эту тварь, когда она билась в окно. Он утверждал, что это была обычная птица. — Ну и что? — Вот поэтому оно и хотело Уоргла. Именно его. Чтобы проучить его. Но главным образом чтобы проучить всех нас. — Оно не могло слышать, что говорил Уоргл. — Могло. Оно слышало. — Но оно бы не смогло понять. — Смогло. — Мне кажется, ты приписываешь ему слишком большие интеллектуальные способности, — возразил Тал. — Да, оно большое. Да, оно не похоже ни на что, с чем нам приходилось сталкиваться раньше. Но все-таки это всего лишь насекомое. Ночная бабочка. Верно? Девочка промолчала. — Оно не всемогуще и не вездесуще, — продолжал Тал, стараясь убедить скорее самого себя, нежели остальных. — Оно не может все видеть, все слышать и все знать. Лиза молча, не мигая, смотрела на покрытый чехлом кофейный столик. Стараясь подавить подкатывающую тошноту, Дженни осматривала ужасающую рану Уоргла. Свет в вестибюле был недостаточно ярок, и потому она воспользовалась электрическим фонарем, чтобы лучше рассмотреть края раны и вглядеться в череп. Середина лица погибшего была уничтожена полностью, обглодана до кости, здесь не оставалось ни кожи, ни мяса, ни хрящей. Даже кость местами казалась как будто частично растворившейся, изъеденной, словно на нее плеснули кислотой. Глаз не было. Однако по краям раны со всех сторон кожа и ткани оставались целыми: кожа на щеках, от скул и дальше к затылку, была совершенно нормальной, не поврежденной, такой же целой, нетронутой была и кожа на подбородке и на верхней части лба. Казалось, какой-то садист-художник нарочно поместил жуткие обнаженные лицевые кости в обрамление обычной здоровой кожи. Увидев все, что ей было необходимо, Дженни выключила фонарь. Еще раньше они накрыли тело чехлом, снятым с одного из кресел, и теперь Дженни натянула этот чехол на лицо погибшего, прикрыв с чувством облегчения ухмыляющийся череп. — Ну что? — спросил Брайс. — Следов от зубов нет, — ответила она. — А у такой твари должны быть зубы? — Я знаю, что у нее есть рот, небольшой хитиновый клюв. Я видела, как у нее двигались челюсти, когда она билась в окно там, в полицейском участке. — Да, я это тоже видел. — Такой рот должен оставлять следы. Должны быть порезы, следы от зубов, изжеванные места, клочья там, где она отрывала куски. — И ничего этого нет? — Ничего. Такое впечатление, будто ткани лица вообще не рвали. Скорее, их как будто… растворили. Те ткани, что остались по краям раны, выглядят так, будто их чем-то прижигали. — Вы полагаете, что… это насекомое… выделяло кислоту? Дженни утвердительно кивнула. — И растворило лицо Уоргла? — Да, и всосало в себя растворенные ткани. — О Господи! — Вот именно. Брайс побледнел так, что лицо его стало казаться гипсовой маской, на фоне которой ярко выделялись веснушки. — Тогда понятно, как оно смогло натворить подобное всего за несколько секунд. Дженни старалась не думать об этом чудовищном костлявом лице. — Мне кажется, что в организме не осталось крови, — сказала она. — Совсем. — Что? — Тело ведь не лежало в луже крови? — Нет. — И на форме у него нет пятен крови. — Да, я обратил на это внимание. — А они должны быть. Кровь из него должна была бить фонтаном. А ее нет совершенно. Я осмотрела череп. Глазницы должны быть полны крови. А нет ни капли. Брайс провел рукой по лицу с такой силой, что оно немного порозовело. — Посмотрите на его шею, — сказала Дженни. — На шейные сосуды. Он даже не сделал движения в сторону трупа. — И взгляните на внутренние поверхности рук и на ладони, — продолжала она. — Не видно ни вен, ни сосудов. Нет этих характерных голубоватых линий. — Кровеносные сосуды сжались? — Да. Мне кажется, на него высосана вся кровь. Брайс глубоко вздохнул и проговорил: — Это я убил его. Я виноват. Надо было не уходить из участка, а подождать, пока прибудет подкрепление — как вы говорили. — Нет, нет. Вы тогда верно сказали: внутри ничуть не безопаснее, чем на улице. — Но погиб-то он все-таки на улице. — Никакое подкрепление ничем бы в этом случае не помогло. Эта проклятая тварь так неожиданно свалилась с неба… черт возьми, ее целая армия не остановила бы. Все случилось слишком внезапно и быстро. На мгновение в глазах Брайса появилось какое-то беззащитное выражение. Он слишком остро воспринимал выпавшую на его долю ответственность. Он явно будет теперь постоянно винить себя в гибели своего подчиненного. — Есть и кое-что похуже, — неохотно проговорила она. — Куда уж хуже. — Его мозг… Брайс подождал. Потом спросил: — А что? Что с его мозгом? — Исчез. — Исчез? — Черепная коробка внутри пустая. Совершенно пустая. — Откуда вам это известно, если вы не вскрывали… Она прервала его, протягивая ему фонарь: — Возьмите и посветите ему в глазницы. Брайс, однако, не спешил следовать ее совету. Глаза его были теперь не полуприкрыты, а широко и изумленно распахнуты. Она заметила, что и сама не может ровно удержать фонарь: рука ее сильно дрожала. Он тоже это увидел. Взяв у нее фонарь, он положил его на столик, рядом с накрытым трупом. Потом осторожно взял ее руки в свои большие и жесткие ладони. — У него за глазницами ничего нет, — проговорила она, — совершенно ничего, совсем-совсем ничего, ничегошеньки, только задняя часть черепа. Брайс, стараясь успокоить ее, стал растирать ей руки, словно согревая. — Одна только сырая, совершенно вычищенная полость, — продолжала она, и голос ее сперва взлетел, а потом надломился. — Эта тварь слизнула ему все лицо, выела глаза с такой скоростью, что он, наверное, и моргнуть не успел, вгрызлась ему в рот, выела с корнем язык, обсосала все десны, о Господи, сожрала его мозг, высосала из тела всю кровь, вот просто взяла и высосала… — Ну успокойтесь, успокойтесь, — сказал Брайс. Но слова вылетали из нее непрерывно, словно она не могла, не в силах была остановиться; вылетали одной неразделимой, неразъединимой цепочкой: — …проглотила все это не больше чем за десять или двенадцать секунд, что невозможно, черт побери, попросту совершенно невозможно! Она сожрала — вы понимаете? — сожрала огромную массу тканей — один только мозг весит шесть или семь фунтов[28], — сожрала эту массу за десять или двенадцать секунд! Она стояла, с трудом переводя дыхание, а он крепко держал ее за руки. Потом подвел ее к накрытому белым пыльным чехлом дивану, и они уселись рядышком на этот диван. Остальные не смотрели в их сторону. Дженни была рада этому. Она вовсе не хотела, чтобы Лиза увидела ее в таком состоянии. Брайс положил ей руку на плечо и заговорил с ней тихим, успокаивающим голосом. Постепенно она пришла в себя. Внутреннее смятение ее не прошло и не стало меньше. И страх тоже не исчез. Просто она немного успокоилась. — Лучше стало? — спросил Брайс. — Как говорит моя сестра, я совсем расклеилась, да? — Вовсе нет. Вы что, шутите? У меня даже не хватило смелости взять фонарь и заглянуть в его глазницы, как вы говорили. А у вас хватило духа его внимательно осмотреть. — Ну что ж, спасибо, что помогли мне снова собраться с силами. Вы хорошо умеете приводить растрепанные нервы в порядок. — Я? Да я ничего не делал. — Вам как-то здорово удается ничего не делать. Они посидели молча, думая о том, о чем ни один из них думать вовсе не хотел. Потом он проговорил: — Эта бабочка… Дженни молчала. — Откуда она взялась? — закончил он. — Из ада? — А другие предположения есть? Дженни пожала плечами. — Может быть, из мезозоя? — полушутливо сказала она. — Это что такое? — Та эра, когда жили динозавры. Его глаза зажглись неподдельным интересом. — А такие бабочки тогда были? — спросил он. — Не знаю, — честно призналась она. — Я могу представить ее в то время, порхающей по доисторическим болотам. — Да. Нападающей на маленьких животных и досаждающей какому-нибудь гигантскому динозавру точно так же, как нам сейчас досаждают ночные мотыльки или комары. — Но если она из мезозоя, то где же она пряталась последнюю сотню миллионов лет? — спросил он. Они оба помолчали. — Может быть… она из какой-нибудь лаборатории по генной инженерии? — предположила Дженни. — Результатэкспериментов с перестройкой ДНК? — А что, они уже продвинулись так далеко? И могут выводить новые виды животных? Я, конечно, знаю только то, о чем читаю в газетах, но мне представлялось, что им до этого работать и работать. Они пока еще возятся только с бактериями. — Возможно, вы и правы, — сказала Дженни. — А все-таки, кто знает… — Да. Раз эта штука тут летает, то ничего невозможного уже нет. Они снова помолчали, потом она спросила: — А что же еще тут ползает или летает? — Вы подумали о том, что случилось с Джейком Джонсоном? — Да. Что утащило его? Не эта бабочка. Как бы смертоносна она ни была, она бы не смогла ни тихо убить его, ни тем более утащить. — Дженни вздохнула. — Знаете, вначале я не хотела покидать этот городок, потому что боялась, что мы можем стать разносчиками какой-нибудь эпидемии. А теперь я бы не стала этого делать, потому что уверена, что мы не сможем выбраться отсюда живыми. Нас остановят. — Бросьте. Уж вас-то мы отсюда вытащим, — возразил Брайс. — Когда мы убедимся, что все случившееся не связано ни с какой инфекцией, когда люди генерала Копперфильда исключат такую возможность, то вас и Лизу мы первым делом вывезем отсюда в безопасное место. — Нет, — она отрицательно покачала головой. — Здесь что-то есть, Брайс. Что-то гораздо более коварное и намного более страшное, чем этот мотылек. И оно не хочет выпускать нас отсюда. Оно хочет поиграть с нами, прежде чем убьет. Никого из нас оно отсюда не выпустит. Поэтому нам надо разобраться, что это такое, и придумать, как с ним себя вести. И сделать это как можно быстрее, пока оно еще не наигралось и ему не надоело. В обоих залах большого ресторана гостиницы «На горе» стулья были перевернуты ножками вверх и лежали на столах, а сверху все это было накрыто зеленой пленкой. В первом зале Брайс и все остальные сняли пленочные чехлы, расставили стулья и стали превращать зал во временную столовую.Во втором зале предстояло вынести всю мебель и освободить место, чтобы потом можно было снести сюда из номеров матрасы. Они только начали освобождать эту часть ресторана, как до них донесся слабый, но отчетливый шум автомобильных моторов. Брайс подошел к большому французскому окну и посмотрел влево, вдоль склона холма, в ту сторону, откуда начиналась Скайлайн-роуд. Там по улице в их направлении, сверкая красными мигалками, поднимались в гору три полицейские машины округа. — Подкрепление прибыло, — сказал Брайс. Раньше он полагал, что этот приезд существенно укрепит их не очень многочисленные ряды, даст им новые силы и возможности. Теперь же он склонен был думать, что от десяти лишних человек будет не больше пользы, чем от одного. Дженни Пэйдж была права, когда сказала, что, если бы они дожидались приезда дополнительных сил в здании полицейского участка, жизнь Стю Уоргла это все равно бы не спасло. Все освещение в гостинице «На горе» и уличные фонари снова замигали. Потом свет потускнел. Погас совсем. На секунду наступила полная темнота, затем свет опять зажегся. На часах было четверть двенадцатого ночи. Воскресенье близилось к концу. Наступал час нечистой силы.
Глава 18
АНГЛИЯ, ЛОНДОН
Когда в Калифорнии наступила воскресная полночь, в Лондоне был уже понедельник, восемь часов утра. День был унылый. Над всем городом висели низкие серые облака. Еще с ночи непрерывно шел гнетущий и противный мелкий дождь. Намокшие ветви и листья деревьев вяло обвисли, мрачно блестел темный асфальт улиц, почти каждый прохожий держал над головой черный зонтик. Дождь стучал в окна, сплошным потоком стекая по стеклам, и потому вид, открывавшийся из зала ресторана гостиницы «Черчилль», что на Портмэн-сквер, казался размытым. Время от времени сверкавшие за окнами молнии бросали в зал яркие отсветы, которые, проникая через пелену дождя и залитое водой стекло, на мгновение кидали причудливые тени дождевых капель на столы, покрытые чистыми белыми скатертями. За одним из таких столов, около окна, сидел Берт Сандлер, прилетевший в Лондон по делам из Нью-Йорка, и с ужасом думал, как он сумеет по возвращении обосновать ту сумму, что будет указана в счете за сегодняшний завтрак. Гость его начал с того, что заказал бутылку хорошего шампанского: особо сухого «Мумм», которое стоило очень недешево. К шампанскому он попросил икру — подумать только, шампанское с икрой на завтрак! — и два вида свежих фруктов. Причем было очевидно, что старик заказал еще далеко не все, что намеревался. Доктор Тимоти Флайт, сидевший напротив Сандлера и являвший собой предмет изумления последнего, изучал меню с поистине детским восторгом. Обращаясь к официанту, он произнес: — И пожалуйста, порцию слоеных булочек. — Да, сэр, — записал официант. — Они у вас сегодня свежие? — Да, сэр. Очень. — Отлично. И яйца, — продолжал Флайт. — Яичницу из двух хороших яиц, слегка непрожаренную. И тосты с маслом. — Тосты? — переспросил официант. — Это в дополнение к двум булочкам, сэр? — Да, да, — подтвердил Флайт, теребя слегка обтрепавшийся воротник белой рубашки. — И с яичницей тоненький ломтик бекона. — Да, сэр, — официант начал моргать. Флайт наконец взглянул на Берта Сандлера: — Что такое завтрак без бекона? Верно я говорю? — Я сам считаю обязательным съесть на завтрак яичницу с беконом, — согласился Берт Сандлер, выдавливая из себя улыбку. — И правильно делаете, — рассудительно произнес Флайт. Его очки в тонкой металлической оправе постепенно сползали все ниже и ниже и сейчас держались на самом кончике носа, кругленьком и красном. Длинным тонким пальцем Флайт вернул их на место. Сандлер обратил внимание, что в середине, на переносице, очки, видимо, были сломаны, а потом спаяны. Причем ремонт был выполнен настолько непрофессионально, что напрашивался вывод: ради экономии Флайт спаял очки сам. — Свиные сосиски у вас хорошие? — спросил Флайт официанта. — Только честно. Если они окажутся не самого высшего качества, я отошлю их назад. — Сосиски у нас превосходные, — заверил его официант. — Я сам к ним неравнодушен. — Тогда сосиски. — Это вместо бекона, сэр? — Нет, нет, нет. Вдобавок, — проговорил Флайт таким тоном, словно заданный официантом вопрос был не только странен, но и свидетельствовал о его тугодумии. Флайту было пятьдесят восемь, но выглядел он по крайней мере лет на десять старше. Его редкие жесткие волосы слегка завивались надо лбом и на затылке, но на висках и за большими оттопыренными ушами торчали дыбом, будто заряженные током. Шейка у него была тощая, вся в морщинах, плечи узкие и хрупкие, а в телосложении кости и хрящи явно преобладали над мясом. Трудно было поверить, что он физически сможет съесть все то, что заказал. — Картофель, — сказал Флайт. — Обязательно, сэр, — ответил официант, записывая очередной заказ на бланке, на котором уже почти не оставалось места. — Кондитерские изделия у вас съедобные? — спросил Флайт. Официант, которого в этой ситуации можно было назвать образцом хороших манер, не выказал ни малейшего намека на удивление необычайной ненасытностью Флайта, а только взглянул на Берта Сандлера, как бы спрашивая: «Ваш дедушка окончательно выжги из ума, сэр, или он бегун-марафонец, которому нужно много калорий?» Сандлер лишь слегка улыбнулся ему в ответ. Обращаясь к Флайту, официант сказал: — Да, сэр. У нас хороший выбор пирожных и тортов. Есть прекрасный… — Принесите всего понемножку, — перебил его Флайт. — Разумеется, под конец завтрака. — Не беспокойтесь, сэр, все будет исполнено как надо. — Хорошо. Очень хорошо. Отлично! — ответил сияющий Флайт. Наконец-то он с видимой неохотой закрыл меню и отдал его официанту. Сандлер чуть не застонал от облегчения. Себе он заказал апельсиновый сок, яичницу с беконом и тосты. Пока он этим занимался, профессор Флайт поправлял уже увядшую красную гвоздику, приколотую к лацкану его довольно залоснившегося синего костюма. Когда Сандлер сделал заказ, Флайт с заговорщицким видом наклонился к нему: — А вы, мистер Сандлер, не откажетесь от шампанского? — Пожалуй, выпью бокал-другой, — ответил Сандлер, надеясь, что шипучее вино пробудит его фантазию и поможет ему сочинить какое-нибудь внушающее доверие объяснение, которое убедило бы даже тех скупых клерков из бухгалтерии, что будут изучать представленный им счет под электронным микроскопом. Флайт посмотрел на официанта: — Тогда, пожалуй, принесите лучше две бутылки. Сандлер, отпивавший в этот момент глоток воды со льдом, чуть не поперхнулся. Официант ушел, и Флайт взглянул на улицу через залитое дождем окно: — Отвратительная погода. В Нью-Йорке осенью тоже так? — У нас бывают дождливые дни. Но осень в Нью-Йорке может быть и изумительной. — У нас иногда тоже, — сказал Флайт. — Хотя, как мне кажется, у нас дождливых дней должно быть больше, чем в Нью-Йорке. Недаром за Лондоном закрепилась слава города, где преобладает влажная погода. Профессор говорил исключительно о пустяках до тех самых пор, пока не подали икру и шампанское. Он словно боялся, что если они сразу обговорят деловые вопросы, то Сандлер немедленно отменит всю оставшуюся часть заказа, которую им не успеют принести к тому времени. Просто-таки диккенсовский персонаж, подумал Сандлер. Они произнесли первый тост, пожелав друг другу всяческой удачи, пригубили шампанское, и Флайт спросил: — Так, значит, вы прилетели из самого Нью-Йорка, только чтобы встретиться со мной, да? — Глаза его весело блестели. — Чтобы встретиться с несколькими авторами, — ответил Сандлер. — Я каждый год приезжаю сюда с этой целью. Я ищу новые книги, те, над которыми авторы еще только работают. Английские писатели сейчас популярны в Штатах, особенно те, что пишут триллеры. — Маклейн, Фоллет, Форсайт, Бэгли, такого рода, да? — Да. Некоторые из них очень популярны. Икра была превосходной. По настоянию профессора Сандлер попробовал ее, положив немножко на кружочек лука. Сам Флайт накладывал ее горками на кусочки сухого тоста и ел без каких-либо приправ. — Но я ищу не только триллеры, — сказал Сандлер. — Меня многое интересует. В том числе и неизвестные авторы. А иногда я сам предлагаю какому-либо автору тему и ее возможный поворот. — Как я понимаю, у вас есть какое-то предложение подобного рода ко мне. — Прежде всего позвольте мне сказать, что я прочитал «Вековечного врага» сразу же, как только он вышел, и книга мне очень понравилась. — Она многим нравится, — сказал Флайт. — Но большинство приходит от нее в ярость. — Насколько я слышал, у вас из-за этой книги возникли трудности. — Ничего, кроме трудностей, она мне фактически не принесла. — А какие? — В сорок три года, в том возрасте, когда большинство профессоров получает уже пожизненное место, меня выставили из университета. — Выставили из университета за то, что вы написали «Вековечного врага»?! — Ну, так прямо никто не говорил, — ответил Флайт, отправляя в рот очередную порцию икры. — Если бы они так поставили вопрос, то тем самым продемонстрировали бы собственную ограниченность. Руководство колледжа, в котором я тогда преподавал, декан факультета и мои высокочтимые коллеги предпочли все обставить по-другому. Косвенно. Мистер Сандлер, дорогой вы мой, грызня за власть между оголтелыми политиканами или иезуитская неразборчивость в средствах молодых карьеристов, рвущихся к продвижению в крупной корпорации по недоброжелательству, злобности и жестокости, не идут ни в какое сравнение с тем, как ведут себя те представители ученого мира, которые внезапно узрели для себя возможность подняться вверх по университетской лестнице за счет кого-то из своих коллег, Обо мне распространяли самые бессовестные сплетни, скандальную чушь о моих сексуальных наклонностях, слухи насчет того, что я якобы вступаю в интимные отношения со своими студентками, да и со студентами тоже. Ни одно из этих лживых, оскорбительных обвинений не выдвигалось открыто, на каком-нибудь собрании, где я мог бы его опровергнуть. Слухи, одни только слухи. Перешептывания за спиной. Ядовитые сплетни. А в более открытых формах делались вежливые намеки на мою недостаточную компетентность, на перегрузку, на умственное утомление от чрезмерно напряженной работы. Понимаете ли, меня освободили: мое увольнение было представлено именно таким образом, хотя, с моей точки зрения, никакого освобождения ни от чего я во всем происшедшем не усматриваю. Но через полтора года после выхода «Вековечного врага» меня в университете не стало. И ни один другой университет меня не брал — якобы потому, что у меня была сомнительная репутация. А настоящая причина, конечно же, заключалась в том, что мои теории оказались, по академическим понятиям, слишком странными, эксцентричными. Меня обвинили в том, что я погнался за деньгами и ради этого стал спекулировать на склонности простого человека ко всякого рода псевдонауке и дешевым сенсациям, что тем самым я подорвал доверие и себе как специалисту. Флайт замолчал, отпил немного шампанского, посмаковал его. Сандлер искренне ужаснулся услышанному: — Но это же возмутительно! Ваша книга — научный трактат. И она писалась не для того, чтобы оказаться в списке бестселлеров. Обычному человеку продраться через «Вековечного врага» было бы невероятно трудно. На работах такого рода делать деньги практически невозможно! — Что и подтвердили размеры моего гонорара, — согласился Флайт, доедая икру. — Но вы же были уважаемым и признанным археологом, — сказал Сандлер. — Ну, как выяснилось, не таким уж признанным и уважаемым, — ответил Флайт с оттенком самоуничижения. — Хотя профессию свою я никогда не позорил, как утверждали некоторые впоследствии. Если поведение моих коллег представляется вам невероятным, мистер Сандлер, так только потому, что вы не знаете природу этого зверя. Я имею в виду такого зверя, как ученый. Ученые обучены считать, что всякое новое знание добывается по крупицам, по песчинкам. Основная часть знаний и в самом деле добывается именно так: песчинка слагается с песчинкой и постепенно из них вырастает гора. И потому ученый мир вечно оказывается не готов принять провидцев, предлагающих новый взгляд на вещи, который сразу и в корне меняет все представления в их сфере деятельности. Коперника его современники высмеивали за мысль о том, что планеты вращаются вокруг солнца. Но в конечном счете прав-то оказался Коперник. И подобного рода примеров в истории науки великое множество. — Флайт раскраснелся и смолк, чтобы снова отпить еще немного шампанского. — Конечно, я не сравниваю себя ни с Коперником, ни с другими великими людьми. Я просто пытаюсь объяснить вам, почему мои коллеги непременно должны были на меня ополчиться. И я должен был это предвидеть. Подошедший официант убрал пустое блюдо из-под икры и поставил на стол апельсиновый сок для Сандлера и фрукты для Флайта. Когда они снова остались с Флайтом вдвоем, Сандлер спросил: — А вы все еще продолжаете считать, что сформулированная вами тогда теория имеет под собой основания? — Безусловно! — ответил Флайт. — Я прав. Или, по крайней мере, есть очень хорошие шансы на то, что я окажусь прав. История знает массу случаев таинственного исчезновения сразу большого числа людей, а у историков и археологов нет никаких мало-мальски правдоподобных объяснений таким случаям. Слезящиеся глаза профессора оживились и смотрели теперь из-под густых седых бровей пристально и изучающе. Наклонившись через стол в сторону собеседника, Флайт словно гипнотизировал Берта Сандлера своим взглядом. — 10 декабря 1939 года, — говорил Флайт, — в горах неподалеку от Нанкина бесследно исчезла китайская армия, шедшая на фронт сражаться против японцев. Три тысячи солдат. Они так и не дошли до поля боя. Ни одно тело так никогда и не было найдено. Не осталось ни одной могилы. Ни одного свидетеля. Японские военные историки не нашли ни одного документа, который бы свидетельствовал, что какие-либо части японской армии вступали в бой с этим отрядом китайцев. В той местности, через которую проходили солдаты перед исчезновением, никто из местных жителей не слышал стрельбы, не видел и не слышал вообще ничего, что бы указывало на признаки боя. Целая армия как будто просто испарилась! А в 1711 году, в Испании, во время войны за престолонаследие, четырехтысячная армия отправилась в поход в Пиренеи. И в самый первый день похода, еще даже ни разу не разбив лагерь на ночлег, все они исчезли. До последнего человека! На хорошо им знакомой и притом не вражеской территорий! Флайт был захвачен этой темой все так же глубоко и сильно, как и семнадцать лет назад, когда писал свою книгу. Шампанское и фрукты оказались мгновенно позабыты. Он уставился на Сандлера, словно призывал его попытаться бросить вызов непризнанным теориям профессора Флайта. — А если расширить хронологические рамки, — продолжал профессор, — можно вспомнить о крупнейших городах народа майя: Колане, Педрас-Неграсе, Паленке, Менче, Сейбале и некоторых других. Все они оказались внезапно покинуты жителями. Примерно в 610 году десятки, сотни тысяч майя бросили свои дома, и все это произошло на протяжении не более чем недели, возможно даже, всего лишь одного дня. Некоторые из этих людей ушли на север и там, по-видимому, основали новые города; но есть достаточно причин утверждать, что многие тысячи человек просто-напросто исчезли. Притом за невероятно короткий промежуток времени. Почему-то они не взяли с собой кухонную утварь, инструменты и орудия труда, глиняные кувшины, в которых хранились припасы… Мои ученые коллеги говорят, что земля вокруг этих городов утратила плодородие и майя вынуждены были двинуться на север, туда, где земля была более богатой. Но если этот великий поход был задуман и запланирован заранее, то почему же все имущество людей оказалось брошенным? Почему они не взяли с собой такую огромную ценность в хозяйстве, как семена кукурузы? Почему никто из них никогда не вернулся назад, чтобы по мародерствовать в этих брошенных городах, забрать те ценности, которые там оставались? — Говоря все это, Флайт слегка пристукивал кулаком по столу. — Это же иррационально! Переселенцы не отправляются в дальний, долгий и опасный путь без предварительной тщательной подготовки, они стараются захватить с собой все, что сможет им пригодиться. А кроме того, в Педрас-Неграсе и Сейбале в некоторых домах семьи явно готовились к обеду: сварили еду, накрыли столы — но потом куда-то исчезли, так и не притронувшись к приготовленному! Это определенно указывает, что их уход был внезапным, Никакое из ныне существующих объяснений не отвечает должным образом на все эти вопросы. На них отвечает только моя теория, какой бы странной, эксцентричной и невозможной она ни казалась. — И пугающей, — добавил Сандлер. — Совершенно верно, — согласился Флайт. Выговорившись, профессор откинулся на стуле и замолчал. Он вспомнил о бокале с шампанским, схватил его, жадно выпил и облизал губы. Подошел официант и снова наполнил их бокалы. Флайт быстро поглощал тепличную клубнику, словно опасаясь, что ее вот-вот унесут. Сандлер ощутил приступ жалости к старику. Профессор явно очень давно не получал приглашений позавтракать в элегантной атмосфере дорогого ресторана. — Меня обвиняли в том, что я пытаюсь одним махом объяснить все случаи таинственных исчезновений со времен майя и до современности. Но это же абсолютно нечестно! Я никогда не пытался объяснять исчезновения отдельных людей, кораблей и самолетов в наше время. Меня интересуют только не получившие объяснения случаи массового исчезновения людей и животных. А таких случаев в истории — сотни, в самом прямом смысле этого слова. Официант принес слоеные булочки. За окном небо прорезала яркая молния, ударившая в землю где-то в отдаленной части города, и тут же раздался могучий удар грома, многократно повторенный эхом среди зданий и улиц. — Если бы после выхода вашей книги случилось какое-то новое необъяснимое массовое исчезновение, — проговорил Сандлер, — это могло бы прибавить весомости вашим аргументам… — Да, — перебил его Флайт, выразительно постучав пальцем по столу, — но такие случаи были! — Тогда об этом должны были бы сообщать на первых страницах под крупными заголовками… — Я знаю о двух таких случаях, — убежденно заговорил Флайт. — Возможно, были и другие. Один из них — исчезновение огромного числа низших форм жизни, особенно рыб. В прессе об этом писали, но большого интереса тот случай не вызвал. Газеты вообще интересуют только политика, убийства, секс да еще рождение двухголовых телят. Чтобы знать, что на самом деле происходит в мире важного, надо читать научные журналы. Именно из них я и узнал, что восемь лет назад специалисты, занимающиеся биологией моря, отметили резкое сокращение количества рыбы в одном из районов Тихого океана. У некоторых рыб численность популяции сократилась вдвое. Среди части ученых возникла поначалу даже паника: они опасались, что, возможно, происходит резкое охлаждение океана, в результате которого в морях выживут только самые закаленные виды. Но оказалось, что дело не в этом. Постепенно различные виды в данной части океана — а она занимает сотни квадратных миль — восстановили свою численность. И никто так в итоге и не смог объяснить, что же произошло с миллионами внезапно исчезнувших живых существ. — Может быть, виновато загрязнение воды, — высказал предположение Сандлер, поочередно отпивая маленькими глотками то из стакана с апельсиновым соком, то из бокала с шампанским. — Нет, нет и нет. Нет, сэр, — проговорил Флайт, намазывая мармеладом булочку. — Чтобы вызвать столь сильное сокращение численности живых существ в таком большом районе, понадобилось бы крупнейшее в истории загрязнение водной среды. Такая катастрофа не могла бы пройти незамеченной. Но не было ни каких-либо катастроф, ни разливов нефти, — ничего подобного. Кстати, разлив нефти и не смог бы вызвать таких последствий: для этого слишком велики те объемы воды и площадь акватории, которые должны были бы подвергнуться загрязнению. Между прочим, мертвую рыбу не выбрасывало на побережья. Она просто бесследно исчезла. Берту Сандлеру передалось возбуждение профессора. Он почувствовал, что здесь пахнет деньгами. Сандлер обладал чутьем на необычные книги, и это чутье еще никогда его не подводило. За исключением, пожалуй, той книжки о диете, которую написала одна кинозвезда, за неделю до выхода книги в свет умершая от недоедания, а до этого полгода просидевшая на грейпфрутовом соке, папайе, тостах из хлеба с изюмом и морковке. Но книга Флайта определенно обещала стать бестселлером. Можно будет спокойно печатать не меньше чем двести-триста тысяч экземпляров в твердой обложке и пару миллионов в мягкой. Если только ему удастся убедить Флайта осовременить и изложить в популярной форме тот сухой научный материал, что содержится в «Вековечном враге», то профессор обеспечит себе возможность пить шампанское на многие годы вперед. — Вы сказали, что знаете о двух случаях массовых исчезновений за то время, что прошло после выхода вашей книги, — напомнил Сандлер, поощряя профессора продолжать его рассказ. — Другой произошел в 1980 году, в относительно глухом районе Центральной Африки. Там бесследно исчезло целое племя, три или четыре тысячи человек: мужчины, женщины, дети. Их деревни были обнаружены опустевшими. Жители побросали в домах все, включая большие запасы продовольствия. Внешне это выглядело так, будто они внезапно убежали в лес. Единственным, что указывало на возможность насилия, было несколько разбитых горшков. Конечно, в этой части мира массовые исчезновения стали сейчас гораздо более частыми, чем прежде, в основном по политическим причинам. Кубинские наемники, оснащенные советским оружием, помогают уничтожать целые племена, не желающие жертвовать своей этнической самобытностью и самостоятельностью во имя революции. Но при этом дома всегда подвергались разграблению, потом их сжигали, а тела хоронили в общих могилах. В том же случае, о котором я говорю, не было ни мародерства, ни пожарищ, ни трупов. Несколько недель спустя егеря и лесничие сообщили из тех же районов о необъяснимом сокращении там численности всех видов живых существ. Никто не связал эти сообщение с исчезновением жителей деревень: о нем говорилось как о самостоятельном явлении. — Вы же убеждены, что эти явления взаимосвязаны? — Я полагаю, что они взаимосвязаны, — ответил Флайт, намазывая клубничным джемом остаток булочки. — Почему-то такие исчезновения происходят главным образом в глухих местах, — сказал Сандлер. — А это сильно затрудняет проверку. — Да. Меня пытались сразить и этим аргументом. По-видимому, самое большое число таких исчезновений происходит на море просто потому, что оно занимает основную часть земной поверхности. Море во многих отношениях изучено не лучше луны, а то, что происходит под его волнами, вообще остается вне нашего поля зрения. Но не забывайте о тех двух армиях — китайской и испанской, — о которых я упомянул. Они исчезли уже в условиях современной цивилизации. И если десятки тысяч майя действительно пали тогда жертвами вековечного врага, существование которого я предположил, то это означает, что объектом нападения — пугающе дерзкого нападения! — могут стать целые города, центры цивилизации. — Вы считаете, что и сегодня может произойти нечто подобное? — Несомненно! — В таком месте, как Нью-Йорк, или даже здесь, в Лондоне? — Конечно! Это может произойти практически в любом месте, где есть те геологические условия, которые я описал в своей книге. Они сидели, молча потягивая шампанское, погруженные в свои мысли. Дождь стучал в оконное стекло с еще большим остервенением, чем раньше. Сандлер ее был уверен в том, что до конца поверил в гипотезу, выдвинутую Флайтом в его «Вековечном враге». Он понимал, что взгляды профессора могли лечь в основу научно-популярной книжки, которая бы пользовалась сумасшедшим спросом, но сам он вовсе не обязан был разделять эти взгляды. Ему даже очень не хотелось их разделять. Поверить в них значило бы приоткрыть дверь в Ад. Он взглянул на Флайта, который в очередной раз поправлял свою увядшую гвоздику, и проговорил: — Меня от всего этого просто в дрожь бросает. — И правильно, — кивнул, соглашаясь с ним, Флайт. — Так в должно быть. Подошедший официант принес яичницу с беконом, сосиски и тосты.Глава 19
НОЧНОЙ МЕРТВЕЦ
Гостиница превратилась в крепость. Брайс остался доволен проведенной подготовкой. Сейчас, после двух часов непрерывной напряженной работы, он сидел в столовой, потягивая бескофеиновый кофе из белой керамической кружки, на которой красовался большой голубой крест — эмблема гостиницы. С помощью прибывших из Санта-Миры еще десяти полицейских к половине второго ночи сделать удалось многое. Один из двух залов ресторана был превращен в общежитие: на полу несколькими рядами лежали двадцать матрасов, вполне достаточных для отдыха одной смены даже после того, как подъедут люди генерала Копперфильда. В другой половине ресторана они поставили два длинных стола — здесь во время обеда или завтрака можно будет устраивать нечто вроде кафетерия. Кухню прибрали, вымыли и подготовили к использованию. Большой вестибюль гостиницы превратился в оперативный центр, где стояли письменные столы, столы для оружия, пишущие машинки, лежали папки, блокноты и большая карта Сноуфилда и его окрестностей. Всю гостиницу успели тщательнейшим образом проверить на предмет безопасности. Были приняты все меры к тому, чтобы противник не смог сюда проникнуть. Два входа в тыльной части здания — один на кухне, другой в заднем конце вестибюля — были закрыты, заперты и для пущей верности забиты толстыми, два на четыре дюйма, досками, которые большими гвоздями прибили к косякам дверных проемов. Брайс распорядился забить эти двери, чтобы не пришлось потом отвлекать людей для дежурства возле входов, если бы они оставалась открытыми. Дверь пожарной лестницы заделали точно таким же образом, и теперь через нее невозможно было ни подняться на три верхних этажа гостиницы, ни неожиданно для находящихся внизу спуститься оттуда. Отныне вестибюль сообщался с верхними этажами только при помощи двух небольших лифтов, возле которых поставили двух часовых. Еще один часовой стоял у главного входа в гостиницу. Четверо полицейских вместе осмотрели все помещения наверху, удостоверившись, что там никого нет. Другая такая же группа проверила все окна первого этажа: большинство из них были не только заперты, но и заделаны на зиму. Однако все-таки окна оставались в их крепости самым слабым местом. «Но если кто-нибудь попытается проникнуть внутрь через окно, — подумал Брайс, — мы по крайней мере будем предупреждены звуком бьющегося стекла». Была переделана и масса других дел. Изуродованный труп Стю Уоргла временно поместили в примыкающей к вестибюлю кладовке. Брайс составил распорядок дежурств и определил состав смен на трое суток вперед на случай, если их критическое положение затянется так надолго. Наконец перечень того, что необходимо было сделать, оказался исчерпан и Брайсу не приходило в голову больше ничего, чем можно было бы еще заняться до наступления рассвета. Вот почему он сидел теперь в одиночестве в столовой, за одним из небольших круглых столиков, потягивал кофе и пытался как-то осмыслить события этой ночи. Все его размышления непроизвольно возвращались к одному и тому же: из черепа Уоргла исчез мозг, а из его тела высосали всю кровь, до последней капли. Брайс попытался избавиться от преследующей его картины — страшной, обглоданной, с оскалившимся черепом головы Уоргла. Он встал из-за стола, пошел и налил себе еще кофе, потом вернулся и сел на прежнее место. В гостинице стояла глубокая тишина. За соседним столиком играли в карты трое полицейских из ночной смены — Мигель Фернандес, Сэм Поттер и Генри Уонг. Они почти не разговаривали, а когда им надо было что-то сказать друг другу, делали это шепотом. В гостинице все было тихо и спокойно. Гостиница превратилась в крепость. Она действительно превратилась в крепость, черт побери! Но были ли они тут в безопасности? Лиза выбрала для себя матрас в самом углу зала-общежития, чтобы за спиной у нее была каменная стена. Дженни развернула одно из двух одеял, сложенных на матрасе, и укрыла им сестру. — Второе одеяло хочешь? — Нет, — ответила Лиза, — одного хватит. Как-то странно ложиться спать, не раздеваясь. — Ничего, скоро все войдет опять в норму, — сказала Дженни и, уже произнося эти слова, вдруг поняла, насколько пусто и бессмысленно они звучат. — Ты тоже ляжешь? — Пока нет. — Ложись, — попросила Лиза. — Мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты рядом, на соседнем матрасе. — Ты здесь не одна, голубушка, — Дженни ласково погладила девочку по волосам. Несколько полицейских — среди них были и Тал Уитмен, Горди Брогэн и Фрэнк Отри — тоже устраивались на ночлег. В комнате были также три хорошо вооруженных полицейских, которым предстояло бодрствовать и дежурить тут всю ночь. — А свет совсем не выключат? — спросила Лиза. — Нет. Мы не можем рисковать и сидеть в темноте. — Это хорошо. Он тут и так не яркий. Ты со мной посидишь немного, пока я не засну? — Сейчас могло показаться, что Лизе не четырнадцать лет, а гораздо меньше. — Конечно. — И поговори со мной. — Ладно. Только тихо, чтобы мы никому не мешали. Дженни легла рядом с сестрой, оперев голову на руку. — И о чем же ты хочешь поговорить? — Неважно. Все равно о чем. О чем хочешь, только не о… сегодняшнем. — Знаешь, я хочу тебя кое о чем спросить, — сказала Дженни. — Не о том, что сегодня произошло, а о том, что ты сегодня сказала. Когда мы сидели на скамейке около полицейского участка и ждали приезда шерифа, помнишь? Мы тогда говорили о маме, и ты сказала, что она… часто хвасталась мной? — Еще как! «Моя дочка — врач», — улыбнулась Лиза. — Она так тобой гордилась, Дженни! Слова эти снова, как и тогда, когда Лиза произнесла их впервые, больно кольнули Дженни в самую душу. — И мама никогда не винила меня за то, что с папой случился удар? — спросила она. — С какой стати она должна была тебя в этом винить? — нахмурилась Лиза. — Ну… мне казалось, я в какой-то период доставила ему немало страданий. Страданий и беспокойства. — Ты?! — Лиза была искренне поражена. — А потом, когда врачу не удалось справиться с его давлением и у папы случился удар… — По словам мамы, единственный твой плохой поступок за всю жизнь — это когда ты под День Всех Святых покрасила коленкорового кота в черный цвет и перемазала краской всю мебель на террасе. Дженни удивленно рассмеялась: — А я и забыла об этом. Мне тогда было всего восемь лет. Они улыбнулись друг другу и почувствовали себя в большей мере сестрами, чем когда-либо раньше. — А почему ты решила, что мама считала тебя виновной в смерти отца? — спросила, немного помолчав, Лиза. — Он ведь умер естественной смертью, верно? От удара. Как ты могла быть в этом виновата? Дженни помолчала, вернувшись мысленно на тринадцать лет назад, к тем событиям, что положили начало ее долгим переживаниям. Она испытала сейчас глубокое облегчение, узнав, что мать ни в чем не винила ее, никогда. Впервые за все время, прошедшее с тех пор, как ей было девятнадцать, она почувствовала себя свободной. — Дженни? — Угу? — Ты что, плачешь? — Нет, ничего, — ответила она, с трудом сдерживая слезы. — Если мама ни в чем не винила меня, наверное, я напрасно сама корила себя все эти годы. Я просто рада, сестренка. Рада тому, что ты мне сказала. — А почему ты сама так думала? Расскажи мне, Дженни. Если мы сестры, у нас не должно быть друг от друга секретов. — Это долгая история, сестренка. Когда-нибудь ты все узнаешь, но не сейчас. Расскажи-ка лучше ты о себе. Они еще некоторое время поболтали о пустяках, и глаза Лизы начали тяжелеть и потихоньку закрываться. Глядя на нее, Дженни почему-то вспомнила добрые, скрывающиеся под тяжелыми веками глаза Брайса Хэммонда. И глаза Якова и Аиды Либерманов, вылезающие из орбит, на их отрезанных головах. И глаза Уоргла. Мертвые, исчезнувшие. Выжженные глазницы, зияющие на пустом черепе. Она попыталась заставить себя отвлечься от этих мрачных, но слишком еще свежих и прочно засевших в сознании впечатлений, от глаз, которыми, казалась, смотрела на нее сама Смерть. Но ум ее непрестанно возвращался к чудовищным свидетельствам насилия и гибели, которые ей довелось увидеть. Дженни очень хотелось, чтобы кто-нибудь убаюкал ее так же, как сама она только что убаюкала Лизу. Ночь обещала быть бессонной и беспокойной.В кладовке, что примыкала к вестибюлю и тянулась до шахты лифтов, свет не горел. Окна в ней не было. В комнате висел давно устоявшийся запах мыла, стиральных порошков, всевозможных чистящих и дезинфицирующих средств, мебельной полироли, мастики для натирки полов. Все это стояло и лежало на полках, сделанных вдоль стен. Справа, в самом дальнем от входа углу, помещалась большая металлическая мойка. Из не совеем исправного крана капала вода — по капле в десять-двенадцать секунд. Каждая капля падала в металлическую раковину с мягким, негромким звуком — пам. В самом центре кладовки, на столе, в кромешной тьме, вобравшей в себя все, что находилось в комнате, накрытое покрывалом, лежало безликое тело Стю Уоргла. Все в комнате было неподвижно, и только со стороны мойки доносилось монотонное пам… пам… капающей воды. В воздухе беззвучно повисло ожидание каких-то событий.
Фрэнк Отри свернулся под одеялом, закрыл глаза и лежал, думая о Руг. О своей высокой, стройной и гибкой, миловидной Руточке, с ее тихим, но четким, почти чеканным голосом и немного хрипловатым смехом. О своей жене, с которой он прожил вместе двадцать шесть лет, единственной женщине, в которую он когда-то по-настоящему влюбился и которую любил до сих пор. Перед тем как отправляться вместе со всеми сюда, в Сноуфилд, он позвонил ей по телефону и они поговорили, правда, недолго. Он не мог сказать ей тогда ничего определенного кроме того, что в Сноуфилде стряслось что-то очень серьезное, что о происшедшем постараются как можно дольше ничего не сообщать и что, судя по всему, сегодня ночью он домой не попадет. Руточка не стала ни о чем его расспрашивать: за долгие годы службы мужа в армии она научилась быть женой офицера и оставалась ею и теперь. Привычка думать в трудные моменты о Рут давно стала для Фрэнка главным способом психологической защиты. Переживая стресс, испытывая страх или боль, впадая временами в депрессию, он просто начинал думать о Рут, целиком и полностью сосредоточивая на ней все свои мысли, и тогда мир, заполненный борьбой, проблемами и конфликтами, отступал в его сознании на задний план. Для человека, который основную часть жизни провел на опасной работе и чья профессия редко давала возможность забывать о том, что смерть составляет неотъемлемую часть жизни, такая женщина, как Рут, была незаменимым лекарством, прививкой против отчаяния.
Горди Брогэн боялся снова закрыть глаза. Каждый раз, когда он это делал, перед ним откуда-то из темноты возникали все те же кровавые видения. И потому теперь он лежал под одеялом с открытыми глазами и смотрел на спину Фрэнка Отри. Горди сочинял в уме заявление об отставке, которое намеревался вручить Брайсу Хэммонду. Отпечатать и вручить его он сможет, конечно, только когда закончится вся эта история. Он не хотел бросать товарищей в самый разгар трудной и опасной операции: это было бы неправильно, нехорошо. Он мог бы даже чем-то им тут помочь — при условии, что ему не пришлось бы стрелять в людей. Но как только операция в Сноуфилде завершится, как только они вернутся в Санта-Миру, он тут же напишет письмо с просьбой об отставке и сам, лично, вручит его шерифу. Теперь у него уже не оставалось сомнений: работа в полиции не для него. Он никогда не годился для такой работы. Он еще молодой человек, у него есть запас времени и возможность сменить профессию. Полицейским он стал отчасти потому, что бунтовал против родителей, а тем уж никак не хотелось, чтобы их сын служил в полиции. Родители видели, что ему каким-то непостижимым образом удается необыкновенно хорошо ладить с животными, что он умеет за полминуты добиться доверия любого четвероногого существа и установить с ним дружеские отношения. И потому родители его полагали и надеялись, что он станет ветеринаром. Горди же всегда чувствовал, что неослабная любовь отца и матери душит его, и потому, как только они стали подталкивать его к занятиям ветеринарией, он сразу отверг саму возможность этого. Теперь же он понимал, что родители были тогда правы и что они хотели ему только добра. В глубине души он и раньше сознавал их правоту. По складу своего характера он был целителем, а не миротворцем. Но тогда его еще сильно привлекали и полицейская форма, и значок. Если ты полицейский, казалось ему, то одно это уже доказывает твою мужественность. Несмотря на свой внушительный роет, мускулатуру, на присущий ему острый интерес к женщинам, он всегда полагал, что его считают неженкой. Когда он был мальчишкой, его совершенно не интересовал спорт, которым были одержимы все его одногодки. Бесконечные разговоры о машинах нагоняли на него тоску. Его интересы лежали в других областях и кое-кому казались просто блажью. Так, ему нравилось заниматься живописью, хотя способности его были на уровне средних. Он с удовольствием играл на валторне. Природа его просто зачаровывала, особенно он любил наблюдать поведение птиц. Именно тогда Горди приобрел отвращение к насилию; еще ребенком он всегда стремился избегать любых столкновений. Эта его прирожденная склонность к пацифизму доставляла ему в те времена немало огорчений, особенно когда становилась предметом обсуждения в присутствии девочек. Создавалось впечатление — по крайней мере самому Горди так казалось, — будто ему сильно недостает мужественности. Но теперь он наконец-то понял, что ему нет никакой необходимости кому бы то ни было что-то доказывать. Он пойдет учиться, станет ветеринаром. Он больше не будет бунтовать. И его родители будут им довольны. Жизнь его снова войдет в нормальную колею. Горди закрыл глаза, вздохнул, попытался заснуть. Но из темноты снова поплыли к нему кошмарные видения отрезанных кошачьих и собачьих голов, расчлененных, изувеченных, подвергнутых страшным пыткам тел животных. Он резко открыл глаза и с трудом перевел дыхание. И правда, что же случилось со всеми кошками и собаками Сноуфилда? Куда они все подевались?
Кладовка, та самая, что примыкает к вестибюлю. Окон нет, свет выключен. Монотонное пам-пам воды, капающей в металлическую раковину, прекратилось. Но тишины в комнате теперь не было. В темноте что-то двигалось. Ползая по комнате, погруженной в кромешный мрак, это нечто издавало мягкие, вкрадчивые, какие-то влажные звуки.
Дженни, не собираясь пока спать, прошла в столовую, налила себе кружку кофе и присела за угловой столик к шерифу. — Лиза спит? — спросил он. — Мертвым сном. — Как только вы еще держитесь на ногах? Представляю, насколько вам должно быть тяжело. Здесь ведь все были ваши соседи, знакомые, друзья… — Я даже не способна сейчас в полной мере почувствовать горе, — ответила она. — Все внутри как будто оцепенело. Если бы я позволила себе должным образом реагировать на то, что увидела, на каждую смерть, я бы уже давно превратилась в зареванную, расклеившуюся развалину. Поэтому я просто выключила все свои чувства, заставила их замереть. — Это нормальная, здоровая реакция. Мы, полицейские, тоже всегда так делаем. Они поболтали немного о том о сем, неторопливо попивая кофе. Потом он спросил ее: — Вы замужем? — Нет. А вы женаты? — Был. — Развелись? — Она умерла. — Ой, да, конечно. Вспомнила, я же читала тогда об этом. Извините, пожалуйста.Примерно год назад, да? Автомобильная катастрофа? — Налетел грузовик. Дженни посмотрела ему в глаза, и ей показалось, что они затуманились и стали не такими голубыми, как обычно. — А как сын? — спросила она. — Все еще в коме. Не думаю, что он когда-нибудь из нее выберется. — Извините, Брайс. Я не хотела причинить вам боль. Он обхватил кружку обеими руками и уставился в нее неподвижным взглядом. — Учитывая состояние, в котором находится Тимми, если он в конце концов умрет, это будет, пожалуй, даже благом. Какое-то время после того, как все случилось, я вообще ничего не воспринимал. Ничего не чувствовал не только эмоционально, но и физически. Как-то раз я резал апельсин и раскроил палец. Всю кухню залил кровью и даже съел несколько окровавленных апельсиновых долек, прежде чем заметил, что что-то не так. Но даже и тогда я не почувствовал никакой боли. И только совсем недавно я как-то внутренне примирился с происшедшим и начал что-то понимать. — Он поднял глаза и встретился взглядом с Дженни. — Как ни странно, с того момента, как я оказался в Сноуфилде, серая пелена спала. — Серая пелена? — Очень долго мне все казалось одинаково серым. Краски словно исчезли, совсем. Но сегодня все совершенно иначе. Сегодня вечером мы испытали такое возбуждение, такое напряжение, такой страх, что все снова обрело красочность и яркость. Дженни заговорила вдруг о смерти своей матери, о том, какое впечатление произвела тогда на нее эта смерть, даже несмотря на то, что она уже двенадцать лет жила вне дома, хотя это обстоятельство в какой-то мере смягчило удар. Рассказывая, она опять удивилась способности Брайса Хэммонда держаться так, что она чувствовала себя свободно и раскованно. Казалось, они были знакомы друг с другом уже долгие годы. Неожиданно для себя самой она рассказала ему об ошибках, которые наделала, когда ей было восемнадцать — девятнадцать лет, о своем наивном поведении, об упорствовании в своих заблуждениях и ошибках — обо всем, что доставило тогда столько боли и страданий ее родителям. К концу первого года учебы в колледже она встретила человека, сразу же покорившего ее. Он был на пять лет старше и уже заканчивал колледж. Звали его Кэмпбелл Хадсон, она называла его просто Кэм. Он был обаятелен, проявлял к ней максимум внимания, ухаживал за ней страстно и целеустремленно, и естественно, что она увлеклась. До этого она вела довольно замкнутый и уединенный образ жизни, не имела серьезных романов и редко соглашалась на свидания. Она была легкой добычей. Угодив в расставленные Кэмом Хадсоном сети, она стала не только его любовницей, но и восторженной ученицей, и последовательницей его взглядов и убеждений, и даже, можно сказать, его послушной и преданной рабыней. — Представить себе не могу, чтобы вы кому-нибудь подчинялись, — сказал Брайс. — Я была тогда молодая. — Ну, это всегда удобное объяснение. Она переехала к Кэму и стала жить с ним, почти не заботясь о том, чтобы скрывать свои прегрешения от отца с матерью, а они считали то, что она делала, именно грехом. Позднее она решила — точнее, позволила Кэму решить за себя — бросить колледж и пойти работать официанткой, чтобы помогать Кэму платить за учебу, пока он не закончит ее и не защитит докторскую диссертацию. Полностью подчинив себя эгоистическим интересам и планам Кэма Хадсона, она вдруг обнаружила, что он постепенно становится к ней все менее внимательным, что он уже далеко не так мил и обаятелен в обращении с ней, как прежде. Выяснилось, что у него буйный темперамент и дурной, грубый характер. Она еще жила с Кэмом, когда умер ее отец, и на похоронах она почувствовала, что мать считает ее виновницей его преждевременной кончины. Через месяц после того, как тело отца опустили в могилу, Дженни поняла, что беременна. Значит, она забеременела, когда отец еще был жив. Кэм пришел в ярость от этого известия и настаивал на немедленном аборте. Она ответила, что хотела бы денек подумать, прежде чем решать, но он и слышать не желал об отсрочке хотя бы на сутки. Кэм избил ее так, что у Дженни произошел выкидыш. Именно тогда между ними все было кончено. Все ее иллюзии развеялись в мгновение ока. Она повзрослела сразу, в один день, — хотя и слишком поздно, чтобы отец мог порадоваться этому. — С тех самых пор, — говорила она Брайсу, — я непрерывно, изо всех сил работала — быть может, гораздо больше, чем надо было, — чтобы доказать матери, что я сожалею обо всем случившемся и, несмотря ни на что, все-таки достойна ее любви. Я работала даже по выходным, отказывалась от всех приглашений на вечеринки, за последние двенадцать лет считанные разы бывала в отпуске, и все это во имя самосовершенствования. Домой я приезжала гораздо реже, чем следовало. Но я не могла смотреть в глаза матери. Я постоянно видела в них укор, упрек в свой адрес. А сегодня вечером Лиза сказала мне нечто такое, что меня просто поразило. — Что ваша мать никогда ни в чем вас не винила, — предположил Брайс, снова выказав те поразительные проницательность и чуткость, которые Дженни уже подметила в нем раньше. — Да! — подтвердила Дженни. — Она действительно никогда и ни в чем меня не обвиняла, ничего не держала против меня за душой. — Скорее всего она вами даже гордилась. — Опять угадали! Она никогда не обвиняла меня в смерти отца. Это я сама себя во всем винила. Мне казалось, что в ее глазах стоит постоянный укор, а на самом деле я сама все время переживала чувство вины. — Дженни задумчиво покачала головой, горько усмехнулась. — Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Во взгляде Брайса Хэммонда она увидела сочувствие и понимание, которых ей так не хватало все эти годы, что прошли со дня похорон ее отца. — Мы с вами во многих отношениях очень похожи друг на друга, — сказал Брайс. — По-моему, мы оба страдаем комплексом мученичества. — У меня его уже нет, — возразила Дженни. — Жизнь слишком коротка. Сегодня вечером я это поняла совершенно ясно. Отныне я намерена жить, жать полной жизнью — если, конечно, мы сумеем отсюда выкарабкаться. — Выберемся, — проговорил Брайс. — Хотела бы я разделять вашу уверенность. — Знаете, — сказал Брайс, — если у нас будут какие-то планы на будущее, если нам будет на что надеяться, то нам всем будет и легче отсюда выбраться. Я на что-нибудь могу надеяться, как вы думаете? — ??? — Давайте условимся о свидании. — Он наклонился в ее сторону, и густые, песочного цвета волосы упали ему на глаза. — Сходим в ресторан Джирваджо, в Санта-Мире. Закажем минестроне[29], его там чудесно готовят. Омара в чесночном масле. По бифштексу или хорошему куску телятины. Большое блюдо макарон на двоих. А еще там делают отличную вермишель с овощами и острым соусом. И возьмем хорошего вина. — Неплохая идея, — улыбнулась Дженнн. — Да, забыл: и еще чесночный хлеб. — Ой, я его так люблю! — А на десерт забаглионе[30]. — Нас придется выносить оттуда, — засмеялась она. — Ничего, заранее закажем носильщиков. Они поболтали еще немного, стараясь сбросить с себя напряжение минувшего дня, а потом отправились спать.
Пам! В темной кладовке, той, где на столе лежало тело Стю Уоргла, вода снова начала капать из крана в металлическую раковину мойки. Пам! Что-то крадучись двигалось в темноте, кружа вокруг стола. Оно издавало странные чавкающие звуки, как будто кто-то, скользя, шлепал по густой грязи. В кладовке слышались и другие звуки: их было много, все они были низкие и негромкие. Тяжелое дыхание уставшей собаки. Шипение рассерженной кошки. Тихий, легкий, серебристый смех — так смеются маленькие дети. Похныкивание женщины, как будто от ноющей боли. Чей-то стон. Вздох. Щебетание ласточки — оно прозвучало совсем отчетливо, но негромко, так, чтобы не привлечь внимания часовых, дежуривших в вестибюле. Предупреждающий стук гремучей змеи. Глухое и низкое жужжание шмелей. Более высокое и энергичное зловещее гудение ос. Рычание собаки. Звуки прекратились так же внезапно, как возникли. Снова установилась тишина. Пам! На протяжении примерно минуты абсолютную тишину нарушал только звук равномерно капающей воды. Пам! Потом в кромешной тьме кладовка послышалось шуршание ткани. Шуршало покрывало, которым был накрыт труп Уоргла. Оно соскользнуло с мертвого тела и упало на пол. Снова как будто бы что-то заскользило по комнате. Раздался резкий звук, напоминающий треск раскалываемого полена. Приглушенный, но, несомненно, сильный. Сухой хруст ломающейся от удара кости. Снова тишина. Пам! Тишина.
Лежа в ожидании, пока к нему придет сон, Тал Уитмен размышлял о страхе. Именно о страхе: можно сказать, что это чувство и борьба с ним выковали его характер и привычки, саму его личность, как выковывает кузнец самые сложные узоры из податливого раскаленного металла. Страх. Вся жизнь Тала была одной долгой отчаянной попыткой избавиться от этого чувства, опровергнуть само его существование. Он отказывался подчиняться страху, позволять ему унижать себя, руководствоваться страхом в своих словах и поступках. Он не желал даже в мыслях допускать возможность того, что его удалось бы запугать. Трудный жизненный опыт, приобретенный еще в самом раннем детстве, научил его: стоит хотя бы только признать страх — и ты неминуемо станешь жертвой его ненасытного аппетита. Тал Уитмен родился и вырос в Гарлеме, где страх пронизывал все: страх перед уличными бандами, перед алкашами, наркоманами и прочей мразью, перед бессмысленным и слепым насилием, перед нищетой, перед угрозой оказаться выброшенным за борт жизни. В домах, что стояли на серых улицах Гарлема, страх готов был поглотить любого и в любой момент, стоило только человеку чуть-чуть уступить и поддаться этому чувству. В детстве Тал не чувствовал себя в безопасности даже в квартире, где жил вместе с матерью, братом и тремя сестрами. Отец Тала был социопатом, любил бить жену и появлялся в доме один-два раза в месяц исключительно ради удовольствия избить до беспамятства ее и потерроризировать детей. Конечно, мамаша сама была немногим лучше. Она пила, злоупотребляла наркотиками и обращалась со своими детьми почти так же безжалостно и жестоко, как и их отец. Однажды, когда Талу было девять лет, в одну из тех редких ночей, которые отец проводил дома, многоквартирное здание, где они жили, вспыхнуло и в считанные часы сгорело дотла. Из всей их семьи уцелел один только Тал. Отец с матерью сгорели прямо в постели, задохнувшись в дыму. Оливер, брат Тала, и все их сестры — Хэдди, Луиза и Франческа, которая была еще грудным младенцем, — исчезли без следа, и теперь, по прошествии стольких лет, Талу иногда даже с трудом верилось, что у него действительно были когда-то брат и сестры. После того пожара его взяла к себе сестра матери, тетушка Ребекка. Она тоже жила в Гарлеме. Однако Бекки не пила и не употребляла наркотиков. Собственных детей у нее не было, но зато была работа. А еще она посещала занятия в вечерней школе, была твердо убеждена, что человек сам кузнец своего счастья, и верила, что у них с Талом все в жизни сложится к лучшему. Она часто повторяла Талу, что на свете нечего бояться, кроме Самого Страха, а Сам Страх — это всего лишь пугало, тень, призрак, и уж его-то бояться нечего. «Бог дал тебе здоровье, Талберт, и хорошие мозги. И если ты все это растратишь понапрасну, на глупости, то виноват будешь только ты сам, и никто другой». Под воздействием наставлений тетушки Бекки, любящей, но требовательной и строгой, молодой Талберт начал в конце концов считать себя вовсе непобедимым. Он перестал бояться чего бы то ни было в и жизни, не боялся он теперь и самой смерти. Вот почему много лет спустя он, не кривя душой, смог — после того как уцелел во время перестрелки в продовольственном магазине в Санта-Мире — сказать Брайсу Хэммонду, что это была всего лишь прогулка. Но сейчас, впервые за долгую череду лет, его охватило сильнейшее чувство страха. Тал мысленно возвращался к судьбе, постигшей Стю Уоргла, и страх его от этих размышлений становился все сильнее, от него в полном смысле слова цепенели внутренности. Глаза Уоргла били выедены прямо из головы, заживо. Вот уж воистину Сам Страх. На этот раз не пугало, а настоящий. На тридцать втором году жизни Тал Уитмен обнаружил, что еще способен испугаться, как бы рьяно сам он ни отрицал это. Бесстрашие до сих пор здорово помогало ему в жизни. Но вопреки всему, во что он привык верить, только здесь и только теперь он понял: бывают обстоятельства, когда трусить — значит просто умно себя вести. Лиза проснулась почти перед самым рассветом. Проснулась от приснившегося ей кошмара, хотя какого именно, вспомнить она не могла. Она посмотрела на Дженни и на других, кто спал на соседних матрасах, потом повернулась и взглянула в окно. Ночь близилась к концу, и предрассветная Скайлайн-роуд казалась обманчиво мирной и спокойной. Лизе надо было сходить в туалет. Она поднялась и тихонько прошла между рядами матрасов. Возле широкой и большой арки, отделяющей эту часть ресторана, дежурил полицейский. Лиза, проходя мимо, улыбнулась ему, он приветственно подмигнул ей в ответ. Еще один полицейский дежурил в другой части зала, в той, где была устроена столовая. Он сидел, неторопливо листая журнал. В вестибюле, перед дверями лифта, стояли сразу двое. Еще один пост был выставлен возле двустворчатой двери главного входа в гостиницу, хотя сейчас ее дубовые полированные створки с овальными оконцами из наборного стекла были заперты. Этот полицейский был вооружен автоматом и, глядя в овальное окошко, внимательно наблюдал за подходами к зданию. В вестибюле находился еще и четвертый полицейский — лысый, с нездоровым румянцем на лице помощник шерифа. Звали его Фред Тэпнер, Лиза познакомилась с ним еще вечером. Он дежурил возле телефона, сидя за самым большим из собранных тут столов. По-видимому, за ночь телефон звонил довольно часто, потому что две машинописного формата страницы из блокнота лежали рядом, густо испещренные записями. Когда Лиза проходила мимо стола, телефон зазвонил снова. Фред поднял руку, помахал Лизе, потом поспешно схватил трубку. Лиза направилась прямо в тот угол вестибюля, где были двери в туалеты, помеченные табличками:
«ЗАЙЧИШКИ»
«КРУТЫЕ»Эти обозначения совершенно не вязались с общим стилем гостиницы «На горе». Лиза толкнула дверь с табличкой «ЗАЙЧИШКИ» и вошла внутрь. Туалеты считались безопасным местом: тут не было окон, а попасть в них можно было только из вестибюля, где постоянно дежурили несколько полицейских. Женский туалет представлял собой большое и чистое помещение с четырьмя кабинками и таким же числом умывальников. Пол и стены его были отделаны белой керамической плиткой, а в верхней части стен и внизу, вдоль самого пола, были выложены полоски из узкой темно-синей плитки. Лиза воспользовалась самой первой кабинкой и ближайшим к входной двери умывальником. Уже домывая руки, она взглянула в зеркало и тут увидела его. Это был действительно он, Тот самый мертвый полицейский. Уоргл. Он стоял у Лизы за спиной, в весьма или десяти футах от нее, прямо посередине комнаты. И ухмылялся. Она резко обернулась, уверенная, что увиденное ею в зеркале — мираж, игра света в неровностях стекла, на худой конец чья-то дурацкая шутка. Не мог же он и в самом деле оказаться здесь. Но он и вправду был тут. Совершенно голый. И грязно ухмылялся. Лицо у него полностью восстановилось: тяжелый подбородок, с толстыми губами рот, поросячий нос, маленькие бегающие глаза. Каким-то непостижимым образом все это снова оказалось на своих местах. Невероятно. Лаза не успела даже пошевелиться, как Уоргл встал между ней и входной дверью. Голые его ступни громко и влажно прошлепали по каменному полу туалета. Кто-то изо всей силы колотил в дверь. Но Уоргл, казалось, не слышал этого. Колотили, колотили, колотили… Почему они просто не откроют дверь и не войдут? Уоргл протянул руки вперед и стал шевелить ладонями, как бы подзывая Лизу к себе. И по-прежнему ухмылялся. Лиза невзлюбила Уоргла с той самой минуты, когда впервые увидела его. Несколько раз, когда он полагал, что ее внимание отвлечено чем-то другим, она ловила на себе его взгляды, неприятные и вызывавшие у нее какое-то беспокойное, тревожное чувство. — Иди-ка сюда, красоточка, — проговорил Уоргл. Лиза взглянула на дверь и тут воняла, что никто в нее не колотят. Это стучала ее собственное, бешено бившееся сердце. Уоргл облизал губы. Лиза вдруг громко вздохнула — и сама удивилась. Оказывается, ее настолько поразило это воскрешение из мертвых, что, незаметно даже для себя, она на какое-то время перестала дышать и только сейчас задышала снова. — Иди сюда, сучка! Она попыталась закричать, но не смогла. Уоргл выразительно потрогал себя: — Хочешь попробовать эту штуковину, а? — сказал он, по-прежнему ухмыляясь и непрерывно, жадно облизывая мокрым языком губы. Она снова попыталась закричать, и опять у нее ничего не вышло. Каждый глоток воздуха давался ей с неимоверным трудом. О том, чтобы крикнуть, не могло быть и речи. Он не настоящий, сказала себе Лиза. Если закрыть глаза, плотно зажмурить их, досчитать до десяти, а потом открыть, он исчезнет. — Сучка! Нет, это иллюзия. Мираж, сон. Наверняка весь этот кошмар ей только снится. Даже и то, что она пришла в туалет. Но она не решилась проверить свои предположения. Не закрыла глаза и не стала считать до десяти. Она просто не осмелилась этого сделать. Уоргл, выразительно поглаживая себя все в том же месте, сделал шаг в ее направлении. Он не настоящий. Это мираж. Еще один шаг. Он не настоящий, это мираж. — Иди сюда, красоточка, дай-ка я пощупаю твои сиськи! Он не настоящий это мираж он не настоящий это… — Тебе это понравится, моя сладенькая. Лиза попятилась от него. — Какое у тебя хорошенькое тельце, красотка! Очень хорошенькое! Он подступал к ней все ближе и ближе. Вот он уже подошел так близко, что лампа, освещающая туалет, оказалась у него за спиной, и его тень упала на Лизу. Приведения и призраки не отбрасывают теней. Ухмылка застыла на лице Уоргла, словно приклеенная. Время от времени он как-то странно подхихикивал. Но голос у него становился все более хриплым и мерзким. — Глупая ты девчонка. Сейчас я тебя заделаю. Как надо заделаю, по-настоящему. Не то что твои одноклассники. А так, красотка, что ты у меня потом неделю ходить не сможешь. Теперь ужа Лиза вея целиком очутилась в тени Уоргла. Сердце у нее билось так часто и сильно, что, казалось, вот-вот оборвется совсем. Лиза пятилась все дальше и дальше, пока наконец не уперлась в стену. Теперь она была в ловушке. Она оглянулась по сторонам, ища что-нибудь, чем можно было бы воспользоваться как оружием или хотя бы кинуть в него. Но ничего подходящего не было. Каждый новый вдох давался ей труднее предыдущего. Она ощутила нарастающую слабость и головокружение. Он не настоящий. Это мираж. Но дольше обманывать себя она уже не могла, в мираж верить становилось все труднее и наконец — невозможно. Уоргл остановился на расстоянии вытянутой руки от нее и стоял, упершись в нее взглядом. Он раскачивался на пятках голых ног из стороны в сторону и взад-вперед, как будто бы в такт какой-то слышной ему одному мрачной, дикой музыке, заставлявшей его тело извиваться. Он закрыл налитые ненавистью глаза и продолжал раскачиваться, словно в трансе. Прошла секунда. Что он делает? Две секунды, три, шесть, десять. Глаза его были по-прежнему закрыты. Лиза чувствовала, что в ней нарастает неудержимая истерика. Может быть, удастся проскочить мимо него? Пока он так качается с закрытыми глазами? О Господи, нет, он слишком близко. Невозможно проскочить, не зацепив его. Боже, коснуться его?! Нет, только не это, Боже упаси! Это выведет его из транса, или в чем еще он там находится, и тогда он поймает ее своими холодными, ледяными, совсем как у мертвеца, руками. Она бы не смогла заставить себя коснуться его. Нет. Тут она обратила внимание, что в глубине его закрытых глаз, под опущенными веками происходит нечто странное. Словно там что-то корчится или извивается. Но линия век не соответствовала больше выпуклости глазного яблока. Уоргл поднял веки. Глаз не было. Прямо за веками начинались пустые глазницы. Лиза наконец-то закричала, но вопль, который она сумела выдавить из себя, не смогло бы расслышать ни одно человеческое ухо. Выдох получился молниеносным, она почувствовала, как горло ее стало сводить судорогами, но крика, такого, чтобы его услышали и пришли на помощь, так и не получилось. Его глаза. Эти его пустые глаза. Почему-то она была уверена, что, хотя глазницы Уоргла и пусты, он ее все равно видит. И эта пустота его глаз непонятным образом притягивала ее к себе. Ухмылка по-прежнему держалась у него на лице. — Кошечка ты моя, — проговорил он. Она опять молча, беззвучно вскрикнула. — Кошечка, Поцелуй меня, кошечка. Непонятно как, но в черных как ночь, обрамленных по краям обнаженной черепной костью глазницах все еще светилось, мерцало сознание и было видно выражение нескрываемой злобы. — Поцелуй меня. Нет! «Позволь мне умереть, — молилась она, — о Боже, позволь мне умереть прежде, чем…» — Дай-ка мне пососать твой теплый язычок, — требовательно произнес Уоргл и дико захихикал. Он протянул к ней руки. Лиза изо всех сил вжалась в стену, но отступать больше было некуда. Уоргл дотронулся до ее щеки. Она попыталась уклониться, сбросить со щеки его руку. Он провел рукой по щеке, легко касаясь ее кончиками пальцев. Пальцы были холодные как лед и скользкие. Она услышала слабый, сдавленный, еле различимый стон — «О-о-о-…оооой!» — и поняла, что это стонет она сама. В лицо ей пахнул какой-то странный, острый и раздражающий запах. Что это такое — его дыхание? Зловонное дыхание трупа, извергаемое его разлагающимися легкими? Но разве ходячие трупы дышат? Вонь была слабая, но невыносимая. Она зажала себе рот и нос. Уоргл наклонился к ней, и его лицо оказалось прямо напротив нее. Лиза уставилась в его выеденные глаза, в их колышущуюся, переливающуюся черноту, и ей показалось, что через две эти темные дыры она заглядывает сейчас в самые сокровенные глубины Ада. Рука Уоргла с силой сжала ей горло. — Подари-ка мне… — сказал он. Она испустила… нет, не крик, но лишь горячий выдох. — …хорошенький поцелуй. Она попыталась крикнуть снова. На этот раз крик ее не был беззвучным. На этот раз вопль ее был такой силы, что, казалось, от него должны были бы лопнуть все зеркала, треснуть и осыпаться все керамические плитки. Мертвое безглазое лицо Уоргла медленно склонялось к ней; Лиза слышала, как ее крик эхом отражается от стен; водоворот истерики, уже начавший кружить ее раньше, все разрастался и разрастался, превращаясь в водоворот мрака, который затягивал ее и уносил куда-то в пустоту и забвение.
Глава 20
ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ
Лиза лежала на диване цвета ржавчины, стоявшем в вестибюле гостиницы «На горе», в самом дальнем от туалетов углу. Рядом, обнимая ее, сидела Дженифер Пэйдж. Брайс, держа в руках Лизину ладонь, присел перед диваном на корточки. Как он ни сжимал и ни растирал ее, рука Лизы по-прежнему оставалась ледяной. За спиной у Брайса, образовав полукруг, собрались все остальные. Тут не было только тех полицейских, которые стояли на постах. Вид Лизы был ужасен. Глаза глубоко ввалились и смотрели отрешенно и настороженно. Лицо своей белизной напоминало плитку, которой был выложен пол в женском туалете — где они обнаружили ее лежащей без сознания. — Стю Уоргл мертв, — снова и снова уверял девочку Брайс. — Он х-хотел, чтобы я ег-го… поцеловала, — твердила она, упорно и настойчиво повторяя то, что уже успела рассказать и что всем им показалось более чем странным. — В туалете не было никого, кроме тебя, — убеждал ее Брайс. — Ты была там совершенно одна, Лиза. — Нет, он там был, — стояла на своем девочка. — Мы примчались, как только услышали твой крик. Ты была одна… — Он там был! — …и лежала в углу, на полу, без сознания. — Он был там. — Его труп в кладовке, — проговорил Брайс, успокаивающе поглаживая ее по руке. — Мы положили его туда еще с вечера. Ты же сама это помнишь, верно? — А он все еще там? — спросила девочка. — Может быть, стоит проверить? Брайс посмотрел на Дженни. Она утвердительно кивнула. Вспомнив, что в этом городке сегодня действительно можно ожидать чего угодно, в полном смысле этих слов, Брайс отпустил руку девочки, встал и повернулся в сторону кладовки. — Тал? — Да? — Пойдем со мной. Тал вытащил револьвер. Брайс достал из кобуры свой и скомандовал: — Всем остальным оставаться на месте! Он пересек вестибюль, подошел к двери кладовки и остановился. Тал стоял рядом с ним. — По-моему, она не из тех девиц, что любят придумывать невероятные истории, — сказал Тал. — Да, она не из таких, это точно. Брайс припомнил, что тело Пола Хендерсона и вправду исчезло из полицейского участка. Но, черт возьми, там ведь все было совсем иначе, чем здесь. Тело Пола никто не охранял, в участке никого не было, туда мог свободно зайти кто угодно. Но к трупу Уоргла никто не смог бы подойти — и сам он не смог бы запросто встать и уйти, — без того чтобы хоть один из стоявших в вестибюле часовых не увидел этого. Но никто из них ничего не видел. Брайс сделал еще шаг вперед и встал слева от двери, жестом показав Талу, чтобы тот встал справа. Они постояли так немного, внимательно прислушиваясь. Но в гостинице все было тихо и спокойно. Из кладовки тоже не доносилось ни звука. Стоя возле левого косяка, Брайс осторожно наклонился вперед, дотянулся до круглой ручки двери и стал медленно и тихо поворачивать ее, пока она не дошла до упора. Он замер, взглянул на Тала, тот взглядом показал, что готов. Брайс сделал вдох, задержал дыхание, резко толкнул дверь внутрь, распахивая ее, а сам мгновенно отпрянул в сторону, освобождая проход. Но из темной комнаты никто и ничто не выскочило. Тал подкрался к самому краю дверного проема, запустил внутрь руку и осторожно нащупал на стене выключатель. Брайс слегка пригнулся и напружинился в ожидании момента, когда надо будет действовать. В тот самый миг, когда в кладовке вспыхнул свет, он рванулся вперед, выставив перед собой револьвер. Из расположенной под потолком флюоресцентной лампы лился мертвенный холодный свет, отражавшийся от бортиков металлической мойки, от бутылей и банок с чистящими и моющими средствами. Простыня, в которую они накануне завернули тело, бесформенной кучей лежала на полу возле стола. Труп Уоргла исчез.Полицейского, который стоял на посту при входе в гостиницу, звали Дик Кувер. Большую часть времени он провел, наблюдая за Скайлайн-роуд, спиной к вестибюлю, я потому не мог сказать Брайсу ничего вразумительного. Труп Уоргла вполне могли протащить через весь вестибюль, и Кувер этого бы даже не заметил. — Вы приказали мне наблюдать за подходами к гостинице, шериф, — оправдывался Дик. — А у меня за спиной Уоргл вполне мог бы прокрасться на цыпочках, один или с кем-нибудь. Он мог бы даже держать в каждой руке по флагу и размахивать ими. И если бы он при этом не шумел и не пел, я бы и внимания не обратил на то, что происходит в вестибюле.
На посту у лифтов, совсем рядом со входом в кладовку, стояли Келли Мак-Хит и Донни Джессуп. Им было лет по двадцать пять, и в подразделении Брайса они были, пожалуй, самыми молодыми. Но оба они уже обладали кое-каким опытом и доказали свое профессиональное умение и то, что им можно доверять. — Нет, за всю ночь в кладовку никто не заходил и никто не выходил из нее, — ответил, отрицательно покачав головой, Мак-Хит, здоровенный блондин с бычьей шеей и мощными широкими плечами. — Никто, — подтвердил Джессуп, гибкий жилистый парень с вьющимися волосами и глазами цвета чая. — Мы бы увидели. — Дверь же вот она, прямо перед нами, — сказал Мак-Хит. — И мы всю ночь были здесь, никуда не отходили. — Вы же нас знаете, шериф, — добавил Мак-Хит. — Мы же не сачки какие-нибудь, сами знаете, — сказал Джессуп. — Если нам приказано дежурить… — …то мы и дежурим. Как положено, — договорил Джесеуп. — Но ведь труп Уоргла как-то исчез, черт возьми, — возразил Брайс. — Не сам же он встал со стола и прошел через стену! — Не знаю, как он вставал со стола, но из двери кладовки он не выходил, это точно, — продолжал стоять на своем Мак-Хит. — Сэр, — вмешался Джессуп, — Уоргл был мертвый. Сам я его тела не видел, но, насколько я могу судить по тому, что мне довелось слышать, он был очень мертвый. Мертвецы обычно лежат там, где их оставили. — Не обязательно, — ответил Брайс. — В этом городке бывает и по-другому. По крайней мере сегодня.
— Отсюда же нет другого выхода, кроме как через дверь, — сказал Брайс Талу, когда они вдвоем снова зашли в кладовку. Они медленно обошли ее всю, тщательно осматривая. Скопившаяся на кончике неисправного крана капля оторвалась и с негромким «пам!» ударилась о металлическое дно раковины. — Отопительная вентиляция, — сказал Тал, показывая на расположенную прямо под потолком решетку в стене. — Может быть, через нее? — Ты это серьезно? — Давайте-ка лучше посмотрим. — Она слишком маленькая, человек через нее не пролезет. — А помните ограбление ювелирного магазина Крыбинского? — Разве такое забудешь?! Оно до сих пор не раскрыто. И Крыбинский мне об этом подчеркнуто напоминает всякий раз, когда мы где-нибудь встречаемся. — Парень, который это сделал, пролез в подвал магазина через оконце чуть побольше этой решетки. Как всякий полицейский, которому приходилось сталкиваться с ограблениями и квартирными кражами, Брайс хорошо знал, что человеку обычного роста и телосложения достаточно на удивление маленького отверстия для того, чтобы забраться в дом. Если в отверстие пролезает голова, то в него протиснется и все тело. Конечно, плечи шире головы, но их можно приподнять вверх или скосить как-нибудь так, чтобы они пролезли. А там, где прошли плечи, всегда смогут пролезть таз и бедра. Но Стю Уоргл не был человеком обычного телосложения. — Его живот застрял бы здесь, как пробка в бутылке, — проговорил Брайс. Но он все-таки взял стоявшую в углу стремянку, подставил к стене, взобрался на нее и заглянул в вентиляционное отверстие. — Решетка не привинчена, — сказал он Талу. — Она просто вставляется и защелкивается. Так что ее в принципе можно было поставить изнутри на место, если, конечно, Уоргл смог сюда пролезть и если он залезал ногами вперед. Брайс легко снял решетку. Тал протянул ему электрический фонарь. Брайс направил луч фонаря в темный вентиляционный колодец и нахмурился. Узкий металлический короб уходил чуть-чуть вглубь и сразу же заворачивал вверх под углом в девяносто градусов. — Нет, это невозможно, — проговорил Брайс, выключая фонарь и возвращая его Талу. — Чтобы тут пролезть, Уоргл должен быть и карликом, и гуттаперчевым мальчиком одновременно.
Брайс Хэммонд сидел в центре вестибюля за большим столом, выполнявшим тут роль командного центра, и просматривал записи о поступивших за ночь телефонных звонках. Здесь-то к нему и подошел Фрэнк Отри. — Хотел бы сообщить вам кое-что об Уоргле, сэр. — Что именно? — Брайс оторвался от бумаг и поднял глаза на полицейского. — Н-ну… мне не хочется плохо говорить о мертвом… — Мы все его не любили, — с грубоватой прямотой заявил Брайс. — Так что попытка посмертно польстить ему была бы чистой воды лицемерием. Если знаешь что-то такое, что может оказаться полезным, то выкладывай, Фрэнк. — В армии вы бы наверняка пришлись к месту, там таких любят, — улыбнулся Фрэнк, усаживаясь на край стола. — Вчера вечером, когда мы вместе с ним разбирали радиостанцию в полицейском участке, Уоргл несколько раз прохаживался насчет доктора Пэйдж и Лизы. — По части секса? — Угу. Фрэнк постарался как можно точнее воспроизвести все, что тогда говорил ему Уоргл. — Вот черт. — Брайс покачал головой. — Больше всего меня насторожило то, что он говорил насчет девочки, — сказал Фрэнк. — Его слова, что хорошо бы подъехать к ней, если появится возможность, звучали вроде как шутка, но все-таки не совсем. Не думаю, что он решился бы ее изнасиловать, но сделать очень серьезную попытку заставить ее согласиться он мог. Пригрозил бы ей и своей властью, и значком полицейского — на это он тоже был способен. Не думаю, что девочка бы согласилась, она не из пугливых. Но полагаю, что попытаться Уоргл мог. Шериф сидел, задумчиво глядя перед собой и постукивая карандашом по крышке стола. — Но Лиза не могла ничего знать об этом, — добавил Фрэнк. — Она не могла как-то случайно услышать, о чем вы говорили? — Никак. — Может быть, она что-то подозревала, предчувствовала, ловила взгляды, которые бросал на нее Уоргл? — Но знать-то она не могла. Никак, — возразил Фрэнк. — Понимаете, что я хочу сказать? — Да. — Когда подростки выдумывают всякие истории, — продолжал Фрэнк, — они обычно не стараются приукрашивать эти истории разными подробностями. Они могут сказать, что за ними гнался мертвец, но не станут расписывать, как этот мертвец приставал к ним. — Да, на это у них ума не хватает, — согласился с подчиненным Брайс. — Они, как правило, врут попроще, без сложностей. — Совершенно верно, — продолжал Фрэнк. — И поэтому, когда она говорит, что Уоргл был совсем голый и что он приставал к ней… н-ну… я как-то больше верю, что она говорит правду. Конечно, всем нам хотелось бы думать, что кто-то пробрался в кладовку и выкрал тело Уоргла. И всем нам хотелось бы думать, что этот кто-то подложил труп в женский туалет. Лиза его там увидела, впала в истерику, а все остальное просто напридумывала. И всем нам хотелось бы думать, что потом, когда она свалилась в обморок, этот кто-то пока еще непонятным нам образом вытащил труп из туалета и где-то его припрятал. Но в таком объяснении масса слабых мест. На самом же деле произошло что-то гораздо более странное и необычное. Брайс бросил карандаш и откинулся в кресле. — Черт возьми, Фрэнк, ты что, веришь в привидения? Или в воскрешение мертвых? — Нет. У всего этого есть какое-то реалистическое объяснение, — ответил Фрэнк. — Не набор суеверий, а настоящее, реалистическое объяснение. — Согласен, — сказал Брайс. — Но ведь лицо Уоргла… — Знаю. Я видел. — Каким образом оно могло восстановиться?! — Не знаю. — И Лиза говорит, что его глаза… — Да. Я слышал, что она говорила. Брайс тяжело вздохнул. — Ты когда-нибудь пытался сложить кубик Рубика? — Нет, а что? — удивленно замигал Фрэнк. — Я пробовал, — сказал шериф. — Эта чертова штуковина чуть не свела меня с ума, но в конечном счете я с ней все-таки справился. Всем она кажется очень трудной головоломкой. Но по сравнению с тем, чем мы тут занимаемся, кубик Рубика — это задачка для детского сада. — Есть еще одно отличие, — добавил Фрэнк. — Какое? — Если не справишься с кубиком Рубика, никто тебя не убьет.
Флетчер Кейл, убийца жены и сына, проснулся в камере окружной тюрьмы в Санта-Мире незадолго до рассвета. Он лежал не шевелясь на тонком поролоновом матрасе и смотрел в окно, где взору его представал небольшой прямоугольный кусок серого предрассветного неба. Нет, он не намерен заканчивать свою жизнь в тюрьме. Не намерен. Ему уготована исключительная, великолепная судьба. Вот чего никто не может понять. Все они видят перед собой только того Флетчера Кейла, который есть сейчас, и не способны разглядеть того, кем он станет. У него будет все: бессчетное количество денег, невообразимая власть, слава, почет и уважение. Так предначертано свыше. Кейл знал, что отличается от толпы, этого огромного человеческого стада; и это знание давало ему силы выдерживать любые удары и повороты судьбы. Посеянные в его душе семена великого предназначения уже прорастали. Со временем он им всем докажет, как они в нем ошибались. «Проницательность, — думал он, глядя в зарешеченное окно, — проницательность — вот мой величайший дар. Моя проницательность, способность постижения не знают себе равных». Насколько он мог судить по собственным наблюдениям, каждым человеком, без единого исключения, движет в жизни его личный интерес. В этом в общем-то нет ничего плохого. Такова уж природа человеческая. Такими люди созданы. Но большинство из них не способно посмотреть в лицо этой истине, признать и принять ее. Люди наизобретали всяческие так называемые вдохновляющие теории — всю эту любовь, дружбу, честь, честность, веру, доверие, всякое там личное достоинство. Они утверждают, что якобы верят во все это и многое другое, подобное, но в глубине-то души они знают, что это — муть, чушь. Они просто не способны признать такое открыто. И потому сами, как дураки, морочат себе головы этими елейными правилами поведения, этими чувствами, внешне красивыми и благородными, но лишенными всякого реального смысла, заглушая тем самым свои подлинные чувства и желания, обрекая самих себя на несчастья и неудачи. Идиоты. Господи, как же он их всех презирает! Со своей, особой точки зрения Кейл видел и понимал, что на самом-то деле род людской — самый безжалостный, опасный и хищный из всех живущих на Земле. Он упивался сознанием этого, наслаждался им. Его распирало от гордости при одной мысли о собственной принадлежности к столь выдающемуся роду. «Я опередил свое время, — подумал Кейл, садясь на край койки и опуская голые ноги на холодный пол камеры. — Я — это следующий этап эволюции. Я поднялся в своем развитии настолько, что мне уже нет необходимости задумываться о морали. Вот почему все смотрят на меня с такой ненавистью. Не потому, что я убил Джоанну и Денни. Меня ненавидят за то, что я лучше их всех, за то, что я гораздо полнее, чем они, олицетворяю собой истинную природу человека». Ему пришлось убить Джоанну, у него просто не было иного выхода. Ведь в конце концов она отказалась дать ему денег. Готова была унизить его в профессиональном отношении, разорить в финансовом, разрушить все его будущее. Ему пришлось ее убить. Она стояла у него поперек дороги. Плохо, что с Денни так получилось. Об этом Кейл даже вроде бы и сожалел. Не всегда. Время от времени. Плохо. Пришлось это сделать, он в общем-то не хотел, но все равно плохо. Правда, Денни всегда был обычным маменькиным сынком. А от отца был всегда далек, не испытывал к нему никакой привязанности. Это все работа Джоанны. Это она ему полоскала мозги, настраивала ребенка против отца. Вот и получилось, что в конечном итоге Денни оказался Кейлу вовсе не сыном. Стал ему чужим. Кейл лег на пол камеры и начал отжиматься. Раз-два, раз-два, раз-два. Он должен держать себя в форме, быть постоянно готовым к тому моменту, когда представится возможность бежать. Он знал совершенно точно, куда он направятся, когда сбежит отсюда. Не на запад, не подальше от своего округа, не в сторону Сакраменто. Это они его станут там искать. Раз-два, раз-два. Он знал, где сможет спрятаться. Отличное место. Прямо здесь, неподалеку. Прямо у них под носом, и никто не станет его там искать. Когда за первые день-другой после побега его не обнаружат, то решат, что отсюда он ускользнул, и перестанут искать в своем округе. Потом пройдет еще несколько недель, и о нем позабудут. Вот тогда-то он и выйдет из своего укрытия, проберется через город и отправится на запад. Раз-два. Но на запад — это после. Первым делом он направится в горы. Там-то и находится его укрытие. Когда он убежит, то лучшее место, чтобы скрыться от копов, — это горы. Так подсказывает ему внутреннее чутье. Горы. Точно. Он чувствовал, что его тянет туда, словно магнитом.
Рассвет пришел в горы, и на небе появилась первая яркая полоска. Она постепенно расширялась, вытесняя собой темноту, растворяя в себе мрак. В лесах, покрывающих склоны гор над Сноуфилдом, было тихо. Очень тихо. Трава, цветы, старые листья — все, что росло и лежало на земле, было усеяно капельками утренней росы. От влажной лесной почвы исходил приятный и сильный пряный запах. Воздух был холодный, как будто последние остатки ночного тумана все еще окутывали землю. На груде известняка, белевшей на склоне горы, там, где лес только начинался, неподвижно застыла лиса. Ветерок слегка вздыбливал ее серебристый мех. Ее дыхание застывало крошечными сверкающими льдинками в холодном и прозрачном утреннем воздухе. Лисы обычно не охотятся по ночам, но эта вышла на охоту примерно за час до рассвета. Она ничего не ела почти два дня. Ей никак не удавалось никого поймать. Все это время в лесу было как-то неестественно тихо и совершенно отсутствовали запахи какой-либо живности, которая могла бы стать ее добычей. За всю свою жизнь, за все годы, что она провела, охотясь в здешних местах, лиса ни разу еще не видела такого пустого и тихого леса. В самые худшие из тяжелых дней, которые случались иногда в разгар зимы, не бывало такой пустоты, как сейчас. Даже в январе, когда ветер наносил горы снега, всегда откуда-нибудь да пахло кровью, откуда-нибудь манила запахом возможная жертва. А сейчас — ничего. Впрочем, не так чтобы совсем уж ничего. Казалось, смерть прибрала все живые существа, что обитали раньше в этой части леса, — за исключением одной-единственной маленькой, голодной лисички. Но не было даже запаха смерти, даже терпкого духа скелета, гниющего где-нибудь под кустами. Перепрыгивая по грудам известняка и стараясь при этом не попадать лапами в трещины и отверстия, через которые можно было угодить прямо в находящиеся под горой пещеры, лисица наконец заметила, что впереди, на склоне горы, что-то движется. Не просто колышется под порывами ветра, а вправду движется. Она замерла наневысоком камне и стала всматриваться вверх, в тени, что лежала под стволами этого нового участка леса. Белка. Две белки. Нет, больше, гораздо больше — пять, десять, двадцать. Они сидели рядышком друг с другом, вытянувшись в одну линию вдоль еще накрытой тенью опушки леса. Вначале не было вообще никакой добычи. Теперь вдруг ее оказалось полно, и это было не менее странно, чем недавняя пустота. Лиса принюхалась. Белки сидели всего в пяти или шести ярдах от нее, но запаха их лиса не чуяла. Белки смотрели прямо на нее, в упор, но, похоже, совершенно не боялись. Лиса наклонила голову вбок и искоса посмотрела на белок. Осторожность боролась в ней с чувством голода. Белки вдруг все сразу, плотной кучкой, устремились влево, а потом высыпали из-под тени деревьев, из-под защиты леса на открытое место, прямо навстречу лисе. Они прыгали, резвились, наскакивали друг на друга, кувыркались, и в порыжевшей осенней траве их бешено мелькающие рыжие хвосты слились в один вращающийся шар. Этот вертящийся шар приближался, а потом вдруг остановился сразу, мгновенно, всего в трех или четырех ярдах от лисицы, и распался. Но теперь это были уже не белки. Лиса судорожно вздрогнула и зашипела. Двадцать маленьких белочек превратились в четырех крупных енотов. Лиса негромко, но угрожающе зарычала. Не обращая на нее никакого внимания, один из енотов встал на задние лапки и принялся умываться. Шерсть на спине у лисицы вздыбилась. Она понюхала воздух. Никакого запаха. Лисица низко пригнула голову и стала внимательно наблюдать за енотами. Все ее лоснящееся тело напряглось, напружинилось каждым своим мускулом — но не потому, что лиса готовилась к нападению. Нет, она собиралась удирать. Что-то здесь было здорово не так. Все четыре енота уселись вдруг на задние лапки, скрестив передние на груди и выставив напоказ мягкие незащищенные животы. Все они наблюдали за лисицей. Лисы обычно не охотятся на енотов. Еноты слишком агрессивны, у них слишком острые зубы, и они умеют очень быстро орудовать когтями. Но и еноты, хотя и чувствуют себя в безопасности по отношению к лисице, сами никогда не ввязываются в противоборство с ней. И уж во всяком случае никогда не ведут себя в ее присутствии так, как эта четверка. Не рисуются и не подставляются. Лисица высунула язык и как будто полизала им холодный воздух. Она снова принюхалась и на этот раз действительно уловила какой-то запах. Уши ее мгновенно прижались к голове, и она зарычала. Это был запах не енотов. И не один из великого множества тех запахов, с которыми лисица сталкивалась в здешних лесах множество раз в своей жизни. Это был какой-то незнакомый, резкий, неприятный запах. Слабый. Но отвратительный и отталкивающий. Этот омерзительный запах исходил не от сидевших перед лисицей четырех енотов. Лисица не могла даже толком разобраться в том, откуда он на самом деле исходит. Почуяв смертельную опасность, лисица круто отвернулась от енотов, хотя ей было очень не по душе подставлять им спину. Царапая и стуча ногтями по плоским, отшлифованным ветрами камням, лисица, вытянув в линеечку хвост, устремилась вниз по склону. Впереди в камнях была трещина шириной примерно с фут. Лиса прыгнула через нее и… …и в самой середине прыжка, прямо в воздухе ее перехватило что-то темное, холодное, пульсирующее. Это что-то вырвалось из трещины с неукротимой силой, с потрясающей быстротой и энергией. Лисица издала короткий и резкий предсмертный вопль. Ее утянуло внутрь, в трещину, так же мгновенно, как она была схвачена. Там, внутри, примерно в пяти футах от поверхности, на дне неглубокой расщелины было отверстие, которое вело в подземные пещеры. Отверстие было слишком маленьким для того, чтобы лиса могла в него пройти, но, хотя она и попыталась сопротивляться, кости ее затрещали и ее затянуло внутрь. Все было кончено. И глазом ее успела моргнуть. Даже еще быстрее. Лисицу всосало под землю раньше, чем ее предсмертный крик успел отразиться эхом от ближайшей горы. Еноты тоже исчезли. Теперь по гладкому известняку струился ручеек мышей-полевок. Их было несколько десятков. Пожалуй, не меньше сотни. Они подошли к краю трещины. Заглянули в нее. Потом одна за другой стали съезжать по краю расщелины, падать вниз и скрываться в маленьком отверстии, которое вело дальше, в пещеры. Вскоре снаружи не осталось уже ни одной полевки. В горах над Сноуфилдом снова установилась полная тишина.
Часть II. ФАНТОМЫ
Зло — не абстрактная категория. Оно существует. Оно материально. Оно способно перемещаться. Оно реально, даже слишком.Доктор Том Дули
Фантомы… Стоит мне только счесть, будто я до конца понял цель, ради которой живет на земле человечество, стоит мне только по глупости своей вообразить, будто я понял смысл жизни… как вдруг я замечаю танцующие где-нибудь в тени фантомы. И эти таинственные фантомы, исполняя гавот, говорят мне так, словно заколачивают каждое слово: «Все, что ты знаешь, маленький человечишко, это пустяк, а то, что тебе еще предстоит узнать, необъятно».Чарлз Диккенс
Глава 21
СЕНСАЦИЯ
Санта-Мира. Понедельник, 1 час 02 минуты ночи.— Слушаю. — Это «Санта-Мира дейли ньюс»? — Да. — Газета? — Девушка, газета закрыта. Сейчас час ночи. — Закрыта?! Вот уж не думала, что газеты когда-нибудь закрываются. — У нас тут не «Нью-Йорк таймс». — А вы разве не печатаете сейчас завтрашний тираж? — Он печатается не здесь. Это делает типография. А тут у нас только редакция. Вам что нужно-то — типографию? — Н-ну… у меня есть для вас один материал. — Если это некролог, или сообщение о благотворительном аукционе в церкви, или еще что-нибудь в этом роде, то позвоните утром после девяти, и тогда… — Нет, нет. Это сенсация, самая настоящая. — Большая распродажа в чьем-нибудь гараже, да? — Что вы сказали? — Ничего, не обращайте внимания. Просто вам придется перезвонить утром. — Погодите, выслушайте меня. Я работаю в телефонной компании. — Ну, это не ахти какая сенсация. — Нет, но именно потому, что я работаю в телефонной компании, я обо всем и узнала. Вы главный редактор? — Нет. Я заведующий отделом рекламы. — Ну-у… может быть, вы все-таки сможете чем-то помочь? — Девушка, я сижу тут всю ночь, с самого воскресного вечера, а сейчас уже утро понедельника, абсолютно один в этой жуткой конуре, которую называют редакцией, и ломаю себе голову над тем, где еще можно выбить заказы, чтобы не дать потонуть этой газетенке. Я устал. Я зол… — Это просто ужасно! — …и я боюсь, что вам все-таки придется перезвонить утром. — Но в Сноуфилде произошло что-то кошмарное. Я не знаю в точности, что именно, но знаю наверняка, что там есть жертвы. Возможно даже, что там много погибших или тех, чья жизнь в опасности. — Господи, по-моему, я устал даже еще сильнее, чем мне казалось. Но меня начинает интересовать то, что вы говорите. Продолжайте. — Все телефонные разговоры, которые идут через Сноуфилд, мы перевели на другие каналы. Отключили автоматическое соединение с городом и ограничили связь с ним. Сейчас туда можно позвонить только по двум номерам, и по обоим отвечают люди шерифа. Все это явно сделано для того, чтобы изолировать город, прежде чем журналисты разузнают, что там что-то происходит. — Девушка, а что вы пили, а? — Я вообще не пью! — Тогда чего накурились? — Послушайте, я еще кое-что знаю! Им все время звонят из департамента шерифа в Санта-Мире, от губернатора штата, с какой-то военной базы в Юте, и они…
Сан-Франциско. Понедельник, 1 час 40 минут ночи.
— Сед Сандович слушает. Чем могу вам помочь? — Я же вам говорю: мне нужен репортер «Сан-Франциско кроникл»! — Это я и есть. — Вот черт! У вас там кто-то трижды вешал трубку. Разговаривать со мной не желают! Вы там что, мать вашу?.. — Потише, потише. Следи за своими выражениями. — Дерьмо! — А ты знаешь, сколько таких вот пацанов, как ты, названивает по редакциям с дурацкими розыгрышами и шутками? — Да? А как вы узнали, что я пацан? — Судя по голосу, тебе лет двенадцать. — Пятнадцать! — Поздравляю. — Дерьмо! — Послушай, сынок, у меня есть свой мальчик твоего возраста, только поэтому я с тобой до сих пор и разговариваю. Другие уже давно повесили бы трубку. Так что если ты действительно имеешь сообщить нечто интересное, выкладывай. — Так вот, мой предок работает профессором в Стэнфорде. Он вирусолог и эпидемиолог. Знаете, что это такое? — Это значит, что он изучает вирусы, разные болезни и тому подобное. — Точно. И он продался. — Это как? — Взял деньги на исследования у этих клёпаных военных. Связался с каким-то заведением, которое занимается биологическим оружием. Считается, что результаты его исследований будут использоваться в мирных целях. Но это все один треп, вы же сами понимаете. Он продал душу дьяволу, и теперь дьявол за ней пришел. — То, что твой отец продался — если он действительно это сделал, сынок, — быть может, и сенсация в вашем доме. Но нашим читателям это вряд ли будет интересно. — Эй, погодите, я вам позвонил не для того, чтобы на него нажаловаться. У меня есть настоящая сенсация. Сегодня за ним приехали. Где-то что-то стряслось. Мне сказали, что он отправляется в командировку на Восточное побережье. Но я прокрался наверх и подслушал за дверью, когда он в спальне рассказывал все старухе. В Сноуфилде какое-то массовое отравление. Не город, а сплошное кладбище. И все стараются удержать это в тайне. — В Сноуфилде? Здесь, в Калифорнии? — Ну да. Я так понял, что они проводили испытания какого-то бактериологического оружия на своем собственном народе и что-то там вышло из-под контроля. А может быть, произошла случайная утечка. Но там творится что-то очень серьезное, это точно. — Как тебя зовут, сынок? — Рики Беттенби. А моего предка — Вильсон Беттенби. — Ты сказал, он работает в Стэнфорде? — Ну. Займетесь этим, а? — Возможно, тут что-то и есть. Но прежде чем я стану звонить в Сноуфилд, мне еще придется о многом тебя расспросить. — Валяйте. Что знаю, скажу. Я хочу, чтобы это все раскрылось, понимаете? Он должен заплатить за то, что продался. На протяжении всей ночи то в одном месте, то в другом происходила какая-нибудь утечка информации. Эти утечки следовали одна за другой. На военной базе в Дагвэе, штат Юта, какой-то офицер, который должен был бы понимать, что делает, воспользовался обычным телефоном-автоматом, чтобы позвонить в Нью-Йорк и рассказать все, что знал, своему горячо любимому младшему братишке, который работал репортером-стажером в «Таймс». Помощник губернатора рассказал обо всем в постели своей любовнице, которая тоже была журналисткой. Так в плотине секретности одна за другой возникали трещины и течи, и в результате очень скоро слабая струйка информации превратилась в бурлящий поток. К трем часам ночи коммутатор департамента полиции округа Санта-Мира уже задыхался от звонков. К рассвету в Санта-Миру начали съезжаться репортеры газет, радио и телевидения. Несколько часов спустя вся улица перед зданием полиции оказалась забита их машинами, фургонами телевизионных станций из Сакраменто и Сан-Франциско, самими журналистами и просто зеваками всех возрастов. Полицейские отчаялись убрать эту толпу с проезжей части: людей было слишком много и на тротуарах бы они просто не уместились. Поэтому полиция перекрыла квартал своими загородками и превратила его в один большой пресс-клуб под открытым небом. Несколько предприимчивых подростков из расположенных здесь домов принялись торговать вразнос печеньем и бутербродами, а потом поставили на улице столы, протянули из квартир длиннющие провода из соединенных вместе удлинителей — где они их только отыскали так быстро и в таком количестве! — и стали предлагать желающим горячий кофе. Их прилавок быстро превратился в своеобразный центр, где журналисты обменивались слухами, обсуждали новости и различные версии происходящего в ожидании самых последних официальных сообщений. Часть журналистов рыскала в это время по Санта-Мире, стараясь разыскать тех, у кого в Сноуфилде были друзья или родственники или кто был хоть как-то связан с находившимися там сейчас полицейскими. Третья группа журналистов разбила лагерь возле полицейского поста в том месте, где от дороги штата отходило шоссе на Сноуфилд. Несмотря на весь этот бедлам, в городе не собралась еще даже половина ожидавшегося количества журналистов. Многие представители прессы Восточного побережья и иностранные журналисты находились еще в пути. Для местных властей, которые пытались как-то справиться и с кризисом, и с неразберихой, главные трудности были еще впереди. К полудню понедельника здесь начнется настоящий цирк.
Глава 22
УТРО В СНОУФИЛДЕ
Как только рассвело, у шлагбаума на шоссе в том месте, где стояло внешнее ограждение зоны карантина, появились два небольших фургона, которыми управляли люди из отдела дорожной полиции штата Калифорния. В фургонах были коротковолновая радиостанция и два электрогенератора с бензиновыми движками. Машины пропустили через шлагбаум, они проехали примерно полпути по четырёхмильному шоссе на Сноуфилд и остановились на обочине. Тут их и оставили. Когда полицейские, сидевшие за рулем в этих фургонах, вернулись назад к шлагбауму, оттуда в департамент полиции в Санта-Мире — где был штаб операции — передали по радио сообщение, что машины оставлены. Штаб, в свою очередь, сообщил об этом Брайсу Хэммонду в гостиницу «На горе». Тал Уитмен, Фрэнк Отри и еще двое полицейских сели в свою машину, доехали до середины шоссе и забрали оставленные там фургоны. Все эти сложные манипуляции нужны были для того, чтобы избежать распространения инфекции, которая, возможно, поразила городок и его жителей, за пределы карантинной зоны. Радиостанцию установили в вестибюле гостиницы, в углу. Отправили пробное сообщение в штаб, в Санта-Миру, получили оттуда ответ. Теперь, если что-то опять произойдет с телефонами, они не окажутся в полной изоляции. В течение следующего часа один из генераторов подключили к сети уличного освещения на западном конце Скайлайн-роуд. Другой подсоединили к системе электроснабжения гостиницы. Так что если следующей ночью электричество снова станет каким-то таинственным образом отключаться, то автоматически заработают генераторы и темнота продлится всего секунду-другую. Брайс был убежден, что даже их неизвестный враг не сможет за столь короткое время напасть и утащить свою жертву.Утреннее мытье при помощи губки не доставило Дженни Пэйдж удовольствия. Но завтрак, состоявший из яиц, тонко нарезанной ветчины, тостов и кофе, оказался хорош и поднял ее настроение. Позавтракав, она в сопровождении трех до зубов вооруженных полицейских прошлась пешком по улице до своего дома и взяла там чистую одежду для себя и для Лизы, чтобы было во что переодеться. Она заглянула и к себе в кабинет, прихватив оттуда стетоскоп, прибор для измерения кровяного давления, лопаточки, которыми прижимают язык при осмотре горла, ватные тампоны, марлю, шины, бинты, жгуты, антисептики и антибиотики, одноразовые шприцы, обезболивающие средства и другие лекарства и инструменты, которые могли пригодиться, если бы возникла необходимость оборудовать в вестибюле гостиницы походный госпиталь. В доме стояла полная тишина. Полицейские нервно оглядывались по сторонам и в каждую следующую комнату заходили с такими предосторожностями, будто ожидали, что там над дверью укреплена взведенная гильотина. Когда Дженни уже заканчивала собирать все необходимое у себя в кабинете, вдруг зазвонил телефон. Все удивленно уставились на него. Они хорошо знали, что во всем городе работают только два телефона и оба находятся в гостинице «На горе». Телефон зазвонил снова. Дженни сняла трубку, но не стала ничего говорить в нее. В трубке молчали. Она немного подождала. Мгновение спустя она услышала донесшиеся откуда-то издалека крики чаек. Потом жужжание пчел. Тонкое мяуканье котенка. Детский плач. Детский смех, но уже другого ребенка. Тяжелое дыхание собаки. Предупреждающий стук гремучей змеи. Вчера вечером в полицейском участке Брайс тоже слышал по телефону такие же звуки, а потом появился этот гигантский мотылек, который бился в окно. Брайс говорил, что это были самые обычные и естественные звуки, и тем не менее они вызвали у него какое-то тревожное чувство, хотя он и не мог объяснить, чем именно они его встревожили и почему. Теперь Дженни поняла, что он должен был тогда испытывать. Пение птиц. Кваканье лягушек. Довольное урчание кота. Урчание перешло в шипение. Шипение — в рассерженное мяуканье. А оно — в короткий, но пронзительный и ужасный вопль боли. Потом послышался голос: — Все равно я трахну твою смачную сестренку, поняла? Дженни узнала этот голос. Уоргл. Тот мертвый полицейский. — Ты меня слышишь, док? Она молчала. — И со всех сторон, с каких захочу. — Голос захихикал. Она бросила трубку. Полицейские вопросительно смотрели на нее. — Молчат, никого нет, — проговорила она, решив не рассказывать им об услышанном. Им и так было заметно не по себе. Из дома Дженни все направились в аптеку Тэйтона на Вейл-лэйн, где она набрала еще лекарств: болеутоляющие средства, антибиотики, коагулянты и антикоагулянты, и многое другое, что могло бы, в случае чего, оказаться полезным. Когда они уже были готовы выходить из аптеки, зазвонил телефон. Дженни оказалась к нему ближе всех. Ей очень не хотелось снимать трубку, но она все-таки не удержалась. Это снова было оно. Дженни помолчала немного, потом спросила: — Алло? — Я твою сестричку так заделаю, что она потом неделю ходить не сможет, — произнес Уоргл. Дженни повесила трубку. — Опять никого, — сказала она полицейским. Вряд ли они ей поверили: все трое не могли оторвать взгляда от ее трясущихся рук.
Брайс сидел за столом в импровизированном оперативном центре и разговаривал по телефону со штабом в Санта-Мире. Проверка Тимоти Флайта по картотекам ничего не дала. В розыске он не значился ни в Соединенных Штатах, ни в Канаде. ФБР никогда о нем не слышало. Имя, которое кто-то написал на зеркале в гостинице «При свечах», по-прежнему было покрыто тайной. Но полиция Сан-Франциско смогла сообщить кое-что об исчезнувших супругах Орднэй, в гостиничном номере которых было обнаружено имя Тимоти Флайта. Супругам Орднэй принадлежали в Сан-Франциско два книжных магазина. Один из них был самым обычным и обслуживал рядовых покупателей. Другой специализировался на торговле антикварными и редкими изданиями и, по-видимому, приносил более значительную прибыль. В среде библиофилов супруги Орднэй были известны и пользовались уважением. По словам остававшихся в Сан-Франциско членов семьи, Гарольд и Бланш Орднэй отправились под уик-энд на четыре дня в Сноуфилд, чтобы таким образом отметить тридцать первую годовщину своей совместной жизни. Члены семьи никогда не слышали ни о каком Тимоти Флайте. Полицейским разрешили просмотреть личные записные книжки супругов Орднэй, но и там фамилия Флайт ни разу не упоминалась. Полиция не успела еще поговорить ни с кем из работ-пиков книжных магазинов: она это сделает сразу после десяти часов утра, как только магазины откроются. Флайт, видимо, один из тех, с кем Орднэй поддерживали деловые отношения, и работникам магазинов должно быть известно это имя. — Держите меня в курсе, — сказал Брайс полицейскому, дежурившему в штабе в Санта-Мире. — Что у вас там делается? — Столпотворение вавилонское. — Погодите, будет еще хуже. Когда Брайс клал трубку, вошла Дженни Пэйдж, вернувшаяся из своего похода за лекарствами и медицинскими инструментами. — Где Лиза? — спросила она. — На кухне, вместе с кухонным нарядом, — ответил Брайс. — С ней все в порядке? — Конечно. С ней там трое здоровых, сильных и хорошо вооруженных ребят. А в чем дело, что-нибудь случилось? — Потом расскажу. Брайс дал новые распоряжения тем полицейским, что сопровождали Дженни в ее походе, а потом помог ей оборудовать что-то вроде полевого лазарета в одном из углов вестибюля. — Наверное, зря мы стараемся, — сказала она. — Почему? — Пока что раненых не было. Одни убитые. — Ну, все может измениться. — Мне кажется, оно наносит удар только тогда, когда твердо намерено убить. Полумер оно не признает. — Возможно. Но мои парни здесь нервничают, они все на пределе и у всех оружие, так что я не удивлюсь, если кто-нибудь в кого-то случайно пальнет или даже прострелит сам себе ногу. Расставляя склянки с лекарствами в ящике стола, Дженни проговорила: — Когда мы были у меня дома, а потом в аптеке, и тут, и там звонил телефон. Это был Уоргл. Она пересказала Брайсу содержание обоих разговоров. — Вы уверены, что это был действительно он? — Я очень хорошо помню его голос. Такой неприятный. — Но, Дженни, он же был… — Я знаю, знаю. Ему объели все лицо, из него выели мозг, высосали всю кровь. Знаю. И мне чертовски хочется понять, в чем же тут дело. — Может быть, кто-то просто имитирует его голос? — Если так, то этот кто-то — воистину великий актер. — А его голос не напоминал… — Брайс оборвал фразу на полуслове, одновременно с Дженни они повернулись на звук бегущих шагов, и тут в арке, служившей входом в залы ресторана, появилась Лиза. — Пойдемте! Быстро! — замахала им девочка рукой. — На кухне происходит что-то странное! Прежде чем Брайс успел остановить ее, Лиза повернулась и побежала обратно. Несколько полицейских, на ходу доставая оружие, бросились было за ней, но Брайс приказал им остановиться: — Оставайтесь тут! И занимайтесь своим делом! Дженни уже давно сорвалась с места и умчалась вслед за сестрой. Брайс поспешил за ними, нагнал по дороге Дженни, обогнал ее, вытаскивая на бегу револьвер, и с ходу влетел вслед за Лизой на кухню гостиницы. Трое полицейских, которые были сегодня в кухонном наряде — Горди Брогэн, Генри Уонг и Макс Данбар, — побросали то, чем занимались, и тоже стояли с оружием в руках, но явно не могли сообразить, в какую сторону надо его направлять. Растерянные и смущенные, они смотрели на Брайса, словно извиняясь.
Глава 23
ОСОБАЯ БРИГАДА
Под яркими лучами утреннего солнца Сноуфилд выглядел особенно мирным, спокойным и как будто только что вычищенным и свежеумытым. Воздух был кристально чист. Легкий ветерок слегка колыхал ветви деревьев. На небе ни облачка. Вместе с Брайсом, Фрэнком, доктором Пэйдж Тал вышел из гостиницы, за ним шли еще несколько полицейских. Он взглянул на солнце, и вид этого яркого диска вдруг пробудил в памяти Тала детские воспоминания из тех времен, когда он еще жил в Гарлеме. Тогда он обычно покупал дешевые конфетки в газетном киоске Боаз, что стоял в конце того квартала, где жили они с тетушкой Бекки. Больше всего ему нравились лимонные леденцы — маленькие, круглые, немного похожие на застывшие капли. Они были какого-то особенного желтого цвета: такого оттенка он никогда и нигде больше не видел. И вот сегодня утром у солнца оказался вдруг точно такой же желтый цвет, и оно висело в небе, похожее на гигантский леденец, заставляя с поразительной яркостью вспомнить, как выглядел киоск Боаз, как там пахло, какие звуки жили в нем и вокруг него. Подошла Лиза и встала рядом с Талом. Все, кто вышел из гостиницы, собрались сейчас на тротуаре и смотрели вдоль идущей под уклон главной улицы, ожидая появления бригады особого назначения из отдела бактериологической защиты. Внизу, под горой, ничего движущегося видно не было. Никакие звуки не отражались эхом от склонов гор. Команда генерала Копперфильда явно была еще далеко. Ожидая под лимонного цвета солнцем появления этой команды, Тал раздумывал: находится ли еще на прежнем месте киоск Боаз, работает ли он. Скорее всего он пополнил собой длинную череду тех заброшенных маленьких магазинчиков, что стоят нынче разгромленные, разграбленные, замусоренные и изгаженные. А может быть и так, что теперь он продает газеты, журналы, сигареты и карамель только для отвода глаз, а на самом деле живет тем, что торгует из-под прилавка наркотиками. С возрастом Тал все острее подмечал в окружающем его мире признаки деградации и распада. Ранее вполне благополучные кварталы и районы вдруг на глазах приходили в упадок, а те, что и прежде были запущенными, теперь превратились в трущобы. Порядок уступал место хаосу. Это проявлялось в массе самых разных вещей. Каждый год становилось все больше самоубийств. Люди употребляли все больше и больше наркотиков. Постоянно росло число разбойных нападений, изнасилований, квартирных краж. От того, чтобы не разувериться окончательно в будущем всего человечества и не превратиться в пессимиста, Тала спасала только горячая убежденность в том, что хорошие люди — такие, как Брайс, Фрэнк, доктор Пэйдж или его тетушка Бекки, — обладают способностью останавливать надвигающийся вал всеобщего распада и даже время от времени могут заставить его отступить. Но здесь, в Сноуфилде, его вера в силу и способности хороших людей, нужность и полезность ответственных действий и поступков подвергалась тяжелейшему испытанию. Зло, с которым они тут столкнулись, казалось непобедимым. — Тихо! — произнес Горди Брогэн. — По-моему, я слышу шум моторов. Тал посмотрел на Брайса: — Я думал, они приедут где-то около полудня, а они добрались на целых три часа быстрее. — Полдень мы считали самым крайним сроком, — ответил Брайс. — Копперфильд хотел приехать даже еще раньше, если бы удалось. Судя по разговору, который у меня с ним был, он жесткий парень, привык делать дело и брать быка за рога и умеет добиваться от своих людей того, что ему нужно. — Вроде вас, да? — спросил Тал. Брайс пристально посмотрел на него своими как бы сонными глазами, почти скрытыми под полуопущенными тяжелыми веками. — Вроде меня? Я что, жесткий? Да я мягкий, как котенок. — Скорее уж как пантера, — усмехнулся Тал. — Едут! В самом конце Скайлайн-роуд показался большой грузовик, и звук натужно работающего мотора, приближаясь, становился все громче и громче.Бригада гражданской обороны особого назначения из отдела бактериологической защиты прибыла на трех больших грузовиках. Дженни стояла на тротуаре и смотрела, как они медленно ползли вверх по длинному пологому подъему, приближаясь к гостинице «На горе». Возглавлял эту процессию сияющий белой краской «дом на колесах», громоздкий бегемот длиной в тридцать шесть футов, несколько видоизмененный по сравнению с другими такими домами. По бокам у него не было ни дверей, ни окон. Значит, единственная входная дверь должна была находиться сзади. Ветровое стекло кабины водителя, цельное и глубоко загибающееся по бокам, было затемненным, причем очень сильно затемненным, так что внутренняя часть кабины оставалась снаружи невидимой, и кроме того, казалось, что это стекло было гораздо толще того, какое ставится на подобные серийные дома. На фургоне не было никаких обозначений, как-то указывающих на его предназначение или же на принадлежность, и уж тем более ничто не указывало на его принадлежность к вооруженным силам. Номерной знак был самым обычным, калифорнийским. Значит, команда генерала Копперфильда предпочитает путешествовать, не раскрывая своего инкогнито. За первым «домом на колесах» шел второй такой же. Замыкал колонну грузовик без номера, который тащил прицеп, выкрашенный обычной серой краской. Стекла в кабине грузовика были тоже толстые как броня и затемненные. Не будучи уверен, что водитель самой первой машины заметил их группу, стоявшую перед входом в гостиницу, Брайс вышел на проезжую часть и помахал над головой руками. То, что находилось внутри «домов на колесах» и грузовика, было явно очень тяжелым, потому что моторы всех трех машин ревели натужно, а сами машины ползли вверх по улице крайне медленно, вначале не быстрее десяти миль в час, потом — уменьшив скорость до пяти, потом даже еще медленнее, содрогаясь от натуги и рева. Добравшись наконец до гостиницы, они проехали мимо, сделали на углу правый поворот и въехали на боковую улицу. Дженни, Брайс и все остальные тоже свернули за угол на эту улицу в тот самый момент, когда колонна подъехала к тротуару и остановилась. Если центральная улица в Сноуфилде поднималась в гору, то все пересекавшие ее в направлении с востока на запад располагались как бы уступами вдоль горного склона. Здесь, конечно, было гораздо удобнее и надежнее расположить три прибывших фургона, чем на довольно крутой Скайлайн-роуд. Дженни стояла на тротуаре и глядела на заднюю дверь первого «дома на колесах», ожидая, когда оттуда кто-нибудь выйдет. Три перетруженных, перегретых двигателя один за другим смолкли, и на городок снова опустилась давящая тишина. Впервые за все время после вчерашнего вечера, когда они приехали в Сноуфилд, настроение у Дженни было по-настоящему приподнятое. Наконец-то приехали специалисты! Как большинство американцев, она истово верила в специалистов в какой-нибудь области и относилась к ним с огромным доверием. Пожалуй, она верила в них даже сильнее, чем обычный человек: ведь она же и сама была представительницей племени специалистов, женщиной из науки. Теперь уж они скоро разберутся, что же именно убило Хильду Век, Либерманов и всех остальных. Специалисты приехали. Кавалерия прибыла и вступает в бой. Первой открылась задняя дверца грузовика, и оттуда начали выпрыгивать люди. Все они были одеты в специальные костюмы, предназначенные для действий в биологически зараженной местности. Это были белые герметичные виниловые костюмы, внешне напоминающие скафандры астронавтов, с большими шлемами, закрытыми спереди крупными и прозрачными пластинами из плексигласа. На спине у каждого были баллончик со сжатым воздухом и похожая на ранец система очистки и регенерации отходов жизнедеятельности. Как ни странно, но сперва Дженни даже не подумала о том, что эти люди похожи на астронавтов. Скорее они напомнили ей приверженцев какой-то странной религии, облачившихся в торжественные ритуальные одеяния. Из грузовика выпрыгнули уже человек пять или шесть и продолжали появляться все новые, и только тут Дженни вдруг поняла, что все они вооружены. Выскочившие из грузовика люди быстро оцепили колонну со всех сторон, встав спиной к грузовикам между своими машинами и теми, кто был на тротуаре. Люди эти явно не были специалистами. Это были солдаты охраны. На шлемах, прямо над лицевыми панелями, были трафаретом нанесены их имена и звания: «СЕРЖАНТ ХАРКЕР», «РЯДОВОЙ ФОДОР», «РЯДОВОЙ ПАСКАЛЛИ», «ЛЕЙТЕНАНТ АНДЕРХИЛЛ». Они выставили перед собой автоматы и образовали вокруг колонны защищенное пространство, всем своим видом давая решительно понять, что не допустят никого внутрь этого пространства. Дженни к своему ужасу и удивлению вдруг обнаружила, что прямо ей в лицо смотрит ствол автомата. — Что, черт побери, все это значит? — спросил Брайс, делая шаг по направлению к солдатам. Сержант Харкер, стоявший ближе всех к Брайсу, направил свой автомат вверх и дал короткую предупредительную очередь. Брайс мгновенно застыл на месте. Тал и Фрэнк автоматически потянулись за оружием. — Отставить! — закричал Брайс. — Не стрелять, черт возьми! Мы же все делаем одно дело! Один из солдат заговорил. Это был лейтенант Андерхилл. Голос его исходил из небольшой, размером не больше шести квадратных дюймов коробочки радиоусилителя, укрепленной на груди, и звучал как из консервной банки: «Пожалуйста, не подходите к машинам. Наша главная обязанность — обеспечивать неприкосновенность лабораторий, и мы сделаем это любой ценой». — Черт возьми, — сказал Брайс, — мы ведь на вас не нападаем, верно? Я же первый вас сюда и вызвал! — Не подходите, — повторил Андерхилл. Наконец-то открылась задняя дверь первого «дома на колесах». Из нее вышли четверо, одетые в такие же костюмы, но это были уже не солдаты. Двигались они неторопливо и были не вооружены. Одна из них оказалась женщиной: Дженни увидела под шлемом на редкость красивое восточное лицо. Имена, написанные на шлемах, были без званий: БЕТТЕНБИ, ВАЛЬДЕЗ, НАЙВЕН, ЯМАГУТИ. Это были гражданские врачи и ученые, которые, в случае объявления химической или бактериологической тревоги, бросали свою мирную жизнь и работу где-нибудь в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле или других городах Западного побережья и поступали в распоряжение генерала Копперфильда. По словам Брайса, таких бригад было три: одна предназначалась для действий на Восточном побережье страны, вторая — на Западном и третья — на Юге и в штатах, прилегающих к Мексиканскому заливу. Из второго «дома на колесах» вышли шестеро. ГОЛДСТЕЙН, РОБЕРТС, КОППЕРФИЛЬД, ХОУК. Еще у двоих имена на скафандрах указаны не были. Оставаясь внутри оцепления, эти шестеро прошли вперед в присоединились к Беттенби, Вальдезу, Найвену и Ямагути. Десятка о чем-то посовещалась при помощи внутреннего переговорного устройства. Дженни видела, что губы говоривших шевелятся за плексигласовыми лицевыми панелями, но из укрепленных на груди коробочек не раздавалось ни слова. Отсюда можно было заключить, что они могут общаться как с внешним миром, так и только между собой и в данный момент они избрали второй вариант. «Но зачем? — удивилась про себя Дженни. — Им ведь нечего от нас скрывать. Или есть что?» Генерал Копперфильд, самый высокий из новоприбывших двадцати человек, отделился от стоявшей позади первого грузовика группы, вышел на тротуар и подошел к Брайсу. Брайс начал наступление первым, не дожидаясь, пока генерал перехватит инициативу: — Генерал, я требую объяснений! Почему нас держат тут под прицелом? — Извините, — проговорил генерал. Он повернулся к стоявшим с каменными лицами часовым и скомандовал: — Все в порядке, ребята. Можно не напрягаться. Вольно! Поскольку за спиной у них были баллоны с воздухом и ранцы систем жизнеобеспечения, солдаты не смогли занять правильную стойку «вольно». Но, как хорошо отлаженная машина, они все одновременно опустили автоматы стволами вниз, расставили ноги ровно на двенадцать дюймов, опустили руки по швам и застыли так, глядя прямо перед собой. Брайс был прав, говоря Талу, что генерал Копперфильд — жесткий парень. Для Дженни тоже было совершенно очевидно, что проблем с дисциплиной в его подразделении нет. — Так лучше? — спросил Копперфильд, снова поворачиваясь к Брайсу и улыбаясь ему через щиток шлема. — Лучше, — ответил Брайс. — Но я все равно требую объяснений. — Обычные СПД, — сказал Копперфильд. — Стандартные правила действий. Это часть их обычной подготовки. Мы не имеем ничего против вас или ваших людей, шериф. Ведь вы же шериф Хэммонд, верно? Я вас запомнил еще с прошлогодней конференции в Чикаго. — Да, сэр, я — Хэммонд. Но вы пока еще не дали мне убедительного объяснения. СПД я принять всерьез не могу. — Не надо повышать голос, шериф. — Облаченной в перчатку рукой Копперфильд похлопал себя по закрепленной на груди коробочке. — Это не только громкоговоритель. Там еще стоит и очень чувствительный микрофон. Видите ли, когда мы отправляемся в местность, которая подверглась химическому или бактериологическому заражению, то исходим из того, что на нас могут накинуться толпы больных и умирающих людей. Но у нас просто нет необходимого оборудования и возможностей, чтобы лечить их или хотя бы только раздавать успокоительные средства. Мы — исследовательская бригада. Мы должны не лечить, а только изучать все патологические формы. Наша задача — максимально полно выявить природу и характер заражения, тогда вслед за нами смогут прийти бригады медиков со всем необходимым и они займутся теми, кто уцелеет к тому времени. Но умирающим, измученным людям, возможно, трудно будет растолковать, что мы не можем их лечить. Они могут напасть на наши передвижные лаборатории просто от гнева и отчаяния. — И от страха, — сказал Тал Уитмен. — Совершенно верно, — согласился генерал, не заметив или сделав вид, будто не уловил иронии, с какой были произнесены эти слова. — Мы проигрывали возможные психологические ситуации, и этот анализ показал, что вероятность таких нападений вполне реальна. — А если больные и умирающие люди и вправду попытались бы помешать вашей работе, — спросила Дженни, — вы что, стали бы в них стрелять? Копперфильд повернулся к ней. Солнце отразилось в щитке его шлема, превратив лист плексигласа в зеркало, и какое-то время Дженни не могла разглядеть скрывающееся под шлемом лицо. Генерал слегка изменил позу, и лицо его снова стало видно, но все же не настолько хорошо, чтобы Дженни могла рассмотреть, как он выглядит. Лицо как бы зависло внутри шлема, обрамленное им, но в отрыве от всего остального. — Вы, как я понимаю, доктор Пэйдж? — спросил генерал. — Да. — Так вот, доктор, если какие-нибудь террористы или агенты иностранного правительства совершили бы акт бактериологической войны против американского города или местности, то моей задачей и задачей подчиненных мне людей было бы выделить микроб, определить его и предложить возможные средства противодействия. Это очень большая ответственность. И если мы позволим кому-нибудьпомешать нам, пусть даже это будут страдающие жертвы нападения, то опасность распространения заразы увеличится во много раз. — Значит, — продолжала нажимать на него Дженни, — если бы больные и умирающие люди попытались помешать вашей работе, вы бы стали в них стрелять. — Да, — честно ответил он. — Даже порядочным людям иногда приходится выбирать из двух зол меньшее. Дженни посмотрела на Сноуфилд, который и сейчас, в ярком солнечном свете, выглядел таким же кладбищем, каким казался вчера в вечерних сумерках. Генерал Копперфильд был прав. Любые меры, которые могли понадобиться для защиты его бригады, оказались бы меньшим злом. Зло большее уже произошло в этом городе — и продолжало происходить еще и сейчас. Теперь она уже сама не понимала, с чего вдруг так на него набросилась. Может быть, потому, что представляла себе генерала и его бригаду как кавалерию, которая прискачет и мгновенно выиграет бой, решит исход сражения. Ей подсознательно хотелось, чтобы с прибытием Копперфильда все вопросы сами собой мгновенно разъяснились, все проблемы автоматически решились. Когда она поняла, что ничего подобного не произойдет, когда на нее даже наставили автомат, все мечты исчезли в одно мгновение. И она совершенно иррациональным образом сочла генерала виновным в этом. На нее это было совсем непохоже. Значит, за прошедшую ночь нервы у нее сдали гораздо сильнее, чем она сама думала. Брайс начал представлять своих людей генералу, но Копперфильд прервал его: — Извините, шериф, я не хочу показаться невежливым, но у нас нет времени на представления. Это все потом. А сейчас надо начинать делать дело. Я хочу осмотреть все то, о чем вы рассказали мне вчера по телефону, и сразу после этого начинать проводить вскрытия. «Он не хочет взаимного представления, потому что нет смысла тратить время на знакомство с людьми, которые, возможно, обречены и скоро умрут, — подумала Дженни. — Если в ближайшие несколько часов у пас разовьются симптомы какой-нибудь болезни, если эта болезнь поражает мозг и если мы сойдем с ума и попытаемся напасть на его лаборатории, ему будет легче перестрелять нас, не успев с нами познакомиться и узнать нас поближе». — Прекрати это! — сердито приказала она самой себе. Она посмотрела на Лизу и подумала: «Господи, сестренка, если я в таком раздрызге, то в каком же состоянии должна быть ты?! А тем не менее ты держишься молодцом, не хуже всех остальных. Отличная ты у меня сестренка, честное слово!» — Прежде чем мы вам все покажем, — сказал Брайс, обращаясь к Копперфильду, — должен рассказать вам кое о чем, что мы видели прошедшей ночью и что… — Нет, нет, — нетерпеливо перебил его Копперфильд. — Я хочу пройти последовательно по всем стадиям, шаг за шагом. Начнем с того, что вы увидели, когда приехали в город. Потом у нас будет масса времени и вы сможете рассказать мне, что случилось прошлой ночью. Давайте начнем. — Но, видите ли, вполне вероятно, что население городка было уничтожено вовсе не болезнью, — запротестовал Брайс. — Мои люди прибыли для того, чтобы удостовериться, не было ли тут факта бактериологического нападения, — сказал генерал. — Это мы и будем выяснять в самую первую очередь. Потом мы сможем рассмотреть и другие версии. СПД, шериф. Брайс отправил почти всех своих людей назад в гостиницу, оставив с собой только Тала и Фрэнка. Дженни взяла Лизу за руку, и они вдвоем тоже направились к гостинице. — Доктор! — окликнул ее Копперфильд. — Погодите минутку. Я бы хотел, чтобы вы нас сопровождали. Вы оказались тут самым первым врачом. И если состояние трупов за ночь изменилось, вы это обнаружите быстрее всех. Дженни посмотрела на Лизу: — Пойдешь с нами? — Опять в ту булочную? Нет уж, спасибо. — Девочку даже передернуло. Вспомнив о нежном, похожем на детский, голосочке, который исходил из раковины мойки, Дженни сказала: — Не заходи на кухню. И если тебе понадобится в туалет, попроси, чтобы кто-нибудь тебя сопровождал. — Дженни, но они же все парни! — Мне на это наплевать. Попроси Горди. Он постоит около кабинки, повернувшись к тебе спиной. — Ой, мне будет так неудобно. — Хочешь опять оказаться одна в таком же положении? Вся кровь отлила у девочки от лица, она стала белее снега: — Нет, ни за что! — Вот и хорошо. И будь все время рядом с другими. В полном смысле слова рядом. Не в одной и той же комнате, но в одном и том же углу или месте. Обещаешь мне? — Обещаю. Дженни подумала о двух утренних телефонных звонках от Уоргла, о его страшных угрозах. Конечно, это были угрозы мертвеца и в этом смысле им можно было не придавать значения. Но все же Дженни была не на шутку напугана. — Ты тоже будь осторожна, — сказала Лиза. Дженни поцеловала сестру в щеку: — Ну, а теперь беги, догоняй Горди, пока он не повернул за угол. Лиза помчалась, крича вслед полицейскому: — Горди! Подожди! Глядя вслед убегающей по вымощенному камнями тротуару Лизе, Дженни почувствовала, как у нее защемило сердце. Она вдруг подумала: «А что, если, когда я вернусь, ее уже не будет? Что, если я никогда больше не увижу ее живой?»
Глава 24
ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС
Булочная Либерманов.Брайс, Тал, Фрэнк и Дженни вошли на кухню. Прямо за ними следом шли генерал Копперфильд и девять ученых из его группы, а сзади замыкали шествие четыре солдата с автоматами в руках. На кухне получилось столпотворение, и от этого Брайс чувствовал себя тут очень неуютно. Что, если сейчас, когда они сгрудились тут целой кучей, на них нападут? Что, если им придется поспешно отступать отсюда? Две отрезанные головы лежали на том же самом месте, где они оставили их накануне вечером: в печах, уставившись сквозь стекло вытаращенными глазами. На рабочем столе отрезанные руки по-прежнему сжимали скалку. Один из членов бригады генерала, Найвен, сделал с разных точек несколько снимков общего вида кухни, потом еще раз десять сфотографировал вблизи головы и руки. Все остальные переходили в это время от одной стенки к другой, стараясь не попадать в объектив аппарата. Вначале все должно было быть сфотографировано, только потом можно было приступать к расследованию. Что ж, полиция, прибывая на место преступления, обычно тоже следует этому правилу. Когда одетые в свои космические скафандры ученые переходили с места на место, их прорезиненные костюмы издавали визжащий звук, а тяжелые ботинки громко стучали по выложенному кафелем полу. — Вы все еще полагаете, что это похоже на обычное бактериологическое заражение? — спросил Брайс генерала. — Не исключено. — В самом деле? — Фил, вы тут у нас специалист по нервно-паралитическим газам, — проговорил генерал. — Вам не приходит в голову то же самое, что и мне? — Пока еще рано что-нибудь утверждать категорически, — на вопрос генерала ответил человек, на шлеме которого было написано ХОУК. — Но мне кажется, что мы имеем тут дело с нейролептическим отравлением. А кое-какие детали — и прежде всего проявленное тут крайнее психопатическое насилие — заставляют меня думать, не сталкиваемся ли мы тут с применением Т-139. — В высшей степени вероятно, — согласился Копперфильд. — Я сразу об этом подумал, как только мы вошли сюда. Найвен продолжал фотографировать, и Брайс спросил: — А что такое этот Т-139? — Один из основных нервно-паралитических газов в арсенале у русских, — ответил генерал. — Полное его обозначение «Тимошенко-139». Назван так по имени Ильи Тимошенко, ученого, который изобрел этот газ. — Хороший памятник, ничего не скажешь, — с сарказмом произнес Тал. — Большинство нервно-паралитических газов вызывают наступление смерти в течение тридцати секунд — пяти минут после контакта газа с кожным покровом, — сказал Хоук. — Но Т-139 не столь милосерден. — Милосерден?! — пораженно воскликнул Фрэнк Отри. — Т-139 не просто убивает, — объяснил Хоук. — Обычная смерть от отравляющего газа действительно может показаться актом милосердия по сравнению с тем, что делает этот газ. Т-139 принадлежит к числу отравляющих веществ, которые военные называют деморализующими. — Он проходит через кожу и попадает в кровь меньше чем за десять секунд, — добавил генерал Копперфильд, — потом доходит вместе с кровью до мозга и мгновенно вызывает в его клетках необратимые изменения и нарушения. — На протяжении первых четырех — шести часов после поражения, — продолжал Хоук, — жертва полностью сохраняет и физические силы, и способность действовать. В этот период страдает только ее мозг. — Возникает параноидальное умопомешательство, — сказал Копперфильд. — Теряется способность логически мыслить, появляются чувства страха, ярости; утрачивается эмоциональный самоконтроль, возникает сильнейшая мания преследования, ощущение, будто абсолютно все замышляют против вас нечто очень скверное. И все это происходит на фоне развивающейся тяги к насилию. Короче говоря, шериф, газ Т-139 на период от четырех до шести часов превращает людей в роботов-убийц. Они начинают нападать друг на друга и на тех, кто находился вне зоны поражения и не подвергся воздействию газа. Можете себе представить, какое деморализующее влияние все это окажет на противника. — Да уж, действительно, — проговорил Брайс. — А доктор Пэйдж вчера вечером первым делом предположила что-то подобное: что какие-нибудь мутанты-бактерии могли вызвать гибель одних людей, а других превратить в свихнувшихся бешеных убийц. — Т-139 не болезнь, — немедленно уточнил Хоук. — Это нервно-паралитический газ. И, честно говоря, лично я предпочел бы, чтобы причиной всего здесь случившегося и в самом деле оказалось газовое нападение. Потому что, после того как газ рассеялся, никакой угрозы больше нет. Распространение бактериологического заражения предотвратить гораздо труднее. — Если это действительно был газ, — сказал Копперфильд, — то он уже давным-давно рассеялся, но следы его должны были остаться буквально на всем в виде мельчайших капелек конденсата. Это мы выясним очень быстро. Они прижались к стене, чтобы пропустить Найвена с его фотоаппаратом. — Доктор Хоук, — спросила Дженни, — вы сказали, что первая стадия поражения газом Т-139 продолжается от четырех до шести часов. А что потом? — Ну, — ответил Хоук, — вторая стадия летальна. Она длится от шести до двенадцати часов. Она начинается с распада эфферентных нервов и заканчивается параличом двигательных и дыхательных центров мозга. — О Господи! — проговорила Дженни. — И что все это значит в переводе на обычный язык? — спросил Фрэнк. — Это значит, — ответила Дженни, — что на второй стадии поражения, где-то в течение шести — двенадцати часов, Т-139 постепенно уменьшает регулятивные способности мозга: те, которые управляют телом, устанавливают частоту дыхания, биения сердца, наполнение кровеносных сосудов, определяют работу различных органов… У пострадавшего начинает неровно биться сердце, ему становится очень трудно дышать, и постепенно у него перестают работать все железы и органы. Может быть, сейчас вам кажется, что двенадцать часов — это не так уж и долго, но, уверяю вас, пострадавшему они покажутся целой вечностью. Начнутся рвота, понос, недержание, всякие прочие выделения, сильные и почти непрерывные судороги… И если при этом будут поражены только эфферентные нервы, а остальная часть нервной системы останется незатронутой, то все это будет сопровождаться невыносимыми, ни на минуту не прекращающимися болями. — То есть от шести до двенадцати часов сплошного ада, — подтвердил Копперфильд. — Пока не остановится сердце, — сказал Хоук, — или же пока не перестанут работать легкие и человек просто не задохнется. Некоторое время все молчали, только Найвен продолжал щелкать фотоаппаратом. — Но все-таки мне кажется, в том, что здесь произошло, нервно-паралитический газ не виновен, — сказала наконец Дженни. — И даже такой, как Т-139: все это никак не объясняет ситуацию с отрезанными головами. Прежде всего, ни у одной из обнаруженных нами жертв не было никаких признаков рвоты или недержания. — Ну, — возразил Копперфильд, — возможно, мы имеем дело с каким-нибудь производным от Т-139, которое не вызывает таких симптомов. Или с каким-то иным газом. — Никакой газ не объясняет мотылька, — заметил Тал Уитмен. — А также и того, что произошло со Стю Уорглом, — добавил Фрэнк. — Мотылька? — переспросил Копперфильд. — Вы не хотели слушать об этом прежде, чем увидите все собственными глазами, — напомнил генералу Брайс. — Но сейчас, мне кажется, настало время… — Я закончил, — произнес Найвен. — Отлично, — сказал Копперфильд. — Шериф, доктор Пэйдж и все остальные, пожалуйста. Мы будем очень признательны, если теперь вы все помолчите до тех пор, пока мы не закончим здесь всю работу. Члены бригады генерала немедленно принялись за дело. Ямагути и Беттенби перенесли отрезанные головы в специальные контейнеры для проб, облицованные изнутри фарфором и снабженные герметически закрывающимися крышками. Вальдез осторожно высвободил скалку из державших ее рук, а сами руки положил в третий такой же контейнер. Хоук наскреб в небольшой пластиковый сосуд немного муки с рабочего стола: сухая мука должна была впитать в себя и сохранить вплоть до настоящего времени какое-то количество нервно-паралитического газа — если, конечно, его применение и вправду имело здесь место. Хоук взял также пробу теста, заготовленного на утро и лежавшего сейчас под скалкой. Голдстейн и Робертс внимательно осмотрели печи, в которых лежали раньше головы, а потом Голдстейн при помощи маленького, работающего на батарейках пылесоса взял пробу пыли и золы из первой печи. Когда эта операция была завершена, Робертс снял с пылесоса мешочек со всем, что в него попало, тщательно заклеил и надписал его, а Голдстейн тем временем проделал то же самое на второй печи. Все специалисты из команды генерала были чем-то заняты, за исключением только тех двоих, на шлемах которых не были обозначены их имена. Эти двое просто стояли в стороне и наблюдали. Брайс, в свою очередь, наблюдал за ними, гадая, кто это может быть и какие задачи они тут выполняют. Все, кто был занят каким-нибудь делом, говорили вслух о том, что они делают и что при этом им удалось увидеть или установить, но они пользовались каким-то специальным жаргоном, которого Брайс не понимал. Говорили они, однако, строго поочередно, ни разу не получилось так, чтобы два человека заговорили вдруг одновременно. Это обстоятельство, а также тот факт, что Копперфильд попросил всех остальных помолчать, наводили на мысль, что все их разговоры записываются. Среди различных приборов и приспособлений, закрепленных на поясе Копперфильда, оказался и магнитофон, соединенный проводом с вмонтированной в костюм системой связи. Брайс разглядел, что катушки магнитофона крутятся. Когда эксперты закончили все свои дела на кухне булочной, Копперфильд проговорил: — Здесь все, шериф. Куда теперь? — А это вы выключать не будете, пока мы туда не доберемся? — спросил Брайс, кивком головы показывая на магнитофон. — Нет. Мы начали вести запись с того момента, как проехали шлагбаум, и будем вести ее непрерывно до тех пор, пока не установим точно, что же произошло в этом городке. Так что если что-то случится, если все мы погибнем прежде, чем успеем отыскать объяснение, то следующая бригада будет знать каждый наш шаг. Им не придется начинать все снова на пустом месте, и, может быть, в их распоряжении окажется даже подробнейшая запись той фатальной ошибки, которую мы совершим и которая приведет к нашей гибели.
Следующей их остановкой был магазин, торгующий произведениями прикладного искусства, с примыкающей к нему небольшой выставочной галереей — тот самый, куда накануне вечером заходил Фрэнк Отри с тремя полицейскими. Теперь он снова провел всю группу по выставочному залу, через небольшое конторское помещение в задней части магазина и вверх по лестнице, в квартиру на втором этаже. Фрэнку казалось, что во всей этой сцене было нечто комическое: по узенькой лестнице неуклюже карабкаются вверх космонавты, лица их, скрытые за плексигласовыми щитками шлемов, по-театральному озабочены, шум тяжелого дыхания, усиленный замкнутым внутренним пространством скафандров, а потом еще и системой связи, воспроизводится укрепленными снаружи динамиками, рождая какие-то неестественно громкие и зловещие звуки. Все это было похоже на кадры из научно-фантастических фильмов, какие снимали в пятидесятые годы — «Нападение инопланетян» или что-нибудь в таком роде, — и Фрэнк не мог сдержать улыбку. Но легкая его улыбка сразу исчезла, едва только он вошел на кухню и снова увидел труп погибшего мужчины. Тело лежало там же, где они обнаружили его накануне, у самого холодильника, одетое только в голубые брюки от пижамы. Оно было все так же покрыто синяками и кровоподтеками, и по-прежнему смотрели куда-то вверх широко раскрытые, застывшие от ужаса и ничего уже не видящие глаза. Фрэнк отошел в сторону, освобождая проход Копперфильду и его людям, и присоединился к Брайсу, вставшему около кухонного стола, на котором находился тостер. Копперфильд снова попросил всех, кто не участвовал в осмотре места и трупа, помолчать, а эксперты из его команды живо принялись за дело. Осторожно ступая между разбросанными по полу остатками так и не приготовленного сандвича, они сгрудились возле трупа. Через несколько минут предварительный осмотр тела был закончен. — Мы возьмем его на вскрытие, — сказал Копперфильд, поворачиваясь к Брайсу. — Вы все еще полагаете, что мы сталкиваемся тут с каким-то обычным бактериологическим заражением? — повторил Брайс вопрос, который он задавал и в булочной. — Да, это вполне вероятно, — ответил генерал. — А все эти синяки и кровоподтеки? — спросил Тал. — Это может быть аллергическая реакция на нервно-паралитический газ, — сказал Хоук. — Поднимите пижаму на ноге, — проговорила Дженни. — Эти симптомы есть даже на той части тела, которая не соприкасалась с газом. — Да, верно, — подтвердил Копперфильд. — Мы уже видели. — Почему же они там образовались? — Подобные газы обладают обычно сильной проникающей способностью, — сказал Хоук. — Они проходят через большинство тканей. Пожалуй, единственное, что способно защитить от них, это виниловые или прорезиненные ткани и костюмы. «Как раз такие, что надеты на вас и каких у нас нет», — подумал про себя Фрэнк. — Здесь в доме есть еще одно тело, — сказал Брайс генералу. — Хотите взглянуть и на него тоже? — Безусловно. — Тогда сюда, сэр, — показал Фрэнк. Он первым вышел из кухни и повел всех через холл, держа револьвер на изготовку. Фрэнку было страшно заходить в спальню, где на смятых простынях лежала обнаженная мертвая женщина. Он помнил, как прохаживался в ее адрес Стю Уоргл, и у него было ужасное предчувствие, что и сам Стю окажется сейчас здесь, вместе с этой блондинкой, и два мертвых тела будут сжимать друг друга в объятиях холодной бесконечной страсти. Но в спальне оказалась одна только женщина. Она лежала, как и прежде, распростершись на постели, широко раскинув ноги, рот у нее был открыт в предсмертном вопле, теперь уже вечном. Когда Копперфильд и его люди закончили предварительный осмотр трупа и уже собрались уходить, Фрэнк обратил их внимание на пистолет двадцать второго калибра, который женщина полностью разрядила явно в того, кто ее убил. — Как вы думаете, генерал, разве она стала бы стрелять по клубам газа? — Конечно, нет, — ответил Копперфильд. — Но возможно, что, корда она стреляла, она уже находилась под воздействием газа, ее мозг был уже поражен. Быть может, она стреляла во что-то, что ей померещилось. В свои собственные галлюцинации, в фантомов. — Да, сэр, не иначе как это были именно фантомы, — сказал Фрэнк. — Дело в том, что она выпустила все десять патронов, которые были в обойме; но мы обнаружили только две пули. Одна попала вон туда, в комод, а другая в стену — видите вон ту дырку? А это означает, что все остальные пули попали в то, во что она стреляла. — Я знала этих людей, — сказала, выходя вперед, доктор Пэйдж. — Их звали Гэри и Сэнди Веклас. Она была тут заметной женщиной. Занималась стрельбой. В прошлом году на местном фестивале выиграла несколько призов. — Значит, она могла попасть в цель восемь раз из десяти, — перебил ее Фрэнк. — Но даже восемь попаданий не остановили того, кого она пыталась остановить. Больше того, у него от восьми попаданий не пролилось ни капли крови. Конечно, у фантомов нет крови. Но, сэр, разве фантом смог бы уйти отсюда и унести с собой эти восемь пуль? Копперфильд молча, нахмурившись, смотрел на Фрэнка. Остальные специалисты тоже нахмурились. Солдаты не только нахмурились, но и с тревогой оглядывались вокруг. Фрэнк видел, что состояние обоих трупов и особенно выражение ужаса, застывшее на лице женщины, произвели впечатление на генерала и его людей. В их глазах теперь явственно прочитывался страх. Они столкнулись с чем-то таким, что выходило за пределы их понимания — хотя и не желали пока признать это. Они по-прежнему цеплялись за привычные для себя объяснения — нервно-паралитический газ, вирус, яд, — но у них стали уже появляться сомнения.
Люди Копперфильда привезли с собой застегивающиеся на молнии пластиковые мешки для трупов. На кухне они уложили тело в пижамных брюках в такой мешок, вынесли из дома и оставили на тротуаре, рассчитывая прихватить его на обратном пути, когда все будут возвращаться назад в передвижные лаборатории. Брайс повел их к продовольственному магазину Гилмартина. Там, в задней части супермаркета, возле охлаждаемых прилавков для молока, где это все и произошло, он рассказал им о том, как исчез Джейк Джонсон: — Никаких криков. Вообще ни звука. Всего лишь несколько секунд темноты. Несколько секунд! А когда снова зажегся свет, Джейка не было. — А вы проверяли… — спросил Копперфильд. — Везде и всюду. — Может быть, он просто удрал, — высказал предположение Робертс. — Да, — поддержала его доктор Ямагути. — Взял да и дезертировал. С учетом того, что он насмотрелся… — О Боже, — перебил ее Голдстейн, — а что, если он выбрался из Сноуфилда? Возможно, он уже пересек линию карантина и сейчас разносит заразу… — Нет, нет, нет, Джейк не стал бы дезертировать, — возразил Брайс. — Не скажу, что он был самым инициативным и решительным из моих людей, но подобной штуки он бы не выкинул. Он не был безответственным человеком. — Совершенно верно, — подтвердил Тал. — А кроме того, отец Джейка был когда-то шерифом этого округа, так что тут еще и вопрос семейной чести. — И Джейк был очень осторожным, — сказал Фрэнк. — Он никогда не совершал импульсивных поступков. Брайс согласно кивнул. — А кроме того, если бы он уж настолько перетрусил, что решился удрать, он бы взял одну из наших машин. Уходить из города пешком он бы уж точно не стал. — Послушайте, — возразил Копперфильд, — он же понимал, что у шлагбаума его остановят, поэтому он должен был вообще держаться подальше от шоссе. Он мог пойти напрямик, через лес. — Нет, генерал, — отрицательно покачала головой Дженни. — Места здесь в полном смысле слова дикие. Джонсон должен был знать, что он там заплутает и погибнет. — А кроме того, — добавил Брайс, — разве перепуганный человек бросится очертя голову ночью в незнакомый лес? Не думаю, генерал. Но зато я уверен, что вам пора уже выслушать, что же произошло с другим из моих людей. Облокотившись на прилавок, набитый сырами и банками консервированного мяса, Брайс рассказал им о ночном визите мотылька, о нападении этого мотылька на Уоргла и о том, в каком состоянии был после нападения труп. Рассказал он и о том, как Лиза встретилась с внезапно воскресшим Уорглом, и о последующем их открытии, что тело Уоргла пропало. Копперфильд и члены его команды выразили вначале удивление, потом замешательство, затем страх. Но по мере того как Брайс продолжал свой рассказ, они смолкли и подозрительно уставились на него, а потом стали понимающе переглядываться между собой. Брайс закончил рассказом о детском голосе, который пел из канализационной трубы на кухне буквально за несколько минут до их приезда. Окончив, он в третий раз повторил свой вопрос: — Ну что, генерал, вы по-прежнему считаете, что мы имеем тут дело с обычным бактериологическим заражением? Копперфильд помолчал немного, оглядел разгромленный магазин, потом посмотрел прямо в глаза Брайсу и сказал: — Шериф, я хочу, чтобы доктор Робертс и доктор Голдстейн самым тщательным образом осмотрели вас, а также всех тех, кто видел этого… э-э-э… мотылька. — Вы мне не верите. — Нет, я верю, что вы действительно совершенно искренне считаете, будто и вправду все это видели. — Вот черт, — выругался Тал. — Надеюсь, вы понимаете, — продолжал Копперфильд, — что мы можем сделать из вашего рассказа только один вывод: вы все подверглись какому-то воздействию и страдаете галлюцинациями. Брайс устал уже от их недоверия и был в отчаянии от их интеллектуальной ограниченности. Как ученые, они должны были бы с готовностью воспринимать новые идеи и самые невероятные предположения. А вместо этого они, кажется, преисполнены решимости подогнать любые факты под собственные априорные объяснения того, что им еще только предстоит увидеть и узнать в Сноуфилде. — И у всех у нас одна и та же галлюцинация. Вам это не кажется странным? — спросил Брайс. — Случаи массовых галлюцинаций известны, — заявил Копперфильд. — Генерал, в том, что мы видели, не было ничего от галлюцинаций, — возразила Дженни. — Напротив, были все признаки отвратительнейшей реальности. — Доктор Пэйдж, при других обстоятельствах я бы самым внимательным образом отнесся к любым вашим соображениям. Но поскольку вы тоже утверждаете, будто видели этого мотылька, то в данном случае я просто не могу принять ваше свидетельство за объективное суждение медика. Бросив на Копперфильда сердитый взгляд, Фрэнк Отри спросил: — Но, сэр, если это была всего лишь галлюцинация, то где же в таком случае Стю Уоргл? — Может быть, они оба удрали: и он, и этот Джейк Джонсон, — сказал Робертс. — А у вас их исчезновение совпало с галлюцинациями и как-то встроилось в них. По собственному немалому опыту Брайс знал: спор проигрываешь в тот самый момент, когда позволяешь эмоциям взять над собой верх. Поэтому он заставил себя остаться стоять в прежней непринужденной позе, облокотившись на прилавок. Негромким голосом, слегка растягивая слова, он произнес: — Генерал, если послушать вас и ваших людей, то может сложиться впечатление, будто полиция Санта-Миры состоит исключительно из трусов, идиотов и симулянтов. Копперфильд протестующе замахал своими затянутыми в резину руками: — Нет, нет, нет. Ничего подобного мы не говорили. Пожалуйста, шериф, постарайтесь понять. Мы с вами всего лишь откровенны. Мы пытаемся вам втолковать, как выглядит положение с нашей точки зрения — и как оно выглядит с точки зрения любого, кто обладает профессиональными познаниями в области химического и бактериологического оружия. У тех, кто подвергся нападению с применением такого оружия, обязательно должны возникать галлюцинации. Это один из признаков, которые мы и должны установить. Если вы можете предложить нам какое-то логичное объяснение того, что это за мотылек и откуда он взялся… что ж, тогда мы, может быть, и сами в него поверим. Но у вас такого объяснения нет. И тогда единственным осмысленным объяснением остается наше предположение, что это была галлюцинация. Брайс заметил, что четыре солдата смотрят на него сейчас, когда его стали считать пораженным нервно-паралитическим газом, совершенно иначе, чем они смотрели на него раньше. В конце концов, человек, страдающий странными галлюцинациями — это человек явно психически неустойчивый, опасный, возможно даже, вполне способный напасть на кого-нибудь, отрезать голову и сунуть ее в печь. Солдаты приподняли стволы автоматов, хотя и не стали направлять их прямо на Брайса. Теперь они относились к нему — а также и к Дженни, Талу и Фрэнку — с явным подозрением. Прежде чем Брайс успел ответить Копперфильду, его внимание отвлек громкий шум, раздавшийся вдруг в задней части магазина, где-то позади столов для разделки мяса. Он отошел от прилавка, повернулся в ту сторону, откуда донесся шум, и положил правую руку на кобуру. Краем глаза Брайс увидел, что солдаты среагировали на это его движение, а не на шум. Стоило ему только положить руку на кобуру с револьвером, как они подняли стволы автоматов выше. Звук, привлекший внимание Брайса, был похож на стук молотка. И еще как будто бы слышался чей-то голос. Все эти звуки исходили из холодильной камеры для мяса, которая находилась по другую сторону разделочной зоны, не более чем в пятнадцати футах от них, практически прямо напротив того места, где стояли сейчас шериф и все остальные. Толстая изолирующая дверь камеры заглушала удары, которые кто-то непрерывно обрушивал на нее с внутренней стороны, и все-таки они были достаточно громкими. Голос был тоже приглушен, слова доносились неразборчиво, но Брайсу показалось, что кто-то зовет на помощь. — Там кто-то заперт, — сказал Копперфильд. — Не может этого быть, — ответил Брайс. — Там невозможно никого запереть, потому что дверь отпирается с обеих сторон, — пояснил Фрэнк. Крики и удары немедленно прекратились. Раздался какой-то лязг. Стук металла по металлу. Рукоятка на большой, начищенной до зеркального блеска стальной двери повернулась вверх, потом вниз, снова вверх, вниз, вверх… Щелкнул замок. Дверь приоткрылась. Но не больше чем на пару дюймов. И остановилась в таком положении. Холодный воздух из камеры вырвался наружу, смешиваясь с теплым воздухом магазина, и по торцу двери побежали узкие черточки мгновенно осаждающегося инея. Хотя внутри морозильной камеры горел свет, рассмотреть что-нибудь через щель едва приоткрывшейся двери было невозможно. Но Брайс в общем-то представлял себе, как выглядит внутри холодильная камера. Когда накануне вечером они повсюду искали Джейка Джонсона, Брайс сам заходил в эту камеру и осматривал ее. Это было небольшое закрытое помещение, без окон, размером примерно двенадцать на пятнадцать футов. В камере была еще одна дверь, выходившая прямо на улицу, чтобы удобно было разгружать мясо из машины. Эта дверь запиралась на два замка с задвижками. Пол камеры был бетонный, крашеный, стены тоже бетонные. Лампы дневного света под потолком. Вентиляторы, закрепленные на трех стенах, гоняли холодный воздух вокруг мясных туш и окороков, которые свисали с крючьев, приделанных к поперечным балкам под потолком. Брайс слышал только усиленное динамиками дыхание экспертов и солдат, одетых в защитные скафандры, но даже оно звучало несколько приглушенно: по-видимому, некоторые из них старались дышать как можно тише. Потом из холодильной камеры послышался стон, как будто от боли, и чей-то слабый, жалобный голос позвал на помощь. Голос, отраженный от холодных бетонных степ, вылетал через едва приоткрытую дверь вместе с клубами холодного воздуха. Он был искажен внутренним эхом и дрожал, но все-таки его можно было узнать. — Брайс?.. Тал?.. Кто там? Фрэнк? Горди?.. Есть там кто? Может… мне кто-нибудь… помочь? Это был голос Джейка Джонсона. Брайс, Дженни, Тал и Фрэнк стояли не шевелясь и вслушивались. — Кто бы там ни был, ему явно нужна срочная помощь, — сказал Копперфильд. — Брайс… пожалуйста… кто-нибудь… — Вы его знаете? — спросил Копперфильд. — Он ведь зовет вас по имени, правда, шериф? Не дожидаясь ответа, генерал приказал двоим из своих солдат — сержанту Харкеру и рядовому Паскалли — осмотреть холодильную камеру. — Погодите! — остановил их Брайс. — Никому туда не заходить! И будем стоять здесь, чтобы, до тех пор пока мы не узнаем побольше, между нами и камерой были бы эти прилавки. — Шериф, я готов сотрудничать с вами как только возможно, но своими людьми я командую сам! — Брайс… это я… Джейк… Ради Бога, помоги… Я сломал ногу, черт бы ее побрал… — Джейк? — переспросил Копперфильд, бросая косой, преисполненный любопытства и подозрительности взгляд на Брайса. — Это тот самый человек, которого, как вы говорили, вы потеряли тут вчера ночью? — Помогите… кто-нибудь… Господи, я з-замер-заю… з-замерзаю… — По голосу похоже на него, — согласился Брайс. — Ну, вот вам и объяснение! — уверенно заявил Копперфильд. — В итоге выясняется, что ничего таинственного и нет. Он все это время был здесь. Брайс со злостью посмотрел на генерала: — Говорю вам, мы вчера обыскали здесь все. Даже эту проклятую холодильную камеру. Его там не было! — Ну, сейчас-то он там! — Эй, кто-нибудь! Я з-замерзаю… Н-не м-могу пошевелить… этой чертовой ногой! Дженни тронула Брайса за локоть: — Здесь что-то не так. Что-то не так. — Шериф, мы не можем стоять здесь и ждать неизвестно чего, когда раненый страдает, — сказал генерал. — Если бы Джейк действительно пролежал там всю ночь, — проговорил Фрэнк Отри, — он бы уже давно замерз. — Если это обычный холодильник для мяса, — возразил генерал, — то замерзнуть в нем невозможно. В нем просто холодно. Человек в достаточно теплой одежде вполне может пролежать там и столько, и даже дольше. — Прежде всего, каким образом он туда попал? — спросил Фрэнк. — И что, черт возьми, он там все это время делал? — И вчера вечером его там действительно не было, — раздраженно добавил Тал. Джейк Джонсон снова позвал на помощь. — Там какая-то опасность, — сказал Брайс Копперфильду. — Я ее чую. И мои люди ее чувствуют. И доктор Пэйдж тоже. — А я нет, — ответил Копперфильд. — Генерал, вы еще слишком недолго пробыли в Сноуфилде, чтобы понять, что здесь надо ожидать чего-то в высшей степени неожиданного. — Вроде мотыльков размером с орла? Подавив готовый вырваться наружу гнев, Брайс повторил: — Вы еще слишком недавно в Сноуфилде, чтобы понять, что… н-ну… ничто не является здесь тем, чем оно кажется. — Не надо впадать в мистику, шериф, — Копперфильд смерил Брайса скептическим взглядом. Из холодильной камеры донесся плач Джейка Джонсона. Слушать его мольбы о помощи было невыносимо. Он говорил так, словно это был измученный болью, смертельно перепуганный старик. Ничего мало-мальски угрожающего в его голосе не чувствовалось. — Надо ему немедленно помочь, — проговорил Копперфильд. — Я своими людьми рисковать не буду, — ответил Брайс. — Пока не буду. Копперфильд снова приказал сержанту Харкеру и рядовому Паскалли проверить холодильную камеру. Судя по тому, как он держался, генерал явно не верил, что внутри камеры может быть что-то, представляющее собой опасность для двух вооруженных автоматами людей, но он все же велел им действовать с максимальной осторожностью. Генерал все еще полагал, что их враг здесь — что-то очень маленькое, вроде бактерии или молекулы нервно-паралитического газа. Два солдата быстро прошли мимо прилавков ко входу в разделочную зону. — Если Джейк сумел отпереть дверь, почему он не откроет ее до конца, так, чтобы мы его видели? — спросил Фрэнк. — Может быть, последних сил ему хватило только на то, чтобы ее отпереть, — сказал генерал. — Господи, неужели же вы по голосу не слышите, что он вконец обессилен?! Харкер и Паскалли миновали прилавки и вошли в разделочную зону. Брайс стиснул рукоятку револьвера, не вынимая его пока из кобуры. — Черт побери, что-то здесь совершенно не так, — проговорил Тал Уитмен. — Если это действительно Джейк и если ему и вправду нужна помощь, то почему же он ждал до сих пор, чтобы открыть дверь? — Вот спросим его и узнаем, — сказал генерал. — Нет, я хочу сказать, там же, в камере, есть выход прямо на улицу, — продолжал Тал. — Он мог бы открыть ту дверь намного раньше и просто покричать. В городе такая тишина, что мы бы его услышали, даже сидя в гостинице. — Может быть, до сих пор он лежал без сознания, — предположил Копперфильд. Харкер и Паскалли шли сейчас мимо разделочных столов и электрической пилы для разрезания туш. Джейк Джонсон позвал снова: «Придет ко мне… кто-нибудь? Идет… кто-нибудь… сюда?» Дженни хотела что-то сказать, но Брайс остановил ее: — Не надо. Помолчите. — Доктор, — сказал Копперфильд, — не можем же мы не обращать внимания, когда человек зовет на помощь? — Конечно, нет, — согласилась Дженни. — Но не надо торопиться. Надо придумать какой-нибудь безопасный способ заглянуть туда внутрь. Копперфильд перебил ее, отрицательно мотая головой: — Нужна безотлагательная помощь. Вслушайтесь, доктор. Это же тяжелораненый! Джейк снова застонал от боли. Харкер приближался к двери холодильной камеры. Паскалли поотстал от него на пару шагов и пошел немного сбоку, добросовестно прикрывая сержанта и подстраховывая его. Брайс почувствовал, как у него на спине, на плечах, на шее напрягается каждый мускул. Харкер был уже у двери. — Не надо, — тихо проговорила Дженни. Дверь камеры открывалась внутрь. Харкер дотянулся до нее стволом автомата, толкнул, и дверь распахнулась. Клубы холодного воздуха с шуршанием и свистом устремились наружу. От этих звуков у Брайса мурашки побежала по телу. Джейк не лежал распростершись за дверью. Его вообще не было видно. Тем, кто смотрел сзади, из-за спины сержанта, видны были только свисающие с потолка мясные туши: темные, с полосками жира, поблескивавшие кровью. Харкер остановился на пороге… «Не делай этого!» — подумал Брайс. …потом решительно шагнул в дверь. Он вошел в камеру полупригнувшись, глядя влево от себя и направляя туда же автомат, потом быстро и резко повернулся вправо, поворачивая и ствол оружия в эту же сторону. Справа от себя Харкер что-то увидел. От неожиданности, удивления и страха он выпрямился, поспешно сделал шаг или два назад, но натолкнулся спиной на свисавшую тушу. «Черт побери!» Харкер сопроводил этот свой вскрик короткой очередью из автомата. Брайс вздрогнул и поморщился: гром выстрелов прозвучал неожиданно сильно. Что-то, что находилось в холодильной камере, с силой толкнуло изнутри дверь, и она захлопнулась. Харкер оказался в ловушке. И вместе с ним там было оно. — О Боже! — крикнул Брайс. Он вскочил на высокий, по грудь взрослому человеку, прилавок, не теряя времени на то, чтобы обогнуть его, и, пробежав прямо по упаковкам сыра, спрыгнул с другой стороны, уже в разделочной зоне. Внутри камеры снова раздалась автоматная очередь. На этот раз гораздо более длинная. Такая длинная, что, по-видимому, сержант выпустил весь магазин. Паскалли был уже у двери и лихорадочно пытался повернуть ручку и открыть ее. Брайс обогнул разделочные столы. — В чем дело? Рядовой Паскалли выглядел совсем мальчишкой, которому еще рано быть в армии, и был смертельно перепуган. — Надо вытащить его оттуда! — бросил Брайс. — Не могу! Эта хреновина не поворачивается! Стрельба в камере прекратилась. Послышались крики. Паскалли отчаянно пытался справиться с ручкой, но она не поддавалась. Хотя толстая, изолирующая дверь приглушала крики Харкера, они тем не менее раздавались достаточно громко и все усиливались. Воспринимаемые радиостанцией и воспроизводимые внутри скафандра, эти предсмертные вопли, по-видимому, казались просто оглушительными, потому что рядовой Паскалли внезапно приложил руки к шлему, как будто хотел заткнуть себе уши. Брайс отпихнул солдата в сторону и обеими руками вцепился в длинную, похожую на рычаг ручку двери. Ручка не двигалась ни вверх, ни вниз. Вопли внутри камеры то усиливались, то немного стихали, но с каждым новым их всплеском становились все громче и ужаснее. Что, черт побери, оно там делает с Харкером, спрашивал себя Брайс. Кожу с него заживо снимает, что ли? Он оглянулся назад, в сторону прилавков. Тал последовал его примеру и прямо по прилавку изо всех сил мчался сейчас ему на помощь. Генерал с еще одним солдатом, рядовым Фодором, бежали по проходу между прилавками. Фрэнк тоже вскочил на прилавок и стоял на нем, глядя в сторону торгового зала на случай, если заваруха вокруг холодильной камеры окажется всего лишь отвлекающим маневром. Все остальные сбились тесной группой около прилавков. — Дженни! — прокричал Брайс. — Да? — Здесь есть хозяйственный отдел? — Какой-то есть. — Мне нужна отвертка. — Сейчас, — ответила она уже на бегу. Харкер издал еще один вопль. Ужасающий, леденящий. Господи, такое может померещиться только в каком-нибудь кошмаре. Или в сумасшедшем доме. Или исходить прямо из Ада. От одного только звука этого вопля Брайса прошиб холодный пот. Копперфильд подбежал к двери: — Дайте-ка я попробую! — Бесполезно. — Пустите! Брайс уступил ему место. Генерал был крупным и мускулистым человеком — из всех тех, кто был сейчас в магазине, безусловно, самым крупным. Казалось, он способен вырвать с корнем из земли столетний дуб. Но как он ни пыжился и ни напрягался, как ни ругался, стараясь повернуть ручку двери, он преуспел в этом не больше, чем до него Брайс. — Чертов замок! Наверное, или сломался, или что-то погнули, — проговорил, с трудом переводя дыхание, Копперфильд. Крики Харкера раздавались теперь непрерывно. Брайсу вспомнилась булочная Либерманов. Та скалка на столе. И те руки. Отрезанные руки. Наверное, так, как кричит сейчас Харкер, и должен кричать человек, который видит, как ему отрезают кисти рук. Копперфильд в гневе и отчаянии колотил в дверь кулаками. Брайс взглянул на Тала. Такое он увидел впервые в жизни: Талберт Уитмен был откровенно перепуган. В зал, окликая Брайса, вбежала Дженни. Она несла три отвертки, каждая из которых была закреплена на картоне с ярким рисунком и накрыта прозрачной пластмассовой крышкой. — Посмотрите сами, какая подойдет, — сказала она. — Ладно, — ответил Брайс,протягивая руку за инструментами, — а теперь давайте быстро отсюда. Будьте с остальными. Не обращая внимания на его распоряжение, Дженни отдала Брайсу две отвертки, оставив третью себе. Крики Харкера стали такими жуткими, что уже трудно было поверить, что так может кричать человек. Брайс разорвал яркую красочную упаковку одной из тех отверток, что были у него в руках; Дженни тем временем содрала упаковку со своей. — Я врач. Я остаюсь здесь. — Ему уже никакой врач не нужен, — ответил Брайс, лихорадочно срывая упаковку с третьей отвертки. — А может быть, и нужен. Если бы вы считали, что никаких шансов не осталось, вы бы не пытались вытащить его оттуда! — Ну вас к чертям, Дженни! Он переживал за нее, но понимал, что не сможет заставить ее уйти, раз уж она решила остаться тут. Он взял у Дженни третью отвертку, оттер генерала Копперфильда плечом и встал у двери. Отвинтить петли он не мог. Дверь закрывалась изнутри, поэтому подобраться к винтам петель не было возможности. Но запорная ручка, похожая на рычаг, удерживалась большой накладной пластиной, за которой находился механизм замка. Эта пластина крепилась к наружной поверхности двери четырьмя винтами. Брайс присел перед ней на корточки, выбрал подходящую по размеру отвертку, открутил первый винт и бросил его на пол. Крики Харкера прекратились. Наступившая тишина была едва ли не хуже, чем прежние крики. Брайс отвинтил второй, третий, потом четвертый винты. Сержант Харкер не издавал больше ни звука. Брайс сдвинул с места накладную пластину, продвинул ее до конца ручки, снял и отставил в сторону. Потом склонился над запирающим механизмом, рассматривая его и тыча в разные места отверткой. Но из замка вдруг посыпались наружу сломанные детали, кусочки искореженного металла, какая-то их часть провалилась внутрь самой двери. Замок был разбит вдребезги, и сделано это было с внутренней стороны камеры! Брайс нашел упор, при помощи которого можно было сдвинуть с места задвижку замка, сунул туда отвертку и нажал вправо. Пружина была то ли сломана, то ли перекручена, потому что она почти не поддалась. Но все же ему удалось достаточно сдвинуть задвижку, чтобы язычок замка вышел из гнезда в косяке. Брайс толкнул дверь от себя, что-то щелкнуло, и дверь стала медленно приоткрываться. Все, включая и самого Брайса, отпрянули назад и в сторону. Рядовой Паскалли направил в образовавшуюся щель автомат, Брайс и Копперфильд вытащили свои револьверы, хотя опыт сержанта Харкера неоспоримо доказывал, что оружие здесь бесполезно. Дверь открылась полностью. Брайс думал, что оттуда на них что-нибудь выскочит. Но ничего подобного не произошло. Посмотрев через раскрытую дверь внутрь холодильной камеры, Брайс увидел, что другая дверь, ведущая прямо на улицу, была тоже открыта. Но когда Харкер пару минут назад вошел в камеру, та дверь совершенно определенно была заперта. Сейчас через нее было видно залитую солнцем аллею. Копперфильд приказал Паскалли и Фодору осмотреть камеру. Они вместе быстро вошли внутрь, один повернул влево, другой вправо, и пропали из виду. Через несколько секунд Паскалли возвратился: — Никого нет, сэр. Копперфильд зашел в камеру, Брайс последовал за ним. Автомат Харкера валялся на полу. Сержант Харкер свисал с потолка, рядом с мясной тушей. Он висел на огромном, странно изогнутом и остром двузубом крюке, вогнанном прямо ему в грудь. Брайса начало подташнивать. Он отвернулся было от повешенного — но тут понял, что на самом-то деле это был не Харкер. На крюке, обмякнув, висели только его пустые скафандр и шлем. Прочная виниловая ткань была распорота. Плексигласовый щиток расколот и наполовину вырван из резинового крепления, в котором прежде он сидел очень прочно. Харкера просто вырвали из костюма, даже не разрезая его. Но куда же подевался сам Харкер? Исчез. Еще один. Просто исчез. Паскалли и Фодор были уже снаружи, на разгрузочной площадке, и озирались по сторонам, проверяя, нет ли чего на дороге. — Как он кричал, — сказала Дженни, подходя сзади к Брайсу, — а ни на костюме, ни на полу нет пи капли крови. Тал Уитмен подобрал несколько стреляных автоматных гильз, которыми был усеян весь пол. Медные гильзы тускло поблескивали у него на ладони. — Столько гильз, а пуль не видно ни одной. Похоже, сержант попал в то, во что стрелял. Судя по гильзам, он выпустил не меньше сотни патронов. Может быть, даже две сотни. Генерал, сколько патронов в этих больших магазинах? Копперфильд посмотрел на блестящие гильзы, но ничего не ответил. С разгрузочной площадки в камеру вернулись Паскалли и Фодор, и Паскалли доложил: — Снаружи никаких его следов нет, сэр. Осмотреть аллею подальше? Не дожидаясь ответа Копперфильда, Брайс проговорил: — Генерал, как это ни больно, но сержанта Харкера надо списать. Он мертв. И никакой надежды на то, что он может оказаться жив, нет. Так что не надейтесь. Здесь действует нечто такое, что признает только смерть. Смерть. Заложников тут не берут. И никаких террористов тут нет. Как нет и никакого нервно-паралитического газа. И никаких полумер тут не бывает. Мы играем по самой большой ставке. Я не знаю точно, что это такое и откуда оно тут появилось, но я твердо знаю, что это сама Смерть. Смерть в какой-то такой форме, которую мы пока даже вообразить себе не можем, и движимая целями, которые, возможно, мы вообще никогда не поймем. Тот мотылек, который убил Стю Уоргла, даже не был настоящим обличьем этой Смерти. Я это чувствую. Мотылек был скорее всего тем же самым, что и ожившее тело Уоргла, которое гонялось за Лизой в туалете: попыткой поморочить нам головы… ловким трюком. — Фантомом, — сказал Тал, воспользовавшись словом, которое чуть раньше употребил сам Копперфильд, хотя генерал тогда вкладывал в него совсем другой смысл. — Да, фантомом, — согласился Брайс. — Мы пока еще не видели настоящего врага. Это нечто такое, что просто любит убивать. Оно способно убивать молниеносно и тихо — так, как оно убило Джейка Джонсона. Но Харкера оно убивало медленно, заставив его мучиться и кричать. И сделало это потому, что хотело, чтобы мы послушали его вопли. Убийство Харкера выполняло ту же роль, о которой вы говорили в связи с газом Т-139, — деморализующую. И оно не просто утащило сержанта Харкера. Оно его сожрало, генерал. Именно сожрало. Так что не рискуйте больше людьми и не ищите понапрасну труп. Копперфильд помолчал немного, потом проговорил: — Но тот голос, который мы слышали, — это же был ваш человек, Джейк Джонсон? — Нет, — ответил Брайс. — Я не думаю, чтобы это и вправду был Джейк. Голос был очень похож, но я начинаю подозревать, что это нечто обладает потрясающими способностями звукоподражателя. — Звукоподражателя? — переспросил Копперфильд. Дженни посмотрела на Брайса: — Звуки, которые мы слышали по телефону. — Верно. Кошки, собаки, птицы, гремучие змеи, плачущие дети… Целое представление. Такое впечатление, что оно как будто хвастается: «Вот, посмотрите, что я могу, какой я умный!» Так что и голос Джейка Джонсона — просто еще один номер из его репертуара. — Что вы хотите сказать? — спросил Копперфильд. — Что это нечто сверхъестественное? — Нет. Оно реальное. — Тогда что? Назовите его как-нибудь, — нажимал Копперфильд. — Я не могу, черт возьми, — ответил Брайс. — Возможно, это какая-нибудь природная мутация. Или что-то, что вырвалось откуда-нибудь из лаборатории генной инженерии. Вам об этом лучше знать, генерал. Возможно, где-нибудь в армии сидит целая дивизия генетиков, которая выводит биологических роботов-убийц, искусственных чудовищ, которые должны будут убивать, терроризировать. И, возможно, они лепят этих чудовищ, соединяя вместе молекулы ДНК, взятые из генов десятка разных животных. Что-то от тарантула, что-то от крокодила, что-то от кобры, от осы, может быть, даже от медведя-гризли, а потом ко всему этому просто смеха ради добавить гены человеческого интеллекта. Положить ту смесь в инкубатор, дать ей развиться, подкормить. И что получится? Как оно будет выглядеть? Может быть, сама мысль о такой возможности — просто бред, и, говоря об этом, я становлюсь похож на сумасшедшего, на этакого Франкенштейна с научно-техническим уклоном? Способ-па ли современная наука так перестраивать наследственность? Не знаю. Может быть, не стоит исключать и сверхъестественное. Я просто пытаюсь сказать, генерал, что это действительно может оказаться что угодно. Вот почему я не в состоянии никак его назвать. Дайте своему воображению полную свободу, генерал. Мы не можем исключать ничего, какие бы жуткие фантазии ни приходили нам в голову. Мы имеем дело с неизвестным, а понятие неизвестного включает в себя и все самые страшные наши кошмары. Копперфильд внимательно и задумчиво посмотрел на шерифа, потом на висевший на крюке костюм сержанта Харкера. Повернувшись к Паскалли и Фодору, он проговорил: — Дорогу осматривать не нужно. Возможно, шериф и прав. Сержант Харкер погиб, ему мы уже ничем не поможем. В четвертый раз после того, как Копперфильд появился в Сноуфилде, Брайс повторил свой вопрос: — Вы все еще продолжаете думать, что это похоже на обычный случай бактериологического заражения? — Какие-то химические или биологически активные вещества тут могут присутствовать, — сказал Копперфильд. — Как вы сами заметили, мы ничего не можем исключать. Но это не обычный случай, тут вы правы, шериф. Извините меня за предположение, что у вас были галлюцинации и… — Извинения приняты, — сказал Брайс. — Какие-нибудь предположения у вас есть? — спросила Дженни. — Я хочу как можно быстрее начать вскрытия и патологоанатомические исследования, — сказал Копперфильд. — Возможно, мы и не найдем ни бактерий, ни нервно-паралитического газа, но можем наткнуться на что-то такое, что даст ключ к разгадке. — Да, сэр, и как можно быстрее, — сказал Тал. — У меня такое предчувствие, что нам отпущено очень мало времени.
Глава 25
ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ…
Капрал Билли Веласкез, один из тех солдат, что входили во взвод охраны, сопровождавший бригаду генерала Копперфильда, протиснулся в люк и по колодцу спустился в трубу ливневой канализации. Дышал он тяжело, но не от напряжения, а от страха. Капрал был действительно смертельно перепуган. Что произошло с сержантом Харкером? Все, кто там был, вернулись потрясенные. Старик Копперфильд сказал, что Харкер погиб. Еще он сказал, что они не знают, что именно убило сержанта, но обязательно выяснят. Господи, какая чушь! Конечно же, они знают, что его убило. Они просто не хотят говорить, вот и все. Вечно эти генералы из всего делают тайну. Колодец, по стенке которого шла лестница, был неглубок и вел прямо в горизонтальную магистральную трубу. Билли спустился до самого низа. Когда его обутые в сапоги ноги коснулись бетонного дна, раздался громкий и гулкий стук. Магистральная труба ливневой канализации представляла собой невысокий туннель, в котором невозможно было выпрямиться во весь рост. Билли пригнул плечи и обвел вокруг лучом фонаря. Серые бетонные стены. Трубы с телефонными и электрическими кабелями. Сыро, но не очень. То здесь, то там видны пятна плесени. Вот, пожалуй, и все, что он увидел. Билли сделал шаг в сторону, чтобы освободить место, и в колодец по лестнице стал спускаться Рон Пик, еще один солдат из взвода охраны. Почему они хотя бы не принесли с собой тело Харкера, когда вернулись из этого проклятого супермаркета? Билли непрерывно водил вокруг себя лучом фонаря и нервно осматривался по сторонам. Почему эта старая железная задница Копперфильд так напирал на то, что, когда они окажутся здесь, внизу, необходимо будет проявлять максимум осмотрительности я осторожности? — Чего нам надо будет остерегаться, сэр? — спросил его тогда Билли. — Чего угодно. Абсолютно всего, — ответил Копперфильд. — Я не знаю, есть там какая-нибудь опасность или нет. И даже если есть, я не могу в точности сказать, в чем она может заключаться и чего вам следует опасаться. Просто будьте чертовски осторожны! И если увидите что-нибудь движущееся — каким бы безопасным оно ни казалось, даже если это будет обычная мышь, — немедленно мотайте оттуда со всех ног! Ничего себе ответ, правда? О господи! У него от такого ответа мурашки забегали. Билли очень жалел, что ему не удалось переброситься несколькими словами с Паскалли или Фодором. Простые ребята, не то что эти чертовы генералы. Уж они-то рассказали бы ему, что там на самом деле произошло с Харкером — если, конечно, тот сам успел предупредить их. Рон Пик добрался до последней ступеньки лестницы и теперь стоял внизу, встревоженно глядя на Билли. Веласкез еще раз обвел вокруг лучом фонаря, чтобы показать ему, что опасаться нечего. Рон включил свой фонарь и застенчиво улыбнулся, смутившись от того, что так откровенно продемонстрировал свои страхи. Те, кто оставался наверху, начали опускать в открытый люк электрический кабель. Он шел от двух передвижных лабораторий, что стояли на улице у тротуара, в нескольких ярдах от люка. Рон ухватился за конец кабеля, а Билли, полусогнувшись и тяжело шаркая ногами, направился по туннелю в восточную сторону. Сверху, с улицы, им продолжали подавать кабель. Туннель, в котором они сейчас находились, должен был где-то неподалеку пересекаться с другим, таким же или большего диаметра, что проходил под главной улицей, под Скайлайн-роуд. В месте их пересечения должна была находиться принадлежащая электрической компании распределительная коробка, от которой отходили кабели городской электросети. Продвигаясь вперед со всей осторожностью и осмотрительностью, как приказал генерал Копперфильд, Билли шарил лучом фонаря по стенкам туннеля, выискивая стрелку или какой-нибудь указатель с названием компании. Распределительный щит оказался на левой стене, в пяти или шести футах от пересечения двух туннелей. Билли прошел чуть дальше, до того туннеля, что проходил под Скайлайн-роуд, и заглянул в него, посветив фонарем вправо и влево, проверяя, не прячется ли там что-нибудь. Туннель под Скайлайн-роуд был такого же диаметра, как и тот, где стоял сейчас Билли, но, в отличие от него, шел круто вниз, повторяя уклон улицы. Никого и ничего подозрительного не было видно. Глядя вниз, в серый, постепенно переходящий в полную темноту сумрак туннеля, Билли Веласкез вдруг вспомнил рассказ, который он читал много лет назад в каком-то комиксе ужасов. Название этого рассказа он забыл. Но речь там шла о преступнике, который во время ограбления банка убил двух человек, а потом, удирая от полиции, свалился в люк городской дождевой канализации. Оказавшись внизу, этот преступник пошел по туннелю под уклон, рассчитывая, что таким образом выйдет к реке, но вместо этого туннель вывел его прямо в Ад. И сейчас, глядя на круто уходящий куда-то вниз туннель под Скайлайн-роуд, Билли подумал, что он тоже очень напоминает дорогу прямехонько в Ад. Билли повернулся и посмотрел в другую сторону, туда, где туннель взбирался в гору. Но и там он отнюдь не напоминал дорогу на Небеса. Что вверх, что вниз от перекрестка туннель под Скайлайн-роуд выглядел совершенно одинаково — как дорога в Ад. Что же все-таки случилось с сержантом Харкером? И произойдет ли то же самое рано или поздно со всеми ними? Даже с Уильямом Луисом Веласкезом, который вплоть до сегодняшнего дня был абсолютно уверен, что будет жить вечно? Во рту у него вдруг пересохло. Он повернул голову и прикоснулся внезапно высохшими губами к кончику находившейся внутри шлема питательной трубки. Начал сосать, втягивая в себя сладкую, холодную, насыщенную витаминами и минеральными веществами и слегка газированную жидкость. По правде говоря, больше всего ему хотелось сейчас пива. Но пока он не сбросит с себя этот костюм, придется удовлетворяться питательным раствором. Если расходовать не больше двух унций в час, то его запаса должно хватить на двое суток. Повернувшись к дороге в Ад спиной, Билли вернулся к распределительному щиту. Рон Пик уже открыл его и начал присоединять кабель. Хотя работать приходилось в неуклюжих защитных костюмах и в неудобном месте, где невозможно было даже распрямиться, действовали они споро и ловко. Команда генерала привезла сюда собственный генератор, но его предполагалось задействовать только в том случае, если невозможно будет воспользоваться энергией из городской электросети. Несколько минут спустя Веласкез и Пик уже все закончили. Через внутреннее переговорное устройство, которое было вмонтировано в скафандры, Билли связался с теми, кто оставался наверху: — Генерал, мы подключились. Проверьте, сэр, у вас уже должно быть напряжение. Ответ не заставил себя ждать: — Напряжение есть. А теперь уносите оттуда ноги, быстро! — Слушаюсь, сэр, — ответил Билли. И тут он… что-то услышал. Какой-то шорох, шуршание. Тяжелое дыхание. Внезапно Рон Пик ухватил Билли за плечо. А другой рукой показал куда-то ему за спину, в ту сторону, где проходил коллектор под Скайлайн-роуд. Билли резко обернулся, пригнулся еще больше и направил луч своего фонаря в сторону стыка двух коллекторов, туда же, куда светил и фонарь Пика. Вниз по коллектору под Скайлайн-роуд текла живая река. Десятки самых разных собак всех пород. Собаки белые и серые, черные и коричневые, с красноватым отливом и желто-рыжие, собаки всех видов и размеров. По большей части это были дворняжки, но немало попадалось и породистых: гончих, карликовых и обычных пуделей, немецких овчарок, спаниелей, пробежали два датских дога, пара эрдельтерьеров, ризеншнауцер, два угольно-черных добермана с поросшими аккуратно подстриженной коричневой шерстью мордами. И десятки кошек. Больших и маленьких, тощих и упитанных, черных, пестрых, белых, рыжих, серых, пятнистых, полосатых, с прямыми хвостами и с хвостами, загнутыми крючком кверху. Ни одна из всего этого множества собак не рычала и не лаяла. И кошки тоже не мяукали я не шипели. Единственными раздававшимися в коллекторе звуками было тяжелое дыхание животных и мягкое постукивание и поскрёбывание их лап и когтей по бетону. С какой-то странной целеустремленностью животные неслись вперед по туннелю, устремив взгляд прямо перед собой и даже не скашивая глаз в боковой коллектор, туда, где стояла Билли и Пик. — Что они тут делают? — недоуменно спросил Билли. — И как они тут оказались? По радио до них немедленно донесся сверху, с улицы, голос Копперфильда: — Что у вас там происходит, Веласкез? Билли был так поражен видом этой живой реки, что не сразу ответил. В потоке кошек и собак стали появляться и другие животные. Белки. Кролики. Серебристая лисица. Еноты. Опять белки и лисицы. Скунсы. Все они целеустремленно мчались куда-то вперед, глядя прямо перед собой, безразличные ко всему, что могло происходить по сторонам, и сосредоточенные только на одном: вперед и вперед. Вот показались опоссумы и барсуки. Полевые мыши и бурундуки. Койоты. Все они неслись вперед и вниз, по дороге, ведущей в Ад, тесня друг друга, перепрыгивая через головы и прошмыгивая под ногами, но не сталкиваясь, между собой, не нападая и не огрызаясь друг на друга, не останавливаясь и не задерживаясь по дороге. Этот странный, непрерывный, быстро несущийся и по-своему гармоничный поток действительно чем-то напоминал реку. — Веласкез! Пик! Что у вас там происходит? Отвечайте! — Животные, сэр, — ответил Билли генералу. — Собаки, кошки, еноты и масса других. Целая река. — Сэр, они бегут вниз по коллектору под Скайлайн-роуд, в том месте, где соединяются два туннеля, — добавил Рон Пик. — Животные здесь, под землей, — удивленно проговорил Билли. — Странно. — Уходите оттуда, черт побери! — приказал Копперфильд. — Немедленно уходите оттуда! Немедленно! Билли вдруг вспомнил, о чем предупреждал их генерал перед тем, как они спустились в люк: «Если увидите что-нибудь движущееся… даже если это будет обычная мышь, немедленно уматывайте оттуда со всех мог!» Поначалу это подземное шествие животных показалось ему странным и удивительным, но ничего особенно пугающего в нем не было. Однако сейчас этот необычный парад вдруг вызвал в нем суеверный страх и по-настоящему напугал его. К тому же теперь среди животных появились змеи. Десятки змей. Быстро скользили вперед длинные полозы, на фут или даже на два поднимая вверх головы над дном коллектора. Много было гремучих змей, их зловещие головы тоже раскачивались в воздухе чуть ниже, чем головы полозов, но они устремлялись вперед так же быстро, переплетаясь по пути друг с другом в тугие узлы, а потом разделяясь, с таинственной целеустремленностью скользя куда-то в темноту, во мрак, к такой же неясной и таинственной цели. Змеи обратили на Пика и Веласкеза не больше внимания, чем до них кошки и собаки, но одного только появления змей оказалось достаточно, чтобы мгновенно вывести Билли Веласкеза из созерцательного транса. Билли ненавидел змей. И стоило им только заскользить мимо, как он сразу развернулся лицом к лестнице и подтолкнул Пика в спину: — Пошли! Пошли отсюда! Быстро! Бегом! Откуда-то послышался жуткий звук. Это были одновременно и рев, и рычание, и вопль, и крик. Сердце у Билли заколотилось с сумасшедшей скоростью. Звук этот донесся из коллектора под Скайлайн-роуд, с той дороги, что вела прямым ходом в Ад. Оглянуться и посмотреть Билли не осмелился. Звук этот не был ни криком человека, ни одним из тех звуков, какие обычно издают животные. Исходил он, несомненно, от какого-то живого существа. Но от существа глубоко чуждого и враждебного обычному миру: только так можно было понять те обнаженные чувства, что были вложены в этот крик, от которого кровь стыла в жилах. Звук этот не был криком боли или страха. Это был вопль ничем не сдерживаемой ярости, ненависти, свирепой кровожадности. По счастью, этот преисполненный злобы вопль прозвучал не рядом с Билли и Пиком, а донесся до них откуда-то сверху, со стороны гор, с дальнего и верхнего конца коллектора под Скайлайн-роуд. Издавшее этот вопль чудовище — кем бы и чем бы оно ни было — но крайней мере было еще далеко и не нападало на них. Но оно явно приближалось, причем быстро. Рон Пик заторопился к лестнице, следом за ним спешил Билли. Оба они бежали, но бежали неловко, неуклюже: им мешали громоздкие защитные костюмы, ограниченность пространства и изгибы трубы. До лестницы было в общем-то недалеко, но приближались они к ней до умопомрачения медленно. Сзади из коллектора снова донесся вопль чудовища. На этот раз он прозвучал уже ближе. В нем слились, переплелись воедино и жалобный вой, и злобное рычание, и тоскливый скулеж, и мощный рык, и зловещее завывание, и раздраженный пронзительный визг. Звук был как будто соткан из колючей проволоки, от него лопались барабанные перепонки, разрывалось сердце и, казалось, по самой душе скребли холодные, колючие металлические мурашки. Еще ближе. Если бы Билли Веласкез был богобоязненным назаретянином или же прошедшим огонь, воду и медные трубы первохристианином-ортодоксом, привыкшим обрушивать Библию на головы врагов и неверных, он бы немедленно распознал, что за чудовище издает подобные звуки. Если бы ему кто-нибудь когда-нибудь объяснил, что Властитель Тьмы и его посланцы — Силы Зла способны обретать материальные формы и ходить по Земле, улавливая в свои сети наивные и нестойкие души, он бы сразу же определил, с кем имеет дело. Он бы не задумываясь сказал: «Это сам Дьявол». Зловещий вой, эхом разносившийся по бетонному коллектору, был и вправду настолько ужасен. И с каждым разом он слышался все ближе. И ближе. И приближался все быстрее. Но Билли был католиком. Современный католицизм делает упор на безграничное милосердие Божие, на способность Господа к беспредельному состраданию, а не на изображения Ада с его кипящей смолой и горящей серой. Самые крайние ортодоксы-протестанты усматривают руку Дьявола во всем, начиная с телевидения и кончая светильниками на раздвижной подвеске. Католицизм же исповедует более спокойное и терпимое отношение к жизни. Из лона римско-католической церкви вышли в современный мир такие явления, как поющие монашенки, телевизионные религиозные программы и викторины, новый современный тип проповедников. И потому воспитанный в католичестве Билля Веласкез не связал сразу же леденящие кровь завывания неведомого чудовища со сверхъестественными Силами Зла — даже несмотря на то, что ему так живо припомнился рассказ из комикса о дороге, ведущей в Ад. Билли престо чувствовал, что это вышедшее из земных недр и приближавшееся сейчас к ним завывающее чудовище было чем-то плохим. Очень плохим. И оно приближалось. Оно неумолимо приближалось. Рон Пик уже добрался до лестницы, ухватился за нее и стал взбираться вверх. Он уронил свой фонарь, но не стал возвращаться, чтобы поднять его. Пик поднимался слишком медленно, и Билли закричал ему: — Живее, мать твою!.. Зловещее завывание неведомого чудовища теперь уже до предела заполняло собой все подземное пространство, подобно ливневому потоку. Билли кричал, но посреди этого завывания он не в состоянии был расслышать даже собственных слов. Пик был уже на середине лестницы. Освободившегося пространства было достаточно, чтобы Билли мог начать подниматься следом за ним. Он взялся одной рукой за ступеньку лестницы. Нога у Пика сорвалась, и он соскользнул на ступеньку вниз. Билли выругался и успел убрать свою руку. Леденящие душу и как будто предвещавшие смерть вопли становились все громче. И все ближе и ближе. Луч от упавшего фонаря Пика был направлен в сторону коллектора под Скайлайн-роуд, но Билли ее оглядывался и не смотрел туда. Взгляд его был устремлен только вверх, туда, где в открытом люке сиял солнечный свет. Если бы, оглянувшись назад, он вдруг увидел нечто ужасающее, силы окончательно покинули бы его, он оказался бы не в состоянии сделать ни одного движения, и оно схватило бы его. О Господи, уж тогда-то оно бы наверняка его схватило! Пик изо всех сил карабкался наверх, ноги его больше уже не срывались со ступенек. Даже через сапоги Билли подошвами ног ощущал вибрацию, передававшуюся по бетонному дну и стенкам коллектора. Эта вибрация была чем-то похожа на эхо очень тяжелых шагов, от которых дрожала земля. Очень тяжелых, но в то же время быстрых как молния. Не оглядывайся, не оглядывайся! Билли схватился за поручни лестницы и полез вверх так быстро, как только позволяло ему продвижение Пика. Одна ступенька. Две. Три. У него над головой Пик уже выбрался из люка и вывалился всем телом на мостовую. Теперь, когда Пик больше не загораживал собой колодец, яркое осеннее солнце светило своими лучами прямо на Билли Веласкеза, и это было похоже на те лучи, которые проникают внутрь церкви сквозь цветные витражи — может быть, потому, что в обоих случаях лучи символизировали свет надежды. Билли поднялся уже до половины лестницы. — Выберусь, успею, определенно выберусь, — повторял он себе, не в силах перевести дыхание. «Но Господи, что за завывания, что за вопли! Как будто я попал в самый центр смерча!» Еще ступенька позади. И еще одна. Защитный костюм казался ему сейчас невероятно тяжелым. Таким тяжелым он еще никогда не был. Он весил, наверное, целую топну. Не костюм, а рыцарские доспехи. Эта тяжесть неумолимо тянула Билли вниз. Он поднимался по вертикальному колодцу, с тоской и надеждой глядя вверх, на свет и на лица склонившихся над люком людей. Он карабкался изо всех сил. «Выберусь!» Голова его показалась из люка. Кто-то протянул ему навстречу руку, помогая выкарабкаться наружу. Это был сам генерал Копперфильд. Завывания позади Билли стихли. Билли поднялся еще на ступеньку, снял одну руку с лестницы и протянул ее навстречу руке генерала… …но что-то снизу обвило его ноги прежде, чем он успел ухватиться за руку Копперфильда. — Нет!!! Что-то сильно обхватило его, сдернуло его ноги с лестницы и потащило. Закричав — странно, он сам как бы со стороны слышал собственный голос, зовущий маму, — Билли полетел вниз, ударяясь шлемом то о стенки колодца, то о ступеньки лестницы, разбивая себе локти и колени, отчаянно, но безуспешно пытаясь ухватиться по пути за ступеньку, пока не свалился наконец, оглушенный, в мощные объятия чего-то непередаваемого, необъяснимого, что поволокло его по туннелю в сторону коллектора под Скайлайн-роуд, обратно. Билли сопротивлялся, упирался, извивался, лупил куда попало кулаками, но все это не возымело никакого эффекта. Что-то крепко держало его и тащило все дальше и дальше, все глубже в туннель. В неровном отраженном свете, что попадал в коллектор через люк и колодец, а потом в слабеющем луче от оброненного Пиком электрического фонаря Билли сумел разглядеть какие-то части того, что схватило его и тянуло сейчас под землю. Но немногое. Отдельные фрагменты то выхватывались из тени, то мгновенно снова растворялись в темноте. Однако увиденного оказалось достаточно, чтобы Билли мгновенно обмочился и обделался. Это нечто было похоже на ящерицу. Но это была не ящерица. Оно чем-то напоминало насекомое. Но оно не было и насекомым. Оно одновременно и шипело, и мяукало, и рычало. Оно вцепилось в защитный костюм Билли и, таща его по туннелю, уже разодрало скафандр в нескольких местах. У него была огромная пасть с мощными челюстями и многочисленными зубами. Но — Господь ты наш Спаситель, Пресвятая Дева Мария и святой Иосиф — что же это были за зубы! Двойной ряд высоких, крепких, острых как бритва клыков! У этого существа были когти, и само оно было огромного размера, с затуманенными красными глазами и слегка миндалевидными зрачками, глубокими и черными, как могила. Вместо шкуры все оно было покрыто чешуей, а спереди, прямо из бровей, над налитыми злобой глазами, торчали два больших, острых, изогнутых, как ятаганы, рога. Вместо носа на похожем на свиное рыле торчал пятачок, из которого непрерывно лили сопли. В пасти, среди смертоносных клыков, непрерывно сновал туда-сюда длинный, раздвоенный на конце язык. Билли разглядел и еще что-то, похожее то ли на жало осы, то ли на клешни. Вот это-то чудовище и тянуло сейчас Билли Веласкеза по туннелю к коллектору под Скайлайн-роуд. Билли отчаянно цеплялся за стенки, пытаясь найти хоть что-нибудь, за что можно было бы ухватиться и задержаться, но он только разодрал перчатки, а потом ободрал и пальцы о стенки туннеля. Когда это произошло, он ощутил на коже рук холодный воздух подземелья и подумал, что, возможно, именно сейчас он подхватывает какую-нибудь заразу; впрочем, подобная угроза в тот момент волновала его меньше всего. Чудовище тащило его куда-то в гремящую темноту. Вот оно приостановилось, перехватило его покрепче. Разодрало костюм. Ударило по шлему и разбило его. Вот попыталось открыть плексигласовое забрало. Око добиралось до Билли так, словно он был сделанным из живой плоти лакомым ядрышком, скрытым под прочной скорлупой ореха. Билли с трудом сохранял рассудок, уже отчасти помутившийся, но он все же изо всех сил пытался удержать способность соображать, пытался понять, какова природа этого страшилища. Вначале оно показалось ему каким-то доисторическим ящером, непонятно как прожившим миллионы лет и теперь провалившимся в это подземелье через какую-нибудь дыру во времени. Но нет, это было явно невозможно. Билли почувствовал, как его начинает разбирать смех, какой-то серебристый, сумасшедший, пронзительный смех, и понял, что стоит только поддаться приступу этого лунатического смеха, и все — он пропал, его песенка будет спета. Чудовище уже почти полностью ободрало с него костюм. Оно уже касалось его, и это было прикосновение чего-то сильного, холодного, гладкого и скользкого, чего-то пульсирующего, а главное, каким-то непонятным образом меняющегося в те мгновения, когда оно дотрагивалось до тела Билли. Задыхаясь, отчаянно ловя воздух, заходясь в крике, Билли вспомнил вдруг картинку в какой-то старой религиозной книге. На ней был изображен Сатана. И это чудовище, которое его сейчас тащило, выглядело именно так. Точь-в-точь как на той картинке. Да, совершенно точно. Такие же рога. Такой же темный, раздвоенный на конце язык. Красные глаза. Это был сам Сатана, восставший из Ада. «Но нет: это же тоже совершенно невозможно, — подумал Билли. — Никак невозможно!» Пока эти мысли лихорадочно проносились в его голове, зловещее чудовище продолжало сдирать с него остатки костюма и уже почти полностью стянуло шлем. В кромешной темноте Билли почувствовал, как свинячье рыло тыкалось в клапаны сломанного шлема, как оно принюхивалось, стараясь нащупать его лицо. Билли ощутил слабый, но отвратительный запах, непохожий ни на один из известных ему. Чудовище добралось до его живота и бедер, и тут Билли испытал приступ странной, очень сильной и необычной боли: как будто все его тело в тех местах жгли огнем или разъедали кислотой. Он вертелся, крутился, взвивался, корчился, напрягал все свои оставшиеся силы — но это было совершенно бесполезно. Билли опять словно со стороны услышал свой голос, в котором сливались и ужас, и замешательство, и боль: «Это Дьявол! Это сам Дьявол!» До него вдруг дошло, что с того самого момента, как его сдернули с лестницы, он непрерывно что-то кричал. И теперь, когда он уже не мог больше издать ни звука, когда невидимое пламя уже обратило в пепел и прах его легкие и добиралось до горла, он только беззвучно молился, стараясь хоть этой молитвой заглушить чувство страха, понимание неотвратимости близкой уже смерти, как-то уменьшить охватившее его ужасное ощущение собственной ничтожности, малости и бессилия: «Дева Мария, Матерь Божья, услышь мою молитву… услышь меня, Дева Мария, и помолись за меня… помолись, помолись за меня, Пресвятая Дева Мария… Матерь Божья, Пресвятая Богородица, помолись и заступись за меня и…» Он получил ответ на свой вопрос. Теперь он знал, что произошло с сержантом Харкером.Гэйлен Копперфильд любил природу, интересовался ею, много бродил пешком по полям и лесам и неплохо знал флору и фауну Северной Америки. Одними из самых интересных живых существ, по его мнению, были те пауки, что обычно обитают на земле и строят хитроумные гнезда-ловушки. Эти пауки — очень толковые инженеры. Они сооружают в земле глубокое спиралевидное гнездо и накрывают его сверху крышкой, способной поворачиваться на чем-то вроде петли или шарнира. Крышка по своей окраске так идеально совпадает с поверхностью грунта, на которой лежит, что насекомые без малейших подозрений наступают на нее, ничего не ведая о притаившейся в глубине опасности. Но стоит им только оказаться на крышке, как она поворачивается, насекомое летит вниз, оказывается в ловушке и попадает на стол паужу. Молниеносность, с которой это происходит, одновременно и поражает, и приводит в ужас. Только что насекомое было еще здесь, лишь мгновение назад оно еще стояло на крышке — а в следующий миг его уже нет, словно никогда и не было. Капрал Веласкез исчез с такой внезапностью, как будто бы он наступил на крышку западни подобного паука. Он просто исчез. Мгновенно. Люди генерала Копперфильда и без того нервничали из-за исчезновения сержанта Харкера. Напугали их и те кошмарные звуки, что доносились вначале из канализации, но прекратились перед тем, как Веласкеза утянуло в колодец. Как только что-то схватило капрала и дернуло его вниз, все, кто был наверху, бросились на противоположную сторону улицы, опасаясь, что из-под земли может выскочить кто-то готовый кинуться на них. Сам Копперфильд, который уже протягивал руку, чтобы помочь Веласкезу вылезти, инстинктивно отпрыгнул назад, когда голова капрала мгновенно снова скрылась в колодце. Отпрыгнул — и застыл на месте, не зная, как поступить и что делать дальше. На генерала это было совершенно непохоже. Никогда еще он не проявлял нерешительности в критической ситуации. Вмонтированное в скафандр переговорное устройство доносило до него отчаянные вопли Веласкеза. Сделав огромное усилие, чтобы заставить себя сдвинуться с места, Копперфильд снова приблизился к колодцу и заглянул внутрь. Внизу, на дне туннеля, по-прежнему лежал включенный фонарь Пика. Больше там ничего не было. Не было и никаких признаков Веласкеза. Копперфильд стоял в нерешительности. Откуда-то до него доносились крики капрала. Послать людей на помощь этому несчастному? Нет. Это означало бы отправить их на верную гибель. Он вспомнил, что произошло с Харкером. Нельзя допускать неоправданных потерь. Но — о, Господи! — какие ужасные вопли! Правда, не такие страшные, как тогда, когда кричал Харкер. Сержант кричал от невыносимой физической боли. Здесь же это крики предсмертного ужаса. Да, эти вопли не такие кошмарные, но все-таки и от них кровь стынет в жилах. Нечто подобное Копперфильду доводилось слышать только на поле боя. В потоке криков можно было различить отдельные слова, которые звучали так, будто их выплевывали на выдохе. Задыхаясь и проглатывая звуки, капрал отчаянно пытался объяснить тем, кто оставался наверху — а возможно, просто самому себе, — то, что он видел. — …ящерица… — …насекомое… как жук… — …дракон… — …доисторический… — …Сатана… Наконец голосом, в котором слились и физическая боль, и переживаемые душевные страдания, капрал прокричал: «Это Дьявол! Это сам Дьявол!» После этого доносились уже только ужасающие вопли, подобные тем, какие испускал Харкер. Слава Богу, что по крайней мере на этот раз они длились не так долго. Когда все стихло и наступила тишина, Копперфильд положил на место крышку люка. Из-за кабеля крышка не могла закрыться и с одного края оставалась чуть приподнятой, но она все же прикрывала отверстие люка почти полностью. На тротуаре, футах в десяти от колодца, генерал поставил двух часовых и приказал им стрелять во все, что может показаться оттуда. Поскольку автомат Харкеру не помог, Копперфильд и несколько его подчиненных занялись подготовкой всего необходимого для изготовления «молотовских коктейлей». Из магазина Брукхарта на Вейл-лэйн они притащили десятка два бутылок вина, вылили содержимое, потом на дно каждой бутылки насыпали примерно с дюйм мыльного порошка, залили бензином, а в горлышки бутылок вставили матерчатые фитили и плотно забили их тряпками. Но поможет ли огонь там, где оказались бессильными пули? Что именно произошло с Харкером? Что произошло с Веласкезом? «Что будет со мной?» — подумал Копперфильд. Первая из двух передвижных лабораторий обошлась больше чем в три миллиона долларов, но она стоила того: за эти деньги министерство обороны приобрело подлинное чудо техники. Лаборатория была вершиной технического прогресса в области микроминиатюризации. Ее компьютер, основанный на трех микросхемах «Интел-432» (девять силиконовых чипсов вмещали в себя шестьсот девяносто тысяч транзисторов), занимал не больше места, чем пара обычных чемоданов, но представлял собой в высшей степени современную систему, способную осуществлять медицинские анализы самой высокой сложности. Этот компьютер обладал большим объемом памяти и более широкими программными возможностями, чем основная часть стационарных компьютеров, установленных в клиниках и лабораториях крупнейших университетов. Внутри «дома на колесах» было установлено множество всякого диагностического оборудования, спроектированного и размещенного таким образом, чтобы с максимальной отдачей использовать ограниченные площадь и объем лаборатории. Вдоль одной из стенок стояли два компьютерных терминала; кроме них, здесь были и другие приборы: центрифуга, необходимая для выделения различных компонентов в составе крови, мочи и других жидкостей; фотоспектрометр, спектрограф, электронный микроскоп, система считывания изображения на котором была соединена с одним из экранов компьютера компактная установка для быстрого замораживания крови и образцов тканей для их последующего хранения или же для проведения таких анализов и исследований, которые легче выполняются на замороженном материале, и многое другое. В передней части кузова, прямо за кабиной водителя, располагался откидной стол для проведения вскрытий; когда им не пользовались, его можно было сложить. Сейчас стол был в рабочем положении и на его сделанной из нержавеющей стали поверхности покоилось тело Гэри Векласа — мужчины тридцати семи лет кавказского происхождения. Голубые пижамные брюки были разрезаны ножницами, сняты с трупа и отложены пока в сторону для последующего тщательного осмотра. Доктор Сет Голдстейн, один из трех ведущих судебно-медицинских экспертов Западного побережья, готовился к проведению вскрытия. Он стоял сбоку от стола, там же, где и доктор Дэйрил Робертс. По другую сторону стола, на котором лежал труп, прямо напротив врачей стоял генерал Копперфильд. Голдстейн нажал кнопку на панели управления, установленной на стенке фургона справа от него. Теперь во время вскрытия будет записано каждое произнесенное здесь слово. Впрочем, это была обычная практика даже в самых рядовых моргах. Будет производиться и видеозапись: две установленные на потолке видеокамеры были нацелены на труп и нажатием той же кнопки приведены в действие. Голдстейн начал с внимательного общего осмотра и тщательного описания внешнего состояния трупа: он охарактеризовал необычное выражение на лице покойника, упомянул тот факт, что все тело выглядит одним сплошным кровоподтеком или синяком, что оно странно раздуто. Он старался отыскать на теле какие-нибудь механические повреждения, ранки, царапины, порезы, отдельные кровоподтеки, участки, где была бы содрана кожа, где были бы видимые следы или признаки внутренних переломов, волдыри, любые указания на полученное ранение. Но ничего этого на теле не было. Положив руку в резиновой перчатке на поднос с хирургическими инструментами, Голдстейн на минуту задумался, не зная, с чего же начать. Обычно, когда он приступал к проведению вскрытия, у него уже было какое-то общее представление о причинах, вызвавших смерть. Если человек умер от болезни, то Голдстейн обычно предварительно знакомился с его историей болезни. Если смерть наступила в результате несчастного случая, то всегда были какие-товидимые, явные травмы. Если человека убили, то и тут бывали явные признаки насилия. Но в данном случае внешний вид трупа не только не помогал ответить ни на какие вопросы, но и рождал множество новых, очень необычных и совершенно непохожих на те, с какими ему приходилось сталкиваться в своей практике раньше. Как бы прочитав мысли Голдстейна, Копперфильд проговорил: — Ищите ответы, доктор. Вполне возможно, что от этого зависят наши жизни.
Во втором «доме на колесах» было многое из того же оснащения, что и в первом — диагностическая аппаратура, различные приборы, центрифуга, электронный микроскоп и многое другое, — но в дополнение ко всему этому было и такое оборудование, которым не располагала первая лаборатория. Правда, здесь не было стола для проведения вскрытий и стояла только одна видеокамера. Но зато вместо двух компьютерных терминалов здесь были установлены три. Доктор Энрико Вальдез сидел сейчас перед одним из них в глубоком кресле, специально сделанном так, чтобы на нем мог удобно размещаться человек, одетый в защитный скафандр и с прикрепленными за спиной баллонами воздуха. Вместе с Хоуком и Найвеном доктор занимался сейчас химическим анализом всевозможных образцов и предметов, собранных в жилых домах и общественных местах вдоль Скайлайн-роуд и Вейл-лэйн — в том числе и анализом муки и булочек, которые они взяли с рабочего стола в булочной Либерманов. Они искали следы конденсата, который должен был остаться после применения нервно-паралитического газа, или же следы каких-нибудь других посторонних химических веществ. Пока что ничего необычного обнаружено не было.
Доктор Вальдез вообще не верил, что причиной всего происшедшего могли быть нервно-паралитический газ или какая-нибудь болезнь. Он начинал уже задумываться о том, не лежит ли вообще весь этот случай целиком и полностью в той сфере, которой занимались Айсли и Аркхэм. Эти двое, одетые в скафандры, на которых не были обозначены их имена, вообще не входили в состав бригады гражданской обороны. Они принадлежали к совершенно иному подразделению. Еще сегодня утром, перед самым рассветом, когда доктора Вальдеза познакомили с этой парой на сборном пункте в Сакраменто и он услышал, чем они занимаются, он чуть было не расхохотался. Тогда он полагал, что их занятие было пустым растранжириванием денег налогоплательщиков. Сейчас он уже начинал считать иначе. Он задумывался… У него появились вопросы… и он был по-настоящему встревожен. Доктор Сара Ямагути тоже работала во второй лаборатории. Она занималась приготовлением культур бактерий. Пробы крови, взятые из тела Гэри Векласа, она методично вводила в различные питательные среды — напоминающие желе растворы питательных веществ, на которых предпочитали жить и размножаться разные типы бактерий: агар из лошадиной крови, из овечьей, шоколадный агар и многие другие. Сара Ямагути была генетиком и потратила целых одиннадцать лет на исследования рекомбинаций в структуре ДНК. Если бы было установлено, что Сноуфилд оказался жертвой какого-то искусственно созданного микроорганизма, то работа Сары обрела бы первостепенное значение для всего последующего расследования. Ей бы пришлось выполнить исследование морфологии этого микроба, а потом на основании полученных результатов постараться определить его возможные воздействия на человеческий организм. Как и доктор Вальдез, Сара Ямагути тоже начала подумывать, что в проводимом ими расследовании Айсли и Аркхэм могут в конечном счете оказаться гораздо полезнее, чем она решила вначале. Сегодня утром предмет их занятий показался ей весьма экзотическим, сродни скорее магии или паранаукам. Но теперь, в свете всего происшедшего с того момента, как их бригада прибыла в Сноуфилд, доктор Ямагути была вынуждена признать, что сфера профессиональных интересов Айсли и Аркхэма представляется ей все более уместной и актуальной. Как и доктор Вальдез, она тоже была по-настоящему встревожена.
Доктор Вильсон Беттенби, руководитель научной части БГО ОБЗ на Западном побережье, сидел за компьютерным терминалом через два кресла от доктора Вальдеза. Беттенби проводил сейчас автоматизированный анализ нескольких проб воды. Пробы были помещены в специальный прибор, который испарял воду, конденсировал пар и собирал дистиллят, а также подвергал спектрографическому и другим видам исследований сухой остаток. Беттенби не занимался поисками каких-либо микроорганизмов, для чего нужны были иные приборы и методы. На этом же аппарате определялось присутствие в воде химических элементов и веществ, устанавливались их содержание и состав, и все результаты анализа высвечивались на экране компьютера. Пробы воды, которые сейчас проверялись — за исключением одной, — были взяты на кухнях и в ванных домов, расположенных по Вейл-лэйн. Анализ показал, что ни в одной из них не содержится никаких опасных химических примесей. Но была и еще одна проба — та, которую полицейский Отри собрал с пола на кухне в одном из домов на Вейл-лэйн прошлой ночью. По словам шерифа Хэммонда, в нескольких домах были обнаружены лужи воды на полу и насквозь промокшие ковры. К сегодняшнему утру, однако, почти вся вода из них испарилась и осталась только пара-другая влажных ковров, взять из которых нормальную пробу Беттенби все равно бы не удалось. Поэтому он залил в анализатор воду из той пробы, что была собрана полицейским. Через несколько минут компьютер выдал полный химический в минеральный состав воды и того сухого остатка, что образовался после ее перегонки. Компьютер продолжал высвечивать все новые символы и цифры, перебирая по очереди все, что в принципе могло бы быть обнаружено в воде. Но результаты были всякий раз одни и те же. В набранной полицейским с пола — а значит, недистиллированной — воде абсолютно не содержалось следов каких бы то ни было химических элементов, кроме двух: водорода и кислорода. А после перегонки этой воды не осталось совершенно никакого остатка: там, где он должен быть, отсутствовали даже следы любых элементов. Вода, содержавшаяся во взятой Отри пробе, не могла быть из городского водопровода, она явно не была ни хлорирована, ни осветлена. Не могла она быть и кипяченой. В той питьевой воде, что обычно продается в бутылках, всегда присутствуют какие-то минеральные соединения. Возможно, в той квартире, откуда была взята проба, на водопроводном кране стоял дополнительный фильтр, но если даже и так, то в прошедшей через него воде все равно должны были бы оставаться обычные минеральные вещества. А во взятой Отри пробе оказалась многократно Отфильтрованная, лабораторной степени очистки, химически чистая дистиллированная кода. Но… откуда же в таком случае она взялась на кухонном полу? Беттенби, нахмурившись, неотрывно всматривался в экран компьютера. А не состояло ли и небольшое озерцо на полу винного магазина Брукхарта тоже из такой сверхчистой водички? И чего ради кому-то могло понадобиться разливать по всему городу десятки галлонов дистиллированной воды? А самое главное — где они сумели ее достать в таких количествах? Странно.
Дженни, Брайс и Лиза сидели за одним из угловых столиков в столовой гостиницы «На горе». Майор Айсли и капитан Аркхэм, одетые в защитные костюмы, на шлемах которых не были нанесены имена их владельцев, сидели на высоких табуретках напротив них, за тем же столом. Они принесли страшный рассказ о том, что произошло с капралом Веласкезом. Принесли они с собой и магнитофон, который стоял сейчас в центре стола. — Я все-таки не понимаю, почему это не может подождать, — проговорил Брайс. — Мы не отнимем у вас много времени, — ответил майор Айсли. — Мне надо отправлять людей на осмотр города, — возразил Брайс. — Мы обязаны обойти каждый дом, пересчитать всех погибших, установить, кто погиб, а кто пропал, и постараться найти разгадку того, кто все-таки, черт возьми, убил этих людей. Такой работы здесь нам на несколько дней. Особенно если учесть, что после захода солнца работать нельзя. Я не могу позволить своим людям ходить по городу ночью, когда в любой момент может отключиться свет. Я не имею права и не допущу, черт побери, подобного риска! Дженни вспомнилось обглоданное лицо Уоргла. И его пустые глазницы. — У нас всего несколько вопросов, — продолжал настаивать майор Айсли. Аркхэм включил магнитофон. Лиза пристально смотрела на майора и на капитана. Дженни гадала, что на уме у сестры. — Начнем с вас, шериф, — сказал майор Айсли. — На протяжении двух суток, предшествовавших всему тому, что произошло в этом городе, получало ли ваше полицейское управление заявления или какую-либо информацию о внезапных отключениях телефонов и электричества? — Когда случается что-то подобное, — ответил Брайс, — люди обычно обращаются в соответствующую компанию, а не в полицию. — Да, конечно, но разве сами компании не ставят вас в известность о крупных авариях? Ведь когда отключаются телефоны или электричество, всегда активизируются преступники, верно? — Разумеется, — Брайс кивнул. — Но, насколько я знаю, предупреждений такого рода мы не получали. — А не было ли в этой местности каких-либо нарушений в приеме радио— и телепередач? — капитан Аркхэм выжидательно подался вперед. — Нет, я ни о чем таком не слышал, — ответил Брайс. — Какие-нибудь необъяснимые взрывы? — Взрывы? — Да, — сказал Айсли. — Взрывы, или громкие хлопки от самолетов, переходящих звуковой барьер, или какие-нибудь другие очень громкие шумы из непонятного источника? — Нет, ничего подобного не было. «Интересно, к чему это они клонят», — подумала Дженни. Айсли немного помолчал, как бы испытывая колебание, потом спросил: — А не было сообщений, что кто-то видел в округе необычные самолеты? — Нет. — Вы ведь оба не из бригады генерала Копперфильда, верно? — спросила Лиза. — Поэтому у вас и имена на шлемах не написаны, да? — И костюмы на вас сидят не так, как на всех других, — добавил Брайс. — На остальных они подогнаны по фигуре. А на вас сидят так, как будто их только сейчас сняли с вешалки. — Вы очень наблюдательны, — заметил Айсли. — Если вы не из отдела бактериологической защиты, — спросила Дженни, — то кто вы и что здесь делаете? — Мы не хотели прямо с этого начинать, — ответил Айсли. — Мы полагали, что скорее получим от вас прямые и объективные ответы, если вы не будете пока знать, что именно мы ищем. — Мы не из военно-медицинской службы, — сказал Аркхэм. — Мы из ВВС. — Служба слежения за космосом, — добавил Айсли. — Это в общем-то не секретная организация, но… как вам сказать… одним словом, мы предпочитаем, чтобы о вас не было слишком широко известно. — Слежения за космосом? — переспросила Лиза, и глаза у нее загорелись. — То есть за НЛО, да? За летающими тарелками? Дженни заметила, что при словах «летающие тарелки» Айсли поморщился. — Мы не занимаемся проверкой сообщений насчет того, что кто-то где-то опять видел маленьких зеленых человечков, — сказал Айсли. — Прежде всего, для таких проверок у нас нет средств. Мы занимаемся тем, что пытаемся спрогнозировать научные, социальные и военные аспекты первой встречи человечества с враждебным разумом. Как организация мы скорее мозговой центр, чем что-то иное. — Я не слышал, чтобы кто-нибудь в нашей местности говорил о том, что видел летающие тарелки, — отрицательно покачал головой Брайс. — Именно это и имел в виду майор Айсли, — сказал Аркхэм. — Видите ли, наши исследования показывают, что первый контакт может произойти настолько заурядным образом, что мы даже не сообразим, что это самая первая встреча с иным разумом. Обычно полагают, что с неба спустится космический корабль… один или несколько… На самом деле все может быть совсем не так. Если мы столкнемся с действительно враждебным нам интеллектом, то их корабли могут настолько отличаться от наших представлений о том, как должен выглядеть космический корабль, что мы не сможем заметить даже сам факт их приземления. — Вот почему мы проверяем все странные явления, даже если они на первый взгляд никак не связаны с НЛО, — продолжал Аркхэм. — Например, прошлой весной в одном местечке в Вермонте обнаружился вдруг дом, в котором необыкновенно активно действовал полтергейст. Приподнималась и передвигалась мебель. По кухне летали тарелки и разбивались о стены. Из степ начинали вдруг лить потоки воды, причем в таких местах, где даже не было водопроводных труб. Прямо из воздуха возникали вдруг ни с того, ни с сего огненные шары… — Но разве полтергейст — это не привидения? — спросил Брайс. — И какое отношение имеют привидения к сфере ваших интересов? — Никакого, — ответил Айсли. — В привидения мы не верим. Но мы задаемся вопросом, не может ли быть явление полтергейста следствием того, что попытка установить канал общения между интеллектами разного типа почему-то не удалась. Если существа, принадлежащие к враждебному нам разуму, общаются между собой только при помощи телепатки, то мы будем не в состоянии перехватывать их обмены мыслями. Но в этом случае невоспринятая психическая энергия, возможно, может производить такой разрушительный эффект, который мы приписываем обычно потусторонним силам. — И к какому заключению вы в конце концов пришли относительно того полтергейста в Вермонте? — спросила Дженни. — К заключению? Ни к какому, — ответил Айсли. — Мы просто сделали вывод, что это… интересно, — добавил Аркхэм. Дженни посмотрела на сестру и увидела, что Лиза сидит с широко раскрытыми глазами. Враждебный интеллект — это было нечто такое, что Лиза в состоянии была воспринять, понять, принять как возможное объяснение. Благодаря книгам, кино, телевидению к такого рода угрозам и опасностям она была внутренне подготовлена. Космические чудовища. Пришельцы из дальних миров. Конечно, все это не делало убийства, совершенные в Сноуфилде, менее ужасными. Но это была понятная, известная угроза, неизмеримо более предпочтительная по сравнению с угрозой неизвестной. Дженни очень сильно сомневалась, что первая встреча человечества с обитателями других миров произойдет по подобным сценариям, но Лиза, кажется, была готова в это поверить. — А Сноуфилд? — спросила девочка. — Здесь именно это и происходит, да? Тут приземлился кто-то… оттуда? Не зная, что сказать, Аркхэм смущенно посмотрел на майора Айсли. Айсли откашлялся, прочищая горло. Переговорное устройство, укрепленное у него на груди, воспроизвело этот кашель так, что получился какой-то рахитично-механический звук: — Пока еще слишком рано судить о причинах того, что произошло здесь. Мы полагаем, что при первом контакте между человечеством и иной цивилизацией будет существовать небольшая вероятность опасности биологического заражения. Поэтому у нас есть договоренность с бригадой генерала Копперфильда о том, чтобы в таких случаях обмениваться информацией. Трудно объяснимая вспышка неизвестного заболевания может быть указанием на то, что произошел нераспознанный контакт с посланцами внеземных цивилизаций, и что эти посланцы, возможно, находятся среди нас. — Ну, если мы в данном случае действительно имеем дело с каким-то внеземным созданием, — проговорил явно сомневающийся в этом Брайс, — то для представителя «высшего» разума оно чертовски кровожадно. — Я тоже так подумала, — сказала Дженни. — Нет никаких гарантий того, что существо, обладающее более высоким, чем у нас, интеллектом, обязательно будет миролюбивым и благожелательным к нам, — удивленно поднял брови Айсли. — Совершенно верно, — подтвердил Аркхэм. — Почему-то все всегда думают, что пришельцы из других цивилизаций непременно будут обладать знанием, как можно жить в полной гармонии между собой и с представителями других миров. Но, как поется в той старой песенке, не обязательно будет так. В конце концов, на пути эволюции человечество находится гораздо дальше обезьян, но человек как род гораздо более кровожаден, чем самые агрессивные гориллы. — Возможно, мы когда-нибудь и встретим такую внеземную цивилизацию, которая окажется дружелюбной и научит нас жить в мире, — сказал Айсли. — Возможно, они передадут нам знания и технологии, которые позволят нам решить все земные проблемы и даже отправиться к звездам. Возможно, когда-нибудь так и будет. — Но нельзя исключать альтернативы, — мрачно добавил Аркхэм.
Глава 26
АНГЛИЯ, ЛОНДОН
Когда в Сноуфилде было одиннадцать часов утра понедельника, в Лондоне тоже был еще понедельник, но уже семь вечера. Отвратительный дождливый день перешел в отвратительный дождливый вечер. Капли дождя непрерывно барабанили в окно крохотной кухоньки двухкомнатной квартирки Тимоти Флайта, располагавшейся в мансарде. Профессор стоял перед столом и на разделочной доске готовил себе бутерброд. Изрядно заправившись за счет Берта Сандлера во время того роскошного завтрака с шампанским, Тимоти потом не пошел обедать — ему просто не хотелось. Пропустил он и послеобеденный чай. Сегодня у него были занятия с двумя студентами. Одного он натаскивал в искусстве анализа иероглифов, с другим занимался латынью. Сильно переев за завтраком, он во время обоих этих занятий чуть было не заснул. Неудобно. Но, с другой стороны, его ученики платили ему так мало, что навряд ли имели право выражать недовольство, если он — один только раз! — задремал посреди урока. Профессор уже намазал кусочек хлеба горчицей и теперь клал на него тонкий ломтик вареной ветчины и такой же тонкий лепесток швейцарского сыра. В этот момент он услышал, как внизу, в общем холле их дома с меблированными комнатами, зазвонил телефон. Он даже не подумал о том, что звонить могли ему. Ему редко кто звонил. Но несколькими мгновениями позже раздался стук в дверь. Это оказался молодой индиец, снимавший комнату на первом этаже. С сильным акцентом он сообщил Тимоти, что его просят к телефону. Очень срочно. — Срочно? А кто? — спросил Тимоти, спускаясь вслед за индийцем по лестнице. — Он назвал себя? — Сонд-леер, — ответил индиец. Сандлер? Берт Сандлер? За завтраком они договорились об условиях, на которых профессор подготовит новое издание «Вековечного врага». Это должна быть совершенно новая книга, и написана она должна быть так, чтобы оказаться по вкусу и по силам обычному среднему читателю. После того как его книжка впервые вышла в свет семнадцать лет тому назад, ему несколько раз предлагали изложить в популярной форме его концепцию, объясняющую причины известных из истории случаев массового исчезновения людей. Но тогда ему не нравилась сама идея такого популяризаторства: ему представлялось, что выход научно-популярного варианта «Вековечного врага» окажется на руку тем, кто бессовестно обвинял его в погоне за сенсациями, в надувательстве и в стремлении нажиться. Однако теперь, по прошествии многих лет, прожитых в нужде, он стал относиться к мысли о таком издании более терпимо. Сейчас бедность Тимоти, с каждым годом все возраставшая, достигла критической черты, и в этих условиях появление Сандлера и предложенный им контракт были просто чудом. Утром они договорились о том, что профессору в счет будущих гонораров будет выплачен аванс в размере пятнадцати тысяч долларов. По текущему обменному курсу это было чуть больше восьми тысяч фунтов стерлингов. Не Бог весть что, конечно, но все же гораздо крупнее тех сумм, которые приходилось получать Тимоти на протяжении уже очень и очень долгого времени. В данный же момент эти деньги вообще представлялись ему несметным богатством. Спускаясь по узенькой лестнице в холл, туда, где на небольшом столике под скверной репродукцией какой-то плохой картины стоял телефон, Тимоти был полон беспокойства: не звонит ли Сандлер только затем, чтобы отказаться от достигнутого утром соглашения. При этой мысли сердце профессора заколотилось с такой силой, что он ощутил почти физическую боль. — Надеюсь, сэр, новости не доставят вам беспокойства, — произнес молодой индиец. После чего ушел к себе в комнату и запер за собой дверь. Флайт взял трубку: — Да? — Господи, вы вечерние газеты получаете? — спросил Сандлер. Голос его звучал пронзительно, почти истерично. «Не пьян ли Сандлер случаем, — подумал Тимоти. — Он что, вот это считает срочным делом?» Прежде чем Тимоти успел ему ответить, Сандлер продолжал: — Мне кажется, это случилось! Боже мой, доктор Флайт, мне кажется, это и в самом деле случилось! Есть сообщения в вечерних газетах. И по радио. Подробностей пока мало. Но все выглядит так, что это и в самом деле случилось! К волнениям профессора по поводу контракта теперь прибавилось еще и непонимание, и все это вместе повергло его в отчаяние. — Не могли бы вы объяснить, в чем дело, мистер Сандлер? — Вековечный враг, доктор Флайт. Одно из этих созданий снова объявилось. Только вчера. Напало на какой-то городок в Калифорнии. Есть погибшие. Большинство исчезли. Сотни людей. Весь городок. Их больше нет. — Да поможет им Бог, — проговорил Флайт. — У меня есть приятель в лондонском отделении Ассошиэйтед Пресс, и он прочитал мне последние сообщения, которые к ним поступили, — продолжал Сандлер. — В газетах этого еще не было, я точно знаю. Во-первых, тамошняя полиция в Калифорнии объявила на вас розыск по всей форме. По-видимому, кто-то из жертв был знаком с вашей книгой. Когда на них напали, он заперся в ванной. До него все равно добрались, но он выиграл несколько минут и успел написать на зеркале ваше имя и название вашей книги! Тимоти был не в состоянии вымолвить ни слова. Хорошо, что рядом с телефоном стоял стул: профессор вдруг почувствовал, что ему совершенно необходимо присесть. — Власти в Калифорнии не понимают, что происходит. Они не поняли даже того, что «Вековечный враг» — это название книги. И они не знают, какое вы можете иметь ко всему этому отношение. Они полагают, что имело место бактериологическое заражение, или применение нервно-паралитического газа, или даже контакт с внеземной цивилизацией. Но тот, кто написал ваше имя на зеркале, явно все понял. Как и мы с вами. Все подробности расскажу вам в машине. — В какой машине? — удивился Тимоти. — О Боже, совсем забыл: я надеюсь, у вас есть паспорт? — Гм-м… да. — Я сейчас за вами заеду в отвезу вас в аэропорт. Я хочу, чтобы вы отправились в Калифорнию, доктор Флайт. — Но… — Прямо сегодня, сейчас. На одном из рейсов есть свободное место. Я его забронировал на ваше имя. — Но я не могу себе позволить… — Все расходы оплатит издательство. Пусть это вас не волнует. Вы должны поехать в Сноуфилд. Теперь вам придется писать уже не научно-популярный вариант «Вековечного врага». Нет, нет. Теперь вы сможете написать всесторонний, гуманный, с полным пониманием всего происшедшего труд о трагедии в Сноуфилде. А в обоснование и подкрепление рассказа о том, что там произошло, вы используете все собранные вами материалы об известных из истории случаях массового исчезновения людей и вашу теорию, объясняющую, почему и как это происходит. Чувствуете, как все будет здорово? — А удобно ли получится, если я вдруг сейчас сорвусь и полечу туда? — Что вы хотите сказать? — не понял Сандлер. — Хорошо ли это? — озабоченно повторил Тимоти. — Не создаст ли это впечатления, будто я просто хочу погреть руки на кошмарной трагедии? — Послушайте, доктор Флайт, в Сноуфилд съедется сотня энергичных и предприимчивых писак, готовых расталкивать локтями кого угодно, и у каждого из них уже будет в кармане контракт на будущую книгу. Они просто утянут у вас из-под носа вашу тему. Если вы не напишете о том, что там произошло, то вместо вас это сделает кто-то другой. — Но ведь погибли же сотни людей, — проговорил Флайт. От одной мысли об этом ему становилось нехорошо. — Сотни! Это такая боль, такая трагедия… Колебания профессора явно раздражали Сандлера: — Ну… хорошо, хорошо. Возможно, вы и правы. Возможно, я еще не вполне осознал весь ужас случившегося. Но не кажется ли вам, что именно поэтому вы, и только вы, и должны написать самую честную и умную книгу об этом? Никто другой кроме вас не сможет вложить в нее ни таких знаний, ни таких чувств и переживаний. — Ну… Чувствуя, что Тимоти начинает уже сдаваться, Сандлер произнес: — Отлично. Укладывайте быстро чемодан. Через полчаса я буду у вас. Сандлер дал отбой, а Тимоти еще несколько минут продолжал сидеть, не двигаясь, прижимая к уху замолкнувшую трубку. Он был просто потрясен.В свете фар такси дождь казался серебристым. Под порывами ветра он падал косо и сверкал, как тысяча нитей блестящей рождественской мишуры. На мостовой он собирался в лужи, напоминающие озера из жидкого серебра. Водитель им попался лихач. Машину то и дело заносило на мокрых скользких улицах. Тимоти изо всех сил вцепился в закрепленный на дверце машины поручень. Берт Сандлер явно пообещал водителю хорошие чаевые, если он их быстро довезет до аэропорта. Сидя рядом с профессором, Сандлер говорил: — В Нью-Йорке будет пересадка, придется подождать, но недолго. Один из наших сотрудников вас встретит и поможет пройти все формальности и сделать все необходимое. Нью-йоркской прессе мы ничего сообщать о вашем прилете не будем. А пресс-конференцию устроим в Сан-Франциско. Так что когда выйдете там из самолета, будьте готовы к тому, что вас встретит толпа журналистов. — А нельзя сделать так, чтобы я тихо, не привлекая внимания, добрался до Санта-Миры, а там кто-нибудь представил бы меня местным властям? — спросил Тимоти, которому явно пришлась не по душе перспектива пресс-конференции. — Нет, нет, ни в коем случае! — воскликнул Сандлер, пришедший в ужас от предложения профессора. — Нам необходима пресс-конференция. Вы же единственный, кто знает, что там произошло, доктор Флайт. И надо, чтобы все узнали, что вы тот человек, у которого есть ответы. Нам надо начать рекламировать вашу следующую книгу прежде, чем Норман Мейлер отложит в сторону свой очередной опус о Мэрилин Монро и влезет в этот случай обеими ногами! — Но я же еще даже не начал ничего писать. — Да знаю я, Господи. Но к тому времени, когда мы ее издадим, спрос на книгу будет феноменальный! Такси свернуло за угол. Шины завизжали на повороте. Тимоти швырнуло прямо на дверь. — Наш агент по рекламе встретит вас в Сан-Франциско у самолета. Он и будет вести пресс-конференцию, — говорил Сандлер. — Он же как-то организует ваш переезд в Санта-Миру. Это довольно далеко, так что, возможно, придется воспользоваться вертолетом. — Вертолетом?! — переспросил пораженный Тимоти.
Такси мчалось по глубоким лужам, разбрасывая во все стороны серебристые потоки воды. Уже был виден впереди аэропорт Хитроу. С того самого момента, как Тимоти сел в машину, Берт Сандлер говорил не останавливаясь. Вот и сейчас он продолжал: — И еще одно. Расскажите на пресс-конференции то, о чем вы говорили мне сегодня утром. Об исчезнувших майя. О трех тысячах пропавших китайских солдат. И особенно постарайтесь припомнить какие-нибудь случаи массовых исчезновений на территории США — даже те, что произошли до того, как образовались США, возможно, даже в предшествующие геологические эпохи. Американской прессе это понравится. Когда можно протянуть какие-то нити от вещей общих к конкретным, сегодняшним, известным, это всегда помогает. Было какое-нибудь британское поселение в Америке, которое бы исчезло без следа? — Было. Поселение на Руанук-Айленд. — Обязательно скажите об этом. — Но я не могу утверждать категорически, что исчезновение жителей этого поселения связано с вековечным врагом. — Но в принципе такая связь могла бы быть? Фанатик своего предмета, Тимоти наконец-то получил возможность отвлечься от самоубийственной манеры езды, избранной их водителем: — Когда английская экспедиция, финансировавшаяся сэром Вальтером Рейли, вернулась в марте 1590 года в поселение Руанук, она обнаружила, что все жители куда-то исчезли. Сто двадцать человек пропали без следа. Высказывалось огромное количество предположений относительно того, какая судьба могла их постигнуть. Например, широко распространилось убеждение, что жители Руанука оказались жертвами одного из индейских племен, обитавшего неподалеку. Колонисты в явной спешке нацарапали название этого племени на коре дерева — это было единственное послание, которое они успели оставить. Но индейцы клялись, что не знают, куда и почему исчезли поселенцы. И это было очень миролюбивое племя. Совсем невоинственное. Поначалу они даже помогали колонистам там обосноваться. А кроме того, в самом поселении не было никаких признаков, указывающих на то, что тут произошло нападение. Не нашли ни одного трупа. Никаких костей или могил. Так что, как видите, даже самое общепризнанное объяснение рождало больше вопросов, чем давало ответов. Такси сделало еще один лихой поворот и резко затормозило, чтобы избежать столкновения с грузовиком. Но теперь Тимоти уже почти не обращал внимания на лихачество водителя. Он продолжал свой рассказ: — Я подумал, что название племени, которое колонисты нацарапали на коре дерева — кроатонцы, — возможно, было не указанием на виновников, а имело другой смысл. Возможно, оно означало, что кроатонцы знали, что там произошло. Я перечитал статьи британских исследователей в нескольких журналах, тех, кто впоследствии говорил с кроатонцами об исчезновении поселения; и есть свидетельства того, что индейцы и вправду кое-что знали о причинах случившегося. Или, по крайней мере, полагали, что знают. Но когда они пытались объяснить это белому человеку, их рассказы не воспринимались всерьез. Кроатонцы говорили, что одновременно с исчезновением поселения в окрестных лесах и полях, где охотилось это племя, почти исчезли звери и птицы. Численность практически всех видов диких животных очень резко сократилась, притом сразу, одномоментно. Несколько более наблюдательных и вдумчивых исследователей отмстили, что индейцы рассказывали об этом с суеверным ужасом. Что у них было свое объяснение исчезновения колонистов. Связанное с религией. Но, к сожалению, тех белых, кто говорил с индейцами об этом случае, не интересовали суеверия кроатонцев, и потому исследователи не углублялись в эту тему. — Как я понимаю, вы, наверное, занялись изучением религии кроатонцев? — спросил Берт Сандлер. — Да, — ответил Тимоти. — Это оказалось очень непростым делом, так как племя вымерло много лет тому назад. Но я установил, что кроатонцы были спиритуалистами. Они верили, что душа человека не умирает и остается бродить по земле даже после смерти тела. Они считали, что существуют «высшие духи» — воплощенные в основных силах природы: в ветре, земле, огне, воде и так далее. А самое главное — и к нам это имеет прямое отношение, — они были убеждены в существовании злого духа как источника всего зла. Это соответствует христианскому понятию Сатаны. Я забыл точное индейское слово, которым обозначался этот злой дух, но оно переводится примерно так: «Тот, Кто Может Быть Всем, Но Сам Ничто». — Боже, — проговорил Сандлер. — Отличное описание вековечного врага. — Истины иногда скрываются в предрассудках и суевериях. Кроатонцы считали, что Тот, Кто Может Быть Всем, Но Сам Ничто пожрал и колонистов, и диких зверей и птиц. Поэтому… хотя я и не могу категорически утверждать, что исчезновение поселения на Руанук-Айленд как-то связано с вековечным врагом, мне все же кажется — есть достаточно оснований изучить возможность этого. — Потрясающе! — произнес Сандлер. — Обязательно расскажите обо всем этом на пресс-конференции в Сан-Франциско. Точно так же, как рассказали сейчас мне. Такси завизжало тормозами и остановилось у входа в здание аэропорта. Берт Сандлер сунул водителю в руку несколько пятифунтовых банкнот и взглянул на часы: — Доктор Флайт, давайте поторопимся!
Сидя у окна, Тимоти Флайт смотрел, как огни города скрываются внизу, под густыми тучами. Прорезая пелену дождя, самолет круто набирал высоту. Вскоре он был уже выше облаков, ливень и непогода остались внизу, а вверху было теперь совершенно чистое небо. Лунный свет отражался от вспененных облаков, и ночь за бортом самолета была наполнена мягким, внушающим суеверный страх свечением. Погасла табличка: «Застегнуть привязные ремни». Тимоти расстегнул ремень, но облегчения это не принесло. В голове у него вскипали и клубились мысли — точь-в-точь как грозовые облака внизу. Прошла стюардесса, предлагая напитки. Он попросил себе виски. Его теперешнее состояние было похоже на состояние сжатой пружины. Вся его жизнь изменилась практически мгновенно. За один сегодняшний день он пережил и перечувствовал больше, чем за весь последний год. Напряжение, в котором он сейчас пребывал, нельзя было назвать неприятным. Он был более чем счастлив, получив возможность стряхнуть с себя скуку и тоску серой повседневности; он вступал в новую, лучшую жизнь с такой же готовностью и быстротой, с какой надевал бы новый костюм. Конечно, ввязываясь в это новое публичное изложение своих гипотез и предположений, он рисковал показаться смешным, снова навлечь на себя все прежние нападки и обвинения. Но был и какой-то шанс на то, что теперь ему наконец-то удастся доказать собственную правоту, самоутвердиться. Принесли виски, он выпил, попросил еще. Постепенно внутреннее напряжение отпускало его. За бортом самолета, насколько мог видеть глаз, была лишь ночная мгла.
Глава 27
ПОБЕГ
Через зарешеченное окно камеры предварительного заключения Флетчеру Кейлу была хорошо видна улица. Все утро он наблюдал за тем, как возле здания полиции скапливались репортеры. Видимо, произошло что-то действительно из ряда вон выходящее. Некоторые заключенные обменивались новостями, передавая их от камеры к камере, но ни один из них не желал общаться с Кейлом. Все другие арестанты ненавидели его. Насмехались над ним, оскорбляли, обзывали детоубийцей. Даже в тюрьме существовало свое деление на социальные классы; и на этой иерархической лестнице детоубийцы занимали самую последнюю, нижнюю ступеньку. Это было почти смешно. Даже угонщики машин, воры, грабители, взломщики и растратчики испытывали потребность в том, чтобы чувствовать себя выше кого-то. И потому поносили и преследовали тех, кто убил или искалечил ребенка, что каким-то необъяснимым образом позволяло им ощущать себя в сравнении с детоубийцей чуть ли не священниками и кардиналами. Идиоты. Кейл презирал их. Он никого не спрашивал о том, что произошло в городе. Он не даст им понять, что попытка подвергнуть его остракизму удалась. Не доставит им этого удовольствия. Он вытянулся на койке и принялся мечтать о той великолепной судьбе, которая его ждет: слава, власть, богатство… В половине двенадцатого, когда за ним пришли, чтобы доставить в суд, где ему должно было быть предъявлено обвинение в двух убийствах, он все еще валялся на койке. Полицейский, стоявший на посту возле камер, отпер дверь. Другой полицейский — седой и толстопузый помощник шерифа — вошел в камеру и надел на Кейла наручники. — Сегодня у нас не хватает людей, — сказал он Кейлу, — поэтому мне придется везти тебя одному. Но не думай, что тебе удастся удрать. Не бери эту дурью мысль в голову и даже не пробуй. Ты в наручниках, а у меня револьвер. И ничто не доставит мне большего удовольствия, как прострелить тебе задницу. В глазах и полицейского, и охранника читалась ненависть вперемешку с отвращением. Наконец-то до Кейла дошло, что весь остаток своей жизни он вполне может провести в тюрьме. К собственному удивлению, когда его выводили из камеры, он вдруг заплакал. Другие арестанты свистели ему вслед, что-то выкрикивали и обзывали его последними словами. Толстопузый полицейский подтолкнул его кулаком под ребра: «Пошевеливайся!» На ослабевших вдруг ногах, шатаясь, Кейл пробрел по коридору, миновал решетку, закрывавшую вход в ту часть помещения, где находились камеры, — ее отодвинули в сторону, чтобы пропустить Кейла и сопровождавших его полицейских, — и вышел в холл. Охранник остался возле решетки, а полицейский снова кулаком подтолкнул Кейла в сторону лифтов. Он вообще пинал его слишком часто и чересчур сильно, даже когда в этом не было никакой необходимости, и чувство жалости к самому себе у Кейла начинало постепенно вытесняться гневом. В маленьком, медленно ползущем вниз лифте Кейл внезапно понял, что полицейский не видит никакой угрозы в арестанте, которого сопровождает, не ждет с его стороны никакого подвоха. Эмоциональный срыв Кейла вызвал у полицейского только презрение, неприязнь и желание побыстрее покончить с порученным ему делом. К тому моменту, когда двери лифта открылись, в Кейле произошла внутренняя перемена. Он продолжал негромко всхлипывать, но слезы, катившиеся у него из глаз, были уже неискренними, и дрожал он теперь уже от возбуждения, а не от отчаяния. Они миновали еще один пост. Здесь полицейский показал какие-то бумаги часовому, который называл его Джо. Часовой смотрел на Кейла с нескрываемым отвращением. Кейл отвернулся в сторону, как будто ему было стыдно. И продолжал плакать. Потом он и Джо оказались на улице и стали пересекать большую стоянку, направляясь к ряду выстроившихся вдоль забора бело-зеленых полицейских машин. День был теплый и солнечный. Кейл продолжал плакать и делал вид, будто его не держат ноги. Он ссутулился, нагнул голову вниз. Равнодушно шаркая, он брел вперед так, словно был уже вконец сломленным, разбитым человеком. Кроме него и сопровождавшего его полицейского на стоянке никого не было. Они были только вдвоем. Отлично. Пока они шли к машинам, Кейл выбирал подходящий момент, когда можно будет начинать действовать. Поначалу ему казалось, что такой момент вообще не настанет. Но вот Джо толчком заставил его встать возле машины и наполовину отвернулся, чтобы отпереть дверцу — и в этот момент Кейл и нанес свой удар. Он бросился на полицейского, когда тот вставлял ключ в замок дверцы. Полицейский от неожиданности выдохнул и замахнулся на Кейла кулаком. Но было уже поздно. Кейл уклонился от удара и изо всех сил пригвоздил полицейского к машине. Дверная ручка вонзилась ему в спину у основания позвоночника, и лицо Джо побелело от боли. Ключи выскользнули у него из руки, но, пока они падали, полицейский попытался той же рукой вытащить револьвер из кобуры. Кейл понимал, что в наручниках он не сможет вырвать у полицейского револьвер. Стоит тому вытащить оружие, и Кейл проиграл. Поэтому он потянулся к горлу полицейского. Он изо всех сил вцепился в него зубами и почувствовал, как хлынула кровь. Он вцепился снова, вгрызаясь, как собака, все глубже и глубже в уже нанесенную рану, и снова, и снова. Полицейский попробовал закричать, но у него получился только булькающий хрип, который никто не услышал. Револьвер выпал и из кобуры, и из сведенной судорогой руки полицейского. Кейл и Джо тяжело упали на землю, Кейл оказался наверху. Полицейский снова попытался закричать, и Кейл сильно заехал коленом ему в пах. Из горла полицейского пульсирующими волнами хлестала кровь. — Сволочь! — прохрипел Кейл. Глаза Джо остановились, поток крови постепенно затих. Все было кончено. Кейл никогда в жизни еще не чувствовал себя таким сильным, всемогущим, таким живым. Он огляделся по сторонам. На стоянке по-прежнему никого не было видно. Он дотянулся до связки ключей и стал по очереди пробовать их, пока наконец не открыл наручники. Сбросив наручники, он зашвырнул их под машину. Мертвого полицейского он тоже закатил под машину, чтобы его не было видно. Потом вытер рукавом себе лицо. Рубашка его была забрызгана кровью. Но тут уж ничего не поделаешь. Как некуда было деться и от того факта, что одет он в грубошерстную, похожую на мешок синюю тюремную куртку, брезентовые штаны и резиновые ботинки без шнурков, скорее похожие на галоши. Чувствуя, что один его вид способен у кого угодно вызвать подозрение, он торопливо прошел вдоль забора и через открытые ворота вышел со стоянки. Перейдя через дорогу, попал на другую стоянку, что находилась позади большого двухэтажного многоквартирного дома. Он быстро скользнул взглядом по окнам, надеясь, что никто его сейчас не видит. На стоянке было около двадцати машин. У ярко-желтого «датсуна» ключи зажигания торчали в замке. Он сел за руль, тихо прикрыл за собой дверцу и облегченно вздохнул. Никто не заметил его исчезновения, и у него теперь была машина. Сверху, на приборной доске стояла коробка «клинекса». Поплевав на бумажные салфетки, он старательно оттер лицо от крови. Потом взглянул на свое отражение в зеркале заднего вида — и удовлетворенно усмехнулся.Глава 28
ОСМОТР ГОРОДКА
Пока бригада генерала Копперфильда проводила в своих передвижных лабораториях вскрытия и анализы, Брайс Хэммонд сформировал две поисковые группы и начал обход и осмотр всех домов и зданий Сноуфилда. Первую такую группу возглавил Фрэнк Отри, и с ней — в качестве наблюдателя от службы слежения за космосом — отправился майор Айсли. Капитан Аркхэм присоединился в таком же качестве ко второй группе, которой командовал сам Брайс. Они осматривали дом за домом, квартал за кварталом, улицу за улицей, никогда не удаляясь друг от друга дальше чем на одно здание и непрерывно поддерживая связь при помощи переговорных устройств. Дженни пошла вместе с группой Брайса. Она знала всех жителей Сноуфилда и потому лучше любого другого могла бы опознать погибших, если найдут новые трупы. В большинстве случаев она могла также назвать всех, кто жил в том или ином доме — а такая информация была необходима, чтобы составить список пропавших. Дженни очень не хотелось, чтобы Лизе пришлось снова лицезреть эти жуткие сцены — но она не могла отказать полицейским в помощи. Не могла она и оставить сестру в гостинице. Особенно после того, что произошло с Харкером. И с Веласкезом. Однако сейчас, пока они переходили от одного дома к другому, тщательно осматривая каждую комнату, каждое помещение, девочка неплохо справлялась с эмоциями и держаласьмолодцом. Она доказывала старшей сестре, что способна контролировать себя, и Дженни внутренне все больше ею гордилась. Поначалу они не находили трупов погибших людей. В самых первых жилых домах и других зданиях, которые они осмотрели, никого не было. В нескольких домах стояли столы, накрытые к воскресному ужину. В других ванны были наполнены водой, сейчас уже остывшей. Кое-где все еще работали телевизоры, перед которыми никто не сидел. В одном из домов на кухне они обнаружили включенную электрическую плиту, на которой в трех кастрюлях что-то готовилось. Вода из кастрюль давно уже испарилась, содержимое высохло, сгорело и обуглилось, и установить, что было в этих кастрюлях изначально, теперь было уже невозможно. Сами кастрюли, сделанные из нержавеющей стали, пришли в полную негодность. Они почернели и снаружи, и внутри, обрели синевато-черный отлив, их пластмассовые ручки размягчились и частично оплавились. Весь дом провонял каким-то едким, неприятным запахом: Дженни никогда раньше не доводилось сталкиваться с подобной вонью. Брайс выключил конфорки: — Просто чудо, что не сгорел весь дом. — Если бы плита была газовая, наверное, сгорел бы, — ответила Дженни. Над плитой с кастрюлями была устроена вытяжка, тоже сделанная из нержавейки, с установленным в ней вентилятором. По-видимому, когда содержимое кастрюль высохло и загорелось, эта вытяжка оттянула пламя на себя и не дала ему распространиться на окружающие предметы, да и горело то, что оставалось в кастрюлях, скорее всего, недолго и несильно. Когда они снова вышли на улицу, то все — за исключением облаченного в защитный костюм капитана Аркхэма — глубоко вздохнули и постояли несколько минут, с удовольствием дыша чистым горным воздухом. Всем им надо было прочистить легкие от той зловонной гадости, которой они надышались. В следующем доме они обнаружили первый за этот день труп. Это был Джон Фарли, владелец «Горкой таверны», работавшей обычно только в период лыжного сезона. Ему было уже за сорок, он был видный мужчина, всегда заметный и выделявшийся в любом окружении: с темными волосами, в которых уже проглянула седина, с большим носом и крупным ртом, часто улыбавшийся открытой, необычайно располагающей улыбкой. Сейчас он весь посинел и вздулся, одежда на распухшем теле натянулась, а глаза вылезали из орбит. Фарли сидел за маленьким столиком в углу просторной кухни. Перед ним стояла почти полная тарелка: макароны с сыром с фрикадельками. Стоял стакан, наполненный красным вином. Рядом с тарелкой лежал раскрытый журнал. Фарли сидел, выпрямившись на стуле. Одна рука лежала у него на колене, раскрытой ладонью вверх. Другая была на столе, и в ней был зажат ломоть хлеба. Рот у Фарли был приоткрыт, и в зубах его застрял кусочек хлеба. Фарли умер, жуя: челюстные мускулы у него так и остались напряженными. — О Господи, — проговорил Тал, — он даже не успел ни проглотить, ни выплюнуть. Должно быть, смерть наступила мгновенно. — И он не видел ее приближения, — добавил Брайс. — Посмотрите на его лицо. На нем нет выражения ни ужаса, ни удивления, ни шока, как у большинства других. — Чего я не могу понять, — проговорила Дженни, глядя на напряженные челюсти погибшего, — так это того, почему после смерти совсем не наступает расслабление мускулов. Очень странно.В церкви Божьей Матери на Горе лучи солнца пробивались через витражные окна, набранные из стекла преимущественно различных оттенков синего и зеленого тонов. Сотни зайчиков — бледно-голубых, голубовато-фиолетовых, густо-синих, небесно-голубых, изумрудно-зеленых — лежали на полированных деревянных скамьях, в проходах между ними, на стенах церкви. Как будто под водой, подумал Горди Брогэн, входя вслед за Фрэнком Отри в столь необычно и прекрасно освещенный неф церкви. Сразу же за нартексом поток малинового света расплескивался по белой мраморной купели, заполненной святой водой. Здесь солнце проникало через витражное изображение Христа, прямо через его кровоточащее сердце, и отбрасывало багровые лучи в воду, блестевшую в светлой мраморной чаше. Этот малиновый цвет как бы символизировал кровь Христа. Из пяти человек, что входили в состав группы осмотра, только Горди был католиком. Он обмакнул два пальца в святую воду, перекрестился и преклонил колени. В церкви было торжественно и тихо. В воздухе висел приятный аромат благовоний. Молящихся не было, на скамьях никто не сидел. Поначалу им показалось, что в церкви вообще никого нет. Потом Горди внимательнее посмотрел в сторону алтаря и чуть не задохнулся. Фрэнк тоже увидел то, что там было. «О Господи!» — выговорил он. В отличие от остальной части церкви, алтарь скрывался в тени. Именно поэтому вошедшие не сразу разглядели ту ужасную и святотатственную картину, которую только теперь заметили. Свечи в алтаре догорели до конца и давно уже погасли. По мере того как члены группы медленно подходили по центральному проходу ближе и ближе, им все виднее становилось большое, в натуральную величину распятие, возвышавшееся в центральной части над алтарем. Это был деревянный крест с закрепленной на нем гипсовой фигурой Христа, очень тщательно, во всех малейших деталях, выполненной и от руки раскрашенной. Но сейчас изображение Господа было почти полностью закрыто другой фигурой, висевшей впереди Христа. Эта фигура была уже настоящей, а не гипсовой. Это был священник в сутане, прибитый гвоздями к кресту. Два мальчика, церковные служки, склонились перед алтарем на коленях. Они были мертвы, их тела посинели и раздулись. Кожа священника уже потемнела, на ней были и другие признаки начавшегося разложения. Тело его очень отличалось от тел других погибших, найденных ими здесь. Оно выглядело так, как и должен выглядеть труп, пролежавший почти сутки. Фрэнк Отри, майор Айсли и двое полицейских прошли через отделяющие алтарную часть перила-ограждения и вошли в алтарь. Горди был не в силах последовать за ними. Он был слишком потрясен и, чтобы не упасть, должен был сесть на переднюю скамью. Осмотрев алтарь и заглянув через дверь в ризницу, Фрэнк вызвал по переговорному устройству Брайса Хэммонда, находившегося в соседнем здании. — Шериф, здесь в церкви трое. Нам нужна доктор Пэйдж, чтобы установить их личности. Но тут особенно мерзкая картина, так что пусть лучше Лиза останется с парой ребят у входа. — Сейчас подойдем, — ответил шериф. Фрэнк вышел из алтаря, прошел через ограждение и сел рядом с Горди. В одной руке он держал переговорное устройство, в другой — револьвер. — Ты же ведь католик? — Да. — Тяжело тебе смотреть на все это. — Ничего, сейчас пройдет, — ответил Горди. — Но ты не католик, тебе, конечно, легче. — Ты знал священника? — По-моему, его звали отец Каллагэн. Но я ходил не в эту церковь. Я хожу в церковь Святого Андрея, ту, которая в Санта-Мире. Фрэнк положил переговорное устройство на скамью и поскреб подбородок. — Судя по всему, что мы видели до сих пор, городок подвергся нападению вчера вечером, незадолго до того, как сюда приехали доктор и Лиза. Но вот то, что произошло здесь… Если эти трое погибли сегодня утром, во время литургии… — Это могло быть благословение, — ответил Горди. — Во время Благословения, а не литургии. — Благословения? — Благословение святого причастия. Воскресная вечерняя служба. — А-а. Ну что ж, тогда это совпадает по времени со всеми остальными. — Он оглядел пустые скамьи. — Интересно, а где же прихожане? Почему в церкви только священник и алтарные служки? — На эту службу всегда приходит не так уж много народу, — ответил Горди. — Возможно, было всего два-три человека. Но оно их сожрало. — Тогда почему же оно не сожрало всех? Горди не ответил. — Зачем ему понадобилось вытворять такие вот художества? — продолжал допытываться Фрэнк. — Чтобы посмеяться над нами. Поиздеваться. Чтобы лишить нас надежды, — с печалью в голосе произнес Горди. Фрэнк уставился на него, не понимая. — Возможно, кто-нибудь из нас надеется, что Господь поможет нам выбраться отсюда живыми, — пояснил Горди. — Быть может, большинство из нас разделяют эту надежду. Я, например, молюсь почти непрерывно с тех пор, как мы сюда приехали. Может быть, и ты тоже. Оно понимает, что мы будем вести себя именно так. Оно знало, что мы обратимся к Богу за помощью. И таким вот образом оно дает нам понять, что Бог нам не поможет. Или же, по крайней мере, оно хочет, чтобы мы так думали. Потому что это для него естественно: возбуждать сомнения в Господе. Оно всегда действует именно так. — Ты говоришь так, как будто точно знаешь, с кем мы тут сталкиваемся, — проговорил Фрэнк. — Может быть, и знаю, — ответил Горди. Он посмотрел на распятого священника, потом опять повернулся к Фрэнку: — А что, сам ты не знаешь? Неужели ты еще не понял, Фрэнк?
Выйдя из церкви и повернув за угол на поперечную улицу, они увидели две разбитые машины. «Кадиллак-севилль» влетел на лужайку перед домом приходского священника, снес попавшиеся ему на дороге кусты и въехал в столб крыльца на углу дома. Столб был почти перебит пополам, крыша крыльца накренилась набок. Тал Уитмен заглянул через боковое стекло в машину. — Там за рулем женщина. — Мертвая? — спросил Брайс. — Да. Но не в результате столкновения. Дженни, стоявшая с другой стороны машины, попыталась открыть дверцу водителя. Но она оказалась заперта. Все дверцы машины были заперты изнутри, все стекла подняты вверх до самого упора. Однако находившаяся за рулем женщина — это была Эдна Гоуэр, Дженни ее знала, — выглядела точно так же, как и все трупы, которые они видели раньше. Потемневшая, посиневшая, распухшая. На ее искаженном лице как бы застыл вопль ужаса. — Кто и как смог до нее там добраться и убить ее? — удивленно подумал Тал, не заметив, как произнес это вслух. — А вспомни запертую ванную в гостинице «При свечах», — сказал Брайс. — И забаррикадированную комнату в доме Оксли, — добавила Дженни. — Это почти аргумент в пользу того объяснения, которое предлагает генерал: что это был нервно-паралитический газ, — проговорил капитан Аркхэм. После чего капитан отстегнул миниатюрный счетчик Гейгера, закрепленный у него на поясе, и тщательно исследовал с его помощью всю машину. Выяснилось, однако, что находившуюся внутри машины женщину убила вовсе не радиация. Вторую разбитую машину они обнаружили примерно в квартале от дома священника. Это был перламутрово-белый «линкс». На мостовой позади него остались черные следы от шин. «Линкс» стоял поперек улицы, под некоторым углом к тротуару, загораживая проезд. Передком он воткнулся в бок стоявшему у тротуара желтому «шевроле»-фургону. Но значительных повреждений на обеих машинах не было: «линкс» успел затормозить и к моменту удара уже почти остановился. За рулем сидел мужчина среднего возраста с пышными густыми усами. Одет он был в джинсы и безрукавку. Дженни узнала его. Это был Марти Сусман. Последние шесть лет он был в Сноуфилде главой городской администрации. Обаятельный и прямой Марти Сусман. Сейчас он был мертв. И причина смерти тоже явно никак не была связана со столкновением. Дверцы «линкса» были заперты изнутри, стекла подняты до упора — все так же, как и на том «кадиллаке». — Такое впечатление, что они оба пытались от кого-то или чего-то убежать, — сказала Дженни. — Возможно, — сказал Тал. — А может быть, ехали куда-то по делам или просто отправились прокатиться в тот момент, когда произошло нападение. Но если они действительно пытались убежать, то их остановил кто-то очень сильный, раз он смог сделать это прямо на улице, на ходу. — В воскресенье было тепло. Тепло, но не жарко, — проговорил Брайс. — Не настолько жарко, чтобы ездить, закрыв стекла и включив кондиционер. Это был денек из тех, когда большинство людей, наоборот, предпочитает опустить стекла и наслаждаться свежим воздухом. Поэтому мне кажется, что после того, как что-то заставило их остановиться, они подняли стекла в машинах и заперлись изнутри, чтобы не дать никому забраться в машину. — Но оно все равно забралось, — сказала Дженни. Оно.
Нед и Сью Мэри Бишоффы были владельцами очаровательного, построенного в тюдоровском стиле дома, уютно разместившегося на двойного размера участке прямо среди огромных сосен. Жили они здесь вместе с двумя сыновьями. Восьмилетний Ли Бишофф уже умел удивительно хорошо играть на пианино — даже несмотря на то, что руки у него были еще маленькие, — и как-то раз сказал Дженни, что когда он вырастет, то станет новый Стиви Уандером, «только не слепым». Шестилетний Терри был точной внешней копией Проказника Денниса с популярных карикатур, но только чернокожим и с очень добрым характером. Нед был преуспевающим художником. Его картины продавались по шесть-семь тысяч долларов каждая, а выпускаемые ограниченным тиражом авторские оттиски гравюр шли по четыреста-пятьсот долларов за штуку. Нед был постоянным пациентом Дженни. Хотя ему было всего тридцать два года и он уже добился успеха в жизни, он страдал язвой, от которой его и лечила Дженни. Теперь язва не будет его больше беспокоить. Он лежал на полу своей мастерской, прямо перед мольбертом, мертвый. Сью Мэри была на кухне. Как Хильду Бек, экономку Дженни, и как многих других в городке, смерть настигла Сью Мэри в тот момент, когда она готовила ужин. При жизни она была красивой и милой женщиной. Теперь она выглядела иначе. Обоих мальчиков они нашли в детской. Для ребят это была прекрасная комната: большая, просторная, с расположенными друг над другом детскими кроватками. Многочисленные полки были забиты детскими книжками. На стенах висели картины и рисунки Неда, изображавшие причудливые фантастические сцены, так непохожие на те произведения, благодаря которым он приобрел известность: свинья в смокинге, танцующая с одетой в вечернее платье коровой; пульт управления космического корабля, около которого в креслах сидят космонавты-жабы; мрачный, но по-своему очаровательный вид школьной площадки для игр ночью: все залито светом полной луны, детей на площадке нет, и только на качелях вовсю с удовольствием раскачивается огромный, жуткого вида оборотень. Мальчиков они нашли в углу комнаты, под горой игрушек. Младший, Терри, был позади старшего, Ли, который, видимо, предпринял безуспешную попытку защитить младшего братишку. Глаза у обоих были навыкате, и их мертвый взгляд был устремлен перед собой, как будто они все еще видели то, что так напугало их вчера, прежде чем убить. Мускулы у Ли все еще оставались напряженными, и потому руки у него замерли в том положении, в каком они были в самые последние мгновения его жизни: поднятые и скрещенные перед собой, с растопыренными пальцами, как будто он защищался или пытался укрыться от ударов. Брайс опустился перед детьми на колени. Дрожащей рукой он дотронулся до лица Ли, будто не веря, что мальчик и вправду мертв. Дженни тоже опустилась на колени рядом с ним. — Да, это сыновья Бишоффов, — произнесла она, не в силах справиться с задрожавшим голосом. — Так что вся семья была дома. По щекам Брайса бежали слезы. Дженни попыталась вспомнить, сколько лет его собственному сыну. Семь или восемь? Он должен быть примерно того же возраста, что и Ли Бишофф. Маленький Тимми Хэммонд лежал сейчас в глубокой коме в больнице Санта-Миры, и его состояние было таким же, что и год назад. Он превратился почти в растение. Но все же даже это было лучше, чем такая вот смерть. Все что угодно лучше, чем это. Но вот слезы Брайса высохли. — Я их достану, — проговорил он, и в голосе его звучала ярость. — Чьих бы рук дело это ни оказалось… Я их заставлю заплатить за это. Дженни еще никогда не приходилось сталкиваться с такими людьми. В Брайсе соединялись мужественность, немалая физическая сила, целеустремленность и воля, но ему были не чужды также и доброта, и нежность. Ей захотелось обнять его. И чтобы он обнял ее в ответ. Но, как всегда, она следила за собой и не любила выставлять напоказ свои чувства. Будь она такой же открытой и непосредственной, как Брайс, у нее никогда бы не произошло молчаливое отчуждение от матери. Но она не была открытым человеком, или пока еще не была, хотела бы им стать. И потому в ответ на его яростное обещание разделаться с убийцей детей Бишоффов она возразила: — А что, если их убил не человек? Не только в людях есть зло. Оно есть и в природе. Сколь разрушительно и слепо, например, землетрясение. Или зло рака, не разбирающее, кто его жертва. Убийцей, который действовал здесь, может оказаться нечто такое, что, возможно, и поставило перед собой цели убивать. Нечто отдаленное от наших представлений. Такое, что невозможно будет привлечь к ответственности, отдать под суд. Возможно даже, что у него иная природа, нежели у человека. Что тогда? — Кто бы или что бы это ни было, черт побери, я до него доберусь. И я с ним разделаюсь. Я его заставлю заплатить за все, что он тут натворил, — упрямо повторил Брайс.
Выйдя из католической церкви, группа Фрэнка Отри осмотрела три следующих дома, но никого в них не обнаружила. Четвертый дом, однако, не был пустым. Тут они нашли Венделла Халбертсона, учителя средней школы, который работал в Санта-Мире, но жить предпочел в горах, в доме, что когда-то принадлежал его матери. Халбертсон преподавал английский язык, и Горди учился у него всего пять лет тому назад. Труп учителя не был посиневшим и раздувшимся, как остальные: Халбертсон сам покончил с собой. В углу спальни, куда его, по-видимому, загнали, он вставил себе в рот ствол пистолета тридцать второго калибра и нажал на курок. Смерть от собственной руки явно показалась ему более предпочтительной по сравнению с тем, что оно собиралось с ним сделать.
Выйдя из дома Бишоффов, Брайс со своей группой осмотрели еще несколько домов, но ни в одном из них не нашли новых трупов. Только в пятом доме они обнаружили пожилую супружескую пару, которая, спасаясь от убийцы, заперлась в ванной комнате. Ее тело лежало в ванне, его — бесформенной грудой на полу. — Они были моими пациентами, — сказала Дженни. — Это Ник и Мелина Папандракис. Тал внес их имена в список погибших. Как и супруги Орднэй в гостинице «При свечах», Ник Папандракис тоже попытался оставить надпись, которая бы указывала на убийцу. Он воспользовался йодом из аптечки, чтобы с его помощью написать что-то на стене. Но не успел закончить даже одно слово. На стене видны были только две буквы и начало третьей:
PRC— Кто-нибудь может сообразить, что он хотел написать? — спросил Брайс. Каждый по очереди протиснулся в ванную, переступил через труп Ника Папандракиса и долго всматривался в оранжево-коричневые буквы на стене. Но вспышка вдохновения так никого и не посетила.
Пули. В следующем доме, что стоял рядом с домом Папандракисов, весь пол в кухне был покрыт стреляными пулями. Не целыми патронами. А десятками стреляных пуль, без гильз. Поскольку стреляных гильз здесь не было, можно было сделать заключение, что стреляли не тут. Не было на кухне и характерного запаха сгоревшего пороха. Не было и следов от пуль ни в стенах, ни в мебели. Просто весь пол был усеян пулями, как будто над ним прошел таинственный пулевой дождь. Фрэнк Отри зачерпнул в ладонь целую пригоршню кусочков серого металла. Он не был специалистом по баллистике, но, как ни странно, ни одна из пуль не была серьезно деформирована или разбита на осколки, и Фрэнк без труда установил, что выпущены они из разного оружия. Большая часть пуль — многие десятки их — были того типа и калибра, что применяются для автоматов, которыми были вооружены солдаты из взвода охраны бригады генерала Копперфильда. «Неужели же это пули из автомата сержанта Харкера, — подумал Фрэнк. — Те самые пули, которые он выпустил в своего убийцу в холодильной камере супермаркета Гилмартина?» Фрэнк озадаченно нахмурился. Он бросил те пули, что держал в ладони, и они застучали по полу, потом нагнулся и подобрал с пола несколько других. Здесь были пули двадцать второго калибра, тридцать второго, снова двадцать второго, тридцать восьмого. Было даже довольно много охотничьей дроби. Он выискал единственную пулю сорок пятого калибра и принялся рассматривать ее с особым интересом. Это была пуля от того самого типа патронов, какими был заряжен и его револьвер. Горди Брогэн присел на корточки рядом с ним. Фрэнк не взглянул на Горди. Он продолжал внимательнейшим образом разглядывать пулю и явно ловил ускользающую, но зловещую мысль. Горди подобрал с пола несколько пуль: — Они же совсем не деформированы! Фрэнк кивнул. — Они должны были во что-то попасть, — продолжал Горди, — а значит, они должны быть деформированы. Хотя бы некоторые из них. — Он помолчал немного, потом спросил: — Слушай, да ты где витаешь? О чем ты думаешь? — О Поле Хендерсоне, — Фрэнк поднес под нос Горди пулю сорок пятого калибра. — Вчера вечером в полицейском участке Пол выпустил три такие пули. — В своего убийцу. — Ага. — Ну так что? — Ну так вот, у меня есть дикое предчувствие, что если мы попросим лабораторию провести баллистическую экспертизу, то выяснится, что эта пуля выпущена из револьвера Пола. Горди моргал, не вполне понимая, куда он клонит. — А еще мне кажется, — продолжал Фрэнк, — что если мы переберем все пули, которые валяются тут на полу, то найдем еще две точно такие же, как эта. Заметь, не еще одну. И не еще три. А именно еще две с точно такими же царапинами, как и на этой. — Ты хочешь сказать… это те самые три пули, которые выпустил вчера вечером Пол? — Ага. — Но как они попали оттуда сюда? Вместо ответа Фрэнк выпрямился и нажал кнопку переговорного устройства: — Шериф? Из маленького динамика тут же послышался решительный голос Брайса Хэммонда: — В чем дело, Фрэнк? — Мы все еще в доме Шеффилдов. По-моему, вам стоит сюда подойти. Здесь есть кое-что для вас интересное. — Новые трупы? — Нет, сэр. Э-э… нечто странное. — Сейчас придем, — ответил шериф. Выключив радио, Фрэнк сказал, обращаясь к Горди: — Мне представляется, что… совсем недавно, где-то на протяжении последних двух часов, уже после того как сержант Харкер пропал из магазина Гилмартина, оно было здесь, в этой самой комнате. И тут оно избавилось от всех пуль, которые попали в него за вчерашний вечер и сегодняшнее утро. — От пуль, которые в него попали? — Да. — Избавилось от них? Вот просто взяло и избавилось? — Да, просто взяло и избавилось, — ответил Фрэнк. — Но как? — Похоже, что оно их просто как-то… выдавило из себя. Или стряхнуло эти пули, как собака стряхивает шерсть при линьке.
Глава 29
В БЕГАХ
Пока он ехал по Санта-Мире на украденном «датсуне», Флетчер Кейл услышал по радио о происшествии в Сноуфилде. Хотя весь округ жил сейчас только этим событием, Кейла оно не особенно заинтересовало. Его никогда особенно не волновали трагедии других людей. Он уже потянулся было выключить радио — ему надоели новости о Сноуфилде, у него было сейчас больше чем достаточно собственных проблем, — но тут он услышал имя, к которому он не был равнодушен. Джейк Джонсон. Джонсон был среди тех полицейских, что отправились вчера вечером в Сноуфилд. Теперь о нем говорили как об исчезнувшем и даже высказывали опасение, что он, возможно, уже мертв. Джейк Джонсон… Год тому назад Кейл продал Джонсону солидно построенный бревенчатый дом в горах с участком в пять акров. Джонсон утверждал тогда, будто он страстный охотник и именно поэтому ему нужен дом в горах. Но из нескольких случайно оброненных полицейским оговорок Кейл сделал для себя вывод, что на самом деле Джонсон принадлежит к числу тех, кто убежден, что мир обречен, что он неумолимо катится в пропасть и что рано или поздно общество погибнет из-за обвальной инфляции, ядерной войны или какой-нибудь другой катастрофы. Кейл начал подозревать — и со временем все больше укреплялся в своих подозрениях, — что дом понадобился Джонсону как убежище, в котором можно было бы накопить большие запасы оружия и продовольствия, а потом, когда придут социальные потрясения, отсидеться, а в случае необходимости с легкостью защитить себя. Для этой цели дом в горах, безусловно, подходил как нельзя лучше. Он располагался в уединенном месте, на склоне Снежной горы, по другую сторону от Сноуфилда. Добираться туда надо было по так называемой пожарной просеке — принадлежащей округу узкой грунтовой дороге, проехать по которой практически могли лишь машины со всеми ведущими колесами. С этой просеки надо было свернуть на другую, еще худшую дорогу и, наконец, последние четверть мили нужно было преодолевать пешком. Через два месяца после того как Джонсон приобрел дом и участок, Кейл одним теплым июньским утром, когда Джонсон, как он точно знал, находился на дежурстве в Санта-Мире, незаметно пробрался туда. Ему хотелось проверить, верны ли его подозрения и действительно ли Джонсон превращает это место в лесную крепость. Дом стоял такой же, как прежде, но Джонсон, как быстро выяснил Кейл, вел какие-то большие работы в известковых пещерах, вход в которые начинался с его участка. Здесь, перед входом, были свалены мешки с песком и цементом, стояла тачка, лежала груда камней. Внутри подземелья, сразу же за входом, на каменном полу у стены стояли две газовые лампы. Кейл взял одну из них и направился в глубь пещеры. Вход в пещеру был длинным и узким, больше похожим на туннель. В конце его Кейлу пришлось пробираться узким наломанным проходом, что шел зигзагами через известковые породы то влево, то вправо, прежде чем он оказался наконец в первой, похожей на комнату подземной выемке. Вдоль одной из ее стен были рядами сложены пятифунтовые, запаянные под вакуумом и заполненные азотом банки с молочным и яичным порошками, с высушенными в глубоком холоде овощами, фруктами, суповыми смесями, бочонки с медом и с обычным зерном. Был здесь и надувной матрац, и много всякой прочей всячины. Джейк явно постарался. Из первой подземной комнаты вел проход во вторую. Тут в полу было естественное отверстие диаметром около десяти дюймов, из которого доносился какой-то странный шум. Разговаривающие шепотом голоса. Угрожающе звучавший смех. Кейл чуть было не развернулся и не бросился бежать оттуда, но вовремя сообразил, что все эти вроде бы жуткие звуки на самом деле не что иное, как шум журчащей в закрытом пространстве воды. Подземный ручей. Джейк опустил в этот самой природой созданный колодец однодюймовую резиновую трубу, а возле отверстия установил ручной насос. Просто квартира со всеми удобствами. Кейл сделал для себя вывод, что Джонсон сооружает это убежище не просто на всякий случай, в порядке предосторожности; нет, этот человек положительно одержимый. В другой раз, теперь уже в конце лета, в один из последних дней августа, Кейл, снова наведавшись в это место, не обнаружил, к своему удивлению, входа в пещеру. Отверстие высотой около четырех и шириной около пяти футов исчезло. Оказалось, Джонсон засадил все вокруг кустарником и вьющимися растениями и зелень совершенно скрыла от посторонних глаз вход в его убежище. Кейл пробрался через эту маскировку, стараясь не повредить ее. На этот раз он привез с собой собственный электрический фонарь. Он пролез в отверстие пещеры, выпрямился, оказавшись внутри, прошел вперед по зигзагообразному туннелю — и вдруг неожиданно оказался в тупике. Он знал, что впереди должен быть еще один отрезок этого зигзагообразного туннеля, а за ним первое из больших помещений. Но перед ним была сплошная стена из известняка, цельная ровная поверхность, наглухо запечатавшая проход вглубь. Несколько мгновений Кейл изумленно смотрел на эту преграду, ничего не понимая. Потом он тщательно оглядел ее и через несколько минут обнаружил потайной замок. То, что казалось скалой, на самом деле было тонким слоем штукатурки, при помощи эпоксидной смолы закрепленной на двери, которую Джонсон очень умело соорудил в естественном проеме между последним отрезком туннеля и первым из внутренних помещений пещеры. Именно в тот августовский день, восхищенный этой потайной дверью, Кейл и решил, что он сам воспользуется этим убежищем, если в том возникнет необходимость. В конце концов, вполне возможно, что эти чокнутые, которые готовятся к вселенской катастрофе, в чем-то и правы. Может быть, действительно те идиоты, что засели в столицах, в один прекрасный день попытаются взорвать весь мир. Если так случится, то Кейл поспеет в это убежище первым, а когда сюда доберется Джонсон, то он, Кейл, просто пристрелит его. Мысль об этом доставила Кейлу удовольствие. Она давала ему возможность лишний раз почувствовать себя умнее, прозорливее, выше всех остальных. Тринадцать месяцев спустя он, к собственному удивлению и ужасу, в самом деле увидел, что наступает конец мира. Конец его мира. Когда по обвинению в убийстве его посадили под замок в окружную тюрьму, он с самого начала знал, куда направится, если только ему представится возможность совершить побег: в горы, в пещеры. Он отсидится там в течение нескольких недель, пока легавые не перестанут искать его в Санта-Мире и ее окрестностях. Спасибо тебе, Джейк Джонсон. Джейк Джонсон… И вот сейчас, сидя в угнанном желтом «датсуне» и по сути едва отъехав от тюрьмы, Кейл вдруг услышал о Джонсоне по радио. Услышал и заулыбался. Судьба была на его стороне. После того как побег удался, главной проблемой Кейла стало избавиться от тюремной одежды и экипироваться всем необходимым для жизни в горах. Пока еще он не знал, как сумеет сделать и то, и другое. Но как только он услышал по радио, что Джейк Джонсон мертв — или, по крайней мере, находится в Сноуфилде, а значит, не объявится тут, — Кейл тут же решил ехать прямо к дому Джонсона. Помощник шерифа жил один, без семьи. Его дом — идеальное и безопасное временное пристанище. Правда, по своим габаритам Джонсон несколько отличался от Кейла, но все же не очень значительно, так что Кейл сможет в его доме сменить свою тюремную одежду на что-нибудь наиболее подходящее из гардероба полицейского. А главное, оружие. Раз Джейк Джонсон готовился к концу света, у него где-нибудь в доме обязательно должно быть припасено оружие. Полицейский жил в том же самом одноэтажном трехкомнатном доме, который он унаследовал от своего отца, Большого Ральфа Джонсона. Дом этот было бы трудно назвать картинкой. Деньги, что Большой Ральф зарабатывал взятками и честным трудом, он тратил крайне осторожно: Джонсон-старший отлично знал, что способно привлечь внимание агентов федеральной налоговой службы, и потому предпочитал не высовываться. С другой стороны, дом Джонсонов не был и развалюхой. Он стоял в одном из центральных кварталов по Пайн-Шэдоу-лэйн, в респектабельном районе, где дома и участки были заметно больше средних, а на участках росли высокие и толстые деревья. Дом Джонсона был в этом квартале одним из самых маленьких, но сзади к нему была пристроена хорошая солнечная веранда, а внутри он был оборудован большой ванной «джакузи» с кислородным и струйным подводным массажем, огромной бильярдной, в которой стоял старинный стол, и целым рядом других усовершенствований для отдыха и комфорта, невидимых с улицы. Кейлу довелось побывать здесь дважды в тот период, когда он предавал Джонсону участок в горах, и теперь он без труда отыскал этот дом снова. Он загнал «датсун» на участок, заглушил двигатель и вышел из машины, надеясь, что никто из соседей его не видит. Потом обошел дом, зашел с тыльной стороны, взломал окно на кухне и забрался внутрь. Там он направился прямиком в гараж. Гараж был большой, рассчитанный на две машины, но сейчас в нем стоял только «джип-универсал» с четырьмя ведущими колесами. Кейл знал, что у Джонсона был «джип», и он рассчитывал, что найдет его в гараже. Он открыл ворота гаража и загнал внутрь угнанный «датсун». Убрав краденую машину с улицы и закрыв снова гараж, он почувствовал себя в большей безопасности. В спальне хозяина дома он тщательно изучил содержимое шкафов с одеждой и обнаружил пару крепких туристских ботинок всего на полразмера больше, чем носил он. Джонсон был на пару дюймов ниже Кейла, поэтому его брюки были Кейлу коротки, но если убрать их в ботинки, то все будет смотреться вполне нормально. В поясе брюки были Кейлу слишком широки, но тут он стянул все лишнее ремнем. Потом нашел и примерил спортивную рубашку. Сойдет. Одевшись, он внимательно оглядел себя в большом, в полный рост зеркале. — Неплохо выглядишь, — сказал он своему отражению. Потом обошел весь дом, разыскивая оружие. Но ничего не нашел. Ну ладно, значит, оно где-то припрятано. Если потребуется, он разнесет весь этот дом в щепки, но оружие найдет. Начал он со спальни. Он вывалил на пол все, что было в ящиках комода и гардероба. Оружия не было. Перевернул обе тумбочки, что стояли возле кровати. Оружия не было. Он вытряхнул все из большого стенного шкафа: одежду, ботинки, чемоданы, какие-то коробки, гладильную доску. Оружия не было и там. Он свернул ковер и внимательно изучил пол в поисках какого-нибудь тайника. Но и здесь тоже ничего не обнаружил. Полчаса спустя он был весь мокрый от пота, но совершенно не чувствовал усталости. Наоборот, его охватило приятное возбуждение. Он оглядел учиненный им разгром и испытал странное удовлетворение. Комната имела такой вид, как будто в ней взорвался артиллерийский снаряд. Он перешел в следующую комнату, взламывая, круша, вываливая на пол, переворачивая и ломая все, что попадалось ему под руку. Ему очень хотелось отыскать оружие. Но и сама процедура поисков доставляла ему удовольствие.Глава 30
НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ
Этот дом поражал аккуратностью и частотой, но его цветовая гамма и обилие везде и всюду виньеточек, оборочек и кружевных украшений выводили Брайса Хэммонда из равновесия. Все в доме было либо зеленого, либо желтого цвета. Абсолютно все. Ковры на полу были зеленые, стены бледно-желтые. В гостиной диваны были обиты желто-зеленым материалом с цветочным орнаментом, причем таких кричащих оттенков, что хотелось надеть темные очки. Два стоявших в комнате кресла были изумрудно-зеленого цвета, а две кушетки — канареечно-желтого. Желтые керамические лампы были накрыты зелеными волнистыми абажурами с кружавчиками и зеленовато-желтым орнаментом. На стене висели две большие картины: на каждой из них были изображены желтые маргаритки на зеленеющем поле. В спальне было еще хуже: обои с крупными цветами были намного ярче обивки на диванах в гостиной, а ярко-желтые драпировки дополнялись такими же оборчатыми занавесочками. По кровати было разбросано около десятка декоративных подушечек: часть из них была зеленого цвета с кружевными желтыми оборками, другая часть — желтого цвета, но с зелеными кружевами. По словам Дженни, в этом доме жили Эд и Тереза Ланге, три их сына-подростка и семидесятилетняя мать Терезы. Обитателей дома они не нашли. Брайс порадовался хотя бы тому, что в доме не было трупов: посиневшие и раздувшиеся мертвецы выглядели бы среди этого почти маниакально жизнерадостного окружения особенно жутко. Кухня тоже была выдержана в зеленой и желтой гамме. Подойдя к мойке, Тал Уитмен вдруг произнес: — Вот это да! Взгляните-ка, шеф. Брайс, Дженни и капитан Аркхэм подошли к Талу, двое других полицейских остались сзади, в дверях, вместе с Лизой. Невозможно было угадать заранее, что обнаружится вдруг в кухонной мойке в этом городке, посреди всего этого кошмара. Быть может, чья-нибудь голова. Или еще одна пара отрезанных рук. Или еще что-нибудь похуже. Но на этот раз ничего ужасного в мойке не было. Просто странное. — Хватит на ювелирный магазин среднего размера, — сказал Тал. Двойная мойка была доверху наполнена ювелирными изделиями и украшениями. В основном это были наручные часы и всевозможные кольца. Часы здесь были и мужские, и женские, всех марок: «Таймекс», «Сейко», «Булова» и даже одни «Ролекс». Некоторые из часов были на браслетах, некоторые — без них, но не было ни одной пары часов на кожаном или пластмассовом ремешке. Здесь были десятки обручальных колец, их бриллианты ярко сверкали из мойки. Много было колец и перстней с камнями, соответствующими знаку зодиака: с гранатами, аметистами, гелиотропами, топазами, турмалинами, с рубинами и изумрудами. Были перстни с гербами школ и колледжей. Дешевые подделки и бижутерия были перемешаны с действительно настоящими и дорогими вещами. Брайс запустил руки в эту кучу драгоценностей примерно так же, как обычно в кино пираты запускают руки в сундук с сокровищами. Порывшись в этом сверкающем изобилии, он обнаружил и многое другое: серьги, кулоны, браслеты с подвесками и без них, отдельные жемчужины и камешки от разорванных ожерелий, золотые цепочки, очень милую брошь-камею… — Не может быть, чтобы все это принадлежало семье Ланге, — проговорил Тал. — Погодите-ка, — сказала Дженни. Она вытянула из кучи часы и принялась внимательно изучать. — Узнали их? — спросил Брайс. — Да. «Картье», особые водонепроницаемые часы. Но не обычные, классические, с римскими цифрами. А особые: здесь нет цифр и циферблат черный. Сильвия Канарски подарила их мужу, Дэну, в пятую годовщину их свадьбы. Брайс нахмурился: — Где я мог слышать эти имена? — Это владельцы гостиницы «При свечах», — напомнила ему Дженни. — Да, верно. Ваши друзья. — Числятся среди пропавших, — добавил Тал. — Дэн очень любил эти часы, — сказала Дженни. — Когда Сильвия их купила, все посчитали это жутким мотовством. Финансовое положение гостиницы было тогда еще очень шатким, а часы стоили триста пятьдесят долларов. Сейчас, конечно, они стоят гораздо больше. Дэн потом шутил, что эти часы оказались самым удачным из всех их капиталовложений. Она перевернула часы так, чтобы Брайсу и Талу была видна их задняя крышка. На золотом корпусе, прямо над эмблемой «Картье», было выгравировано: «МОЕМУ ДЭНУ». А внизу, под номером часов — «С ЛЮБОВЬЮ, СИЛ». Брайс задумчиво посмотрел на мойку, доверху заполненную драгоценностями: — Значит, это, по-видимому, принадлежало людям со всего Сноуфилда. — Ну, я бы сказал, что это принадлежало тем, кто исчез, — уточнил Тал. — На тех жертвах, которые мы обнаружили, драгоценности были. — Да, ты прав, — кивнул Брайс. — Значит, со всех исчезнувших содрали все часы и драгоценности, прежде чем… ну, прежде чем с ними произошло то, что произошло потом, черт возьми. — Воры и грабители не оставили бы здесь такую добычу, — проговорила Дженни. — Они бы не стали отбирать все это только затем, чтобы потом бросить в мойке на кухне. Они бы все это во что-нибудь сложили и увезли с собой. — Но зачем это все здесь свалено? — спросил Брайс. — Убей меня Бог, не знаю, — ответила Дженни. Тал недоуменно пожал плечами. Драгоценности, сваленные в двухсекционной мойке, сверкали и переливались всеми цветами радуги.Крики морских чаек. Лай собак. Гэйлен Копперфильд оторвал взгляд от экрана компьютера, с которого он считывал информацию. Облаченный в защитный костюм, он уже давно был весь покрыт потом, устал, тело у него болело. Поначалу он было решил, что птичьи голоса и собачий лай ему померещились. Потом резко проорал кот. Тихо заржала лошадь. Генерал нахмурился и оглядел передвижную лабораторию. Гремучие змеи. Масса гремучих змей. Их такой знакомый и смертельно опасный треск: «чика-чика-чика-чика». Зажужжали пчелы. Все, кто был в лаборатории, тоже слышали эти звуки, и теперь тревожно переглядывались. — Это идет по внутреннему переговорному устройству, — сказал Робертс. — Совершенно верно, — донесся до них голос доктора Беттенби, который сидел во второй передвижной лаборатории. — Мы здесь тоже слышим. — Ну что ж, — проговорил Копперфильд, — послушаем концерт. Для переговоров друг с другом пользоваться внешними устройствами. Жужжание пчел прекратилось. Где-то очень далеко и тихо запел ребенок. Определить, кто пел — мальчик или девочка, — было невозможно, голос казался каким-то бесполым:
К половине пятого вечера того же дня — понедельника — Брайс прекратил осмотр домов. Сумерки должны были наступить еще часа через два, но все уже вымотались до предела. Вымотались от хождения вверх и вниз по лестницам. От созерцания чудовищных, противоестественных трупов. От мерзких сюрпризов. Вымотались от осознания масштабов произошедшей человеческой трагедии и от того постоянного ужаса, что притуплял все чувства. От страха, что неистребимым тугим комком засел в груди у каждого. И от постоянного нервного напряжения, от которого они уставали сильнее, чем от тяжелой физической работы. К тому же, Брайсу стало ясно, что объем предстоящей работы им просто не по силам. За пять с половиной часов они сумели осмотреть лишь ничтожную часть города. При таких темпах, при ограниченном числе людей и при том, что обходить дома можно было только в дневное время, для полного и тщательного осмотра всего Сноуфилда им бы потребовалось по меньшей мере две недели. Кроме того, если бы к моменту завершения такого осмотра пропавшие не объявились и об их местонахождении по-прежнему ничего не было известно, то пришлось бы организовывать прочесывание окрестных лесов, а это было еще более трудной задачей. Накануне вечером Брайс был категорически против того, чтобы Национальная гвардия бродила по Сноуфилду и путалась у них под ногами. Но теперь на протяжении почти целых суток он сам и его подчиненные имели возможность беспрепятственно осматривать весь городок. Специалисты из бригады Копперфильда тоже собрали необходимые им пробы и сейчас занялись исследованиями. Теперь, как только Копперфильд сможет со всей определенностью заявить, что бактериологической угрозы в Сноуфилде нет, в город можно будет вводить национальных гвардейцев в помощь подчиненным Брайса. Поначалу, когда он почти ничего не знал о происшедшем и о положении в городе, Брайс был не расположен поступаться в чью бы то ни было пользу своей властью: ведь городок все-таки входил в сферу его ответственности. Сейчас он тоже не хотел поступаться властью, но был уже готов поделиться ответственностью. Ему необходимы были дополнительные люди. Реальная ответственность с каждым часом становилась все больше, давила все сильнее, и он был готов переложить часть ее на другие плечи. Вот почему в половине пятого вечера, отозвав поисковые группы и группы осмотра назад в гостиницу «На горе», он позвонил губернатору штата и переговорил с ним. Они договорились о том, что Национальная гвардия будет приведена в состояние повышенной готовности и начнет действовать, как только от Копперфильда будет получено сообщение, что все чисто. Едва Брайс положил трубку, как раздался звонок от Чарли Мерсера, дежурного сержанта из штаба полиции в Санта-Мире. У него были кое-какие новости. Флетчер Кейл совершил побег во время перевозки его в окружной суд, где ему должно было быть предъявлено обвинение в двух убийствах первой степени. Брайс был вне себя от ярости. Чарли молча слушал, давая начальнику выпустить пар, а когда Брайс понемногу начал успокаиваться, он добавил: — Есть еще кое-что похуже. Он убил Джо Фримонта. — Вот черт, — выругался Брайс. — А Мэри сказали? — Да. Я сам к ней сходил. — Как она восприняла?.. — Плохо. Они прожили вместе двадцать шесть лет. Еще одна смерть. Всюду смерть. О Господи! — А что известно о Кейле? — спросил Брайс у Чарли. — Мы полагаем, что он угнал машину от жилого дома, что стоит через улицу позади здания полиции. Там со стоянки одна машина пропала. Мы выставили заградительные посты на всех дорогах, как только обнаружили, что он сбежал, но у него был примерно час форы. — Ну, так он давно смылся. — Вероятно. Если к семи вечера мы этого сукина сына нигде не отыщем, я бы хотел снять посты. У нас не хватает людей — сами понимаете, что тут творится, — и мы не можем впустую держать их на этих постах. — Действуй, как считаешь нужным, — устало ответил Брайс. — А что слышно от полиции Сан-Франциско? Я имею в виду — насчет Гарольда Орднэя, того, который оставил надпись на зеркале? — Да, об этом я тоже хотел доложить. Они нам наконец-то кое-что сообщили. — Что-нибудь полезное? — Как сказать… Они побеседовали с сотрудниками книжных магазинов Орднэя. Помните, я вам говорил, что один из этих магазинов торгует исключительно редкими и антикварными книгами. Так вот, заместительнице управляющего этим магазином — ее зовут Селия Меддок — имя Тимоти Флайта знакомо. — Он их покупатель? — спросил Брайс. — Нет. Автор. — Автор? Чего? — Одной книжки. Догадайтесь, как она называется? — Откуда, черт возьми, мне… А, ну да, конечно. «Вековечный враг»? — Точно, — ответил Чарли Мерсер. — А о чем книга? — Вот это самое интересное. Селия Меддок говорит, что, если она не ошибается, книжка об известных в истории случаях массового исчезновения людей. На несколько минут Брайс потерял дар речи. Потом спросил: — Ты это серьезно? Ты хочешь сказать, что таких случаев было много? — Наверное. Раз хватило на целую книжку. — Когда? Где? И почему я о них ничего не слышал? — Меддок говорила что-то об исчезновении древнего народа майя… В памяти Брайса стали всплывать какие-то обрывочные сведения. Когда-то он читал статью в старом научном журнале. Цивилизация майя. Покинутые жителями города. — …и поселение Руанук, самое первое британское поселение в Северной Америке, — закончил Чарли. — Об этом я слышал. Это есть во всех школьных учебниках. — Я думаю, что если забираться в историю до самой древности, то наберется довольно много таких исчезновений, — сказал Чарли. — Господи! — Да. И Флайт явно придумал какую-то теорию, которая объясняет подобные вещи, — продолжал Чарли. — Об этом и книга. — А в чем суть его теории? — Меддок не знает. Она не читала книгу. — Но Гарольд Орднэй наверняка ее читал. И то, что на его глазах началось в Сноуфилде, видимо, в точности совпало с тем, о чем писал Флайт. Поэтому-то Орднэй и написал название книги на зеркале в ванной. — Должно быть, так. — А полиция Сан-Франциско не раздобыла экземпляр этой книжки? — спросил Брайс, дрожа от волнения и возбуждения. — Нет. У Меддок ее не было. Она и знала-то об этой книге только потому, что Орднэй недели две или три назад продал кому-то один ее экземпляр. — А мы никак не можем ее получить? — Она вышла давным-давно. В Штатах ее даже не печатали. Тот экземпляр, который продан — это было английское издание, по-видимому, единственное и с очень небольшим тиражом. Это очень редкая книга. — А кому Орднэй ее продал? Должно быть, какому-нибудь коллекционеру. Можно узнать его имя и адрес? — Меддок не помнит. Она говорит, что он не часто покупает что-либо в их магазине. По ее словам, Орднэй должен был его знать. — Ну, нам от этого мало проку. Послушай, Чарли, мне во что бы то ни стало нужна эта книга. — Я стараюсь ее достать, — ответил Чарли. — Но, может быть, она и не понадобится. Вы все услышите из первых уст. Флайт уже летит сейчас сюда из Лондона.
Дженни сидела посреди вестибюля на краешке стола, который выполнял здесь роль оперативного центра, и во все глаза смотрела на откинувшегося на спинку кресла Брайса: она была просто потрясена всем тем, что он ей только что рассказал. — И он уже летит сюда из Лондона? Прямо сейчас? Так быстро? Он что, знал, что это должно было случиться? — Может быть, и не знал, — ответил Брайс. — Но мне кажется, что как только он услышал сообщение об этом, то сразу же понял, что этот случай подпадает под его теорию. — Возможно, что и так. — Возможно. — А когда он должен здесь быть? — спросил стоявший перед столом Тал. — Он прилетит в Сан-Франциско сразу после полуночи. Там в аэропорту его американский издатель организует для него пресс-конференцию. Оттуда он поедет прямо в Санта-Миру. — Американский издатель? — переспросил Фрэнк. — Но вы же, по-моему, говорили, что эта книга здесь не издавалась. — Раньше не издавалась, — ответил Брайс. — А сейчас он готовит новую книгу. — О Сноуфилде? — спросила Дженни. — Не знаю. Может быть. Вероятно. — Ну, он не теряет времени даром, — нахмурилась Дженни. — После того как все это случилось, еще сутки не прошли, а у него уже есть контракт на книгу. — Я бы хотел, чтобы он действовал еще быстрее. Лично я предпочел бы видеть его сейчас здесь. — Мне кажется, доктор хочет сказать, что, возможно, этот Флайт просто еще один из тех, кто любит гоняться за длинной монетой, — сказал Тал. — Совершенно верно, — подтвердила Дженни. — Возможно, — согласился Брайс. — Но не забывайте, ведь Орднэй почему-то написал имя Флайта на зеркале. В этом смысле Орднэй пока что наш единственный свидетель. И судя по этой надписи, мы можем сделать выводы, что увиденное Орднэем было очень похоже на то, о чем писал Тимоти Флайт. — Черт возьми, — проговорил Фрэнк, — если у Флайта действительно есть какая-то информация, которая могла бы оказаться для нас полезной, он бы мог и позвонить, а не заставлять нас ждать. — Конечно, — согласился Тал. — Пока он сюда прилетит, мы все уже можем стать покойниками. Он должен был позвонить и сказать, что нам следует делать. — Вот в этом-то и проблема, — сказал Брайс. — Что ты имеешь в виду? — спросила Дженни. — У меня есть предчувствие, — вздохнув, сказал Брайс, — что Флайт бы обязательно позвонил, если бы мог сказать, как нам следует себя вести. Мне кажется, что он, возможно, очень хорошо знает, с каким созданием или с какой силой мы тут столкнулись. Но я подозреваю, что он не имеет ни малейшего понятия, как с ним справиться. Независимо от того, что он знает и сможет рассказать нам об этом, мне кажется, он наверняка не скажет нам самого главного и нужного: как нам всем выбраться отсюда живыми. Дженни и Брайс сидели за тем же столом-оперативным центром, пили кофе и обсуждали итоги осмотра домов, пытаясь соединить воедино, в нечто осмысленное столь разные и на первый взгляд бессмысленные вещи: кощунственное распятие священника, пол на кухне в доме Шеффилдов, усеянный пулями, тела в запертых изнутри автомобилях… Лиза сидела неподалеку от них. Со стороны казалось, что она целиком поглощена разгадыванием кроссворда в журнале, который она подобрала где-то в одном из домов во время осмотра. Но вдруг она подняла голову от журнала и сказала: — Я знаю, почему там была полная мойка драгоценностей. Дженни и Брайс выжидательно посмотрели на нее. — Прежде всего, — сказала девочка, подавшись в их сторону, — вы должны признать, что все те люди, которые считаются пропавшими, на самом деле мертвы. Они все действительно погибли. Это несомненно. — Ну, это не так уж несомненно, дорогая, — возразила Дженни. — Они погибли, — тихо произнесла Лиза. — Я знаю. И ты знаешь. — Ее живые ярко-зеленые глаза смотрели сейчас почти с яростью. — Оно их всех пожрало. Дженни припомнила, что сказала Лиза вчера вечером, в местном полицейском участке, после того как Брайс рассказал им, что услышал в трубке телефона, когда звонило оно, крики и стоны истязаемых людей. Тогда Лиза сказала: «Возможно, оно сплело паутину в каком-нибудь темном месте, где-нибудь в пещере или в погребе, опутало всех пропавших людей этой паутиной и запечатало их заживо в коконы. Возможно, оно просто приберегает их до тех пор, пока не проголодается снова». Вчера все они удивленно уставились на девочку, им захотелось вначале рассмеяться, но потом все почувствовали, что в ее словах может быть какая-то доля чудовищной правды. Не обязательно это должны быть в буквальном смысле какой-то гигантский паук, паутина, коконы. Но что-то в этом сравнении есть. Никто не хотел тогда этого признать, но возможность чего-то подобного существовала. Они столкнулись с чем-то неизвестным. Неизвестное нечто. Нечто неизвестное, что пожирало людей. И сейчас Лиза снова вернулась к той же самой теме: «Оно их пожрало». — Но как это связано с драгоценностями? — спросил Брайс. — Ну, — ответила Лиза, — после того как оно сожрало людей, может быть… может быть, оно просто выплюнуло эти драгоценности… примерно так же, как мы выплевываем вишневые косточки.
Доктор Сара Ямагути вошла в гостиницу «На горе», остановилась в дверях, отвечая на вопросы часового, а затем пересекла вестибюль и подошла к Дженни и Брайсу. Она была все еще в защитном костюме, но без шлема, не было на ней ни баллонов со сжатым воздухом, ни системы жизнеобеспечения. В руках она несла свернутую в узелок одежду и пачку скрепленных между собой листков бледно-зеленой бумаги. Дженни и Брайс поднялись ей навстречу, и Дженни спросила: — Что, доктор, карантин уже снят? — Уже? У меня такое ощущение, что я просидела в этом скафандре не меньше года. — Голос доктора Ямагути был совсем не похож на то, что доносилось раньше из переговорного устройства. Теперь он звучал нежно и очень приятно и казался даже еще более нежным, чем была она сама. — Так хорошо вдохнуть снова свежий воздух! — А вы уже провели высев бактерий, да? — спросила Дженни. — Начали проводить. — Н-но… ведь результаты станут известны только через сутки или двое, верно? — Да. Но мы решили, что бессмысленно дожидаться результатов высева. Никаких бактерий мы там не найдем — ни доброкачественных, ни каких-либо иных. Ни доброкачественных, ни каких-либо иных. Это странное заявление заинтриговало Дженни, но, прежде чем она успела поинтересоваться, что означают эти слова, доктор Ямагути сказала: — А кроме того, Медди сообщил нам, что опасности нет. — Медди? — Это уменьшительное от Меданкомп, — объяснила доктор Ямагути. — А Меданкомп — это сокращенное обозначение «компьютерной системы медицинских анализов». Наш компьютер. После того как в него ввели все результаты вскрытий и анализов, Медди выдал оценку вероятности того, что все это вызвано биологическими причинами. Медди сделал вывод, что такая вероятность равна нулю целых, нулю десятых. — И вы настолько доверяете компьютеру, что решились сразу же начать дышать свежим воздухом? — спросил явно удивленный Брайс. — Мы провели больше восьмисот испытаний, и Медди ни разу не ошибся. — Но сейчас-то ведь не испытания, — возразила Дженни. — Верно. Но после того, что мы обнаружили в результате вскрытий и патологоанализа… — Доктор Ямагути пожала плечами и протянула Дженни пачку бледно-зеленых листков бумаги. — Вот. Тут все результаты. Генерал Копперфильд подумал, что вам будет интересно их посмотреть. Если появятся вопросы, я отвечу. А пока наши мужчины остались в лаборатории, вылезают из защитных костюмов, и мне до смерти хочется сделать то же самое. Все тело чешется. — Она улыбнулась и почесала себе шею. Облаченная еще в перчатку рука оставила красноватый след на нежной и гладкой, как фарфор, коже. — Здесь нельзя где-нибудь помыться? — У нас есть мыло, полотенца и ванна, — ответила Дженни, — но только на кухне, в углу. Не самое укромное место, но мы готовы поступаться уединенностью ради безопасности. — Это понятно, — кивнула доктор Ямагути. — И как мне туда пройти? Лиза вскочила с кресла, отбросив кроссворд в сторону. — Пойдемте, я вам покажу. И послежу за тем, чтобы ребята, которые работают на кухне, стояли к вам спиной и не подглядывали. Бледно-зеленые листки оказались компьютерной распечаткой, разрезанной на одиннадцатидюймовые страницы. Страницы эти были пронумерованы и с левой стороны сброшюрованы при помощи пластмассового скрепляющего устройства. Дженни перелистывала первый раздел отчета, Брайс заглядывал ей через плечо. В этом разделе были отпечатанные на компьютере наблюдения, сделанные Сетом Голдстейном во время вскрытия. Голдстейн отметил наличие признаков возможного удушения, более явных признаков очень сильной аллергической реакции на неустановленное вещество, но определить причины смерти он так и не смог. Потом внимание Дженни привлекли результаты первых патологоанализов. Это были записи микроскопических исследований длинного ряда контрольных бактериальных препаратов, в которые вносились капли жидкости и срезы тканей, взятые из трупа Гэри Векласа; при этом даже самые крошечные микроорганизмы окрашивались бы в более темные цвета. Целью анализа было установить, какие бактерии продолжают жить в трупе. То, что они обнаружили, поразило исследователей.
ПРЕПАРАТЫ — ВЗВЕШЕННЫЕ РАСТВОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — МЕДАНКОМП КОНТРОЛЬ АНАЛИЗА — БЕТТЕНБИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ — 2096 ПРОБ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОБА I НА ESCHERICHIA GENUS ПРИСУТСТВИЕ ФОРМЫ: НЕ ПРИСУТСТВУЕТ ПРИМЕЧАНИЕ: НЕВЕРНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НЕВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ — ОТСУТСТВИЕ ЖИВОГО Е.
НА CLOSTRIDIUM GENUS ПРИСУТСТВИЕ ФОРМЫ: НЕ ПРИСУТСТВУЕТ ПРИМЕЧАНИЕ: НЕВЕРНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НЕВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ — ОТСУТСТВИЕ ЖИВОГО С.
НА PROTEUS GENUS ПРИСУТСТВИЕ ФОРМЫ: НЕ ПРИСУТСТВУЕТ ПРИМЕЧАНИЕ: НЕВЕРНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НЕВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ — ОТСУТСТВИЕ ЖИВОГО Р.На распечатке и дальше шло перечисление тех бактерий, найти которые пытались компьютер и доктор Беттенби, но результат неизменно оказывался один и тот же. Дженни вспомнила ту странную фразу, которую произнесла доктор Ямагути и в отношении которой она намеревалась задать несколько вопросов: ни доброкачественных бактерий, ни каких-либо иных. И вот перед ней были результаты анализов — совершенно невозможные результаты, что справедливо отметил компьютер. — Странно, — проговорила Дженни. — Мне все это ровным счетом ничего не говорит, — сказал Брайс. — Можете перевести? — Видите ли, дело в том, что труп — отличная среда для размножения всех бактерий, по крайней мере в течение какого-то времени. Через столько часов после смерти труп Гэри Векласа должен был бы кишеть Clostridium welchii, которая обычно сопутствует газовой гангрене. — А ее нет? — В водяной капле, зараженной исследуемым материалом, они не смогли найти даже одной-единственной живой Clostridium welchii. А в такой пробе ими должно кишмя кишеть. Здесь должно быть полным-полно и Proteus vulgaris. Это сапрофитная бактерия. — Переведите, — терпеливо попросил Брайс. — Извините. «Сапрофитная» означает, что такая бактерия лучше всего чувствует себя в мертвых или разлагающихся тканях. — А Веклас бесспорно мертв. — Бесспорно. И тем не менее Proteus vulgaris в его трупе нет. Должна была бы присутствовать и еще одна бактерия. Как минимум Micrococcus albus, а может быть, и Bacillus mesentericus. Но нет вообще никаких микроорганизмов, которые обычно связаны с разложением. Ни одной из тех форм, которые всегда присутствуют. И что еще более странно, в теле нет живых Escherichia coli. Но они-то, черт возьми, обязательно должны были бы быть, и во множестве, еще до того, как Векласа убили. И должны были бы оставаться в теле сейчас, тоже во множестве. Escherichia coli живет в толстой кишке. У вас, у меня, у Гэри Векласа, у любого. И пока она не выходит за пределы кишечника, она остается в общем-то доброкачественным организмом. — Дженни перелистнула несколько страниц. — Вот, нашла. Взгляните-ка сюда. Когда они взяли анализ на наличие мертвых микроорганизмов, то обнаружили массу Escherichia coli. Но только мертвых. Живых бактерий в теле Векласа нет. — А что это означает? — спросил Брайс. — Что труп не разлагается так, как положено? — Он вообще не разлагается. Но странно не это. Странно другое: почему это происходит. А не разлагается он потому, что в него явно ввели огромную дозу стерилизатора и консерванта. Какого-то консерванта, Брайс. Похоже, что труп накачали каким-то крайне сильным консервантом.
Лиза принесла поднос, на котором стояли четыре кружки с кофе, лежали салфетки и чайные ложечки. Девочка передала кофе доктору Ямагути, Дженни и Брайсу, четвертую кружку она взяла себе. Они сидели в столовой, что была устроена в гостинице «На горе», за столиком у окна. Вся улица была залита золотисто-оранжевым предзакатным солнцем. Через час, подумала Дженни, опять стемнеет. И снова придется мучиться неизвестностью до самого рассвета. Ее передернуло. Да, чашка горячего кофе была ей сейчас необходима. Сара Ямагути переоделась в коричневые джинсы и желтую блузку. Длинные шелковистые черные волосы были распущены у нее по плечам. — Наверное, — говорила она, — все мы насмотрелись тех старых документальных фильмов о природе, которые снимал когда-то Уолт Дисней. И потому знаем, что те пауки, те осы, которые живут в земле, и некоторые другие насекомые вводят в тела своих жертв консервирующие вещества и складывают эти жертвы либо в запас, либо для того, чтобы скормить позднее своему еще не родившемуся потомству. Тот консервант, которым пропитаны ткани тела Векласа, отдаленно напоминает консерванты, используемые насекомыми, но гораздо более сложен по составу и более сильнодействующий. Дженни пришел на память тот невероятно огромный мотылек, который напал на Стюарта Уоргла и убил его. Но подобные существа не могли бы истребить всех жителей Сноуфилда. Определенно не могли бы. Даже если бы город наводнили сотни подобных созданий, то и тогда им было бы не по силам убить буквально каждого. Такой мотылек не мог бы забраться в закрытые машины, в запертые дома, в забаррикадированные комнаты. Нет, здесь поработало что-то другое. — То есть вы хотите сказать, что людей здесь убило какое-то насекомое? — спросил Брайс Сару Ямагути. — Те факты, которыми мы располагаем, об этом не свидетельствуют. Для того чтобы убить жертву и ввести в нее консервант, насекомое обычно пользуется жалом. Поэтому всегда бывает маленькая ранка, след от укуса, пусть даже микроскопический. Но Сет Голдстейн осмотрел все тело Векласа, целиком и полностью, через увеличительное стекло. В самом прямом смысле слова. Он дважды рассматривал через лупу каждый квадратный дюйм поверхности тела. И не нашел ни следа от укуса, ни какого-либо другого повреждения кожи, через которое мог бы быть введен консервант. Мы опасались, что тут могли вкрасться какие-то ошибки. Поэтому мы провели еще одно вскрытие и еще одну серию анализов. — На Карен Оксли, — догадалась Дженни. — Да. — Сара Ямагути отвернулась к окну и посмотрела на улицу: не идут ли генерал Копперфильд и все остальные. Потом опять повернулась лицом к сидевшим за столом и продолжала: — Однако результаты анализов оказались точно такими же. И в этом трупе не было никаких живых бактерий. Разложение трупа было каким-то непонятным образом полностью остановлено. Ткани насыщены консервантом. Опять пошли крайне странные исходные данные. Но мы по крайней мере были довольны хоть тем, что в первый раз не допустили никакой ошибки. — Но если консервант вводился не через укус, то как же это было сделано? — спросил Брайс. — Наше предположение таково, что этот консервант очень легко и быстро поглощается тканями и что он попадает в тело через контакт с поверхностью кожи, а потом за несколько секунд проникает во все ткани тела. — Может быть, это все-таки какой-то нервно-паралитический газ? — спросила Дженни. — Быть может, его консервирующее воздействие — просто один из побочных эффектов? — Нет, — ответила Сара Ямагути. — На одежде жертв нет ни малейших следов газа, а если это был действительно газ, то такие следы обязательно должны были бы оставаться. И кроме того, хотя неизвестное нам вещество и обладает попутным токсическим воздействием, химический анализ показывает, что это не яд, каким обязательно был бы нервно-паралитический газ, это именно консервант. — А причиной смерти был он? — снова спросил Брайс. — Он сыграл свою роль. Но точную причину смерти мы так и не смогли установить. Отчасти смерть произошла из-за токсического воздействия консерванта. Однако есть признаки, которые дают основания думать, что она наступила из-за резкой нехватки кислорода. Жертвам то ли полностью перекрывали трахею, то ли долго держали их в полупридушенном состоянии. — То есть их так или иначе удушили? — подался вперед Брайс. — Да. Но мы не знаем, как именно. — Но это же невозможно, — вступила в разговор Лиза. — То, о чем вы говорите, должно было бы занять минуту или две. А все эти люди погибли очень быстро. За одну-две секунды. — А кроме того, — добавила Дженни, — насколько я помню обстановку в доме Оксли, там не было никаких признаков борьбы. Люди, которых убивают, обычно оказывают чертовски сильное сопротивление, ломают и переворачивают все вокруг… — Да, — согласно кивнула доктор Ямагути. — Это совершенно непонятно. — Почему все тела такие раздутые? — спросил Брайс. — Мы считаем, что это реакция на консервант. — А то, что они посиневшие — тоже? — Нет. Это что-то… другое. — Что именно? Сара ответила не сразу. Она нахмурилась и какое-то время сидела, уставившись взглядом в содержимое своей кружки. Наконец она сказала: — Кожа и подкожные ткани обоих трупов явно свидетельствуют о том, что эффект посинения вызван воздействием какой-то внешней силы: это классические ушибы. Иными словами, посинение не связано со вздутием и оно не является самостоятельной аллергической реакцией на консервант. Такое впечатление, что жертвы кто-то бил. Долго и сильно. Но это очень странно. Потому что когда избивают до таких синяков, то должен обязательно быть хотя бы один перелом. Есть и еще кое-что столь же странное: степень посинения одинакова по всему телу. Ткани повреждены совершенно в равной степени во всех местах: на бедрах, на руках, на груди, везде. Но это просто невозможно. — Почему? — спросил Брайс. — Когда кого-нибудь бьют чем-то тяжелым, — ответила ему Дженни, — то всегда какие-то участки тела получают более сильные повреждения, какие-то — менее сильные. Невозможно наносить каждый удар с абсолютно одной и той же силой и под тем же самым углом, что и все другие удары. А именно так надо было бить, чтобы ушибы по всему телу были одинаковы. — Кроме того, — добавила Сара Ямагути, — посинение есть даже в таких местах, куда не могла бы достать никакая дубинка. Скажем, под мышками. Между ягодицами. И даже на подошвах ног! Причем несмотря на то, что на миссис Оксли, например, были надеты туфли. — По-моему, совершенно очевидно, — сказала Дженни, — что повреждения тканей, приведшие к их посинению, наступили не в результате ударов по телу, а от чего-то еще. — От чего, например? — спросил Брайс. — Понятия не имею. — И все они умерли очень быстро, — напомнила им Лиза. Сара откинулась на спинку стула, покачалась на его задних ножках и снова посмотрела в окно. В сторону гор. В ту сторону, где стояли передвижные лаборатории. — Доктор Ямагути, что вы обо всем этом думаете? — Брайс невольно понизил голос. — Не как врач и специалист. А неофициально. Что вы лично думаете о том, что тут происходит? Есть у вас какое-нибудь объяснение? Она повернулась к нему, отрицательно покачала головой. Волосы ее взметнулись, и лучи клонящегося к закату солнца заиграли на них, отбрасывая красные, зеленые, синие блики примерно так же, как отражающийся от масляного пятна свет рождает целую гамму переливающихся красок. — Нет. Боюсь, нет у меня никакого объяснения. И даже более или менее связных мыслей нет. Хотя… — Хотя что? — Н-ну… сейчас мне уже кажется удачным, что с нами приехали Айсли и Аркхэм. У Дженни мысль о возможности того, что здесь замешана внеземная цивилизация, по-прежнему вызывала скептическое отношение, Лизу же, наоборот, эта мысль захватывала. — А вы действительно думаете, что здесь могут быть пришельцы из других миров? — спросила девочка. — Ну, в принципе могут быть и другие объяснения, — ответила Сара, — хотя трудно сейчас представить, какие именно. — Она посмотрела на свои наручные часики, нахмурилась, поерзала на стуле, потом проговорила: — Почему они так долго? — Повернувшись к окну, она внимательно и ожидающе стала смотреть на улицу. Деревья на улице стояли абсолютно неподвижно. Тенты перед входами в магазины не колыхались. Весь городок застыл в оцепенении. — Вы говорили, что они снимают защитные костюмы и переодеваются. — Да, но это не занимает столько времени. — Если бы что-то случилось, мы бы услышали стрельбу. — Или взрывы, — добавила Дженни. — Тех бутылок с зажигательной смесью, которых они столько наделали. — Они должны были быть здесь по меньшей мере пять… даже десять минут назад, — продолжала волноваться Сара. — А их до сих пор даже не видно. Дженни вспомнила, как поразительно тихо и незаметно подкралось оно тогда к Джейку Джонсону. Брайс поколебался, потом отодвинул стул и встал: — Пожалуй, не повредит, если я возьму несколько человек и схожу гляну. Сара Ямагути резко повернулась от окна, передние ножки ее стула с резким тревожным стуком опустились на пол. — Что-то произошло, — сказала она. — Да нет. Вряд ли, — возразил Брайс. — Вы же сами это чувствуете, — сказала Сара. — Это видно по вашему лицу. О Господи! — Не волнуйтесь, — спокойно проговорил Брайс. Но если голос у него был спокойный, то глаза выдавали его. За последние двадцать с чем-то часов Дженни научилась отлично прочитывать выражение этих внешне всегда полусонных глаз. Сейчас в них отражались внутреннее напряжение и ледяной, колючий страх. — Пока еще рано беспокоиться, — сказал Брайс. Но все они уже поняли, что случилось. Они еще не хотели в это поверить, но они уже знали. Кошмар начался снова.
Брайс решил, что к лабораториям вместе с ним пойдут Тал, Фрэнк и Горди. — Я тоже пойду, — сказала Дженни. Брайсу очень не хотелось, чтобы она шла. За нее он боялся гораздо больше, чем за Лизу, за своих подчиненных или даже за самого себя. Между ними установилась какая-то совершенно неожиданная и редкая душевная связь. Брайс чувствовал себя в присутствии Дженни удивительно хорошо и спокойно, и он был уверен, что и она так же чувствует себя в его присутствии. И Брайс не хотел потерять Дженни. Поэтому он сказал: — Я бы предпочел, чтобы вы не ходили. — Я врач, — ответила Дженни так, словно принадлежность к этой профессии не только налагала на нее моральные обязательства, но и служила щитом, способным оградить ее в случае опасности. — Здесь у нас настоящая крепость, — продолжал уговаривать он. — Тут безопаснее. — Здесь нигде нет безопасного места. — Я не говорил, что здесь безопасно. Я сказал: «безопаснее». — Им может понадобиться врач. — Если они подверглись нападению, то либо уже мертвы, либо пропали. Раненых мы пока что не находили, верно? — Всегда бывает первый раз. — Дженни повернулась к Лизе и попросила: — Голубушка, принеси мою медицинскую сумку. Девочка побежала в тот угол вестибюля, где у них было оборудовано нечто вроде походного лазарета. — Ну уж она-то точно останется здесь, — сказал Брайс. — Нет, — ответила Дженни. — Она будет со мной. — Послушайте, Дженни, — с отчаянием в голосе произнес Брайс, — в конце концов, у нас здесь ситуация военного положения. Я могу просто приказать вам остаться. — И как же вы заставите меня выполнить этот приказ? Под дулом пистолета? — спросила Дженни, но без враждебности в голосе. Вернулась Лиза, неся с собой черную кожаную сумку. Сара Ямагути уже стояла у выхода и оттуда окликала Брайса: — Побыстрее. Пожалуйста, поторопитесь. Но если на передвижные лаборатории действительно напало оно, то спешить уже, возможно, и не было смысла. Глядя на Дженни, Брайс думал: «Я же не смогу защитить тебя, док. Неужели ты этого не понимаешь? Сиди здесь, за закрытыми окнами и охраняемыми дверями. Не заставляй меня защищать тебя, потому что ясно как день, я не смогу этого сделать. Я не сумею защитить тебя. Как не сумел защитить Эллен… и Тимми». — Пошли, — сказала Дженни. Мучительно сознавая, что в случае чего он будет действительно бессилен, Брайс вывел всю группу из гостиницы, я они осторожно двинулись вдоль улицы к перекрестку, понимая, что там, за углом, их вполне может подкарауливать оно. Впереди, рядом с Брайсом, шел Тал. Фрэнк и Горди замыкали процессию с тыла. Лиза, Сара Ямагути и Дженни шли в центре. Дневное тепло стало уже уступать место вечерней прохладе. Внизу, в долине ниже Сноуфилда, начинал собираться туман. До наступления темноты оставалось менее трех четвертей часа. Последние лучи заходящего солнца бросали на город кровавые отсветы. Всюду уже пролегли длинные, изломанные тени. Багровое солнце отражалось в окнах домов, напоминая языки пламени. Почему-то при взгляде на эти пламенеющие стекла Брайс подумал о фонарях из тыквы, которые они мальчишками вырезали под праздник Всех Святых: отсвет в отверстиях, обозначавших глаза, нос и рот, был очень похож на то, что отражалось сейчас в оконных стеклах. Улица казалась даже еще более зловеще-тихой, чем накануне вечером. Их шаги отдавались громким и гулким эхом, словно они шли не по мостовой, а по огромному пустому собору. Они осторожно повернули за угол. Посередине улицы лежали три смятых и пустых защитных костюма. Еще один пустой костюм лежал так, что половина его была на мостовой, а половина — в придорожной канаве. Два шлема были разбиты. Вокруг были разбросаны автоматы, неиспользованные бутылки с «молотовским коктейлем» аккуратным рядком выстроились вдоль тротуара. Задняя дверь грузовика была открыта. Внутри, в кузове, валялись еще несколько пустых защитных костюмов и несколько автоматов. Людей не было. — Генерал? Генерал Копперфильд? — громко крикнул Брайс. Гробовое молчание. Все тихо, как на Луне. — Сет? — окликнула Сара Ямагути. — Билл? Билл Беттенби? Гэйлен? Ответьте кто-нибудь, пожалуйста! Ничего. Никто не ответил. — Они не успели даже ни разу выстрелить, — произнесла Дженни. — Даже крикнуть, — сказал Тал. — Наши ребята у входа в гостиницу услышали бы, если бы они закричали. — Вот черт, — проговорил Горди. Задние дверцы обеих лабораторий были приоткрыты. У Брайса было такое ощущение, что внутри их кто-то поджидает. Ему хотелось повернуться и уйти. Но он не мог. Он был тут главным. И если он поддастся панике, то запаникуют все. А паника — это верная смерть. Сара двинулась к двери первой лаборатории. Брайс остановил ее. — Там же мои друзья, черт возьми, — рассердилась она. — Я знаю. Но дайте я вначале проверю, — сказал он. Несколько мгновений, однако, он был не в состоянии стронуться с места. Его сковал страх. Он не мог заставить себя сдвинуться даже на дюйм. Но в конце концов он все-таки переборол себя.
Глава 31
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
В одной руке Брайс держал наготове взведенный револьвер. Другой он дотянулся до дверцы лаборатории и резко распахнул ее. Одновременно он отпрыгнул назад, продолжая держать дверной проем под прицелом своего револьвера. Лаборатория была пуста. На полу валялись два смятых защитных костюма, третий был переброшен через спинку вращающегося кресла перед одним из компьютерных терминалов. Брайс направился к задней дверце второй лаборатории. — Давайте эту я проверю, — сказал Тал. Брайс отрицательно покачал головой: — Нет, ты стой здесь. Охраняй женщин: они без оружия. Если, когда я открою дверь, оттуда что-нибудь выскочит, удирайте со всех ног. Брайс подошел к двери второй лаборатории и остановился. Сердце у него колотилось вовсю. Он взялся за ручку двери. Снова выждал немного. Потом распахнул дверь даже с большими предосторожностями, чем открывал дверь первой лаборатории. И эта лаборатория тоже была пуста. Два защитных костюма внутри. Ничего больше. Пока Брайс всматривался во внутреннее помещение лаборатории, свет под потолком мигнул и погас. От неожиданности Брайс даже вздрогнул. Но уже в следующее мгновение свет появился снова, хотя теперь он шел не от установленных под потолком ламп: свет был какой-то необычный, зеленоватый, и Брайс насторожился. Потом он понял, что свет этот исходил от трех экранов компьютера, которые все включились одновременно. И выключились. Снова включились. Выключились. Включились, выключились, включились, выключились… Сначала они включались и выключались все вместе, одновременно, потом стали делать это поочередно, так что возникло впечатление, будто свет движется от экрана к экрану по кругу. Наконец, все они включились в последний раз и остались в таком состоянии, наполнив помещение лаборатории зловещим призрачным сиянием. — Я войду, — сказал Брайс. Прежде чем остальные успели возразить, он был уже на ступеньке и вошел внутрь. Там он подошел к первому терминалу, на темно-зеленом экране которого бледно-зелеными буквами светились несколько слов:— ИИСУС МЕНЯ ЛЮБИТ, И Я ЭТО ЗНАЮ.Брайс взглянул на два других экрана. На них были высвечены те же слова. Экран мигнул. Теперь появились новые слова:
— ТАК БИБЛИЯ УЧИТ МЕНЯ.Брайс нахмурился. Что за странная программа? Это же слова той песенки, что раздавалась из раковины на кухне гостиницы.
— В БИБЛИИ ПОЛНО ЧУШИ…— Заявил ему компьютер. Экран мигнул.
— А ИИСУС МОЖЕТ КАТИТЬСЯ К ПСАМ В…Эти слова держались на экранах дольше остальных. Брайсу показалось, что исходящий от экранов зеленый свет веет холодом. Пламя в камине излучает вокруг себя жар, а от свечения этих экранов исходил пронизывающий холод. Нет, то, что показывали экраны, не могло быть обычной компьютерной программой. Подчиненные генерала Копперфильда не могли заложить в компьютер подобное ни при каких обстоятельствах, ни по какой логике, ни в каких целях, ни для какого анализа. Экраны мигнули.
— ИИСУС МЕРТВ. БОГ МЕРТВ.Снова мигнули.
— Я ЖИВ.Опять мигнули.
— ХОЧЕШЬ ПОИГРАТЬ В 20 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ?С изумлением глядя на экран, Брайс ощущал, как внутри него поднимается почти животное чувство примитивного ужаса, как суеверные страх и трепет охватывают его всего, целиком и полностью, перехватывают ему горло Но он не мог понять, чем это вызвано. Какими-то глубинами своего сознания, почти подсознанием он чувствовал, что рядом с ним находится нечто крайне злое, древнее и… знакомое. Но откуда оно может быть ему знакомо? Он ведь даже не знает, что око такое. И тем не менее… Пожалуй, он действительно знал его. Где-то в самой глубине сознания. Инстинктивно. Если бы только он мог добраться до самой сокровенной сути самого себя, пробраться под ту видимость культуры, что так пронизана скептицизмом, если бы он мог докопаться до глубин своей расовой памяти, то, возможно, там бы он и нашел правду о том, что напало на жителей Сноуфилда и убило их. Экраны опять мигнули.
— ШЕРИФ ХЭММОНД?Мигание.
— ХОЧЕШЬ ПОИГРАТЬ СО МНОЙ В 20 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ?То, что компьютер назвал его по имени, потрясло Брайса. Но за этим последовал гораздо более неожиданный и неприятный сюрприз.
— ЭЛЛЕН.На экране загорелось имя, имя его погибшей жены, и Брайс почувствовал, как напрягся, напружинился каждый мускул его тела. Он ждал, пока появятся какие-то дополнительные слова, но тянулись мгновения, на экране было только это, такое дорогое для него имя, и он не мог отвести от него взгляда, а потом…
— ЭЛЛЕН ГНИЕТ.У него перехватило дыхание. Откуда оно знает про Эллен? Экран мигнул.
— ЭЛЛЕН КОРМИТ ЧЕРВЕЙ.А это еще что такое? И для чего?
— ТИММИ УМРЕТ.Предсказание четко высвечивалось на экране, зеленое на зеленом. Он почувствовал приступ удушья. — Нет, — негромко произнес он. На протяжении последнего года ему не раз казалось, что будет лучше, если Тимми действительно умрет. Лучше, чем такое вот медленное угасание. Еще вчера он мог сказать, что быстрая смерть сына была бы Божьим благословением. Сейчас он уже так не думал. Сноуфилд показал ему, что нет ничего хуже смерти. Когда ты в руках смерти, то надежды уже нет. Но пока Тимми жив, всегда будет оставаться вероятность выздоровления. В конце концов, врачи говорят, что мозг мальчика поражен не так уж сильно. Поэтому, если он когда-нибудь очнется от этого противоестественного сна, то у него есть хорошие шансы восстановить нормальные функции и способности. Шансы, возможность, надежда. Вот почему Брайс сказал компьютеру «нет». Твердое «нет». Снова мигание.
— ТИММИ СГНИЕТ. ЭЛЛЕН ГНИЕТ. ЭЛЛЕН ГНИЕТ В АДУ.— Кто ты такой? — требовательно спросил Брайс. Однако стоило ему произнести эти слова, как он почувствовал себя глупо. Ведь с компьютерами не разговаривают так, словно они тоже живые существа. Если он хочет задать компьютеру вопрос, то надо его напечатать. — ПОБЕСЕДУЕМ? Но Брайс уже отвернулся от экрана. Он подошел к двери и выглянул наружу. При виде его на лицах всех, кто там ждал, возникло выражение облегчения. Откашлявшись и стараясь не показать, насколько он потрясен, Брайс позвал: — Доктор Ямагути, мне нужна вашапомощь. Тал, Дженни, Лиза и Сара Ямагути забрались в лабораторию. Фрэнк и Горди остались снаружи, у дверей, нервно оглядывая улицу, где уже быстро темнело. Брайс жестом показал Саре на экраны компьютера. — ПОБЕСЕДУЕМ? Он рассказал о том, что высвечивалось на экранах терминалов в последние несколько минут, но не успел он закончить, как Сара перебила его: — Это невозможно. В этом компьютере нет ни программы, ни словаря, которые бы давали возможность… — Кто-то управляет вашим компьютером, — возразил Брайс. — Управляет? Как? — нахмурилась Сара. — Я не знаю. — Кто? — Не кто, а скорее уж что, — проговорила Дженни, обнимая сестру. — Да, — поддержал ее Тал. — Эта штука, этот убийца, кем бы он там, черт возьми, ни был — вот кто управляет вашим компьютером, доктор Ямагути. Это оно. Явно продолжая сомневаться, Сара Ямагути села за один из терминалов и включила автоматический принтер. Если из этого что-нибудь получится, пусть у нас хотя бы останется запись разговора. Ее маленькие, почти детские изящные руки замерли над клавиатурой; Брайс стоял у нее за спиной и следил за экраном из-за ее плеча; Тал, Дженни и Лиза повернулись к двум другим экранам в тот самый момент, когда они мигнули и изображение с них стерлось. Сара посмотрела на светящийся ровным зеленым светом экран и наконец набрала код доступа и первый вопрос. — ЕСТЬ ТАМ КТО-НИБУДЬ? Немедленно последовал ответ, и принтер застучал, печатая его:
— ДА.— КТО ВЫ?
— НЕИСЧИСЛИМЫЙ.— Что это значит? — спросил Тал. — Не знаю, — ответила доктор Ямагути. Она повторила вопрос и получила опять тот же самый непонятный ответ:
— НЕИСЧИСЛИМЫЙ.— Спросите, как его зовут, — посоветовал Брайс. Сара напечатала вопрос, и набранные ею слова появились сразу на всех трех экранах: — У ВАС ЕСТЬ ИМЯ?
— ДА.— КАК ВАС ЗОВУТ?
— МНОГО.— У ВАС МНОГО ИМЕН?
— ДА.— НАЗОВИТЕ ОДНО ИЗ НИХ?
— ХАОС.— КАКИЕ ЕЩЕ ИМЕНА У ВАС ЕСТЬ?
— ТЫ ГЛУПАЯ НАДОЕДЛИВАЯ БЛЯДЬ. СПРОСИ О ЧЕМ-НИБУДЬ ДРУГОМ.Сара потрясенно посмотрела на Брайса: — Ну, уж подобного слова в компьютерном языке точно нет. — Не спрашивайте, кто он, — проговорила Лиза. — Спросите лучше, что оно такое. — Верно, — согласился Тал. — Посмотрим, даст ли оно какое-нибудь физическое описание себя. — Оно решит, что мы задаем вопросы, чтобы проверить, исправен ли компьютер, — ответила Сара, — и начнет выдавать нам схемы его цепей. — Не начнет, — возразил Брайс. — Не забывайте, вы сейчас ведете диалог не с компьютером. Это что-то другое. Компьютер сейчас — только средство общения. — Да. Да, конечно, — сказала Сара. — Хоть он меня только что и обозвал, я все еще по привычке отношусь к нему, как к нашему старому доброму Медди. Подумав минуту, она напечатала: — ДАЙТЕ СВОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
— Я ЖИВОЙ.— БУДЬТЕ ОПРЕДЕЛЕННЕЕ, — потребовала Сара.
— Я ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ НЕОПРЕДЕЛЕНЕН.— ВЫ ЧЕЛОВЕК?
— Я ОБЛАДАЮ СПОСОБНОСТЬЮ БЫТЬ И ИМ ТОЖЕ.— Оно просто играет с нами, — сказала Дженни. — Развлекается. Брайс провел рукой по лицу. — Спросите его, что стало с Копперфильдом. — ГДЕ ГЭИЛЕН КОППЕРФИЛЬД?
— МЕРТВ.— ГДЕ ЕГО ТЕЛО?
— ИСЧЕЗЛО.— КУДА ИСЧЕЗЛО?
— ТЫ НАДОЕДЛИВАЯ СУКА.— ГДЕ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, КТО БЫЛ ВМЕСТЕ С ГЭЙЛЕНОМ КОППЕРФИЛЬДОМ?
— МЕРТВЫ.— ТЫ УБИЛ ИХ?
— ДА.— ЗАЧЕМ?
— ВЫ…Сара постучала по клавишам: — ПОЯСНИ.
— ВЫ ВСЕ…— ПОЯСНИ.
— ВЫ ВСЕ МЕРТВЫ.Брайс увидел, как у Сары задрожали руки. Они, однако, продолжали бегать по клавиатуре так же четко и умело, как и прежде: — ЗАЧЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ НАС УБИТЬ?
— ВЫ ДЛЯ ЭТОГО И СУЩЕСТВУЕТЕ.— ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ СУЩЕСТВУЕМ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАС УБИВАТЬ?
— ДА. ВЫ СКОТ. СВИНЬИ. ВЫ ВСЕ ДРЯНЬ.— КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
— ПУСТОТА.— ПОЯСНИ.
— ПУСТОЕ МЕСТО.— КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
— ЛЕГИОН.— ПОЯСНИ.
— X… Я ТЕБЕ ПОЯСНЮ, СУКА ТЫ ПРИСТАВУЧАЯ.— Это просто черт знает что, — проговорила, вся вспыхивая, Сара. — Такое впечатление, словно оно находится здесь, прямо среди нас, — сказала Лиза. Дженни покрепче обняла сестру за плечи, стараясь приободрить ее, и спросила: — Что ты имеешь в виду, голубушка? Дрожащим, напряженным голосом девочка ответила: — Его присутствие тут ощущается почти физически. — Лиза быстро обвела взглядом всю лабораторию. — Даже воздух кажется каким-то более густым, чем обычно. Тебе не кажется? И более холодным. Такое впечатление, как будто что-то вот-вот… возникнет тут прямо перед нами. Материализуется. Брайс очень хорошо понимал, что она имеет в виду. Тал поймал взгляд Брайса и слегка кивнул. Он тоже испытывал такое же ощущение. Брайс, однако, был уверен: то, что они сейчас все испытывали, было не более чем субъективными ощущениями. На самом же деле ничто не могло тут материализоваться. И воздух был не гуще, чем за минуту до этого: он лишь казался сгустившимся, потому что все они находились в напряжении, а когда человек пребывает в таком состоянии, ему обычно всегда становится труднее дышать. А что воздух стал холоднее… ну, так это потому, что близится ночь. Изображение на всех экранах исчезло. Потом вдруг появился вопрос:
— КОГДА ОН ПРИЕЗЖАЕТ?— ПОЯСНИ, — напечатала Сара.
— КОГДА ПРИЕЗЖАЕТ ЭКЗОРСИСТ?— Господи, — произнес Тал, — это еще что такое? — ПОЯСНИ, — снова напечатала Сара.
— ТИМОТИ ФЛАЙТ.— Вот это да! — удивилась Дженни. — Оно знает этого Флайта, — проговорил Тал. — Но откуда? И такое впечатление, что оно его боится. Или здесь что-то другое? — ТЫ БОИШЬСЯ ФЛАЙТА?
— ГЛУПАЯ СУКА.— ТЫ БОИШЬСЯ ФЛАЙТА? — продолжала настаивать Сара, решив не обращать внимания на оскорбления.
— Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ.— ПОЧЕМУ ФЛАЙТ ТЕБЯ ИНТЕРЕСУЕТ?
— Я УЗНАЛ, ЧТО ОН ЗНАЕТ.— ЧТО ОН ЗНАЕТ?
— ОБО МНЕ.— Ну что ж, — сказал Брайс, — по крайней мере теперь мы можем быть уверены, что Флайт не просто еще один удачливый конъюнктурщик. Сара снова застучала по клавишам: — ФЛАЙТ ЗНАЕТ, КТО ТЫ?
— ДА. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ОН БЫЛ ТУТ.— ЗАЧЕМ ОН ТЕБЕ ТУТ НУЖЕН?
— ОН МОЙ МАТФЕЙ.— ПОЯСНИ.
— ОН МОЙ МАТФЕЙ, МАРК, ЛУКА И ИОАНН.Сара нахмурилась и посмотрела на Брайса. Потом ее руки снова запорхали над клавиатурой: — ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО ФЛАЙТ — ТВОЙ АПОСТОЛ?
— НЕТ. ОН МОЙ БИОГРАФ. ОН ВЕДЕТ ЛЕТОПИСЬ МОИХ ДЕЛ. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ОН БЫЛ ТУТ.— ТЫ ХОЧЕШЬ УБИТЬ И ЕГО ТОЖЕ?
— НЕТ. Я ДАМ ЕМУ БЕЗОПАСНЫЙ ПРОХОД.— ПОЯСНИ.
— ВЫ ВСЕ УМРЕТЕ. НО ФЛАЙТУ БУДЕТ ПОЗВОЛЕНО ЖИТЬ. СКАЖИТЕ ЕМУ ЭТО. ОН НЕ ПРИЕДЕТ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ УВЕРЕН, ЧТО ЕМУ ГАРАНТИРОВАН БЕЗОПАСНЫЙ ПРОХОД.Теперь руки у Сары тряслись, как никогда прежде. Она ошиблась, ударила не по той клавише, пришлось стирать набранное и начинать все сначала. Но в конце концов она напечатала вопрос: — ЕСЛИ МЫ ПРИВЕЗЕМ ФЛАЙТА В СНОУФИЛД, ТЫ ОСТАВИШЬ НАС В ЖИВЫХ?
— ВЫ МОИ.— ТЫ ОСТАВИШЬ НАС В ЖИВЫХ?
— НЕТ.До сих пор Лиза держалась мужественнее, чем позволял ожидать ее возраст. Но когда она прочла написанную так ясно и четко на экране компьютера ожидающую ее судьбу, крепиться дальше оказалось выше ее сил. Она негромко расплакалась. Дженни, как могла, старалась утешить и успокоить девочку. — Что бы это ни было, — сказал Тал, — но самонадеянности ему не занимать. — Ничего, мы пока еще не умерли, — приободрил всех присутствующих Брайс. — У нас есть надежда. И пока мы живы, надежда будет всегда. Сара снова застучала по клавишам: — ОТКУДА ТЫ?
— ИЗ НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН.— ПОЯСНИ.
— СУКА НАДОЕДЛИВАЯ.— ТЫ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ?
— НЕТ.— Вот и ответ для Айсли и Аркхэма, — сказал Брайс, не сразу сообразив, что и Айсли, и Аркхэм уже погибли, а тела их исчезли. — Если оно не врет, — сказала Дженни. Сара вернулась к вопросу, который она собиралась задать раньше: — ЧТО ТЫ ТАКОЕ?
— ТЫ МНЕ НАДОЕЛА.— ЧТО ТЫ ТАКОЕ?
— ГЛУПАЯ БАБА.— ЧТО ТЫ ТАКОЕ?
— ОТВАЛИ.— ЧТО ТЫ ТАКОЕ? На этот раз Сара с такой силой ударяла по клавишам, что Брайс заволновался, как бы они не сломались. Гнев явно вытеснил у Сары всякий страх.
— Я — ГЛАСИАЛАБОЛЛА.— ПОЯСНИ.
— ЭТО МОЕ ИМЯ. Я КРЫЛАТЫЙ ЧЕЛОВЕК С СОБАЧЬИМИ ЗУБАМИ. ИЗО РТА У МЕНЯ ИДЕТ ПЕНА. Я НАВЕЧНО ОСУЖДЕН НА ТО, ЧТОБЫ ИЗО РТА У МЕНЯ ШЛА ПЕНА.Брайс смотрел на экран, ничего не понимая. Это оно что, серьезно? Крылатый человек с собачьими зубами? Да нет, не может быть. Оно просто опять морочит им головы, снова развлекается. Но какое же это развлечение, что в нем приятного или интересного оно для себя находит? С экранов стерлось изображение. Пауза. Потом стали появляться новые слова, хотя Сара не задавала никаких вопросов.
— Я — ГАБОРИЙ. У МЕНЯ ТРИ ГОЛОВЫ — ОДНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, ОДНА КОШАЧЬЯ И ОДНА ЗМЕИНАЯ.— Это еще что за чушь собачья? — проговорил отчаявшийся что-либо понять Тал. Воздух в лаборатории стал определенно холоднее. Это всего лишь ветер, успокоил себя Брайс. Ветер задувает в дверь и несет с собой прохладу наступающей ночи.
— Я — РАНТАН.Мигание экранов.
— Я — ПАЛЛАНТР.Опять мигание.
— Я — АМЛЮТИЙ, ОЛФИН, ЭПИНИЙ, ФУАРД, ВЕЛИАР, ОМГОРМА, НЕБИРОС, ВААЛ, ЭЛИГОР[31] И МНОГОЕ ДРУГОЕ.Эти странные имена высветились на мгновение на всех трех экранах, потом изображение мигнуло, и они исчезли.
— Я ВСЕ И НИЧЕГО. Я — НИЧТО. Я — ВСЕ.Изображение снова мигнуло, слова пропали. Секунду, другую, третью экраны всех трех терминалов горели ярким чистым зеленым светом. Потом они потухли. Зажглась лампочка под потолком. — Интервью окончено, — сказала Дженни. Велиар. Это было одно из тех имен, которыми оно себя назвало. Брайс не отличался особенно ревностной религиозностью, но он был достаточно хорошо начитан для того, чтобы знать, что Велиар — это то ли одно из обозначений Сатаны, то ли имя одного из падших ангелов. Он, правда, не был точно уверен, что именно из двух. Горди Брогэн был среди них самым религиозным человеком, глубоко верующим католиком. Поэтому когда Брайс вышел самым последним из передвижной лаборатории, то показал Горди распечатку имен, сделанную в конце записи этого странного разговора, и спросил, не говорит ли какое-нибудь из этих имен что-либо Горди. Пока Горди читал, они стояли на тротуаре возле лаборатории. Быстро опускались сумерки. Через двадцать ми-пут, а возможно даже и раньше, будет уже совсем темно. — Вот, — сказал Горди. — Это имя, Ваал. — Он показал пальцем соответствующее место в сложенной гармошкой распечатке. — Не могу точно сказать, где оно мне раньше встречалось. Но не в церкви и не в катехизисе. Возможно, я о нем где-то читал. В том, как говорил Горди, Брайс уловил какие-то странные тон и ритм. Это не была просто речь нервничающего человека, которому не по себе. Несколько слов Горди произносил слишком медленно, растянуто, несколько следующих — чересчур быстро, потом опять медленно, а потом снова — с почти лихорадочной быстротой. — В какой-нибудь книге? — спросил Брайс. — Может быть, в Библии? — Нет, не думаю. Я мало читал Библию. Хотя надо было бы. Надо было постоянно ее читать. Но имя это я встречал в какой-то обычной книге. В каком-то романе. Не помню. — А кто он такой, этот Ваал? — спросил Брайс. — По-моему, это должен быть какой-то очень сильный демон, — проговорил Горди. Но теперь уже что-то странное творилось не столько с его голосом, но и с ним самим. — А другие имена? — спросил Брайс. — Мне они ничего не говорят. — Я подумал, не имена ли это других демонов? — Знаете, католическая церковь не очень поощряет всю эту чертовщину и мало говорит о ней, — ответил Горди, все в той же странной манере. — Хотя, может быть, стоило бы говорить об этом чаще. Да. Определенно стоило бы. Потому что мне кажется, что вы правы. Мне кажется, это действительно имена демонов. Дженни устало вздохнула: — Значит, оно опять только поиграло с нами. Горди энергично затряс головой: — Нет. Это не игра. Ничего подобного. Оно говорило правду. Брайс нахмурился: — Горди, неужели же ты и вправду думаешь, что это действительно какой-нибудь демон, или сам Сатана, или кто-то еще в этом роде? — Чепуха все это, — сказала Сара Ямагути. — Конечно, — согласилась Дженни. — Этот концерт на компьютерах, разговоры о демоне — все это только для того, чтобы еще больше заморочить нам головы и сбить нас с толку. Оно никогда не скажет нам правды о себе, потому что если мы узнаем правду, то сумеем придумать и способ победить его. — А как в таком случае вы объясните распятие священника над алтарем в церкви Божьей Матери на Горе? — спросил Горди. — Это только часть того, что нам пока непонятно, — сказал Тал. Глаза у Горди стали какие-то странные. Сейчас в них не просто отражался страх. Это были глаза человека, переживающего сильнейшие духовные страдания, даже душевную агонию. «Я должен был раньше обратить внимание на то, что он впадает в такое состояние», — отругал себя Брайс. Горди заговорил — негромко, но с захватывающей убедительностью: — По-моему, скорее всего, это пришло время. Конец. Наступает начало конца. Наконец-то. Точь-в-точь как говорится в Библии. Я никогда в это не верил. Верил во все, чему учит церковь. Кроме этого. В Судный день я не верил. Я всегда почему-то считал, что жизнь будет продолжаться как обычно, и продолжаться вечно. А вот теперь он наступает, верно? Да. Наступает Страшный Суд. Не только для тех, кто жил в Сноуфилде. Для всех нас. Это конец. И я задаю себе вопрос: как оценят на Страшном Суде меня и мою жизнь? И я боюсь. Боюсь, потому что мне был дан дар, очень необычный дар, а я его растратил зря. Мне был дан дар Святого Франциска. Я всегда умел ладить с животными. Нет, правда. На меня никогда не залаяла ни одна собака. А вы и не знали этого, да? Ни одна кошка никогда меня не оцарапала. Животные меня понимают. Они мне доверяют. Может быть, они меня даже любят. Мне ни разу не попалось ни одно животное, которое бы отнеслось ко мне плохо. Я могу уговорить дикую белку есть прямо у меня из руки. Это дар. И мои родители хотели, чтобы я стал ветеринаром. А я отвернулся и от них, и от своего дара. И вместо этого стал полицейским. Взял в руки оружие. Оружие. Я был создан не для того, чтобы браться за оружие. Только не я. Нет. Я это сделал отчасти потому, что знал: это не понравится моим родителям. Так я выражал свою самостоятельность, понимаете? Но я забыл. Забыл о том, что Библия учит: почитай отца и матерь своих. А я вместо этого причинил им боль. И отвернулся от того дара, который ниспослал мне Бог. Больше того. Хуже того. Я наплевал на этот дар — вот что я сделал. Вчера вечером я решил, что сложу оружие, уйду из полиции и стану ветеринаром. Но мне кажется, что уже поздно. Суд уже идет, а я этого не понял. Я наплевал на дар, которым наградил меня Господь, и теперь… Я боюсь. Брайс не знал, что и как можно было бы возразить Горди. Его воображаемые грехи были настолько далеки от подлинного, настоящего зла, что можно было разве что рассмеяться. Если кому-то из них и было уготовано место в Раю, этим человеком наверняка был именно Горди. Нет, Брайс ни на мгновение не верил в то, будто действительно настал день Страшного Суда. Совершенно не верил. Но ему никак не приходило в голову, что можно было возразить Горди: этот большой ребенок с открытой, кровоточащей душой слишком глубоко погрузился в себя, и вывести его из этого состояния было уже невозможно. — Тимоти Флайт ученый, а не богослов, — уверенно и твердо проговорила Дженни. — И если у Флайта есть какое-то объяснение тому, что здесь случилось, то это объяснение наверняка научное, а не религиозное. Но Горди ее не слушал. По его лицу градом катились слезы. Взгляд у него был остановившийся, отсутствующий. Он слегка откинул голову и посмотрел на небо, но видел он в этот момент наверняка не заходящее солнце, а какую-нибудь широкую небесную дорогу, по которой должны скоро спуститься на огненных колесницах архангелы и небесное воинство. Он был не в том состоянии, когда человеку можно доверить огнестрельное оружие. Брайс потихоньку вытащил у Горди из кобуры револьвер в забрал его себе. Но Горди, похоже, даже не заметил этого. Брайс видел, что этот странный, произнесенный вслух внутренний монолог Горди сильно подействовал на Лизу. Она выглядела ошеломленной, оглушенной, как после сильного удара. — Ничего, — успокоил ее Брайс. — Пока еще не конец света. И не день Страшного Суда. Горди немного… переволновался. Мы отсюда выберемся. И все закончится благополучно. Ты мне веришь, Лиза? Ну-ка, подними свой симпатичный подбородок кверху! И постарайся еще немного побыть мужественной и храброй, ладно? Лиза не сразу отреагировала на его слова. Но потом где-то в глубинах своей души она смогла отыскать новые запасы сил и душевной стойкости. Она молча кивнула. Она даже сумела улыбнуться ему в ответ слабой и неуверенной улыбкой. — Ты потрясающая девчонка, — сказал ей Брайс. — Почти как твоя старшая сестра. Лига взглянула искоса на Дженни, потом слова перевела взгляд на Брайса. — А вы потрясающий шериф, — ответила она. «Интересно, у меня сейчас улыбка такая же дрожащая, как у нее, или нет», — подумал Брайс. Доверие, прозвучавшее в ее словах, заставило его смутиться: он-то сам понимал, что доверия этого не заслуживает. «Я солгал тебе, девочка, — подумал он. — Смерть все еще ходит рядом с нами. И она обязательно нанесет удар снова. Может быть, это произойдет не в ближайший час. Возможно, даже не в ближайшие сутки. Но рано или поздно она обязательно нанесет удар снова». Конечно, он никак не мог этого знать, но одному из них суждено было умереть уже в следующую минуту.
Глава 32
СУДЬБА
Утро понедельника Флетчер Кейл потратил главным образом на то, чтобы методично, комнату за комнатой, разгромить весь дом Джейка Джонсона в Санта-Мире. Он получал от этого занятия огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение. В большой кладовке, что была рядом с кухней, Кейл наконец-то обнаружил тайник Джонсона. Тайник этот был не среди полок, забитых таким количеством консервов, бутылок и всяких других съестных припасов, которого хватило бы по меньшей мере на год. И не на полу, где были горой навалены другие запасы. Нет: настоящее сокровище было спрятано под полом кладовки — под свободно положенным, не закрепленным линолеумом, под досками пола, в специально сделанном тайнике. Здесь был небольшой, но очень тщательно подобранный запас оружия, способный произвести впечатление на любого. Каждая вещь была отдельно обернута в водонепроницаемую пленку. Поочередно разворачивая их, Кейл испытывал такое же чувство, как в детстве, когда утром после Рождества вскрывал сложенные под елкой подарки. Здесь были два боевых «магнума» производства компании «Смит и Вессон» — лучшие и самые мощные револьверы в мире. Ничего более внушительного, чем «магнум», просто не существовало в природе: выстрелом из такого револьвера можно было бы уложить наповал даже медведя. Более легкий «магнум» тридцать восьмого калибра отличался очень высокой точностью попадания и был незаменим в ближнем бою. Был дробовик: «ремингтон-870» двенадцатого калибра с настраиваемым по глазам оптическим прицелом, со складным прикладом, пистолетной рукояткой, дополнительными магазинами и ремнем. Была полуавтоматическая винтовка М-1. Но, что еще лучше здесь лежал великолепный боевой автомат «хеклер и кох ХГ-91», а к нему восемь полных тридцатизарядных магазинов и отдельно еще две тысячи патронов. Кейл просидел почти целый час, рассматривая оружие и играя с ним, любовно его поглаживая. Если по дороге в горы его засекут легавые, они об этом пожалеют. Крепко пожалеют.В тайнике под полом кладовки были и деньги. Много денег. Банкноты были туго скручены в цилиндрики, обвязаны резинками и плотно набиты в пять больших, хорошо закрытых глиняных кувшинов: в каждом из них лежало от трех до пяти таких скруток. Кейл вынес кувшины на кухню и расставил их на столе. Потом залез в холодильник, надеясь найти там пиво, но ему пришлось удовлетвориться банкой «пепси». После чего он уселся за стол и принялся подсчитывать свои сокровища. Шестьдесят три тысячи четыреста сорок долларов. Одной из самых старых местных легенд, давно уже передававшейся из уст в уста в округе Санта-Мира, было предание о тайном богатстве Большого Ральфа — Джонсона-старшего, — сколоченном на взятках и других незаконных доходах. По-видимому, найденная Кейлом сумма была последними остатками неправедного состояния, припрятанного в свое время Большим Ральфом. Что ж, Кейлу как раз примерно столько и недоставало для того, чтобы начать новую жизнь. Ирония судьбы заключалась в том, что, если бы такие деньги попали ему в руки неделю назад, ему бы не пришлось убивать Джоанну и Денни. Этой суммы было бы более чем достаточно для того, чтобы он сумел выкрутиться из трудного положения, сложившегося с «Высокогорными инвестициями». Полтора года тому назад, когда он стал одним из партнеров в «Высокогорных инвестициях», он и представить себе не мог, что этот шаг приведет к катастрофе. В то время ему казалось, что компания открывает перед ним просто-таки золотые возможности, которые рано или поздно обязательно оправдаются. Каждый из партнеров «Высокогорных инвестиций» внес тогда одну седьмую часть тех средств, которые были необходимы, чтобы приобрести и обустроить участок размером в тридцать акров на высокогорье Хайлайн-ридж, вдоль восточной границы округа Санта-Мира. Чтобы только войти в число партнеров, Кейлу пришлось тогда пустить на это начинание все, чем он располагал, до последнего доллара, но ему казалось, что потенциальная отдача начинаемого дела вполне оправдывает связанный с ним риск. Однако проект освоения этого участка на деле обернулся бездонной бочкой, ненасытно пожиравшей все новые и новые средства. По первоначальным условиям сделки, если бы со временем выяснилось, что стартового капитала недостаточно для завершения начатых работ, каждый из партнеров имел право на этом этапе заново решать, оставаться ему в деле или же выходить из него. Но если Кейл — или любой другой из партнеров — не мог внести дополнительные средства, то он немедленно выбывал из «Высокогорных инвестиций», не получая никакой компенсации за то, что успел вложить в эту компанию: так сказать, «большое спасибо и до свидания». После чего вложенные им средства и причитающаяся ему доля делились поровну между остающимися партнерами. Такие условия обеспечивали реальное финансирование проекта, привлекая к участию в нем, как правило, только тех вкладчиков, которые располагали значительными свободными средствами. Но участие в соглашении подобного рода требовало железного здоровья и крепких нервов. Кейл в свое время не подумал о том, что могут потребоваться дополнительные средства. Изначально собранный капитал показался ему более чем достаточным. Но он ошибся. Когда было объявлено о необходимости внести еще тридцать пять тысяч долларов, Кейл был потрясен, но из колеи его это не вышибло. По его прикидкам, десять тысяч они могли занять у родителей Джоанны, еще на двадцать тысяч продать что-нибудь из того, что было у них в доме, а наскрести остающиеся пять тысяч как-нибудь бы удалось. Единственной трудностью во всем этом была Джоанна. Она с самого начала была против того, чтобы он связывался с «Высокогорными инвестициями». Она утверждала, что ему это не по средствам и что вообще ему давно пора прекратить изображать из себя крупного финансового воротилу. Но он ввязался, и теперь надо было выкладывать дополнительную сумму, а Джоанна упивалась своим отчаянием. Не явно, конечно. Для этого она была достаточно умна. Она понимала, что поза мученицы для нее гораздо выгоднее, чем поза гарпии. Она никогда не упрекала его прямо — дескать, «я же тебе говорила», — но этот упрек и самодовольная уверенность в своей правоте постоянно читались в ее взгляде, постоянно чувствовались в том, как она обращалась с ним. Наконец он сумел-таки уговорить ее перезаложить дом и взять в долг у ее родителей. Добиться этого было не просто. Он улыбался, согласно кивал, с готовностью принимал все ее елейные советы, терпел язвительные замечания. Но он дал себе твердое обещание, что в конечном счете отплатит всем той же монетой. Точно так же ткнет их мордами в такое же дерьмо, какое они заставляли сейчас глотать его самого. Когда «Высокогорные инвестиции» принесут ему потрясающий успех, он заставит всех их приползти к нему на коленях. И прежде всего Джоанну. Потом, к его ужасу, пришло второе извещение, гласившее, что каждый из семи партнеров должен внести дополнительную сумму. На этот раз она составляла сорок тысяч долларов. Он мог бы найти и эти деньги, если бы только Джоанна искренне захотела помочь ему преуспеть. Она могла бы взять эту сумму из фонда. Когда через пять месяцев после того как родился Денни, умерла бабушка Джоанны, то почти всю недвижимость, которая у нее была — на пятьдесят тысяч долларов, — старая карга оставила в виде фонда своему единственному правнуку. Джоанна же была назначена главной распорядительницей этого фонда. Поэтому, когда от «Высокогорных инвестиций» поступило второе дополнительное извещение, она вполне могла взять сорок тысяч долларов из фонда и заплатить требуемую сумму. Но Джоанна отказалась это сделать. Она тогда заявила: «А что, если придет еще и третье извещение? Ты потеряешь тогда все, Флетч, абсолютно все, что у тебя есть. И Денни тоже потеряет почти весь фонд». Он попытался убедить ее, что третьего взноса не потребуется, что его не будет. Но, разумеется, она не желала слушать никаких его доводов, потому что на самом-то деле и не желала ему успеха, потому что на самом деле она хотела, чтобы он разорился, оказался бы униженным, потому что на самом деле она хотела добить и сломить его. Теперь у него не оставалось другого выбора, кроме как убить ее и Денни. По условиям завещания, если бы Денни умер до достижения двадцати одного года, то фонд подлежал бы ликвидации. Остававшиеся деньги, после уплаты налогов, переходили бы в собственность Джоанны. А если бы умерла Джоанна, то вся принадлежащая ей недвижимость переходила бы к ее мужу: таково было условие завещания самой Джоанны. Поэтому если бы он избавился от них обоих, то остатки средств из попечительского фонда прабабки — и плюс еще дополнительные двадцать тысяч долларов, на которые была застрахована жизнь Джоанны, — попали бы к нему. Эта сука просто не оставила ему выбора. И он не виноват в ее смерти. Она сама во всем этом виновата. Она сделала все так, что у него просто не оставалось другого выхода. Он улыбнулся, вспомнив, какое выражение появилось у нее на лице, когда она увидела тело мальчишки, — а потом увидела, что он наставляет револьвер на нее. Сидя сейчас за столом на кухне Джейка Джонсона, Кейл с удовольствием глядел на деньги, и его улыбка становилась все шире. Шестьдесят три тысячи четыреста сорок долларов. Еще несколько часов тому назад он сидел в тюрьме, у него не было в самом прямом смысле слова ни гроша, а впереди его ждал суд, который вполне мог завершиться смертным приговором. Большинство людей в таком положении впали бы в прострацию от отчаяния. Но Флетчер Кейл не сдался, не проиграл. Он знал, что судьба предназначила его для великих дел. И тому были доказательства. За непостижимо короткий отрезок времени он прошел такой гигантский путь: от тюрьмы к свободе, от бедности к обладанию шестьюдесятью тремя тысячами четырьмястами сорока долларами. Теперь у него были деньги, оружие, машина и безопасное убежище совсем неподалеку, в горах. Началось, наконец-то. Его особое предназначение стало сбываться.
Глава 33
ФАНТОМЫ
— Давайте-ка возвращаться в гостиницу, — проговорил Брайс. Через четверть часа на город должна была опуститься ночь. Тени, выбираясь из укромных уголков, в которых они проспали весь день, уже росли со скоростью раковой опухоли, стремясь навстречу друг другу, сливаясь вместе и образуя обширные пространства полной темноты. Небо над городом было окрашено в яркие карнавальные тона — оранжевые, красные, желтые, багряные, — но лишь слабые их отсветы достигали сейчас улиц Сноуфилда. Группа стояла возле передвижной лаборатории, в которой они только что при помощи компьютера побеседовали с ним. После слов Брайса все повернулись и двинулись но улице, и в этот момент зажглись уличные фонари. В этот же самый момент Брайс услышал и какой-то звук. Броде бы кто-то заскулил. Потом мяукнул. Потом тявкнула собака. Вся группа, как один человек, повернулась и посмотрела назад. Там, вдоль тротуара, мимо лабораторий, изо всех сил стараясь догнать уходящих, хромая, бежала собака. Это был эрдель. Левая передняя лапа у него была явно сломана. Язык вываливался наружу. Длинная мягкая шерсть казалась свалявшейся, грязной, а вид у собаки был неухоженный и несчастный, как будто ее только что наказали. Она сделала еще несколько шагов вперед, остановилась, лизнула раненую лапу и жалобно заскулила. Брайс впился взглядом во внезапно появившуюся собаку. Это было первое увиденное ими в городе живое существо. Оно было не в самом лучшем состоянии, но — живое. Но почему оно оказалось живым? Что в нем было такого особенного, что позволило ему спастись, тогда как все остальные погибли? Если бы они сумели найти ответ на этот вопрос, вполне возможно, что это помогло бы спастись и им самим.Первым на появление собаки среагировал Горди. Вид раненого эрделя подействовал на него гораздо сильнее, чем на всех остальных. Для него было невыносимо видеть перед собой страдающее животное. Если бы он мог, он бы предпочел страдать вместо него сам. Сердце у него учащенно забилось. Но на этот раз реакция Горди имела еще одну причину: он понял, что это не просто самая обычная собака, которой нужны помощь и утешение. Этот эрдель был знаком Божиим. Да. Знаком того, что Бог посылает Гордону Брогэну еще один шанс принять данный ему ранее Божий дар. Он способен понимать животных и общаться с ними так же хорошо, как это умел делать Святой Франциск Ассизский, а таким даром нельзя пренебрегать и нельзя относиться к нему легкомысленно. Если он и на этот раз повернется спиной к Божьему дару, как он неоднократно делал в прошлом, то теперь уже, безусловно, будет проклят. Но если он поможет этой собаке… На глаза у Горди навернулись слезы, они капельками побежали из уголков глаз вниз по щекам. Слезы облегчения и счастья. Милость Божия растрогала его и проняла до глубины души. Он уже не сомневался, как ему должно поступить. Он заторопился навстречу эрделю, который стоял футах в двадцати от него.
Поначалу Дженни была настолько поражена внезапным появлением собаки, что не могла вымолвить ни слова. Она только молча, во все глаза смотрела на эрделя. Но затем вдруг ощутила прилив невыразимой радости. Жизнь все-таки каким-то необъяснимым образом сумела взять верх над смертью. В конце концов выясняется, что оно не сумело сожрать в Сноуфилде всех и вся. Выжила же вот эта собака — а эрдель, увидев, что Горди направляется к нему, устало присел, — значит, возможно, и им удастся выбраться из этого городка живыми… …И тут Дженни вдруг вспомнила о мотыльке. Мотылек тоже был живым. Но это оказалась враждебная им жизнь. И об ожившем трупе Стю Уоргла. Собака улеглась на тротуаре, у самой кромки надвигающихся теней, положила голову на передние лапы и жалобно заскулила, словно прося, чтобы ее приласкали. Горди подошел к ней, присел возле нее на корточки и заговорил ласково и ободряюще: — Не бойся, дружок. Спокойно. Спокойно. Хорошая собачка. Теперь все будет в порядке. Все будет теперь отлично, дружок. Спокойно… В Дженни вдруг пробудилось и начало подниматься чувство необъяснимого ужаса. Она приоткрыла рот, чтобы крикнуть, но другие опередили ее. — Горди, нельзя! — закричала Лиза. — Назад! — одновременно, в один голос крикнули Брайс и Фрэнк Отри. — Отойди от нее, Горди! — прокричал Тал. Но Горди, казалось, не слышал никого и ничего.
Когда Горди подошел к эрделю, собака приподняла голову с тротуара, поглядела на Горди, продолжая тихонько поскуливать. Это был отличный пес. Если залечить ему лапу, если его помыть, расчесать, привести в порядок, он будет просто красавцем. Горди протянул к собаке руку. Она ткнулась в нее носом, но не лизнула. Он погладил пса. Тот был холодный, невообразимо холодный и слегка влажный. — Бедняжка, — проговорил Горди. От собаки еще и как-то странно пахло. Чем-то кислым. И в общем-то очень неприятным. Горди никогда не сталкивался с подобным запахом. — И где же это ты бродил? — спросил он собаку. — В каком дерьме извалялся? Собака дрожала и негромко поскуливала. Горди слышал, что сзади ему что-то кричат, но сейчас все его внимание было поглощено эрделем и он не вслушивался в эти крики. Он протянул к собаке руки, поднял ее с тротуара, выпрямился с собакой на руках и прижал ее к груди. Поврежденная лапа эрделя беспомощно болталась. Горди никогда еще не приходилось держать на руках животное, которое было бы таким ледяным. И дело было не просто в том, что мокрая шерсть пса казалась холодной: от него вообще не исходило никакого тепла, его совсем не чувствовалось даже и под шерстью. Пес лизнул Горди руку. У него и язык был тоже ледяной.
Фрэнк уже больше не кричал. Он только смотрел не отрываясь. Вот Горди поднял этого пса на руки, вот погладил его, вот потрепал по шерсти — ничего страшного не случилось. Может быть, это в конце концов и вправду собака. Может быть… Но тут-то… Собака лизнула Горди руку, и у Горди на лице появилось какое-то странное выражение, а собака начала… меняться. О Господи! Казалось, что какой-то незримый скульптор у них на глазах мнет комок пластилина, все время придавая ему не только новую форму, но и меняя его цвет. Вот словно растаяла и сменила окраску свалявшаяся шерсть, вот стала меняться и текстура шерсти, она все больше и больше походила на чешую, на зеленоватую чешую вроде рыбьей, вот голова стала погружаться в тело, и само тело оказалось вдруг не телом, а каким-то бесформенным нечто, куском живой пульсирующей материи, вот начали укорачиваться и одновременно раздаваться в ширину лапы, причем все это вместе заняло не больше пяти-шести секунд, а потом…
Горди пораженно смотрел на то, что оказалось у него в руках. Из аморфной массы, в которую превратилась собака, вдруг начала прорисовываться голова ящерицы с маленькими злобными желтыми глазками. Потом из желеподобной ткани возникла пасть, в которой забегал раздвоенный на конце язык и оказалась масса мелких остроконечных зубов. Горди попытался сбросить с себя эту тварь, но она держалась крепко, о Боже, настолько крепко, что ему начинало уже казаться, что она каким-то образом обтекла, обволокла собой его руки и плечи, так что его руки теперь оказались как будто бы внутри нее. Потом куда-то сразу исчезло ощущение холода. Эта штука стала вдруг теплой. Потом горячей. Обжигающе горячей. Не успела из дрожащей живой массы вылепиться законченная ящерица, как вдруг эта ящерица начала расплываться, а вместо нее стало складываться какое-то другое животное — лисица, но и лисица расплылась, не успев оформиться окончательно, а вместо нее возникли белки, две белки, сросшиеся между собой, как сиамские близнецы, вот они стали быстро разделяться и… Горди закричал. Он лихорадочно махал руками, стараясь сбросить с себя эту тварь. Жар теперь уже обжигал, как огонь. Боль была невыносимой. О Господи, ну пожалуйста! Боль раздирала ему руки, плечи, прорывалась внутрь. Горди выл, кричал, рыдал; шатаясь, он сделал неуверенный шаг вперед, снова поднял руки, пытаясь оторвать от себя это нечто, — но оно держалось крепко, а руки уже не слушались его. Наполовину обретшие форму белки растворились, и из аморфной массы, которую Горди держал на руках и которая сама держала его, возникла вдруг кошка, но и она тут же исчезла, а появилось нечто новое — нет, Господи Боже, нет, только не это! — нечто похожее на насекомое, с головой, огромной, размером почти с ту, что была у эрделя, но отвратительной, утыканной сверху то ли шестью, то ли восемью глазами, с множеством колючих, покрытых мелкими шипами лап и… Страшная боль разливалась по всему телу Горди. Качаясь, он сделал шаг вперед, в сторону, упал на колени, потом свалился на бок. Лежа на тротуаре, он извивался, судорожно дергал руками и ногами, корчась в агонии.
Сара Ямагути смотрела на все это, не в силах отвести взгляд и не веря собственным глазам. Похоже, что существо, напавшее на Горди, обладало способностью по собственному усмотрению и невероятно быстро перестраивать свою ДНК. Оно меняло формы совершенно свободно и с поразительной скоростью. Но подобное создание просто не могло бы существовать. Уж она-то это знала и понимала: она все-таки была биологом, генетиком. То, что она сейчас наблюдала, было невозможно. И тем не менее происходило на ее глазах. Вот расползся, растворился паук, и вместо него не возникло никакой новой формы. В своем естественном состоянии это существо было, по-видимому, просто массой желеподобных тканей серовато-коричневато-красного в крапинку цвета, чем-то средним между гигантской амебой и каким-то отвратительным грибом. Оно медленно ползло вверх по рукам Горди… …и вдруг одна из рук отделилась и скользнула вниз через облеплявшую ее слизь. Но это была уже не рука. О Господи, нет. Это были лишь кости. Голые кости руки и кисти, как будто отделенные от скелета, белые, обглоданные дочиста. Кроме костей, все остальное было съедено. Сара почувствовала спазмы в горле, сделала несколько шагов назад, повернулась к придорожной канаве, и ее стошнило.
Дженни оттолкнула Лизу на несколько шагов, подальше от того места, где Горди боролся с прилепившейся к нему тварью. Девочка кричала, не помня себя. Слизь расползалась по оставшимся от руки костям, захватывая и обволакивая состоящие из одних костей пальцы, одевая их в некое подобие агавой, пульсирующей перчатки. Пару секунд спустя исчезли, растворились и пальцы, а охватывавшая их перчатка свернулась в шарик, а потом вплавилась назад в основное тело этого странного организма. Тело его похабно корчилось и извивалось, то сжимаясь, сбиваясь в кучу, то вспениваясь и разбухая, образовывая выпуклости в одних местах, провалы и полости в других, чтобы уже в следующее мгновение на месте выпуклости возникал провал и, наоборот, там, где только что была полость, вдруг надувался нарост. Оно лихорадочно и непрерывно менялось, словно прекращение этих пульсаций всего на секунду означало бы для него неминуемую смерть. Оно ползло вверх по рукам Горди, и тот отчаянно пытался сбросить с себя эту тварь, но она неуклонно взбиралась все выше и выше, все ближе к плечам, не оставляя позади себя совершенно ничего — ни культей, ни костей: оно пожирало на своем пути абсолютно все. Оно стало расползаться по груди, и там, куда оно направлялось, тело Горди просто бесследно исчезало, словно погруженное в ванну с необычайно едкой кислотой. Лиза отвернулась от погибающего Горди и, рыдая, прижалась к Дженни.
Крики Горди были невыносимы. Держа наготове револьвер — когда он только успел его выхватить! — Тал рванулся к Горди. — Ты с ума сошел? — остановил его Брайс. — Черт возьми, Тал, мы же ничего не можем тут сделать! — Мы можем избавить его от мучений. — Не подходи слишком близко к этой чертовой штуке! — Чтобы суметь попасть, и не надо подходить слишком близко. Мука в глазах Горди с каждой секундой становилась все нестерпимее, он вопил уже изо всех сил, моля Бога о помощи, колотил ногами по мостовой, выгибал спину, весь дрожа от напряжения и стараясь вырваться из-под напавшего на него кошмарного существа, что с каждым мгновением становилось все тяжелее и тяжелее. — Ладно. Быстро, — Брайс поморщился, как от боли. Оба они подошли ближе к колотящему по земле ногами погибающему полицейскому и по нескольку раз выстрелили. Крики и конвульсии обреченного прекратились. Брайс и Тал быстро отступили назад. Они и не пытались убить то, что пожирало сейчас Горди. Они знали, что пули не причиняют ему никакого вреда, и теперь начинали понимать почему. Пули убивают тем, что разрывают важные кровеносные сосуды, разрушают жизненно необходимые органы. Но, судя по его внешнему виду, у этого существа не было органов и небыло традиционной системы кровообращения. Не было у него и скелета. Похоже, оно представляло собой просто скопление однородной, хотя и внутренне очень сложной протоплазмы. Пуля разорвала бы ее, но поразительно гибкие ткани тут же заполнили бы проделанный пулей канал, и рана зажила бы в мгновение ока. Теперь эта тварь жрала еще лихорадочнее, совершенно беззвучно, и через несколько секунд от Горди не осталось ничего. Он перестал существовать в самом прямом и полном смысле слова. Осталась только непрерывно меняющая свою форму масса, которая стала теперь гораздо больше не только собаки, какой она притворялась, но и самого Горди, тело которого она в себя вобрала. Тал и Брайс возвратились к тому месту, где стояли все остальные, но в гостиницу никто не торопился. Все продолжали внимательно наблюдать за амебоподобным существом, что лежало сейчас на тротуаре. Быстро темнело, последние проблески света один за другим исчезали с неба в преддверии наступления ночи. Масса стала обретать новую форму. За считанные секунды вся эта бесформенная протоплазма отлилась вдруг в огромного и страшного лесного волка. Он сел, задрал морду вверх и завыл на небо. Потом морда его словно пошла рябью, свирепое выражение изменилось, и Талу показалось, будто человеческие черты пытаются пробиться на поверхность через оболочку волка. Вместо звериных глаз появились вдруг человеческие, внизу образовалось какое-то подобие подбородка. Неужели это были глаза Горди? И его подбородок? Но волшебная метаморфоза продолжалась считанные мгновения, а потом мистическое существо вновь обрело устойчивое обличье волка. Оборотень, подумал Тал. Но он знал, что на самом-то деле это был вовсе не оборотень. Это было — ничто, которое могло в любой момент стать чем угодно. Личина волка, сколь бы реальной и страшной она ни казалась, на деле была столь же ложной, как и любое иное обличье. Волк постоял на том же месте, уставившись на них, оскалив огромные и необычайно острые клыки, гораздо большие, чем клыки любого настоящего волка, лесного или степного, современного или жившего когда-либо раньше. В последних лучах заходящего солнца глаза его горели багрово-красным пламенем. Сейчас нападет, подумал Тал. Он несколько раз выстрелил в волка. Пули попали в цель, но не оставили на волке никакой видимой раны, не вызвали потоков крови и явно не причинили ему боли. Волк отвернулся от Тала, продемонстрировав холодное безразличие к обстрелу, и затрусил по направлению к открытому люку в мостовой, в который уходили электрические кабели от передвижных лабораторий. В тот же момент что-то вырвалось из люка, из проходящей под улицей водосточной трубы, и стало на глазах расти, с содроганиями увеличиваясь в размерах, вытягиваясь вверх в сгущавшихся сумерках со скоростью, за которой угадывались потрясающие сила и мощь. Это была темная пульсирующая масса, похожая на тот поток, что течет обычно по канализационным трубам, с той только разницей, что это была не жидкость, а нечто вроде желе. Оно образовало колонну почти того же диаметра, что и люк, из которого оно появилось, и продолжало выталкивать себя оттуда наружу ритмичными неприличными толчками. Оно все росло и росло: вот колонна набрала четыре фута высоты, вот она стала шести футов, восьми… Что-то сильно ударило Тала в спину. Он подскочил, попытался обернуться и только тут понял, что сам натолкнулся на стену гостиницы. Он даже не заметил, как и когда начал пятиться от того, что вылезло из люка и возвышалось сейчас над ним. Теперь он разобрался, что пульсирующая, тянущаяся вверх колонна состояла из такой же способной менять свою форму протоплазмы, из какой состоял и тот эрдель, что превратился сейчас в лесного волка; но эта масса была во много раз больше той, первоначальной. Она была просто колоссальной. Тал попытался представить себе, сколько же этой массы скрыто еще внизу, под улицей, и у него возникло ощущение, что ею заполнена вся водосточная труба, что видимая им сейчас часть — лишь ничтожная доля этой твари. Достигнув десяти футов высоты, колонна перестала расти и стала менять форму. Верхняя ее часть расширилась во что-то вроде капюшона или мантии и стала похожа на голову кобры. Потом из переливающейся, меняющейся, медленно переползающей внутри самой себя колонны бесформенная масса стала перетекать в эту голову, которая начала быстро расширяться и становилась все шире и шире, пока не превратилась в пару гигантских крыльев, темных и перепончатых, похожих на крылья летучей мыши, отходящие от центрального, все еще бесформенного столба. Но вот стало обретать форму то, что располагалось между крыльями и что можно было бы назвать телом. Вначале на нем образовались жесткие, накладывающиеся друг на друга чешуйки. Потом появились маленькие лапки и лапы подлиннее, с когтями. Постепенно колонна превращалась в крылатого змея. Крылья захлопали. Издаваемый ими звук был похож на щелканье кнута. Тал изо всех сил вжался спиной в стену.
Крылья захлопали.
Лиза накрепко вцепилась в Дженни. Дженни прижимала к себе сестру, но ее взгляд, мысли и воображение были полностью сосредоточены на том чудовищном создании, что появилось вдруг из водосточной трубы. В сгущавшихся сумерках это создание дрожало, пульсировало, набухало и уменьшалось и казалось не чем иным, как внезапно ожившей тенью. Его крылья снова захлопали. Дженни ощутила дуновение холодного и довольно сильного ветра. Казалось, этот новый фантом собирается вот-вот отделиться от той протоплазмы, что оставалась в канализационной трубе. Дженни ожидала, что он взмоет в темнеющее небо и улетит — или же бросится прямо на них. Сердце ее колотилось, готовое выпрыгнуть из груди. Она понимала, что убежать невозможно. Любое движение только привлекло бы к ней внимание этого чудовища. Тратить силы на побег было бессмысленно. От такого создания спрятаться невозможно нигде. Включились дополнительные уличные фонари, и вокруг стало еще больше теней, вкрадчиво подбирающихся к замершей на месте группе. Дженни с изумлением следила за тем, как на самой вершине этой десятифутовой крапчатой башни из живой материи формировалась голова змея. Вначале из бесформенной массы прорезались два налитых злобой и ненавистью зеленых глаза; их появление было похоже на замедленную съемку процесса образования и роста двух злокачественных опухолей. Сперва это были покрытые молочно-белой пленкой зеленые овалы, еще явно слепые; но они быстро расчистились, прояснились и стали видны удлиненные черные зрачки, которые с нескрываемой враждебностью смотрели вниз, на Дженни и всех остальных. Раскрылась щелевидная пасть шириной не меньше фута, и из черных десен в ней мгновенно выросли ряды острых белых клыков. Дженни вспомнила зажигавшиеся на экранах терминалов демонические, словно в Аду рожденные имена, которыми называло себя оно. Масса бесформенной плоти, отлившей себя в крылатого змея, действительно казалась ей сейчас демоном, восставшим из преисподней. Фантом-волк, вобравший в себя то, что было раньше Горди Брогэном, подошел к основанию этой башни со змеем на вершине. Он потерся о живую, пульсирующую колонну — и просто растворился в ней. В мгновение ока два существа слились в одно. Очевидно, первый фантом не был самостоятельным существом. В этот раз — а может быть, и раньше — он был лишь частью того гигантского создания, что перемещалось под улицами, по канализационным трубам. По-видимому, это колоссальное материнское тело обладало способностью отделять от себя отдельные части, отправлять куда-нибудь с самостоятельными задачами — такими, например, как нападение на Горди Брогэна, — а потом по своему усмотрению вбирать их в себя назад. Крылья захлопали, и от их звука задрожал, казалось, весь городок. Потом они стали растворяться в центральной колонне, и, по мере того как они переливались в нее, колонна становилась все толще и толще. Голова змеи тоже рассосалась. Оно устало от представления, ему надоело. Передние лапы, трехпалые ноги, зловещие когти тоже втянулись в колонну, и наконец не осталось ничего, кроме бурлящей, переливающейся темной крапчатой массы, той самой, что вылезла в самом начале из колодца. Несколько мгновений она постояла в сгущающихся сумерках, как живое олицетворение зла, а потом начала вбираться назад в люк и погружаться в канализационную трубу. Вскоре она скрылась полностью. Лиза уже больше не кричала. Она лишь плакала и ловила открытым ртом воздух. Многие из членов группы были потрясены не меньше, чем Лиза. Они обменивались взглядами, но никто не произнес ни слова. Брайс выглядел так, словно его отдубасили до потери сознания. Наконец он выговорил: — Пошли. Надо добраться до гостиницы, пока совсем не стемнело.
Часового у входа в гостиницу не было. — Беда, — проговорил Тал. Брайс кивнул. Он осторожно вошел в двойные двери и тут же чуть не наступил на револьвер. Тот валялся на полу. В вестибюле никого не было. — Черт побери, — сказал Фрэнк Отри. Они обыскали всю гостиницу, комнату за комнатой. В столовой никого не было. В импровизированном общежитии тоже. И на кухне никого. Не было сделано ни одного выстрела. Никто не крикнул. И никто не сумел спастись. Еще десять полицейских бесследно исчезли. За стенами гостиницы, на улице, опустилась ночь.
Глава 34
ПРОЩАНИЕ
Шестеро оставшихся в живых — Брайс, Тал, Фрэнк, Дженни, Лиза и Сара — стояли у окон в вестибюле гостиницы «На горе». Снаружи, на Скайлайн-роуд, все было тихо и неподвижно; круги света под уличными фонарями резко перемежались с темными пятнами там, где господствовали тени и мрак. Ночное безмолвие словно тихонько тикало, как взведенный часовой механизм бомбы замедленного действия. Дженни припомнился крытый проезд рядом с булочной Либерманов. В тот раз ей показалось, что там что-то сидело под стропилами крыши, а Лизе — будто что-то притаилось внизу, у стены. Вполне возможно, что обе они были тогда правы. Это способное менять свой облик существо — или по крайней мере какая-то его часть — наверняка и было тогда в проходе, бесшумно перебираясь из-под стропил по стене вниз. А потом, когда Брайс заметил что-то в расположенной внутри проезда решетке водостока, это явно был пробравшийся по трубе темный жгут протоплазмы, который либо следил за ними, либо занимался каким-то своим темным и непостижимым для них делом. Вспомнив и об Оксли, забаррикадировавшихся изнутри в кабинете, Дженни сказала: — Что ж, загадка запертых комнат теперь понятна. Эта тварь вполне способна протечь под дверью или пробраться внутрь через вентиляцию. Ей достаточно самого маленького отверстия или трещинки. А Гарольд Орднэй… когда он заперся там в ванной комнате, в гостинице «При свечах», оно, наверное, добралось до него через сливные отверстия в ванне или раковине. — И люди в запертых машинах погибли точно так же, — согласился Фрэнк. — Оно вполне может окружить машину, обтечь ее со всех сторон и пробраться внутрь через вентиляционные отверстия. — И когда оно хочет, — добавил Тал, — оно способно передвигаться без единого звука. Вот почему так много людей оказались застигнутыми врасплох. Оно уже было где-нибудь позади них, пробиралось под дверью или через вентиляцию, становилось все больше и больше, а эти люди даже не знали о его присутствии до того самого момента, пока оно не нападало. Снизу, из долины, уже поднимался туман, постепенно заполнявший собой всю улицу. Вокруг зажженных уличных фонарей стали образовываться дрожащие радужные нимбы. — А как вы думаете, какой оно величины? — спросила Лиза. Все помолчали, никто не торопился с ответом. Наконец Брайс проговорил: — Большое. — Возможно, размером с дом, — предположил Фрэнк. — Или даже с эту гостиницу, — сказала Сара. — А может быть, и еще больше, — произнес Тал. — Ведь оно сумело нанести явно одновременный удар сразу по всему городу. Возможно, оно… похоже на озеро: подземное озеро из живой материи, которое располагается почти под всем Сноуфилдом. — Оно как Бог, — проговорила Лиза. — Как это? Почему? — Оно вездесуще, — ответила Лиза. — Оно везде, все видит и все знает. Совсем как Бог.— У нас тут пять патрульных машин, — сказал Фрэнк. — Если мы разделимся, возьмем все эти пять машин и попробуем одновременно уехать… — Оно нас остановит, — возразил Брайс. — Может быть, оно не успеет остановить всех. Кто-нибудь прорвется. Хотя бы одна машина. — Оно справилось с целым городом. — Н-да… верно, — вынужден был неохотно согласиться Фрэнк. — Вполне возможно, — проговорила Дженни, — что оно нас сейчас слушает. Вот в эту самую минуту. Оно нам может не дать даже добраться до машин. Все не сговариваясь посмотрели на расположенные под потолком вентиляционные отверстия. За их металлическими решетками ничего не было видно. Ничего, кроме темноты.
Все собрались вокруг стола в обеденной комнате той крепости, которая уже больше не казалась им крепостью — да и никогда не была ею. Все делали вид, будто хотят кофе: совместное кофепитие придавало им чувство общности и создавало иллюзию, будто продолжается нормальная жизнь. Брайс не стал выставлять у входа в гостиницу часовых. В часовых не было никакого смысла. Если оно захочет, оно все равно сможет добраться до них в любой момент. Туман за окнами становился все гуще. Казалось, он стремится продавить оконное стекло внутрь. Все испытывали потребность обсудить то, что увидели и узнали за последние час-полтора. Они понимали, что всех их ждет смерть, но им необходимо было разобраться, как и почему случилось, что им предстоит умереть. Да, верно: перспектива смерти вселяла ужас, но то, что смерть эта была бессмысленной, казалось еще ужаснее. Брайс хорошо знал, что такое бессмысленная смерть: дорожная катастрофа, произошедшая год назад по вине потерявшего управление грузовика, исчерпывающе просветила его на этот счет. — Интересно, а мотылек, — спросила Лиза, — он что, тоже был как этот эрдель и как та штука, которая… которая убила Горди? — Да, — ответила Дженни. — Мотылек был просто фантомом, маленькой частью этого меняющего свои формы хамелеона. — Когда Стю Уоргл явился к тебе той ночью, — сказал, обращаясь к Лизе, Тал, — это тоже был на самом-то деле не он. Видимо, после того как мы оставили тело Уоргла в кладовке, оно забралось туда и сожрало его. А потом, когда ему захотелось тебя попугать, оно приняло внешний вид Уоргла. — Эта чертова штука, — проговорил Брайс, — явно способна принимать форму любого человека и любого животного, которых оно когда-то сожрало. — А мотылек? — нахмурилась Лиза. — Где оно могло съесть такого мотылька? Ничего подобного просто не существует. — Ну, — ответил Брайс, — может быть, такие насекомые и жили когда-нибудь, миллионы лет назад, во времена динозавров. Возможно, тогда оно ими и кормилось. Глаза у Лизы широко раскрылись. — Вы хотите сказать, что той штуке, которая вылезала из люка, миллионы лет?! — Тем биологическим законам, которые нам известны, оно безусловно противоречит, — ответил Брайс. — Так, доктор Ямагути? — Так, — подтвердила биолог. — Ну а если так, то почему бы ему не быть заодно и бессмертным! На лице у Дженни отразилось сомнение. — Вы не согласны? — спросил Брайс. — С чем? С тем, что оно бессмертно или почти бессмертно? Нет, с такой возможностью я готова согласиться. Вполне допускаю, что эта штука ведет свое происхождение со времен мезозоя и что она обладает способностью самообновления, а значит, практически бессмертна. Но как сюда вписывается крылатый змей? Мне как-то чертовски трудно поверить, что такой змей или нечто ему подобное действительно мог когда-нибудь существовать. Если этот хамелеон способен принимать форму того, что он когда-нибудь сожрал — и только того, — то каким образом ему удается превращаться в летучего змея? — Похожие животные существовали, — сказал Фрэнк. — Например, птеродактили. Это же были крылатые рептилии. — Верно, рептилии, — согласилась Дженни. — Но не змеи. Птеродактили были предшественниками птиц. А то, что мы видели, был явный змей. Это совсем другое дело. Он и выглядел так, будто явился из сказки. — Нет, — возразил Тал. — Он явился из шаманства. — Из шаманства?! — Брайс удивленно повернулся к Талу. — А что и откуда ты знаешь про шаманство? Тал заговорил с явной неохотой. Казалось, он не может заставить себя поднять глаза и посмотреть прямо на Брайса: — В Гарлеме, когда я был еще маленьким, в нашем доме жила одна невероятно толстая женщина. Звали ее Агата Пибоди, и она была боко. Так называют ведьм, которые пользуются искусством колдовства в аморальных или злых целях. Она продавала амулеты, всякие штучки от наговоров, от дурного глаза, сама наговаривала на врагов тех, кто к ней обращался. В общем, занималась подобными делами. Всякой чепухой. Но для ребенка это было чем-то вроде дома с привидениями: и страшно, и жуть как интересно. Двери в квартире миссис Пибоди были постоянно открыты: к ней приходили и клиенты, и поболтать, и разные зеваки. Целый день шел народ, и днем, и ночью. И на протяжении нескольких месяцев я тоже часто заходил к ней и подолгу там просиживал: смотрел, слушал. У нее было довольно много книг по черной магии. И в нескольких из них я видел гаитянские и африканские рисунки, изображавшие, как там представляют себе Сатану, разных злых духов и демонов. На одном из рисунков был гигантский крылатый змей. Весь черный и с крыльями, как у летучей мыши. И с жуткими зелеными глазами. Точь-в-точь такой, как тот, которого мы видели сегодня. Туман за окнами стал совсем густым, через него еле пробивался спет уличных фонарей, и в этом рассеянном свете было видно, как клубится и движется облако тумана: медленно, будто нехотя. — А это и вправду Дьявол? Демон? Пришелец из Ада? — спросила Лиза. — Нет, — ответила Дженни. — Это все только… позы. — Но почему тогда он принимает облик Дьявола? — спросила Лиза. — И почему называет себя всякими демонскими именами? — Мне кажется, потому, что сатанинское обличье просто доставляет ему удовольствие, — сказал Фрэнк. — Это лишь способ подразнить нас, деморализовать. Дженни согласно кивнула. — Я подозреваю, что оно способно принимать формы не только своих прежних жертв. Оно может принимать облик и своих жертв, и всего того, что оно способно себе представить. Так что если кто-нибудь из его жертв был знаком с колдовством или черной магией, то, видимо, именно отсюда у него и возникла мысль стать крылатым змеем. Это объяснение серьезно взволновало Брайса: — Вы хотите сказать, что оно поедает и усваивает не только тела своих жертв, но и то, что они знают? То, что содержится у них в памяти? Похоже на то, — сказала Дженни. — В биологии подобные явления известны, — вступила в разговор Сара Ямагути. Обеими руками она взбила свои длинные темные волосы и стала нервно заправлять их за маленькие изящные ушки. — Например… если некий вид плоского червяка достаточно много раз пропустить через лабиринт, в конце которого червяка ждет награда, то в конце концов червяк научится проходить лабиринт быстрее, чем он делал это поначалу. Если теперь разрубить его на мелкие части, даже растереть их, и скормить эти части другим червям, то эти новые черви тоже сумеют быстро пройти через лабиринт, в котором они до этого даже не бывали. То есть каким-то образом, съев первого червяка, они усваивают не только его тело, но и его знания и опыт. — Вот так, видимо, оно и узнало о Тимоти Флайте, — сказала Дженни. — Гарольд Орднэй знал о Флайте, а от него узнало и оно. — Да, но откуда Флайт-то о нем узнал, Господи? — воскликнул Тал. — На этот вопрос сможет ответить только сам Флайт, — пожал плечами Брайс.
— Почему оно не убило тогда в туалете Лизу? И вообще, почему оно еще не убило всех нас? — Оно с нами просто играет. — Развлекается. Хорошенькое развлечение! — Отчасти это верно. Но мне кажется, оно сохранило нас в живых для того, чтобы мы могли рассказать обо всем увиденном Флайту и заманить его сюда. — Оно хочет, чтобы мы пообещали от его имени Флайту безопасность. — Мы просто наживка на крючке. — Верно. — А когда мы выполним эту роль… — Да.
Снаружи по гостинице что-то сильно застучало. Окна задрожали и зазвенели. Тем, кто находился внутри, показалось, будто затряслось все здание. Брайс вскочил так стремительно, что опрокинул стул, на котором сидел. Еще один удар. Более сильный и громкий. Потом какой-то скрежещущий звук. Брайс внимательно вслушивался, стараясь определить, откуда исходит этот звук. Складывалось впечатление, что он раздается с северной стороны здания, из-за наружной стены. Поначалу он шел как будто с уровня земли, а потом начал быстро подниматься и удаляться. Вот что-то застучало, заклацало. Так обычно стучат кости. Звук был такой, словно скелет мертвеца пытался выбраться из склепа. — Что-то большое, — проговорил Фрэнк. — Поднимается вверх по боковой стене гостиницы. — Это оно, — сказала Лиза. — Но не в желеобразной форме, — добавила Сара. — В естественном состоянии оно бы протекло по стене бесшумно. Все уставились на потолок, прислушиваясь и дожидаясь, что будет дальше. «Интересно, что за фантом бродит там на этот раз, — подумал Брайс. — Какую форму оно теперь приняло?» Скрежет. Негромкий щелчок. Частый стук. Звуки смерти. Рука Брайса была холоднее, чем рукоятка его револьвера. Все шестеро подошли к окну и посмотрели на улицу. Но, кроме клубов густого тумана, там ничего не было видно. Потом внизу на улице, примерно в квартале от них, в неровном свете натриевой лампы что-то зашевелилось. Неясно что. Какая-то угрожающего вида тень, к тому же искаженная туманом. Брайсу показалось, что он разглядел там что-то вроде краба размером с легковую машину. Он успел увидеть паукообразные лапы. В свете уличного фонаря мелькнула и тут же скрылась в темноте чудовищная клешня, усеянная множеством мелких зубчиков. На мгновение из темноты показалось что-то длинное, дрожащее, ищущее: то ли ус, то ли антенна. Потом то, что там было, бесследно растворилось опять в ночном мраке. — Вот что-то подобное и ползает сейчас снаружи по зданию, — сказал Тал. — Какой-нибудь чертов краб вроде того, что мы видели. Родившийся в горячечном бреду какого-нибудь сожранного алкаша. Они услышали, как этот кто-то забрался наконец на крышу. Его хитиновые конечности стучали и скребли по листам шифера. — Что оно затевает? — озабоченно спросила Лиза. — И зачем ему нужно притворяться чем-то другим, а не быть тем, что оно есть? Самим собой? — Может быть, ему просто нравится сам процесс мимикрии, — сказал Брайс. — Знаешь… примерно так же, как некоторым тропическим птицам нравится подражать различным звукам, и они делают это только для того, чтобы послушать себя. Шум на крыше прекратился. Все шестеро стояли и ждали. Казалось, сама ночь подкрадывается к ним, как дикий зверь, изучая свою будущую жертву и выбирая момент для нападения.
Никому не сиделось, все они были слишком взволнованы и потому продолжали стоять у окон. На улице по-прежнему ничего не было видно, только клубился густой туман. — Теперь я понимаю, почему все тело превращается в один сплошной синяк, — проговорила Сара Ямагути. — Оно обволакивает жертву со всех сторон и сдавливает ее. Синяк — результат такого очень сильного, равномерного и достаточно долго длящегося сжимания. Поэтому же есть и признаки удушья: люди просто задыхались внутри этой живой материи, когда оказывались со всех сторон охваченными ею. — Наверное, — сказала Дженни, — и консервант оно выпускает в тот момент, когда сжимает жертву. — Да, вероятнее всего, — согласилась Сара. — Вот почему на тех телах, которые мы осматривали, нигде не было следов укола или укуса. Консервант, должно быть, воздействует сразу на всю поверхность тела жертвы, втискивается давлением в каждую его пору. Своего рода консервация под давлением. Дженни подумала о своей экономке, Хильде Бек, самой первой жертве, которую нашли она и Лиза. Ее передернуло.
— Вода, — проговорила вдруг Дженни. — Что? — переспросил Брайс. — Помните те лужи дистиллированной воды, которые мы находили? Их оставило это существо. — Почему вы так думаете? — Тело человека состоит главным образом из воды. Поэтому, после того как оно поглощает тела своих жертв и усваивает все содержащиеся в них минеральные вещества, все, до последнего миллиграмма, витамины, все полезные ему калории, оно выделяет то, что ему не нужно: излишки абсолютно чистой воды. Те мокрые места и лужи, которые мы находили в разных местах, — это все, что осталось от сотен пропавших людей. Никаких тел. Никаких костей. Только вода… которая уже испарилась.
Шум на крыше не возобновлялся, теперь там царила полная тишина. Краб-фантом исчез. Ни в темноте, ни в тумане, ни в желтом свете натриевых ламп уличных фонарей — нигде ничего не шевелилось, не двигалось. Наконец они отошли от окон и вернулись за стол. — Можно эту проклятую штуку как-нибудь убить? — спросил, ни к кому конкретно не обращаясь, Фрэнк. — По крайней мере мы точно знаем, что пулей ее не возьмешь, — сказал Тал. — А огнем? — спросила Лиза. — Мы же сделали зажигательные бомбы, у солдат они были, — напомнила всем Сара. — Но оно явно напало так неожиданно и с такой стремительностью, что никто не успел схватить бутылки и поджечь запалы. — А кроме того, — сказал Брайс, — мне кажется, что огонь бы все равно не помог. Если бы оно загорелось, то смогло бы… н-ну… просто отделить от себя горящую часть, а само передвинуться в безопасное место. — И взрывчатка, наверное, тоже бесполезна, — проговорила Дженни. — Мне почему-то кажется, что если разнести ее на тысячи кусков, то каждый из них заживет самостоятельно, окажется столько же способным менять форму и в конце концов они опять сольются воедино, не понеся никакого ущерба. — Так можно ее убить или нет? — снова спросил Фрэнк. Все помолчали, размышляя над этим вопросом. Потом Брайс сказал: — Нет. Во всяком случае, я не вижу, как это можно было бы сделать. — Тогда что же нам делать? — Не знаю, — ответил Брайс. — Просто не знаю.
Фрэнк Отри позвонил Рут, своей жене, и проговорил с ней почти целых полчаса. По другому телефону Тал обзвонил за это время нескольких своих друзей. Потом почти на час заняла один из телефонов Сара Ямагути. Несколько звонков сделала Дженни, в том числе тетушке в Ньюпорт-Бич, с которой поговорила и Лиза. Брайс переговорил с несколькими своими подчиненными в Санта-Мире, с теми, с кем он проработал вместе долгие годы и с кем его многое связывало, потом он позвонил своим родителям в Глендейл и отцу Эллен в Спокэйн. Все шестеро говорили со своими собеседниками бодро, весело, держались оптимистически. Все утверждали, что скоро покончат с этой тварью и смогут наконец выбраться из Сноуфилда. Брайс, однако, понимал, что все они просто делают хорошую мину при плохой игре. Он понимал, что это не были обычные телефонные разговоры. Несмотря на оптимистический тон, каждый из этих звонков преследовал одну и ту же мрачную и скорбную цель: все шестеро, кто оставался пока в живых, прощались с дорогими для них людьми.
Глава 35
КРОМЕШНЫЙ АД
Сэл Корелло, пресс-агент, специально нанятый, чтобы встретить Тимоти Флайта в международном аэропорту Сан-Франциско, был низкорослым, но крепким и мускулистым человечком с пшенично-светлыми волосами и густо-синими глазами. У него было лицо отчетливо выраженного лидера, и, если бы рост его составлял не пять футов один дюйм, а футов шесть, возможно, он стал бы не менее заметен и известен, чем Роберт Редфорд. Но дефицит роста с лихвой компенсировался его умом, остроумием и обаянием в сочетании с агрессивностью. Сэл хорошо знал, как добиваться желаемого для себя и своих клиентов, и умел это делать. Как правило, Корелло удавалось загонять журналистов в такие рамки приличия, что тех даже можно было по ошибке принять в этот момент за цивилизованных людей, но на сей раз заставить их вести себя более или менее сдержанно было невозможно. Слишком сенсационной и жгучей была приведшая их сюда новость. Корелло никогда в жизни не приходилось еще видеть ничего подобного: сотни репортеров и просто любопытных набросились на Флайта, едва только увидели, толкая его со всех сторон, дергая за рукава и за пиджак, тыча ему прямо в лицо микрофонами, ослепляя его софитами и вспышками и лихорадочно забрасывая вопросами: «Доктор Флайт…», «профессор Флайт…», «…Флайт!» Вокруг звучало одно непрерывное «Флайт, Флайт, Флайт-Флайтп-Флайт, ФлайтФлайтФлайтФлайт…» Из-за шума старающихся перекричать друг друга голосов вопросы сливались в один сплошной гвалт и разобрать их было невозможно. От рева толпы у Сэла Корелло даже заломило в ушах. Профессор же вначале был явно ошеломлен, потом, кажется, испугался. Корелло крепко взял старика под руку и повел его через бурлящую толпу, приняв на себя роль тарана — маленького, но действовавшего весьма эффективно. Когда они в конце концов добрались до небольшого возвышения, предварительно сооруженного Корелло и охранниками аэропорта в одном из углов зала прилета, профессор Флайт выглядел так, словно он вот-вот скончается от страха. Корелло взял микрофон и несколькими фразами заставил толпу притихнуть. Он убедил журналистов дать вначале Флайту возможность сделать короткое заявление, пообещав, что потом тот ответит на несколько вопросов. После этого Корелло представил профессора и уступил ему микрофон. Стоило только собравшимся хорошо, без помех рассмотреть Тимоти Флайта, как по толпе прошла волна скептицизма. Скрыть его было невозможно, Корелло легко читал на лицах присутствующих откровенное опасение: а не надувает ли их этот Флайт? Профессор и вправду казался внешне похожим на маньяка или одержимого. Его седые волосы торчали вверх, как будто он воткнул пальцы в электрическую розетку. Глаза были вытаращены — и от испуга, и потому что профессор боролся со сном и усталостью, — а лицо было какое-то посеревшее и помятое, как у человека, злоупотребляющего дешевым красным вином. Ему очень не мешало бы побриться. Измятый, жеваный костюм висел на нем бесформенным мешком. И вообще внешним своим видом профессор напоминал Корелло одного из тех ненормальных, что постоянно вещают на уличных углах о неизбежном и скором пришествии дня Страшного Суда. В середине сегодняшнего дня Берт Сандлер, один из редакторов издательства «Винтергрин и Уайл», позвонил Корелло из Лондона и подготовил его к тому, что Флайт, возможно, произведет на журналистов отрицательное впечатление, но Сандлер мог бы и не предупреждать об этом. По мере того как Флайт прочищал горло, по меньшей мере полдюжины раз громко кашлянув прямо в микрофон, в толпе нарастало недовольное и нетерпеливое гудение. Но вот он наконец-то заговорил, и уже через минуту все оказались увлечены его рассказом. Он говорил об истории с поселением на Руанук-Айленд, об исчезнувших цивилизациях народов майя, о таинственных опустошениях, происходивших среди обитателей морей и океанов, о том, как в 1711 году исчезла целая армия. Толпа затихла и внимательно слушала. Корелло успокоился и расслабился. Флайт рассказал об эскимосской деревушке Анджикуни, что находилась в пятистах милях к северо-западу от Черчилля — аванпоста канадской королевской конной полиции. В ноябре 1930 года, уже на склоне одного метельного дня, в Анджикуни забрел некто Джо Ла-Белль, франко-канадец, охотник и торговец, и обнаружил, что все жители деревушки куда-то исчезли. Все их имущество оставалось на месте, включая даже охотничьи ружья, которые ценились эскимосами очень высоко. Приготовленная еда была съедена только наполовину. Собачьи нарты стояли на месте (хотя самих собак не было) — значит, вся деревня никак не могла взять и почему-то переехать на повое место. Как потом описывал свои впечатления Ла-Белль, деревня показалась ему «мрачной и жуткой, словно кладбище безлунной ночью». Ла-Белль поспешил сообщить об увиденном королевской полиции в Черчилле, и та начала большое расследование, но никаких следов жителей Анджикуни так никогда обнаружить и не удалось. Репортеры записывали или направляли на Флайта микрофоны своих диктофонов и магнитофонов, а профессор тем временем заговорил уже о своей гипотезе вековечного врага — гипотезе, вызвавшей в свой адрес столь ожесточенную и злобную критику. Среди слушателей раздались возгласы удивления, появились недоверчивые взгляды, скептические улыбки, но его не перебивали вопросами и никто не высказал прямо и открыто своего недоверия. Едва только Флайт дочитал до конца заранее заготовленный текст выступления, как Сэл Корелло, нарушив свое же обещание дать потом журналистам возможность задать вопросы, схватил Флайта под руку и быстро вывел его в дверь позади возвышения. При виде этого предательства журналисты взвыли от негодования и бросились к двери, пытаясь догнать Флайта. Корелло и профессор вошли в служебный коридор, где их ждали несколько охранников. Один из них захлопнул и запер за вошедшими дверь, отрезав таким образом журналистов, которые с той стороны двери взвыли еще громче. — Сюда, — показал охранник. — Вертолет уже ждет, — сказал другой. Они торопливо двинулись вперед, через лабиринты коридоров, переходов и залов, спустились вниз по бетонной лестнице, прошли через металлическую дверь пожарного выхода и оказались снаружи, на продуваемом ветром летном поле, где их ждал блестевший глянцевитыми боками голубой «Белл Джетрейнджер II», шикарный, хорошо оборудованный вертолет, предназначенный для деловых людей. — Это вертушка губернатора, — сказал Корелло Флайту. — Губернатора? — переспросил Флайт. — Он что, здесь? — Нет. Но он предоставил свой вертолет в ваше распоряжение. Они поднялись по трапу, вошли в комфортабельный пассажирский салон, и в тот же момент лопасти вертолета пришли в движение.Прижавшись лбом к холодному стеклу, Тимоти Флайт смотрел, как Сан-Франциско уходил вниз и назад, скрываясь в ночи. Флайт был возбужден. Перед тем как его самолет приземлился в Сан-Франциско, Флайт чувствовал себя вялым, полусонным и как будто извалявшимся в грязи, по сейчас все это прошло. Настроение у него было при поднятое, силы восстановились, мозг работал четко, и ему не терпелось узнать как можно больше обо всем, что происходило в Сноуфилде. «Джетрейнджер» отличался хорошей для вертолета скоростью, и перелет в Санта-Миру занял меньше двух часов. Корелло — умный и приятный человек, с очень быстрой речью — помог Тимоти подготовить еще одно заявление для тех журналистов, что встретят их по прилете, и путешествие прошло незаметно. С тяжелым и глухим стуком они приземлились прямо посередине огороженной забором стоянки позади здания полицейского управления, где располагался штаб шерифа округа. Корелло открыл дверцу и выскочил из пассажирского салона правде, чем остановились вертолетные лопасти. Стоя прямо вод ветром от винта, он повернулся к дверце и протянул руку Тимоти, помогая ему сойти. В отдалении, со стороны улицы, прижавшись к металлическому забору, шумела агрессивная толпа журналистов. Здесь их было даже больше, чем в Сан-Франциско. Они выкрикивали вопросы, нацеливая в сторону новоприбывших свои микрофоны и камеры. — Сделаем заявление потом, попозже, когда это нам будет удобно, — обратился Корелло к профессору, стараясь переорать царивший вокруг шум и грохот. — Сейчас вас ждут в полиции, чтобы связать по телефону со Сноуфилдом, с шерифом. Двое полицейских быстро провели Флайта и Корелло в здание и, миновав вестибюль, ввели в какую-то комнату, где их уже ждали. Сидевшего тут полицейского звали Чарли Мерсер. Это был рослый, мощный человек с такими густыми бровями, каких Тимоти Флайту никогда еще не доводилось видеть, и с энергичными деловыми манерами первоклассного секретаря какой-нибудь крупной компании. Тимоти проводили к столу и усадили в кресло. Мерсер набрал нужный номер в Сноуфилде и соединился с шерифом Хэммондом. Разговор переключили на громкоговорящую связь, чтобы Тимоти не надо было держать трубку и чтобы все находящиеся в комнате могли тоже слышать, о чем пойдет речь. Как только шериф и профессор обменялись приветствиями, Хэммонд сразу же выложил новость, потрясшую всех: — Доктор Флайт, мы видели вековечного врага. Или, по крайней мере, нечто такое, что, как мне кажется, совпадает с вашими предположениями. Нечто очень крупное, массивное… и амёбоподобное. Свободно меняет форму и может прикидываться чем угодно. Руки у Тимоти затряслись, и он изо всех сил вцепился в подлокотники кресла: — О господи! — Это похоже на то, что вы назвали вековечным врагом? — спросил Хэммонд. — Да. Выходец из другой эры. Ему миллионы лет. — Ну что ж, расскажете нам о нем поподробнее, когда приедете сюда, — проговорил Хэммонд. — Если, конечно, я сумею уговорить вас приехать. Тимоти воспринимал не больше половины ив того, что говорил ему шериф. Все его мысли были поглощены вековечным врагом. Он писал об этом враге, всегда был убежден в том, что враг этот действительно существует, но почему-то оказался все-таки не готов к тому, что его гипотеза вдруг и вправду подтвердится. И потому сейчас профессор чувствовал себя глубоко потрясенным. Хэммонд рассказал ему об ужасной гибели одного из полицейских, которого звали Горди Брогэн. Из всех присутствовавших в комнате только Тимоти и Сэл Корелло были действительно ошеломлены этой историей и пришли от нее в ужас. Мерсер и остальные явно узнали все подробности раньше. — Вы все это видели и остались в живых? — спросил пораженный Тимоти. — Оно вынуждено оставить кого-то из нас в живых, — ответил Хэммонд, — чтобы мы постарались уговорить вас приехать сюда. Оно гарантирует вам безопасность. Тимоти задумчиво пожевал нижнюю губу. — Доктор Флайт? Вы меня слышите? — спросил Хэммонд, не получив ответа. — Что? Да… да-да. Да, слышу. А что значит «оно гарантирует мне безопасность»? Что вы хотите этим сказать? Хэммонд рассказал ему, как им неожиданно удалось пообщаться с вековечным врагом при помощи компьютера. Слушая рассказ шерифа об этой поразительной истории, Тимоти почувствовал, что его прошибает пот. Он увидел на столе коробку «клинекса», запустил туда руку, схватил сразу несколько салфеток и принялся вытирать этим бумажным комком пот с лица. Когда шериф закончил свой рассказ, профессор глубоко вздохнул и заговорил сдавленным голосом: — Я никогда не думал… я никак не мог этого предвидеть… мне просто не приходило в голову… — А в чем дело? — спросил Хэммонд. Тимоти откашлялся, прочищая горло, и проговорил: — Мне никогда не приходило в голову, что вековечный враг может обладать разумом человеческого уровня. — Я подозреваю, что у него может быть разум даже более высокого уровня, — сказал Хэммонд. — Я всегда представлял его себе как тупое животное, наделенное только самыми примитивными инстинктами. — Это не так. — Но это делает его гораздо более опасным! Боже мой! Гораздо более опасным. — Так вы готовы сюда приехать? — спросил Хэммонд. — Вообще-то я не собирался… я думал ограничиться местом, где я сейчас нахожусь, — ответил Тимоти. — Но если оно обладает разумом… и если оно обещает мне безопасность… На линии вдруг прорезался откуда-то детский голос, приятный голосок мальчика, на слух пяти-шести лет: «Пожалуйста, доктор Флайт, ну пожалуйста, приезжайте поиграть со мной. Пожалуйста. Нам будет очень весело. Приедете, ладно?» И прежде чем Тимоти успел ответить, раздался неясный, мелодичный женский голос: «Да, уважаемый доктор Флайт, очень вас прошу, приезжайте. Мы будем вам страшно рады. И вам ничего не грозит». И наконец послышался голос старика, деликатный и теплый: «Вы сможете обо мне столько всего узнать, доктор Флайт. Обретете такое знание и понимание. Пожалуйста, приезжайте и приступайте к исследованиям. Предложение безопасности сделано искренне». Наступила тишина. — Алло? Алло? Кто это? — в замешательстве спросил Тимоти. — Я все еще тут, — ответил Хэммонд. Другие голоса не отозвались. — Сейчас только я, — проговорил Хэммонд. — А что это были за люди? — спросил Тимоти. — Это не люди. Это всего лишь фантомы. Имитация. Неужели вы не поняли? Всеми этими голосами оно еще раз пообещало вам безопасность. Это был вековечный враг, доктор. Тимоти взглянул на тех четверых, что сидели сейчас вместе с ним в комнате. Все они неотрывно смотрели на черный громкоговоритель, из которого раздавался голос Хэммонда и — минутой раньше — голоса этого странного создания. Сжав еще сильнее комок уже намокших бумажных салфеток, Тимоти снова вытер им покрытое потом лицо. — Я приеду. Все, кто был в комнате, смотрели теперь на него. Доктор, нет абсолютно никаких оснований верить, что оно сдержит свое обещание, — раздался из громкоговорителя голос шерифа Хэммонда. — Стоит вам оказаться здесь, и вполне возможно, что вы тоже отсюда не выберетесь. Но если оно разумное… — Это еще не означает, что оно будет играть честно, — ответил Хэммонд. — Напротив, все мы, кто здесь есть, твердо уверены в одном: это создание есть само воплощение Зла. Это Зло, доктор Флайт. И вы готовы поверить обещаниям Сатаны? Снова раздался голосок ребенка, веселый, мелодичный и нежный: «Если вы приедете, доктор Флайт, я сохраню жизнь не только вам, но и тем шестерым, что сидят здесь в ловушке. Если вы приедете поиграть со мной, я их отпущу. А если не приедете, то эти свиньи будут мои. Я их раздавлю. Я выжму из них всю кровь и все дерьмо, превращу их в кашу и съем». Все это было сказало невинным детским голосом, весело и беззаботно, и оттого прозвучало гораздо более устрашающе, чем если бы те же самые слова проорал рычащий бас. Сердце у Тимоти бешено колотилось. — Тогда решено, — ответил он. — Я приеду. У менянет другого выбора. — Если только из-за нас, то не приезжайте, — возразил Хэммонд. — Вас оно, может быть, еще и пожалеет, потому что вас оно называет своим Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Но нас оно в любом случае убьет наверняка, что бы оно сейчас ни говорило. — Я приеду, — стоял на своем Тимоти. Хэммонд помолчал немного, явно колеблясь, потом проговорил: — Хорошо. Один из моих людей довезет вас до шлагбаума у поворота на Сноуфилд. Оттуда вам придется добираться дальше самому. Я не могу рисковать еще одним человеком. Вы водите машину? — Да, сэр, — ответил Тимоти. — Предоставьте мне машину, а дальше я доберусь сам. Линия смолкла. — Алло? — спросил Тимоти. — Шериф? Ответа не было. — Вы меня слышите? Шериф Хэммонд? Гробовое молчание. Оно разъединило линию. Тимоти посмотрел на Сэла Корелло, на Чарли Мерсера, на двоих других полицейских, имен которых он не знал. Все они глядели на него так, словно он был уже покойник и лежал в гробу. «Если я погибну в Сноуфилде, — подумал Флайт, — если оно меня сожрет, то никакого гроба не будет. И могилы не будет. И никакого вечного покоя». — Я довезу вас до развилки, — сказал Чарли Мерсер. — Я сам вас отвезу. Тимоти кивнул. Пора было ехать.
Глава 36
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
В три часа двенадцать минут утра зазвонили колокола сноуфилдской церкви. Брайс, сидевший в кресле в вестибюле гостиницы «На горе», встал. Все остальные тоже повскакали со своих мест. Завыла сирена пожарного депо. — Наверное, Флайт уже в городе, — проговорила Дженни. Все шестеро вышли на улицу. Фонари на столбах вспыхивали и гасли, отбрасывая причудливые изломанные тени на движущиеся клубы тумана. Было видно, как в нижней части Скайлайн-роуд из-за поворота выехала машина. Лучи от ее фар устремились вверх, в гору, придавая туманной мгле какое-то серебристое сияние. Мигание уличных фонарей прекратилось, и Брайс встал под одним из них, в потоке мягкого желтого света, надеясь, что здесь Флайт сможет его разглядеть даже несмотря на туман. По-прежнему выла сирена, звонили колокола, а машина медленно ползла вверх по затяжному подъему. Бело-зеленый патрульный автомобиль с опознавательными знаками управления шерифа подъехал к тротуару и остановился футах в десяти от того места, где стоял Брайс; водитель погасил фары. Дверца рядом с водителем открылась, и Флайт вышел из машины. Он оказался совсем не таким, каким представлял его себе Брайс. Из-за толстых линз в очках глаза его казались ненормально большими. Тонкие седые спутанные волосы стояли торчком, из-за чего вокруг головы образовался нимб. Кто-то в полицейском управлении дал ему непромокаемую куртку со значком полиции округа ранта-Мира на левой стороне груди. Колокольный звон прекратился. Сирена прохрипела, затихая, и тоже смолкла. И тут же наступила полная, глубочайшая тишина. Флайт осмотрелся на погруженной в туман улице, постоял немного, прислушиваясь. Наконец Брайс проговорил: — Ну что ж, оно явно не хочет еще показываться. — Шериф Хэммонд? — повернулся к нему Флайт. — Он самый. Пойдемте в здание, посидим там и подождем.Столовая в помещении гостиницы. Горячий кофе. Руки у всех дрожат, и поэтому фарфоровые кружки стучат по крышке стола. Руки нервно сжимают теплые кружки, чтобы согреться и успокоиться. Шестеро оставшихся в живых сидят, сгрудившись за столом и подавшись вперед, чтобы лучше слышать Тимоти Флайта. На Лизу английский ученый сразу произвел впечатление, она была им покорена и очарована, у Дженни же поначалу возникли серьезные сомнения. Флайт показался ей ходячей карикатурой на рассеянного ученого, как их обычно изображают. Но когда он заговорил и стал рассказывать о своей гипотезе, Дженни пришлось пересмотреть свое первое, неблагоприятное впечатление, и вскоре она была уже в таком же восхищении, что и Лиза. Он поведал им об армиях, пропавших в Испании и в Китае, о покинутых городах майя, о поселении на острове Руанук. А еще он рассказал им о Джойя-Верде, небольшом поселении в джунглях Южной Америки, чья судьба оказалась сходной с судьбой Сноуфилда. Джойя-Верде, что означает «Зеленый драгоценный камень», было торговым аванпостом на Амазонке, вдали от всякой цивилизации. В 1923 году шестьсот пять его жителей — мужчины, женщины и дети, абсолютно все, кто там жил, — бесследно исчезли, притом среди белого дня, где-то в промежутке между утренним и вечерним заходами курсировавшего по реке судна. Поначалу думали, что жившее неподалеку от того места племя индейцев, в общем-то мирное, почему-то обиделось на поселенцев и напало на них. Но не нашли ни одного трупа, не было никаких следов ни сражения, ни грабежа жилищ. В здании школы на классной доске обнаружили надпись: «У него нет формы, но оно способно принимать любую форму». Те, кто участвовал в расследованиях и пытался разгадать тайну Джойя-Верде, с легкостью отметали эти накарябанные мелом слова как не имеющие никакого отношения к исчезновению жителей. Флайт придерживался на сей счет другого мнения, и Дженни, выслушав его аргументы, с ним согласилась. — Своего рода послание было оставлено и в одном из древних городов майя, — продолжал Флайт. — Археологи нашли отрывок из молитвы, написанный иероглифами и датируемый как раз тем временем, когда произошло исчезновение жителей города. — Он стал цитировать эту молитву по памяти: «Злые боги живут в земле, их мощь дремлет в скалах. Когда они просыпаются, то поднимаются и выходят наверх, как лава, только лава холодная, текучая, и они могут принимать много форм. И тогда возгордившиеся люди понимают, что они всего лишь слабый писк в реве бури, робкое дыхание на фоне урагана, и они исчезают, словно никогда и не существовали». Очки сползли Флайту на кончик носа, и он толчком отправил их на место. — Так вот, некоторые утверждают, что слова этой молитвы относятся к землетрясениям и извержениям вулканов. А я считаю, что они сказаны о вековечном враге. — Мы тоже обнаружили здесь в одном месте послание, — сказал Брайс. — Часть слова. — Но не можем понять какого, — добавила Сара Ямагути. Дженни рассказала Флайту о двух буквах — Р и R, — которые Ник Папандракис написал йодом на стене ванной комнаты. — Там была еще и часть третьей буквы. Он ее только начал писать. То ли О, то ли U. — Папандракис, — Флайт энергично закивал головой. — Грек. Да-да-да, это лишний раз подтверждает то, о чем я вам говорю. А этот Папандракис гордился тем, что он грек? — Да, — ответила Дженни. — Очень гордился. А что? — Ну, раз он гордился тем, что он грек, — сказал Флайт, — он вполне мог хорошо знать греческую мифологию. Видите ли, в одном из древнегреческих мифов есть бог Протей. Я полагаю, что именно это слово ваш Папандракис и пытался написать на стене. Протей. Бог, который живет в земле и обладает способностью путешествовать по ее недрам. Бог, у которого нет никакой собственной формы. Бог, который может принимать любую форму, какую он только пожелает, и который питается всем и всеми, кем только захочет. С отчаянием в голосе Тал Уитмен проговорил: — К чему все эти разговоры о чем-то сверхъестественном? Когда мы с ним общались через компьютер, само оно называло себя только именами разных демонов. — Аморфный демон или бесформенный и обычно злой бог, способный принимать любую форму по своему желанию — довольно распространенные персонажи почти всех древних мифов и большинства, если не абсолютно всех существующих в мире религий, — ответил Флайт. — Подобные мифические персонажи действуют обычно под десятками самых разных имен и названий во всех культурах мира. Вспомните хотя бы Ветхий Завет. Сатана в первый раз появляется там как змей, потом в облике козы, барана, оленя, жука, паука, потом как ребенок, как нищий и во множестве других обличий. И его называют, помимо прочего, «Властелином хаоса и бесформия», «Мастером обмана», «Тварью многоликой». В Библии говорится, что Сатана «изменчив, как тени» и «пронырлив, как вода; и как вода способна становиться паром или льдом, так и Сатана может превращаться во все, что захочет». — Вы хотите сказать, что многоликое существо здесь, в Сноуфилде, и есть сам Сатана? — спросила Лиза. — Н-ну… в определенном смысле, да. — Нет, — отрицательно покачал головой Фрэнк Отри, — не тот я человек, доктор Флайт, чтобы верить в нечистую силу. — Я тоже в нее не верю, — согласился с ним Флайт. — Я не утверждаю, что это создание есть нечто сверхъестественное. Напротив. Оно совершенно реально, это создание из плоти, хотя и не такой, как у нас. Это не какой-нибудь дух или призрак. Но… в определенном смысле слова… я считаю, что оно-то и есть Сатана. Видите ли, я считаю, что именно это создание — или другое, но похожее на него, тоже какой-нибудь чудовищный выходец из мезозойской эры — и вызвало появление легенды о Сатане, должно быть, в доисторические времена людям приходилось сталкиваться с подобными существами, и кто-нибудь из видевших его уцелел, выжил и потом рассказал другим. Естественно, что свои переживания и впечатления люди описывали тогда как умели — в привычной для них терминологии легенд и религиозных предрассудков. Я подозреваю, что демонические персонажи, которые есть в религиях всех стран и народов, в основе своей возникли из рассказов о таких вот, способных менять форму чудовищах. Рассказов, которые передавались устно через бесчисленные поколения людей еще задолго до того, как эти предания были запечатлены в иероглифах, летописях, а потом и в печатных книгах. Это должны были быть рассказы об очень редких встречах с настоящим, действительно настоящим и очень опасным существом… но рассказы на языке религиозных мифов и легенд. Эта часть гипотезы Флайта показалась Дженни одновременно и сумасшедшей, и великолепной, крайне маловероятной, но по-своему убедительной. — Оно каким-то образом впитывает, усваивает знания и все то, что есть в памяти тех, кем оно питается, — проговорила Дженни, — так что ему известно, что жертвы считают его Дьяволом, и оно получает какое-то противоестественное удовольствие от того, что само намеренно играет эту роль. — Похоже, ему нравится над нами издеваться, — подтвердил Брайс. Сара Ямагути заправила за уши длинные волосы и спросила: — Доктор Флайт, а можно ли объяснить все это со строго научной точки зрения? Как живет это существо? Как оно функционирует в биологическом отношении? Какие у вас соображения на этот счет, как бы вы все это объяснили? Но прежде чем Флайт успел ей ответить, появилось оно. Металлическая решетка, закрывавшая вентиляционное отверстие, что находилось высоко на стене, под самым потолком, вдруг с громким хлопком сорвалась с крепивших ее винтов. Она перелетела почти через всю комнату, с грохотом упала на один из свободных столов, слетела с него вниз и, звеня и дребезжа, запрыгала по полу. Дженни и все остальные, кто были в комнате, повскакали со стульев. Лиза громко вскрикнула и вытянула руку, показывая на стену. Из вентиляционного отверстия вываливалось оно, повисая на стене. Существо, способное менять свои формы, было темного цвета. Влажное. Оно пульсировало. Внешне оно напоминало здоровенную, блестящую, смешанную с кровью соплю, постепенно вытекающую из ноздри и повисающую на носу. Брайс и Тал потянулись было за револьверами, но потом передумали. Они все равно ничего не смогли бы поделать с этим существом. Оно продолжало вытекать из вентиляционного отверстия, переливаясь волнами, надуваясь и разбухая, увеличиваясь в объеме и вырастая в омерзительную шишковатую шевелящуюся груду размером уже с человека. Потом, не отделяясь от стены и продолжая выливаться из отверстия, оно заскользило по стене вниз. Теперь нижняя его часть уже большой кучей возвышалась на полу. По объему она была уже намного больше человека, а поток массы из вентиляционного отверстия лился не переставая. Существо становилось все больше и больше. Дженни посмотрела на Флайта. На лице профессора одно выражение почти мгновенно сменялось другим. Вначале на нем был написан ужас, потом любопытство, трепет, отвращение, потом снова благоговейный страх, ужас и опять любопытство. Подвижная, непрерывно переливающаяся и вскипающая масса темной протоплазмы была уже сейчас величиной с трех или четырех человек, а из вентиляционного отверстия омерзительными, тошнотворными толчками вываливались все новые и новые порции этой гадости. Лиза зажала себе рот и отвернулась. Но Дженни не могла отвести взгляда от этого существа. Оно обладало какой-то странной, но несомненно притягательной силой. В огромной массе бесформенной живой ткани, что уже вылилась в комнату, стали образовываться конечности, хотя ни одна из них не удерживалась неизменной больше нескольких секунд. Из этой массы вдруг вырывались, протягивались к ним мужские и женские руки, как бы моля о помощи. Или желеобразная ткань вытягивалась тонкими, хрупкими детскими ручонками, и некоторые ладошки раскрывались, горестно взывая о чем-то. Трудно было поверить, что на самом-то деле это вовсе не руки настоящих живых детей, поглощенных этой массой, но лишь имитация таких рук, фантомы, непрерывно меняющее свои формы оно. Потом возникли когти. Огромное, ужасающее количество лап животных и всевозможных когтей повылезало внезапно из этого протоплазмового супа. Были тут и отдельные части тел насекомых — колоссальные, увеличенные во много сотен раз, вызывающие жуть и содрогание и словно готовые схватить. Но все это, едва только возникнув, показавшись, тут же снова как будто таяло, расплывалось и вновь превращалось в бесформенную массу живой протоплазмы. Теперь перевоплощающаяся протоплазма растеклась уже до середины комнаты, а по величине была больше слона. Она по-прежнему непрерывно меняла свои формы — упорно, быстро, таинственно и без всякой видимой цели. Дженни и все, кто был в комнате, потихоньку пятились назад, отступая к окнам. За ними, на улице, бесформенные клубы тумана вели свой танец, и казалось, будто какие-то призраки повторяют движения меняющего свои формы чудовища. Флайт вдруг заговорил, отвечая на вопрос Сары Ямагути. Он произносил слова быстро, почти проглатывая их, так, словно времени на ответ у него остается предельно мало: — Лет двадцать назад мне однажды пришло в голову, что могла быть какая-то связь между массовыми исчезновениями людей и животных в наше время и исчезновением определенных видов живых существ в более ранние геологические эпохи — тогда, когда еще не было человека. Например, исчезновением динозавров. Протоплазма продолжала пульсировать и вспучиваться, теперь она заполняла собой весь дальний угол комнаты и возвышалась там почти до потолка. Лиза изо всех сил прижималась к Дженни. В воздухе появился непонятный, но неприятный, отталкивающий запах. Он слегка отдавал серой. Такое впечатление, будто потянуло сквозняком из Ада. — Существует масса гипотез, пытающихся объяснить причины исчезновения динозавров, — говорил Флайт. — Но ни одна из них не в состоянии ответить на все возникающие в этой связи вопросы. И вот я подумал… а что, если динозавры были истреблены какими-то другими существами, каким-то естественным врагом, который оказался более развитым и сильным, чем они? Более удачливым охотником? Такие существа должны были быть очень большими. И при этом обладать очень слабым скелетом или вообще не иметь его — потому что никто никогда не находил останков животных, которые были бы в состоянии сразиться с динозаврами в открытом бою. По всей массе этой темной колышущейся слизи пробежала крупная дрожь, и на ее влажной, текучей поверхности стали возникать десятки человеческих лиц. — И что, если несколько таких амёбоподобных существ, — продолжал Флайт, — прожили миллионы лет… Из бесформенной протоплазмы возникали то лица людей, то звериные морды и, едва показавшись, тут же растворялись в ней снова. — …обитая в подземных реках и озерах… Некоторые из этих лиц были безглазыми. У других отсутствовал рот. Но вот стали появляться глаза. Они резко раскрывались, моргали несколько раз, потом широко распахивались. Глаза были совсем как настоящие, они смотрели до боли пронзительно, проникали в самую душу, их взгляд был наполнен болью, страхом, отчаянием. — …или же в глубоких впадинах в океане… Вот возникли и раскрылись в беззвучном крике рты там, где только что была ровная, без намека на отверстие, поверхность нижней части лиц. — …в тысячах футов под поверхностью воды… Вокруг распахнутых ртов образовались губы. — …питаясь морскими животными… Казалось, лица-призраки кричали изо всех сил, но из их уст не исходило ни звука. — …изредка поднимаясь со дна вверх, чтобы покормиться… Кошачьи морды. Собачьи морды. Морды каких-то доисторических рептилий. Все это словно всплывало наверх откуда-то из глубины вязкой, липкой слизи. — …и еще более редко получая в качестве корма людей… Дженни казалось, что человеческие лица выглядят так, словно они смотрят на нее из глубины мутного затемненного зеркала. Ни одно из них ни разу так и не оформилось до конца. Те, что возникли раньше, вынужденно растворялись, потому что из глубины непрерывно всплывали все новые и новые бессчетные лица, соединявшиеся с прежними, сраставшиеся с ними, поглощавшие их. Это был бесконечный театр теней, непрерывный парад обреченных и пропавших. Но вот поток лиц прекратился. Огромная бесформенная масса на какое-то время успокоилась, она продолжала медленно и почти незаметно пульсировать, но в остальном лежала совершенно неподвижно. Сара Ямагути негромко охнула. Дженни еще крепче прижала к себе Лизу. Никто не проронил ни слова. В течение нескольких мгновений никто не осмеливался даже дышать. Потом, как бы продолжая демонстрацию своих возможностей, вековечный враг резко выбросил из себя десятки щупалец. Некоторые из них были толстыми, усыпанными присосками, как у головоногих или у осьминога. Другие, наоборот, были тонкими, похожими на веревки. Одни щупальца были ровные и гладкие, другие походили на конечности членистоногих и были даже еще более отвратительны, чем те, что напоминали щупальца осьминога: толстые и казавшиеся влажными. Некоторые из этих щупалец стали шарить во все стороны по полу, сшибая стулья и сдвигая столы, другие раскачивались в воздухе, напоминая танцующих под дудочку заклинателя кобр. И тут оно напало, молниеносно устремившись вперед. Дженни сделала шаг назад. Но больше отступать было некуда, позади была стена. Щупальца рванулись в ее сторону, рассекая воздух со свистом, словно кнут или плетка. Лиза не удержалась и взглянула и чуть не задохнулась от увиденного. Всего лишь за какую-то долю секунды щупальца вытянулись во много раз. Жгут холодной, скользкой, чужой и совершенно враждебной плоти упал сверху на руку Дженни и обвил ее кисть. Нет!!! С содроганием и чувством непередаваемого облегчения Дженни высвободила руку. Это оказалось не очень трудно сделать. Оно явно не намеревалось всерьез нападать на Дженни или, по крайней мере, пока не собиралось этого делать. Щупальца засвистели в воздухе у нее над головой, и Дженни присела. То же самое сделала и прижавшаяся к ней Лиза. Стараясь как можно быстрее отскочить подальше, Флайт сделал неверный шаг и упал. Одно из щупалец двинулось в его сторону. Флайт быстро пополз по полу назад к стене, пытаясь удрать от него. Щупальце двигалось ему вслед, склонившись над ним так, словно собиралось ударить его сверху. Потом отвернулось и ушло в сторону. Флайт его тоже не интересовал. Брайс выстрелил, хотя это было совершенно бессмысленно. Тал что-то прокричал, но Дженни не поняла, что именно. Он рванулся к сестрам и встал перед ними, закрыв собой Дженни и Лизу от чудовища. Пройдя над Сарой, щупальца схватили Фрэнка Отри. Вот кто был ему нужен. Два толстых щупальца обвились вокруг тела Фрэнка и вырвали его из маленькой группки людей. Лицо Фрэнка было искажено от ужаса, он кричал что-то нечленораздельное и изо всех сил колотил по щупальцам кулаками, царапал их, пытался оторвать от себя. Теперь уже завопили все — даже Брайс, даже Тал. Брайс устремился за Фрэнком. Он схватил его за правую руку и попытался вырвать его из объятий щупалец, которые охватывали Фрэнка все новыми и новыми кольцами. — Сбрось его! Сбрось его с меня! — орал Фрэнк. Брайс попробовал оторвать от Фрэнка одно из щупалец. Другое, скользкое и толстое, поднялось с пола, свернулось, размахнулось и с невероятной силой ударило Брайса. Он кубарем полетел по полу. Щупальца, державшие Фрэнка, оторвали его от пола, подняли вверх и остановились в таком положении. Подвешенный в воздухе, Фрэнк с ужасом смотрел на колышущуюся под ним темную, непрерывно меняющуюся массу. Он боролся, стараясь освободиться, колотил вековечного врага изо всех сил, но все его усилия были напрасны. Из центральной части этой перевоплощающейся протоплазмы вырвалось нечто похожее на стручок. Оно взвилось вверх, дрожа, словно от нетерпения. Серо-красновато-коричневая поверхность этого щупальца, такого же отвратительного, как и остальные, вдруг как будто растворилась вдоль, и из-под нее показались другие ткани, влажные и словно кровоточащие или слезящиеся. Лизу чуть не стошнило. Дело было не только в гноеподобном внешнем виде этой омерзительной плоти, хотя от него одного уже становилось плохо. Но одновременно резко усилился и отвратительный запах, который исходил от этой твари. Из открывшейся на щупальце раны стала капать какая-то желтоватая жидкость. Там, где капли этой жидкости попадали на пол, раздавалось шипение, шел вверх пар, а в керамической плитке пола оставалась глубокая язва. Дженни услышала, как кто-то произнес: «Кислота!» Крики Фрэнка превратились в один непрерывный, рвущий душу вопль ужаса и отчаяния. Щупальце, из которого сочилась кислота, подкралось сзади к шее полицейского и обвило ее сильно и плотно, как петля. — О Господи, не надо! — Не смотри, — сказала Дженни Лизе. Амёбоподобная тварь показывала им, как она обезглавила Якова и Аиду Либерманов. Она хвалилась, как ребенок. Последний крик Фрэнка Отри перешел в хрип и затихающее клокотание: щупальце с поразительной быстротой сдавило и перерезало ему горло и полицейский захлебнулся в собственной крови. Через одну-две секунды после того как Фрэнк смолк, голова его отделилась от тела и упала на пол, глухо ударившись о плитки. Дженни почувствовала, как горький комок сдавливает ей горло. Сделав над собой усилие, она проглотила его, подавив готовые вырваться наружу рыдания. Сара Ямагути громко всхлипывала. Щупальца все еще продолжали держать обезглавленное тело Фрэнка в воздухе. Но теперь в той бесформенной массе, из которой они вырастали, вдруг жадно раскрылась огромная беззубая пасть. Она была такой величины, что ей ничего не стоило целиком заглотить взрослого человека. Щупальца опустили обезглавленный труп в этот раззявленный, с неровными краями рот, и темная плоть сомкнулась над телом. Рот захлопнулся и исчез, будто его и не существовало. И Фрэнк Отри тоже исчез.
Брайс с ужасом смотрел на отрезанную голову Фрэнка, оставшуюся лежать на полу. Мертвые глаза ее глядели не мигая на шерифа и как будто сквозь него. Фрэнка больше не было. Фрэнк, который уцелел в нескольких войнах, который всю жизнь провел на опасной работе и до сих пор выходил невредимым из всех переделок, — погиб. Это испытание оказалось для него последним. Брайс подумал о Рут Отри. Он представил себе, как ей придется теперь доживать жизнь в одиночестве, и сердце его, стучавшее как молот, сжалось от горя. Рут и Фрэнк были необычайно близки друг другу. Брайс представить себе не мог, как он сообщит ей о гибели мужа. Щупальца стали втягиваться назад, в огромную кучу пульсирующей живой ткани, и через одно-два мгновения от них не осталось и следа. Бесформенная масса, по поверхности которой пробегала мелкая рябь, заполняла уже треть комнаты. Брайс представил себе, как оно бесшумно и стремительно течет по доисторическим болотам, неотличимое внешне от болотной грязи, как подкрадывается к своим жертвам. Да, справиться с динозаврами ему бы не составило большого труда. До сих пор Брайс считал, что это существо пощадило его самого и еще нескольких человек только ради того, чтобы оставшиеся в живых заманили в Сноуфилд Флайта. Но теперь он понял, что настоящая причина заключалась вовсе не в этом. Оно вполне могло бы сожрать их всех, а потом сымитировать по телефону их голоса, легко обмануть Флайта и убедить его приехать. Оно пощадило их по какой-то иной причине. Вполне возможно, только для того, чтобы потом убивать их поодиночке у Флайта перед глазами, дабы ученый увидел и понял, как именно оно живет и действует. О господи! Гора протоплазмы возвышалась над ними, дрожа, как желатин, и странно пульсируя, словно под поверхностью у нее бились не меньше десятка сердец, и каждое в своем ритме. Дрожащим голосом — Брайс подумал, что, если бы он сейчас заговорил, его собственный голос оказался бы, наверное, не лучше, — Сара Ямагути проговорила: — Хорошо бы каким-нибудь образом заполучить образец этих тканей. Я бы что угодно отдала за возможность взглянуть на них под микроскопом… увидеть их клеточное строение. Быть может, тогда бы мы нащупали какое-нибудь слабое место… нашли бы способ иметь с ним дело, а может быть, даже и победить его. — Я бы очень хотел заняться его исследованием… — сказал Флайт, — …просто чтобы разобраться… чтобы узнать… Из центральной части бесформенной массы вырвался новый протуберанец тканей и стал принимать форму человека. Брайс с ужасом и смятением увидел вдруг, как прямо перед его глазами возникают очертания Горди Брогэна. Фантом не успел еще до конца материализоваться, тело было только оконтурено, а лицо не сложилось во всех деталях, но на нем вдруг открылся рот, и подобие Горди Брогэна заговорило, хотя и не голосом своего прообраза. Раздавшийся голос принадлежал Стю Уорглу, что придавало всей сцене еще большую фантасмагоричность и привело всех в замешательство. — Идите в лабораторию, — проговорил фантом полусформировавшимся ртом, но совершенно ясно и отчетливо. — Я покажу вам все, что вы захотите увидеть, доктор Флайт. Вы мой Матфей. Мой Лука. Идите в лабораторию. Идите в лабораторию! Незаконченное подобие Горди Брогэна растаяло быстро и бесследно, словно оно было из дыма. Узловатый кусок плоти величиной с человека влился назад, в общую массу, из которой он выплеснулся перед этим. Вся огромная, пульсирующая, то вздымающаяся, то сжимающаяся масса поползла вверх по неглубокому стыку в степе и начала втягиваться назад в вентиляционное отверстие. Сколько же ее еще находится там, за пределами комнаты, но внутри гостиничных стен, с тяжелым чувством подумал Брайс. А сколько ее еще прячется в городских водостоках? И каковы же на самом деле настоящие размеры бога Протея? Пока оно уползало восвояси, по всей его поверхности стали вдруг возникать причудливой формы отверстия. Величиной они были не больше человеческого рта. Одно, десять, двадцать… И вдруг из отверстий полились звуки: щебетание птиц, крики морских чаек, жужжание пчел, чье-то рычание, шипение, беззаботный детский смех, доносящееся откуда-то издалека пение, глухое уханье совы, предостерегающий треск гремучей змеи. Все эти звуки исходили из пятившегося чудовища одновременно, сливаясь в общий неприятный, раздражающий и откровенно зловещий хор. Но вот вся протоплазма втянулась назад в вентиляционное отверстие. И только отрезанная голова Фрэнка и погнутая, искалеченная металлическая решетка вентиляции остались как доказательства того, что здесь действительно побывало нечто, вышедшее из самых глубин Ада. Настенные часы показывали три часа сорок четыре минуты утра. Ночь уже почти прошла. «Сколько еще времени остается до рассвета? — подумал Брайс. — Полтора часа? Час сорок? Или больше?» Неважно, решил он. Все равно до рассвета ему скорее всего не дожить.
Глава 37
ТЩЕСЛАВИЕ
Дверь второй лаборатории была широко распахнута. Свет внутри горел. Экраны компьютеров светились. Все было готово к их приходу. Их явно ждали. Вплоть до самого последнего момента Дженни все еще старалась верить, что им удастся каким-то образом организовать сопротивление, что у них есть еще шанс, пусть и самый малый, повлиять на дальнейший ход событий. Теперь эта слабая, но так бережно лелеемая ею надежда была развеяна без остатка. Они оказались бессильны. Они смогут делать только то, что оно захочет, ходить только туда, куда оно им позволит. Все шестеро втиснулись в лабораторию. — Ну и что теперь? — спросила Лиза. — Подождем, — ответила Дженни. Флайт, Сара и Лиза уселись перед тремя ярко светившимися экранами видеотерминалов. Дженни и Брайс стояли облокотившись о рабочий стол, а Тал остался возле открытой двери, время от времени поглядывая наружу. Мимо двери неслись клубы тумана. «Подождем», — ответила Дженни Лизе. Но ждать было очень нелегко. Каждая секунда была сплошной пыткой, в любой миг можно было ожидать смерти. Откуда придет она в следующий раз? Как? И по кому ударит? — Доктор Флайт, — заговорил, помолчав какое-то время, Брайс, — если эти доисторические создания прожили миллионы лет в подземных озерах и реках, в самых глубоких морских впадинах… или где там еще… и если они выходили наружу только для того, чтобы покормиться, то почему же массовые исчезновения людей не происходили более часто? Флайт потер подбородок длинными тонкими пальцами и ответил: — Потому что они редко наталкивались на людей. — Но почему же редко? — Я думаю, выжили лишь единицы таких созданий, не больше. Возможно, какая-то перемена климата загнала немногих из них под землю и на дно океанов, а основная их масса погибла. — Но все же даже несколько таких… — Их должно было остаться очень мало, единицы, — подчеркнул Флайт, — и эти считанные единицы разбросаны к тому же по всей планете. Очень может быть, что есть им надо нечасто. Возьмите, например, боа-констриктора: эта змея ест раз в несколько недель. Возможно, и это существо тоже питается нерегулярно, раз в несколько месяцев, а быть может, даже раз в пару лет. Обмен веществ у него должен быть настолько отличен от нашего, что тут возможно все что угодно. — Не исключено, что в его жизненный цикл входят периоды спячки, продолжающиеся не несколько месяцев, а несколько лет, — предположила Сара. — Ну да, да, — согласно закивал Флайт. — Очень хорошее предположение. Очень хорошее. И оно дополнительно объясняет, почему это существо так редко сталкивается с людьми. Позвольте мне вам напомнить, что человечество занимает менее одного процента поверхности Земли. Даже если вековечному врагу необходимо кормиться достаточно часто, то и тогда он крайне редко сталкивался бы с нами. — А когда это все-таки случается, — вставил Брайс, — то скорее всего такие встречи происходят на море: ведь основную часть поверхности Земли занимает вода. — Совершенно верно, — сказал Флайт. — И если оно пожирало команду какого-нибудь судна, то свидетелей не оставалось, поэтому мы никогда ничего о таких встречах с ним и не знали. История мореплавания полна рассказами об исчезнувших кораблях и о судах-призраках, с которых куда-то пропала команда. — История «Марии Селесты», — сказала Лиза и взглянула на Дженни. Дженни вспомнила, при каких обстоятельствах ее сестра впервые заговорила о «Марии Селесте». Это было в то раннее воскресное утро, когда они пришли в дом ее соседей, Сантини, и обнаружили там накрытый к ужину стол. — Случай с «Марией Селестой» один из наиболее известных, — согласился Флайт. — Но он далеко не уникален. Только с тех пор когда начали регулярно вести судовые журналы, при загадочных обстоятельствах исчезли многие сотни кораблей. Сотни в самом прямом смысле слова. Пропали без следа в мирное время, при хорошей погоде, без всякой видимой причины. Все исчезнувшие таким образом команды, вместе взятые, несомненно должны насчитывать десятки тысяч человек. — То место в Карибском море, где пропадает столько кораблей… — проговорил от двери Тал. — Бермудский треугольник, — быстро вставила Лиза. — Да, — сказал Тал. — Может быть, и там тоже?.. — Работа этого существа? — подхватил Флайт. — А почему нет? Вполне возможно. Вот уже много лет в этом же районе необъяснимо исчезает огромное количество рыбы. Так что гипотеза о вековечном враге вполне прило-жима и к этому случаю. На экранах терминалов вспыхнули слова:— ПОСЫЛАЮ ВАМ ПАУКА.— Что бы это значило? — спросил Флайт. Сара отстучала в ответ: — ПОЯСНИТЕ. Снова зажглись те же самые слова:
— ПОСЫЛАЮ ВАМ ПАУКА.— ПОЯСНИТЕ.
— ПОСМОТРИТЕ ВОКРУГ.Дженни увидела его первой. Он сидел на рабочем столе слева от того терминала, за которым расположилась Сара. Черный паук, величиной немного поменьше тарантула, но намного крупнее обычного паука. Сидел он, свернувшись в комок и поджав под себя длинные лапы. И он менялся. Сначала паук тускловато поблескивал. Потом черный цвет сменился на уже знакомый им серо-красновато-коричневый. Затем паук растаял, а кусок аморфной плоти начал удлиняться. Теперь вместо паука здесь сидел таракан. Отвратительный, безобразный и противоестественно большой таракан. Но вот на его месте возникла маленькая мышка и зашевелила дрожащими усиками. На экранах терминалов высветилась новая надпись:
— ЭТО ОБРАЗЕЦ ТКАНЕЙ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРОСИЛИ, ДОКТОР ФЛАЙТ.— С чего это вдруг оно стало таким покладистым? — удивился Тал. — Потому что оно понимает: что бы мы о нем ни узнали, нам это не поможет, мы ничего не сможем ему сделать, — угрюмо произнес Брайс. — Должен быть какой-то способ, — возразила Лиза. — Нельзя терять надежду. Никак нельзя. Дженни удивленно следила за тем, как теперь уже и мышка растаяла и превратилась в комочек бесформенной плоти. — ДАРУЮ ТЕБЕ ЭТУ ЧАСТЬ СВЯЩЕННОГО ТЕЛА МОЕГО, — сообщило оно, перефразируя слова Священного Писания и явно насмехаясь над ними. Комок тканей то покрывался сверху рябью, то вспучивался, в нем образовывались провалы, из которых в следующий же миг что-то выпирало, а там, где только что торчали выпуклые узлы, внезапно раскрывались отверстия. Комок ни на долю секунды не мог оставаться спокойным — точь-в-точь как та основная масса этой протоплазмы, которая убила Фрэнка Отри и которая тоже то ли не хотела, то ли не могла ни одного мгновения побыть без движения.
— СМОТРИТЕ НА ЧУДО ПЛОТИ МОЕЙ, ИБО ТОЛЬКО ВО МНЕ ВОПЛОЩЕНО БЕССМЕРТИЕ. НЕ В БОГЕ. НЕ В ХРИСТЕ. НО ТОЛЬКО ВО МНЕ.— Теперь я понимаю, что вы имели в виду, когда говорили, что оно находит для себя удовольствие в издевательстве и насмешках, — сказал Флайт. Экран мигнул. На нем появились новые слова:
— МОЖЕТЕ ДОТРОНУТЬСЯ.Экран снова мигнул.
— ПОТРОГАЙТЕ. ОНО НЕ ПРИЧИНИТ ВАМ ВРЕДА.Никто не двинулся с места, не прикоснулся к дрожащему комочку странной, неведомой плоти.
— БЕРИТЕ ПРОБЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИИ. ДЕЛАЙТЕ С НИМ ВСЕ ЧТО ХОТИТЕ.Опять мигнул экран.
— ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ ПОЗНАЛИ МЕНЯ.Снова мигание.
— ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ ПОЗНАЛИ ВСЕ ЧУДЕСА МОИ.— Похоже, у него есть не только разум и самосознание, но и изрядная доля тщеславия, — проговорил Флайт. Наконец Сара Ямагути не без колебаний протянула руку и дотронулась кончиком пальца до маленького комочка протоплазмы. — Он не как мы, совсем не теплый. Холодный. Холодный и немного… скользкий. Маленькая частичка вековечного врага лихорадочно дрожала. Сара быстро отдернула руку: — Надо разделить его на несколько частей. — Да, — поддержала ее Дженни. — Для микроскопического анализа нужны будут один или два тонких среза. — И еще один для электронного микроскопа, — добавила Сара. — И образец покрупнее для анализа минерального и химического состава. Вековечный враг, снова воспользовавшись компьютером, нетерпеливо торопил их:
— ДЕЙСТВУЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ ДЕЙСТВУЙТЕ ДЕЙСТВУЙТЕ ДЕЙСТВУЙТЕ!
Глава 38
ШАНС ПОБОРОТЬСЯ
Через распахнутую дверь клубы тумана заползали в лабораторию. Сара сидела за рабочим столом, склонившись над микроскопом. — Невероятно! — негромко проговорила она. Дженни устроилась за вторым микроскопом, рядом с Сарой, и рассматривала другой срез тканей: — Никогда не встречала подобного строения клеток! — Такое строение просто невозможно… и тем не менее вот оно, перед нами, — сказала Сара. Брайс стоял за спиной у Дженни. Ему страшно хотелось взглянуть в микроскоп. Конечно, он бы мало что понял в увиденном. Он ведать не ведал, чем необычное строение клеток отличается от обычного. Ему просто обязательно надо было посмотреть на то, что лежало сейчас под объективом микроскопа. Доктор Флайт, хотя он и был ученым, в биологии тоже не разбирался, и строение клеток было для него такой же китайской грамотой, как и для Брайса. Но и ему тоже не терпелось взглянуть. Склонившись над Сарой, он выглядывал у нее из-за плеча, дожидаясь, когда представится такая возможность. Тал и Лиза стояли поблизости, тоже горя нетерпением заглянуть в микроскоп и посмотреть на частичку самого Дьявола. Не отрывая глаз от окуляра, Сара проговорила: — В этих тканях у клеток по большей части вообще нет никакой структуры! — На моем образце то же самое, — подтвердила Дженни. — Но ведь у любого органического вещества должна быть какая-то определенная клеточная структура, — сказала Сара. — Она же служит главным признаком органического вещества, любой живой ткани, будь то растение или животное. — Мне это вообще не кажется органическим веществом, — ответила Дженни, — но ведь это же невозможно. — Невозможно, — согласился Брайс. — Мы все видели, что оно живое. Даже слишком живое. — Кое-где видны клетки, — сказала Дженни. — Но очень немного. Просто отдельные клетки, то здесь, то там. — В моем образце такая же картина, — сказала Сара. — И похоже, что каждая клетка живет своей собственной жизнью, совершенно независимо от других. — Они действительно очень далеко отстоят друг от друга, это верно, — согласилась Дженни. — Такое впечатление, будто они свободно плавают в море неструктурированной материи. — У этих клеток очень подвижные и гибкие стенки, — сказала Сара. — И тройное ядро. Странно. Причем оно занимает почти половину внутреннего объема клетки. — А что это значит? — спросил Брайс. — Что из этого следует? — Не знаю, что это может значить и насколько это может оказаться существенно, — проговорила Сара, отстраняясь от микроскопа и нахмурившись. — Я просто не могу пока взять все это в толк. На всех трех экранах компьютера вспыхнул один и тот же вопрос:— ЧТО, НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО ПЛОТЬ САТАНЫ ОКАЖЕТСЯ ТАКОЙ ТАИНСТВЕННОЙ?
Образец плоти, который предоставила в их распоряжение перевоплощающаяся протоплазма, был величиной с мышь. Но пока он далеко не весь был израсходован на различные пробы и анализы. Примерно половина его еще находилась в чашке Петри, стоявшей на рабочем столе. Эта половина непрерывно мелко подрагивала, как желатин. Вот она снова превратилась в паука, и тот беспокойно забегал по чашке. Паука сменил таракан, тоже какое-то время носившийся по чашке взад-вперед. Потом она превратилась в слизняка. В сверчка. В зеленого жука с красным кружевным рисунком на панцире.
Теперь за микроскопами сидели Брайс и доктор Флайт, а Тал и Лиза дожидались своей очереди. Дженни и Сара стояли перед экраном, на который выводилось усиленное компьютером изображение с электронного микроскопа. Сара настроила прибор и направила его на ядро одной из тех клеток, что были негусто разбросаны в тканях. — Есть какие-нибудь идеи? — спросила Дженни. Сара кивнула, не спуская взгляда с экрана. — Пока могу только высказать предположение, не больше. Но мне кажется, что неструктурированная материя, составляющая основную часть этих тканей, в принципе способна принимать любую клеточную структуру, какую угодно. Меняет структуру сама ткань. Она способна превращаться в клетки собаки, кролика, человека… Но когда это существо отдыхает, то у его тканей нет никакой собственной структуры на клеточном уровне. Что же касается тех отдельных клеток, которые там вкраплены… по-видимому, они каким-то образом управляют всей этой аморфной массой тканей. Клетки подают сигнал, химический, или выделяя какие-нибудь ферменты, и этот сигнал командует неструктурированной материей, во что ей следует превращаться. — Значит, эти разбросанные клетки остаются неизменными, какой бы облик ни принимало это существо? — Да. Или по крайней мере мне так кажется. Если бы оно, например, превратилось в собаку и мы бы взяли от этой собаки образец тканей на анализ, то во взятой пробе обнаружили бы в основном клетки собаки. Но по всей пробе были бы разбросаны эти специфические гибкие клетки с тройным ядром, и их присутствие служило бы доказательством, что на самом-то деле это вовсе не собака. — Говорит ли нам все это хоть что-нибудь о том, как мы могли бы спастись? — спросила Дженни. — Нет. Во всяком случае, мне ничего не говорит.
Остававшийся в чашке Петри комочек аморфной плоти снова превратился в паука. Паук растаял, и вместо него появились десятки крошечных муравьев, которые принялись ползать по дну чашки и друг по другу. Но они тут же слились воедино, и на дне чашки оказался червяк. Он поизвивался несколько мгновений и превратился в оченьбольшую мокрицу. Та мгновенно трансформировалась в жука. И похоже, перевоплощения происходили с нарастающей скоростью. — А как же мозг? — подумала вслух Дженни. — Что вы хотите сказать? — спросила Сара. — Ведь у этого существа должен быть какой — то центр, в котором сосредоточен его разум. Его знания, способности, все, что хранится в его памяти, — все это не может находиться в одиночных клетках. — Скорее всего, вы правы, — сказала Сара. — У этого создания где-то должен быть орган, аналогичный человеческому мозгу. Разумеется, не такой же, как наш мозг. А другой, очень и очень от него отличающийся. Но с похожими функциями. По-видимому, этот орган управляет теми разрозненными клетками, которые мы видели, а уж они, в свою очередь, управляют бесформенной протоплазмой. Ощущая растущее возбуждение, Дженни проговорила: — У клеток мозга должна быть как минимум одна общая черта с теми клетками, что разбросаны в неструктурированной материи. Очень важная черта: они тоже сами никогда не должны меняться. — Скорее всего это именно так. Трудно представить себе, чтобы память, разум, логические функции могли сохраняться в тканях, не имеющих относительно жесткой и постоянной клеточной структуры. — Значит, его мозг должен быть уязвим, — сказала Дженни. В глазах Сары слабо забрезжила надежда. — Если его мозг состоит не из аморфных тканей, — проговорила Дженни, — то в случае повреждения он не сможет восстановиться сам. Проткни в нем дырку, и эта дырка так там и останется. И мозг останется поврежденным. Если причинить ему достаточно серьезные повреждения, то мозг не сможет управлять аморфными тканями, из которых состоит тело, и оно тоже погибнет. Сара смотрела на нее широко раскрытыми глазами: — Дженни, по-моему, вы что-то нащупали! — Если бы только нам удалось найти этот мозг и несколько раз в него выстрелить, — сказал Брайс, — мы бы покончили с этой тварью. Но вот как его найти? Мне что-то подсказывает, что его мозг хорошо защищен, находится вне нашей досягаемости, укрыт где-нибудь глубоко под землей. Радостное возбуждение Дженни заметно спало. Брайс прав. Возможно, что моаг действительно является самым слабым местом этого существа, но проверить свои предположения у них нет никакой возможности.
Сара склонилась над листком бумаги, на котором были отпечатаны результаты анализов минерального и химического состава взятой пробы. — Исключительно много всевозможных углеводородов, — произнесла она. — Причем не одни только следы. Очень высокое содержание углеводородов. — Углерод и его соединения — главная составная часть всех живых тканей, — ответила Дженни. — Что в этом такого особенного? — Дело в степени, — ответила Сара. — Здесь такое изобилие углеводородов, в самых разных формах… — Нам это может быть чем-нибудь полезно? — Н-не знаю, — задумчиво сказала Сара, перебирая листки, на которых были отпечатаны результаты других анализов.
Мокрица. Кузнечик. Гусеница. Жук. Муравьи. Гусеница. Мокрица. Паук, уховертка, таракан, многоножка, паук. Жук-червяк-паук-улитка-уховертка. Лиза с изумлением следила за лежавшим в чашке Петри комочком живой материи. Теперь он перевоплощался гораздо быстрее, чем раньше, прячем скорость перевоплощений увеличивалась с каждой минутой. Что-то здесь было не так. — Петролатум, — проговорила Сара. — Это что такое? — спросил Брайс. — Нефтяное желе, — ответила Дженни. — Вы хотите сказать… это нечто вроде вазелина? — произнес Тал. — Но не может же эта аморфная ткань быть чем-то столь простым, как петролатум, — сказал, обращаясь к Саре, Флайт. — Нет, нет, конечно же, нет, — быстро согласилась Сара. — В данном случае это живые ткани. Но есть поразительное сходство в содержании углеводородов. Состав этих тканей, конечно, гораздо более сложный, чем состав петролатума. Здесь больше различных минералов и химических элементов, чем даже в составе тела человека. Целый набор кислот и щелочей… Я пока еще даже отдаленно не понимаю, как оно усваивает пищу, как дышит, как функционирует без системы кровообращения или чего-либо подобного, без какой-нибудь видимой нервной системы, как оно создает новые ткани, если оно лишено клеточной структуры. Но вот эти исключительно высокие показатели содержания углеводородов… Голос ее прервался, глаза уставились куда-то вдаль, лежавших перед нею листков с результатами анализов она уже явно больше не видела. У Тала, наблюдавшего за Сарой со стороны, возникло ощущение, что она внезапно на что-то наткнулась. Охватившее ее возбуждение никак не отразилось ни в выражении ее лица, ни в позе, ни в каких-либо движениях. Но во всем ее облике появилось тем не менее нечто новое, нечто такое, что явно говорило Талу: Сара наткнулась на что-то действительно важное. Тал посмотрел на Брайса. Их взгляды встретились. Он понял, что и Брайс тоже заметил эту перемену в Саре. Тал почти непроизвольно скрестил два пальца.
— Подите-ка сюда, посмотрите, что тут происходит, — настойчиво потребовала Лиза. Ее внимание было устремлено на чашку Петри, в которой лежала не использованная еще часть протоплазмы. — Сюда, скорее! — повторила она, когда на ее призыв поначалу никто не откликнулся. Дженни и все остальные собрались вокруг и тоже уставились на то, что происходило в чашке Петри. Кузнечик-червяк-многоножка-улитка-уховертка. — Оно меняется все быстрее и быстрее, — сказала Лиза. Паук-червяк-многоножка-паук-улитка-паук-червяк-паук-червяк… И еще быстрее. …паукчервякпаукчервякпаукчервякпаук… — Оно успевает только наполовину стать червяком и тут же снова начинает превращаться в паука, — проговорила Лиза. — Как ненормальное. Видите? С ним что-то происходит. — Похоже, что оно потеряло контроль над собой, свихнулось, — сказал Тал. — Какой-то срыв с ним явно произошел, — согласился Флайт. В следующее мгновение вид небольшого комочка аморфных тканей резко изменился. Из него выступила похожая на молочко жидкость, комочек сморщился и превратился в мокрую горку безжизненной грязи. Он уже больше не шевелился. Не принимал все время новые формы. Дженни захотелось прикоснуться к нему, но она не осмелилась. Сара взяла небольшую лабораторную лопаточку и потыкала ею в то, что лежало в чашке. Оно по-прежнему не шевелилось. Сара попробовала помешать его. Из тканей выделилось еще больше жидкости, но никаких других изменений не произошло. — Оно мертво, — негромко произнес Флайт. Брайса все увиденное привело в невероятное возбуждение. — Что было в чашке Петри перед тем, как вы положили туда этот образец? — повернулся он к Саре. — Ничего. — Там наверняка что-то оставалось. — Нет, ничего. — Черт возьми, вспомните! От этого зависит наша жизнь. — В чашке не было ничего. Я взяла ее из стерилизатора. — Может быть, следы какого-то реактива… — Она была идеально чистой. — Погодите, погодите. Ведь с чем-то же эти ткани вступили в реакцию, верно? — проговорил Брайс. — Разве не так? — И то, что было в этой чашке, — добавил Тал, — именно это и может стать нашим оружием. Оно же убило эту часть протоплазмы, сможет убить и все остальное, — сказала Лиза. — Не обязательно, — произнесла Дженни, хотя ей и очень не хотелось лишать младшую сестру надежды. — Это было бы слишком легко и просто, — согласился Флайт, ероша дрожащей рукой свою седую, торчащую дыбом гриву. — Давайте не торопиться с выводами. — Особенно учитывая, что есть и другие возможности, — добавила Дженни. — Это какие? — спросил Брайс. — Ну… мы знаем, что основная масса этого создания способна отделять от себя части в любой форме, по собственному усмотрению. Знаем, что она может управлять поведением этих отделенных частей и может возвращать их назад, как оно вернуло ту часть, которая была послана, чтобы убить Горди. А теперь представьте себе, что отделившаяся от главного тела часть может существовать самостоятельно только в течение какого-то относительно короткого периода времени. Возможно, что для сохранения своей целостности аморфным тканям необходим постоянный приток какого-то определенного фермента, который не вырабатывается в тех разрозненных управляющих клетках, которые разбросаны по всем тканям… — …фермента, который вырабатывается только мозгом самого этого существа, — подхватила Сара мысль Дженни. — Совершенно верно, — подтвердила Дженни. — А значит, любая отдельная часть должна непременно воссоединиться с основным телом, чтобы пополнить свои запасы этого жизненно необходимого ей фермента или чего-то еще — не знаю, что это может быть за вещество. — Это не так уж невероятно, — сказала Сара. — В конце концов, мозг человека тоже вырабатывает различные ферменты и гормоны, без которых наше тело не смогло бы существовать. Так почему бы и мозгу этого существа не выполнять похожие функции? — Отлично, — сказал Брайс. — И что нам дает это открытие? — Если это действительно открытие, а не праздные предположения, — ответила Дженни, — то из него следует, что мы безусловно сможем уничтожить все это существо, если только сумеем разрушить его мозг. Оно не сможет разделиться на несколько частей, скрыться и продолжать жить, воплотившись в себя из этих частей заново. Без вырабатываемых мозгом жизненно необходимых ферментов — или гормонов, или что там ему нужно, — отдельные части рано или поздно распадутся и превратятся в безжизненную грязь, точно так же, как тот комок, что лежал в чашке Петри. Лицо Брайса вытянулось от разочарования. — От чего ушли, к тому же и вернулись. Прежде чем его убить, надо отыскать его мозг, а оно никогда не позволит нам это сделать. — Мы вернулись вовсе не к тому, от чего ушли, — возразила Сара, показывая на лежащую в чашке мертвую слизь. — Вот это позволило нам узнать кое-что важное. — Что именно? — спросил Брайс, и голос его был преисполнен отчаяния. — Что-нибудь полезное, что-то такое, что могло бы нас спасти? Или просто-напросто какую-то пустую, никому не нужную информацию? — Теперь мы знаем, — ответила ему Сара, — что аморфные ткани могут существовать только при условии поддержания очень тонкого химического равновесия, которое может быть нарушено.
Она умолкла, давая возможность каждому самостоятельно постигнуть весь смысл сказанного. Глубокие складки на озабоченном лице Брайса немного разгладились. — Плоть, из которой состоит это существо, может быть повреждена, — продолжила Сара. — Его можно убить. И доказательство тому лежит вот тут, в чашке Петри. — А как же мы теперь сможем воспользоваться этим знанием? — спросил Тал. — Как мы нарушим химическое равновесие? — Вот это мы и должны теперь узнать, — сказала Сара. — А какие-нибудь предварительные идеи у вас есть? — спросила ее Лиза. — Нет, — ответила Сара. — Никаких. Но у Дженни почему-то осталось впечатление, что на этот раз Сара Ямагути говорила неправду.
Вначале Сара хотела рассказать всем о том плане, что родился в ее голове, но в самый последний момент она не смогла заставить себя произнести ни слова. Прежде всего, план этот предлагал им очень тонкую, хрупкую ниточку надежды. Саре же не хотелось обнадежить их всех только для того, чтобы спустя какое-то время лопнула и эта надежда. Но гораздо важнее было иное. Если бы она поведала им всем сейчас свои мысли и если бы потом каким-то чудом ей удалось найти способ убить это чудовище, оно могло услышать о ее планах, узнать о них и сумело бы помешать их осуществлению. Не было нигде такого места, где Сара могла бы обсудить свои идеи с Дженни, Брайсом и остальными, не опасаясь оказаться подслушанной. Какая-то надежда оставалась у них только при условии, что им удастся поддерживать самодовольство и самонадеянность вековечного врага. Но ей обязательно нужно было выиграть время, всего несколько часов, в течение которых она могла бы привести свой план в действие. Перевоплощающейся протоплазме были многие миллионы лет от роду, она была практически бессмертна. Что по сравнению с этим значили для нее несколько часов? Это существо наверняка согласится исполнить ее просьбу. Наверняка. Сара снова уселась за один из терминалов. Глаза у нее болели и слезились от усталости. Ей необходимо было поспать. Всем им надо было поспать. Ночь уже подходила к концу. Сара провела по лицу рукой, словно снимая с себя усталость. Потом она набрала вопрос: — ВЫ ТАМ?
— ДА.— МЫ ПРОВЕЛИ НЕСКОЛЬКО АНАЛИЗОВ, — напечатала Сара. Все остальные сгрудились вокруг нее. — Я ЗНАЮ, — ответило оно. — МЫ ВОСХИЩЕНЫ И ХОТЕЛИ БЫ УЗНАТЬ ПОБОЛЬШЕ.
— ЕСТЕСТВЕННО.— МЫ БЫ ХОТЕЛИ ПРОВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ.
— ЗАЧЕМ?— ЧТОБЫ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О ВАС. — ПОЯСНИТЕ, — насмешливо ответило оно. Сара на минуту задумалась, потом отстучала: — ДОКТОРУ ФЛАЙТУ НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЧТОБЫ ЕГО КНИГА О ВАС ПОЛУЧИЛАСЬ УБЕДИТЕЛЬНЕЕ.
— ОН — МОЙ МАТФЕЙ.— ЕМУ НУЖНО ЗНАТЬ О ВАС БОЛЬШЕ. ТОГДА ОН СМОЖЕТ НАПИСАТЬ ТАКУЮ КНИГУ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВАС ДОСТОЙНА. В ответ прямо по центру экрана мгновенно появились три строчки:
— И ВОСТРУБИЛИ ТРУБЫ… — ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ ВСЕХ КОГДА-ЛИБО РАССКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ… — И ВОСТРУБИЛИ ТРУБЫ…Сара не могла понять, издевается ли оно над ними, или же его тщеславие действительно настолько безмерно, что оно всерьез ставит на одну доску книгу о себе с жизнеописанием Христа. Экран мигнул, на нем возникли новые слова:
— ПРОВОДИТЕ ВАШИ АНАЛИЗЫ. — НАМ ПОНАДОБИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. — ЗАЧЕМ? У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.Руки у Сары стали влажными. Она вытерла их о джинсы и только потом напечатала ответ. — ЭТА ЛАБОРАТОРИЯ ОБОРУДОВАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕБОЛЬШОГО ЧИСЛА АНАЛИЗОВ: ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ВЕЩЕСТВ. МЫ НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО ВСТРЕТИМСЯ С СУЩЕСТВОМ ТАКОЙ ПРИРОДЫ, КАК ВЫ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ НАМ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
— ДЕЙСТВУЙТЕ.— ЕГО ДОСТАВКА СЮДА ЗАЙМЕТ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, — предупредила Сара.
— ДЕЙСТВУЙТЕ.Она смотрела на это слово, высвеченное темно-зелеными буквами по светло-зеленому фону, и не верила своим глазам: она и думать не могла, что выиграть несколько часов времени окажется так просто. Сара снова взялась за клавиатуру компьютера: — НАМ НАДО ВЕРНУТЬСЯ В ГОСТИНИЦУ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТТУДА ТЕЛЕФОНОМ.
— ДЕЙСТВУЙ, СУКА ТЫ ЗАНУДНАЯ, ДЕЙСТВУЙ, ДЕЙСТВУЙ, ДЕЙСТВУЙ, ДЕЙСТВУЙ.Руки у нее снова стали мокрыми. Она опять вытерла их о джинсы и встала из-за терминала. По тому, как смотрели на нее все остальные, Сара поняла: они догадываются, что она что-то скрывает, и понимают, почему она это делает. Но как они догадались? Неужели по ней это было видно? И если смогли понять они, то не догадалось ли обо всем и оно? Сара откашлялась, прочищая горло. — Пошли, — сказала она дрожащим голосом. — Пошли, — дрожащим голосом произнесла Сара Ямагути. — Подождите, — остановил их Тимоти. — Минуту или две, не больше. Пожалуйста. Я хочу кое-что попробовать. Он сел за терминал. Хотя в самолете ему и удалось немного поспать, но все-таки голова работала не так ясно, как ему сейчас хотелось бы. Он потряс головой, несколько раз глубоко вздохнул, потом напечатал: — ЗДЕСЬ ТИМОТИ ФЛАЙТ.
— Я ЗНАЮ.— МЫ ДОЛЖНЫ ПОГОВОРИТЬ.
— ДЕЙСТВУЙТЕ.— ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР?
— ОН УДОБНЕЕ, ЧЕМ НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА.Тимоти не сразу сообразил, что означает последняя фраза. Но когда до него дошел смысл шутки, он чуть было не расхохотался. У этой твари есть чувство юмора; извращенное, но есть. Тимоти напечатал: — ВАШ РОД И ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В МИРЕ.
— ПОЧЕМУ?— ПОТОМУ ЧТО МЫ ВМЕСТЕ ЖИВЕМ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ.
— ФЕРМЕР ТОЖЕ ЖИВЕТ НА СВОЕЙ ФЕРМЕ ВМЕСТЕ СО СКОТОМ. ВЫ — МОЙ СКОТ.— МЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ ВИДЫ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ РАЗУМ.
— ВАМ ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ, БУДТО ВЫ МНОГО ЗНАЕТЕ. А НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫ ЗНАЕТЕ ОЧЕНЬ МАЛО.— МЫ ДОЛЖНЫ СОТРУДНИЧАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ, — упрямо гнул свое Флайт.
— ПО СРАВНЕНИЮ СО МНОЙ ВЫ НИЗШИЕ СУЩЕСТВА.— МЫ МОЖЕМ МНОГОМУ НАУЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА.
— У ТАКИХ, КАК ВЫ, МНЕ НЕЧЕМУ УЧИТЬСЯ.— ВОЗМОЖНО, МЫ УМНЕЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ.
— ВЫ СМЕРТНЫ. РАЗВЕ НЕ ТАК?— ТАК.
— ДЛЯ МЕНЯ ВАШИ ЖИЗНИ ЗНАЧАТ НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ВАС ЖИЗНЬ БАБОЧКИ-ОДНОДНЕВКИ.— ЕСЛИ ВЫ ТАК СЧИТАЕТЕ, ТО ЗАЧЕМ ЖЕ ВАМ НАДО, ЧТОБЫ Я О ВАС НАПИСАЛ?
— МНЕ ПРОСТО ЗАНЯТНО, ЧТО ОДИН ИЗ ВАС СМОГ ВЫЧИСЛИТЬ МОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ. ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ДЕТЕНЫШ ОБЕЗЬЯНЫ, КОТОРЫЙ СУМЕЛ НАУЧИТЬСЯ СЛОЖНОМУ ТРЮКУ.— Я НЕ СЧИТАЮ, ЧТО ПО СРАВНЕНИЮ С ВАМИ МЫ НИЗШИЕ, — храбро настучал Флайт.
— ВЫ СКОТ.— НА МОИ ВЗГЛЯД, ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАС НАПИСАЛИ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ ПЕРЕНЯЛИ ОТ ЛЮДЕЙ ТЩЕСЛАВИЕ.
— ОШИБАЕТЕСЬ.— Я ПОЛАГАЮ, ВЫ НЕ БЫЛИ РАЗУМНЫМ СУЩЕСТВОМ, ПОКА НЕ НАЧАЛИ ПИТАТЬСЯ РАЗУМНЫМИ СУЩЕСТВАМИ — ЛЮДЬМИ.
— РАЗОЧАРОВАН ВАШИМ НЕВЕЖЕСТВОМ.Тимоти продолжал играть на его самолюбии: — Я СЧИТАЮ, ЧТО ВСЕ ВАШИ ЗНАНИЯ, ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В ВАШЕЙ ПАМЯТИ, И ВЕСЬ ВАШ РАЗУМ ВЫ ВЗЯЛИ ОТ ТЕХ ЛЮДЕЙ, ЧТО СТАЛИ ВАШИМИ ЖЕРТВАМИ, ВСЕЙ ВАШЕЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ ВЫ ОБЯЗАНЫ НАМ, ЛЮДЯМ. Оно не ответило. Тимоти стер все, что было на экране, и продолжал печатать дальше: — ПО СВОЕЙ СТРУКТУРЕ ВАШЕ СОЗНАНИЕ ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ — ЭГО, СУПЕРЭГО И ТАК ДАЛЕЕ. — СКОТЫ, — ответило оно. Экран мигнул. — СВИНЬИ, — сообщило оно. Снова мигнул. — ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, — продолжало оно дальше. Еще одно мигание экрана. — ВЫ МНЕ НАДОЕЛИ, — передало оно. И все экраны разом погасли. Тимоти откинулся на спинку кресла и вздохнул. — Отлично исполнено, доктор Флайт, — сказал шериф Хэммонд. — Какая самонадеянность! — проговорил Тимоти. — Такое впору самому Господу Богу, — сказала доктор Пэйдж. — И оно ведь и в самом деле так думает! Будто оно-то и есть Бог. — В каком-то смысле это ведь так и есть, — сказала Лиза. — Да, — согласился Тал Уитмен. — Каковы бы ни были его цели и намерения, оно вполне могло бы быть Богом. Ведь оно же могущественно поистине как Бог, верно? — Или как Дьявол, — ответила Лиза.
Ночь уходила, и мрак на улице стал понемногу отступать. Наверху, выше уличных фонарей, выше тумана, на самом краю неба прорезалась первая светлая предрассветная полоска. Сара была очень обеспокоена тем, что доктор Флайт так отчаянно дразнил это изменчивое существо, бил по его самолюбию. Сара опасалась, что оно могло разозлиться и не сдержать теперь своего слова, тогда ни на какой выигрыш времени рассчитывать им уже не приходилось. От передвижной лаборатории до гостиницы «На горе» было очень близко, но, пока они шли, Сара каждый момент ожидала, что из тумана выскочит какой-нибудь чудовищный фантом и бросится на них. Только бы оно на них не напало! Только не сейчас! Не сейчас, когда наконец-то перед ними забрезжила слабая надежда. Вокруг все еще стоял густой туман, лежали черные тени, и из этой темноты со всех сторон неслись к ним странные животные звуки и зловещие завывания, подобных которым Сара не слышала никогда в жизни. Оно продолжало жить и действовать, принимая все новые и новые формы. Чудовищный вопль, раздавшийся совсем рядом, заставил всех вздрогнуть и мгновенно прижаться друг к другу. Однако никто на них не напал. Не считая подобных звуков, на улице царила полная неподвижность. Не было даже самого слабенького ветерка, и влажная мгла висела в воздухе без движения. Никакие сюрпризы не поджидали их и внутри гостиницы. Сара села за стол, выполнявший роль оперативного центра, и набрала номер базы бригады гражданской обороны в Дагвэе, штат Юта. Дженни, Брайс и все остальные стояли вокруг нее и слушали. Поскольку в Сноуфилде сохранялось критическое положение, то в штаб-квартире на базе в Дагвэе сидел не просто дежурный сержант, как это было по ночам в обычное время. Сегодня у телефона дежурил капитал Дэниел Терш, врач из военно-медицинской службы, специалист по борьбе с эпидемическими заболеваниями и третий человек в служебной иерархии БГО. Он был готов оказать любую необходимую помощь, дать нужный совет, организовать, если понадобится, практическую поддержку. Сара рассказала ему об их самых последних открытиях — о результатах микроскопического анализа тканей перевоплощающейся протоплазмы, о том, что показали химические и минеральные исследования, — и Терш был поражен, хотя в общем-то все это лежало за пределами его непосредственной специализации. — Петролатум? — перебил он в одном месте рассказ Сары, удивленный ее словами. — Аморфные ткани напоминают петролатум только в том смысле, что в них тоже существует очень широкий набор углеводородов, причем их содержание необыкновенно высокое. Но, конечно, аморфные ткани гораздо сложнее, чем петролатум. В своем рассказе Сара особенный упор сделала именно на это открытие: она рассчитывала на то, что побудит таким образом Терша обязательно рассказать об этом другим работающим в Дагвэе ученым и специалистам. Если кто-нибудь из генетиков или биохимиков задумается над ее сообщением, а потом сопоставит его с перечнем тех материалов, которые она собиралась попросить прислать ей, то он почти наверняка поймет, в чем заключается ее план. А если кто-нибудь в отделе бактериологической защиты БГО поймет это, то необходимое оружие ей приготовят еще там, на базе, прежде чем отправлять все, что она затребует, в Сноуфилд. В таком случае ей не придется заниматься долгой и опасной процедурой изготовления этого оружия здесь, под самым носом у следящей за всем, что они делают, протоплазмы. Она не могла прямо сказать Тершу, что ей было нужно, потому что вековечный враг наверняка подслушивал их разговор. На линии все время слышалось странное слабое шипение… Наконец она заговорила о том, что им необходимо дополнительное лабораторное оборудование. — Большую часть того, что нам нужно, можно будет позаимствовать прямо здесь, в Северной Калифорнии, в лабораториях университетов и фирм, — сказала она Тершу. — От вас мне нужно, чтобы вы, во-первых, отдали все необходимые распоряжения о подготовке этого оборудования и о том, чтобы оно было доставлено сюда как можно скорее, а во-вторых, чтобы вы использовали для его доставки возможности военных. — Что вам нужно? — спросил Терш. — Называйте, я запишу, часов через пять-шесть все это будет у вас. Она продиктовала ему целый список фактически не нужного ей оборудования, и в заключение этого перечня добавила: — И еще, пожалуйста, пришлите мне как можно больше того маленького чуда, которое есть у доктора Шакрабарти. Только четвертого поколения. Да, и еще два-три опрыскивателя, работающих от сжатого воздуха. — Кто такой Шакрабарти? — спросил удивленный Терш. — Вы его не знаете. — А маленькое чудо? Это что такое? — Запишите просто: Шакрабарти, четвертое поколение. — Она продиктовала ему имя по буквам. — Понятия не имею, что это такое, — сказал он. «Вот и хорошо, — с облегчением подумала Сара. — Отлично». Если бы Терш знал, что такое «маленькое чудо» доктора Ананды Шакрабартн, он мог выпалить что-то прежде, чем ей удалось бы его остановить. И тогда вековечный враг был бы предупрежден. — Это не из вашей области, — ответила она. — Так что ни имя, ни прибор и не должны быть вам знакомы. — Теперь она говорила быстро, стараясь как можно скорее и естественнее уйти от этой темы. — Мне сейчас некогда все это объяснять, доктор Терш. В ОБЗ поймут, что мне нужно. Пошли дальше. Главное, чтобы все это было доставлено быстрее. Доктор Флайт хочет провести дополнительные исследования этого существа, и ему необходимо в самое ближайшее время получить все, что я перечислила. Вы сказали, подготовка займет часов пять-шесть? — Думаю, в этот срок мы уложимся, — ответил Терш. — Как нам организовать доставку? Сара посмотрела на Брайса. Он, конечно, не захочет снова рисковать своими людьми только для того, чтобы доставить в городок какой-то груз. Поэтому она задала капитану Тершу встречный вопрос: — А можно было бы доставить все это армейским вертолетом? — Конечно. Сделаем. — Только предупредите пилота, чтобы он не пытался здесь сесть. Оно может решить, что мы собираемся удрать. А если оно заподозрит возможность побега, то в тот самый момент, как вертолет коснется земли, оно нападет и убьет и экипаж, и всех нас. Поэтому пусть они просто зависнут и опустят контейнер на тросе. — Возможно, понадобится довольно большой контейнер, — сказал Терш. — Я уверена, что они смогут его как-нибудь опустить, — ответила Сара. — Ну что ж… хорошо. Сейчас я всем этим займусь. Удачи вам. — Спасибо, — ответила Сара. — Удача нам бы не помешала. Она повесила трубку. — Теперь эти пять-шесть часов будут так долго тянуться, — проговорила Дженни. — Да, целую вечность, — согласилась Сара. Всем явно очень хотелось узнать, что же она задумала, но они понимали: обсуждать вслух ее план нельзя. И тем не менее во всеобщем молчании Сара уловила нотку вспыхнувшего оптимизма. «Не слишком-то надейтесь», — обеспокоенно подумала она. Вполне может статься, что ее исходные предположения неверны. А возможно, и план в целом недостаточно продуман. Положа руку на сердце, было гораздо больше оснований ожидать неудачи, а не успеха. Если же план провалится, то перевоплощающаяся протоплазма поймет, что они замышляли, и тогда уничтожит их каким-нибудь особенно жестоким образом. На улице уже светало. Туман потерял свое бледное ночное сияние. Теперь он был белый-белый и весь сверкал и искрился под лучами восходящего утреннего солнца.
Глава 39
ВИДЕНИЕ
Флетчер Кейл проснулся рано. Как раз вовремя для того, чтобы увидеть самое начало рассвета. Лес в основном был все еще погружен в темноту. Слабый дневной свет пробивался вниз лишь отдельными лучами, там, где им удавалось пронзить насквозь толстый зеленый полог, который образовали, плотно переплетаясь друг с другом, густые ветки и кроны гигантских деревьев. Туман еще больше приглушал эти лучи и рассеивал их, и в результате в лесу пока почти ничего не было видно. Всю ночь Кейл провел в «джипе»-фургоне, принадлежавшем Джейку Джонсону. Сейчас он выбрался из машины и стоял рядом с ней, настороженно вслушиваясь в звуки леса: нет ли среди них шума приближающейся погони? Накануне поздно вечером, уже после одиннадцати часов, когда Кейл направлялся в секретное убежище Джейка Джонсона, он свернул с шоссе, ведущего к Маунт-Ларсон, на пожарную просеку, что шла к диким заснеженным северным склонам Снежной горы, — и почти сразу же с ходу вляпался в беду. Не дальше чем футов через двадцать от того места, где он повернул на проселок, фары машины выхватили стоявшие с обеих сторон дороги щиты-предупреждения. Большими красными буквами по белому фону на них было написано: «КАРАНТИН». Кейл ехал слишком быстро и потому не сразу остановился. Он проскочил поворот и очутился прямо перед полицейским заградительным постом: полицейская машина стояла поперек дороги и при виде «джипа» Кейла из нее начали выбираться двое полицейских. Он вспомнил, что слышал по радио что-то насчет того, что вокруг Сноуфилда установлена карантинная зона, но он тогда решил, что эта зона установлена только с противоположной стороны горы. Кейл резко нажал на тормоза, кляня себя за то, что, по своему обыкновению, пропустил тогда это предупреждение мимо ушей. Но ведь полиция наверняка разослала уже сообщение о его побеге, присовокупив к нему и его фотографию. Эти двое, конечно же, опознают его, и меньше чем через час он снова будет в тюрьме. Ему оставалось надеяться только на внезапность. Они явно не ожидают никакого подвоха. Обычный пост при въезде в зону карантина: легкая работенка, на которой всегда размагничиваются. Автомат ХК-91 лежал на сиденье рядом с Кейлом, лишь слегка прикрытый сверху пледом. Кейл схватил его, выскочил из «джипа» и открыл огонь по полицейским. Автомат послушно застучал, и две фигуры, казавшиеся размытыми в опустившемся уже тумане, задергались в коротком, беспорядочном танце смерти. Кейл перекатил тела в канаву, убрал с дороги полицейскую машину и проехал на «джипе» через пост. Потом вернулся и поставил полицейскую машину поперек дороги, так, как она стояла раньше, чтобы те, кто обнаружит тела, не подумали, что убийца полицейских отправился в сторону гор. Он проехал еще три мили в гору по разбитой просеке и там свернул на еще более скверную, поросшую высокой травой и кустарником проселочную дорогу. Эта дорога закончилась примерно через милю. Тут Кейл загнал «джип» в густые заросли и выбрался из машины. Помимо автомата ХК-91 у него была еще с собой целая сумка другого оружия, которое он забрал из дома Джонсона, а по семи застегнутым на молнии карманам охотничьей куртки были рассованы прихваченные там же шестьдесят три тысячи четыреста сорок долларов. Еще он захватил с собой электрический фонарь, больше ему ничего не было нужно: тех припасов, что хранились в известковых пещерах на участке Джонсона, было более чем достаточно. Последнюю четверть мили надо было преодолевать пешком, и он собирался сделать это сразу же, но очень быстро убедился, что в погруженном в туман ночном лесу даже с электрическим фонарем ориентироваться было невозможно. Он бы почти наверняка заблудился. А заблудившись один раз в этой дикой местности, можно начать ходить по кругу и так кружить до бесконечности буквально в нескольких десятках метров от нужного места, даже не подозревая, что спасение совсем рядом. Вот почему, пройдя тогда всего несколько шагов, Кейл вернулся назад к «джипу» и решил дожидаться рассвета в машине. Даже если бы кто-то еще ночью обнаружил трупы убитых, и даже если бы полиция пришла к выводу, что убийца скрылся в горах, они бы все равно не начали облаву, пока не рассветет. А к тому времени, когда полиция сможет утром сюда добраться, он уже давным-давно будет в пещере. Спать он улегся на переднем сиденье «джипа». Конечно, это не первоклассная гостиница, но все же намного удобнее и лучше, чем в тюрьме. И вот теперь он стоял рядом с машиной в первых лучах утреннего солнца и прислушивался, не приближается ли откуда-нибудь облава. Но ничего подозрительного не было слышно. Честно говоря, он и не ожидал что-либо услышать. Сгнить в тюрьме — это не его судьба. Ему на роду написано золотое будущее. В этом он был уверен. Он потянулся, громко зевнул, подошел к толстой сосне и отлил. Полчаса спустя, когда уже достаточно рассвело и в лесу стало светлее, он обнаружил ту тропинку, которую не смог отыскать накануне ночью. Увидел он и еще кое-что, чего тоже не заметил с вечера, в темноте: кусты вокруг были очень сильно помяты и исхожены. Кто-то здесь бродил совсем недавно, и, по-видимому, не один человек. Он осторожно двинулся по тропинке вперед, держа в правой руке ХК-91, готовый всадить очередь в любого, кто попытался бы напасть на него. Меньше чем через полчаса он вышел из леса на небольшую поляну, окружавшую бревенчатый дом, — и понял, почему те кусты и тропинка, по которой он поднимался, были так истоптаны. Около дома, выстроившись в ряд, стояли мотоциклы. Восемь больших «харлеев», и на каждом из них ярко выделялась надпись: «Хромированные дьяволы». Ублюдки этого Джина Терра. Но не все. Судя по количеству мотоциклов, здесь сейчас было примерно только полбанды. Кейл присел на корточки возле выходящего на поверхность известняка и принялся изучающе разглядывать дом, еще плохо видный из-за тумана. Снаружи вокруг дома никого не было. Он порылся в сумке, стараясь не шуметь, извлек оттуда свежий магазин и вставил его в автомат. Но каким образом Терр и его подонки оказались здесь? По горам на мотоцикле — это тяжелейший и страшно опасный кросс, способный вымотать все нервы. Хотя, с другой стороны, эти чокнутые только опасностью и живут. Но что, черт возьми, они здесь делают? Как они отыскали этот дом и зачем сюда забрались? Кейл внимательно прислушивался, стараясь по донесшемуся голосу или другим каким-нибудь звукам определить, где находятся сейчас мотоциклисты и чем они занимаются. И вдруг его поразило, что вокруг нет вообще никаких внуков. Ни пения птиц. Ни шуршания насекомых. Ни голосов животных. Абсолютно ничего. Эта тишина была странной и страшной. Вдруг позади себя, в кустах, он услышал какой-то треск и хруст. Негромкий. Однако в окружавшей его противоестественной тишине звук этот был подобен грохоту орудия. Перед тем как раздался этот треск, Кейл стоял на коленях. С кошачьей быстротой он упал на бок, перекатился на спину и выставил перед собой автомат. Он был готов открыть огонь. Но к тому, что открылось его глазам, он оказался совершенно не готов. Футах в двадцати пяти позади него, с широкой улыбкой на лице, из-за деревьев и из тумана прямо на него шел Джейк Джонсон. Голый. В чем мама родила. Снова послышался шорох и треск. На этот раз слева от Джонсона, где-то за деревьями. Кейл краем глаза уловил там какое-то движение и повернул голову в ту сторону, одновременно направив туда же и автомат. Там из леса, из дымки тумана выходил еще кто-то, и высокая трава била его по голым ногам. Этот человек был тоже совершенно обнажен. И тоже широко улыбался. Но это было еще не самое худшее. Хуже всего то, что и второй человек тоже оказался Джейком Джонсоном. Удивленный и сбитый с толку, Кейл встревоженно переводил взгляд с одного на другого. Оба Джонсона были идеально похожи друг на друга, как братья-близнецы. Но Джейк ведь был единственным ребенком в их семье, разве не так? Кейлу никогда не доводилось слышать о том, чтобы у Джонсона был брат-близнец. Откуда-то из тени, из-под разлапистых веток огромной ели возникла третья фигура. И это тоже был Джейк Джонсон. У Кейла перехватило дыхание. Если еще и могла существовать какая-то ничтожная вероятность того, что Джонсон был одним из братьев-двойняшек, то уж тройняшек в той семье быть никак не могло. Что-то во всем происходившем было не так, страшно, жутко не так. Кейл вдруг по-настоящему испугался. Даже не этих невероятных тройняшек. Все, что его окружало, вдруг стало казаться Кейлу каким-то зловещим: и лес, и туман, и размытые очертания каменистого склона горы… Три близнеца медленно поднимались по склону, на котором, распластавшись на спине, лежал Кейл. Они сходились к нему одновременно с разных сторон. У всех троих были странные глаза и жестокие рты. Кейл вскочил на ноги, сердце у него колотилось так, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди: — Стоять! Стоять всем на месте! Однако они не остановились, даже несмотря на то, что Кейл направил на них автомат, переводя его с одной фигуры на другую. — Кто вы такие? Что вам нужно? Что происходит? — требовательно окрикнул их Кейл. Они не ответили. Только продолжали приближаться. Как зомби. Он схватил сумку, в которой лежало оружие, и торопливо, неуклюже стал пятиться от этого кошмарного трио. Но нет. Теперь это было уже не трио. Квартет. Ниже по склону откуда-то из-за деревьев появился четвертый Джейк Джонсон, такой же абсолютно голый, как и трое первых. Теперь страх Кейла в любой миг готов был обернуться паникой. Вся четверка сходилась по направлению к Кейлу, почти не издавая при этом ни звука, одни только листья шуршали у них под ногами, больше ничего не было слышно. Они не обращали никакого внимания ни на острые камни, ни на сухие ветки и стебли, которые, несомненно, должны были ранить их ноги. Один из них принялся вдруг жадно облизываться. Все остальные тут же стали делать то же самое. Кейл внезапно ощутил прошедшую по всему телу волну ледяного ужаса и подумал, не сходит ли он с ума. Но мысль об этом мелькнула у него и тут же исчезла. Не ведавший, что такое сомнения, Кейл не умел подолгу удерживать в голове подобные мысли. Он бросил сумку, схватился за автомат обеими руками и открыл огонь, поводя стволом вправо-влево. Пули попадали в цель. Он это видел. Видел, как пули разрывали тела этих четырех фигур, как там, где они ударяли, мгновенно раскрывались большие рваные раны. Но крови не было. И раны исчезали почти с такой же быстротой, как появлялись: они затягивались без следа за считанные мгновения. Четыре человеческие фигуры приближались к нему. Но это были не люди. Нет. Что-то другое. Галлюцинация? Много лет назад, еще в последних классах школы, Кейл много баловался наркотиками. Теперь он вспомнил, что видения и галлюцинации могут преследовать человека спустя многие месяцы и даже годы после того, как он перестал употреблять ЛСД. До сих пор никакие видения его самого не преследовали, но ему приходилось слышать, что подобное бывает. Может быть, сейчас именно это и происходило? Галлюцинация? Быть может. А с другой стороны… тела всех четверых блестели, как будто утренний туман конденсировался у них на голой коже. Когда у тебя галлюцинации, такого рода подробностей обычно не различаешь. И вообще все, что тут сейчас происходило, слишком сильно отличалось от всего, что доводилось ему испытывать под влиянием наркотиков. Продолжая по-прежнему широко улыбаться, один из близнецов-призраков поднял руку и вытянул ее, показывая в сторону Кейла. Это было невероятно, но с протянутой руки начала вдруг отслаиваться, отваливаться плоть: с пальцев, с ладони. При этом она не падала вниз, а бескровно перетекала в руку, наподобие того, как оплавляется от пламени и течет воск. И через какое-то время запястье стало заметно толще, а от кисти остались только кости, чистые белые кости. Один из этих костлявых пальцев указывал прямо на Кейла. Указывал гневно, обвиняюще и осуждающе. Голова у Кейла пошла кругом. Три других близнеца претерпели еще более кошмарные изменения. У одного исчезли с половины лица все мягкие ткани и теперь были видны лицевая кость и часть челюсти с рядом зубов, а глаз, лишившись век и всего мягкого своего обрамления, влажно сверкал из известково-белой глазницы. У другого исчезла часть наружных тканей торса и в образовавшееся «окно» были хорошо видны ребра и пульсирующие внутри темные и влажные органы. У третьего одна нога была нормальная, а от другой оставались только кости и сухожилия. Они подходили к Кейлу все ближе и ближе, и один из них произнес: «Детоубийца!» Кейл вскрикнул, выронил автомат и бросился бежать. Но почти сразу же остановился: он увидел, как из-за дома появились и направились к нему еще два двойника Джонсона. Бежать было некуда. Разве что только прямо к известняковому выходу камней, что находился на склоне немного выше дома. Сопя и тяжело дыша, Кейл устремился прямо туда, добежал до кустов и, подвывая, как собака, рванулся через них напролом ко входу в пещеру, оглянулся на ходу, увидел, что вся шестерка продолжает его преследовать, и устремился прямо в пещеру, в темноту, жалея, что не успел прихватить с собой фонарь. Он нащупал рукой стену и, все время касаясь ее, двинулся на ощупь вглубь, стараясь припомнить схему пещеры. Он помнил, что вначале тут должен быть более или менее длинный туннель, заканчивающийся несколькими ответвлениями, — и тут он внезапно осознал, что это может оказаться вовсе не спасительным укрытием, а, напротив, ловушкой. Да, теперь уже он был в этом твердо уверен — ловушкой. Они с самого начала и хотели загнать его сюда. Он оглянулся, увидел сзади, у входа в пещеру, две полуразложившиеся фигуры, завыл и устремился вперед, дальше вперед, в кромешную черноту, потому что больше бежать было просто некуда, даже если впереди его и ждала западня. Обдирая руку о корявую поверхность камня, он снова рванулся вперед, оступился, закрутился на месте, ловя равновесие, добрался все-таки до последней, изломанной части туннеля, а потом и до двери, вскочил внутрь и с грохотом захлопнул дверь за собой, понимая, что она все равно не остановит преследователей, и только тут увидел в глубине пещеры свет и пошел на него мимо сложенных вдоль стен припасов, двигаясь, словно в тумане, от овладевшего им ужаса. Свет исходил от переносной газовой лампы. Кейл вошел в третью камеру пещеры. Здесь, в бледно-серебристом свечении, он увидел нечто такое, отчего застыл на месте как вкопанный. Оно поднялось в эту часть пещеры из подземной реки, проникнув через щели и трещины в полу и через то отверстие, возле которого Джейк Джонсон установил когда-то ручной насос для воды. Оно шевелилось, извивалось, корчилось. Оно двигалось, пульсировало, переливалось. Темная бесформенная плоть с кроваво-красными вкраплениями. Вот из нее стали вырастать крылья. Но тут же растаяли и исчезли. В воздухе чувствовался запах серы, не сильный, но неприятный. Вдруг по всей поверхности этой плоти, поднимавшейся в высоту больше чем на семь футов, раскрылись глаза. И все они уставились на Кейла. Он отпрянул и прижался спиной к стене, вжимаясь в камень так, словно это было последнее, что еще соединяло его с миром реальности, последняя возможность ухватиться за что-то, перед тем как окончательно провалиться в мир безумия. Некоторые из этих глаз были человеческими. Некоторые — чьими-то еще. Все они уставились на него, посмотрели — потом закрылись и исчезли. Там, где только что ничего не было, вдруг стали раскрываться рты. Появились зубы. Клыки. Из-за черных губ высунулись раздвоенные языки. Из других ртов появились похожие на червей щупальца, покачались в разные стороны в воздухе и пропали,вобравшись назад. Спустя какое-то время и рты — как до них крылья и глаза — тоже растворились в бесформенной плоти. На полу сидел какой-то человек. Он сидел в нескольких футах от той пульсирующей массы, что проникла в пещеру снизу, из подземной реки, — сидел так, что свет от лампы выхватывал из полумрака только его силуэт, а лицо оставалось в тени. Увидев, что Кейл наконец заметил его, человек слегка наклонился вперед, так, чтобы свет попал ему на лицо. Он был не меньше шести футов четырех дюймов ростом, а возможно, и немного повыше, с длинными вьющимися волосами и бородой. Вокруг головы у него был повязан поясок. В одном ухе болталась золотая серьга. Он улыбнулся очень странной улыбкой, подобной улыбки Кейлу никогда еще не доводилось видеть, и слегка приподнял руку в приветственном жесте, на ладони у него оказалась татуировка: глаз, раскрашенный в красный и желтый цвета. Это был Джин Терр.Глава 40
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА
Армейский вертолет появился через три с половиной часа после того, как состоялся разговор Сары с Дэниелем Тершем. Вертолет прилетел на два часа раньше, чем ей было обещано. Значит, отправляли его не из Дагвэя, а с одной из баз в самой Калифорнии, и те коллеги Сары из ОБЗ, которые снаряжали вертолет, по-видимому, вычислили суть ее замысла. Они несомненно поняли, что львиная доля заказанного Сарой оборудования на самом-то деле была ей не нужна, и потому собрали и погрузили в вертолет только то, что ей было действительно необходимо для военных действий против вековечного врага. В противном случае им бы не удалось уложиться в столь короткий срок. Господи, только бы они верно все поняли, подумала Сара. Только бы прислали то, что надо. То, что действительно надо. Это был большой, в пятнах маскировочной окраски, вертолет с двумя огромными винтами. Он завис в шестидесяти-семидесяти футах над Скайлайн-роуд, и его быстро вращающиеся лопасти гнали мощным потоком утренний воздух к земле, разгоняя последние остатки ночного тумана. Шум его двигателей грохотом разносился по всему городку. На одном из бортов вертолета сдвинулась с места и скользнула вперед дверь, и из грузового отсека высунулся человек, разглядывавший что-то на земле. Он даже не пытался окликнуть стоявших внизу, потому что из-за рева моторов и свиста винтов расслышать его все равно было бы невозможно. Вместо этого он что-то показывал рукой, но смысла его сигналов те, кто находился внизу, понять никак не могли. Наконец Сара сообразила: экипаж просит показать куда сгружать доставленное. Жестами она подозвала к себе всех, кто был на земле, и расставила их широким кругом посередине улицы, ярдах в двух друг от друга. Получился круг диаметром футов двенадцать-пятнадцать. Из вертолета вытолкнули обернутый в брезент тюк объемом немного больше взрослого человека. Тюк был закреплен на тросе, шедшем от электрической лебедки. Вначале его опускали медленно, потом еще медленнее и еще, и в конце концов тюк опустился на мостовую в самом центре круга настолько мягко, как будто сгружали не оборудование, а свежие яйца. Не успел еще тюк коснуться мостовой, как Брайс первым бросился к нему. Он нашел крепежный замок и отсоединил трос. В этот момент к тюку подошли Сара и все остальные. Вертолет вобрал в себя трос, а потом двинулся вниз, в сторону долины, постепенно набирая высоту и уходя все дальше и дальше из опасной зоны. Сара присела возле тюка на корточки к принялась развязывать нейлоновый канат, пропущенный через специальные отверстия в брезенте. Она действовала с лихорадочной быстротой, и уже несколько мгновений спустя тюк был распакован. Внутри оказались две голубые канистры, на которых трафаретом были нанесены какие-то слова и цифры. Увидев их, Сара с облегчением вздохнула. Ее поняли правильно. Здесь же лежали еще и три аэрозольных баллона, по размеру и внешнему виду похожие на те опрыскиватели, которыми пользуются для уничтожения вредных насекомых и сорняков в садах или на лужайках перед домом, но, в отличие от опрыскивателей, эти баллоны приводились в действие не ручным насосом, а сжатым воздухом. Каждый из них был снабжен ремнями, чтобы баллон можно было носить за спиной как ранец. Гибкий резиновый шланг, четырехфутовый металлический удлинитель и рассчитанный на высокое давление наконечник позволяли посылать струю на двенадцать-четырнадцать футов, не слишком приближаясь к тому, что подвергалось опрыскиванию. Сара подняла один из этих баллонов. Он оказался тяжелым, уже заполненным той же жидкостью, что находилась и в двух голубых запасных канистрах. Вертолет растаял в небе, скрывшись в западном направлении, и тут Лиза спросила: — Сара, неужели вот это — все, о чем вы просили? — Здесь все, что нам нужно, — уклончиво ответила Сара. Она нервно огляделась по сторонам — не выскакивает ли откуда-нибудь на них вековечный враг, — но того пока не было видно. — Брайс, Тал, — сказала она, — если бы вы взяли два этих баллона… Шериф и его помощник подняли каждый по баллону, надели на себя ремни, затянули нагрудные лямки, подвигали плечами, чтобы баллоны удобнее сидели на спине. И тот и другой без лишних пояснений сразу же поняли, что в баллонах какое-то оружие, которое, быть может, позволит им покончить с чудовищем. Сара сознавала, что оба они должны были сгорать от любопытства, и на нее произвело большое впечатление, что ни тот ни другой не задавали никаких вопросов. Третий баллон она собиралась взять сама, но он оказался гораздо тяжелее, чем ей сперва показалось. Поднять и протащить его она бы еще смогла, но быстро двигаться с ним за спиной, поворачиваться, приседать, уклоняться она явно была бы не в состоянии. Между тем от ловкости и быстроты действий будет сейчас зависеть, останутся они в живых или нет. Надо было отдать кому-то третий баллон, но кому? Не Лизе: она была не крупнее самой Сары и не сильнее ее. Не Флайту: еще накануне вечером он жаловался на свой артрит и вообще производил впечатление человека тщедушного. Оставалась только Дженни. Она была всего на три-четыре дюйма выше Сары и фунтов на пятнадцать-двадцать тяжелее ее, но физически в отличной форме. Она-то уж, наверное, справится с этим распылителем. Флайт вначале было запротестовал, но, попытавшись поднять баллон, сдался. — Наверное, я старее, чем кажусь себе, — грустно проговорил он. Дженни и сама придерживалась мнения, что третий баллон надо взять ей. Сара помогла ей надеть и подогнать ремни, и теперь они были готовы к бою. Но пока вековечного врага не было и следа. Сара отерла пот со лба. — Значит, тая: как только оно покажется, начинайте его опрыскивать. Тут же, не теряя ни секунды. Поливайте его как можно больше, пятьтесь от него, если будет такая возможность, старайтесь, чтобы оно посильнее высунулось наружу из укрытия. И непрерывно поливайте, поливайте и поливайте. — А это что у нас такое — кислота? — спросил Брайс. — Нет, не кислота, — ответила Сара. — Хотя действие ее будет примерно таким же, как у кислоты. Если, конечно, эта штука вообще на него подействует. — А если не кислота, то что же это такое? — спросил Тал. — Особый род микроорганизма. Очень специфический, — ответила Сара. — Микробы? — спросила Дженни, и глаза ее расширились от удивления. — Да. В жидкой питательной среде, в которой они могут расти и размножаться. — То есть мы эту протоплазму чем-то заразим? — нахмурившись, поинтересовалась Лиза. — Искренне надеюсь, что да, — ответила Сара. Вокруг не было никаких признаков движения. Совершенно никаких. И тем не менее в воздухе как будто что-то присутствовало. Вполне вероятно, что оно их подслушивало. У него же слух, как у кошки. Или как у лисицы. А скорее всего, у него свой собственный, очень чувствительный и ни на что не похожий слух. — Если нам повезет, то мы его заразим, и заразим очень здорово, — проговорила Сара. — Это, похоже, единственный способ убить его. Теперь уже их собственные жизни были поставлены на карту: оно узнало, что его перехитрили. Флайт с сомнением покачал головой: — Но вековечный враг настолько не похож на нас, он так отличается от человека и животных… те болезни, которые опасны нам, могут оказаться для него абсолютно безвредными. — Верно, — согласилась Сара. — Но этот микроб — не обычная болезнь. Он вообще не вызывает никакой болезни. Спускающийся ярусами по склону горы Сноуфилд был неподвижен, и тих, словно изображение на открытке. Оглядевшись по сторонам, нет ли какого-либо движения между домами и в самих домах, Сара рассказала им об Ананде Шакрабарти и сделанном им открытии. В 1972 году корпорация «Дженерал электрик», в которой тогда работал Шакрабарти, обратилась от его имени за получением патента на первый в мире искусственно созданный микроб. Используя очень сложную технологию клеточного синтеза, Шакрабарти создал микроорганизм, который был способен питаться углеводородами, содержащимися в сырой нефти, усваивать эти углеводородные соединения и тем самым видоизменять их. У микроба Шакрабарти было по меньшей мере одно очевидное качество, делающее его пригодным к промышленному производству и использованию: с его помощью можно было ликвидировать разливы нефти в море. Эта бактерия в самом прямом смысле слова поедала разлившуюся нефть, делая море снова безопасным для живущих в нем растений и организмов. После целого ряда ожесточенных юридических нападок, последовавших с самых разных сторон, «Дженерал электрик» добилась все-таки права запатентовать открытие Шакрабарти. В июне 1980 года Верховный суд вынес принципиальной важности решение, постановив, что созданный Шакрабарти микроб — «не творение природы, но результат усилий ученого и потому может быть запатентован». — Ну да, конечно, — вспомнила Дженни. — Я тогда читала об этом. В то время об этой истории писали все газеты: «Человек соперничает с Богом» и тому подобное. — Поначалу, — продолжала Сара, — «Дженерал электрик» не собиралась запускать микроб в производство. Он был очень неустойчив и выживал только в тщательно контролируемых лабораторных условиях. Они обратились за патентом просто для того, чтобы выяснить, какие юридические проблемы могут возникнуть в подобном случае, и разрешить эти проблемы прежде, чем эксперименты в области генной инженерии приведут к созданию новых микробов, более устойчивых и с более широким набором полезных качеств. Но после того как Верховный суд вынес такое решение, ученые в течение нескольких лет усовершенствовали микроб и создали такую его разновидность, которая может существовать вне лаборатории от двенадцати до восемнадцати часов. Этот микроб уже продается на рынке под названием «Биосан-4» и очень успешно используется во всем мире для ликвидации разливов нефти. — И у вас в баллонах этот препарат? — спросил Брайс. — Да. «Биосан-4». В виде раствора, пригодного к распылению. Городок был похож на кладбище и навевал кладбищенское настроение. Солнце светило вовсю с лазурного неба, но воздух был еще прохладный. Несмотря на стоявшую вокруг противоестественную тишину, внутренний голос говорил Саре, что оно приближается, что оно подслушало их разговоры и сейчас находится где-то уже очень близко, совсем рядом. Все остальные испытывали то же самое и с тревогой оглядывались вокруг. — Помните, что мы обнаружила, когда исследовали ткани этого существа? — спросила Сара. — Высокое содержание углеводородов, — сказала Дженни. — Да. Но не только это, не только углеводороды. А еще и высокое содержание вообще всяких углеродистых соединений. Самых разных. — Вы еще нам тогда сказали, что оно совсем как петролатум, — вспомнил Тал. — Не как петролатум. Но в некоторых отношениях похоже на него, — ответила Сара. — Это живая ткань. Очень сложная и совсем не похожая на наши ткани, но живая. И с таким необычайно высоким содержанием углерода… В общем, я хочу сказать, что ткани этого существа очень смахивают на дальних родственников петролатума, только они не просто органические, но еще и способные к обмену веществ. Вот поэтому я и надеюсь, что микроб Шакрабарти сможет… Что-то приближается к ним. — И вы надеетесь, что этот раствор съест протоплазму так же, как он съедает нефтяные пятна? — спросила Дженни. Что-то… что-то… — Да, — нервно ответила Сара. — Я надеюсь, что микроб набросится на углерод и этим разрушит ткани. Или, по крайней мере, нарушит их очень тонкое химическое равновесие в достаточной степени, чтобы… Все ближе, ближе… — …да, чтобы дестабилизировать и весь организм в целом, — закончила Сара, предчувствуя, что приближается нечто ужасное, неизбежное, возможно, фатальное. — И что, вот это и есть тот наилучший шанс, который у нас имеется? Вы считаете, что это действительно так? — спросил Флайт. — Я думаю, да. «Где оно? Откуда оно приближается?» — думала Сара, оглядывая опустевшие дома, пустынную улицу, неподвижные деревья. — Мне это представляется почти невероятным, — с сомнением в голосе проговорил Флайт. — Так оно и есть, — согласилась Сара. — Шанс на успех действительно очень невелик, но другого у нас попросту нет. Раздался какой-то шум. Потом послышался какой-то резкий, дрожащий, свистящий звук, от которого волосы становились дыбом. Все застыли на месте, ожидая, что будет дальше. Но городок опять погрузился в пелену тишины. Яркие лучи утреннего солнца отражались от окон, сверкали, преломляясь, в фигурных стеклах уличных фонарей. Остатки тумана сконденсировались на черных шиферных крышах домов, образовав на них влажную пленку, и поэтому казалось, что крыши за ночь кто-то отполировал до блеска. Ничто не двигалось. Ничего не происходило. И шум не повторялся. — Этот «Биосан»… — По лицу Брайса Хэммонда пробежала тень сомнений. — Надеюсь, для нас самих он безопасен? — Абсолютно безвреден, — заверила его Сара. И тут шум повторился. Раздался короткий, словно взрыв, треск. И снова наступила тишина. — Сейчас что-то будет, — негромко проговорила Лиза. «Да поможет нам Бог», — подумала Сара.— Сейчас что-то будет, — негромко проговорила Лиза, и у Брайса в тот же миг возникло точно такое же предчувствие. Его охватило вдруг ощущение нарастающего, обвального ужаса. Воздух стал холоднее и гуще, а в тишине появилось нечто хищное. Действительно ли все это было именно так? Или ему только казалось? Он не знал. Он был твердо уверен только в одном: он в самом деле чувствовал нечто необычное. Шум опять повторился, но теперь это был не короткий свист, а довольно продолжительный визг. Брайс поморщился. Звук был пронзительный и очень сильный. Какой-то жужжащий и одновременно завывающий. Как будто прямо у него над ухом выла мощная дрель. Но было совершенно ясно, что этот звук вызван далеко не столь заурядной и безобидной причиной. Похоже на насекомых. Звук был какой-то холодный и металлический, именно это и побудило его вспомнить о насекомых. Пчелы. Точно. Усиленное во много раз жужжание пчелиного роя — вот на что был похож этот звук. — Все, у кого нет опрыскивателей, становитесь в середину, между нами, — проговорил Брайс. — Да, — поддержал его Тал. — А мы встанем вокруг. Какая-никакая, а все-таки защита. «Чертовски слабая, если этот «Биосан» не подействует», — подумал Брайс. Странный звук становился все громче. Сара, Лиза и доктор Флайт встали, прижавшись друг к другу, а Брайс, Дженни и Тал образовали вокруг них кольцо, встав лицами наружу. Но вот в небе, около булочной, появилось нечто жуткое. Скользнув над крышами домов, оно на несколько мгновений зависло над Скайлайн-роуд. Это была оса. Но размером с немецкую овчарку. Этот фантом даже отдаленно не имел ничего общего с любым из насекомых, которые существовали реально на протяжении тех многих миллионов лет, что прожил вековечный враг. Подобная оса, несомненно, могла быть только чудовищным порождением очень злобного и извращенного воображения. Шестифутовые полупрозрачные крылья свирепо колотили по воздуху, переливаясь всеми цветами радуги. На узкой, заостренной противной голове косо торчали черные ячеистые глаза. Каждая из четырех лап заканчивалась клешнями. Белое, покрытое волосами тело, составленное из нескольких сегментов, сзади оканчивалось острым, похожим на гигантскую иглу жалом длиной в добрый фут. Брайс ощутил, как внутри него словно растет глыба льда. Зависнув на миг, оса бросилась на них. Когда оса бросилась на них, Дженни закричала от испуга, но не тронулась с места. Направив прямо на осу наконечник опрыскивателя, она нажала на рычажок, приводивший его в действие. Острая молочного цвета струя вырвалась из шланга примерно на шесть футов. Оса была сейчас футах в двадцати и быстро приближалась. Дженни нажала на рычаг до отказа. Струя стала еще тоньше и сильнее, образовав дугу длиной футов в пятнадцать-шестнадцать. Брайс тоже выпустил струю из своего распылителя. Две струи «Биосана» скрестились в воздухе, выровнялись и двинулись вместе по направлению к одной и той же цели. Оса оказалась как раз в их перекрестии. Выпущенные под большим давлением струи ударили по ней, сильно обдав членистое тело и крылья, которые сразу же перестали переливаться всеми цветами. Насекомое мгновенно остановилось в воздухе, зависло, потом нырнуло, словно провалившись, вниз — как будто потеряло способность держаться на нужной высоте. Снова зависло. Оно теперь уже не нападало, а только злобно смотрело на них налитыми ненавистью глазами. Дженни ощутила прилив облегчения и надежды. — Действует! — закричала Лиза. И тут оса снова бросилась на них.
Она бросилась на них в тот самый миг, когда Тал уже было подумал, что на этот раз они спасены. Бросилась прямо через облако «Биосана-4». Теперь она летела медленнее, чем раньше, но все-таки летела вперед. — Ложись! — закричал Брайс. Все быстро присели, и оса пролетела прямо над ними, роняя с лап и с кончика жала капли молочно-белой жидкости. Тал вскочил, собираясь пустить ей вслед длинную струю, пока оса была еще в пределах досягаемости. Она резко повернула назад, нацелившись на него, но, прежде чем он успел выстрелить, оса как-то неуклюже замахала крыльями, повисла в воздухе, а потом рухнула на мостовую. Она хлопала крыльями и сердито жужжала. Пыталась подняться. Но у нее ничего не получалось, а потом она изменилась. Она изменилась. Вместе с другими Тимоти Флайт подошел к осе поближе и следил за тем, как она тает, превращаясь в бесформенную массу протоплазмы. Вот начали формироваться задние лапы собаки. И морда. Судя по этой морде, собака должна была стать доберманом. Начал уже приоткрываться один глаз. Но трансформация так и не завершилась, и очертания собаки исчезли. Тимоти никогда еще не приходилось видеть, чтобы аморфные ткани так дрожали и пульсировали. — Оно умирает, — проговорила Лиза. Тимоти пораженно, не отрывая взгляда, следил за конвульсиями этой странной плоти. Теперь это прежде бессмертное создание познало смысл и ужас смерти. По всей бесформенной массе пошли похожие на гнойнички ранки, из которых начала сочиться жидкость желтоватого цвета. Потом ее охватили сильнейшие судороги. Теперь раны открывались в невероятном количестве: всевозможные язвы, разрывы, лопающиеся пузыри — маленькие, большие, огромные — возникали все чаще и чаще но всей пульсирующей еще поверхности. И наконец весь фантом превратился в безжизненную лужу вонючей жидкой грязи — точь-в-точь как тот маленький комочек тканей в чашке Петри. — О Господи! Получилось! — воскликнул Тимоти, поворачиваясь к Саре. Щупальца. Целых три. Прямо позади нее. Они выросли из-под канализационной решетки, что была футах в пятнадцати позади Сары. Каждое толщиной в руку Тимоти. Они скользили по мостовой прямо к Саре, и их кончики были уже не дальше чем в ярде от нее. Тимоти закричал, но его предупреждение опоздало.
Флайт закричал, и Дженни резко обернулась. Оно было уже среди них. Три щупальца с поразительной быстротой взвились с мостовой, зловеще и жутко рванулись вперед и опустились на Сару. В мгновение ока одно из них охватило Сару за ноги, другое захлестнулось вокруг ее груди, а третье обвило за шею. «О Боже, как они стремительны, мы же не поспеем за ними!» — подумала Дженни. Она с ходу направила на них шланг опрыскивателя, проклиная все и вся, нажала на рычаг и принялась безостановочно поливать «Биосаном-4» и Сару, и щупальца. К ней присоединились со своими распылителями Брайс и Тал. Но все они, все трое среагировали слишком поздно и слишком медленно. Глаза Сары широко распахнулись, рот открылся в беззвучном кряже. Ее подняло в воздух и… «Нет! Нет!» — умоляла про себя Дженни. …щупальца принялись раскачивать ее взад-вперед, словно это была кукла… Нет! …а потом голова ее отделилась от тела и упала на мостовую с сухим отвратительным стуком. Дженни инстинктивно отступила назад, ее чуть не стошнило. Щупальца вытянулись вверх уже футов на двенадцать. Они извивались, раскачивались во все стороны, но вот на них появилась пена и они тоже покрылись ранами и разрывами — это бактерии разрушали те внутренние связи, что удерживали целостность аморфной ткани. Как и надеялась Сара, «Биосан-4» действовал на перевоплощающуюся протоплазму почти так же, как серная кислота действует на ткани человека. Мимо Дженни, прямо по направлению к трем щупальцам, устремился Тал, и она попыталась криком остановить его. Господи, что он еще задумал?
Тал промчался прямо по извивающимся теням, которые отбрасывали на землю движущиеся щупальца, моля Бога, чтобы ни одно из них не опустилось на него. Добравшись до решетки канализации, откуда они появились, Тал увидел, что щупальца отделяются от основной массы темной дрожащей протоплазмы, что лежала внизу, в водосточной трубе. Вековечный враг пытался сбросить с себя зараженные ткани прежде, чем находящиеся в них бактерии успеют добраться до основного его тела. Тал сунул наконечник распылителя прямо в решетку и выпустил туда длинную струю «Биосана-4». Щупальца окончательно оторвались от материнского тела. Теперь они валялись на мостовой, корчась и извиваясь. А внизу, в водосточной трубе, накопившаяся слизь потекла назад, отделив от себя еще один кусок, который теперь тоже исходил пеной, спазматически дергался и умирал. Значит, можно ранить и самого Дьявола. Значит, даже и сам Сатана тоже уязвим. В радостном возбуждении Тал пустил в трубу еще одну длинную струю. Аморфная масса уползла еще дальше, и теперь ее было уже не видно. Она скрывалась куда-то в глубокие подземные ходы, несомненно, продолжая по пути отделять от себя все новые и новые части. Тал отвернулся от решетки и увидел, что отделенные щупальца потеряли свой первоначальный вид и форму: теперь это были всего лишь длинные, спутанные нити гноящихся тканей. В явной агонии они хлестали друг друга и сами себя, на глазах распадаясь и превращаясь в вонючие и безжизненные помои. Он бросил взгляд на решетку следующего водостока, на молчаливо стоящие дома, на небо, гадая, откуда на них может быть обрушен новый удар. И вдруг мостовая у него под ногами загрохотала и начала приподниматься. Стоявшего перед ним Флайта бросило на землю, очки его разлетелись вдребезги. Самого Тала сильно толкнуло в сторону, и он с трудом удержал равновесие, едва на наступив на Флайта. Мостовая снова задрожала и подпрыгнула, теперь уже сильнее, чем в первый раз. Казалось, что под ней прокатываются волны землетрясения. Но это было не землетрясение. Это приближалось оно — на сей раз уже не очередной фантом, не какая-нибудь частичка, но крупная, значительная часть основного тела, а быть может, и само оно целиком, во всей неимоверной массе, стремилось на поверхность с невообразимой разрушительной силой, восставая, словно преданный бог, и стремясь достойно отомстить тем ненавистным людям, что осмелились сопротивляться ему, переливаясь для этого в колоссальную массу мускулов и пробиваясь, пробиваясь наружу, пока не вспучится и не треснет вся мостовая. Тала бросило на землю. Он сильно ударился подбородком об асфальт и чуть не потерял сознание. Попытался подняться, чтобы суметь воспользоваться опрыскивателем, когда чудовище выйдет наружу, но ему с трудом удалось только встать на четвереньки. Улица продолжала вовсю ходить ходуном, и он лег на живот, дожидаясь, пока это кончится. «Вот и смерть пришла», — подумал он.
Брайс лежал на животе, изо всех сил прижимаясь к мостовой. Рядом с ним лежала Лиза. Возможно, она кричала, визжала — Брайс все равно не слышал ее, такой вокруг стоял грохот. Атональная симфония разрушения достигла сейчас в этой части Скайлайн-роуд крещендо, от которого готовы были лопнуть барабанные перепонки: все вокруг грохотало, трещало, взрывалось, и казалось, что весь мир раскалывается на части. Воздух был наполнен густой пылью, поднявшейся из расширявшихся трещин в мостовой. Дорожное покрытие с невероятной силой дернулось и словно вывернулось наизнанку, осколки и обломки его взлетели вверх. Большинство из них были размером со щебенку, но были куски величиной и с добрый кулак, а отдельные обломки достигали и еще больших размеров. Скрывавшееся где-то в глубине белковое создание неудержимо рвалось наверх, и куски бетона весом в пятьдесят, сто и даже двести фунтов подлетали в воздух на пять-десять футов. Брайс подтащил Лизу к себе и попытался прикрыть ее. Он чувствовал, как она дрожит всем телом. Земля под ними приподнялась. Потом рухнула вниз. Снова приподнялась и опустилась. Теперь сверху на них сыпался еще и настоящий каменный дождь. Щебенка и гравий стучали по баллону распылителя, что был у Брайса на спине, больно колотили его по ногам, лупили по голове. Брайс только морщился от боли. Но где же Дженни? Он огляделся по сторонам, испытав вдруг непонятный приступ отчаяния. Вся улица словно вздыбилась, а прямо посередине Скайлайн-роуд образовалось нечто вроде небольшого горного хребта. Дженни, скорее всего, оказалась по другую сторону этого гребня, лежала где-нибудь там. «Она жива, — подумал Брайс. — Она жива. Черт побери, она просто не должна погибнуть!» Огромный кусок бетона вырвался из основания дороги слева от них и подлетел футов на восемь-десять вверх. Брайс был уверен, что этот кусок опустится на них, и изо всех сил прижал к себе Лизу, хотя, если бы кусок действительно на них рухнул, ничто не смогло бы их спасти. Но кусок упал на Тимоти Флайта. Он грохнулся прямо ему на ноги, ломая их, пригвождая Флайта к земле, и ученый взвыл от боли с такой силой, что его вопль на мгновение заглушил даже грохот ломающейся мостовой. А землетрясение продолжалось. Мостовая вздымалась, трещала, рвалась вдоль. Посыпанные щебнем куски рваного бетона поднимались на дыбы и щерились на небо, на утреннее солнце, словно неровные, обломанные зубы. Еще несколько секунд, подумал Брайс, и оно вырвется наружу и окажется здесь прежде, чем они успеют вскочить на ноги и ответить ему.
Кусок бетона размером с бейсбольный мяч, подброшенный той вулканической силой, с которой вековечный враг вырывался из водосточных труб, ракетой взлетел к небу и грохнулся на мостовую в каких-нибудь двух-трех дюймах от головы Дженни. Отлетевший от него острый осколок больно полоснул ее по щеке так, что у нее появилась кровоточащая полоска. Затем исходившее снизу могучее давление, взломавшее всю улицу и проложившее по ней целый горный хребет, вдруг исчезло. Мостовая перестала трястись. Перестала ползти вверх. Стих и адский грохот. Теперь Дженни слышала только свое собственное хриплое, учащенное дыхание. В нескольких футах от нее стал подниматься на ноги Тал Уитмен. Дальше, по другую сторону вздыбленной и перепаханной мостовой кто-то выл в предсмертной агонии, но Дженни не было видно кто. Она попыталась встать, но в этот момент улицу снова сильно тряхнуло, и Дженни опять грохнулась лицом вниз. Тал тоже упал, и до нее донеслось, как он громко выругался. И вдруг мостовая начала быстро обрушиваться куда-то вниз. Снова раздался грохот, а куски взломанного бетона, наваленные вдоль линии разлома, зашевелились, огромные плиты стали падать куда-то в пустоту. Этой пустоты почему-то оказалось слишком много: судя по звукам, глыбы проваливались не в водосточную трубу, а куда-то в пропасть. Потом с громоподобным грохотом полетел вниз весь кряж, что тянулся вдоль мостовой в месте разлома, и Дженни оказалась вдруг на самом краю обрыва. Она лежала на животе, приподняв голову, ожидая, что из глубины вот-вот появится нечто, и с ужасом думала о том, какую же форму примет перевоплощающаяся протоплазма на этот раз. Но ничего не показывалось. Из провала никто не появился. Образовавшийся провал был не меньше девяти футов в ширину и пятидесяти в длину. На противоположной его стороне пытались подняться на ноги Брайс и Лиза. Увидев их, Дженни чуть не закричала от радости. Какое счастье, что они живы! Потом она увидела Тимоти. Ноги его были придавлены массивной глыбой бетона. Но хуже всего было то, что вместе со своей западней он оказался на опасном участке мостовой, который нависал над образовавшимся провалом, а снизу его ничто не поддерживало. В любой момент кусок этот мог обломиться и свалиться в пропасть, увлекая вместе с собой и Флайта. Дженни осторожно подползла на несколько дюймов вперед и заглянула в провал. Глубина его была не меньше тридцати футов, а местами, возможно, даже и больше: определить точнее ей мешали сгустившиеся тени. Теперь становилось ясно, что вековечный враг появился не из сточных труб ливневой канализации; он поднялся из сейчас разрушенных, а прежде невредимых известняковых пещер, что находились глубоко под тем слоем земли, на котором была выстроена улица. Но какой же феноменальной силой, какой невообразимой мощью должен был обладать вековечный враг, чтобы взломать не только мостовую, но и лежавшие глубоко под ней природные скалы? И куда он скрылся сейчас? Внешне казалось, что в провале никого нет, но Дженни понимала, что оно должно быть где-нибудь там, в глубине, в подземных пустотах, что оно прячется там, укрываясь от новых струй «Биосана», выжидая и прислушиваясь. Она подняла взгляд вверх и увидела, что Брайс пытается добраться до Флайта. Резкий и громкий хлопок разорвал воздух. Выступ бетона, на котором лежал Флайт, задвигался. Он мог вот-вот оторваться и упасть в бездну. Брайс тоже увидел грозившую опасность. Он стал карабкаться на выступ, стараясь успеть вытащить оттуда Флайта. «Не успеет», — подумала Дженни. Но тут мостовая под ней загудела, задрожала, и Дженни поняла, что и сама она лежит в крайне опасном месте. Она начала подниматься. Бетон у нее под ногами треснул с грохотом взорвавшейся бомбы.
Глава 41
ЛЮЦИФЕР
Тени, лежавшие на стенах пещеры, непрерывно менялись, так же непрерывно менялась и протоплазма. В колеблющемся свете газовой лампы, чем-то похожем на холодное мерцание луны, это существо напоминало столб густого дыма — бесформенного, клубящегося, кроваво-красного. Кейлу очень хотелось бы верить, что это и вправду всего лишь дым, но он понимал, что дело обстоит не столь просто. Эктоплазма. Вот что это, должно быть, такое. Материя потустороннего мира, из которой, как говорят, состоят духи, привидения и демоны. Кейл никогда раньше не верил в привидения. Идея, что будто бы существует жизнь после смерти, — это духовный костыль для слабых, а не для таких, как Флетчер Кейл. Но теперь… Джин Терр сидел на полу, не сводя взгляда с видения. В ухе у него блестела золотая сережка. Кейл стоял, прижавшись спиной к холодной известняковой стене пещеры. У него было такое ощущение, будто его что-то намертво приклеило к этой стене. В сыром воздухе все еще висел отвратительный запах серы. Слева от Кейла, через проход, ведущий из первой камеры этого подземного убежища, вошел человек. Нет, не человек. Это был один из двойников Джейка Джонсона. Тот самый, который назвал его детоубийцей там, снаружи. Кейл издал короткий стон отчаяния. Это был демонический двойник, череп которого наполовину лишился мягких тканей. Его единственный влажный глаз, без век и бровей, злобно сверкал на Кейла из глазницы, которую обрамляла голая белая кость. Посмотрев на Кейла, демон повернулся к переливающемуся чудовищу, что было в центре пещеры. Он подошел к этой колонне непрерывно взбалтывающей себя слизи, развел руки в стороны, обнял желатиноподобную плоть — и просто растворился в ней, слившись с ней воедино. Кейл пораженно смотрел, ничего не понимая. Вошел еще один Джейк Джонсон. Тот, у которого был как будто содран бок. Все ребра торчали наружу, и было видно, как за ними бьется окровавленное сердце, легкие тоже были открыты, однако внутренние органы почему-то не выпадали наружу через пустые промежутки между ребрами. Но ведь это же невозможно! Хотя, с другой стороны, это же видение, родившееся где-то в Аду и поднявшееся сюда прямо из Преисподней, — и лучшее доказательство тому запах серы, всегда сопровождающий Сатану! — так что тут возможно все что угодно. Вот теперь Кейл поверил. Если не поверить, то можно было только сойти с ума. Вошли гуськом остальные четыре двойника Джонсона, взглянули на Кейла, потом по очереди влились в бурлящую, непрерывно движущуюся слизь. Газовая лампа гудела негромко и ровно, слегка шипя. Желеобразная плоть пришельца из потустороннего мира начала расправлять жуткие черные крылья. Шипение лампы свистящим эхом отражалось от каменных стен. Не успев до конца развернуться, крылья растворились в столбе слизи, из которого они возникли. А вместо них стали появляться лапы, похожие на те, что бывают у насекомых. Но вот наконец заговорил Джин Терр. Возможно, он был в трансе — хотя в глазах у него горели живые искорки. — Мы сюда приезжаем — то есть я и некоторые из моих ребят, — наезжаем два-три раза в год. Понимаешь? Здесь ведь оно что… здесь идеальное место потрахаться, а потом выбросить. Никто ничего не услышит. Никто не увидит. Понимаешь? Джитер в первый за все время раз оторвал взгляд от чудовища и посмотрел прямо в глаза Кейлу. — Что значит… потрахаться и выбросить? — спросил Кейл. — Ну, раз в пару месяцев, иногда чаще, появляется какая-нибудь крошка, которая тоже хочет стать «Хромированным дьяволом» и готова для этого служить чьей-нибудь подстилкой, ей даже неважно чьей, понимаешь, пусть хоть любой ее трахает, когда тому только захочется или когда ему поднадоест своя баба. Понимаешь? — Джитер сидел, подвернув под себя ноги, как йог. Руки его неподвижно лежали на коленях. Он был похож на Будду, только злобного и циничного. — Иногда кто-то из нас ищет себе новую постоянную дырку. А иногда девчонка действительно хороша, и тогда мы берем ее в компанию. Но это бывает не часто. По большей части мы их просто отшиваем. Насекомоподобные лапы снова влились в столб переливающейся слизи, что торчал в центре пещеры. Теперь из него стали возникать десятки рук; появляясь, они растопыривали пальцы, и это напоминало лепестки какого-то странного цветка. — А время от времени возникает просто потрясная крошка, — продолжал Джитер, — но она нам не нужна, или мы не хотим таскать ее за собой, а просто хотим позабавиться с ней. Или подвернется какая-нибудь шестнадцатилетка, знаешь, из тех, что убежали из дому и теперь путешествуют, и, если она недурна, мы ее подбираем, хочет она или нет. Если мы прихватываем такую с собой, то даем ей чего-нибудь курнуть или нюхнуть, ну, чтобы ей тоже было в кайф, потом привозим сюда, где нам никто не помешает, я тут трахаем ее денька два-три до потери пульса, пока всю ее наизнанку не вывернем, а потом, когда ни у одного из нас уже больше не стоит, мы ее выбрасываем, но как-нибудь по-интересному. Демоническое создание в центре пещеры снова изменилось. Руки вобрались обратно, а вместо них по всей его длине появились десятки ртов, заполненных острыми, как бритвы, клыками. Джин Терр взглянул мельком на эту новую картину, но, похоже, она его нисколько не испугала. Напротив, при виде ее он даже улыбнулся. — Что значит выбрасываете? — спросил Кейл. — Убиваете? — Да, — ответил Джитер. — Но как-нибудь по-особенному, чтобы интересно было. Тут их и зарываем. Кто тут когда их найдет? А нас это немного встряхивает. Тонус поднимает. Но так было до последнего воскресенья. А в этот выходной, уже после обеда, ближе к вечеру, расположились мы тут на травке возле дома, трахаем такую вот крошку, и вдруг из леса выходит Джейк Джонсон, совсем голый, то есть в чем мать родила, как будто тоже пришел потрахаться. Я подумал, ну ничего, выбросим деваху, потом выбросим и его, и порядок, никаких свидетелей, понимаешь, но не успели мы его снять, как из лесу выходит еще один Джейк, потом третий… — Точь-в-точь как со мной было, — вставил Кейл. — …потом еще один, и еще. Мы в них палим, попадаем им прямо в грудь, прямо в морду, а они не падают, даже не останавливаются, прут прямо на нас и прут. Ну, Малыш Билли, он у меня на главных ролях, бросается с ножом на того, что ближе всех, но хрен толку. Этот Джонсон сам хватает Билли, и Малыш никак не может от него вырваться, а потом вдруг… н-ну… Джонсон уже вдруг больше не Джонсон. Он вдруг превращается вот в это, в это бесформенное чудовище. И оно жрет Билли… вгрызается в него, как… да нет, парень, оно его просто растворяет, черт побери. А само становится все больше и больше и потом вдруг превращается в огромного жуткого волка, в такое страшилище… — Господи Иисусе, — проговорил Кейл. — …в большущую волчару, какой я никогда не видел, а другие Джейки стали превращаться кто во что, вроде огромных ящериц с мерзкими пастями, а один из них превратился не в ящерицу и не в волка, а во что-то такое, что я даже не знаю, как назвать, и все они начинают гоняться за нами. До мотоциклов мы, парень, добраться не можем, потому что эти твари оказались между нами и мотоциклами, и вот они угробили еще пару моих ребят, а потом стали гнать нас вверх, в гору. — К пещерам, — сказал Кейл. — Они и меня сюда так загнали. — Мы и понятия не имели об этих пещерах, — сказал Терр. — Так вот, мы сюда попадаем, прямо в темноту, и эти твари начинают нас тут убивать, понимаешь, парень, убивать нас здесь, в темноте… Клыкастые рты тоже исчезли. — …и вот, понимаешь, вокруг все копят, а я понять не могу, куда попал, ничего же не видно, и я заполз в какой-то угол спрятаться, понадеялся, что они меня там не учуют, хотя сам же понимал, конечно, что найдут, обязательно найдут. Кроваво-красные ткани пульсировали, по поверхности их пробегала рябь. — …а потом вопли стихли. Ну, значит, перебили всех. Тут наступила такая тишина… а потом я слышу, как в темноте неподалеку от меня что-то движется. Кейл слушал Терра, а сам не отрывал глаз от колонны слизи. На ней снова появился рот, но теперь уже другой формы, с вытянутыми вперед губами. Похожий на рот какой-то экзотической рыбы, он жадно заглатывал воздух, но при этом казалось, что он ищет, где бы тут заглотить плоть. Кейла передернуло. Терр улыбнулся. Теперь такие же рты стали раскрываться по всему чудовищу. — Так вот, сижу я там в темноте, — продолжая улыбаться, говорил Джитер, — и слышу какое-то движение, но на меня никто не нападает. Вместо этого вдруг зажигается свет. Вначале очень слабый, потом поярче. Оказывается, это один из Джейков зажег газовую лампу. И тут он говорит, чтобы я шел с ним. Я, понятно, не хочу. Он хватает меня за руку, и, знаешь, парень, у него ледяная рука. И он такой сильный. Ну, он меня тащит за собой, притаскивает сюда, а тут из-под пола вылезает такая штука — я ничего подобного раньше не видел, нигде и никогда. Я чуть не обделался. Он заставляет меня сесть, оставляет мне лампу, а сам подходит к этому ползущему дерьму и просто входит в него, входит и сливается с ним, и я остаюсь один с этой штукой, которая сразу же начинает вот так вот непрерывно меняться. Кейл и сам видел, что оно действительно непрестанно видоизменяется. Ловящие воздух рты уже успели бесследно исчезнуть. Теперь на боках бурлящего создания образовались зловещие остроконечные рога: десятки рогов всех конфигураций — прямые и ветвистые, гладкие и с зазубринами — и всех возможных расцветок торчали из желатинообразной массы. — Так что вот уже примерно полтора дня, — продолжал Терр, — я сижу здесь и наблюдаю за этой штуковиной. Ну, за исключением того времени, конечно, когда сплю или отхожу что-нибудь перекусить там вон, в соседней комнате. И знаешь, иногда оно со мной разговаривает. Похоже, оно знает обо мне все, даже и такое, что вряд ли знали самые близкие мне братья-роверы. Оно знает о трупах, которые мы здесь зарыли, и о тех чертовых мексиканках, которых мы выбросили, когда перехватили у них торговлю травкой, и знает о том копе, которого мы тут порубили на куски пару лет назад, — знает, понимаешь, хотя даже сами копы, ну, те, другие, этого и не подозревают и за нами не числят. Вот так-то, парень: эта великолепная и странная штуковина знает все мои тайны. А если чего не знает, то спрашивает, просят рассказать и тогда уж слушает будь здоров. Я ей нравлюсь, парень. Она меня одобряет. Или он. Никогда не думал, что действительно встречусь с ним. Всегда надеялся на это, но никогда не думал, что и вправду удастся. Я молился об этой встрече многие годы, парень, мы всем братством каждую неделю служила ради этого черные мессы, но я никогда не думал, что он и в самом деле мне явится. Мы приносили ему жертвы, парень, даже настоящие человеческие жертвы, и пели все нужные псалмы, но нам никогда не удавалось ничего вымолить. Так что то, что здесь происходит, это, парень, настоящее чудо. — Джитер засмеялся. — Я работал на него всю свою жизнь, парень. Служил его делу. И молился ему тоже всю свою жизнь, молился Зверю, Антихристу. И вот теперь он тут. Мать твою, это же просто чудо! — Что-то я перестал тебя понимать, — на самом же деле Кейл не хотел понимать, о чем идет речь. — Врешь, — Терр не мигая уставился на него. — Ты прекрасно понимаешь, парень, о чем я говорю. Ты все знаешь. Кейл промолчал. — Ты думал, что это Демон, что это что-то такое, из Ада, верно? А он и вправду из Ада, парень. Только это не Демон. ЭтоОн. Он. Люцифер. На мрачно-темной плоти, среди десятков остроконечных рогов раскрылись маленькие красные глазки. Множество маленьких пронзительных глаз, и в багрово-красном блеске каждого из них горели ненависть и знание — отличное знание науки зла. Терр жестом дал понять Кейлу, чтобы тот подошел поближе. — Он позволяет мне жить, потому что знает, что я — Его преданный апостол. Кейл не сдвинулся с места. Сердце его стучало как молот. И не от страха. Или не только от страха. Его потрясло, захватило еще какое-то чувство, хотя определить это чувство Кейл бы не смог… — Он позволяет мне жить, — повторил Джитер, — потому что знает, что я постоянно служу Его делу, выполняю Его работу. Другие… может быть, они были не так преданы Его делу, как я, и поэтому Он уничтожил их. Но я… я — другое дело. Он позволяет мне жить, чтобы я на Него работал. Вполне возможно, парень, что Он даже позволит мне жить вечно. Кейл моргнул. — Он и тебе позволяет жить тоже поэтому, — продолжал Джитер. — Наверняка. Точно. Правда, точно. Потому что ты служишь Его делу, понимаешь? Кейл отрицательно замотал головой: — Я никогда не был… никогда не поклонялся Дьяволу. Никогда не верил. — Неважно. Ты ведь служил Его делу, и тебе это нравилось. Красные глазки внимательно смотрели на Кейла. — Ты же убил свою жену, — сказал Джитер. Кейл тупо кивнул. — Ты даже собственного малолетнего сынка прикончил. Если уж это не служение Его делу, парень, тогда что же? Сверкающие глазки смотрели не моргая, и Кейл начал постепенно осознавать, что за чувство росло и ширилось в нем. Восторг, благоговейный страх… религиозное прозрение. — И кто знает, что еще сделал ты за свою жизнь, — говорил Джитер. — Наверняка много такого, что тоже было служением Его делу. Быть может, даже все, что ты сделал, было таким служением. Ты совсем как я, парень. Ты появился на свет, чтобы быть посланцем Люцифера. Мы с тобой… это же у нас в генах. В генах, парень. Наконец Кейл нашел в себе силы оторваться от стены. — Так-то лучше, — проговорил Джитер. — Иди сюда. Подойди к Нему поближе. Эмоции захлестывали Кейла. Он и раньше знал, что он не такой, как все остальные. Он лучше. Он особенный. Кейл всегда знал это, знал твердо, однако подобного подтверждения своей правоты он и ожидать не мог. Но тем не менее вот оно, не оставляющее никаких сомнений доказательство его избранности. Кейла охватила неописуемая радость, от которой у него даже сжалось сердце. Он опустился на колени рядом с Джитером, возле этого явленного чуда. Наконец-то он призван. Его час настал. «Вот она, моя судьба», — подумал Кейл.Глава 42
ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ АДА
Плита из бетонного основания мостовой, на которой лежала Дженни, треснула с грохотом пушечного выстрела. Ба-бах! Дженни лихорадочно поползла на четвереньках назад, но было уже поздно. Мостовая сдвинулась с места и стала уходить из-под нее. О боже, нет, только не это! Сейчас она загремит в этот провал, и если ее не убьет при падении, то из своего укрытия появится оно, схватит ее, утащит вниз, в темноту и сожрет ее раньше, чем ей успеют прийти на помощь… Тал Уитмен успел ухватить ее за лодыжки и теперь держал из последних сил. Дженни повисла вниз головой над провалом. Бетонная плита, кувыркаясь, полетела вниз и с грохотом шлепнулась на дно. Мостовая под ногами у Тала заходила ходуном, стала сдвигаться, и он чуть было не выпустил Дженни. Но потом ему все-таки удалось, пятясь назад, вытянуть ее за собой и оттащить подальше от обламывающегося края обрыва. Когда они очутились на твердом месте, Тал помог ей подняться на ноги. Конечно, Дженни понимала, что ни по каким биологическим законам сердце никак не может само оказаться в горле, но у нее было ощущение, что ее сердце находилось в тот момент именно там, и она с усилием сглотнула, как бы возвращая его на место. — О господи! — задыхаясь, еле вымолвила она. — Спасибо тебе, Тал! Если бы не ты… — А, чепуха, ничего особенного, — ответил он, хотя только что чуть было сам не свалился вместе с Дженни в западню. «Просто прогулка», — подумала Дженни, вспомнив историю, которую рассказывал ей о Тале Брайс. Тут она увидела Тимоти Флайта, лежавшего на противоположном краю провала. Тимоти повезло гораздо меньше, чем ей: Брайс явно не успевал вытащить его оттуда. Мостовая под Флайтом тоже не выдержала. Плита длиной в восемь и шириной в четыре фута сорвалась, увлекая вместе с собой археолога. Но она не упала прямо вниз, как та плита, на которой несколько минут назад лежала Дженни. Край провала с противоположной его стороны был не таким отвесным, поэтому плита заскользила по нему и съехала вниз, на глубину футов тридцати, где и остановилась, уткнувшись в гору обломков. Флайт был еще жив и кричал от невыносимой боли. — Скорее, надо вытащить его оттуда, — проговорила Дженни. — Бессмысленно и пытаться, — ответил Тал. — Но… — Смотри! За Флайтом уже пришли. Оно вырвалось из расщелин, которыми было испещрено дно провала и которые явно вели куда-то глубже, в подземные пустоты. Аморфная протоплазма огромным стручком поднялась футов на десять в воздух, подрожала, упала вниз, отделилась от пославшего ее основного тела, продолжавшего скрываться где-то в глубине, и превратилась в омерзительного жирного черного паука размером с пони. Этот паук был теперь футах в десяти-двенадцати от Тимоти Флайта и с явно зловещими намерениями направлялся к ученому, карабкаясь через наваленные на дне обломки мостовой.Тимоти, беспомощно распластанный на бетонной плите, утащившей его на дно провала, видел приближавшегося к нему паука. Волна ужаса охватила его, заглушив даже боль от искалеченных, раздавленных ног. Черные веретенообразные лапы легко находили точки опоры среди беспорядочного нагромождения обломков, и паук пробирался по ним гораздо ловчее и быстрее, чем это смог бы сделать человек. Хрупкие лапы паука покрывали тысячи черных, похожих на тонкие проволочки, волосинок, ощетинившихся во все стороны. Похожий на луковицу живот был гладким, глянцевито-блестящим и светлым. Вот он уже всего в десяти футах. В восьми. Паук издавал какой-то странный звук, нечто среднее между визгом и свистом, от которого кровь стыла в жилах. В шести футах. В четырех. Вот он остановился прямо перед Тимоти. Ученый увидел, что на него наделена огромная челюсть с острыми хитиновыми зубами. Он почувствовал, как в его мозгу начинает приотворяться дверь, отделяющая здравый рассудок от безумия. И в этот момент на Тимоти пролился молочного цвета дождь. Сперва ему показалось, что это паук стрельнул в него ядом. Ко потом он пенял, что молочные струи — это «Биосан-4». Кто-то сверху, с края обрыва, поливал его из разбрызгивателя. Жидкость обрызгала и паука, и на его черном теле стали появляться белые точки и пятна.
Летевшие во все стороны обломки и осколки повредили разбрызгиватель Брайса, и шерифу не удавалось выжать из своего баллона ни капли жидкости. Ругаясь, он расстегнул ремни, высвободился из них и бросил баллон на мостовую. Пока Тал и Дженни поливали ученого «Биосаном» с противоположной кромки провала, Брайс кинулся к придорожной канаве, чтобы взять запасные канистры с раствором. Когда трещала и вздымалась дыбом мостовая, они откатились в эту сторону и теперь лежали, упершись в тротуар. Канистры были с ручками, и Брайс схватил сразу обе. Они оказались тяжелыми. Он помчался назад, к кромке провала, на мгновение приостановился на ней, потом шагнул вперед и съехал по пологому склону вниз, до самого дна. Каким-то чудом ему удалось удержаться при этом на ногах и не выронить канистры. Он не пошел в ту сторону, где лежал Флайт. Там Дженни и Тал делали все, что было в их силах, чтобы успеть убить паука. Брайс же начал перебираться через завалы по направлению к тому отверстию, из которого вековечный враг только что выбросил этот фантом. Тимоти Флайт с ужасом наблюдал, как нависший над ним паук превращался в гигантского пса. Это была не просто собака, это был самый настоящий Цербер с мордой, одновременно и волчьей, и в чем-то человеческой, Шкура его — в тех местах, где ее не обрызгал «Биосан», — была гораздо чернее, чем у паука, из огромных лап торчали загнутые крючьями когти, а клыки в пасти были величиной с пальцы на руках Флайта. Из пасти Цербера несло серой и какой-то еще худшей гадостью. Но вот на шкуре пса стали возникать проплешины, трещины, язвы — это бактерии делали свое дело, поедая аморфную плоть, — и у Тимоти затеплилась надежда. Глядя на него сверху вниз, пес заговорил. Голос его звучал так, словно масса щебенки сыпалась вниз по жестяному желобу: «Я думал, что ты мой Матфей, а ты оказался моим Иудой». Гигантские челюсти раскрылись. Тимоти закричал. Под воздействием бактерий тварь разлагалась на глазах, ко все-таки, клацнув зубами, она вцепилась прямо в лицо Флайту.
Стоя на самом краю провала, Тал Уитмен смотрел на происходившее внизу, и его внимание разрывалось между жуткой картиной убийства Флайта и самоубийственным рейдом Брайса, продолжавшего продвигаться вперед с канистрами в руках. Флайт. Пес-фантом разлагался, бактерии разъедали его, как кислота, но все-таки он умирал недостаточно быстро. Пес вонзил зубы Флайту в лицо, потом в шею. Брайс. Он добрался до отверстия, примерно футах в двадцати от Цербера, откуда пару минут назад вырвалась протоплазма, и начал отвинчивать крышку канистры. Флайт. Пес ожесточенно вонзал зубы в голову ученого. Задняя часть песьего тела уже вся покрылась пеной, потеряла форму и распадалась, но фантом изо всех сил старался удержать свою форму, чтобы как можно дольше продолжать рвать и грызть Флайта. Брайс. Он снял крышку с первой канистры, отбросил в сторону, и было слышно, как крышка зазвенела, прыгая по обломкам бетона. Тал был уверен, что через отверстие, возле которого стоял Брайс, что-нибудь выскочит из подземных пустот и схватит шерифа в смертельные объятия. Флайт. Он уже больше не кричал. Брайс. Он наклонил канистру и вылил раствор с бактериями через отверстие в дне провала куда-то в глубокие подземные убежища, где обитало оно. Флайт был уже мертв. Пес почти распался: то, что от него еще уцелело, было покрыто волдырями и гноилось. По сути дела, от пса оставалась теперь только его большущая голова. Но эта голова продолжала злобно кусать и рвать мертвого археолога. Вместо Тимоти Флайта лежало теперь только изувеченное, окровавленное тело. Кажется, старик был неплохим человеком. Лизу передернуло от отвращения к увиденному, и она попятилась от края провала. Там, где девочка стояла, она сейчас оказалась в одиночестве. Лиза пятилась до самой водосточной канавки, что шла с краю мостовой, вдоль тротуара, прошла немного боком вдоль нее, наконец остановилась и стояла так, дрожа… …пока до нее не дошло, что она стоит прямо на решетке водостока. Она вспомнила, как из такой же решетки вылезли те щупальца, что поймали Сару Ямагути и убили ее. Лиза мгновенно перескочила с решетки на тротуар. Она бросила взгляд на стоявшие позади нее дома. Сейчас она оказалась неподалеку от одного из крытых проездов между двумя соседними магазинами и с подозрением, настороженно приглядывалась к его закрытым воротам. Быть может, в этом проезде что-то таится? Высматривает, подстерегает ее? Лиза шагнула было в сторону мостовой, но тут опять увидела решетку водостока и предпочла остаться на тротуаре. Она нерешительно ступила влево, остановилась, постояла, не зная, как поступить, так же неуверенно сделала шаг вправо, снова заколебалась. Со всех сторон улицы на нее глядели двери, ворота, проходы, крытые проезды. Не было никакого смысла выискивать тут безопасное место. Такого места просто нигде не было. Еще когда он только начал выливать «Биосан-4» из голубой канистры в расщелину на дне провала, Брайсу показалось, что в мрачной глубине отверстия произошло какое-то движение, что-то мелькнуло. Он ждал, что оттуда выскочит фантом и утянет его с собой в подземные бездны. Тем не менее он опорожнил в отверстие вею канистру, до конца, однако никто оттуда не появился и не напал на него. Схватив вторую канистру, он двинулся по кучам изломанных плит, по острым обломкам бетона, по изогнутым и разорванным трубам. Пот катил с него градом. Брайс осторожно переступил через оборванный и искрящий электрический кабель, перепрыгнул через небольшую лужу, образовавшуюся возле давшей течь водопроводной трубы. Он прошел мимо изувеченного тела Флайта и зловонных остатков того разложившегося фантома, который убил Тимоти. Добравшись до следующей трещины в дне провала, Брайс присел возле нее на корточки, отвинтил крышку со второй канистры и вылил в трещину все ее содержимое. Отшвырнув куда-то вбок пустую канистру, он повернулся спиной и бросился удирать. Он торопился выбраться из провала прежде, чем на него, как на Флайта, бросится какой-нибудь очередной фантом. Брайс уже преодолел почти третью часть того склона, по которому спустился в провал — подъем оказался гораздо более трудным, чем он ожидал, — когда услышал, что позади него происходит нечто ужасное.
Дженни, затаив дыхание, напряженно следила за тем, как Брайс пытается выкарабкаться из провала наверх, на мостовую. Больше всего она боялась, что он может не успеть это сделать. Вдруг что-то заставило ее посмотреть на первую из тех трещин, в которые Брайс залил «Биосан». Перевоплощающаяся протоплазма вырвалась там из-под земли и продолжала хлестать, заливая дно провала. Ее поток был похож на прорвавшуюся из канализации густую массу, но в тех местах, где бактерии поработали сильнее всего, масса эта была заметно темнее, чем прежде. Она пузырилась, кипела, двигалась внутри самой себя еще энергичнее, чем раньше, что, по-видимому, свидетельствовало о происходящих разложении и распаде. Молочно-бледные пятна инфекция на глазах расползались по всей поверхности этой массы. Везде и всюду на ней вздувались, вырастали и лопались волдыри, раскрывались безобразные язвы, из которых текла ядовито-желтая жидкость. Всего за несколько секунд из трещины выплеснулось не меньше тонны аморфной плоти. Вся она была явно заражена бактериями «Биосана», но продолжала изливаться наружу, как лава, все быстрее и быстрее. Казалось, где-то под землей действует настоящий вулкан, извергающий эту живую желатинообразную плоть. Из соседней расщелины тоже выхлестнулась протоплазма. Колоссальная масса чудовища, выплескиваясь наружу, потекла по наваленным на дне провала обломкам, затапливая их собой. Она еще взвивалась вверх похожими на стручки фонтанами — бесформенными и неуверенными, — но покрывалась пеной и тут же падала назад, исходя конвульсиями. А потом отовсюду, со всех сторон, изо всех трещин и отверстий понеслись страшные звуки. Это были голоса многих тысяч мужчин, женщин, детей, животных, и все они были воплями боли, ужаса и безысходного отчаяния. Это был крик агонии, крик такой физической и духовной муки, что Дженни не в силах была его вынести, особенно когда среди общего хора несколько голосов показались ей знакомыми, напоминающими голоса ее старых друзей и добрых соседей. Она зажала уши, но бесполезно: рев человеческих страданий был такой силы, что заглушить его было невозможно. Конечно, на самом-то деле это был предсмертный вопль только одного существа — самого же вековечного врага, перевоплощающейся протоплазмы; но, поскольку оно не обладало собственным голосом, ему поневоле пришлось прибегнуть к голосам своих жертв и тем выразить свои нечеловеческие эмоции и свой нечеловеческий ужас. Оно вздымалось все выше и выше, погребая под собой лежавшие на дне провала обломки и подступая все ближе к Брайсу.
Брайс, добравшийся уже до середины подъема, слышал, как раздававшийся позади него шум сменился вначале общим криком тысяч погибающих в одиночестве людей, а потом перешел в яростный рев. Ему хватило смелости оглянуться. Он увидел, что в провал уже выплеснулись три или четыре тонны бесформенных тканей, но их поток продолжал увеличиваться, как будто бы сами земные недра прорвались и теперь изливали наружу накопленное. Плоть вековечного врага содрогалась, дергалась, порывалась куда-то, на ней, словно на прокаженной, постоянно открывались новые язвы, вспучивались новые волдыри. Оно еще пыталось сформировать и отделить от себя крылатые фантомы, но было уже слишком ослаблено и неустойчиво, чтобы породить нечто определенное; так и не оформившиеся до конца птицы или гигантские насекомые либо разлагались, превращаясь в напоминавшую гной слякоть, либо бессильно падали вниз, снова растворяясь в массе бесформенной протоплазмы. Тем не менее вековечный враг все-таки подбирался все ближе и ближе к Брайсу, лихорадочно вздрагивая, вспучиваясь и пенясь; он уже покрыл собой почти все дно провала и теперь выбрасывал вслед Брайсу слабеющие, но еще мощные щупальца, стараясь ухватить его за ноги. Брайс отвернулся и с удвоенной энергией принялся карабкаться вверх.
Два больших окна гриль-бара, около которого стояла Лиза, с треском лопнули, высаженные изнутри неведомой силой, и грохнулись на землю. Один из осколков попал Лизе в лоб, но если не считать полученной при этом царапины, то всерьез ее не зацепило: основная часть осколков упала между зданием и тем местом, где она стояла. Из выбитых окон вывалилась омерзительная темная масса. Лиза попятилась и, оступившись, чуть не упала с тротуара. Казалось, отвратительная шевелящаяся масса заполняет собой все здание, из которого она сейчас вырвалась. Лиза почувствовала, как ее лодыжку обхватывает что-то похожее на змею. Из решетки водостока в мостовой, что была у нее за спиной, выскользнули выброшенные бесформенной плотью щупальца. Они-то и схватили Лизу. Закричав, Лиза стала срывать их с себя — и вдруг, к удивлению своему, обнаружила, что это не составляет труда. Тонкие, похожие на червей щупальца отпадали чуть ли не сами собой. По всей их длине возникали разрывы, трещины, язвы, эти повреждения увеличивались на глазах, и буквально через несколько секунд щупальца превратились в мертвую грязную слизь. Вывалившаяся из бара мерзкая масса тоже на глазах разлагалась под действием бактерий. Комки пенящихся тканей отваливались от нее и шлепались на тротуар. Тем не менее она еще продолжала изливаться, еще лезла вперед, еще выбрасывала из себя щупальца, извивавшиеся в воздухе и искавшие Лизу, но эти щупальца шевелились так, что становилось ясно: они слепы и больны.
Тал видел, как на противоположной стороне улицы вышибло окна гриль-бара, но не успел он сделать и шагу на помощь Лизе, как у него за спиной тоже раздался грохот. Он удивленно обернулся и увидел, что все окна первого этажа гостиницы «На горе» — и те, что были в вестибюле, и окна ресторана — тоже вылетели. Входные двери гостиницы распахнулись, из них и из выбитых окон начали вываливаться целые тонны пульсирующей протоплазмы. «О Господи, какой же величины эта проклятая штуковина», — подумал Тал. С весь городок? Или с гору, из-под которой она появилась? Или еще больше? Эта масса бурлила, неслась вперед, выбрасывала из себя десятки ищущих, переплетающихся щупалец. Она тоже была явно поражена бактериями, но оставалась еще заметно более активной и агрессивной, чем та ее часть, которая преследовала в провале Брайса. И прежде чем Тал успел направить на нее шланг опрыскивателя и нажать на рычаг, открывающий путь струе, холодные щупальца нашли его, схватили и потащили по мостовой к гостинице, к сплошной стене бурлящей слизи, продолжавшей выливаться наружу через разбитые окна, и, уже таща его туда, щупальца принялись прожигать его одежду, и Тал почувствовал, что кожа его горит, вздувается и лопается. Он взвыл, но кислота уже въедалась в его тело, начинала переваривать его, по его телу и рукам словно заметались языки пламени, потом один из них обжег ему левое бедро, и Тал вспомнил, как подобное же вот щупальце обезглавило Фрэнка Отри, молниеносно проев ему шею, а вспомнив это, Тал подумал о своей тетушке Бекки и…
Дженни увернулась от одного из щупалец, которое попыталось обвить ее. Она вовсю поливала Тала и три змееподобных отростка, которые держали и не отпускали его. От щупалец отваливались комья распадающихся тканей, но сами щупальца пока еще не совсем распались. Однако поверхность протоплазмы была испещрена языками и разрывами даже в тех местах, до которых Дженни еще не достала. Было очевидно, что отравлены не отдельные участки тела, а вся тварь, что бактерии пожирают ее изнутри. Долго ей не протянуть. Но она еще может успеть убить Тала Уитмена. Он кричал и бился, стараясь высвободиться. От отчаяния Дженни, забыв обо всем, бросила разбрызгиватель и сделала несколько шагов вперед, ближе к Талу. Она схватила одно из обвивавших его щупалец с попыталась оторвать его от Тала. В этот момент другое щупальце обхватило ее саму. Она вырвалась из слабеющего захвата этого щупальца и тут вдруг поняла, что, если ей удалось так легко и просто освободиться, значит, перевоплощающаяся протоплазма проигрывает сражение с теми бактериями, которыми они ее заразили. У нее в руках щупальце, которое она отрывала от Тала, вначале распалось на куски, потом эти куски превратились в омерзительно воняющие хлопья мертвых тканей. С трудом удерживаясь, чтобы ее не вырвало, Дженни с еще большей энергией принялась отдирать щупальца от Тала, и наконец ей это удалось, а два последних отвалились сами, и Тал, задыхаясь и истекая кровью, упал на мостовую как подкошенный.
Извивавшиеся в воздухе, но ослепшие щупальца так и не смогли дотянуться до Лизы. Они сникли и влились назад в ту тошнотворную массу, что извергалась на улицу из гриль-бара. Пораженное чудовище дергалось в судорогах, от него отваливались покрытые пеной зараженные куски. — Оно умирает, — проговорила Лиза, ни к кому не обращаясь, да рядом с ней и не было никого, кто бы мог здесь сейчас ее услышать. — Дьявол умирает.
Несколько последних футов, самый трудный, почти вертикальный участок подъема, Брайс прополз на животе. Но вот наконец он добрался до кромки обрыва, подтянулся и перевалился через нее на мостовую. Выбравшись наверх, он оглянулся посмотреть на путь, которым только что прошел. Перевоплощающаяся протоплазма так и не сумела подобраться к нему достаточно близко. По дну провала расползлась большущая лужа желатинообразной бесформенной материи, покрывшая собой все свалившиеся туда обломки мостовой, но она была уже почти безжизненной. То здесь, то там из нее пытались подняться отдельные фантомы то в виде человека, то животного, но вековечный враг на глазах терял способность к перевоплощению. Фантомы получались неправильных форм, медлительные и неуклюжие. Еще живая плоть постепенно тонула под грузом собственных же, но уже мертвых и разлагающихся тканей.
Дженни опустилась на колени возле Тала. Руки и грудь его были страшно изранены. Вдоль всего левого бедра тоже тянулась большая открытая кровоточащая рана. — Больно? — спросила Дженни. — Когда оно держало меня, да, было страшно больно. Сейчас уже поменьше, — ответил он, хотя выражение лица выдавало подлинную силу испытываемых им страданий. Огромная масса слизи, выплеснувшаяся из гостиницы «На горе», начала постепенно втягиваться назад, утекать в трубы и потайные пустоты, из которых вырвалась раньше, оставляя после себя слегка курящиеся паром пятна и грязные лужи распадающейся плоти. Отступление, поистине достойное Мефистофеля. Назад в Преисподнюю. Обратно в Ад. Убедившись, что непосредственной опасности больше нет, Дженни занялась ранами Тала уже всерьез. — Плохо дело? — спросил он. — Не так плохо, как мне показалось вначале. — Она заставила его снова лечь. — Местами объедена кожа. А кое-где еще и подкожные жировые ткани. — А как сосуды? — Они не затронуты: ни вены, ни артерии. Оно уже порядком ослабело, когда напало на тебя, и не способно было прожигать тело достаточно глубоко. В подкожном слое повреждено очень много капилляров. Отсюда и кровотечение. Но не такое уж сильное, как можно было бы ожидать. Как только сможем войти в гостиницу, я принесу свою сумку и сделаю тебе перевязку. Думаю, пару дней тебе придется провести в больнице, пройти обследование, просто чтобы быть уверенным, что не проявится позднейшая реакция на кислоту или на какие-нибудь токсины. Но мне кажется, все должно зажить без осложнений. — Знаете что? — спросил он. — Что? — Вы говорите так, как будто все уже кончилось. Дженни даже заморгала от удивления. Она посмотрела на гостиницу. Сквозь выбитые окна была хороша видна внутренняя часть ресторана. Вековечного врага там и след простыл. Она обернулась и взглянула на противоположную сторону улицы. Лиза и Брайс обходили провал, направляясь к тому месту, где сидели сейчас Дженни и Тал. — По-моему, ты прав, — сказала она Талу. — Мне кажется, все действительно уже кончилось.
Глава 43
АПОСТОЛЫ
Флетчер Кейл больше уже не боялся. Он сидел рядом с Джитером и наблюдал за тем, как сатанинская плоть перевоплощалась во все более странные и причудливые формы. Его донимал зуд в правой икре. И, следя за действительно поразительными перевоплощениями пришельца из потустороннего мира, Кейл машинально, сам не замечая этого, непрерывно скреб правую ногу. Поскольку Джитер все время, начиная с воскресенья, безвыходно провел в пещере, он ничего не знал о том, что стряслось в Сноуфилде. Кейл пересказал ему то немногое, что знал сам, и Джитер пришел в восторг. — Знаешь, все, о чем ты говоришь, — это знак. Сигнал. То, что Он сделал в Сноуфилде, — это сигнал, призванный сообщить всему миру, что наступает Его время. Скоро начнется Его царствие. И Он будет править на земле тысячу лет. Об этом в самой Библии сказано, парень: что будет на земле Ад на тысячу лет. И все будут мучиться — кроме меня и тебя и таких, как мы. Потому что мы, парень, — мы избранные. Мы Его апостолы. Мы будем править миром вместе с Люцифером, и весь мир будет принадлежать нам, и мы сможем сделать с любым, с кем только захотим, мать его, все что угодно. С любым. И никто не посмеет нас тронуть, никто и никогда. Понимаешь? Ты понимаешь это? — Терр схватил Кейла за руку, голос его звучал требовательно и звенел от возбуждения, он дрожал, как у вошедшего в проповеднический раж евангелиста, и его религиозная страсть легко передавалась Кейлу, вызывая у того чувство опьяняющего святотатственного восторга. Рука Джитера лежала на его руке, и Кейлу казалось, что он физически ощущает обжигающий жар, исходящий от вытатуированного на ней красно-желтого глаза. Этот магический глаз заглядывал ему прямо в душу, обнаруживая там их общую причастность к одному и тому же темному началу. Кейл откашлялся, прочищая горло, поскреб лодыжку, икру. Потом проговорил: — Да. Да. Я понимаю. Правда, понимаю. Из колонны слизи, стоявшей в центре пещеры, начал прорисовываться похожий на плетку хвост. Появились крылья, они распростерлись в разные стороны, один или два раза хлопнули. Выросли руки — длинные, мускулистые, жилистые, с огромными кулаками. Сильные пальцы рук переходили на концах в длинные когти. В верхней части колонны из бурлящей, перетекающей плоти возникло лицо. Скулы и подбородок его были словно высечены из гранита, крупный рот обрамляли тонкие губы, за которыми видны были неровные желтые зубы и похожие на змеиные клыки. Нос напоминал поросячий пятачок, и завершали лицо неистовые малиново-красные глаза, совершенно непохожие на человеческие, а скорее напоминавшие сетчатые, призматические глаза мухи. Надо лбом выступили и стали быстро расти рога — все в полном соответствии с христианскими представлениями о том, как должна выглядеть нечистая сила. То, что казалось вначале волосами, превратилось в червей; черно-зеленые, толстые, блестящие, они непрерывно шевелились, то скручиваясь в спутанные узлы, то высвобождаясь из них. Очертания рта не оставляли сомнений в жестокости его владельца. Этот рот раскрылся, и Дьявол заговорил: — Теперь вы верите? — Да! — в экстазе восхищения ответил Терр. — Ты мой бог, мой повелитель. — Да, — неуверенно произнес потрясенный Кейл. — Верю. — Он снова почесал правую икру. — Верю. — Будете мне повиноваться? — вопросило явление. — Да, всегда, — ответил Терр, Кейл тоже подтвердил свою готовность. — Не покинете меня? Никогда? — спросило явление. — Нет. — Никогда. — Хотите доставить мне радость? — Да! — одновременно ответили Терр и Кейл. — Все, что прикажешь. — Я скоро уйду, — проговорило видение. — Время моего царствования еще но наступило. Но оно придет. Скоро. Однако прежде должны быть выполнены некоторые условия, должны сбыться некоторые пророчества. И тогда я снова приду уже не только для того, чтобы подать человечеству знак, по чтобы остаться с ним на целую тысячу лет. А до той поры я оставляю вас, но оставляю под защитой всей моей мощи, а она огромна. Никто не в силах будет ни пойти вам наперекор, пи причинить вам вред. Я дарую вам вечную жизнь. Я обещаю, что Ад станет для вас заслуженной наградой и местом величайшего наслаждения. Но предварительно вы должны будете выполнить пять моих поручений. И Он сказал им, что от них потребуется, чтобы доказать их преданность и доставить Ему удовольствие. Он еще продолжал говорить, но вдруг все тело Его пошло сыпью, прыщами, волдырями, язвами, трещинками, из которых сочилась какая-то желтоватая мутная жидкость. «Интересно, что бы это могло означать», — подумал Кейл, но тут он сообразил, что ведь Люцифер — повелитель всех болезней. И, возможно, таким вот образом он недвусмысленно напоминает им о том, что сможет наслать на них любую порчу, самую ужасную, если они не выполнят эти пять Его поручений. Плоть покрылась пеной и стала распадаться. Она кусками падала на пол, отдельные ее клочки отлетали в стороны и попадали на стенки пещеры, потому что явление билось в конвульсиях. Хвост Дьявола отвалился от тела и вертелся в судорогах по полу, через несколько мгновений от него осталась только маленькая лужица грязи, вонявшая, как сама смерть. Но Он все-таки закончил свою речь, объяснил им, что Ему от них нужно, и заключил вопросом: — Договорились? — Да, — ответил Терр, и Кейл тоже подтвердил: — Да, договорились. Покрытое непрерывно увеличивающимися язвами лицо Люцифера растаяло. Крылья и рога тоже исчезли. Вспениваясь и изливая из себя гноеподобную кашицу, явление опустилось в отверстие в полу и скрылось внизу, где-то в подземной реке. Как пи странно, по вонючие отмершие ткани не исчезли. Когда явление из сверхъестественного мира уходит, то вместе с ним должна пропадать и вся эктоплазма, но здесь эта гадость осталась и теперь лежала, смердя и вызывая приступы тошноты, слегка поблескивая в свете газовой лампы. Благоговейный восторг Кейла постепенно сошел на нет, и он почувствовал холод, исходивший от известняка, на котором он сидел. Джин Терр прокашлялся: — Это и надо… Ну и ну… Ничего себе явление было, а? Кейл в который уже раз поскреб чесавшуюся икру. Теперь под тем местом, где непрерывно чесалось, образовался маленький сгусток тупой дергающей боли.Оно уже давно наелось, и период очередной кормежки подошел к концу. По правде говоря, оно уже даже объелось. И сегодня вечером, попозже, намеревалось двинуться к морю через систему подземных пустот, трещин, каналов и рек. Оно собиралось уйти далеко за пределы континента, в глубокие океанские впадины. Уже бесчисленное количество раз оно проводило периоды летаргического сна — длившиеся иногда по многу лет — в холодных и темных глубинах моря. Там, внизу, где давление воды было таким огромным, что выжить под ним могли лишь единичные формы жизни, где абсолютные мрак и тишина исключали почти любые раздражители, — там вековечный враг мог замедлить процессы обмена веществ в своем теле, и только там, внизу, он мог наконец впасть в долгожданную блаженную полудрему и пребывать в полном покое и одиночестве, переваривая съеденное и размышляя о своем. Но теперь оно уже никогда не сможет добраться до моря. Никогда в жизни. Оно умирало. Мысль о своей собственной смерти оказалась столь новой и непривычной, что оно еще не успело в полной мере осознать ожидающую его мрачную перспективу и пока, спрятавшись внутри Снежной горы, продолжало отсекать от себя одну зараженную часть тела за другой. Оно забиралось все глубже и глубже, все ближе к текущей в кромешной мгле подземной реке Стикс, а потом и еще глубже, еще дальше, о самые потаенные подземные глубины, туда, где обитают Озирис, Эреб, Минос, Сатана и другие боги подземных царств, властители вечного мрака, повелители царства мертвых. Всякий раз, когда ему уже начинало казаться, что оно избавилось наконец от пожиравшего его микроорганизма, где-нибудь, а какой-нибудь части аморфных тканей снова возникало это особенное, специфическое ощущение — то ли зуд, то ли покалывание, то ли звон; ощущение, что что-то не так, — а вслед за ним приходила боль, совершенно непохожая на ту, какую испытывает человек, и ему приходилось снова отсекать от себя все новые и новые массы отравленной плоти. Оно уходило все глубже и глубже, все дальше вниз, а Геенну, а Преисподнюю, а Царство Забвения, с Ад. На протяжении многих веков оно с удовольствием исполняло роль Сатаны и других сил зла, ту роль, которую приписали ему люди, и находило для себя огромное удовлетворение, играя на людских суевериях и предрассудках. А теперь оно оказалось приговоренным к той самой участи, которая органически вытекала из мифов и преданий, рожденных с его же собственной помощью. Оно сознавало всю горькую иронию этого. Его свергли. Его прокляли и осудили на адские муки. И теперь сею оставшуюся жизнь оно будет пребывать во мраке и отчаянии — и при этом вполне возможно, что всей жизни ему осталось лишь несколько часов. Ну что ж, оно, по крайней мере, оставляет после себя двух апостолов. Кейла и Терра. Эти двое выполнят то, что оно хотело сделать само, выполнят даже после его смерти. Они отомстят и посеют террор. Они оба идеально подходят для такого рода работы. Сейчас, когда от нее оставался лишь мозг и минимальное количество поддерживающих жизнь тканей, перевоплощающаяся протоплазма за билась глубоко в подземные скалы, в их укромные подземные убежища, и дожидалась здесь конца. Последние минуты своей жизни она провела, исходя яростью и ненавистью ко всему человечеству.
Кейл подвернул штанину на правой ноге и принялся рассматривать лодыжку. В свете газовой лампы он увидел на ноге два небольших красных пятнышка. Икра в этих местах вздулась, припухла, сильно чесалась и болезненно реагировала на прикосновения. — Кто-то укусил, — сказал он. — Клещи, — ответил Джин Терр, бросив взгляд на ногу. — Они забираются под кожу. Будет чесаться, пока не вытащишь их оттуда. Прижги сигаретой. — У тебя есть? — Есть еще штучки две, с травкой. — Терр ухмыльнулся. — Такие тоже сгодятся, парень. И клещи сдохнут под кайфом. Они выкурили по сигарете, а потом Кейл воспользовался своим еще тлевшим окурком, чтобы прижечь клещей. Это оказалось не очень больно. — Когда ходишь по лесу, — проговорил Терр, — заправляй брюки в сапоги. — Они у меня и были заправлены. — Да? А тогда как же клещи забрались? — Понятия не имею. Они еще покурили немного, потом Кейл вдруг нахмурился и проговорил: — Он же нам обещал, что нас никто не остановит и никто не сможет причинить нам вреда. Он сказал, что мы будем под Его защитой. — Точно, парень. Мы теперь неуязвимы. — Тогда почему же у меня вдруг эти клещи? — спросил Кейл. — Ну, парень, это чепуха… — Но если мы и вправду под защитой… — Слушай, а может быть, Он через клещей решил скрепить наш договор кровью. Просто у Него такой подход. Понимаешь? — Тогда почему они тебя не покусали? Джитер пожал плечами: — Да какое это имеет значение, парень? А кроме того, эти долбаные клещи вцепились в тебя до нашего с Ним договора. Разве не так? — А-а-а. — Кейл кивнул. Голова у него уже немного кружилась от наркотика. — Да. Это верно. Они некоторое время посидели молча. Потом Кейл спросил: — Как ты думаешь, когда мы сможем отсюда двинуться? — Тебя же, наверное, еще вовсю ищут. — Н-ну, если никто не сможет причинить мне вреда… — Смысла нет создавать себе лишние трудности, — сказал Терр. — Пожалуй. — Отсидимся несколько дней тут. Пока не спадет ажиотаж. — Да. И тогда уберем тех пятерых, про которых Он говорил. А потом что? — Двинем куда-нибудь. Навострим лыжи и двинем. Подальше. — Куда? — Куда-нибудь. Он подскажет. — Терр помолчал немного, потом добавил: — Расскажи мне, а? Как ты пришил свою бабу и пацана? — Что тебе рассказать? — Все, парень. Расскажи, что ты при этом чувствовал. Что чувствуешь, когда решаешь свою старуху? Но самое главное, расскажи мне о пацане. Что испытываешь, когда отправляешь на тот свет пацана, а? Я, парень, пацанов никогда не убивал. Ты его сразу пришил пли потянул удовольствие? А ощущение такое же, как когда убивал старуху, пли другое? И как именно ты его порешил? — Да как именно? Просто взял и убил. Они мне мешали. — Путались под ногами, мешали жить, да? — Оба. — Точно. Я знаю, как это бывает. А как ты их прикончил? — Ее пристрелил. — И пацана тоже пристрелил, да? — Нет. Этого я зарубил. Топориком для мяса. — Не врешь?! Они сидели, курили сигареты с травкой, негромко жужжала лампа, снизу, из отверстия в полу, едва слышно журчала подземная речка, а Кейл со всеми подробностями рассказывал о том, как он убивал Джоанну, Денни и полицейских. Время от времени Джитер перебивал его и, перемежая свои слова характерным хихиканьем накурившегося марихуаны человека, говорил: — Ну, парень, с тобой-то мы повеселимся! Ты да я — уж вдвоем-то мы повеселимся, верно? Рассказывай еще. Давай, рассказывай. Уж мы-то с тобой, парень, повеселимся!
Глава 44
ПОБЕДА?
Брайс стоял на тротуаре и изучающе всматривался в городок. Прислушивался. Выжидал. Вокруг не было никаких признаков перевоплощающейся протоплазмы, но Брайс все еще никак не хотел поверить, что с нею покончено. Он опасался, что стоит ему только расслабиться и на мгновение утратить бдительность, как она тут же откуда-нибудь выскочит и бросится на него. Тал Уитмен лежал, вытянувшись на мостовой. Дженни и Лиза прочистили и промыли раны, нанесенные ему кислотой, засыпали их порошком антибиотика и наложили временные повязки. В Сноуфилде по-прежнему стояла такая тишина, словно городок лежал на дне моря. Закончив заниматься Талом, Дженни проговорила: — Надо немедленно доставить его в больницу. Рапы неглубокие, но может наступить вторичная реакция на попавшие в организм яды. Начнется аллергия, внезапное удушье, или же возникнут сбои в кровяном давлении. В больнице есть любое оборудование, даже для самого скверного случая, а тут у меня нет ничего. Осматривая улицу, переводя взгляд от ее начала к концу и обратно, Брайс возразил: — А что, если мы сядем в машину, поедем, окажемся как бы в движущейся ловушке и вот тут-то и появится оно? — Возьмем с собой пару разбрызгивателей. — Мы можем даже не успеть ими воспользоваться. Оно может выскочить из какого-нибудь люка на дороге, перевернуть снизу машину и убить нас, даже не прикоснувшись и не дав нам возможности воспользоваться разбрызгивателями. Они постояли, прислушиваясь к окружавшему их городу. Ни звука. Только легкое дуновение ветерка. — Оно мертво, — проговорила наконец Лиза. — Откуда нам это знать, — возразил Брайс. — Но неужели же вы сами не чувствуете?! — стояла на своем Лиза. — Это же ясно! Его больше пет! Оно мертво, это же просто разлито в воздухе, как вы не чувствуете! Брайс вдруг ощутил, что девочка и в самом деле права. Присутствие перевоплощающейся протоплазмы давало себя знать не только физически, но и духовно: он же сам ощущал тогда висевшее в воздухе зло, почти осязаемую враждебность. По-видимому, вековечный враг создавал вокруг себя какое-то поле — вибрации? или какие-нибудь психические волны? — невидимое и неслышное, но воспринимаемое на уровне инстинктов. Оно как будто оставляло и душе грязное пятно. Теперь такого поля не было. В воздухе не висела угроза. Брайс глубоко вздохнул. Воздух был чистый, свежий, приятный. — Если не хотите прямо сейчас забираться в машину, не волнуйтесь, — проговорил Тал. — Можем подождать. Со мной все в порядке. И ничего не случится. — Я передумал, — сказал Брайс. — Можем ехать. Никто нам не помешает. Лиза права. Оно мертво.Когда они уже уселись в одну из полицейских машин и Брайс включил мотор, Дженни вдруг сказал: — Помните, что говорил Флайт об интеллекте этого создания? Когда он разговаривал с ним в тот раз через компьютер, Флайт сказал ему, что разум и самосознание оно обрело только после того, как стало питаться разумными существами. — Я помню, — ответил Тал, сидевший вместе с Лизой на заднем сиденье. — Ему еще тогда эти слова очень не понравились. — Ну и что? — спросил Брайс. — Что вы хотите сказать, доктор? — Ну, если оно обрело разум и знания, поглотив разум и знания людей, которых съело… не следует ли отсюда, что жестокость, злобу и коварство оно тоже получило от нас, от людей? — Дженни видела, что ее вопрос пришелся Брайсу сильно не по душе, но все-таки продолжала гнуть свое. — Когда начинаешь об этом задумываться всерьез, то приходит мысль, что, быть может, единственные настоящие дьяволы — это сами люди. Не все, не род людской в целом, а только те из нас, кто как-то изломан внутренне, кто не способен испытывать сочувствие, сострадание. Если этот оборотень был и вправду тем Сатаной, о котором говорится в легендах, то возможно, что зло, которое есть в людях, вовсе не отражение Дьявола в них. Возможно, наоборот, что сам Дьявол всего лишь отражает, воплощает в себе ту дикость и жестокость, что присущи роду человеческому. Быть может… мы сами породили Дьявола в своем воображении. Брайс помолчал,задумавшись. Потом произнес: — Быть может, вы и правы. Наверное даже, правы. Нечего бояться всяких дьяволов, демонов и ночных привидений… В конечном счете все равно нет ничего страшнее тех чудовищ, что живут среди нас. И Ад мы себе устраиваем сами. Они поехали вниз по Скайлайн-роуд, под гору. Сноуфилд казался безмятежным и прекрасным. Никто не пытался их останавливать.
Глава 45
ДОБРО И ЗЛО
В воскресенье вечером, через неделю после того как Дженни и Лиза обнаружили погруженный в кладбищенскую тишину Сноуфилд и пять дней спустя после смерти перевоплощающейся протоплазмы, обе они пришли в больницу Санта-Миры навестить Тала Уитмена. Попавшие в его организм ядовитые выделения чудовища все-таки оказали свое воздействие, а кроме того, он подхватил какую-то инфекцию, но даже в самые тяжелые дни жизнь его не была в серьезной опасности. Сейчас Тал был уже практически здоров, полон сил и ему не терпелось выписаться из больницы и отправиться домой. Когда Лиза и Дженни вошли в его палату, он сидел в кресле возле окна и читал какой-то журнал. Он уже был в форме, а пистолет и кобура лежали на маленьком столике рядом с креслом. Не успел он встать, как Лиза обняла его, и он тоже обнял ее в ответ. — Отлично выглядишь, — сказала ему Лиза. — Ты тоже, — ответил он ей. — Прямо на миллион долларов. — А ты на два миллиона. — От тебя теперь все женщины без ума будут. — А от тебя мальчишки. Это был уже устоявшийся ритуал, который они повторяли каждый день, небольшая церемония выражения взаимных симпатий, всегда вызывавшая у Лизы довольную улыбку. Дженни это нравилось: Лиза сейчас улыбалась редко. За всю минувшую неделю она еще ни разу не засмеялась, ни одного-единственного раза. Тал поднялся, и Дженни тоже обняла его. — Брайс сейчас у Тимми, — сказала она. — Он подойдет чуть попозже. — Знаете, — проговорил Тал, — по-моему, сейчас он стал воспринимать его положение намного лучше, чем прежде. На протяжении всего последнего года было видно, как то, что стряслось с Тимми, добивает его, медленно убивает. Кажется, теперь он нашел в себе силы переносить это. Дженни кивнула, соглашаясь. — Он вбил себе в голову, что было бы лучше, если бы Тимми умер. Но за то время, что мы пробыли в Сноуфилде, у него в душе что-то изменилось. Мне кажется, он пришел для себя к выводу, что ничего не может быть хуже, чем смерть. Там, где продолжается жизнь, остается и надежда. — Это верно. — Если еще через год Тимми все еще будет в коме, Брайс может опять передумать. Но пока он благодарен судьбе просто за то, что получил снова возможность сидеть каждый день возле его постели и держать его за руку. За живую, теплую руку. — Она посмотрела на Тала и строго спросила: — А что это ты в форме? — Меня выписывают. — Потрясающе! — обрадовалась Лиза.Сейчас в одной палате вместе с Тимми лежал восьмидесятидвухлетний старик, подсоединенный к аппарату поддержания жизни, к аппарату искусственного дыхания и к равномерно попискивающему монитору, следящему за работой сердца. Хотя Тимми был подсоединен только к аппарату жизнеобеспечения, он пребывал в столь же глубоком забытьи, как и его престарелый сосед. Лишь раз или два за чае, не чаще, у мальчика начинали вдруг дрожать веки, искривлялись губы или пробегала еле заметная судорога по щеке. Ни одно такое движение, однако, не длилось дольше минуты. И это было все. Брайс сидел возле кровати, просунув руку через ее боковую решетку и мягко сжимая руку сына. После всего пережитого в Сноуфилде такой пусть и минимальный контакт с мальчиком стал все-таки приносить ему удовлетворение. И с каждым днем, уходя из этой палаты, Брайс чувствовал себя все бодрее и оптимистичнее. Уже наступил вечер, и поэтому в палате сейчас стоял полумрак. На стене у изголовья кровати висела лампа, несильно освещавшая только лицо Тимми и оставлявшая в тени его накрытое простыней тело. Но даже при таком тусклом свете Брайс видел, как постепенно сохнет и увядает его сын, как он худеет, несмотря на то что аппарат исправно прогоняет через его тело питательный раствор. Скулы на лице мальчика прорезались все острее и острее. Вокруг глаз пролегли темные круги. Подбородок казался трогательно слабым и хрупким. Мальчик и раньше был не по возрасту мал. Теперь же и вовсе казалось, что рука, которую держал сейчас Брайс, принадлежала не Тимми, а совсем маленькому ребенку, чуть ли не грудничку. Но все-таки эта рука была теплой. Она была теплой. Подержав сына за руку, Брайс неохотно выпустил ее. Он пригладил мальчику волосы, расправил простыню, взбил подушку. Пора было уходить, но Брайс не мог этого сделать: он плакал. И не хотел выходить из палаты в слезах. Брайс взял несколько бумажных салфеток из стоявшей на тумбочке коробки «клинекса», поднялся, подошел к окну и посмотрел на улицу. Он плакал каждый раз, как приходил сюда, но теперь это были иные слезы, не такие, как прежде. Теперь они очищали, уносили чувство горечи, лечили душу. Медленно, постепенно, по капле, но они исцеляли его.
— Выписывают? — переспросила, нахмурившись, Дженни. — Кто это сказал? — Я! — весело улыбнулся Тал. — С каких это пор ты стал сам себе врачом? — Я подумал и решил: неплохо было бы посоветоваться с кем-нибудь еще. Ну вот я и вызвал самого себя на консилиум. И после консультации я-врач порекомендовал себе-больному отправляться домой. — Тал… — Честное слово, док, я себя прекрасно чувствую. Опухоли прошли. Температура нормальная уже два дня подряд. Если в этой больнице и есть несомненный кандидат на выписку, то это прежде всего я. А если вы меня здесь оставите, док, то моя смерть будет на вашей совести. — Смерть? — Больничная еда меня доконает. — По-моему, он уже даже танцевать может, — сказала Лиза. — А когда это ты успела стать врачом? — спросила ее Дженни и, обращаясь к Талу, проговорила: — Ну что ж… давай-ка я взгляну. Снимай рубашку. Он быстро и легко сбросил с себя рубашку, совеем не так — медленно и осторожно, — как снимал ее еще накануне. Дженни аккуратно разбинтовала повязку и увидела, что Тал прав: опухолей не было, незаживших швов тоже. — Мы победили, — ликующе заверил ее Тал. — Обычно по вечерам мы никого не выписываем. Распоряжения подписываются только с утра, а сама выписка происходит с десяти до двенадцати. — Для того и правила, чтобы их нарушать. — И это говорит полицейский?! Какой ужас! — поддразнила его Дженни. — Послушай, Тал, мне было бы спокойнее, если бы эту ночь ты провёл здесь, просто на всякий случай… — А мне было бы спокойнее, если бы я ее провел не здесь, иначе я тут просто свихнусь. — Ты и в самом деле твердо решил?.. — Он в самом деле решил твердо, — ответила за него Лиза. — Док, они спрятали мой револьвер в сейф, туда, где у них тут хранятся наркотики, — сказал Тал. — Мне пришлось упрашивать, унижаться, уговаривать, убеждать одну милую сестричку, которую зовут Паула, чтобы она мне его вернула. Я сказал ей, что вы меня сегодня вечером точно выпишете. Так вот, Паула очень душевная сестричка, очень симпатичная, незамужняя, привлекательная, соблазнительная… — Не заводись, — сказала Лиза. — Тут несовершеннолетние. — И я бы очень хотел пригласить ее на свидание, — продолжал Тал. — Я бы хотел провести с ней целую вечность. Но док, если вы не отпустите сейчас меня домой, то мне придется отдать револьвер назад, в сейф, и тогда старшая сестра может узнать, что Паула выдала мне его раньше, чем меня окончательно выписали, и если это случится, то Паулу могут уволить с работы, но если она потеряет работу из-за меня, то я никогда уже не смогу пригласить ее на свидание. А раз я не смогу пригласить ее на свидание, то я не смогу и жениться на ней а если я на ней не женюсь, то у нас не будет маленьких Талов Уитменов, никогда не будет, потому что я в таком случае уйду в монастырь и приму обет безбрачия, потому что я уже решил, что Паула — та самая женщина, что создана именно для меня. Так что, если вы меня не выпишете, вы не только искалечите всю мою последующую жизнь, но и, вполне возможно, лишите мир какого-нибудь маленького черного Эйнштейна или Бетховена. Дженни расхохоталась и утвердительно закивала головой: — Ну ладно, ладно. Сейчас напишу пропуск на выписку, и можешь уходить. Тал стиснул ее в объятиях и принялся поспешно натягивать рубашку. — Пауле придется за тобой хорошенько присматривать, — проговорила Лиза. — А то ты так умеешь уговаривать, что тебя оставлять одного с женщинами опасно. Или надо хотя бы колокольчик тебе подвешивать. — Кто умеет уговаривать? Я? — Он затянул на себе пояс с прицепленной к нему кобурой. — Да стеснительнее Тала Уитмена нет никого на свете. Всю свою жизнь всегда был застенчив. — Ну прямо, — не поверила ему Лиза. — Если ты… — начала было Дженни. Но тут Тал вдруг словно впал в неистовство. Он отбросил Дженни в сторону, одновременно сшибая ее на пол. Она упала, больно ударившись об пол и сильно стукнув плечо о заднюю спинку кровати. Падая, она услышала выстрелы, увидела, что Лиза тоже падает, но не поняла, ранена ли ее сестра или же просто пытается укрыться; на какое-то мгновение Дженни даже почудилось, что это Тал вдруг открыл по ним стрельбу. Но потом, уже с пола, она увидела, что он еще только вытягивает из кобуры свой револьвер. В палате раздался еще один громоподобный выстрел и зазвенело стекло. Это разлетелось окно у Тала за спиной. — Бросай оружие! — заорал Тал. Дженни повернула голову и увидела в дверях палаты Джина Терра. Его силуэт отчетливо прорисовывался на фоне более ярко освещенного больничного коридора.
Стоя возле окна, в глубокой тени, Брайс вытер слезы и скомкал промокшую бумажную салфетку. Он услышал у себя за спиной в палате какой-то негромкий звук, подумал, что это вошла нянечка, обернулся — и увидел Флетчера Кейла. На мгновение Брайс застыл от неожиданности, не веря собственным глазам. Кейл стоял возле кровати Тимми, в ногах, и в слабом свете лампы его едва можно было узнать. Он не заметил Брайса. Он смотрел на мальчика и широко улыбался. На лице его было написано безумие. В руке он держал револьвер. Брайс сделал шаг вперед от окна и одновременно потянулся за собственным револьвером. Он слишком поздно сообразил, что он сейчас не в форме и потому револьвера на привычном месте нет. У него был с собой только короткоствольный личный револьвер тридцать восьмого калибра в закрепленной на лодыжке кобуре, и Брайс нагнулся было, чтобы достать его. Но Кейл уже успел его увидеть. Револьвер в его руке дернулся вверх, поворачиваясь в сторону Брайса, и три быстрых, друг за другом, выстрела почти слились в один. Брайсу показалось, что его как будто ударили с левой стороны по корпусу тяжелым молотом, а грудь ему обожгла острая боль. Уже тяжело падая на пол, он услышал, как револьвер убийцы пролаял еще трижды.
— Бросай оружие! — заорал Тал, Дженни увидела Джитера, и в этот момент прогремел выстрел. Пуля ударила в металлическую спинку кровати и, видимо, рикошетом отлетела в потолок, потому что сверху посыпались обломки звукоизолирующей плитки. Приседая на корточки, Тал с ходу выстрелил дважды. Первая пуля попала Джитеру в левое бедро. Вторая угодила ему прямо в живот, приподняв его и отбросив назад, в угол, где он и приземлился в луже крови. Джитер больше не двигался. — Что за черт? — проговорил Тал. Дженни на четвереньках устремилась вокруг кровати, зовя Лизу и не зная, жива ее сестра или нет. Кейлу уже часа два как было крайне худо. У него началась лихорадка. Глаза жгло, было такое ощущение, словно в них что-то попало. Все это обрушилось на него совершенно внезапно. У него страшно разболелась голова, а потом, когда он уже стоял у кровати мальчишки, его вдруг стало подташнивать. Ноги у него ослабели и дрожали. Кейл не мог взять в толк, что происходит; ведь он же должен быть неуязвим, он под защитой. Конечно, могло случиться и так, что Люцифер просто потерял терпение из-за того, что они еще целых пять дней отсиживались в той пещере. Возможно, эта болезнь — Его предупреждение, что пора приниматься за дело. И наверное, она пройдет сразу же, как только он убьет мальчишку. Точно. Скорее всего именно так и будет. Кейл усмехнулся, глядя на лежащего в коме ребенка, начал поднимать револьвер и поморщился: кишки ему свело судорогой. Тут он заметил какое-то движение в тени, возле окна, и отшатнулся от кровати. Человек. Мужик. Прет на него. Хэммонд. Кейл открыл стрельбу и, желая не рисковать, выстрелил шесть раз подряд. Голова у него кружилась, перед глазами все плыло, в руках тоже была какая-то слабость, и он с трудом удерживал револьвер: даже на таком близком расстоянии ему было трудно хорошо прицелиться. Но Хэммонд упал, грохнулся и теперь лежал неподвижно. Хотя освещение в палате было тусклым и в глазах у него по-прежнему все плыло, Кейл все-таки различил капли крови, появившиеся на стене и на полу. Он радостно рассмеялся в предвкушении того момента, когда болезнь отступится от него — ведь он же уже выполнил одно из тех поручений, что дал им Люцифер, — и неуверенно, покачиваясь, двинулся к упавшему, намереваясь сделать последний, окончательный выстрел. Даже если Хэммонд был уже мертв как бревно, Кейлу все равно хотелось всадить пулю в его мерзкую самоуверенную рожу, превратить ее в сплошную кровавую кашу. А потом он разделается с мальчишкой. Именно этого и хотел от них Люцифер. Пять трупов. Хэммонда, мальчишку, Уитмена, доктора Пэйдж и девчонку. Он доковылял до Хэммонда, начал наклоняться над ним… …и вдруг шериф зашевелился. Его рука с быстротой молнии выхватила из кобуры револьвер, и, прежде чем Кейл успел как-то среагировать, прямо ему в лицо ударила вдруг яркая вспышка. Выстрел попал в цель. Кейл зашатался и упал. Револьвер вылетел у него из рук, и Кейл слышал, как он ударился об одну из ножек кровати. «Не может этого быть, — подумал Кейл. — Ведь я же под защитой. Мне никто по может причинить вреда».
Лиза была жива. Она упала за кровать не потому, что в нее попали, но просто спасаясь от начавшейся стрельбы. Дженни изо всех сил обняла ее. Тал присел на корточки возле Джина Терра. Главарь банды был мертв, в груди у него зияла большая рапа. Возле палаты собралась уже небольшая толпа: нянечки, сестры, несколько врачей, один или двое больных в халатах и тапочках. Примчался рыжеволосый дежурный санитар. Он был явно потрясен до глубины души: — На втором этаже тоже стреляли! — Это Брайс, — проговорила Дженни, и ее пронзила волна холодного страха. — Что тут, черт возьми, происходит? — спросил Тал. Дженни помчалась к пожарной лестнице, что была в конце коридора, распахнула дверь и, прыгая через две ступеньки, бросилась вниз. Тал нагнал ее, когда она была уже на площадке второго этажа. Он толкнул дверь, и они вместе чуть не вывалились в коридор. Здесь возле палаты, в которой лежал Тимми, тоже толпились люди. Дженни протолкалась через толпу зевак. Сердце ее билось так, что, казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. На полу кто-то лежал, над ним склонилась сестра. Вначале Дженни показалось, что это был Брайс. Но потом она увидела, что шериф сидит в кресле и другая сестра осторожно срезает ему с плеча рубашку. Он был всего лишь ранен. Брайс с трудом выдавил из себя улыбку: — Будьте осторожны, док. Если вы станете всегда появляться на месте происшествия с такой скоростью, то можете заслужить прозвище «скорой». Дженни расплакалась. Она просто не сумела сдержать себя. Кажется, ничему на свете она сейчас не могла бы обрадоваться так, как этим звукам его голоса. — Чепуха, царапина, — проговорил Брайс. — Рассуждаешь, совсем как Тал, — сказала она, смеясь сквозь слезы. — А с Тимми все в порядке? — Кейл хотел убить его. Если бы я тут не оказался… — Это Кейл? — Да. Дженни вытерла рукавом слезы и осмотрела рану Брайса. Пуля прошла через плечо навылет, войдя спереди и выйдя со спины. Не было никаких оснований думать, что внутри она могла расщепиться на осколки, но Дженни все равно решила отправить Брайса на рентген. Кровь из раны текла спокойно, не встречая, по-видимому, внутренних препятствий, но и не хлестала, и потому Дженни сказала сестре, чтобы та просто наложила с обеих сторон тампоны, смоченные раствором борной кислоты. Ничего серьезного, он поправится. Убедившись, что состояние Брайса не вызывает опасений, Дженни повернулась к лежавшему на полу. Его положение оказалось гораздо серьезней. Он был ранен в грудь, и сестра уже расстегнула на нем пиджак, разорвала рубашку. Раненый кашлял, на губах у него выступала ярко-алая кровь. Дженни отправила одну из нянечек за носилками и вызвала дежурного хирурга. Только после этого она обратила внимание, что у Кейла лихорадка. Лоб у него был горячий, лицо побагровело. Взяв его за руку, чтобы проверить пульс, Дженни увидела, что вся рука усыпана темно-красными точками. Она подняла рукав и обнаружила, что такие же точки идут дальше по всей руке. И на другой руке было то же самое. Ни на лице, ни на шее, однако, таких точек не было. Бледные красные точки были на груди, она поначалу даже приняла их за капельки крови. Теперь, посмотрев повнимательнее, она увидела, что это такие же точки, как на руках. Корь? Нет. Это что-то другое. Что-то гораздо хуже, чем корь. Вернулась нянечка с двумя санитарами, которые везли носилки на колесиках, и Дженни сказала ей: — Придется закрыть этот этаж на карантин. И третий этаж тоже. Здесь какая-то инфекция, и я пока не очень понимаю, что это такое. После того как ему сделали рентген и наложили постоянную повязку, Брайса поместили в палату, находившуюся почти напротив той, в которой лежал Тимми. Боль в плече у него не ослабевала, а становилась все сильнее: нервы, поначалу бывшие в шоке, постепенно восстанавливали свою чувствительность. От болеутоляющих средств Брайс отказывался: ему хотелось сохранить ясную голову до тех пор, пока он не разберется, что и почему здесь произошло. Через полчаса после того как его привезли в палату, Дженни зашла навестить его. Выглядела она усталой, но от этого не менее красивой. Одна только возможность видеть ее была для Брайса самым лучшим лекарством. — Как Кейл? — спросил он. — Пуля не затронула сердце. Она пробила легкое, разорвала артерию. Если бы все ограничивалось только этим, то можно было бы давать оптимистический прогноз. Но ему предстоит оправляться не только от раны: у него еще и особая, горная разновидность сыпного тифа. — Сыпного тифа? — Брайс даже заморгал от удивления. — На правой икре у него два ожога от сигареты, точнее, шрамы от двух ожогов. По-видимому, в этом месте он прижигал клещей. А лесные клещи разносят эту болезнь. Судя по виду шрамов, я бы предположила, что клещи покусали его дней пять-шесть назад, а это как раз примерно соответствует продолжительности инкубационного периода сыпняка. Наверное, болезнь по-настоящему скрутила его только в самые последние часы. У него должна была кружиться голова, он должен чувствовать озноб, слабость в руках и ногах… — Вот почему он так плохо стрелял! — проговорил Брайс. — Трижды, почти в упор, а попал в меня только один раз. — Поблагодари Бога за то, что он наслал на него клещей. — Пожалуй, это действительно выглядит как акт Божьей милости, — сказал, подумав немного, Брайс. — В самом деле так, правда? Но интересно, что все-таки они с Терром затевали? Почему они рискнули заявиться сюда, да еще с оружием? Я еще могу понять, почему Кейлу понадобилось убить меня или даже Тимми. Но при чем тут Тал, ты и Лиза? — Ты не поверишь, — ответила Дженни, — но с прошлого вторника Кейл вел дневник, который он назвал «События после Богоявления». Похоже, он и Терр заключили сделку с Дьяволом.
В понедельник, в четыре часа утра, спустя всего шесть дней после того богоявления, о котором писал Кейл, он умер в окружной больнице. Перед самой смертью он открыл глаза, посмотрел безумным взглядом на сиделку, потом перевел глаза куда-то ей за спину и увидел там нечто, приведшее его в ужас, хотя сама сиделка потом клялась, что там никого и ничего не было. Он еще нашел в себе силы, чтобы поднять руки, словно защищаясь, и закричать, но крик вышел слабым, это был предсмертный хрип, а не крик. Когда сестра попыталась успокоить его, он ответил: «Нет, моя судьба должна быть другая». И умер.
Тридцать первого октября, через шесть с небольшим педель после событий в Сноуфилде, вечером накануне Дня Всех Святых Тал Уитмен и Паула Тори — та медсестра, в которую влюбился полицейский, — устроили в доме Тала в Санта-Мире маскарад. Брайс пришел, нарядившись ковбоем. Дженни оделась женщиной-ковбоем, а Лиза — ведьмой, нацепив высокую остроконечную шляпу и густо измазав лицо черной краской. Тал открыл им дверь и проговорил: «Ко-ко-ко!» На нем был костюм цыпленка. Более дурацкого костюма Дженни в жизни не видела. Она расхохоталась так, что не сразу поняла, что и Лиза тоже хохочет вовсю. Это был первый ее смех за все последние шесть недель. До этого она в лучшем случае только улыбалась, выдавливала из себя улыбку. Теперь же она хохотала до тех пор, пока по щекам у нее не покатились слезы. — Подумаешь тоже, нашли над чем смеяться, — проговорил Тал, притворяясь обиженным. — Посмотрели бы вы со стороны на эту ведьму! Он подмигнул Дженни, и она поняла, что Тал выбрал себе костюм цыпленка, думая именно о том, какое впечатление он произведет на Лизу. — Бога ради, — взмолился Брайс, — пойдемте в дом, не будем стоять в дверях. Если тебя кто-нибудь увидит в подобном облачении, Тал, в городе исчезнет последнее уважение к полиции! В этот вечер Лиза была активной участницей всех разговоров, игр и забав и много смеялась. Жизнь для нее начиналась заново.
В августе следующего года, в самый первый день своего свадебного путешествия, Дженни вышла на балкон гостиничного номера, с которого открывался прекрасный вид на Уайкики-Бич. На балконе уже стоял Брайс. Вид у него был хмурый. — Ты что такой мрачный? Из-за того, что мы уехали от Тимми, да? — спросила она. — Нет. Хотя я о нем постоянно думаю. В последнее время… у меня почему-то появилось такое ощущение, что с Тимми со временем все будет в порядке. Странно. Как предчувствие какое-то. Этой ночью мне приснилось, что Тимми вышел из комы, проснулся, сказал мне «привет!» и попросил «биг-мак». Но… только этот сон был совсем не похож на те, что я видел раньше. На этот раз все было словно наяву. — Ну, ты ведь никогда не терял надежду. — Одно время я потерял ее. Но потом она снова вернулась. Они постояли еще немного молча, слушая, как волны набегают на пляж и ощущая обвевавший их теплый морской ветерок. Потом они снова занялись любовью. Этим вечером они ужинали в одном из хороших китайских ресторанов Гонолулу. Весь вечер они пили шампанское, хотя официант вежливо предложил им перейти на чай, чтобы, как он выразился, «не испортить» вкусовые ощущения от блюд. За десертом Брайс проговорил: — В этом сне Тимми мне еще кое-что сказал. Когда я удивился, что он проснулся, вышел из комы, он вдруг произнес: «Но, папочка, если есть Дьявол, значит, должен быть и Бог тоже. Ты разве не понял этого, когда встретился с Дьяволом? Бог не позволил бы мне проспать всю мою жизнь». Дженни посмотрела на него, не вполне понимая, к чему он клонит. — Но бойся, — улыбнулся Брайс. — Я не чокнулся. И не собираюсь посылать деньги всяким шарлатанам-телепроповедникам, чтобы они молились за Тимми. Черт побери, я даже не собираюсь начать ходить в церковь. Воскресенье — это единственный день, когда я могу отоспаться! Я говорю не о той стандартной, привычной вере и Бога, какая обычно имеется в виду… — Да, но ведь это все-таки был не настоящий Дьявол, — сказала она. — Ты так думаешь? — Это было какое-то доисторическое создание, которое… — А может быть, это было и то и другое одновременно? — Слушай, что это мы с тобой начинаем? — Философский спор. — Во время медового месяца? — Я на тебе женился еще и потому, что ты — большая умница. Потом, уже в постели, перед тем как сон сморил их обоих, Брайс проговорил: — Знаешь, это многоликое чудище заставило меня попять: в мире гораздо больше неизвестного и таинственного, чем я думал раньше. Теперь я уже ничего не стану исключать заранее. И оглядываясь сейчас назад, вспоминая обо всем, что мы пережили в Сноуфилде, и о том, как Тал надел кобуру с револьвером за секунду до появления Джитера, и о том, что Кейл промахнулся из-за того, что подхватил сыпной тиф… знаешь, мне кажется, сама судьба хотела, чтобы мы остались в живых. Они заснули, проснулись перед самым рассветом, занялись любовью, потом опять заснули. После обеда, когда они вдвоем прогуливались вдоль пляжа, Дженни подумала о том, что шелест набегающих на берег волн чем-то похож на поскрипывание огромных колес. Этот шелест напомнил ей вдруг старинную поговорку о жерновах судьбы, которые мелют неторопливо, но перемалывают все. Шорох волн сделал этот образ еще ярче, осязаемее, и ей вдруг представилась гигантская мельница и медленно вращающиеся огромные каменные жернова. — Ты думаешь, у всего этого есть какой-то смысл? Какая-то цель? — спросила она. Брайсу не понадобилось уточнять, что она имела в виду, он ответил сразу: — Да. У всего. У каждого поворота в жизни, у каждого ее зигзага есть какой-то смысл и какая-то цель. Морская пена с шипением набегала на песок. Дженни вслушивалась в ровный гул мельничных жерновов и думала о том, какие чудеса и тайны, какие ужасы и радости перемалывают они сейчас, в этот самый момент, и чем еще отзовется этот помол в их будущей судьбе.

СОШЕСТВИЕ ТЬМЫ (роман)
Роковой оказалась одна из темных декабрьских, ночей для дочери полицейского Пенни Доусон, когда она была разбужена загадочными звуками в спальне. Леденящий душу страх сковал ее от увиденного. Даже в мыслях Пенни не могла предположить, что придется сразиться в смертельной схватке с посланцами Ада. Всего сутки длится это чудовищное противостояние. Но какие это сутки…
Пролог
8 ДЕКАБРЯ, СРЕДА, 1.12
Пенни Доусон проснулась и услышала, как кто-то тихо крадется по темной спальне. Вначале ей показалось, что этот звук она только что слышала во сне. Ей снились лошади и как она катается на них в какой-то сельской местности. Самый чудесный, самый замечательный и самый захватывающий сон из всех, что видела она за одиннадцать с половиной лет своей жизни. А надо сказать, что вся она наполнена была снами. Почувствовав, что просыпается, Пенни постаралась остановиться, чтобы продлить сонное великолепие, но неожиданно уловила тот странный звук. Он ее испугал. Должно быть, это всего лишь лошадиное фырканье или шелест сена в конюшне. И бояться нечего. Но странный непрошеный звук никак не увязывался со сном, и в конце концов ей пришлось все-таки проснуться. Звук исходил из противоположного угла комнаты, от кровати Дэйви. Но он явно не принадлежал семилетнему мальчугану, любителю пиццы и мороженого. Скорее это был какой-то пакостный, противный звук. Определенно пакостный. Что придумал Дэйви на этот раз? Неужели что-то новенькое? Пенни села в кровати. Вглядевшись в расплывчатые тени и ничего не увидев, она стала внимательно прислушиваться. Снова раздался какой-то шуршащий, шипящий звук. Затем он прекратился. Она затаила дыхание и прислушалась. Опять шипение, потом что-то похожее на шарканье. В комнате царила кромешная тьма. Тут было всего одно окно, прямо у кровати Пенни, но оно было задернуто, а фонари на улице не горели, так что снаружи не проникал даже лучик света. Зато дверь была приоткрыта. Дети всегда спали с приоткрытой дверью, чтобы отец в случае необходимости мог услышать их. Но свет во всей квартире был погашен, так что и эта щель ничем не могла помочь. Пенни тихо позвала брата: — Дэйви? Никакого ответа. — Дэйви, это ты? Громкие шорохи. — Дэйви, прекрати немедленно! Тишина. Эти семилетние мальчишки бывают просто несносными. Пенни заявила решительным тоном: — Слушай, прекрати свои дурацкие шутки, или ты очень пожалеешь. В ответ — какой-то сухой звук. Как будто наступили на старый, иссохший лист. Звук был уже недалеко от нее. — Дэйви, ну не будь таким противным. Совсем близко. Что-то двигалось к ее кровати. Нет, это не Дэйви. Он обожал собственные шутки и первый начинал смеяться. Он бы уже давно захихикал. Сердце у Пенни вдруг забилось сильнее. Она подумала, что это вполне может быть новый сон, как про лошадей. Только на этот раз неприятный. Но в то же время она прекрасно понимала, что уже давно проснулась. Глаза заломило от напряжения, с каким она вглядывалась в темноту. Пенни потянулась к лампе для чтения, встроенной в изголовье кровати. Очень долго она не могла нащупать кнопку, наугад шаря руками во тьме. Странные звуки были уже возле ее кровати, подобрались к ней вплотную. Наконец Пенни нащупала кнопку, и конус света упал на пол. Рядом ничего не было. Правда, лампа не могла рассеять все тени, но Пенни не увидела ничего необычного, все было на своих местах. Дэйви лежал в своей кровати, укутавшись в одеяло. Над ним висели большие плакаты со сценами из «Звездных войн» и других фантастических фильмов. Странные звуки исчезли, но теперь Пенни твердо знала, что они были, она их слышала. Пенни не принадлежала к тому типу девочек, которые в подобной ситуации выключили бы свет, накрылись одеялом и обо всем забыли. Папа как-то сказал, что ее любопытства хватит на тысячу девчонок. Пенни отбросила одеяло, слезла с кровати и встала, внимательно прислушиваясь. Ни звука. Она подошла к Дэйви и внимательно посмотрела на него. Сюда не попадал свет ее лампы, лицо Дэйви было в тени, но все равно было видно, что он крепко спит. Она склонилась к его лицу, чтобы посмотреть, не моргает ли он, и решила, что он действительно спит. Вдруг за спиной у нее опять послышался шум. Пенни быстро обернулась. Звуки теперь раздавались из-под ее собственной кровати. Оттуда слышалось шипение, писк, поскрипывание. Негромкое, но ясно различимое. Это что-то под кроватью как будто понимало, что Пенни боится его, и, похоже, специально шумело, чтобы досадить ей. «Нет, — подумала Пенни, — все это глупости». Это ведь не домовой, она уже взрослая для домовых, вот Дэйви мог бы их испугаться. А это… мышка. Да! Точно! Всего лишь маленькая мышка, напуганная больше ее самой. Пенни почувствовала вдруг, как с души у нее свалился камень. Она не любила мышей. Ей, конечно, не нравилось, что они шастают у нее под кроватью, но ведь в маленькой мышке нет ничего страшного. Да, они довольно противные, но съесть-то ее они никак не могут. Она стояла, прижав к груди маленькие руки, и думала, что ей теперь делать. Пенни взглянула на Скотти Байо, который улыбался с плаката, висевшего у нее над кроватью, и вдруг захотела, чтобы он оказался здесь и спас ее, взяв ситуацию под контроль. Скотти Байо, вне всяких сомнений, не испугался бы простой мыши никогда в жизни. Скотти Байо залез бы под кровать и схватил бы этого ничтожного грызуна за хвост, чтобы затем выбросить его на улицу, уже безвредного для Пенни, потому что Скотти Байо был не только смелым, но и добрым человеком. Но Скотти здесь не было и быть не могло. Он был в Голливуде и занимался своим телевизионным шоу. Оставался только папа. Пенни не хотела будить его до тех пор, пока точно не убедится, что под кроватью действительно была мышь. Если папа придет искать мышь и, перевернув всю комнату вверх дном, ее не обнаружит, то он будет относиться к ней как к ребенку. О Господи! Ей всего два месяца до двенадцати лет, и такого отношения к себе она просто не перенесет. Сама Пенни не могла заглянуть под кровать, потому что там было очень темно, а одеяло свисало с кровати почти до самого пола. Существо под кроватью — эта самая мышка — прошипело что-то и заскреблось. Это было немного похоже на звук человеческого голоса. Бесстрастный тоненький голос словно говорил что-то на иностранном языке. Могла ли обыкновенная мышь издавать подобный звук? Пенни взглянула на Дэйви. Тот крепко спал. У изголовья его кровати к стене была прислонена пластмассовая бейсбольная бита. Девочка взяла ее в руки. Неясное шипение и скрежет под ее кроватью продолжались. Пенни подошла к ней и опустилась на четвереньки. Держа биту в правой руке, она протянула ее вперед, подцепила свисавшее до пола одеяло и закинула его на кровать — туда, где оно и должно было быть. И все равно она ничего не увидела. Под кроватью было совершенно темно. Вдруг шум прекратился. Пенни внезапно почудилось, что кто-то или что-то смотрит на нее из-под кровати… и оно намного больше обыкновенной мыши. Это «что-то», видимо, обладало разумом. Оно наверняка знало, что перед ним всего лишь маленькая беззащитная девочка. И оно знало, что может совершенно спокойно уничтожить ее, при желании, конечно. Да нет же, это просто ее выдумки, плод чересчур богатого воображения. Кусая губы, решив не вести себя как маленький ребенок, Пенни сунула под кровать биту. Она поводила ею туда-сюда, пытаясь заставить это «что-то» либо громко завизжать, либо выбежать из укрытия. Вдруг она почувствовала, как кто-то схватил конец биты. Пенни попыталась потянуть ее на себя. Ей это не удалось. Она стала тащить биту к себе изо всех сил, выкручивая ее во все стороны. Но биту держали очень крепко. Вдруг палку вырвали из рук Пенни. Бита исчезла под кроватью под скрип и урчание. Пенни отбросило через всю комнату, и она ударилась о кровать Дэйви, даже не осознав, как оказалась здесь, в противоположной части комнаты, когда еще секунду назад стояла на четвереньках возле своей кровати. В следующее мгновение она стукнулась головой о кровать брата. Дэйви что-то промычал, глубоко вздохнул, но продолжал спать как ни в чем не бывало. Вот теперь Пенни была готова звать отца. Пусть к ней отнесутся как к ребенку, она согласна даже на это. И она закричала: — Папа, папа! Но слова эти только отпечатались у Пенни в уме. Изо рта у нее не вылетело ни звука. На некоторое время она просто онемела. Свет замигал. Провод от лампы змеей тянулся к розетке, вмонтированной в стену за кроватью. Существо, находившееся под ней, пыталось выдернуть вилку из розетки. — Папа! На этот раз ей удалось издать какой-то хриплый шепот. И тут лампа погасла. Она услышала, как в темноте что-то движется. «Что-то» вылезло из-под кровати и поползло по полу. — Папа, папа! Ей по-прежнему удавалось только шептать. Пенни сглотнула слюну, у нее опять ничего не получилось. Она сглотнула слюну еще раз, пытаясь овладеть онемевшим языком. Послышался явственный скрип. Вглядываясь в темноту, Пенни вся тряслась от страха. Она вдруг поняла, откуда идет новый звук: скрипели дверные петли, которые давно не смазывали. Во мраке она неясно различила, что дверь широко распахнута. Скорее она почувствовала это, а не увидела. Почувствовала, как тьма из коридора вливается во тьму комнаты. Раньше дверь была лишь чуть приоткрыта, теперь она была распахнута настежь. Петли перестали противно скрипеть. Звук, сопровождавший «что-то», постепенно удалялся. По крайней мере, оно не собиралось нападать на Пенни. «Что-то» решило уйти… Пенни услышала, как оно приближается к порогу. Вот оно уже в коридоре. Теперь метрах в трех от входной двери… Ушло… Пенни уже ничего не слышала. Секунды тянулись, как минуты. Что же это было? Это была не мышь. И это был не сон. Что же тогда? Пенни встала. Ноги у нее противно дрожали. Она наугад пошарила в темноте, пытаясь нащупать лампу в изголовье кровати Дэйви. Нажала кнопку, и свет озарил спящего мальчика. Пенни быстро отвернула лампу от его лица. Она подошла к двери, остановилась и внимательно прислушалась. Тишина. Все еще дрожа от страха, Пенни закрыла дверь. Щелкнул язычок замка. Ладони у нее были влажными, и она вытерла их о пижаму. Свет от лампы Дэйви доставал до ее кровати. Пенни наклонилась и заглянула: там ничего страшного. Она вытащила из-под кровати биту, которая оказалась прокушенной в трех местах. Бита была очень легкая, она предназначалась для игры с пластмассовым мячом. Но чем же ее прокололи или прокусили? Клыками? Пенни залезла под кровать и вставила вилку от своей лампы в розетку. Потом подошла к кровати Дэйви и выключила его лампу. Села на кровать и, посмотрев на закрытую дверь, задумчиво произнесла: — Да… Что же это все-таки было? Чем дольше Пенни думала, тем большей фантастикой казалось ей происшедшее. Может быть, бейсбольная бита просто застряла в каркасе кровати, а дырки в ней получились случайно, от каких-нибудь торчащих винтиков или шурупов? Может быть, дверь в холл открылась от обыкновенного сквозняка? Может быть… В конце концов, изнемогая от любопытства, Пенни прошла в холл, включила там свет, убедилась в том, что, кроме нее, никого больше нет, и аккуратно закрыла за собой дверь в спальню. Тишина. Дверь в спальню отца была, как всегда, приоткрыта. Она подошла к ней и стала внимательно прислушиваться. Папа, как обычно, храпел. Других звуков она не улавливала. Она вновь подумала, а не разбудить ли его. Он был полицейским, а точнее, лейтенантом Джеком Доусоном. У него, между прочим, был пистолет. Если бы что-нибудь постороннее оказалось в квартире, он быстро бы с ним расправился. С другой стороны, если бы она разбудила его и они ничего бы не нашли, то папа стал бы говорить с ней, как с ребенком, даже как с маленьким ребенком. Некоторое время она поколебалась и передумала, громко при этом вздохнув. Нет. Не стоит это того, чтобы рисковать таким унижением. С бьющимся сердцем Пенни прошла через весь холл к входной двери и подергала ее. Как и положено, дверь была заперта. Рядом с дверью на стене была прибита вешалка для одежды. Пенни сняла с одного из крючков закрытый зонт. В случае чего его металлический наконечник был бы неплохим оружием. Выставив зонт перед собой. Пенни прошла в гостиную, включила свет и все осмотрела. Она исследовала нишу, где стоял обеденный стол, а также маленькую кухню в форме буквы L. Она не увидела ничего необычного. Кроме окна. Находившееся над самой раковиной для мойки посуды окно было открыто. Холодный декабрьский воздух сквозь двадцатисантиметровую щель проникал на кухню. Пенни точно знала, что, когда она уходила спать, окно было закрыто. А если уж папе захотелось подышать свежим воздухом, он обязательно закрыл бы окно, возвращаясь в свою спальню. Папа был очень аккуратным, поскольку ему приходилось быть примером для Дэйви, который всегда был неаккуратным и невнимательным. Пенни поставила стул рядом с мойкой, взобралась на него и подняла окно еще выше — настолько, чтобы выглянуть на улицу. Ее обдало струей холодного воздуха, шею защипало от морозного ветра. На улице было совсем темно. В их доме на всех четырех этажах внизу не горело ни одного огонька. Она услышала только завывание ветра. Вот он перевернул несколько бумажек на тротуаре, крутанул каштановые волосы Пенни, развернув их, как знамя. Это было единственное движение вокруг. Пенни вспомнила: рядом с окном их спальни проходила вниз железная пожарная лестница, но возле кухонного окна ничего подобного не было. Вообще никаких вспомогательных средств, благодаря которым потенциальный грабитель мог бы забраться к ним в квартиру. Да и не был это обыкновенный грабитель. Разве мог взломщик спрятаться под кроватью маленькой девочки? Пенни закрыла окно и вернула стул на место. Зонт она отнесла обратно в холл и повесила его на крючок, хотя очень не хотелось расставаться с таким отличным оружием. Выключив повсюду свет, не оглядываясь в темноту, она вернулась в спальню, скользнула в кровать и накрылась одеялом. С головой. Потом села. Дэйви продолжал так же посапывать. Ветер ломился в окно. Где-то далеко слышалась сирена — или полицейской машины, или «скорой помощи». Какое-то время Пенни сидела, опираясь на подушки. Лампа для чтения обрисовала вокруг нее защитный конус света. Ей хотелось спать, но она боялась темноты. Боялась и злилась на себя. Разве ей не почти двенадцать лет? И разве в двенадцать еще боятся темноты? Она ведь уже полтора года единственная женщина во всем доме, с тех пор как умерла мама. Минут десять Пенни стыдила и уговаривала себя выключить свет и лечь спать. Но не так-то просто выключить свой мозг. Что же это все-таки было? Да ничего. Просто сон или сильный сквозняк. Только это, и ничего больше. Тишина. Она ждала. Ничего. Пенни потихоньку заснула.СРЕДА, 1.34
Винc Вастальяно уже почти спустился с лестницы, когда вдруг услышал сдавленный крик. Не пронзительный вопль — хриплый стон, который наверху он мог бы и не расслышать. И было абсолютно ясно, что хрипевший человек был до смерти напуган. Вине застыл, держась одной рукой за перила. Наклонив голову, он внимательно прислушивался. Сердце у него вдруг заколотилось быстрее обычного, тело мгновенно сковал страх. Еще крик. Росс Моррант, телохранитель Винса, был на кухне, где готовил что-нибудь перекусить. Это кричал Мор-рант. Тут не могло быть ошибки — это Моррант. Послышался шум борьбы, звук бьющейся посуды. Задыхающийся, перепуганный Моррант закричал не своим голосом: — Нет!.. Нет, нет! Пожалуйста, не надо!.. Господи!.. О Боже!.. Нет!.. Винса прошиб пот. Моррант был крупным, крепким парнем. Он с детства слыл большим забиякой, а годам к восемнадцати уже выполнял убийства по заказу. Любил это занятие и получал за услуги хорошие деньги. Через несколько лет у него была репутация человека, не гнушающегося никакой работой. Ему всегда удавалось выполнить задание, как бы хорошо ни охранялись его жертвы. Вот уже год и два месяца Моррант работал у Винса в качестве киллера, сборщика платежей и телохранителя. Ни разу за все это время Винc не видел страха на лице Морранта. Он не мог представить себе испуганного Морранта. И теперь, услышав, как тот молит кого-то о пощаде, он не поверил себе. Раздался какой-то непонятный звук. Это был не Моррант. Живое существо не могло произвести такого звука. Это был взрыв гнева и ненависти, вопль существа из фантастического фильма. До этого момента Вине думал, что Морранта просто избивают конкуренты из числа торговцев наркотиками, которые пришли за ним, чтобы увеличить свою долю на рынке. Но последний звук сверху заставил Винса подумать, что он очутился в ином, неестественном мире. Ему стало холодно и одиноко. Вастальяно очнулся, спустился на несколько ступенек по лестнице и посмотрел в сторону входной двери. Путь был свободен. Он вполне мог сбежать вниз и, открыв дверь, смыться из дома, пока нападающие еще не вышли из кухни и не увидели его. Но сомнения его удерживали, и он медлил. Тишину прорезал дикий вопль отчаяния и агонии и быстро оборвался. Винc прекрасно понял, что это означает: его телохранитель уже мертв. Вслед за этим свет в доме погас. Видимо, кто-то выключил главный рубильник в подвале. Решив, что дальше медлить нельзя. Винc Вастальяно заспешил по лестнице в кромешную тьму по направлению к холлу, но вдруг услышал, как со стороны кухни кто-то движется по направлению к нему. Винc окаменел. Это не были обыкновенные человеческие шаги — слышалось какое-то непонятное поскрипывание, шипение и шарканье. Эти звуки заставили Винса содрогнуться, вся кожа у него моментально покрылась мурашками. Он чувствовал что-то мерзкое, какое-то существо с белыми мертвецкими глазами и холодными липкими конечностями. И это существо направляется прямо к нему. Фантастические видения не были его уделом. У прагматичного Винса Вастальяно было такое же богатое воображение, как у ствола дуба. И все же он не мог преодолеть ужаса, охватившего его своими подлыми щупальцами. Ноги ему не повиновались, сердце, которое и так бешено билось, теперь норовило выпрыгнуть из груди. Он понял, что живым до двери ему не добраться. Винc повернулся и стал подниматься вверх. В одном месте он споткнулся, но сумел удержаться на ногах. К тому моменту, когда он добрался до спальни, приближавшиеся звуки становились все громче, все противнее, все ужаснее… и алчнее. Через окна в спальню проникал слабый свет с улицы, достаточный, чтобы увидеть богатую обстановку: итальянскую кровать восемнадцатого века, роскошный рабочий стол с хрустальным письменным прибором, ценные антикварные безделушки. Если бы Винc обернулся, он бы смог разглядеть хотя бы очертания своего преследователя. Но Винc не оборачивался. Он боялся посмотреть назад. Вдруг ему почудился какой-то неприятный запах. Похоже, сера? Нет, но что-то весьма похожее на серу. Глубоко в подсознании Винс догадывался, кто преследует его. Его мозг отказывался назвать это существо, но подкорка его знала. Вот почему Вастальяно и бежал в такой слепой панике, с такими широко раскрытыми, испуганными глазами, как у животного при ударе молнии. Ноги несли его через спальню к ванной. В полной тьме со всего ходу он наткнулся на дверь. Она распахнулась. Винс быстро заскочил в ванную, захлопнул дверь и запер ее изнутри. В самый последний момент он полуобернулся и увидел во мраке множество мертвенно-бледных глаз. Десяток. А может, и больше. По двери кто-то ударил, потом еще раз и еще. Нападавших было много. Дверь затряслась, замок задрожал, но пока удерживал напор. Раздался еще удар, еще. Существа в спальне шипели и скрипели намного громче, чем прежде. Хотя издаваемые ими звуки были явно внеземного происхождения, понять их было нетрудно: существа злились из-за того, что упустили Винса. Ведь только что он был почти в их власти. Предметы! Да, именно предметы! Как ни странно, но это слово лучше всего подходило для них. Винсу казалось, что он сходит с ума. Но подкорка упрямо твердила: предметы! Не сторожевые собаки. Не какие-либо известные ему животные. Просто что-то из области кошмаров. Только существа из кошмаров могут превратить Росса Морранта в перепуганную до смерти, беспомощную, беззащитную жертву. Существа стали громко грызть дверь. Судя по звуку, клыки у них были достаточно острыми. Даже очень острыми. Кто же они такие, черт их возьми? Винс всегда был готов к схватке. Потому что насилие, в его понимании, было неотъемлемой частью того мира, в котором он жил. Торговец наркотиками не может рассчитывать на жизнь такую же спокойную, как у школьного учителя. Но к возникшей ситуации Винс не был готов. Человек с пистолетом — понятно. Человек с ножом — тоже. Заряд динамита в машине — ясно. Со всем этим можно разобраться. Но то, что происходит сейчас, — это сумасшествие. Пока «предметы» грызли и ковыряли дверь. Винс нащупал унитаз, опустил крышку и сел на него, потянувшись к телефону. В двенадцать лет впервые в своей жизни он увидел телефон — в ванной своего дяди Дженнаро Карамацца. С того момента телефон в туалетной комнате был для него бесспорным признаком богатства и высокого социального положения. Когда Вине смог купить первую квартиру, он распорядился установить по телефону в каждой жилой и каждой ванной комнате. Так поступал он при покупке каждого своего жилища. Для него телефон в ванной значил так же много, как и белый «Мерседес». Как же теперь его радовал телефон в туалете! Он может позвать на помощь. Но гудка в трубке почему-то не было. В темноте Вине постучал по рычажку, надеясь вернуть аппарат к жизни. Линия молчала… Неизвестные существа так же скреблись и бились в дверь. Винс поднял взгляд на единственное в ванной окно. Нет, слишком маленькое, через него не вылезешь. Матовое стекло практически не пропускало света. Им не пробиться через дверь, сказал себе отчаявшийся Вастальяно. В конце концов им это надоест, и они уйдут из дома. Конечно же, так все и будет. Его внимание привлек новый звук — металлический скрежет. Он исходил из ванной. С этой стороны двери. Винс поднялся, сжав кулаки и настороженно вглядываясь в кромешную тьму. Неожиданно какой-то металлический предмет грохнул о кафель ванной. Винс отпрянул в сторону и от страха вскрикнул. Дверная ручка. О Господи! Им все-таки удалось справиться с замком! Винс бросился к двери, решив держать ее своим телом. Но, к удивлению, обнаружил, что ручка на месте. То же самое и с кнопкой замка. Трясущимися руками он провел по дверным петлям. И с ними все в порядке. Никаких повреждений. Что же тогда упало на пол? Дрожа от страха, Винс повернулся, прислонился спиной к двери и вгляделся в темноту, пытаясь понять, что же все-таки произошло. Винс инстинктивно чувствовал, что он уже не один в ванной. Страх острыми коготками впился ему в спину. Решетка от вентиляционной шахты — вот что с таким грохотом упало на кафель. Винс вновь обернулся и посмотрел на стену прямо над дверью. Из зияющего вентиляционного выхода на него уставились два серебристых глаза. Это все, что он смог разглядеть. Глаза без зрачков горели каким-то неестественным огнем. Эти глаза не знали жалости. Крыса? Нет. Крыса не смогла бы сбросить вентиляционную решетку. К тому же у крыс глаза красные. Разве не так? Существо зашипело на Вастальяно. Он тихо сказал: — Нет. Бежать куда-либо не было возможности. «Предмет» оттолкнулся от стены и стал наплывать на Вастальяно. Он ударил Винса в лицо. Клыки пронзили щеки, проникли в глубину рта, задев десны и язык. Винса охватила нестерпимая боль. Его чуть не вырвало от ужаса, но усилием воли он подавил позыв. Он боялся задохнуться от рвотной массы. Клыки впились ему в голову. Он отпрянул назад, сильно ударившись поясницей о край раковины, но это было ничто по сравнению со зверской болью в лице и голове. Все происходившее казалось чем-то… нереальным. Этого не могло быть. Но это все-таки происходило. Винс Вастальяно не просто попал в какой-то иной, страшный мир. Он летел в ад. Вине хотел крикнуть, но никак не мог набрать воздуха в легкие. Тогда он схватил руками вонзившееся в него существо. На ощупь оно было холодным и липким. Таким же противным, как какой-нибудь осьминог или другой глубоководный житель океана. Вастальяно удалось сорвать эту прохладную тварь с лица. Он зажал ее в пальцах на расстоянии вытянутой руки, боясь, что, если отпустит это существо, оно тут же бросится на него опять и на этот раз вопьется своими клыками в горло или глаза. Что же это? Откуда взялось? Подсознательно он хотел разглядеть это, узнать, понять, откуда появились эти проклятые твари на свет Божий. Но мозг Винса, осознавая весь ужас происходящего, благодарил Всевышнего за царившую темень. Кто-то укусил Винса за левое колено. Что-то поползло вверх по его правой ноге, раздирая по пути брюки. Из вентиляционного отверстия стали появляться другие существа. Кровь ручьями текла по лбу Винса, застилая глаза, но он все же увидел в ванной комнате уже несколько дюжин мертвенно-серебристых глаз. Видимо, здесь было несколько десятков этих маленьких чудовищ. Не иначе, все это — дурной сон. Ночной кошмар. Но боль, зверская боль во всем теле была настоящей. Хищные убийцы облепили грудь, спину и плечи. Они были размером с крысу, но это были не крысы. Облепив все тело Винса, они пытались повалить его. Он был вынужден опуститься на колени, выпустив из рук ту тварь, которую отодрал от лица. Он беспорядочно молотил кулаками вокруг себя, пытаясь отбиваться от их клыков. Одна из тварей откусила часть уха. Другая впилась ему в подбородок. Вастальяно понял, что выдыхает те же восклицания, которые он слышал недавно, когда забивали его телохранителя Росса Морранта. Темнота вокруг него еще более сгустилась. Винс провалился в абсолютное безмолвие.Часть I. СРЕДА, 7.53–15.30
Нас учат мудрецы, что жизнь Есть тайна. С готовностью ученью верим мы. Но часто тайны ранят нас. И камнем Мы падаем в объятья тьмы. Дождь, буря, шквал теней. Дневной свет гаснет, Все поглощает ночь. И зло мрачно. И все вокруг, весь этот мир прекрасный, В холодный склеп из зла погребено. Пришла печаль, а с ней и смерть сама. Всю землю обняла густая тьма.Книга Печалей
Глава 1
Первое, что услышал Джек Доусон от Ребекки на следующее утро, было: — У нас два тела. — Что? — Два трупа. — Я знаю, что означает «тело». — Позвонили буквально пару минут назад. — Я тела не заказывал. — Отнесись к: этому серьезно. Полиция уже там. — До начала нашей смены еще семь минут. — Ты хочешь сказать, что мы не поедем туда, поскольку это слишком глупо с их стороны — умереть так рано? — Разве у нас нет времени для того, чтобы хоть немного просто поболтать? — спросил Доусон. — Нет. — Видишь ли, ты, по идее, должна была мне сказать: «Здравствуйте, детектив Доусон». А я бы ответил: «Здравствуйте, детектив Чандлер». Тогда ты меня должна спросить: «Как спали, детектив Доусон?» А в ответ я бы… Ребекка нахмурилась: — Их убили точно так же, как двух предыдущих, Джек. Много крови и никаких улик. Один к одному с теми убийствами в воскресенье и вчера. Но тогда трупов было по одному, а на этот раз одновременно убиты два человека. У обоих криминальные связи. В сумрачной полицейской дежурке, наполовину сняв свой плащ, неосознанно улыбаясь, Джек Доусон в недоумении уставился на Ребекку. Его не удивило сообщение о новом убийстве или даже о двух. Он был офицером полиции и занимался именно расследованием убийств. Он не был удивлен и тем, что убийство было необычным. В конце концов, это Нью-Йорк. Во что он никак не мог поверить, так это в то, как она разговаривала с ним в данный момент, этим утром. Ребекка властно сказала: — Надень-ка лучше свой плащ. — Ребекка… — Они уже ждут нас. — Ребекка, вчера вечером… — Опять сложный случай. — Она надела на плечо свою сумочку. — Разве мы не… — На этот раз мы имеем дело с действительно ненормальным человеком. Направляясь к двери, она повторила еще раз: — Да, с настоящим психом. — Ребекка… Она остановилась в дверях и покачала головой. — Ты знаешь, о чем я иногда мечтаю? Он внимательно посмотрел на нее. — Иногда я представляю, что вышла замуж за Тайни Тэйлора и сижу в доме в Коннектикуте, на своей напичканной электротехникой кухне, пью кофе и ем сыр. Дети — на целый день в школе. В доме работает приходящая горничная. А я сижу и думаю об обеде с подругами в теннисном клубе. «Зачем она так со мной?» — мысленно спросил себя Джек. Ребекка увидела, что он все еще не сдался, и сказала весьма настойчиво: — Ты что, не слышал меня, Джек? Нам надо ехать на место происшествия. — Да. Я… — У нас два трупа. Она вышла из дежурки, которая без нее стала еще более обшарпанной и холодной. Джек тяжело вздохнул. Он натянул на себя плащ. И последовал за ней.* * *
Джек чувствовал себя неважно. Может, оттого, что Ребекка так странно говорила с ним сегодня, а может, потому, что утро выдалось пасмурным и мрачным. А Джек был очень восприимчив к погоде и к такому небу — плоскому, тяжелому и серому. Небоскребы Манхэттена из камня, стекла и бетона словно поблекли, голые деревья были цвета золы, будто их обожгло сильным пожаром. Джек вылез из их невзрачной машины за полквартала от Парк-авеню, и сырой ветер тут же нанес ему удар в лицо. Декабрьский воздух пахнул могильной затхлостью. Джек поспешно сунул руки в глубокие карманы своего плаща. Ребекка Чандлер, которая вела машину, вышла за ним, громко захлопнув дверцу. Ветер тут же подхватил ее длинные светлые волосы, распахнул пальто, обвив его полами ноги Ребекки. Похоже, ее не трогали ни холодный ветер, ни всеобщая серость, окутавшая огромный Нью-Йорк. «Вот это женщина! А какой профиль!» — подумал Джек Доусон. У Ребекки было породистое классическое лицо, какое моряки в давние времена вырезали на носу кораблей. Тогда верили, что красота отгоняет злые морские силы и отвращает козни судьбы. Он неохотно перевел взгляд с Ребекки на три патрульные машины, припаркованные под углом к тротуару. На одной из машин горел красный проблесковый маячок, единственное яркое пятно в этом сером дне. Офицер Гарри Албек, знакомый Джека Доусона, стоял на ступеньках перед приятным кирпичным домом, где и произошли последние убийства. Несмотря на форменный темно-синий плащ, шерстяной шарф и перчатки, он дрожал от холода. Взглянув на лицо Гарри, Джек понял, что виной этому не только плохая погода. Видимо, он был глубоко потрясен тем, что увидел в доме. — Плохо? — только и спросила Ребекка. Гарри кивнул: — Ничего хуже не видел, лейтенант. В свои двадцать три — двадцать четыре года он выглядел сейчас намного старше. Джек спросил Гарри: — Кто погибшие? — Парень по имени Вине Вастальяно и его телохранитель Росс Моррант. По улице пронесся очередной порыв ледяного ветра, и Джек съежился. — Богатый дом, — сказал он. — Вы не видели, что внутри! — ответил Гарри. — Похоже на лучший антикварный магазин Пятой авеню. — Кто обнаружил тела? — спросила Ребекка. — Женщина по имени Шелли Паркер. Надо сказать, настоящая красотка. Наверное, подружка Вастальяно. — Она здесь? — Да, она в доме. Но я не думаю, что от нее будет толк. Я думаю, намного больше информации можно выбить из Невецкого и Блэйна. Ребекка, стоявшая на ледяном ветру в расстегнутом пальто, спросила: — Невецкий и Блэйн? А кто они такие? Гарри объяснил: — Ребята из отдела по борьбе с наркотиками. Они вели слежку за Вастальяно. — И его убили прямо у них под носом? — Только не говорите это в беседе с ними. Они у нас такие ранимые! И было их не двое, а целая группа из шести человек вела наблюдение за всеми выходами из дома. Они обложили его со всех сторон. Но каким-то образом кому-то удалось забраться в дом и прикончить Вастальяно и его телохранителя. И выбрались они из дома незамеченными. Создается впечатление, что Невецкий и Блэйн мирно почивали в тот момент, когда в доме творились эти дела. Джеку стало жаль их. Но Ребекка никого жалеть не собиралась. Она сказала: — Черт возьми, я их по головке гладить не стану. Похоже, они бросили пост и где-то шлялись. — Я так не думаю. Они действительно были поражены происшедшим. Клянутся, что держали под контролем весь дом. — Что еще можно сказать в свое оправдание! — отреагировала Ребекка. — Всегда надо давать коллегам какой-то шанс. Нельзя быть такой самоуверенной, — сказал ей Джек. — Да что ты говоришь? К черту! Я не верю в слепое полицейское братство, не ожидаю его ни от кого и сама этого чувства не проявляю. Я знала много хороших полицейских и если уверена, что человек хорошо делает свое дело, то всегда помогу ему выпутаться из неприятностей. Но в то же время я знаю и массу настоящих придурков, которым нельзя доверить даже брюки, потому что они непременно наденут их ширинкой назад. Гарри бросил на нее недоумевающий взгляд. А она завершила свою гневную тираду: — Я не удивлюсь, если Невецкий и Блэйн именно такие придурки. Джек тяжело вздохнул. Ошарашенный Гарри уставился на Ребекку. Тут к тротуару подъехал темный пикап без каких-либо надписей. Из него вышли трое: один — с камерой, двое других — с чемоданчиками в руках. — Вот и ребята из лаборатории, — сказал Гарри. Вновь прибывшие быстро пошли к дому. Что-то в их внешности напомнило Джеку трех коршунов, летящих за добычей. Порыв ветра снова пронесся по улицам, и снова Джек вздрогнул от холода. Голые ветви деревьев ударились друг о друга и стали похожи на ожившие серые скелеты из фильмов ужасов.* * *
Ребята из медлаборатории разбирались на кухне с останками Росса Морранта, перемешанными с майонезом, горчицей и кусочками салями. Видимо, он погиб за приготовлением ночного ужина. На втором этаже дома, в ванной, кровь была абсолютно везде: она покрывала весь кафельный пол, каждый угол помещения. На стенах и по краям ванной виднелось множество кровавых отпечатков. Джек и Ребекка стояли в дверях, внимательно все разглядывали, ни к чему не прикасаясь. Все останется нетронутым, пока эксперты не закончат своей работы. Винсент Вастальяно, полностью одетый, лежал на полу между ванной и раковиной, упираясь головой в основание унитаза. Это был большой, грузный мужчина, черноволосый, с густыми бровями. Брюки и рубашка были сплошь пропитаны кровью. Один глаз вырван, другой, широко раскрытый, глядел непонятно куда. Одна рука была крепко сжата в кулак, другая, вытянутая во всю длину, покоилась на полу. Лицо, шею, руки покрывало множество небольших ран. Одежда была порвана местах в пятидесяти-шестидесяти, и сквозь дыры виднелись такие же раны, как и на открытых частях тела. — Намного хуже, чем трое остальных, вместе взятых, — прокомментировала Ребекка. — Да, намного хуже, — согласился с ней Джек. Это был четвертый изуродованный труп за последние четыре дня. Скорее всего, Ребекка права — на этот раз они явно имели дело с сумасшедшим маньяком. Но не с тем маньяком, который творит свои зверства, когда у него начинается припадок. Этот был разборчив и убивал, видимо, вполне сознательно. Может быть, даже преследуя определенную цель, — все жертвы в той или иной мере были замешаны в незаконной торговле наркотиками. Ходили слухи о том, что в данный момент разгорается война между мафиозными группировками за обладание территориями. Но Джека такое объяснение не устраивало. Какая там борьба за территории. Убивал не профессионал. Это были варварские, садистские убийства, говорившие о зверской натуре совершившего их человека. Честно говоря, Джек предпочел бы обычное дело с наемным убийцей. Нынешняя ситуация была намного сложнее. Поймать маньяка, воодушевленного какой-то своей высокой целью, — это то же самое, что вычислить нескольких хладнокровных хитрых профессиональных киллеров. — По обилию ран похоже на предыдущие случаи, — сказал Джек. — Но эти раны отличаются от тех, что мы видели. Те были проникающими, а здесь они такие рваные, пожалуй, их можно определить как глубокие царапины. Скорее всего, преступления совершены разными людьми. — Нет, по-моему, один и тот же человек, — не согласился Джек. — Ты торопишься с заключением. — Это одна манера. — С чего ты это взял? — Чувствую. — Не пробуй взять меня мистикой, как вчера. — Ты это о чем? — Ты прекрасно знаешь сам. — Вчера мы просто нащупывали возможные ниточки. — В лавчонке колдуна, торгующего всяким дерьмом вроде козлиной крови и волшебных амулетов. — Ну и что из того? Это все же была вполне действенная версия. Замолчав, они продолжали внимательно рассматривать тело. — У меня складывается такое впечатление, что его кто-то куснул раз сто. Как будто его… жевали. — Ребекка пожала плечами. — Да, кто-то с небольшими челюстями, — поддакнул Джек Доусон. — Может, крысы? — Слишком классный домик. Не думаю, что здесь могут водиться крысы. И в таком количестве. — Да, согласна. Но учти, что у нас один большой счастливый город, Джек. Хорошие и плохие дома связаны одними улицами, одной коммуникационной системой, населенной одними и теми же крысами. Это демократия в действии. — Если это были крысы, то они покусали его уже после смерти. Наверное, их привлек запах крови, ведь крысы любят поживиться падалью. Но у них нет смелости или агрессивности, они не нападают на людей, даже когда их полчища. Или тебе приходилось слышать о чем-либо подобном? Ребекке нечего было возразить. — Нет, — сказала она. — Значит, крысы прибежали сюда, когда он загнулся, и быстренько подкрепились за его счет. Но это были всего лишь крысы, Джек, обрати внимание! Не надо превращать их во что-то мистическое. — Разве я это сказал? — Ну, скажем, вчера ты меня довел этим до белого каления. — Мы всего лишь пытались кое-что выяснить, Ребекка. — Болтая с колдуном, — поддела его Ребекка. — Это был не колдун, а… — Придурок. Это был настоящий придурок. А ты стоял и слушал его бред в течение целого получаса. Джек глубоко вздохнул. Ребекка сказала: — Это укусы крыс, и они прикрыли настоящие раны. Нам придется подождать вскрытия, чтобы узнать истинную причину смерти. — Я уверен, что результат будет тем же, что и в остальных случаях. Под этими укусами большое число проникающих ранений. — Может быть, ты и прав, — сказала Ребекка. Джек отвернулся от тела, а Ребекка не отводила от него глаз. Дверь в ванную была в некоторых местах расщеплена, а замок оказался сломан. Осматривая повреждения, Джек спросил у толстого краснолицого патрульного, стоящего неподалеку: — Вы увидели дверь уже в таком состоянии? — Нет, нет, лейтенант. Когда мы сюда пришли, она была заперта. Джек посмотрел на патрульного, словно тот был Иисусом, сошедшим на землю. — Что вы сказали?! Ребекка, пораженная не меньше Джека, переспросила: — Заперта? Толстяк ответил: — Видите ли, у этой девицы, Паркер… простите, мисс Паркер… у нее был ключ. Она вошла в дом, позвала Вастальяно, решила, что он еще спит, и поднялась наверх, чтобы разбудить его. Она увидела, что дверь в ванную заперта. Поскольку Вастальяно не откликался, она испугалась, не случилось ли у него чего-нибудь с сердцем. Мисс Паркер заглянула под дверь, увидела его руку и все это море крови. Она сразу же позвонила по 911. Я и Тони — мой напарник — были здесь первыми. Мы решили сломать дверь на случай того, что парень мог быть еще жив, но с первого же взгляда все поняли. Позже мы обнаружили на кухне и его дружка. — Дверь в ванную была закрыта изнутри? — повторил вопрос Джек. Патрульный поскреб свой массивный подбородок и сказал: — Да, да, именно. Изнутри. Я в этом абсолютно уверен. Если бы она была закрыта снаружи, мы бы, наверное, не стали ее ломать, правильно? Вот, посмотрите сюда. Видите? Специалисты называют это интимным замком. Он не может закрываться снаружи. Ребекка вмешалась в разговор: — Значит, убийца не мог закрыть дверь после того, как расправился с Вастальяно? — Нет. — Джек внимательно рассматривал сломанный замок. — Похоже, что Вастальяно сам закрыл за собой дверь, пытаясь спастись от преследователей. — Но его же растерзали, — сказала Ребекка. — Да. — В закрытой ванной. — Да. — Где окно представляет собой лишь узкую щелочку? — Ага. — Оно слишком узкое, чтобы убийца мог через него скрыться. — Даже чересчур узкое. — Так как же это было сделано? — Если бы я знал, черт возьми! Ребекка серьезным голосом сказала Джеку: — Только не говори со мной о мистике. — Да ты что, Ребекка! — Тут должно быть какое-то объяснение. — Я в этом абсолютно уверен. — И мы найдем это объяснение. — Не сомневаюсь. — И достаточно логичное объяснение. — Конечно, Ребекка.* * *
В это утро у Пенни Доусон случилась крупная неприятность. Школа Уэлтон, частная школа, располагалась в большом, просторном четырехэтажном доме на чистой зеленой улице в тихом, респектабельном районе. Нижний этаж был оборудован для занятий музыкой и спортом. На втором этаже начинались классы — с первого по третий, на третьем — с четвертого по шестой. Кабинеты администрации и студия звукозаписи находились на четвертом этаже. Пенни училась в шестом классе, на третьем этаже. Именно в переполненной, гудящей раздевалке третьего этажа и случилась неприятность. Перед началом первого урока в раздевалке было полным-полно детей, стаскивающих с себя теплые куртки, тяжелые ботинки и прочую зимнюю одежду. Снег обещали где-то к полудню, и все были одеты соответственно. Первый снег в году! Для городских детей он всегда был торжественным событием. Предвкушение этого праздника подняло всем настроение. В раздевалке слышались смех, визг, звуки потасовок, восторг по поводу того, как много снега может выпасть. Кто-то о чем-то таинственно перешептывался, ронял на пол учебники, стучал металлическими коробками с завтраком. Стоя спиной ко всему этому шуму, Пенни стаскивала перчатки и разматывала длинный шерстяной шарф. Она заметила, что дверца ее высокого узкого шкафчика немного погнута внизу и перекошена, как если бы кто-то пытался туда залезть. При ближайшем рассмотрении она заметила, что кодовый замок сломан. Нахмурившись, Пенни открыла дверцу и… в изумлении отпрыгнула от свалившейся к ее ногам горы бумаг. Она всегда складывала вещи в своем шкафчике очень аккуратно, теперь же все было сбито в одну большую кучу. Хуже того, все ее книги были разорваны, страницы изрезаны, а некоторые — смяты. Желтый линованный блокнот был разодран на мелкие клочки. Все карандаши разломаны. Карманный калькулятор разбит вдребезги. Те, кто стоял рядом, увидев эту печальную картину, сразу же притихли и выжидательно смотрели на Пенни. Пенни присела и, раздвинув кое-какие мелкие вещи, заполнявшие нижнее отделение ящика, высвободила футляр с кларнетом. Она не взяла инструмент домой, так как у нее не оставалось времени для музицирования. Застежки на футляре были подозрительно погнуты. Пенни боялась заглянуть внутрь. Салли Резер, лучшая подружка Пенни, подошла к ней. — Что случилось, Пенни? — Откуда мне знать? — Это не ты сделала? — Конечно, нет. Я… я боюсь, что мой кларнет сломан. — Кто же это? Настоящее свинство! Крис Хоу, мальчик из шестого класса, который все время дурачился и иногда бывал просто несносным, но иногда бывал и хорошим, потому что немного походил на Скотти Байо, присел рядом с Пенни, судя по всему, пока он не видел здесь ничего необычного. — Боже, Доусон, я и не знал, что ты у нас такая неряха! Салли вмешалась: — Да это не она… Но Крис перебил ее: — Я готов поспорить, что у тебя там целая куча противных тараканов. Салли закричала: — Чтоб у тебя язык отсох, Крис! Крис удивленно посмотрел на Салли, эту рыженькую, маленькую и тихую девчонку, всегда мягкую и спокойную. Правда, когда дело доходило до защиты друзей, Салли становилась настоящим тигром. Крис зыркнул глазами и угрожающе спросил: — Что ты сказала? — Иди в туалет, засунь голову в унитаз и дважды нажми на спуск. Нам и без твоих идиотских шуток тошно. Кто-то разворотил шкаф Пенни. И это совсем не смешно. Крис посмотрел повнимательнее. — А, ну да, я просто сначала не понял, что произошло на самом деле. Извини, Пенни. Пенни боязливо открыла футляр для кларнета. Инструмент был разломан пополам. Салли положила руку на плечо Пенни. — Кто это сделал? — спросил Крис. — Мы не знаем, — ответила Салли. Пенни уставилась на кларнет. Ей хотелось плакать, но не из-за потери инструмента, хотя, конечно, и это было ужасно. Ей было горько оттого, что в самом разбое крылось предупреждение о том, что она — нежелательный человек в школе. Во всей школе Уэлтон только у них с Дэйви отец был полицейским. У остальных детей родители были адвокатами, врачами, бизнесменами, стоматологами, биржевыми маклерами и рекламными агентами. Некоторые школьники, разумеется, под определенным семейным влиянием, говорили, что детям полицейских не место в их элитарном учебном заведении. К счастью, таких детей было немного. Большинству было все равно, чем зарабатывал свой кусок хлеба Джек Доусон. А были и такие, которые считали, что иметь отца-полицейского гораздо интереснее, чем папашу-банкира или менеджера. Когда в раздевалке поняли, что случилась беда, все сразу замолчали. Пенни выпрямилась и повернулась к детям. Неужели один из этих барчуков разгромил ее шкаф? Она заметила двух самых подозрительных — Сиси Йохансен и Кару Уоллес, — и ей захотелось схватить их, хорошенько встряхнуть, закричать, как ей сейчас плохо, заставить их это понять. «Я не хотела учиться в этой школе. Мой папа может позволить эту роскошь только благодаря тому, что платит за мое обучение из страховки матери, выданной больницей, где ее убили. Вы думаете, я хотела бы учиться в Уэлтоне настолько, что была согласна на смерть моей мамы? Идиоты! Вы думаете, я не отказалась бы от Уэлтона, если бы у меня была возможность вернуть маму? Да вы все противные идиоты, зажиревшие на харчах своих богатеньких родителей! Вы в своем уме?» Но она не стала на них кричать. Она не заплакала. Она проглотила комок и закусила губу. Пенни не хотела выглядеть ребенком. Еще через несколько секунд она обрадовалась своей взрослой выдержке, так как даже Сиси и Кара, хоть и бывали иногда на редкость зловредными, никогда не решились бы на подобное. Нет. Это сделали не барчуки. Не они. Но если не они, то кто же? Крис Хоу, который все еще сидел на корточках возле шкафчика Пенни, роясь в хламе, вдруг поднялся и, держа в руке пачку изорванных страниц из ее учебников, сказал: — Посмотри-ка на это! Их не просто порвали. Их как будто… жевали. — Жевали? — переспросила Салли Резер. — Видишь отметинки от маленьких зубов? — спросил Крис. Пенни стала их рассматривать. — Кто станет жевать учебники? — недоумевала Салли. Отметинки от маленьких зубов. Пенни задумалась. — Крысы, — подсказал Крис. Это же похоже на те отметины на бейсбольной бите Дэйви… Салли, поморщившись, переспросила: — Крысы? Фу, гадость. Да, прошлой ночью. Что-то под кроватью. — Крысы… — …крысы, крысы. — Это слово заметалось по раздевалке. Несколько девочек сразу же испуганно завизжали. Кто-то из детей побежал к учителям, чтобы рассказать о происшедшем. Крысы. Но Пенни знала, что вовсе не крыса вырвала тогда биту из ее рук. Это было… что-то другое. Похоже, что и погром в шкафу устроили не крысы. Это что-то другое. Что-то другое. Но что?* * *
Джек и Ребекка нашли Невецкого и Блэйна внизу, в кабинете Вастальяно. Те изучали содержимое ящиков шератоновского письменного стола, рылись в шкафах красивой стенки из мореного дуба. Рой Невецкий был похож на преподавателя английского из хорошего колледжа: белая рубашка, галстук-бабочка, серый свитер с V-образным вырезом. Карл Блэйн, напротив, выглядел неотесанным громилой. Если в глазах Невецкого светился ум, то во взгляде крупного, квадратного Блэйна ума, казалось, было столько же, сколько у гориллы. Судя по внешности Невецкого, решил Джек, он должен вести обыск аккуратно, не оставляя отпечатков пальцев. А после Блэйна обязательно остается куча всякого хлама. На деле все вышло наоборот. Когда Невецкий закончил осматривать ящик стола, под ним валялись бумажки и визитки. Блэйн же изучал каждую вещь с осторожностью, аккуратно возвращая все на прежнее место. — Ребятки, убирайтесь-ка отсюда, — раздраженным голосом проговорил Невецкий. — Мы собираемся исследовать тут каждую вещь, пока не найдем то, что ищем. Так что попрошу назад. У него был довольно сильный бас. Неожиданно в разговор вступила Ребекка. — Теперь, когда Вастальяно мертв, дело уже не ваше. Джека покоробило от властности и холодности ее тона. — Этим занимается теперь отдел убийств, а не отдел по борьбе с наркотиками. — Вы что, никогда не слышали о сотрудничестве между разными отделами? — ехидно поинтересовался Невецкий. — А вы никогда не слышали о правилах приличного поведения? — парировала Ребекка. — Подождите, подождите, — миролюбиво вступил в их перепалку Джек. — Тут всем места хватит, какие проблемы? Ребекка бросила на него презрительный взгляд. Он притворился, что не заметил его. Джек преуспел в этой науке, признаться, в последнее время практика у него была богатая. Но Ребекка не унималась. — Зачем оставлять за собой свинарник, а? — сказала она Невецкому. — Вастальяно уже все равно, — ответил он. — Но этим вы создаете сложности мне и Джеку. Нам ведь нужно самим пройтись по всем вещам. — Послушайте, — сказал Невецкий, — я тороплюсь. К тому же, когда я работаю, лучше меня не контролировать. Я никогда ничего не пропускаю. — Вы должны извинить Роя, — сказал Блэйн тем же успокаивающим тоном, что и Джек. — К черту извинения! — рявкнул Невецкий. — Он ничего плохого не имеет в виду, — пояснил Блэйн. — К черту! — вновь пробурчал Невецкий. — Он сегодня очень напряжен. — У Блэйна с его квадратным лицом голос был на удивление мягкий и сдержанный. — Судя по тому, как он себя ведет, у него начались месячные, — съязвила Ребекка. Невецкий метнул на нее уничтожающий взгляд. «В жизни, пожалуй, нет ничего более зажигательного, чем перепалка полицейских», — подумал Джек. Блэйн заявил своим вежливым голосом: — Мы как раз вели наблюдение за Вастальяно, когда его убили. — Значит, наблюдение не было достаточно плотным, — уколола его Ребекка. — Такое может случиться с каждым, — начал успокаивающе Джек, мечтая о том, чтобы Ребекка наконец замолчала. Блэйн сделал вид, что ничего не расслышал, и продолжал: — Не знаю уж, каким образом, но убийце удалось остаться незамеченным и при входе и при выходе из дома. Мы не видели даже тени. — Здесь искать бессмысленно, — рявкнул Невецкий, с силой задвигая ящик стола. Блэйн опять начал свои объяснения: — Мы видели, как эта девчонка, Паркер, зашла в дом примерно минут двадцать восьмого. Через пятнадцать минут подъехала первая патрульная машина. Так мы узнали, что с Вастальяно что-то стряслось. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Думаю, капитан нас по головке не погладит. — Да, черт подери, старик нас кастрирует и повесит наши причиндалы на новогоднюю елку. Блэйн согласно кивнул. — Нам бы очень помогло, если бы удалось найти какие-нибудь деловые записки Вастальяно или выяснить имена его партнеров и покупателей. Словом, серьезные улики, достаточные для ареста. — Тогда мы даже стали бы героями. Но сейчас я больше забочусь о том, как вытащить голову из унитаза, — дополнил коллегу Невецкий. Лицо Ребекки отразило всю гамму ее отношения к лексикону Невецкого. Джек молил Бога, чтобы она этим ограничилась и промолчала. Словно услышав его мольбу, Ребекка пригнулась к стене, на которой висел подлинник, как думал Джек, хотя и не очень в этом разбирался, Эндрю Уита. Картина изображала прелестный деревенский пейзаж. Явно под ее впечатлением Ребекка спросила: — Так этот Винсент Вастальяно торговал травкой? — Да уж не гамбургеры толкал в «Макдональдсе», — съязвил Невецкий. — Он был членом клана Карамацца, — уточнил Блэйн. Из пяти мафиозных кланов, контролировавших в Нью-Йорке азартные игры, проституцию и рэкет, клан Карамацца был самым могущественным. — На самом деле Вастальяно был племянником самого Дженнаро Карамацца, и дядя отдал ему сферу Гуччи, — сказал Блэйн. — Сферу чего? — Это высшая клиентура торговцев наркотиками. Люди, у которых дома лежит по двадцать пар туфель фирмы «Гуччи», — пояснил Блэйн. — Вастальяно, — сказал Невецкий, — не продавал это дерьмо школьникам. Его дядя никогда бы не позволил ему заниматься подобными вещами. Винс работал с представителями шоу-бизнеса и известными в обществе людьми. Блэйн быстро добавил: — Не то чтобы он стал одним из них. Просто Вастальяно вращался в нужных кругах и умел подбросить ребятам с лимузинами кокаин в самый нужный момент. — Он был дерьмом. Все эти вещи, антиквариат, весь этот дом нужны были ему только для создания имиджа босса. — Невецкий по-прежнему не затруднял себя в выборе выражений. — Он бы не смог отличить резной стол восемнадцатого века от кофейного столика К-MART, — согласился с ним Блэйн. — Приглядитесь внимательнее ко всем этим книгам — это все неполные собрания старых энциклопедий, купленные на вес у торговца-букиниста и поставленные на полки ради украшения. К этим книгам вообще никто и никогда не прикасался. Джек поверил Блэйну на слово, но Ребекка, так как она была Ребеккой и только Ребеккой, направилась к полкам, чтобы взглянуть на книги. — Мы следили за Вастальяно уже долгое время. Он казался нам слабым звеном в клане Карамацца. Остальная часть клана дисциплинированна, как морская пехота, а Вастальяно слишком много пил, слишком часто пользовался услугами девочек с улицы, курил травку, а иногда баловался и порошком, — сказал Невецкий. Блэйн продолжил: — Если бы у нас было достаточно улик, чтобы упрятать его в каталажку, он бы сразу сломался и дал все нужные показания. Так мы рассчитывали подобраться к шишкам из клана Карамацца. — Мы получили информацию о том, что Вастальяно должен встретиться с южноамериканским торговцем-оптовиком Рене Облидо. Наш информатор сообщил, что они хотели обсудить новые маршруты поставок. Встреча должна была состояться вчера или сегодня. Вчера она не состоялась… И, конечно же, черт возьми, не состоится и сегодня, так как сегодня Вастальяно превратился в вонючую кучу мяса. — Невецкий выглядел так, будто от негодования готов был сплюнуть на ковер. Ребекка, осмотрев полки с книгами, обернулась к ним: — Правильно, ребята, все провалилось. Так что бросайте вы это дело и оставьте его нам. Невецкий взглянул на нее так, будто хотел испепелить. Даже Блэйн, и тот смотрел на нее с укором. Джеку опять пришлось взять на себя роль миротворца. — Продолжайте осмотр, ребята. Ищите, что вам нужно. Вы нам не помешаете. Нам есть чем заняться. Пойдем, Ребекка, послушаем, что скажут эксперты. И он пошел в холл, даже не взглянув на Ребекку, поскольку легко мог представить, каким взглядом одарит она его на этот раз. Уходя, Джек остановился в дверях и обернулся к Невецкому и Блэйну. — Вы не заметили чего-либо странного, необычного вокруг этого дела? — Что вы имеете в виду? — спросил Невецкий. — Ну, чего-то неординарного, ненормального. — Я лично до сих пор не могу понять, как убийце удалось сюда забраться. Именно это чертовски странно, — раздраженно проговорил Невецкий. — Еще что-нибудь? Что выходит за рамки обычного убийства, связанного с наркотиками? Блэйн и Невецкий с недоумением уставились на него. Джек сказал: — Ладно, а что вы скажете об этой женщине, подружке Вастальяно, или кто она там? — Шелли Паркер. Если хотите с ней поговорить, она сейчас в гостиной. — Вы с ней уже разговаривали? — спросил Джек Блэйна. — Немножко поболтали. Она не особо разговорчивая. — Она — маленький кусок дерьма, — вставил Невецкий. — Она кажется скрытной, — пояснил его слова Блэйн. — Ничем не помогающий кусок дерьма. — прорычал Ненецкий. — Очень замкнутая, зажатая, — снова пришел ему на помощь Блэйн. — Дешевая проститутка, шлюха. Но тело роскошное, — не сдавался Невецкий. Джек обратился с новым вопросом: — Эта Шелли Паркер ничего не говорила о гаитянце? — О ком? — Вы имеете в виду кого-то с острова Гаити? С острова? — Да, именно с острова Гаити, — ответил Джек. — Нет, ни о каком гаитянце она ничего не говорила, — сказал Блэйн. — Что это за вонючий гаитянец? — спросил Джека Невецкий — Этого человека зовут Лавелль. Баба Лавелль. — Баба? — учтиво переспросил Блэйн. — Что за цирковое имя? — вставил Невецкий. — Так Шелли Паркер не называла этого имени? — Нет, по-моему, нет, — ответил Блэйн. — А какое вообще отношение имеет этот Баба Лавелль к нашему делу? — спросил Невецкий. На этот раз Джек отвечать не стал, только спросил: — А мисс Паркер случайно не говорила ничего о чем-либо… ну, о чем-либо странном? Невецкий и Блэйн смотрели на него, одинаково нахмурив брови. — Что вы имеете в виду? — спросил Блэйн. Вчера они нашли еще одну жертву, Фримэна Коулсона, торговца наркотиками среднего пошиба. Он поставлял товар семидесяти-восьмидесяти уличным торговцам в районе Нижнего Манхэттена. Этот район закрепил за ним клан Карамацца, дабы избежать ненужных проблем, в том числе расовых, в преступном мире Нью-Йорка. У Коулсона оказалось более сотни небольших проникающих ран, точно таких же, как и у первой жертвы, в воскресенье. Его брат, Дарл Коулсон, был до того напуган, что весь обливался потом. Он рассказал Джеку и Ребекке историю о каком-то гаитянце который пытался перехватить кокаиновый и героиновый бизнес вНижнем Манхэттене. Это была самая не правдоподобная история из всех, какие слышал Джек за всю жизнь, но Дарл Коулсон верил каждому своему слову. Это было очевидно. Если бы Шелли Паркер рассказала о том же самом Невецкому и Блэйну, вряд ли бы они забыли об этом, и дополнительные расспросы были бы не нужны. Джек немного поколебался, затем покачал головой — Ладно, ничего, это не очень важно. «Если не важно, так зачем об этом спрашивать?» Oн предвидел такой вопрос Невецкого и устремился к двери как можно быстрее, чтобы Невецкий не успел заговорить. Джек вышел из комнаты и попал в холл, где его уже ждала Ребекка. Вид у нее был недовольный.* * *
На прошлой неделе в четверг во время партии в покер (а играли они по два раза в месяц вот уже в течение восьми лет) Джек вдруг стал защищать Ребекку. Три детектива — Аль Дюфресне, Уитт Ярдмен и Фил Абрахамс — использовали игровую паузу для того, чтобы воздать ей должное. — Я не понимаю, как ты с ней уживаешься, Джек? — спросил Уитт. — Она холодна как лед, — заметил Аль. — Вылитая снежная королева, — поддакнул Фил. Пока Аль Дюфресне, как фокусник, тасовал карты своими натренированными руками, остальные развивали любимую тему. — Она холоднее, чем ведьмина сиська. — Да, доброжелательности у нее, как у добермана с больными зубами и запором. — Она ведет себя так, будто в ней нет ничего человеческого. — Короче, дерьмо! — обобщил все сказанное Аль Дюфресне. Тогда в разговор вступил Джек: — Да ну, ребята, не такая уж она и плохая, когда узнаешь ее поближе. — Да нет, полное дерьмо, — повторил Аль Дюфресне. — Послушайте, если бы она была мужиком, все считали бы ее крутым, жестким полицейским и, может быть, даже восхищались бы ею. А так как она баба, то ее держат за холодную сволочь. — Ну, я-то уж в этом разбираюсь, — сказал Аль Дюфресне. — Нет, дерьмо, определенно дерьмо, — пробурчал Уитт. — Но и у нее есть свои сильные стороны, — сказал Джек. — Да? Назови хоть одну, — вставил Фил Абрахамс. — Ну, например, она очень наблюдательна. — Грифы тоже наблюдательны. — Она аккуратна и энергична. — Муссолини тоже был таким. Он сделал так, что поезда ходили точно по расписанию. Джек сказал: — И она никогда не бросит своего партнера в хреновой ситуации. — Черт подери, да укажи мне хоть одного полицейского, способного бросить партнера на произвол судьбы, — среагировал Аль Дюфресне. — Есть такие, — не согласился Джек. — Но их совсем немного, всего единицы. Да и каждый, кто сделает это, уже перестает быть полицейским. — Она всегда работает на полную катушку и выдерживает все тяготы службы с честью. Уитт сказал: — Ладно, ладно. Может быть, она и работает неплохо, но почему при этом не умеет быть человеком? Фил добавил: — Мне кажется, я никогда не слышал ее смеха. — А где ее сердце? У нее, похоже, его просто нет, — не унимался Аль Дюфресне. — Да нет, сердце-то у нее есть, маленькое-маленькое такое сердечко, — вставил Уитт. — Но я бы все равно предпочел иметь в качестве партнера ее, а не вас, — подытожил Джек. — На самом деле? — Да. Она куда более эмоциональна, чем вы думаете. — Да ты что! Эмоциональна! Надо же! — Теперь все ясно. Ты, Джек, видно, вышел за пределы рыцарства в отношениях с ней. — Ребята, да он в нее втюрился! — Старичок, она же из твоих яиц сделает себе ожерелье. — Да вы посмотрите на него! Сдается мне, она давно уже это сделала! — Да, и теперь в любой прекрасный момент может появиться с брошью из его… — Ребята, ну что вы несете? Что между нами может быть? — попытался утихомирить их Джек. — Интересно, она занимается этим с кнутом и цепями? — Готов поспорить на стольник! Она занимается этим в сапогах и с собачьим ошейником. — Джек, сними рубашку и покажи синяки, а? — Неандертальцы, — не успевал отбиваться Джек. — Джек, я готов биться об заклад, что она носит исключительно кожаные лифчики. — Кожаные? Да вы что! Такая должна таскать только стальные! — Идиоты! — не вытерпел Джек. Аль Дюфресне восторженно завопил: — Джек, я-то все думал, чего ты такой пришибленный последние два месяца? Теперь понял: тебя регулярно избивают кнутом и насилуют! — Это уж точно, — поддакнул Фил. Джек чувствовал, что сопротивление абсолютно бесполезно, его возражения только подливают масла в огонь. Он только улыбался и ждал, пока поток веселья иссякнет и им надоест это глупое развлечение. Наконец он заговорил серьезно: — Ладно, ребята, вы вволю повеселились, но я не хочу, чтобы здесь было положено начало глупым слухам. Я хочу, чтобы вы поняли: между мной и Ребеккой ничего нет. И я считаю, что она действительно эмоциональный и чувствительный человек, как бы себя при этом ни вела. Под маской крокодила, которую она так упорно носит, есть и сердечность, и теплота, и нежность. Я так думаю, хотя пока не имел случая убедиться в этом на собственном опыте. Вы меня понимаете? Фил ответил: — Может быть, между вами ничего и нет, но, судя по тому, как ты о ней говоришь, ты бы против этого не возражал. Аль Дюфресне добавил: — Да стоит тебе заговорить о ней, и ты выдаешь себя с головой. Перемывание косточек продолжилось, но на этот раз разговор больше соответствовал реальному положению дел. Джек всегда чувствовал, что Ребекка — человек неординарный, а чувствуя это, он хотел быть ближе к ней. А если точнее, не просто рядом, как это было на работе (шесть раз в неделю вот уже десять месяцев), он хотел бы делить с ней самые сокровенные мысли, которые она всегда ревностно от всех скрывала. Физическое влечение он тоже ощущал, и достаточно сильное. В конце концов, она была красивой женщиной. Но не только красота привлекала Джека. Его тянула и ее холодность, тот барьер, которым она отгораживалась от других. Мужчины любят трудные задачи. Тем более что Джек видел и другое. Изредка, всего на несколько мгновений, случалось так, что она сбрасывала раковину отчуждения, и тогда возникала совсем другая Ребекка — беззащитная и нежная, интересная и желанная. Эти вот проблески теплоты и нежности, исходившее от нее упоительное сияние, которое она тут же глушила, как только замечала брешь в своей маске, больше всего кружили ему голову. В тот четверг, за покером, под градом насмешек Джек почувствовал, что его желание проникнуть за этот барьер не более чем фантастика, недостижимая цель. Вот уже десять месяцев был он ее партнером, доверяя ей свою жизнь, а она оставалась для него загадкой еще большей, чем раньше. Но теперь, спустя считанные дни с того четверга, Джеку открылось то, что скрывалось за маской неприступности. Он узнал это из личного опыта. Именно личного. И то, что обнаружил, оказалось намного красивее, привлекательнее и приятнее, чем то, чего он ожидал. Она была просто восхитительна. Но сегодня утром в ее поведении не было и намека на ту Ребекку. Как всегда, это была холодная и жесткая амазонка. Как будто прошлой ночью между ними ничего не было. В холле, за пределами кабинета, где Невецкий и Блэйн продолжали обыск, Ребекка недовольно сказала Джеку: — Я слышала, о чем ты их спросил. О гаитянце. — И что же? — Джек, ну ради Бога! — Баба Лавелль — единственная ниточка на данный момент. Ребекка раздраженно пояснила: — Меня не волнует, что именно ты спросил у них о гаитянце. Меня волнует то, как ты их об этом спрашивал. — По-моему, я говорил с ними по-английски, не так ли? — Джек… — Я что, был недостаточно вежлив в обращении с этими парнями? — Ну Джек… — Тогда я просто не понимаю, что ты имеешь в виду. — Да, видимо, это так. Она стала передразнивать его разговор с Невецким и Блэйном: — Кто-нибудь из вас что-нибудь странное заметил? Что-нибудь не вполне нормальное? Непонятное, непостижимое? — Я всего лишь проверял кое-какие свои догадки, — защищался Джек. — Точно так же, как и вчера, да? Когда ты провел полдня в библиотеке, читая про колдовские обряды? — Мы были в библиотеке минут пятьдесят от силы. — Да, а затем помчались в Гарлем, чтобы срочно переговорить с тем колдуном. — Он никакой не колдун. — Тогда он просто придурок. — Карвер Хэмптон никакой не придурок, — решительно заявил Джек. — Да нет же, полный придурок, — настаивала на своем Ребекка. — Да, но про него, между прочим, написано в той книжке. — То, что про него написали в этой книге, ничего еще не значит. — Он — священник. — Нет, он — шарлатан. — Он — священник, занимающийся белой магией. Он зовет себя Хунгон. — Я могу назвать себя фруктовым деревом, но от этого у меня из ушей апельсины не вырастут. Хэмптон — шарлатан. Он зарабатывает деньги на доверчивости людей. — Ребекка была безапелляционна. — Его обряды, конечно, достаточно экзотичны на первый взгляд, — осторожно начал Джек. — Это все глупости. Возьми хотя бы его магазин. Господи! Продавать травы, бутылки с козлиной кровью, отвары, амулеты и всякую прочую чепуху… — Для него, по крайней мере, это не чепуха. — Я уверена, что в глубине души он смеется над этим. — Нет, Ребекка, он во все это верит. — Потому как он — придурок. — Ребекка, слушай, реши же ты наконец, кто он — придурок или шарлатан? По-моему, то и другое несовместимо. — Ладно, ладно. Может, это действительно Лавелль убил всех четверых. Но тут не пахнет никакой черной магией. Он просто зарезал их. Убил собственными руками, как самый обыкновенный убийца. Ее глаза стали ярко-зелеными, такими они становились, когда она злилась по-настоящему. Джек осторожно заметил: — А я никогда не говорил, что эти люди убиты с помощью черной магии. Я не говорил, что верю в колдовство. Но ты видела трупы. Видела, какие странные… — Заколоты холодным оружием. Каждому нанесли массу ножевых ударов. Может, сто, может, больше. Да, трупы обезображены, но жертвы убиты без всякой там магии, черной или белой. Обыкновенным ножом. — Эксперты говорят, если во всех этих случаях применялось оружие, то оно не могло быть больше перочинного ножа. — Отлично. Значит, это был именно перочинный нож. — Ребекка, но это же нереально. — А убийство — это всегда что-то нереальное. — Подумай сама, кто пойдет на убийство с перочинным ножом? — Лунатик, например. — Психи обычно используют оружие внушительных размеров: или ножи для разделки мяса, или мощное огнестрельное оружие. — Это в фильмах. — В жизни то же самое, поверь мне. — Как бы то ни было, это был обыкновенный псих. Только одержимый манией убийства. И ничего необычного в этом деле нет. — Но каким образом психу удается справиться со своими жертвами? Если у него всего лишь перочинный нож? Почему они не отбиваются или не убегают? — Этому есть какое-то объяснение. И мы его обязательно найдем. В доме Вастальяно было тепло. Джек снял плащ. Ребекка не стала раздеваться. Похоже, жара, как и холод, не беспокоила ее. Джек продолжал: — В каждом случае есть следы борьбы. Это говорит о том, что жертвы сопротивлялись. Но никто из них не смог хотя бы ранить его. Нигде нет следов чужой крови, только кровь убитых. Это меня удивляет. А Вастальяно к тому же убит в запертой комнате. Она вдруг пристально посмотрела на него, но промолчала. — Ребекка, послушай, я не говорю, что убийства связаны с колдовством или еще с чем-нибудь в этом роде. Я не суеверный, ты сама знаешь. Я просто считаю, что здесь действовал убийца, совершающий колдовские обряды. И это — ниточка. Состояние трупов наводит на такие размышления. Еще раз подчеркиваю: я не считаю происшедшее результатом магии, а всего лишь предлагаю версию — убийца связан с колдовскими ритуалами, и эта связь может вывести нас на след, дать улики, чтобы засадить его за решетку. Ребекка покачала головой: — Джек, в твоих словах проступает одна черта твоего характера… — Что ты имеешь в виду? — Ну, это можно назвать излишней восприимчивостью. — То есть? — Когда Дарл Коулсон излагал, что этот Баба Лавелль хотел перехватить контроль над Нижним Манхэттеном с помощью колдовских приемов, ты… ну, ты слушал весь этот бред, широко раскрыв глаза, как дитя, которому рассказывают страшную сказку. — Этого не было. — Было. И после мы сразу помчались в Гарлем, в магазин к колдуну. — Ты понимаешь, если Баба Лавелль действительно связан с колдовством, то Карвер Хэмптон вполне может знать об этом или, по крайней мере, может выяснить кое-что для нас. — Придурок типа Хэмптона ничем не сможет нам помочь. Ты помнишь дело Хоулдербен? — А какое это может иметь отношение… — Старушка, убитая во время спиритического сеанса? — Эмили Хоулдербен? Помню. — Ты был заинтригован тем случаем. — напомнила Ребекка. — Я никогда не говорил, что в нем было что-то сверхъестественное. — Ты был очень сильно заинтригован. — Да. Совершенно невероятное, дерзкое убийство. В комнате, конечно, было темно, но ведь в ней находились еще восемь человек, когда прозвучал выстрел. — Но больше всего тебя заинтриговало не это, Джек. Тебя интересовал медиум, эта мисс Донателла. Ты не мог наслушаться ее рассказов о привидениях и так называемых спиритических опытах. — И что же из этого? — Ты веришь в привидения, Джек? — Ты хочешь спросить, верю ли я в загробную жизнь? — Нет, именно в привидения. — Не знаю. Может быть, да, а может, и нет. Никто не знает этого точно. — Я знаю. Я не верю в привидения. Но ты, похоже, веришь. — Ребекка! На свете великое множество респектабельных, умных, нормальных людей верят в загробную жизнь. — Полицейский — тот же ученый. Он должен мыслить логично. — Но ведь полицейский не обязательно должен быть атеистом, Господи! Не обращая внимания на его слова, Ребекка гнула свою линию: — Логика — наше лучшее оружие. — Все, что я хочу сказать, это то, что мы столкнулись с чем-то противоестественным. А так как брат одного из погибших считает, что здесь замешано колдовство… — Хороший полицейский должен быть серьезен в своих оценках и методичен. — …то мы должны проверить и эту версию, какой бы не правдоподобной она ни казалась. — Хороший полицейский должен мыслить реалистично. — Хорошему полицейскому необходимо также богатое воображение и нетрадиционные подходы в решении встающих перед ним задач, — ответил Джек и, резко переменив тему разговора, спросил: — Ребекка, а что насчет вчерашнего вечера? Ее лицо порозовело. Отворачиваясь от него, она проговорила: — Пойдем-ка поговорим с мисс Паркер. Джек остановил ее, взяв за руку, и сказал: — Мне казалось, вчера произошло нечто очень важное. Она не ответила. — Мне что, приснилось все это? — спросил Джек. — Давай лучше не будем сейчас об этом говорить. — Это что, было для тебя неприятно? — Позже, — ответила Ребекка. — Почему ты так ко мне относишься? Но она избегала его взгляда, и это было необычно для нее. — Джек, это слишком сложно. — А мне почему-то кажется, что нам все-таки следует об этом поговорить. — Позже. Ну пожалуйста! — Когда же? — Когда у нас будет для этого время. — А когда это случится? — продолжал настаивать Джек. — Если нам удастся выкроить время на обед, тогда и поговорим обо всем. — Хорошо, мы выкроим время на обед. — Посмотрим, Джек, посмотрим. — Нет, мы определенно выкроим время на обед. — Теперь надо заняться работой. Кажется, ей наконец удалось вырваться за этот круг вопросов. На этот раз он ее отпустил. И Ребекка направилась прямо в гостиную, где их ждала Шелли Паркер. Джек последовал за ней, сокрушаясь над тем, что же он натворил, позволив себе почувствовать нежность к этой женщине. Может быть, она действительно бесчувственна? Может быть, она и не заслуживала того, что он к ней испытывал? А не доставит ли она только душевную боль, и не придется ли ему пожалеть о том дне, когда они встретились? Иногда она и в самом деле бывает очень уж нервной. Лучше держаться от нее подальше. Лучше вообще отстать от нее. Попросить нового партнера? Или перейти из отдела убийств в другое подразделение? Он устал от бесконечных трупов, вереницей проплывающих перед глазами. Он и Ребекка должны разойтись — и в профессиональном, и в личном планах, пока не запутались в отношениях друг с другом. Да, это лучшее, что можно придумать. Именно так и надо поступить. Но, как сказал бы Невецкий: «К чертям!» Он не станет просить нового напарника. Он не отступится от нее. Помимо всего прочего, он, видимо, влюбился.* * *
В свои пятьдесят восемь Найва Руни напоминала почтенную бабушку, но крепостью не уступала и грузчику. Седые ее волосы были тщательно завиты и уложены. Круглое розовое лицо, довольно крупное, светилось дружелюбием, голубые глаза излучали теплоту. Она была плотной, но никак не толстой, а ее руки не были руками доброй бабушки. Это были сильные, ловкие, мозолистые руки без признаков артрита или других болезней. По улице Найва шла с таким видом, будто ничто не мешало ей на пути — ни люди, ни кирпичные стены. Шла не женщина — шел опытный армейский сержант. Найва убирала квартиру Джека Доусона с тех самых пор, как умерла его жена Линда. Приходила она каждую среду, иногда присматривала за детьми. Например, только вчера вечером сидела с Дэйви и Пенни, пока Джек ходил на свидание. Этим утром, открыв входную дверь ключом, который дал ей Джек, Найва прошла прямо на кухню, вскипятила кофе и выпила полчашки, даже не сняв пальто. Погода была отвратительной, и, хотя в квартире чувствовалось тепло, она не сразу избавилась от дрожи, засевшей глубоко в теле, пока она шла шесть кварталов от своего дома. Потом Найва взялась за кухню. Особой грязи тут не было. Джек и его дети были очень аккуратными, не то что другие, у кого она работала. Тем не менее она натирала и надраивала все, что только было возможно. Она всегда гордилась тем, что оставляет после себя сверкающую чистоту. Ее отец. Господь упокой его душу, был полицейским, обыкновенным уличным постовым. Он очень гордился своей работой и старался сделать жизнь своего района безопасной для всех честных людей. Он-то и научил Найву двум важным вещам: во-первых, испытывать удовлетворение от любой хорошо выполненной работы, какой бы незначительной она ни была. А во-вторых, не браться за работу, которую не можешь сделать хорошо. Убираясь, Найва слышала только урчание холодильника, скрипы и глухие удары этажом выше — там кто-то переставлял мебель — да завывание зимнего ветра, изо всех сил атакующего окно. Но вдруг, когда она остановилась, чтобы налить себе еще кофе, в гостиной послышался странный звук. Это было похоже на звук, издаваемый каким-то животным. Она отставила чашку в сторону. Кошка? Собака? Да нет, не похоже. Что-то непонятное, незнакомое. К тому же у Доусонов не было ни собак, ни кошек. Найва направилась в отсек со столом, где все ели. Там же рядом находилась дверь в гостиную. Странный звук послышался вновь. На этот раз Найва остановилась как вкопанная. Этот звук буквально ее сковал. Ей вдруг стало не по себе. Она расслышала злой крик. Короткий, но устрашающий. На этот раз ей уже не казалось, что там животное. Но и не человек. Найва спросила: — Кто здесь? В квартире стояла тишина, но в ней Найве почудилось ожидание. Как будто кто-то замолчал, наблюдая за ее движениями. Для Найвы не существовало проблем с нервами. Ей были неведомы истерики или что-нибудь подобное. Она была полна уверенности в том, что справится с любой жизненной ситуацией. Но тут ее почему-то пронзило чувство страха. Тишина. Найва решила добиться своего: — Кто там еще? Снова раздался холодящий, скрипящий крик, исполненный ненависти. Найва вся передернулась. Может, крыса? Крысы тоже пищат… Но не так. Чувствуя себя несколько глупо, она подняла швабру, взяв ее наперевес, как оружие. Звук раздался еще раз, как бы заманивая ее пойти в гостиную и посмотреть, что там. Со шваброй в руках Найва прошла через кухню и остановилась у двери в гостиную. В комнате что-то двигалось. Она пока ничего не видела, но слышала странный шелест, словно шуршала бумага или сухие листья. Какое-то поскребывание и шипение, отдаленно напоминавшее слова, произносимые шепотом на иностранном языке. Найва вошла в комнату, благо смелости у отца позаимствовала немало. В кухонном закутке осмотрела все углы, Заглянула под стол и стулья. Гостиную она видела через своеобразную арку, отделявшую ее от столовой. Найва остановилась в арке и прислушалась, пытаясь определить, откуда шум. Краем глаза она заметила то, что хотела заметить: бледно-желтые шторы на окнах пришли в движение, но не от сквозняка. Со своего места она не видела нижней части штор, но было очевидно, что кто-то задевал их, быстро передвигаясь по полу. Найва решительно бросилась в гостиную и обошла диван, чтобы видеть нижнюю часть штор. Но если там сию секунду кто-то и был, его уже и след простыл. Шторы были абсолютно неподвижны. Звук, полный злобы и гнева, она услышала у себя за спиной. Найва моментально обернулась, держа швабру наизготове. Ничего и никого. Она обошла вокруг второго дивана. Под ним — ничего, за ним — тоже пусто. Она заглянула под кресло, под все столики, обошла вокруг шкафа с книгами, телевизора… Ничего. Неожиданно тот же звук раздался из холла. Придя туда, Найва ничего не обнаружила. Она не включила свет в холле, когда пришла в квартиру, а окон там не было, так что освещением служила только полоска света, пробивавшаяся из гостиной и кухни. Как бы там ни было, холл послужил, видимо, лишь тропой отступления. Теперь там явно никого не было. Найва, склонив голову набок, выжидала. Крик раздался снова. На этот раз из детской спальни. Найва прошла через холл и подошла к детской. Комната оставалась в полутьме. Там не было люстры на потолке, и, чтобы включить свет, нужно было пройти в спальню и найти одну из прикроватных ламп. Найва на секунду задержалась на пороге, вглядываясь в полумрак. Ни звука. Даже наверху перестали двигать мебель. Ветер спал и больше не бился в окна. Найва задержала дыхание. Если в комнате и было какое-нибудь живое существо, то оно затаилось так же, как и она сама. Наконец женщина осторожно вошла в комнату, на цыпочках подошла к кровати Пенни и включила лампу, встроенную в изголовье. Света от нее было немного, и тогда Найва повернулась к кровати Дэйви, намереваясь включить и вторую лампу. Какой-то шелест и движение. Найва испуганно отпрянула в сторону. Какое-то существо шмыгнуло из угла под кровать Дэйви так быстро, что Найва не смогла его рассмотреть. Что-то маленькое, не больше взрослой крысы, быстрое и незаметное, как та же крыса. Но издаваемые им звуки не могли принадлежать грызуну. Существо не пищало, оно шипело… и как будто что-то бормотало себе под нос. Найва отпрянула от кровати Дэйви, посмотрела на швабру, которую держала в руках, и подумала, не пошуровать ли ею под кроватью, пока злой нарушитель не вылезет на свет Божий и не даст себя рассмотреть. Найва только об этом подумала, а существо выскочило из-под кровати и через темную часть комнаты шмыгнуло в темный холл. Найва опять не рассмотрела его как следует. — Черт возьми! — ругнулась она. Ей показалось, что существо подшучивает над ней, играясь в свое удовольствие. Но нет же, все это бред! Что бы это ни было, оно всего лишь глупое животное, не способное замыслить ничего подобного. Где-то в другой части квартиры существо опять издало звук, как бы призывая Найву. — Ладно, ладно, маленькая противная тварь, погоди, я иду к тебе. Ты можешь быть шустрой, ты можешь быть даже хитрой, но я все равно найду тебя и хорошенько рассмотрю, если даже это будет последнее, что я сделаю в этой жизни.Глава 2
Они допрашивали подружку Винса Вастальяно уже пятнадцать минут. Невецкий оказался прав — она была неразговорчивой сволочью. Джек Доусон, сидевший на кончике кресла времен королевы Анны, подавшись вперед, наконец спросил ее: — Вы знаете человека по имени Баба Лавелль? Шелли Паркер бросила на него быстрый взгляд, затем перевела его на свои руки, сжимавшие стакан с виски, и Джек прочел ответ по выражению ее глаз. Но она сказала: — Я не знаю никого по имени Лавелль. Джек знал, что она врет. Ребекка сидела в таком же уникальном кресле, скрестив ноги и положив руки на подлокотники, и выглядела спокойной и уверенной. Она спросила Шелли: — Может быть, лично вы и не знаете этого человека, но, вероятно, слышали это имя? — Нет, — ответила Шелли. Джек начал наступать: — Послушайте, мисс Паркер, мы прекрасно знаем, чем занимался Винс, и кое-что можем приписать и вам… — Я не имела к его делам абсолютно никакого отношения! — …но не станем обвинять вас в чем бы то ни было… — А вы и не сможете! — …если вы согласитесь на сотрудничество. — У вас ничего на меня нет. — Мы вам можем очень насолить, мисс Паркер. — Карамацца тоже могут это сделать. Я не стану ничего о них говорить. — А мы и не спрашиваем о них. Расскажите об этом Лавелле, — сказала ей Ребекка. Шелли задумчиво покусывала нижнюю губу. — Он — гаитянец, — решил приободрить ее Джек. Шелли перестала кусать губу и откинулась на белой софе, приняв непринужденный вид. — Что это за желтый? — спросила она. — Как? — переспросил Джек. — Кто он? Японец, китаец, вьетнамец? Вы же сказали, что он азиат. — Он гаитянец. Он с острова Гаити. — А, ну тогда он вообще никакой не желтый. — И то правда, никакой он не желтый, — согласилась Ребекка. Шелли уловила неприятную нотку в голосе Ребекки и явно занервничала, хотя и не понимала причину ее появления. — Он что, черный? — Да. И вы сами прекрасно это знаете, — заметил Джек. — Я не общаюсь с черномазыми. — Шелли подняла голову и расправила плечи. Ребекка сказала ей: — Мы слышали о том, что Лавелль собирался прибрать к рукам торговлю наркотиками. — Я ничего об этом не знаю и знать не должна. Джек спросил: — Мисс Паркер, вы верите в колдовство? Ребекка тяжело вздохнула. Джек посмотрел на нее и сказал: — Потерпи, пожалуйста. — Но это же абсолютно бессмысленно. — Я обещаю не быть слишком восприимчивым, — улыбнулся он и, обращаясь к Шелли Паркер, повторил: — Так что же, мисс Паркер, да или нет? — Конечно же, нет. — Я думал, что вы боитесь говорить о Лавелле из опасения, что он сглазит вас или сделает еще что-нибудь в этом роде. — Это все полная ахинея. — Вы в этом уверены? — Я точно вам говорю: абсолютнейшая ерунда, рассчитанная на кретинов. — Но вы все же слышали о Баба Лавелле? — спросил Джек. — Нет, я только сказала вам, что… — Если бы вы ничего не знали о Лавелле, то очень бы удивились, когда я спросил вас о колдовстве. Вы непременно спросили бы, какого черта я вообще примешиваю к этому делу какую-то магию. Вы же ничему не удивились, поскольку знаете о Баба Лавелле. Это бесспорно. Шелли поднесла руку ко рту и начала было кусать ноготь, но, поймав себя на этом, решила, что не стоит портить маникюр за сорок долларов. — Ладно, ладно, сдаюсь. Я знаю о вашем Лавелле. Джек победоносно посмотрел на Ребекку: — Вот видишь? — Неплохо, — согласилась она. — Грамотная тактика допроса. Воображение помогает. Шелли спросила: — Можно мне еще немного виски? — Подождите, пока мы не закончим задавать вопросы, — ответила Ребекка. — Я не пьяна, — сказала Шелли. — Я этого и не говорила. — Я никогда не пьянею. Я не панк. Она поднялась с софы, подошла к бару и налила еще немного виски. Затем вернулась на место и поставила стакан на столик, демонстрируя трезвость и силу воли. Джек перехватил взгляд, каким Шелли смотрела на Ребекку. Чистая кошка, изогнувшаяся перед решающим прыжком. Причиной напряжения, повисшего в воздухе, на этот раз была не Ребекка. Она говорила с Шелли вполне прилично до тех пор, пока та не стала болтать насчет желтых. Злилась и нервничала Шелли, видимо, сравнив себя с Ребеккой и осознав свое положение. Как и Ребекка, Шелли Паркер была привлекательной блондинкой. Но на этом их сходство и заканчивалось. Внешность Ребекки говорила о ее интеллигентности и утонченности. Ничего этого не было у Шелли. При том, что ее волосы были тщательно пострижены и уложены, она имела фривольный вид. Широкоскулое лицо с короткой верхней губой и небольшим ртом было перегружено косметикой. Голубые глаза были лишены того-осмысленного блеска, который так украшал Ребекку. Фигура Шелли вызывала представление о французской булочке, пышной и мягкой, с избытком масла, яиц и сахара, хотя следовало признать, что в узких черных слаксах и ярко-красном свитере она смотрелась очень даже ничего. Пожалуй, на ней было слишком много драгоценностей: два браслета, два кольца, дорогие часы, два кулона на золотых цепочках — один с бриллиантом, другой с крупным изумрудом величиной с орех. Ей было двадцать два года, и мужчины, используя ее не совсем деликатным образом, перестанут дарить ей драгоценности лет этак через семь-восемь. Джек знал, почему ей не понравилась Ребекка. Шелли была той женщиной, которую мужчины хотели, о которой мечтали. А Ребекка не только вызывала у них желание — она была из тех женщин, на которых женятся. Джек мог представить себе неделю с Шелли Паркер на Багамах. Это было бы здорово! Но только неделю. После семи дней, несмотря на ее энергию и несомненную профессиональность в постели, ему бы все это надоело. В конце недели ему было бы все равно, с кем говорить: с Шелли или со стеной. А вот Ребекка никогда бы ему не надоела. В ней сокрыта непознаваемая глубина, и даже после двадцати лет совместной жизни он все равно считал бы ее привлекательной. Совместная жизнь? Двадцать лет? «Господи, да о чем это я?» — поразился Джек своим мыслям. Шелли он сказал: — Так что вы можете сказать о Баба Лавелле? Та глубоко вздохнула. — Только уговор: я ничего не скажу вам о семье Карамацца. — А мы о них ничего и не спрашиваем. Только о Лавелле. — Ладно. Но потом вы обо мне просто забудете. Я уйду отсюда. И никаких свидетельских показаний. — А вы и не были свидетелем убийства. Расскажите то, что знаете о Лавелле, и можете идти на все четыре стороны. — Хорошо. Он взялся непонятно откуда пару месяцев назад и стал торговать кокаином и травой. За месяц сколотил шайку из двадцати уличных торговцев, снабжал их товаром и давал всем понять, что собирается стать хозяином территории. Это все, что я слышала от Винса. Впрямую я ничего не знаю, так как никогда не участвовала в торговле наркотиками. — Ну конечно же, нет. — В этом городе никто ничего не предпринимает без ведома дяди Винса. По крайней мере, это то, что я слышала. — Я тоже наслышан об этом, — сухо отреагировал Джек. — Ну так вот, кто-то из Карамацца уведомил Лавелля о том, что ему следует прекратить торговлю и согласовать все с их кланом. Это был просто дружеский совет. — Понятно, — вставил Джек. — Да. А он не сделал того, о чем его просили. Наоборот, этот сумасшедший негр послал Карамацца письмо со встречным предложением — разделить пополам южную часть Нью-Йорка. Сумасшедший негр. Ведь у Карамацца и так все было в руках. — Достаточно дерзкий шаг со стороны мистера Лавелля, — заметила Ребекка. — Конечно, ведь для них Лавелль был пустым местом. Кто о нем раньше слышал? Если судить по рассказам Винса, старший Карамацца решил, что Лавелль просто не понял сути первого предупреждения, и послал нескольких ребят растолковать ему все поподробнее. — Они что, должны были переломать Лавеллю ноги? — спросил Джек. — Или еще что-нибудь похуже, — ответила Шелли. — Всегда есть более худший вариант. — Но с посланцами случилось что-то непонятное, — продолжала Шелли. — Их убили? — Я не совсем в этом уверена. Винс сказал, что они просто больше не появились. — Значит, их убили, — констатировал Джек. — Вполне возможно. В общем, Лавелль дал знать Карамацца, что он какой-то там колдун и что даже все Карамацца, вместе взятые, не смогут противостоять ему. Конечно, в клане посмеялись над этим от души, и Карамацца послал на Лавелля пятерых своих лучших подонков, которые прекрасно знали, как действовать, когда дождешься наиболее подходящего момента. — С ними тоже произошел какой-то инцидент? — спросила Ребекка. — Да. Четверо из них исчезли. — Что же с пятым? — спросил Джек. — Его нашли на тротуаре возле дома Дженнаро Карамацца в Бруклине. Он был жив. Весь в крови и сильно избит, но все же жив — единственный из той злосчастной пятерки. Правда, после этого его и нельзя было называть живым. — Что это значит? — Он шизанулся. — Что, что? — Ну, сошел с ума. Как понял Вине, этот парень чокнулся, когда увидел, что произошло с его товарищами. — А как зовут этого парня? — Винс не сказал мне. — Где он сейчас может находиться? — Я думаю, дон Карамацца его куда-нибудь запрятал. — А он все еще не в себе? — Я думаю, да. — Карамацца посылал третью группу? — Об этом ничего не слышала. Лавелль дал знать старику Карамацца, что, если тот хочет войны, он принимает вызов. Но предупредил, что обладает колдовскими силами. — На этот раз, я полагаю, уже никто не смеялся, — заметил Джек. — Да, никто смеяться не стал. Они молчали некоторое время. Джек посмотрел на опущенные глаза Шелли. Они не были ни покрасневшими, ни опухшими от слез. Было очевидно, что Шелли особенно не расстраивала гибель Винса Вастальяно. За окном по-прежнему завывал ветер. Сухие снежинки ударяли в стекло. Джек спросил Шелли: — Мисс Паркер, как вы думаете, причиной всего случившегося могли быть колдовские заклинания или что-нибудь в этом роде? — Нет, хотя черт его знает. Чего только не бывает на свете! Сейчас уже трудно говорить что-либо наверняка. Единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в том, что Баба Лавелль — умный и хитрый парень. Ребекка сказала: — Кое-что об этом мы уже слышали вчера от брата другой жертвы, но его рассказ не был таким подробным, как ваш, и он не знал, где можно найти Лавелля. А вы не знаете? — Квартира у него была в Вилледже, но, похоже, он оттуда съехал, и с тех пор, как заварилась вся эта каша, никто его не может найти. Его уличные торговцы продолжают работать, им по-прежнему доставляют товар — так, по крайней мере, говорил Вине, — но никто не знает, куда подевался Лавелль. — Вам известен адрес квартиры в Вилледже, где жил Лавелль? — с надеждой в голосе спросил Джек. — Нет. Я действительно никогда не имела отношения к делам с наркотиками. Честно. И знаю только то, что слышала от Винса. Джек глазами спросил у Ребекки, есть ли у нее какие-нибудь вопросы, но она мотнула головой. Тогда Джек сказал Шелли: — Вы можете идти. Она допила виски, поставила стакан на столик и поднялась, поправляя свитер. — Клянусь, сыта этими уголовниками по горло. Хватит. С ними все время попадаешь в передряги. Ребекка посмотрела на нее, и Джек заметил в ее глазах злой огонек. — А я слышала, что некоторые желтые очень даже ничего. Шелли поморщилась и покачала головой: — Желтые? Нет, только не для меня — они все слишком маленькие. — Я смотрю, вы и черных, и желтых, и уголовников раскритиковали. Разборчивая девушка. Джек ощутил, сколько сарказма было в этих словах, но Шелли ответила Ребекке сдержанной улыбкой, как бы видя в них заботу старшей сестры: — Это точно. Понимаете, я ведь не просто девочка среднего пошиба. У меня очень много плюсов. Я могу позволить себе быть разборчивой. — Да, и поаккуратнее с кули. — Правда? А я никогда и не водилась с кули. Они — дрянь? — Ну, это еще терпимо. А вот шерпы — полный аут. Джек кашлянул в кулак, чтобы сдержать смех. Беря в руки пальто, Шелли нахмурилась: — Шерпы? А кто они такие? — Они из Непала, — пояснила Ребекка. — А где это — Непал? — В Гималаях. Шелли чуть не выронила пальто: — Те самые горы? — Те самые, те самые, — уверила ее Ребекка. — Это же на краю света! — Да, на краю света. Глаза у Шелли широко раскрылись. Надев наконец пальто, она спросила у Ребекки: — А вы что, много путешествовали? Джек испугался, что, сдерживая хохот, прокусит себе язык. — Да, пришлось немного поездить, — ответила Ребекка. Шелли вздохнула, застегивая пуговицы пальто. — А мне пока не очень-то везло: только и бывала по разу на Майами и в Лас-Вегасе. Я даже никогда не видела шерпа, не говоря уж о том, чтобы переспать с ним. Ребекка не поскупилась на совет: — Если уж как-нибудь доведется встретить шерпа, лучше сразу убирайтесь от него подальше. Никто не умеет так быстро и навсегда разбивать женские сердца, как шерпы. И еще, между прочим, вы, наверное, понимаете, что пока не можете покинуть город без нашего ведома? — А я никуда и не собираюсь, — заверила ее Шелли. Она достала из кармана пальто длиннющий вязаный белый шарф и обмотала им шею. Уже в дверях она вдруг обернулась и посмотрела на Ребекку. — Послушайте, лейтенант Чандлер, извиняюсь, если была с вами поначалу несколько резка. — Не стоит беспокоиться. — И спасибо за советы. — Мы, женщины, должны помогать друг другу. — Действительно, — согласилась Шелли. Она вышла из комнаты. Когда шаги ее затихли, Ребекка не выдержала: — Господи, что за тупая, эгоистичная, самовлюбленная сучка. Джек взорвался смехом, откинувшись на спинку кресла времен королевы Анны. — Ты заговорила, как Невецкий. Подражая голосу Шелли Паркер, Ребекка произнесла: — Я и сама не могу не признать, что я — не просто девица среднего пошиба. У меня немало плюсов… Бог мой, Джек! Единственные заметные ее «плюсы» — это по одному на каждой титьке. Джек чуть не свалился на пол. Ребекка, наблюдая за его конвульсиями, с ухмылкой заметила: — Я, между прочим, видела, как ты на нее пялился. — Нет, только не я, — выдавил он между приступами смеха. — Не придуривайся! Определенно пялился. Но напрасно, она бы с тобой не пошла. — Ты уверена? — В тебе ведь есть толика ирландской крови? Твоя бабка не была ирландкой? — И вновь подражая Шелли Паркер, сказала: — О, нет ничего отвратительней этих ирландцев — задолизов папы и пожирателей картошки. Джек уже икал от хохота. Ребекка села на софу. Она тоже смеялась. — В тебе немало и британской крови, насколько я помню, Джек? Джек, все еще давясь от смеха, с трудом произнес: — Да, не без этого. И потому я еще и конченый чаехлеб. — Это тоже ужасно, но не настолько, как если бы ты был шерпом. Они все еще надрывались от смеха, когда один из полицейских зашел в комнату и, с недоумением глядя на них, спросил: — Что здесь происходит? Ни один из них не мог успокоиться, чтобы ответить. — Следовало бы выказать хоть немного приличия: у нас тут все-таки два трупа, — упрекнул их полисмен. Как ни странно, его слова вызвали новый приступ смеха. Патрульный зло зыркнул на них и, покачав головой, ушел. Джек понимал, что именно присутствие в доме смерти делало глупую болтовню Шелли Паркер такой заразительно смешной. Четыре мертвеца за последние пару дней! Им с Ребеккой нужна была такая разрядка, этот смех был целительным. Наконец они успокоились и смахнули выступившие на глазах слезы. Ребекка подошла к окну и уставилась на падающий снег. Комнату заполнила та особенная тишина, которая способна удержать блаженные мгновения расслабляющего веселья. Эта тишина творила с Джеком то, что он не мог передать словами своим картежникам-друзьям на прошлой неделе. В такие минуты перед ним возникала совсем другая Ребекка — с редким чувством юмора, умением посмеяться над несуразностями жизни, и Джек особенно остро чувствовал, как необходима ему эта женщина. Именно такие моменты, пусть крайне редкие, делали их партнерство столь надежным и безусловным для него. Джек надеялся, что таких моментов будет все больше, что Ребекка все чаще будет выпускать на свободу свое сокровенное «я» и однажды, если у него хватит терпения, эта другая Ребекка заменит нынешнюю Снежную королеву. Пока же, как и обычно, перемена в ней оказалась кратковременной. Она отвернулась от окна и сказала: — Пойдем-ка лучше поговорим с медицинскими экспертами и посмотрим, что они там нашли. Джек ответил: — Хорошо. И попробуем сменить выражение лица, Чандлер. Давай окаменеем и докажем, что у нас тоже есть совесть и уважение к смерти. В ответ она улыбнулась, и на этот раз это была ее обычная улыбка. Она первой вышла из комнаты. Он — следом за ней.* * *
Войдя в холл, Найва Руни закрыла за собой дверь в детскую, чтобы крыса — или что это там было — не смогла шмыгнуть обратно в спальню. Она поискала эту тварь в комнате Джека Доусона, но, ничего не найдя, закрыла дверь и в нее, и в детскую. Затем внимательно осмотрела кухню, заглянула даже в шкафы. Никакой крысы. В кухне было две двери: одна вела в холл, другая — в нишу-столовую. Найва закрыла и эти двери. Теперь существо могло находиться либо в столовой, либо в гостиной. Но твари там не было. Найва безуспешно осмотрела все, что только могла. Несколько раз она останавливалась и, затаив дыхание, прислушивалась… Ни звука. Она старалась обнаружить не столько загадочное существо, сколько подходящую дыру, через которую оно могло пробраться сюда. Ничего похожего. Наконец она остановилась в переходе между гостиной и холлом. Было включено все освещение. Нахмурясь, Найва оглядела все вокруг. — Куда же делась эта тварь? Ведь она должна быть здесь, в квартире. Да. Существо наверняка здесь. Найва не могла отделаться от ощущения, что она не одна и за ней кто-то следит.* * *
Помощник медицинского эксперта Айра Голдблюм, высокий, светлокожий, с волосами даже не русыми, а белыми, с голубыми, в серую крапинкуарийскими глазами, походил больше на шведа, чем на еврея. Джек с Ребеккой нашли его на втором этаже, в спальне Вастальяно. Он уже закончил осмотр тела Морранта, бегло оглядел труп самого хозяина и доставал из черной кожаной сумки какие-то инструменты. — Такое — не для людей со слабым желудком. Я, видимо, вообще работаю не там, где надо. Джек успел заметить, что сегодня Голдблюм бледнее обычного. — Мы полагаем, это связано с двумя другими убийствами: Чарли Новелла в воскресенье и вчерашним убийством Коулсона. В ваших данных эта связь прослеживается? — спросила Ребекка. — Вполне возможно. — Только возможно? — Да, есть шанс, что удастся связать их в единое целое. Количество ран… деформированность трупов — совпадения есть. Но давайте подождем результатов вскрытия. Джек был искренне удивлен: — А раны? Неужели их характер не указывает явным образом на взаимосвязь всех этих убийств? — Количество ран, конечно, наводит на некоторые размышления. Но не характер… Вы успели их рассмотреть? — С первого взгляда они кажутся какими-то укусами, может быть, укусами крыс, — ответил Джек. — А мы полагаем, что под ними скрыты ножевые ранения, — добавила Ребекка. Джек поддержал ее: — Видимо, крысы появились к тому моменту, когда оба уже были мертвы. Вы согласны с нашим мнением? — Нет, никоим образом не согласен. Даже после предварительного обследования можно с полной ответственностью говорить, что никаких ран от холодного оружия ни на одном из трупов нет. Вастальяно и его телохранитель были просто зверски искусаны. Они умерли от потери крови. Телохранителю прокусили три артерии, а Вастальяно просто изжевали. — Но ведь не настольно же агрессивны крысы? Они не нападают на людей в их собственных домах, черт возьми, — возразил Джек. На это Голдблюм ответил: — А я и не думаю, что это были крысы. Я видел их укусы и знаю, что говорю. Время от времени на помойках находят бродяг или алкоголиков, скончавшихся от сердечных приступов или инсультов. Такие трупы обычно обнаруживают не сразу, и за это время их прилично «обрабатывают» крысы. Поверьте, я безошибочно определю, где были крысы. Эти случаи — что-то другое. По целому ряду признаков. — Не могли ли это быть, скажем, собаки? — спросила Голдблюма Ребекка. — Нет. Укусы слишком маленькие. Я думаю, кошек тоже можно не брать в расчет. — У вас есть какие-то предположения? — спросил Джек. — Нет, это что-то странное. Может, все прояснится по результатам вскрытия. Ребекка сказала: — А вы знаете, что дверь в ванную была закрыта? Патрульным пришлось взломать ее. — Я об этом слышал. Еще одна тайна закрытой двери, — ответил Голдблюм. — Может быть, здесь и нет никакой тайны: если Вастальяно был убит животными, вполне возможно, что они смогли пролезть под дверью. Голдблюм покачал головой: — Сомневаюсь. Нет и нет. Это существо должно быть намного крупнее, чем то, что способно пролезть через щель. — Какое же? — Ну, наверное, со взрослую крысу. Ребекка на секунду задумалась, затем сказала: — В ванной ведь есть вентиляционная труба, может, по ней эти существа туда и пробирались. — Но на выходе труба крепится решеткой, и ячейки в ней еще меньше, чем щель под дверью. Ребекка зашла в ванную комнату, вытягивая шею, внимательно осмотрела потолок. — Решетка на месте, — разочарованно сказала она. — А маленькое окошко закрыто, — добавил Джек. — На защелку, — уточнил Голдблюм. Ребекка поправила челку. — А как насчет ванны? Там ведь сливное отверстие. Голдблюм отверг это предположение: — Нет, при современной системе канализации пролезть через него невозможно. — А через унитаз? — Тоже вряд ли. — Но все же возможно? — Только предположительно. Кроме того, я уверен, что животное было не одно. — А сколько же? — спросила Ребекка. — Трудно сказать точно, но, думаю, не меньше дюжины. — О Господи! — воскликнул Джек. — Может, и две дюжины. Может, и больше. — Почему вы так думаете? — Видите ли, Вастальяно был большим, грузным, мощным человеком. С одной-двумя-тремя тварями размером с крысу он безусловно справился бы, что бы ни представляли собой эти животные. Я думаю, он справился бы даже с десятком таких крысообразных существ. Они, конечно, покусали бы его, но он все-таки смог бы отбиться, а нескольких бы точно уничтожил. Мне кажется, их была целая туча, они просто облепили его со всех сторон. У Джека по спине побежали мурашки: он представил, как Вастальяно лежит на полу ванной, облепленный крысами или чем-то похуже, криком кричит при каждом укусе или ударе когтями. Его атакуют со всех сторон. Он уже не может ни собраться с мыслями, ни с силами, чтобы оказать сопротивление. Руки буквально скованы повисшими на них бесчисленными тварями. Какая зловещая, кровавая смерть! Джек содрогнулся от этих мыслей. — А Росс, его телохранитель? Он умер такой же смертью? — Да, с ним, видимо, произошло абсолютно то же самое, — ответил Голдблюм. Ребекка выпустила воздух через сжатые зубы. — Ваши догадки делают проблему с закрытой изнутри дверью еще более трудноразрешимой, чем она казалась на первый взгляд. Что же получается? Вастальяно и его телохранитель готовили на кухне ужин. Там-то на них и напали. Росса облепили сразу же, а Вастальяно удалось сбежать. Он не смог добраться до входной двери, так как они отрезали ему этот путь. Тогда он бросился наверх и заперся в ванной. И вот здесь крысы — или кто там еще — каким-то образом пробрались в запертую ванную комнату. Но каким образом? — И как они оттуда выбрались? — опередил ее с вопросом Голдблюм. — Я считаю, что единственный возможный вариант — унитаз. — Эту версию следует отбросить по причине большого числа нападавших. Даже если бы в системе канализации не было специальных заглушек от крыс, даже если бы эти твари умели надолго задерживать дыхание, чтобы проплыть большое расстояние, все равно версия не работает. В ванную пробралось целое полчище грызунов. Значит, они четко следовали друг за другом, словно коммандос. Крысы не так умны и не так решительны. Я вообще не знаю животных, способных на это. От воображаемой картины кусающих и грызущих тварей у Джека перехватило горло. Пришлось сглотнуть слюну, чтобы снова прийти в себя. Наконец он сказал: — Даже если Вастальяно и его телохранитель были облеплены этими… существами, неужели они не прикончили хотя бы пару из них? Мы не нашли в доме и одной мертвой крысы или еще какой твари, кроме мертвых людей. — И никаких продуктов жизнедеятельности животных, — добавил Голдблюм. — Чего? — Ну, помета, например. Если в этом участвовали десятки животных, на месте происшествия обязательно остался бы их помет. Если вы найдете волосы животных… — Мы будем искать их очень тщательно. Пропылесосим пол вокруг каждого трупа. Если удастся найти хотя бы несколько волосков, это во многом прояснит картину. Голдблюм с силой провел руками по лицу, словно желая снять с себя напряжение и усталость. На щеках у него выступили отчетливые красные пятна, но взгляд голубых глаз оставался прежним. Помолчав, он добавил: — Есть еще один момент, который меня тревожит. Жертвы не были… съедены. Они были покусаны, исцарапаны… и все такое, но, насколько я могу судить, не тронут ни грамм человеческой плоти. Крысы съели бы все мягкие покровы тела, чтобы добраться до внутренних органов. Точно так поступил бы любой другой хищник или любитель падали. Здесь же я ничего подобного не наблюдаю. Эти существа убивали целенаправленно и методично, а затем исчезли, не тронув добычу. Это ненормально, неестественно. Что же побудило пакостных тварей на жестокие убийства? Зачем они это сделали?* * *
После беседы с медицинским экспертом Джек и Ребекка решили поговорить с соседями. Вполне возможно, кто-то из них что-нибудь да слышал или видел вчера ночью. Выйдя из дома Вастальяно, они остановились на боковой дорожке. Оба стояли, одинаковым жестом засунув руки в карманы. Серые тучи нависли над землей еще ниже, чем час назад, небо еще больше потемнело. Вокруг крутились снежинки, правда, их было не очень много. Они лениво падали на землю, если их вдруг не подхватывал порыв ледяного ветра. Тогда они улетали вдаль, как хлопья пепла с обгоревшего неба. Ребекка сказала: — Я думаю, нам не дадут заниматься этим делом. — Нас отстранят от расследования двух этих убийств? Или всего дела? — Нет, только этих двух. Скажут, что между четырьмя убийствами нет прямой связи. — Но ведь связь-то есть. — Я прекрасно это знаю. Но нам скажут, что смерть Вастальяно и Морранта не имеет никакого отношения к гибели Новелла и Коулсона. — Думаю, Голдблюм поможет нам это доказать. Ребекка выглядела расстроенной. — Терпеть не могу отстранений. Я привыкла завершать то, что начато. — Нас еще никто не отстраняет. — Ты что, не понимаешь? Если это сделало какое-то животное… — И что из того? — …то они не смогут классифицировать происшедшее как убийство. — Но это же убийство, — решительно заявил Джек. — Разве можно предъявить обвинение животному? Джек кивнул: — Я понимаю, что ты имеешь в виду. — Вот именно. — Но послушай! Если животные были натренированы убивать, это все же убийство, а человек, который их натаскивал, — убийца. Ребекка сказала: — Если бы на трупах Вастальяно и Росса были собачьи укусы, то тебе, возможно, удалось бы привлечь внимание к этому моменту. Но какое мелкое животное можно натренировать на убийство? И заставить выполнять команды? Будут это делать крысы? Нет. Кошки? Нет. — Я слышал о тренированных хорьках. Иногда их используют на охоте. Не для охоты как таковой, а просто ради спорта. Добычу они не приносят, от добычи хорьки оставляют лишь мокрое место. — Хорьки? Я многое бы отдала за то, чтобы видеть, как ты докажешь капитану Грешему, что по городу бродит некто с клетками, наполненными тренированными хорьками, способными устроить подобную вакханалию. — Да, звучит неубедительно, — согласился Джек. — Мягко говоря. — Ну и что нам остается? Ребекка в ответ только пожала плечами. Джеку пришла мысль о Баба Лавелле. Колдовство? Нет. Конечно же, нет. Еще можно было бы допустить, что Лавелль специально обставляет убийства таким жутким антуражем, чтобы запугать противников своей мнимой колдовской силой. Но представить, что его колдовские чары действительно могут работать, — это уж слишком. И все же. Как понять эпизод с запертой изнутри ванной? А тот факт, что ни Вастальяно, ни его телохранитель не смогли убить ни одного существа или животного? А отсутствие — полное! — следов их жизнедеятельности? Ребекка, догадавшись, о чем в эту минуту думает напарник, отвлекла его: — Ладно, пойдем пообщаемся с соседями. Внезапно проснулся ветер. Он заметался вдоль улицы, как живое существо, злое и коварное.* * *
Миссис Киллен, учительница в школе Уэлтон, не могла взять в толк, почему этот вандал разгромил только шкаф Пенни. — Может быть, он хотел разбить все, но почему-то передумал? Или начал с твоего шкафа, моя милая Пенни, а услышав звуки чьих-то шагов, испугался, что его поймают, и скрылся? Правда, ночью школа закрыта. И система сигнализации должна была сработать. Как же он забрался сюда, а потом выскользнул из здания? Сама-то Пенни отлично знала, что никакой это не вандал. Она понимала, что разгром шкафа каким-то образом был связан с событиями этой ночи у них дома. Но она не знала, как сказать о них, чтобы ее не приняли за маленькую девочку, и не решилась объяснить миссис Киллен то, что не могла объяснить самой себе. Поговорив о происшедшем и выразив Пенни искреннее сочувствие, миссис Киллен отослала девочку в подвал, где хранились запасы учебников и школьных принадлежностей. — Возьми все, что испорчено. Пенни, — учебники, новые тетради, блокноты, карандаши. И не задерживайся. Урок математики скоро начинается, а это тот предмет, которым тебе надо заниматься больше всего. Пенни спустилась на первый этаж, постояла у стеклянных дверей, глядя на порхающие снежинки. Затем через холл пошла в заднюю часть здания — через пустой спортивный зал, через класс для музыкальных занятий, где вот-вот должен был начаться урок, и оказалась перед дверью в конце коридора. Пенни открыла дверь и нащупала выключатель. Длинная узкая лестница вела вниз, в подвал. Коридор первого этажа, по которому она только что прошла, был наполнен запахом мела, пыль от которого спускалась сюда из всех классов, хвойной мастики, которой надраивали пол, сухим жаром обогревателей. Но в подвале запахи были совсем другие. Пенни уловила испарения от отсыревшего бетона и вонь химикатов, которыми регулярно обрабатывали подвал от моли, чтобы уберечь книги и другую бумажную продукцию. Но отчетливее всего пахло здесь сыростью, запах был неприятный, хоть и не резкий. По узеньким ступенькам Пенни спустилась до конца лестницы. Ее шаги резко отдавались от стен и потолка подвала. Он тянулся под всем зданием школы, от одного конца до другого, и делился на две части. Напротив лестницы находилась котельная, отделенная тяжелой железной дверью, всегда запертой. Большая часть подвала приходилась на эту сторону от двери. В центре помещения стоял массивный стол, а вдоль стен громоздились металлические полки с книгами и канцелярскими принадлежностями. Пенни взяла с полки пустую корзинку и стала отбирать то, что ей было нужно. Она потянулась за учебником, когда услышала позади себя странный звук. Тот самый звук! Шипяще-скребуще-шепчущий звук, его она слышала ночью в своей спальне. Пенни посмотрела по сторонам. Она никого не увидела. Правда, она и не могла видеть все помещение. Под лестницей лежали большие тени. В углу, у самой двери в котельную, лампочка на потолке перегорела. Стеллажи крепились на ножках примерно пятнадцатисантиметровой высоты, и, естественно, под нижнюю полку свет не проникал. Так что здесь хватало мест, где мог спрятаться кто-нибудь маленький и шустрый. Пенни застыла на месте и ждала, прислушиваясь. Прошли десять долгих секунд. Потом пятнадцать, двадцать… звук не повторялся. Пенни уже подумала, не почудился ли он ей. Прошло еще несколько томительных секунд, и тут что-то громко хлопнуло наверху. Это была дверь, отделявшая лестницу подвала от первого этажа. Пенни помнила, что оставила ее открытой. Значит, только что кто-то или что-то эту дверь захлопнул. С корзинкой, полной книг и школьных принадлежностей, Пенни пошла было к ступенькам, но резко остановилась. Сверху послышались те же звуки — шипение, скрежет, шепот. Ночью она пыталась убедить себя в том, что никакого существа в ее комнате не было, а был просто сон. Теперь Пенни поняла, что это не так. Но что же тогда? Дух? Привидение? Что за привидение? По крайней мере, не ее мама. Она бы, пожалуй, не возражала, если бы где-то рядом все время находился ее дух. Это было бы даже здорово. Но тот дух в лучшем случае был злым, а в худшем — весьма опасным и коварным. К тому же привидения не ходят за людьми, так себя не проявляют, они живут в определенных домах, которые не могут покинуть. Тем более они не станут бегать по городу, преследуя одну девочку. Но дверь же кто-то закрыл. Может, сквозняк? Может быть. Но там, наверху, что-то двигалось. Это точно был не сквозняк. Это было что-то непонятное. Может, опять показалось? Ты так думаешь? Пенни стояла у самой лестницы, запрокинув голову, стараясь хоть что-то рассмотреть. Чтобы успокоить себя, она затеяла с собой разговор. — Ладно, если это не привидение, то что же тогда? — Что-то плохое. — Ну, я так не думаю. — Что-то очень-очень плохое. — Прекрати! Прекрати запугивать сама себя! Ведь оно не тронуло тебя ночью, правда? — Да, это так. — Ну вот видишь. Значит, все в порядке. — Но зачем оно вернулось? Тут новый звук отвлек Пенни от внутреннего диалога. Еще хлопок. Но он совсем не похож на тот, когда захлопнулась дверь в подвал. Еще раз! Словно кто-то всем телом бросается на стену. Как летняя муха, когда она бессмысленно бьется в окно. Хлопок! Неожиданно погас свет. Пенни учащенно задышала. Хлопки прекратились. В этой внезапной темноте Пенни со всех сторон окружили странные и неприятные звуки. Она чувствовала какое-то движение. Уже не одно неизвестное существо было в подвале. Их было много. Но кто это был? Что-то коснулось ее ноги и быстро исчезло в сплошной тьме. Пенни не выдержала и закричала. Кричала она громко, но не настолько, чтобы ее услышали наверху. В музыкальном классе дети запели рождественскую песенку. А миссис Марч, учительница музыки, громко заиграла на пианино. Шла подготовка к рождественскому вечеру перед каникулами. Если бы Пенни стала кричать громче, теперь ее все равно никто бы не услышал. Но и она сама из-за музыки и пения перестала слышать звуки этих противных существ. Она знала: они все еще здесь. Она была абсолютно в этом уверена. Пенни сделала глубокий вдох и решила не сдаваться. Ведь она уже не ребенок! «Они не станут меня трогать», — с надеждой подумала она. Но убедить себя в этом не могла. Пенни осторожно направилась к нижней ступеньке лестницы. Одной рукой она держала корзину, другую вытянула вперед, как слепая. Да она и на самом деле ничего не видела в темноте. Два окошка в стене подвала света почти не пропускали. Во-первых, они располагались слишком высоко, на уровне улицы. Во-вторых, были слишком маленькими. И вдобавок грязными. Даже в ясный день толку от них никакого не было, а в такую пасмурную погоду и подавно они не могли рассеять царивший в подвале мрак. Пенни дошла до лестницы и посмотрела вверх. Сплошная темень. Она поставила ногу на первую ступеньку. Миссис Марч продолжала стучать по клавишам, а дети пели о снеговике, который вдруг ожил. В конце лестницы, сантиметрах в десяти от пола, возникли чьи-то глаза. Обладавшее ими существо могло быть размером с кота. Но, конечно, это был не кот. Не тот Чеширский кот, который по желанию мог выставлять напоказ любую часть своего тела. А Пенни не была Алисой, и подвал школы Уэлтон не был Страной чудес. Нет, это не Чеширский кот, милое, доброе создание. Глаза были большими и яркими. Очень яркими. Гораздо более яркими, чем у котов. Похожими на два маленьких фонарика. И цвет их тоже необычный: белый с какими-то серебристыми проблесками. Холодные глаза внимательно смотрели на Пенни сверху. Она сняла ногу со ступеньки лестницы. Существо, в свою очередь, с лестничной площадки скользнуло на верхнюю ступеньку, сократив расстояние между собой и Пенни. Пенни попятилась. Существо миновало еще две ступеньки. Его приближение можно было определить по нараставшей яркости немигающих глаз. Темнота скрывала форму тела. Тяжело дыша, с сердцем, бьющимся громче, чем звуки музыки наверху, Пенни отходила все дальше назад, пока не уперлась в металлический стеллаж. Теперь некуда было бежать и негде было спрятаться. Спускаясь, существо продвинулось уже на треть лестницы. Пенни вдруг захотелось писать. Она припала спиной к полкам и напряженно сжала ноги. Существо прошло пол-лестницы и двигалось все быстрее. Наверху, в музыкальном зале, дети явно распелись: звуки лились громко, задорно, что миссис Марч одобрительно называла «с силой». Краем глаза Пенни заметила какое-то движение в подвале, какое-то посверкивание. С усилием оторвав взгляд от существа, двигавшегося по лестнице, Пенни быстро осмотрелась. И тут же пожалела, что сделала это. Глаза. Серебристо-белые глаза. Вся темнота была заполнена ими. Два глаза уставились на нее с пола, с расстояния примерно в метр. Они разглядывали ее с холодной бесцеремонностью. В тридцати сантиметрах от них светились еще два глаза. Еще четыре холодно поблескивали на метровой высоте над полом, в центре помещения. На мгновение Пенни подумала, что неверно оценила размеры существ, но потом поняла, что эти двое взобрались на рабочий стол посреди подвала. Две, четыре, шесть пар глаз злобно уставились на нее с полок у стены, еще три пары устроились на полу рядом с дверью в котельную. Одни глаза оставались на месте, другие беспрестанно метались взад и вперед. Были и такие, что медленно двигались по направлению к ней. Пространство над лестницей тоже было их. Пенни окружили два десятка этих существ. Сорок ярких, злобных, неестественных глаз. Сотрясаясь от страха. Пенни отвела взгляд от этого скопища и снова посмотрела на лестницу. Одинокая тварь уже заканчивала свой путь вниз. Она была уже на последней ступеньке.* * *
Соседи Винса Вастальяно жили в таких же домах. Это были комфортабельные жилища, обставленные дорогой мебелью. Городские эти дома очень напоминали сельские усадьбы, так они были уединенны. Никто из их обитателей не видел, не слышал ничего необычного в ту ночь — ночь крови и убийств. Меньше чем за полчаса Джек и Ребекка закончили обход соседей Винса Вастальяно — и с востока, и с запада — и вернулись на боковую дорожку к его дому. Они так же держали руки в карманах — ветер усиливался буквально с каждой секундой. Теперь он превратился в свистящий кнут, вытряхивал мусор из урн, сотрясал голые деревья, задирал полы пальто и больно жалил открытые части тела. Головы им девать было некуда, и они втянули их в плечи. Снег шел не переставая и грозил превратиться в нешуточный снегопад. Улицы еще оставались черными, но скоро они преобразятся. Джек и Ребекка подходили к двери дома Вастальяно, когда услышали, что их кто-то зовет. Это был Гарри Албек, он раньше их оказался на месте происшествия. Гарри кричал им из окна одной из черно-белых машин, припаркованных вдоль тротуара. Ветер относил его слова в сторону, и Джек, нагнувшись к открытому окну машины, сказал: — Извини, Гарри, я ничего не слышал. Слова вырывались наружу вместе с белым паром. — Вас и детектива Чандлер просят срочно связаться с отделом. — А что случилось? — Это связано с делом, по которому вы работаете. Еще одно убийство, очень похожее на эти. Только, по-видимому, еще более… кровавое.* * *
Глаза у них совсем не напоминали нормальные глаза. Это были щели в печной дверце, за которой полыхает адский жар. Серебристо-белый жар. В этих глазах не было зрачков и сетчатки, как у всех людей и животных. Только белый адский огонь, пульсирующий и мерцающий. Существо на лестнице спустилось с последней ступеньки на пол. Оно двинулось по направлению к Пенни, но внезапно замерло, подняло взгляд и стало внимательнейшим образом разглядывать девочку. Пенни некуда было отступать, металлические полки и так уже больно впивались ей в лопатки. Тут вдруг она поняла, что музыка наверху больше не играет. Там все затихло. Паралич, вызванный страхом, не позволил ей сразу осознать, что песенка «Снеговик, снеговик» в музыкальном классе уже секунд тридцать как смолкла. Спохватившись, она раскрыла рот, чтобы закричать, позвать на помощь, но в тот же момент голоса зазвучали снова. На этот раз пели «Рудольф — небесный олень». И пели еще громче и воодушевленнее. Существо у подножия лестницы продолжало разглядывать Пенни. И, хотя его глаза не походили на глаза животного. Пенни вспомнила какую-то журнальную фотографию тигра, изготовившегося к прыжку. Глаза у тигра были совсем другими, но объединяло их то, что это были глаза хищников. Пенни уже привыкла к темноте подвала, но по-прежнему не могла рассмотреть, как выглядят существа, есть ли у них мощные челюсти или огромные клыки. Все, что она видела, — это леденящий душу взгляд немигающих, бело-огненных глаз. Существа справа, как по команде, вдруг двинулись в ее сторону. Пенни резко повернулась к ним. У нее перехватило дыхание, а сердце чуть не выпрыгивало из груди. По движению серебристых глаз Пенни поняла, что они спускаются с полок на пол. Они нападают! Еще двое, сидевшие на столе, тоже спрыгнули на пол. Пенни закричала так громко, как только могла. Музыка не прекращалась. Ни на такт. Никто ее не услышал. Все существа, за исключением того, что оставалось у лестницы, собрались в группу. Сверкающие глаза теперь напоминали россыпь бриллиантов на черном бархате. Ни одно из них не подходило к Пенни. Похоже, они чего-то ждали. Через мгновение все глаза повернулись к лестнице. Та тварь задвигалась. Но не по направлению к Пенни, а к своим собратьям. Теперь лестница была свободна, хотя ступеньки в темноте она не видела. Это какая-то хитрость! Она понимала, что теперь дорога открыта, можно бежать. Нет. Это — ловушка. Но зачем снова устраивать ей ловушку? Ведь недавно она уже побывала в одной. Они уже давно могли бы обрушиться на нее, давно могли бы убить. Пульсирующие серебристо-белые глаза так же следили за Пенни. Миссис Марч так же громко играла на пианино. Дети так же дружно пели. Пенни, как спринтер-профессионал, рванула к лестнице, вспрыгнула на нижнюю ступеньку и помчалась наверх. С каждым шагом она ожидала, что вот-вот проклятые твари схватят ее за пятки и потащат назад. В одном месте она споткнулась, чуть не покатившись вниз, но свободной рукой смогла удержаться за перила и продолжить рывок наверх. Вот последняя ступенька. Все, площадка лестницы. Вот дверная ручка. Уже коридор. Свет, безопасность. Она быстро захлопнула за собой дверь, подперев ее спиной. Она едва дышала. В музыкальном зале продолжали петь. Все та же песня о Рудольфе — небесном олене. Коридор был абсолютно пуст. Пенни почувствовала, что ноги у нее стали ватными и больше не подчиняются ей. Медленно опустившись, она села на пол, опираясь о дверь спиной, и поставила рядом корзинку с учебниками. Все это время она продолжала держать ее, да так крепко, что на ладони вспух красный рубец. Рука сильно болела. Песня окончилась. Но ее тут же сменила другая — «Серебряные колокольчики». Пенни немного отдышалась, успокоилась и попыталась здраво рассуждать. Что же это за злые маленькие твари? Откуда они взялись? Чего хотят от нее? Пенни не нашла ни одного приемлемого ответа ни на один вопрос. Она перебирала одно предположение за другим: гоблины, гремлины или им подобные существа. Но какой это ответ — здесь ведь настоящая жизнь, а не детская сказка. Как ей быть? Как рассказать о случившемся, чтобы не показаться маленьким ребенком? Или, того хуже, слегка не в себе? Конечно, взрослые не любят называть детей сумасшедшими. Ты можешь быть глупой как пень, лепетать что-нибудь без остановки, кусать мебель, дергать котов за хвост и даже разговаривать со стенами. Но, пока ты ребенок, упомянут только твою «эмоциональную неуравновешенность». Если бы она рассказала миссис Киллен или своему отцу о том, что произошло в школьном подвале, они бы подумали, что таким образом она вызывает к себе внимание и сочувствие, поскольку до сих пор не может свыкнуться со смертью матери. Действительно, несколько месяцев после смерти мамы Пенни болела, была раздражительной, агрессивной, сторонилась людей. Она доставила немало хлопот и отцу, и, как ни странно, самой себе тоже. Да, тогда ей понадобилась помощь других людей. И теперь, расскажи она обо всем, что пережила в подвале, получится, что такая помощь требуется снова. Ее пошлют к «консультанту», который на самом деле окажется обыкновенным психиатром. И он ей не поверит. Поверят только в одном случае — если сами увидят то, что довелось пережить ей. Или когда для нее будет уже слишком поздно… Да, тогда бы они поверили. Когда бы ее уже не было. Сама Пенни не сомневалась: рано или поздно существа с горящими глазами постараются ее убить. Она не понимала, зачем им это, но ощущала их злые намерения, необъяснимую ненависть. Пока ей не причинили никакого физического вреда, это правда, но они становятся все наглее. Прошлой ночью существо в спальне повредило только пластиковую бейсбольную биту, которой орудовала сама Пенни. Но сегодня они разорили ее шкаф в школьной раздевалке, а теперь осмелились показаться и угрожать ей, зверски напугав Пенни в этом чертовом подвале. Что же дальше? Только худшее. Видимо, им доставлял удовольствие страх, который они внушали. Казалось, больше всего они хотели внушить ей ужас. Но когда-то, как и кошка, играющая с мышкой, они устанут от этой игры. И… Пенни невольно содрогнулась при этой мысли. «Что же мне делать?» — подумала она с жалостью к самой себе. «Что же мне делать?»* * *
Из отеля, который считался лучшим в городе, открывался вид на Сэнтрал Парк. Именно здесь Джек и Линда провели свой медовый месяц тринадцать лет назад. Они не могли позволить себе Багамы, или Флориду, или хотя бы Кэтскиллз. Они остались в городе, поселившись в старинной гостинице, что было для них большой роскошью. Это был незабываемый медовый месяц — три дня, заполненные смехом, любовью и долгими разговорами о будущем. Тогда они пообещали себе отправиться на Багамы через десять лет. Но через десять лет двое детей и новая квартира требовали от них иного. Поездку на Багамы они отложили еще на пять лет. А через год Линда умерла. Полтора года после ее смерти Джек часто думал о Багамах, которые теперь ненавидел, и часто вспоминал этот старый отель. Убийство произошло на пятнадцатом этаже. Возле лифта был выставлен пост — двое полицейских в форме, Йигер и Тафтон. Они пропускали только полицейских и тех, кто снимал номера на пятнадцатом этаже. Ребекка спросила Йигера: — Кто потерпевшие? Тот ответил: — По крайней мере, двое из них — типичные мафиози. У Йигера были огромные желтые зубы, и каждую паузу в своей речи он сопровождал непроизвольным движением языка по зубам. Стоило Йигеру сделать очередное движение языком вдоль зубов, в разговор вступил Тафтон: — Представляете себе таких быков — высокие, с мощными ручищами. Шею им обухом не перешибить: они подумают, что это просто дунул ветерок. Йигер добавил: — Третий парень был одним из Карамацца. Он замолчал, и его язык начал движение вдоль верхних зубов, оглаживая их снаружи и изнутри. — Член семьи Карамацца… Новая пауза, и он прошелся языком по нижним зубам. — …его зовут… Еще одно движение во рту. — Его зовут Доминик Карамацца. Джек воскликнул: — О черт! Брат Дженнаро? — Да, младший брат «крестного отца», любимый брат, его правая рука. Все это быстро сообщил Тафтон, пока Йигер совершал очередную манипуляцию языком. Тафтон буквально выпаливал фразы. Джек подумал, что тягучая речь Йигера была для него постоянным раздражающим фактором. Они и внешне очень различались: один — долговязый, другой — плотно сбитый, с резкими, выразительными жестами, заостренными чертами лица. — Его не просто убили, — продолжал он, — его буквально разорвали на куски. Не думаю, чтобы какое-нибудь похоронное бюро взялось бы подготовить тело для погребения в открытом гробу. Вы же знаете, какое значение эти сицилийцы придают похоронам! Джек хмуро заметил: — Скоро по улицам потекут реки крови. — Похоже на новую войну кланов, какой мы не видели уже много лет, — согласился с ним Тафтон. Ребекка спросила: — Доминик? Не тот ли, о ком все лето писали газеты? Йигер кивнул: — Ага… Окружной прокурор уже почти прищучил его за… Стоило Йигеру замешкаться, облизывая мясистым розовым языком большие желтые зубы, как Тафтон тут же воспользовался паузой: — …за торговлю наркотиками. Он контролирует весь наркобизнес Карамацца. Двадцать лет его пытались посадить за решетку, но он тоже не промах. Такой хитрый лис никогда бы не сел. Каждый раз он покидал зал суда победителем. Джек спросил: — Что он делал в отеле? — Думаю, прятался, — ответил Тафтон. — И зарегистрировался под вымышленным именем, — добавил Йигер. Тафтон продолжал: — Окопался здесь с двумя гориллами. Они знали, что кто-то за ним охотится, и готовы были защищать его. Но не сумели. Прикончили и их. Йигер с издевкой переспросил: — Прикончили? Он в очередной раз прошелся по зубам, издавая отвратительный причмокивающий звук: — Это называется прикончили, черт возьми? Это можно назвать только полным истреблением. Какая-то чертовщина! Если быть точными, то их, похоже, жевали. Да! Разжевали на куски. Дверь в двухкомнатный люкс полицейским, прибывшим на место преступления, пришлось взламывать. Судмедэксперт, фотограф и специалисты из лаборатории занимались каждый своим делом. Гостиную, в бежевых и васильковых тонах, обставленную современной мебелью, можно было бы назвать уютной, если бы не следы крови. Они были повсюду. На полу гостиной рядом с перевернутым кофейным столиком на спине лежал мужчина лет тридцати. Высокий, сильный. Черные брюки и рубашка были изодраны в клочья, рубашка из белой превратилась в малиновую — так ее пропитала кровь. Тело убитого было почти в таком же состоянии, что и останки Вастальяно и Морранта, — зверски искусано и обезображено. Ковер вокруг жертвы был пропитан кровью, но место битвы не ограничилось этой частью комнаты. Через всю гостиную, туда и обратно, пролегал широкий, извилистый красный след — панические передвижения жертвы, пытавшейся убежать от нападавших. Джек почувствовал, что к горлу подступает тошнота. Ребекка не выдержала: — Какая-то чертова скотобойня. Убитый пытался воспользоваться оружием: его наплечная кобура была пуста, а пистолет с глушителем 38-го калибра лежал рядом. Джек остановил одного из экспертов, собирающего мазки крови: — Вы не трогали пистолет? Тот ответил с обидой в голосе: — Конечно, нет. Мы возьмем его в лабораторию и попытаемся снять отпечатки. — Интересно, стреляли из него или нет? — Это я могу вам точно сказать. Мы нашли четыре стреляные гильзы. — Калибр этот? — Ага… — А пули? — спросила Ребекка. — Тоже нашли. Все четыре. И стал подробно объяснять: — Две — в стене, одну — в наличнике двери, а еще одну — прямо в спинке этого кресла. Ребекка констатировала очевидное вслух: — Похоже, он ни разу не попал, куда целился. — Видимо, так. Джек задумчиво произнес: — Не мог же он промахнуться все четыре раза, если стрелял в упор. Эксперт раздраженно хмыкнул: — Если бы я знал, черт возьми. Пожав плечами, он опять занялся своим делом. В спальне крови оказалось больше, чем в гостиной: там было два трупа. Полицейский фотограф со знанием дела щелкал аппаратом с разных ракурсов, медицинский эксперт Брендан Малгру, высокий худощавый человек с торчащим кадыком, фиксировал положение обоих трупов. Одна из жертв лежала на огромной двуспальной кровати, вытянув к изголовью босые ноги. Рукой он сжимал вспоротое горло, вторая рука, вытянутая вдоль тела, была развернута ладонью кверху. Махровый его халат превратился в костюм из крови. — Доминик Карамацца, — сказал Джек. — Откуда ты знаешь? — спросила Ребекка, вглядываясь в изуродованное до неузнаваемости лицо мужчины. — Интуиция подсказывает. Второй мертвец лежал плашмя на полу. Его голова была повернута в сторону, а лицо просто располосовано. Та же экипировка телохранителя: рубашка с открытым воротом, черные брюки и наплечная кобура. Джек отвел глаза от этой плоти, превращенной в фарш. У него явно начались нелады с желудком: приступы тошноты сменялись изжогой. Он понял, что настало время ментоловых таблеток, и начал искать их в кармане. Обе жертвы в спальне были вооружены, но и им оружие не помогло. Тот, что лежал на полу, все еще сжимал в руке пистолет с глушителем — такой же, как у его коллеги в гостиной. Доминик Карамацца оружие в руке не удержал, оно валялось неподалеку в скомканных простынях. Джек прокомментировал: — «Смит и вессон», «магнум-357». Оставляет в противнике дырку величиной с кулак. В отличие от пистолета револьвер не имел глушителя. Ребекка заметила: — Выстрел из такой пушки в помещении должен наделать немало шуму. Джек спросил Малгру: — Стреляли из обоих пистолетов? Медэксперт кивнул: — Да. Магазин пистолета, судя по разбросанным гильзам, расстрелян полностью. Из «магнума» сделано пять выстрелов. — И ни одного попадания в цель, — заметила Ребекка. Малгру согласился: — Похоже, что так. Тем не менее берем мазки со всех пятен крови, рассчитывая получить образец крови, не принадлежащей убитым. Им пришлось посторониться, чтобы не мешать фотографу, и Джек заметил в стене слева от кровати две большие дыры. — Это из «магнума»? — Да. — Кадык Малгру качнулся, как гиря, вверх-вниз. — Обе пули пробили стену и вылетели в соседнюю комнату. — Господи! Там никто не пострадал? — Нет, никого не задело, но парень в соседнем номере чуть с ума не сошел. — Его можно понять. — Он успел кому-нибудь об этом рассказать? — Может быть, его опрашивал кто-то из патрульных, но официального допроса еще не было. Ребекка взглянула на Джека: — Давай займемся, пока он свеженький. — Хорошо, только подожди еще секунду. Еще один вопрос. А эти трое… Не были ли они… искусаны до смерти? — Похоже, что так и есть. — Укусы крыс? — Следовало бы дождаться результатов анализов и вскрытия… — Пока мне хотелось бы услышать неофициальную точку зрения, — уточнил Джек. — Ладно. Раз неофициально… Это не крысы. — Собаки? Кошки? — Не похоже. — Вы обнаружили какие-нибудь следы пребывания здесь животных? Волосы, еще что-нибудь? Малгру был удивлен: — Я уже думал об этом, но странно, что и вы заговорили о том же. Я искал везде, но ничего не смог найти. — Еще что-нибудь странное, необычное? — Вы не обратили внимания на дверь? — А кроме двери? — Разве этого недостаточно? Малгру ошеломленно уставился на них. — Послушайте, первым двум полицейским пришлось взломать дверь номера. Она была заперта изнутри. Окна тоже заперты изнутри, причем, судя по всему, их не открывали со времени последней покраски. И убийцы… будь то люди или животные… Как им удалось выбраться отсюда? Вот вам первая загадка — запертая изнутри дверь! Мне лично все это кажется странным, а вам? Джек тяжело вздохнул: — По правде говоря, эти странности, повторяясь из раза в раз, уже становятся вещами обыденными.* * *
Тед Джернсби, техник телефонной компании, возился с распределительной коробкой в колодце неподалеку от школы Уэлтон. Мрак в глубокой шахте колодца рассеивали осветительные лампы, которые они с Энди Карнсом принесли из грузовика. Лампы давали не только свет, но и какое-то тепло, достаточное, чтобы его чувствовать и думать, что в колодце сейчас лучше, чем на улице, продуваемой холодным ветром. Но все-таки он замерз: приходилось работать голыми руками, и пальцы совсем окоченели. Хотя дождевые колодцы не соединялись с канализационной системой, до Теда время от времени долетал тяжелый гнилостный запах, порой до того сильный, что заставлял Теда не просто морщиться, а испытывать приступы тошноты. Он хотел только одного — чтобы Энди побыстрее вернулся с источником питания и они побыстрее закончили ремонт. Тед положил на пол узконосые плоскогубцы, поднес руки ко рту и стал обогревать их своим дыханием. Он отошел от лампы, чтобы взглянуть на неосвещенную часть подземного туннеля. В глубине туннеля заколебался, задрожал свет карманного фонарика. Это Энди. Наконец-то! Но почему он бежит? Энди Карнс вынырнул из темноты, тяжело дыша. Ему было двадцать с небольшим, то есть он был вдвое моложе Теда. Они работали вместе только неделю. Энди был красавец с белокурыми волосами, здоровым цветом лица и веснушками, которые напоминали капли воды на сухом песке. Ему бы самое место быть где-нибудь на пляже в Майами или Калифорнии, а не в колодце Нью-Йорка. Сейчас он был настолько бледным, что веснушки на его лице превратились в темные дырочки. Глаза у него были какие-то дикие, и весь он дрожал. — Что случилось? — спросил Тед. Энди, стуча зубами, с трудом выдавил: — Там, в боковом туннеле. — Что там такое? Энди с ужасом оглянулся: — Слава Богу, они за мной не погнались. Я уж боялся, что они охотятся за мной. — Что ты несешь? Энди открыл было рот, но заколебался и покачал головой. Испуганным голосом он сказал Теду: — Ты мне не поверишь никогда в жизни. Я сам в это с трудом верю, но я видел все собственными глазами. Тед нетерпеливо отстегнул фонарик от пояса с инструментами и уже было направился туда, откуда только что прибежал Энди, но тот крикнул: — Погоди, Тед! Это может быть… очень опасно. — Почему? — твердым голосом спросил он напарника. — Эти глаза… — Энди передернуло при этих словах. — Их я в первую очередь и увидел. Множество глаз, сверкающих в темноте. Там, в глубине бокового отсека. — И всего-то? Какая-то кучка крыс… Стоит из-за них так волноваться. Поработаешь под землей еще пару недель и привыкнешь к ним. — Нет, там были не крысы. Ведь у крыс глаза красные, верно? А эти белые. Или… как будто серебристые. Да, серебристо-белые. Очень яркие. И не потому, что отражали свет моего фонарика. Нет. Я и не светил в ту сторону, когда они показались. Они сами светились. Излучали свой свет. Буквально… пятна огня, ярко горящего пламени. Заметив их, я посветил фонариком, и оказалось, что они находились чуть ли не в двух метрах от меня, эти чертовы чудища, буквально у меня под ногами. Тед не выдержал: — Какие еще чудища? Говори толком. Энди стал их описывать, и голос у него дрожал. Тед терпеливо слушал его, не перебивая, но в глубине души твердо знал, что в жизни такого не бывает. Знать-то знал, но предательский холодок страха несколько раз пробежал по его спине. Тем более нельзя все так оставлять. Несмотря на протесты Энди, он пошел в туннель. И ничего там не обнаружил, не то что чудищ, описанных Энди. Он даже завернул за угол и прошел еще несколько метров вглубь. Ничего. Фонарик освещал пустоту. Тед вернулся обратно. Энди ждал его, оставаясь в пятне света от рабочих ламп и с опаскойвсматриваясь в темноту. Лицо его было таким же бледным. — Абсолютно ничего. — Они были там минуту назад. Тед молча выключил фонарик, снова прикрепил его к поясу и, засунув руки в отороченные мехом карманы, сказал: — Сегодня ты в первый раз работаешь под землей. — Ну и что? — Раньше ты этого не делал? — Ты имеешь в виду, спускался ли я в канализацию? — Это не канализация, это дренажная система. Так бывал ты раньше под землей? — Нет. А какое отношение это имеет к происходящему? — У тебя не бывало так, что в переполненном кинотеатре ты вдруг чувствовал себя… запертым, одиноким? — Я не страдаю клаустрофобией, — резко среагировал Энди. — А тут нечего стесняться. С моими напарниками прежде такое бывало. Некоторые ощущают дискомфорт, оказавшись в ограниченном пространстве: в лифтах, в переполненных людьми помещениях. И это вовсе не значит, что они страдают клаустрофобией. Но, попадая на ремонтные работы под землей, многие чувствуют себя подавленными, начинают дрожать и задыхаться. Кажется, что стены движутся на тебя, слышатся какие-то загадочные звуки, чудятся видения… Если это то, что сейчас происходит с тобой, не надо волноваться, парень. Это не значит, что тебя уволят или что-то в этом роде. Уверяю, нет. Просто постараются не посылать тебя на подземные работы. Вот и все. — Тед, но я ведь действительно видел их, я тебе клянусь. — Энди, там ничего нет. Я туда ходил и убедился в этом. — Но я видел их!* * *
Рядом с люксом Доминика Карамацца находился внушительный и красивый номер с огромной кроватью, письменным столом, двумя креслами, бюро и шкафом. Все там было нежно-коралловым. Занимал номер Берт Уикки, мужчина лет под пятьдесят, высокий — около шести футов, когда-то несомненно стройный. Сейчас атлетическое тело его напоминало груду мяса, проросшего жиром: массивные плечи стали округлыми, грудь — тоже, живот нависал над ремнем, а брюки туго обтягивали толстые ляжки. Очень может быть, что прежде это был привлекательный мужчина, но теперь лицо его являло последствия многих излишеств — обжорства, пьянства, курения. Размытые черты лица дополняли налитые кровью, чуть навыкате, глаза. В комнате, где нежно-коралловый цвет дополнялся бирюзовыми вкраплениями, Уикки смотрелся как жаба на праздничном торте. Голос его удивил Джека. Он ожидал, что тот заговорит медленно и густым басом. Уикки оказался неистовым холериком. Он не мог сидеть на одном месте: вскакивал, бегал по комнате, снова садился, снова вскакивал, вышагивая по комнате, и при этом говорил, отвечал на вопросы и… жаловался! Берт Уикки жаловался не переставая! — Это ведь не займет много времени, правда? Мне уже пришлось отменить одну деловую встречу. Неужели придется отменить и следующую? Джек успокоил его: — Не волнуйтесь, мистер Уикки, нам не потребуется много времени. — Я завтракал здесь, в номере. Не очень хороший завтрак, надо прямо сказать: апельсиновый сок был слишком теплым, а кофе, наоборот, слишком холодным. Я заказывал хорошо прожаренную яичницу, так они принесли пережаренную. А ведь от отеля с такой репутацией и такими ценами можно ожидать хотя бы приличного завтрака в номер. Ну ладно. Я побрился, оделся и стоял в ванной, причесываясь, когда услышал крики. За ними последовал душераздирающий вопль. Я вышел из ванной, прислушался и понял, что кричат в соседнем номере. И еще я понял, что вопит не один человек, а несколько. — Что это были за крики? — задала вопрос Ребекка. — Как от внезапного испуга, страха. Да-да, животного страха. — Нет, я хотела спросить, не помните ли вы слов, которые выкрикивали ваши соседи? — Никаких слов в этих криках не было. — Может быть, какие-нибудь имена? — Никаких слов или имен, ничего подобного. — Что же тогда? — Ну, может, там были слова или имена, а может, и то и другое. Через стену трудно расслышать. Но шум был явный, и я подумал: «Господи, еще здесь что-то случилось!» Эта поездка не заладилась с самого начала. Уикки не просто жаловался, он оказался настоящим нытиком. У Джека даже зазудели зубы. — Что было потом? — спросила Ребекка. — Ну, крики, собственно, длились недолго. Там сразу начали стрелять. — Тогда это и появилось? — спросил Джек, указывая на дыры в стене. — Нет, в стену они попали где-то через минуту после начала пальбы. И, черт возьми, из чего это построено, если стены можно так легко прострелить насквозь? — Когда в ход пускают «магнум-357», никакие стены его не остановят, — ответил Джек. — Не стены, а туалетная бумага, — не унимался Уикки в своем настойчивом желании унизить владельцев отеля. Он подошел к телефону, стоявшему на прикроватной тумбочке, и, положив руку на аппарат, продолжал рассказывать: — Как только началась стрельба, я бросился к телефону и велел телефонисту на коммутаторе срочно вызвать полицию. И знаете, когда они приехали? Интересно, в этом городе полицейские всегда так долго не приезжают, если кто-то нуждается в защите? — Мы стараемся как можем, — ответил Джек. — Так вот, я положил трубку и остановился, не зная, что делать. Вопли и стрельба продолжались, и тут я сообразил, что могу оказаться в простреливаемой зоне. Пошел в сторону ванной, решив закрыться там и отсидеться до прихода полиции. И тогда, о Боже, я действительно оказался под огнем! Первая пуля, пробив стену, прошла буквально в сантиметрах от моего лица. Вторая — еще ближе. Я упал на пол и вжался в ковер. Но эти два выстрела оказались последними, а через несколько секунд затихли и крики. — И что потом? — поинтересовался Джек. — Потом я стал ждать полицейских. — Вы не выходили в коридор? — А зачем? — Ну, чтобы прояснить обстановку. — Да вы в своем уме? Кто скажет, на что я мог напороться в коридоре? А если бы там торчал один из них, с пистолетом в руке? — Значит, вы никого не видели? И не слышали чего-нибудь определенного, вроде имен? — Я же говорил, что нет. Джек не знал, о чем еще его можно было спросить. Он посмотрел на Ребекку. Она тоже выглядела озадаченной: еще один тупиковый вариант. Они встали, но Берт Уикки, не желая замечать, что разговор окончен, продолжал ныть: — Эта поездка не задалась с самого начала. В самолете я оказался рядом с неугомонной старухой из Пеории. Она болтала без умолку от самого Чикаго. А самолет бросало в такие воздушные ямы!.. Вчера сорвались две сделки. А вдобавок ко всему я обнаруживаю, что этот отель кишит крысами. И ведь такой дорогой отель! — Крысы? — быстро переспросил Джек. — Что-что? — Вы сказали, что отель кишит крысами? — Да, именно так. — И вы их видели? — спросила Ребекка. — Это просто срам! Такая гостиница, с такой репутацией и вся кишит крысами. — Так вы их видели или нет? — переспросила Ребекка. Уикки, настороженно подняв голову, спросил: — С чего вдруг вас заинтересовали эти крысы? Они, по-моему, не имеют отношения к убийствам. — Вы видели их или нет? — В голосе у Ребекки появился металл. — Ну, если быть точным, то нет. Я их слышал. Слышал их писк внутри стен. — Внутри стен? — Точнее, в отопительных трубах. Судя по звукам, они были очень близко, прямо в стене моего номера, но вы ведь сами знаете, как далеко разносится звук по металлическим трубам. Крысы могли быть и на другом этаже, и даже в другом крыле здания, но создается впечатление, что они рядом. Я взобрался вон на тот стол, приложил ухо к вентиляционной решетке и клянусь: они были рядом, в нескольких сантиметрах от меня. Слышался их писк. Забавный такой писк. То ли лопотание, то ли улюлюканье. Их было не меньше полудюжины, опять же судя по звукам. Я слышал, как их когти стучали по металлу… отвратительный скрежещущий звук, от которого мурашки идут по всему телу. Я, конечно, пожаловался, но менеджмент тут оставляет желать лучшего — им просто наплевать на ваши жалобы. По тому, как они относятся к своим жильцам, можно судить, что это далеко не один из лучших отелей в городе. Джек догадался, что ко времени появления крыс Уикки уже накалил администрацию мелкими придирками и своим нытьем и в нем видели либо законченного невротика, либо скупердяя, увиливающего от оплаты услуг по причине неудовлетворительного сервиса. Подойдя к окну, Уикки посмотрел вверх, на зимнее небо, затем вниз, на заснеженную улицу, и резюмировал: — Ну вот, теперь еще и снег посыпал, и погода ухудшится донельзя, чтобы уже окончательно все испортить! Где тут справедливость? В глазах Джека он перестал быть жабой на торте. Теперь Уикки напоминал огромного, жирного, волосатого и капризного ребенка. Ребекка спросила: — Когда вы услышали крыс? — Сегодня утром. Я только-только успел позавтракать и позвонить вниз дежурному портье, чтобы сказать, как погано здесь кормят. Дежурный со мной не согласился, я положил трубку и именно тогда услышал шевеление крыс. Послушав их возню и убедившись, что это могли быть только крысы, на этот раз я позвонил самому управляющему. Но и этот разговор не дал никаких результатов. Вот тогда я и решил принять душ, одеться, упаковать вещи, чтобы до первого делового свидания зарегистрироваться в другой гостинице. С меня довольно. — Вы не могли бы вспомнить точное время, когда послышалась крысиная возня? — С точностью до минуты не скажу, но было это примерно в половине девятого. Повернувшись к Ребекке, Джек сказал: — Всего за час до убийства в соседнем номере. Ребекка выглядела озадаченно. — Одна загадка за другой, — только и сказала она.* * *
Три изуродованных тела все еще лежали в номере Карамацца там, где их настигла смерть. Эксперты продолжали работать. Один из них старательно пылесосил ковер в гостиной: все содержимое пыльного мешка ждет скрупулезного лабораторного исследования. Джек и Ребекка занялись ближайшей решеткой отопительной системы. Она закрывала отверстие размером 30 на 20 сантиметров в стене под самым потолком. Приставив к стене стул, Джек встал на него и начал разглядывать ее устройство. — В вентиляционное отверстие по всему периметру вмурован железный уголок. Решетка привинчена к нему мощными шурупами, — начал он вести репортаж сверху. Ребекка подтвердила: — Даже отсюда видны головки двух шурупов. — Ничего хитрого. Но если кому-то понадобилось бы проникнуть в комнату через вентиляционный выход, потребовалось бы как минимум отвинтить хотя бы один шуруп, чтобы отодвинуть решетку в сторону. — И крысы на такое просто не способны, — констатировала Ребекка. — Если бы даже это была очень умная крыса, какой никогда еще не было на земле, своего рода Альберт Эйнштейн среди крыс, ей такая работа все равно оказалась бы не по зубам. Изнутри торчит лишь заостренный конец шурупа. Чем бы она могла ухватиться за него, а уж тем более вывинтить? Своими лапками? — Ни лапами, ни зубами, — подтвердила Ребекка. — Да, для такой работы требуются сильные и умелые человеческие пальцы. Но вентиляционный выход слишком мал для человека. Даже для ребенка. Ребекка высказала новое предположение: — Давай представим себе, как множество крыс, несколько десятков, бьются в вентиляционной шахте, пытаясь выбраться из нее через это отверстие. Если такая орава станет давить на решетку изнутри, не исключено, что шурупы выскочат из отверстий, а решетка в конце концов вывалится, освободив грызунам путь в комнату. — Не исключено. Но даже для таких действий крысы должны были быть умнее, чем они есть. Решетка могла бы вывалиться лишь при условии, что отверстия в ней больше, чем шляпки шурупов. Джек слегка подвигал решетку. Она чуть-чуть подалась вверх-вниз, вперед-назад. Но едва ощутимо. — Эта штука стоит на своем месте очень прочно. — Но какая-нибудь другая может быть не так тщательно закреплена, — не сдавалась Ребекка. Джек спустился со стула. Они обошли заново весь номер: еще две решетки оказались в гостиной, одна в спальне и одна в ванной. Все они были закреплены намертво. — Через трубы отопительной системы, — вынес Джек свой вердикт, — никто пробраться сюда не мог. Если даже предположить, что крысы, навалившись на решетку большой массой, умудрились выдавить ее, то никто в жизни не убедит меня, что они убрались отсюда через то же отверстие, аккуратно привинтив решетку на старое место. Ни одна крыса, никакое другое животное, как бы его ни дрессировали, не способно справиться с такой задачей. — Нет. Конечно же, нет, — подтвердила Ребекка, — это звучит просто смешно. — Итак, — произнес Джек. — Итак, — подхватила Ребекка и, вздохнув, сформулировала свой вопрос: — Ты готов считать простым совпадением тот факт, что Уикки услышал возню крыс в стенах своего номера незадолго до того, как трое человек здесь были искусаны насмерть? — Я не люблю совпадений, — сказал он. — Я тоже. — В конце концов оказывается, что они никакие не совпадения. — Вот именно. — Но на этот раз, скорее всего, именно так и было. Я имею в виду совпадение. Если только… — Если только что? — Если только не принимать в расчет вмешательство потусторонних сил, черной магии… — Нет уж, уволь. — …или демонов, проходящих сквозь стены… — Джек, ради Бога! — …приходящих, чтобы убить, и исчезающих затем совершенно бесследно. — Я не хочу этого слышать! Джек улыбнулся ей: — Я шучу, Ребекка. — Черт тебя побери. Ты, может быть, и пытаешься изобразить, что говоришь это ради шутки, но я-то чувствую, что в глубине души ты… — Я просто открыт к восприятию всего нового. — Если ты действительно хочешь обернуть все это в шутку… — Да. Это просто шутка. — Ну вот, опять. — Может быть, у меня и чрезмерно открытая душа, но зато меня нельзя назвать человеком с негибким интеллектом. — Меня тоже. — Или упрямым. — Меня тоже. — Или трусливым. — А что под этим может подразумеваться? — Догадайся сама. — Ты хочешь сказать, что я напугана? — А разве нет, Ребекка? — Чем именно? — Ну, хотя бы тем, что произошло вчера ночью. — Ничего подобного. — Тогда давай поговорим об этом. — Только не сейчас. Джек взглянул на часы. — Двадцать минут двенадцатого. Ленч начинается в двенадцать, а ты обещала поговорить об этом во время ленча. — Я сказала: если у нас будет время пообедать. — У нас будет время пообедать. — Сомневаюсь. — А я уверен, что будет. — Здесь еще много работы. — Продолжим после ленча. — Еще нужно опросить стольких людей. — Возьмемся за них после обеда. — Ты просто несносен, Джек. — Я неутомим. — Ты упрям. — Я целеустремлен. — Да, черт же побери! — И очарователен тоже. Похоже, что с этим она не согласилась. Отойдя в сторону, Ребекка задержалась возле изуродованного трупа. За окнами валил густой снег. Небо совсем потемнело. Еще не кончилось утро, а казалось, что уже наступили сумерки.* * *
Лавелль показался в дверях черного хода. По крыльцу он спустился вниз, на бетонную площадку перед домом, остановился у газона с пожухлой травой и посмотрел вверх, на гущу падающего снега. Никогда раньше он не видел снега. Разве что на фотографиях. За свои тридцать лет он успел побывать на Гаити, в Доминиканской Республике, на Ямайке, на некоторых островах Карибского бассейна и, оказавшись весной этого года в Нью-Йорке, опасался здешней зимы. Но, вопреки ожиданиям, она не принесла ему дискомфорта. Более того, он воспринял ее с радостью. Может быть, потому, что пока зима была ему в диковинку. Когда-нибудь она надоест, но пока даже ледяной ветер и холодный воздух приятно бодрили. К тому же этот великий город оказался огромной кладовой энергии. Энергии, от которой он зависел, — энергии зла. Конечно, зло существовало повсюду, в любом уголке мира, а не в одном только Нью-Йорке. На островах Карибского моря его тоже было предостаточно. Именно там он и начал восемь лет назад практиковать черную магию, став черным колдуном — Бокором. Но в этом городе, где миллионы людей были втиснуты в малое пространство, где каждую неделю убивали, насиловали, грабили, и случалось это в год сотни, нет, тысячи раз, психопаты, извращенцы и маньяки составляли целую армию, сам воздух был пронизан злом. Его можно было видеть и обонять, если иметь к этому тягу и склонность. А они были у Лавелля. С каждым новым злодеянием флюиды зла, излучаемые падшей душой, пополняли дьявольскую энергетику, усиливая ее разрушительность. Над Нью-Йорком носились потоки злой энергии, и с ее помощью Лавелль мог достигать любой цели. Он упивался энергией полуночных приливов дьявольской мощи, трансформируя ее в энергию своих заклинаний и проклятий. В атмосферу города поступали и потоки иной энергии — добра, излучаемого чистыми душами. Это были реки любви, надежды, отваги, доброты, невинности, дружелюбия, благородства и достоинства. От них проистекали добрые поступки, они тоже имели сильное энергетическое поле, но его мощь была недоступна Лавеллю. Она была во власти Хунгона, белого колдуна, который использовал ее для исцеления больных, исполнения желаний добрых людей, сотворения чудес. Да, Лавелль не был Хунгоном, он был Бокором. Белой магии и ее ритуалам Рада он предпочел черную магию с ритуалами Конго и Петро. И она диктовала абсолютную преданность сделанному выбору. Хотя Лавелль уже долгое время служил злу, это не сказалось на его внешности: он не выглядел ни злым, ни мрачным, он выглядел вполне счастливым человеком. Вот и теперь, широко улыбаясь, он стоял возле газона с мертвой травой на заднем дворе дома, подняв голову навстречу снежинкам. От него исходило довольство собой, спокойствие и уверенность. И чувствовал он себя необыкновенно сильным. Высокий мужчина, Лавелль в своих узких черных брюках и в длинном, по фигуре, сером кашемировом пальто казался еще выше. Несмотря на худобу, он выглядел весьма внушительно. Даже случайный прохожий не отнес бы его к слабакам — он так и дышал уверенностью и силой, а одного его взгляда было достаточно, чтобы тут же посторониться и уступить ему дорогу. У него были длинные руки с мощными и костистыми запястьями, лицо же своим благородством чем-то напоминало лицо известного актера Сиднея Пуатье. Кожа у Лавелля была совершенно темной, просто черной, с красноватым отливом спелого баклажана. Падая на его лицо, снежинки тут же таяли, оседая на бровях и курчавых черных волосах. Дом, из которого он только что вышел, представлял собой трехэтажное кирпичное здание в псевдовикторианском стиле, с фальшивыми башенками, колоннадой и резьбой. Дом был построен в начале века и считался тогда частью состоятельного и фешенебельного района. К концу второй мировой войны он еще оставался жилищем солидных представителей среднего класса, но уже в семидесятых годах престиж района резко снизился. Многие дома превратились в доходные, где сдавались отдельные квартиры. И хотя этот сохранил свою самостоятельность и не разделил печальную судьбу собратьев по району, все они несли на себе печать запустения. Такое жилище не отвечало притязаниям Лавелля, но он вынужденно жил здесь до тех пор, пока не закончит победой начатую войну. Дом служил ему убежищем на время войны. Улица состояла из целого ряда кирпичных домов, похожих друг на друга, как близнецы. Перед окнами был свой небольшой дворик, обнесенный забором. Даже не дворик, а небольшая площадка, засеянная травой, уже уснувшей на зиму. В дальнем углу двора к гаражу вела неопрятная, замусоренная дорожка. Во дворе дома, где жил Лавелль, рядом с гаражом примостился миниатюрный металлический сарайчик с двумя дверцами, окрашенный в белый цвет. Лавелль купил его в торговом доме «Сиэрз» еще месяц тому назад, оплатив доставку и установку. Туда-то, насмотревшись вдоволь на падающий снег, и направился Лавелль. Он открыл одну дверку сарая и вошел внутрь. Его сразу же обдало жаром. Сарай не отапливался, даже не был покрыт термоизоляцией, тем не менее маленькое это строение — три на четыре метра — заполняло тепло. Едва прикрыв дверь, Лавелль тут же сбросил свое девятисотдолларовое пальто: так ему дышалось легче. Воздух в сарае был пропитан необычным запахом, сильно отдающим серой. Большинству людей он показался бы неприятным, но Лавелль с жадностью втянул в себя порцию побольше и расслабился. Он наслаждался. Зловоние казалось ему приятнейшим из ароматов, поскольку это был совершенно особый запах. Запах мести. Его тело моментально покрылось потом. Он снял с себя рубашку. Потом заговорил на странном языке — послышалось что-то вроде монотонных причитаний. Он снял с себя брюки, туфли, нижнее белье. Опустился на колени и стоял так, абсолютно голый, на грязном полу. Затем стал тихо напевать. Мелодия была бесхитростной и чарующей, и он вел ее чисто. Он пел тихим голосом, неслышным для постороннего уха. Пот струился с него ручьями, черное тело блестело. Медленно раскачиваясь взад и вперед, он начал впадать в транс. То, что он выговаривал, представляло собой ритмические группы фраз — невероятную смесь французского, английского, суахили и банту. Они быстро сменяли друг друга. Мелодия напоминала то гаитянские, то ямайские, то африканские напевы. Черный маг пел о мести. О смерти. О крови своих врагов. О крахе семьи Карамацца, всех ее членов, одного за другим — последовательность событий он устанавливал сам. Наконец он запел об убийстве двух детей того полицейского, оно могло оказаться очень кстати в самое ближайшее время. Перспектива гибели детей ничуть не угнетала его. Напротив, возбуждала. Его глаза пылали. Длиннопалые ладони медленно скользили по телу, вверх-вниз, нежно лаская его. Дыхание все более учащалось, выбрасывая из легких волны жаркого воздуха. Капли пота на эбонитовой коже вспыхивали оранжевыми бликами. В неосвещенном сарае был полумрак, углы его уходили в полную темноту. Неяркий желтоватый свет был в центре сарая. Он подымался из отверстия диаметром метра полтора. Копал его Лавелль целых шесть часов, совершая при этом все необходимые ритуальные церемонии. Он попеременно общался то с богами зла — Конго Саванной, Конго Моссаи, Конго Моудонгом, то с ангелами зла — Зондором, Красным Ибосом, с Петро Маман Пембой и Ти Жан Пье Фином. Углубление в полу сарая напоминало лунный кратер. Его стенки конусом уходили вниз на метровую глубину, образуя на дне плоскую площадку. Стоило задержать на ней взгляд, как начинало казаться, что на самом деле кратер намного глубже. Каким-то таинственным образом перспектива раздвигалась, и взор проникал вглубь на десятки, если не сотни метров, завороженный колдовским огнем. И то, куда он был устремлен, переставало быть ямой в грязном сарае, неожиданно превращаясь в волшебное окно. Оно открывало путь к центру земли. Так было, пока вдруг новое мерцание не возвращало все на круги своя — в обычную неглубокую яму. Продолжая петь, Лавелль наклонился вперед. Он всматривался в загадочный пульсирующий желтый свет. Он смотрел в самую его глубину. Устремляя взгляд все глубже… Еще глубже… Еще… Почти до преисподней. В самую преисподнюю.* * *
Незадолго до полудня Найва Руни закончила уборку в квартире Доусонов. Она больше не видела и не слышала крысу или что там это было, за которой все утро гонялась из комнаты в комнату. Крыса исчезла, как будто бы ее и вовсе не было. Она оставила записку, где просила Джека Доусона позвонить ей вечером домой. Ему следовало знать о крысах и договориться о санитарной обработке их жилья. Записку она прикрепила к холодильнику магнитом в виде бабочки — так Доусоны оставляли ей список продуктов, которые следовало купить. Надев резиновые сапожки, пальто, шарф и перчатки, она погасила последнюю лампу в холле. Теперь квартиру едва освещал сероватый дневной свет с улицы. В холле окон не было, и он погрузился в темноту. Найва чуть задержалась у двери и прислушалась, все ли в порядке. В квартире царила могильная тишина. И она закрыла дверь на ключ. Через несколько минут после ухода Найвы квартира ожила. Что-то, сливаясь с полумраком, переместилось из детской спальни в темный холл. Даже если бы Найва задержалась, она увидела бы лишь яркие, сверкающие, белые глаза. Помедлив возле двери детской, существо направилось в гостиную, громко стуча когтями по деревянному полу и издавая злобное шипение. Из детской комнаты показалось второе существо. Оно также передвигалось под покровом темноты — тень среди теней. Отчетливо виднелись только сверкающие глаза. Появилась и третья едва видимая шипящая тварь. Четвертая. Пятая. Еще одна, еще… Вскоре они заполонили всю квартиру: скреблись во всех углах, забирались на мебель и под мебель, лазали по стенам с проворством тараканов. И при этом фыркали и шипели, словно общаясь друг с другом на диковинном гортанном языке. Безостановочно шныряя из комнаты в комнату, они держались в тени, избегая даже тусклого дневного света, едва сочившегося из окон. Вдруг все существа замерли на месте, как бы подчинившись какой-то команде. И, как по команде, начали покачиваться из стороны в сторону, описывая дуги своими светящимися глазами. Они двигались в такт с ритмичными заклинаниями, которые Баба Лавелль произносил в своем убежище в другом конце города. Покачивания прекратились. Они замерли и затаились. Теперь они ждали. Лишь глаза в темноте сверкали по-прежнему. Назревало очередное убийство, и они были к нему готовы. И жаждали его.Глава 3
Лицо капитана Уолтера Грешема, начальника отдела по расследованию убийств, по-своему напоминало лопату. Нет, он не был уродом. Напротив, был даже красив грубоватой мужской красотой. Но все черты лица были как бы сдвинуты вперед и вниз, как бы сходились к подбородку, так что при взгляде на него на ум сразу приходила садовая лопата. Он прибыл в отель за несколько минут до полудня и нашел Джека и Ребекку у окна возле лифта на шестнадцатом этаже. Окно выходило на Пятую авеню. Грешем сказал им: — Я вижу во всем этом организованную гангстерскую войну. Ее масштабы и правила начинают напоминать прославленные двадцатые годы. Даже если это просто разбираются между собой наркодельцы, все равно плохо. Я не потерплю такого в своем районе. Перед тем как приехать сюда, я говорил с городским комиссаром. Он согласен: дело меняется, настало время взяться за расследование в полную силу. Мы приступаем к формированию специальной группы, предоставляем ей две комнаты и организуем дополнительные линии связи. — Значит, нас с Джеком отстраняют от расследования? — спросила Ребекка. — Нет, нет! — заторопился Грешем. — Наоборот, вас ставят во главе группы. Отправляйтесь в отдел и срочно определяйте общий план действий. Нужно прикинуть, сколько понадобится патрульных и детективов, сколько машин. Как можно быстрее установите прямые контакты с городскими и федеральными службами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, чтобы в работе нам не мешали бюрократические препоны при запросах необходимой информации. Займитесь всем этим сейчас же. Я жду вас в своем кабинете в пять часов вечера. — Но у нас еще здесь полно работы, — сказал Джек. — С этим и другие могут справиться. Да, кстати, пришли кое-какие ответы на ваши запросы по Лавеллю. — Из телефонной компании? — Да. Человек по имени Баба Лавелль у них не числится. Правда, в прошлом году у них появились два новых клиента с такой фамилией, и я послал человека, чтобы он поговорил с обоими, но оба оказались белыми, и ни один из них никогда в жизни не слышал имени Баба. Оба они вне подозрения. Подхваченный внезапным порывом ветра, снег зашуршал по окну, как песок. Другой снежный заряд скрыл внизу Пятую авеню. — А что насчет электрокомпании? — спросил Джек. — То же самое. Никакого Баба Лавелля. — Он вполне мог использовать имя кого-нибудь из своих друзей. Грешем покачал головой: — У меня есть информация также из иммиграционного управления: в течение последнего года такого запроса на вид жительства вообще не поступало. Джек нахмурился: — Так что, он здесь нелегально? — Или его тут вообще нет, — не удержалась Ребекка. И Джек, и Грешем недоумевающе посмотрели на нее. Она продолжала: — Я не убеждена, что в природе существует Баба Лавелль. — Конечно, существует, — раздраженно проговорил Джек. Но Ребекка не слушала его: — Пока что мы лишь слышали о нем нечто неопределенное. А когда дело дошло до реальных доказательств его существования, мы остались ни с чем. Грешема ее высказывание заинтересовало, и, увидев это, Джек расстроился. Теперь Грешем забросал вопросами Ребекку: — Вы считаете, что Лавелль — подставное имя? Вымышленное лицо, за которым и скрываются настоящие убийцы или убийца? — Вполне возможно, — ответила Ребекка. Грешем с энтузиазмом подхватил эту версию: — Не исключено, что нас хотят сбить со следа. Просто какой-то другой клан наехал на Карамацца в борьбе за лидерство. — Лавелль существует, — сказал Джек. — Вы, похоже, абсолютно в этом уверены? Но почему? — спросил Грешем. — Вообще-то не знаю… Джек посмотрел в окно, на заснеженные небоскребы Манхэттена: — Не стану утверждать, что у меня обоснованное объяснение. Скорее всего… интуиция. Я нутром чувствую: Лавелль существует. И сейчас он где-то здесь, неподалеку. Он где-то здесь… Думаю, что это самый подлый и опасный сукин сын, с каким любому из нас приходилось когда-либо сталкиваться.* * *
В школе Уэлтон старшие классы распустили на обеденный перерыв. Но Пенни не пошла к своему новому шкафчику за коробкой с обедом. Она не чувствовала голода. Она сидела за партой, положив голову на руки и притворяясь, будто спит. Девочке казалось, что в желудке у нее застрял тяжелый, как свинец, комок. Она чувствовала себя больной. И вирус был тут ни при чем. Причиной был страх, который овладел ею с утра. Она никому не рассказала о чудовищах в подвале, да и не собиралась этого делать. Она знала — все равно ей никто не поверит. И никто не воспримет всерьез слова о том, что чудовища собираются убить ее. Но сама-то она знала, что дело идет именно к этому. Но почему, почему выбрали именно ее? Пенни не могла бы сказать, когда и как это случится, не знала, сможет ли убежать от них в следующий раз, и не знала, есть ли выход из этой ситуации. Но она точно знала, что с ней собираются сделать. Знала наверняка. Пенни волновала не только ее судьба — она боялась и за Дэйви. Если чудовища охотятся за ней, они вполне могут напасть и на Дэйви. После смерти мамы она особенно чувствовала свою ответственность за брата. В конце концов, она была старшей сестрой! А старшая сестра обязана присматривать за младшим братом и защищать его, даже если иногда он и бывает несносным. Сейчас он на втором этаже, вместе с учителями и одноклассниками. Пока Дэйви на людях, его жизнь в безопасности. При таком скоплении народа твари из подвала не вылезут на свет Божий. Они, судя по всему, очень скрытные существа. Но что будет позже, когда уроки кончатся и они пойдут домой? Пенни не знала, как защитить себя и Дэйви от этого кошмара. Притворяясь по-прежнему дремлющей, она тихо прочитала молитву. Но она почти не верила, что это поможет.* * *
В холле отеля Джек и Ребекка задержались возле телефонов. Джек пытался позвонить Найве Руни: получив от капитана задание, он не сможет забрать детей из школы. Вот если бы Найва была свободна и, забрав Пенни и Дэйви из школы, оставила бы их на время у себя дома… Но Найвы не было, телефон ее не отвечал. Джек позвонил себе домой, рассчитывая, что она все еще там. Но и его телефон молчал. После некоторых колебаний он набрал номер Фэй Джэмисон, своей свояченицы, единственной сестры Линды. Фэй любила Линду почти так же, как и сам Джек, поэтому он испытывал к ней расположение, хотя была она непростым в общении человеком. Интересно, что недостаток был продолжением ее достоинств: Фэй полагала, что ни один человек не проживет без ее советов, и была на редкость внимательна к окружающим. Она давала советы мягким, проникновенным, почти материнским голосом, даже если объект забот был ее вдвое старше. Но при всех своих добрых намерениях иногда была она чертовски надоедливой. В такие минуты терапевтический голос свояченицы напоминал Джеку пронзительный вой полицейской сирены. Именно так сложился их телефонный разговор. Джек спросил: — Фэй, не могла бы ты забрать детей из школы, а я заеду за ними попозже? Она ответила: — Конечно, Джек, но, если они будут тебя ждать, а ты не приедешь, дети огорчатся. А если подобное будет случаться слишком часто, они почувствуют, будто папа их бросил… — Фэй!.. — Психологи утверждают, что если дети потеряли одного из родителей, то им требуется… — Фэй, извини, но у меня сейчас действительно нет времени, чтобы слушать, что говорят психологи. Я… — Но для этого ты должен выделять время, дорогой. Джек тяжело вздохнул. — Да, наверное, ты права. Он взглянул на Ребекку. Она терпеливо ждала. Он поднял брови и пожал плечами, потому что Фэй тараторила дальше: — Ты — просто отставший от времени родитель, дорогой. Ты наивно полагаешь, что сможешь справиться с детьми только нежностью и пирожными. Ничего плохого в этом нет, но огромную роль играет также и… — Фэй, послушай меня внимательно. В девяти случаях из десяти я заезжаю за детьми сам и вовремя. Но иногда это просто невозможно. Моя работа, как ты понимаешь, не укладывается во время. Я не могу бросить горячий след только из-за того, что моя смена кончается. И в данный момент у нас именно такая сложная ситуация. Критическая ситуация. Понимаешь меня? Так вот, скажи: ты заберешь детей из школы или нет? — Конечно же, дорогой. — Голос у нее был обиженный. — Я очень благодарен тебе, Фэй. — Не стоит. — Извини, если был несколько резковат. — Совсем нет, не беспокойся. Дэйви и Пенни останутся на ужин? — Если ты не против. — Конечно, нет. Мы очень любим, когда они навещают нас, Джек. Ты и сам прекрасно это знаешь. А ты поужинаешь с нами? — Не уверен, что выкрою для этого время, Фэй. — Я бы советовала не пропускать ужины с детьми, дорогой. — Я и не собираюсь этого делать. — Ужин — важнейший семейный ритуал, возможность для всех членов семьи поделиться впечатлениями, накопленными задень. — Согласен с тобой. — Дети особенно нуждаются в таких минутах покоя и семейного единения в конце каждого дня. — Да знаю, знаю. Я постараюсь успеть к ужину. — Они останутся у нас на ночь? — Думаю, что так сильно я не задержусь. Послушай, я тебе так благодарен. Просто не знаю, что бы я делал без тебя и Кэйта, на кого бы мог положиться. Действительно, просто не знаю. Но мне уже пора бежать. Увидимся позже, пока! И пока Фэй не приступила к новому поучению, Джек быстро повесил трубку, чувствуя и вину, и облегчение. Резкий сильный ветер обрушивался на город с запада, мчался по его холодным серым улицам, подхватывая снег и унося его куда-то вдаль. Выйдя из отеля, Джек и Ребекка не мешкая устремились к машине. Дорогу им преградил незнакомец, высокий хорошо одетый мужчина со смуглым лицом. — Лейтенант Чандлер? Лейтенант Доусон? Мой босс хотел бы поговорить с вами. — А кто он, ваш босс? — спросила Ребекка. Вместо ответа мужчина указал на шикарный черный «Мерседес», припаркованный чуть поодаль, и молча направился к машине в очевидной уверенности, что они последуют за ним без дополнительных расспросов. Немного поколебавшись, Джек и Ребекка действительно пошли вслед за незнакомцем. Когда они подошли к машине, сильно затемненное боковое стекло задней двери опустилось, и Джек узнал человека в «Мерседесе». Ребекка тоже все поняла: дон Дженнаро Карамацца собственной персоной. Глава самого могучего мафиозного клана в Нью-Йорке. Высокий мужчина сел на переднее сиденье рядом с водителем, а Карамацца открыл свою дверцу, жестом приглашая Джека и Ребекку присоединиться к нему. — Что вы хотите? — спросила Ребекка, не двигаясь с места. — Немного поговорить, — ответил Карамацца с едва заметным сицилийским акцентом. У него был на удивление интеллигентный голос. — Ну и говорите, — предложила Ребекка тем же решительным тоном. — Здесь неудобно и слишком холодно. Давайте побеседуем в комфорте. Снег падал прямо на сиденье лимузина Карамацца. — Мне и так неплохо, — ответила Ребекка. — Не могу сказать того же о себе. — Карамацца нахмурился. — Послушайте, у меня очень ценная информация. Я решил лично передать ее вам. Понимаете, лично! Настолько это важно. Но я не собираюсь говорить на улице. Джек решительно подтолкнул Ребекку: — Полезай внутрь. Не скрывая неодобрения, она подчинилась требованию Джека. Он последовал за ней, и они оказались на откидных сиденьях, лицом к Карамацца. Их разделял встроенный бар и телевизор. На переднем сиденье помощник Карамацца Руди нажал на кнопку, и за спиной водителя поднялась перегородка из толстого стекла. Карамацца положил себе на колени атташе-кейс, но не торопился открывать его, а разглядывал Джека и Ребекку. Старик был похож на ящерицу: прикрытые тяжелыми, набухшими веками глаза, почти полностью лысая голова, морщинистое лицо. Картину довершал, подчеркивая сходство, широкий узкогубый рот. Движениями он также походил на ящерицу: заметная неподвижность вдруг сменялась всплесками активности и быстрыми поворотами головы. Джек поймал себя на мысли, что не удивился бы, увидев за узкими губами длинный раздвоенный язычок. Карамацца повернул голову в сторону Ребекки. — Вы можете не опасаться, здесь вам ничто не грозит. — Опасаться? Но я вас не боюсь. — Ну, когда вы так неохотно садились в машину, я было подумал… Ребекка ответила ледяным тоном: — Страх тут ни при чем. Я опасалась, что в химчистке не смогут вывести эту вонь, если ею пропитается моя одежда. Маленькие жесткие глазки Карамацца еще сузились. Джек внутренне застонал. Старик сказал: — Я не понимаю, почему мы не можем вести себя цивилизованно? Особенно сейчас, когда наше сотрудничество в обоюдных интересах. Казалось, говорил не глава мафии, а банкир. — Да? Вы действительно этого не понимаете? Тогда разрешите вам все объяснить. Джек решил вмешаться: — Ребекка, послушай… Но остановить ее не успел. — Вы — вор, убийца, торговец наркотиками и подонок. Такого объяснения достаточно? — Ребекка! — Не беспокойся, Джек, я никого не оскорбила. Свинью ведь не оскорбишь тем, что назовешь ее свиньей. — Ребекка, не забывай, что он потерял сегодня племянника и родного брата. — Которые тоже были убийцами, торговцами наркотиками и подонками. Карамацца, пораженный ее напором, не мог раскрыть рта. А Ребекка продолжала наносить удары: — Похоже, вы не особенно убиваетесь по своему брату? Что ты думаешь по этому поводу, Джек? И тут Карамацца без какой-либо злости или хотя бы недовольства в голосе произнес: — Сицилийцы не плачут в таких ситуациях. В устах старого, умудренного опытом человека столь тривиальная фраза прозвучала глуповато. Карамацца продолжал своим спокойным голосом банкира: — Но мы, сицилийцы, не лишены сантиментов. Мы мстим за смерть близких людей. Ребекка рассматривала его с явным презрением. Морщинистые руки старика неподвижно лежали на кейсе. Старик перевел свои змеиные глаза на Джека. — Лейтенант Доусон, в этом деле я предпочел бы иметь дело с вами. Судя по всему, вы не разделяете… предрассудков своего партнера? Джек покачал головой: — Вы ошибаетесь, я абсолютно согласен со всем, что она сказала. Просто я не стал бы говорить такое в лицо. Он взглянул на Ребекку. Она улыбнулась ему, благодарная за поддержку. Глядя на нее, но обращаясь к Карамацца, Джек сказал: — Иногда агрессивность моего партнера и давление на собеседника явно превышают допустимые пределы и вредят делу. К сожалению, лейтенант Чандлер не может или не хочет этого понять. Улыбка быстро исчезла с лица Ребекки. Карамацца с явным сарказмом заметил: — С кем я сейчас говорю? С парой святош или аскетов? Как будто вы никогда не получали взяток, хотя бы в те времена, когда были обыкновенными фараонами, топтавшими улицы и зарабатывавшими с грехом пополам на квартплату? Джек, глядя в настороженные, жесткие глаза старика, ответил: — Да. Именно так. Я никогда в своей жизни не брал взяток. — Даже как знак внимания?.. — Нет. — …например, за благосклонность к преступнику, которого совсем не тянуло за решетку? — Нет. — Или за порцию кокаина, немного травки от торговца, которому надо было, чтобы вы смотрели в другую сторону? — Нет. — А бутылка виски или двадцать долларов на Рождество? — Нет. Карамацца внимательно разглядывал их минуту-другую. Облако снега вокруг машины скрывало очертания города. Наконец он сказал как бы сам себе: — Значит, мне довелось беседовать с двумя ненормальными. Он произнес это слово с полным презрением, настолько возмущала его сама мысль о том, что где-то в мире могут быть честные чиновники. — Вы ошибаетесь, в нас нет ничего ненормального. Не все полицейские охвачены заразой коррупции и взяточничества. Я сказал бы даже, что большинство этим не страдают. — Нет, этим страдает абсолютное большинство, — парировал Карамацца. Джек был настойчив: — Не правда. У нас есть, конечно, черные овцы, но их совсем мало. Я горжусь людьми, с которыми работаю. Карамацца не отступал: — Нет, большинство берут на лапу, в разной степени, но берут. — Это не правда. Ребекка сказала: — Нет смысла спорить с ним, Джек. Ему удобно верить в то, что всех нас можно купить. Надо же оправдать то, что он творит сам. Старик тяжело вздохнул, открыл кейс, лежавший у него на коленях, достал внушительный конверт и протянул его Джеку. — Это должно вам помочь. Джек взял конверт, сохраняя безразличие. — Что здесь? — Успокойтесь, не деньги, этовсе, что мы смогли узнать об этом человеке, Баба Лавелле. Адрес его последнего местожительства, ресторан, где он бывал до начала войны с нами и до своего исчезновения, имена и адреса всех торговцев, которые толкали его товар в течение последних двух месяцев, хотя многих из них вы уже не сможете допросить. Ребекка, как всегда, выстрелила «в яблочко»: — Потому что вы их убрали? — Ну зачем же так? Может, они просто уехали из города. — Ну конечно! — Короче, там только информация. Возможно, она у вас уже есть, хотя я склонен считать, что пока у вас нет таких данных. Джек спросил Карамацца: — Зачем вы передаете ее нам? Старик приподнял наплывающие веки. — Вы что, не понимаете? Я хочу, чтобы Лавелля нашли. Я хочу, чтобы его остановили. Держа конверт в руке и хлопая им по колену, Джек сказал: — Я думаю, у вас шансов найти его куда больше, чем у нас. Он — часть вашего мира. Вы можете задействовать свои связи и источники информации. — В этом случае обычные контакты не помогут. Этот Лавелль… Он — одиночка. Хуже того, создается впечатление, что он… мираж. Ребекка спросила: — Вы-то уверены, что этот Лавелль существует? Может быть, это просто фикция? Может быть, ваши враги его придумали, чтобы им прикрываться? Карамацца ответил с такой убежденностью, что одним своим тоном поколебал скепсис Ребекки: — Нет, он существует. Он нелегально въехал в Штаты прошлой весной, проследовав с Ямайки через Пуэрто-Рико. В конверт вложено его фото. Услышав это, Джек поспешил раскрыть конверт и, покопавшись, извлек фотографию размером двадцать на двадцать сантиметров. Карамацца объяснил: — Это увеличенное скрытое фото Лавелля, сделанное в ресторане вскоре после того, как он начал работать на нашей территории. «Господи, — подумал Джек, — «наша территория»! Совсем как английский герцог жалуется на крестьян, вторгшихся в пределы его полей для охоты на лис!» Снимок был немного размытый, но лицо Лавелля вполне пропечаталось. Вглядевшись в него, Джек решил, что узнает гаитянца, встретив его на улице. Человек этот запоминался: очень темный негр с правильными чертами лица, широкие брови, большие, глубокопосаженные глаза, высокие скулы и большой рот. Он был красив и даже эффектен. На фотографии он улыбался кому-то, кто не попал в объектив. Улыбка у него была чарующая. Джек передал фотографию Ребекке. Карамацца продолжал: — Лавелль хочет отнять у меня бизнес, уничтожить авторитет в семье, представить меня слабым и беспомощным. Меня! Понимаете, МЕНЯ! Я стою во главе организации вот уже двадцать восемь лет. МЕНЯ! Это был уже не бесстрастный голос банкира, в нем звучали злость и ярость. Он не говорил, а выплевывал слова, словно они имели дурной вкус и он хотел побыстрее избавиться от них: — Но это не самое худшее. Нет. Ему мой бизнес и не нужен. Как только он его заполучит, то сам сразу отойдет и пустит в дело другие семьи. Он не хочет, чтобы дело было в руках кого-либо, кто носит фамилию Карамацца. Это не борьба за контроль над территорией. Для Лавелля это только месть, желание изолировать и деморализовать, заставить меня страдать. Он хочет уничтожить мою империю, убив моих сыновей и племянников. Всех, одного за другим! Он угрожает моим лучшим друзьям, всем, кто когда-либо что-либо для меня значил. Он обещает убить моих драгоценных внуков. Всех пятерых. Вы можете представить, он угрожает младенцам! Никакая месть, насколько бы оправданной она ни была, не должна затрагивать детей. Ребекка спросила Карамацца: — Он что, прямо говорил вам об этом? Когда? При каких обстоятельствах? — Несколько раз. — Так вы встречались с ним? — Тогда бы его просто уже не существовало на этом свете. Расставшись с имиджем банкира, позабыв о спокойствии и величавости, старый Карамацца словно окончательно превратился в рептилию. Только не в простую ящерку, а в змею, облаченную в костюм за тысячу долларов. Очень ядовитую змею. Карамацца уточнил: — Подонок Лавелль говорил все эти вещи по телефону, каким-то образом откопав мой незарегистрированный номер. Я меняю его, но Лавелль узнает новый практически сразу после его установки. Говорит, что, убив всех моих друзей и родственников, он… собирается… Он собирается… Вспомнив все угрозы Лавелля, Карамацца замолчал, не в состоянии говорить. Ярость сковала его челюсти. Зубы сжались, мышцы на шее и щеках напряглись. Его магнетические черные глазки светились теперь нечеловеческим гневом и злобой — у Джека по спине забегали мурашки. Когда Карамацца справился с собой, он вновь заговорил, но теперь изо рта его вылетел лишь резкий, жесткий шепот: — Эта сволочь, вонючий черномазый, кусок дерьма, он сказал, что искромсает мою жену, мою Нину. Так и сказал: искромсаю. А после нее обещал расправиться с дочерью. Тут голос старика смягчился: — Моя Роза, моя прекрасная Роза, свет моей жизни! Ей двадцать семь, но выглядит она на семнадцать. Очень умная девочка. Кончает медицинский колледж. Собирается стать врачом. Кожа — как фарфор, прекрасные глаза, красивее я не видал. Он замолчал на минуту, видимо представляя свою Розу, и снова перешел на злой и хриплый шепот: — Лавелль сказал, что он изнасилует мою дочь и разрежет ее на куски у меня на глазах. Он смеет говорить мне подобные вещи! Старик снова замолчал, громко и глубоко дыша. Пальцы с длинными ногтями судорожно сжимались и разжимались. Наконец он заговорил: — Я хочу, чтобы вы остановили эту сволочь. — Вы задействовали всех своих людей в поисках Лавелля? — спросил его Джек. — Использовали все возможности? — Да. — Но так и не смогли найти? — Н-е-ет. В это протяжное «нет» Карамацца вложил всю свою боль, страх, ярость. — Он исчез из Вилледжа и где-то скрывается. Вот почему я передаю вам всю информацию. С фотографией Лавелля вы можете задействовать свою поисковую систему, можете поместить ее в газетах, показать по каналам телевидения. И тогда не только полицейские, каждый житель Нью-Йорка сможет опознать его. Уж если я сам не могу достать Лавелля, то хочу, чтобы вы схватили и упрятали его куда-нибудь подальше. Когда он окажется за решеткой… — Вы найдете возможность добраться до него в тюрьме, — закончила Ребекка фразу, которую Карамацца не стал бы произносить вслух. — То есть мы его арестуем, но он никогда не предстанет перед судом — его убьют в тюрьме! Карамацца не стал опровергать эту мысль, но они-то знали, что это сущая правда. Обращаясь к Карамацца, Джек сказал: — Вы убеждены, что Лавеллем движет жажда мести. Но за что он мстит вам? Что заставляет его строить планы по уничтожению всей вашей семьи вплоть до внуков? — Я не стану этого говорить. Не могу. Потому что скомпрометирую себя. — Вернее говоря, выдадите информацию для обвинения, — заметила Ребекка. Джек вложил фотографию Лавелля в конверт и заметил как бы невзначай: — Я хочу поговорить с вами о Доминике. Дженнаро Карамацца вдруг словно бы ссохся при упоминании имени убитого брата. Джек быстро добавил: — Я имею в виду, что он, похоже, скрывался в этом отеле, зная, что за ним охотятся. Почему же он не забаррикадировался в своей квартире или не обратился за помощью к нам? В этом плане, видимо, ваш дом в Бруклине превращен в неприступную крепость? Старик ответил: — Да, мой дом — это действительно крепость. Он медленно моргнул — раз, два, — совсем как настоящая ящерица. — Это крепость, но она не гарантирует полной безопасности. Лавелль уже добрался до моего дома. — Вы хотите сказать, что он успел убить кого-то прямо в вашем доме? — Да. — Кого? — Джинджера и Пеппера. — Кто это? — Мои собаки, пара папильонов. — А-а-а… — Ну, такие маленькие собачки, вы знаете. — Я не уверен, что точно представляю, как они выглядят, — сказал Джек. Ребекка пояснила: — Это миниатюрные спаниели с длинной шелковистой шерстью. Карамацца оживился: — Да, да, очень игривые. Все время играли и гонялись друг за другом. Любили сидеть на руках и ласкаться. — И они были убиты в вашем доме? Карамацца взглянул на Джека. — Да, прошлой ночью. Растерзаны на куски. Каким-то образом — мы до сих пор не знаем как — Лавел-лю или кому-то из его людей удалось пробраться в дом, убить моих дорогих маленьких собачек и уйти совершенно незаметно. Он хлопнул костлявой рукой по кейсу, голос его сорвался на фальцет: — Черт возьми, это абсолютно невозможно. Мой дом буквально запечатан. Его охраняет целая небольшая армия! Он заморгал быстрее, но заговорил несколько спокойнее, чем прежде: — Джинджер и Пеппер были такими ласковыми, они даже почти не лаяли. Собаки не заслужили такой смерти. Это были два маленьких невинных существа. Джек сидел ошарашенный: этот убийца, этот патриарх наркобизнеса, рэкетир с внушительным стажем, ядовитый и опасный человек-ящерица, не оплакавший гибель своего брата, на грани истерики из-за смерти двух собачек! Он взглянул на Ребекку. Та пристально смотрела на Карамацца — с удивлением и отвращением, как смотрят на какую-нибудь тварь, выползающую из-под камня. Старик продолжал: — Ведь они же, в конце концов, не были сторожевыми собаками, никогда ни на кого не нападали и не представляли никакой опасности. Просто пара симпатичных маленьких спаниельчиков… Не зная, как обращаться к главе мафии, Джек решил остановить Карамацца, вернуть его из истерическо-патетического состояния, куда он мог ухнуть. У Джека еще были вопросы. — Говорят, что Лавелль использует против вас черную магию. Карамацца кивнул: — Он это тоже говорит. — И вы верите? — Похоже, он настроен весьма серьезно. — Но сами-то вы верите в это? Карамацца посмотрел в окно на бушующий вокруг лимузина снег. Хотя Джек и ощущал, что Ребекка недовольно щурится, он твердо повторил вопрос: — Вы верите в это? Карамацца повернулся от окна. — Верю ли я, что черная магия работает? Если бы месяц тому назад кто-нибудь задал мне этот вопрос, я рассмеялся бы ему в лицо, но сейчас… Джек подсказал: — Сейчас вы думаете, что, может быть… — Да, действительно. Чем черт не шутит… Джек заметил какую-то перемену в глазах старика. Они стали такими же злыми, холодными и настороженными, как и раньше. Правда, в них появилось и кое-что новое: страх. А к таким ощущениям этот старый и коварный ублюдок явно не привык. — Найдите его, — сказал Карамацца. — Постараемся, — ответил Джек. Ребекка быстро добавила: — Это наша работа. Ее тон и слова как будто хотели отвести мысль о том, что в своих действиях они могли руководствоваться заботой о Дженнаро Карамацца и его кровожадном клане. — Остановите его, — попросил Карамацца. Его тон никогда еще не был таким мягким по отношению к полицейским. Никогда. Он даже был на грани того, чтобы сказать «пожалуйста». Черный лимузин отъехал от тротуара и вырулил на дорогу, оставляя после себя глубокий след на снежном покрове. Джек и Ребекка минуту-другую провожали взглядом удалявшийся «Мерседес». Ветер стихал. Снег все еще падают, более густой, чем раньше. Снежинки лениво опускались на землю, и у Джека создалось впечатление, что он попал в один из новомодных стеклянных домов, в котором, если его потрясти, начинается метель. — По-моему, нам лучше вернуться в управление. — услышал он голос Ребекки. Джек вынул фотографию Лавелля из конверта и сунул ее себе в карман. — Что ты опять придумал? — насторожилась Ребекка. Вместо ответа Джек протянул ей конверт. — Я буду в управлении примерно через час. — Когда? — Ну, в четырнадцать ноль-ноль. — Куда ты собрался? — Есть одно место, куда мне нужно заглянуть. — Джек, мы должны сейчас заняться формированием специальной группы, должны подготовить… — Начинай без меня. — Но для меня одной там слишком много работы. — К двум, это самое позднее, я буду на месте. — Джек, черт возьми! — А пока ты справишься со всем без меня. — Сейчас ты понесешься в Гарлем, так ведь? — Ребекка, послушай… — Конечно, в эту чертову лавку колдуна. Джек ничего не ответил. Ребекка продолжала: — Я знаю, ты летишь туда, к этому Карверу Хэмптону, этому шарлатану, мошеннику. — Он не мошенник. Он верит в то, чем занимается. Тем более что я обещал ему забежать сегодня. — Это же полный идиотизм. — Ты так думаешь? Но ведь Лавелль действительно существует. У нас есть даже его фото. — Ну и что? Это же не значит, что в нашем деле замешано колдовство! — Значит. — Ладно, поступай как хочешь, но как же я доберусь до управления? — Бери машину, а я попрошу патрульных меня подбросить. — Джек, черт возьми! — У меня предчувствие, Ребекка. — Дьявол! — Я чувствую, что… то, что окружает магию, — и необязательно ее реальное проявление, а именно то, что ее окружает, — имеет отношение к нашему делу. И предчувствие говорит, что это наша единственная зацепка. — О Господи! — Умный полицейский всегда прислушивается к своим предчувствиям. — Но если ты не вернешься в управление к обещанному сроку, если мне придется заниматься всем одной, а потом предстать перед Грешемом… — Я буду в четверть третьего, самое позднее — в половине. — …то я тебе этого никогда не прощу, Джек. Он встретился с ней взглядом и, немного поколебавшись, сказал: — Может быть, я и мог бы отложить визит к Карверу Хэмптону до завтра, если бы… — Если бы что? — Если бы знал, что ты готова уделить полчаса, ну, пятнадцать минут, чтобы посидеть и поговорить о том, что произошло между нами вчера. Пойдем куда-нибудь? Ребекка отвела взгляд. — Для этого у нас сейчас нет времени. — Ребекка! — У нас много работы, Джек. Он кивнул. — Ты права. Начинай работу по спецгруппе, а я переговорю с Карвером Хэмптоном. Джек пошел в сторону полицейских, стоявших у патрульных машин. Ребекка крикнула: — Не позже двух! — Постараюсь как можно быстрее! Ветер вдруг снова усилился. Слышалось его завывание.* * *
Молодой снег приукрасил улицу. И хотя квартал по-прежнему был грязным, замусоренным и заплеванным, он выглядел веселее, чем вчера. Лавка Карвера Хэмптона находилась неподалеку от угла квартала, между двумя другими — винной и мебельной, чьи окна были защищены постоянно опущенными железными решетками. Заведение Хэмптона единственное здесь выглядело вполне респектабельно. На его окнах решеток не было. Вывеска над дверью состояла из одного слова: «Рада». Конечно, Джека заинтересовало, что это означает, и Хэмптон пояснил, что в магическом пантеоне три группы богов покровительствуют разным направлениям магии: злые руководят ответвлениями черной магии — Конго и Петро; добрые боги отвечают за магию белую — Раду. Хэмптон занимался продажей одежды, снадобий и ритуальных принадлежностей, применявшихся в белой магии, поэтому вывески над дверью магазина было достаточно, чтобы привлекать выходцев из стран Карибского бассейна и их потомков, которые переселились в Нью-Йорк вместе со своей религией и обычаями. Джек вошел в магазин. Тут же звякнул колокольчик, посылая весть о приходе клиента. Закрыв за собой дверь, Джек оставил за ней злой декабрьский ветер и попал в иной мир. Магазин был маленьким: метров десять в длину и три в ширину. В центре стояли столики с ножами, палками, колокольчиками, чашами и одеждой, предназначенными для колдовских ритуалов. Справа по всей длине стены размещались низенькие шкафчики. Джек не имел ни малейшего представления о том, что там было. На стене слева от двери до самого потолка поднимались рядами полки, уставленные бутылками всевозможных размеров, форм и окрасок — синими, желтыми, зелеными, красными, оранжевыми, коричневыми и бесцветными, на каждой — аккуратная наклейка. Все они были заполнены травой, кореньями, порошком или другими веществами, потребными для заклинаний или изготовления снадобий. Услышав колокольчик, из задней двери появился Карвер Хэмптон. — Детектив Доусон! — удивился он. — Рад видеть вас! Вот уж не думал, что вы снова решитесь проделать столь долгий путь, особенно в такую противную погоду. Я ждал, что вы позвоните, чтобы узнать, нет ли у меня чего-нибудь новенького. Джек прошел в заднюю часть магазина, и они через прилавок пожали руки друг другу. Карвер Хэмптон, высокий мужчина с широкими плечами, мощной грудью и двадцатью килограммами лишнего веса, выглядел очень внушительно. Он напоминал профессионального форварда американского футбола, который с полгода не играл. Нельзя было назвать его красивым — слишком тяжелый лоб и слишком круглое лицо помешали бы их обладателю рассчитывать на первые страницы какого-нибудь фешенебельного журнала для мужчин. К тому же его нос, сломанный, похоже, не один раз, давно расплющился. Но если этот человек и не был красавцем, то, безусловно, выглядел он очень дружелюбно. Что-то вроде огромного чернокожего Санта-Клауса. — Жаль, что вы зря проделали столь дальний путь. Джек спросил: — Значит, со вчерашнего дня вы не успели ничего выяснить? — Нет, ничего примечательного, хотя ищу информацию повсюду, расспрашиваю всех, кого можно. Удалось выяснить только то, что где-то здесь действительно существует человек, называющий себя Баба Лавеллем. И утверждают, что он — настоящий Бокор. — Бокор? Это колдун, занимающийся черной магией? Так? — Совершенно верно. Волшебство зла. Это все, что я узнал. Он действительно есть. Ведь вчера вы в этом сомневались? Так что, полагаю, информация будет вам хоть как-то полезна. Только нужно было просто позвонить… — Не волнуйтесь, я приехал по делу. Хочу показать вам кое-что важное… Фотографию Баба Лавелля собственной персоной. — Вы не шутите? — Конечно, нет. — Так вы уже удостоверились в его существовании? Дайте-ка я на него посмотрю. Думаю, это поможет мне при расспросах. Джек извлек фото из кармана плаща и протянул его Хэмптону. При первом же взгляде на фотографию тот изменился в лице. Если полагать, что негры могут бледнеть, то именно это, наверное, и происходило с ним. Лицо его не изменило своего цвета, но потеряло вдруг блеск и упругость, кожа напоминала теперь сухую коричневую бумагу. Губы сжались, а глаза стали напряженными, сосредоточенными. Он прошептал: — Это же тот самый человек! — Какой? — в недоумении спросил Джек. Хэмптон сунул фотографию в руку Джеку так, будто стремился быстрее освободиться от нее, будто мог заразиться от одного только прикосновения к фотографическому изображению Лавелля. Его большие руки затряслись. Джек спросил: — Что случилось? Что с вами? Голос Хэмптона дрожал: — Я видел этого человека. Я его видел, но не знал его имени. — Где вы его видели? — Здесь. — Что? В этом магазине? — Да. — Когда? — В сентябре. — А с тех пор вы его больше не видели? — Нет. — Что здесь делал Баба Лавелль? — Он приходил купить кое-какие травы и измельченные цветы. — Но мне казалось, что вы занимаетесь только белой магией. Радой? — Многие вещества используются и Бокорами и Хунгонами, хотя и для достижения противоположных целей. Он купил очень редкие травы и цветы, которые не нашел бы ни в каком другом месте Нью-Йорка. — В городе есть еще такие магазины, как ваш? — Да, есть еще одна лавка. Правда, не такая большая. Есть еще два Хунгона. Не сильные колдуны, обычные любители, без особых знаний или опыта. Они торгуют ритуальными принадлежностями прямо у себя дома. Действуют бойко, и оборот у них приличный. Но у них нет твердых принципов: они работают и с Хунгонами и с Бокорами. Эти люди предлагают клиентам даже инструменты для жертвоприношений: ритуальные тесаки, специально заточенные ложки для извлечения глаза у живого животного. Эти ужасные люди продают свой товар первым встречным, и часто — злым и испорченным встречным. — Значит, Лавелль пришел к вам, потому что не смог достать у тех людей что-то нужное ему? — Да, он сказал, что достал уже почти все, что нужно, но только в моем магазине имеется полный набор самых редких и ценных веществ, используемых для заклинаний. И это правда. Я горжусь своим ассортиментом, но никогда ничего не продам Бокору, если буду осведомлен о его принадлежности к черной магии. Обычно я без труда узнаю их. Я никогда ничего не продам любителям с их грязными намерениями или тем, кто собирается напустить смертельные чары на тещу или на соперника — в любви или в работе. С такими типами я дела не имею. Так вот, этот мужчина на фото… — Лавелль, — подсказал Джек. — …тогда я не знал его имени. Заворачивая его покупки, я понял, что он — Бокор, и отказался продать товар. Он прямо озверел, когда услышал это. Пришлось чуть ли не силой выставить его за дверь. Я думал, что никакого продолжения этого эпизода не будет. — И что же? — Продолжение последовало. — Что, Лавелль приходил еще раз? — Нет. — Что же тогда случилось? Хэмптон вышел из-за прилавка и подошел к полкам, на которых стояли сотни различных бутылочек. Джек последовал за ним. Хэмптон перешел почти на шепот. Джеку показалось, что в голосе большого негра появились нотки страха. — Через два дня, когда я сидел за этим прилавком в пустом магазине и читал газету, все бутылки вдруг посыпались с полок на пол. В одно мгновение! Раздался страшный грохот. Половина бутылочек разбилась вдребезги, а их содержимое смешалось. Я бросился к полкам, чтобы посмотреть, из-за чего весь этот сыр-бор. И тут травы и порошки стали… ну, двигаться, собираться в кучки и как бы оживать. Из этой массы вдруг появилась черная змея сантиметров сорок длиной: желтые глаза, ядовитые зубы, трепещущий язычок. Настоящая змея, как те, что вылупляются из яиц. Джек во все глаза смотрел на большого человека, не зная, верить ему или нет. До этой минуты Джек считал Хэмптона искренним в его религиозных убеждениях, но человеком здравомыслящим, не менее рациональным, чем католики или иудеи. Вера в магию, в возможность чудесных превращений — это одно, а заявление о том, что ты видел чудо, — совсем другое. Если человек клянется, что видел чудо, кто он? Психопат, фанатик, просто лгун? С другой стороны, если ты религиозен — а Джек был верующим человеком, — то как сам можешь верить в возможность чуда, если не веришь другим, что они были свидетелями проявления сверхъестественного? Вера не будет верой, если не допускать возможности ее реального воздействия на материальную жизнь. Раньше Джек не задумывался над этим. Но теперь он смотрел на Карвера Хэмптона со смешанным чувством, где соседствовали сомнение и осторожное понимание. Ребекка, как всегда, сказала бы ему, что он слишком восприимчив. Не сводя глаз с бутылок на полках, Хэмптон рассказывал: — Змея устремилась на меня. Я отступил до задней стены. Потом отступать было уже некуда. Я упал на колени и стал молиться. Есть особые молитвы, предназначенные для подобных случаев, и они помогли. А может быть, Лавелль и не хотел, чтобы змея тронула меня. Может быть, таким образом он предупреждал, чтобы впредь я с ним не связывался, или хотел отомстить за бесцеремонность, с какой я выпроводил его из магазина. Как бы там ни было, змея снова превратилась в травы и порошки, из которых она и возникла. — Откуда вы знаете, что все это дело рук Лавелля? — Буквально через секунду после того, как змея… растворилась, раздался телефонный звонок. Это звонил тот самый человек, которого я отказался обслужить. Он сказал, что я волен сам решать, кого из клиентов обслуживать, а кого — нет, но я не имел права дотрагиваться до него. За то, что я такое позволил, он уничтожил мой товар и вызвал к жизни змею. Я передаю вам все, что он сказал, буквально слово в слово. Затем он повесил трубку. Джек заметил: — Но вы не говорили, что применили к нему меры физического воздействия. — Я этого и не делал. Я просто положил руку ему на плечо и, скажем, проводил его до двери. Твердо, но без какого бы то ни было насилия. Я не сделал ему больно. Тем не менее и этого хватило, чтобы он разъярился и решил отомстить. — Это все произошло в сентябре? — Да. — И больше он не приходил в ваш магазин? — Нет. — И не звонил? — Нет. Понадобилось почти три месяца, чтобы восстановить ассортимент порошков и трав. Некоторые так трудно достать, вы просто не представляете! Я, собственно говоря, только-только закончил эту восстановительную работу. Джек сказал: — Значит, у вас есть особый счет к Лавеллю? Хэмптон покачал головой: — Нет, наоборот. — Что вы имеете в виду? — Я больше не хочу участвовать в этом деле. — Но ведь… — Я больше не смогу ничем вам помочь, лейтенант. — Я вас не понимаю. — Хорошо, объясню: если я буду помогать вам, Лавелль напустит на меня что-нибудь похуже той змеи, и уже не как предупреждение. На этот раз он просто убьет меня. Джек увидел, что Хэмптон до смерти напуган. Убежденный в силе колдовства, он чуть не трясся от страха. Сейчас даже у Ребекки не повернулся бы язык обозвать его шарлатаном. — Разве вы не хотите увидеть его за решеткой так же, как и мы? Разве не должны убедиться в его крахе после того, что он вам сделал? — спросил Джек негра. — Вам никогда не упрятать Лавелля в тюрьму. — Ну, конечно… — Что бы он ни творил, вы и пальцем к нему не прикоснетесь. — Ничего, как-нибудь справимся. — Видите ли, Лавелль — очень могущественный Бокор. Он не какой-нибудь знахарь-любитель, он владеет силой тьмы — тьмы смерти, тьмы ада, тьмы потустороннего мира. Эта космическая сила недоступна человеческому пониманию. Лавелль связан не только с Сатаной, вашим иудео-христианским повелителем демонов — а одно это уже страшно, — он является слугой всех духов и богов зла древнейших африканских религий. В нем поистине дьявольская мощь. Некоторые из этих демонов сильнее Сатаны. И этот пантеон злых богов всегда в его распоряжении. Более того, сами боги желают, чтобы Лавелль использовал их, потому что он для них — проводник в наш мир. Они жаждут проникнуть в нашу жизнь, привнести в нее кровь, боль, страх, несчастья. Но, поскольку наш мир охраняют добрые божества, он для них труднодоступен. Поэтому дьявольским силам очень нужен Лавелль. Хэмптон остановился. Он весь горел. На лбу у него выступили капли пота. Он потер лицо своими большими руками и глубоко вздохнул. Затем снова заговорил, стараясь сохранять спокойствие, что удавалось ему лишь отчасти. — Лавелль — очень опасный человек, лейтенант. Вы даже не представляете, насколько опасный. Возможно, у него не все в порядке с головой, с психикой. А это самое страшное сочетание: злобность, психические отклонения, помноженные на опыт и знания Бокора. — Вы ведь Хунгон, колдун белой магии. Разве не можете использовать свою силу против него? — Да, я Хунгон. И, скажем, не худший. Но противостоять Лавеллю я не в силах. Что я могу? С огромным трудом могу наслать заклятие на его травы и порошки. Могу сделать так, что в его кабинете с полок упадет несколько бутылочек. Но я никогда не создам змею. Предварительно мне потребовалось бы видеть это место. Но все это не сравнить с тем, что может он. У меня нет ни его силы, ни его мастерства. — Но вы могли бы попробовать. — Нет, ни в коем случае. В любом противостоянии он сокрушит меня, как букашку. Хэмптон подошел к входной двери и распахнул ее, отступив немного в сторону. Колокольчик над дверью жалобно зазвенел. Негр держал дверь широко открытой. Джек сделал вид, что не понимает намека. — Послушайте, если бы вы просто иногда спрашивали… — Нет, лейтенант, я больше ничем не могу помочь вам. Разве это трудно понять? Холодный ветер ворвался в лавку. Он толкал дверь, шипел и завывал, а снежинки кололи лицо, как слюна разъяренного человека. Джек сделал еще одну попытку: — Послушайте, Лавелль не узнает, что вы пытаетесь кое-что выяснить о нем. Он… — Обязательно узнает! Это Хэмптон сказал уже злым голосом. Глаза его были раскрыты так же широко, как и дверь, которую он придерживал рукой. — Он знает все. Или, по крайней мере, может все узнать. Абсолютно все. — Но… — Пожалуйста, уходите, — потребовал Хэмптон. — Выслушайте меня, я… — Выходите! — Но ведь… — Проваливайте отсюда, черт вас дери! Сейчас же! Теперь в голосе Хэмптона слышались и ярость, и панический ужас. Страх, как известно, передается. Ужас большого негра перед Лавеллем сказался и на Джеке: по коже у него забегали мурашки, а руки вдруг стали холодными и влажными. Он вздохнул и кивнул: — Хорошо, хорошо, мистер Хэмптон. Но я хотел бы… — Сейчас же, черт вас возьми! Сию минуту! Джек вышел из лавки.* * *
Дверь за ним с громким стуком захлопнулась. На укутанной снегом улице этот звук прозвучал как винтовочный выстрел. Обернувшись, Джек увидел, как Карвер Хэмптон опускает занавеску на стеклянную дверь. Крупными белыми буквами по темному фону было написано лишь одно слово: «ЗАКРЫТО». Через секунду в магазине погас свет. Снега на тротуаре заметно прибавилось, и он все еще падал, быстро и часто. И небо потемнело и помрачнело, стало более унылым, чем двадцать минут назад, когда он вошел в магазин «Рада». Аккуратно ступая по скользкому тротуару, Джек направился к патрульной машине, ожидавшей его неподалеку. Из ее выхлопной трубы поднимался белый дымок. Джек сделал всего три шага, когда его остановил резкий звук, совсем неуместный здесь, на заснеженной улице: где-то рядом пронзительно звонил телефон. Джек посмотрел налево, потом направо и почти на углу улицы, метрах в десяти от патрульной машины, увидел таксофон. В необычной для города тишине, которую принес с собой снег, звук был таким громким, что казалось, он рождается прямо из воздуха возле уха Джека. Он внимательно посмотрел на таксофон. Это не была телефонная будка — в наши дни их не так-то много, настоящих телефонных будок с дверью, создающих при разговоре иллюзию хоть какой-то уединенности. Телефонная корпорация утверждает, что строить их дорого. Обыкновенный телефонный аппарат был закреплен на столбике и огорожен с трех сторон прозрачными панелями — Джеку не раз доводилось проходить мимо уличных телефонов в тот момент, когда они звонили, а поблизости никого не было. Обычно он даже не оглядывался на аппараты. Ему и в голову не приходило подойти, снять трубку и выяснить, кто звонит. Его это не касалось. И на этот раз звонили не ему. Хотя… все же… сейчас… что-то было не так… Звонок завораживал, притягивал его, обволакивал с ног до головы. Звонок… Звонок… Настойчивый… Требовательный… Гипнотизирующий… Звонок. И вообще все вокруг него как-то изменилось, стало беспокойным. Реальными оставались только телефон, ведущая к нему узкая дорожка тротуара и сам Джек. Остальное сгинуло в дымке, возникшей ниоткуда. Дома растворились на глазах, как на киноленте, где одна картинка быстро сменяет другую. Несколько машин, медленно и как бы неохотно двигавшихся по заснеженной улице, стали вдруг… испаряться. На их месте возник туман, напоминающий залитый светом, но остающийся без изображения экран в кинотеатре. Редкие прохожие, боровшиеся с напором ветра, тоже куда-то подевались. Остался только Джек. И узкая тропка к телефону. И сам телефон. Звонок. Его влекло туда. Еще звонок. Его тянуло к таксофону. Джек усилил сопротивление. Снова звонок… И он понял, что сделал шаг! К таксофону! Еще один. Третий шаг… Джеку казалось, что он не идет, а плывет. Звонок… Он двигался как во сне… Или как в лихорадке… Еще шаг. Джек попытался остановиться. Ничего не вышло. Он попробовал повернуть в сторону патрульной машины. Не смог. Сердце у него бешено застучало. Он был как в тумане, потерял всякую ориентацию. Спина его, несмотря на холод, была мокрая. Наплывы телефонных трелей действовали так же завораживающе, как и ритмичное покачивание карманных часов в руках гипнотизера. Этот звук увлекал Джека вперед так же, как в древности пение сирен толкало незадачливых мореплавателей к смерти, на рифы. Джек знал, что звонят ему, не понимая, как он понял это. Телефон был рядом, и Джек снял трубку: — Алло? — Детектив Доусон! Рад, что наконец-то представилась возможность побеседовать с вами. Мой дорогой, нам уже давно нужно было поговорить. Голос низкий, хотя и не бас, и очень интеллигентный. Судя по произношению, смесь хорошо отработанного британского и элементов, характерных для жителей Карибского бассейна. Так мог говорить человек, прибывший оттуда. — Лавелль? — Господи, ну кто же еще?! — Но как вы узнали, что… — …что вы были в этом районе? Дорогой друг, я, в некотором роде, веду за вами наблюдение. — Вы здесь? На этой улице? — Нет, я далеко. Мне не нравится Гарлем. — Я бы хотел побеседовать с вами, — сказал Джек. — А мы и так беседуем, не правда ли? — Я имею в виду — с глазу на глаз. — О, не думаю, что есть такая необходимость. — Я не стану вас арестовывать. — А вы и не смогли бы. Против меня у вас нет никаких улик. — Хорошо, тогда… — Но вот задержать меня на пару дней под каким-нибудь предлогом вы бы не отказались. — Не отказался бы. — А меня это абсолютно не устраивает. Предстоит очень много работы. — Даю слово, что пригласим вас в управление буквально на пару часов, только для того, чтобы задать ряд вопросов. — Вы в этом уверены? — Можете верить моему слову. Просто так я ничего не обещаю. — Как ни странно, но я склонен этому верить. — Тогда почему не прийти в полицию, не ответить на несколько вопросов, чтобы освободить себя от всяких подозрений? — Видите ли, не могу освободить себя от подозрений, потому что я виновен. — Лавелль засмеялся. — Вы хотите сказать, что связаны с этой серией убийств? — Конечно. Разве не в этом вас пытается убедить каждый встречный? — Значит, вы звоните, чтобы признаться? Теперь Лавелль хохотал в голос. Потом успокоился и сказал: — Я звоню, чтобы дать вам один совет. — Я слушаю. — Ведите это дело так, как вела бы его полиция на моей родине, на Гаити. — Как это? — Они не стали бы связываться с Бокором, который обладает такой силой, как я. — Да? — Они просто не осмелились бы. — Но это Нью-Йорк, а не Гаити. Нас не учат бояться колдовства, в полицейской академии нас учат другому. Джек продолжал говорить спокойным голосом, хотя сердце у него так и рвалось из груди. Лавелль добавил: — К тому же на Гаити полиция не захотела бы разбираться с Бокором, если бы его жертвами были подонки вроде Карамацца. Не считайте меня убийцей, лейтенант. Смотрите на меня как на чистильщика, оказывающего ценные услуги обществу, избавляя его от опасных элементов. Именно так к этому отнеслись бы на Гаити. — Мы здесь мыслим иначе, мистер Лавелль. — Мне жаль это слышать. — Убийство всегда убийство, оно всегда преступление, независимо от того, кто жертва. — Как неумно. — Мы здесь верим в неприкосновенность человеческой жизни. — Как глупо. Если Карамацца просто исчезнут с лица земли, пострадает ли от этого общество? Чего оно лишится? Кучки воров, убийц и сутенеров. Правда, их место займут другие воры и убийцы. Но не я. Вы можете считать меня их подобием, простым убийцей, но это не так. Я — священник. Мне не нужен контроль над наркобизнесом в Нью-Йорке, я просто хочу отобрать этот контроль у Карамацца. В виде наказания. Мне нужно разрушить его авторитет, отобрать у него семью и друзей, уничтожить его в финансовом отношении, чтобы научить его скорбеть и рыдать. Когда я добьюсь этого, когда он окажется нищим, в полной изоляции, когда он будет трястись от страха и, настрадавшись, дойдет до полного отчаяния, тогда я ликвидирую его самого. И смерть его будет долгой и мучительной. А потом я вернусь на остров, и вы обо мне больше не услышите. Я — орудие в руках правосудия, лейтенант Доусон. — Разве правосудию необходимо убийство внуков Дженнаро Карамацца? — Да. — Убийство невинных детей? — Они не невинны. В их жилах течет кровь Дженнаро, в них — его гены, и они не менее виновны, чем их дедушка. Похоже, Карвер Хэмптон прав: здесь больная психика. А Лавелль продолжал: — Я прекрасно понимаю, что вам не поздоровится, если не удастся поймать кого-то, ответственного хотя бы за часть убийств. Все ваше управление будет отдано на заклание прессе, если у вас не будет хоть каких-то конкретных результатов. Я мог бы предоставить в ваше распоряжение достаточно неопровержимых улик против одной из мафиозных группировок. Убийство членов семьи Карамацца вы можете списать на других преступников и сделать доброе дело, засадив их за решетку. Заодно освободитесь еще от одной банды. Был бы очень рад помочь вам таким образом. Не только все вокруг делало этот разговор ирреальным — сонная улица, плывущее куда-то пространство, дымка, как при лихорадке, сама их беседа казалась настолько странной, что и ее словно бы не было. Джек попытался встряхнуться, но мир вокруг не хотел заводиться, как механические часы, не хотел возвращаться к реальности. Он спросил: — Вы действительно предлагаете все всерьез? — Улики, которые я организую, будут несокрушимыми в любом суде. Вам не придется беспокоиться, что вы проиграете это дело. — Я имею в виду не это. Неужели вы думаете, что я готов вступить с вами в сговор и подставить невинных людей? — Какие же они невинные! Я ведь говорю об убийцах, ворах, сутенерах! — Но именно к вашим убийствам они не будут иметь никакого отношения. — Это уже вопросы техники. — Но не для меня. — Вы интересный человек, лейтенант. Наивный, глупый, но все же интересный. — Дженнаро Карамацца уверяет, что все ваши действия против его семьи вызваны жаждой мести. — Это так. — Мести за что? — А он вам не рассказал? — Нет. Что же случилось? Молчание. Джек подождал и едва не спросил еще раз, но Лавелль заговорил. Теперь у него был другой голос — жесткий, даже яростный. — У меня был старший брат, Грегори. На самом деле он был лишь наполовину моим братом — его фамилия Понтрейн. Он абсолютно не признавал древнее искусство колдовства и магии. Можно сказать, относился ко всему этому с презрением и не хотел иметь дело со старинными верованиями Африки. Человек современного мировоззрения, современного мышления, он верил в науку, а не в волшебство, веровал в прогресс и технику, а не в силу древних богов. Он не одобрял моего призвания и не верил, что я могу сделать кому-то добро или, наоборот, принести несчастье. Он считал меня безобидным чудаком. Но несмотря на все, я любил его, а он любил меня. Мы были братьями. Братьями! Ради него я был готов на все и сделал бы для него все. Джек повторил задумчиво: — Грегори Понтрейн… Я ведь помню это имя. — Несколько лет назад Грегори приехал сюда в качестве иммигранта. Он много трудился, затем пробился в колледж, добился стипендии. Писательский дар был у него еще с детства, и, главное, он знал, как им распорядиться. В Штатах он получил степень бакалавра на факультете журналистики Колумбийского университета и пошел работать в «Нью-Йорк таймс». Почти год он ничего не писал, только редактировал статьи других журналистов. Потом ему поручили написать несколько статеек, что-нибудь «о жизни». Так, ерунда. А затем… Джека осенило: — Грегори Понтрейн! Конечно же! Репортер криминальной хроники. — Вскоре моему брату доверили несколько материалов о преступлениях: грабежи, наркотики. Он с честью выполнил эту работу. Потом полез глубже, стал заниматься крупными делами, многое раскапывал сам, без всяких заданий. И в конце концов стал экспертом «Тайме» по наркобизнесу в Нью-Йорке. Никто не знал столько, сколько знал он о Карамацца, о том, как его клану удалось закупить многих полицейских офицеров и городских чиновников. Никто не знал об этом больше Грегори, и никто не писал о них лучше его. — Да, я читал его статьи. Отличная работа. — Он задумал еще пять-шесть. Был разговор о награждении его Пулитцеровской премией за уже сделанное. Грегори накопал достаточно улик, чтобы заинтересовать полицию и добиться утверждения трех приговоров большим судом присяжных. У него были свои источники информации: люди в полиции, в самом клане Карамацца — люди, которые доверяли ему. Он был убежден, что удастся засадить за решетку Доминика Карамацца. Но все быстро кончилось. Бедняжка Грегори! Глупый, благородный и смелый малыш Грегори! Он считал своим долгом бороться со злом везде, где встречал его. Репортер-крестоносец. Он думал, что сможет многое изменить. Но он так и не понял, что с силами тьмы можно справиться только моими способами. Прекрасным мартовским вечером он и его жена Она ехали на ужин… — Бомба в машине, — сказал Джек. — Обоих разорвало на куски. А она была беременна, они ждали своего первенца. Так что я рассчитываюсь с Дженнаро Карамацца за три жизни: Грегори, Оны и их ребенка. Джек заметил: — Но ведь тот случай со взрывом так и не был раскрыт, нет никаких доказательств, что к убийству причастны Карамацца. — Я знаю, что виновны они. — Пока ничего не доказано. — У меня свои источники информации, намного надежнее тех, что были у Грегори. В моем распоряжении глаза и уши Подземного Мира. Он опять засмеялся. Смех у Лавелля был звучный, мелодичный, но Джеку он показался каким-то беспокойным. Должно быть, таким и должен быть смех сумасшедшего. Он не может напоминать добродушное похохатывание старого доброго дядюшки. — Да-да, лейтенант. Подземный Мир. Я не имею в виду подпольный преступный мир, эту жалкую «Коза ностру» с ее тупой сицилийской гордостью и дутым кодексом чести. Мой Подземный Мир неизмеримо глубже, чем тот, в котором обитает мафия. Глубже и темнее. Через глаза и уши древних богов я получаю сведения от демонов и черных ангелов — вездесущие, они видят и слышат все, абсолютно все. «Этосумасшествие, — подумал Джек. — Парню пора в психбольницу». Но в голосе Лавелля было что-то еще, будоражившее в Джеке инстинкты полицейского. О сверхъестественном Лавелль говорил убежденно и даже трепетно, но вот он заговорил о брате, и Джек усомнился в подлинности его горя и переживаний. Джек почувствовал, что не месть была здесь главным движущим мотивом. Может быть, неверие брата, его прямолинейность претили Лавеллю? Что, если он был рад смерти Грегори? Или сбросил какой-то камень с души? — Брат не одобрил бы ваше стремление отомстить, — заметил Джек. — Может, и одобрил бы. Вы же его совсем не знали. — Я знаю достаточно, чтобы утверждать, что его не радовали бы ни ваши действия, ни вся эта кровавая резня. Он был нормальным человеком, и все это оттолкнуло бы его. Лавелль не отвечал, но его недовольное молчание говорило о том, что аргументы Джека попали в цель. Джек развивал наступление: — Он не одобрил бы убийства чьих-либо внуков, месть до третьего колена. Он не был одержимым, как вы. Он не был сумасшедшим. — А мне все равно, одобрил бы он это или нет, — нетерпеливо заметил Лавелль. — Поэтому я и склонен считать, что вами движет не только месть. Есть тут что-то еще. Лавелль опять замолчал. — Если бы брат не одобрил убийства, зачем же вам понадобилось… Лавелль резко перебил его: — Я уничтожаю эту пакость не во имя моего брата, а делаю это ради себя. Только ради себя. И это должно быть ясно всем: я никогда по-другому и не действовал. Все эти смерти способствуют росту моей репутации. — Репутации? С каких это пор убийство является символом чести, чьей-то гордостью? Это же сумасшествие! — Никакое это не сумасшествие. — Лавелль почти кричал, закипая бешеной яростью: — Канон древних богов Петро и Конго гласит, что никто не может отнять жизнь у брата Бокора и остаться безнаказанным. Убийство моего брата — вызов лично мне. Оно унижает меня, выставляет на посмешище. Терпеть такое я не могу. И не буду. Сила Бокора покинет меня, если я не отомщу. Боги потеряют ко мне уважение и отвернутся, лишив своей поддержки и помощи. Теряя контроль над собой, Лавелль перешел на высокопарный и напыщенный слог. — Должна пролиться кровь, должны распахнуться ворота смерти. Океаны боли должны смести всех, кто затронул меня, убив моего брата. Даже если я и презирал Грегори, он принадлежал к моей семье. Нельзя пролить кровь члена семьи Бокора и остаться безнаказанным. Если мне не удастся достойным образом отомстить за это, древние боги оттолкнут меня, мои заклинания и заговоры потеряют силу. Если хочу сохранить покровительство богов Петро и Конго, то за смерть моего брата должен заплатить по крайней мере десятком смертей. Джек понял, что ему не разобраться в истинной мотивации действий Лавелля. Реальные их причины не просматривались, и последние аргументы свидетельствовали о его психическом нездоровье уже с иной стороны. — Вы действительно в это верите? — спросил Джек. — Это истинная правда. — По-моему, это называется по-другому: это сумасшествие. — Вам придется в конце концов убедиться в обратном. — Сумасшествие, — повторил Джек. — Да, еще один совет, — сказал Лавелль. — Ни один из моих подозреваемых не давал мне столько советов. Целый фонтан. Ну прямо Энн Лэндерс. Не обращая внимания на слова Джека, Лавелль заявил: — Откажитесь от этого дела. — Вы что, серьезно? — Выйдите из него. — Это невозможно. — Попросите, чтобы вас освободили. — Нет. — Вы непременно сделали бы так, как я говорю, если бы могли отличить, что для вас хорошо, а что — нет. — Вы — наглец. — Я знаю. — Господи, я же полицейский! Вам не запугать меня. Наоборот, только расшевелите. Угрозы толкают меня на более активные поиски. С полицейскими на Гаити в такой ситуации, наверное, бывает то же самое? Иначе разница между нами и ними была бы слишком велика. Да и что вы получите, если я откажусь от дела? Меня заменят другим полицейским, а тот все равно будет искать вас, Лавелль. — Да, но у того, кто вас заменит, не будет вашей фантазии. Он-то вряд ли поверит, что здесь колдовство, и ограничится обычными полицейскими методами. А этого я не опасаюсь. Джек был поражен: — Вы хотите сказать, что именно моя восприимчивость и фантазия представляют для вас угрозу? Лавелль не стал возражать, он только предложил: — Не хотите выходить из дела — не надо. Но прекратите копаться в магии. Относитесь к делу так, как к нему относится Ребекка Чандлер. Как к обыкновенному расследованию убийства. — Я просто не могу поверить в подобную наглость, — отреагировал Джек. — Ваш ум допускает, пусть и не полностью, что здесь участвуют сверхъестественные силы. Прошу, не трогайте эту линию. Это все, о чем я прошу. — Вот как! Это все? — Ограничьтесь полученными отпечатками пальцев, работой экспертов — словом, обычными средствами. Допрашивайте всех свидетелей, каких считаете нужным… — Огромное спасибо за разрешение. — …меня это все не затрагивает, — продолжал Лавелль, как будто Джек его и не перебивал. — Так вы меня никогда не найдете. Я успею покончить с кланом Карамацца и буду на пути домой, прежде чем полиция размотает хотя бы одну ниточку в этом деле. Просто забудьте о магии. Пораженный беспардонностью Лавелля, Джек спросил: — А если не забуду? В трубке вдруг раздалось какое-то шипение, и Джек невольно вспомнил рассказ Хэмптона о появлении черной змеи, подумав вдруг, что, если Лавелль пощлет змею и по телефонной линии, она вылезет из трубки, чтобы вонзить свои ядовитые зубы в его губы, нос, глаза… чтобы укусить его в ухо, голову… И Джек невольно отвел трубку чуть в сторону, но, поймав себя на таких мыслях и опасениях, вновь прижал ее к уху. — Если вы полезете в колдовские дела и станете разрабатывать именно эту линию расследования, то я… сделаю так, что ваши сын и дочь… будут разорваны на куски. У Джека защемило под ложечкой. Лавелль добавил со значением: — Вы ведь помните, как выглядели Деминик Карамацца и его телохранители? И тут они заговорили одновременно. Теперь Джек кричал, а Лавелль сохранял спокойный, ровный тон. — Слушай, ты, вонючий сукин сын! — Вспомните: в отеле растерзанный старина Доминик, разорванный на куски… — Ты не посмеешь… — …с вырванными глазами… весь в крови. — …и пальцем прикоснуться к моим детям, а не то я… — А когда я поработаю над Пенни и Дэйви, от них останутся лишь кучи мертвечины… — …оторву твою поганую голову. Я тебя предупреждаю… — Мертвечины, дохлых ошметков… — Я найду тебя… — А может быть, я даже изнасилую девочку, если только будет настроение… — Ты, вонючий подонок! — А она нежная, сочная девочка. Меня иногда тянет на таких, маленьких и невинных. Весь кайф в извращении. — Угрожая смертью моих детей, дерьмо, ты потерял все шансы. Ты за кого себя принимаешь? Ты понимаешь, где находишься? Это — Америка, придурок! Ты не уйдешь от нас! — Хорошо, даю вам время подумать. До конца дня. Если вы не согласитесь на мои условия, я прикончу Дэйви и Пенни. И, поверьте, им будет очень больно, уж я постараюсь. Лавелль повесил трубку. — Подожди! — закричал Джек. Он судорожно дергал рычаг, будто стараясь восстановить связь или вернуть Лавелля… Конечно, впустую. Он сжимал трубку до боли в мышцах, так что затекла вся рука. Затем швырнул трубку на рычаг, едва не разбив ее. Должно быть, так дышит разъяренный бык, перед которым долго размахивали красной тряпкой. Стук сердца отдавался у Джека в висках, в горящей голове. Живот больно скрутило судорогой. Джек заставил себя отвернуться от телефона, хотя так и трясся от приступов слепой ярости. Постоял под хлопьями снега, медленно приходя в себя. Все будет нормально. Нечего волноваться. Пенни и Дэйви в школе, они в полной безопасности. Там достаточно людей, и школа хорошая, заслуживающая доверия, с первоклассной системой безопасности. А Фэй заберет их в три часа и отвезет к себе домой. Лавелль не узнает об этом. Если он решит добраться до детей, то будет искать их сегодня вечером в квартире Доусонов, а не обнаружив, утихомирится. В доме тетки он их разыскивать не станет. Что бы ни говорил Карвер Хэмптон, Лавелль не в состоянии видеть и слышать абсолютно все. Конечно, нет! Он ведь не Господь Бог. Он может быть колдуном, наделенным большой силой, может быть Бокором, но он никак не Господь Бог. У Фэй и Кэйта дети будут в полной безопасности. Неплохо бы им остаться у Джэмисонов на всю ночь. А может, и еще на несколько дней, пока Лавелля не поймают. Фэй и Кэйт не станут возражать, наоборот, они всегда рады побаловать племянника и племянницу. Наверное, детям лучше не ходить в школу, пока ситуация не выправится. Надо будет поговорить с капитаном Грешемом насчет охраны для них. Пусть выделят полицейского, который бы находился в квартире Джэмисонов в то время, когда Джек на работе. Маловероятно, что Лавелль выследит детей, хотя… А если Грешем решит, что круглосуточный дежурный для детей — это непозволительная роскошь? Тогда можно будет как-то договориться с ребятами, коллегами по отделу… Они обязательно помогут, как и Джек помог бы, случись у них что-либо подобное. Каждый пожертвует несколько часов свободного времени, чтобы подежурить в квартире Джэмисонов. Если семье сослуживца угрожает опасность, они сделают так — это часть их негласного кодекса чести. Все нормально. Все будет просто отлично. Окружающий мир, растворившийся в дымке с того момента, как начал звонить телефон, приобретал прежние очертания. Вдруг стали различимы гудки машин, скрежет автомобильных цепей по заснеженной мостовой, завывание ветра. Перед Джеком опять возникли дома. Мимо прошел, согнувшись под напором ветра, прохожий, вслед за ним пробежали трое подростков-негров — они бросали друг в друга снежки и громко смеялись. Фантастическая дымка рассеялась. Джек вышел из тумана и уже не знал, было ли все на самом деле? Наверное, дымка окутала его сознание, была плодом его воображения, наваждение, не более того. Но что за наваждение? Откуда взялось и почему выбрало именно его? Он никогда не был эпилептиком, не страдал ни обмороками, ни пониженным давлением, у него вообще до сих пор не было особенных проблем со здоровьем. Почему же это был он? Он понял, что телефонный звонок предназначался именно ему. Почему? Пока Джек, стоя на месте, обдумывал происшедшее, тысячи снежинок окружили его, словно мошкара. Наконец он решил, что должен позвонить Фэй, объяснить ей ситуацию, предупредить, чтобы она была осторожна по пути из школы Уэлтон к ней домой. Пусть убедится, что за ними никто не следует. Джек повернулся к таксофону, но тут же остановил себя: нет, только не он. Нельзя звонить по телефону, к которому имел отношение Лавелль. Смешно, конечно, думать, будто этот подонок может прослушивать общественные таксофоны, но испытывать судьбу тоже глупо. Все еще злой, но уже не такой испуганный, Джек направился к патрульной машине, ожидавшей у тротуара. Ветер вгрызался в лицо ледяными зубами.* * *
Лавелль прошел в свой железный сарай. За спиной у него осталась зима, здесь сухая жара выжимала из Лавелля пот, который тут же увлажнил его черное лицо. Странный оранжевый свет отбрасывал на стены загадочные тени. Из ямы в центре помещения слышался какой-то устрашающий звук, похожий на сердитое перешептывание тысяч отдаленных голосов. Лавелль принес с собой два снимка. Дэйви и Пенни он сфотографировал вчера сам, на улице возле школы Уэлтон, сидя в своем фургоне, припаркованном чуть ли не за квартал от самой школы. Он пользовался 35-миллиметровым «Пентаксом» с мощным телеобъективом и сам проявил фотографии в крошечной темной комнате. Чтобы наслать заклинание и достигнуть желаемого результата, Бокор должен иметь какое-нибудь изображение жертвы. В соответствии с традициями, Бокор делает тряпичную куклу, наполняет ее опилками или песком. Лицу куклы нужно придать хотя бы отдаленное сходство с лицом жертвы, ведь для Бокора она заменяет реального человека. Изготовление куклы — утомительная процедура. К тому же средний Бокор, как правило, не обладает художественными способностями и с трудом добивается сходства с оригиналом. Поэтому куклу оснащают несколькими волосками жертвы, или добавляют ей кусочек ногтя, или наносят на нее каплю крови. Добыть такие компоненты непросто. Не станете же вы неделями ошиваться возле парикмахерской, где бывает жертва, чтобы умыкнуть прядь ее волос? А как получить кусочек ногтя? А раздобыть немного крови? Что, напасть на человека и иметь дело с полицией? Избежать всех этих сложностей можно, если заменить куклу хорошей фотографией. Не исключено, что Лавелль был единственным Бокором, кто привлек к черной магии столь современное средство. Когда в первый раз он испробовал этот метод, то особо не рассчитывал на успех. Однако уже через шесть часов после ритуала жертва была мертва: человек угодил под колеса тяжелого грузовика. С тех пор Лавелль осмелел. Должно быть, от Грегори перешла к нему капля веры в технический прогресс. И вот, стоя на коленях у самой ямы, Лавелль шариковой ручкой проделывал небольшие дырочки в верхней части каждой фотографии. Затем он продел снимки детей на тонкий шнур. По обе стороны от ямы установил две деревянные палки, один конец шнура привязал к одной палке, а другой — ко второй, так что фотографии повисли над самым центром ямы. Их освещал оранжевый свет, идущий из глубины. Очевидно, придется убить детей. Он дал Джеку последнюю возможность передумать, дал ему несколько часов. Но почему-то был уверен, что тот не отступит. Лавелль не боялся убийства. Напротив, ожидал этого с нетерпением. В убийстве маленьких существ была своя, какая-то особая прелесть. Лавелль облизал губы. Доносящийся из ямы отдаленный шум тысяч и тысяч шепчущихся, шипящих голосов стал четче, когда фотографии детей Джека Доусона оказались над ямой. К шипению прибавился новый оттенок: в нем слышалась не просто злоба, не просто угрозы — этот звук свидетельствовал о зверских желаниях, о жажде крови и ненасытной порочности. Звук темного и неутоленного голода. Лавелль снял с себя всю одежду. Поглаживая половые органы, он прочел короткую молитву. Он был готов. В сарае слева от двери стояли пять больших медных сосудов. Там были пшеничная и кукурузная мука, мелко истолченный кирпич, угольная пыль, размельченные коренья. Зачерпнув рукой кирпичный порошок и ссыпая его с ладони тонкой струйкой, Лавелль начал рисовать сложный узор на участке земли, примыкающем к яме с севера. Этот узор, его называли «веве», символизировал астральную силу. Настоящий Бокор или Хунгон знает сотни таких узоров. Определенные «веве» перед началом обряда помогают колдуну привлекать внимание богов к Умфору — храму, где осуществляется ритуал. «Веве» создают только руками, не прибегая ни к каким инструментам. И не по трафарету, заранее прочерченному на полу. В то же время «веве» надлежит быть строго симметричным и пропорциональным, если колдун действительно хочет добиться желаемого. Создание «веве» требует хорошего навыка, острого глаза и твердой руки. Лавелль зачерпнул из сосуда еще пригоршню истолченного кирпича. Через несколько минут он закончил работу. Его «веве» символизировал Симби И-Ан-Кита, одного из злых богов Петро. Лавелль вытер руку о чистое сухое полотенце, удалив с нее кирпичную пыль. И, зачерпнув пшеничной муки, стал рисовать еще один «веве» — у южного края ямы. Это был совершенно другой узор. Всего Лавелль создал четыре сложных символа — по одному с каждой стороны ямы. Третий «веве» был выполнен угольной пылью, а четвертый — размельченными кореньями. Осторожно, чтобы не испортить свою работу, он встал на колени у края ямы. Заглянул внутрь. Глубоко внутрь… Еще глубже… Дно ямы начало вздыматься, то приближаясь к Лавеллю, то отдаляясь от него и пульсируя. Никто не помещал источников света внутрь ямы, никто не разводил там огня, но это мерцание было явственным. Лавелль выкопал яму всего на метр, но чем дольше он всматривался в нее, тем глубже она становилась. Вот уже десять метров. Теперь — сто. Теперь — уже несколько километров. Все глубже и глубже, прямо к центру Земли. Вот уже открылось расстояние, как до Луны… до звезд… до границ Вселенной! Когда дно ямы отошло в бесконечность, Лавелль встал на ноги и запел молитву — монотонный мотив, речитатив разрушения и смерти. Затем приступил к основному ритуалу, помочившись на фотографии детей.* * *
Шипит и скрипит рация внутри полицейской машины. Дорога ведет в центр города, в полицейское управление. Звенят автомобильные цепи по мостовой. Летящие навстречу снежинки беззвучно разбиваются о лобовое стекло. Монотонно мечутся дворники. Ник Ирволино, сидевший за рулем, по-своему понял состояние Джека, близкое к трансу: — Не беспокойтесь, лейтенант, я хорошо вожу машину. — А я и не думаю беспокоиться. — Работаю на патрульной машине уже пятнадцать лет и еще ни разу не попал в аварию. — Это хорошо. — Ни одну из своих машин даже не царапнул. — Поздравляю. — Снег, дождь, гололедица — мне все нипочем. Никогда не испытывал проблем с вождением. Не знаю, откуда у меня взялся этот дар: мать вообще не водит, а старик мой способен доехать только до первого столба. До смерти боюсь с ним ездить. А вот у меня призвание к вождению. Так что не беспокойтесь. — Я абсолютно не волнуюсь, — заверил его Джек. — А мне показалось, что вы не в себе. — Почему это? — Вы так громко скрежетали зубами. — Серьезно? — Я уж боялся, что вот-вот посыпятся коренники. — А я и не заметил. Поверь, беспокоит меня не твое вождение. Они подъехали к перекрестку, где шесть-семь машин стояли под разными углами друг к другу. Вздымая тучи снега, они пытались развернуться в нужном направлении или хотя бы уйти с перекрестка. Ник Ирволино аккуратно притормозил и медленными зигзагами пробрался по извилистому пути сквозь затор. Миновав перекресток, он спросил Джека: — Если не мое вождение, то что же вас мучит? Немного поколебавшись, Джек рассказал Нику о звонке Лавелля и разговоре с ним. Ник слушал очень внимательно, не отрывая глаз от предательски коварной дороги. Когда Джек умолк, он воскликнул: — О всемогущий Боже! — Я чувствую то же самое, — заметил Джек. — Вы думаете, он на это способен? Может наслать проклятие на ваших детей? Джек, в свою очередь, спросил: — А что ты думаешь, Ник? Тот, подумав секунду, сказал: — Вы знаете, лейтенант, мы живем в странном мире: летающие тарелки, Бермудский треугольник, снежный человек, всякие такие чудеса. Не знаю, как кто, а я люблю обо всем этом почитать, мне это интересно. Миллионы людей готовы поклясться в том, что были свидетелями или участниками из ряда вон выходящих событий. Не может же все это быть полной чепухой, правда? Ну часть, ну даже большая часть, но ведь не все? Правильно? — Да, может, и не все, — согласился Джек. — Почему же тогда не согласиться и с тем, что колдовство существует? Джек кивнул. — Конечно, надеюсь, что на вас и ваших детей злое колдовство не подействует, — добавил Ник. В молчании они проехали полквартала. Ник снова заговорил: — В этом деле меня беспокоит одна вещь. — Что именно? — Ну, допустим, что колдовство реально. — Допустим. — Хочу сказать, просто сделаем вид, что допускаем эту реальность. — Понимаю. — Так вот, если черная магия — реальность и он хочет устранить вас из расследования, с какой стати убивать ваших детей? Почему бы не убить вас? Это самый эффективный вариант. Джек нахмурился: — А ты прав, Ник. — Если бы он убил вас, расследование поручили бы другому детективу и вряд ли он относился бы к колдовству так же серьезно, как вы. Так что достичь желаемого Лавеллю проще всего, устранив вас с помощью одного из своих заклинаний. Почему же он не делает этого? Конечно, при допущении, что черная магия действует. — Я и сам ломаю себе голову. Не знаю. — Я тоже не знаю и не могу понять этого. Но, по-моему, за этим стоит нечто существенное, лейтенант, так ведь? — Что ты имеешь в виду? — Понимаете, даже если этот парень — обыкновенный псих, его магия — фикция и вы имеете дело с маньяком, вся эта чертовщина, что он наговорил вам по телефону, по-своему логична. — Да. — Все сходится, даже если это полная ахинея. Все выглядит логично. Все. Кроме угрозы по отношению к вашим детям. Она выпадает из общей картины. Это уже не логично. Слишком много проблем на пустом месте в то время, как можно просто наслать заклятие на вас. Если у него такая колдовская сила, почему бы не направить ее против вас? — Может быть, он понимает, что я его не боюсь, принудить меня к подчинению может только одно — угроза жизни моих детей. — Но зачем ему запугивать вас? Он же может растерзать вас на куски, как сделал это с другими жертвами. Шантаж — сложная штука, убийство проще и надежнее. Вы согласны со мной? Джек следил за снегом, забивающим ветровое стекло, и думал над словами Ника. Он чувствовал: Ник зацепил что-то важное. Что-то очень важное для него.* * *
Колдовской ритуал подходил к концу. Лавелль стоял в сиянии оранжевых отблесков, тяжело дыша. Капельки пота, высвеченные этим светом, напоминали капли оранжевой краски. Такими же неестественными казались белки глаз Лавелля, хорошо отполированные ногти на руках. Главное было сделано. Теперь оставалось одно — когда кончится время, отведенное Джеку для принятия решения, Лавеллю достаточно взять ритуальные ножницы и с двух концов перерезать бечевку, на которой подвешены фотографии детей. Снимки упадут в яму и исчезнут в оранжевом мерцании; с того момента демонические силы отпущены будут на свободу. Проклятие сработает. У Пенни и Дэйва не останется ни единого шанса на то, чтобы выжить. Закрыв глаза, Лавелль представил себе, как он стоит перед их растерзанными, залитыми кровью трупами. Эта картина взволновала его. Убийство детей считалось опасным деянием: Бокор обращается к нему в самом последнем случае, испытав другие варианты выхода из положения и убедившись в их безнадежности. Прежде чем насылать смертельное заклятие на детей, Бокор должен хорошенько подумать над тем, как ему защититься от гнева богов Рады, богов белой магии. Готовясь к убийству детей, Бокор обращается к специальному заклинанию, чтобы успокоить богов Рады, иначе они заставят его долго мучиться и страдать, нашлют такие ужасные физические боли, что смерть покажется истинным спасением, за которое следует благодарить. Лавелль знал, как защитить себя от гнева богов Рады. Он уже убивал детей и всякий раз выходил сухим из воды. Однако сейчас он волновался и нервничал: при всей тщательности подготовки в таком деле всегда таилась возможность ошибки. Но уж если Бокору удавалось убить ребенка, не вызвав гнева богов Рады, то собственные его боги — Петро и Конго — от души наделяли колдуна еще большей силой. И на этот раз он мечтал о том же — как станет он недосягаемым в своем колдовском ремесле. Закрыв глаза, Лавелль снова упивался сладостной картиной — растерзанными телами сына и дочери непокорного полицейского. Послышался его тихий смех. В пустой и темной квартире Доусонов, очень далеко от сарая, где исполнял свой ритуал Лавелль, два десятка существ с серебристыми глазами раскачивались в такт пению Бокора. Не слыша его голоса, они знали и каким-то образом чувствовали, что и как он поет. Они заняли кухню, гостиную, коридор. Покачиваясь в такт мелодии, каждое существо набиралось силы, приходило в возбужденное состояние. Как только Лавелль завершил ритуал, они перестали раскачиваться. Теперь они ждали, внимательные, собранные, готовые действовать. В дренажной трубе под школой Уэлтон другие исчадия тоже покачивались в такт молитвенных заклинаний Лавелля, хотя и они не слышали голоса Бокора. Когда Лавелль замолчал, они остановились. Глаза у них горели. Они замерли на месте. Наизготове. Такие же собранные и решительные, как и незваные гости в квартире Доусонов. На перекрестке для машин зажегся красный свет. Переход тут же заполнили многочисленные пешеходы, уткнувшие лица в шарфы и воротники. Быстрым шагом, скользя, они пробирались мимо патрульной машины. Ник Ирволино сказал: — Я вот все думаю… — О чем? — Джек быстро подхватил разговор. — Давайте представим себе, что магия действует. — Мы уже договорились об этом. — Это я для аргументации. — Хорошо, хорошо, продолжай! — Ладно. Зачем же Лавеллю угрожать жизни ваших детей? Почему он не может просто разобраться с вами, забыв о детях? Вот в чем вопрос. — Да, это точно, — согласился Джек. — Может быть, его волшебство по какой-то причине не действует против вас? — По какой же причине? — Этого я не знаю. — Если его колдовство применимо против одних людей, то почему же оно бессильно против меня? — Не знаю, не знаю. Хотя, может быть, вы чем-то отличаетесь от других людей. — Чем же это я могу отличаться от них? — Не знаю. — Ник, ты прямо как старая пластинка. — Да. Джек тяжело вздохнул: — Так ты ничего толком и не объяснил. — А вы можете придумать что-нибудь получше? — Нет. Светофор загорелся зеленым. Последние пешеходы быстро перебежали на другую сторону улицы. Ник выехал на перекресток и повернул налево. Через некоторое время Джек переспросил его: — Так отличаюсь, да? — В некотором роде. Так они ехали к центру города, направляясь в полицейское управление. Обсуждали эту проблему, пытаясь понять, в чем же особенности Джека, несходство его с другими людьми.* * *
К трем часам дня в школе Уэлтон закончились последние уроки. Через десять минут это стало ясно по взрывам смеха, болтовне, выплеснувшимся на улицу и сказочно преобразившим серый пейзаж Нью-Йорка. Дети были одеты, вернее, спрятаны под толстым, пестрым слоем шапок, шарфов, пушистых наушников, рукавиц, теплых свитеров, джинсов, толстых курток и тяжелых ботинок. Поэтому передвигались они, слегка покачиваясь и оттопырив руки — для равновесия. Как будто на улицу выбежала веселая компания живых плюшевых медвежат. Те из ребят, что жили неподалеку, сами добирались до дома — это им разрешалось. Человек десять ринулись в микроавтобус, специально купленный для них родителями. Но большинство детей встречали папы, мамы, бабушки с дедушками — на машинах или, ввиду плохой погоды, на такси. На этой неделе была очередь миссис Шеппард провожать детей у школы. Исполняя обязанности дежурной, она сновала по тротуару, приглядывая, чтобы малыши не отправились домой без взрослых или не попали в машину к незнакомым людям. Сегодня вдобавок ко всему ей еще пришлось останавливать снежные баталии и разнимать детей, неохотно расстававшихся с друзьями. Пенни и Дэйви уже знали, что их заберет тетя Фэй, а не отец, но, выйдя из школы, не увидели ее и, спустившись по ступенькам, отошли немного в сторону, чтобы не мешать другим. Они стояли перед ярко-зелеными деревянными воротами, через которые шла дорога от школы к близлежащему жилому дому. Ворота крепились не вровень со стенами двух зданий, а были на полметра углублены в разрыве между ними. Чтобы укрыться от пронизывающего ветра, коловшего щеки и холодившего тело даже через толстые куртки, Пенни и Дэйви прижались к воротам спиной, втиснувшись, насколько возможно, в углубление между домами. Дэйви спросил: — Почему папа не смог за нами заехать? — Видимо, у него срочная работа. — Что за работа? — Не знаю. — Это не опасно, правда? — Думаю, нет. — A его не застрелят? — Конечно, нет. — А откуда ты знаешь? — Я уверена, — сказала Пенни, хотя на самом деле это было не так. — Полицейских все время убивают. — Ну, не так уж и часто. — А что мы будем делать, если папу вдруг застрелят? После смерти матери Дэйви достаточно быстро оправился от потери. Никто даже этого не ожидал. Дэйви справился с горем лучше, чем Пенни, ему не потребовалась помощь психиатра. Он долго плакал — несколько дней подряд, а потом успокоился. Правда, год спустя у него появился стойкий страх потерять отца. Насколько знала Пенни, она одна понимала, насколько озабочен брат опасностями, реальными или вымышленными, проистекавшими из профессии отца. Она не стала рассказывать об этом ни отцу, ни кому-либо еще, надеясь, что сама поможет Дэйви. В конце концов, как старшая сестра, она несла за него ответственность! В первые месяцы после смерти матери Пенни не смогла уделять брату достаточно внимания. Она не смогла быть рядом с ним, когда была ему нужна, — ей самой в тот период было очень тяжело. Сейчас, компенсируя прошлое, она решила исправить положение. Дэйви переспросил: — Что мы будем делать, если папу действительно застрелят? — Его не застрелят. — Но если все-таки застрелят, что будем делать? — С нами все будет в порядке. — Нас могут отправить в приют? — Нет, глупенький. — Где же мы тогда будем? А, Пенни? Где? — Ну, может быть, будем жить с тетей Фэй и дядей Кэйтом. — Да? — С ними нам будет хорошо. — Я лучше пойду жить в канализацию. — Ну, это глупо. — Нет, тогда я точно буду жить в канализации. — Ну конечно. — По ночам мы сможем выходить в город и воровать продукты. — У кого? У бездомных, что ли? — Зато мы сможем завести аллигатора вместо домашнего животного. — В канализации нет никаких крокодилов. — Есть, — возразил Дэйви. — Это миф. — Что ты сказала? — Миф. Вымышленный рассказ, сказка. — Ты — противная. Аллигаторы живут в канализации! — Дэйви! — Конечно. Где же им еще жить? — Например, во Флориде. — Флорида? Слушай, ну ты даешь! Флорида! — Да, Флорида. — Во Флориде живут только старые дураки-пенсионеры и девчонки, гоняющиеся за золотом. Пенни изумилась: — Где ты это слышал? — От подруги тети Фэй, миссис Дампи. — Дамси, — поправила его Пенни. — Да, понимаешь, миссис Дампи разговаривала с тетей Фэй. Муж миссис Дампи хотел на пенсии переехать во Флориду. Он поехал туда поискать жилье и больше не вернулся. Потому что на самом деле сбежал с гоняющейся за золотом девчонкой. Так вот, миссис Дампи и сказала, что во Флориде живут только старые дураки и девчонки, гоняющиеся за золотом. Вот тебе еще одна причина, чтобы не жить у тети Фэй: эти ее друзья — они все похожи на миссис Дампи. Все время жалуются, плачутся. Фу! А дядя Кэйт курит. — Очень многие люди курят. — От его одежды несет табаком. — Ну и что тут страшного? — А его дыхание, а? — У тебя тоже не всегда пахнет цветами изо рта, знаешь ли. — А кому нужен цветочный аромат изо рта? — Шмелям. — Но я же не шмель. — Ты слишком много жужжишь и никак не можешь остановиться. Все время жужжишь. — Нет, не правда. — Жу-жу-жу. — Ты следи за своими словами, а то я ведь могу и ужалить, раз я шмель. — Не посмеешь. — Я могу и укусить, и даже очень больно. — Дэйви, только попробуй! — Все равно тетя Фэй мне не нравится. — Она же хочет тебе только добра. — Она все время… щебечет. — Дэйви, щебечут птицы, а не люди. — Она щебечет, как птица. Это, к сожалению, было правдой. Но, достигнув возраста двенадцати лет, Пенни стала ощущать, буквально в последнее время, какое-то душевное родство со взрослыми. Ей уже не так нравилось насмехаться над ними, как несколько месяцев назад. Дэйви сказал: — Она все время изводит папу вопросами, хорошо ли нас кормят. — Она просто беспокоится о нас. — Она что, думает, что папа будет морить нас голодом? — Конечно, нет. — Тогда почему все время об этом говорит? — Просто потому, что она — тетя Фэй. — Слушай, ты можешь это повторить? Обрушившийся на улицу сильнейший порыв ветра достал их и в углублении перед зелеными воротами. Пенни и Дэйви затряслись от холода. Дэйви не умолкал: — У папы ведь классный пистолет, правда? Полицейским выдают очень хорошие пистолеты, да? Полицейским ведь не разрешают выходить на улицу с дерьмовым пистолетом, правда? — Не смей говорить такие слова! — Не разрешают, да? — Нет. Полицейским выдают самые лучшие пистолеты. — А папа хорошо стреляет? — Да. — Действительно хорошо? — Очень хорошо. — Он — лучший, да? — Конечно. Никто не умеет обращаться с пистолетом лучше, чем наш папа. — Тогда к нему можно подобраться только со спины, выстрелив исподтишка? — Этого не случится, — уверенно сказала Пенни. — Но ведь может и случиться? — Ты слишком много сидишь у телевизора. Несколько секунд они молчали. Наконец Дэйви сказал: — Если кто-нибудь убьет папу, я хочу заболеть раком и тоже умереть. — Прекрати говорить глупости, Дэйви. — Рак, или разрыв сердца, или еще что-нибудь в этом роде. — Не смей так говорить! Дэйви в ответ закивал головой: — Да, да, да! — Он говорил вполне серьезно. Абсолютно, совершенно серьезно. — Я попросил Бога, чтобы так и случилось, если папа погибнет. — Что ты имеешь в виду? — нахмурилась Пенни. — Каждую ночь в своих молитвах я прошу Господа, чтобы он охранял папу, а потом говорю: «Господи! Если уж ты позволишь, чтобы его застрелили по какой-нибудь идиотской случайности, то сделай так, чтобы я заболел раком и умер. Или чтобы меня сбил грузовик». Короче, что-нибудь вроде этого. — Но это же ужасно! Дэйви больше ничего не сказал. Он смотрел на землю, на свои руки в рукавицах, куда угодно, только не на Пенни. Она взяла его за подбородок и повернула лицом к себе. В глазах у Дэйви стояли слезы. Он изо всех сил старался не заплакать, моргая все чаще и чаще. Боже, какой же он маленький! Ему всего-то семь лет, но и для своего возраста он такой хрупкий и беспомощный. Пенни вдруг захотелось крепко-крепко его обнять, но она знала, что вряд ли ему понравится такая ласка, особенно на виду у одноклассников. Внезапно и она почувствовала себя маленькой и беспомощной. Но это было нехорошо, совсем нехорошо. Она должна быть сильной ради Дэйви. Отпустив его подбородок, Пенни сказала: — Дэйви, послушай, нам с тобой надо сесть и поговорить: о маме, о том, как люди умирают, почему это происходит, о всяких таких вещах. Никакой это не конец, а скорее начало — там, в раю. И если что-нибудь вдруг случится с папой — хотя с ним ничего не должно случиться, — если вдруг по какой-нибудь дикой ошибке он погибнет, он захочет, и очень, чтобы мы продолжали жить. Он будет очень огорчен, если мы… — Пенни! Дэйви! Сюда, скорее! У тротуара притормозило желтое такси. Стекло задней дверцы было опущено, и оттуда махала им рукой тетя Фэй. Дэйви рванул через тротуар к машине, испытывая радость от встречи со щебечущей тетей Фэй, только бы уйти от этих разговоров о смерти. «Черт, я, кажется, перестаралась», — подумала Пенни. В этот самый момент, не успев сделать и шага, она почувствовала вдруг резкую боль в левой лодыжке. Вскрикнув от мгновенной, пронизывающей боли. Пенни посмотрела вниз… и ее сковал ужас. Между низом ворот и тротуаром была небольшая щель. Из этой щели просунулась рука и ухватила ее за ногу. Пенни хотела закричать, но не могла. У нее пропал голос. Это была не человеческая рука. Размером, может, раза в два больше кошачьей лапы. Но и не кошачья лапа. Это была полностью, хотя и грубо, сформировавшаяся рука со всеми пятью пальцами. Кожа на ней была какая-то уродливая, серо-зелено-желтая, как у синюшной отечной плоти. И шероховатая, в пупырышках. Пенни не могла даже шептать. Было трудно дышать. Маленькие серо-зелено-желтые пальцы заканчивались острыми когтями. Два когтя впились в резиновый сапог Пенни и проткнули его. В голове у девочки мелькнула мысль о пластмассовой бейсбольной бите. Прошлой ночью. В детской. Существо под кроватью. Она вспомнила и о горящих глазах в школьном подвале. А теперь вот это. Два пальца с острыми когтями забрались ей в обувь, царапали ногу и рвали одежду. Вдруг дыхание вернулось к Пенни. Она глубоко вдохнула морозный воздух, и он вывел ее из панического транса. Резко дернув ногой, Пенни высвободила ее из захвата когтистой руки и даже сама удивилась тому, что ей это удалось. Она повернулась и побежала к такси, быстро запрыгнула внутрь и громко захлопнула дверцу. Бросив взгляд в сторону ворот, она не увидела там ничего необычного. Никакого существа с когтистыми лапами. Никакого прыгающего в снегу гоблина. Такси отъехало от школы Уэлтон. Тетя Фэй и Дэйви увлеченно болтали о метели, которая, как ожидалось, должна была намести до тридцати сантиметров снега. Похоже, никто из них не заметил, что Пенни напугана до полусмерти. Пока они болтали. Пенни потрогала сапог. Кусок резины у лодыжки был оторван и болтался, наподобие уха спаниеля. Пенни расстегнула на сапоге «молнию», просунула руку под носок и пощупала рану на ноге. Было не очень больно, пораненное место просто немного горело. Но когда она вынула руку, на пальцах увидела кровь. Это тетя Фэй заметила сразу: — Что стряслось, дорогая? — Все нормально, — ответила Пенни. — Но ведь это кровь! — Ничего, просто царапина. Дэйви побледнел при виде крови. Пенни попыталась успокоить его, хотя чувствовала, что голос у нее дрожит, а лицо выдает страх. — Ничего страшного, Дэйви, со мной все в порядке. Тетя Фэй заставила детей поменяться местами, чтобы рассмотреть рану поближе. Пенни сняла сапог, осторожно стянула носок, и тетя увидела небольшую, но глубокую рану и несколько царапин на лодыжке племянницы. Из ранки сочилась кровь, но не очень сильно. Она остановится сама, даже если рану не обрабатывать, через пару минут. — Как это случилось? — спросила тетя Фэй. Пенни заколебалась. Ей очень хотелось рассказать о существах с горящими глазами. Сейчас ей нужны были защита и помощь. Но поверят ли ей? Ведь с недавних пор она превратилась в девочку, которой требуется помощь психиатра. Начни она рассказывать о гоблинах с горящими глазами, все подумают, что с ней опять не все в порядке. Скажут, что до сих пор она не привыкла к тому, что матери нет в живых. И снова отведут к психиатру. А пока ее будут держать у врача, кто защитит Дэйви от этих мерзких гоблинов? Фэй настаивала: — Давай-давай рассказывай, что ты сделала такого, чего делать не следовало? — Что? — Именно поэтому ты ведешь себя так неуверенно. Что ты такое сделала, чего не следовало делать? — Ничего. — Как же тогда ты так поранилась? — Я… Я напоролась на гвоздь. — Гвоздь? Где? — У ворот. — Каких ворот? — Ну, у школы. У ворот, где мы вас ждали. Из ворот торчал гвоздь, а я его не заметила и напоролась. Тетя Фэй нахмурилась. В отличие от своей сестры Линды (матери Пенни) Фэй была рыжей, с резкими чертами лица и серыми глазами, которые временами казались почти бесцветными. Она была симпатичная, но когда сердилась, цвет глаз менялся, а точнее — куда-то пропадал, и Дэйви называл этот взгляд «взглядом ведьмы». Она спросила Пенни: — Гвоздь был ржавый? Пенни переспросила: — Что? — Гвоздь, он был ржавый? — Я не знаю. — Но ты же видела его, не правда ли? Иначе как бы ты узнала, что это был гвоздь? Пенни кивнула: — Да, похоже, он был ржавый. — А тебе делали прививку от столбняка? — Да. Тетя Фэй посмотрела на нее с нескрываемым подозрением: — Ты что, даже знаешь, что такое прививка от столбняка? — Конечно. — Когда тебе ее делали? — В первую неделю октября. — Я никогда бы не подумала, что вашего отца могут волновать подобные вещи. — Нам делали прививку в школе, — пояснила Пенни. — Серьезно? — усомнилась Фэй. Дэйви вмешался в разговор: — Нас в школе заставляют делать все прививки. Медсестра только этим всю неделю и занимается. Ужасно, чувствуешь себя подушечкой для иголок. Прививки от свинки, кори, прививки от гриппа… И всякие другие. Я их просто ненавижу. Похоже, Фэй была удовлетворена. — Ладно, но все равно, когда приедем домой, надо будет обязательно промыть рану, обработать спиртом, йодом и забинтовать. — Но это всего лишь царапинка, — возразила Пенни. — Не стоит рисковать. А теперь надень свой сапог, дорогая. Как только Пенни надела сапог и застегнула «молнию», машина попала в глубокую рытвину. Всех резко тряхнуло и толкнуло вперед с такой силой, что чуть не сбросило с сидений. Фэй сердито обратилась к водителю, которому было лет под сорок, как и ей: — Молодой человек, где это вы учились водить машину, скажите на милость? Глядя в зеркало заднего вида, шофер сказал: — Извините, мэм. Фэй продолжила резким тоном: — Вы что, не знаете, что улицы этого города в полном беспорядке? Вы не должны спать за рулем. — Постараюсь, мэм. Пока Фэй читала таксисту лекцию о том, как нужно водить машину, Пенни откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и попробовала восстановить в памяти маленькую уродливую руку, порвавшую ей сапог и оцарапавшую лодыжку. Она уговаривала себя, что это лапа какого-то обыкновенного животного. Ничего странного, ничего сверхъестественного. Но ведь у большинства животных не руки, а лапы. Руки есть у обезьян, но какая это была обезьяна? Лапы, похожие на руки, могут быть еще у белок и у енотов. Но это и не белка и не енот. Это было что-то, о чем Пенни никогда не читала, чего она никогда не видела. Неужели существо пытайтесь повалить ее и убить? Прямо там, на улице? У всех на глазах? Нет. Чтобы убить ее, и это существо, и остальные твари с горящими глазами должны были выйти из-за ворот на открытое пространство, где миссис Шеппард и дети увидели бы их. А Пенни уже поняла, что гоблины не хотят, чтобы их видели. Они очень скрытные. Нет, конечно, они не собирались убивать ее там, у школы, просто хотели хорошенько припугнуть, напомнить, что они всегда рядом, что ждутпервой возможности… Но почему? Почему им была нужна именно она, а может быть, еще и Дэйви? Почему не другие дети? Что бесило гоблинов? Чем таким разозлила она эти существа настолько, что они хотели убить их с Дэйви? Как ни старалась, Пенни никак не могла припомнить, что могло привести в ярость кого бы то ни было, не говоря уж о гоблинах. Растерянная, несчастная, испуганная, она выглянула в окно. Снег лежал теперь повсюду, и на сердце у Пенни стало так же холодно, как и на улице за стеклом. Как на ледяном ветру.Часть II. СРЕДА, 17.30–23.00
Тьма пожирает свет и побеждает день. Тьма терпеливо жертвы поджидает. То тихо подползает, словно тень, То с алчным рыком нападает. Книга Печалей Дитя, боящееся тьмы, Иль зрелый муж, прозренья, света избегая, Кто большего достоин сожаленья?Морис Фрихил
Глава 4
В половине шестого Ребекка и Джек вошли в кабинет капитана Грешема, чтобы обсудить план дальнейшего расследования. Днем были убиты еще два члена семьи Карамацца вместе со своими телохранителями. Пресса уже назвала происшествия крупнейшей гангстерской войной со времен сухого закона. Но газетчики еще не знали, что только первые две жертвы были убиты в традиционном для мафии стиле. Остальных постигла иная участь; их не зарезали, не застрелили, не подвесили на крюк для бычьих туш. В полиции решили пока не раскрывать непонятные подробности их смерти, сообщив, что первые погибшие были зверски избиты. Когда писаки пронюхают, какова реальная ситуация, они немедленно раздуют из нее самую громкую за последние десять лет сенсацию. Как пообещал Грешем: — Вот тогда нам действительно станет жарко. Они начнут кружиться вокруг нас, как мухи вокруг дворняг. Дело действительно становилось горячим, и капитан Грешем нервничал все сильнее. Сейчас он мог бы сказать, что чувствует себя, как карась на сковороде. Джек и Ребекка сидели в креслах перед рабочим столом капитана, а сам он возбужденно вышагивал по кабинету. Пока они делали доклад, Грешем несколько раз подходил к окнам, щелкал зажигалкой, выкурил на треть сигарету, затушил ее, но тут же закурил еще одну. Наконец настало время Джеку рассказывать о своем последнем визите в магазин Карвера Хэмптона и о телефонном звонке Баба Лавелля. Никогда еще он не чувствовал себя более неуверенно, чем сейчас, под тяжелым скептическим взглядом капитана. Он чувствовал бы себя по-другому, если бы Ребекка была на его стороне. Но, как всегда, они были в противоположных лагерях. Ребекка злилась на Джека из-за того, что он вернулся в управление только в половине четвертого и ей одной досталась вся подготовительная работа по спецгруппе. Объяснения Джека о транспортных пробках на заснеженных улицах не произвели на нее впечатления, хотя она внимательно выслушала его рассказ о разговоре с Лавеллем и была возмущена его угрозами. Но Джеку ни в малейшей степени не удалось убедить ее в том, что они столкнулись с проявлением сверхъестественного. Настойчивые намеки на то, что инцидент с таксофоном был явно связан с магическими силами, только разозлили Ребекку. Когда Джек окончил рассказ, Грешем повернулся к Ребекке и спросил: — Что вы думаете по этому поводу? — Я думаю, что теперь можно с определенностью сказать, что Лавелль — сумасшедший, а не очередной претендент на контроль за территорией клана Карамацца. Это не просто борьба внутри преступного мира, и мы сделаем большую ошибку, если подойдем к расследованию так же, как если бы мы занимались настоящей гангстерской войной. — Что-нибудь еще? — спросил Грешем. — Я думаю, нужно собрать всю возможную информацию о Карвере Хэмптоне. Может быть, он и Лавелль действуют вместе. Джек решительно возразил: — Нет, Хэмптон не притворялся, когда говорил о своем страхе перед Лавеллем. Но Ребекка не собиралась сдаваться: — Откуда же тогда Лавелль так точно определил момент, чтобы позвонить? Откуда узнал, когда именно ты будешь проходить мимо таксофона? А не проще ли предположить, что все время, пока ты разговаривал с этим колдуном, он находился в магазине Хэмптона, в задней комнате, и знал, когда ты ушел от него. Джек запротестовал: — Нет, Хэмптон не настолько хороший актер. — Он довольно умный шарлатан. Но даже если он и не связан с Лавеллем, я думаю, нужно сегодня же послать людей в Гарлем, чтобы они обшарили весь квартал рядом с таксофоном… И квартал напротив. Если Лавелля не было в самом магазине, он мог наблюдать за тобой из соседних домов. Это самое разумное объяснение. Другого нет. «Если только это не магия», — подумал Джек. Ребекка продолжала: — Надо проверить оба квартала. Посмотреть, не окопался ли там Лавелль. Необходимо размножить фотографию Лавелля. Вдруг его кто-нибудь узнает. Грешем согласился: — Звучит неплохо. Пожалуй, мы так и сделаем. Ребекка добавила: — Я считаю, что угрозы в отношении детей Джека серьезны. Нужно обеспечить их охраной на время его отсутствия. — Непременно, — сказал Грешем. — Сейчас и подберем человека. — Спасибо, капитан, — сказал Джек, — но, я думаю, это можно отложить до завтрашнего дня. Дети у моей родственницы, думаю, Лавелль не сможет их отыскать. Я сказал, чтобы по пути из школы она проверила, не следует ли кто-нибудь за ними. К тому же Лавелль дал мне время подумать до конца дня. Конец дня, как я полагаю, предполагает и вечер. Грешем присел на краешек своего рабочего стола. — Если хочешь, я могу отвести тебя от расследования. Без проблем. — Я категорически не согласен. — Ты серьезно относишься к его угрозам? — Да. Но и к своей работе я тоже отношусь серьезно. Буду участвовать в расследовании дела до конца. Грешем закурил, глубоко затянулся и спросил: — Джек, ты действительно думаешь, что черная магия — это серьезно? Ощущая рентгеновский взгляд Ребекки, Джек ответил: — В это, конечно, трудно поверить, но такой возможности я не исключаю. Ребекка вмешалась в разговор: — А я исключаю. Оттого, что Лавелль верит в это, колдовство не становится реальностью. — Тогда как ты объяснишь состояние трупов? — задал вопрос Джек. — Очевидно, Лавелль использует специально тренированных животных. — Отсюда уже не так далеко до предположения, что черная магия существует, — заметил Грешем. — К тому же с этим мы уже разобрались, — напомнил Джек. — Из мелких животных только хорек поддается приручению. Но эксперты утверждают, что укусы на трупах оставлены не хорьком. По их данным, никакое животное не могло оставить таких следов и так изуродовать человеческое тело. Ребекка снова вступила в бой: — Этот Лавелль с Карибских островов. Не исключено, что там существует какое-то эндемичное животное, о котором наши эксперты могут не знать. Например, какой-нибудь редкий вид ящерицы. — Ну, ты уже хватаешься за соломинку, — вставил Джек. — Это точно, — сказал Грешем. — Но все же надо проверить и это предположение. Хорошо. Что еще? — Да. Можете вы мне объяснить, почему я среагировал на звонок таксофона? Почему понял, что должен подойти? Почему меня влекло к аппарату? Порыв ветра хлестнул по окну. Настенные часы над столом Грешема затикали вдруг громче обычного. Капитан только пожал плечами: — Думаю, никто из нас не ответит тебе на этот вопрос, Джек. — Я и сам не могу на него ответить. — Ладно, если это все, я предлагаю вам отправиться по домам и немного отдохнуть. На сегодня уже достаточно. Спецгруппа действует и до завтра обойдется без вас. Джек, если ты задержишься на минуту, я покажу тебе списки офицеров, и ты сам выберешь людей, которым поручишь охрану детей. Ребекка уже открывала дверь. Джек позвал ее: — Подождешь меня внизу, хорошо? Она обернулась и, ничего не ответив, вышла из кабинета. Уолт Грешем, подойдя к окну и посмотрев на улицу, сказал: — Да… Это похоже на Северный полюс.* * *
Больше всего в квартире Джэмисонов Пенни нравилась кухня. Большая, почти вдвое больше, чем у них дома. К тому же очень уютная. Вымощенный зеленой плиткой пол, белые шкафчики со стеклянными дверками, медная посуда… Над большой мойкой было большое, выдвинутое наружу окно, а на подоконнике тепличка, в которой круглый год, даже зимой, росла всякая зелень, которую тетя Фэй использовала при готовке. В одном углу, у самой стены, стоял стол, предназначенный не для еды, а для планирования меню, составления списков необходимых продуктов. Оставалось еще место для двух стульев. Это был ее уголок, здесь Пенни чувствовала себя лучше всего. Двадцать минут седьмого. Пенни сидит за своим столиком, притворяясь, будто читает один из журналов тети Фэй. Но буквы сливаются в какое-то сплошное пятно. На самом деле девочка думает обо всем, о чем страшно думать: о гоблинах, о смерти, о том, сможет ли она когда-нибудь спокойно спать по ночам. Дядя Кэйт пришел с работы уже с час назад — он служил в процветающей брокерской конторе. Это был высокий худой человек с абсолютно голым черепом, седыми усами и эспаньолкой. И с отвлеченным взглядом: в разговоре с ним складывалось впечатление, что он уделяет вам не больше двух третей своего внимания. Иногда он сидел в своем любимом кресле по часу, по два — сложив на коленях руки, глядя в одну точку на стене и не двигаясь. Он даже не моргал, выходя из неподвижности только для того, чтобы взять стакан с бренди и сделать маленький глоток. Или сидел у окна, раскуривая одну сигарету за другой. Дэйви за глаза называл дядю Кэйта лунатиком, поскольку его мысли все время были где-то очень далеко, видимо, на Луне. Сейчас он в гостиной медленно потягивал мартини, пускал дым, слушая теленовости и одновременно читая «Уолл-стрит джорнэл». Тетя Фэй в другом конце кухни, напротив столика, за которым устроилась Пенни, готовила ужин, назначенный на половину восьмого, — цыплят в лимонном соусе, рис и тушеные овощи. В кухне тетя Фэй не была тетей Фэй. Она любила готовить, знала в этом толк и только здесь была совсем другим человеком — спокойной, доброй, мягкой. Дэйви вызвался помогать ей. По крайней мере, она позволяла ему думать, что так оно и есть. Во время работы они болтали не переставая. Дэйви воскликнул: — О, я так голоден, что, наверное, съел бы целую лошадь! Тетя Фэй поправила его: — Дэйви, так нельзя говорить. Лучше сказать: «Я очень голоден» или: «Я очень проголодался». Ну, что-нибудь вроде этого. А иначе возникают неприятные ассоциации. Дэйви, пропустив мимо ушей урок тети Фэй, продолжал: — Я на самом деле имел в виду убитую лошадь. Которая уже приготовлена. Я бы не стал есть сырую лошадь, тетя Фэй. Нет, и еще раз нет. Как бы то ни было, я готов съесть все, что вы сейчас дадите. — О Господи, мой мальчик! Ты же съел два кекса и выпил молока, когда мы приехали. — Всего два кекса! — И уже успел проголодаться? У тебя не желудок, дорогой мой, а бездонная яма. Дэйви возразил: — Но ведь я сегодня толком не обедал. Миссис Шеппард, моя учительница, поделилась со мной своим обедом. Но лучше бы она мне ничего не давала. У нее был только йогурт и консервы из тунца, а я ненавижу и то и другое. Для вида немного поклевал, а когда она отвернулась, просто все выбросил. — А разве отец не дает вам что-нибудь с собой на завтрак? — Голос тети Фэй сразу посуровел. — Конечно, дает. Но когда у него нет времени, этим занимается Пенни. Но… Фэй повернулась к Пенни: — У него сегодня была с собой еда? По-моему, мальчику не пристало попрошайничать. Пенни подняла глаза от журнала: — Утром я сама собрала ему завтрак: у него было яблоко, бутерброд с ветчиной и два больших овсяных кекса. Тетя Фэй одобрительно заметила: — Похоже, неплохой завтрак, Дэйви? Почему же, дорогуша, ты его не съел? Дэйви как ни в чем не бывало ответил: — Ну, конечно же, из-за крыс. Пенни развернулась на стуле и уставилась на брата. Тетя Фэй переспросила: — Крысы? Что за крысы? Дэйви хлопнул себя по лбу и воскликнул: — Господи, я забыл вам рассказать! Похоже, утром ко мне в коробку с едой забрались крысы. Старые, большие, уродливые крысы с желтыми зубами. Наверное, вылезли откуда-нибудь из канализации. Вся еда была перемешана, покусана, разорвана на кусочки. Б-р-р-р! Последнее слово он произнес растягивая, с явным удовольствием. Похоже, его не огорчило то обстоятельство, что в коробке с едой побывали крысы. Напротив, он был даже доволен этим, как в этом случае может быть доволен мальчуган семи лет. Только в его возрасте подобное происшествие превращается в невероятное приключение. Во рту у Пенни стало сухо. Она спросила: — Дэйви, а ты видел этих крыс? Он ответил ей, явно разочарованный: — Нет, они уже убежали, когда я полез за коробкой. — А где лежала коробка с завтраком? — спросила Пенни. — В моем шкафчике, в раздевалке. — А крысы больше ничего не покусали в шкафчике? — В каком смысле? — Ну, какие-нибудь книги, учебники. — А зачем им кусать мои учебники? — Значит, они покусали только еду? — Конечно. А что же еще? — Дверца шкафчика была закрыта? — По-моему, да, — ответил Дэйви. — Она была на замке? — уточняла Пенни. — Похоже, да. — А твоя коробка с едой была плотно закрыта? — Да. Он недоуменно почесал затылок, напрягая память. Тут в разговор вмешалась тетя Фэй: — Видимо, ничего не было закрыто: крысы не могут отомкнуть замок на шкафчике, отпереть дверку и открыть коробку с едой. Ты просто был очень невнимательным, Дэйви. Я просто диву даюсь. Готова побиться об заклад, что ты съел один из кексов, как только пришел в школу, а потом не закрыл коробку. — Но я этого не делал, — запротестовал Дэйви. Тетя Фэй продолжала свою обличающе-поучающую речь: — Отец не приучил вас следить за собой. Этому должны учить в семье, а ваш отец всем просто пренебрегает. Пенни уже было решила рассказать о том, как был разгромлен ее шкафчик, и даже о существах в подвале; ведь происшествие с завтраком Дэйви сделает правдоподобным и ее сюжет. Но не успела она раскрыть рот, как заговорила Фэй, со своими морализаторскими нотками в голосе: — Я хочу знать, что это за школа, в которую ваш отец определил вас? Что за дыра эта пресловутая школа Уэлтон? — Это хорошая школа, — попыталась защищаться Пенни. Фэй сделала удивленные глаза: — Хорошая? С крысами? Ни в одной хорошей школе крысы не водятся. Даже менее знаменитая школа не позволит этого. А если бы они были в шкафчике, когда мальчик сунулся туда за едой? Его же могли покусать! А крысы очень заразные животные. Они являются разносчиками многих болезней. Я просто не могу представить себе школу для маленьких детей, которая может продолжать работать после того, как в ней обнаружили крыс. Нет, отдел здравоохранения должен узнать об этом завтра же. А ваш отец не должен сидеть сложа руки. Я просто не позволю ему бездействовать в ситуации, когда речь идет о вашем здоровье. Ваша бедная мама была бы просто убита тем, что вы учитесь в подобной школе, с крысами. Крысы! О Господи, крысы разносят все болезни, от оспы до чумы. Тетя Фэй набрала скорость и уже неслась дальше. Пенни не слушала. Нет смысла рассказывать о ее собственном шкафчике и о существах с серебристыми глазами в школьном подвале. Фэй станет утверждать, что это тоже крысы. Если уж она вобьет что-нибудь в голову, разубедить ее просто невозможно. Сейчас Фэй готовилась к серьезному разговору с их отцом насчет крыс. Она явно наслаждалась мыслью о том, как раздраконит его за школу, кишащую крысами. Теперь она уже не обратит ни малейшего внимания на рассказ Пенни, и никому не удастся спасти отца Пенни и Дэйви от скандала. Даже если Пенни расскажет ей про маленькую руку, которая вылезла из-под зеленых ворот, Фэй все равно будет утверждать, что это крыса, что рука Пенни почудилась, что в сапог ей вцепилась противная старая крыса. Она все перевернет с ног на голову и получит новые аргументы для скандала с отцом. Черт возьми, тетя Фэй! Почему же ты такая вредная? Фэй разглагольствовала о том, что всякий хороший родитель, прежде чем поместить своего ребенка в какую-нибудь школу, должен собрать о ней полную информацию. Пенни ждала, когда же придет папа и заберет их домой. Она молилась, чтобы он не опаздывал, чтобы приехал до того, когда они лягут спать. Пенни совсем не хотелось на ночь оставаться вместе с Дэйви в темной комнате. Даже если это гостиная Джэмисонов. Девочка была уверена в том, что гоблины отыщут их даже здесь, далеко от их собственной квартиры. Она решила поговорить с отцом с глазу на глаз. Сперва он не захочет верить в гоблинов. Но ведь теперь была еще история с завтраком Дэйви. А если они поедут ночевать домой и там Пенни покажет отцу прокушенную пластмассовую биту, ей, может быть, и поверят. Папа, как и тетя Фэй, был взрослым, но он не был таким вредным. К тому же умел слушать детей так, как могут немногие взрослые. Когда Пенни перестала думать о своем, тетя Фэй все еще держала речь: — На деньги, которые ваш отец получил в качестве страховки за вашу мать, и на все, что выплатила больница, он мог бы устроить вас в очень хорошую школу. В самую лучшую. Я не могу понять, зачем он выбрал эту дыру Уэлтон? Пенни только закусила губу. Она уставилась на журнал. Фотографии и слова расплывались у нее перед глазами. Теперь она знала: гоблины охотятся не только за ней, но и за Дэйви. И это было хуже всего.* * *
Ребекка не стала дожидаться Джека, хоть он и просил ее об этом. Пока они с капитаном Грешемом обсуждали подробности охраны его детей, Ребекка оделась и, видимо, ушла домой. Обнаружив это печальное обстоятельство, Джек задумчиво вздохнул: — Да, детка, с тобой нелегко. На его рабочем столе лежали две книги о магии, взятые в библиотеке днем раньше. Он посмотрел на них долгим взглядом и подумал, что до завтрашнего утра следует узнать как можно больше о Бокорах и Хунгонах. Надел плащ и перчатки, сунул книги под мышку и направился в подземный гараж. Поскольку теперь они с Ребеккой руководили работой специальной группы, то пользовались привилегиями более значительными, чем положены обычным детективам. В частности, круглосуточным транспортом. Джек получил годовалый зеленый «Шевроле» с множеством вмятин и царапин. Это был обыкновенный автомобиль, без каких бы то ни было излишеств, правда, спасибо механикам, они надели цепи на колеса, что облегчало езду по снегу. Джек задним ходом вывел машину из гаража и подъехал к воротам на улицу. Притормозил, пропуская большой грузовик, приспособленный для различных работ на дорогах. Мигая многочисленными фонарями и гремя, грузовик исчез в темноте. Метель почти прекратилась. Грузовик уже проехал, и путь был свободен, но машина стояла на месте. Он включил «дворники». Чтобы попасть к дому Ребекки, надо ехать налево, к Джэмисонам — направо. «Дворники» запрыгали влево-вправо, влево-вправо. Ему хотелось быстрее оказаться рядом с Пенни и Дэйвом, обнять их, увидеть их улыбки. Влево-вправо, влево-вправо… Сейчас они, конечно, вне опасности. Даже если Лавелль серьезен в своих угрозах, вряд ли станет он действовать так быстро. А даже если решится на какие-то действия, то не будет знать, где искать детей. Влево-вправо, влево-вправо… С Фэй и Кэйтом они в полной безопасности. К тому же Джек предупредил Фэй, что может опоздать к ужину. Видимо, она его уже и не ждет. «Дворники», как метроном, отбивали секунды его колебаний. Наконец Джек нажал на газ, выехал на улицу и повернул налево. Ему просто необходимо поговорить с Ребеккой о том, что произошло между ними прошлой ночью. Они перешли Рубикон. Джек воспринял эти перемены с радостью, Ребекка, судя по всему, отнеслась к ним равнодушно. Она избегала этой темы весь день. Он просто не может позволить ей и дальше молчать. Колючий ветер бился о машину с каким-то холодным неприятным звуком. Пристроившись в тени здания у выезда из гаража, существо внимательно пронаблюдало за тем, как Джек Доусон уехал в зеленом «Шевроле». Яркие серебристые глаза ни разу не моргнули. Прячась в тени, тварь вернулась в тихий пустынный гараж. Существо шипело, бурчало что-то себе под нос неземным хриплым голосом. Прикрываясь тенью и темнотой даже там, где секунду назад никакой тени не было и в помине, существо перебегало от машины к машине, то пролезая под ними, то обходя их сбоку, пока не добралось до сточного люка в полу гаража. Здесь оно нырнуло вниз, в канализационную систему.* * *
Лавелль нервничал. Не включая света, он метался по дому, то поднимаясь наверх, то спускаясь вниз, то идя в один его конец, то в противоположный. Он ничего не искал, просто не мог оставаться на одном месте. Двигался он бесшумно, ни разу не задев мебель, так уверенно, как будто в комнатах горел свет. Он оставался зрячим во тьме, никогда не теряя ориентацию. Мрак, темнота были его родной стихией, в конце концов, тьма была частью его самого. Однако сегодня все было не так, как обычно: присущее ему чувство уверенности в себе час за часом… куда-то исчезало. Нервное возбуждение, рождая обеспокоенность, нагнетало страх, а Лавелль не привык к этому чувству, и, в свою очередь, оно заставляло его нервничать еще больше. Джек Доусон. Этот человек тревожил его. Скорее всего, он ошибся, дав ему время на размышление. Несомненно, эту передышку он использует с выгодой для себя. «Если только он почувствует, что я хоть немного боюсь его, — думал Лавелль, — и узнает побольше о законах магии, тогда он поймет, в чем моя слабость». Если Доусон догадается, что сам обладает необычной силой, если к тому же научится ею пользоваться, он может в один миг найти и остановить Лавелля. Такие люди, как Доусон, необычайно редки, один на десятки тысяч. Они способны противостоять даже самому опытному Бокору и могут рассчитывать на победу. Если этот полицейский откроет собственную тайну, он придет за Лавеллем хорошо защищенным и опасным. Как быть? Лавелль беспокойно рыскал по темному дому. Может быть, нанести удар прямо сейчас? Убив детей Доусона этим же вечером, он нанесет ему несомненную психическую травму. Ведь полицейский очень любит своих детей. Став вдовцом, он уже оказался под бременем горя, а смерть Пенни и Дэйви окончательно сломит его. Если он не сойдет с ума, то работать по-прежнему долгое время не сможет. Во всяком случае, он отойдет от расследования на те несколько дней, которые уйдут на похороны детей. А эти несколько дней и нужны ему для очередного маневра. Но может быть и по-другому. А что, если Доусон принадлежит к тому типу людей, кому горе придает силы? Если убийство детей подтолкнет его к более решительным поискам Лавелля? Да, такая перспектива не из приятных. Так ничего и не решив, Бокор, похожий на привидение, метался по темным комнатам. В конце концов он решил посоветоваться с древними богами и положиться на их мудрость. Лавелль прошел на кухню и включил там свет. Из буфета достал полную банку муки, освободил стол, поставил в центр его радиоприемник и с помощью муки нарисовал на столе один из сложных «веве», расположив рисунок вокруг радиоприемника. Затем он включил его. Старая песня «Битлз» — «Элеонор Ригби». Лавелль начал двигать шкалу настройки приемника и, миновав десяток станций, передававших различную музыку, нашел пустую частоту. Тихий скрип и шипение наполнили кухню, напоминая далекий шум моря. Лавелль взял еще одну пригоршню муки и аккуратно нарисовал небольшой простенький узор — уже на самом радиоприемнике. Подошел к мойке, вымыл руки, затем направился к холодильнику и взял оттуда бутылку с кровью. Это была кошачья кровь. Она использовалась в различных ритуалах. Раз в неделю, всегда в разных зоомагазинах, Лавелль покупал кошку. Или «брал на воспитание» в питомнике. Приносил домой, убивал, сливал кровь и пополнял свои запасы. Вернувшись к столу, он сел перед приемником, опустил пальцы в бутылку с кровью и нарисовал ею специальные знаки — сначала на столе, затем на пластиковой шкале радиоприемника. Затем произнес несколько молитв. Подождал, прислушался. Снова пропел молитвенные заклинания и уловил чуть заметное изменение в шипении на свободной частоте. Буквально секунду назад это был мертвый, ничего не значащий звук. И хотя по-прежнему он состоял из пощелкивания и скрипов, но они стали совсем иными. Звук ожил. Что-то решило воспользоваться этой частотой. Что-то из неизведанной дали. Пристально глядя на приемник, но воспринимая только его очертания, Лавелль спросил: — Кто здесь? Никакого ответа. — Кто здесь? Раздался голос, наводящий на мысли о вековой пыли и останках мумий: — Я жду. Голос сухой бумаги, песка, голос бесконечных веков. Холодный, как звездная ночь. Коварный, шипящий и злой. Это мог быть один из тысяч демонов или один из древних африканских богов. Или просто душа давно попавшего в ад человека. Определить, кто это, было невозможно, и Лавелль знал, что он не заставит говорящего назвать свое имя. Но, кто бы это ни был, он должен отвечать на вопросы Бокора. — Я жду… — Вы знаете о моих делах? — Да-а-а. — О делах, касающихся клана Карамацца? — Да-а-а. Если бы Господь наделил змей даром речи, должно быть, они говорили бы именно таким голосом. — Вы знаете полицейского Джека Доусона? — Да-а-а. — Он попросит начальство, чтобы его отвели от этого дела? — Никогда. — Он будет лезть в дела магии? — Да-а-а. — Я предупредил его, чтобы он прекратил это. — Он не прекратит. На кухне вдруг стало очень холодно, воздух казался теперь вязким и густым. — Что сделать, чтобы остановить Доусона? — Ты знаешь. — Объясните. — Ты знаешь. Лавелль нервно облизал губы, прокашлялся. — Ты знаешь, — монотонно прошелестел голос. Лавелль спросил: — Я должен убить его детей сегодня вечером, не откладывая?* * *
Ребекка, открыв дверь, сказала: — Я почему-то подумала, что это именно ты. Джек, стоявший у входа в дом, весь трясся. — На улице снежная буря. На Ребекке было синее платье и тапочки. Волосы полыхали медовым отливом. Она была восхитительна. Молча стояла и молча смотрела на него. Джек продолжал: — Да, это метель века. Может быть, это начало нового ледникового периода. Натуральный конец света. И я подумал, с кем бы лучше всего встретить этот конец света. — И остановил свой выбор на мне? — Не совсем так. — Да? — Я просто не знал, где можно найти Жаклин Биссе. — Значит, я — номер второй? — Я также не знал адреса Рэчел Уэлч. — Выходит, я уже третья? — Но, согласись, быть третьей из четырех миллиардов людей, живущих на Земле, не так-то и плохо. Ребекка почти улыбнулась в ответ на эту реплику. Джек спросил: — Можно мне войти? Видишь, я уже снял ботинки, чтобы не запачкать твой прекрасный ковер. И потом, у меня отличные манеры — я, например, никогда не стану чесаться на глазах у всех. Ребекка отошла в сторону. Джек вошел в квартиру. Она закрыла за ним дверь и сказала: — Я как раз собиралась готовить ужин. Ты голоден? — А что у тебя на ужин? — Нежданные гости не должны быть столь разборчивы. Они прошли на кухню, где Джек бросил свой плащ на спинку стула. Ребекка объявила: — Сандвичи с ростбифом и суп. Овощной. Министроне. — Домашний? — Нет, консервированный. — Отлично. — Отлично? — Я ненавижу домашнюю пищу. — Правда? — В домашней пище слишком много витаминов. — Серьезно? — Конечно. А от них я перезаряжаюсь энергией. — Вот как? — К тому же домашняя еда слишком вкусная. — Перегружает вкусовые рецепторы? — Ну вот, ты все прекрасно понимаешь. Корми меня консервированной пищей хоть каждый день. — Правильно, ведь она не обещает сложных вкусовых ощущений. — Красиво, быстро и питательно. — Ладно. Я накрою на стол и принесу суп. — Отлично. — А ты нарежешь мясо. — Без проблем. — Оно в холодильнике. По-моему, на второй полке. Только будь осторожен. — А что, оно живое? — Просто холодильник забит до предела. Если заденешь рукой что-нибудь не то, можешь вызвать лавину. Джек открыл холодильник. Продукты были уложены на каждой полке в несколько слоев. В дверце выстроились ряды бутылей, жестяных банок, горшочков. — Ты боишься, что государство вдруг может запретить продажу продуктов питания? — Я люблю иметь под рукой достаточный выбор продуктов. — Я уже заметил. — Ну, на всякий случай. — На случай, если к тебе завалится весь нью-йоркский филармонический оркестр? Ребекка ничего не ответила. Джек продолжал: — В большинстве супермаркетов нет такого большого выбора продуктов. Тут ему показалось, что шутки стали повторяться, и он закрыл тему. Но все же это было странно: в холодильнике царил полный хаос, хотя вся квартира тщательно убрана и даже вылизана. Джек нашел ростбиф за тарелкой с фаршированными яйцами, перед тремя банками с желе. Он лежал на магазинной коробке с яблочным пирогом, под упаковкой швейцарского сыра, зажатый двумя кастрюльками и банкой маринованных огурцов. Некоторое время они работали молча. Загнав Ребекку в угол, Джек думал, что заставит ее поговорить о вчерашнем вечере, но почему-то чувствовал он себя не очень уверенно. С чего начать разговор? Идти напролом? Сказать примерно так: «Ребекка, что дальше?» Или: «Ребекка, разве для тебя это не значит так же много, как и для меня?» Или даже так: «Ребекка, я люблю тебя!» Но все эти фразы, когда Джек озвучивал их в уме, казались ему или избитыми, или неуместными, или откровенно глупыми. Молчание затянулось. Ребекка поставила на стол тарелки и столовое серебро. Джек нарезал мясо и большой помидор. Она открыла две банки супа. Он достал из холодильника маринованные огурцы, горчицу, майонез и два разных сорта сыра. Хлеб лежал в хлебнице. Джек повернулся, чтобы спросить, чем приправить ее сандвич. Она стояла у плиты спиной к нему, помешивая суп в кастрюле. Ее волосы были ярким солнечным пятном на фоне синего платья. Джек почувствовал дрожь желания. Как не похожа она сейчас на ту Ребекку, которую он видел на работе час назад. Не было Снежной королевы. Не было амазонки. Была другая женщина, ниже ростом, уже в плечах, с тонкими запястьями — совсем хрупкая, похожая на девочку. Не осознавая, что делает, он двинулся к ней и, подойдя, положил руки на плечи. Для Ребекки это как будто не было неожиданностью. Она чувствовала его приближение. Может быть, ей даже хотелось, чтобы Джек подошел к ней. Она вся напряглась. Джек поднял ее волосы и стал целовать гладкую нежную шею. Ребекка обмякла и подалась назад. Джек провел руками по ее бедрам. Ребекка вздохнула, но ничего не сказала. Джек обхватил губами ее ухо, рука его скользнула к ее груди. Ребекка выключила плиту, на которой готовился овощной суп. Джек сомкнул руки на ее упругом животе, нагнулся над плечом и снова поцеловал в шею. Он почувствовал, как под его губами забилась какая-то жилка. Часто-часто. Казалось, что Ребекка растворяется в нем. Никогда еще ни одна женщина, кроме покойной жены, не дарила ему такое ощущение тепла. Ребекка прижалась к нему спиной. Желание было таким сильным, что уже доставляло боль. Ребекка издала звук, похожий на мурлыканье. Руки Джека, не останавливаясь, медленно и нежно исследовали ее тело. Ребекка обернулась, и они слились в поцелуе. Язык у нее был жаркий и быстрый, но поцелуй был долгим и тягучим. Когда они на секунду отстранились друг от друга, чтобы отдышаться, их взгляды встретились, и у Джека перехватило дыхание: в глазах у нее полыхал яркий и неистовый огонь. Ребекка не скрывала своего желания. Еще один поцелуй, более крепкий и нетерпеливый. Ребекка отпрянула от Джека и взяла его за руку. Они вышли из кухни в гостиную. Дошли до спальни. Она включила маленькую лампу с янтарным абажуром. В ее приглушенном свете тени немного расступились, но не исчезли вовсе. Ребекка сняла платье — под ним на ней ничего не оказалось. Ее тело, похоже, было сотворено из меда, масла и сливок. Она раздела и Джека. Через некоторое время Джек с каким-то удивленным придыханием произнес ее имя, а она — его. Это были первые слова, прозвучавшие с того момента, когда Джек положил свои руки ей на плечи. Они назвали себя и слились воедино в упоительном ритме любовного наслаждения.* * *
Сидя за кухонным столом, Лавелль словно вглядывался в своего невидимого собеседника. Ветер сотрясал дом. Бокор спросил: — Я должен убить его детей сегодня вечером, не откладывая? — Да-а-а. — Но если я убью его детей, не станет ли Доусон искать меня с удесятеренной силой? — Убей их. — Вы хотите сказать, что их смерть сломает Доусона? — Да-а-а. — Вызовет у него нервный срыв? — Да-а. — Уничтожит его? — Да-а. — Вы в этом абсолютно уверены? — Он очень любит сво-о-их де-е-тей. Лавелль проявлял настойчивость. — Вы гарантируете, что это уберет Доусона с моего пути? — Убей их. — Мне нужна абсолютная уверенность. — Убей их. С особой жестокостью. Убийство должно быть очень жестоким. — Понимаю. Вы хотите сказать, что жестокость убийства заставит Доусона сдаться? Так или нет? — Да-а-а. — Сделаю все, чтобы убрать его с моего пути, но мне нужны гарантии того, что результат будет такой, какой я хочу. — Убей их. Сломай им кости и вырви глаза. Выдери языки. Изруби, как свиней на скотобойне.* * *
Спальня Ребекки. В окна бьются снежинки. Лежа на спине, прижавшись друг к другу, они держатся за руки. Приглушенный свет освещает их лица. — Я никак не думала, что это произойдет еще раз, — призналась Ребекка. — Что именно? — Вот это все. — А-а-а-а. — Я думала, что вчера была просто случайность. — Правда? — Я была уверена в том, что мы больше никогда не будем так близки. — Но это же так! — Господи, неужели это не сон? Джек спросил: — Ты жалеешь? — Нет. — И не думаешь, что это в последний раз? — Нет, не думаю. — Это не может быть в последний раз, нам слишком хорошо вместе. — Да, нам хорошо вместе. — Ты можешь быть такой мягкой. — А ты-таким сильным. — Ну уж… — Правда. Они помолчали. Ребекка задумчиво спросила: — Что же с нами все-таки случилось? — Ты действительно не можешь понять? — Ну, не совсем. — Мы полюбили друг друга. — Но разве это может произойти так внезапно? — Не так-то уж и внезапно. — Все это время мы были всего лишь полицейскими, партнерами на работе… — Больше, чем просто партнерами. — …и тут вдруг… бац! — Совсем не вдруг. Я уже давно люблю тебя. — В самом деле? — Ну, что-то месяца два. — Я как-то не замечала. — Долго и медленно влюблялся в тебя. — Но почему же я ничего не видела? — Ты все очень хорошо видела. Только подсознательно. — Может, ты и прав. — Не пойму, почему ты так противилась нашему чувству? Ребекка промолчала. — Я думал, что чем-то тебе неприятен. — Нет, я просто считала тебя неотразимым. — Тогда зачем отталкивала? — Я боюсь. — Чего? — Обладать кем-то. Любить кого-то. — Почему? — Страшно потерять человека, которого любишь. — Но это ведь глупо. — Нет, совсем не глупо. — Каждый, имея что-то, рискует потерять… — Я знаю. — Что же, тогда не надо ничего приобретать? — Может, это лучше всего. — Вообще не иметь ничего, приносящего счастье? — Да. — Это философия одиночки. — И все равно наша любовь пугает меня. — Мы не потеряем ее, Ребекка. — Ничто не вечно на этом свете. — Но у нас же с тобой не то, что называется хорошими отношениями? — Все проходит. — Послушай меня внимательно, если у тебя что-то не складывалось с другими мужчинами, то это еще не значит… — Нет, я не об этом. — О чем же тогда? Ребекка ушла от ответа: — Поцелуй меня. Джек поцеловал ее. Еще и еще раз… В этих поцелуях не было страсти. Они были нежными, упоительными. Спустя некоторое время он сказал: — Я люблю тебя. — Не говори этого. — Это правда. — Просто не говори это вслух. — Я не привык бросаться словами. — Знаю. — И я не стану говорить чего-то, не будучи в этом уверенным. Она старалась не встречаться с ним взглядом. Джек сказал: — Ребекка, я уверен, что люблю тебя. — Я, кажется, просила тебя не говорить этого. Сказала и закусила губу. — Я не напрашиваюсь на ответные обещания, — сказал он. — Джек… — Просто скажи, что не ненавидишь меня. Она вздохнула. — Я не ненавижу тебя. Джек ухмыльнулся. — А теперь скажи, что я тебе не очень противен. — Ты мне не очень противен. — Скажи, что я тебе немного нравлюсь. — Ты мне немного нравишься. — Может, больше, чем немного? — Может, больше, чем немного. — Отлично. На настоящий момент мне этого хватит. — Ну и хорошо. — Но все равно я люблю тебя. — Джек, черт возьми! Она отодвинулась от него, натянув на себя простыню. — Не будь такой холодной, Ребекка. — Разве я холодно к тебе отношусь? — Не обращайся со мной так, как ты это делала весь сегодняшний день. Она посмотрела ему в глаза. Джек сказал: — Мне казалось, что ты сожалеешь о том, что было вчера. Она отрицательно покачала головой. Джек продолжал: — Меня очень задело то, как ты вела себя сегодня. Я решил, что ты разочаровалась во мне и в себе после того, что произошло вчера. — Нет, и не думала. — Теперь я это знаю, но сейчас ты снова отстраняешься от меня. Что-нибудь не так? Ребекка, как маленькая девочка, принялась грызть ноготь. — Ребекка! — Я не знаю, как сказать. Не знаю, как объяснить. Мне никогда раньше не приходилось говорить об этом кому-либо. — Не беспокойся, у тебя хороший слушатель. — Мне нужно немного времени, чтобы подумать. — Пожалуйста, думай. — Немного. Буквально несколько минут. — Можешь думать сколько угодно. Ребекка задумчиво рассматривала потолок. Джек накрыл себя и ее одеялом. Некоторое время они оба молчали. Ветер за окном пел серенаду из двух нот. — Мой отец умер, когда мне было шесть лет, — заговорила наконец Ребекка. — Это ужасно. Ты его, по сути, и не знала? — Да, это так. Но даже сейчас, как ни странно, мне его очень не хватает — отца, которого я почти не знаю и которого почти не помню. Все равно мне его страшно не хватает. Джек вдруг подумал о своем Дэйви, которому в момент смерти матери не было еще и шести. Он мягко сжал руку Ребекки. Она продолжала: — Страшно не то, что отец умер, когда мне было только шесть лет. Самое страшное то, что я присутствовала при его смерти, видела все собственными глазами. — Господи, как это случилось? — Ну… у них с мамой была бутербродная. Совсем маленькая, четыре небольших столика. В основном они работали по заказам: бутерброды, картофельный салат, салат из вермишели, несколько сладких блюд. В этом бизнесе трудно добиться успеха, если у тебя с самого начала нет двух важных вещей: приличного стартового капитала, чтобы продержаться два первых трудных года, и выгодного людного места по соседству с какими-нибудь офисами. В этом смысле моим родителям было трудно: у них не было хорошего стартового капитала, они не могли платить за аренду помещения в бойком месте. Начав с невыгодной точки, они каждые три года перебирались в новое место, немного лучше предыдущего. Трудились в поте лица, не покладая рук — отцу пришлось подрабатывать уборщиком. Он уходил на эту работу поздним вечером, когда закусочная закрывалась, и возвращался домой только к утру. Спал четыре-пять часов и шел открывать свою бутербродную. Мама много работала на кухне, стояла за прилавком, убиралась в чужих квартирах, чтобы немного подработать. Наконец закусочная стала приносить доход. Отец бросил вторую работу, мать больше не подрабатывала уборкой. В общем, дело пошло в гору, и они уже стали искать помощника, поскольку вдвоем уже не справлялись с работой. Но однажды днем… в затишье между обедом и ужином, когда мама пошла отнести заказ, а мы с отцом были в заведении вдвоем… пришел этот парень… с пистолетом. — О черт! — воскликнул Джек. Он знал, чем это обычно кончается. Он много раз видел это — трупы владельцев магазинов, распростертые у прилавка в луже собственной крови, очищенные кассовые аппараты… Ребекка продолжала: — Этот парень был какой-то странный. Хотя мне было всего шесть лет, я это сразу почувствовала, прошла на кухню и стала наблюдать за ним из-за занавески. Он выглядел нездорово… был бледен… тени под глазами. — Наркоман? — Да, как выяснилось позже. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу его бледное лицо, искривленные губы. Самое ужасное, этого подонка я помню отчетливо, а лицо собственного отца стерлось из памяти. Эти бешеные глаза! Ее передернуло. Джек сказал: — Не продолжай. — Нет, я должна рассказать, иначе ты не поймешь, почему я так отношусь к некоторым вещам. — Ладно, если уверена в том, что… — Я уверена. — И что же? Твой отец не отдал деньги этому сукину сыну? — Нет, отдал ему деньги. Все, до последнего цента. — Не оказав сопротивления? — Нет. — Но это не спасло его? — Нет. У этого подонка, видимо, было маниакальное состояние. Он ненавидел всех вокруг. Ты знаешь, как это бывает. Я думаю, ему не столько нужны были деньги, сколько удовольствие расправиться с кем-нибудь. Ну, он и… нажал на курок. Джек обнял ее и притянул к себе. — Два выстрела. И потом этот подонок убежал. В отца попала только одна пуля… в лицо. — Господи, — вздохнул Джек. Онпредставил себе: шестилетняя Ребекка из-за занавески на кухне закусочной наблюдает за тем, как разлетается на куски голова ее отца… — Это был сорок пятый калибр, — добавила сегодняшняя Ребекка, — разрывная пуля. Почти в упор. — О Боже, не терзай себя! — Отец умер почти моментально. — Не мучай себя. — Ему практически оторвало голову. — Постарайся об этом больше не думать. — Месиво из мозгов… — Забудь обо всем этом. — …осколки черепа… — Это было очень давно. — …кровь по всей стене. — Успокойся, успокойся! — Я еще недорассказала. — Не надо, хватит на сегодня. — Нет, хочу, чтобы ты все понял. — Успокойся! Я здесь, я рядом. Успокойся.* * *
В железном сарае Лавелль наклонился над ямой и двумя парами церемониальных ножниц с ручками из малахита разрезал шнур одновременно в двух местах. Фотографии Пенни и Дэйви упали в яму и исчезли в оранжевом свечении. Из глубины послышался ужасающий, нечеловеческий рев. — Убейте их, — сказал Лавелль.* * *
Они все еще лежали в кровати. Все еще лежали обнявшись. Ребекка сказала: — У полиции было только мое описание убийцы. — Шестилетний ребенок — не лучший свидетель. — Они очень старались отыскать след подонка. Они действительно старались. — И взяли его? — Да, но слишком поздно. — Что ты имеешь в виду? — Понимаешь, в тот день он унес из закусочной двести долларов. — И что же? — Это было двадцать два года назад. — Ну и?.. — Тогда две сотни были большими деньгами. Конечно, не состояние, но сумма немалая. — Не пойму, к чему ты клонишь? — Ему это показалось легкой добычей. — Не слишком легкой. Он же убил человека. — Но он необязательно должен был стрелять. Просто в тот день он хотел кого-нибудь убить. — Ладно. Значит, своим извращенным умом он решил, что это просто. — Прошло полгода. — Полиция так и не добралась до него? — Нет. И ему это стало казаться очень простым делом. Джеку стало плохо. У него свело живот. Он сказал: — Ты хочешь сказать, что… — Да, именно. — Он вернулся? — С пистолетом. С тем же пистолетом. — Но ведь для этого надо быть полнейшим идиотом? — Наркоманы рано или поздно превращаются в идиотов. Джек замолчал. Ему не хотелось слышать конец этой истории, но он знал, что Ребекка ее доскажет. Она хотела рассказать именно ему, она не могла не рассказать. — За кассой стояла моя мать. — Нет! Джек сказал это тихо, но с силой, как будто его протест мог что-то изменить. — Он выстрелил в нее. — Ребекка!!! — Выстрелил в нее пять раз. — Этого… ты не видела? — Нет. В тот день меня в закусочной не было. — Слава Богу. — На этот раз они его поймали. — Но слишком поздно. — Слишком поздно. Именно после этого я твердо решила, кем стану, когда вырасту. Я хотела стать полицейским, чтобы предотвращать подобные убийства, когда подонки стреляют в отцов и матерей, оставляя детей сиротами. Ты помнишь, тогда не было женщин-полицейских? Я имею в виду настоящих полицейских. Были женщины на бумажной работе в полицейских управлениях или связистки. Мне не с кого было брать пример, но я верила, что когда-нибудь мои планы сбудутся. Я была полна решимости. В мечтах я представляла себя только полицейским. Я не думала о том, что выйду замуж, заведу детей, потому что мысленно была готова к тому, что когда-нибудь придет подонок и застрелит моего мужа или разлучит меня с детьми. Какой же тогда в этом смысл? Я хотела стать полицейским, только полицейским. И я им стала. В детстве и юности я так сокрушалась, что в тот ужасный день ничего не сделала для отца. И до сих пор виню себя в смерти матери: я ведь не смогла дать полицейским четкого описания убийцы. Если бы я смогла им помочь, может быть, полицейские успели бы поймать убийцу до того, как он расправился с матерью. Я возненавидела себя. Стать полицейским и останавливать подобных сволочей — таким представлялось мне искупление собственной вины. Вероятно, звучит это ненаучно, но близко к истине. Именно эти чувства определяли мои поступки. — Тебе не в чем себя винить. Ты сделала все, что могла. В конце концов, тебе было всего шесть лет. — Знаю и понимаю это. Но чувство вины не только не исчезает, а временами обостряется. Думаю, мне так и не избавиться от него. Даже ослабев со временем, оно все равно останется со мной. Так вот почему Ребекка Чандлер такая, какая она есть! Он понял, почему ее холодильник забит продуктами: после детства с его несчастьями и горем набитый продуктами холодильник создавал ощущение стабильности и безопасности. Такая Ребекка заставляла себя уважать, еще больше притягивала к себе. Да, она была женщиной, не похожей на других. Джек чувствовал, что после этой ночи у него начнется иная жизнь. Проходит боль одиночества, вызванная смертью Линды. Ему повезло: он встретил Ребекку. Немногим мужчинам суждено дважды в жизни встретить прекрасных женщин и дважды получить шанс на счастье. Ему очень повезло. Он благодарен судьбе за эту перспективу заманчивого будущего. Несмотря на день, полный крови и трупов, Джек чувствовал, как его переполняет радость бытия. Ничего плохого не случится. Теперь ничего плохого просто не могло произойти!* * *
— Убейте их, убейте их, — повторял Лавелль. Его голос уходил все дальше в глубь ямы. Далекое, чуть различимое, аморфное, оно вдруг ожило, как бы приближаясь к поверхности, запульсировало, запузырилось. Из лавообразной массы, которая могла быть от Лавелля на расстоянии вытянутой руки, а могла — и на расстоянии многих миль, вдруг начало что-то возникать. Что-то чудовищное.* * *
— Когда убили твою мать, тебе было всего… — Семь лет. Исполнилось семь за месяц до маминой смерти. — Кто же тебя воспитывал? — Я жила с дедушкой и бабушкой, родителями матери. — И как тебе жилось? — Они любили меня, так что сначала все было хорошо. — Только сначала? — Вскоре дедушка умер. — Еще одна смерть. — Да, смертей вокруг меня хватало. — И как это произошло? — Раковая опухоль. Я уже видела мгновенную смерть, после узнала, что такое смерть медленная. — И долго это длилось? — Два года с момента диагноза. Он таял на глазах, потерял тридцать килограммов, остался без волос после сеансов облучения. В последние два месяца это уже не был тот дедушка, которого я знала. На него трудно было смотреть. — Сколько же тебе было, когда он умер? — Одиннадцать с половиной. — И потом осталась только бабушка? — Да, но ненадолго. Она умерла, когда мне было пятнадцать лет. Сердце. И я попала под опеку окружного суда. Следующие три года, до восемнадцати, я провела с приемными родителями. Пришлось сменить четыре такие семьи. Я никогда не сближалась с ними, просто не позволяла себе этого. Все время просила о переводе в другое место, потому что уже тогда понимала, что любовь и привязанность осложняют жизнь людей. Любить кого-нибудь — это даже опасно, это западня. Соломинка в твоих руках, которую кто-то вдруг переламывает в тот момент, когда ты решишь, что все будет хорошо. Мы все такие хрупкие. А жизнь абсолютно непредсказуема. — Но это не причина оставаться на всю жизнь одинокой. Наоборот, нужно искать людей, которых мы полюбим, с которыми разделим все радости и испытания, которым сможем открыть свое сердце. Людей, на которых можно положиться и которых самим нужно поддержать. Заботиться о друзьях и семье, знать, что и они заботятся о нас, любить, быть любимыми — вот смысл нашей жизни, опора в трудную минуту, причем смысл, нас возвышающий, поднимающий нас над тривиальной борьбой за существование, за выживание. Именно любовь способна отодвинуть от нас мысли о тьме, ожидающей каждого в конце жизни. Закончив эту фразу, Джек чуть не задохнулся: он сам ошарашен был и тем, как это сказал, и тем, что так думал. Ребекка погладила его по груди, потом крепко к нему прижалась. — Ты прав. Я душой чувствую, как ты прав. — Рад это слышать. — Какая-то часть души не разрешает мне любить или быть любимой, опасаясь, что я снова потеряю все, чем дорожу. Она нашептывает, что одиночество лучше, чем потери и боль. Джек обнял ее. — Понимаешь, подаренная кому-то или полученная от другого любовь не исчезает даже после того, как дорогие нам люди уходят в небытие. Любовь вечна. Горы разрушаются, моря иссыхают, пустыни уступают место новым морям. Время разрушает все, что создается человеком. Великие идеи вдруг становятся ошибочными и тоже рушатся, как замки или храмы. Но любовь — это сила, энергия, мощь. Рискуя уподобиться проповеднику, я скажу, что любовь подобна лучу света, пронзающему Вселенную и уходящему в бесконечность. Подобно этому лучу, любовь никогда не исчезает. Она такая же могучая сила, как молекулярная энергия или сила гравитации. Без молекулярных связей, без силы тяжести, без любви повсюду воцарится хаос. Мы существуем для того, чтобы любить и быть любимыми, потому что любовь, по крайней мере, в моем понимании, единственная сила, привносящая смысл и свет в наше существование. Это должно быть так. И, если это не так, то ради чего мы живем? И, если это не так — да спасет нас Бог! Несколько минут они лежали молча. Джек устал от потока слов и чувств, исходивших от него как бы помимо его воли. Он чувствовал, что Ребекка должна остаться с ним навсегда. Мысль о том, что этого может и не быть, была для него странной и непонятной. Но ей он больше ничего не сказал. Теперь решение было за ней. Через некоторое время Ребекка сказала: — Впервые за много лет я не столько боюсь любви и возможных потерь, сколько боюсь вовсе не любить. Сердце Джека совершило в груди мощный прыжок. Он сказал: — Прошу тебя, никогда не относись ко мне так холодно. — Мне будет нелегко переучиваться. — Но тебе это по силам. — Учти, иногда я буду немного отстраняться от тебя, так что понадобится терпение. — Я умею быть терпеливым. — Господи, да уж мне ли не знать этого! Ты самый терпеливый человек из всех, кого я знала. — Самый терпеливый? — Да. Я же знаю, что на работе иногда бывала просто несносной. Но ничего не могла с собой поделать. Мне даже хотелось, чтобы ты ответил тем же или устроил хорошую взбучку. И когда это однажды произошло, ты проявил себя разумным, спокойным и очень терпеливым человеком. — Ну, прямо святой. — Просто ты хороший человек, Джек Доусон. Прекрасный человек. Действительно прекрасный. — Я знаю, что кажусь тебе просто совершенством, — иронично заметил Джек, — но у меня есть и некоторые недостатки. — Не может быть! — воскликнула Ребекка, изобразив удивление. — Правда. — Назови хоть один изъян. — Я люблю слушать Барри Манилоу. — Только не это! — Я знаю, музыка у него не очень, слишком сладкая и механическая, но мне нравится. Да, и еще — я не люблю Элана Аллу. — Но ведь он нравится всем! — А по-моему, абсолютная ерунда. — У тебя совсем нет вкуса. — Еще я люблю ореховое масло и сандвичи с луком. — Фу! Элан Алла никогда не стал бы есть ореховое масло и сандвичи с луком. — Но у меня есть одно крупное достоинство, которое перекрывает все недостатки. Ребекка усмехнулась: — И какое же? — Я люблю тебя. На этот раз она не прервала его. Ее руки обвили Джека. — Я снова хочу тебя, — прошептала Ребекка.* * *
Обычно Пенни ложилась спать на час позже Дэйви. Эта привилегия определялась четырехлетним превосходством в возрасте. Она всегда пресекала любые попытки лишить ее этого ценного и неотъемлемого права. Однако сегодня, когда в девять часов тетя Фэй предложила Дэйви почистить зубы и ложиться, Пенни решила последовать за ним. Сейчас она не могла оставить Дэйви одного в темной спальне, где до него могли добраться гоблины. Ей придется бодрствовать, присматривая за Дэйви, пока не придет папа. Она сразу же расскажет отцу все о гоблинах. Он, по крайней мере, выслушает ее, прежде чем вызывать «скорую». Дети не взяли с собой никаких вещей, здесь у них были свои зубные щетки и пижамы: когда отец задерживался на работе, время от времени они оставались на ночь у Фэй и Кэйта. А в спальне для гостей обоих наутро ждала смена чистого белья. Через десять минут дети уже устроились в теплых кроватях. Тетя Фэй пожелала им сладких снов, выключила свет и закрыла за собой дверь. В комнате царила густая темнота. Пенни решительно отгоняла приступы страха. Дэйви некоторое время молчал. Потом позвал: — Пенни? — Ну? — Ты здесь? — А кто, ты думаешь, только что сказал «ну»? — А где сейчас папа? — Он задерживается на работе. — А-а-а… На самом деле? — Он действительно задержался на работе. — А вдруг с ним что-то случилось? — Нет, ничего не случилось. — А если его ранили? — Нет, его не ранили. Если бы его ранили, нам бы сразу сообщили. Нас даже, наверное, отвезли бы к нему в больницу. — Нет, никто не стал бы этого делать. Взрослые стараются оберегать детей от таких известий. — Ради Бога, перестань так волноваться. С отцом все в порядке. Если бы его ранили или произошло бы еще что-нибудь в этом роде, мы знали бы об этом от тети Фэй и дяди Кэйта. — А может, они уже что-то знают? — Мы с тобой уже догадались бы, Дэйви. — А как? — Заметили бы по их поведению, как бы они ни старались это скрыть. — А в чем бы это у них выражалось? — Ну, они разговаривали бы с нами по-другому, выглядели бы растерянными и вели себя необычно. — А они всегда ведут себя необычно. — Я имею в виду «необычно» в смысле «по-другому». Они старались бы проявить к нам особую доброту, потому что им было бы нас жалко. Ты думаешь, тетя Фэй стала бы так критиковать папу, знай она, что он ранен и лежит в больнице? — Ну… нет. Я думаю, ты права. Даже тетя Фэй не стала бы так делать. Они замолчали. Пенни высоко взбила подушку и лежала, вслушиваясь в темноту. Ничего не слышно. Только ветер за окном. Где-то далеко урчит снегоочиститель. Пенни посмотрела в сторону окна — оттуда шел прямоугольник слабого, неясного свечения. Гоблины придут через окно? Или через дверь? А может, вылезут из-за плинтуса? Возникнут в виде дыма, а затем материализуются, заполнив всю комнату? Так вроде поступают вампиры. Пенни видела их в старом фильме про Дракулу. Может, они явятся из шкафа? Девочка посмотрела в дальний угол комнаты, самый темный угол, где стоял шкаф. И не увидела там ничего, кроме черной темноты. Может быть, позади шкафа существует волшебный невидимый ход, которым воспользуются гоблины? Нет, это смешно! Хотя почему? И если история о гоблинах была достаточно смешной, то они-то сами есть. Она же их видела. Дэйви задышал глубоко и ровно. Он заснул. Пенни позавидовала ему. Ей-то нельзя спать. Время шло. Очень медленно. Взгляд Пенни то и дело обегал темноту: окно… дверь… шкаф… окно… дверь… шкаф. Она не знала, откуда появятся гоблины, но в том, что они обязательно появятся, не сомневалась.* * *
Лавелль сидел в темной спальне своего дома. Вызванные им убийцы поднялись из ямы и исчезли в заснеженном ночном городе. Вскоре оба доусоновских отпрыска будут убиты, разорваны на куски и превращены в груды мертвечины. Эта приятная мысль возбуждала его. Ритуалы отняли у него все силы. Не физические, не умственные. Напротив, он чувствовал себя сильным, свежим, ко всему готовым. Истощены были силы Бокора, и настало время их пополнить. В данный момент он был Бокором лишь формально. Растратив столько магических сил, он стал обыкновенным человеком. А ему не нравилось быть обыкновенным человеком. Объятый темнотой, он мысленно воспарил вверх — сквозь потолок, сквозь крышу дома, сквозь морозный воздух — к потокам дьявольской энергии, носившимся над огромным городом. Он тщательно обходил потоки энергии добра, которые тоже циркулировали в ночи. Они не могли пополнить его энергетику. Более того, даже представляли для него определенную опасность. Он припадал к самым темным и отвратительным из дьявольских потоков, пропуская их через себя и насыщаясь энергией зла. Через несколько минут он словно родился заново. Теперь он уже не был простым человеком. Конечно, не Богом, но больше, гораздо больше, чем простым человеком. Сегодняшней ночью он совершит еще один акт колдовства. Настало время смирить Джека Доусона. Наконец-то он покажет полицейскому, как велика мощь настоящего Бокора. Потом, когда его дети будут растерзаны на куски, этот человек поймет, насколько он был глуп, отвергая его предложение — предложение Бокора, и как немного надо было для того, чтобы спасти детей, — просто смирить свою гордость и отойти от расследования. Он поймет, что сам подписал им смертный приговор, и это потрясет его до глубины души.* * *
Пенни подскочила в кровати и чуть было не закричала, чтобы позвать тетю Фэй. Нечто, странный, противный звук. Нечеловеческий крик. Еле различимый, доносящийся откуда-то издалека. Может быть, из квартиры несколькими этажами ниже. Пенни показалось, что звук идет по системе отопления. Она напряженно ждала. Минута, две, три. Нет, не повторяется. Никаких неестественных звуков больше не было. Но Пенни знала, что именно она слышала и что именно это означало! Они идут за ней и за Дэйви. Они уже в пути. И скоро будут здесь.* * *
На этот раз их слияние было медленным, до боли нежным, наполненным неясными придыханиями и стонами, легкими прикосновениями. Ощущения, достойные грез: как будто плывешь, превращаясь в солнечный свет, становясь невесомым. Уже не акт любви, но эмоциональный союз, утверждение их духовной близости. И когда наконец Джек с наслаждением отдал свою энергию ее упоительному телу, он почувствовал, что его нет, а есть нечто другое, единое целое — он и Ребекка! И Джек инстинктивно понимал, что она чувствует то же самое. — Это было восхитительно. — Да. — Лучше орехового масла и бутербродов с луком? — Пожалуй. — Ну ты и нахал! — Ты знаешь, ореховое масло и бутерброды с луком — просто фантастическая вещь! И я люблю тебя, — сказал Джек. — Я рада, — ответила Ребекка. Она все еще не могла сказать вслух, что любит его. Но Джека это и не беспокоило. Он знал, что она его любит. Сидя на краю кровати, он одевался. По другую сторону кровати Ребекка расправляла синее платье. Вдруг оба вздрогнули от непонятного шума: обрамленная рамкой красивая афиша Джонса Джексела неожиданно сорвалась с крючка, на котором висела, и упала со стены. Афиша была большая — метр на семьдесят пять сантиметров, — к тому же застекленная. Им показалось, что на какой-то миг она как бы зависла в воздухе и лишь потом со странным грохотом упала на пол рядом с кроватью. — Что за черт? — воскликнул Джек. — Что могло случиться? — недоумевающе проговорила Ребекка. Дверца шкафа со стуком открылась, затем так же закрылась. Опять открылась. Высокий комод с шестью ящиками покачнулся, отрываясь от стены, и стал падать прямо на Джека. Ему пришлось отскочить в сторону. Комод грохнул о пол всей тяжестью, издав звук, подобный разрыву гранаты. Ребекка прижалась к стене и стояла в полном оцепенении, широко раскрыв глаза, сжав руки. Воздух вдруг стал ледяным. По спальне пронесся порыв ветра — не просто сквозняк, а настоящий ветер, как тот, что бушевал в заснеженном городе. У окна творилось что-то совершенно необъяснимое: как будто невидимая рука схватила и сорвала с карниза шторы, свалив их на пол бесформенной кучей. Та же невидимая рука вырвала карниз и отбросила его в сторону. У прикроватных тумбочек распахнулись дверцы, все их содержимое рухнуло на пол. От стен, сверху вниз, начали отрываться широкие полосы обоев. Джек только успевал поворачиваться в разные стороны. Он был растерян, испуган и не знал, что предпринять. На пол полетело большое зеркало. Невидимый разрушитель схватил с постели одеяло и швырнул его на поваленный комод. Ребекка закричала в пустоту: — Прекратите! Сейчас же прекратите! Невидимая сила не подчинилась, с кровати поднялось в воздух покрывало. Казалось, оно ожило, превратилось в одушевленный предмет, способный действовать по собственному усмотрению: покрывало проплыло в угол комнаты, а там безжизненно рухнуло вниз. Два уголка заправленной под матрац простыни неожиданно выпрямились. Джек вцепился в простыню. Кто-то выдернул из-под матраца два оставшихся уголка. Джек попытался удержать простыню в руках, хотя понимал, насколько бесполезно противиться чудовищной силе, громившей спальню. Но это было единственное, что пришло ему на ум. Он просто должен был хоть что-то сделать. Простыня так рванулась из его рук, что он, не удержавшись на ногах, упал на колени. Небольшой телевизор в углу, стоявший на подставке с колесиками, включился вдруг сам по себе на большую громкость. Какая-то толстая баба танцевала ча-ча-ча с котом, а за кадром хор напевал хвалебные гимны в честь новой еды для кошек. Джек поднялся на ноги. Прикрывавший кровать тканый наматрасник поднялся, скомкался, и комок полетел в Ребекку. По телевизору в это время показывали Джорджа Плимнтона, вещающего о преимуществах интертелевидения. На нейлоновом покрытии матраца появилась рябь, как будто кто-то стягивал его. В верхней части покрытия образовалась дыра, ткань вокруг нее с треском поползла в разные стороны, и из разрыва показалось ватообразное содержимое матраца. Затем со звоном выпрыгнули несколько пружин, словно кобры, поднимающие головы под беззвучную музыку. Со стен продолжали срываться обои. По телевизору человек из Всеамериканской ассоциации производителей мяса вещал о прелестях мясной пищи, а перед камерой какой-то шеф-повар сладострастно нарезал кровавый ростбиф. Дверца шкафа на этот раз двигалась с такой силой, что вылетела из пазов и вывалилась наружу. Вдруг взорвался кинескоп телевизора. Брызнуло стекло. Внутри телевизора что-то коротко вспыхнуло, затем пошел дым. Тишина. Все замерло. Джек посмотрел на Ребекку. Она была испугана до смерти. В ее глазах застыло изумление. И ужас. Зазвонил телефон. Джек уже знал, кто звонит. Он поднял трубку и молча поднес ее к уху. — Вы дышите, как загнанная лошадь, детектив Доусон. Вам понравилось? Думаю, мое маленькое представление заинтересовало вас. Джек так дрожал, что не мог говорить. Он и не хотел говорить, чтобы Лавелль не понял, насколько он испуган. Но Лавелля, похоже, и не интересовал ответ Доусона. Во всяком случае, он не стал его дожидаться. Бокор сказал: — Когда вы увидите своих детей — мертвых, растерзанных, с вырванными глазами, выеденными языками, обглоданными до костей, — помните, что могли спасти их. Помните, что вы, именно вы, подписали им смертный приговор. Именно вы несете полную ответственность за их гибель, как если бы видели, что они вышли на рельсы перед несущимся поездом, и не окликнули их. Вы отбросили их жизнь так, как если бы они были для вас каким-то мусором. Поток слов вырвался из Джека, прежде чем он понял, что будет говорить. — Ну ты, вонючий сукин сын! Ты не посмеешь и пальцем к ним притронуться. Ты не посмеешь… Лавелль повесил трубку. Ребекка спросила: — Кто?.. — Это Лавелль. — Ты хочешь сказать… все это?.. — Теперь ты веришь в черную магию? В колдовство? — О Господи! — А я теперь в это верю. Не веря себе, Ребекка оглядела разгромленную комнату, покачивая головой и безуспешно пытаясь отмахнуться от слишком очевидных доказательств справедливости его слов. Джек вспомнил, с каким скептицизмом слушал он рассказ Карвера Хэмптона о посыпавшихся с полок бутылочках, о возникшей из порошков и трав черной змее. Теперь скептицизм исчез. Остался только страх. Он подумал об изуродованных трупах, на которые насмотрелся еще утром. Сердце забилось, как молот. Джек начал задыхаться. Казалось, его вот-вот вырвет. Телефонная трубка по-прежнему была в его руках. Он быстро набрал номер. — Кому ты звонишь? — спросила Ребекка. — Фэй. Она должна как можно быстрее увезти оттуда детей. — Но Лавелль не может знать, где они сейчас находятся. — Он не должен был знать и того, где нахожусь я. Я никому не говорил, что собираюсь к тебе. За мной никто не следил, это точно. Он не мог знать, где я нахожусь, и тем не менее узнал. Так что ему известно, где сейчас дети. Черт, что такое? Он набрал номер Фэй еще раз. Ему ответили, что номер не обслуживается. Джек положил трубку. — Лавеллю каким-то образом удалось вырубить номер Фэй. Мы должны сейчас же ехать туда. Господи, мы должны забрать детей. Ребекка быстро выскользнула из платья, достала из шкафа джинсы и свитер. Через минуту она была одета. — Не волнуйся, Джек, мы попадем туда раньше Лавелля. Но Джеку показалось, что они уже опоздали.Глава 5
Сидя в темной спальне, немного освещенной уличным светом, Лавелль в который раз мысленно устремился вверх и припал к потокам дьявольской энергии. Его магическая сила на этот раз не просто ослабла — она была на нуле, ушла вся на то, чтобы призвать полтергейст и управлять им. Именно эти действия и видел Доусон несколько минут назад, в черной магии они считаются, пожалуй, самыми энергозатратными ритуалами. Лавелль сожалел, что полтергейст нельзя использовать для уничтожения врагов. Полтергейст — просто хулиган, в лучшем случае — шалун. Но он не зол. Если Бокор, вызвав полтергейст, заставит его пойти на убийство, тот может освободиться от заклинаний колдуна и свою деструктивную энергию обратить против него самого. Когда же полтергейст используют как рекламу возможностей Бокора, результаты бывают впечатляющими: скептики начинают верить в магию, смельчаков охватывает страх. Увидев работу полтергейста, люди слабые становятся раболепными, преданными слугами Бокора и готовы беспрекословно выполнять все, что он им прикажет. Тишину в спальне нарушил легкий скрип — это качнулось кресло-качалка, в котором сидел Лавелль. Он сидел и улыбался, улыбался сам себе. С ночного неба нисходили на него потоки темной энергии. Вскоре он был заполнен ею до предела. Лавелль удовлетворенно вздохнул, чувствуя себя совершенно обновленным. Совсем скоро начнется самое интересное. Кровавое убийство.* * *
Пенни села на край кровати и внимательно прислушалась. Опять те же звуки. Скрипы, шипение. Глухой удар, какое-то звяканье, снова удар. Где-то далеко раздался треск и как будто шарканье. Пока далеко, но с каждой минутой ближе и ближе. Пенни включила прикроватную лампу. Маленький конус света источал тепло и спокойствие. Дэйви продолжал мирно посапывать, и Пенни решила: пусть еще поспит. Если надо будет, она быстро разбудит его. Одного зова будет достаточно, чтобы сюда прибежали тетя Фэй и дядя Кэйт. Крик раздался снова. По-прежнему не очень отчетливый, но уже не такой глухой, как раньше. Пенни встала с кровати и подошла к шкафчику, куда не доходил свет лампы. В стене над шкафчиком, сантиметрах в тридцати от потолка, было закрытое решеткой отверстие — выход системы отопления и кондиционирования. Пенни задрала голову, пытаясь получше расслышать отдаленные неясные шумы. Теперь она знала, что исходят они из вентиляционного отверстия. Пенни забралась на шкафчик, но решетка все равно была выше ее головы. Тогда она слезла, взяла подушку со своей кровати и положила ее на шкафчик. Поверх этой подушки Пенни водрузила еще две с кресел. Она вдруг почувствовала себя умной и сообразительной. Опять взобравшись на шкафчик, она встала на это сооружение, приподнялась на носочки и прислонилась ухом к решетке. До этого она думала, что по вентиляционной системе просто разносились звуки, издаваемые гоблинами, а сами они находятся где-то в других квартирах. Теперь ее как током ударило: теперь она поняла, что именно в ней и скрываются эти загадочные существа. Значит, они попадут в спальню не через дверь, окно или воображаемый ход за шкафом, а через вентиляционную систему. Целеустремленно передвигаясь по ней, они скатывались по наклонным участкам, быстро проходили горизонтальные соединения, с остервенелым упорством карабкались по вертикальным переходам. Они приближались с той же неотвратимостью, с какой горячий воздух из отопительных котлов поднимался в квартиры. Трясясь от страха, которому она решила не поддаваться, стуча зубами, Пенни приникла к решетке и заглянула в отверстия. Темнота в вентиляционном ходе была непроницаемой и плотной. Как в склепе.* * *
Джек согнулся за рулем, изо всех сил всматриваясь в заснеженную дорогу. Лобовое стекло замерзало. Тонкая корочка льда, образовавшаяся по краям стекла, расползалась по нему все шире. — Эта чертова печка работает или нет? Джек задал себе вопрос просто из-за нервного возбуждения, так как чувствовал струю теплого воздуха на своем лице. Ребекка тоже подалась вперед и потрогала рычажки системы отопления. — На полной мощности, — успокоила она Джека. — Видимо, к ночи резко похолодало. — Да, мороз градусов десять, а с ветром и того больше. Снегоочистители целыми колоннами двигались по главным магистралям города, но не могли справиться со снегом. Он падал без остановки, сильный ветер тут же наносил сугробы. Они вырастали на улицах сразу же, как только уходили снегоочистители. Джек считал, что доедут они до дома Джэмисонов за десять минут. На улицах машин почти не было, к тому же Джек воспользовался полицейской сиреной, что во всех случаях давало ему преимущество при движении. Он рассчитывал, что скоро обнимет Пенни и Дэйви, но, похоже, поездка затягивалась. Каждый раз, когда он пытался увеличить скорость, машину заносило, несмотря на цепи на колесах. Джек зло ругнулся: — Черт, пешком дошли бы быстрее! — Мы успеем, Джек, — успокаивала его Ребекка. — А если Лавелль уже там? — Нет, уверена, что его там нет. Неожиданно Джеку в голову пришла страшная мысль. Он не хотел произносить ее, но не мог удержаться. — А если Лавелль звонил от Джэмисонов? — Нет, — сказала Ребекка. Но Джек уже не мог остановиться, и каждую его фразу сопровождали страшные видения. — Что, если он уже убил их всех? (Изуродованные тела.) — …убил Пенни и Дэйви… (Вырванные из глазниц глаза.) — …убил Кэйта и Фэй… (Перегрызенные глотки.) — …а затем позвонил мне оттуда… (Откушенные кончики пальцев.) — …позвонил прямо из квартиры… (Разодранные губы, болтающиеся уши.) — …стоя прямо над их растерзанными телами? Ребекка попыталась остановить его. Она почти кричала: — Прекрати изводить себя! Мы успеем вовремя! — Откуда ты можешь знать, что мы успеем? — со злостью спросил Джек. Он и сам не знал, почему злится на нее. Он просто выплескивал на Ребекку нервное потрясение. Он ведь не мог схватиться с Лавеллем или наказать погоду, которая задерживала их. Ему нужно, необходимо было сейчас наорать хоть на кого-нибудь, иначе он сошел бы с ума от чудовищного стресса, который уже переполнял его, как слишком сильный ток перезаряжает аккумулятор. Он крикнул: — Ты не можешь этого знать! Ребекка спокойно ответила: — Я знаю. Не нервничай, ты за рулем. — Черт побери! Прекрати мне указывать! — Джек… — У него в руках мои дети… Он резко нажал на газ, и машину сразу же занесло вправо. Джек попытался выправить ее, работая рулем, но это ему не удалось. Ему нужно было вывернуть руль в сторону заноса, а он крутанул его в противоположную сторону. Хотя через секунду Джек понял свою ошибку, машина уже закрутилась на скользкой мостовой. Она продвигалась вперед боком. Джек понял, что сейчас на полной скорости они врежутся в бордюр тротуара и перевернутся. Но и скользя, машина продолжала поворачиваться вокруг вертикальной оси. В итоге их развернуло на сто восемьдесят градусов и несло задом наперед. Сквозь замерзшее лобовое стекло они смотрели туда, откуда приехали. Их продолжало разворачивать, пока машина не замерла, описав почти полный круг. Джек содрогнулся при мысли о том, чего они избежали, но, поскольку времени на переживания не было, он тут же тронулся с места. Теперь Джек работал рулем и педалью газа очень осторожно. Когда их заносило и крутило, они оба молчали, даже не вскрикивали от неожиданности или страха. В молчании они проехали еще квартал. Джек сказал: — Извини. — Не извиняйся. — Мне не надо было так резко говорить с тобой. — Я все понимаю. Ты беспокоишься за детей. — Я и сейчас ужасно беспокоюсь. Но это не оправдание. Я вел себя по-идиотски. Я уж точно не помог бы детям, если бы угробил нас обоих на полпути к Фэй. Ребекка мягко сказала: — Я понимаю тебя. Все в порядке. И все будет хорошо. Джек был уверен, что она действительно понимает, какие мысли и чувства чуть не разрывают его сердце. Она понимает его лучше любого друга, лучше любой другой женщины. Они не просто подходили друг другу. В мыслях, ощущениях и восприятии они дополняли друг друга, совпадали их эмоциональный и физический циклы. Уже давно такого с ним не было. Точнее, полтора года. Со времени смерти Линды. А ведь он и не надеялся встретить такого близкого человека. Какое это счастье — не быть одиноким. — Почти приехали, да? — спросила Ребекка. — Осталось минуты две. — Джек, подавшись вперед, нервно всматривался в заснеженную дорогу через маленький кусочек чистого стекла. «Дворники», все в ледяной коросте, шумно скребли по нему, с каждым движением делая свою работу хуже и хуже.* * *
Лавелль поднялся с кресла-качалки. Маленькие убийцы, которые вышли из ямы, сейчас подкрадывались к детям Доусона. Настало время устанавливать с ними колдовские связи. Не включая света, Лавелль подошел к комоду, открыл один из верхних ящиков и вытащил оттуда горсть шелковых ленточек. Подошел к кровати, положил на нее ленты и быстро сбросил с себя всю одежду. Обнаженный, он сел на край кровати и обвязал пурпурной ленточкой правую лодыжку, а белой — левую. Даже в полной темноте он без труда различал цвета. Длинную алую ленту Лавелль обернул вокруг груди, прямо над сердцем, желтую обвязал вокруг лба, зеленую — вокруг правой кисти, черную — вокруг левой. Ленты олицетворяли связи Бокора с существами из ямы, соединяя его с ними. Контакт устанавливался сразу же по завершении ритуала. Он не собирался полностью контролировать действия этих дьявольских созданий, не смог бы этого сделать, даже если бы захотел. Покинув яму и устремившись за жертвами, они руководствовались собственными соображениями и прихотями. Но, совершив убийство, возвращались в яму. Вот и весь контроль, которым обладал Лавелль в отношении них. Ритуал с лентами лишь приобщал Бокора к собственно убийству, подсоединял его к этим тварям нервными окончаниями. Он мог видеть их глазами, слышать их ушами, ощущать все, как они. Когда их острые когти вопьются в тело Дэйви Доусона, и его руки разорвут плоть мальчика. Когда их клыки вонзятся в шею Пенни, и у Лавелля на языке будет железистый привкус ее крови. Подумав об этом, он задрожал от возбуждения. Если рассчитано все верно, то Джек Доусон должен оказаться в доме Джэмисонов именно тогда, когда его детей будут разрывать на куски. Детектив должен приехать в тот момент, когда существа-убийцы накинутся на Пенни и Дэйви. Хотя Доусон и попытается их спасти, он тут же поймет, что отогнать маленьких тварей от их жертв или убить невозможно. Он будет беспомощно смотреть, как драгоценная кровь его детей брызгами летит на него. Это будет верх наслаждения. Лавелль сладострастно вздохнул. От предвкушения острого удовольствия его даже передернуло. На ночном столике он нашел бутылочку с кошачьей кровью, обмакнул в нее два пальца и поставил по алой точке на каждой щеке. Еще обмакнул пальцы и намазал кровью свои губы. После этого той же кошачьей кровью нарисовал простое «веве» на обнаженной груди. Лежа на спине, Лавелль вытянулся во весь рост. Пристально глядя в потолок, он начал тихо напевать. Вскоре его душа и тело перенеслись в другое место. Нервные связи с маленькими убийцами установил он удачно, и они заработали. Лавелль оказался в вентиляционной системе дома Джэмисонов метрах в десяти от решетки, выходившей в гостевую комнату. До цели маленьким существам оставалось только два поворота по вентиляционному ходу. Дети были уже рядом. Девочка была совсем близко. И маленькие хищники, и он ощущали ее присутствие. Близко. Очень близко. Еще один поворот по трубе, затем прямо, затем еще один поворот. Близко. Время пришло.* * *
Стоя на шкафчике, вглядываясь в темноту, Пенни услышала вдруг свое имя. Оттуда, из стены, из вентиляционной системы. Голос был хриплый, жестокий. У нее перехватило дыхание, она словно онемела. — Пенни? Пенни? Она кубарем слетела со шкафа, подбежала к Дэйви, обняла его и встряхнула. — Проснись, Дэйви, проснись! Он проспал не больше получаса, но глубоко ушел в сон. — Что? А? Пенни крикнула: — Идут! Они идут! Надо побыстрее одеться и выбираться отсюда. Быстрее! Они идут! И она стала звать тетю Фэй.* * *
Джэмисоны жили в двенадцатиэтажном многоквартирном доме. Улицу, на которой он стоял, еще не чистили от снега. Джек медленно проехал по ней метров двадцать, но затем машина попала в сугроб, образовавшийся на дорожной выбоине. Джек испугался, что они застряли: под колесами и вокруг лежал двадцатисантиметровый слой снега. Помня только что полученный урок, он осторожно дал задний ход, потом передний, снова задний, снова передний. Раскачав машину, Джек выбрался из сугроба. Проехав две трети подъездной дороги, он нажал на тормоза, и машину пронесло прямо к нужному дому. Он распахнул дверцу. Ледяной ветер ударил ему в лицо, словно паровой молот. Джек пригнул голову и, обойдя машину, направился к тротуару. Ветер швырял в него острыми кристалликами снега, и он двигался почти вслепую. Когда Джек поднялся по ступенькам и распахнул стеклянную дверь вестибюля, Ребекка была уже там. Показав полицейский значок и удостоверение изумленному консьержу, она сказала: — Полиция. Швейцар, пожилой дородный мужчина, с волосами такими же седыми, как снег на улице, сидел за столом между двумя лифтами, потягивая кофе. Спасаясь от метели, он устроился вполне уютно. Наверное, это был дневной швейцар, подменявший ночного, или новенький, потому что никогда раньше, приезжая к Джэмисонам забирать детей, Джек его не видел. Швейцар спросил: — Что такое? Что случилось? В этом доме не привыкли к тому, чтобы что-нибудь случалось. Дом был первоклассным по всем параметрам. Даже сама мысль, что возможна какая-то неприятность, заставила швейцара побледнеть, и цвет его лица сравнялся с цветом волос. Джек нажал на кнопку вызова лифта и бросил: — Мы едем в квартиру Джэмисонов, одиннадцатый этаж. — Я знаю, на каком этаже они живут. — Швейцар вскочил из-за стола, чуть не опрокинув кофе. — Но что слу… Один из лифтов спустился вниз, и двери раскрылись. Джек и Ребекка вошли в кабину. Джек крикнул швейцару: — Принесите контрольный ключ! Господи, хорошо бы он нам не понадобился! Было ясно, что ключ им понадобится лишь в том случае, если в квартире им не откроют. Двери лифта сомкнулись. Из внутреннего кармана плаща Джек вынул револьвер. Ребекка тоже достала свой пистолет. Светящееся табло в лифте показывало, что они уже на третьем этаже. Глядя на «смит и вессон», Джек неуверенно произнес: — Доминику Карамацца оружие не помогло. Четвертый этаж. Ребекка постаралась приободрить его: — Сейчас оно нам не понадобится. Мы приехали раньше Лавелля. Но Джек не слышал в ее голосе обычной уверенности. И знал почему: дорога к Джэмисонам заняла слишком много времени. Мало шансов на то, что они опередят Лавелля. Шестой этаж. — Черт! Почему лифты в этом доме так медленно ходят? — чуть не закричал Джек. Седьмой этаж. Восьмой. Девятый. — Быстрее, дьявол тебя забери! — скомандовал он лифту, будто надеялся, что машина выполнит его требование. Десятый этаж. Одиннадцатый. Дверцы лифта расползлись в стороны, и Джек выскочил на лестничную площадку. Ребекка была рядом. Холл одиннадцатого этажа выглядел таким привычно тихим, что у Джека затеплилась надежда. Господи! Ну пожалуйста, Господи! На этом этаже было всего семь квартир. Джэмисоны занимали одну из двух ближайших. Джек подошел к двери и встал с одной стороны. Правую руку с зажатым револьвером он прижал к плечу, на уровне своего лица. Дуло было направлено вверх, но это сейчас. Ребекка с другой стороны двери стояла в такой же позе. Только бы они были живы! Только бы были живы! Пожалуйста! Его глаза встретились с глазами Ребекки. Она кивнула. Готовы. Джек постучал в дверь.* * *
Лежа на кровати в темной спальне, Лавелль громко и часто дышал, словно животное. Руки его, прижатые к бокам, с сомкнутыми пальцами, оставались неподвижными, но временами вдруг начинали дергаться, резко ударяя по воздуху, или впивались в простыню. Время от времени тело его содрогалось в конвульсиях, как от сильного разряда электрического тока, и как бы взмывало вверх. Затем обрушивалось на кровать с такой силой, что пружины матраца возмущенно скрипели. Сам Лавелль не замечал этих конвульсий — он был в глубоком трансе. Глядя вверх широко раскрытыми глазами, почти не моргая, видел он совсем не то, что было у него перед глазами. Не потолок спальни. Его взор был далеко отсюда, в другой части города, и все, что там происходило, он видел глазами маленьких тварей-убийц, будучи связан с ними чувственными контактами. Вот он зашипел. Застонал. Заскрежетал зубами. Выгнулся дугой, содрогнулся. Снова замер на кровати. Потом судорожно вцепился в простыню. Он шипел таксильно, что вокруг него веером разлетались капельки слюны. Вдруг какой-то импульс скрутил его ноги, пятки бешено заколотили по матрацу. Он глухо зарычал. Некоторое время снова лежал неподвижно. Затем задышал громко, принюхался, опять зашипел. До него донесся запах девочки. Пенни Доусон, прекрасный запах — сладкий, свежий, нежный. Он хотел ее.* * *
Фэй открыла дверь, увидела револьвер Джека, осторожно посмотрела на него и сказала: — Господи, а это зачем? Ты знаешь, как я ненавижу пистолеты. Сейчас же убери его. По тому, как она отступила в сторону, чтобы впустить их в квартиру, Джек понял, что они успели, с детьми все в порядке. Он вздохнул с явным облегчением, но все же спросил: — Где Пенни? Где Дэйви? С ними все в порядке? Фэй посмотрела на Ребекку, и на ее лице появилась улыбка. Но тут до нее дошел смысл сказанного Джеком, и она нахмурилась. — В порядке? Конечно, все в полном порядке. С ними все просто прекрасно. Может, у меня и нет своих детей, но я прекрасно знаю, как о них заботиться. Неужели ты думаешь, что я позволю, чтобы что-то произошло с этими маленькими обезьянками? Джек, я не… Не обращая внимания на водопад слов, Джек нервно спросил: — Кто-нибудь следил за вами по дороге из школы? — К чему все эти пустые предостережения? — требовательным тоном спросила Фэй. — Они не пустые. Я считал, что объяснил все достаточно ясно. Кто-нибудь пытался следить за вами? Ты проверялась, как я велел тебе, Фэй? — Конечно, конечно, конечно. Я проверялась. Никто не пытался за нами увязаться. И я не думаю… Они прошли из прихожей в гостиную. Джек огляделся и не увидел детей. — Фэй, черт подери, где же они? — Ради Бога, не говори со мной подобным тоном. Что это ты… — Фэй, черт подери! Она отшатнулась от него. — Они в комнате для гостей, с Кэйтом, — с волнением в голосе объяснила она. — Я уложила их в четверть десятого, как и положено. Мы думали, что они уже заснули, но вдруг раздался крик Пенни… — Крик? — Она сказала, что в комнате крысы. Но у нас в квартире не может быть никаких… Крысы! Джек рванулся через гостиную, пробежал по небольшому коридору и влетел в спальню для гостей. Настольные лампы, торшер в углу и верхний свет были включены. Пенни и Дэйви стояли рядом у одной из кроватей, все еще в пижамах. Увидев Джека, они радостно закричали: — Папа! Папа! Подбежали и обняли его. Джек был настолько взволнован тем, что нашел детей живыми и невредимыми, настолько благодарен за это судьбе, что у него перехватило дыхание. Он просто сжал детей в объятиях. Хотя вся комната была залита светом, Кэйт Джэмисон держал в руке электрический фонарик, направляя луч света в темноту за решетку вентиляционного отверстия. Он обернулся к Джеку, сильно хмурясь, и сказал: — Там творится что-то непонятное. Я… Пенни, уцепившись за Джека, сказала: — Это гоблины! Они идут, папа! Они хотят расправиться со мной и Дэйви! Не позволяй им этого, не позволяй! Я чувствовала их появление, боялась, очень боялась, а теперь они уже совсем близко! Слова у нее цеплялись друг за друга, и было трудно разобрать, что она говорит. И тут девочка разрыдалась. Джек еще крепче прижал ее к себе, гладил по волосам, успокаивал: — Ну, все, все, перестань! Из гостиной появились Фэй и Ребекка. Ребекка держалась со свойственным ей хладнокровием и деловитостью. Она прошла к шкафу и стала вынимать оттуда одежду детей. Фэй снова заговорила: — Сначала Пенни закричала, что в комнате крысы. Затем она понесла что-то про каких-то гоблинов. Почти в истерике. Я постаралась объяснить, что это был только ночной кошмар. — Это не был ночной кошмар! — закричала Пенни. — Конечно, был. Пенни быстро стала рассказывать: — Они следили за мной весь день. А вчера ночью один из них был в нашей комнате, папа. И сегодня в школьном подвале целая куча этих тварей… Это они испортили завтрак Дэйви! И мои книги тоже. Я не знаю, что им нужно от нас, но они охотятся за нами, и они — настоящие гоблины! Настоящие, я клянусь! Джек ответил: — Хорошо. Про это ты расскажешь мне подробнее, но немного погодя. А теперь нужно убираться отсюда. Подошла Ребекка с одеждой. Джек сказал: — Одевайтесь. Не снимайте пижамы, надевайте верхние вещи прямо на них. Фэй попыталась вмешаться. — Господи, что за… Джек решительно заявил: — Нам надо как можно быстрее увести детей отсюда. Как можно быстрее! — Ты говоришь так, будто действительно веришь в эту сказку про гоблинов, — сказала ошарашенная Фэй. — Я не верю в гоблинов, но крысы у нас, оказывается, действительно есть, — задумчиво проговорил Кэйт. Фэй обиженно запротестовала: — Нет, нет, нет! У нас просто не может быть крыс. В таком доме! — Они в вентиляционной системе, — пояснил Кэйт, — я сам их слышал. Вот почему я копался там с фонариком, когда ты влетел сюда, Джек. — Тсс, — сказала Ребекка, — слушайте! Дети быстро натягивали на себя одежду. Все замолчали. Сперва Джек ничего не слышал. Затем уловил странный шипяще-скрипяще-бормочущий голос. Черт, это не могли быть крысы! В стене что-то заскреблось. Они услышали царапающий звук, затем отчетливое постукивание, поскрипывание, глухие удары… — О Господи! — испуганно выдохнула Фэй. Джек взял у Кэйта фонарик, подошел к шкафу и направил луч света на решетку. Но за решеткой царила темнота. Еще глухой удар в стену. Опять шипение и урчание. Джек почувствовал, как по спине у него поползли мурашки. Неожиданно из-за решетки раздался хриплый, абсолютно нечеловеческий, угрожающий голос: — Пенни? Дэйви? Пенни? Фэй истерично вскрикнула и отпрянула назад. Даже Кэйт, высокий и крепкий мужчина, побледнел и попятился от решетки. — Что за чертовщина? Джек спросил у Фэй: — Где куртки и ботинки детей? Перчатки? — А… а… в кухне. С-сушатся. — Принеси все сюда. Фэй кивнула, но не двинулась с места. Джек положил руку ей на плечо. — Возьми их куртки, ботинки, перчатки. Встретимся у входной двери. Она никак не могла оторвать взгляд от решетки. Джек встряхнул ее. — Фэй! Поторопись! Она отскочила в сторону, как будто Джек ударил ее по лицу, развернулась и выбежала из спальни. Пенни, уже почти одетая, держалась молодцом и, хотя была напугана, не подавала виду. Дэйви сидел на краешке кровати, стараясь не плакать, но все равно плакал, размазывая слезы по лицу. Он, как бы извиняясь, смотрел на Пенни, пытаясь подражать ей. Его ноги свешивались с кровати, и Ребекка торопливо завязывала ему шнурки. Из-за решетки опять послышалось: — Дэйви? Пенни? — Джек, ради Бога, что же здесь все-таки происходит? — нервно спросил Кэйт. Не отвечая, поскольку времени на разъяснения не было, Джек снова направил луч фонарика в темноту за решеткой и заметил там какое-то мимолетное движение. Что-то серебристое. Оно горело, как белый огонь, затем мигнуло и исчезло. На его месте возникло что-то темное, навалилось на решетку, как бы стараясь выдавить ее, но, почувствовав ее прочность, исчезло. Джек не успел рассмотреть существо, чтобы составить о нем хотя бы общее представление. Кэйт кивнул головой вверх. — Джек! Винт решетки! Джек уже успел это заметить: винт вращался, медленно выходя за край решетки. Существо в вентиляционной трубе поворачивало винт, постепенно ослабляя решетку. Работая, оно что-то бормотало, шипело и ворчало. Джек, стараясь придать голосу уверенный тон, сказал: — Пошли! Давайте, давайте! Надо быстро убираться отсюда. Винт упал на пол. Решетка повисла на втором — теперь уже единственном — винте. Ребекка подтолкнула детей к двери. Из отверстия появилось что-то невообразимое. Некое существо повисло на стене вопреки всем законам земного притяжения. Как будто на ногах у него имелись особые присоски, хотя ничего подобного на них не было. — Господи! — только и выговорил ошарашенный Кэйт. Джек содрогнулся, представив, как это маленькое чудовище прикасается к Дэйви или Пенни. Размером с крысу, по форме существо тоже напоминало крысу: узкое и длинное тело с большими мускулистыми плечами. Но на этом сходство с крысой кончалось, и начиналось что-то из области ночных кошмаров. На существе не было ни единого волоска. Его гладкая кожа была серо-зелено-желтого цвета и казалась студенистой. Хвост лишь отдаленно напоминал крысиный: при длине в четверть метра у своего основания он имел в диаметре до двух сантиметров и состоял из секций, подобно хвосту скорпиона, хоть и без жала на конце. Лапы тоже отличались от крысиных: по сравнению с туловищем они были несоразмерно большими, имели по три пальца с длинными загибающимися когтями, а на задней их стороне торчали явно острые, многожальные шпоры. Голова выглядела еще ужаснее: плоский череп весь состоял из острых углов, неестественных выпуклостей и впадин, словно его вылепил начинающий скульптор. Длинная и заостренная морда одновременно напоминала волка и крокодила. Чудовище открыло пасть и зашипело, демонстрируя множество острейших зубов, посаженных в челюстях под разными углами. Из пасти торчал такой же немыслимо длинный заостренный язык цвета сырой печенки; конец у него был раздвоен и двигался быстро, как у змеи. Но больше всего Джека ужаснули глаза этого существа — без зрачков, без сетчатки. Пустые глазницы в уродливом черепе животного, отверстия, из которых струился холодный и яркий огонь, исходя словно из мозга твари. Этого не могло быть, но все же это было именно так. Чудовище не было слепым — Джек чувствовал его дьявольский взгляд так же, как он ощущал бы нож, приставленный к горлу. Именно взгляд пугал Джека больше всего — мертвенный, ненавидящий, леденящий и замораживающий душу. Глядя в эти глаза, Джек начинал чувствовать себя физически и психически больным человеком. Демонстрируя полное презрение к законам земного притяжения, тварь спокойно скользила по стене головой вперед. В тот же момент из вентиляционного отверстия появилось второе существо, ничем не напоминающее первое, — вроде бы маленький человечек, не больше тридцати сантиметров. Но человеческого в его облике было немного. Его руки и ноги напоминали конечности первой твари, с устрашающими когтями и шпорами. Та же плеснеобразная, скользкая на вид кожа, хотя и не такая зеленая, скорее, желто-серая. Под глазами у человечка были черные тени, а из ноздрей выходила какая-то ткань, похожая на жабры. На уродливой голове зубастый рот занимал пространство от уха до уха. И у него были такие же дьявольские глаза, как у крысообразного существа, хотя и меньшие по размеру. Джек заметил в руках у чудовища какое-то оружие, вроде миниатюрного копья с хорошо заточенным и блестевшим на свету острием. Он тут же вспомнил первые жертвы крестового похода Лавелля на клан Карамацца. Эти двое получили до ста колотых ран, нанесенных холодным оружием вроде перочинного ножа. Но и не ножом. Медицинские эксперты потеряли голову, буквально вся лаборатория находилась в полном замешательстве. Конечно, никому из судмедэкспертов и в голову не могло прийти, что убийства совершили адские твари ростом не более трети метра, вооруженные карликовыми копьями. Демоны черной магии? Гоблины? Гремлины? Что за существа? Может, Лавелль делал их из глины и потом каким-то образом оживлял? А может, создавал их с помощью заговоров, заклинаний, дьявольских молитв так же, как вызывают демонов последователи Сатаны? И были ли это вообще демоны? Откуда они взялись именно здесь? Существо, похожее на карлика, оттолкнулось от вентиляционного выхода, прыгнуло на шкаф, ловко и упруго приземлилось на ноги. Глядя мимо Джека и Кэйта, оно произнесло: — Пенни? Дэйви? Джек вытолкнул Кэйта в холл, выскочил за ним следом и захлопнул дверь в спальню. Тут же одно из существ, скорее всего, человекообразная тварь, стало отчаянно скрестись в закрытую дверь. Дети были уже в гостиной. Джек и Кэйт бросились за ними следом. Фэй закричала: — Джек! Скорее! Они вылезают из вентиляционного отверстия здесь! «Стараются окружить нас, — понял Джек. — Господи, да они же везде. Весь этот чертов дом кишит ими. Они повсюду, у нас ничего не получится…» Джек постарался прервать поток этих мрачных мыслей. Он знал, что пессимизм и страх еще никому не помогали, но наносили большой вред, парализуя волю тогда, когда она больше всего нужна. В гостиной Фэй и Ребекка торопливо помогали детям надеть куртки и ботинки. Вдруг они услышали шипение, хрипы и жадное бессловесное бормотание, исходившее из вентиляционной решетки над длинным диваном в гостиной. В отверстиях решетки блестели серебристые глаза, особенно яркие на фоне тьмы вентиляционной трубы. Дэйви надел только один ботинок, на второй времени уже не оставалось. Джек взял мальчика на руки и сказал: — Фэй, возьми второй ботинок, и пошли. Кэйт в прихожей уже доставал из шкафа свое пальто и пальто жены. С одеждой в руках он схватил Фэй и вытянул ее вслед за собой из квартиры. Пенни вскрикнула. Джек обернулся в сторону гостиной, инстинктивно прижав к себе Дэйви. Решетка над диваном рухнула на пол, из отверстия стали появляться какие-то тени. Но Пенни испугало не это. Прямо на них из кухни двигался еще один представитель подземного мира. Эта тварь отличалась от других своей окраской и размерами — существо болезненного желто-белого цвета с пупырышками по всему туловищу, скользкое и желеобразное, было раза в три крупнее собратьев. Тварь чем-то напоминала игуану, хотя и была тоньше настоящей ящерицы. Это метровое порождение дурных снов имело хвост, голову и морду ящерицы, но от игуаны его отличали пылающие огнем глаза и шесть ног. И тело — такое узкое и гибкое, что, казалось, его можно было завязать в узел. Именно тело позволяло такому крупному существу беспрепятственно двигаться по трубам вентиляционной системы. К тому же у этого создания были крылья, как у летучей мыши, они устрашающе хлопали и трепетали. Тварь переступила порог гостиной. Хвост извивался по полу позади нее, пасть раскрылась, и чудище победно заклокотало. Быстро опустившись на одно колено, Ребекка выстрелила из своего револьвера. Она была буквально в паре метров от существа и не могла промахнуться. И не промахнулась? Пуля сильно ударила по цели, удар подбросил тварь в воздух и отшвырнул в сторону кухни, где она с шумом плюхнулась на пол. Пуля должна была разорвать ее на мелкие куски, но ничего подобного не произошло. Пол и стены кухни должна была оросить кровь или другая жидкость, которая текла в жилах твари… Но и этого не было. Упав на пол, тварь несколько мгновений полежала на спине, а потом перевернулась и встала на ноги. Видимо, она была лишь контужена выстрелом, а других повреждений не получила. Сейчас она вертелась на одном месте, преследуя собственный хвост. В это время взгляд Джека упал на другое существо, возникшее из вентиляционного выхода над диваном и повисшее на стене. Размером с крысу, оно совсем не напоминало грызуна, а похоже было на птицу, только без оперения. С яйцевидной головой, насаженной на длинную тонкую шею, как у птенца страуса, с заостренным клювом, долбившим пустоту, с яркими огненными глазами, меньше всего походившими на птичьи. Не были птичьими и ноги — они напоминали толстые щупальца. Один взгляд на этого отвратительного мутанта вызвал у Джека приступ тошноты. Позади него из отверстия появился такой же устрашающий собрат, но имеющий свои отличия. — Пистолетами с ними не справиться, — сказал Джек. Чудовище, напоминающее игуану, постепенно приходило в себя. Через несколько секунд оно сможет действовать и бросится на них. Из кухни в столовую торопились еще два существа, со стороны спальни и ванных комнат раздался странный визг. Нечто, похожее на карлика, стояло в конце гостиной, издавая воинственные звуки и подняв копье. Вдруг оно стремительно пересекло разделявший их ковер и рвануло прямо на них. Следом двигалась целая толпа небольших, но ужасных существ — причудливая смесь рептилий, пресмыкающихся, птиц, кошачьих, грызунов и гигантских насекомых. В этот момент Джек понял, кто это. Исчадия ада, демонические создания, вызванные колдовством Лавелля из глубин вечного мрака, поскольку ниоткуда больше, кроме ада, возникнуть эти ужасные твари не могли. Шепча, бормоча и рыча что-то, они наседали друг на друга, сшибали друг друга с ног в своем стремлении добраться до Пенни и Дэйви. Среди всех этих существ не было хотя бы двух абсолютно похожих, но все они имели как минимум две общие черты: глаза, пышущие серебристо-белым огнем, как в смотровой щели печи, и убийственно-острые маленькие зубы. Создавалось впечатление, будто ты заглянул в ворота ада. Джек втолкнул Пенни в прихожую. Держа на руках Дэйви, вслед за дочерью он выбежал в коридор одиннадцатого этажа. Джек и Пенни поспешили к Кэйту и Фэй, которые вместе с седовласым лифтером стояли у раскрытых дверей одного из лифтов. Ребекка оставалась еще в квартире. Джек услышал, что она трижды выстрелила. Он тут же остановился, обернулся и хотел пойти к ней, но на руках у него был Дэйви. — Папа, быстрее! — кричала Пенни, держа створки дверей лифта. — Папа, идем, идем! — звал Дэйви, прижимаясь к отцу еще сильнее. Наконец Ребекка выскочила из квартиры целая и невредимая и еще раз выстрелила в сторону прихожей. Затем резко закрыла за собой дверь. Когда Джек с сыном на руках добежал до лифта, Ребекка смогла догнать их. Задыхаясь, Джек опустил мальчика на пол. Вместе с седым швейцаром их в кабине было семеро. Кэйт нажал на кнопку «Вестибюль». Двери не закрывались. — Сейчас они нас догонят, сейчас догонят! — закричал Дэйви, высказывая вслух то, чего боялся каждый из них. Кэйт снова нажал на кнопку «Вестибюль» и не отпускал палец. Двери в конце концов закрылись. Но от этого им не стало спокойнее. Сейчас, когда они оказались замурованными в кабине лифта, Джек подумал, что разумнее было бы воспользоваться лестницей. А если эти дьяволы остановят лифт между этажами? Что, если они смогут проникнуть в шахту и напасть на кабину? Если эта чудовищная орда найдет способ проникнуть внутрь лифта? Господи, если… Лифт пошел вниз. Джек поднял взгляд на потолок кабины. Аварийный люк. Он был выходом. Но мог быть и входом. Внутренняя поверхность люка была абсолютно гладкой, никаких крючков или ручек. Люк, видимо, можно было либо вытолкнуть наружу изнутри, либо же его открывали снаружи спасатели. Если так, то с другой стороны люка должна быть специальная рукоятка, что облегчит работу исчадиям ада, если они нападут на кабину. Тогда плохо, без ручки люк им закрытым не удержать. «Господи! Сделай так, чтобы они не догнали нас!» Лифт бесконечно медленно двигался вниз. Десятый этаж… Девятый… Пенни взяла ботинок из рук Фэй и стала надевать его брату. Восьмой этаж… Надтреснутым и слегка дрожащим, но привычным повелительным тоном Фэй вопросила: — Что это было, Джек? Что за твари были в вентиляционной системе? — Колдовство, — односложно сказал Джек, не отрывая взгляда от цифрового табло над дверками лифта. Седьмой этаж… — Это что, шутка такая, да? — спросил швейцар. Джек пояснил, обращаясь к Фэй: — Это злые духи черной магии, но не проси меня, пожалуйста, объяснять, как они попали сюда. Несмотря на потрясение после всего увиденного и услышанного в собственной квартире, Фэй говорила в привычном стиле. — Ты что, с ума сошел? — Я бы желал, чтобы дело было в этом. Шестой этаж… — Никаких демонов, никакой черной магии не существует, как не существует и никаких… — начала было Фэй. — Заткнись, — сказал Кэйт, — ты не видела их. Ты вышла из спальни прежде, чем они стали вылезать из вентиляционного хода. Пятый этаж… Пенни вступила в разговор: — И ты убежала из квартиры раньше, чем они появились в гостиной. Ты просто не видела их, поэтому и говоришь так. Четвертый этаж. Швейцар спросил Фэй: — Миссис Джэмисон, как хорошо вы знаете этих людей? Они что?.. Не обращая на него внимания, Ребекка сказала Фэй и Кэйту: — Джек и я работаем над странным делом. Убийца-маньяк заявляет, что уничтожает свои жертвы с помощью черной магии. Третий этаж. «Может, нам и удастся прорваться, — подумал Джек. — Может, мы не застрянем между этажами. Может быть, даже выберемся отсюда живыми». А может быть, и нет. Фэй повернулась к Ребекке. — Вы-то, конечно, не верите в черную магию? — Раньше не верила. Теперь… да! Вдруг Джека словно ударило: а что, если вестибюль уже кишит маленькими гадкими существами? Когда двери лифта откроются, эта страшная орда может ворваться в кабину, кусая всех острыми зубами и разрывая на куски заточенными когтями. — Если это шутка, то я ее не понимаю, — сказал швейцар. Второй этаж. Внезапно Джеку захотелось, чтобы лифт не останавливался, не раскрывался в вестибюле, чтобы они так и опускались все ниже, час за часом, в бесконечность. Вестибюль. Пожалуйста, нет! Двери лифта медленно раскрылись. Вестибюль был абсолютно пуст. Они выскочили из кабины, и Фэй спросила: — Куда теперь? Джек ответил: — У нас с Ребеккой есть машина… — По такой погоде… — У нас на колесах цепи. Мы садимся в машину и увозим отсюда детей. Будем ездить, пока не решим, как действовать дальше. — Мы едем с вами, — сказал Кэйт. — Нет. С нами опасно. Кэйт возразил: — Но мы же не можем вернуться наверх, к этим демонам, дьяволам или кто они там такие, черт их возьми. — Крысы, — решительно сказала Фэй, решив, видимо, что с наличием в доме грызунов смириться легче, чем с проявлениями сверхъестественного. — Просто несколько крыс. Конечно, мы сейчас вернемся домой и расставим ловушки, чтобы уничтожить грызунов. По правде говоря, чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Не слушая Фэй и обращаясь к Кэйту, Джек сказал: — Я не думаю, что эти чертовы твари тронут тебя и Фэй. По крайней мере, пока вы не стоите между ними и детьми. Они опасны, пожалуй, только для тех, кто пытается защитить детей. Вот почему я забираю их от вас. Но на вашем месте я бы все равно не возвращался. Думаю, несколько тварей где-нибудь там затаились. — Да, сегодня меня туда и на аркане не затащат, — поддержал его Кэйт. — Чепуха, — фыркнула Фэй, — всего лишь несколько крыс. Кэйт взорвался: — Черт возьми, Фэй, но, по-моему, это не крыса звала Пенни и Дэйви из-за решетки! Услышав напоминание о голосе из вентиляционной трубы, Фэй побледнела. Все задержались у дверей. — Кэйт, у вас есть друзья, где бы можно было переночевать? — спросила Ребекка. — Конечно. Один из моих деловых партнеров, Энсон Дорсет, живет в этом же квартале, на другой стороне улицы. Мы вполне могли бы переночевать у Энсона и Франсин. Джек толкнул входную дверь. Ветер попытался закрыть ее, выстрелив в вестибюль порцией снега. Борясь с его порывами, отворачивая лицо от жалящих снежинок, Джек с усилием удерживал дверь, пока остальные не вышли на улицу: сперва Ребекка, за ней — дети, потом Фэй и Кэйт. Внутри остался только швейцар. Нахмурившись и почесывая седую голову, он наблюдал за Джеком. — Эй, подождите, а как со мной? — С вами? Вам ничего не угрожает, — ответил Джек, выходя следом за всеми. — Я имею в виду, что это была за стрельба наверху? Джек обернулся к мужчине и сказал: — Об этом не волнуйтесь. Вы ведь видели наши удостоверения? Мы — полицейские. — Да, но вы же в кого-то попали? — Нет, ни в кого, — ответил Джек. — В кого же вы тогда стреляли? — Ни в кого. Джек вышел в метель, и дверь за ним с шумом захлопнулась. Швейцар припал лицом к стеклу, наблюдая за ними. В эту минуту он был похож на толстого школьника, которого не приняли в игру.* * *
Ветер бил наотмашь, словно кувалдой. Снежинки впивались в кожу, как гвоздики. Метель трудилась изо всех сил, наметая заносы. Когда Джек спустился со ступенек крыльца, Фэй и Кэйт были уже на приличном расстоянии от дома. Еще несколько шагов — и они скрылись в фосфоресцирующей пелене летящего снега. Ребекка с детьми стояла у машины. Стараясь перекричать ветер, Джек скомандовал: — Давайте, давайте, быстрее внутрь! Сматываемся отсюда! Вдруг он понял, что что-то не так. Схватив дверную ручку, Ребекка не поворачивала ее, а как в зачарованном сне уставилась внутрь машины. Джек подошел к ней вплотную. Заглянув через стекло, он все понял. Два существа. Оба на заднем сиденье, оба в тени, и рассмотреть их было бы трудно, если бы не горящие неземным огнем глаза. Без сомнения, они из той же компании, что пробралась в дом к Джэмисонам. Если бы Ребекка сразу открыла дверцу, твари наверняка напали бы на нее, опрокинули, разорвали ей горло и вырвали глаза из глазниц. И Джек не успел бы даже вмешаться. — Назад! — скомандовал он. Все четверо отошли от машины на тротуар. Кроме них на морозной улице никого не было — ни снегоуборщиков, ни машин, ни прохожих. Даже швейцар больше не выглядывал из окна. Джек подумал, что никогда еще он не был таким одиноким в самом сердце Манхэттена. — Что теперь? — нервно спросила Ребекка, глядя на машину, одной рукой сжимая руку Дэйви, а другой — пистолет во внутреннем кармане пальто. — Пойдем, — ответил Джек. Он был недоволен своим ответом, но ничего лучше придумать не мог — настолько был испуган. «Главное — не паниковать!» — сказал он себе. — Куда? — спросила Ребекка. — По направлению к магистрали. Хладнокровнее. Спокойнее. Паника погубит нас. — Туда, куда пошел Кэйт? — Нет, к Третьей авеню, это намного ближе. — Господи, только бы там было побольше народу! — взмолилась Ребекка. — Может, встретим полицейскую машину. — Я думаю, безопаснее находиться среди людей, на улице, — подала голос Пенни. — Я тоже так думаю, дорогая, — согласился с ней Джек. — Ну, пойдемте! И держитесь ближе друг к другу. Пенни взяла Дэйви за руку. Нападения они не ожидали. Неожиданно из-под их машины, издавая противные шипящие звуки, вылетело существо с горящими глазами. Темное пятно на снегу, быстрое и стремительное. Слишком быстрое. Как ящерица. Ничего больше Джек не увидел при неярком свете уличных фонарей, в крутящейся снежной пелене. Он схватился за револьвер, но вспомнил, что пули бессильны против этих тварей, а стрелять на таком маленьком расстоянии нельзя… Меньше секунды ушло у твари на то, чтобы оказаться рядом с ними, среди них. Она рычала и плевалась. Дэйви закричал и попытался убежать с ее пути, но тварь прыгнула ему на ботинок. Дэйви попытался стряхнуть ее, пнул ногой, но не тут-то было. Джек быстро схватил Пенни и поставил ее чуть в стороне, у стены жилого дома, где она присела, задыхаясь от страха. Существо тем временем уже карабкалось по ноге Дэйви. Мальчик замолотил по ноге руками, сделал шаг вперед, споткнулся и отшатнулся назад. Закричал, поскользнулся, упал — и все буквально за пару секунд. Джеку казалось, что он в бредовом сне, что время сместилось. Он ринулся к сыну, но воздух стал густым, как сироп. Ящерица уже оказалась на груди Дэйви, из стороны в сторону молотя хвостом и пытаясь разорвать толстую куртку, чтобы вонзить ему в живот свои когтистые лапы. Широко раскрытая пасть почти касалась лица Дэйви. — Нет! — Ребекка успела к мальчику раньше отца. Она оторвала отвратительную тварь от груди мальчика, и существо, взвизгнув, укусило ее за руку. Вскрикнув от внезапной боли, Ребекка швырнула ящерицу на землю. Пенни кричала: «Дэйви! Дэйви!» Прошла еще секунда. Дэйви едва встал на ноги, как тварь снова метнулась к нему. На этот раз Джек успел перехватить ее. Еще в лифте, по пути к Джэмисонам, он снял перчатки, чтобы было удобнее пользоваться пистолетом. Чувствуя под руками мерзкую осклизлость кожи, он оторвал убийцу от Дэйви. Куртка мальчика треснула под когтями чудовища, теперь Джек держал существо на расстоянии вытянутой руки. Тикнула еще секунда. На ощупь тварь была отвратительно холодной и липкой, хотя Джек, помня, видимо, об огне, который вырывался из ее глазниц, ожидал, что она будет горячей. Тварь отчаянно извивалась. Тик! — еще секунда. Она пыталась вывернуться из руки Джека. Она была сильной, но Джек был сильнее. Тик! Существо било по воздуху когтистыми лапами. Тик, тик, тик, тик, тик — отсчитывало свои секунды время. Ребекка крикнула: — Почему оно не пытается укусить тебя? — Не знаю, — с трудом выговорил Джек. — Чем ты отличаешься от других? — Не знаю. Странно, тот же вопрос, что возник в разговоре с Ником Ирволино, когда в патрульной машине возвращались они из лавки Карвера Хэмптона в полицейское управление. И тут он подумал, что… У ящероподобного исчадия на животе оказалась вторая пасть, утыканная острыми зубами. Пасть эта то открывалась, то закрывалась, но кусать Джека, судя по всему, не собиралась, как и первая пасть. — Дэйви, с тобой все в порядке? — спросил Джек. — Убей его, папа, — прошептал мальчик. Он был очень испуган, хотя и не пострадал. — Пожалуйста, убей его! Пожалуйста! — Если бы я только мог сделать это! Маленькое чудовище извивалось изо всех сил, пытаясь выскользнуть из руки Джека. Прикосновение к твари было ему отвратительно, но он сжал ее еще крепче, погрузив пальцы в холодное липкое тело. — Ребекка, что у тебя с рукой? — Царапина. — А как ты, Пенни? — Я… в порядке. — Тогда вы втроем уходите отсюда. Бегите к магистрали. — А как же ты? — спросила Ребекка. — Я подержу эту тварь, чтобы вы успели уйти. Ящерица опять стала вырываться. — Потом я закину ее как можно дальше и побегу к вам. — Мы не можем оставить тебя одного, — сказала Пенни с отчаянием. — Только на пару минут, я вас догоню. А теперь вперед, чтобы не встретиться еще с каким-нибудь исчадием. Бегите! Они побежали. Дети впереди, Ребекка за ними, бежали, вздымая комья снега. Ящероподобное существо зашипело на Джека. Он заглянул в горящие огнем глаза. Внутри уродливого черепа играл огонь, переливаясь всеми оттенками белого и серебристого. И вовсе этот огонь не казался горячим. Наоборот, он выглядел холодным. Джеку вдруг захотелось ткнуть пальцем в глазницу чудовища, прямо в этот огонь. Есть ли там пламя? Или это игра воображения? И если в черепе действительно огонь, обожжет ли он Джека? Или пламя такое же холодное, каким и выглядит? Белое пламя. Брызги слюны. Холодное пламя. Шипение. Обе пасти ящерицы хватали челюстями ночной воздух. Джека так и тянуло заглянуть в этот странный огонь. Он поднес существо поближе к лицу. Внимательно всмотрелся в пустые глазницы. Завивающееся пламя. Скачущее пламя. Джеку показалось, что за ним есть еще что-то, поразительное и очень важное, что-то страшное, но почти неразличимое сквозь частые сполохи пламени. Он поднес ящерицу еще ближе. Теперь между его лицом и мордой существа оставались считанные сантиметры. Его заливал свет, исходящий из глаз бестии. Страшный холодный свет. Яркий. Завораживающий. Джек внимательно всматривался в пылающие глазницы. Языки пламени стали как бы раздвигаться, давая возможность увидеть то, что таилось за ними. Он прищурился, пытаясь рассмотреть это нечто. Он хотел открыть для себя великую тайну. Тайну, скрытую огненной завесой. Он хотел знать. Ему было это необходимо. В конце концов, должен был понять. Белые языки пламени. Пламени из снега и льда. Языки пламени, а за ними вселенская тайна. Огонь, который манил Джека. Манил… Он практически не слышал, как позади него открылась дверца машины. Глаза ящероподобного существа загипнотизировали его. Он уже почти потерял себя, отрешился от действительности. Еще несколько секунд… Но твари обманулись в своих расчетах, они открыли дверцу чуть раньше, чем надо было, и Джек чудом услышал этот звук. Он обернулся и отшвырнул ящерицу как можно дальше от себя в заснеженную темноту. Джек не стал смотреть, куда она упадет, не глянул в сторону тех, кто появился из машины. Он просто побежал. Ребекка с детьми уже добрались до магистрали. Они свернули налево за угол и скрылись из виду. Джек гигантскими прыжками понесся вслед за ними, не обращая внимания на снег, набивавшийся ему в ботинки. Сердце выпрыгивало у него из груди, от его частого дыхания воздух клубился белыми облачками. Он поскользнулся, чуть не упал, но удержался на ногах и продолжал бежать, бежать, бежать… И снова ему казалось, что это не реальная улица, а улица из ночного кошмара и нет уже для него никакого спасения.* * *
В лифте, по пути на четырнадцатый этаж, где находилась квартира Энсона и Франсины Дорсет, Фэй сказала Кэйту: — Ни слова о черной магии и всей этой ерунде. Ты меня слышишь? Они подумают, что мы просто рехнулись. Кэйт сказал: — Не знаю, черная магия это или нет, но я точно видел что-то весьма странное. — Даже не думай рассказывать об этом Энсону и Франсине. Господи, он же твой деловой партнер. Тебе еще работать и работать с ним вместе. Что же получится, если он решит, что ты — суеверный болван. У брокера должен быть стабильный имидж. Имидж банкира. Да, банкира! В брокерских конторах люди хотят видеть уверенных, консервативных людей. Только таким людям они доверят свои деньги. Ты не можешь испортить свою репутацию. К тому же это были всего лишь крысы. — Это были не крысы, я сам видел… — Именно крысы! — Мне лучше знать, что я там видел. Фэй продолжала настаивать: — Крысы! Но не станем же мы говорить Энсону и Франсине, что у нас в квартире крысы? Что они подумают о нас? Что мы живем в доме, где водятся крысы? Ведь Франсина и так посматривает на меня сверху вниз. Правда, она на всех так смотрит, считает себя чистокровной аристократкой. Так что я не дам ей ни одного лишнего повода. Клянусь, не дам. Ни слова о крысах! Мы просто скажем, что у нас произошла утечка газа. Отсюда наш дом не виден, а выходить на улицу в такую ночь они не будут. Значит, так: нам пришлось уйти из-за утечки газа. — Фэй… Она решительно добавила: — А завтра утром я начну подыскивать другую квартиру. — Но… — Я не стану жить в доме, где водятся крысы, просто не буду там жить, и все! И никто не заставит меня переменить это решение. Ты и сам должен выбраться оттуда как можно быстрее. — Но они не… — Мы продадим квартиру. Я считаю, настало время уехать из этого проклятого города. Я уже многие годы об этом думаю. И ты прекрасно это знаешь. Может быть, подыщем жилье в Коннектикуте. Я знаю, тебе не улыбается перспектива ездить оттуда на работу в такую даль, но поезд — неплохой транспорт. Но там свежий воздух, собственный бассейн, более просторное жилье за те же деньги. Неужели не здорово? Пенни и Дэйви смогут приезжать к нам каждое лето, это ведь полезно для детей. Да, решено, завтра я начинаю искать дом в пригороде. — Фэй, во-первых, завтра все будет закрыто из-за метели. — Это для меня не помеха. Вот увидишь, с раннего утра я и отправлюсь. Двери лифта раскрылись. В холле четырнадцатого этажа Кэйт сказал: — Ты не беспокоишься о Пенни и Дэйви? Я хочу сказать, ведь мы их оставили… Фэй уверенно ответила: — С ними все будет нормально. Это были всего лишь крысы. Ты же не думаешь, что крысы станут их преследовать на улице? Несколько жалких крыс не могут представлять серьезной опасности. Сейчас меня больше беспокоит их отец, пугающий детей всякой всячиной насчет черной магии. И что на него нашло? Может, он и должен поймать убийцу-психа, но колдовство не имеет к этому решительно никакого отношения. Все, что он говорил, меня не убеждает. Честно говоря, я просто не могу понять Джека, как ни стараюсь, не могу его понять. Они подошли к дверям квартиры Дорсетов. Кэйт позвонил. Фэй сказала: — Запомни, ни слова! Энсон Дорсет, похоже, ждал у двери с тех пор, как Кэйт и Фэй позвонили снизу. Он открыл дверь в тот момент, когда Фэй произносила свое последнее предупреждение. Он спросил: — Ни слова о чем? Кэйт ответил: — О крысах. Ни с того ни с сего весь наш дом вдруг оказался наполнен крысами. Фэй бросила на него уничтожающий взгляд. Но Кэйту было все равно. Он не собирался выдумывать дурацкую историю об утечке газа, их без труда поймали бы на вранье, и потом доказывай, что ты не верблюд. Он рассказал Энсону и Франсине о нашествии грызунов, но, правда, не упомянул ни о черной магии, ни об ужасных существах, появившихся из вентиляционной решетки. В этом он уступил Фэй, здесь она была права: биржевой брокер должен быть спокойным, уравновешенным человеком с традициями. Или он рискует всем. Но сам он знал, что еще долго будет помнить все. Долго. Очень и очень долго. А может быть, никогда не забудет.* * *
Скользя по снегу и утопая в нем, Джек наконец свернул за угол, оказавшись на Третьей авеню. Он не оглядывался, боясь увидеть гоблинов, как их называла Пенни, прямо у себя за спиной. Ребекка с детьми были уже метрах в тридцати от него. На улице, кроме них, никого не было, если не считать нескольких застрявших в снегу и брошенных машин. Действительно, кто в здравом уме выберется на улицу, чтобы под кинжальным ветром разгуливать в такую метель? В двух кварталах от них, еле различимые, двигались несколько снегоочистительных машин, мигая красными огоньками. Но они направлялись в другую сторону. Он догнал Ребекку с детьми. Это было нетрудно, так как Дэйви и Пенни уже задыхались. Бег по глубокому снегу все равно что бег с грузом. Все были измотаны. Джек оглянулся назад: никаких гоблинов. Но не надо самообольщаться — существа с горящими глазами скоро будут здесь. Так легко они не сдаются. И когда придут, им достанется легкая добыча — через несколько минут дети будут едва переставлять ноги. Джек и сам чувствовал себя не лучшим образом. Дышал он тяжело. Сердце стучало так сильно и быстро, что, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Лицо саднило от обжигающего ледяного ветра, на глаза навернулись слезы. Руки совсем онемели от холода — он так и не надел перчатки. От снега в ботинках замерзли ноги. Какой из него сейчас защитник! Он и злился на себя, и боялся. Но четко понимал, что только он и Ребекка стоят сейчас между детьми и смертью. Как бы в предвкушении их скорой гибели, ветер завыл свою песню почти со звериной радостью. Голые деревья, торчавшие из заледенелого тротуара, в такт этому мотиву постукивали на ветру закоченевшими ветвями — это была их ария, песня оживших скелетов. Джек огляделся вокруг в поисках места, где можно было бы спрятаться. Перед ними стояли пять жилых кирпичных домов. Зажатые между современными домами, они выглядели не очень привлекательно. Джек сказал Ребекке: — Нам нужно уйти с открытого места. И подтолкнул всех к входным дверям первого кирпичного дома. Там было пусто, консьержа, похоже, в доме не было. Небольшой вестибюль отапливался слабо, но по сравнению с холодом на улице показался им тропиками. Помещение выглядело опрятным, в какой-то мере даже элегантным: медные почтовые ящики, тонированный деревянный потолок, плиточная мозаика на полу изображала зеленые листья и светло-желтые цветы на белом фоне, причем все плитки были на месте и в хорошем состоянии. Но оставаться здесь долго было нельзя. В освещенном вестибюле они прекрасно смотрелись с улицы. Через внутреннюю дверь, тоже стеклянную, виднелись холл первого этажа, лифт, лестница. Но дверь была заперта и открывалась либо ключом, либо через систему домофона. Всего в доме было шестнадцать квартир, по четыре на каждом этаже. Джек подошел к почтовым ящикам и нажал кнопку вызова на ящике мистера и миссис Эванс с четвертого этажа. Ему ответил тоненький женский голос: — Кто это? — Это квартира Грофельдов? — спросил Джек, отлично зная, что это была не та квартира. Невидимая женщина ответила: — Нет, вы нажали не на ту кнопку. Ящик Грофельдов следующий. — Извините, — сказал Джек, а миссис Эванс отключила связь. Джек посмотрел сквозь входную дверь на улицу. Снег. Голые черные деревья качаются на ветру. Призрачный свет уличных фонарей. Больше ничего. Никого с горящими глазами. Никого с острыми зубами. Пока еще ничего подобного. Он нажал на кнопку вызова квартиры Грофельдов, спросил, не в этой ли квартире проживают Сантини, и получил короткий ответ, что ящик Сантини рядом. Он вызвал Сантини и уже собирался спросить, не это ли квартира Поршерфильдов, но Сантини, видимо, кого-то ждали и оказались менее настороженными, чем их соседи. Они открыли дверь, ничего не спрашивая. Ребекка быстро протолкнула детей внутрь, Джек последовал за ними, закрыв за собой дверь. Он, конечно, мог воспользоваться полицейским удостоверением, чтобы попасть в холл, но это заняло бы время. Из-за роста преступности многие люди стали более подозрительными, чем раньше. Если бы Джек сказал миссис Эванс, что он полицейский, она могла бы не поверить ему на слово, спустилась бы вниз, чтобы проверить его удостоверение через стеклянную дверь первого этажа. А один из гоблинов тем временем мог бы добраться до кирпичных домов и увидеть их. Кроме того, Джеку не хотелось впутывать в это дело посторонних людей, и Ребекка, похоже, разделяла его настрой. Она шепотом попросила детей не шуметь, выбрала самое темное место под лестницей, справа от главного входа, и повела их туда. Джек тоже втиснулся в этот уголок. Теперь их нельзя было увидеть ни с улицы, ни сверху, даже если бы кто-то на лестнице перегнулся через перила. Через минуту где-то на верхних этажах открыли дверь. Раздались звуки шагов. Затем кто-то, видимо, мистер Сантини, спросил: — Алекс, это ты? Укрывшиеся под лестницей Джек, Ребекка и дети замерли, стараясь не дышать. Мистер Сантини ждал. На улице завывал ветер. Мистер Сантини спустился на несколько ступенек. — Есть тут кто-нибудь? Джек мысленно приказал ему: «Уходи. Ты просто не представляешь, во что ввязываешься. Уходи». Мужчина, телепатически уловив предостережение Джека, поднялся в квартиру, закрыв за собой дверь. Джек облегченно вздохнул. Пенни дрожащим голосом прошептала: — А как мы узнаем, что опасность миновала и можно выходить? Джек тихо ответил: — Мы просто немного подождем, а затем… я выскользну наружу и посмотрю. Дэйви трясся так, будто в доме было холоднее, чем на улице. Он вытер мокрый нос рукавом куртки и сказал: — А сколько мы будем ждать? Ребекка ответила ему тоже шепотом: — Пять минут. Максимум десять. К тому времени они уже уберутся восвояси. — Правда уберутся? — Ну конечно. Может быть, они уже и ушли. Дэйви переспросил: — Ты действительно так думаешь? Уже ушли? Ребекка твердо ответила: — Конечно. Очень похоже, что они за нами не пошли. Но даже если они и шли за нами, они не станут торчать у этого дома всю ночь. Пенни с сомнением в голосе прошептала: — Не станут? — Нет, нет, нет. Конечно, не станут. Ведь даже гоблины могут устать. Дэйви спросил: — Так это действительно гоблины, правда? Ребекка ответила: — Трудно определить точно, как их назвать. Пенни сказала: — Гоблины — единственное слово, пришедшее мне на ум, когда я их увидела. Оно просто возникло у меня в голове. Ребекка подхватила: — И очень подходящее слово. Ничего лучше ты и придумать не могла. А если вспомнить все старые сказки, то гоблины ведь страшны своим внешним видом, но никак не острыми зубами. Они ведь мастера только пугать. Так что, если мы будем терпеливы и осторожны, по-настоящему осторожны, тогда все будет в порядке. Джеку понравилось, как Ребекка разговаривала с детьми, успокаивая их. Даже ее шепот действовал успокаивающе. Говоря с ними, она находила нужный момент, чтобы погладить детей, приласкать их. Джек отогнул рукав и посмотрел на часы. Десять четырнадцать. Они прижались друг к другу в тени под лестницей и ждали. Ждали.Глава 6
Некоторое время Лавелль лежал на полу спальни, онемев от боли, практически бездыханный. Когда Ребекка в квартире Джэмисонов стреляла в тварей, находившихся с ним в психическом контакте, Лавелль чувствовал удары пуль. Он не был ранен, как и сами существа, а к утру у него не будет даже синяков. Но силу ударов пуль он чувствовал до сих пор, и она была такова, что почти лишила его сознания. Когда Лавелль пришел в себя, оказалось, что он потерял ориентацию. Он пополз по комнате, не вполне осознавая, что ищет и где находится в данный момент. По мере того как боль ослабевала, к нему вернулись все ощущения. Он дополз до кровати, взобрался на нее и со стоном откинулся на спину. Темнота коснулась его. Темнота утоляла его боль. В окна бил снег. Темнота освежала его своим дыханием. Стропила крыши скрипели под напором ветра. Темнота что-то нашептывала Лавеллю. Темнота. Наконец боль совсем прошла. Темнота осталась, поглощая и лаская его. Лавелль без остатка растворялся в ней. Ничто не успокаивало его так, как темнота. Несмотря на первую болезненную неудачу, Лавелль горел желанием восстановить связь с существами, которые охотились за Доусонами. Символические ленточки все еще были привязаны к его лодыжкам, рукам, груди и голове. На щеках, на губах все еще оставалась кошачья кровь, а на груди сохранялся магический узор, нарисованный кровью. Оставалось повторить те же молитвы, которые он произносил раньше. Комната вокруг него куда-то подевалась, и он снова вышел на охоту с серебристоглазыми существами. Десять пятнадцать. Десять шестнадцать.* * *
Пока они ждали под лестницей, Джек осмотрел рану на руке Ребекки. Три небольших прокуса располагались на участке размером с монетку в двадцать пять центов. Поранена была мясистая часть ладони, сорван кусочек кожи, но сам укус оказался не очень глубоким. Рана уже не кровоточила, кровь запеклась. Место укуса чуть припухло. — Как ты? — Немного жжет, — ответила Ребекка. — И все? — Все будет нормально. Я надену перчатку, чтобы не задеть рану. — Ты с этим поаккуратнее, ладно? Если появится отек или неестественная окраска, нужно будет отправиться в больницу. — Что же я скажу доктору насчет происхождения раны? — Скажешь, что тебя укусил гоблин, что же еще. — Да, охота попасть в больницу только для того, чтобы увидеть реакцию на эти слова. Десять семнадцать. Джек осмотрел куртку Дэйви. Она была сшита из очень прочной ткани, однако когти ящерицы, насквозь прорезав куртку в трех местах, пропороли даже подкладку. Удивительно, что мальчик остался невредим. Пройдя куртку так же легко, как кусок сыра, когти не задели ни свитера, ни рубашки, и у Дэйви не было даже царапины. Джек ужаснулся, как близко от смерти были его дети. И эта угроза будет существовать все время, пока не закончится дело. Джек погладил плечо сына. Какое худенькое! Его охватило леденящее чувство ужаса и отчаяния, к горлу подкатил комок, он с трудом сдерживался, чтобы не разрыдаться. Он не должен плакать, не должен впадать в отчаяние. Во-первых, здесь дети, во-вторых, позволив себе это, он уступит Лавеллю. А ведь Лавелль — само воплощение зла. Не просто преступник, не просто криминальная личность. Он — само зло по сути своей. Чье-то отчаяние ему только на руку. Лучшее оружие против зла — надежда, оптимизм, решительность и вера. Шансы выжить и у Джека, и у его детей, и у Ребекки определяются тем, насколько сами они способны верить в свое право жить, а не умирать, способны надеяться на то, что добро восторжествует над злом. Нужно верить. Он не потеряет своих детей. Он не позволит Лавеллю расправиться с ними. Джек сказал, обращаясь к Дэйви: — Да, зимой эти вентиляционные отверстия в куртке ни к чему. Мы сейчас все исправим. — Он снял свой длинный шарф, обмотал его вокруг Дэйви крест-накрест, как патронташ, и плотно завязал концы на талии. — Так-то лучше. Все в порядке, боец? Дэйви закивал головой и постарался принять бравый вид. — Пап, а ты не думаешь, что тебе сейчас нужен волшебный меч? — Волшебный меч? — с недоумением переспросил Джек. Мальчик пояснил: — Но ведь для того, чтобы убить шайку гоблинов, нужен волшебный меч. Во всех сказках герои обычно используют против гоблинов волшебные мечи или что-нибудь еще в этом роде. Допустим, волшебный порошок. Они всегда помогают против гоблинов, ведьм и дьяволов. Да, иногда пользуются волшебным изумрудом… или кольцом. А поскольку вы с Ребеккой полицейские, это может быть волшебный пистолет. Может, у вас в управлении есть такой? Пистолет против гоблинов? Джек крепко прижал сына к себе: — Сказать точно не могу, но это очень хорошая идея, сынок. Я ею займусь. Дэйви продолжал: — А если у них нет такого пистолета, ты можешь просто попросить священника, чтобы он освятил твой пистолет. А если потом зарядить его кучей серебряных пуль, можно справиться с оборотнями. — Я знаю. Тоже неплохое предложение. Я очень рад, что ты думаешь о том, как покончить с этими тварями. Я рад, что ты не сдаешься. Выше нос! Сейчас главное — не сдаваться. Дэйви гордо вскинул тоненький подбородок. — Конечно, я это знаю. Пенни наблюдала за отцом через плечо Дэйви. Она улыбнулась и подмигнула ему. Десять двадцать. С каждой минутой Джек чувствовал себя все уверенней. Пенни коротко рассказала ему о своих встречах с гоблинами. Когда девочка закончила, Ребекка взглянула на Джека: — Он следил за ними и прекрасно знал, где их искать в нужный момент. Джек спросил Пенни: — Господи, дочка, почему же ты не разбудила меня, когда эта тварь была в вашей спальне прошлой ночью? — Я ее ясно не видела… — Но ты же слышала ее. — Только слышала и все. — А бейсбольная бита? Пенни ответила с неожиданной робостью, опустив глаза: — Видишь ли, я боялась, что ты подумаешь, что у меня снова не все в порядке с головой… Джек внимательно посмотрел на нее. — Что снова? Что ты хочешь этим сказать? — Ну, ты помнишь, как после смерти мамы… Когда у меня были проблемы… Джек сказал: — Но с головой у тебя все было нормально. Просто тебе понадобилась небольшая консультация у специалиста. Вот и все, дорогая. Девочка почти неслышно ответила: — Это вы его так называли. Специалист. — Да, доктор Хэккаби. — Тетя Фэй, дядя Кэйт — все называли его специалистом. Ну, иногда доктором. — Именно специалистом он и был. Он помогал тебе справиться с потерей мамы. Девочка отрицательно покачала головой. — Однажды я сидела у него в кабинете, ждала его, когда он опаздывал к назначенному времени. И стала читать его дипломы на стене. — И что же? С очевидным волнением Пенни ответила: — Я поняла, что он был психиатром. Психиатры ведь лечат сумасшедших. Вот как я узнала, что была немного… сумасшедшей. Пораженный тем, что она так долго жила с этой мыслью, Джек попытался ее успокоить: — Нет, нет, нет, дорогая. Ты просто не правильно все поняла. Ребекка вмешалась в их разговор. — Пенни, психиатры в основном занимаются нормальными людьми с обычными для всех проблемами, которые возникают у всех без исключения. По большей части это эмоциональные проблемы. То же самое случилось и с тобой. Просто эмоциональные проблемы. Пенни робко взглянула на нее, нахмурилась, но было видно, как хочется ей в это верить. Ребекка продолжала: — Конечно, иногда психиатрам приходится иметь дело и с нервными расстройствами, но тяжелыми случаями они не занимаются. По-настоящему больных людей госпитализируют и держат в соответствующих учреждениях. Джек подтвердил: — Да, это так. Он взял ладони Пенни в свои руки, маленькие тонкие кисти одиннадцатилетней девочки, которая думала о себе как о взрослой, — от всего этого сердце у него содрогнулось. — Дорогая, ты никогда не была сумасшедшей. Даже не была близка к этому. Как ужасно, что все это время ты напрасно мучилась. Девочка перевела взгляд с Джека на Ребекку и обратно. — Это правда? Многие нормальные люди действительно обращаются за помощью к психиатрам? Джек ответил за обоих: — Конечно. Милая моя, жизнь послала тебе серьезные испытания, когда твоя мама умерла. Я сам был убит горем и не годился тебе в помощники. Наверное, мне следовало в то время взять себя в руки и держаться изо всех сил ради вас. Но я чувствовал такую беспомощность и такое одиночество, так жалел самого себя, что не мог решать и свои, и твои проблемы одновременно. Поэтому и воспользовался услугами доктора Хэккаби, когда они у тебя появились. Тебе нужно было поговорить с кем-то, кто не стал бы тут же оплакивать маму, как только ты заплакала бы сама. Ты понимаешь, что я имею в виду? Пенни тихо ответила ему со слезами на глазах: — Да. — Правда? — Да. Я действительно понимаю тебя, папа. Теперь понимаю. — Вот ты и должна была прийти, как только услышала это существо в вашей комнате. А после того как эта тварь прокусила пластиковую биту… я бы не подумал, что ты сошла с ума. Дэйви поддержал отца: — Я бы тоже ничего такого не подумал. Я никогда-никогда не считал тебя сумасшедшей. Пенни. Я, наоборот, думаю, что ты — одна из самых нормальных девчонок, каких я знаю. Пенни хихикнула, Джек с Ребеккой тоже не удержались от улыбки, хотя сам Дэйви так и не понял, что тут смешного. Джек крепко обнял дочь, поцеловал ее в волосы и сказал: — Я люблю тебя, малышка. Затем он обнял Дэйви и сказал ему то же самое. И посмотрел на часы. Десять двадцать четыре. Они уже десять минут прячутся под широкой лестницей. Ребекка посмотрела на Джека. — Похоже, они потеряли нас. — Не будем зарекаться, подождем еще несколько минут, — ответил Джек. Десять двадцать пять. Джеку не очень хотелось выходить из укрытия на улицу. Он подождал еще минуту. Десять двадцать семь. Больше откладывать нельзя. Он вышел из-под лестницы, поднялся на две ступеньки, взялся за ручку входной двери — и замер на месте. Они были здесь. Гоблины. Одна из тварей припала к дверному стеклу. Это было существо длиной в полметра с сегментированным туловищем огромного червя и парой дюжин ног. Рот его напоминал рыбий: овальный, с зубами, расположенными далеко позади толстых губ. Горящие глаза устремлены были на Джека. Он моментально отвел взгляд, вспомнив гипнотизирующее действие глаз ящерицы. Весь вестибюль был забит адскими тварями, небольшими, но такими устрашающими на вид, что у Джека засосало под ложечкой. Здесь собралась целая коллекция ящероподобных, и паукообразных, и крысообразных. Было два человекоподобных существа: одно — с хвостом, другое — с каким-то петушиным гребнем на голове и на спине. Собакообразные, крабоподобные, змееподобные, жукоподобные, скорпионообразные, похожие на дракончиков, существа с когтями и клыками, жалами, шпорами и рогами — собралось их около трех десятков — ползали и прыгали по мозаичному полу, бросались на стены, беспрестанно двигая быстрыми языками, скрежеща зубами, сверкая бездонными серебристыми глазами. Потрясенный этой картиной, Джек отдернул руку от дверной ручки, повернулся к Ребекке и детям. — Они нас нашли. Они уже здесь. Будем выбираться отсюда. Нужно поторопиться, не то будет поздно. Все вышли из-под лестницы и увидели присосавшегося к двери огромного червя и позади него целую ораву тварей. Ребекка и Пенни молча смотрели на эти исчадия ада, не имея сил даже крикнуть. Это сделал Дэйви. Он вскрикнул и крепко вцепился в рукав Джека. Ребекка сказала: — Они уже наверняка внутри здания, в стенах. Все разом обернулись в сторону вентиляционных решеток на их этаже. Пенни спросила: — Как же мы будем отсюда выбираться? Действительно, как? Некоторое время все молчали. В вестибюле у их врагов заметно было оживление и перестроение рядов. — Как ты думаешь, тут есть черный ход? — спросила Ребекка. — Вполне возможно. Но если даже он и есть, нас там уже наверняка поджидают, — ответил ей Джек. Еще минута молчания, давящего и вселяющего ужас, тишина, заряженная энергией поднятого ножа гильотины. Вот-вот он обрушится на их головы. Пенни высказала вслух мысль, которая крутилась у всех в голове. — Значит, мы в ловушке. Джек содрогнулся. Дэйви жалобно запричитал: — Папа, не дай им добраться до меня! Пожалуйста, не дай! Думай! Джек посмотрел на лифт — он был прямо напротив лестницы. Но маленькие твари, скорее всего, уже притаились в его шахте. Не откроются ли вдруг двери, выплевывая наружу шипящую, рычащую, кусающую смерть? Думай! Он схватил Дэйви за руку и устремился к лестнице. Ребекка с Пенни побежали следом. — Куда ты? — спросила Ребекка. — Наверх, — бросил Джек. Они взбежали на второй этаж. — Но если гоблины прячутся в стенах, они настигнут нас в любом уголке этого здания, — сказала Пенни. Джек только выдохнул: — Быстрее!* * *
Квартира Карвера Хэмптона, располагавшаяся над его магазином, была вся освещена. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры — все горели, нигде не осталось ни одного темного уголка. В тех местах, куда не достигал электрический свет, были поставлены свечи. Они целыми связками стояли в плошках, жестяных банках в чем угодно. Сидя за маленьким кухонным столиком со стаканом «Шивас Ригал», Хэмптон не сводил глаз с падающего снега, изредка делая глоток виски. Неоновые лампы на кухне были включены на потолке, над газовой плитой и даже над мойкой. Рядом с Хэмптоном лежали несколько коробок спичек, три коробки со свечами и два фонарика — на тот случай, если вдруг что-нибудь случится с электричеством. В эту ночь темнота не имеет права на существование. Исчадия дьявола бродят по городу. Темнотой они заряжаются, как жизненной энергией. Хотя эти страшные и низкие твари вышли в город не для того, чтобы свести счеты с ним, с Хэмптоном, он все равно чувствовал их присутствие на заснеженных улицах. От них исходило зло, настоящее мощное зло Древних, и для Карвера Хэмптона, наделенного особым даром, появление существ из иных миров было эмоциональным и душевным испытанием. Хэмптон предполагал в них адских посланцев Лавелля, нацеленных им на уничтожение членов клана Карамацца. Насколько он знал, в Нью-Йорке не было другого Бокора, обладающего такой мощью. Хэмптон снова сделал глоток. Хорошо бы напиться, но он не привык к спиртному. И, пожалуй, в эту ночь лучше контролировать свои действия и ограничиться несколькими глотками. Ворота открылись. Ворота Ада. Всего лишь чуть-чуть. Своей мощью Бокора Лавелль держал их полуоткрытыми, не впуская с той стороны бесновавшиеся силы зла. Карвер и так ощущал вихри в невидимых и бесшумных потоках энергии, сталкивающихся над огромным городом, — энергии Зла и Добра. Тронуть Ворота Ада было достаточно рискованным шагом. Немногие Бокоры, буквально единицы из них, решились бы на это. Поскольку Лавелль был таким Бокором, он мог рассчитывать на то, что ему удастся сохранить контроль над Воротами, а когда Карамацца будут уничтожены, он сумеет вернуть назад адские существа. Но если контроль от него ускользнет… «Тогда помоги нам, Господи!» — подумал про себя Карвер Хэмптон. Если Господь захочет помочь. И если сможет. Мощнейший порыв ветра, ударив в стены дома, засвистел над крышей. Окно кухни зазвенело, словно там стучалось нечто желающее ворваться в дом. В стекло брызнул заряд снега. Невероятно, но из массы крутящихся снежинок, казалось, возникло лицо, уставившееся через окно на Хэмптона. Потоки ветра метались в разные стороны, меняя направление, но ирреальное лицо из снега не теряло своих очертаний, как нарисованное на полотне и укрепленное за окном. Карвер опустил глаза. В тот же момент немного стих и ветер. Когда его завывание перешло в негромкое рычание, Карвер снова взглянул в окно. Лицо из снега исчезло. Хэмптон отхлебнул изрядную порцию виски из своего стакана. Но виски не согревало. Похоже, в такую ночь и виски потеряло силу. Впрочем, Карвер знал, в чем дело — чувство вины, именно оно заставило его наполнить стакан. Он был виноват, он отказал в помощи лейтенанту Доусону. Да, виноват. В той ситуации он не имел права думать только о себе. Ведь Ворота уже были открыты. Весь мир оказался на краю гибели из-за гордыни тщеславного Бокора, одержимого мщением и жаждой крови. Такие моменты накладывают определенные обязательства на любого Хунгона. В такие моменты нужно быть смелым. Чувство вины терзало Хэмптона еще и из-за воспоминаний о черной змее, которую наслал на него Лавелль. Вновь переживая ее появление, он не чувствовал сил и твердости для выполнения своего долга. Даже если он и напьется до чертиков, это чувство вины не оставит его. Оно настолько глубоко, что алкоголем его не снять. Значит, он пьет сейчас, чтобы набраться храбрости? Чтобы позвонить лейтенанту Доусону и сказать: «Я хочу помочь»? Вероятность того, что Лавелль уничтожит его за вмешательство в свои дела, велика. И смерть его не будет легкой, когда Лавелль решит расправиться с ним. Он хлебнул еще немного виски. Посмотрел на висевший в другом конце комнаты настенный телефон. «Позвони Доусону», — сказал он себе. Но не двинулся с места. Он вздрогнул. Особенность спиртного в том, как заметили теоретики и практики пития, что в умеренных дозах оно способно иногда превратить в героя человека, который при переборе может преобразиться лишь в скотину.* * *
Задыхаясь, Джек и Ребекка с детьми добрались по лестнице до четвертого этажа. Джек посмотрел вниз — пока там никого не было. Конечно, какая-нибудь тварь каждую секунду могла выскочить из стены. Весь мир вокруг них сошел с ума. На площадке четвертого этажа было четыре квартиры. Джек провел всех мимо них, не постучав и не позвонив ни в одну из квартир. Их жильцы ничем не смогли бы им помочь. Они сами по себе. В конце коридора была дверь безо всякой таблички. Джек молил Бога о том, чтобы его ожидания оправдались. Он попробовал повернуть ручку. Дверь сдвинулась. Джек медленно приоткрыл ее, опасаясь, что вот-вот ринется на них целая стая гоблинов. Темнота. Никого. Он стал шарить рукой по стене в поисках выключателя, боясь наткнуться на что-нибудь страшное. Но ничего такого не случилось. Никаких гоблинов. А вот и выключатель. Щелк! Да, это то, что нужно, — последний лестничный пролет, ведущий на крышу. Более узкий, чем остальные восемь, которые они уже миновали, он вел к зарешеченной двери. — Идемте. Ничего не спрашивая, Дэйви, Пенни и Ребекка быстро поднялись по ступенькам, опасаясь замедлить шаг. Оказавшись наверху, они увидели, что дверь заблокирована мощной металлической перекладиной, оба конца которой зафиксированы в специальных, открывающихся изнутри опорах. Никакой грабитель не забрался бы в дом с крыши. Джек откинул оба запора и поднял перекладину, отставив ее в сторону. Ветер не давал открыть дверь. Джек налег на нее плечом, показалась щелка, и тут мощный порыв, подхватив дверь, рванул ее с такой силой, что она сильно ударилась о внешнюю стену. Джека выбросило на плоскую крышу. Как свирепствовала здесь буря! Ветер носился, с львиной яростью завывая и рыча. Он прошелся по плащу Джека, поднял торчком его волосы, затем прижал их и опять поднял. Обжег своим холодным дыханием его лицо и прошелся ледяными пальцами за воротником плаща. Джек подошел к тому краю крыши, который был ближе всего к соседнему жилому дому. Вдоль края крыши шел барьер высотой в половину человеческого роста. Опираясь на барьер руками, Джек заглянул вниз. Как он и ожидал, между домами было около полутора метров. Ребекка с детьми подошли к нему. — Мы переберемся на соседнюю крышу, — сказал Джек. — Как? — Надо что-нибудь поискать. Он обернулся и осмотрел крышу, снежно белевшую под лунным светом. Насколько он видел, ничего такого, из чего можно было бы сделать мост между крышами домов, вокруг не было. Он побежал к лифтовой шахте, затем к пожарной лестнице, но и там ничего не нашел. Может, под снегом и лежало что-нибудь годное, но пришлось бы расчищать всю крышу. Джек вернулся к Ребекке и детям. Пенни и Дэйви сидели на корточках за парапетом, а Ребекка поднялась ему навстречу. — Нам придется прыгать. — Что? — Нам придется прыгать на крышу соседнего дома. — Нет, мы не сможем, — покачала головой Ребекка. — Тут меньше полутора метров. — Но здесь негде разбежаться. — Этого и не требуется. Нужно будет просто сделать небольшой прыжок. Ребекка коснулась парапета: — Мы ведь должны будем встать на него, чтобы прыгнуть. — Да. — При таком ветре немудрено потерять равновесие еще до прыжка. Джек ответил, стараясь приободрить себя самого: — Ничего, пробьемся. Ребекка отрицательно помотала головой. Ветер швырнул волосы ей в лицо, она рукой убрала их от глаз. — Может быть, при большом везении нам с тобой такое рискованное предприятие и удастся. Может быть. Но детям не справиться. — Ладно, тогда один из нас прыгает на соседнюю крышу, а второй передает ему детей. — Через этот проем между домами? — Да. — Через пропасть в двадцать метров? Джек ответил, сам желая верить в то, что говорит: — В конце концов, это не так уж и опасно. Ведь через проем мы можем даже взяться за руки. — Взяться за руки — одно, а вот передавать детей… — Прежде чем передавать их тебе, я проверю, насколько крепко ты их держишь. А забирая их, можешь использовать парапет как упор. И никаких проблем. — Но ведь Пенни достаточно большая девочка. — Не такая уж и большая. — Но… — Ребекка, ты понимаешь, что существа сейчас в доме, прямо под нами и в эту самую минуту ищут нас? Ребекка кивнула. — Кто прыгает первым? — Ты. — Ну, спасибо… Он сказал: — Я помогу тебе подняться на парапет и поддержу до того самого момента, пока ты не прыгнешь. — Но, когда я окажусь на соседней крыше и дети будут со мной, кто поможет тебе подняться на парапет? И кто поддержит перед прыжком? — Я позабочусь об этом сам. Ветер прогрохотал по крыше, подобно грузовому составу.* * *
В отличие от других строений, снег не задерживался на крыше металлического сарая во дворе у Лавелля — он сразу таял. От скатов крыши в морозный воздух поднимались струйки пара, тянулись вверх до тех пор, пока их не подхватывал и не уносил в сторону очередной порыв ветра. Внутри сарая царила жара. Все было неподвижно. Кроме теней. Исходящий из ямы оранжевый свет был теперь ярче, чем раньше. В его мерцании тени шевелились, создавая иллюзию, будто движутся все предметы в сарае. Здесь было не только тепло, но и тихо, не просто тихо, но абсолютно тихо. Неестественно, ирреально и… тревожно. Словно помещение это вынули из временного и пространственного измерений и поместили в пустоту. Единственный звук исходил откуда-то из глубины ямы — отдаленное шипение, бормотание и ворчание, звук десятков тысяч далеких существ, перешептывающейся и переговаривающейся толпы. Рассерженной толпы. Вдруг звук усилился, стал громче. Не очень, чуть-чуть. И сразу же оранжевый свет стал ярче. Тоже не очень, чуть-чуть. Как будто дверку печи, немного приоткрытую, отодвинули пошире. В сарае стало теплее. Чуть резче запахло серой. И тут с дырой в полу произошло что-то странное. По всему ее периметру земля стала откалываться маленькими кусочками и исчезать, падая вниз, навстречу далекому таинственному свечению. Эти изменения тоже не были очень заметны. Диаметр ямы расширился не больше двух-трех сантиметров. Земля почти сразу успокоилась и перестала сыпаться вниз. Яма восстановила четкие очертания периметра. Все успокоилось. Но теперь яма стала больше.* * *
Двадцатисантиметровый парапет для Ребекки был то же, что цирковой канат. Хорошо еще, что парапет не успел обледенеть. Ветер сметал отсюда снег, не давая ему уплотняться и превращаться в ледяную корку. Полуприсев, Ребекка балансировала на парапете в полной уверенности, что, если бы не Джек, ее бы давно уже сдуло. Она старалась отключиться от ветра, от снега, от пропасти под ногами, старалась не отводить взгляд от крыши соседнего дома, не думать ни о чем, кроме того, что ей надо сделать прыжок. Достаточный для того, чтобы не просто допрыгнуть до парапета другого дома, а перепрыгнуть его и оказаться на самой крыше. Если она немного не допрыгнет и попадет на эту каменную полоску, то, даже приземлившись на обе ноги, не удержит равновесие. И тогда коварный ветер либо опрокинет ее вперед, на крышу дома, либо — назад, в пустоту между зданиями. Ребекка отгоняла мысли от второго варианта и старалась не смотреть вниз. Она напряглась и взмахнула руками. — Давай! Джек отпустил ее, и Ребекка прыгнула в ночь, в ветер и снег. В ту секунду ей показалось, что она не вложила в прыжок достаточно силы, что не долетит до соседней крыши, а ударится о парапет и упадет вниз, в смерть. Она перелетела через парапет. Приземлилась на крышу, но не удержалась на ногах и больно опрокинулась на спину — достаточно сильно, чтобы ушибиться, и не очень сильно, чтобы что-нибудь сломать. Когда она встала на ноги, то увидела невдалеке заброшенную клетку для голубей. Голубятни на крышах домов не были в диковинку в этом городе. Клетка была небольшой, метра два длиной, ею давно не пользовались, и уже через пару лет она обещала превратиться в кучу хлама. Мост! — Слушай, я нашла мост! — закричала она Джеку. Ребекка заторопилась к находке и смела снег с крыши клетки. Стал виден хороший толстый кусок фанеры метра два в длину. На такую удачу она и не надеялась: теперь не нужно составлять переправу из досок! Фанера, покрытая краской в несколько слоев, неплохо сохранилась и казалась достаточно плотной не только для того, чтобы выдержать детей, но и Джека тоже. С одного бока клетки отошла стенка, и это было как нельзя кстати: Ребекка смахнула остатки снега с крыши клетки, подцепила ее со свободной стороны и с силой потянула вверх. Несколько гвоздей сдались сразу — сами вылетели из гнезд, а другие шляпками прошли сквозь фанеру, оставшись на своих местах. За считанные секунды Ребекка справилась с задачей: в руках у нее был крепкий лист фанеры. Она подтащила его к парапету. Оставалась проблема наведения моста. Если бы она сразу подняла лист на парапет, пытаясь передать другой его край Джеку, ветер подхватил бы фанеру и, вырвав из ее рук, поднял в воздух, как воздушного змея. Пришлось дожидаться, пока ветер хоть на секунду стихнет. Уловив момент, Ребекка подняла импровизированный мост, торопливо уложила один его конец и протолкнула к протянутым рукам Джека. Ветер тут же налетел снова, но мост уже стоял. Теперь оба они держали фанеру с двух концов, и никакой, даже самый мощный, его порыв не сдвинул бы ее с места. Пенни отправилась в путешествие первой, чтобы подать пример брату. Она проползла по фанере на животе, цепляясь руками за края. Воодушевленный увиденным, Дэйви спокойно повторил ее путь. Джек перебирался последним. Когда он находился на мостике, некому было придержать его дальний конец. Но Джек своим весом прижал его к обоим парапетам. При очередном затишье он покинул фанерный лист и помог Ребекке перетащить его на их сторону. — Что теперь? — спросила она. — Теперь надо уйти от них еще дальше. Используя ту же фанеру и тот же маневр, они перебрались на крышу следующего дома, затем еще на одну, другую, третью. Шестое здание было значительно выше предыдущих, и их высотный вояж вынужденно подошел к концу. Гудели руки, натруженные тяжелым куском фанеры-спасительницы, который они таскали с собой. Когда они были на крыше пятого дома, Ребекка перегнулась через парапет и посмотрела вниз с высоты четвертого этажа. На улице было достаточно светло: горели два фонаря на углах квартала и еще один — посередине. Кроме того, падал свет из окон первого этажа. Она не увидела внизу ни души. Везде только снег — в сугробах на земле, в воздухе, где он напоминал призраков в белых балахонах. Может быть, гоблины и притаились где-то в тени, но тогда Ребекка все равно увидела бы их полыхающие огнем глаза. Такое не спрячешь. По зигзагам пожарной лестницы Джек спускался первым, останавливаясь на каждой площадке, чтобы подождать Дэйви и Пенни. Он был готов подхватить детей, если бы кто-то из них оступился на скользких от снега и льда ступеньках. Ребекка спускалась последней. На каждой площадке она останавливалась, чтобы посмотреть на улицу: нет ли там этих ужасных существ, не бегут ли они через сугробы к основанию лестницы? Оказавшись на земле, они сразу же побежали в сторону от кирпичных домов, к перекрестку дорог. Добравшись до него, свернули с Третьей авеню, сменив бег на быстрый шаг, двигаясь к центру города. Никто их не преследовал. Никто не нападал на них из темных подъездов, мимо которых они проходили. Впервые они почувствовали себя в относительной безопасности. Но одновременно с этим возникло ощущение того, что они одни во всем городе. Словно это был город, переживший Судный день. Ребекка никогда раньше не видела такого сильного снегопада. Свирепая, ревущая снежная буря больше подходила арктическим просторам, а не Нью-Йорку. Лицо у нее задубело, потеряло всякую чувствительность, глаза слезились, и тело ломило от непрерывной борьбы с яростным ветром. Они прошли уже больше половины пути к авеню Ленсингтона, когда Дэйви споткнулся и упал, не в силах идти дальше. Джек взял его на руки. Судя по виду Пенни, ее силы тоже быстро таяли. Похоже, скоро Ребекке придется нести Дэйви, чтобы Джек мог подхватить Пенни. Много ли они так пройдут? Немного, черт побери. Им нужен какой-нибудь транспорт — и побыстрее. Когда они добрались до магистрали, Джек подвел их к стальной решетке, от которой исходили струи теплого пара. Видимо, здесь был вентиляционный выход одной из подземных коммуникаций, скорее всего, метро. Джек опустил Дэйви на землю, и мальчик устоял на ногах. Но выглядел он очень плохо: бледное маленькое лицо, черные круги под глазами. У Ребекки сжалось сердце от страстного желания чем-нибудь помочь Дэйви, но и она была отнюдь не в блестящей форме. В холодную погоду замерзший человек вряд ли согреется у вентиляционной решетки, но Ребекка испытывала наслаждение, стоя у края решетки и подставив лицо благодатным струям теплого воздуха, — возникала хотя бы иллюзия тепла, а для них даже иллюзии было достаточно, чтобы хоть немного приободриться. — Как ты себя чувствуешь? — спросила Ребекка. — Все нормально, просто я волнуюсь за Дэйви. Ребекку поразило мужество девочки. — Нужна машина. Только когда мы будем в машине и когда поедем, я успокоюсь. Дэйви добавил: — К-к-к тому же в-в-в ней б-будет тепло. Но те машины, которые они видели, были припаркованы к тротуару и отделены от проезжей части снежным бруствером. Если какую-нибудь машину ее владельцы и бросили на проезжей части, она давно была увезена аварийной командой. Поблизости не было видно ни рабочих-уборщиков, ни снегоочистителей. Ребекка сказала: — Если нам даже попадется незаваленная машина, вряд ли в ней будут ключи, а на колесах цепи. — Я и не думал о таких машинах. Но будь здесь телефон, я позвонил бы в управление и попросил прислать за нами машину, — ответил Джек. — А там разве не телефон? — показала Пенни на противоположную сторону широкой магистрали. Джек напряженно вглядывался в темное пятно, привлекшее внимание дочери: — Сквозь снег ничего не видно. Не исключено, что это таксофон. — Давай сходим и проверим, — предложила Ребекка. Не успела она договорить, как из решетки высунулась маленькая когтистая рука. Дэйви увидел ее первым, вскрикнул и отпрыгнул в сторону от струйки пара. Рука гоблина. И еще одна, у ботинка Ребекки. Она увидела под решеткой горящие в темноте серебристо-белые глаза и тоже отпрыгнула назад. Появилась третья, четвертая рука. Пенни и Джек отскочили в сторону от решетки. Внезапно ее металлическая конструкция задрожала, приподнялась с одного края, но встала на место. Тут же другой край решетки приподнялся сантиметра на три, но тоже упал обратно. Твари под решеткой трудились изо всех сил, пытаясь расшатать и вытолкнуть ее. Сделать это было не так-то просто, уличная решетка была тяжелой и массивной, но Ребекка не сомневалась, что существа уберут ее со своего пути и выскочат наружу, из темноты и пара. Джек, похоже, тоже понимал это, так как он подхватил Дэйви и побежал. Ребекка схватила Пенни за руку. Они бежали по заснеженной улице, но не так быстро, как бы им хотелось. Никто из них не оглядывался. Впереди, на дальнем конце магистрали, из-за угла выехал джип с эмблемой городской дорожной службы. Джек, Ребекка и дети бежали к центру города, а джип двигался в противоположную сторону. Джек рванул навстречу ему через разделительную полосу, стараясь перехватить джип. Ребекка и Пенни бежали за ним. Если даже водитель джипа видел их, он не подавал виду, не тормозил. Ребекка изо всех сил размахивала на бегу руками. Пенни кричала. Закричала и Ребекка. К ним присоединился Джек. Отчаяние придало им силы, отчаяние было в их крике: джип означал единственную надежду на спасение.* * *
За столом в своей ярко освещенной кухне Карвер Хэмптон раскладывал пасьянс. Он надеялся, что карточная головоломка отвлечет его от мыслей о зле, переполнившем город этой ночью, поможет перебороть тяжкое чувство вины и стыда, поскольку он палец о палец не ударил, чтобы остановить зло. Но карты не помогали. Он то и дело отвлекался, смотрел в окно, чувствуя там присутствие чего-то страшного. Вместо того чтобы ослабевать, чувство вины становилось все острее и грызло его теперь беспрестанно. Он был Хунгоном. У него были определенные обязательства. И он не мог, не имел права мириться с этим злом. Черт возьми. Он включил телевизор. «Куинси». Джек Клугман орал на своих тупых начальников, борясь за правду и демонстрируя такое чувство социальной справедливости, какое и не снилось матери Терезе. Смотрелся он скорее суперменом, чем медицинским экспертом. В «Династии» кучка богатых людей выставляла напоказ свою извращенную беспринципную жизнь. Всякий раз, как он захватывал несколько минут «Династии», или «Далласа», или какого-нибудь подобного сериала, Карвер спрашивал себя: «Если настоящие богачи в такой степени озабочены сексом, охвачены жаждой мести, ревностью и желанием ударить исподтишка, то откуда же у них берется время и возможности делать деньги?» Он выключил телевизор. Он Хунгон. У него действительно есть определенные обязательства. Чтобы не думать об этом, он взял с полки в гостиной книгу — новый роман Элмора Леонарда. Карвер любил динамичные произведения этого писателя, но сейчас он не мог сосредоточиться на сюжете. Через две страницы поймал себя на том, что ничего не помнит и не понимает, и вернул книгу на полку. Он — Хунгон. Вернувшись на кухню, Карвер подошел к телефону и нерешительно опустил руку на трубку. Посмотрел в окно и содрогнулся — огромная черная ночь ожила от переполнившего ее зла. Карвер снял трубку, послушал гудок. Телефоны Доусона, рабочий и домашний, лежали у аппарата на листке бумаги. Карвер вгляделся в цифры домашнего телефона лейтенанта и набрал его. Раздалось несколько длинных гудков. Хэмптон уже собирался было дать отбой, когда вдруг на другом конце провода подняли трубку. Но в трубке было полное молчание. Подождав несколько секунд, он произнес: — Алло? Никакого ответа. — Есть здесь кто-нибудь? Опять ничего. Вначале Карвер подумал, что либо он ошибся номером, либо на линии неполадки, но, когда он уже собирался положить трубку, его вдруг пронзило иное, пугающее ощущение. Он почувствовал присутствие зла на другом конце провода. Присутствие дьявольского существа, чья адская энергия по телефонной линии перетекала к нему, к Хэмптону. Его прошиб пот. Сердце у него бешено забилось. Он почувствовал себя словно вымазанным грязью. Бросил трубку на место, вытер о брюки мокрые ладони, но это мерзкое ощущение не проходило. Хэмптону казалось, что руки у него нечисты из-за того только, что держали трубку, на несколько секунд связавшую его с какой-то адской тварью в квартире Доусона. Он подошел к раковине и тщательно вымыл руки. Существо в квартире Доусона было из числа тех, кого Лавелль вызвал из Ада для выполнения своих грязных замыслов. Но что делало оно в квартире лейтенанта? Неужели Лавелль настолько безумен, что направил силы тьмы не только против Карамацца, но и против полиции, расследующей эти убийства? Хэмптон подумал, что будет в ответе, если что-нибудь случится с лейтенантом Доусоном. Ведь он, Хунгон, отказался ему помочь. Вытирая бумажной салфеткой мокрое лицо и шею, Карвер начал прикидывать возможные варианты развития событий и свои действия в них.* * *
В джипе городской дорожной службы было только два человека, поэтому для Пенни, Дэйви, Ребекки и Джека места было достаточно. Водитель, здоровый веселый мужчина с дружелюбным румяным лицом, широким носом и большими ушами, представился Бертом. Он внимательно изучил полицейское удостоверение Джека и, удовлетворенный подлинностью документа, сказал, что рад доставить их в полицейское управление, где Джек рассчитывал взять другую машину. Внутри джипа было восхитительно тепло и сухо. Как только двери машины закрылись и она двинулась в путь, Джек немного успокоился. Но, когда они разворачивались посередине магистрали, партнер Берта, веснушчатый молодой парень по имени Лео увидел, как с противоположной стороны улицы что-то движется по снегу прямо к ним. Он сказал: — Эй, Берт, погоди-ка. Что это там, кошка? — Ну и что, даже если кошка? — спросил Берт. — Но ведь в такую погоду кошки не гуляют. — Кошки гуляют, где и когда им заблагорассудится. Ты же любишь кошек и знаешь, насколько они своенравны. Лео возразил: — Но ведь в такой холод она околеет на улице. Джип закончил разворот. В тот момент, когда Берт притормозил, Джек через боковое окно вгляделся в неясную тень, прыгавшую по сугробам. Она передвигалась с кошачьей грацией. Позади этого существа могли быть и другие. Не исключено, что тут собралась вся эта кошмарная шайка, но сказать с уверенностью было сложно. Как бы там ни было, похожий на кошку и привлекший внимание Лео первый гоблин был уже в десяти-пятнадцати метрах от машины. Лео сказал: — Слушай, останови на секундочку, я выйду и подберу эту бедную киску. — Нет, побыстрее отъезжайте отсюда! Это, черт побери, никакая не кошка! — выкрикнул Джек. Удивленный Берт оглянулся на него через плечо. Пенни, как автомат, стала выкрикивать ту же фразу. К ней присоединился Дэйви: — Не пускайте их внутрь, не пускайте их сюда, нет, не пускайте! Прижавшись лицом к окну своей дверцы и вглядываясь в темень, Лео произнес: — Господи, да вы правы, это никакая не кошка. — Давай быстрее! — закричал Джек. В этот момент существо прыгнуло и ударилось в стекло перед самым лицом Лео. Стекло треснуло, но не разбилось. Лео взвизгнул, подпрыгнул, отпрянув от окна и навалившись на Берта. Берт резко нажал на газ. Мотор взревел, и колеса начали прокручиваться на месте. Ужасное существо прилипло к треснувшему стеклу. Пенни и Дэйви закричали. Ребекка старалась отвлечь их от монстра. Он же смотрел на всех своими горящими глазами. Чувствуя жар этого нечеловеческого взгляда, Джек боролся с сильным искушением разрядить свой револьвер в мерзкую тварь, хотя уже знал, что убить ее не сможет.. Шины наконец нащупали твердую почву, и джип рванулся с места. Берт одной рукой держал руль, а другой отталкивал от себя Лео, но тот не собирался менять позу. Гоблин лизал стекло своим черным языком. Джип был уже совсем близко с разделительным барьером посередине магистрали, и тут его начало заносить. Джек закричал: — Чертпобери, держи машину! — Я не могу управлять, когда он вцепился в меня, — ответил Берт, указывая на Лео. Он всадил локоть в бок напарника с достаточной силой, чтобы добиться результата, которого не дали предыдущие толчки. Лео немного придвинулся в сторону окна. Кошкоподобная тварь оскалилась, засверкали два ряда заостренных зубов. Берту удалось справиться с машиной буквально за секунду до того, как она могла удариться о барьер. Он снова нажал на газ. Мотор взревел. Вокруг них взлетели вихри снега. Лео издавал какие-то странные всхлипывающие звуки, дети кричали, а Берт зачем-то начал сигналить, будто рассчитывая этим звуком испугать и отогнать гоблина. Джек встретился взглядом с Ребеккой и подумал, что у него самого, наверное, такое же растерянное лицо, как и у нее. В конце концов тварь не удержалась на стекле и полетела в сугроб. Лео пробормотал: — Боже милостивый! И только тут неуверенно занял свое сиденье. Джек посмотрел в заднее окно. Из снежной пелены появились другие твари. Кошмарные существа прыгали вслед за машиной, но не могли за ней угнаться и быстро отставали. Вскоре они исчезли из виду. Они все равно оставались в городе. Где-то рядом. Везде.* * *
Снова сарай. Тот же жаркий, сухой воздух. Запах Ада. И снова оранжевый свет стал ярче, чем прежде. Ненамного, чуть-чуть. И воздух стал чуть горячее, и шум, исходящий из ямы, стал более громким и злым, хотя по-прежнему больше напоминал шепот, чем крик. Опять земля по краям ямы стала крошиться и сыпаться вниз, исчезая в пульсирующем оранжевом свечении. Когда диаметр ее вырос на пять сантиметров, все успокоилось. Яма стала больше.Часть III. СРЕДА, 23.20 — ЧЕТВЕРГ, 2.30
Вы знаете, Толстой, как и я, не увлекался всяческими суевериями вроде наук и медицины.Джордж Бернард Шоу
Непризнание суеверий само по себе суеверно.Фрэнсис Бэкон
Глава 7
В подземном гараже полицейского управления горел неяркий свет, в углах было темно. Тени громоздились на стенах, подобно плесени, заполняли промежутки между машинами, облепили бетонный потолок, наблюдая сверху за всеми. Сегодня Джек боялся гаража. Сегодня вездесущие тени казались живыми и враждебными, подкрадывались поближе с осторожностью и расчетливостью разумного существа. Ребекка и дети, видимо, чувствовали то же самое. Они прижались друг к другу и тревожно, напряженно озирались вокруг. Джек старался внушить себе, что пока все идет нормально. К этому моменту гоблины наверняка потеряли их след. По крайней мере, говорил себе Джек, сейчас мы в безопасности. Но, думая так, чувствовал он совсем иное. Мысли и чувства были диаметрально противоположны. Этой ночью по гаражу дежурил Эрни Пьюкас. У него были густые черные волосы, зачесанные назад, и тонкие усики, странно примостившиеся на массивной верхней губе. Похлопывая по заявке в журнале, Эрни сказал: — Но ведь вы уже взяли по машине. Джек настаивал: — Нам нужны еще две. — Это противоречит инструкции, и я… Ребекка не выдержала: — К черту инструкции, дайте нам машины! Сейчас же! — А где те две, которые вы уже получили? Вы их что, разбили? Джек ответил: — Конечно, нет. Просто они не на ходу. — Поломки? — Да нет, застряли в снегу, — соврал Джек. Возвращаться за машинами к ее квартире или к Джэмисонам нельзя — несомненно, исчадия ада поджидают их в этих местах. Эрни переспросил: — В снегу? И все? Ну, тогда мы пошлем техничку, она вытащит вас. Джек, всматриваясь в темные углы гаража, проговорил с нетерпением: — У нас нет времени. Две машины нужны нам прямо сейчас. — Но в инструкции сказано… Ребекка вмешалась в их разговор. — Послушайте, по-моему, специальной группе по расследованию дела Карамацца было выделено несколько машин, разве не так? Эрни ответил: — Конечно, но ведь… — Разве они не стоят сейчас здесь, пока не востребованные? — Да, до сих пор ими никто не пользовался, кроме вас. Но, может быть… — А кто руководит группой? — требовательно спросила Ребекка. — Ну… вы. Вы оба. — Так вот, у нас срочное дело, связанное с делом Карамацца, и нам нужны эти машины. — Но вы уже получили машины, а инструкция гласит, что вы должны представить рапорт об их поломке или утрате, прежде чем можете получить… Ребекка гневно прервала его: — К черту эту вонючую бюрократию! Сейчас же давайте нам новые тачки, или, видит Бог, я вырву ваши маленькие усики, заберу ключи и сама возьму машины. Эрни уставился на Ребекку широко раскрытыми глазами, пораженный как самой угрозой, так и напором, с которым все это было сказано. Теперь Джек рад был увидеть в Ребекке грозную амазонку. — Быстрее! — И она двинулась к Эрни. Эрни засуетился. И достаточно расторопно. Пока они ждали у будки диспетчера первую машину, Пенни переводила напряженный взгляд из одного темного угла в другой. Снова и снова ей казалось, что они здесь, в темноте: какое-то движение между двумя патрульными машинами; какое-то волнение во тьме позади полицейского фургона; какая-то злая тень в этом черном углу; зоркая, голодная тень прячется среди обыкновенных теней вон в том углу; какие-то передвижения позади лестницы и возле лифта; что-то по-воровски крадется по темному потолку и… «Прекрати! Это всего лишь воображение! — скомандовала себе Пенни. — Если бы здесь были гоблины, они бы уже давно напали на нас». Дежурный вскоре вернулся на слегка помятом голубом «Шевроле» — на машине не было полицейских знаков, но имелась большая антенна, указывающая на наличие рации. Эрни поспешил за второй машиной. Джек и Ребекка тщательно осмотрели все внутри, желая удостовериться в отсутствии гоблинов. Пенни не отходила от отца. Она знала, что им предстоит расстаться — этого требовал план их дальнейших действий. Она, Дэйви и Ребекка несколько часов будут ездить по главным магистралям города, где работают снегоуборочные машины и где шансы забуксовать минимальные. Застревать в снегу им нельзя, гоблины придут, как только они остановятся. Их безопасность — постоянное движение. Папа в это время поедет в Гарлем, чтобы повидаться с человеком по имени Карвер Хэмптон, который, вполне возможно, поможет разыскать Лавелля. Затем папа займется этим проклятым колдуном. Папа уверен, что он вне опасности. Он говорит, что по какой-то непонятной причине заклинания Лавелля не оказывают на него никакого действия, поэтому для него надеть наручники на Лавелля не сложнее и не опаснее, чем на любого другого преступника. Пенни так хотелось верить, что он прав, но сердцем она чувствовала, что может никогда больше не увидеть отца. Настало время отправляться в путь. Пенни старалась не плакать и не виснуть на отце. Она мужественно забралась в машину вместе с Дэйви и Ребеккой. Уже выезжая из гаража по пандусу, она оглянулась. Отец махал им рукой. Они выехали на улицу, свернули направо, и отец скрылся из виду. Начиная с этого момента Пенни казалось, что он уже мертв.* * *
Глубокой ночью Джек припарковал машину перед магазином Хэмптона. Начало первого. Зная, что Карвер жил над лавкой, он решил, что у жилого помещения должен быть отдельный вход. Джек обошел дом и убедился, что он прав. Весь второй этаж был освещен. Светилось буквально каждое окно. Стоя спиной к ветру, Джек нашел кнопку звонка сбоку от двери. Он не удовлетворился коротким звонком, а не отнимал палец от кнопки, так что он даже заныл от напряжения. Джек слышал звонок даже сквозь закрытую дверь, внутри, должно быть, хорошенькая какофония. Если Хэмптон увидит Джека в глазок и решит не открывать, то ему лучше надеть пару хороших наушников. Через пять минут голова у него заболит, а через десять — начнет раскалываться. Если и это не подействует, Джек продолжит операцию: найдет пару кирпичей, бутылок или других тяжелых предметов и будет бросать их в окна Хэмптона. Его не пугала перспектива быть обвиненным в превышении служебных полномочий, его не пугала даже угроза потери полицейского значка. Он уже переступил грань вежливых просьб и цивилизованных разговоров. К его удивлению, дверь раскрылась тут же, и на пороге возник Карвер Хэмптон. Джеку он показался выше и массивнее обычного. Он не хмурился, как можно было ожидать, а улыбался. Такое впечатление, что даже рад неожиданному визиту. Прежде чем Джек открыл рот, Хэмптон воскликнул: — С вами все в порядке?! Слава тебе Господи! Спасибо, Господи! Входите. Вы не представляете, как я рад вас видеть. Проходите же, проходите, не стойте на пороге. Небольшая прихожая за дверью сразу упиралась в лестницу. Джек вошел внутрь, а Хэмптон запер входную дверь, не переставая говорить: — Господи, как я волновался! С вами все в порядке? Похоже, что да. Скажите, ради Бога, что с вами все в порядке! Джек ответил: — Со мной все в порядке, но пришлось туго. Я должен о многом с вами поговорить… — Пойдемте наверх и расскажете мне все, что случилось, до мельчайших подробностей. Я знаю, что это ночь сплошных событий, я их все время чувствовал. Стягивая на ходу заледенелую обувь и поднимаясь за Хэмптоном по узкой лестнице, Джек сказал: — Должен вас предупредить: я пришел сюда за помощью, и вы поможете мне, хочется вам этого или нет. Ответ Хэмптона удивил Джека: — С огромным удовольствием. Я сделаю все, что смогу. Абсолютно все. Наверху они оказались в уютной гостиной с множеством книжных полок у одной стены и вышитым гобеленом — на другой. Пол закрывал прекрасный бежево-голубой восточный ковер. Четыре роскошные настольные лампы с цветными стеклянными абажурами расставлены были по комнате с таким мастерством, что их красота открывалась отовсюду, откуда бы на них ни смотрели. Два больших торшера стояли возле двух больших кресел. Все светильники были включены, а там, где все-таки ложились тени, стояли связки свечей. Их было не менее пятидесяти. Хэмптон заметил, что свечи удивили Джека, и пояснил: — Сегодня ночью, лейтенант, в городе два вида темноты. Первый — просто отсутствие света. А второй — это физическое присутствие высшего сатанинского зла. Он связан с первым и прикрывается им. Эта тьма — здесь, в городе! Поэтому я не хочу, чтобы в такую ночь рядом со мной были хоть какие-то тени. Никто не знает, когда с виду безвредная тень может оказаться чем-то совсем другим, странным и опасным. Раньше Джек не принял бы всерьез предостережения Карвера Хэмптона. В лучшем случае он бы подумал, что с парнем не все в порядке, что он просто сумасшедший. Теперь же он ни секунды не сомневался в истинности всего, что говорил Хунгон. Правда, Джек не боялся, что тени схватят его вдруг неосязаемой, но тем не менее смертельной хваткой. Однако сегодняшний вечер научил его многому, он уже не исключал и такую возможность. Так что яркий свет — это то, что нужно. Хэмптон вздохнул: — Вы, кажется, сильно замерзли. Давайте ваш плащ, я повешу его над батареей. И перчатки тоже. Присаживайтесь, я принесу вам немного бренди. Джек ответил, не расстегивая плаща и не снимая перчаток: — У меня нет времени на бренди. Я должен найти Лавелля. Я… — Чтобы найти и остановить Лавелля, следует основательно подготовиться, а это займет у вас некоторое время. Только полный дурак бросится в эту бурю, имея за душой лишь расплывчатый план действий. А вы явно не дурак, лейтенант. Так что давайте плащ. Я помогу вам, но на это потребуется не пара минут. Джек вздохнул, вылез из своего тяжелого плаща и подал его Хунгону. Через несколько минут он сидел в кресле, обхватив руками бокал с «Реми Мартен». Ботинки и носки его лежали на батарее, и впервые за весь вечер он почувствовал тепло в ногах. Хэмптон повернул рычажок на полке камина, сунул туда длинную спичку и зажег газ. Между искусственных керамических бревен заполыхал огонь. Хэмптон пояснил: — Не столько для тепла, сколько для того, чтобы еще отогнать тьму. Спичку он затушил и бросил в медную пепельницу на столе. Сел в другое кресло, напротив Джека. Их разделял чайный столик, на котором находились два красивых хрустальных изделия фирмы «Лалик»: шар с зелеными ящерицами вместо ручек и высокая ваза с горлышком-амфорой. Хэмптон начал: — Если я составляю план действий, то придется рассказать все, что… Джек не дослушал фразу до конца. — Вначале я задам несколько вопросов. — Хорошо. — Почему вы отказались помогать мне раньше? — Я уже объяснял: испугался. — А сейчас не боитесь? — Даже больше, чем раньше. — Тогда почему же хотите помочь именно сейчас? — Я виноват, и мне стыдно за себя. — Здесь должно быть что-то еще. — Вообще-то вы правы. Видите ли, будучи Хунгоном, я регулярно обращаюсь к добрым богам Рады за помощью — и себе, и моим клиентам, и знакомым. Именно боги придают силу моим заклинаниям. В ответ на это я должен противостоять злу повсюду, где встречу его, в любом обличье, в том числе в лице служителей Конго и Петро. Я же сегодня уклонился от своих обязанностей, нарушил все свои обязательства перед богами. — Если бы вы снова отказали мне в помощи… стали бы боги Рады помогать вам в дальнейшем? Или они бросили бы вас, лишили магической силы? — Надеюсь, они бы не отказались от меня. — Но это возможно? — Теоретически да. — Так что в определенной степени вы преследуете и собственные интересы? Это очень хорошо. Мне это импонирует. Так спокойнее. Хэмптон опустил глаза, посмотрел на свой бокал, затем снова поднял взгляд на Джека: — Я должен помочь вам еще по одной причине: ставка в этом деле оказывается куда выше, чем я думал сначала, когда указал вам на дверь. Желая сокрушить клан Карамацца, Лавелль приоткрыл Ворота Ада и выпустил группу дьявольских созданий, которые совершают убийства за него. Это сумасшедший, глупейший, болезненно горделивый шаг с его стороны, пусть даже он и считается сильнейшим Бокором. Он ведь мог вызвать дух дьявола и послать его разбираться с Карамацца. Не было необходимости открывать Ворота Ада и вызывать эти страшные существа в их физической форме. То, что он сделал, — сумасшествие! В данный момент Ворота только чуточку приоткрыты, и Лавелль держит пока ситуацию под контролем. Я чувствую это посредством осторожного использования моей собственной силы. Но в очередном приступе безумия Лавелль может раскрыть Ворота настежь — просто ради удовольствия. Или он устанет, ослабеет, и силы на другой стороне Ворот сокрушат их помимо его воли. В любом из случаев полчища чудовищ ринутся в этот мир и устроят кровавую резню, убивая честных, справедливых, достойных людей. Выживут только злые, но они очень скоро поймут, что тоже оказались в аду, только на Земле.* * *
Ребекка проехала по авеню Америка почти до Центрального парка, сделала запрещенный разворот на перекрестке и опять направилась к центру города, не опасаясь машин. Кое-какой транспорт на улицах, правда, был — снегоуборочный, медпомощи, даже несколько радиотакси. Но по большей части дороги были пустынны. Везде только снег. Снежный покров достигал уже тридцати сантиметров, а метель все не унималась. Дорожной разметки не было видно даже там, где прошли снегоуборочные машины — их щетки, руки-лопаты не доходили до асфальта. Водители не обращали внимания ни на дорожные знаки, ни на светофоры, в большинстве своем залепленные снегом. Усталость у Дэйви наконец пересилила страх. Он заснул глубоким сном на заднем сиденье. Пенни бодрствовала, хотя глаза у нее были красными от усталости. Она стойко противилась сну, зная, что не уснет, если будет разговаривать. К тому же ей казалось, что так легче отогнать гоблинов. Она гнала от себя сон еще и потому, что, видимо, подходила к разрешению очень важного для себя вопроса. Ребекка никак не могла понять, что у девочки на уме, и, когда Пенни добралась до этого вопроса, ее поразила проницательность ребенка. — Тебе нравится мой папа? Ребекка ответила не колеблясь: — Конечно, ведь мы же напарники. — Я хочу спросить, нравится ли он тебе больше, чем просто напарник? — Мы с ним друзья. И он мне очень нравится. — Больше, чем друг? Ребекка отвела глаза от заснеженной дороги и встретила взгляд Пенни. — А почему ты об этом спрашиваешь? — Просто мне… любопытно. Не зная, что сказать, Ребекка снова перевела взгляд на дорогу. Пенни не отставала: — Ну так что, больше, чем друг, да? — А если это было бы так, ты бы очень расстроилась? — Господи, да почему же? — Правда? — Ты хочешь сказать, что я была бы расстроена, думая, что ты хочешь занять место моей мамы, да? — Ну, иногда возникает такая проблема. — Но не со мной. Я любила маму и никогда ее не забуду, но я знаю, что она желает нам с Дэйви добра, а это возможно только в том случае, если у нас появится вторая мама, а то мы с Дэйви слишком повзрослеем и не сможем ее должным образом оценить. Ребекка чуть не рассмеялась, услышав наивное, доброе и в то же время поразительно мудрое высказывание девочки. Но она прикусила язык и постаралась сохранить обычное выражение лица, боясь, что Пенни не правильно расценит ее смех. Девочка была очень серьезна. — Я думаю, это будет замечательно: ты и папа. Ему кто-то нужен. Ну, ты знаешь… кто-то, кого он смог бы полюбить. — Он очень любит вас с Дэйви. Я никогда еще не встречала отца, который бы так сильно любил своих детей и так заботился о них. — Я это понимаю, но ему нужен кто-то, кроме нас. Девочка помолчала минуту, очевидно, над чем-то задумавшись, потом сказала: — Как я понимаю, существует всего три типа людей. Первый — это такие дарители. Они всегда дают, дают, дают и ничего не берут взамен. Таких не очень-то много. Я думаю, что таких людей делают святыми через сто лет после их смерти. Второй тип — дарящие и берущие. Их большинство. Я тоже, по-моему, отношусь к этому типу. Ну а в самом низу, на дне, те люди, которые всю жизнь только и делают, что берут, берут, берут, а взамен ничего никогда никому не дают. Так вот, я не хочу сказать, что папа — чистый даритель, я прекрасно знаю, что он не святой, но в то же время он и не дарящий-берущий. Он что-то среднее между двумя первыми категориями, он отдает намного больше, чем берет. Знаешь, он больше любит отдавать, а не брать. Ему нужно любить еще кого-то, кроме меня и Дэйви, потому что у него гораздо больше любви, чем только для нас. Она вздохнула и покачала головой, выказывая расстройство и почти отчаяние. — Я хоть что-нибудь толковое сказала? Ребекка ответила ей: — Ты все говорила абсолютно правильно, поразительно правильно для девочки одиннадцати лет. Ты очень верно все подметила. — Почти двенадцатилетней, — с достоинством уточнила Пенни. — Для своего возраста ты на редкость разумна. — Спасибо, — серьезно ответила Пенни. Навстречу, с пересекавшей авеню Америка улицы, вырвался бушующий поток ветра — он нес мощный снежный заряд с востока на запад. Казалось, что впереди на магистрали выросла белая стена. Ребекка сбросила скорость, включила дальний свет и осторожно проехала сквозь эту стену. — Я люблю твоего отца. Сказав это Пенни, она осознала вдруг, что еще не говорила этого самому Джеку. Такое признание вырвалось у нее впервые за последние двадцать лет. Впервые после смерти дедушки она призналась, что кого-то любит. И сказать эти слова оказалось легче, чем она предполагала. — Я люблю его, а он любит меня. — Это просто сказка! — с радостной улыбкой пропела Пенни. Ребекка улыбнулась в ответ. — Да, это сказка. — А вы поженитесь? — Подозреваю, да. — Вдвойне сказка! — Нет, втройне. — После свадьбы я буду называть тебя мамой, а не Ребеккой. Если ты согласишься. Ребекка удивилась слезам, навернувшимся ей на глаза, и, проглотив комок в горле, сказала: — Я была бы очень рада этому. Пенни облегченно вздохнула и откинулась на своем сиденье. — Я очень волновалась за папу, я боялась, что этот колдун может убить его. Но теперь, когда я знаю о тебе и о нем… я думаю, это поможет ему. Очень важно, что теперь он будет идти домой не только ко мне и Дэйви, но и к тебе. Я все еще за него боюсь, но не так сильно, как раньше. Ребекка ответила девочке: — С ним все будет хорошо. Вот увидишь, с ним все будет отлично. Мы пройдем через эти испытания, и без потерь. Посмотрев на девочку минуту спустя, Ребекка увидела, что она крепко спит. Она продолжала вести машину сквозь снежные вихри. Пенни уже не слышала, как Ребекка проговорила: — Возвращайся домой, Джек. Ради Бога, возвращайся к нам домой.* * *
Джек рассказал Карверу Хэмптону все, начиная с разговора по телефону-автомату неподалеку от «Рады» и до поездки в гараж за новыми машинами и решения кружить с детьми по городу на одной из машин. Пока Джек рассказывал, Хэмптон сидел неподвижно, забыв о коньяке. Но когда Джек замолчал, закончив печальное повествование, негр, передернув плечами, опрокинул в рот все содержимое бокала. Джек продолжил: — Когда вы сказали, что эти существа пришли из ада, многие рассмеялись бы, но только не я. Я вам верю, хотя и не могу представить, как попали сюда эти твари. При этих словах Хэмптон вдруг поднялся и нервно зашагал по комнате. — Я знаю, какой ритуал он мог использовать. Это по силам только Бокору высшего класса. На другого, менее сильного колдуна, древние боги не обратили бы внимания. Чтобы осуществить ритуал, Бокор должен сперва выкопать в земле яму, похожую на кратер, глубиной примерно в метр. Бокор произносит определенные заклинания, использует определенные травы… и окропляет яму кровью кошки, крысы и человека. Когда он произносит последнее, очень длинное заклинание, дно ямы отдаляется от него. Сверхъестественным образом яма углубляется, в конечном итоге она соприкасается с Воротами Ада и превращается в своеобразный мост от преисподней к земле. Из ямы поднимается жар, запах серы, и дно ее постепенно расплавляется. Когда Бокор вызывает демонов, через Ворота Ада они проникают в яму, а из нее — на землю. На этом пути они получают физическое обличье, дьявольское обличье. Они состоят из земли, через которую проходят. Их туловища сделаны из глины. И тем не менее они мягкие, а главное — живые. Из описаний я могу заключить, что встретившиеся вам существа были малыми демонами или просто воскресшими порочными людьми, попавшими однажды в ад и ставшими его слугами. Старшие демоны и древние злые боги были бы крупнее и куда ужаснее на вид, намного сильнее и агрессивнее. Джек заметил: — Но и те «зверюшки», с которыми мы столкнулись, тоже были достаточно страшными. Хэмптон, вышагивая из одного угла в другой, уточнил: — Существует множество древних демонов, которые способны убить человека одним своим видом. Джек сделал глоток — сейчас для него это было необходимо. — Небольшие размеры встреченных вами существ, — рассуждал Хэмптон, — подтверждают мое предположение о том, что Ворота приоткрыты чуть-чуть. Эта щель слишком мала для старших демонов и богов тьмы. — И слава Богу! Карвер Хэмптон согласился: — Да, спасибо за это всем добрым богам.* * *
Ребекка не могла припомнить другой такой ночи. Ветер был таким сильным, что раскачивал машину, и приходилось тратить немало сил на то, чтобы держать руль. «Дворники» разметали снег по лобовому стеклу. Дети спали, и Ребекке было очень одиноко. Внезапно она услышала какой-то шум под днищем машины: тум-тум. Звук был достаточно громким, чтобы она его зафиксировала, но не таким сильным, чтобы разбудить детей. И опять: тум-тум. Ребекка посмотрела в зеркало заднего вида, пытаясь разглядеть, не наехала ли она на что-нибудь. Но заднее стекло было покрыто коркой льда, а из-под колес вылетали такие снопы снега, что из-за них вообще ничего не было видно. Она взглянула на приборную доску: все в норме, все в порядке. Масло, бензин, напряжение, аккумулятор — никаких признаков неполадок. Спокойны сигнальные лампочки, на месте стрелки приборов. Машина продолжала двигаться сквозь метель. Видимо, подозрительный звук не связан с техникой. Ребекка проехала полквартала — звук не повторялся. Затем еще один квартал, второй… Она начала помаленьку успокаиваться. Спокойно, не нервничай, остынь! Сейчас все нормально, и дальше все тоже будет нормально. С тобой все в порядке. С детьми тоже. И с машиной все в полном порядке. Тум-тум-тум…* * *
В камине плясали языки пламени. Лампы со стеклянными абажурами горели мягким светом, в углу мерцали свечи, а в окна заглядывала черная ночь. — Почему эти существа меня не трогают? Почему колдовство Лавелля не направлено против меня? — спросил Джек. — Тут может быть только один ответ: никакой Бокор не в силах повредить добродетельному человеку. Такие люди хорошо защищены от злых сил. — Что вы хотите сказать? — Только то, что сказал. Вы — добродетельный человек. На совести у вас незначительные грехи. — Вы, наверное, шутите. — Нет. Всей жизнью вы заработали иммунитет от темных сил, проклятий и заклинаний колдунов. Даже такие, как Лавелль, не могут вас достать. — Это какая-то ерунда. — Джек чуть не рассмеялся, представив себя в роли святого. Это не для него. — В противном случае Лавелль уже давно убил бы вас. — Я же не ангел. — А я этого и не говорил. Конечно, вы не святой. Просто добродетельный человек с чистой совестью. Этого вполне достаточно. — Чепуха. Никакой я не праведник. — Верно. Считать себя праведником — большой грех, грех самовозвышения и гордыни. Самодовольство, непоколебимая уверенность в собственном превосходстве над остальными людьми, отрицание своих ошибок — все это не ваш удел. — Вы начинаете меня смущать, — заметил Джек. — Вот видите? Вы даже не страдаете тщеславием. Джек поднял свой бокал. — А как быть с этим? Я выпиваю. — Напиваетесь? — Нет. Но зато я нецензурно ругаюсь, даже поминаю всуе имя Господне. — Это мелкие грехи. — Я не хожу в церковь. — Посещение церкви не главное. Важнее всего ваше отношение к окружающим. Запомните это. Видимо, поэтому Лавелль и не может ничего поделать. Вы когда-нибудь воровали? — Нет, никогда в жизни. — Обманывали людей в деньгах? — Я всегда соблюдал свои интересы, но никогда никого не надувал. — Вам приходилось брать взятки? — Нет. Полицейский, берущий взятки, — это уже не полицейский. — Вы клеветник или сплетник? — Нет. Бросьте эту ерунду. Джек подался немного вперед и, упершись взглядом в Хэмптона, спросил: — А как насчет убийств? Я убил двоих. Может ли убийца оставаться добродетельным человеком? Думаю, что не может, и это сильно бьет по вашему основному тезису. Хэмптон был ошарашен, но быстро пришел в себя. — Я понимаю, вы имели в виду, что убили тех людей на службе, во время операции? — Это недостаточно веская причина для оправдания. Убийство есть убийство, разве не так? — В чем были виноваты эти люди? — Первый сам был убийцей. Он ограбил несколько магазинов, торговавших спиртным, и каждый раз убивал владельцев. Второй был насильником. Двадцать два изнасилования за полгода. — Было ли необходимо убивать этих людей? Вы могли взять их, не прибегая к оружию? — В обоих случаях они первыми открывали огонь. Хэмптон улыбнулся, и лицо его смягчилось. — Самооборона — это не грех, лейтенант. — Да? Почему же мне было так плохо, после того как я нажимал на курок? Оба раза. Я словно вымазался грязью. Бывает, мне это снится — тела, разорванные пулями моего револьвера. — Только добродетельный человек способен испытывать угрызения совести из-за убийства таких гадких животных, каких застрелили вы. Джек покачал головой. Он не чувствовал никакого желания смотреть на себя новыми глазами. — Я всегда считался обыкновенным средним парнем, не хуже, но и не лучше других. Я подвержен тем же соблазнам, что и любой человек. Несмотря на все, что вы тут наговорили, я вижу себя именно таким. Хэмптон сказал: — И так будет всегда. Скромность — тоже одна из добродетелей. Но главное то, что для борьбы с Лавеллем необязательно верить, что вы — праведник. Главное — быть таковым. Джек в отчаянии добавил: — Внебрачная связь — это ли не грех? — Грех только в том случае, когда она вызвана сексуальной распущенностью, связана с прелюбодеянием, изнасилованием, сексуальная одержимость греховна, поскольку нарушает закон, гласящий: «Всего в меру». Вы одержимы сексом? — Нет. — Прелюбодеяние — грех, потому что оно нарушает брачные узы, является предательством, жестокостью по отношению к ближнему. Когда ваша жена была жива, вы ей изменили хоть раз? — Конечно же, нет. Я любил Линду. — Перед вашей женитьбой или после нее вы спали с чьей-нибудь женой? Нет? Тогда вы невиновны в прелюбодеянии. А на насилие, я знаю, вы не способны. — Я не воспринимаю вашу идею о своей праведности. Мне от нее становится плохо. Слушайте, когда я был женат на Линде, я ее никогда не обманывал, но обращал внимание на других женщин, некоторые мне нравились, я хотел их. Пусть даже только фантазировал, но мысли мои не были чисты. — Греховны не мысли человека, а его деяния. Джек твердо сказал Хэмптону: — Я-не святой. — Повторяю: чтобы найти и остановить Лавелля, вам не надо в это верить. Достаточно того, что есть.* * *
Ребекка прислушивалась к машине с растущей тревогой. Теперь, помимо периодического постукивания, внизу раздавались другие звуки: скрежет, дребезжание, скрип. Не очень громкие, но от этого не менее беспокойные. Мы в безопасности, пока находимся в движении. Ребекка затаила дыхание, боясь услышать, как глохнет двигатель. Но звуки вновь прекратились. Она проехала четыре квартала под урчание мотора и свист ветра. Однако спокойствия как не бывало. Что-то не в порядке, вот-вот что-то случится. Странно, но тишина и напряженное ожидание оказались намного хуже, чем эти непонятные звуки и скрип. Не очень громкие, но от этого не менее беспокойные. Мы в безопасности, пока находимся в движении. Ребекка затаила дыхание, боясь услышать, как глохнет двигатель. Но звуки вновь прекратились. Она проехала четыре квартала под урчание мотора и свист ветра. Однако спокойствия как не бывало. Что-то не в порядке, вот-вот что-то случится. Странно, но тишина и напряженное ожидание оказались намного хуже, чем эти непонятные звуки.* * *
Связанный со смертоносными существами, которых он вызвал из ямы, Лавелль молотил пятками по кровати и царапал пальцами темноту. Простыня под ним промокла насквозь, но Лавелль не замечал этого. Он чувствовал запах детей Доусона. Они были очень близко. Ждать осталось недолго, считанные минуты. А потом будет кровавое убийство.* * *
Джек допил бренди, поставил стакан на столик и сказал: — В вашем объяснении есть серьезный пробел. — Что вы имеете в виду? — заинтересовался Хэмптон. — Если Лавелль не может уничтожить меня, потому что я добродетелен, то почему же он готов нанести вред моим детям? Они же абсолютно невинны и чисты. Они чертовски хорошие дети. — С точки зрения богов, дети не могут считаться праведными. Они просто невинны. Добродетель не дается от рождения, мы приобретаем ее, только прожив праведно десятки лет, сознательно выбирая между добром и злом в тысячах ситуаций повседневной жизни. — Вы хотите сказать, что Бог, или добрые боги, как вам больше нравится, защищают добродетельных, но не безвинных? — Да. — Невинные маленькие дети могут пострадать от этого чудовища, а я — нет? Но это же не правильно, просто несправедливо, наконец! — У вас слишком обостренное восприятие несправедливости, реальной и вымышленной. Это потому, что вы — добродетельный человек. Теперь уже Джек не усидел. Он вскочил и забегал из угла в угол. Хэмптон спокойно наблюдал за ним. — Меня угнетают эти споры! — Здесь моя область, а не ваша. Я — теолог, хотя и без университетского диплома. Но я не просто любитель. Мои родители были убежденными католиками, а я в поисках веры изучил все религии, большие и малые. И только после этого убедился в реальности и эффективности магии — единственной веры, которая всегда старалась приспособиться к другим. Ведь белая магия воспринимает элементы каждой веры, с которой вступает в контакт. Возникает синтез многих религиозных доктрин, противоположных и даже враждебных друг другу, как непримиримы между собой, к примеру, христианство и иудаизм, культ солнца и пантеизм. Я имею прямое отношение к религии, так что здесь не стоит со мной тягаться, лейтенант, и спорить тоже не стоит. — А как с Ребеккой, моим партнером? Ее укусило одно из этих существ, но она же, видит Бог, не злой и не испорченный человек? — Существуют разные степени чистоты и доброты. Человек может быть совсем неплохим, но и не добродетельным, так же, как не всякий добродетельный человек претендует на святость. Я имел честь встретиться с мисс Чандлер только однажды, вчера, но, судя по тому, что видел, считаю ее в определенной степени замкнутой. Она избегает людей и отстраняется от жизни. — У нее было очень тяжелое детство. Долгое время она боялась полюбить или хотя бы выказывать к другим сильные чувства. — Вот-вот. Человек не может завоевать расположение Рады, получить иммунитет против сил зла, если он отгородился от жизни и избегает ситуаций, когда надо делать выбор между добром и злом, правильным и ложным. Только внутренняя готовность к выбору позволяет человеку стать добродетельным. Стоя у камина, Джек согревался его теплом, как вдруг язычки пламени напомнили ему о глазницах гоблинов. Он повернулся к Хэмптону. — Хорошо, допустим, я — добродетельный человек. Но как это поможет мне найти Лавелля? — Мы должны произнести определенные заклинания. И еще вам потребуется пройти через обряд очищения. После этого боги Рады укажут вам путь к Лавеллю. — Тогда не будем терять времени. Давайте начинать. Хэмптон поднялся из своего кресла. Человек-гора. — Только не очень торопитесь и не идите напролом. Нужно соблюдать осторожность. Джек подумал о Ребекке, о детях, делающих круги по городу, чтобы не попасть в лапы гоблинов, и сказал: — Какая осторожность? Ведь Лавелль ничего не может мне сделать? — Да, боги охраняют вас от колдовства, от сил зла и темноты. Искусство Лавелля как Бокора в данном случае не срабатывает. Но ведь вы не бессмертны, вас подстерегают все опасности этого мира. Если Лавелль готов ответить за преступления и предстать перед судом, он просто возьмет пистолет и выстрелит вам в голову.* * *
На Пятой авеню из-под машины стало доноситься какое-то скрежетание. На этот раз звуки разбудили детей. Они слышались уже не только снизу, но и откуда-то из-под капота. Дэйви привстал, держась обеими руками за переднее сиденье, а Пенни села и, моргая сонными глазами, спросила: — Что это за шум? Ребекка ответила, что, скорее всего, это какие-то проблемы с мотором, хотя машина двигалась вполне нормально. — Это гоблины, — сказал Дэйви голосом, полным ужаса и отчаяния. — Не может быть, — ответила Ребекка. Пенни заметила: — Да, они под капотом. Ребекка, успокаивая их, сказала: — С тех пор, как мы уехали из гаража, мы ни разу не останавливались. Они никак не могли попасть в машину, никак. Пенни нашла другой довод: — Значит, они залезли в машину еще в гараже. — Нет, они бы напали на нас прямо там. — Может быть, они боялись папы. — Боялись, что он им задаст, — сказал Дэйви. — Как он задал тому, который прыгнул на тебя там, у дома тети Фэй, — подхватила Пенни. — Да, поэтому гоблины решили прицепиться к машине снизу и подождать, пока мы останемся одни. — Пока папа не сможет защитить нас. Ребекка знала, что они правы. Она не хотела признаться себе в этом, но они были правы. Противные звуки сзади и спереди стали нестерпимо громкими. — Они раздирают машину на части, — сказала Пенни. — Они хотят остановить машину! — закричал Дэйви. Пенни задрожала: — Они заберутся сюда. Заберутся, и мы ничего не сделаем. Ребекка резко приказала: — А ну прекратите! Мы выберемся, они до нас не доберутся, нет! На доске приборов загорелась красная лампочка с указателем «масло». Машина перестала быть их убежищем. Теперь она превратилась в ловушку. — Они не доберутся до нас. Клянусь, я не допущу. Говоря эти слова, Ребекка пыталась больше убедить себя, чем детей. Теперь их перспектива выжить становилась поистине призрачной. Впереди, менее чем в квартале от них, сквозь слой падающего снега Ребекка увидела собор святого Патрика. Как огромный корабль в холодном ночном море, массивное это строение занимало целый квартал. Ребекка подумала, что демоны черной магии вряд ли посмеют проникнуть в церковь. Они, должно быть, немногим отличаются от вампиров, которых она видела в фильмах. Значит, и для них так же ужасен должен быть один вид распятия. Загорелась другая красная лампочка: перегрелся мотор. Несмотря на это, Ребекка до отказа надавила на газ, и машина рванулась вперед. Ребекка резко повернула и прямо по аллеям поехала к главному входу в собор. Мотор зачихал. Если надежда на собор была призрачная, то для них она была единственной.* * *
Обряд очищения требовал полного погружения в воду, специально подготовленную Хунгоном. Джек разделся в его ванной. Удивительно, он поймал себя на мысли, что искренне верит в колдовские ритуалы. Поначалу он думал, что, когда обряд начнется, ему станет смешно и неловко, но им овладели совсем иные чувства. Ванна была необыкновенно длинной и глубокой, занимала добрую половину комнаты. Хэмптон пояснил, что выбрал такую специально для ритуальных надобностей. Голосом, который казался чересчур тонким для человека его габаритов, Хэмптон начал читать молитвы и заклинания на смеси английского, французского и языков различных африканских племен. Одновременно куском зеленого мыла (Джеку показалось, что это «Весна в Ирландии») он нарисовал «веве» на внутренней поверхности ванны. Затем наполнил ее горячей водой, добавив разных трав и порошков, которые принес из магазина: высушенные лепестки роз, три пучка петрушки, смесь виноградных листьев, одну унцию сиропа из сахара, миндаля и апельсиновых цветков, порошок из лепестков орхидеи, семь капель душистой эссенции, семь разных отполированных камешков из водоемов Африки, три монетки, семь унций морской воды, взятой в акватории Гаити, щепоть пороха, столовую ложку поваренной соли, лимонный сок и еще ряд каких-то компонентов. По его приказу Джек опустился в пахучую воду. Она была довольно горячей, почти кипяток, но он стерпел. Над ванной клубами поднимался пар. Сев в воду, Джек убрал из-под себя монеты и камешки и ушел под воду так, что снаружи осталась только голова. Хэмптон произносил заклинания еще несколько секунд, затем сказал Джеку: — Погрузитесь в воду с головой и сосчитайте до тридцати. Джек закрыл глаза, вобрал побольше воздуха и съехал на спину. Он досчитал до десяти, когда ощутил вдруг какое-то покалывание во всем теле, от головы до пяток. Секунда за секундой он чувствовал, что становится как-то… чище. И не только телом, но и душой, сознанием. Дурные мысли, страх, напряжение, злость, отчаяние — все это постепенно вымывалось из него. В нем росла и росла готовность противостоять Лавеллю.* * *
Мотор заглох. Впереди неясно вырисовывался бруствер из снега. Ребекка нажала на тормоза. Они неожиданно провалились, но все же сработали. Машина с грохотом врезалась в гору снега, сильнее, чем она ожидала, но не настолько сильно, чтобы ушибить пассажиров. Тишина. Они были перед главным входом в собор святого Патрика. Дэйви вдруг сказал: — У меня что-то внутри сиденья, оно прорывается. — Что? — вскрикнула Ребекка, оборачиваясь к мальчику. Он стоял позади сиденья Пенни, прижавшись к нему всем телом, но глядя назад, на то место, где спал еще несколько минут назад. Ребекка вгляделась и увидела, как что-то движется под обшивкой этого сиденья. Послышалось сердитое шипение. Видимо, один из гоблинов забрался в багажник. Теперь он рвал и кусал обшивку сиденья, пытаясь проникнуть в машину. Ребекка сказала повелительным тоном: — Быстро к нам, Дэйви. Мы все выйдем через дверь Пенни и как можно быстрее, а затем побежим прямо в церковь. Издавая какие-то непроизвольные звуки, Дэйви перебрался вперед и уселся между Пенни и Ребеккой. В ту же секунду Ребекка почувствовала толчок под своими ногами — второй гоблин осуществлял прорыв через днище. Если пока было всего две твари и они занимались тем, что прокладывали путь в салон машины, можно было попытаться скрыться от них в соборе. Собственно, другого варианта у них не было. Оставался только этот. По сигналу Ребекки Пенни распахнула свою дверцу и выпрыгнула на улицу, в метель. Борясь с налетевшим ледяным ветром, Пенни поскользнулась на обледенелом тротуаре, но, взмахнув руками, кое-как сохранила равновесие и удержалась на ногах. Сердце у нее неистово колотилось. Она была готова к тому, что гоблины из-под машины сразу бросятся на нее, что их острые зубы снова рванут ее сапог и лодыжку. Но ничего подобного не случилось. Метель размывала свет уличных фонарей, делая его неясным, как в ночном кошмаре. Изломанная тень Пенни бежала впереди нее, пока она преодолевала огромный сугроб у края тротуара. Она отчаянно карабкалась на эту снежную гору, сотворенную снегоочистительными машинами, задыхаясь, вовсю работая руками и ногами. Снег попадал ей в лицо, забивался в перчатки и ботинки. Наконец она спрыгнула на тротуар, где снежный слой был тонким, и направилась к собору, не оглядываясь назад, боясь задержаться хоть на секунду, боясь снова увидеть всех этих гоблинов, собравшихся в вестибюле кирпичного дома. Ступеньки, ведущие к главному входу в собор, утонулив снегу, но Пенни ухватилась за бронзовые перила и продвигалась вдоль них, как по указателю пути. Вдруг она подумала, что в такой поздний час собор может быть закрыт. Или он открыт круглосуточно? Если нет, они погибли. Пенни добралась до центральной двери, взялась за ручку и потянула ее к себе. Вначале ей показалось, что дверь закрыта, потом до нее дошло, что дверь просто тяжелая. Она ухватилась за ручку обеими руками, потянула ее на себя что есть силы, распахнула дверь и только тогда обернулась назад. Дэйви уже преодолел две трети ступеней. Дыхание вырывалось из него вместе с клубами белого пара. Выглядел он маленьким и хрупким, но явно не сдавался. Ребекка скатилась с кучи снега на тротуар, но, оступившись, упала на колени. Два гоблина за ней уже добрались до вершины снежной горы. Пенни вне себя закричала: — Они сзади! Быстрее! Упав на тротуар и услышав крик Пенни, Ребекка вскочила на ноги, но успела сделать лишь шаг, когда гоблины, один — похожий на ящерицу, другой — на кошку, обогнали ее, даже не посмотрев в ее сторону. Они не тронули Ребекку, она их абсолютно не интересовала. Им нужны были только дети. Дэйви уже стоял у дверей собора рядом с Пенни. Оба что-то кричали Ребекке. Гоблины достигли лестницы и промчались до ее половины за какую-нибудь долю секунды, но вдруг резко замедлили движение, как будто осознав, что приближаются к священному месту. Теперь они медленно и осторожно перебирались с одной ступеньки, наполовину скрытой под толстым слоем снега, на другую. Ребекка крикнула Пенни: — Зайдите в собор и закройте дверь! Но Пенни задержалась, надеясь, видимо, на то, что Ребекка сможет обогнать гоблинов. Однако, как медленно они ни двигались, гоблины взобрались уже на самый верх лестницы. Ребекка снова крикнула Пенни, чтобы они уходили, но девочка колебалась. Гоблины были на последней ступеньке, всего в паре метров от детей… Вот они уже на верхней площадке… Ребекка отчаянно закричала, и тогда Пенни толкнула Дэйви внутрь собора и сама последовала за ним, но на секунду задержалась в дверях, выглядывая наружу. Гоблины медленно двигались к дверям собора. Значит, эти чудовища все же могут войти в церковь. Но, видимо, в том случае, если дверь открыта. Ведь по легенде и вампиры по приглашению могут входить в дом, хотя вряд ли мифические вампиры действуют так же, как эти вполне реальные чудовища. Рывком преодолев половину лестницы и полагая, что девочка не слышит ее сквозь завывания ветра, Ребекка еще отчаяннее закричала Пенни: — Не бойся за меня! Закрой дверь, закрой дверь! Пенни неохотно потянула за собой тяжелую дверь — в этот момент гоблины добрались до самого порога. Тот, что был похож на ящерицу, в отчаянии прыгнул на дверь, отскочил от нее, словно мячик от стенки, и снова оказался на ногах. Похожий на кошку сердито рычал. Оба существа поскреблись в дверь, но без особой решимости, как будто сознавая, что проникнуть в собор им явно не под силу. Чтобы открыть эту дверь, требовались силы более могущественные, чем у них. В растерянности гоблины отошли от двери и посмотрели на Ребекку. Их горящие глаза казались здесь даже ярче, чем у тварей в квартире Джэмисонов и в вестибюле кирпичного дома. Она спустилась на одну ступеньку. Гоблины направились за ней. Она слетела с лестницы, остановившись только на тротуаре. Обе твари стояли на лестнице и смотрели на Ребекку. Снежные вихри неслись по Пятой авеню с такой силой, что напоминали Ребекке наводнение, которое вот-вот захлестнет ее. Гоблины спустились на одну ступеньку. Ребекка пятилась назад до тех пор, пока ее не остановила снежная гора на тротуаре вдоль проезжей части дороги. Гоблины спустились еще на одну ступеньку, затем еще на одну.Глава 8
Джеку, который дорожил каждой секундой, обряд очищения показался достаточно длинным, хотя занял он всего две минуты. Хэмптон дал ему маленькие пушистые полотенца с какими-то странными знаками по углам. Джек подумал, что он никогда не встречал материала, из которого они были сделаны. Одевшись, он последовал за Карвером Хэмптоном в гостиную, где по указанию хозяина встал в центр комнаты — свет там был ярче всего. Хэмптон начал длинную молитву, держа над головой Джека «ассон». Он медленно двигал этим предметом сверху вниз, затем снизу вверх — перед ним и сзади него, вдоль позвоночника. Хэмптон объяснил, что «ассон» — погремушка из тыквы-горлянки — была его личным символом, символом Хунгона. Горло тыквы служило удобной рукояткой, а в широком ее конце были заложены восемь небольших камешков разных цветов, поскольку число это означает вечность всего земного, является символом бессмертия. Вместе с камешками внутри ритуального предмета находились позвонки змей — как символы костей древних предков, которые пребывают в ином мире и к которым можно обращаться за помощью. «Ас-сон» был украшен разноцветными фарфоровыми колечками. Кольца, камешки и позвонки змей издавали необычный, но приятный звук. Хэмптон потряс погремушкой над головой Джека, затем у его лица. Почти целую минуту он пел заклинания на каком-то давнем африканском наречии и тряс погремушкой-горлянкой возле сердца Джека. Затем Хунгон нарисовал погремушкой в воздухе какие-то фигуры над руками и ногами Джека. Джек стал улавливать какие-то новые запахи: то лимона, то хризантемы, то магнолии. Каждый аромат стоял в воздухе лишь несколько секунд, пока его не сменял другой — апельсина, розы, корицы. С каждой секундой запахи становились все сильнее, образуя приятные сочетания… Клубника, шоколад… Хэмптон не курил благовоний, не открывал пузырьков с духами или ароматизирующими веществами. Казалось, эти ароматы возникают сами по себе, без всяких причин и ниоткуда. Грецкие орехи, сирень… Когда Хэмптон покончил с заклинаниями и опустил «ассон», Джек поинтересовался: — Эти восхитительные запахи, откуда они? — Это ароматические эквиваленты визуальных образов, — объяснил Хэмптон. Джек прищурился: — Визуальные образы? Вы хотите сказать… привидения? — Духи, добрые духи. — Но я ничего не видел. — Вы и не можете их видеть. Как я сказал, они не материализованы. Они дают о себе знать запахами, что принято в белой магии. Мята. Мускатный орех. Хэмптон, улыбаясь, повторил: — Добрые духи, посланцы Рады. Комната полна ими, и это означает, что добрые боги поддерживают вас в борьбе с Лавеллем. Это очень хороший знак. Джек спросил: — Значит, я найду Лавелля и остановлю его? Одержу над ним победу? Это заранее предрешено? Хэмптон ответил: — Нет, совсем нет. Это означает только, что вы пользуетесь поддержкой Рады. Но Лавелля, в свою очередь, поддерживают боги тьмы. Вы оба — орудия высших сил. Кто-то победит, а кто-то проиграет. Предрешено лишь это. В углах комнаты пламя свечей угасало, превращаясь в искорки на кончиках фитилей. Тени ожили и задвигались. Вдруг окна задрожали, и все здание заходило ходуном от внезапного мощного порыва ветра. Несколько книг упало с полок на пол. — Злые духи тоже рядом, — сказал Хэмптон. Приятные запахи, которыми благоухала комната, вдруг забил смрад — вонь зла, гниения и смерти.* * *
Гоблинам оставались две последние ступеньки. Метров пять отделяли их от Ребекки. Она повернулась и бросилась от них прочь. Гоблины завизжали вслед ей зло и ликующе. До Ребекки долетел холодный, неестественный рык. Даже не оглядываясь, она знала, что они бегут за ней. Ребекка неслась по тротуару, справа от собора, словно направляясь в соседний квартал. Но, пробежав метров десять, она резко свернула к собору и помчалась вверх по ступенькам, вздымая фонтаны снега. Гоблины яростно завизжали. Ребекка пробежала половину лестницы, когда ящерообразная тварь настигла ее и, прокусив джинсы, впилась зубами в правую ногу. Боль была нестерпимой. Ребекка закричала, поскользнулась и упала на ступени. Но и тут она не остановилась: ползла вверх на животе, а «ящерица» висела у нее на ноге. Другая тварь, «кошка», прыгнула ей на спину и начала рвать когтями толстое пальто. Быстро добралась до шеи, попыталась вцепиться зубами в Ребекку, но оторвала кусок воротника и шарфа. Ребекка уже почти доползла до верха лестницы. Со стоном схватила она кошкообразное отродье и рванула его от себя. Тварь укусила ее за руку. Ребекка отшвырнула ее в сторону. «Ящерица» все еще висела у нее на ноге, вцепившись ей в бедро выше колена. Ребекка наклонилась и схватила гадкое существо, мгновенно получив укус в другую руку. Но она все же сумела оторвать от себя это исчадие ада и швырнуть его вниз. Издавая яростный визг, сверкая серебристо-белыми глазами, кошкообразный гоблин вновь подбирался к Ребекке, держа на изготовку свое оружие — острые когти и зубы. В отчаянии Ребекка подтянулась к перилам, схватилась за них и встала, стараясь занять выгодную позицию. К счастью, ей удалось сильно пнуть гоблина ногой: «кошка» вверх тормашками полетела в снег. Но тут на Ребекку бросилась «ящерица». Господи! Этому, похоже, не будет конца. Ребекка устала и ослабела, ее начала одолевать какая-то сонливость. Видимо, в местах укусов гоблинов было какое-то дурманящее вещество. Она повернулась к собору и, стараясь не замечать боль, бросилась к двери, через которую прошли Пенни и Дэйви. Ящероподобное существо, вцепившись в полу ее пальто, устремилось вверх, намереваясь добраться до лица и на этот раз основательно заняться им. Вернулся похожий на кошку отброшенный гоблин и впился в ногу Ребекке. Когда Ребекка добралась до двери и прижалась к ней спиной, силы совсем покинули ее. Дышала она с большим трудом. Ситуация повторилась. У входа в собор гоблины стали вялыми, неуверенными, как в случае с Пенни и Дэйви несколько минут назад. Ребекка на это и надеялась. Та ящерица, которая приготовилась к прыжку ей в лицо, уже не была такой быстрой и проворной, как раньше. Ребекка успела откинуть голову назад, и когти твари только оставили царапины на подбородке. Теперь Ребекка оторвала ее от себя и из последних сил отшвырнула в сторону улицы. Затем сбросила с ноги кошкоподобное существо и пинком отправила его вслед за адским напарником. Освободившись, она распахнула дверь и прошмыгнула внутрь собора святого Патрика. Гоблины снаружи ударились было в закрытую дверь, но вскоре все стихло. Теперь она в безопасности. Это чудо. Ребекка, хромая, отошла от двери в полумрак вестибюля и мимо источников со святой водой направилась в просторный высокий неф, с массивными колоннами и рядами отполированных скамей для прихожан. Огромные оконные витражи были темными и мрачными, как и положено в зимнюю ночь, и лишь в нескольких местах тусклый свет уличных фонарей, попадая на синие или бордовые стекла, делал их сапфировыми или рубиновыми. Здесь все было значительным и внушало трепет. Огромный орган с тысячами труб представал как копия самого собора. Большой балкон для хора над главным порталом, каменные ступени, ведущие к высокой кафедре, бронзовый навес над ней — все массивное, основательное, оно рождало чувство безопасности и покоя. Пенни и Дэйви были уже в нефе. Они стояли в центральном проходе на уровне третьего ряда и возбужденно говорили что-то молодому священнику. У него было удивленное и недоверчивое лицо. Пенни первой увидела Ребекку, вскрикнула и бросилась к ней. Дэйви с радостным воплем последовал за сестрой. Священник тоже пошел к Ребекке. Теперь их было четверо, но теперь им не нужна была даже армия: их защищал собор. Здесь они были как в крепости, здесь их никто не мог достать. Точнее, ничто. И это было их последнее прибежище.* * *
В машине перед магазином Хэмптона Джек работал педалью газа, прогревая двигатель. Он спросил у него: — Вы уверены, что хотите поехать вместе со мной? Большой человек ответил: — Вовсе нет. У меня нет никакого иммунитета против Лавелля, как есть он, например, у вас. Я бы с удовольствием остался в теплой квартире с зажженным светом, горящими свечами… — Ну и оставайтесь. Вы же сказали мне все, что требуется в нашей ситуации. Вы сделали все возможное и ничего больше мне не должны. — Я должник перед самим собой. Ехать с вами и при необходимости помочь вам — вот что я сейчас должен делать, чтобы не оказаться перед еще одним не правильным решением. Джек включил передачу, все еще придерживая машину педалью тормоза. — Ну, хорошо. Но я не знаю, как буду искать Лавелля. — Вы просто будете чувствовать, по каким улицам ехать, где сворачивать. Благодаря обряду очищения вами теперь руководят высшие силы. — Звучит неплохо, только я пока не чувствую этого руководства. — Почувствуете, лейтенант. Но прежде всего, остановимся у церкви и наполним эти сосуды, — он поднял два небольших кувшина, — святой водой. Церковь будет кварталах в пяти по прямой отсюда. Джек сказал: — Отлично, но у меня есть одна просьба. — Какая? — Не зовите меня лейтенантом, о'кей? Меня зовут Джек. — Вы тоже можете говорить мне Карвер, если вам так нравится. — Да, нравится. Они улыбнулись друг другу. Джек отпустил тормоза, включил «дворники» и выехал на улицу. Они вошли в церковь. В вестибюле было темно. Пустой зал едва освещали несколько тусклых огней да три или четыре свечи. Здесь пахло ладаном, но пахло и скипидаром — видимо, совсем недавно мастикой полировали достаточно обшарпанные скамьи. Над алтарем выступало большое распятие. Хэмптон перекрестился и преклонил колена. Джек не был верующим, но он вдруг почувствовал непреодолимое желание последовать примеру своего спутника. Ощущая себя в эту ночь представителем Рады, он испытывал потребность выказывать уважение всем добрым богам, как бы их ни называли. Похоже, высшие силы действительно решили руководить им, как это утверждал Карвер. В мраморной купели неподалеку от них было совсем немного святой воды. Джек сказал: — Мы не наполним даже один кувшин. Карвер протянул его Джеку. — Не волнуйтесь. Попробуйте. Джек опустил кувшин в купель и провел им по дну, думая, что наберется не больше половины, но был удивлен, обнаружив, что кувшин полон. Он удивился еще больше, увидев, что воды в купели не убавилось. Джек посмотрел на Карвера в полном недоумении. Негр в ответ улыбнулся и подмигнул. Кувшинчик с водой он убрал в карман пальто, а пустой протянул Джеку. И опять Джек наполнил сосуд, и опять воды в купели осталось столько же, сколько было.* * *
Стоя у окна, Лавелль вглядывался в бушующую темноту. Он отключился от связи с маленькими убийцами, у них еще будет время убить детей Доусона, и жаль, что он пропустит такое зрелище. Но времени оставалось в обрез. Джек Доусон выходил на первый план. Он направлялся сюда, и никакая магия не могла его остановить. Лавелль и сам не понимал, как это произошло, так стремительно и помимо него. Он терпел поражение? Возможно, он ошибся, наметив убийство детей. Боги Рады всегда защищают детей и наказывают Бокоров, использующих свою силу против них. Наказывают жестоко. В таких случаях надо быть осторожным и осмотрительным. Но он же, черт возьми, и был осторожным и осмотрительным! Он не мог припомнить ни одной ошибки. Он был отлично защищен мощью всех богов тьмы. Доусон приближался. Лавелль отвернулся от окна. Он прошел по темной комнате к комоду. Из верхнего ящика вынул автоматический «кольт» 32-го калибра. Доусон приближается? Отлично. Пускай идет.* * *
Ребекка села на скамью и закатала правую штанину джинсов: пора было заняться ранами. Они кровоточили, но, похоже, обойдется без сильной потери крови. Джинсы все-таки защитили ее от когтей и клыков — ни артерии, ни вены задеты не были. Молодой священник отец Валоцкий присел перед ней на корточки. Вид ран явно испугал его. — Как это случилось? Кто это сделал? — Гоблины! — Пенни и Дэйви ответили в один голос так, словно устали объяснять одно и то же. Ребекка стянула перчатки, на правой руке у нее краснел свежий след от укуса: четыре глубоких прокола. Они были бы еще глубже, если бы не перчатки. Два укуса были на левой руке, один — свежий, другой — еще из дома Фэй. Отец Валоцкий спросил Ребекку: — Почему у вас кровь на шее? Он мягко отклонил голову Ребекки, чтобы рассмотреть царапину на подбородке. Она сказала: — Ерунда. Немного жжет, но это несерьезно. — Я думаю, вам необходима медицинская помощь. Пойдемте. Ребекка опустила штанину джинсов. Отец Валоцкий помог ей подняться. — Лучше отвести вас в дом пастора. Она решительно отказалась: — Нет, не надо. — Это совсем рядом. — Нет, мы останемся здесь. — Но это похоже на укусы животных, их надо обязательно обработать: инфекция, бешенство и всякое такое… Послушайте, к дому пастора ведет подземный проход. — Нет, мы останемся здесь, в соборе, где имеем защиту. Она жестом подозвала Пенни и Дэйви, они подошли к ней и прижались с обеих сторон. Священник всмотрелся в их лица и вдруг помрачнел. — Чего вы так боитесь? Ребекка спросила: — Разве дети ничего вам не рассказывали? — Они говорили что-то о каких-то гоблинах, но… — Это не просто болтовня, — сказала Ребекка, сама удивляясь тому, что отстаивает сверхъестественное. И это она, убежденная атеистка. Немного поколебавшись, она вкратце рассказала священнику о Лавелле, об убийстве членов клана Карамацца и об адских существах, охотившихся за детьми Джека Доусона. Выслушав, священник ничего не сказал. Он уставился в пол и молчал. Ребекка спросила: — Вы мне не поверили? Священник поднял на нее растерянный взгляд. — Думаю, что вы это не выдумали, что верите в то, о чем рассказали, но для меня всякое колдовство — это примитивные дикарские предрассудки, их культы. Как священнослужитель Римской католической церкви, я верю только в одну Истину, которая гласит, что наш Спаситель… — Вы верите в существование рая и ада? — Конечно. Это же часть католического… — Так вот, эти существа явились сюда прямиком из ада. Если бы я сказала, что этих демонов вызвал служитель Сатаны, если бы ни разу не упомянула о колдовстве, вы все равно бы мне не поверили, но, по крайней мере, не стали бы с ходу отбрасывать возможность такого происшествия, потому что ваша религия признает существование Сатаны и его служителей. — Я думаю, вам следовало бы… Дэйви громко закричал. Пенни сказала: — Они уже здесь. Сердце у Ребекки куда-то ухнуло, она обернулась. У нее перехватило дыхание. У арки, разъединявшей центральный проход зала и вестибюль, мелькали тени и так знакомо сверкали серебристо-белые глаза. Всполохи огня. Множество глаз. Множество теней.* * *
Джек гнал машину по заснеженным улицам. Подъезжая к каждому перекрестку, он каким-то образом чувствовал, где нужно сворачивать направо, где — налево, а где ехать прямо. Он и сам не понимал, почему так поступал, — просто каждый раз беспрекословно отдавался непонятному чувству, не задавая себе вопросов. Для полицейского, занятого поисками нужного объекта, это было несколько необычно и даже тревожно, но Джек смирял себя: нужно было быстрее найти Лавелля. Через полчаса быстрой езды Джек свернул налево, на улицу, застроенную домами псевдовикторианского стиля, и остановился у пятого от начала улицы дома. Трехэтажное кирпичное строение поражало множеством безвкусных украшений. Дом нуждался в ремонте и обновлении, как, собственно, все дома на этой улице, и факт этот не скрывали даже снег и темнота. Дом был без единого огонька. Сквозь окна невозможно было что-нибудь рассмотреть. — Вот и приехали, — сказал Джек Карверу. Он заглушил двигатель и выключил фары.* * *
Из вестибюля в центральный проход выдвинулись четыре гоблина. Хотя и здесь света было мало, открывшаяся взорам картина леденила кровь. Возглавлял группу «человек». Рост не больше тридцати сантиметров, голова размером с яблоко, а на ней четыре огненных глаза, челюсти и рот, утыканный сверкающими клыками. У него было четыре руки, в одной из них он держал грубое подобие копья. Гоблин с вызовом поднял его над головой. Может быть, именно из-за этого жеста Ребекка подумала, что ужасное существо когда-то, много-много лет тому назад, было гордым, но кровожадным африканским воином, душа которого попала в ад за все прегрешения и вела унизительное существование в такой маленькой, уродливой оболочке. Человекоподобный гоблин, три еще более уродливых существа позади него и остальные твари, различимые только по светящимся в темноте глазам, продвигались вперед, но — медленно, как будто сам воздух святого места затруднял каждый шаг. Двигались они молча, не шипели, не рычали, приближались с опаской, но неумолимо. Двери в собор были закрыты. Вероятно, гоблины воспользовались незакрытой вентиляционной трубой или канализационной решеткой, которые для них были все равно что открытая дверь, особенно в те места, куда зло не допускалось. Отец Валоцкий, парализованный увиденным, первым пришел в себя. Он достал четки из кармана черной сутаны и начал читать молитвы. Пока человекообразное чудовище и его спутники продвигались вперед по центральному проходу, а остальные монстры выходили на свет, в темном вестибюле, за их спинами, уже сверкали новые пары глаз. Твари по-прежнему действовали в замедленном темпе и не казались по-настоящему опасными. Но их было очень много. «Как долго это продлится? — подумала Ребекка. — А вдруг они каким-то образом освоятся в обстановке собора? Вдруг осмелеют и к ним вернутся их быстрота и активность? Что тогда?» Прижимая к себе детей, она начала отступать по проходу назад, к алтарю. Отец Валоцкий последовал за ними, перебирая свои четки.* * *
Утопая в снегу, они дошли до ступенек перед входом в дом Лавелля. Джек держал револьвер наготове. Он сказал Карверу Хэмптону: — Я бы хотел, чтобы вы подождали в машине. — Нет. — Здесь начинается дело, расследуемое полицией. — Это намного больше. И вы сами прекрасно все знаете. Джек вздохнул и кивнул. Они поднялись по ступенькам. Обычная для него процедура — стук в дверь, предъявление ордера на арест, представление себя как офицера полиции — сейчас показалась Джеку неуместной. Но ему было как-то не по себе врываться в частный дом. Хэмптон взялся за дверную ручку, подергал ее в разные стороны. — Закрыто. Джек тоже видел, что дверь закрыта, но что-то подсказало ему самому взяться за дверную ручку. Он повернул ее, замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Хэмптон прокомментировал: — Закрыто для меня, но не для вас. Они отошли в сторону, от возможной линии огня. Джек сильно толкнул дверь, тут же убрав руку. Но Лавелль не выстрелил. Они подождали секунд десять-пятнадцать, прислушиваясь и наблюдая, как снег залетает в дом через открытую дверь. Потом Джек, пригнувшись, перешел порог, держа руку с пистолетом впереди себя. В доме было очень темно, что играло на руку Лавеллю, хорошо знавшему свое жилище. Для Джека дом был сплошной неизвестностью. Он пошарил по стене, нащупал выключатель и нажал на него. Он был в просторной прихожей. Слева подымалась дубовая лестница с красивыми перилами. Прямо перед Джеком, за лестницей, холл сужался в коридор и вел в западную часть дома. Впереди справа, в нескольких метрах от него, виднелся сводчатый проход, за которым было совсем темно. Джек подошел к проходу. Из холла через арку падало немного света, освещая голый пол. Джек решил, что здесь гостиная. Он осторожно миновал арочный проход, стараясь не «открываться», пошарил по стене, нащупал еще один выключатель и щелкнул им. Под потолком вспыхнула люстра. Свет залил всю комнату. Странно, здесь вообще ничего не было. Ни мебели. Ни занавесей. Только толстый слой серой грязи, комки мха по углам и четыре голые стены. Карвер подошел к Джеку и прошептал: — Вы уверены, что это именно тот дом? В тот момент, когда Джек раскрыл было рот, чтобы ответить, что-то взвизгнуло возле его лица. Долей секунды позже у него за спиной раздались два громких выстрела. Джек бросился на пол и перекатился из холла в гостиную. Карвер тоже упал и последовал за Джеком. Но он был ранен, его лицо исказила гримаса боли. Он судорожно сжимал левое бедро, на брючине уже расплывалось кровяное пятно. Карвер прохрипел: — Он на лестнице, я его заметил. — Наверное, был наверху, а потом зашел к нам в тыл. Джек приподнялся и сел на корточки у стены возле сводчатого прохода. — Вас сильно ранило? — Да, прилично, но не смертельно. Вы лучше думайте о том, как его достать. Джек высунулся в проход и выстрелил наугад в сторону лестницы. Лавелль был там, на середине последнего лестничного пролета. Пуля Джека отбила от стены кусочек штукатурки буквально в полуметре от головы Бокора. Лавелль ответил выстрелом, и Джек снова нырнул в гостиную. Пуля, ударившись в угол арочного прохода, подняла фонтанчик цементной пыли. Еще один выстрел. Затем тишина. Джек опять высунулся в проход и трижды выстрелил в то место, где находился Лавелль. Но его там уже не было. Он бежал вверх по лестнице, все три выстрела не достигли цели. Лавелль исчез. Остановившись, чтобы перезарядить револьвер, Джек взглянул на Карвера и спросил его: — Вы сможете добраться до машины? — Нет. Я не могу ступать на ногу. Побуду здесь. Ничего страшного, идите и займитесь им. — Мы должны вызвать для вас «скорую помощь». Карвер чуть не перешел на крик: — Занимайтесь им! Джек кивнул, вышел в холл и осторожно подошел к началу лестницы.* * *
Пенни, Дэйви, Ребекка и отец Валоцкий были уже у самого алтаря. Они поднялись на его основание и остановились прямо под распятием. Гоблины столпились перед оградой алтаря. Одни немигающим взглядом уставились на людей сквозь резные столбики ограждения, другие взобрались на него и уселись там, подобно курам на насесте, алчно блестя глазами и облизывая черными языками острые зубы. Их было до полусотни, а из вестибюля двигались по центральному проходу новые бестии. Пенни, заикаясь от страха, спросила: — Они не п-п-подойдут с-с-сюда, н-нет? Они не п-п-подойдут к распятию? Нет? Ребекка обняла девочку и Дэйви, крепко прижала их к себе. Она сказала: — Вы же видите, они остановились. Все хорошо. Теперь все нормально. Они боятся алтаря. Они остановились. «Но надолго ли?» — спросила она себя.* * *
Джек поднимался по лестнице, плотно вжимаясь спиной в стену. Он продвигался боком, стараясь не издавать шума. Пистолет он держал в вытянутой левой руке, целясь в верхние ступеньки, стараясь не смещать линию прицела, чтобы нажать курок в любой момент. Он благополучно добрался до первой площадки. Когда прошел три ступени второго пролета, Лавелль возник с площадки второго этажа. Оба выстрелили одновременно, Джек — один раз, а Лавелль — два. Лавелль нажал на курок, не прицеливаясь и толком не зная, где сейчас находится Джек. Он просто рассчитывал, что две пули, пущенные по центру пролета, сделают свое дело. Но обе пули прошли мимо цели. А пистолет Джека был направлен именно туда, откуда высунулся Лавелль. Пуля вошла ему в руку в тот момент, когда он уже сделал оба выстрела. Бокор закричал, выронил оружие и бросился назад, в холл второго этажа. Джек рванул вверх, прыгая через две ступеньки. Пистолет Лавелля прогрохотал еще раз, но тоже мимо него. Он вбежал в холл второго этажа в тот момент, когда Лавелль захлопывал за собой дверь одной из комнат. Карвер лежал на грязном полу. Боль причиняла такие страдания, что не было сил открыть глаза. С каждой минутой ему становилось хуже и хуже. Он не чувствовал, что лежит на твердом полу. Ему казалось, будто он покоится в теплой воде где-то в тропиках. Он помнил, что ранен, помнил, что упал, знал, что лежит на полу, но не чувствовал этого. Он понимал, что истекает кровью. На вид рана пустяковая, но, видимо, оказалась она серьезней, чем он думал. Или так сказывалось действие болевого шока? Да, скорее всего, это был шок, просто шок, а никакое не кровотечение. Но ведь от шока тоже умирают? И все же он плыл. Плыл, освобожденный от боли, качаясь вниз-вверх на воде где-то в тропиках… пока сверху не раздались звуки стрельбы, а потом громкий крик, заставивший Карвера открыть глаза. Сначала он неясно увидел пустую комнату, потом часто-часто заморгал глазами и напряг зрение. Пелена рассеялась, и тут Карвер пожалел о том, что она рассеялась. Потому что в комнате он был не один. Один из обитателей ямы был рядом с ним, и глаза его ярко горели. В это время наверху Джек пробовал открыть дверь, за которой укрылся Лавелль. Она была заперта, но замок не отличался особой сложностью. Просто защелка. Кто же ставит в доме мощные, хитроумные замки? Джек закричал: — Лавелль, ты там? Молчание. — Открывай, не имеет смысла прятаться! За дверью послышался звон разбитого стекла: похоже, он решил смыться через окно. — Черт! — ругнулся Джек. Он отошел немного назад и сильно ударил по двери подошвой ботинка. Но замок устоял. Ему пришлось грохнуть по двери четыре раза, прежде чем она распахнулась. Он включил свет. Обычная спальня. Никаких следов Лавелля. Одно окно выбито, занавески полощутся на холодном ветру. Джек проверил шкаф, чтобы быть уверенным, что Лавелль не выстрелит ему в спину. В шкафу никого не было. Он подошел к окну и в полосе света, падавшем из окна спальни, увидел следы на крыше веранды. Они вели к краю крыши. Видимо, оттуда Лавелль спрыгнул вниз, во двор. Джек протиснулся сквозь окно, цепляясь плащом за осколки стекла, и вылез на крышу веранды. Уже не меньше восьмидесяти гоблинов окружили ограду алтаря. Позади них по проходу двигалось пополнение. Отец Валоцкий молился, опустившись на колени, но, насколько видела Ребекка, молитвы эти не оказывали на гоблинов никакого видимого действия. Более того, твари уже не были такими вялыми, они размахивали хвостами, крутили уродливыми головами, черные язычки их двигались быстрее. Плохой признак. Ребекка подумала, что таким количеством они создали нечто вроде критической массы, преодолевающей действие добра, сконцентрированного в соборе. Теперь они могут напасть на свои жертвы. Появление каждого нового гоблина увеличивало дьявольскую энергию, и если баланс сил нарушится… Один из гоблинов зашипел. До сих пор они молчали. Но теперь один из них зашипел. Тут же к нему присоединился другой, затем еще трое… Вскоре яростно шипели все твари. Еще один плохой признак. Карвер Хэмптон. Когда он увидел в холле это адское существо, пол вдруг вновь обрел твердость. Его сердце сильно забилось, а убаюкивающие галлюцинации сменил реальный мир. Страшный и угрожающий. Существо из холла направилось к арочному проходу в гостиную. Карверу показалось, что тварь была огромной, чуть ли не с него ростом, но потом он понял, что это эффект положения: смотрел-то он на монстра с пола. Но все равно, существо было достаточно большим. Голова размером с его собственный кулак, сегментированное червеобразное туловище было длиной с его руку. Оно цокало по полу крабоподобными клешнями. На уродливой морде выделялся губастый рот с множеством зубов и горящие глаза, о которых рассказывал Джек Доусон. Глаза с серебристо-белым огнем в них. Откуда-то взялись у него силы двигаться, и он стал отползать назад, борясь с дикой болью и оставляя на полу за собой кровавый след. Практически сразу он уперся спиной в стену, а ведь поначалу ему казалось, что комната большая. С пронзительным и громким визгом червеподобное существо через сводчатый проход поползло прямо к Хэмптону. Спрыгнув с крыши веранды, Лавелль не устоял на ногах, поскользнулся на снегу и упал прямо на раненую руку. Всплеск боли был настолько силен, что на несколько мгновений он потерял сознание. Почему все так вдруг разладилось? Он был испуган и зол, ощущал себя голым, беспомощным, выставленным на всеобщее посмешище. Это новое чувство, доселе неизведанное, решительно ему не нравилось. Лавелль прополз по снегу несколько метров, прежде чем смог подняться. А встав на ноги, услышал, как с крыши веранды его окликает Доусон. Он не остановился и не стал дожидаться, пока его поймают, — ведь он был Баба Лавеллем, великим Бокором, а заковылял по задней лужайке к сараю. Источник его сил был там, в яме, у богов тьмы. Он будет настаивать, чтобы они сказали ему, что происходит. Он будет требовать помощи. Доусон выстрелил, но это, видимо, был предупреждающий выстрел, потому что пуля прошла далеко от Лавелля. Ветер сбивал Лавелля с ног, швырял снег ему в лицо. Кровоточащая рана мешала бороться с ураганом, но в конце концов он добрался до сарая. Распахнув дверь, Лавелль вскрикнул от ужаса — без него яма чудовищно увеличилась в диаметре. Теперь она занимала почти все маленькое строение, от одной стены до другой, а свет из ямы был уже не оранжевым, как раньше, а кроваво-красным и таким ярким, что хотелось закрыть глаза. Теперь он понял, почему высокие покровители отвернулись от него, допустили его поражение. Они позволяли использовать себя до тех пор, пока он был им нужен. Он был их проводником в этот мир, инструментом их проникновения на землю. Но теперь у них был способ более совершенный, чем проводник, — теперь для них была открыта вся дверь в живой мир. Реальную возможность навсегда покинуть Подземелье они получили благодаря его стараниям. Он приоткрыл Ворота лишь чуть-чуть, уверенный в том, что сможет держать их в таком состоянии. Но, оказывается, незаметно для себя он потерял контроль, и теперь Ворота растворялись все шире. Сюда направлялись Древние боги. Они уже были в пути, почти рядом. Когда появятся здесь, ад переместится сюда, на землю. Яма у его ног все увеличивалась и увеличивалась. Быстрее, еще быстрее. Лавелль в ужасе смотрел на пульсирующий там огонь ненависти. В глубине этого ярко-красного сияния появилось нечто темное. Оно шевелилось, оно было огромным. И оно поднималось прямо к нему. Джек спрыгнул с крыши веранды в снег, удачно приземлился и пустился вслед за Лавеллем. На середине лужайки он увидел, как Лавелль открыл дверь в железный сарай. Яркий алый свет, вырывавшийся наружу, мгновенно остановил Джека. Там, конечно, была яма, которую описывал Хэмптон. Но, очевидно, совсем не такая маленькая, как он говорил, и свет из нее не был мягким и оранжевым. Похоже, сбывались худшие предчувствия Карвера Хэмптона: Ворота Ада раскрывались все шире. Как только эта сумасшедшая мысль пришла ему в голову, яма резко увеличилась и стала шире сарая. Металлическая конструкция исчезла в раскаленном горниле. Теперь в земле была просто дыра. Огонь, словно огромный прожектор, поднимался в черное бушующее небо. Лавелль только отступил на несколько шагов, он был слишком напуган, чтобы повернуться и бежать. Земля задрожала. Из ямы раздалось громоподобное рычание, рык, который потряс ночь. В воздухе сильно запахло серой. Что-то, извиваясь, вылезало из ямы, что-то похожее на огромное щупальце осьминога, но не совсем щупальце, а скорее, на ногу насекомого с несколькими сочленениями. А еще точнее, это напоминало змею. «Оно» поднялось на высоту около пяти метров. В верхней его части, окруженный множеством червеобразных отростков, шевелился рот, способный проглотить человека. И это было лишь начало огромной твари, лезущей из Подземелья. Гигантский подземный левиафан просунул в открывающиеся Ворота лишь один свой палец. Огромная конечность потянулась к Лавеллю, отростки на ее конце устремились вперед, захватили его и потащили в кроваво-красный прожектор. Лавелль орал и отбивался, но отростки легко поднесли его к огромному беззубому рту. И Бокор исчез в нем. В соборе последние ряды гоблинов выстроились перед алтарем. Сто тварей вперили свои огненные глаза в Ребекку, Пенни, Дэйви и отца Валоцкого. Шипение их становилось громче, постепенно переходя в устрашающее рычание. Неожиданно четырехглазый и четырехрукий человекоподобный демон спрыгнул с ограды в алтарный придел, сделал несколько неуверенных шагов и завертел безобразной головой из стороны в сторону. Его движения были осторожны, но вот тварь подняла свое крошечное копье и завизжала, потрясая им. В тот же миг завизжали остальные гоблины. Еще один из них осмелился войти в алтарь. За ним третий, четвертый… Ребекка посмотрела на дверь, ведущую в ризницу. Бежать туда? Нет никакого смысла. Гоблины просто последуют за ними. Это их конец. Червеобразное существо подползло к тому месту, где сидел Карвер Хэмптон, и приподняло половину своего омерзительного туловища. Совсем как кобра. Карвер заглянул в бездонные горящие глаза и понял, что как Хунгон он бессилен против этого исчадия ада. Он не сможет защитить себя. Неожиданно рядом с домом явственно послышался громоподобный, ужасающий рев. Земля заходила ходуном, дом затрясся, а червеподобное существо вдруг потеряло всякий интерес к Карверу. Отвернувшись от него и раскачивая головой из стороны в сторону, оно задвигалось в такт неслышной для Хэмптона музыке. С упавшим сердцем он понял, что именно отвлекло внимание адского существа: голос всех адских душ, устремившихся к долгожданной свободе. Победный клич Древних богов, рвущих наконец свои оковы. Это его конец. Джек подошел к яме. Земля с ее краев сыпалась вниз, и дыра росла на глазах. Джек старался не подходить близко к краю ямы. Нестерпимый ярко-красный свет превращал кружившиеся в воздухе снежинки в раскаленные угольки. Теперь к красному свету примешивался ярко-белый, такого же серебристого оттенка, как и глаза гоблинов. Джек понял: Адские Ворота раскрыты уже достаточно широко. Чудовищное щупальце угрожающе раскачивалось над Джеком, но он знал, что оно не посмеет тронуть его. По крайней мере, пока не посмеет. По крайней мере, до тех пор, пока Ворота не раскроются полностью. Добрые боги Рады еще защищали Джека. Он вынул из кармана кувшинчик со святой водой и пожалел, что второй такой остался у Карвера. Уж очень велика дыра. Потом вынул пробку и отбросил ее в сторону. Из необъятных глубин поднималось нечто неописуемо ужасное. Пока виднелись лишь смутные очертания, расплывающиеся в ослепительном свете. Это нечто скулило, как тысяча собак. Он уже не сомневался в способностях Хэмптона и Лавелля, но теперь вдруг почувствовал, что сам преисполнен неведомой силой, едва ли не большей, чем у Хэмптона и Лавелля, вместе взятых. Он заглянул в яму — там был ад. Это не вымысел. Ад и рай столь же реальны, как и сама земля. Просто там — другие измерения, другие плоскости физического существования. В обычной жизни люди не могут переходить из одного измерения, из одного существования в другое. Но у них есть религия. Именно она представляет то знание, которое теоретически определяет пути соприкосновения этих миров. Религия — знание, а магия — тот инструмент, благодаря которому такие соприкосновения и осуществляются. Если понять и принять эту истину, то в колдовство поверить будет так же легко, как в христианство или в существование атомов. Он бросил кувшинчик со святой водой в яму. Гоблины подступали к алтарному возвышению. Осталось всего несколько ступенек. Дети отчаянно закричали, а отец Валоцкий вытянул перед собой четки, будто они могли защитить его от гибели. Ребекка достала свое оружие — пистолет. Сознавая всю его бесполезность, она тщательно прицелилась в первого гоблина. Внезапно все твари обернулись комками земли и покатились по ступенькам алтаря. Святая вода исчезла в яме. Победоносный визг, рев ненависти, торжествующие вопли прервались так резко, словно кто-то нажал на магнитофоне кнопку «стоп». Тишина длилась несколько мгновений, ее сменили крики гнева, отчаяния и разочарования. Они раздирали на куски ночной воздух. Земля задрожала сильнее прежнего. Джек упал, но назад, в сторону от ямы. Падая, он увидел, что земля уже не осыпается, яма остается такой же. Ужасный отросток, нависший над Джеком, как огромный дракон, онемел, остановился и уже не угрожал ему. А затем это существо с распахнутым, как у рыбы, беззубым губастым ртом вообще исчезло в яме. Джек встал и отряхнулся. Плащ у него был весь в снегу. Земля все еще ходила ходуном. Было такое чувство, что Джек стоит на огромном яйце, из которого в любую минуту может вылупиться что-то ужасное. В разные стороны от ямы расходились трещины. Их было уже около десятка: шириной до двадцати сантиметров, а длиной в три-четыре метра. Джек оказался между двумя самыми большими трещинами, на маленьком островке колеблющейся земли. Попадая в трещины, снег сразу таял. Из них исходили свет и жар, как из раскрытых дверок печи, и на мгновение Джеку показалось, что весь мир готов сейчас рухнуть вниз. Но тут трещины вдруг затянулись, будто их никогда и не было. Свет внутри ямы стал медленно угасать, становясь из ярко-красного оранжевым. Адские голоса тоже постепенно затухали. Ворота закрывались. Торжествующий Джек подошел ближе к краю ямы и стал искать глазами ужасных тварей, исчезающих в глубинах ада. Свет вдруг опять запульсировал, стал ярче. Крики и рев тоже усилились. Джек отступил назад. Свет потускнел, потом снова разгорелся. Снова потускнел. И снова усилился. Бессмертные призраки лезли из кожи вон, чтобы задержать Ворота, не дать им захлопнуться. Края ямы снова пришли в движение, куски земли снова посыпались в ее нутро. И вдруг — тишина и спокойствие. А затем все пошло по новой. Рывок, еще рывок — и яма подросла. Сердце Джека билось в унисон с этими колебаниями. Каждый раз, когда земля начинала осыпаться, сердце у него замирало, а когда края ямы выравнивались, начинало биться снова. Может быть, Карвер Хэмптон ошибался? Может быть, святой воды и благих намерений праведника недостаточно, чтобы остановить эту вакханалию? Может быть, силы ада зашли так далеко, что ничто уже не остановит пришествие Армагеддона? Два черных сегментированных отростка, каждый сантиметра три в диаметре, вынырнули внезапно изямы и обхватили Джека. Один обвил его левую ногу от лодыжки до бедра, другой обхватил его поперек груди и сжал левую руку. Секунда — и Джек свалился: из-под него выдернули левую ногу. Лежа на земле, он яростно отбивался от противника. Но у отростков была железная хватка! Джек не мог освободиться из сковавших его адских объятий. Тварь, которой принадлежали эти конечности, была глубоко внизу, в яме, и теперь она тянула Джека к краю пропасти, как рыбак подтягивает добычу к лодке. По всей длине отростков проходили острые бугорки, и там, где они касались кожи, оставались глубокие и болезненные раны. Никогда еще не было ему так больно… Джек вдруг испугался, что никогда больше не увидит Пенни, Дэйви и Ребекку. И он закричал. В соборе святого Патрика Ребекка сделала два шага в сторону комков земли, которые всего секунду назад были реальными существами, но резко остановилась, когда эта грязь вдруг зашевелилась. Судя по всему, комки не были абсолютно безжизненными. Казалось, они впитывают из воздуха влагу, на глазах набухая. Отдельные комки поползли друг к другу, собираясь в кучки. Адская земля явно пыталась вновь обрести формы гоблинов. Один маленький комок, лежавший в стороне от других, начал превращаться в миниатюрную лапу с острыми когтями. Ребекка в отчаянии закричала: — Умрите же вы! Умрите наконец! Поверженный, распластанный на краю ямы, Джек был уверен, что сейчас его затащат вниз. Его ужасала мысль об адской пропасти. Израненная рука болела нестерпимо. И он закричал… В тот же момент щупальце у него на груди и на руке ослабило свою мертвую хватку. Второй дьявольский отросток отпустил его секундой позже. Свет, исходящий из ямы, начал тускнеть. Теперь уже ревело от боли и ужаса исчезнувшее существо в яме: его щупальца бились в конвульсиях у края ямы. Очевидно, в момент наивысшей опасности Джек получил от Рады озарение, бессознательно поняв, что его защитила собственная кровь. Она заставила исчадие ада разжать щупальца. Видимо, в борьбе со злом кровь добродетельного человека, как и святая вода, обладала магическими свойствами. Кровь Джека должна была помочь святой воде. Диаметр ямы снова увеличивался. Ворота опять раскрывались. Свет над ямой из оранжевого снова стал ярко-красным, кровавым. Джек поднялся с земли, встал на колени рядом с краем ямы, чувствуя, как ходит она ходуном у него под ногами. Из раны на руке капала кровь, стекая со всех пальцев. Джек подался вперед, вытянул руку и потряс ею над ямой, стряхивая капельки крови прямо в адский свет. Визг и вой внизу стали громче, чем в тот раз, когда он бросил туда сосуд со святой водой. Свет в дьявольской топке стал быстро тускнеть, края ямы успокоились. Он стряхнул в яму еще немного крови, и яростные крики чуть утихли. Джек напряг зрение и стал всматриваться в пульсирующее, зыбкое дно ямы. Он подался вперед, чтобы лучше его рассмотреть… …и тут с порывом горячего воздуха прямо из огненного света выросло и встало перед Джеком огромное лицо размером с большой грузовик. Это было лицо зла, все из слизи, плесени и гнили, толстое, бородавчатое и оспенное, покрытое прыщами. Из уродливых ноздрей текла коричневая жидкость. В глазах копошились черви, но глаза эти видели, так как Джек испытывал на себе их страшную ненавидящую тяжесть. Открылся злой, огромный рот, способный заглотить человека. Из него полилась какая-то противная зеленая жидкость. Длинный черный язык был утыкан острыми шипами, которые рвали ему губы, когда оно облизывало их. Одурманенный и почти отравленный ужасным запахом смерти, шедшим изо рта чудовища, Джек тряхнул над ним своей раненой рукой. Вниз полетел дождь крови. — Уходи! Сейчас же! Исчезни! — закричал Джек, задыхаясь от могильного смрада. Как только кровь коснулась его, лицо исчезло. Джек услышал нервные рыдания и не сразу понял, что это плачет он сам. Обливаясь потом, задыхаясь от ужаса, Джек хотел одного — бежать прочь от ямы, под защиту города. Но он понимал, что еще рано. Если не остановить зло сейчас, яма будет разрастаться, пока не овладеет им, где бы он от нее ни прятался. А пока яма жила — светилась, говорила на разные голоса, осыпалась, заглатывая все больше земли. Здоровой правой рукой Джек дотянулся до левой и сильно нажал на раны. Вниз хлынул поток крови. Он больше не чувствовал боли. Как священнослужитель, одаряющий святой водой прихожан, он орошал своей кровью разверстую пасть Ада. Свечение заметно ослабло, но еще пульсировало. Джек молился всем богам, чтобы свет погас. Он знал, что в ином случае останется только одно: ему придется пожертвовать собой. Если же он сойдет в яму, то это безвозвратно. Драма на ступеньках, ведущих к алтарю, подходила к концу. Адские комья земли теряли последние капли своей энергии. Они хранили неподвижность уже больше минуты. Глядя на них, не верилось, что эта мертвая масса только что была живыми существами. И какими живыми! Отец Валоцкий осмелился поднять с полу один такой кусок и растер его пальцами. Пенни и Дэйви следили за его руками как зачарованные. Девочка обернулась к Ребекке и спросила: — Что произошло? — Точно не знаю, но думаю, что ваш отец сделал то, что должен был сделать. Очевидно, Лавелль уже мертв. Она посмотрела через весь собор, будто встречая взглядом Джека в конце вестибюля, и нежно проговорила: — Я люблю тебя, Джек. Свет перешел из оранжевого в желтый, затем стал голубым. Джек боялся верить себе — похоже, кошмару приходил конец. Далеко из-под земли послышался скрипящий звук — так, закрываясь, скрипят обычно огромные ворота на ржавых петлях. Отдаленные гневные крики, доносившиеся из нутра ямы, стали теперь хрипами отчаяния. Свет разом погас. Скрип прекратился. Исчез запах серы. Яма безмолвствовала. Она уже не была проходом из одного мира в другой. Теперь это была просто яма. Ночь еще держала холод, но ураган проходил. Раненой рукой Джек ухватил горсть снега и сжал его, чтобы унять кровь. Больше она не была нужна. Ветер почти стих, но, к удивлению Джека, донес до него чей-то голос. Ребекки? Точно, ее голос. И слова, которые он так хотел слышать: — Я люблю тебя, Джек. Пораженный, он обернулся. Ее не было, а слова прозвучали совсем рядом. Он ответил: — Я тоже люблю тебя. Где бы она ни была, она услышит его голос так же ясно, как он — ее. Снегопад терял силу. Снежинки из маленьких и колючих стали большими и легкими и лениво падали на землю, кружась в замысловатом танце. Джек пошел в дом, чтобы вызвать «скорую помощь» для Карвера Хэмптона.* * *
Еще мы можем подарить любовь. Еще не поздно. Зачем же в душах наших зреют гнева гроздья? Зачем мы верим в ад? Ведь, без сомненья, Он — лишь ночных кошмаров порожденье. Мы сами ад впускаем в мир, его вздымая пламя. И нашу веру в том огне сжигаем сами. Но рай ведь тоже наших дум творенье, И, значит, сами держим мы в руках свое спасенье. Так пусть в миг тяжкий нас спасет воображенье.Книга Печалей

СУМЕРКИ (роман)
То, что случилось чудесным февральским воскресным днем, застало Кристину Скавелло врасплох. Случайная встреча на автостоянке с бесноватой старухой перевернула всю ее жизнь. Гордость и радость Кристины, ее единственный сын, становится объектом дикой охоты религиозных фанатиков-сектантов. От них невозможно спрятаться… Они повсюду…
Часть I. ВЕДЬМА
И мы — другие дети, когда после ужина сидим у камелька, очарованные страшными сказками Энни. Индюк не поймает нас, если мы не будем высовываться!«Сиротка Энни». Джеймс Уитком Райли
…Пришла Ведьма Тлена, бормоча. Спустя мгновение Вилл поднял глаза и увидел ее. «Жива! — подумал он. — Поверженная, сломленная, избитая, но теперь вернулась, безумная! Боже, безумная, она пришла за мной!»«Так приходит что-то страшное». Рей Брэдбери
Глава 1
Началось это днем, не темной ненастной ночью, а солнечным днем. То, что случилось, застало ее врасплох, она не ожидала этого. Да и кто бы мог ожидать неприятностей в такой чудесный воскресный день. На синем небе не было ни облачка; конец февраля даже для Южной Калифорнии выдался на удивление теплым. Легкий ветерок нес благоухание ранних цветов. В такой день хочется верить, что всем нам суждено жить вечно. Отправившись за покупками в «Саут-Кост-Плаза», что в Коста-Меза, Кристина Скавелло взяла с собой Джоя. Ему нравился этот огромный торговый центр, завораживало зрелище искусственного ручья, который струился через весь атриум, заканчиваясь красивым водопадом. Мальчик бывал зачарован буйством зелени и любил просто наблюдать за людьми. Но больше всего его привлекала карусель в центре внутреннего дворика. За возможность один раз прокатиться на ней он был готов безропотно сносить двух-, а то и трехчасовое хождение по магазинам. Джой был хорошим ребенком, даже примерным… Он никогда не хныкал, не капризничал и не жаловался. Когда ему приходилось долгими дождливыми днями сидеть дома, он мог часами заниматься чем-то, предоставленный самому себе, и не было случая, чтобы он заскучал, начал слоняться по комнатам и докучать своим нытьем, как это делали бы другие дети, окажись они на его месте. Джою было шесть лет, но Кристине он порой казался маленьким старичком. Время от времени от него можно было услышать удивительно взрослые суждения, он был не по-детски терпелив и часто обнаруживал несвойственную его возрасту зрелость ума. Но порой, особенно когда спрашивал, где его папа или почему папы нет с ними, — или даже ничего не спрашивал, а только вопросительно смотрел на мать, — он казался ей таким простодушным, беззащитным, таким ранимым, что у нее щемило сердце, и тогда она крепко прижимала его к себе. Иногда такие порывы были не только изъявлением ее любви к нему, но и способом отклониться от ответа на вопрос, который она читала в его взгляде. Она не знала, как рассказать ему об отце, и хотела, чтобы он просто не касался этой темы до тех пор, пока она сама не почувствует, что готова вернуться к ней. Он был слишком мал, чтобы понять всю правду, а обманывать его — по крайней мере сознательно — или хитрить она не хотела. Всего два часа назад, по дороге в торговый центр, он спросил ее об отце. — Милый, — ответила она, — твой папа просто-напросто оказался не готов к тому, чтобы принять на себя ответственность за семью. — Он не любил меня? — Как он мог не любить, если он тебя даже не знал? Он ушел прежде, чем ты появился на свет. — Ну да? Как же я родился, если его не было? — В голосе мальчика прозвучало недоверие. — А вот об этом ты узнаешь в школе на уроке полового воспитания, — она подавила улыбку. — Когда? — Думаю, еще лет через шесть-семь. — Очень долго ждать, — вздохнул Джой. — Спорим, он уехал, потому что не любил меня? Она нахмурилась и строго сказала: — Малыш, выбрось это из головы. Если твой папа кого и не любил, так это меня. — Тебя? Он тебя не любил? — Совершенно верно. Два или три квартала они ехали молча. Наконец Джой сказал: — Ну уж если он тебя не любил, значит, он настоящий болван. Потом, видимо почувствовав, что этот разговор ей неприятен, он сменил тему. Ребенок-старичок шести лет от роду. Правда же состояла в том, что Джой появился на свет в результате глупого романа, скоротечного, бурного, безрассудного. Иногда, вспоминая об этом, она не могла поверить, что была так наивна…, или что так отчаянно утверждала собственную женственность и независимость. Единственный раз в жизни Кристина, отбросив сдержанность, целиком отдалась охватившему ее чувству Из-за этого мужчины, как ни из-за кого другого ни до, ни после, она забыла всякие приличия и принципы, внимая единственно желаниям собственной плоти. Она твердила себе, что это Роман с большой буквы, что это не просто любовь, но Великая Любовь, Любовь с Первого Взгляда. На деле же оказалось, что она слабая и беззащитная женщина, которой не терпелось поставить себя в дурацкое положение. Позже, когда она осознала, что мистер Сокровище попросту лгал и использовал ее, относясь к ее чувствам с холодным циничным пренебрежением, когда она открыла, что отдалась человеку, который не питал к ней ни малейшего уважения и у которого начисто отсутствовало чувство ответственности, ей стало нестерпимо стыдно. Со временем она поняла, что в какой-то момент угрызения совести и чувство стыда становятся самодостаточными и такими же жалкими, как и вызвавшее их ощущение собственной греховности, а поняв, вычеркнула этот гнусный эпизод из жизни и зареклась вспоминать о нем. Если бы еще Джой перестал спрашивать, кто его отец, где он и почему его нет с ними. Как поведать шестилетнему ребенку о стремлении удовлетворить собственную похоть, о предательском коварстве души, о прискорбном даре выставлять себя на посмешище? Она, во всяком случае, не представляла, как это сделать. Оставалось только ждать, пока он сам не дорастет до того, чтобы понять, что иногда взрослые, как и маленькие дети, тоже могут быть глупыми и растерянными. Пока же ей приходилось водить его за нос, уклоняясь от ответов и прибегая к недомолвкам, от которых ни тому, ни другому легче не становилось. У нее лишь щемило сердце, когда она видела, каким маленьким, беззащитным и потерянным становится он, спрашивая об отце. В такие минуты ей хотелось плакать. Мысль о ранимости, которую она в нем угадывала, не давала покоя. Она радовалась, что он был чрезвычайно здоровым ребенком и никогда не болел. Тем не менее постоянно читала статьи о детских болезнях; не о полиомиелите, кори или коклюше, от которых, как и от многих других, можно сделать прививку, а об ужасных, оставляющих калеками неизлечимых болезнях, редких, но от этого не менее страшных. Она могла назвать ранние симптомы десятка экзотических болезней и всегда была начеку. Разумеется, как любому подвижному ребенку, Джою доставалась его доля синяков и царапин, и один вид крови на его теле пугал ее до смерти, если даже это была лишь капля от пустяковой ссадины. Тревога о здоровье Джоя сделала ее почти одержимой, однако она старалась не выдавать себя, зная, что чрезмерное стремление матери защитить ребенка может пагубно отразиться на его психике. Тем воскресным февральским днем смерть внезапно оказалась рядом и Джой увидел ее оскал. Она не появилась в виде вируса или микроба, чего так боялась Кристина, а приняла обличье старухи с косматыми седыми волосами, мертвенно-бледным лицом и серыми, словно грязный лед, глазами. Было пять минут четвертого, когда Кристина с Джоем вышли из магазина Буллока. На хромированных панелях и стеклах автомобилей, занимавших стоянку, играли лучи солнца. Ее серебристо-серый «Понтиак» стоял напротив входа, двенадцатая машина в ряду, и они уже подходили к нему, когда возникла старуха. Она стояла у них на пути, между «Понтиаком» и белым «Фордом» — фургоном. На первый взгляд в ней не было ничего зловещего. Конечно, она была немного странной, но не более того. Пряди доходивших до плеч седых волос как будто растрепало ветром, хотя его легкие дуновения были едва ощутимы. С виду ей было за шестьдесят». а возможно, перевалило и за семьдесят, другими словами, она была лет на сорок старше Кристины, однако лицо ее не бороздили морщины, кожа была гладкой, как у младенца; бросалась в глаза неестественная одутловатость, какая появляется после инъекций кортизона. Остроносая, с маленьким ртом и толстыми губами. Круглый рябоватый подбородок. На ней была зеленого цвета кофта с длинными рукавами, зеленая юбка и зеленые же башмаки. На шее — дешевые бирюзовые бусы. На пухлых пальцах — восемь перстней, все — с зелеными камнями: бирюза, малахит, изумруд. В этом единообразии было что-то от униформы. Подмигнув Джою, она оскалилась и произнесла: — Боги мои, что за красавчик этот молодой человек! Кристина улыбнулась. Джой привык к непрошеным комплиментам от незнакомых людей. Темные волосы, густого синего цвета глаза, правильные черты лица — все это делало его удивительно привлекательным. — Верно, сэр, настоящая маленькая кинозвезда, — продолжала старуха. — Спасибо, — краснея, сказал Джой. Кристина посмотрела на незнакомку внимательнее, и ее первое впечатление о ней как о добропорядочной старушке исчезло. К помятой юбке пристал какой-то пух, кофта была в жирных пятнах, плечи — в перхоти. Чулки на коленях пузырились, а на левом поехали петли. В правой руке пожелтевшими от никотина пальцами старуха держала зажженную сигарету. Она была из разряда людей, от которых детям не следует принимать конфеты, пирожки или другое угощенье, — вряд ли она принадлежала к числу отравителей или соблазнителей малолетних, но наверняка на кухне у нее была грязь. Если повнимательней приглядеться, старуха казалась не столько зловещей, сколько неопрятной. Не обращая никакого внимания на Кристину, она наклонилась к Джою — рот ее растянулся в улыбке — и спросила: — Как же вас называть, молодой человек? Скажите мне ваше имя. — Джой, — застенчиво ответил он. — А сколько лет Джою? — Шесть. — Подумать только, шесть лет, а такой красавчик — вскружит голову любой даме. Джой смущенно переминался с ноги на ногу, ему очень хотелось спрятаться в машине. Но он не сделал этого и вел себя вежливо, как учила мама. — Ставлю доллар против пирожка, что я знаю, когда у тебя день рождения, — сказала старуха. — Но у меня нет пирожка, — ответил Джой, который воспринял это пари буквально и решил предупредить, что не сможет расплатиться в случае проигрыша. — Ну не хитрец ли, такой восхитительный хитрец! И все же я знаю, ты родился в Сочельник. — Не-а, — сказал Джой. — Второго февраля. — Второго февраля? Ну, нет, ты меня разыгрываешь, — продолжала старуха, по-прежнему не обращая внимания на Кристину и широко улыбаясь Джою. Она погрозила ему пожелтевшим пальцем. — Ну конечно же, ты родился двадцать четвертого декабря. Кристина пыталась сообразить, к чему клонит старуха. — Мама, скажи, второго февраля. Я выиграл доллар? — Нет, дружок, ты ничего не выиграл, — ответила Кристина. — Это было не настоящее пари. — Ну ладно, — сказал Джой. — Если бы я проиграл, то все равно не смог бы отдать ей пирожок, так что ничего страшного, если она не отдаст мне доллар. Старуха подняла голову и наконец посмотрела на Кристину. Кристина хотела улыбнуться, но не смогла, встретив взгляд незнакомки. Взгляд был жесткий, холодный, неласковый. Эти глаза принадлежали не доброй бабушке и не безобидной нищенке. Это были властные глаза — в них читались упрямство и решимость. — Что происходит? Не успела Кристина промолвить это, как женщина сказала: — Он родился в Сочельник, так ведь? Да? — Она произнесла это с таким напором и силой, что обрызгала Кристину слюной. Не дожидаясь ответа, она продолжала настаивать на своем: — Вы лжете насчет второго февраля, просто пытаетесь скрыть, вы оба, но я знаю правду. Я знаю. Меня вам не провести. Только не меня. В ее словах вдруг послышалась угроза. Кристина, положив руку на плечо Джою, повела его к машине. Но старуха преградила им дорогу. Она размахивала сигаретой перед лицом Джоя и говорила, устремив на него пристальный взгляд: — Я знаю, кто ты такой. Я знаю о тебе все. Все. Не сомневайся. Знаю. Чокнутая, подумала Кристина, и внутри у нее все оборвалось. Боже мой! Какая-то сумасшедшая, такая способна на все. Господи, только бы обошлось. Испуганный Джой отпрянул, крепко схватив мать за Руку. — Прошу вас, позвольте нам пройти, — сказала Кристина, пытаясь говорить спокойно и не желая вступать в пререкания. Старуха не сдвинулась с места. Она поднесла сигарету ко рту, рука ее дрожала. Кристина, держа Джоя за руку, хотела обойти незнакомку. Та вновь преградила им путь. Судорожно затянувшись, она выпустила дым через ноздри. Через два ряда от них какие-то люди выходили из машины, два молодых человека направлялись в противоположную сторону, и поблизости не было никого, кто мог бы помочь в случае, если бы эта сумасшедшая вдруг стала агрессивной. Старуха выбросила сигарету. — Да, да, мне известны все твои мерзкие, развратные секреты, ты, маленькое чудовище, — произнесла она, раздуваясь от злобы, с выпученными, словно у огромной отвратительной жабы, глазами. У Кристины бешено заколотилось сердце. — Пропустите нас, — резко сказала она, уже не стараясь сохранять хладнокровие. — Ты не проведешь меня своим притворством… Джой заплакал. — …и фальшивой миловидностью. И слезы тебе не помогут. Кристина снова попыталась обойти ее, но страшная тетка опять преградила им путь. Лицо старой ведьмы перекосилось от злобы. — Я вижу тебя насквозь, мерзкое чудовище. Кристина оттолкнула старуху, и та попятилась, едва не упав. Держа Джоя за руку, Кристина бросилась к машине. Все это походило на дурной сон, в котором действие разворачивается, как при замедленной съемке. Дверь их машины была заперта на ключ: Кристина всегда следила за этим, однако сейчас пожалела, что не изменила своей привычке. Старуха не отставала, что-то крича на ходу, но у Кристины в ушах стоял плач Джоя, в голове отдавались удары бешено колотящегося сердца, и слов она разобрать не могла. — Мамочка! — закричал Джой, потому что старуха вцепилась в его рубашку и чуть не вырвала его у Кристины. — Отпусти сейчас же, черт побери! — крикнула Кристина. — Лучше признавайся! — визжала старуха. — Признавайся, кто ты такой! Кристина опять попробовала ее отпихнуть, но та не выпускала мальчика. Тогда Кристина с размаху ударила ее ладонью, сначала по плечу, затем по лицу. Старуха отшатнулась, и Джой, разорвав рубашку, вырвался. Дрожащими руками Кристина вставила ключ в замок и, открыв дверь, втолкнула Джоя в машину. Он перелез на правое сиденье, а она села за руль и, чувствуя какое-то невероятное облегчение, захлопнула дверь и защелкнула замок. Старуха уставилась в окошко с ее стороны и заорала: — Нет, вы послушайте меня, послушайте! Кристина вставила ключ в замок зажигания, повернула его и надавила на педаль газа. Заурчал двигатель. Кулаком с побелевшими костяшками пальцев сумасшедшая принялась колотить по крыше машины. Кристина осторожно подала назад, выезжая со стоянки. Старалась не задеть старуху и в то же время страстно желала убраться подальше от этого места. Но безумная, ухватившись за ручку дверцы, волочилась рядом. Наклонив голову, она дико таращилась на Кристину. — Он должен умереть. Он должен умереть, — твердила она. — Мамочка, не отдавай меня ей, — сотрясаясь от рыданий, вымолвил Джой. — Ничего у нее не получится, малыш, — во рту пересохло, и она с трудом выговаривала слова. Джой прижался к двери, по щекам катились слезы, а он не сводил широко распахнутых глаз с искаженного злобой лица косматой гарпии, по-прежнему маячившей за стеклом. Продолжая двигаться задним ходом, Кристина прибавила газ и, выворачивая руль, чуть не врезалась в другую машину, которая медленно двигалась по площадке. Водитель просигналил, и Кристина чудом успела затормозить. — Он умрет! — пронзительно орала старуха. Белым бескровным кулаком она с силой ударила по стеклу, которое чуть не разлетелось на кусочки. Этого не может быть, подумала Кристина. Только не в такой чудесный день. И не в безмятежной тишине Коста-Мезы. Еще один удар по стеклу. — Он умрет! — На стекло летели брызги слюны. Кристина переключила скорость и тронулась вперед, но старуха продолжала держаться за ручку. Кристина прибавила ходу, но та не сдавалась и бежала рядом с машиной, спотыкаясь и оступаясь, — десять, двадцать, тридцать футов, — все быстрее и быстрее. Боже, да человек ли это? Откуда в старой женщине столько силы и упорства? Она пронзила их хищным взглядом, и в глазах ее была такая злоба, что Кристину не удивило бы, если б эта ведьма, невзирая на малый рост и преклонный возраст, сорвала бы с петель дверь. Наконец, издав сокрушенный стон, она отступила. Они пересекли стоянку и повернули направо. Машина ехала с такой скоростью, что не прошло и минуты, как торговый центр остался далеко позади, а они» оказались на Бристол-стрит, держа путь на север. Джой все плакал, но уже не так сильно. — Ну, будет, мой дорогой. Теперь все позади. Ее больше нет. Они выехали на бульвар Макартура, повернули направо и проехали еще три квартала. Кристина все время поглядывала в зеркало заднего обзора, чтобы убедиться, не преследуют ли их, хотя отдавала себе отчет в том, что это маловероятно. Наконец съехали на обочину и остановились. Ее трясло, и она не хотела, чтобы Джой это заметил. Достала салфетку и протянула Джою: — Ну-ка, малыш, давай вытрем глазки, высморкаемся и не будем ничего бояться. Сделаешь это для мамы, хорошо? — Хорошо, — согласился он. Вскоре он успокоился. — Тебе лучше? — спросила Кристина. — Угу, вроде да. — Ты испугался, верно? — Сначала. — А теперь? Он покачал головой: — Нет. — Понимаешь, — объяснила Кристина, — все эти гадкие слова она наговорила тебе понарошку. Он посмотрел на нее с недоумением. Губы еще дрожали, но голос был ровным: — Тогда зачем же она это говорила? — Она не владела собой. Это больная женщина. — Больная? Вроде как гриппом? — Не совсем, малыш. Я имею в виду больна душевно, с расстроенной психикой. — У нее крыша съехала, да? Так могла выражаться только Вэл Гарднер, ее партнерша по бизнесу. Кристина впервые услышала эти слова из уст Джоя и подумала о том, сколько других не принятых в приличном обществе оборотов ее ребенок мог еще почерпнуть из того же источника. — Ма, у нее что, в самом деле крыша съехала? Она сумасшедшая? — Да, да, у нее душевное расстройство. Он нахмурился. — Все это не очень-то понятно, верно? — спросила она. — Не-а. Потому что какая же она сумасшедшая, если ее не посадили в специальную резиновую комнату? А если она и сумасшедшая, почему она так взбесилась на меня, а? Ведь я ее раньше даже не видел. — Как тебе сказать… Как объяснишь шестилетнему ребенку, что такое психопатическое поведение. Она не могла представить, как это сделать без того, чтобы не упростить все до нелепого. Но в данный момент какой-то ответ, пусть и упрощенный, был все же необходим. — Может быть, у нее когда-нибудь был собственный маленький мальчик, которого она очень любила, только он не был таким хорошим, как ты. Может, из него вырос очень плохой человек, который стал совершать ужасные поступки, и это разбило сердце его матери. Это могло как-то…, вывести ее из равновесия. — И теперь она ненавидит всех детей, даже если не знает их? — спросил Джой. — Возможно. — Потому что они напоминают ей о ее мальчике? Так? — Наверно. На минуту задумавшись, он кивнул: — Да, кажется, теперь мне это понятно. Кристина улыбнулась и взъерошила ему волосы: — Эй, давай-ка сделаем вот что: зайдем в «Баскин-Роббинс» и купим стаканчик мороженого. По-моему, в этом месяце они предлагают шоколадное и с арахисовым маслом. Ты ведь любишь такое, правда? Джой, по-видимому, удивился. Кристина следила за тем, чтобы он не ел слишком много жирного, и придирчиво выбирала продукты. Поблажка в виде мороженого допускалась нечасто, поэтому он с радостью ухватился за ее предложение: — А можно мне съесть одно такое и одно сливочное лимонное? — Сразу два? — Сегодня воскресенье, — напомнил он. — Что-то я не припомню, чтобы это воскресенье было каким-то особенным. Уговор — одно мороженое в неделю. Или за то время, что я ослабила контроль, произошли изменения? — Ну…, понимаешь…, я же только что получил… — Он насупил брови, что-то усиленно соображая, при этом он как бы пережевывал что-то во рту, словно у него была там сливочная помадка. Наконец сказал: — Я только что получил…, э-э…, силогическую драму. — Ты хочешь сказать — психическую травму? — Ну да. Точно. Она лукаво прищурилась: — Где же ты подобрал такое длинное выражение? Ах да, Вэл, разумеется. Если верить Вэлери Гарднер, которой не чужда была некоторая театральность, даже проснуться рано утром уже было психической травмой. На протяжении дня она получала до десятка психических травм, и это только подстегивало ее. — Сегодня воскресенье — раз, и у меня психическая травма — два, — сказал Джой. — Выходит, мне поэтому можно съесть два мороженых, как считаешь? — Я считаю, что в ближайшие по крайней мере лет десять предпочла бы ничего не слышать о психических травмах. — А как же мороженое? Кристина посмотрела на его разорванную рубашку. — Уговорил, — согласилась она, — возьмем два. — Вот здорово! Вот это денек, правда? Сначала — настоящая чокнутая, теперь — двойная порция мороженого! Кристину никогда не переставала удивлять, особенно в собственном сыне, присущая детям жизнерадостность. И даже стычка со старухой уже перестала казаться ему чем-то ужасным, в его представлении становясь похожей более на приключение, в чем-то, если не во всем, напоминающее поход в кафе-мороженое. — Ты — малыш что надо, — сказала Кристина. — А ты — мама что надо. Джой включил радио и всю дорогу до «Баскин-Роббинс» безмятежно мурлыкал себе под нос. Кристина по-прежнему посматривала в зеркало заднего обзора, но никто их не преследовал. Она и сама это прекрасно знала, но все же хотела удостовериться.Глава 2
Кристина и Джой легко поужинали на кухне, потом она ушла к себе в кабинет, чтобы заняться бумагами. Они с Вэл Гарднер держали магазинчик «Вина и закуски» — своего рода лавку гурмана, где продавались дорогие вина, деликатесы с разных концов света, добротная кухонная утварь, а также необычные бытовые приборы вроде равиольниц и экзотических кофеварок. С тех пор как они организовали свое дело, пошел шестой год, и они крепко стояли на ногах; более того, магазин стал приносить такие доходы, о которых вначале ни Вэл, ни Кристина даже не смели помышлять. И сейчас они уже подумывали о том, чтобы летом открыть филиал, а затем, на будущий год, и еще один — в западном Лос-Анджелесе. Успех вдохновлял и обнадеживал их, однако предприятие поглощало все больше времени. Так что это был не первый случай, когда Кристине приходилось разбирать накопившиеся бумаги. Но она не жаловалась. Прежде шесть дней в неделю она работала официанткой в двух местах: по четыре часа в закусочной в обеденное время и по шесть часов вечером в «Шез Лавель», французском ресторане средней руки. Крутясь как белка в колесе, Кристина отличалась вежливостью и внимательным отношением к клиентам. Имела солидные чаевые в закусочной и весьма высокие в «Шез Лавель», но несколько лет такой работы не прошли даром: она стала замкнутой и выглядела старше своего возраста. Ей приходилось работать по шестьдесят часов в неделю. Помощники официантов увлекались наркотиками и часто являлись в невменяемом состоянии, так что она выполняла и их работу; в закусочную заходили развратные типы, которые вели себя грубо и непристойно, и Кристине порой становилось страшно от их настойчивости, однако их посягательства в интересах дела следовало отвергать с милым кокетством. Она так много времени проводила на ногах, что в свободные от работы дни не могла ничего делать, а просто сидела на тахте, положив ноги на подушки, и читала воскресные газеты, особенно следя за финансовой и деловой хроникой, мечтая о том дне, когда у нее будет свой бизнес. Все же благодаря щедрым чаевым и собственной бережливости, два года обходясь без машины, она накопила достаточно, чтобы оплатить недельный мексиканский круиз на роскошном лайнере «Принцесса ацтеков» и внести свою половину суммы, на которую они с Вэл открыли лавку гурмана. Все вместе — мексиканский круиз и начало собственного дела — коренным образом изменило ее жизнь. Разбирать финансовые документы по вечерам было ей более по душе, чем работать официанткой. И уж никак нельзя было сравнить это занятие с тем, что она делала на протяжении двух лет, предшествовавших работе в закусочной и «Шез Лавель». Потерянные Годы. Именно так она воспринимала теперь то оставшееся далеко позади время: смутные, несчастные, печальные и глупые Потерянные Годы. По сравнению с тем периодом вся эта рутинная бумажная работа представлялась удовольствием, наслаждением, подлинным праздником… Она провела за работой уже больше часа, когда ее насторожило, что Джой все это время вел себя подозрительно тихо. Разумеется, он не был шумным ребенком и часами мог играть один так, что его не было слышно. Но после неприятного столкновения со старухой Кристина была немного взвинчена и даже в самой обычной тишине неожиданно почувствовала что-то странное и зловещее. Не то чтобы была напугана, а просто насторожилась. Если что-то случится с Джоем… Она отложила ручку, выключила счетную машинку и прислушалась. Тишина. В голове, как эхо, пронеслись слова старухи: «Он должен умереть, он должен умереть…» Она встала, вышла из кабинета, быстро пересекла гостиную и, миновав холл, прошла в детскую. Дверь была открыта, горел свет, и Джой мирно играл на полу с Брэнди — их симпатичным, золотого окраса ретривером, отличавшимся бесконечно терпеливым нравом. — Привет, мам, хочешь поиграть с нами в «Звездные войны»? Я — Хэн Соло, а Брэнди — мой приятель, Чубакка Вуки. Если хочешь, можешь быть принцессой. Брэнди сидел в центре комнаты между кроватью и шкафом с раздвижными дверцами. На голове у него была бейсболка с надписью «Возвращение Джеди», из-под которой свисали длинные лохматые уши. Кроме того, Джой нацепил на собаку патронташ с пластиковыми пулями и кобуру, откуда торчал пистолет необычной, футуристической формы. Брэнди сносил все это с полной невозмутимостью и даже, казалось, улыбался. — Он прекрасно подходит для роли Буки, — сказала Кристина. — Хочешь поиграть с нами? — Мне очень жаль, капитан, но у меня полно работы. Я зашла на минуточку посмотреть., все ли в порядке. — Дело в том, что имперский боевой корабль чуть не превратил нас в пар, — сказал Джой. — Но теперь все в порядке. Брэнди довольно сопел, словно соглашаясь с этим. Кристина улыбнулась: — Будьте начеку. — Конечно. Мы очень осторожны, потому что Дарт Вэйдар где-то здесь, в этой части галактики. — Я еще загляну к вам попозже. — Мам? А ты не боишься, что та старуха снова объявится? — вдруг спросил Джой, когда она уже направлялась к двери. Кристина обернулась. — Нет, нет, — сказала она, хотя как раз этого и боялась. — Вряд ли ей известно, кто мы и где живем. Синие глаза Джоя горели ярче обычного, он неотрывно смотрел на нее, и в его взгляде угадывалось беспокойство. — Но я же сказал ей, как меня зовут, помнишь? Она спросила, и я сказал ей свое имя. — Ты же назвал только имя, ничего больше. Он нахмурил брови: — Точно? — Ты сказал только «Джой». — Ну да, верно. — Не переживай, малыш. Ты больше никогда не увидишь ее. Все это в прошлом. Она всего лишь жалкая, старая женщина, которая… — А как же наши номерные знаки? — А что номерные знаки? — Ну как же, если она знает номер, то, наверное, может как-то использовать это. Чтобы узнать, кто мы такие. Так иногда делают в детективах по телевизору. — Сомневаюсь, — сказала она, хотя такая мысль и озадачила ее. — Я думаю, только полиция может найти владельца машины по ее номерным знакам. — Но вдруг? — в голосе Джоя была тревога. — Мы уехали так быстро, что вряд ли она успела запомнить номер. И потом — с ней была истерика, и она в тот момент плохо соображала, чтобы думать о номерных знаках. Уверяю тебя — с этим покончено раз и навсегда. Правда. Джой какое-то мгновение колебался, затем сказал: — Хорошо, но я подумал… — Что ты подумал? — Вдруг эта сумасшедшая…, вдруг она ведьма? Кристина едва не рассмеялась, но увидела, что он вполне серьезен. Она подавила смех и постаралась принять такое же серьезное выражение: — Уверена, что никакая она не ведьма. — Я знаю, что она не Баба Яга. Я имею в виду настоящая ведьма, которой совсем не обязательно знать наши номера, понимаешь? Ей не обязательно знать ничего. Она все про нас разнюхает. Тебе нигде не скрыться, если за тобой охотится ведьма. Ведьмы наделены волшебной силой. Одно из двух: либо он был уже совершенно уверен в том, что старуха — ведьма, либо делал все, чтобы себя в этом убедить. Так или иначе, не было повода нагонять на себя такой страх, ведь, в конце концов, они действительно никогда больше не увидят эту женщину. Кристина снова вспомнила, как эта странная особа вцепилась в дверцу машины, изо всех дергая за ручку, как пыталась угнаться за ними, выкрикивая при этом безумные угрозы. Глаза излучали злобу, от нее исходила какая-то тревожная сила, отчего казалось, что она действительно может остановить машину. Ведьма? Ничего удивительного, если ребенок решил, что она обладает сверхъестественной силой. — Самая настоящая ведьма, — дрожащим голосом повторил Джой. Кристине было ясно, что необходимо немедленно положить конец подобным фантазиям, пока они не превратились в навязчивую идею. В прошлом году месяца два ему мерещилось, что в комнате прячется волшебная белая змея вроде той, что он видел в кино, которая поджидает, пока он уснет, чтобы проскользнуть к нему в постель и ужалить. Каждый вечер Кристина сидела с ним и ждала, когда он уснет. Иногда он просыпался среди ночи, и тогда ей приходилось брать его к себе в постель, чтобы он успокоился. А избавился он от этого наваждения как раз в тот день, когда Кристина уже решила показать его детскому психотерапевту. К врачу они не пошли. Спустя несколько недель, когда уже было ясно, что упоминание о змее не вызовет рецидива страха, она спросила его, куда же делась змея. «Мам, все это было просто моим воображением. Я вел себя как глупый ребенок, да?» — смущенно ответил он, и она никогда больше не услышала о белой змее. У Джоя было здоровое, но чересчур богатое воображение, и ее задачей было обуздывать его, если оно выходило из-под контроля. Так и теперь. Хотя было понятно, что с этой чертовщиной необходимо покончить, она не могла просто заявить, что никаких ведьм не существует. Он подумает, что его просто как маленького успокаивают. Придется признать существование ведьм, а потом при помощи детской же логики доказать, что эта старуха, которую они встретили на автостоянке, не имеет к ведьмам никакого отношения. — Понятное дело, ты мог принять ее за настоящую ведьму. Уф! То есть она и в самом деле выглядела слегка похожей на ведьму, так ведь? — Больше, чем слегка. — Ну нет, только слегка, будем справедливы к бедной старой женщине. — Она выглядела в точности как злая ведьма, — сказал он. — В точности. Согласен, Брэнди? Пес фыркнул, как будто понимал, о чем идет речь, и был целиком согласен со своим юным хозяином. Кристина присела на корточки и почесала собаку за ухом: — Как ты можешь об этом знать, собачья душа? Тебя же там не было. Брэнди зевнул. Уже обращаясь к Джою, Кристина сказала: — Если хочешь знать, она вовсе не так сильно была похожа на настоящую ведьму. — У нее были жуткие глаза, — продолжал стоять на своем мальчик. — Ты же сама видела, страшные выпученные глаза, черт побери. А волосы в колечках? Настоящая ведьма. — Но у нее же не было огромного носа крючком с бородавкой на кончике? — Не было, — признал Джой. — И на ней не было черного платья, верно? — Нет. Зато она была вся зеленая, — не унимался Джой, и по его голосу Кристина догадалась, что ему, как и ей самой, старухин наряд показался довольно-таки странным. — Ведьмы не носят зеленого. А потом — у нее не было и остроконечного черного колпака! Мальчик на это лишь пожал плечами. — Да и кошки с ней не было, — продолжала убеждать Кристина. — Ну и что? — Ведьма нигде не появляется без кошки. — Правда? — Кошка — ее постоянный спутник. — Почему? — С ее помощью ведьма общается с дьяволом. Именно через кошку дьявол наделяет ведьму волшебной силой. Так что без кошки она просто страшная старуха. — Значит, кошка наблюдает, чтобы она не совершила чего-нибудь такого, что могло бы не понравиться дьяволу? — Именно так. — Там не было никакой кошки, — сказал Джой, насупив брови. — Там не было кошки как раз потому, что это была не ведьма. Так что тебе ровным счетом не о чем беспокоиться, милый мой. Лицо его просветлело. — Здорово! Будь она ведьмой, она могла бы превратить меня в лягушку или во что-нибудь вроде того. — Что ж, может, быть лягушкой не так уж и плохо, — поддразнила Кристина. — Сидишь себе в пруду на кувшинке и поплевываешь. — Лягушки едят мух, — гримасничая, сказал Джой. — А я даже телятину терпеть не могу. Она рассмеялась и поцеловала его в щечку. — Даже если бы она была ведьмой, — продолжал он, — со мной, наверное, ничего бы не произошло, потому что у меня есть Брэнди, а он не потерпит рядом никакой кошки. — На Брэнди можно положиться, — согласилась Кристина и обратилась к собаке, вид которой был несколько шутовским: — Ну что, длинноухий, ты у нас гроза всех кошек и ведьм, правда? При этих словах, к удивлений Кристины, Брэнди ткнулся мордой ей в шею и лизнул ее. — Что за хулиганство, длинноухий? — спросила она. — Я совсем не уверена, что целоваться с тобой — это лучше, чем есть мух. Джой довольно захихикал и обхватил собаку руками. Кристина вернулась в кабинет. Ей показалось, что за то время, пока ее не было, работы прибавилось. Не успела она сесть за стол, как зазвонил телефон. Она подняла трубку. — Алло? Никто не отвечал. — Алло? — повторила она. — Ошиблись номером, — произнес мягкий женский голос, после чего повесили трубку. Кристина снова взялась за работу. Она не придала звонку никакого значения.Глава 3
Ее разбудил лай Брэнди. Это было странно, поскольку Брэнди практически никогда не лаял. Следом послышался голос Джоя: — Мама! Быстрее! Мамочка! Он не просто звал ее, а пронзительно взывал о помощи. Она сбросила одеяло и вскочила на ноги. Взгляд упал на мерцающие красные цифры электронных часов-будильника. Двадцать минут второго. Через открытую дверь Кристина кинулась в холл, оттуда в детскую. Вбежав, сразу зажгла свет. Джой сидел, прижавшись к спинке кровати, словно хотел спрятаться, раствориться в ней. Он был бледен, руки нервно теребили простыню и одеяло. Брэнди, положив передние лапы на подоконник, лаял на что-то там, в ночи, за окном. Когда появилась Кристина, собака замолчала и вернулась к кровати, вопросительно глядя на мальчика, будто ожидая от него дальнейших указаний. — Там кто-то был, — произнес он. — Кто-то заглядывал в окно. Это была та сумасшедшая старуха. Кристина подошла к окну. На улице было темно. Желтоватый свет от фонаря, стоящего на углу улицы, сюда не доходил. Луна была ущербной и бросала лишь слабый молочный свет, который ложился на дорожки и серебрил стоявшие вдоль улицы машины, но его было недостаточно, чтобы высветить тайны этой ночи. Лужайка и кусты перед домом были погружены во тьму. — Она еще там? — спросил Джой. — Нет, — ответила Кристина. Она повернулась, подошла к нему и присела на краешек кровати. Он все еще был бледен и дрожал. — Дорогой, ты уверен… — начала она. — Это была она! — Опиши мне точно, что ты видел. — Ее лицо. — Этой женщины? — Да. — Ты уверен, что это была она, а не кто-то еще? Он кивнул: — Она. — Но на улице так темно. Как ты можешь быть уверен… — За окном кто-то был, будто какая-то тень. Тогда я включил свет и увидел ее. Это была она. — Но, миленький мой, мне кажется, она никак не могла выследить нас. Я уверена в этом. А как еще она узнала бы, где мы живем. Во всяком случае, так быстро. Джой молчал. Он уставился на свои стиснутые кулачки, медленно выпуская из них одеяло и простыню. У него вспотели ладони. — Может, все это тебе приснилось, а? Он решительно покачал головой. — Нет. — Иногда, — сказала она, — когда снится какой-нибудь кошмар, ты просыпаешься и первые несколько секунд не можешь сообразить, что реальность, а что — лишь остаток сна. Понимаешь? В этом нет ничего особенного. Время от времени это случается с каждым. Он встретился с ней взглядом. — Мама, все было не так. Я проснулся потому, что Брэнди залаял, и тут я увидел за окном эту сумасшедшую женщину. Если это был сон, тогда почему же Брэнди лаял? Он же не станет лаять для того, чтобы себя послушать. Такого с ним не бывает. Ты же знаешь его. Она посмотрела на Брэнди, который как раз плюхнулся на пол рядом с кроватью, и ей опять стало не по себе. Она встала и снова подошла к окну. Там, за окном, было множество мест, куда не проникал никакой свет и где злоумышленник мог спрятаться и переждать. — Мама? Она посмотрела на него. — Это не так, как было раньше, — сказал он. — Что ты хочешь сказать? — Это не то, что воображаемая белая змея под кроватью. Это взаправду. Чтоб мне провалиться. От внезапного порыва ветра загремели карнизы и водосточные желобы. — Пойдем, — сказала Кристина, подавая Джою руку. Он встал с постели, и она отвела его на кухню. Брэнди поплелся следом. Мгновение он стоял в дверях, размахивая пушистым хвостом, потом вошел и лег в углу, свернувшись калачиком. Джой в синей пижаме с красными буквами «SATURN PATROL» сидел за столом и испуганно посматривал в окно над раковиной, а Кристина тем временем звонила в полицию. На крыльце у входной двери стояли двое полицейских, участливо слушая рассказ Кристины, хотя сказать ей было особенно нечего. Рядом стоял Джой. Стэтлер, тот, что помоложе, с самого начала не поверил ей и быстро пришел к заключению, что этот злоумышленник всего лишь призрак, плод воображения Джоя; но другой полицейский, постарше, Тэмплтон, склонен был поверить ей. По его настоянию они потратили десять минут, прочесывая территорию вокруг дома с фонарями, осмотрели каждый куст, заглянули в гараж и даже в соседние дворы, но так никого и не нашли. Вернувшись к дому, где их ждали Кристина с Джоем, Тэмплтон уже не был так уверен в подлинности этой истории. — Ну что же, миссис Скавелло, если эта женщина и была здесь, теперь ее нет. Либо у нее на уме не было ничего зловещего…, либо ее испугала патрульная машина. Возможно, и то и другое. Скорее всего она безобидна. — Безобидна? Сегодня днем у «Саут-Кост-Плаза» она не производила такого впечатления, — сказала Кристина. — Мне она показалась очень даже опасной. — Что ж… — он пожал плечами. — Вы же знаете, как это бывает. Пожилая женщина…, вероятно, не вполне здорова…, возможно, говорит, не отдавая себе отчета. — Мне кажется, дело не в этом. Тэмплтон старался не смотреть ей в глаза. — Так что…, если вы еще встретите ее или у вас будут какие-то неприятности, непременно звоните нам. — Вы уходите? — Да, мэм. — И вы ничего не предпримете? Он почесал затылок. — Я не представляю, что еще мы можем сделать. Вы говорите, что не знаете ни имени этой женщины, ни где она живет, так что мы даже не можем побеседовать с ней. Я уже сказал: если она появится снова, позвоните нам, как только заметите ее, и мы тут же приедем. Он кивнул и, повернувшись, пошел по дорожке к выходу, где его уже ждал напарник. Минуту спустя Кристина с Джоем стояли у окна гостиной и наблюдали, как уезжает патрульная машина. — Она была здесь, — сказал мальчик. — Правда. Это не так, как было со змеей. Она ему верила. То, что он увидел за окном, конечно, могло быть плодом его воображения или каким-то отголоском ночного кошмара — но тем не менее здесь было что-то не так. Он действительно видел то, о чем рассказывал: это была та самая старуха собственной персоной во плоти. Кристина не могла объяснить, почему она так уверена в этом, но, как бы то ни было, она была абсолютно уверена. Она предложила Джою остаться в ее комнате, но он был полон решимости вести себя как мужчина. — Я буду спать в своей кровати, — заявил он. — Брэнди будет рядом. Он учует эту старую ведьму за милю. Только…, может, мы оставим лампу включенной? — Разумеется, — сказала она, хотя лишь недавно отучила его спать с зажженным светом. Она плотно задернула шторы в его комнате, не оставив ни малейшей щелки, через которую можно было бы подсмотреть. Укутала его одеялом и поцеловала на прощание, доверив опеке Брэнди. Лежа в своей постели, в темноте, Кристина не могла сомкнуть глаз и все ждала какого-нибудь внезапного звука — звона стекла или дверного скрипа, — но все было тихо. И только редкие порывы февральского ветра нарушали ночной покой.* * *
Джой выключил лампу, которую зажгла для него мать, и наступила кромешная тьма. Брэнди запрыгнул на кровать, что ему, как правило, не позволялось (одно из маминых правил — в постели никаких собак), но Джой не стал его прогонять. Он прислушивался к звукам за окном: ветер вздыхал и завывал, как живое существо. Джой натянул одеяло до самого носа, будто оно могло защитить его от любой беды. Немного погодя он сказал: — Она где-то там. Пес поднял голову. — Брэнди, она выжидает. Брэнди настороженно повел ухом. — Она вернется. При этих словах Брэнди глухо зарычал. Джой положил руку на спину своего лохматого друга. — Ты ведь тоже знаешь это, старина? Ты чувствуешь, что она где-то рядом, правда? Брэнди негромко рявкнул. За окном стонал ветер. Мальчик слушал. Время неумолимо двигалось к рассвету.Глава 4
Кристина не могла заснуть и посреди ночи спустилась вниз в детскую, чтобы проведать Джоя. Лампа, которую она, уходя, оставила включенной, теперь была погашена, и могильная тьма окутывала комнату. На секунду у нее перехватило дыхание от страха, но, включив свет, она увидела, что Джой спокойно спит в своей кровати. Брэнди, уютно устроившийся рядом с Джоем на постели, мгновенно проснулся, когда Кристина зажгла свет. Широко зевнув, он облизнулся и посмотрел на нее виноватым взглядом. — Ты ведь знаешь уговор, бродяга, — прошептала она, — на полу. Брэнди осторожно, не разбудив Джоя, спрыгнул на пол и, поджав хвост, удалился в угол. Он свернулся калачиком и сконфуженно посмотрел на Кристину. — Хорошая собака, — похвалила она его. Пес замахал хвостом. Она выключила свет и пошла к себе. Пройдя несколько шагов, услышала какое-то движение в комнате Джоя и догадалась, что это Брэнди снова забрался на кровать. Однако сегодня ее мало интересовало, останется на простынях и одеяле собачья шерсть или нет. Единственное, что ее волновало, — это Джой. Задремав, Кристина беспокойно ворочалась, бормотала во сне. Приближался рассвет. Ей снилась старуха в зеленом платье, с зеленым лицом и длинными зелеными ногтями, больше похожими на хищные крючковатые когти. Наконец наступило утро понедельника. Ярко светило солнце. Пожалуй, даже чересчур ярко. Она проснулась рано и заморгала от сильного света. Глаза были воспалены и покраснели. Кристина приняла горячий душ, смывая с себя усталость, и стала собираться на работу. Она надела темно-бордовую блузку, простую серую юбку и серые туфли-лодочки. Подойдя к висевшему на двери ванной комнаты зеркалу, где она видна была в полный рост, Кристина критически оглядела себя. Она всегда несколько смущалась, видя свое отражение в зеркале, хотя и понимала, что эта стыдливость — результат внушений, которым она подвергалась в те самые Потерянные Годы, когда ей было восемнадцать, девятнадцать, двадцать лет. В то время она усердно старалась избавиться от всякого честолюбия и, в значительной мере, от собственной индивидуальности, потому что тогда от нее требовалось одно — подчиниться серому единообразию. Она должна была вести себя скромно и просто и держаться в тени. Малейшее проявление заботы о собственной внешности, отсутствие самоуничижения во взоре немедленно влекло за собой дисциплинарные взыскания. И хотя эти безрадостные годы, как и связанные с ними события, ушли в прошлое, они оставили свой след, этого нельзя было отрицать. Теперь, словно желая убедить себя, что ее победа над Потерянными Годами окончательна, Кристина поборола смущение и решительно занялась изучением собственного отражения в зеркале со всем возможным тщеславием, еще сохранившимся в ней после духовной чистки, которой ее когда-то подвергли. У нее была хорошая фигура, хотя вряд ли рекламные плакаты с ее изображением в бикини разошлись бы миллионными тиражами. Ноги стройные, прекрасной формы, пропорциональные бедра и хрупкая тонкая талия, может быть, даже чересчур тонкая, хотя благодаря этому казалась больше грудь, бывшая в действительности самого среднего размера. Кристине бы хотелось иметь такой же бюст, как у Вэл Гарднер. Однако Вэл заявляла, что большая грудь — это скорее проклятье, чем дар божий, что это то же самое, что таскать на себе пару седельных вьюков, и что вечерами от такой тяжести у нее ноют плечи. Даже если то, что говорила Вэл, было правдой, а не просто утешением для тех, кого природа наделила менее щедро, Кристине все равно хотелось, чтобы у нее была большая грудь. Она знала, что и это желание — безнадежно честолюбивое — было болезненной реакцией на все, что прививали ей в сером тоскливом месте, где ей пришлось жить с восемнадцати до двадцати лет, и в этом тоже выражался ее протест. К лицу уже прилила краска, но она заставила себя оставаться у зеркала еще минуту, до тех пор, пока окончательно не удостоверилась, что прическа в порядке и макияж наложен ровно. Для нее не было секретом, что она если не обворожительна, то хороша собой. Прекрасный цвет и правильный овал лица, мягкая линия подбородка, прямой нос. Ее главным достоинством были глаза: большие, темные, с ясным взором. Волосы тоже были темные, почти черные. Вэл утверждала, что с радостью променяла бы свою грудь на такие роскошные волосы, но Кристина знала, что это одни разговоры. Безусловно, волосы у нее неплохие, но при повышенной влажности они свисали длинными космами или, наоборот, — топорщились и курчавились, и она становилась похожей то ли на вампира, то ли на Джину Шалит. Наконец, с краской смущения на щеках, но чувствуя удовлетворение от одержанной победы над самоуничижением, которое пытались взрастить в ней в те далекие годы, Кристина отвернулась от зеркала. Зайдя на кухню, чтобы сварить кофе и поджарить хлеб, она увидела, что Джой уже сидит за столом. Он просто сидел, глядя в окно на залитую солнцем лужайку. Кристина достала бумажный фильтр, вставила его в кофеварку и спросила Джоя: — Что ты будешь на завтрак, капитан? Он не ответил. — Как насчет кукурузных хлопьев и бутерброда с арахисовым маслом? — спросила она, продолжая готовить кофе. — Или английские булочки? А может, съешь яйцо? Он снова не ответил. Иногда, хотя и нечасто, по утрам он бывал раздражен, но его всегда легко можно было привести в норму По натуре он был слишком мягким для того, чтобы дуться долго. Наливая в кофеварку холодной воды, она сказала: — Хорошо. Если ты не хочешь ни хлопьев, ни бутер, брода, ни яйца, может, тебе приготовить шпинат, брюссельскую капусту и брокколи? Ты же любишь это больше всего, верно? Он не клюнул на эту приманку, продолжая смотреть в окно, не шелохнувшись и не произнеся ни звука. — Может, тебе подогреть в микроволновой печи твой старый ботинок? Как ты на это смотришь? Нет ничего лучше к завтраку, чем старый башмак. У-у-у-у! Пальчики оближешь! Джой по-прежнему молчал. Кристина достала из буфета тостер, включила в сеть — и вдруг ее осенило, что дело не в том, что Джой раздражен. Что-то было неладно. Глядя ему в затылок, она сказала: — Милый? У него вырвался какой-то сдавленный звук. — Милый, что с тобой? Наконец, оторвав взгляд от окна, он посмотрел на нее. Растрепанные волосы падали ему на глаза, смотревшие как-то затравленно. Во взгляде была тоска, которая настолько не вязалась с его возрастом, что у Кристины учащенно забилось сердце. На его щеках блестели слезы. Она подошла к нему и взяла за руку. Ладонь была холодна как лед. — Мой сладкий, что произошло? Расскажи мне. Свободной рукой он потер воспаленные глаза: Из носа текло, и он утирался рукавом. Он был неестественно бледен. Что бы ни произошло, это было не простое детское огорчение. Она почувствовала это сердцем, и во рту пересохло от страха. Он хотел что-то сказать, но, не в силах произнести ни слова, указал рукой на кухонную дверь, потом, задыхаясь, глубоко вздохнул и с дрожью в голосе выдавил: — К-к-крыльцо. — Крыльцо? Что ты хочешь сказать? Он был не в состоянии говорить. Нахмурившись, она направилась к двери и, помешкав мгновение, распахнула ее. То, что она увидела, заставило ее отпрянуть назад. Брэнди. Его лохматое, покрытое золотистой шерстью тело лежало на краю крыльца у ступенек, а голова — у самой двери, под ногами Кристины. Собака была обезглавлена.Глава 5
Кристина с Джоем сидели на бежевом диване в гостиной. Он уже не плакал, но выглядел потрясенным. Составлявший протокол полицейский Уилфорд устроился в одном из кресел в стиле «королева Анна». Это был высокий крупный мужчина с грубыми чертами лица, густыми бровями и той самодостаточностью, которая отличает людей, привыкших проводить большую часть времени вне дома, где-нибудь в горах или в лесу, на охоте или рыбалке. Он примостился на самом краешке кресла, держа тетрадь на коленях, что, учитывая его габариты, выглядело довольно забавно; очевидно, он старался не повредить и не испачкать мебель. — Но кто же выпустил собаку? — допытывался он, уже задав все мыслимые вопросы. — Никто, — ответила Кристина. — Она вышла сама. Там в двери на кухне есть специальное отверстие. — Я видел, — сказал Уилфорд. — Это отверстие мало для такой большой собаки. — Я знаю, — сказала Кристина. — Когда мы купили этот дом, дверца уже была. Брэнди почти не пользовался ею, но когда возникала потребность, а вокруг никого не было, кто бы выпустил его, он просовывал туда голову и умудрялся выбраться через дверцу ползком. Я все хотела, чтобы ее заколотили, потому что боялась, как бы он не застрял. Если бы ее не было, Брэнди, возможно, и сейчас был бы жив. — Его убила ведьма, — тихо произнес Джой. Кристина обняла сына за плечи. — Думаете, его могли приманить мясом или собачьи» печеньем? — Нет. — В голосе Джоя появились металлические нотки; для него, по всей видимости, было оскорбительным предположение, что его собака погибла из-за примитивного желания удовлетворить какую-то плотскую прихоть, и он ответил сам, не дожидаясь, пока это сделает мать: — Брэнди вышел за дверь, чтобы защитить меня. Он чувствовал, что эта старая ведьма все еще околачивается где-то рядом, и хотел проучить ее, но вышло так, что… она убила его. Кристина понимала, что предположение Уилфорда, скорей всего, правильно, но, отдавая себе отчет в том, что Джой легче перенесет утрату, если будет верить, что его собака погибла за благородное дело, она сказала: — Это был храбрый пес, очень храбрый. Мы гордимся им. Уилфорд согласно кивнул: — Разумеется, вы можете им гордиться. Все это чертовски обидно! Золотой ретривер — такая симпатичная порода. Красавец, доброго нрава… — Его убила ведьма, — опять повторил Джой, словно оцепенев от одной этой мысли. — Как знать, — сказал Уилфорд, — может быть, это была и не она. Кристина взглянула на него исподлобья: — Ну, разумеется, это она. — Я понимаю, что вчерашний случай в «Саут-Кост-Плаза» очень неприятен, — продолжал полицейский. — И вполне естественно, вы склонны усматривать некую связь между этой женщиной и тем, что случилось с собакой. Однако согласитесь — для подобных предположений у нас нет ни серьезных оснований, ни веских доводов. И не совершим ли мы ошибку, допустив такую возможность? — Но Джой видел ее в окне, — Кристина все больше выходила из себя. — Я же вам говорила. И тем полицейским, что приходили вчера. Почему никто не хочет меня слушать? Она была за окном и высматривала Джоя. А Брэнди залаял на нее! — Но ее не было, когда вы пришли в комнату, — сказал Уилфорд. — Да, но… Мило улыбаясь, Уилфорд обратился к Джою: — Малыш, ты совершенно, абсолютно уверен, что видел в окне ту самую пожилую особу? Джой энергично закивал: — Ну да, ведьму. — Видишь ли, вполне объяснимо, что, увидев кого-то в окне, ты мог принять этого человека за ту старушку. Ведь в тот день она уже напугала тебя, и поэтому мысль о ней не выходила у тебя из головы. Так что когда ты включил свет, чтобы разглядеть, кто же стоит за окном, ее лицо, возможно, уже настолько отпечаталось в твоем сознании, что, независимо от того, кто там находился в действительности, ты представил именно ее. Джой, не поспевая за ходом его мысли, только моргал и упрямо твердил: — Это была она. Ведьма. Обращаясь уже к Кристине, Уилфорд продолжал: — Я склонен думать, что убийство собаки — дело рук того, кто стоял за окном, однако вряд ли это та самая женщина. Поймите, когда дело касается отравления собаки — а такое случается гораздо чаще, чем вы думаете, — то не может быть и речи о том, что это сделал совершенно чужой человек. Скорее всего, им окажется тот, кто живет рядом. Сосед. Я к тому, что пробрался к вам именно сосед и высматривал он именно собаку, а вовсе не вашего малыша. Этого человека Джой и видел в окне. Затем случилось то, что случилось: он нашел собаку и сделал свое дело. — Все это вздор, — возразила Кристина, — у нас хорошие соседи. Зачем им убивать нашу собаку? — Случается и такое, — заметил Уилфорд. — Только не в наших краях. — В любых краях, — настаивал на своем Уилфорд. — Если собака день за днем не дает людям покоя, лает, у некоторых сдают нервы. — Брэнди почти никогда не лаял. — Видите ли, то, что для вас «почти никогда не лает», для ваших соседей могло означать «никогда не умолкает». — И потом, Брэнди не отравили. Черт побери, все это более чем чудовищно. Вы же сами видели. На такую безумную жестокость не способны никакие соседи. — Вы бы удивились, узнав, на что бывают способны соседи, — сказал Уилфорд. — Зачастую они даже убивают друг друга. И это не редкость. Мы живем в странном мире. — Ошибаетесь, — в сердцах сказала Кристина. — Это была старуха. И ночью у окна была она, и собака — тоже ее рук дело. Полицейский вздохнул: — Может быть, вы и правы. — Разумеется, права. — Я только хочу сказать, что нам следует смотреть на вещи широко. — Прекрасная мысль, — отрезала она. Полицейский закрыл блокнот. — Ну что же, похоже, я получил всю необходимую информацию. Он поднялся с кресла. Вслед за ним вскочила Кристина и поспешно спросила: — И что теперь? — На основании вашего заявления мы составим протокол и скажем вам номер дела. — Что за номер? — Если что-то произойдет, например, снова объявится эта женщина, вы звоните нам и сообщаете номер, присвоенный вашему делу, так что в участке будут заранее знать, о чем идет речь. Полицейские выедут к вам, уже зная, на что следует обращать внимание по пути. И если женщина скроется до их приезда, то они, возможно, смогут задержать ее еще по дороге к вашему дому. — Почему же нам не дали номер дела после того, что случилось прошлой ночью? — Одного сообщения о том, что кто-то пробрался на ваш участок, недостаточно, чтобы завести дело, — объяснил Уилфорд. — Прошлой ночью, насколько нам известно, не совершено никакого противоправного действия. Нет состава преступления. Сегодня все…, несколько хуже. — Несколько хуже? — воскликнула Кристина. Перед ней предстала страшная картина: отсеченная голова Брэнди с обращенным на нее мертвым взглядом остекленевших глаз. — Извините, я неудачно выразился, — сказал Уилфорд. — Я имею в виду, по сравнению с тем, что нам приходится видеть на службе, убитая собака — это…, как бы сказать… — Все понятно, — Кристина с трудом подавляла гнев и нетерпение. — Вы звоните и сообщаете нам номер дела. Но я хочу знать, что еще вы намерены предпринять? Уилфорд выглядел растерянным. Он расправил плечи, затем потер ладонью крепкую шею. — У нас есть только описание, которое мы составили с ваших слов. Это немного. Мы сверимся с компьютерной базой данных и попробуем установить личность. Машина выдаст имена всех, у кого когда-либо возникали неприятности с полицией и кто соответствует нашему описанию, по крайней мере семи из десяти физических характеристик, по которым устанавливают личность. Мы также поднимем наше фотодосье. Возможно, компьютер выдаст сразу несколько имен, а в досье окажутся фотографии нескольких пожилых женщин. Тогда мы предъявим их вам для опознания. Как только вы опознаете ее…, э-э…, мы сможем побеседовать с ней и выяснить наконец, что происходит. Поймите, миссис Скавелло, все не так уж безнадежно. — А что, если у нее никогда не было неприятностей с полицией и у вас нет на нее досье? Направившийся к выходу Уилфорд ответил: — У нас существует возможность обмена базами данных со всеми полицейскими управлениями, находящимися на территории округов Оранж, Сан-Диего, Риверсайд и Лос-Анджелес. Мы имеем немедленный доступ к их компьютерам. Это называется модемная связь. Если выяснится, что женщина проходила у них по какому-то делу, мы выйдем на нее так же быстро, как если бы она числилась в нашей собственной картотеке. — Это все так, но что, если она вообще не имела никакого дела с полицией и нигде не значится? — с тревогой в голосе спросила Кристина. — Ну, не волнуйтесь, — Уилфорд уже открывал входную дверь. — Мы что-нибудь придумаем. Такое нам не впервой. — Меня это не устраивает. — Кристина сказала бы так, даже если бы верила ему, но как раз доверия-то она и не чувствовала. Ничего они не придумают. — Сожалею, миссис Скавелло, но это все, что мы пока можем для вас сделать. — Чушь собачья. Он нахмурился. — Мне понятно ваше раздражение, и я уверяю вас, что это дело будет под контролем, но мы не можем творить чудеса. — Чушь собачья. Было видно, что терпение его на пределе. Насупив густые брови, он произнес: — Миледи, это меня не касается, но мне кажется, вам не следовало бы употреблять таких слов в присутствии ребенка. Она уставилась на него в изумлении. Изумление уступило место гневу. — Вот как? Да кто вы такой — новоиспеченный христианин? — По правде говоря, именно так. И я убежден, что для нас чрезвычайно важно показывать хороший пример подрастающему поколению, чтобы дети наши воспитывались по образу и подобию божьему. Мы должны… — Я не верю вам. По-вашему, я показываю дурной пример лишь потому, что произнесла вслух два коротких, безобидных слова… — Слова не безобидны. Дьявол прельщает и соблазняет именно словом. Слова — это… — А какой пример подаете моему сыну вы сами? А? Каждым своим действием вы показываете ему, что полиция бессильна кого-либо защитить, не в состоянии никому помочь и не способна ни на что, кроме как приехать по вызову и вынюхивать подробности. — Жаль, что вы представляете это именно так. — А как, черт возьми, я должна это представлять? Он вздохнул: — Мы сообщим вам номер дела по телефону. — Развернулся и твердым шагом пошел по дорожке, оставляя ее одну с Джоем. Она бросилась вслед за ним и, нагнав, схватила за плечо: — Прошу вас, пожалуйста. — Он остановился и посмотрел на нее холодным безучастным взглядом. — Мне очень жаль, правда. Я просто обезумела. Ума не приложу, что мне делать. Я в полном отчаянии, — выпалила Кристина. — Я понимаю вас, — раза два до этого он уже говорил эту фразу, однако его каменное лицо не выражало никакого понимания. Оглянувшись, чтобы убедиться, что Джой по-прежнему стоит в дверях и что он не слышит ее слов, она сказала: — Извините, что я вспылила. И вы, похоже, правы: надо следить за своей речью, когда рядом Джой. Я так и делаю, поверьте, но сегодня я не очень хорошо соображаю. Эта сумасшедшая сказала мне, что мой мальчик умрет. Именно это она сказала. Он должен умереть — вот ее слова. А теперь вот собака, бедный Брэнди. Боже, я так любила этого пса. А сейчас он мертв, а Джой посреди ночи увидел в окне чье-то лицо, и весь мир неожиданно оказался поставлен с ног на голову, и я по-настоящему боюсь, потому что мне кажется, эта безумная женщина каким-то образом выследила нас и теперь собирается сделать это или по крайней мере попытается сделать это, попытается убить моего малыша. Я не понимаю зачем. Нет никакой причины. Никакой объяснимой причины. Но ведь от этого не легче, правда? Особенно в наши дни. В газетах без конца пишут про всяких панков, растлителей и всевозможных чокнутых, которым и не нужна никакая причина, чтобы делать то, что они делают. — Миссис Скавелло, прошу вас, держите себя в руках, — сказал Уилфорд. — Вы устраиваете из этого мелодраму. Если не истерику, то определенно мелодраму. Все не так плохо, как вы пытаетесь себе представить. Мы намерены действовать так, как я вам сказал. А пока положитесь на господа, и все будет хорошо и с вами, и с вашим мальчиком. Она была бессильна заставить этого человека понять ее. Хоть когда-нибудь. Не хватит и миллиона лет, чтобы заставить его почувствовать ее ужас, постичь, что значила бы для нее потеря Джоя. Все было безнадежно. Ноги не слушались, словно силы разом покинули ее. — Мне, безусловно, приятно слышать, что вы намерены следить за своей речью при ребенке. Последние два поколения в этой стране — настоящие выродки, воспитанные в духе отрицания моральных устоев, у которых ни к чему нет уважения. И если мы хотим, чтобы наше общество было здоровым, мирным и богобоязненным, мы должны служить детям примером. Она молчала. Как будто рядом находился чужеземец — может быть, даже пришелец с другой планеты, — который не только не говорил на ее языке, но и был не способен выучить его. Ему никогда не понять ее проблем, ее тревог. Между ними не было ни одной точки соприкосновения, они были разделены тысячами миль. В стальных глазах Уилфорда теперь горела страсть истого праведника. — И я бы посоветовал вам не появляться в присутствии мальчика без бюстгальтера, как сейчас. При вашем сложении, даже учитывая, что вы носите широкую блузку, ваш вид, когда вы поворачиваетесь или протягиваете руку…, может быть…, возбуждающим. Кристина посмотрела на него в недоумении. На языке вертелось несколько крепких выражений, достаточно было бы одного, чтобы осадить его, но она почему-то не могла вымолвить ни слова. Конечно, отчасти эта сдержанность передалась ей от матери — женщины безупречно вежливой, неукоснительно соблюдавшей правила хорошего тона, чье общество наверняка заставило бы смягчиться сердце самого генерала Джорджа Паттона. Но помимо этого, глубоко в душе засели заповеди церкви, учившей «подставлять другую щеку». Кристина убеждала себя, что освободилась от всего этого, избавилась окончательно, но ее неспособность поставить Уилфорда на место красноречиво свидетельствовала о том, что в какой-то степени она еще оставалась заложницей своего прошлого. Уилфорд продолжал нести вздор, не подозревая о зревшей в ней ненависти: — Возможно, сейчас ваш сын ничего не замечает, но через пару лет он непременно обратит на это внимание, а у мальчика не должно появляться подобных мыслей в отношении матери. Нечаянно вы могли бы толкнуть его в объятия дьявола. Если бы не усталость, если бы над ней не довлело страшное сознание их с Джоем беспомощности, Кристина рассмеялась бы ему в лицо. Но в тот момент ей было не до смеха. — Ну что же, мы еще поговорим с вами, — сказал Уилфорд, — положитесь на господа, миссис Скавелло. Да, да, уповайте на господа. Она подумала, как бы он отреагировал, узнав, что никакая она не «миссис», что Джой рожден вне брака, что он незаконнорожденный? Отнесся бы он с меньшим старанием к их делу, зная об этом? Не перестала бы его вообще беспокоить судьба маленького мальчика, узнай он, что тот незаконнорожденный? Будь прокляты эти лицемеры. Ей хотелось ударить его, пнуть ногой, сорвать на нем свое раздражение, но она только смотрела, как он садится в патрульную машину, где его дожидался напарник. Он оглянулся и помахал рукой. Она вернулась на крыльцо к Джою. Казалось, что он ждет от нее каких-то ободряющих слов. Но даже найди она нужные слова, не смогла бы обманывать его. Сейчас, пока они не знают, что происходит, может быть, и лучше пребывать в страхе. Пока Джой испуган, думала Кристина, он будет настороже, начеку. Она чувствовала приближение беды. Не драматизировала ли она ситуацию? Нет. То же самое чувствовал Джой. Она прочла это в его глазах.Глава 6
Кристина вошла в дом, закрыла дверь на замок. Взъерошила Джою волосы. — Все хорошо, милый? — Я буду тосковать по Брэнди, — сказал он дрожащим голосом, стараясь быть спокойным, но у него это не получалось. — Я тоже, — ответила Кристина и вспомнила, каким забавным был Брэнди в роли Чубакки Вуки. — Я подумал… — начал Джой. — Что? — Может, это неплохая идея… — Да? — Неплохая идея завести другую собаку. Она присела перед ним на корточки: — Знаешь, это очень интересная идея. Очень мудрая, я думаю. — Конечно, я не хочу забывать Брэнди. — Конечно, нет. — Я никогда не забуду его. — Мы навсегда запомним Брэнди. Он будет в наших сердцах, — ответила она. — И я думаю, он бы понял, почему мы хотим снова завести собаку. Я даже уверена — он именно этого и хотел бы. — Чтобы меня кто-то мог защитить, — сказал Джой. — Верно. Брэнди хотел бы, чтобы тебя защищали. На кухне зазвонил телефон. — Знаешь, — сказала она, — сейчас отвечу, а потом мы займемся приготовлениями к похоронам Брэнди. Телефон звонил. — Мы узнаем про хорошее кладбище для собак и похороним Брэнди со всеми почестями. — Хорошо бы, — сказал он. В третий раз раздался звонок. Направляясь на кухню, она сказала: — А потом мы подыщем щенка. — Сняла трубку на пятом звонке. — Алло? Женский голос спросил: — Вы участвуете в этом? — Простите? — Вы участвуете или вы не знаете, что происходит? Голос показался слегка знакомым, но Кристина сказала: — Я думаю, вы ошиблись номером. — Вы миссис Скавелло? — Да. Кто это? — Я должна знать, участвуете ли вы? Вы одна из них? Или вы невиновны? Я должна знать. Теперь Кристина узнала голос, и холодок пробежал по спине. Старуха спросила: — Вы знаете, кто на самом деле ваш сын? Вы знаете, что в нем зло? Знаете, что он должен умереть? Кристина бросила трубку. Джой пришел за ней на кухню. Он стоял в дверях и сосал большой палец. В полосатой рубашке, джинсах, стоптанных тапочках он выглядел трогательно маленьким, беззащитным. Снова зазвонил телефон. Не обращая внимания на звонок, Кристина сказала: — Иди ко мне, капитан, пойдем. Они вышли из кухни, прошли столовую, гостиную и поднялись наверх в спальню. Он не спрашивал, что случилось, но по выражению лица было ясно, что он догадывался. Звонки продолжались. В спальне Кристина выдвинула верхний ящик высокого комода на ножках и из-под стопки сложенных свитеров достала зловещего вида самовзводный «астра-констэбль» с коротким стволом. Она купила его давно, еще до рождения Джоя, когда жила одна, и научилась обращаться с ним. Пистолет давал ей необходимое ощущение безопасности — тогда и вот теперь снова. Телефон все звонил. Когда родился Джой и особенно когда начал ходить, она боялась, что он найдет пистолет и станет с ним играть. Опасение, что Джой ранит себя, оказалось сильнее страха перед грабителями. Она разрядила пистолет и положила его в комод под одежду, а пустой магазин спрятала в кухонном шкафу. К счастью, пистолет ей был не нужен. До этого дня. Телефонные звонки становились все пронзительнее и начинали раздражать. С пистолетом в руке Кристина подошла к шкафу и, вытащив пустой магазин, торопливо взяла с верхней полки коробку с патронами. Непослушными дрожащими пальцами заполнила магазин патронами и с силой плотно вставила его в рукоятку. Джой с восхищением наблюдал за ней. Наконец телефон замолк. Внезапная тишина на мгновение оглушила Кристину. Первым заговорил Джой, все еще держа палец во рту: — Это ведьма звонила? Не было смысла скрывать от него правду или говорить, что старуха вовсе не ведьма. — Да, она. — Мамочка, я боюсь… В последние несколько месяцев, после того как исчез страх перед белой змеей, которая беспокоила его во сне, он стал звать ее «мам», а не «мамочка», чтобы показать, что уже взрослый. А сейчас это «мамочка» показывало, что насколько ребенок напуган. — Все будет хорошо. Я не допущу, чтобы что-то случилось…, с кем-то из нас. Все обойдется, если мы будем осторожны. Ей казалось, что старуха постучит в дверь или появится в окне. Откуда она звонила? Сколько ей понадобится времени, чтобы прийти сейчас к Джою, когда ушли полицейские? — Что мы будем делать? — спросил он. Она положила заряженный пистолет на комод, достала из шкафа два чемодана. — Я соберу чемоданы, и мы уйдем отсюда. — Куда мы пойдем? Она поставила чемодан на свою постель и раскрыла его. — Не знаю точно, милый. Куда-нибудь. Может, в гостиницу. Пойдем туда, где эта сумасшедшая карга не найдет нас, как бы ни пыталась. — А потом что? Она складывала вещи: — Пойдем найдем того, кто поможет нам, по-настоящему поможет. — Не так, как полицейские? — Не так. — А кого? — Не знаю… Может, частного детектива. — Как Магнум по телевизору? — Ну, не совсем как Магнум, — сказала Кристина. — А как кто? — Нам нужна солидная фирма, которая обеспечила бы нам охрану, пока ловят эту старуху. Первоклассная организация. — Как в старых фильмах? — В каких? — Ты знаешь. Когда попадают в беду, говорят: «Мы найдем Пинкельтона». — Пинкертона, — поправила она. — Да, что-то вроде Пинкертона. Мы можем позволить себе нанять таких людей, и мы так и сделаем. Не будем парой подсадных уток, как советуют полицейские. — Я бы чувствовал себя в тысячу раз спокойнее, если бы мы пошли и наняли Магнума, — сказал Джой. Объяснять шестилетнему мальчику, что Магнум — ненастоящий детектив, не было времени. Она сказала: — Ну, может, ты и прав. Может, мы и наймем Магнума. — Да? — Да. — Он справится, — сказал Джой рассудительно. — Он всегда справляется. Они зашли в комнату Джоя, он — с пустым чемоданом, она — с уже собранным и с пистолетом. Кристина решила, что они не пойдут в гостиницу, чтобы не терять времени, а отправятся сразу же в детективное агентство. Во рту у нее пересохло, сильно билось сердце, она тяжело и часто дышала. В воображении возникла жуткая картина — окровавленное и обезглавленное тело на крыльце. Но это был не Брэнди. Она видела Джоя.Глава 7
Чарли Гаррисон гордился своими достижениями. Бедняк из убогого района Индианаполиса, начавший с нуля, в свои тридцать шесть он был единоличным владельцем преуспевающей компании (с тех самых пор, как ее основатель Харви Клемет отошел от дел) и прекрасно жил в Южной Калифорнии. Если он еще и не достиг предела своих мечтаний, то был очень близок к нему и удовлетворен пройденным путем. Офис Клемета — Гаррисона был расположен не в таком отдаленном месте, как захудалые детективные конторы из романов и фильмов. Комнаты на последнем этаже пятиэтажного дома на тихой улице в Коста-Мезе были уютны и обставлены со вкусом. Приемная сразу производила хорошее впечатление. На полу лежали ковры, стены были затянуты нежно-зеленой материей. Новая мебель — не из дешевых. На стенах висели не простенькие эстампы, а три батика Эвинда Эрла стоимостью в полторы тысячи долларов каждый. Кабинет самого Чарли — еще шикарнее, нежели приемная, — не напоминал о тяжеловесном официальном стиле, который предпочитают адвокаты, юристы и люди свободных профессий. Стены, до середины обитые панелями светлого дерева, из того же светлого дерева ставни, новый письменный стол Хенредона, кресла, обтянутые изящной зеленой материей, от «Бруншвича и сыновей». На стенах — две большие, наполненные светом картины Мартина Грина, изображающие водоросли, причудливо изгибающиеся в таинственных струях и потоках. Несколько больших растений — папоротники и плющи, — свисающие с потолка и стоящие на ширмах из палисандрового дерева. Казалось, вы попали в субтропики, хотя вас не оставляло ощущение прохлады, так же как и впечатление богатства. Но когда Кристина Скавелло появилась на пороге, Чарли вдруг почувствовал, что его комната выглядит просто жалкой. Да, она была светлая, все здесь было тонко продумано, дорого и изысканно, но тем не менее казалось чрезмерно тяжелым, громоздким и даже безвкусным рядом с этой потрясающей женщиной. Встав из-за стола, он сказал: — Мисс Скавелло, я — Чарли Гаррисон. Рад видеть вас. Она протянула ему руку и ответила, что тоже рада его видеть. У нее были густые, блестящие, темные, почти черные, волосы. Их хотелось погладить, зарыться в них лицом и ощутить их запах. Не привыкший к таким сильным и внезапным чувствам, Чарли постарался их побороть. Он посмотрел на Кристину внимательно и, насколько мог, бесстрастно. Он сказал себе, что она не совершенство, не сногсшибательная красавица. Хорошенькая — да, но не красотка. Лоб выше обычного, скулы немного тяжеловаты, а нос чуть вздернут. Тем не менее, слегка заикаясь от волнения, что совсем не было похоже на него, он заискивающе произнес: — Извините за состояние офиса. И сам удивился своим словам и растерялся. Кристина смутилась: — Почему вы извиняетесь? Здесь чудесно. Он взглянул на нее: — Вы правда так считаете? — Конечно. Никогда не думала, что офис частного детектива может быть таким. Здесь гораздо интересней, привлекательней, чем я полагала. У нее были большие темные глаза. Ясный, прямой взгляд. Когда он встречался с ней глазами, на мгновение перехватывало дыхание. — Я сам все сделал, — ответил он, решив, что комната все же не так плоха. — Без помощи дизайнера по интерьеру. — У вас безукоризненный вкус. Он предложил ей сесть и, когда она садилась, отметил, что у нее красивые ноги и прекрасной формы щиколотки. «Видел же я раньше красивые ноги и прекрасные щиколотки, — подумал он несколько озадаченно, — но никогда не испытывал такого юношеского влечения, не чувствовал этого глупого внезапного порыва». Либо он более сексуален, чем представлял, либо дело было не только в ее внешности. Пожалуй, больше всего его привлекли в ней манера двигаться — тихо, грациозно, походка, рукопожатие, голос — мягкий, низкий, женственный, но не жеманный, в нем чувствовалась внутренняя сила, ее прямой взгляд. Вопреки обстоятельствам, при которых они встретились, несмотря на то что серьезные проблемы волновали ее, она обладала удивительным внутренним спокойствием, которое интриговало его. «Но ведь это опять не довод, — думал он. — С каких это пор я хочу лечь в постель с женщиной из-за ее удивительного внутреннего спокойствия?» Ну хорошо, он пока еще не может определить свои чувства. Он просто будет жить с ними и постарается понять их позже. Садясь за стол, он сказал: — Скорее всего, я не должен был признаваться, что люблю заниматься дизайном интерьера. Может, это не соответствует образу частного детектива? — Наоборот, — возразила она, — это показывает, что вы наблюдательны, проницательны, возможно, чувствительны и отлично подмечаете детали. Качества, которые, я полагаю, необходимы любому человеку вашей профессии. — Правильно! Совершенно верно! — воскликнул он,радостно улыбаясь, польщенный ее похвалой. Он почувствовал почти непреодолимое желание поцеловать ее лоб, глаза, переносицу, кончик носа, щеки, подбородок и, наконец, ее красиво очерченные губы. Но только произнес: — Итак, мисс Скавелло, чем могу быть вам полезен? Она рассказала ему о старухе. Он был потрясен, заинтересован, полон сочувствия, но, кроме того, и расстроен, потому что никогда не знаешь, чего ожидать от таких чокнутых старух. Может случиться что угодно. К тому же он знал, как трудно выслеживать преступников с такой иррациональной мотивацией поступков. Лучше уж иметь дело с людьми, чьи побуждения ясны и понятны: корысть, похоть, зависть, ревность, отмщение, любовь, ненависть, — с ними он привык работать, это — его сырье. Слава богу, человечество обладает слабостями и недостатками, не будь их, он остался бы без работы. Он забеспокоился, что может не оправдать ожиданий Кристины Скавелло и тогда она навсегда уйдет из его жизни. А если так произойдет, ему останется только мечтать о ней, а он уже слишком стар для подобных мечтаний. Когда Кристина закончила перечислять события утра — убийство собаки, звонок старухи, — Чарли спросил: — Где сейчас ваш сын? — В вашей приемной. — Хорошо. Там он в безопасности. — Я не уверена, что он в безопасности где бы то ни было. — Успокойтесь. Еще не конец света, правда. Он улыбнулся ей, как бы подтверждая, что еще не конец света. Хотелось, чтобы она улыбнулась в ответ, он был уверен, что улыбка сделает ее прекрасное лицо еще прекраснее, но она, казалось, была не в силах улыбаться. Он продолжал: — Хорошо, о старухе. Вы дали мне довольно точный ее портрет. — Он записывал все, что она говорила, и теперь просматривал записи. — Нет ли чего-нибудь еще, что помогло бы нам разыскать ее? — Я рассказала вам все, что помню. — Как насчет шрамов? У нее есть шрамы? — Нет. — Она носит очки? — Нет. — Вы сказали, что ей около семидесяти или чуть больше? — Да. — А лицо почти без морщин? — Верно. — Неестественно гладкое, несколько отекшее, вы сказали? — Да, ее кожа! У меня была тетя, которой кололи кортизон от артрита. У нее было такое же лицо. — Вы думаете, что она лечится от артрита? Кристина пожала плечами: — Не знаю. Может быть. — Она носила медный браслет или медные кольца? — Медные? — Конечно, это россказни, но многие думают, что медь помогает при артрите. У меня тоже была тетя, и она носила медную цепочку, два медных браслета на каждом запястье, медные кольца и даже медный браслет на щиколотке. Она была худенькой, маленькой, как птичка, носила эти уродливые тяжелые украшения и уверяла, что они ужасно помогают ей, но лучше ей не стало и боли не прекращались. — У этой женщины не было медных украшений. Масса других украшений, но не медных. Он посмотрел в записи. — Она не говорила, как ее зовут? — Нет. — Не были ли у нее на блузке вышиты монограммы? — Нет. — А на кольцах не было инициалов? — Думаю, нет, а если были — я не заметила. — Вы не видели, откуда она появилась? — Нет. — Если бы мы знали, из какой машины она вышла… — Не знаю. Мы уже подходили к своей машине, когда она появилась из-за нее. — Какая машина стояла рядом с вашей? Она нахмурилась, пытаясь вспомнить. Пока она думала, Чарли изучал ее лицо, стараясь найти недостатки. Ничто в мире не свободно от недостатков. В любой вещи можно найти по крайней мере один изъян. Даже в бутылке «Лафита Ротшильда» может быть плохая пробка или слишком много дубильных веществ. «Роллс-Ройс» бывает не идеально покрашен. Ореховое масло «Ризе», безусловно, превосходно, но от него толстеют. Но сколько бы он ни смотрел на лицо Кристины Скавелло, не мог углядеть изъяна. Да, чуть вздернутый нос, тяжеловатые скулы, слишком высокий лоб — но ему не казалось это недостатком; это были…, просто отступления от принятых норм красоты, небольшие отклонения, которые создавали ее неповторимый облик. «Что же, черт возьми, со мной? — удивлялся он. — Хватит страдать по ней, я же не влюбленный школьник». С одной стороны, ему нравилось новое, свежее, опьяняющее чувство. А с другой — не нравилось, потому что он не понимал его, а его отличало стремление докопаться до сути. Поэтому-то он и стал детективом, чтобы найти ответы, понять. Она взглянула на него: — Я вспомнила. Рядом с нами стояла не машина. Это был фургон. — Грузовой фургон? Какой? — Белый. — Какая модель? Она снова нахмурилась, стараясь вспомнить. — Старый или новый? — спросил он. — Новый. Чистый, блестящий. — Заметили какие-нибудь вмятины, царапины? — Нет. Это был «Форд». — Хорошо. Очень хорошо. Знаете, какого года выпуска? — Нет. — Туристический фургон с круглыми окнами, а может, расписанный? — Нет. Обыкновенный, фургон для работы. — Не было ли на нем названия компании? — Нет. — А что-нибудь было на нем написано? — Нет, он был просто белый. — А номерной знак? — Я не видела. — Вы же обходили его сзади, заметили, что это «Форд», там же был и номерной знак? — Я знаю, но я не посмотрела. — Если понадобится, мы сможем узнать от вас номерной знак при помощи гипноза. Теперь, по крайней мере, есть с чего начать. — Если она вышла из фургона. — Для начала предположим, что вышла. — Но это может быть ошибкой. — А может быть, и нет. — Она могла выйти из любой другой машины, находящейся на стоянке. — Но поскольку мы должны с чего-то начать, начнем с фургона, — терпеливо ответил он. — Она могла выйти откуда угодно. Возможно, мы просто теряем время. Я не хочу терять время. Она не теряет время. У меня ужасное предчувствие, что у нас очень мало времени. Она сильно нервничала, теперь все ее тело сотрясала дрожь. Чарли понял, что ей стоит больших усилий сдерживать себя. — Не волнуйтесь. Теперь все будет хорошо. Мы не допустим, чтобы что-нибудь случилось с Джоем. Она была бледна. Голос дрожал, когда она вымолвила: — Он такой милый. Милый маленький мальчик. Он — все в моей жизни. Если что-нибудь случится с ним… — Ничего с ним не случится. Обещаю вам. Она заплакала. Не всхлипывала, не причитала, не билась в истерике. Только глубоко и прерывисто дышала, глаза наполнялись слезами, и они скатывались по щекам. Чарли резко встал из-за стола, желая успокоить ее. Чувствуя себя неловко, произнес: — Я думаю, вам не помешает выпить. Она покачала головой. — Это поможет, — сказал он. — Я почти не пью, — голос ее дрожал, а слезы бежали сильнее, чем прежде. — Ну чуть-чуть. — Слишком рано. — Уже половина двенадцатого. Почти обеденное время. Кроме того, это в лечебных целях. Он подошел к бару, который стоял у одного из двух больших окон. Открыл нижние дверцы, вытащил бутылку «Шивас регал» и один бокал, поставил их на мраморную полочку, налил две унции виски. Открывая бутылку, он случайно выглянул в окно и похолодел. Белый фургон «Форд» — чистый и блестящий, без всякой рекламы на нем — стоял напротив на улице. Глядя поверх листьев огромной пальмы, которая доросла почти до пятого этажа, Чарли увидел у фургона человека в темной одежде. Совпадение. Человек, похоже, ел. Просто рабочий остановился на тихой улице, чтобы перекусить. Вот и все. Что, кроме этого, еще может быть? Совпадение. А может, и нет. Человек, казалось, наблюдал за фасадом здания. Он притворился, что ест, и в то же время следит. Чарли сам следил десятки раз за многие годы. Он знал, что такое слежка, и это как раз было на то похоже, хотя заметно и непрофессионально. — Что случилось? — спросила Кристина. Он удивился ее проницательности, тому, как она почувствовала его состояние, хотя была очень расстроена и все еще плакала. — Надеюсь, вам понравится, — он отошел от окна и протянул ей виски. Она без возражения приняла бокал. Взяла его обеими руками, но Чарли все-таки поддерживал его. Она пила виски маленькими глотками. Чарли сказал: — Выпейте сразу два глотка. Это вам поможет. Она сделала так, как он посоветовал, а он отметил: она действительно не умеет пить — сморщилась, хотя «Шивас» — самое мягкое виски. Пустой бокал он отнес к бару, сполоснул в маленькой раковине и поставил в сушилку. Опять посмотрел в окно. Белый грузовик все еще был там. И человек в темной одежде все так же стоял и жевал что-то с напускной небрежностью. Вернувшись к Кристине, Чарли спросил: — Вам лучше? Лицо ее вновь обретало естественный оттенок. Она кивнула: — Извините, что я так расклеилась. Он присел на краешек стола, касаясь ногой пола, и улыбнулся: — Вам не за что просить прощения. Большинство, будь они так же напуганы, вошли бы в эту дверь с бессвязным бормотанием и бормотали бы до сих пор. Вы держитесь очень хорошо. — Мне так не кажется, — она достала из сумочки платок и высморкалась. — Но, похоже, вы правы. Одна безумная старушенция не означает конец света. — Вот именно. — Не может быть, чтобы мы не справились с одной сумасшедшей старухой. — В том-то и дело, — сказал он. Однако подумал: «Одна сумасшедшая старуха? А кто же тогда тот тип у белого грузовика?»Глава 8
Грейс Спиви сидела в массивном дубовом кресле, ее холодные серые глаза блестели в темноте. Сегодня в мире духов был красный день, один из самых красных, которые она знала, и она оделась во все красное, чтобы быть с ним в гармонии; так же как вчера, когда мир духов проходил через зеленую фазу, она была одета во все зеленое. Большинство людей не знали, что каждый день в мире духов имел свой цвет, ведь они не могли проникнуть в мир сверхъестественного так же легко, как это удавалось Грейс, они вообще о нем не подозревали, и поэтому стиль одежды Грейс был недоступен их пониманию. Но для нее, экстрасенса и медиума, выбор цвета был важен, чтобы гармонировать с миром духов, так ей было легче общаться с прошлым и прорицать будущее. Информация передавалась духами по ослепительно ярким цветным лучам энергии. Сегодня лучи окрашены во все оттенки красного цвета. Попробуй она объяснить это — ее приняли бы за сумасшедшую. Несколько лет назад собственная дочь отправила ее в психиатрическую больницу на обследование, но ей удалось вырваться из этой ловушки, она отреклась от дочери и с тех пор стала осторожнее. Сегодня на ней были темно-красные туфли, темно-красная юбка, светло-красная двух тонов полосатая блузка. Все украшения красноватого оттенка: двойная нить малиновых бус, такие же браслеты на запястьях, яркая, как огонь, фарфоровая брошь, два рубиновых кольца, кольцо с четырьмя отполированными сияющими сердоликами, еще четыре кольца с дешевыми красными стекляшками, алой эмалью и ярко-красной керамикой. Все камни — будь то драгоценные, полудрагоценные или бижутерия — сверкали и переливались в дрожащем огоньке свечи. Неровное пламя, словно танцуя на кончиках фитильков, отбрасывало причудливые извивающиеся тени на подвальные стены. Большая комната казалась меньше, поскольку янтарное пламя свечей освещало небольшую ее часть. Одиннадцать свечей, толстых и белых, вставленных в медные подсвечники с красивой подставкой для стекающего воска. Каждый подсвечник крепко держали апостолы Грейс, они с нетерпением ждали, когда она заговорит. Их было одиннадцать — шесть мужчин и пять женщин, — молодые, среднего возраста и старые. Они сидели на полу, образуя перед креслом Грейс полукруг; мерцающий, неровный, таинственный свет освещал и странно искажал их лица. Ее учениками были не только эти одиннадцать. Более пятидесяти человек сидели в верхней комнате и с волнением ожидали, что произойдет на сегодняшнем сеансе. Больше тысячи других были разбросаны по разным уголкам на севере и юге, выполняя задания Грейс. Она знала и помнила их имена, хотя сейчас ей было труднее запоминать их, гораздо труднее, чем до тех пор, пока божий Дар не снизошел до нее. Он заполнил ее, вошел в ее разум и вытеснил многое, что прежде казалось само собой разумеющимся, вроде способности запоминать имена и лица. Или способности следить за временем. Она теперь не знала, который час, и то, что она иногда смотрела на часы, не имело никакого значения. Секунды, минуты, часы и дни казались смешными и случайными измерениями времени; для обычных людей они еще были полезны, но она в них больше не нуждалась. Порой, когда она думала, что прошел день, оказывалось, что прошла целая неделя. Это пугало, но в то же время странным образом увлекало — постоянно напоминало, что она особенная. Избранная. Дар вытеснил из нее и сон. Иногда не спала вообще. Обычно сон отнимал один час или два, не больше, но сон был ей больше не нужен. Дар вытеснил все, что могло бы помешать великой и священной миссии, которую ей надлежало выполнить. Но имена этих одиннадцати, самых преданных из ее паствы, она помнила. Это были лучшие из лучших, незапятнанные души, наиболее достойные выполнить задачу, стоящую перед ними. Но был среди них один — Кайл Барлоу, тридцати двух лет, хотя выглядел старше, — мрачный, злобный, опасный. У него были каштановые прямые волосы, густые, но без блеска. Глубоко посаженные карие глаза под нависшими надбровными дугами смотрели внимательно и проницательно. Hoc — крупный, не прямой, не римский, а перебитый. Скулы и подбородок такие же тяжелые, грубо высеченные, как и, надбровные дуги. При крупных и некрасивых чертах лица губы тонкие и такие бескровные и бледные, что казались еще тоньше, от этого рот походил на узкую щель. Он был необычайно высоким, более двух метров ростом, с бычьей шеей, могучими плечами, крепкой грудью и жилистыми руками. Создавалось впечатление, что он может переломить человеку хребет, и раньше зачастую он это и делал, исключительно ради удовольствия. В последние же три года, с тех пор как Кайл стал последователем Грейс, членом тайного синедриона, а потом самым верным ее помощником, он ни на кого не поднял руку. До того как Грейс нашла и спасла его, это был неуравновешенный, агрессивный и жестокий человек. То время теперь миновало. Под отталкивающей внешностью Кайла Барлоу Грейс сумела разглядеть добрую душу. Да, он сбился с пути, но желал (даже не сознавая этого) вернуться на стезю добродетели. Нуждался в ком-то, кто направил бы его. Встретил Грейс и пошел за ней. Теперь огромные мощные руки и железные кулаки не принесут вреда добродетельным людям, но уничтожат врагов господа, и только тогда, когда скажет Грейс. Грейс узнавала врагов господа, когда встречала их. Способность распознать безнадежно потерянную душу с первого взгляда тоже была лишь малой частью божьего Дара, снизошедшего на нее. Достаточно было одну секунду посмотреть в глаза человеку, чтобы определить, был ли он грешным и окончательно погибшим. Она обладала Даром. Никто больше. Только она, Избранная. Слышала зло в голосах нечестивых, видела зло в их глазах. От нее нельзя было спрятаться. Иные, почувствовав Дар, усомнились бы, решили, что порочны или даже безумны. Но Грейс никогда не сомневалась и не считала себя безумной. Никогда. Знала, что особенная, знала, что права, потому что так сказал ей господь. Стремительно приближался день, когда она наконец призовет Кайла и других сокрушить приверженцев сатаны. Укажет на них, и Кайл их уничтожит. Он станет карающим мечом господа. Как это будет прекрасно! Сидя в подвале церкви, в массивном дубовом кресле, перед своими ближайшими соратниками, Грейс задрожала в предвкушении блаженства. Будет таким удовольствием наблюдать, как крепкие мускулы сокращаются и расслабляются, вымещая гнев божий на неверных и слугах сатаны. Скоро. Час близится. Сумерки. Пламя свечей трепетало, Кайл спросил тихо: — Вы готовы, Мать Грейс? — Да, — ответила она. Закрыла глаза. Сначала ничего не видела, ее окружала лишь темнота, потом она установила контакт с миром духов, и перед ней появились вспышки, завитки, фонтанчики, пятна света; вздымающиеся, изгибающиеся, переплетающиеся тени, то яркие, то тусклые, все оттенки красного, потому что это передавалась энергия духов, а был красный день их бытия. Самый красный из всех, которые знала Грейс. Духи окружали ее со всех сторон, а она уносилась все дальше, погружалась в их мир, нарисованный на внутренней стороне ее век. Сначала ее несло медленно. Чувствовала, что разум и душа отделяются от тела, оставляя плоть. Еще чувствовала телесную связь с миром — запах горящих свечей, массивное дубовое кресло, шорох и шепот одного из апостолов, но постепенно все исчезало. Она неслась дальше, все быстрее и быстрее, сквозь испещренную пятнами света пустоту, быстрее, с ужасающей, вызывающей тошноту скоростью… И внезапный покой. Она оказалась в глубинах мира духов, подобно астероиду в бескрайних просторах Вселенной. Уже не слышала, не видела, не воспринимала мир, который оставила. В бесконечной ночи сновали красноватые тени, быстро и медленно, целенаправленно и беспорядочно выполняя священную миссию, которую Грейс еще не понимала. Грейс думала о мальчике, Джое Скавелло. Знала, кем он был и что он должен умереть. Но не знала, пришло ли время покончить с ним. Она совершила путешествие в мир духов с единственной целью — выяснить, что делать с мальчиком и когда. Надеялась, что ей прикажут убить его. Ей так хотелось убить его.Глава 9
Два глотка виски, похоже, подействовали на Кристину Скавелло немного успокаивающе. Она откинулась в кресле, разомкнув руки, но все еще в напряжении и заметно дрожа. Чарли все так же сидел на краешке своего стола, касаясь одной ногой пола. — По крайней мере до тех пор, пока мы не узнаем, кто эта женщина и с кем еще мы имеем дело, я думаю, с Джоем круглосуточно должны находиться два вооруженных телохранителя. — Хорошо, я согласна. — Он ходит в школу? — В подготовительную группу. В школу он пойдет осенью. — Придется подержать его дома, пока все не утрясется. — Это так просто не утрясется, — в ее голосе было раздражение. — Ну, разумеется, я не имел в виду, что мы собираемся отсиживаться. Я хотел сказать, что он не будет посещать занятия, пока мы не положим конец этой истории. — Достаточно ли двух охранников? — На самом деле их будет шестеро. Они будут работать парами по восемь часов. — И все же в смену будет всего два человека, и я… — Двоих достаточно. У них хорошая подготовка. Однако это может оказаться довольно дорого. Если… — Я могу позволить себе это, — оборвала она Гаррисона. — Мой секретарь даст вам расценки… — Сколько бы ни было. Я в состоянии оплатить… — А что ваш муж? — А что муж? — Ну, что он обо всем этом думает? — У меня нет мужа. — О, прошу извинить меня, если я… — Я не нуждаюсь в участии. Я не вдова, как, впрочем, и не разведенная. — Она говорила с прямолинейностью, которую он подметил в ней еще раньше; его подкупало ее нежелание уклоняться от ответа. — Я никогда не была замужем. — Понимаю. Хотя Чарли мог поклясться, что в голосе его не было ни тени неодобрения, Кристина точно окаменела, как будто он оскорбил ее. Он вздрогнул, когда она с неожиданным и необъяснимым гневом, сдержанно и в то же время металлически твердо произнесла: — Что вы хотите сказать? Что вы должны убедиться в моральной чистоте клиента, прежде чем взяться за его дело? Эта внезапно произошедшая в ней перемена поразила его; он растерянно уставился на нее, не зная, что сказать. — Ну, разумеется, нет! Я только… — Потому что я не собираюсь сидеть перед вами в качестве уголовника на скамье… — Подождите, подождите. Что случилось? А? Что я такого сказал? Боже мой, какое мне дело до того, были вы замужем или нет? — Прекрасно. Я рада, что ошиблась. Итак, вы намерены выследить эту старуху? Как пышет жаром от тлеющих углей, так от Кристины все еще исходили волны гнева. Чарли не мог понять, почему признание в том, что у ее ребенка нет законного отца, сопровождалось у Кристины такой болезненной реакцией. Конечно, ей не повезло; она, возможно, хотела, чтобы все сложилось по-другому. Но общество уже давно не считает это позорным. Она же вела себя так, будто жила в сороковые, а не в восьмидесятые годы. — Правда, — подтвердил он. — Мне действительно безразлично. — Великолепно. У вас передовые взгляды — это похвально. Если б это зависело от меня, вы бы получили Нобелевскую премию за человеколюбие. А теперь не сменить ли нам тему? Что-то здесь не так, думал он. Его только радовало, что» у нее не было мужа. Разве она не чувствует его интереса к ней? Неужели это не заметно за его профессиональной манерой держаться? Неужели она не видит, что он попался? Ведь у большинства женщин на это особое чутье. — Если я вас не устраиваю, я могу передать ваше дело одному из моих помощников… — Да нет же, я… — Это способные люди, на них можно положиться. Но уверяю вас — у меня и в мыслях не было унизить вас, или посмеяться над вами, или…, что вы там еще про меня подумали. В конце концов, я не тот полицейский, что был у вас утром и промывал вам мозги насчет вашего лексикона. — Полицейский Уилфорд. — Так вот, я не Уилфорд. Я проще. Ну что, мир? Она мгновение колебалась, потом кивнула. Ее скованность прошла. Гнев испарился, уступив место смущению. — Извините, что накричала на вас, мистер Гаррисон… — Зовите меня Чарли. Можете кричать на меня, когда вам вздумается, — он улыбнулся. — Все же нам есть смысл поговорить об отце Джоя, поскольку может оказаться, что он каким-то образом связан с происшедшим. — С этой старухой? — Возможно. — Сомневаюсь. — Может быть, он добивается опекунства. — Тогда почему просто не прийти и не поговорить? Чарли пожал плечами: — Люди не всегда подходят к решению проблем с позиций здравого смысла Она покачала головой: — Нет, это не его отец. Насколько я знаю, он даже не подозревает о существовании Джоя. И кроме того, женщина говорила, что Джой должен умереть. — Все-таки я считаю, следует учесть такую возможность и поговорить об отце Джоя, даже если это причиняет вам боль. Мы должны проверить все возможные версии. Она согласно кивнула: — Дело в том…, когда я забеременела, для моей матери, Эвелин, это было страшным потрясением. Она многого ожидала от меня… Она заставила меня чувствовать себя виноватой, казниться этой своей виной, — Кристина тяжело вздохнула. — И мне кажется, из-за того, что мать так обращалась со мной, я до сих пор чересчур болезненно воспринимаю все, что касается рождения Джоя. — Понимаю. — Нет. Вы не можете понять этого. Он внимательно слушал. Он был благодарным слушателем. Это составляло часть его работы. Кристина продолжала: — Моя мать… Эвелин…, не любит Джоя. Не желает иметь с ним ничего общего. Она вменяет ему в вину его незаконнорожденность. Иногда обращается с ним так, словно он грешен, порочен или что-нибудь в этом роде. Это низко, это извращение, в этом нет никакого смысла, но это так похоже на мою мать — в том, что моя жизнь не сложилась так, как она хотела, обвинить Джоя. — Если ваша мать так активно недолюбливает Джоя, не может ли она быть инициатором всей этой истории? — спросил Чарли. Эта мысль заставила Кристину вздрогнуть. Она покачала головой: — Нет. Я уверена. Это не ее стиль. Эвелин прямолинейна. Она всегда говорит то, что думает, даже если знает, что это ранит тебя, даже если знает, что каждое произнесенное ею слово отзывается в тебе мучительной болью. Она не станет просить своих приятельниц устроить травлю моего сына. Это нелепость. — Возможно, она не замешана в этом прямо. Но что, если она рассказывала кому-нибудь о вас с Джоем, и среди прочих, — той самой пожилой особе из торгового центра. Что, если ваша мать, рассказывая о мальчике, была несдержанна, не подумав о том, что эта женщина не может себя контролировать, не отдавая себе отчета в том, что та воспримет все сказанное буквально и начнет действовать по своему усмотрению. Кристина нахмурилась: — Возможно… — Я знаю, что все это притянуто за уши, но тем не менее — возможно. — Да, я согласна. — Расскажите мне о вашей матери. — Уверяю, она не может иметь к этому никакого отношения. — И все же, — настаивал он. Кристина, переведя дух, сказала: — Моя мать — деспот. Вам этого не понять, а я не смогу растолковать. Чтобы узнать ее, нужно пожить рядом. Все годы, что я жила с ней, я была под каблуком… унижена и запугана… …все эти годы. Воспоминания, помимо воли, нахлынули на нее. Она ощутила тяжесть в груди, у нее сперло дыхание — каждый раз при воспоминании о детстве ей казалось, что она задыхается. Она увидела большой викторианский дом в Помоне, который перешел к Эвелин от ее матери, Джаветти. Они жили там с тех пор, как Кристине исполнился год, а Эвелин живет и по сей день. Память о доме была для Кристины тяжким бременем. И хотя она помнила, что здание было белым с бледно-желтыми дверями и оконными переплетами и такими же навесами с позолоченной резьбой, мысленно она всегда представляла его погруженным в тень, поздним октябрем, в плотном кольце обступивших его голых деревьев, под зловещим свинцово-серым куполом неба. Отчетливо слышала монотонное тиканье дедушкиных часов в гостиной, всепроникающий и постоянный звук, как издевательское напоминание о том, что она едва ли не целую вечность обречена сносить страдания своего мучительного детства, продолжающиеся миллионы и миллионы отбиваемых часами чугунных секунд. Снова видела тяжелую громоздкую мебель, теснившуюся в каждой комнате, и начинала подозревать, что память ее воспроизводит тиканье часов куда более назойливым и одуряющим, чем это было на самом деле, и что в действительности мебель вовсе не могла быть такой массивной, неуклюжей и безобразной, какой представала в воспоминаниях. Таким же, каким этот дом запечатлелся в памяти Кристины, он был и для ее отца, Винсента Скавелло, которого всегда угнетала царившая там атмосфера. Он оставил их, когда ей было четыре, а ее брату Тони — одиннадцать. Он так и не вернулся, и Кристина никогда больше не видела его. Он был слабый закомплексованный человек, а в обществе Эвелин он чувствовал себя и вовсе неполноценным, поскольку та от каждого требовала слишком многого. За что бы он ни брался, ее ничто не устраивало. Постоянное недовольство касалось и всех остальных, в первую очередь Кристины и Тони: что бы они ни делали, она ожидала от них в два раза большего. Не в состоянии отвечать ее требованиям, отец пристрастился к спиртному, что дало Эвелин лишний повод пилить его, и в конце концов он просто ушел. А через два года его не стало. В некотором смысле он покончил с собой. Нет, он не застрелился — боже упаси, никаких драм не было, он всего-навсего сел пьяным за руль и на скорости семьдесят миль в час врезался в опору моста. На следующий же день после ухода Винсента Эвелин пошла работать. Она не только содержала семью, но и преуспевала, продолжая жить согласно своим принципам. Это лишь усложнило жизнь Кристины и Тони. «Что бы вы ни делали, вы должны делать это лучше всех. В противном случае не стоит и браться», — в тысячный раз повторяла она. Кристине особенно памятен один тягостный вечер, когда Тони принес «неуд» по математике; его вину в глазах Эвелин не могло смягчить и то обстоятельство, что по всем остальным предметам выходило «отлично». Одного провала уже было достаточно, но в тот же день Тони получил выговор от директора школы за то, что курил в туалете. Он впервые попробовал сигарету, и ему не понравилось, он не собирался продолжать курить, всего лишь попробовал, ради эксперимента, в котором не было ничего необычного для четырнадцатилетнего подростка, однако Эвелин пришла в ярость. В тот памятный вечер нотация продолжалась почти три часа: все это время Эвелин то расхаживала по кухне, то сидела, обхватив голову руками; она кричала и плакала, умоляла и била кулаком по столу. «Ведь ты Джаветти, Тони, больше Джаветти, чем Скавелло. Ты носишь имя отца, но боже правый, в тебе же больше моей крови, так должно быть. Мне невыносима сама мысль о том, что половина твоей крови — это больная, слабая кровь твоего отца, ведь если это так, одному богу известно, что с тобой станет. Я не потерплю этого! Не потерплю! Я работаю до изнеможения, чтобы дать тебе шанс, чтобы дать тебе перспективу, и я не потерплю, чтобы мне плевали в лицо, а ты именно это и делаешь, когда балбесничаешь в школе, когда заваливаешь математику — это все равно что наплевать мне в душу!» Гнев сменялся слезами, она поднималась, доставала из буфета пачку салфеток и шумно сморкалась. «Что проку переживать, что будет с тобой? Тебе же нет до меня дела. Вот где они, несколько капель отцовской крови, крови этого бездельника, их оказалось достаточно, чтобы занести тебе заразу. Это болезнь. Болезнь Скавелло. Но ведь ты Джаветти, а Джаветти всегда работают усерднее других и учатся больше других, и это правильно, это угодно богу, потому что бог создал нас не для того, чтобы мы бездельничали и пропивали нашу жизнь, как те, о ком я не хочу даже говорить. Ты должен успевать в школе на «отлично», и даже если тебе не нравится математика, ты все равно должен усердно работать, пока не превзойдешь всех, потому что математика пригодится тебе в этой жизни, а твой отец — бог ему судья — всегда был не в ладах с арифметикой, и я не позволю тебе быть похожим на беднягу Винсента, мне страшно при одной мысли об этом. Я не хочу, чтобы мой сын был лоботрясом, а я боюсь, что ты именно такой, что ты похож на своего отца, что ты такой же безвольный человек, как он. Но ведь ты Джаветти, не забывай этого. Джаветти всегда делали все, что в их силах, никогда никому не уступая, и не говори мне, что ты и так занимаешься чуть не круглые сутки, а по выходным работаешь в бакалейной лавке. Работа только полезна для тебя. Я пристроила тебя на это место, потому что увидела в тебе будущего бездельника. И даже принимая во внимание твою работу и учебу и то, что ты делаешь по дому, у тебя все равно Должно оставаться свободное время, много свободного времени, чересчур много. Может быть, тебе даже следует подрабатывать вечерами — день-два в неделю — на рынке. А время всегда найдется, если только захотеть. Бог создал этот мир за шесть дней, только не надо говорить мне, что ты не бог, потому что, если бы ты был внимательнее на уроках богословия, ты бы знал, что создан по его образу и подобию, и, кроме того, помнил бы, что ты Джаветти, а это значит — ты создан по его образу и подобию чуть больше, чем все остальные, вроде Винсента Скавелло, кого я и упоминать-то не желаю. Посмотри на меня! Я работаю весь день, но я успеваю готовить для вас хорошую еду, и вместе с Кристиной мы содержим в порядке этот дом, в идеальном порядке — бог свидетель, — и хотя я иногда устаю и чувствую, что больше не могу ничего делать, я все равно делаю, делаю ради тебя, и одежда твоя всегда как следует выглажена — не так ли? — а носки заштопаны — вспомни-ка, надел ли ты хоть раз дырявый носок! — и если я делаю все это и не падаю замертво и даже не жалуюсь, я имею право рассчитывать на то, чтобы у меня был сын, которым я могла бы гордиться, и, видит бог, ты будешь таким сыном! А что до тебя, Кристина…» Эвелин никогда не уставала читать им нотации. Всегда: каждый день, по праздникам и в дни рождения — не было дня, когда бы она оставила их в покое. Кристина и Тони сидели как завороженные, не смея сказать ни слова в свое оправдание, иначе она презирала бы их еще больше, наказание могло быть еще страшнее, оправдываться означало подлить масло в огонь. Она не давала им ни минуты передышки, требовала выкладываться во всем, что бы они ни делали, что само по себе было не так плохо и для их же блага. Но вот они получали самые высокие оценки, завоевывали самые высокие награды, занимали первые места в школе и многое-многое другое, но это никогда не приносило удовлетворения их матери. Для Эвелин быть лучше всех было недостаточно. Когда они становились первыми, достигали вершины, она набрасывалась на них за то, что у них ушло на это слишком много времени, она ставила перед ними новые цели и подозревала их в том, что они испытывают ее терпение и теряют драгоценное время, не давая ей ощутить гордость за них. Когда ей казалось, что одних нотаций недостаточно, она прибегала к самому кардинальному средству — слезам. Она начинала плакать и винить себя в их неудачах. «Вы оба плохо кончите, и это будет моя вина, только моя, потому что я не нашла к вам подхода, не могла заставить вас понять главного. Я мало делала для вас, я не знала, как помочь вам побороть дурную кровь Скавелло, которая течет в ваших жилах, — а следовало знать, следовало дать вам больше. Что толку от такой матери? Какая я вам после этого мать?» …все те давно прошедшие годы… Но ей казалось, что это было вчера. Кристина не могла рассказать Чарли Гаррисону всего о своей матери, о своем детстве, вызывавшем ощущения, напоминающие клаустрофобию; детстве, которое прошло в мрачных комнатах среди тяжелой викторианской мебели под знаком тяжелого викторианского же чувства вины, — ей потребовалось бы много часов, чтобы объяснить все это. Кроме того, она меньше всего искала сочувствия, не принадлежа по натуре к тем, кто склонен делиться интимными подробностями собственной жизни с другими, пусть это будут даже друзья, не говоря уже о чужих, вроде этого человека, каким бы положительным он ни был. Лишь несколькими фразами намекнула на свое прошлое, но по выражению его лица казалось, что он чувствует и понимает гораздо больше сказанного; возможно, душевные переживания отражались на ее лице и в глазах гораздо явственнее, чем она могла предположить. — Эти годы были особенно тяжелыми для Тони, — продолжала Кристина свой рассказ. — Главным образом потому, что помимо всего прочего Эвелин была одержима идеей сделать из него священника. Среди членов семейства Джаветти, принадлежавших к ее поколению, было два священника, и их особенно почитали в семье. Вдобавок ко всему Эвелин сама была женщиной религиозной, и, даже если бы не существовало семейной традиции посвящать жизнь церкви, она все равно настаивала бы на этом выборе для Тони. И ее упорство было вознаграждено — сразу после церковноприходской школы Тони пошел в семинарию. У него не было другого пути. К тому времени, как ему исполнилось двенадцать, Эвелин уже промыла ему мозги, и он даже и в мыслях не мог представить себе иной стези, кроме церковной. — Эвелин хотела, чтобы Тони стал приходским священником, — сказала Кристина, — впоследствии монсеньором, а потом, возможно, даже епископом. Я уже говорила, она выдвигала очень высокие требования. Но после того как Тони принял постриг, он попросил направить его на миссионерскую работу и оказался в Африке. Мама была вне себя! Видите ли, в церкви, так же как и в правительстве, наверх пробиваются благодаря расчетливому политиканству. Но если вы сидите в глухой африканской миссии, то не можете обеспечить своего постоянного и зримого присутствия в коридорах власти. Мама пришла в ярость. — Он выбрал деятельность миссионера, потому что знал, что она будет против этого? — спросил детектив. — Нет. Дело в том, что мать видела в его сане священника способ добиться почета для себя и семьи. Тони же это давало возможность служить ближнему. Он серьезно воспринял свой обет. — Он до сих пор в Африке? — Он мертв. От неожиданности Чарли Гаррисон растерялся: — О, прошу прощения. Я… — Это давняя утрата, — остановила она его. — Одиннадцать лет назад, когда я училась в старших классах, Тони был убит террористами, африканскими экстремистами. Какое-то время мать была безутешна, но постепенно горе уступило место…, болезненной злобе. Ее действительно злило, что Тони позволил себя убить, как если б он, вроде нашего отца, просто сбежал из дома. Она заставила меня почувствовать, что я должна выполнить то, в чем ее ожидания не оправдали ни папа, ни Тони. Мне тогда было так горько, я была так растерянна и чувствовала себя настолько виноватой, что…, я сказала ей, что хочу стать монахиней, и Эвелин…, моя мать ухватилась за эту идею. Закончив школу, по ее настоянию я ушла в монастырь…, и это было катастрофой… С тех пор минуло много лет, но она отчетливо помнила свое ощущение, когда впервые надела рясу послушницы, неожиданно тяжелую, сурового черного полотна; помнила, как, не привыкшая к такой широкой одежде, постоянно цеплялась длинным подолом за дверные ручки, мебель и за все, что попадалось на пути. Несмотря на все старания забыть, все это жило в ней — каждый день, проведенный в безотрадной и аскетичной атмосфере монастырского заточения, когда она вынуждена была носить строгую монашескую униформу и жить в тесной каменной келье, коротая ночи на примитивной койке. Потерянные Годы так походили на удручающую жизнь в викторианском доме в Помоне, что так же, как и при воспоминании о своем детстве, при одной мысли о монастырских днях у нее теснило грудь и становилось трудно дышать. — Вы были монахиней? — переспросил Гаррисон, не в силах скрыть удивления. — Монахиней, — сказала Кристина. Чарли попробовал представить эту полную жизни, чувственную женщину в монашеском облачении, но не смог, у него не хватило воображения. По крайней мере, теперь ему было понятно, откуда в ней эта удивительная сдержанность. Два года обители, два года, наполненные ежедневным созерцанием и молитвой, два года вне суетной мирской жизни не могли не оказать своего влияния. Но это все равно не объясняло, почему он сразу ощутил огромное влечение к ней и почему в ее обществе чувствовал себя неотесанным подростком. Это оставалось тайной для него, хотя и волнующей, но тайной. Она продолжала: — Я держалась два года, пытаясь убедить себя, что монашество — мое призвание. Но все было напрасно. Когда я оставила обитель, Эвелин была совершенно раздавлена. Семья не оправдала ее ожиданий. А через пару лет, когда Эвелин узнала, что я беременна, она пришла в ужас. Ее единственная дочь, которая должна была стать монахиней, оказалась распущенной женщиной, избравшей участь матери-одиночки. Она не давала мне ни на минуту забыть о моем грехе, она клеймила меня позором. Кристина опустила голову и замолчала, переводя дух. Чарли ждал. Он умел ждать не хуже, чем слушать. Наконец она сказала: — К тому времени я была потеряна для церкви. Я в значительной степени утратила свою веру…, а может быть, меня отвратили от нее. Я больше не ходила к мессе. И все же я оставалась католичкой, по крайней мере настолько, чтобы мысль об аборте внушала мне отвращение. Я сохранила Джоя и никогда не жалела об этом. — Ваша мать так и не переменила своего отношения к вам? — Нет. Мы говорим друг с другом, но между нами настоящая пропасть. А Джоя она просто знать не желает. — Жаль. — По иронии судьбы, практически с того самого дня, как я забеременела, моя жизнь круто изменилась. С тех пор день ото дня все шло лучше и лучше. Я еще носила Джоя, когда мы с Вэл Гарднер занялись бизнесом и открыли магазинчик. А когда Джою исполнился год, я уже могла помогать матери. Я здорово преуспела, но это не имеет для нее никакого значения; ее не устраивает ни то, что я, готовясь стать монахиней, не стала ею, ни то, что я мать-одиночка. Она и сейчас, когда мы видимся, постоянно напоминает мне о моей вине. — Теперь я понимаю, почему вы так болезненно переживаете эту историю. — Настолько болезненно, что…, когда вчера появилась эта старуха…, у меня невольно шевельнулась мысль — а может, так и должно случиться? — Что вы хотите сказать? — Может быть, я должна потерять Джоя. Может, это неизбежно. Или даже…, предопределено. — Я не понимаю. Кристина нервно заерзала, лицо ее выражало одновременно гнев и растерянность, испуг и смущение. Она откашлялась и, глубоко вздохнув, сказала: — Ну, понимаете…, это лишь предположение…, но может быть, бог таким образом наказывает меня за то, что из меня не вышло монахини, что я разбила сердце матери, что отреклась от церкви, хотя была уже так близко к ней. — Но ведь это… — Нелепо? — В общем, да. Она кивнула: — Я знаю. — Бог не злопамятен. — Я знаю, — она казалась сконфуженной. — Это глупо, нелогично. Это просто тупость. И все же…, это гложет меня. Самые глупые предположения иногда оборачиваются реальностью. — Она вздохнула и задумчиво покачала головой. — Я горжусь Джоем, очень горжусь, но я совсем не горжусь тем, что я мать-одиночка. — Вы хотели рассказать мне об отце мальчика…, на случай, если он имеет к этому какое-то отношение! Как его звали? — Он сказал, что его зовут Люк, полное имя Люций, Люций Андер. — Андер? — Это его фамилия. Андер. Люций Андер, но он сказал, чтобы я звала его Люк. — Необычная фамилия. — Вымышленная. Видно, это пришло ему в голову, когда он соображал, как бы стянуть с меня комбинацию (Фамилия Андер повторяет часть слова «underwear» — «комбинация» по-английски.), — она заметно злилась. Потом вдруг покраснела, явно смущенная тем, что выдает чересчур интимные подробности, но тут же продолжила: — Это случилось на борту теплохода по пути в Мексику. Знаете эти круизы, их еще называют «корабли любви»? — Разговор о любви был не очень уместным в данных обстоятельствах, и она невесело усмехнулась… — Уйдя из монастыря, я несколько лет работала официанткой, и эта поездка была первым удовольствием, которое я позволила себе. Я встретила его через несколько часов после того, как мы вышли из Лос-Анджелеса. Он был очень симпатичный…, обаятельный; Сказал, что его зовут Люк. Дальше больше. Он, должно быть, почувствовал мою беззащитность, потому что набросился на меня, словно акула. Тогда я была совсем другой, робкой и застенчивой, совсем как маленькая, эксмонахиня, девственница, совершенно неопытная. Мы провели на корабле пять дней, большей частью, по-моему, у меня в каюте…, в постели. Через несколько недель, узнав, что беременна, я решила разыскать его. Поймите, я не рассчитывала на его помощь. Просто подумала, что он имеет право знать о своем ребенке, — она мрачно рассмеялась. — Он оставил мне адрес и телефон, которые оказались липовыми. Я подумывала о том, чтобы найти его через туристическое агентство, но это было бы так…, унизительно, — по губам скользнула удрученная улыбка. —Поверьте, с тех самых пор я жила как затворница. После этой дешевой корабельной интрижки, даже не подозревая еще, что беременна, я почувствовала себя…, обесчещенной. И я не хотела вновь пережить это чувство, поэтому я…, не то чтобы отказалась от секса…, но стала очень осмотрительной. Возможно, это во мне говорит экс-монахиня. И уж определенно, меня угнетает мысль о том, что я должна понести наказание, что бог, возможно, выберет Джоя, чтобы через него покарать меня. Он не знал, что сказать ей. Ему было не привыкать оказывать своим клиентам практическую, моральную и интеллектуальную поддержку, что же касается сферы духа, он чувствовал, что здесь его возможности ограничены. — По-моему, я немного помешалась на этом, — заговорила она снова. — Да и вас, вероятно, измучила своими переживаниями. Я вечно боюсь, что Джой заболеет или с ним что-нибудь случится. И это не просто материнское беспокойство. Иногда…, я так переживаю за него, что это похоже на одержимость. А тут еще появляется эта старая карга и заявляет, что мой малыш — это сущий дьявол, что он должен умереть, ночью шныряет вокруг дома, убивает нашу собаку… Боже мой, она такая безжалостная, настойчивая… — Это не совсем так. — Теперь, когда вы кое-что знаете об Эвелин..', о моей матери…, вы по-прежнему считаете, что она замешана в этом? — Не совсем так. Все же существует вероятность того, что старуха слышала ее разговоры о вас, о Джое, отсюда ее навязчивая идея относительно вас и мальчика. — Мне кажется, это могло быть чистой случайностью. Мы оказались в плохом месте в плохое время. Если бы вчера мы не поехали в этот торговый центр и на нашем месте оказалась совершенно другая женщина со своим малышом, то старая ведьма прицепилась бы к ним. — Полагаю, вы правы. — Он поднялся из-за стола. — Однако пусть вас не волнует эта безумная особа. Мы найдем ее. Он подошел к окну. — Мы положим конец этой истории. Вот увидите. Он посмотрел на улицу, где под окнами росла финиковая пальма. На другой стороне по-прежнему маячил белый фургон, и человек в темном все так же стоял, прислонившись к переднему крылу машины. Разница была лишь в том, что он больше не ел сандвичи, а просто стоял, сцепив руки на груди и скрестив ноги, и наблюдал за входными дверями. — Подойдите-ка сюда, — попросил Чарли. Кристина приблизилась к окну. — Этот фургон не похож на тот, что стоял рядом с вашей машиной у торгового центра? — Да. Тот был такой же. — Может быть, это тот самый и есть? — Думаете, за мной могли следить? — Вы бы заметили, если бы так оно и было? Она нахмурилась. — Я была в таком состоянии…, так нервничала, психовала… Я могла и не обратить внимания, что кто-то висит у меня на хвосте, если они соблюдали по крайней мере элементарную осторожность. — Тогда это, возможно, тот самый фургон. — Или простое совпадение. — Я не верю в совпадения. — Но если это тот самый фургон, если за мной следили, то кто же этот человек рядом? Они находились слишком высоко, чтобы разглядеть его лицо. С такого расстояния видно было не много. Он мог быть молодым, пожилым или средних лет. — Возможно, это ее муж. Или сын, — сказал Чарли. — Но раз он следит за мной, значит, он такой же сумасшедший, как и она. — Может, и так. — Семья, состоящая из одних чокнутых? — Законом это не запрещено. Он подошел к столу и позвонил по внутреннему телефону Генри Рэнкину, одному из своих лучших сотрудников. Сказав про фургон на противоположной стороне улицы, он попросил: — Я хочу, чтобы ты прошелся мимо, запомнил номер и получше разглядел этого парня, чтобы потом мог узнать его. Разнюхай, что сможешь, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Пользуйся только черным ходом. Возвращайся, обогнув квартал. Пусть у него не будет ни малейших подозрений относительно того, откуда ты. — Нет проблем, — ответил Рэнкин. — Потом свяжись с транспортным управлением полиции и выясни, кто владелец номера. — Да, сэр. — И сразу сообщи мне. — Я выхожу. Чарли повесил трубку и вернулся к окну. — Будем надеяться, это простое совпадение, — сказала Кристина. — Напротив, будем надеяться — это тот самый фургон. О такой зацепке можно только мечтать. — Но если это тот самый фургон, а этот парень имеет отношение… — Он имеет отношение, можете быть спокойны. — В таком случае Джою угрожает не одна старуха. Их уже двое. — Или больше. — Как? — Может быть еще кто-то, о ком мы пока не знаем. За окном мелькнула и исчезла внизу какая-то птица. Пальмовые листья слабо дрожали в струях не по сезону теплого воздуха. На стеклах машин, стоящих вдоль улицы, играло солнце. Неизвестный у белого фургона ждал. — Что это за чертовщина такая? — спросила Кристина.Глава 10
В подвале без единого окна горело одиннадцать свечей, и предметы отбрасывали причудливые резкие тени. Слышно было лишь дыхание Матери Грейс Спиви, становившееся все более затрудненным по мере ее погружения в глубокий транс. Одиннадцать апостолов не издавали ни звука. Карл Барлоу также сидел молча и совершенно неподвижно, несмотря на то что ему было неудобно. Дубовый стул был для него маловат, хотя подошел бы в самый раз для любого из находившихся в комнате. Но Барлоу обладал такими габаритами, что ему казалось — вся мебель здесь предназначена для карликов. Ему нравились стулья удобные, мягкие, с глубоким сиденьем, а также старомодные кресла с подголовниками, но только если подголовник достаточно широк для его плеч. Он любил просторные кровати «кинг-сайз», шезлонги и древние ванны на ножках, такие вместительные, что не приходилось подтягивать ноги, словно младенцу, который полоскается в тазике. Его квартира в Санта-Ана была обставлена в соответствии с его фигурой, но вне дома все время что-то стесняло, то одно, то другое. Однако по мере того, как Мать Грейс погружалась в транс, его внимание все больше поглощало ожидание пророчества, с которым она вернется из мира духов, и он постепенно перестал замечать, что притулился на стульчике, как будто взятом из детской. Он преклонялся перед Матерью Грейс. Она предсказала, что грядут Сумерки, а он верил каждому ее слову. Сумерки. В этом заложен некий смысл. Мир давно уже ждет Сумерек. Мать Грейс предупредила его о пришествии, она заручилась его помощью в подготовке человечества к этому событию и тем самым дала шанс на искупление, пока еще было время. Она спасла его, его тело и душу. До встречи с ней большую часть своих двадцати девяти лет он был одержим слепым стремлением к самоистреблению. Пропойца и дебошир, наркоман и насильник и даже убийца. Неразборчивый Барлоу каждую неделю заводил новую подругу; как правило, это были наркоманки и проститутки, если не то и другое сразу. Семь-восемь раз переболел гонореей и дважды сифилисом, и можно лишь удивляться, почему это не приключалось с ним чаще. В те редкие минуты, когда Барлоу бывал трезв и ясно соображал, та жизнь, которую он вел, вызывала у него отвращение и ужас. Однако он оправдывал свое поведение, убеждая себя, что его самоуничижение и антисоциальные вспышки насилия являются естественной реакцией на ту эгоистичную, а порой намеренную жестокость, с которой относилось к нему большинство людей. Для общества в целом он был капризом природы, неуклюжим гигантом с лицом неандертальца, способным нагнать страх даже на медведя. Дети боялись его, взрослые независимо от возраста содрогались при взгляде на него, одни — откровенно, другие — в душе, пытаясь не выдавать себя. Кто-то даже смеялся над ним исподтишка, когда казалось, что он этого не видит. Обычно он притворялся, что не замечает реакции окружающих, если только в этот момент не был настроен сломать кому-нибудь руку или оторвать голову. Но всегда чувствовал отношение, и оно причиняло боль. Особенно досаждали подростки, часто девчонки, — хихикали и потешались над ним, а иногда, если находились на безопасном расстоянии, даже говорили гадости. Он всегда был одиноким чужаком, которого опасались и обходили стороной. В течение многих лет он легко находил оправдание своей тяге к насилию и самоистреблению. Казалось, что горькая ненависть и слепая ярость — это необходимая защита от людской жестокости. Отними у него это безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и годами взлелеиваемую мстительность, он бы почувствовал себя беззащитным. Общество настойчиво делало из него изгоя, видело в нем или двухметрового шута с физиономией обезьяны, или страшного монстра. Что ж, он, разумеется, не считал себя шутом, однако не возражал против того, чтобы предстать перед ними в роли чудовища, был не прочь показать им, в какое низкое, отвратительное страшилище он может обращаться, если по-настоящему этого захочет. Это они сделали его таким, каков он есть. И он не в ответе за свои преступления. Он был порочным, потому что они сделали его таким. Именно это говорил он себе на протяжении многих лет… …до тех пор, пока не встретил Мать Грейс Спиви. Она дала ему понять, каким жалким и несчастным беднягой он был все это время. Доказала, что его оправдания собственной греховности и потворство своим прихотям выглядят крайне неубедительно. Объяснила, что в его положении парии он может почерпнуть силу и отвагу и даже гордость. Научила его видеть в себе сатанинское начало и гнать от себя дьявола. Она помогла ему понять, что его неистребимая тяга к разрушению, его великий дар и единственный талант должны вселять ужас в сердца стоящих на пути господа и быть карающим мечом в борьбе с ними. Сейчас, наблюдая за тем, как Мать Грейс погружается в транс, Кайл Барлоу взирал на нее с нескрываемым обожанием. Он не замечал неопрятную копну седых, нечесаных, спутавшихся и сальных волос; в его глазах эти волосы в мерцающем золотистом свете превращались в божественный нимб, обрамляющий ее лик, в таинственный ореол. От его взгляда ускользало, что на ней мятое, в жирных пятнах платье с приставшими к нему нитками и каким-то пухом, что плечи в перхоти. Он видел только то, что жаждал увидеть. А жаждал вечного блаженства. Она издала стон, веки задрожали, но не разомкнулись. На лицах одиннадцати апостолов тайного синедриона, сидящих на полу и сжимающих в руках подсвечники, отразилось внутреннее напряжение, но никто из них не произнес ни одного слова, не издал ни единого звука, который разрушил бы хрупкие чары. — О мой бог! — сорвалось с губ Матери Грейс, как будто ей явилось нечто, внушающее благоговейный трепет. — О боже, боже! Веки дергались, тело сотрясала дрожь, она нервно облизывала губы. На лбу выступила испарина. Дыхание стало еще более тяжелым и неровным. Она хватала воздух открытым ртом, словно тонула, потом втягивала воздух в себя, сжав зубы, с леденящим душу шипением. Барлоу терпеливо ждал. Мать Грейс воздела руки, пытаясь обнять пустое пространство перед собой, в свете пламени вспыхнули перстни. Затем руки упали, беспокойно, точно умирающие птицы, дернулись и застыли на коленях. Наконец слабым, дрожащим, как струна, голосом, в котором с трудом угадывался ее собственный, она вымолвила: — Убейте его. — Кого? — спросил Барлоу. — Мальчишку. Одиннадцать апостолов вздрогнули, обменялись многозначительными взглядами, и от движения их свечей тени заколыхались и стали перемещаться по комнате. — Джоя Скавелло? — спросил Барлоу. — Да. Убейте его, — откуда-то издалека прозвучал голос Матери Грейс. — Немедленно. По непостижимым ни для Барлоу, ни для самой Матери Грейс причинам он был единственным человеком, с которым она могла сообщаться, находясь в состоянии транса. Если к ней обращались другие, она просто не слышала их. Она была единственным медиумом между ними и миром духов, единственным посредником, получавшим откровения с того света; но только благодаря осторожности и терпению Барлоу, задававшего ей вопросы, эти откровения обретали ясную и законченную форму. Выполнение им именно этой миссии, его драгоценный дар, более чем что-либо другое, заставило его поверить, что он принадлежит к числу божьих избранников, как утверждала Мать Грейс. — Убейте его…, убейте, — тихо бубнила она надтреснутым голосом. — Вы уверены, что это тот самый мальчишка? — спрашивал Барлоу. — Да. — Это точно? — Да. — Как нам убить его? Теперь лицо ее осунулось. На обычно гладкой коже появились морщины. Она была бледна, тело обмякло и стало похоже на мокрую скомканную тряпку. — Как нам уничтожить его? — повторил вопрос Барлоу. Ее рот был широко открыт, в горле хрипло клекотало, в уголке рта собралась слюна и медленно скатилась по подбородку. — Преподобная Грейс! — взывал Барлоу. Ее голос звучал слабее прежнего: — Убейте его…, любым способом. — Застрелить? Зарезать? Сжечь? — Как угодно…, на ваш выбор…, только действуйте скорее. — Как скоро? — Время уходит. День ото дня…, он могущественнее… и неуязвимее. — Убив его, должны ли мы совершить какой-нибудь ритуал? — вопрошал Барлоу. — Только одно…, когда он будет мертв…, его сердце… — Что? Что сердце? — Надо вырвать, — сказала она голосом, в котором вдруг вновь появились металлические нотки. — И что потом? — Оно будет черным. — Его сердце будет черным? — Как уголь, и гнилым. И вы увидите… Она приподнялась в своем кресле. По лицу катился пот. Капли испарины выступили на верхней губе. Мертвенно-белые руки дрожали на коленях, словно опаленные крылья ночной бабочки. Краски вернулись на лицо, но глаза оставались закрытыми. Слюна изо рта уже не текла, но еще блестела на подбородке. — Что мы увидим, когда вырвем его сердце? — спросил Барлоу. — Червей, — в голосе слышалось отвращение. — В его сердце? — Да. И копошащихся навозных жуков. Апостолы о чем-то тихо переговаривались. Но это не имело значения. Теперь ничто не могло вывести ее из транса: она погрузилась в него целиком, растворилась в мире охвативших ее видений. Подавшись вперед, упершись руками в свои жирные ляжки, Барлоу спрашивал дальше: — Что нам надлежит делать после того, как мы вырвем его сердце? Грейс с такой яростью принялась кусать губы, что, казалось, на них вот-вот выступит кровь. Она вздернула руки и стала перебирать ими в воздухе, словно ткала свой ответ из эфира. Затем произнесла: — Погрузите сердце в… — Куда? — В сосуд со святой водой. — Из церкви? — Да. Вода останется холодной…, а сердце…, будет кипеть, превратится в черный пар…, и улетучится. — И тогда мы будем знать наверняка, что он мертв? — Да. Мертв. Навеки мертв. Ему уже не вернуться в новом воплощении. — Значит, у нас есть надежда? — спросил Барлоу, боясь в это поверить. — Да, — глухо отозвалась она. — Надежда. — Благодарение Господу, — сказал Барлоу. — Благодарение Господу, — вторили апостолы. Мать Грейс открыла глаза. Широко зевнула, часто заморгала и растерянно посмотрела вокруг: — Где я? Что со мной? Меня знобит. Неужели я прозевала шестичасовые новости? Я не могу пропускать шестичасовые новости. Мне надо знать, что задумывают слуги Люцифера. — Еще нет и двенадцати, — сказал ей Барлоу. — Шестичасовые новости еще очень не скоро. Она уставилась на него осоловевшим, бессмысленным взглядом, которым всегда бывало отмечено возвращение из состояния глубокого транса. — Кто ты? Я тебя знаю? Мне кажется, я не встречала тебя прежде. — Преподобная Грейс, я — Кайл. — Кайл? — она будто впервые слышала это имя. В глазах мелькнуло подозрение. — Не волнуйтесь, — сказал он. — Успокойтесь и подумайте. У вас было пророческое видение. Вы сейчас все вспомните. Все вернется. Он протянул к ней огромные огрубелые руки. Иногда, когда она приходила в себя после транса, ее охватывал такой страх и растерянность, что ей было необходимо дружеское участие. Обычно, взяв его за руки, она черпала силы из его гигантских энергетических резервуаров, и сознание возвращалось, будто ее подключали к огромному аккумулятору. Но сегодня она отпрянула от него и нахмурилась. Вытерла влажный от слюны подбородок и озадаченно оглядела апостолов. — Боже, как я хочу пить, — сказала она. Один из них побежал за водой. А она обратилась к Кайлу: — Чего вы хотите? Зачем привели меня сюда? — Сейчас вы все вспомните, — терпеливо увещевал ее Барлоу с ободряющей улыбкой. — Мне не нравится это место, — произнесла она слабым, жалобным голосом. — Это ваша церковь. — Церковь? — Вернее, подвал вашей церкви. — Здесь так темно, — скулила она. — Вы здесь в безопасности. Она надула губы, как ребенок, и зыркнула на него исподлобья: — Я не люблю темноты. Мне становится страшно. — Поежилась, обхватив руками плечи. — Зачем вы затащили меня в эту темень? Кто-то встал и включил свет. Свечи задули. — Церковь? — повторила она, глядя на обитые филенкой подвальные стены и проходящие под потолком балки. Мучительно пыталась разобраться в происходящем, но все еще не могла взять в толк, что с ней и куда она попала. Барлоу ничем не мог помочь. Порой ей требовалось минут десять, чтобы сбросить с себя оцепенение, неизменно наступавшее после путешествия в мир духов. Она встала. Барлоу вскочил следом, и его огромная фигура нависла над ней. — Мне надо по нужде. Очень надо. — Лицо скривилось в гримасе, и она схватилась рукой за живот. — Где здесь можно сходить? Мне надо в туалет. Барлоу кивнул Эдне Ванофф, невысокой полной женщине, которая состояла членом тайного синедриона, и та повела Мать Грейс в туалет, расположенный в дальнем конце подвала. Старуха нетвердо ступала, и Эдне приходилось поддерживать ее, а та в недоумении озиралась по сторонам. Громко, так, что слышно было в противоположном углу, Мать Грейс произнесла: — О боже, я не вытерплю. У меня сейчас лопнет мочевой пузырь. Барлоу только тяжело вздохнул и опустился на свой чересчур маленький и чересчур жесткий стул. Для него, как и для всех апостолов, самым сложным было понять эксцентричное поведение Матери Грейс сразу после ее видений и смириться с ним. В такие минуты она совсем не походила на великого духовного пастыря. Напротив, казалась обыкновенной, выжившей из ума старухой. Самое большее через десять минут, как это случалось всегда, к ней вернется рассудок, и она снова будет прежней, ослепительно дальновидной и проницательной женщиной, той, которая отвратила Барлоу от жизни в грехе. И тогда никто уже не усомнится в ее даре озарения, в ее могуществе и святости, никто не будет оспаривать того, что она воистину послана Небом. И хотя Барлоу уже неоднократно доводилось видеть ее в таком смятении и он знал, что это состояние ненадолго, из-за подобных минут в душу все равно закрадывалось смущение, и он чувствовал беспокойство и растерянность. В такие моменты он терзался сомнениями. И за это ненавидел себя. Он полагал, что бог намеренно подвергает Мать Грейс унизительному испытанию, навлекая на нее душевную смуту, чтобы проверить крепость веры ее последователей. Божий промысел в том, чтобы с Матерью Грейс остались лишь самые преданные из апостолов, чтобы перед лицом грядущих тяжких дней заложить оплот крепкой церкви. И все же всякий раз, заставая ее в столь неподобающем обличье, Барлоу испытывал сильное потрясение. Он окинул взглядом по-прежнему сидящих на полу членов тайного синедриона. Вид у всех был встревоженный, и каждый шептал молитву. Он решил, что они просят бога дать им силы не усомниться в святости Матери Грейс, как усомнился в ней он. Закрыл глаза и тоже стал молиться. Чтобы убить этого ребенка, им потребуется вся сила, вера и преданность, которые они только могли раскрыть в себе, потому что это будет непростым делом. Он не был обыкновенным ребенком. Мать Грейс не уставала повторять это. Он сам обладает силой, вселяющей ужас, и, возможно, уничтожит их в тот самый момент, когда они осмелятся поднять на него руку. Но ради людей они должны попытаться покончить с ним. Барлоу втайне надеялся, что Мать Грейс оставит за ним право нанести роковой удар. Пусть даже ценой собственной жизни, но он хотел бы быть тем, кто своими руками выпустит мальчишке кровь, потому что тому, кто убьет его (или даже погибнет, пытаясь убить его), уготовано место на Небесах, возле трона Господня. Барлоу был убежден, что это правда. Если он обрушит на это дьявольское отродье свою огромную физическую силу и затаенную ярость, то тем самым искупит свои преступления против невинных душ, которые он совершил в те дни, когда Мать Грейс еще не обратила его в свою веру.Глава 11
Не прошло и двадцати минут, как Генри Рэнкин уже стоял в кабинете Чарли Гаррисона с данными из полицейского управления транспорта о номерном знаке белого фордовского фургона. Невысокого роста, всего метр семьдесят, Рэнкин был худощав, по-спортивному подтянут и собран. У Кристины мелькнула мысль, что в свое время он мог быть жокеем. На нем были черные туфли «Бэлли», светло-серый костюм, белая сорочка, синий галстук и синий же декоративный платок, аккуратно заправленный в нагрудный карман пиджака. Он никак не соответствовал представлению Кристины о частном сыщике. Познакомившись с Кристиной, он протянул Чарли лист бумаги и сообщил: — По данным транспортного управления, фургон принадлежит некой полиграфической компании, которая называется «Слово Истины». Если вдуматься, Чарли Гаррисон тоже едва ли соответствовал стереотипному образу частного детектива. Кристина привыкла считать, что сыщик должен быть высокого роста. Конечно, Чарли нельзя было назвать коротышкой, как Рэнкина, но и в нем было не более метра восьмидесяти. Она думала, что сыщик должен быть сложен на манер шкафа, чтобы пробивать кирпичные стены. Чарли же был поджарый, и хотя вид его не оставлял сомнений в том, что он сможет за себя постоять, но крушить кирпичные стены явно было не для него. В ее воображении сыщик обладал внешностью чуточку зловещей: немного агрессивный взгляд и сурово очерченный рот с плотно сжатыми губами. Чарли выглядел смышленым, деловым, компетентным, но никак не зловещим. Внешности не примечательной, хотя в целом симпатичный, с густыми русыми волосами, аккуратно подстриженными. Выделялись только серо-зеленые глаза, взгляд их прямой и открытый, это были глаза друга, без тени ожесточения, по крайней мере, она этого не находила. Несмотря на то обстоятельство, что ни Чарли, ни Рэнкин никак не походили на Магнума, или на Сэма Спэйда, или на Филиппа Марлоу, Кристина почувствовала, что пришла по верному адресу. Чарли Гаррисона отличали дружелюбие, сдержанность и искренность. Что бы он ни делал — во всех его движениях была необыкновенная естественность и самодостаточность. Его жесты были законченными и точными. Он производил впечатление компетентного человека, на которого можно положиться. Ей казалось, что у него как у профессионала никогда не могло быть никаких провалов. С ним она чувствовала себя в безопасности. Редко она встречала таких людей. Крайне редко. Особенно среди мужчин. В прошлом, когда она во многом зависела от мужчин, то часто, или, скорее, обычно, ошибалась в них. Но инстинкт подсказывал: Чарли Гаррисон отличается от большинства и ей не придется сожалеть, если она доверится ему. Чарли оторвался от бумаги, которую принес Рэнкин: — «Слово Истины»? Интересно. Есть что-нибудь на них в картотеке? — Ничего. Чарли взглянул на Кристину: — Вам ни о чем не говорит это название? — Нет. — Вы печатаете для своей лавки гурмана рекламные проспекты, заказываете фирменную марку для канцелярских принадлежностей? — Разумеется. Но мы обращаемся в другую компанию. — Ладно, — сказал Чарли, — необходимо выяснить, кто владелец фирмы. Кроме того, попробуем получить список наемного персонала и будем проверять каждого. Чарли обратился к Кристине: — Возможно, вам потребуется поговорить об этом случае с вашей матерью, мисс Скавелло. — Я бы предпочла этого не делать, — сказала она. — Во всяком случае, если без этого можно обойтись. — Что ж… Хорошо. Но, возможно, в этом действительно возникнет необходимость. Пока же…, вы можете вернуться к своей работе. У нас уйдет какое-то время на то, чтобы вникнуть во все это. — А как быть с Джоем? — Сегодня он может побыть здесь со мной, — сказал Чарли. — Хотелось бы увидеть, что произойдет, если вы выйдете отсюда без мальчика. Поедет ли этот малый за вами или будет ждать Джоя? Кто из вас двоих ему нужен больше? Он будет ждать Джоя, мрачно решила Кристина. Потому что Джоя он хочет убить.* * *
Шерри Ордуэй, секретарша в приемной агентства «Клемет — Гаррисон», задумалась: не совершили ли они с Тэдом, ее мужем, в свое время ошибку. Шесть лет назад, после трех лет брака, они пришли к выводу, что не хотят иметь детей. А тут еще Тэд перенес вазэктомию. Без детей они могли позволить себе иметь дом получше и мебель побогаче, более дорогую машину, были вольны отправиться в путешествие, наслаждаться тихими вечерами, лежа на диване с книгой или в объятиях друг друга. Большинство же знакомых было связано по рукам и ногам семьями, и всякий раз, когда они видели, как чей-то ребенок дерзит или откровенно грубит, было отрадно сознавать, что у них хватило ума не обрекать себя на участь родителей. Они находили удовольствие в своей свободе, и Шерри ни разу не пожалела о том, что осталась бездетной. До сегодняшнего дня. Отвечая на звонки, печатая письма и разбирая бумаги, она не переставала наблюдать за Джоем Скавелло, и ей вдруг захотелось, чтобы это был ее малыш. Он был такой милый. Сидел в приемной, утонув в кресле, и его ноги не доставали до пола. Он отвечал, когда к нему обращались, но никого не перебивал и не старался привлечь к себе внимание. Листал какие-то журналы, разглядывал картинки и что-то тихо мурлыкал «себе под нос — никогда еще она не встречала такого очаровательного ребенка. Она закончила очередное письмо и украдкой следила за Джоем. Он между тем, самозабвенно, насупившись и прикусывая кончик языка, подтягивал и получше завязывал шнурки на кроссовках. Она как раз собралась предложить ему еще одну ириску, когда раздался этот звонок. — «Клемет — Гаррисон», слушаю вас, — ответила Шерри. В трубке раздался женский голос: — Нет ли там Джоя Скавелло? Он совсем маленький, ему только шесть лет. Если он у вас, вряд ли вы не заметили его. Он такой красавчик. От удивления — кто может сюда звонить этому малышу — Шерри немного растерялась. — Это его бабушка, — сказала женщина. — Кристина говорила мне, что идет к вам и возьмет с собой Джоя. — А-а, его бабушка. Ну, конечно, она сейчас здесь. Миссис Скавелло в данный момент находится в кабинете мистера Гаррисона. Она не может подойти к телефону, но я, разумеется… — По правде сказать, я хотела поговорить с Джоем. Он тоже у мистера Гаррисона? — Нет, он здесь, рядом со мной. — Вы позволите мне сказать ему пару слов? Если это не доставит вам беспокойства. — Что вы, совсем нет… — Я не займу вашу линию надолго. — Конечно. Одну минуту. — Шерри отняла трубку от уха и позвала мальчика: — Джой? Это тебя. Твоя бабушка. — Бабушка? — На его лице отразилось изумление. Он подошел к стойке. Шерри передала ему трубку, он сказал «алло», но больше не проронил ни слова. В оцепенении, он с такой силой сжимал в своей крохотной ладошке трубку, что костяшки пальцев, казалось, вот-вот прорвут кожицу. Он стоял и слушал с широко открытыми глазами. Кровь отлила от лица. Он готов был расплакаться. Наконец, задыхаясь и дрожа, бросил трубку. Потрясенная, Шерри буквально подпрыгнула на своем месте: — Джой? Что произошло? У него дрожали губы. — Джой? — Это была…, она-а. — Бабушка? — Нет, в-ведьма-а. — Ведьма? — Она сказала…, она…, в-вырвет м-мне сердце. Чарли отправил Кристину с Джоем в кабинет, а сам, закрыв за ними дверь, остался в холле, чтобы побеседовать с Шерри. Она была совершенно растеряна. — Мне не следовало разрешать говорить ей с Джоем. У меня и в мыслях не было… — Вы здесь ни при чем, — сказал Генри Рэнкин. — Разумеется, это не ваша вина, — подтвердил Чарли. — Что это за женщина… — Это-то мы и постараемся выяснить, — сказал Чарли. — Я попрошу вас вспомнить этот разговор и ответить на несколько вопросов. — Мне особенно и нечего вспомнить, разговор был коротким. — Она представилась его бабушкой? — Да. — Она сказала, что она миссис Скавелло? — Как будто, нет. Она не назвала своего имени. Но она знала, что он находится здесь, вместе с матерью, и мне и в голову не могло прийти… Я хочу сказать…, что она в самом деле была похожа на бабушку…, судя по голосу. — Поточнее, какой у нее голос? — спросил Генри. — О боже, право, не знаю…, очень любезный, — ответила Шерри. — Она говорила с акцентом? — спросил Чарли. — Нет. — Будь у нее даже ярко выраженный акцент, что бы это нам дало? — спросил Генри. — Практически каждый говорит с тем или иным акцентом, хотя бы слабым. — Даже если у нее и был акцент, я этого, во всяком случае, не заметила, — сказала Шерри. — Вы слышали в трубке какие-нибудь посторонние звуки? — гюинтересовался Чарли. — То есть? — Шум, что-то в этом роде? — Нет, ничего такого. — Предположим, она звонила из платного автомата, с улицы. Мог быть слышен шум машин, еще что-то. — Ничего похожего я не слышала. — Никаких посторонних звуков, по которым можно было бы установить, откуда примерно она звонила? — Ничего, кроме ее голоса, — сказала Шерри. — Такой приятный голос.Глава 12
После сеанса галлюцинирования Мать Грейс отпустила всех апостолов за исключением Кайла Барлоу и Эдны Ванофф. Потом прямо из церковного подвала она позвонила в детективное агентство, куда отправилась Кристина Скавелло с Джоем, и имела разговор с мальчиком. Кайл не был уверен, что это стоило делать, но Мать Грейс ощущала удовлетворение. — Просто убить его еще недостаточно, — сказала она. — Мы должны запугать его, лишить его воли. От мальчишки страх и отчаяние передадутся самому сатане. Мы дадим наконец понять дьяволу, что господь бог наш никогда не позволит ему править на земле свой бал, и тогда он окончательно откажется от своих коварных замыслов и блестящих надежд. Кайлу было приятно слушать, когда она так говорила. Внимая словам Матери Грейс, он чувствовал, что стоит у истоков важнейших событий мировой истории. До дрожи в коленях Кайл был переполнен смирением и благоговением. Грейс повела Кайла и Эдну в дальний конец подвала, где в обитой деревянной панелью стене скрывалась потайная дверь. За ней находилась комната площадью метров сорок пять, вся заполненная оружием. Еще на заре ее деятельности как Мессии Матери Грейс было озарение: она получила предупреждение — когда наступят Сумерки, ей следует быть готовой защищать себя не только при помощи молитвы. Она очень серьезно и буквально отнеслась к видению. Это был не единственный арсенал ее церкви. Кайл уже неоднократно бывал здесь прежде. Ему нравились прохлада и легкий запах ружейного масла. Однако наибольшее удовлетворение доставляло сознание того, что на этих полках тихо дожидается своего часа страшное оружие разрушения, словно злой джинн в бутылке, и требуется только рука, которая открыла бы пробку. Кайл был неравнодушен к оружию, он любил держать его в огромных ладонях, чувствуя заключенную в нем силу. Точно так слепой постигает смысл, проводя пальцем по линиям Брэйля. Порой, когда его сон был особенно глубок и темен, ему снилось, что он обеими руками держит большой пистолет и целится в людей. Это был «магнум» девятого калибра с зияющим — точно у пушки — жерлом, и звук от выстрелов гремел раскатами, как будто ревел чудовищный ящер. И неизменно, когда Кайл ощущал отдачу после выстрела, на него накатывала волна радости. Некоторое время его беспокоили эти ночные фантазии, потому что он склонен был относить их на счет дьявола, которого в себе так до конца и не уничтожил. Но потом до него дошло, что снившиеся ему люди были врагами господа и что уничтожить их, пусть даже во сне, — благое дело. Кайлу ниспослано произволение божье на земле. Грейс сказала ему это. Она подошла к полкам слева от двери, взяла коробку, открыла, достала оттуда револьвер в пластиковой упаковке и положила на стол. Это был полицейский «смит-и-вессон» калибра 0,38 дюйма с укороченным стволом, обладающий страшной ударной силой. Достала с полки еще один, вынула его из коробки и положила рядом с первым. Эдна Ванофф распаковала оба пистолета. До конца дня мальчишка должен быть мертв, и уничтожат его с помощью этого оружия. С одной из полок Мать Грейс вытащила дробовик «ремингтон» двадцатого калибра и перенесла его на стол.Глава 13
Джой сидел за большим столом Чарли и потягивал кока-колу, которую тот ему предложил. Кристина, как и раньше, сидела напротив в кресле для посетителей. Она была вне себя. Пару раз Чарли замечал, как она от волнения грызет ногти. Ему было горько сознавать, что ее с Джоем настигли здесь, у него в конторе. Они пришли к нему искать помощи и защиты, однако очередной раз ими овладел страх. Присев на край стола, Чарли обратился к Джою: — Я понимаю, что тебе неприятно говорить об этом телефонном разговоре, но мне действительно нужно бы задать тебе несколько вопросов. Джой посмотрел на мать: — Я думал, мы наймем Магнума. — Милый, ты, наверное, забыл, что Магнум на Гавайях, — ответила Кристина. — Ну да. Черт, точно, — мальчик заметно нервничал. — Магнум наверняка помог бы нам. Секунду Чарли не понимал, о чем это он, но потом улыбнулся, вспомнив про телевизионный сериал. Джой припал к своему стакану, изучающе глядя поверх него на детектива. Наконец заявил: — Думаю, вы тоже ничего. Чарли едва сдержал смех: — Ты не пожалеешь, что решил обратиться к нам, Джой. И все же…, что сказала тебе та женщина? — Она сказала… «Тебе не спрятаться от меня». В голосе мальчика слышался страх. Это не осталось незамеченным Чарли, и он сказал: — Здесь она ошибается. Если потребуется спрятать тебя от нее, мы сумеем это сделать. Будь спокоен.; Что еще она говорила? — Она сказала, что знает, кто я такой. — Как по-твоему, что она имела в виду? Мальчик окончательно был сбит с толку: — Я не знаю. — Что еще? — Она сказала…, она вырвет мне сердце. Кристина сдавленно застонала. Она встала, нервно вцепившись в сумочку: — Думаю, мне надо…, увезти Джоя куда-нибудь. — Возможно, — голос Чарли звучал мягко и успокаивающе. — Но не сейчас. — Мне кажется, уже пора. Пока…, ничего не случилось. Мы можем поехать в Сан-Франциско. Или к его отцу. Я никогда не была на Карибских островах. Там ведь хорошо в это время года, верно?. — Дайте мне по крайней мере двадцать четыре часа, — попросил Чарли. — Ах, двадцать четыре часа? А что, если та ведьма нас сцапает? Нет. Мы должны уехать сегодня же. — И сколько времени вы намерены скрываться? — спросил Чарли. — Неделю? Месяц? Или год? — Две недели достаточно большой срок. За две недели вы поймаете ее. — Это не факт. — Тогда сколько же вам потребуется? Он понимал и разделял тревогу Кристины и хотел быть с ней помягче, но ему вместо этого приходилось говорить начистоту. — Совершенно очевидно, что у нее своего рода навязчивая идея в отношении Джоя, своего рода одержимость. Джой ее заводит, если можно так выразиться. Если Джоя не будет где-то поблизости, она втянет когти. Она испарится. Мы можем никогда не найти ее, если здесь не будет Джоя, который провоцирует ее активность. Вы ведь не собираетесь остаться в отпуске навсегда? — Так что вы предлагаете, использовать моего сына в качестве живца? — Нет. Вы не правильно поняли. Речь не о том, чтобы отправить его прямо в пасть акуле. Он скорее будет в роли приманки. — Это возмутительно! — Но это единственный способ поймать ее. Если исчезнет Джой, ей не будет никакого смысла светиться. — Он подошел к Кристине и положил ей руку на плечо. — Его все время будут охранять. Он будет в безопасности. — Черта с два он будет в безопасности. — Я обещаю вам… — У вас же есть номер этого фургона, — сказала она. — Этого может оказаться недостаточно. Возможно, это ничего не даст. — Вам известно название компании, за которой числится эта машина. «Слово Истины». — И этого может быть мало. А если всего этого будет недостаточно, если это не даст никаких результатов, тогда следует признать, что Джой должен находиться где-то рядом, чтобы старуха рискнула обнаружить себя. — Похоже, рисковать придется нам. — Положитесь на меня, — мягко произнес он. — Ну же, дайте мне шанс. И если у вас появится повод — даже самый ничтожный — усомниться в нашей способности управлять ситуацией, я немедленно отправлю вас из города. Прошу вас только об одном…, не сейчас. Она посмотрела на своего сына, который, уже отставив в сторону стакан с кока-колой, сидел на самом краешке стула, слишком для него большого. Словно осознав, что все ее страхи напрямую передаются Джою, она села и постаралась взять себя в руки. Чарли снова обратился к мальчику. Прислонившись к столу, он сказал: — Джой, не бойся никакой ведьмы. Я знаю, как надо обращаться с ведьмами. Предоставь это мне. Итак…, она сказала тебе, что хочет…, причинить тебе боль. Что она сказала после этого? Мальчик потер ладонью лоб, пытаясь вспомнить: — Не так много…, что-то про какой-то суп. — Суп? — Ну да. Она сказала что… Бог готовит мне какой-то страшный суп. — Страшный суд? — Она сказала, что отправит мне этот суп с какими-то людьми и что бог не допустит, чтобы я улизнул от нее. — Он вопросительно посмотрел на мать. — Почему бог хочет, чтобы я достался этой ведьме? — Милый, он совсем не хочет, чтобы ты ей достался. Она обманывала тебя. Она просто сумасшедшая. Бог здесь ни при чем. Чарли нахмурился: — Может статься, что косвенно к этому причастен и господь бог. Когда Генри сказал, что фургон принадлежит компании «Слово Истины», мне пришла в голову мысль, а не связано ли это с религией. «Слово Истины» можно истолковать как священное слово, Писание, то есть Библия. А что, если мы имеем дело с религиозным фанатиком? — Или двумя фанатиками, — добавила Кристина, глядя в окно и, видимо, подумав про человека возле белого фургона. Или больше, чем двумя, осенило Чарли. За последние два десятилетия, когда стало модным отвергать и поносить всякие социальные институты (как будто создавались они глупцами, не ведающими, что творят), расплодилась масса всевозможных религиозных сект, которые стали энергично заполнять вакуум, образовавшийся в условиях упадка авторитета власти. И в то время, как одни представляли собой вполне добропорядочные ответвления традиционных церквей, другие преследовали низкие и корыстные цели: обогащение своих основателей, пропаганду насилия, насаждение религиозного фанатизма и истерии. Калифорния по сравнению с другими штатами всегда отличалась большей терпимостью по отношению к представителям нетрадиционных, зачастую спорных взглядов и убеждений. Именно поэтому в Калифорнии нашло прибежище большее, чем где бы то ни было, количество разнообразных сект, хороших и плохих. И не удивительно, если одной из таких сект для каких-то эксцентричных целей вдруг потребовалась ритуальная жертва, и выбор пал на невинного шестилетнего ребенка. Безумие? Да, но ничего удивительного в этом не было. Чарли втайне надеялся, что в случае со Скавелло это окажется не так. Нет ничего хуже, чем иметь дело с религиозным фанатиком, вообразившим себя Мессией. И тут, когда Чарли снова обернулся к мальчику, произошло нечто странное. Пугающее. На какое-то мгновение показалось, что нежная кожа ребенка стала просвечивать насквозь, а потом сделалась почти совершенно прозрачной. Невероятно, но сквозь кожу были видны кости черепа. Чарли отчетливо видел уставившиеся на него пустые темные глазницы. И в этих известняковых провалах кишели черви. Костяной оскал. На месте носа зияли отверстые дыры. И хотя лицо Джоя оставалось на месте, оно было похоже на скелетный каркас. Смертное знамение. Пораженный, Чарли встал и закашлялся. Через мгновение, так же внезапно, как и появилось, видение исчезло. Он сказал себе, что это лишь игра воображения, хотя никогда прежде ничего подобного с ним не случалось. В желудке холодным клубком свернулся страх. Игра воображения. Нет никаких видений. Не бывает. Чарли не верил в сверхъестественное, в ясновидение и прочий бред. Он был здравомыслящий человек и с полным основанием полагался на свою здоровую, крепкую природу. Отчасти для того, чтобы скрыть свое изумление и испуг, а отчасти, чтобы выбросить из головы жуткую картину, он сказал: — Ну что же, думаю, вы можете продолжать работать. Постарайтесь, насколько это возможно, вести себя так, как будто это был самый обыкновенный день. Я знаю — это непросто. Но вы должны продолжать жить и работать, пока мы разберемся с этим делом. Генри Рэнкин поедет с вами. Я уже договорился с ним. — Вы хотите сказать…, он будет моим телохранителем? — Он, конечно, не самый крупный мужчина, — ответил Чарли, — но в совершенстве владеет боевыми приемами, кроме того, он вооружен. И еще. Если бы мне пришлось выбирать из моего персонала человека, которому я мог бы доверить собственную жизнь, думаю, что выбор пал бы на Генри. — Я не сомневаюсь в его компетентности. Но мне не особенно нужен телохранитель. То есть, я хочу сказать, этой женщине нужна не я, а Джой. — Заполучив вас, она может выйти и на него, — сказал Чарли. — Генри едет с вами. — А как же я? — спросил Джой. — Я сегодня пойду на занятия? — И он посмотрел на свои детские часы с Микки Маусом. — Ну вот, я уже опоздал. — На сегодня занятия отменяются, — сказал Чарли. — Ты останешься со мной. — Ну-у? А я буду помогать вам расследовать? Чарли улыбнулся: — Разумеется. Мне нужен молодой смышленый помощник. — Вот это да! Слыхала, мам? Я буду как Магнум. Кристина вымученно улыбнулась, и хотя улыбка была фальшивой, она придала женщине обаяния. Чарли не терпелось увидеть, когда на ее лице заиграет естественная, теплая и живая улыбка. Кристина на прощание поцеловала Джоя, и Чарли видел, как тяжело, как мучительно было для нее в таких обстоятельствах оставить сына. Он прошел с ней к выходу, а Джой снова принялся за кока-колу. — Мне зайти к вам после работы? — спросила она. — Нет. Мы привезем его к вам в магазин к…, пяти? — Договорились. — Оттуда вы с Джоем под охраной поедете домой. Охранники останутся у вас на ночь. И одного я, возможно, выставлю на улице, на случай, если появится кто-то подозрительный. Чарли уже открыл дверь в приемную, как вдруг Джой окликнул мать. Она повернулась к нему. — А собака? — сказал он, поднимаясь и выходя из-за стола. — Завтра поищем, малыш. За последние несколько минут страх у него, по крайней мере внешне, прошел. Но теперь его снова охватило беспокойство. — Сегодня, — сказал он. — Ты обещала. Ты сказала, что мы возьмем новую собаку сегодня. — Но, милый мой… — Я хочу собаку сегодня, пока не стемнело, — печально произнес мальчик. — Мне нужно, мама, очень нужно. — Мы можем съездить с ним за собакой вдвоем, — предложил Чарли. — У вас есть работа, — сказала Кристина. — Дорогая леди, здесь солидная контора, у меня есть служащие, занимающиеся текущими делами. Моя работа в настоящее время состоит в том, чтобы присматривать за Джоем, и если, отправляясь с ним за собакой, я присматриваю за ним, значит, мы едем покупать собаку. Никаких проблем. Какой зоомагазин ты предпочитаешь? — Брэнди мы забрали из питомника для бездомных собак, — сказал Джой. — Спасли от верной смерти. — В самом деле? — изумленно спросил Чарли. — Ага. Там хотели его усыпить. Только это не то же самое, что спать, понимаешь? Это было…, ну, тоже вроде как спать, но только намного хуже, чем спать. — Мы можем съездить в питомник, — сказал Чарли-Кристине. — И спасем еще одну! — радостно воскликнул Джой. — Если это не слишком обременительно, — согласилась Кристина. — Что вы! Сплошное удовольствие. — Казалось, Чарли захватила такая идея. Она взглянула на него с нескрываемой благодарностью, а он ей заговорщически подмигнул, и на этот раз она улыбнулась почти настоящей улыбкой. Чарли чуть было не поцеловал ее. — Только не немецкую овчарку, — сказала Кристина. — Я их боюсь. И не боксера. — Может быть, дога? — поддразнил Чарли. — Или сенбернара? А может, добермана? — Точно! — воскликнул Джой. — Добермана! — А как насчет свирепой восточноевропейской овчарки с трехдюймовыми клыками? — Вы неисправимы, — сказала Кристина, но при этом улыбнулась. И это была как раз та улыбка, которой он так добивался. — Мы возьмем хорошую собаку, — сказал Чарли. — Не волнуйтесь. Можете мне поверить. — Пожалуй, я буду звать ее Плутон, — сказал Джой. Чарли подозрительно покосился на него: — Почему ты хочешь звать меня Плутоном? Джой покатился со смеху: — Не тебя. Новую собаку. — Плутон, — Чарли на секунду задумался. — Что ж, звучит неплохо. В этот момент им казалось, что мир прекрасен и в нем нет места смерти. И Чарли впервые почувствовал, что они трое каким-то образом принадлежат друг другу, что судьбы их связаны и что в будущем между ними сложатся более близкие отношения, чем те, которые устанавливаются между детективом и его клиентами. Это ощущение приятно согревало. Жаль, что так не могло продолжаться вечно.Глава 14
На столе в комнате, где хранилось оружие, лежали два револьвера и два дробовика Они были заряжены. Рядом стояли коробки с патронами. Эдну Ванофф Мать Грейс отправила с поручением, и они с Кайлом остались вдвоем. Кайл взял дробовик: — Я начну первым. — Нет, — сказала Мать Грейс. — Нет? Но ты всегда говорила мне, что позволишь… — Убить мальчишку будет непросто. — И что? — Он не простой человек. В его жилах течет кровь демона. — Это не пугает меня. — Он должен пугать тебя. В нем могучая сила, которая прибывает с каждым днем. — Но со мной крестная сила. — Тем не менее. Первая попытка наверняка будет неудачной. — Я готов принять смерть. — Знаю, мой мальчик, знаю. Но я не имею права рисковать тобой в самом начале битвы. Слишком дорого это может стоить. Ты — мой проводник между этим миром и царством теней. — Но я и разящий меч, — он начинал раздражаться. — Я не сомневаюсь в твоей силе. Она забрала у него дробовик и снова положила на стол. Он ощутил страшную потребность что-нибудь сокрушить, разумеется, лишь настолько, насколько это угодно господу. У него больше не было нужды нести боль и страдание невинным исключительно ради удовлетворения своих инстинктов. Это время давно прошло. Он жаждал быть воином господним. И от того, что эта потребность не находила выхода, теснило грудь и сосало под ложечкой. В нервном напряжении он ждал вечера, чтобы нанести удар. — Я — карающий меч господа, — еще раз напомнил он. — Наступит и твое время, — заверила она его. — Когда? — Когда появится реальный шанс уничтожить ребенка. — Но если у нас не будет шанса уничтожить его сегодня вечером, зачем же охотиться за этим ублюдком? Почему бы не подождать? — Потому что, если нам повезет, мы хотя бы причиним ему боль, возможно, раним его, — сказала Мать Грейс. — А это поколеблет его уверенность. Сейчас маленький звереныш убежден, что мы никогда не сможем серьезно навредить ему. Когда он почувствует себя уязвимым, он на самом деле станет более уязвимым. Сначала мы должны подорвать его веру в себя. Ты понимаешь? Против воли Кайл кивнул. — А если нам будет сопутствовать удача, — продолжала Грейс, — если с нами будет бог и нам удастся застичь дьявола врасплох, то мы, пожалуй, могли бы убить его мамашу. Тогда мальчишка останется в одиночестве. Собаки уже нет. Если устранить и мать, у него не останется никого, и его уверенность рухнет. Тогда он — совершенно беззащитен. — Хорошо, позволь мне убить мать, — взмолился Кайл. Она улыбнулась и покачала головой: — Мой мальчик, когда богу будет угодно, чтобы ты стал его мечом, я дам тебе знать. До тех пор ты должен набраться терпения.* * *
Чарли стоял у окна, держа в руках мощный бинокль со встроенной фотокамерой. Внимание его было приковано к мужчине возле белого фургона. Неизвестный был около ста восьмидесяти сантиметров ростом, худощавый и бледный, с плотно сжатыми губами, тонким носом и густыми, темными, сросшимися на переносице бровями. Он что-то напряженно высматривал и все время беспокойно двигал руками. Одной поправлял воротник рубашки, другой приглаживал волосы, а то вдруг дергал себя за мочку уха. Или чесал подбородок, или снимал пушинку с пиджака. Снова приглаживал волосы. Его никак нельзя было принять за обыкновенного работягу, расслабляющегося в обеденный перерыв. Чарли сделал несколько снимков. Когда Кристина Скавелло вместе с Генри уехали на ее сером «Понтиаке», наблюдатель едва не вскочил в свой фургон, чтобы следовать за ними. Однако заколебался, растерянно посмотрел по сторонам и наконец решил оставаться на месте. Джой стоял рядом с Чарли. Его роста едва-едва хватало, чтобы увидеть улицу. — Он что, ждет меня? — Похоже на то. — Почему мы не можем выйти на улицу и застрелить его? — спросил Джой. Чарли рассмеялся. — Ты не можешь ходить и стрелять в кого захочется. Во всяком случае, в Калифорнии. Может, будь это Нью-Йорк… — Но ты же частный сыщик, — сказал Джой. — У тебя должна быть лицензия на убийства. — Я же не Джеймс Бонд. — Ты его знаешь? — спросил Джой. — Я бы этого не сказал. Но я знаю его брата, — ответил Чарли. — Ну да? Никогда не слышал, что у него есть брат. Как его звать? — Его зовут Государственное Право — по-английски «Municipal Bond». — Странное имя, — смысл шутки до Джоя не дошел. Ему только шесть лет, напомнил себе Чарли. Иногда по его поведению ему можно было дать на несколько лет больше, а свои мысли он выражал с такой ясностью, какой едва ли можно было ожидать от дошкольника. Мальчик еще раз посмотрел в окно. Пока Чарли делал последние снимки человека у белого фургона, он молчал, а потом произнес: — Мне непонятно, почему мы не можем застрелить его. Если бы ему дали шанс, он бы меня застрелил. — Ну, не думаю, что дошло бы до этого, — Чарли старался разогнать его страхи. Однако Джой с невозмутимостью и твердостью, совершенно несвойственными его возрасту, сказал: — Точно. Если бы он знал, что ему ничего не будет, он бы меня застрелил. Застрелил и вырвал бы мне сердце. Вот что он сделал бы. Пятью этажами ниже наблюдатель бледной рукой с длинными пальцами пригладил волосы.Часть II. НАПАДЕНИЕ
Грядет конец света? Они слышат приближение дьявола? Трубят трубы Страшного суда? Им слышится голос дьявола? Или их темные страхи преувеличены? Или же это голоса безумных? Те, кто боится конца света, Должны бояться самих себя.«Книга исчислимых скорбей»
Фанатик совершает то, что, по его мнению, совершал бы Господь, если бы он знал все обстоятельства дела.Финли Петер Дан
Глава 15
Магазин «Вина и закуски» находился в районе Ньюпорт-Бич, неподалеку от лодочного причала, разместившись в симпатичном здании довольно дорогого торгового центра. Даже по понедельникам в магазинчике бывало оживленно. В секции продовольственных товаров, большей частью колониальных, вечно толпился народ, приблизительно то же происходило и в отделе вин. Когда ни загляни в отдел кухонной утвари, там всегда находилось два-три посетителя, разглядывающих кастрюли и сковороды, иностранные автоматы для изготовления мороженого, кухонные комбайны и прочие необходимые в хозяйстве вещи Во второй половине дня, кроме различных продуктов, вина и мелких предметов кухонного обихода, Кристина и Вэл вместе с их продавщицей Тамми успешно продали две шикарные равильольницы, дорогой комплект столовых приборов, плиту «Куизинар», красивый медный шкаф-подогреватель с тремя отделениями и кофеварку для приготовления капучино с богатой отделкой, которая стоила девятьсот долларов. И хотя дела в магазине шли необычайно хорошо практически с того самого дня, как его двери впервые распахнулись для посетителей, и он начал приносить прибыль уже на третью неделю после открытия (случай для нового бизнеса неслыханный) — несмотря на все это, каждый день, заслышав мелодичный звон за кассовой конторкой, Кристина по-прежнему испытывала приятное удивление. Она не была пресыщена успехом, даже шесть с половиной лет стабильного процветания не испортили ее. Из-за царившего в «Винах и закусках» оживления время после полудня в понедельник шло гораздо быстрее, чем Кристина могла ожидать, когда с тяжелым сердцем оставила Джоя у Чарли Гаррисона. Разумеется, она не переставала думать о выжившей из ума старухе. Несколько раз в течение дня она представляла себе обезглавленное тело Брэнди, лежащее на заднем крыльце, и тогда у нее несколько минут дрожали поджилки и пересыхало во рту. Все это время Генри Рэнкин был рядом, помогая обслуживать покупателей, развешивая ценники на новые товары, оказывая самые разнообразные услуги, как если бы он был служащим магазина; однако украдкой он следил за клиентами, готовый наброситься на любого, от кого будет исходить угроза. Хотя Кристину и продолжал преследовать образ окровавленной собаки, и само присутствие Генри служило напоминанием об опасности, время для нее летело незаметно, а постоянная занятость помогала отвлечься. Выручало и то, что у нее была Вэл Гарднер. Кристина обрисовала ей ситуацию, хотя и не без опаски, так как боялась, что Вэл весь день будет приставать к ней с расспросами и к пяти часам сведет с ума. Вэл, казалось, была целиком погружена в свои маленькие неприятности, непременно заявляя о том, что она «травмирована», даже по таким пустячным поводам, как подтекающий кран в ванной или спущенная петля на колготках. Она находила драматизм и даже трагизм в простуде или в сломанном ногте, хотя в действительности никогда не расстраивалась и не впадала в уныние, сталкиваясь с легкими встрясками, уготовленными ей судьбой, которые, собственно, и давали ей возможность поиграть. Ей нравилось быть героиней в своей мыльной опере, драматизировать собственную жизнь, делать ее более красочной. И если вдруг выдавался день, который не оживляла никакая «травма», она переключалась на проблемы своих друзей, воспринимая их как свои собственные. При этом она всегда действовала, исходя из самых лучших побуждений, и была порядочным, работящим и веселым человеком. И вот теперь, к некоторому удивлению Кристины, Вэл оказалась достаточно чуткой, чтобы не проявлять излишнего любопытства к истории со старухой и ее угрозами. Она молчала, но наверняка у нее чесался язык и не давали покоя тысячи вопросов. В пять часов прибыли Чарли с Джоем, а вместе с ними два типа, которые выглядели так, словно их пригласили на пробы в очередном фильме об Эркюле Пуаро. Это были телохранители. Их обязанностью было дежурить до полуночи, после чего их должны будут сменить другие. Одного звали Пит Локберн — курчавый блондин под сто девяносто сантиметров со значительным лицом и настороженным взглядом. Второй был симпатичный негр по имени Фрэнк Ройтер, ни в чем не уступавший Локберну, с руками, которые показались Кристине огромными. У обоих были приличные костюмы с галстуками, приятные манеры и мягкая речь, и все же их никогда не приняли бы ни за баптистских священников, ни за управляющих из рекламного агентства. По внешнему виду можно было заключить, что для поддержания себя в форме они боролись с гризли и валили дубы. Вэл в изумлении уставилась на них, потом обратилась к Кристине с тревожным выражением на лице: — Послушай, Крис, я, честно говоря, не придала этой истории большого значения, пока тут не появилась твоя армия. Это что, все настолько серьезно? — Очень серьезно, — подтвердила Кристина.* * *
Для выполнения миссии Грейс отобрала двоих: Пэта О'Хару и Кевина Баумберга. О'Хара, рослый, начинающий полнеть двадцатичетырехлетний ирландец, был раньше католиком. Невысокого роста, коренастый, с густой черной бородой, Баумберг изменил иудейской вере, бросил семью и прибыльную ювелирную торговлю ради того, чтобы вместе с Матерью Грейс готовить мир к Сумеркам, к приходу Антихриста. Она выбрала их для этого покушения потому, что они олицетворяли два важнейших для нее принципа: универсальный характер ее учения и всемирное братство всех праведников, в чем был единственный залог отсрочки или предотвращения конца света. В начале шестого О'Хара и Баумберг появились из церковного подвала в Анахейме с двумя мешками, в которых обычно сдают белье в прачечную. По бетонным ступеням они поднялись на асфальтированную автостоянку. Ранний зимний вечер, заволакивающий все небо чернотой, уже прогнал остатки дневного света к западному горизонту. С моря пришли зловещие тучи, и воздух был сырой и холодный. О'Хара с Баумбергом положили свои мешки в багажник «Крайслера», принадлежавшего церкви. В мешках лежало выбранное Матерью Грейс оружие: два дробовика, столько же револьверов и патроны к ним. Оба молчали, напуганные, поглощенные мыслью о бренности человеческой жизни. В тишине выехали на улицу, где внезапно поднявшийся ветер шевелил ветви деревьев по обочинам и гнал по водостокам сухую листву.Глава 16
Тамми уже заканчивала обслуживать последних клиентов. К Кристине подошел Чарли Гаррисон. — Ничего не заметили? Кто-нибудь вел себя подозрительно? — Нет. Все было спокойно. — Удалось что-нибудь узнать про «Слово Истины»? — спросил его Генри Рэнкин. — Долго рассказывать, — ответил Чарли. — Я должен отвезти Кристину с Джоем домой, убедиться, что там они будут в безопасности этой ночью. Твоя машина на улице, я пригнал ее. На переднем сиденье найдешь последнюю информацию, можешь потом почитать, чтобы быть в курсе. — Я больше не нужен сегодня? — спросил Генри. — Да нет. — Мам, идем, — сказал Джой. — Пойдем к машине. Я хочу кое-что показать тебе. — Одну минуту, малыш. Вэл Гарднер не обращала внимания ни на Локберна, ни на Ройтера, хотя они и были, по крайней мере внешне, именно такими мужчинами, о которых женщины могли только мечтать. Вместо этого, едва Чарли закончил разговор, она вцепилась в него, пустив в ход все свои чары. — Всегда мечтала познакомиться с настоящим детективом, — сказала она, едва дыша. — У вас, должно быть, такая увлекательная жизнь? — Как правило, скучная, — ответил Чарли. — Наша работа состоит в основном из бумажной рутины и слежки. — Но время от времени… — подначивала Вэл. — Разумеется, не обходится и без стрельбы. — Бьюсь об заклад, что именно ради этих моментов вы и живете, — сказала Вэл. — Никому не хочется быть пристреленным или избитым мужем, проходящим по делу о грязном бракоразводном процессе. — Ну-ну, не скромничайте, — говорила Вэл, помахивая перед ним пальчиком и таинственно подмигивая, как она умела делать. Это она может, думала Кристина. Вэл была чертовски привлекательна, с пышными золотисто-каштановыми волосами, искрящимися зелеными глазами и потрясающей фигурой. Кристина по-хорошему завидовала ее роскошной внешности. Хотя Кристине неоднократно говорили о том, что она красива, она не воспринимала всерьез комплименты. В глазах своей матери она никогда не была привлекательна; в детстве та видела в ней не иначе как простушку, и хотя Кристина отдавала себе отчет в том, что у матери во всем были абсурдно высокие требования и что суждения ее не всегда справедливы или основаны на здравом смысле, у нее тем не менее сложилось убеждение, что она не более чем симпатичная женщина, в самом скромном смысле слова, которой больше к лицу роль монахини, нежели коварной соблазнительницы. Зачастую, когда Вэл надевала свои лучшие наряды и начинала с кем-то кокетничать, Кристина чувствовала себя девчонкой рядом с ней. Вэл тем временем продолжала: — Могу поспорить, вы тот человек, которому в жизни для остроты ощущений необходимо чуть-чуть опасности, человек, который знает, что такое опасность. — Боюсь, вы делаете из меня романтика, — сказал Чарли. Однако Кристина заметила, что ему приятно внимание Вэл. Джой не отставал от нее: — Мама, ну пойдем. Пойдем к машине. Мы взяли собаку. Просто классную. Пойдем, посмотришь. — Из питомника? — спросила Кристина, обращаясь к Чарли и прервав заигрывания Вэл. — Да, — ответил Чарли, — я уговаривал Джоя взять шестидесятикилограммового мастифа по кличке Убийца, но он меня не послушал. Кристина улыбнулась. — Пойдем посмотрим на него, мам, — уговаривал Джой. — Ну прошу тебя, — он взял ее за руку и потянул к выходу. — Ты закроешь одна, Вэл? — спросила Кристина. — Я не одна, у меня есть Тамми, — сказала Вэл. — Если хочешь, можешь завтра не приходить. Даже не думай об этом. — Ну нет, — сказала Кристина. — Мне это помогает. Я бы, наверное, сошла с ума, если бы сегодня не работала. — Приятно было познакомиться, — сказал Чарли Вэл. — Надеюсь, еще увидимся, — Вэл одарила его стосвечовой улыбкой. Первыми из магазина вышли Пит Локберн и Фрэнк Ройтер, внимательно осмотрели тротуар вдоль торговых рядов и автостоянку. Их присутствие придавало Кристине уверенность, хотя она и чувствовала себя неловко, усматривая некую претенциозность в том, что, словно важная персона, шествовала в сопровождении двух наемных охранников. Небо на востоке было темным, а у них над головами — иссиня-черным. На западе оранжево-желтым и красно-бордовым полыхало зарево заката, подсвечивая зловещий строй надвигающихся грозовых облаков. И хотя для февраля день выдался теплым, уже заметно посвежело, предвещая холодную ночь. Природа Калифорнии нередко балует теплыми зимними днями, однако на зимние ночи ее щедрости уже не хватает. На стоянке стоял темно-зеленый «Шевроле» из агентства «Клемет — Гаррисон». Рядом был припаркован «Понтиак» Кристины. На заднем сиденье, выглядывая в окно, сидела собака, и когда Кристина увидела ее, у нее перехватило дыхание. Это был Брэнди. Секунду-другую она стояла как в шоке, не веря своим глазам. Наконец до нее дошло, что это не Брэнди, а точно такой же золотистый ретривер практически того же роста, окраса и возраста, что и Брэнди. Джой побежал вперед и открыл дверь. Пес немедленно выпрыгнул из машины и отрывисто рявкнул от удовольствия. Он обнюхал Джоя, а затем, встав на задние лапы, положил передние ему на плечи, отчего тот чуть не свалился. Джой, заливаясь смехом, потрепал пса по загривку. — Правда, он классный, мам? В нем что-то есть, верно? Она посмотрела на Чарли, который радовался не меньше Джоя. Они были еще метрах в пятнадцати от машины, и Джой не мог слышать, как она сказала с явным раздражением: — Вы не думаете, что было бы лучше, если бы вы остановили свой выбор на другой породе? Ее тон, похоже, сбил Чарли с толку. — Вы хотите сказать, что эта слишком крупная? Джой сказал, что она такая же, как та собака, которую…, вы потеряли. — Она не просто такая же. Это та же самая собака. — То есть Брэнди тоже был золотистый ретривер? — Разве я не говорила вам этого? — Вы ни слова не сказали о его породе. — Джой тоже не упоминал об этом? — Ни разу. — Этот пес настоящий двойник Брэнди. — В ее голосе были тревожные нотки. — Не уверена, что это блестящая идея с точки зрения последствий для детской психики. Повернувшись к ним и держа собаку за ошейник, Джой, словно подтверждая ее опасения, сказал: — Мама, знаешь, как я хочу назвать его? Брэнди! Брэнди Второй! — Понимаю, что вы имеете в виду, — сказал Чарли. — Он отказывается признать гибель Брэнди, — произнесла Кристина. — Это нездоровая реакция. В сгущавшихся сумерках зажглись фонари, озарив стоянку тускло-желтоватым светом. Кристина подошла к сыну и присела на корточки. Пес обнюхал ее, задрал морду, прикидывая, смогут ли они приноровиться друг к другу, и наконец положил лапу на ее колено, испрашивая ее заверений в том, что она собирается любить его так же, как уже любит новый хозяин. Понимая, что уже слишком поздно возвращать собаку обратно в приемник и выбирать другую породу, сознавая, что Джой уже привязался к этому животному, Кристина решила по крайней мере настоять, чтобы он не называл пса Брэнди. — Милый, мне кажется, лучше придумать какое-нибудь другое имя. — Мне нравится имя Брэнди, — сказал мальчик. — Но ведь, называя его так…, ты как бы наносишь оскорбление тому Брэнди. — Как это? — Ты как бы пытаешься забыть про старого Брэнди. — Нет! — ожесточенно отрезал он. — Я не могу его забыть, — и снова на глаза навернулись слезы. — У него должно быть свое собственное имя, — продолжала мягко настаивать Кристина. — Но мне правда нравится имя Брэнди. — Мы можем придумать не хуже. — Ну ладно… — Может быть, Принц. — Фу, гадость. Может, тогда… Рэнди! Она нахмурилась и покачала головой: — Нет, дорогой. Давай какое-нибудь еще. Чтобы было совсем непохожим. Как насчет…, что-нибудь из «Звездных войн»? Разве плохо иметь собаку по кличке Чубакка? Лицо его просияло. — Точно! Чубакка! Это здорово! Словно понимая, о чем идет речь, и выражая свое одобрение, пес рявкнул и лизнул Кристине руку. — Давайте-ка посадим Чубакку в машину, — сказал Чарли. — Нам надо уезжать отсюда. Мы втроем поедем в «Шевроле», Фрэнк будет за рулем. Следом за нами на вашей машине Пит повезет Чубакку. Кстати, похоже, нам хотят составить компанию. Кристина посмотрела в том направлении, куда он показал. В дальнем конце стоянки, наполовину залитый желтоватым светом, наполовину в тени, стоял белый фургон. Водителя не было видно за темным лобовым стеклом, но Кристина знала, что он там и наблюдает за ними.Глава 17
Наступала ночь. Небо затягивали грозовые облака, шедшие с запада. Они были чернее самой ночи и, наступая, быстро затмевали собой звезды. О'Хара с Баумбергом медленно курсировали по улице в своем фургоне, рассматривая добротные, дорогие дома, стоявшие по обе стороны. Машину вел О'Хара, и руль скользил у него в руках, потому что его прошибал холодный пот. Он знал, что сейчас был посланником бога, так сказала Мать Грейс. Он понимал: то, что он делал, было благим и праведным делом и это необходимо, и все же не мог представить себя в роли убийцы, даже если это и священная миссия. Он видел, что Баумберг чувствует то же самое, потому что бывший ювелир дышал чересчур тяжело и неровно для человека, который еще ничего не совершил. Несколько раз, когда Баумберг что-то произносил, голос его дрожал и звучал пронзительнее обычного. У них не возникало сомнений ни в отношении их миссии, ни в отношении Матери Грейс. У обоих была глубокая вера в эту женщину, и оба готовы были исполнять то, что она приказывала. О'Хара знал, что мальчишка должен умереть, и знал почему, и верил, что так надо. Убийство этого конкретного ребенка не тревожило его. Он знал, что и Баумберг испытывает те же чувства. А нервничали и потели они просто оттого, что боялись. Им попалось несколько домов вдоль обсаженной деревьями улицы, в которых не горел свет. Какой-то из них мог оказаться подходящим для их задачи. Но был еще ранний вечер, и многие только возвращались с работы. Им совсем не хотелось проникнуть в чей-то дом лишь для того, чтобы потом оказаться застигнутыми врасплох каким-нибудь типом с портфелем в одной руке и свертком с ужином из китайского ресторана — в другой. О'Хара был готов убить мальчишку, его мать и любую охрану, нанятую для их защиты, так как знал, что все они — слуги Люцифера. Грейс убедила его в этом. Но он не был готов к тому, чтобы убивать каждого невинного встречного, который мог встать на их пути. Поэтому им следовало как можно тщательнее отыскивать подходящий дом Они искали такое жилище, где на пороге лежала бы стопка газет, высматривали переполненные почтовые ящики или другие признаки, указывающие на то, что хозяева в отлучке. Дом обязательно должен находиться в этом квартале, но была вероятность того, что не удастся найти ничего подходящего и тогда придется действовать по другому плану. Они уже почти доехали до северного конца квартала, когда Баумберг сказал: — Смотри. Что скажешь насчет этого дома? Это был двухэтажный особняк в испанском колониальном стиле, выкрашенный светло-бежевой краской, наполовину скрытый за разросшимися деревьями, азалией и клумбами вероники. Свет от уличного фонаря падал на табличку, установленную рядом с ведущей к дому дорожкой. На табличке значилось название компании по торговле недвижимостью. Дом предлагался на продажу. Ни в одном из окон света не было. — Возможно, никто не живет, — сказал Баумберг. — Не верится в такую удачу, — отозвался О'Хара. — Стоит проверить. — Видимо, да. О'Хара проехал дальше, до следующего квартала, и остановился у обочины. Прихватив сумку с эмблемой каких-то авиалиний, которую специально собрал еще в церкви, О'Хара вышел из машины. Подойдя к испанскому дому, они с Баумбергом быстро миновали обсаженную с двух сторон бегониями дорожку и оказались у ворот, ведущих в крытый дворик, где их нельзя было увидеть с улицы. В ветвях бензоиновых деревьев и в серебристой листве вероники шелестел холодный ветер, и О'Харе казалось, что сама ночь с враждебной настороженностью наблюдает за ними. Может, какая-то демоническая сущность выследила их, и сейчас, чувствуя себя в безопасности в этом царстве теней, посланник сатаны поджидает удобного случая, чтобы наброситься на них и разорвать на куски? Мать Грейс предупреждала, что сатана не остановится ни перед чем, чтобы сорвать их миссию. Грейс было дано видеть это. Грейс знала. Грейс изрекала истину. Грейс была сама истина. С трепетом в сердце О'Хара вперился взглядом в непроницаемую мглу, ожидая увидеть затаившееся чудовище. Однако не увидел ничего из ряда вон выходящего. Баумберг, отойдя от узорчатой калитки, шагнул на газон, наступив на клумбу с азалиями и бегониями с темными листьями, которые сейчас казались совершенно черными. Он заглянул в окно и тихо произнес: — Штор нет… Думаю, и мебели никакой нет. О'Хара подошел к другому окну, прижался лицом к стеклу и, посмотрев внутрь, отметил те же признаки запустения. — Наконец-то! — воскликнул Баумберг. Они нашли то, что искали. Сбоку была еще одна калитка, она оказалась не заперта. Баумберг легонько толкнул ее, заскрипели несмазанные петли, и калитка отворилась. — Я вернусь к машине и принесу мешки, — сказал Баумберг и растворился в темноте. О'Хара считал, что лучше держаться вместе, но прежде, чем он успел что-то возразить, Баумберга и след простыл. В одиночку было труднее сдерживать свой страх, а страх был пищей дьявола. Страх привлекал Зверя. О'Хара прислушивался к звенящей темноте и твердил про себя, что его защита в его вере. Ничто не может причинить тебе вреда, убеждал себя он, покуда с тобой твоя вера в Грейс и в бога. Но сохранить самообладание было не просто. Случалось, он тосковал по тем дням, предшествовавшим его обращению, когда он ничего не знал о приближении Сумерек, не ведал о том, что на землю сошел Сатана и что родился Антихрист. Он пребывал в блаженном неведении. Все, чего он боялся, — это полицейские, тюремное заключение и рак, потому что от рака умер его старик. Теперь же в промежутке между закатом и рассветом он боялся всего, потому что именно в ночные часы дьявол чувствовал себя уверенно. Теперь его жизнь была подчинена страху, и временами бремя истины, которую открывала Мать Грейс, казалось непосильной ношей. По-прежнему держа в руках сумку с эмблемой авиалиний, О'Хара направился к задней стороне дома, не дожидаясь Баумберга, с твердым намерением показать дьяволу, что он не робкого десятка.Глава 18
Джой изъявил желание ехать на переднем сиденье рядом с Питом Локберном и всю дорогу до дома болтал с ним без умолку. Кристина сидела позади них вместе с Чарли, который время от времени оглядывался назад. За ними следовал Фрэнк Ройтер на «Понтиаке» Кристины, а еще через несколько машин виднелся белый фордовский фургон, легко отличимый даже в темноте, потому что один передний фонарь у него горел ярче другого. — Я вижу этого парня, — сказал Чарли. — Неужели он настолько глуп, что считает — мы не замечаем его? Он серьезно полагает, что ведет себя крайне осторожно? — Может, ему наплевать на то, видим мы его или нет, — сказала Кристина. — Они ведут себя так…, бесцеремонно. Чарли повернулся к ней и вздохнул: — Вероятно, вы правы. — Что вам удалось узнать об этой полиграфической компании «Слово Истины»? — спросила она. — Как я и подозревал, «Слово Истины» печатает религиозные материалы — брошюры, памфлеты, всевозможные трактаты. Компания принадлежит так называемой Церкви Сумерек. — Никогда не слышала о такой, — сказала Кристина. — Какая-нибудь бредовая секта? — Насколько мне известно, именно так. Отъявленные психи. — Должно быть, совсем небольшая группа, иначе я, вероятно, слышала бы про них. — Небольшая, но богатая, — ответил Чарли. — Насчитывает около тысячи человек. — Они представляют опасность? — Не замечены ни в чем существенном. Но потенциальная опасность существует, они же — фанатики. Месяцев семь назад у нас вышла с ними неприятная встреча по одному делу. К нам обратился человек — его жена сбежала вместе с двумя детьми, трех и четырех лет, и вступила в секту. Эти чудаки отказывались сообщить, где его жена, и не позволяли увидеть детей. От полиции толку было мало, как, впрочем, всегда в подобных случаях. Все так боятся, как бы ненароком не нарушить свободы вероисповедания. Кроме того, дети ведь были не похищены, а находились вместе с матерью. Мать имеет право брать своих детей, куда ей вздумается, если только она не нарушает договора об опекунстве в случае развода, чего в этой истории не было. Как бы то ни было, мы разыскали детей, умыкнули их и вернули отцу. С его женой мы не могли ничего поделать: она вступила в секту по собственной воле. — Они что, живут общиной? Вроде тех из Джонстауна, несколько лет назад? — По крайней мере часть из них. У некоторых есть собственные дома или квартиры, если только Мать Грейс позволяет им подобную привилегию. — Кто такая Мать Грейс? Он открыл портфель, достал конверт и фонарик-авторучку, протянул ей конверт, включил фонарик и сказал: — Взгляните. В конверте находился фотоснимок на глянцевой бумаге размером двадцать на двадцать пять сантиметров. Это был портрет той самой женщины, пристававшей к ним на автомобильной стоянке около торгового центра. Даже на простом черно-белом снимке глаза старухи казались зловещими, в них светилось безумие. Кристина поежилась.Глава 19
На тыльную сторону выходили окна гостиной, кухни, примыкавшей к ней комнаты для завтрака и общей комнаты, в которую с улицы вели широкие застекленные двери. О'Хара попробовал их открыть, хотя и был совершенно уверен, что они закрыты. Так оно и оказалось. В патио было пусто. Ни цветочных горшков, ни садовой мебели. Вода из бассейна была спущена, очевидно, перед очередной покраской. Стоя у дверей, О'Хара посмотрел на соседний дом, расположенный севернее за почти двухметровой бетонной стеной, из-за нее был виден только второй этаж. Там было темно. Южнее, за другой стеной, был еще один дом. На втором этаже горел свет, но у окон никого не было. С тыльной стороны участок тоже был огорожен, однако дом, примыкавший к нему, был, судя по всему, одноэтажный. Так что его не было видно с того места, где стоял О'Хара. Он достал фонарик и стал осторожно изучать рамы французской двери и окно. Передвигался быстро, опасаясь быть замеченным. Он искал провода, сенсорную ленту и фотоэлементы — все, что указывает на то, что в доме имеется сигнализация на случай взлома. В таком районе каждый третий дом мог находиться под охраной. Но, похоже, этот не входил в их число. Он потушил фонарь и спрятал его в сумку, а оттуда извлек компактный, работающий на батарейках прибор размером с небольшой радиоприемник. От него отходил проводок длиной около полуметра, на конце которого крепилась присоска, напоминающая крышку от майонезной банки. Он укрепил присоску на одной из створок французской двери. И снова его охватило жуткое чувство, что на него надвигается что-то страшное. Обернулся, вперился взглядом в глубину окутанного мраком двора, по спине пробежал холодок. Шуршали на ветру толстые и в то же время хрупкие листья гигантского фикуса, шумели ветви двух пальм, раскачивались и трепетно вибрировали, словно живые, всевозможные кусты. Но внимание О'Хары было приковано к пустому плавательному бассейну, наводившему на него страх. Его внезапно осенило, что там, в бассейне, притаилось нечто, огромное и отвратительное, оно распласталось в этой бетонной яме и ждет, чтобы, улучив момент, сделать свой ход. Это нечто было порождением тьмы, исчадием ада, посланным с одной целью — отвратить смерть от мальчишки. Казалось, что сквозь множество производимых ветром ночных звуков он отчетливо различает идущий из бассейна зловещий, сосущий звук, и до самых костей его пробрала холодная дрожь. О'Хара вздрогнул — это вернулся Баумберг с двумя мешками. — Ты тоже слышишь? — спросил Баумберг. — Да, — ответил О'Хара. — Он там. Сам Антихрист. Или кто-то из его подручных. — В бассейне. Баумберг уставился на черный провал в центре лужайки. Наконец он кивнул: — Да, я чувствую. Он там, в бассейне. «Он может причинить нам зло, только если мы начнем сомневаться в могуществе Матери Грейс, нашей заступницы, — твердил про себя О'Хара. — Он может воспрепятствовать нам, только если мы утратим веру или позволим страху овладеть нами». Так говорила им Мать Грейс. О'Хара снова занялся дверьми. Присоска оставалась на том же месте — на дверном стекле. Он включил устройство, к которому была подсоединена присоска, и на нем загорелось цифровое табло. Это был детектор звуковых волн, улавливающий и реагирующий на колебания воздуха, возбуждаемые движением. Цифровой датчик ничего не показывал, это означало, что в общей комнате за стеклянными дверями нет включенных радиоприборов. До того как Мать Грейс обратила его в свою веру, О'Хара был профессиональным взломщиком и вполне преуспевал в своем ремесле. Поскольку Мать Грейс имела пристрастие собирать паству среди самых заблудших, у ее Церкви Сумерек был доступ к таким кладезям уникальных талантов и познаний, о которых законопослушные прихожане традиционной церкви не могли и догадываться. Иногда это обстоятельство оказывалось как нельзя более кстати. О'Хара снял присоску со стекла, выключил детектор и сунул его в сумку. Затем достал моток липкой ленты и ножницы. Нарезанную полосами ленту он приклеивал на ближнюю к ручке застекленную ячейку двери. Когда все стекло было заклеено, он крепко ударил по нему кулаком. Стекло разбилось, не произведя большого шума, а осколки остались на ленте. Он осторожно извлек ее и отложил в сторону, затем просунул руку, нащупал ручку замка, повернул ее и открыл дверь. Теперь практически не оставалось сомнений, что сигнализации в доме нет, следовало проверить лишь одно. Он опустился на колени, протянул руки, взялся за край коврового покрытия и оторвал его от пола. Панели сигнализации под ним нет — обыкновенная подбивка. Снова закрепил покрытие на полу. Они с Баумбергом вошли внутрь, неся с собой сумку и мешки. О'Хара закрыл дверь. Он посмотрел во двор. Все спокойно. — Его там больше нет, — сказал Баумберг. — Нет. Баумберг всматривался в темноту, туда, где находилась комната для завтрака, а за ней — кухня. Наконец произнес: — Теперь он здесь, вместе с нами. — Да, — согласился О'Хара. Он ощущал в доме некоторое враждебное присутствие с того самого момента, как они переступили порог. — Хорошо бы зажечь свет, — забеспокоился Баумберг. — Все знают, что в доме никого нет. Соседи могут заметить свет и вызвать полицию. В какой-то комнате на втором этаже скрипнула половица. До своего обращения в веру Матери Грейс, когда он воровал, прокладывая себе путь в преисподнюю, О'Хара счел бы, что скрип этот вызван обычной усадкой — один из бесчисленных и бессмысленных звуков, живущих в пустом доме, которые рождаются, когда какие-нибудь стыки расширяются или сужаются из-за повышенной или пониженной влажности. Но сегодня — он уверен — причина крылась не в усадке. Старые дружки и кое-кто из его родни утверждали, что, примкнув к Церкви Сумерек, О'Хара превратился в настоящего параноика. Они ничего не понимали. Он только казался параноиком, потому что видел истину такой, какой она была явлена ему Матерью Грейс, а его дружки и родня были всего лишь грешниками. Он прозрел, они же оставались слепы. Сверху снова послышался скрип. — Наша сила в вере, — с дрожью в голосе твердил Баумберг. — Мы не должны сомневаться в этом. — Мать дала нам опору, — добавил О'Хара. Скрип. — Мы выполняем работу, угодную богу, — с вызовом произнес Баумберг. О'Хара включил фонарь, прикрыв его ладонью, чтобы их нельзя было заметить снаружи. Они — первый О'Хара, а следом за ним Баумберг — подошли к лестнице и стали подниматься на второй этаж.Глава 20
Пока они ехали в машине, февральская ночь за стеклами становилась все более неприветливой. — Ее имя — Грейс Спиви, — сказал Чарли. Кристина не могла оторвать глаз от фотографии. Взгляд этой женщины действовал странно завораживающе и, казалось, излучал холодное сияние. На переднем сиденье Джой с Питом Локберном обсуждали фильм «Восточное время» Стивена Спилберга, который Джой смотрел четыре раза, а Локберн, похоже, еще больше. Голос ее сына доносился до нее откуда-то издалека, с какой-то высокой горной вершины, словно она уже потеряла его. Чарли выключил электрический фонарик. Кристина почувствовала облегчение, когда тень легла на фотографию, разрушив ее жуткие чары. Она сунула ее обратно в конверт и вернула Чарли. — Она — служитель культа? — Она сама и есть культ. Главным образом, это культ одной личности. В ее религиозном учении нет ничего нового или уникального, все дело в способе подачи. Если с Грейс что-нибудь случится, последователи рассеются, а сама Церковь, очевидно, рухнет. — Каким образом этой безумной особе удается привлечь каких-то последователей? По мне — никакого божьего дара у нее нет. — Однако это именно так, — ответил Чарли. — Сам я с ней не разговаривал, а вот Генри Рэнкину доводилось. Он занимался тем делом, о котором я упоминал, — о матери, подавшейся в секту вместе с двумя детьми. Он говорил мне, что Грейс, безусловно, обладает неким магнетизмом и что она чрезвычайно сильная личность. И несмотря на то что в ее учении нет ничего особенно нового, в нем есть то, что захватывает и возбуждает, как раз то, что у людей определенного склада находит самый горячий отклик. — В чем же суть ее учения? — Она говорит, что мир доживает последние дни. — Но подобные заявления время от времени делает каждый бесноватый фанатик от Калифорнии до штата Мэн. — Разумеется. — Значит, должно быть что-то еще. Что она говорит, кроме этого? Чарли запнулся, было видно, что ему страшно сказать ей остальное. — Чарли? Он вздохнул: — Грейс говорит, что уже родился Антихрист. — Это я тоже уже слышала. В одной секте утверждают, что Антихрист — это король испанский. — Вот так новость. — Другие говорят, что Антихристомбудет человек, который возглавит следующее правительство в России. — Это кажется убедительнее, чем свалить все на короля Испании. — Я не удивлюсь, если обнаружится секта, считающая Антихристом Берта Рейнолдса, или Стивена Кинга, или Родни Дэнджерфилда. Чарли оставался серьезным. — Мы живем в странное время, — сказал он. — Приближается конец тысячелетия, — объяснила Кристина. — В силу каких-то причин в такое время выползают на свет всякие ненормальные. Считают, что так было, когда заканчивалось первое тысячелетие: появлялись самые эксцентричные секты, царил упадок нравов, и процветало насилие, которое связывают с общим предчувствием Апокалипсиса. Думаю, что и теперь нас ждет то же самое, ведь на носу двухтысячный год. Черт, неужели уже началось? — Видимо, так. Она догадывалась, что Чарли не сказал ей всего о догматах веры Грейс Спиви. Даже в царившем в машине полумраке она видела, что он глубоко взволнован. — Итак? — подгоняла она. — Грейс утверждает, что мы находимся в периоде Сумерек, как раз накануне того дня, когда сын Сатаны приберет к рукам власть на земле, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Вы хорошо знаете Библию, особенно книги пророков? — Когда-то все это было мне очень близко. Но то время прошло. Боюсь, что я немногое помню. — Вступайте в общество богословия. Насколько я понимаю, проповеди Грейс Спиви сводятся к тому, что, согласно Библии, царство Антихриста продлится тысячу лет, неся неописуемые страдания человечеству, после чего произойдет битва при Армагеддоне, и бог сойдет на землю, чтобы окончательно уничтожить сатану. Она заявляет, что через нее бог дает людям последний шанс избежать тысячелетнего правления дьявола. По ее словам, он наказал ей допытаться спасти человечество, построив церковь праведников, которые и не допустят пришествия Антихриста. — Если бы я не знала, что есть люди фанатичные, а по всей видимости, и опасные, которые верят в подобную чушь, я бы нашла это даже забавным. И как же эта банда праведников намерена сражаться со страшными силами сатаны, если, конечно, допустить существования таких сил? — Чего я не допускаю. Но насколько мне известно, в их стратегические планы посвящены только члены Церкви. Однако, мне кажется, я догадываюсь, что у них на уме. — И что же? Он секунду колебался, затем произнес: — Они намерены убить его. — Антихриста? — Именно. — Не больше, не меньше? — Похоже, они понимают, что это будет непросто. — Еще бы! — Кристине, вопреки драматизму положения, в котором они оказались, стало смешно. — Какой же дьявол позволит убить себя? Словом, их логике недостает последовательности. Антихрист, по определению, — сверхъестественная сущность. Сверхъестественную сущность убить нельзя. — Я знаю, что римско-католическая богословская традиция поверяет догматы с точки зрения формальной логики, — сказал Чарли. — Взять хотя бы труды Фомы Аквинского. Но мы имеем дело с аномальными типами. Это фанатики. Они не требуют друг от друга следования законам логики. — Он тяжело вздохнул. — Как бы то ни было, если согласиться с библейским изложением мифологических событий и с их трактовкой мадам Грейс, получается, что логика не так уж порочна. В конце концов, предполагается, что Иисус, сын божий, — это начало сверхъестественное, и все же он был убит римлянами. — Это другое дело, — возразила Кристина. — Смысл легенды о Христе таков, что его миссия, цель и предназначение состояли в том, чтобы дать себя распять и тем самым избавить нас от необходимости искупления грехов. Верно? Однако, сдается мне, Антихрист едва ли окажется таким же альтруистом. — Вы опять рассуждаете логически. Если вы хотите понять суть учения Грейс и ее Церкви Сумерек, придется отбросить правила логики в сторону. — Ну, хорошо. Так кто же, по ее мнению, является Антихристом? — Когда мы вызволяли из секты тех детей, — сказал Чарли, — Грейс еще не распознала Антихриста. Она еще не нашла его. Думаю, теперь все изменилось. — Так кто же это? — Но не успел Чарли ответить, внезапная, как молния, догадка, осенила ее. Джой, не обращая внимания на их беседу, по-прежнему болтал с Питом Локберном. Тем не менее Кристина перешла на шепот: — Джой?! Боже, неужели эта безумная принимает моего мальчика за Антихриста? — Я почти уверен в этом. Из глубин памяти донесся исполненный ненависти голос старухи: «Он должен умереть, он должен умереть». — Но почему он? Почему Джой? Почему она не зациклилась на ком-то другом? — Возможно, вы сами уже ответили на этот вопрос: вы оказались в плохом месте в плохое время, — сказал Чарли. — Если бы на автомобильной стоянке у «Саут-Кост-Плаза» в прошлое воскресенье в то же время оказалась другая женщина с другим ребенком, то именно его, а не Джоя сейчас преследовала бы Грейс Спиви. Кристина понимала, что он, очевидно, прав, но при одной мысли об этом ей делалось дурно. Тупой, жестокий, злобный бред! Что это за мир, в котором невинная поездка в торговый центр может обернуться смертной мукой? — Но…, как же остановить ее? — спросила Кристина. — Если она прибегнет к насильственным действиям, мы попробуем упредить их. Если это не удастся, то…, тогда мы уберем ее людей прежде, чем они коснутся Джоя. Это не повлечет за собой юридической ответственности. Вы наняли нас для своей защиты, и у нас есть законное право применить силу, если это необходимо и неизбежно, чтобы выполнить свои обязательства. — Да нет же. Я имею в виду…, как заставить ее изменить свое решение? Как заставить ее понять, что Джой всего лишь ребенок? Как заставить ее отступиться? — Я не знаю. Думаю, что одержимость может быть свойственна не только фанатикам. По-моему, заставить ее изменить свои взгляды очень непросто, не говоря уже о том, что для нее имеет принципиальное значение. — Но вы же говорили, что у нее тысяча последователей. — На сегодняшний день, возможно, даже несколько больше. — Если она будет натравливать их на Джоя, мы не сможем уничтожить всех. Рано или поздно кто-то из них найдет брешь в нашей обороне. — Я не собираюсь наблюдать за этим, — заверил ее Чарли. — У них не будет больших шансов причинить Джою зло. Я заставлю Грейс отказаться от своего замысла. — Каким образом? — Пока не знаю. Кристину снова преследовал образ гарпии с автостоянки — всклокоченные космы, выпученные глаза, грязное, в жирных пятнах платье. Ее охватило отчаяние. — Нет такого способа, чтобы заставить ее отступить. — Есть, — настаивал Чарли. — Я найду способ. — Она не остановится. — Завтра утром я встречаюсь с первоклассным психотерапевтом, доктором Дентоном Бутом. Его особенно занимают психологические аспекты всевозможных культов. Я поговорю с ним об этом деле и расскажу все, что нам известно о Грейс Спиви. Он может нам помочь распознать ее слабые стороны. Кристина не была уверена, что с этим стоит связывать большие ожидания. Впрочем, в тот момент она, кажется, потеряла всякую надежду. В машине, мчавшейся сквозь предгрозовую мглу, Чарли взял ее за руку: — Я не подведу вас. Впервые она поймала себя на мысли, что его обещания могут оказаться пустым звуком.Глава 21
О'Хара и Баумберг стояли у окна просторной спальни на втором этаже пустого дома. Они по-прежнему ощущали грозное присутствие наблюдавшей за ними дьявольской силы. Делали вид, что не замечают ее, стараясь оставаться крепкими в своей вере и решимости завершить дело, порученное им Матерью Грейс. За окном во мгле все сильнее буйствовал ветер. Отсюда им был виден плавательный бассейн: никакое исчадие ада в бетонной впадине не таилось. Теперь не таилось. Потому что теперь оно было здесь, в доме. За бетонной стеной начиналось другое частное владение с лужайкой и широким одноэтажным домом типа ранчо с крышей, стилизованной под кровельную дранку. Перед домом — овальной формы бассейн с включенной подсветкой, отчего вода в нем казалась драгоценным камнем, переливавшимся сине-зелеными гранями. Из стоявшей на полу сумки О'Хара достал бинокль ночного видения, с помощью которого при минимальном освещении можно было получить увеличенное четкое изображение. В бинокль хорошо было видно дома, примыкавшие к тыльной стороне участков, выходящих на улицу, по которой они ехали. Их фасады выходили на параллельную улицу. — Который из них дом Скавелло? — спросил Баумберг. О'Хара повернулся чуть правее и стал смотреть на север. — Не тот, что сразу за этим, а через один, там, где прямоугольный бассейн и качели. — Что-то я не вижу никаких качелей, — сказал Баумберг. О'Хара протянул ему бинокль: — Слева от бассейна. Детские качели и спортивная площадка. — Через два дома отсюда, — сказал Баумберг. — Ну да. — Свет не горит. — Их еще нет дома. — Может, они и не думают приезжать. — Приедут, — уверенно сказал О'Хара. — А что, если нет? — Поедем искать. — Куда? — Бог укажет. Баумберг кивнул. О'Хара вынул из мешка дробовик.Глава 22
Уже показался их дом, когда Чарли спросил: — Видите тот фургон? На обочине другой стороны улицы, напротив их дома, стоял грузовичок-пикап с закрепленным на станине походным фургончиком. Самый заурядный пикап, она уже заметила его, но не придала никакого значения. Теперь казалось, что в нем есть что-то зловещее. — Это тоже они? — спросила Кристина. — На сей раз это мы, — ответил Чарли. — Я поставил здесь человека, который наблюдает за проезжающими машинами. У него камера с инфракрасной пленкой, чтобы даже в полной темноте можно было установить номер. Кроме того, он может по портативному телефону при необходимости связаться с вами, со мной, а также вызвать полицию. Зеленый «Шевроле» Пита Локберна остановился напротив дома, а Фрэнк Ройтер загнал машину Кристины на участок. Мимо проехал следовавший за ними белый «Форд»-фургон. Они молча наблюдали, как он доехал до соседнего квартала, припарковался и погасил огни. — Дилетанты, — презрительно сказал Пит Локберн. — Наглые мерзавцы, — добавила Кристина. Ройтер, оставив собаку в машине, подошел к ним. Чарли опустил окно, чтобы поговорить с Ройтером, и попросил у Кристины ключи от дома. Она достала ключи из сумочки, и Чарли протянул их Ройтеру: — Осмотри дом. Убедись, что никого нет. — Будет сделано, — сказал Фрэнк и расстегнул пиджак на случай, если придется воспользоваться пистолетом, который он держал в кобуре под мышкой. Повернувшись, быстро зашагал к входной двери. Пит вышел из «Шевроле» и встал рядом, обозревая темную улицу. Его пиджак тоже был расстегнут. — Сейчас должны прийти плохие люди? — спросил Джой. — Будем надеяться — нет, малыш. На улице было много деревьев и совсем слабое освещение, так что Чарли стал беспокоиться, что им приходится сидеть в машине. Он вышел, предупредив Кристину и Джоя, чтобы они оставались в машине, и встал спиной к Питу Локберну, прикрывая подход к ним с другой стороны. Время от времени из-за угла выскакивали машины, проезжали мимо или заворачивали к какому-нибудь дому. Всякий раз, видя горящие фары очередного автомобиля, Чарли напружинивался, держа правую руку на рукоятке револьвера под пиджаком. Было холодно. Он пожалел, что не захватил плащ. На западе тускло вспыхивали зарницы. Далекий раскат грома вдруг напомнил ему о товарных составах, что проносились мимо маленького убогого домишка в Индиане, в котором он вырос и который теперь, казалось, остался где-то совсем в другом мире. Почему-то эти поезда никогда не ассоциировались у него с представлением о свободе и избавлении, что, наверное, пришло бы в голову другим мальчишкам, окажись они на его месте. Когда он подростком лежал на узкой кровати, стараясь забыться и не думать о пьяных отцовских дебошах, шум проходящего поезда всегда напоминал ему, что он живет не по ту сторону рельсов. В перестуке колес слышался голос нищеты, нужды, страха и отчаяния. Удивительно, с какой пугающей ясностью гром напомнил ему о тех далеких поездах. И не менее удивительно, что память о них пробудила в нем прежние детские страхи, всколыхнув давно вроде бы забытое чувство безысходности, затравленности, чувство, которое постоянно преследовало его в отроческие годы. В этом смысле у них с Кристиной было много общего. Его детство было отравлено физическим страданием, ее — страданием душевным. Оба они жили под чьим-то каблуком, она — выражаясь фигурально, он же — почти в буквальном смысле. Детьми они испытывали чувство сродни клаустрофобии, словно их загнали в ловушку. Он посмотрел в боковое стекло и увидел обращенное к нему лицо Джоя. Он поднял вверх большой палец, показывая мальчику, что все в порядке. Джой улыбнулся и повторил его жест. В детстве Чарли часто подвергался побоям и теперь особенно трепетно относился к детям, которые оказывались жертвами насилия. Никто не вызывал у него такого гнева, как взрослый, поднявший руку на ребенка. Преступления против беззащитных детей порождали в нем чувство омерзения и брезгливости, наполняя сердце ненавистью и горечью. Он не позволит причинить зло Джою Скавелло. Он не подведет этого малыша. Он не мог обмануть веры ребенка, потому что в противном случае он утратил бы веру в себя. Прошла, казалось, вечность, пока вернулся Фрэнк. Он был насторожен, но уже более спокоен, чем прежде: — Все чисто, мистер Гаррисон. На заднем дворе тоже никого. Они плотно обступили Кристину с Джоем и собакой, чтобы те не могли попасть под прямой огонь ни с какой точки, и повели их к дому. Кристина говорила, что преуспевает, но Чарли никак не ожидал увидеть такой большой, хорошо обставленный дом. В гостиной — гигантских размеров камин с резной облицовкой и дубовыми книжными полками по обе стороны. На огромном китайском ковре — радующие глаз предметы восточного и европейского антиквариата, а также высококачественные копии. У одной из стен стояла выполненная из восьми дощечек розового дерева японская ширма с тончайшей резьбой ручной работы. С обеих сторон из тщательно подобранных кусочков мыльного камня был выложен триптих с изображением водопада, моста и традиционной японской деревни. Джой решил пойти к себе — играть с собакой, и Фрэнк Ройтер отправился с ним. Питу Локберну Чарли предложил еще раз обойти весь дом снизу доверху и проверить, закрыты ли двери и окна, плотно ли задернуты шторы — чтобы нельзя было заглянуть снаружи. — Я, пожалуй, посмотрю что-нибудь на ужин, — сказала Кристина. — Может, сосиски, единственное, чего здесь много. — Можете не беспокоиться, — сказал Чарли. — В семь часов мой человек должен принести ужин из ресторана. — Вы очень предусмотрительны. — Будем надеяться, что это так.Глава 23
О'Хара навел бинокль на окно на втором этаже в доме Скавелло, затем — на другое, постепенно осмотрел все. Везде горел свет, однако шторы были плотно задернуты. — Вдруг она вернулась одна, отправив куда-нибудь мальчишку на ночь, — высказал предположение Баумберг. — Мальчишка дома, — сказал О'Хара. — Откуда ты знаешь? — Неужели ты не чувствуешь его? Баумберг покосился на окно. — Чувствуешь? — повторил О'Хара приглушенным и испуганным голосом. Баумберг мучительно старался ощутить в себе то же знание, которое заставляло трепетать его партнера. — Тьма, — говорил О'Хара. — Почувствуй тьму, исходящую от мальчишки, ужасную тьму, которая поднимается от него, как туман над морем. Баумберг точно оголенными нервами впитывал слова О'Хары. — Дьявол, — уже не говорил, а хрипел О'Хара. — Почувствуй его. Баумберг прижался лбом и ладонями к холодному стеклу и вперился неподвижным взором в дом Скавелло. И вот он на самом деле физически ощутил его, как и говорил О'Хара. Тьма, дьявол. Его сила исходила от этого дома, как от контейнера с плутонием исходит радиоактивное излучение. Дьявольский дух струился в ночи, проникал сквозь толщу стекла и поражал Баумберга, точно злокачественная энергия, не производящая ни тепла, ни света, холодная, черная и безжизненная. Внезапно О'Хара опустил бинокль и отвернулся от окна, встав спиной к дому Скавелло, как будто не в силах превозмочь изливавшуюся оттуда дьявольскую энергию. — Пора, — произнес Баумберг, поднимая дробовик и револьвер. — Нет, — сказал О'Хара. — Пусть угомонятся. Пусть успокоятся. Пусть ослабят бдительность. — Когда же? — Мы уйдем отсюда в…, восемь тридцать.Глава 24
18:45. Кристина молча наблюдала за тем, как Чарли отключил в ее кабинете телефон и вместо него подключил устройство, которое он принес с собой. Это был некий гибрид телефона, автоответчика и портативного компьютера размером с атташе-кейс. Чарли поднял трубку, и Кристина, хотя и находилась на приличном расстоянии, услышала гудки. Он положил трубку и сказал: — Если кто-нибудь позвонит, будем разговаривать отсюда. — Эта штука записывает? — Да. Но в основном она служит для определения номеров. Такая же аппаратура установлена в полицейском управлении по чрезвычайным ситуациям. — Девятьсот одиннадцать? — Точно. Когда вы звоните по девятьсот одиннадцать, там знают номер вашего телефона и адрес, потому что, как только они поднимают трубку, устанавливая связь с вами, эти сведения поступают к ним, — и он показал на что-то вроде ленты кассового аппарата, чистый язычок которой выглядывал из узкого отверстия в приборе. — К нам будет поступать такая же информация о любом, кто бы сюда ни позвонил. — Так что, если позвонит эта Грейс Спиви, у нас будет не только запись ее голоса, но и доказательство, что звонок сделан с ее телефона, или с телефона, который числится за ее Церковью, верно? — Именно так. Вероятно, это нельзя будет использовать в суде как улику, но, если мы сможем доказать, что она угрожала Джою, делом непременно заинтересуется полиция.* * *
19:00. Ужин прибыл минута в минуту, и от Кристины не укрылось, что Чарли про себя порадовался расторопности своего служащего. Все вместе, впятером, они ужинали в столовой — телячье рагу, жареный цыпленок, печеный картофель, салат из свежей капусты. Чарли рассказывал забавные случаи из практики своего агентства. Джой слушал как зачарованный, хотя далеко не всегда мог понять или по достоинству оценить смысл этих историй. Кристина наблюдала за Джоем, отчетливо, как никогда прежде, осознавая, сколько терял ее сын, не имея рядом отца или какого-то другого мужчину, которым он восхищался бы и у которого мог бы учиться. Чубакка ел из миски в углу, потом вытянулся на полу, положив голову на лапы, поджидая Джоя. Очевидно, он жил в хорошей семье, где о нем заботились и воспитывали. Он должен был скоро привыкнуть к новым хозяевам. Кристину все еще несколько смущало его сходство с Брэнди, но она начинала подумывать, что со временем это пройдет.* * *
B 19:20 до того далекие редкие раскаты грома внезапно усилились. Страшный грохот расколол ночное небо, так что задрожали стекла. От неожиданности Кристина уронила вилку. Ей на секунду показалось, что возле дома упала бомба. Осознав, что это всего-навсего гром, она почувствовала неловкость, однако достаточно было посмотреть на остальных, чтобы сказать, что и они были напуганы этим шумом. Упали первые капли дождя.* * *
В 19:35 Фрэнк Ройтер встал из-за стола, чтобы совершить обход, еще раз проверить все двери и окна, что до него уже проделал Пит. Дождь лил не сильно, но непрерывно.* * *
В 19:47 Джой, поужинав, предложил Питу Локберну сыграть с ним в карты, в «старую деву», и тот согласился. Они отправились в детскую, за ними резво пошлепал и пес. Фрэнк подвинул стул к окну в гостиной и через щелку между шторами принялся изучать поливаемую дождем улицу. Чарли помог Кристине собрать со стола одноразовые тарелки и салфетки и отнести их на кухню, куда шум дождя, гулко стучащего по перекрытию внутреннего дворика, доносился особенно явно. — И что дальше? — спросила она, выбрасывая тарелки в мусорный бачок. — Утро вечера мудренее. — И что из того? — Если старуха сегодня не позвонит и никак себя не проявит, утром я встречусь с доктором Бутом, о котором уже упоминал. Он занимается неврозами и расстройствами психики на религиозной почве. Разработал несколько удачных нейтрализующих методик, направленных на реабилитацию тех, кто был подвергнут психологической обработке в подобных сектах. Ему знаком обычный ход рассуждений, характерный для всякого рода религиозных вождей, поэтому он может помочь нам найти слабое место Грейс Спиви. Кроме того, я рассчитываю встретиться с самой мадам Спиви лицом к лицу. — Как вы думаете это устроить? — Позвоню в Церковь Сумерек и попрошу об аудиенции. — Полагаете, что она на самом деле вас примет? Он пожал плечами: — Ее может заинтриговать подобная наглость. — Может, нам обратиться в полицию? — А что мы им предъявим? — У нас есть доказательства, что за нами с Джоем следят. — Слежка — это не уголовное преступление. — Эта Спиви звонила в ваш офис и угрожала Джою. — У нас нет доказательств того, что это была именно Грейс Спиви. А угрозу слышал только Джой. — Может быть, если мы расскажем полиции эту сумасшедшую историю о том, что Джой — это Антихрист… — Но ведь это только теория. — Хорошо…, возможно, нам удастся найти кого-то, кто раньше состоял в секте, но вышел из нее, кто мог бы подтвердить, что эта чушь насчет Антихриста — не наши выдумки. — Из Церкви Сумерек не выходят, — сказал Чарли. — Что вы хотите сказать? — Когда к нам обратились, чтобы мы вытащили из секты тех двух детей, мы первым делом подумали: надо бы выйти на какого-нибудь бывшего последователя Грейс Спиви, который потом разочаровался, он мог бы рассказать нам, где прячут детей и как лучше всего умыкнуть их оттуда. Однако нам не удалось найти ни одного человека, кто отошел бы от Церкви Спиви. Похоже, раз вступив туда, они сохраняют преданность Церкви по гроб жизни. — Всегда найдется кто-то недовольный, разочаровавшийся… — Только не в Церкви Сумерек. — Что за хватка у этой безумной, что никто не может вырваться? — Мертвая хватка, — ответил Чарли. За окнами полыхнула такая яркая молния, что отсвет ее пробился сквозь мельчайшие щели между пластинок жалюзи. Небо сотряс новый удар грома, на который жалобным дрожанием отозвались оконные стекла, и пуще прежнего хлынул ливень.* * *
В 20:15, отдав последние распоряжения Локберну и Ройтеру, Чарли уехал. Он настоял, чтобы Кристина сразу, даже не дожидаясь, пока он сойдет с крыльца, закрыла за ним дверь. Она отодвинула занавес на ближнем к входной двери окне и смотрела, как он спешит, шлепая по темным лужам, к зеленому «Шевроле», подгоняемый мокрым ветром, среди густых теней, которые метались в ночи, точно гарпии. Фрэнк Ройтер попросил ее отойти от окна, и она неохотно подчинилась. Она не могла объяснить почему, но, пока она видела Чарли Гаррисона, она чувствовала себя в безопасности. Но едва она отошла от окна, как тут же стала терзаться сознанием беззащитности Джоя и своей собственной. Однако понимала, что на Пита с Фрэнком можно положиться, они отлично подготовленные профессионалы, хотя ни один ни другой не давали ей того внутреннего ощущения надежности и спокойствия, которое она получала от Чарли.* * *
20:20. Она вошла в комнату Джоя. Они с Питом сидели на полу и играли в «старую деву». — Привет, мам, я выигрываю, — сказал Джой. — Он настоящий карточный шулер, — заметил Пит. — Если об этом узнают в конторе, мне никогда не восстановить свою репутацию. Устроившись в уголке, Чубакка с высунутым языком наблюдал за своим хозяином. Кристина почти поверила, что Чубакка — это Брэнди, что не было никакого обезглавленного тела, что Пит с Фрэнком просто друзья дома и что это обычный мирный вечер. Почти. Но не до конца.* * *
Она прошла в кабинет и села за стол, глядя на два задернутых шторами окна, вслушиваясь в шум дождя. Звук был такой, как будто тысячи людей монотонно и протяжно тянули церковные гимны, но так далеко, что слов было не разобрать, а слышался только мягкий и однообразный гул, сливавшийся в один страстный голос. Она пробовала работать, но не могла сосредоточиться. Тогда взяла с полки книгу, какой-то легкий роман, но не сумела заставить себя прочесть хотя бы строчку. Подумала, не позвонить ли матери: ей необходимо было выплакаться, но она знала, что у Эвелин едва ли найдутся для нее слова сочувствия и утешения. Она пожалела, что нет в живых брата, что нельзя позвонить ему и попросить прийти к ней. Тони уже никогда не будет с ней. Как никогда не будет и отца, и, хотя она почти не помнила его, сейчас она тосковала о нем, как ни разу в жизни. Если бы здесь был Чарли… Несмотря на то что рядом Фрэнк и Пит и человек, чьего имени она не знала, наблюдал за домом из фургончика, она чувствовала себя страшно одинокой. Тупо уставилась на стоявший на столе телефон с определителем номера, и ей захотелось, чтобы сейчас позвонила эта безумная старуха и стала угрожать Джою. По крайней мере у них была бы улика для полиции. Но телефон молчал. Было слышно только, как бушует» за окном гроза. В 20:40 в кабинет зашел Фрэнк Ройтер и, приветливо улыбнувшись, сказал: — Не обращайте на меня внимания, просто делаю обход. Он подошел к одному из двух окон, отвел в сторону портьеру, проверил засов, мгновение вглядывался в темноту, потом вернул портьеру в прежнее положение. Так же как и Пит Локберн, Фрэнк снял пиджак и ходил, закатав рукава. Под левой рукой была кобура. На рукоятку пистолета упал свет и зловеще заиграл на ней. На мгновение Кристине показалось, что в силу необъяснимой подмены реальности фантазией она очутилась в гангстерском боевике тридцатых годов. Фрэнк отодвинул портьеру на втором окне — у него вырвался возглас изумления. Заряд, выпущенный из дробовика, был страшнее раскатов грома. Окно вылетело внутрь. Кристина подскочила на месте: на нее обрушился град окровавленных осколков. Прежде чем Фрэнк успел выхватить оружие, его сбило с ног ударной волной и отбросило назад. С грохотом упал стул. Охранник рухнул на стол прямо перед Кристиной. Лица у него больше не было. Заряд картечи превратил его в сплошное кровавое месиво. На улице выстрелили снова. С потолка посыпалась штукатурка и осколки разбитой вдребезги люстры. Настольная лампа оказалась на полу еще до того, как упал Фрэнк Ройтер. Комната погрузилась в кромешную тьму, лишь узкая полоска света пробивалась из холла через приоткрытую дверь. Изодранные картечью портьеры подхватил ворвавшийся внутрь ветер. Лохмотья развевались в воздухе, словно истлевшие похоронные одежды на трупе в балаганной «комнате смеха». Кристина отчетливо услышала чей-то крик, решила, что это Джой, но крик был женский, и тут до нее дошло, что кричит она сама. Трепало ветром клочья портьер, брызги дождя залетали в комнату. Но не только дождь норовил проникнуть внутрь. Через выбитое окно карабкался убийца Фрэнка Ройтера. Кристина бросилась бежать.Глава 25
Кровь стучала в висках. Охваченную дрожью, с помутившимся от страха сознанием Кристину гнало обостренное чувство смертельной опасности, но двигалась она точно в кошмарном сне, не имея сил преодолеть притупившееся ощущение реальности, изменявшейся как будто в замедленном кино. Кристина кинулась в гостиную. Ее отделяли от цели буквально секунды, но казалось, что между комнатами дома пролегли сотни миль и ее паническое отступление из одной в другую заняло часы. Она была в сознании, и все же ей казалось, что она спит. Все происходило наяву и в то же время — словно в бреду. Когда она достигла гостиной, туда только вбежали Пит Локберн и Джой. Локберн держал револьвер. За ними с поджатым хвостом и настороженно прижатыми ушами появился Чубакка. Он громко лаял. Из входной двери выстрелом с грохотом вышибло замок. Еще летели дверные щепки, когда второй налетчик уже возник в доме. Присев на корточки в прихожей, у входа в гостиную, он прямо перед собой держал дробовик. Глаза были выпучены, лицо побелело — то ли от ярости, то ли от страха, или от того и другого вместе. Невысокий, плотный, с густой черной бородой, на которой блестели капли дождя, он казался заурядным обывателем, непонятно как оказавшимся в такой ситуации. Первой он заметил Кристину и навел на нее ружье. Джой завопил. В ушах у нее зазвенело от сотрясшего комнату грохота, она не сомневалась, что ей пришел конец. Однако оказалось, что конец пришел самому незваному гостю. На его груди проступило и разлилось страшное красное пятно. Пит Локберн выстрелил первым. Он выстрелил еще раз. Теперь кровь брызнула из плеча неизвестного». Дробовик выпал у него из рук, и он отпрянул. Третий заряд угодил в шею, свалив его с ног. Уже мертвого, его занесло назад, он наткнулся на столик, голова откинулась и ударила по зеркалу, оно треснуло, и наконец он рухнул окровавленной бесформенной грудой. Джой бросился в раскрытые объятия Кристины. Она закривила Локберну: — Там еще один! В кабинете… Но было поздно. Убийца Фрэнка Ройтера уже был, в гостиной. Локберн подпрыгнул, развернувшись в воздухе, но опоздал. Нападавший разрядил в него дробовик. Локберна больше не было. Чубакка, не проведя с ними и дня, уже знал, кому принадлежит его преданное сердце. Он оскалил зубы и с глухим рычанием прыгнул на нападавшего, вонзил клыки в левую ногу и с силой сжал челюсти. Человек закричал и, размахнувшись, ударил ретривера прикладом по голове. Пес отрывисто взвизгнул и, сразу обмякнув, распластался на полу. — Нет! — закричал Джой, словно перед ужасом утраты второй собаки меркла смертельная опасность, нависшая над ним самим. Явно перепуганный, незнакомец, всхлипывая от боли, не переставая причитать: «Помоги мне, господи, помоги мне, господи!» — повернул в их сторону двадцатого калибра дробовик. Кристина с удивлением отметила про себя, что, как и тот, бородатый, этот человек не производил впечатления сумасшедшего, дебила или маньяка. Лютая ненависть, управлявшая им сейчас, совсем не вязалась с его внешностью. Это был вполне обычный человек. Молод — лет двадцати с небольшим, чуть полноват, с гладкой веснушчатой кожей и рыжими волосами, мокрыми от Дождя и прилипшими ко лбу. Именно его «нормальность» пугала больше всего: если даже такие под влиянием Грейс Спиви становятся бездушными убийцами, значит, старуха в состоянии совратить каждого, а следовательно — никому нельзя доверять, потому что любого из своих рабов она может превратить в наемного палача. Он спустил курок. Раздался только сухой щелчок. Он забыл, что оба ствола уже пусты. Скуля и подвывая, как будто это над ним нависла смертельная угроза, убийца полез в карман и извлек оттуда пару патронов. Ужас придал Кристине силы. Она схватила Джоя в охапку и побежала. Но не к входной двери, чтобы выскочить на улицу, где — она была уверена — их непременно убьют, а на лестницу, ведшую в спальню — там она оставила свою сумочку: в сумочке был пистолет. Джой судорожно вцепился в нее, но она не ощущала ею веса. В нее на какое-то время вселилась нечеловеческая сила, которая помогла ей взлететь вверх по лестнице. Вдруг, уже на самом верху, она споткнулась и, едва не упав, вскрикнула, вцепившись в перила. Однако нет худа без добра, как раз в тот момент, когда она споткнулась, неизвестный открыл огонь, дуплетом разрядив оба ствола. Картечью в щепки разнесло дубовые перила на лестничной площадке, со стены посыпалась штукатурка. Наверху звякнула разбитая люстра. Не оступись она — и сейчас бы находилась именно там. Пока убийца в очередной раз перезаряжал стволы, Кристина кинулась в холл на втором этаже. На мгновение растерявшись, прижимая к себе Джоя, она бросалась из стороны в сторону, не зная, куда бежать. Это был ее дом, она знала его, как ни одно другое место на земле, но сегодня он был ей чужим. Стены, комнаты, освещение — все изменилось, казалось незнакомым и враждебным. Коридор, к примеру, представлялся бесконечно длинным и каким-то извилистым, как затейливый лабиринт. Она зажмурила глаза, пытаясь избавиться от вызванного паникой наваждения, затем побежала дальше и очутилась перед дверью спальной комнаты. За спиной раздавались шаги поднимавшегося по лестнице убийцы. Прихрамывая на левую ногу, он неотступно следовал за ней. Она влетела в комнату, захлопнула дверь, повернула щеколду и поставила Джоя на пол. Сумочка лежала на ночном столике. Только она схватила ее, тот уже подошел к двери и дернул за ручку. Пальцы не слушались: мгновение она не могла справиться с замком сумочки. Наконец он поддался, и Кристина достала пистолет. Джой забился в угол, спрятавшись за комодом. Он весь съежился, отчего казался еще меньше. Заряд картечи едва не разворотил дверь. Справа в ней зияла дыра. Сорванная с косяка петля пролетела через комнату, отскочила от стены и, дребезжа, упала на туалетный столик. Сжимая пистолет обеими руками, которые предательски дрожали, Кристина подалась вперед, к двери. Вторым выстрелом выбило замок, и дверь завалилась в комнату, держась на одной петле. В дверном проеме возникла фигура убийцы. Молодой, рыжеволосый, он бормотал что-то нечленораздельное и, похоже, был перепуган сильнее самой Кристины. У него тоже дрожали руки. Под носом висела слизь, но он, видимо, не замечал этого. Кристина направила на него пистолет и нажала курок. Выстрела не последовало. Пистолет стоял на предохранителе. Он, похоже, не ожидал, что она будет вооружена. Опять его ружье не было заряжено. Он бросил его и вытащил из-за пояса револьвер. Как будто со стороны она услышала собственный голос: «Нет, нет, нет, нет!», пока неумело возилась с двойным предохранителем. Наконец справилась с ним и снова нажала на спусковой крючок, и еще раз, и еще. Никогда никакие звуки так не радовали ее слух, как эти производимые ею выстрелы, гулко ухающие в стенах ее спальни. Пули попали в него — убийца рухнул на колени, а потом упал лицом вниз, выпустив из безжизненной руки револьвер. Джой плакал. Кристина осторожно приблизилась к бездыханному телу. Ковер, на котором оно лежало, пропитался кровью. Она толкнула убитого ногой. Он был неимоверно тяжелый. Она подошла к двери и выглянула в полутемный холл. Пол был усыпан щепками и осколками люстры. На ковре виднелись пятна крови, которые оставил убийца с прокушенной ногой, кровавый след тянулся до самой лестницы. Она прислушалась. Внизу было тихо: ни звука, ни шороха, ни шагов. Неужели нападавших было только двое? Она подумала о том, сколько патронов осталось в ее пистолете. В магазине десять штук, она стреляла пять раз, значит, осталось еще пять. Рыдания стихли, и она услышала голос Джоя: — М-мамочка? — Ш-ш-ш. Они оба прислушались. Ветер. Раскаты грома. По крыше и оконным стеклам стучит дождь. Четверо убитых в ее доме. Эта внезапная мысль вызвала приступ тошноты. Дом показался ей зловещим кладбищем, где живым не было места. Потревоженные ветром ветки деревьев скреблись о стену. Внутри стояла могильная тишина. Наконец она посмотрела на Джоя. Он был белый, как известь. Волосы прилипли ко лбу, глаза смотрели затравленно. Он прикусил себе губу, и теперь по подбородку и дальше на шею тонкой струйкой стекала кровь. Как всегда при виде его крови, она содрогнулась. Однако эта беда была поправима и не шла в сравнение со всем, что они вынесли. Кладбищенский покой был нарушен. С улицы доносились крики, в них не было гнева, а только страх и любопытство — это соседи наконец осмелились выйти из своих домов. В отдалении завыла сирена.Часть III. ПСЫ
Ни один пособник сатаны не состоит у него на содержании; силы, ему противостоящие, платят жалованье миллионам.Марк Твен
Травят, травят псами, За пятки хватают псы, Гонится смерть за вами, Дух ее чуете вы.«Книга исчислимых скорбей»
Глава 26
Пока полицейские занимались своими делами в доме, Кристина с Джоем сидели на кухне, в одном из немногих помещений, которое не было залито кровью. Никогда еще Кристина не видела так много полицейских сразу. Дом был переполнен людьми в форме, детективами и экспертами в штатском. Был еще полицейский фотограф, коронер и его ассистент. Поначалу она обрадовалась прибытию представителей закона, потому что в их присутствии чувствовала себя в безопасности. Но потом ее осенило — ведь один из них вполне мог оказаться последователем Матери Грейс и членом ее Церкви Сумерек. Эта мысль не показалась ей странной. На самом деле, рассуждая логически, можно было заключить, что для воинствующей религиозной секты, одержимой решимостью насадить свои взгляды в обществе, было бы крайне важно начать с внедрения своих людей в различные правоохранительные службы, а также с обращения в свою веру тех, кто уже работал в таких организациях. Она вспомнила полицейского Уилфорда, заново родившегося в качестве истого христианина, который неодобрительно отозвался о ее речи и манере одеваться. Это натолкнуло ее на мысль о том, не могла ли Мать Грейс сыграть роль повитухи при его «повторных родах». Паранойя. Однако, может быть, в сложившихся обстоятельствах некоторая доля паранойи отнюдь не являлась признаком душевного расстройства, а скорее наоборот, указывала на здоровое желание остаться в живых. По стеклу все так же барабанил дождь, гроза за окном не унималась. Кристина внимательно наблюдала за полицейскими. Она понимала, что прожить оставшуюся жизнь, не доверяя никому, было бы крайне сложно; требовалось быть постоянно настороже, в таком напряжении, что это неминуемо привело бы к полному интеллектуальному и душевному истощению. Все равно что провести жизнь, не сходя с натянутой под куполом проволоки. Но сейчас она не могла позволить себе расслабиться, она бдила, была во всеоружии, ее мускулы стали сжатой пружиной, готовой распрямиться, чтобы поразить первого, чьи действия окажутся угрозой для Джоя. И снова ее удивила эластичность его психики, способность восстанавливать душевное равновесие. К моменту прибытия полицейских он находился в состоянии, напоминающем шоковое. Он закатывал глаза и не желал или не мог говорить. Кровавое зрелище насилия и угроза смерти оставили свой отпечаток, который представлялся неизгладимым. Она понимала, что после такого переживания шрамы не затянутся никогда; с этим оставалось только смириться. Но пугало, что душераздирающие сцены, свидетелем которых он был, вызовут у него ступор или какое-то психическое отклонение. Но постепенно он отходил, а она, стараясь подбодрить его, достала откуда-то электронную игрушку «Рас-Мап» и села играть с ним. Издаваемая игрушкой мелодия и музыкальные сигналы, сопровождавшие игру, выделялись причудливым контрапунктом на фоне мрачной атмосферы убийства и многозначительного процесса расследования. Выздоровлению мальчика способствовало и чудесное исцеление Чубакки после нанесенного ему одним из громил удара прикладом. После него собака потеряла сознание и у нее была рассечена кожа на голове. Однако Кристине быстро удалось остановить легкое кровотечение, прикладывая антисептики. Симптомов сотрясения мозга не было. Теперь пес выглядел почти как прежде, развалившись на полу возле Джоя, время от времени поднимал морду и наблюдал за их игрой, пытаясь сообразить, откуда исходят непонятные звуки. Кристина уже не была так безоговорочно уверена в том, что сходство этой собаки с Брэнди небезвредно для Джоя. Чтобы побороть в его душе ужас и смятение, было необходимо что-то, напоминавшее о другом времени, беззаботном и мирном; кроме того, у него должно быть чувство преемственности, своего рода мост, по которому он без ущерба для психики преодолеет период хаоса. Чубакка, во многом благодаря своему сходству с Брэнди, помогал мальчику в этом. Чарли Гаррисон забегал к ним на кухню каждую минуту. Он приставил к ним двух новых телохранителей. Один из них, Джордж Свартхаут, сейчас сидел на высоком стульчике возле телефона, пил кофе, наблюдал за Джоем, входящими и выходящими полицейскими, за Кристиной, которая, в свою очередь, наблюдала за полицией. Второй, Вине Филдс, был в патио, контролируя подходы к дому со стороны заднего двора. Маловероятно, чтобы люди Грейс Спиви предприняли повторную попытку покушения, когда дом кишел полисменами, но полностью игнорировать такую возможность не следовало. В конце концов, поступки в духе камикадзе были довольно популярны среди религиозных фанатиков. Каждый раз, заходя на кухню, Чарли неизменно шутил с Джоем, играл с ним в «Рас-Мап», чесал Чубакку за ухом и делал все, что было в его силах, чтобы поднять настроение малыша и отвлечь его мысли от кровавой бойни, происшедшей в доме. Когда полицейским потребовалось допросить Кристину, Чарли отправил их в другую комнату, чтобы избавить мальчика от необходимости выслушивать страшные подробности. Они задавали вопросы и Джою, но Чарли умело руководил допросом и свел его к минимуму. Кристина понимала, что Гаррисону нелегко сохранять невозмутимость и доброжелательность, ведь он потерял двух своих людей, которые были не просто его служащими, но и друзьями. Она испытывала благодарность к нему за то, что он ради Джоя тщательно скрывал собственное смятение, тревогу и боль. В одиннадцать, как раз когда Джою надоела игра, Чарли вышел на кухню, пододвинул к столу стул, сел и обратился к Кристине: — Те чемоданы, что вы уложили утром… — Они так и лежат в моей машине. — Я распоряжусь, чтобы их перенесли в мою. Соберите все, что вам может еще понадобиться…, скажем…, на неделю. Мы поедем, как только вы будете готовы. — Куда мы едем? — Я бы предпочел не говорить этого здесь. Насмогут подслушать. Неужели и он тоже подозревал, что среди полисменов может оказаться человек Грейс Спиви? Кристина, угадав у него тот же симптом паранойи, какой обнаружила у себя самой, не могла до конца решить, стало ли ей от этого открытия лучше или наоборот. — Мы спрячемся в каком-нибудь укрытии? — спросил Джой. — Точно, — сказал Чарли. — Именно это мы и предпримем. Джой нахмурил брови: — У ведьмы есть волшебный радар. Она найдет нас. — Только не там, куда мы собираемся ехать, — заверил Чарли. — Я попросил одного волшебника заколдовать это место, так что теперь ей не обнаружить нас. — Да-а? — Джой весь подался вперед, как загипнотизированный. — Ты что, знаешь волшебника? — Ну-ну, не волнуйся, он добрый малый:, — сказал Чарли. — Он не увлекается черной магией или чем-то в этом роде. — Ну, конечно, — сказал мальчик, — не станет же частный сыщик работать со злым волшебником. У Кристины накопилась куча вопросов, но она решила, что задавать их при Джое будет неразумно, потому что это может разрушить его и без того хрупкое душевное равновесие. Она поднялась наверх, где под присмотром коронера выносили тело рыжеволосого убийцы, и собрала еще один чемодан. Спустившись в детскую, уложила вещи Джоя, постояла в нерешительности и стала складывать в отдельную сумку его любимые игрушки. Ее охватило тревожное предчувствие: что, если она никогда больше не увидит этот дом? Кровать Джоя, плакаты на тему «Звездных войн» на стене, коллекция пластиковых роботов и космических кораблей — все эти вещи она видела словно сквозь дымку, как будто все они были не реальными предметами, а запечатленными на фотоснимке. Дотронулась до спинки кровати, провела ладонью по прохладной поверхности ученической доски, стоящей в углу комнаты, — она осязала эти предметы и все же больше не воспринимала их как реальность. Пустота. Холодное, не предвещающее ничего хорошего ощущение пустоты. «Нет, — подумала она. — Я вернусь. Я обязательно вернусь».* * *
Первым в зеленый «Шевроле» отправили Чубакку. Потом вышли они, одетые в плащи, в сопровождении Чарли и его людей. Очутившись под холодным дождем, Кристина зябко поежилась. На улице толпились репортеры, съемочные группы, стояла машина передвижной радиостанции службы новостей. Как только показались Кристина и Джой, заработали вспышки мощных фотокамер, репортеры, расталкивая друг друга, бросились занимать выгодные позиции. Все загалдели одновременно: — Миссис Скавелло… — …прошу вас, минуточку… — …только один вопрос… Она пыталась укрыться от слепящего глаза света. — …кто хочет убить вас и… — …замешаны ли здесь наркотики… Она продолжала идти, крепко держа Джоя за руку. — …вы можете… Толпа вокруг ощетинилась микрофонами. — …можете ли вы сказать… — …будете ли вы… Вспышки фотокамер то и дело выхватывали из калейдоскопа чужих незнакомых лиц какое-нибудь одно, в жутком освещении казавшееся неестественно бледным. — …скажите, что вы чувствуете, пройдя… — Она узнала ведущего десятичасовых новостей с лос-анжелесского кабельного канала. — …скажите… — …что… — …каким образом… — …почему… — …террористы или кто бы это ни был? Дождь заливал за воротник плаща. Джой судорожно сжимал ее руку. Он боялся этих людей. Ей хотелось крикнуть, чтобы они убирались, чтобы они заткнулись. Они обступали их все теснее. Кристине казалось, что она отбивается от своры голодных псов. Затем среди этой сутолоки и гомона замаячило одно лицо, незнакомое и неприветливое. Это было лицо мужчины пятидесяти с лишним лет с седеющими волосами и густыми бровями. В руках у него был револьвер. — Нет! У Кристины перехватило дыхание, страшная тяжесть сдавила грудь. Неужели снова?! Так быстро?! Они не осмелятся на убийство на глазах у стольких свидетелей! Это сумасшествие! Чарли заметил оружие и оттолкнул Кристину с Джоем в сторону. В то же самое мгновение какая-то женщина-репортер тоже увидела пистолет в руке у неизвестного и попыталась его выбить, но только получила пулю в бедро. Сумасшествие. Кто-то завопил, что-то кричали полицейские, потом все, как по команде, упали на мокрую землю, все, кроме Кристины с Джоем, которые опрометью неслись к зеленому «Шевроле», увлекаемые с обеих сторон Винсом Филд; сом и Джорджем Свартхаутом. Они находились в каких-нибудь шести метрах от машины, как вдруг Кристина ощутила резкий толчок в спину и боль пронзила ее левый бок. Она поняла, что ранена, однако даже не оступилась на скользкой от дождя дорожке, а продолжала бежать вперед, хватая ртом воздух. Сердце колотилось так, что каждый удар отдавался мучительной болью. Она не выпускала руку Джоя, не оглядывалась назад, не имея понятия, преследуют ли их, только слышала за спиной выстрелы, а потом чей-то крик: «Давайте сюда «Скорую»!» Она подумала: может, это Чарли пристрелил убийцу? Или наоборот — застрелили Чарли? Эта мысль чуть не заставила ее остановиться, но они уже были у самой машины. Джордж Свартхаут распахнул заднюю дверь и втолкнул их внутрь, где заливался лаем Чубакка. Вине Филдс бежал к дверце водителя, чтобы сесть за руль. — На пол! — закричал Свартхаут. — Лежать! А потом возник Чарли, который навалился на них, закрывая собой точно щитом. Взревел мотор, и машина с визгом рванула с места, унося их прочь от этого дома, в ночную мглу, в проливной дождь, в незнакомый мир, который, окажись это даже далекая планета в чужой галактике, все равно не мог быть столь непримиримо враждебен к ним, как тот, что они оставляли за собой.Глава 27
Кайла Барлоу охватывала дрожь от одной мысли, что он должен сообщить новость Матери Грейс, хотя он предполагал, что ей уже было видение и она все знает. Он вошел в здание церкви и какое-то время стоял, широкими плечами почти перекрывая дверной проем между нортексом и нефом. Гигантский бронзовый крест над алтарем, витражи с изображением библейских сцен, благостный покой и сладкий аромат фимиама — все это придавало ему силы. На скамье во втором ряду слева сидела Грейс. Она была одна. Если она и слышала, как вошел Барлоу, то не подала виду. Ее взор был устремлен на крест. По проходу между рядами Барлоу подошел к ней и опустился на скамью рядом. Грейс шептала молитву. Он подождал, пока она смолкнет, потом сказал: — Вторая попытка тоже провалилась. — Мне это известно. — Что же теперь? — Будем следовать за ними по пятам. — Но где? — Повсюду, — сначала она говорила тихо, едва слышно, почти шепотом, но постепенно голос становился громче, обретая мощь и убежденность, пока зловещее эхо его не покатилось под мрачными сводами нефа. — Они нигде не найдут ни покоя, ни убежища. Они не дождутся от нас пощады. Мы будем безжалостны и неумолимы, бдительны и тверды. Мы будем псами. Гончими псами Всевышнего. Будем хватать их за пятки, прыгать, впиваться зубами в глотки и валить их на землю. Так будет. Рано или поздно, здесь ли, там ли, когда господь того пожелает, мы сокрушим их. Я это знаю. Пока говорила, она неотрывно смотрела на крест, а теперь повернулась к нему, и, как всегда, взгляд ее серых выцветших глаз пронзил его насквозь. — Что я должен делать? — спросил он. — Сейчас ступай домой и ложись спать, чтобы к утру быть готовым. — Разве сегодня вечером мы не будем устраивать облаву? — Сначала их надо найти. — Как? — Бог наставит нас. А теперь ступай. Спать. Голос снова упал до пронзительного шепота, и в нем чувствовалось измождение. — Милый мальчик, я не могу уснуть. Я сплю не больше часа. Потом просыпаюсь, и мне являются видения — с откровениями ангелов, гонцами из царства теней, с тревогой, страхами и надеждой, с короткими прозрениями земли обетованной, с ужасным бременем, возложенным на меня господом. — Она вытерла рукой губы. — Как бы я хотела уснуть! Я жажду сна, жажду утолить все невзгоды и тревоги! Но он так изменил мою природу, чтобы я в течение всего этого кризиса обходилась без сна. Я не могу уснуть, пока это не будет угодно господу. По неведомой мне причине ему угодно, чтобы я бодрствовала, он настаивает на этом, давая мне силы обходиться без сна, он держит меня в напряжении, почти невыносимом напряжении. — Ее голос дрожал, и Барлоу показалось, что дрожь эта вызвана одновременно благоговением и страхом. — Я также скажу тебе, милый Кайл, служить орудием господней воли — это восхитительно и страшно, это опьяняет и изнуряет. Она достала из сумочки носовой платок и высморкалась. Вдруг она заметила, что платок весь в омерзительных буро-желтых пятнах засохшей слизи. — Взгляни, — сказала она, показывая ему носовой платок, — это чудовищно. А ведь я была такая опрятная женщина. Такая чистоплотная. Мой муж — царство ему небесное — всегда говорил, что у нас дома чище, чем в операционной палате. Я очень ревностно следила за тем, как я выгляжу, хорошо одевалась. И у меня никогда не было таких отталкивающих носовых платков, никогда, до того как господь наградил меня этим Даром, одновременно избавив от многих мелких человеческих забот. — На серые глаза навернулись слезы. — Иногда…, мне становится жутко…, да, я благодарна господу за его Дар мне…, благодарна за то, что обрела…, но мне делается жутко из-за того, что я потеряла… Ему хотелось бы понять, что она чувствует в качестве исполнителя божьей воли, но его разуму было неподвластно постичь то состояние души, в котором она пребывала, или проникнуть в природу нечеловеческой силы, управляющей ею. Он не находил что сказать и был подавлен оттого, что не мог утешить ее. — Ступай домой спать, — сказала она. — Возможно, завтра мы уничтожим ребенка.Глава 28
В машине, мчавшейся по мокрым от дождя улицам, Чарли решительно настоял на том, чтобы осмотреть рану Кристины, невзирая на ее заверения, что рана пустяковая. С чувством облегчения он обнаружил, что она права: пуля лишь задела ее, оставив небольшой, сантиметров пять, след над левым бедром. Это скорее был ожог, причиненный горячим металлом, нежели пулевое ранение. Пуля не вошла в тело, и крови было немного. Тем не менее они заехали в ночной магазин и купили спирт, йод и бинты, а Чарли обработал рану, пока Вине выруливал на дорогу. Машина кружила по темным улицам, поливаемым дождем, разворачивалась, петляла, как ночная бабочка, порхающая на одном месте из-за боязни, что в любом другом ее прихлопнут или раздавят. Они предприняли все мыслимые меры предосторожности, пока не убедились, что их не преследуют, и лишь около часа ночи прибыли в Лагуна-Бич, в то самое безопасное место, о котором говорил Чарли. Это был небольшой коттедж, почти бунгало, с видом на океан. Он расположился в середине довольно длинной улицы. С виду несколько старомодный, постройки сорокалетней давности, он содержался в образцовом порядке — решетчатая веранда, узорчатые ставни, стена, до самой крыши увитая бугенвиллеей. В доме было две спальни и ванная. Он принадлежал тетке Генри Рэнкина, которая сейчас отдыхала в Мексике, и о нем ни Грейс Спиви, ни кто-либо другой из ее Церкви пронюхать не могли. Чарли жалел, что они не приехали сюда раньше, что он позволил Кристине с Джоем вернуться домой. Разумеется, он не мог предположить, что Грейс Спиви возьмется за дело так быстро и решительно. Убить собаку — это одно, а пачками отправлять вооруженных дробовиками убийц на кровавые акции в тихом жилом пригороде…, увольте. Но кому могло прийти в голову, что старуха окажется настолько безумна. Он потерял двух своих людей, двух друзей. На душе у него скребли кошки: он мучительно переживал утрату и не мог простить себе их гибели. Он знал Пита Локберна девять лет, Фрэнка Ройтера — шесть и любил их обоих. И хотя понимал, что его вины нет, корил себя, моментами доходя чуть не до грани самоубийства. Не желая еще больше травмировать Кристину, он изо всех сил старался скрывать свою горечь и ярость. Она пребывала в смятении и, похоже, готова была взвалить ответственность за эти убийства на себя. Он пытался убедить ее: и Фрэнк, и Пит знали, что идут на рискованное дело; не обратись она в «Клемет — Гаррисон», сейчас в морг везли бы ее и Джоя, так что она правильно сделала, придя к ним. Однако, несмотря на его доводы, она не могла избавиться от чувства вины. Моросил косой дождь, окрестные холмы окутывала ночная тишина. Джой уснул в машине, и Чарли перенес его в дом. Он положил его на кровать в хозяйской спальне. Мальчик даже не пошевелился, а лишь что-то невнятно пробормотал и тяжело вздохнул. Вместе с Кристиной они раздели его и укрыли одеялом. — Может, ничего, если он сегодня не будет чистить зубы? — озабоченно сказала Кристина. Чарли не смог подавить улыбку, и Кристина, заметив это, подумала о нелепой иронии судьбы: ребенок трижды чудом избежал смерти, а ты все равно беспокоишься о состоянии его зубов. Она покраснела: — Думаю, раз бог избавил его от пуль, он избавит его и от кариеса, верно? — Не сомневаюсь в этом. Чубакка свернулся клубком возле кровати и сладко зевнул. День для него тоже выдался нелегкий. В дверях появилась фигура Винса Филдса. — Какие будут указания, босс? — спросил он. Снова вспомнив Пита и Фрэнка, Чарли на мгновение растерялся. Он отправил их на линию огня. Не хотелось бы отправлять Винса туда же. Разумеется, это нелепо. Не мог же он сказать Винсу, чтобы он спрятался в платяном шкафу, потому что там безопасно. Работа Винса в том и состояла, чтобы быть на линии огня; и Вине это знал, знал это и Чарли, а оба они понимали, что дело Чарли отдавать приказы, независимо от того, какими будут последствия. Так чего же он ждет? Человек или сознательно идет на риск, поступая на эту работу, или у него кишка тонка. Он откашлялся: — Вине, ты должен быть здесь. Вот на этом стуле, у постели. Вине послушно сел. Чарли проводил Кристину на кухню, маленькую и опрятную. Джордж Свартхаут уже приготовил кофе в большом кофейнике. Чарли отправил Джорджа в гостиную наблюдать за улицей, а сам налил кофе себе и Кристине. — Мириам, тетка Генри, любительница коньяка. Хотите капельку с кофе? — Неплохая идея, — сказала Кристина. Чарли достал из буфета возле холодильника бутылку коньяка и добавил в кофе. Они сели напротив друг друга за маленький стол у окна, выходящего в мокрый от дождя сад, где сейчас не было видно ничего, кроме окутывающей его густой тьмы, — Как ваша рана? — поинтересовался Чарли. — Пустяки, саднит — не более. Скажите, что же дальше? Полиция будет проводить аресты? — Они не имеют права. Все нападавшие мертвы. — Но женщина, пославшая их, жива. Она соучастник покушения. Она заговорщица и виновна не меньше других. — У нас нет доказательств, что их направила Грейс Спиви. — Но если все трое состояли членами ее Церкви… — За это можно было бы зацепиться. Вопрос в том, как доказать, что они были членами Церкви. — Можно допросить их знакомых, родственников. — Это полиция наверняка сделает…, если только найдет их знакомых или родственников. — Что вы хотите сказать? — Ни один из трех не имел при себе никаких документов. Ни бумажников, ни кредитных карточек, ни водительских прав — ничего. — Отпечатки пальцев. Их личность можно установить по отпечаткам пальцев. — Разумеется, полиция попробует и этот вариант. Однако если эти люди не служили в армии, не привлекались к уголовной ответственности и никогда не работали в какой-нибудь службе безопасности, где имеют отпечатки пальцев каждого сотрудника, если ничего этого в их послужном списке нет, то их отпечатков просто не будет ни в одном досье. — Выводит, мы можем так никогда и не узнать, кто они? — Возможно и такое. А коль скоро мы не знаем, кто они, то не можем доказать и их связь с Грейс Спиви. Она была озадачена. Потягивая кофе с коньяком, мучительно соображала, какое звено они могли упустить из виду, пытаясь установить связь между убийцами и Церковью Сумерек. Чарли знал, что она попусту теряет время, что Грейс Спиви чрезвычайно осторожна, однако он хотел, чтобы Кристина сама пришла к такому выводу. Наконец она спросила его: — Тот человек, что напал на нас возле дома…, это не тот, который был в белом фургоне? — Нет. В бинокль я видел другого. — Но вдруг он был в этом фургоне, возможно, как пассажир. Вдруг фургон еще там, дальше по улице? — Нет. Полиция уже искала его. Нигде по соседству белый фургон обнаружен не был. Как не обнаружено вообще никакой ниточки, которая могла бы вывести на компанию «Слово Истины» или на Церковь Сумерек. — А их оружие? — Его проверяют. Но я подозреваю, что оно приобретено нелегально, и не вижу, как можно установить личность владельца. Она досадливо поморщилась: — Но ведь мы знаем, что Грейс Спиви угрожала Джою, нам известно, что кто-то из ее людей преследовал нас. Неужели после того, что случилось прошлым вечером, у полиции нет достаточных оснований, чтобы по крайней мере допросить ее? — Они так и сделают. — Когда они это сделают? — Немедленно! Если они уже не допросили ее. Но она будет все отрицать. — За ней будет установлено наблюдение? — Нет. Да это и неразумно. Можно наблюдать за ней, но невозможно следить за каждым членом ее Церкви. У полиции просто нет такого количества людей. Кроме того, это неконституционно. — Значит, мы не продвинулись ни на шаг, — мрачно заключила Кристина. — Нет. Если и не сразу, то через какое-то время трое безымянных, или их оружие, или снимки человека с белым фургоном непременно выведут нас на Грейс Спиви! Это живые люди. Они имеют обыкновение упускать из виду мелочи, совершать ошибки, и мы воспользуемся этим. Им не избежать новых ошибок, и рано или поздно у нас будет достаточно оснований, чтобы привлечь их к ответу. — А пока что? — Пока вы с Джоем затаитесь. — Здесь? — Временно здесь. — Они найдут нас. — Нет. — Найдут, — повторила она с мрачной убежденностью. — Ваше местонахождение неизвестно даже полиции. — Но ваши люди знают. — Мои люди на вашей стороне. Она кивнула. Но он видел, что ее что-то тревожит. Что-то, в чем она боялась признаться, но и не могла утаить. — Что с вами? О чем вы думаете? — настойчиво спросил Чарли. — Что, если предположить, что кто-то из ваших людей принадлежит к Церкви Сумерек? Вопрос вызвал у него замешательство. Он лично подбирал своих людей, доверял им и дорожил ими. — Это невозможно. — Как бы там ни было, но вашему агентству уже приходилось сталкиваться с мадам Спиви. Вы вызволили из секты двух маленьких детей, вырвав их из рук Матери. Меня бы не удивило, если бы после этого Грейс из предосторожности внедрила кого-нибудь в вашу организацию. Она могла обратить в свою веру одного из ваших сотрудников. — Нет. Это невозможно. Когда она попыталась установить контакт с одним из них, он немедленно доложил мне. — Им может оказаться кто-то из новых сотрудников, кто состоял в последователях Спиви еще до своего прихода. Вы нанимали кого-нибудь после операции с детьми? — Несколько человек. Но наши служащие проходят тщательную проверку, прежде чем мы принимаем их на работу. — Свою принадлежность к Церкви можно утаить. — Это довольно сложно. — Я заметила, вы больше не употребляете слово «невозможно». Ему сделалось не по себе. Он привык полагать, что всегда все тщательно продумывал, предусматривая любую неожиданность. Но такая мысль не приходила ему в голову, главным образом потому, что слишком хорошо он знал своих людей, чтобы подозревать, что кто-то из них по слабоволию мог вступить в секту психопатов. Однако людей трудно понять до конца, особенно в наши дни, когда они удивляют вас лишь тем, что перестают удивлять. Он отхлебнул кофе и сказал: — Я поручу Генри Рэнкину заново проверить каждого, кто пришел к нам после дела Спиви. Если мы что-то упустили, Генри докопается до истины. Он знает в этом толк. — Вы уверены, что ему можно доверять? — Боже правый, Кристина, ведь он мне как брат! — Не зарекайтесь. Вспомните историю Каина и Авеля. — Послушайте, Кристина, немного подозрительности, немного мании преследования — это не помешает. Я не против, даже наоборот. Это придаст вам осторожности. Но вы заходите слишком далеко. Необходимо хотя бы кому-то доверять. Вы же не можете заниматься этим делом в одиночку. Она кивнула и задумчиво уставилась на недопитую чашку кофе. — Вы правы. И с моей стороны не очень благородно рассуждать о том, можно ли доверять вашим людям, когда двое из них из-за меня поплатились собственной жизнью. — Они погибли не из-за вас, — возразил Чарли. — Именно из-за меня. — Они просто… — Погибли из-за меня. Он вздохнул и больше ничего не сказал. Она была слишком эмоциональна, чтобы не чувствовать себя до некоторой степени виноватой в смерти Пита Локберна и Фрэнка Ройтера. Ей придется пережить это, так же, как и ему. — Ну, хорошо, — сказала она. — Пока мы с Джоем залегли здесь, что будете делать вы? — Прежде чем уехать из вашего дома, я позвонил в церковь. — В ее церковь? — Да. Ее самой не было. Но я попросил ее секретаршу договориться с ней о встрече на завтра. Она обещала позвонить Генри Рэнкину и сообщить ему, когда мне надлежит явиться. — Отправляетесь ко льву в пасть? — Все это не настолько драматично или опасно. — Что вам даст разговор с ней? — Пока не знаю. Но, по-моему, будет логично сделать такой ход. Она заерзала на стуле, взяла в руку чашку с кофе и, не притронувшись к ней, поставила обратно на стол, затем нервно прикусила верхнюю губу и наконец произнесла: — Боюсь, что… — Что? — Что если вы пойдете к ней…, она выведает у вас, где мы прячемся… — Я не настолько глуп. — Но она может использовать наркотики или прибегнуть к пыткам. — Поверьте, Кристина, я способен постоять за себя и контролировать действия этой старухи и ее безумной своры. Она посмотрела на него долгим испытующим взглядом. У нее были чертовски красивые глаза. Наконец она сказала: — Да, вы способны. Вы способны контролировать их. Я вам очень доверяю, Чарли Гаррисон. Это…, инстинктивное чувство. Мне спокойно с вами. Я знаю — вы толковый малый. Я не сомневаюсь в вас. Честное слово. Но все равно — я боюсь.* * *
В 01:30 человек из «Клемет — Гаррисон» пригнал серый «Мерседес» Чарли к дому в Лагуна-Бич. В 02:05 он устало посмотрел на часы и сказал: — Что ж, похоже, мне пора, — и подошел к раковине, чтобы ополоснуть чашку. Он поставил чашку в сушилку и повернулся. Она стояла у окна рядом с дверью, глядя в сад, обхватив плечи руками. Он подошел к ней: — Кристина? Она обернулась и посмотрела на него. — Как вы себя чувствуете? — спросил он. У нее стучали зубы. Повинуясь безотчетному побуждению, он взял ее за плечи. Она без тени смущения прижалась к нему и положила голову на плечо. Потом она обвила вокруг него руки, и они застыли, прижавшись друг к другу. Никогда ему не было так хорошо, как теперь, когда он обнимал ее. Он чувствовал у себя на щеке ее волосы, ее руки лежали на его спине, они были словно одно целое, ему передавалось ее тепло, он вдыхал ее запах. В этом объятии скрывалось пронзительное наслаждение неизведанного ранее, но Давно желанного переживания и одновременно ровное безмятежное чувство давно возникшей общности. Было трудно поверить, что не прошло еще и дня, как он знает ее. Ему казалось — он давно мечтал о ней, и это было правдой, просто до того, как увидеть ее, он не знал, что Долгие годы мечтал именно о ней. Теперь он мог бы поцеловать ее. Он чувствовал потребность увидеть ее лицо обращенным к нему и прижаться губами к ее губам, и он знал, что она ответит ему. Но он не мог позволить себе большего, чем только стоять, обняв ее, потому что инстинктивно ощущал, что время не подходило для изъявления такого глубокого чувства, которое страстный поцелуй предполагает. Сейчас поцелуй был бы воспринят ею отчасти как реакция на сковывающий ее страх, отчасти как желание ответить на ее неистовую потребность обрести в ком-то опору. Он же мечтал, что впервые поцелует ее, влекомый только любовью и желанием. Он хотел, чтобы их отношения начались именно с этого. Когда он отпустил ее, она казалась смущенной. Застенчиво улыбнувшись, сказала: — Прошу прощения. Совсем не предполагала, что так расклеюсь. Я знаю — я должна быть сильной. В моей ситуации не остается места для слабости. — Вздор, — мягко сказал он. — Мне самому хотелось обнять вас. — В самом деле? — Каждому иногда бывает нужен плюшевый мишка. Она улыбнулась. Ему страшно не хотелось оставлять ее. Всю дорогу к машине, пока ветер трепал полы его плаща, он думал о том, что хочет вернуться к ней, хочет сказать ей, что между ними произошло нечто особенное, что не случается так быстро, если только это не кино, а реальная жизнь. Он хотел сказать ей это сейчас, пусть даже время было неподходящим, потому, что, несмотря на все его ободряющие слова, он не мог знать наверняка, справится ли с Грейс Спиви и с ее ненормальной командой, и потому, что существовала — пусть ничтожная — вероятность того, что он никогда больше не увидит Кристину Скавелло.* * *
Он жил в районе Норт-Тустин-Хиллз и был на полпути к дому, проезжая по пустынному шоссе Ирвин, когда события последних часов, мысли о Фрэнке Ройтере и Пите Локберне одолели его и у него внезапно перехватило дыхание. Пришлось съехать на обочину и остановиться. По одну сторону шоссе росли апельсиновые рощи, по другую тянулись поля клубники, и повсюду стояла кромешная тьма. На дороге в это время никого не было. Откинувшись на сиденье, он смотрел на усеянное брызгами дождя лобовое стекло, на котором струйки воды, переливаясь бликами вторично отраженного света фар, создавали приделанные, недолговечные узоры, тут же смываемые монотонно работающими «дворниками». Сознание того, что человеческая жизнь может быть смыта, стерта так же внезапно, как рисунки на стекле, — сознание этого обескураживало и угнетало. По лицу его текли слезы. За все время существования агентства «Клемет — Гаррисон» лишь один его сотрудник погиб во время исполнения служебных обязанностей. Он попал в автомобильную катастрофу в рабочее время, хотя это и не было напрямую связано с его службой и могло случиться в любой другой момент. Были и такие, в которых стреляли, стреляли большей частью бывшие мужья, продолжавшие отравлять жизнь женам, невзирая на постановление суда о разводе. Случалось, что и избивали. Но до сих пор, слава богу, обходилось без жертв. В частном сыске насилия и опасностей много меньше, чем привыкли видеть теле- и кинозрители. Разумеется, зачастую с вами могут обойтись грубо, а вы в свою очередь ведете себя грубо с кем-то другим; насилие всегда потенциально присутствует, но реализуется этот потенциал весьма редко. Чарли не опасался за свою жизнь, он опасался за жизнь своих людей, тех, кто работал на него и зависел от него. И, возможно, взявшись за этот случай, он тем самым втянул их в нехорошее дело, не имея на то морального права. Не выходило ли так, что, подписав контракт с Кристиной Скавелло о ее охране, он подписал смертный приговор себе и своим помощникам? Кто знает, чего можно ожидать от религиозных фанатиков? Кто знает, на что они могут решиться? С другой стороны, все работавшие с ним знали, на что шли, даже если, как правило, и рассчитывали на большее, чем в данном случае, везение. А что это было бы за детективное агентство, что это были бы за детективы, отступись они от первого встретившегося им по-настоящему сложного и опасного дела? И он не мог отказаться от слова, данного им Кристине Скавелло. Кем он предстанет в собственных глазах, если оставит ее беззащитной? К тому же для него становилось все более очевидным, что он влюблен в нее, и он не мог, да и не хотел бороться со своим чувством. Несмотря на шум дождя и мерный перестук «дворников» на стекле, казалось, что по ту сторону запотевших от гнетущей влажности окон машины разлита слишком тяжелая, невыносимая тишина. Ночи недоставало значимых звуков, те, что наполняли ее, были беспорядочными, случайными звуками грозы, и сама их случайность наталкивала на мысль о разверзшейся бездне хаоса, где, собственно, и протекает жизнь — и его и всех остальных. Думать об этом сейчас не хотелось. Он выехал на дорогу, выжал газ и, подняв, фонтан брызг, помчался вперед.Глава 29
Кристина не надеялась, что сможет заснуть. Она вытянулась на постели рядом со спавшим мертвым сном Джоем, рассчитывая просто отдохнуть, лежа с закрытыми глазами, пока он не проснется. Но ее мгновенно сморило. Среди ночи она проснулась и поняла, что дождь перестал. Стояла звенящая тишина. В углу мягким теплым светом горела настольная лампа под перламутровым абажуром. Джордж Свартхаут сидел на стуле и читал журнал. Она хотела заговорить с ним, но не было сил не только встать, но даже открыть рот. Закрыла глаза, и ее снова унесло в темноту. Проспав всего четыре с половиной часа, она окончательно проснулась. Голова гудела, еще не было и семи, Джой тихо посапывал. Она оставила его под присмотром Джорджа, а сама отправилась в ванную. Встала под душ и неожиданно вздрогнула, когда горячая вода попала на еще не зажившую рану, причинив саднящую боль. Вытершись насухо и сменив повязку, она уже одевалась, как вдруг сердце замерло: с Джоем что-то случилось, в этот самый момент, какая-то страшная беда, она почувствовала неладное. Ей даже показалось, что сквозь шум кондиционера в ванной до нее донесся его крик. Боже, только не это! Сейчас там в спальне какой-нибудь маньяк, из тех, что потрясают Библией, убивает его, рубит на куски. Сердце екнуло, по телу побежали мурашки — несмотря на гул кондиционера, она могла поклясться, что слышит другой звук, как будто глухие удары дубинкой. Они, должно быть, избивают его, режут и избивают; крик застрял у нее в горле — она знала, знала: Джой мертв — боже! — и в безумной панике, застегнув «молнию» на джинсах и не успев заправить блузку, босиком, с развевающимися прядями мокрых волос бросилась вон из ванной. Все это было не больше чем ее воображение. С мальчиком ничего не случилось. Он уже не спал, а сидел на постели и как завороженный слушал сказку о волшебном попугае и сиамском короле, которую рассказывал Джордж.* * *
Беспокоясь, что ее мать узнает о случившемся по радио или прочитает в газетах, Кристина решила позвонить ей, но позже об этом пожалела. Эвелин внимательно выслушала, изобразила приличествующее случаю потрясение, но вместо того, чтобы выразить сочувствие, устроила форменный допрос, чем удивила и разозлила Кристину. — Что ты сделала этим людям? — хотела знать Эвелин. — Каким людям? — Этим, из Церкви. — Мама, я ничего не сделала этим людям. Это они хотят что-то сделать с нами. Разве ты не слышала, что я тебе говорила? — Без всякой причины они не стали бы этого делать, — сказала Эвелин. — Это сумасшедшие, мама. — Не могут же все быть сумасшедшими, целая Церковь народу одновременно. — К сожалению, это так. Это плохие люди, мама, очень плохие. — Не могут же все сразу быть плохими. Тем более такие религиозные люди, как эти. Не будут же они преследовать вас ради простого удовольствия. — Я уже говорила тебе, почему они преследуют нас. Они вбили себе в голову, что Джой… — Это ты мне говорила, — прервала Эвелин. — Но дело, должно быть, не в этом. Поверь мне, должно быть что-то другое. Ты, очевидно, сделала что-то такое, что вызвало их гнев. Но даже если допустить, что ты прогневала их, я уверена — они не хотят никого убивать. — Мама, я же сказала тебе — у них было оружие, погибли люди… — Значит, это были люди не из этой Церкви, — сказала Эвелин. — Ты все перепутала. Это кто-то другой. — Мама, я ничего не перепутала. Я… — Служители Церкви не носят оружия, Кристина. — Служители этой Церкви носят оружие. — Это кто-то другой, — настаивала Эвелин. — Но ведь… — У тебя всегда было предвзятое отношение к религии, — сказала Эвелин. — Предвзятое отношение к церкви. — Мама, у меня нет никакого предубеждения против… — Именно поэтому ты с такой готовностью обвиняешь во всем верующих, тогда как очевидно, что это не их рук дело, а может, каких-нибудь политических террористов, из тех, что вечно мелькают в новостях, или ты сама впуталась куда не следует. Кристина, признайся, ты в чем-то замешана? Это связано с наркотиками? Как показывают по телевизору, из-за них все вечно стреляют друг в друга. Ответь мне, Кристина! Ей показалось, что из глубины доносится монотонное тиканье дедушкиных часов. Внезапно ей стало трудно дышать. Разговор продолжался в том же духе, пока Кристине не надоело. Сказала, что ей надо уходить, и повесила трубку, прежде чем на другом конце успели что-то возразить. Мать даже не сказала: «Я люблю тебя», — или «Будь осторожна», или «Я сделаю для вас все, что смогу». Точно у нее и не было матери. Что до отношений между ними, то их действительно не было.* * *
В половине восьмого Кристина приготовила всем завтрак. Вскоре снова пошел дождь. Это нельзя было назвать утром: серый, тусклый свет и низкие, мрачные тучи — разверзшиеся хляби небесные. Туман висел клочьями, и было ясно, что без солнца он уже не рассеется и к вечеру окутает землю сплошной непроглядной пеленой. Стояла пора, когда ураганы, приходящие с Тихого океана, беспощадной грядой обрушиваются на побережье Калифорнии, терзая прибрежные районы до тех пор, пока ручьи и водоемы не вспучатся и не выйдут из берегов, а на холмах не возникнут оползни, увлекая на дно каньонов жилые дома. Похоже, именно такая цепь ураганов и надвигалась сейчас на них. При мысли о наступающей полосе долгого ненастья угроза, исходящая от Церкви Сумерек, казалась еще более зловещей. С приходом зимних дождей улицы затопляли потоки воды, автострады были запружены транспортом настолько, что возникали гигантские пробки, движение парализовывало. Калифорния словно сжималась, отступая перед горами, которые, стягиваясь к побережью, все больше сужали живую полоску земли, отделяющую их от океана. В разгар сезона дождей в Калифорнии витал призрак клаустрофобии, об этом нельзя было прочитать в туристических проспектах, этого нельзя было увидеть на почтовых открытках. В такую погоду Кристина всегда чувствовала себя попавшей в западню, даже если ее и не преследовала хорошо вооруженная армия маньяков. Кристина отнесла яичницу с беконом Винсу Филдсу, дежурившему у входной двери, и поинтересовалась: — Вы оба, должно быть, устали. Сколько времени вы можете не спать? Поблагодарив ее за завтрак, Филдс взглянул на часы и сказал: — Нам осталось около часа. Новая команда прибудет к десяти. Разумеется. Новая команда. Свежая смена. Этого следовало ожидать, но она не хотела об этом думать. Она уже привыкла к Винсу и Джорджу и доверяла им. Окажись один из них членом Церкви Сумерек, ее с Джоем уже не было бы в живых. Она не хотела, чтобы они уходили, но они не могли стоять на посту вечно. Глупо было с ее стороны не понимать этого. Теперь приходилось думать о тех, кто придет им на смену, ведь среди них мог оказаться тот, кто с потрохами продался Грейс Спиви. Она вернулась на кухню. Джой и Джордж Свартхаут завтракали за полукруглым сосновым столиком, за которым могло разместиться только три человека. Она села, но аппетит уже пропал. Поковыряв вилкой в тарелке, она сказала: — Джордж, а следующая смена охраны… — Скоро будет здесь, — сказал он, заедая яичницу поджаренным хлебом. — А вам известно, кого Чарли…, мистер Гаррисон пришлет к нам? — Их имена? — Да, имена. — Нет. Там несколько ребят. Кто-то из них. А что? Она не могла объяснить почему, но ей было бы спокойнее, если бы она знала их имена. Кристина была незнакома с персоналом агентства, и фамилии вряд ли что-нибудь сказали бы ей, ведь по ним не определить, является тот или другой лазутчиком Грейс Спиви или нет. Это было неразумно. — Если вы знаете кого-то из наших и хотите, чтобы они дежурили здесь, вам надо сообщить об этом мистеру Гаррисону, — сказал Джордж. — Нет-нет. Я ни с кем не знакома. Просто…, впрочем… это неважно. Джой, почувствовав причину ее страха, перестал дразнить Чубакку кусочком бекона и положил маленькую ладошку Кристине на руку, как бы стараясь подбодрить ее, подражая манере, которую успел подметить в Чарли. — Не расстраивайся, мам, — сказал он. — Они будут хорошие ребята. Чарли присылает только хороших ребят. — Самых лучших, — согласился Джордж. Обернувшись к Джорджу, Джой попросил: — Слушай, расскажи маме про говорящего жирафа и про принцессу, у которой не было лошади. — Сомневаюсь, что твоя мама любит такие истории, — улыбаясь, сказал Джордж. — Тогда расскажи еще раз мне, — не унимался Джой. — Пожалуйста. Пока Джордж рассказывал сказку, скорее всего своего собственного сочинения, Кристина задумчиво смотрела в окно: где-то там, сквозь дождь уже ехали два очередных охранника из агентства Чарли, и у нее почти не оставалось сомнений, что один из них окажется последователем этой гадины Спиви. Паранойя. Она понимала, что отчасти ее проблема чисто психологического характера. Чарли предупреждал ее, чтобы она не порола горячку. Ни Джою, ни ей самой не станет легче, если она начнет шарахаться от собственной тени. Все дело в проклятой, мерзкой погоде, обрушившейся на них, в бесконечном дожде и в окутывающем, будто саваном, тумане. Ей казалось, что она в западне, что она задыхается, — ее воображение вырабатывало свои ресурсы. Она понимала все. Но это уже не имело значения. Она не могла рассеять свой страх уговорами. Она знала: произойдет нечто страшное, когда два этих новых человека будут здесь.Глава 30
Во вторник в восемь часов утра Чарли встретился с Генри Рэнкином у Церкви Сумерек, строгого здания в испанском колониальном стиле с витражами в окнах, красной черепичной крышей, двумя звонницами и широким лестничным маршем, ведущим к шести массивным дубовым дверям, украшенным ручной резьбой. Лил дождь, и потоки воды устремлялись вниз по лестнице на потрескавшийся, разбитый тротуар, образовывая грязные лужи. Церковь давно не штукатурили, а двери нуждались в покраске, от здания веяло ветхостью и запущенностью, что, впрочем, вполне гармонировало с окрестными кварталами, десятилетия пребывавшими в полном упадке. Когда-то церковь принадлежала пресвитерианской общине, которая впоследствии оставила ее, переехав чуть дальше к северу, в район, где велось новое строительство и не было такого обилия заброшенных магазинов, порнографических салонов, прогоревших ресторанов и закусочных, разваливающихся домов. — Неважно выглядишь, — сказал Генри. Он стоял на тротуаре, у самых ступеней, под большим черным зонтом. Когда Чарли под таким же зонтом подошел к нему, на лице Рэнкина появилось озабоченное выражение. — Не спал до половины четвертого, — объяснил Чарльз свой помятый вид. — Я хотел назначить встречу попозже, — сказал Генри, — но это единственное время, когда она готова принять нас. — Ничего страшного. Будь у меня больше времени, я просто валялся бы в постели, глазея в потолок. Полиция допрашивала ее прошлым вечером? Генри кивнул: — С утра я разговаривал с лейтенантом Кареллой. Они побывали у мадам Спиви — она все отрицала. — И они поверили ей? — У них есть подозрения, хотя бы потому, что уже имели дело с такого рода сектами. Каждый раз, когда проезжала машина, из-под колес слышался как будто змеиный шорох. — Удалось ли установить личности троих убитых? — Пока нет. Что касается оружия, номера значились в составе груза, два года назад отправленного одним Нью-Йоркским оптовиком в розничную сеть на Юго-Западе. До места назначения груз так и не дошел. Похищен по дороге. Так что это оружие было приобретено на черном рынке. Ни продавца, ни покупателя установить невозможно. — Они ловко заметают следы, — заметил Чарли. Пора было идти. Чарли не очень-то рассчитывал на эту встречу. У него не хватало терпения выслушивать язык психопатического бреда, на котором зачастую изъяснялись такого рода сектанты. Кроме того, после вчерашнего возможно все, что угодно: такие не остановятся перед убийством даже у себя дома. Он оглянулся и посмотрел на свою машину. За рулем сидел Картер Рилбек. Он должен ждать их в течение получаса и в случае, если они не выйдут, прислать подмогу. Под пиджаками у Чарли и Генри были револьверы. Дом священника располагался слева от церкви, в глубине неухоженного дворика между двумя коралловыми деревьями, которые давно никто не подрезал. Перед домом рос запущенный кустарник. Как и само здание церкви, дом священника нуждался в ремонте. Чарли подумал: раз конец света для тебя вопрос решенный, то уже не очень заботишься о таких мелочах, как уход за садом или покраска дома Половицы на террасе скрипели, а дверной звонок издал тонкий, дребезжащий звук скорее животного происхождения, нежели механического. Занавески на дверном стекле сдвинулись, и за ним появилось одутловатое, с нездоровым румянцем и зелеными навыкате глазами лицо тучной женщины. Она долго пристально изучала их, потом занавеска вернулась на место, щелкнул замок, и их впустили в грязную переднюю. Когда дверь за ними закрылась, оставив за собой шелест дождя, Чарли сказал: — Мое имя… — Мне известно, кто вы такие, — отрезала женщина и повела их по коридору, где справа находилась дверь в залу. Дверь была приоткрыта, женщина распахнула ее настежь, показывая, что можно войти. Вместе с ними не зашла и не объявила об их приходе, предоставив это им самим. Очевидно, причудливыми правилами этикета, замешанными на христианских догматах и апокалиптических пророчествах, которым следовали поклонники Спиви, соблюдение элементарной вежливости не предусматривалось. Они очутились в комнате метров шести в длину и пяти в ширину, обставленной дешевой мебелью, которой к тому же было очень немного. Вдоль одной стенытянулись полки с картотекой. В центре стоял металлический столик с тремя складными, металлическими же, стульями, на нем — дамская сумочка да еще пепельница. Больше в комнате ничего не было: ни штор на окнах, ни шкафов или столов, никаких безделушек. От желтоватого тления единственной висевшей под потолком лампочки в сочетании с сумеречно-серым светом, проникавшим сквозь высокие окна, возникало ощущение, что находишься в палате психиатрической лечебницы. Но больше всего поражало полное отсутствие предметов культа: ни изображений Христа, ни пластмассовых статуэток святых или ангелов, ничего, что несло бы религиозный смысл, никаких сакральных предметов или поделок, отдающих китчем — в зависимости от того, как к этому относиться, — словом, ничего из того, что рассчитываешь увидеть в среде сектантов-фанатиков. Нигде в доме не были заметны признаки, которые указывали бы на религиозность его хозяев. Грейс Спиви стояла спиной к ним в дальнем конце комнаты и смотрела в мокрое от дождя окно. Генри кашлянул, давая понять, что она не одна. Она не шевелилась. — Миссис Спиви? — промолвил Чарли. Наконец она повернулась к ним. Сегодня на ней было все желтое: палевая блузка, канареечный шарфик в крапинку, темно-желтая юбка, желтые башмаки. На руках браслеты желтого металла и штук шесть таких же перстней с желтыми камнями. Эффект достигался совершенно нелепый. Яркость ее нарядов лишь подчеркивала нездоровую бледность рыхлого лица и дряблость покрытой старческими пятнами кожи. Создавалось впечатление, что она, по причине нередкого у людей преклонных лет маразма, вдруг возомнила себя двенадцатилетней девочкой, собирающейся на день рождения к подружке. Седые космы зловеще торчали, но еще более зловещим был взгляд ее серых глаз, хищный и завораживающий. Странное оцепенение сковывало ее фигуру: она стояла, вобрав голову в плечи, прижимая к бедрам сжатые в кулаки руки. — Мое имя Чарльз Гаррисон, — представился Чарли, который никогда прежде не видел эту женщину, — а это — мой помощник, мистер Рэнкин. Она, нетвердо держась на ногах, словно пьяная, сделала два шага от окна. Лицо подрагивало, еще больше побелев. У нее вырвался крик боли, и она, едва не упав, остановилась, раскачиваясь из стороны в сторону, как будто пол уходил из-под ног. — Вам плохо? — спросил Чарли. — Вам придется мне помочь, — сказала она. Ничего подобного он не ожидал. Он рассчитывал увидеть сильную женщину, властную, магнетической силы личность, которая постаралась бы с самого начала вывести их из равновесия. А вместо этого она сама вышла из равновесия, причем в самом буквальном смысле. Сейчас она стояла в полусогнутом положении, словно скорчившись от боли, и все в том же судорожном оцепенении со сжатыми в кулаки руками. Чарли и Генри приблизились к ней. — Помогите мне дойти до того стула, пока я не упала, — слабым голосом произнесла она. — Это все ноги. Чарли посмотрел вниз и содрогнулся. На ее ступнях была кровь. Они взяли Спиви под руки и почти отнесли к стоявшему за столиком металлическому стулу. Когда они усаживали ее на стул, Чарли увидел у нее на ногах, прямо над язычком башмаков, кровавые раны, совершенно похожие между собой, нанесенные каким-то острым предметом, вроде пестика для колки льда. — Надо вызвать врача, — предложил Чарли, внутренне смутившись оттого, что ему приходилось проявлять к ней участие. — Нет, — сказала она. — Не надо никакого врача. Пожалуйста, садитесь. — Но… — Все пройдет. Все будет хорошо. Бог надзирает за мной, он милостив ко мне. Садитесь. Прошу вас. Обескураженные, они обошли стол, чтобы занять два стула, стоявшие прямо напротив нее, но не успели сесть, как старуха, разжав кулаки, протянула к ним ладони. — Смотрите, — вымолвила она повелительным шепотом. — Смотрите на это! Воззрите! Так и не успев сесть, они остолбенели от чудовищного зрелища. На обеих ладонях зияли такие же кровоточащие раны, как и на ступнях. Чарли с ужасом заметил, что кровь потекла быстрее прежнего. Невероятно — на губах старухи играла улыбка! Он взглянул на Генри и увидел в его глазах тот же немой вопрос, который задавал сам себе: что за чертовщина здесь происходит? — Это для вас, — старуха явно была возбуждена. Подавшись вперед, она протянула руки через стол, обратив к ним ладони, всем видом своим побуждая их смотреть. — Для нас? — произнес Генри в недоумении. — Что вы хотите сказать? — Знамение, — сказала она. — Знамение? — Святое знамение. Чарли уставился на обращенные к нему ладони. — Стигмы. Боже правый. Да ее место — в психушке. Чарли почувствовал, как по спине пробежал холодок. — Это раны Христа, — сказала она. «Куда мы попали?» — пытался сообразить Чарли. — Я все-таки вызову врача, — еще раз предложил Генри. — Нет, — сказала она мягко, но в то же время тоном, не терпящим возражений. — Да, эти раны болят, но это сладкая боль, блаженная боль, боль очищения; эти раны не вызывают заражения, они затягиваются сами. Неужели вы не понимаете? Это стигматы Христа, следы от гвоздей, которыми его прибивали к кресту. Она безумна, подумал Чарли и с беспокойством посмотрел на дверь, прикидывая, куда могла уйти женщина с одутловатым лицом. Хочет привести сюда других ненормальных, чтобы сколотить бригаду смерти и устроить человеческое жертвоприношение? И у них хватает наглости называть себя христианами! — Я знаю, о чем вы сейчас думаете, — голос Грейс Спиди звучал уже громче, набирая силу. — В ваших глазах я не похожа на пророка. Вам кажется, что бог не будет творить свой промысел посредством такой сумасшедшей старухи, как я. Но он творит именно так. Христос любит изгоев, привечает прокаженных, развращенных, нечистых на руку, убогих и юродивых и посылает их нести его слово миру. А знаете почему? Вы знаете почему? Теперь голос ее разносился по всей комнате, напомнив Чарли одного телепроповедника, который своей речью гипнотизировал аудиторию, обладая к тому же даром перевоплощения под стать хорошему актеру. — Знаете ли вы, почему господь набирает пророков своих среди самых отверженных? — не унималась она. — Да потому, что он хочет испытать вас. Любой легко поверит проповедям благообразного пастора с лицом Роберта Рэдфорда и голосом Ричарда Бертона! Но только праведники, только те, кто душой принимает его Слово…, только те, кто воистину верит, узнают и примут его Слово, независимо от того, чьи уста его изрекают! На стол капала кровь. От звука голоса дрожали стекла. — Господь проверяет вас. Слышите ли вы послание его вопреки всему, что вы думаете о пророке его? Чиста ли душа ваша, чтобы слышать? Или душа ваша — тлен и вы — глухи? Они оба точно онемели. Ее тирада завораживала, лишая дара речи и приковывая внимание. — Слушайте, слушайте, слушайте! — настойчиво повторяла она. — Внимайте тому, что я говорю вам. Эти стигмы были посланы мне богом в тот самый момент, когда вы позвонили в дверь. Он послал вам знамение, и это может означать только одно: вы еще не заложили душу дьяволу, и господь предоставляет вам шанс искупить грехи ваши и спастись. По-видимому, вы не отдаете себе отчета в том, кто эта женщина и кто такой ее ребенок. Если бы вы знали это, но по-прежнему защищали их, бог не предлагал бы вам сейчас искупления. Вы знаете, кто они такие? Знаете? Чарли откашлялся, словно освобождаясь от охватившего его легкого смятения. — Мне известно, кем вы их считаете, — сказал он. — Дело не в том, что я считаю. Дело в том, что я знаю. Бог сказал мне об этом. Мальчишка — Антихрист, а его мать — черная Мадонна. Чарли не ожидал такой откровенности, будучи уверен, что она будет отрицать всякий интерес к Джою, как делала это, когда ее допрашивала полиция. Прямолинейность настораживала, но он пока не знал, как к этому отнестись. — Я знаю, вы не записываете наш разговор, — сказала Грейс. — У нас имеются детекторы, которые обнаружили бы включенный магнитофон, и мне было бы известно об этом. Сейчас я могу быть откровенной с вами. Мальчишка пришел в мир, чтобы установить свое тысячелетнее царство. — Но ведь он всего лишь ребенок, — сказал Чарли, — обыкновенный шестилетний ребенок. — Нет, — сказала она, держа руки ладонями вверх, чтобы была видна сочившаяся из ран кровь. — Он гораздо хуже. И он должен умереть. Мы должны уничтожить его. Такова воля божья. — Вы действительно имеете в виду… — Теперь, когда вам это известно, когда бог явил вам истину, вы не должны больше защищать их. — Они мои клиенты, — сказал Чарли. — Я… — Если вы будете упорствовать, бог проклянет вас, — с тревогой говорила старуха, убеждая их спасти свои души. — Мы связаны обязательствами… — Проклятье, неужели вы не понимаете? Вы будете гореть в аду. Вы лишаете себя последней надежды. Вы обрекаете себя на вечные страдания. Вы должны слушать и учиться. Он заглянул в ее возбужденные глаза, в которых горела неистовая одержимость. К чувству жалости примешивалось чувство отвращения, и он не мог и не хотел вступать с ней в дискуссию. Он понял, что приходить сюда не имело смысла. С этой женщиной невозможно объясниться с позиций здравого смысла. Теперь он боялся за Кристину и Джоя больше, чем прошлой ночью, когда один из соратников Грейс Спиви стрелял в них. Она воздела вверх свои окровавленные ладони: — Его знамение явлено вам, вам, чтобы вы убедились, что я истинный посланник божий. Вы видите? Вы верите теперь? Вы понимаете? — Вам не следовало делать этого, миссис Спиви. Вы зря теряете время, рассчитывая найти в нашем лице легковерных простаков. По лицу ее пробежала тень, она вновь сжала кулаки. — Если вы проделали это ржавым или грязным гвоздем, советую вам немедленно пойти к врачу и сделать прививку против столбняка. Это очень серьезно, — сказал Чарли. — Вы потеряны для меня, — сказала она категорическим тоном и положила руки на стол. — Я пришел, чтобы попытаться убедить вас, — сказал Чарли. — Теперь я вижу, что это невозможно. Поэтому мне остается только предупредить вас… — Вы служите сатане. У вас был шанс… — …Если вы не отступитесь… — …и вы не воспользовались этим шансом… — …если вы не оставите семью Скавелло в покое… — …и теперь дорого заплатите за это! — …я буду копать под вас, несмотря ни на какой ад или всемирный потоп, пока вы не окажетесь на скамье подсудимых, а вашу Церковь не лишат положенных ей налоговых льгот, пока у вашей паствы не откроются глаза, пока не раздавлю вашу безумную секту. Я заявляю это со всей серьезностью. Я могу быть безжалостным и решительным не меньше вашего. Я уничтожу вас. Остановитесь, пока не поздно. Она молча смотрела на него. — Миссис Спиви, мы можем рассчитывать, что вы положите конец этому сумасшествию? — обратился к ней Генри. Она не ответила. Лишь опустила глаза. — Миссис Спиви? Ответа не было. — Довольно, Генри. Пойдем отсюда. Когда они подошли к двери, она отворилась, и огромный детина, пригнув голову, чтобы не задеть за притолоку, вошел в комнату. За два метра ростом, лицо как из кошмарного сна, он казался не правдоподобным. «Такие бывают только в фильмах ужасов», — подумал Чарли. Он походил на Франкенштейна с накачанным телом Конана — героя Шварценеггера, — убогое детище плохого сценария и скудного бюджета. Гигант увидел слезы на глазах Грейс Спиви, и лицо его исказило выражение отчаяния и гнева, от которого кровь стыла в жилах. Он протянул руку, схватил Чарли за шиворот и едва не оторвал от пола. Генри потянулся за пистолетом, но Чарли остановил его: — Подожди, не надо, — считая, что ситуация хотя и была критической, еще не вышла из-под контроля. — Что вы ей сделали? Что вы сделали? — спрашивал гигант. — Ничего, — сказал Чарли, — мы… — Отпусти их, Кайл, — сказала старуха. — Пусть идут. Великан колебался. Глаза его, словно светящиеся глубоководные чудовища, взирали на Чарли с такой неумолимой яростью, от которой содрогнулся бы сам дьявол. Наконец он отпустил Чарли и грузно зашагал к столу, за которым сидела женщина. Он заметил кровь на руках Грейс и снова повернулся к Чарли. — Она сделала это сама, — объяснил тот, ретируясь к двери. Ему не нравились заискивающие интонации собственного голоса, но в этот момент было не до гордости. Сейчас связываться с этим детиной было бы неразумно. — Мы и пальцем ее не тронули. — Отпусти их, — повторила Грейс Спиви. — Убирайтесь, живо, — произнес гигант низким угрожающим голосом. Чарли и Генри поспешно ретировались. Возле входной двери стояла та самая женщина с одутловатым лицом и глазами навыкате, она отворила дверь и, как только они оказались на крыльце, с грохотом захлопнула ее и закрыла на замок. Чарли не стал прятаться под зонт, а, напротив, поднял голову, подставляя лицо дождю, чтобы смыть всю грязь, которая, как ему казалось, прилипла к нему в этом сумасшедшем доме. — Да поможет нам бог, — сказал Генри. Его голос дрожал от волнения. Они вышли на улицу. Потоки воды, пенясь, устремлялись к водостоку, образуя на перекрестке грязно-бурое озеро, по которому ветер гонял целую флотилию из мусора и щепок. Чарли обернулся и посмотрел на дом, из которого только что вышел. Казалось очевидным, что царившие в нем грязь и разложение — это не просто упадок, а отражение нравов обитателей дома. В его представлении покрытые слоем грязи стекла, облетающая краска, просевшее крыльцо и потрескавшаяся штукатурка отражали не просто небрежение, но служили материальным воплощением человеческого безумия. В детстве он любил научно-популярную фантастику, время от времени читал ее и сейчас, и, может быть, поэтому вспомнил о законе энтропии, согласно которому Вселенная движется в одном направлении — к загниванию, упадку, разложению и хаосу. Создавалось впечатление, что Церковь Сумерек, пропагандируя откровенное безумие и хаос, увидела в энтропии высшее выражение божественной сущности. Ему стало страшно.Глава 31
После завтрака Кристина позвонила Вэл Гарднер и еще нескольким приятельницам и сообщила, что у них с. Джоем все хорошо, однако не упомянула, где они находятся. Благодаря Церкви Сумерек она уже не доверяла полностью своим друзьям, даже Вэл, и очень сожалела об этом. Она закончила с телефонными звонками, когда на смену Винсу и Джорджу прибыли два новых телохранителя. Один, Сэнди Брекенштейн, лет тридцати, высокий, худой, с выступающим кадыком, напоминал Ичабода Крейна в старом диснеевском мультфильме «Легенда спящей пещеры». Его напарник. Макс Стек, был похож на буйвола — с узловатыми пальцами, массивной грудью, толстой шеей, но совершенно детской улыбкой. Джой сразу же полюбил и Сэнди, и Макса и уже носился из конца в конец небольшого дома от одного к другому, стараясь составить компанию каждому, без умолку болтая, выпытывая, хорошо ли быть телохранителем, рассказывая им свою очаровательную версию сказки о говорящем жирафе и принцессе, у которой не было лошади, ту самую, что ему поведал Джордж Свартхаут. Кристина не могла так быстро, как Джой, проникнуться доверием к новым защитникам Она была дружелюбна, но осторожна и наблюдательна. Она хотела иметь свое оружие. Пистолета больше не было. Прошлой ночью полиция забрала его, чтобы проверить, правильно ли он зарегистрирован. Она не могла просто взять для обороны нож из кухонного стола. Если Сэнди или Макс были последователями Грейс Спиви, нож не предупредил бы насилие, а ускорил бы его. А если они не принадлежали Церкви Сумерек, то подобным открытым выражением недоверия она только бы обидела и отдалила их. Единственным ее оружием были осмотрительность и сообразительность, которые не очень-то помогут, столкнись она с маньяком, вооруженным «магнумом» девятого калибра. Однако, когда в начале десятого произошла неприятность, то исходила она не от Сэнди или Макса. Хотя именно Сэнди, наблюдавший за улицей, сидя на стуле у окна столовой, заметил что-то неладное и привлек их внимание. Кристина, выйдя из кухни, чтобы спросить, не хочет ли он кофе, увидела, что Сэнди напряженно наблюдает за улицей. Он встал и склонился к окну, не отрывая» бинокля от глаз. — Что там? — спросила она. — Кто-то есть? Он смотрел еще минуту, потом опустил бинокль. — Может, и никого. — Но вы думаете, кто-то есть? — Скажите Максу, чтобы следил за двором, — ответил Сэнди; кадык его ходил вверх-вниз. — Один и тот же фургон три раза проехал мимо дома Сердце ее забилось быстрее, словно переключили скорость. — Белый фургон? — Нет. Темно-синий «Додж» с надписью сбоку. Это может ничего и не значить. Просто кто-то не может найти нужный дом. Но…, все же лучше предупредить Макса. Она поспешила на кухню, в заднюю часть дома, и старалась говорить с Максом Стеком спокойно, но голос дрожал, и она ничего не могла поделать с руками и нервно, учащенно жестикулировала. Макс проверил замок кухонной двери, хотя он уже делал это, когда заступил на дежурство. Полностью опустил жалюзи на одном окне и наполовину на другом В углу дремал Чубакка. Почувствовав в воздухе напряжение, он поднял голову и зарычал. Джой сидел за столом у окна, выходящего в сад, и сосредоточенно раскрашивал карандашами книжку-раскраску. Кристина увела его подальше от окна в угол, чтобы он в случае чего не угодил под огонь. Со свойственной шестилетнему ребенку забывчивостью и способностью к быстрой психологической адаптации, он уже почти не помнил об угрожавшей им опасности, из-за которой они и были вынуждены скрываться в чужом доме. Теперь все это ожило в его памяти, и глаза его широко раскрылись. — Ведьма рядом? — спросил он. — Может быть, мы и зря беспокоимся. Она наклонилась, подтянула ему джинсы и заправила выбившуюся рубашку. От страха закололо сердце, она поцеловала Джоя в щеку. — Возможно, это ложная тревога, — сказала она. — Просто люди Чарли не привыкли рисковать. — Они классные ребята, — сказал он. — Ну, разумеется, — согласилась Кристина. Теперь, когда она видела, что, возможно, этим людям придется отдать за них с Джоем жизнь, ей стало стыдно за свою подозрительность. Макс отодвинул столик от окна, чтобы через него не приходилось перегибаться. Чубакка вопросительно заскулил и принялся расхаживать кругами, стуча лапами по кафельной плитке, которой был выложен пол на кухне. Кристина испугалась, что в критический момент Чубакка будет путаться у Макса под ногами, и они с Джоем позвали его. Пес еще не привык к новой кличке, однако, повинуясь повелительному тону, подошел к Джою и сел рядом. Макс пристально всматривался в щель между пластинками жалюзи. — Проклятый туман, похоже, не собирается рассеиваться, — сказал он. Кристина понимала, что при таком дожде и тумане ничего не стоит проникнуть в сад с его зарослями азалий, олеандра, вероники, сирени, миниатюрными апельсиновыми деревьями и живой изгородью из бугенвиллеи. Кто угодно легко приблизится на опасное расстояние к дому, не будучи обнаруженным. Не обращая внимания на ободряющие слова матери, Джой посмотрел на потолок, прислушиваясь, как дождь барабанит по крыше, и произнес: — Ведьма рядом. Она идет сюда.Глава 32
Доктор Дентон Бут служил живым подтверждением того, что у наследников Фрейда и Юнга не было ответов на все вопросы. Одна стена в рабочем кабинете Бута была увешана дипломами самых престижных университетов страны, наградами, полученными от коллег из нескольких профессиональных ассоциаций, дипломами почетного доктора высших учебных заведений четырех стран. Его учебник по общей психологии был чрезвычайно популярен и признан наиболее удачным за последние тридцать лет, а его позиция в качестве самого компетентного ученого в области патологической психологии никем не подвергалась сомнению. И все же при всем опыте и знаниях у доктора Бута были собственные проблемы. Он был тучным человеком. Не просто приятно полноватым. Чрезмерно, пугающе тучным. Жирным. Когда Чарли встречал Дентона Бута (Бу, как называли его друзья) после того, как не виделся с ним несколько недель, всякий раз его неизменно поражала монументальность доктора; все время казалось, что он стал еще толще. При росте около ста восьмидесяти сантиметров, как и у самого Чарли, Бут весил сто восемьдесят килограммов. Его лицо было хорошей имитацией луны, шея напоминала столб, а пальцы вызывали ассоциацию с сардельками. Когда он садился, то заполнял собой кресло. Чарли не понимал, почему Бут, который распознавал и лечил неврозы даже у тех, кто был в высшей степени невосприимчив к его терапии, не в состоянии справиться с собственным обжорством. Но чрезмерные габариты и связанные с этим психологические проблемы нисколько не влияли на добродушный, веселый нрав доктора, на его способность радоваться жизни и заразительно смеяться. Невзирая на то, что Бут был на пятнадцать лет старше и куда более образованнее Чарли, они уже в первую свою встречу почувствовали родство душ и вот уже несколько лет дружили, а раз-другой в месяц обязательно вместе обедали, на Рождество обменивались подарками и вообще, с настойчивостью, которая иногда удивляла обоих, старались не терять друг Друга из виду. Бу тепло встретил Чарли и Генри в Коста-Меза, в своем офисе, занимающем часть угловых помещений высокого, стеклянного здания, и тут же стал демонстрировать свою последнюю антикварную копилку. Он собирал копилки с приводящим в действие различные фигурки механическим заводом, благодаря которому каждая брошенная монета делала вас свидетелем маленького приключения. По меньшей мере штук двадцать подобных копилок было выставлено на обозрение в разных уголках офиса. Данный экземпляр представлял собой замысловатую штуковину: на крышке стояли раскрашенные вручную фигурки двух бородатых золотодобытчиков и такое же до смешного детализированное скульптурное изображение осла. Бу вложил двадцатипятипенсовик в руку одного старателя и нажал кнопочку. Рука с монеткой поднялась, протягивая ее второму персонажу, но тут осел опустил прикрепленную на шарнирах подвижную голову и вцепился зубами в монету, которую старатель тотчас выпустил из рук, а осел задрал морду, и монета провалилась в его внутренности и дальше — в копилку. А два старателя в досаде лишь покачивали головами. На седельной сумке у осла значилось его прозвище — «дядюшка Сэм». — Эта штучка сделана в 1903 году. В мире известно всего восемь действующих моделей, — с гордостью сообщил Бу. — Называется она «Сборщик податей», но я окрестил ее «В мире ослов нет справедливости». Чарли рассмеялся, а Генри, казалось, был озадачен. Они прошли к большим удобным креслам, стоявшим в углу вокруг стеклянного кофейного столика. Под тяжестью Бу кресло издало слабый стон. Офис занимал угловое помещение и поэтому имел две наружные стены, почти целиком стеклянные. Здание стояло в стороне от других высотных построек в Коста-Меза, и окна выходили на один из немногих сохранившихся в этой части округа участков сельскохозяйственных угодий, поэтому создавалось впечатление, что за окном нет ничего, кроме серой пустоты с рваными клочьями облаков, тонкой пелены тумана и дождя, сплошным потоком стекающего по стеклам. Это сбивало с толку, как будто офис Бута существовал помимо этого мира в альтернативной реальности, в другом измерении. — Так ты говоришь, это касается Грейс Спиви? — спросил Бут. У него был профессиональный интерес к психозам на религиозной почве, он даже выпустил книгу, посвященную психологии вождей религиозных сект. Его занимала личность Грейс Спиви, и он рассчитывал посвятить ей главу в своей следующей книге. Чарли рассказал Бу о Кристине и Джое, об их встрече с Грейс в «Саут-Кост-Плаза» и о попытках их убийства. Врач, который, имея дело с больными, никогда не напускал на себя важный вид, больше полагаясь на уговоры и добродушный юмор, врач, которого невозможно было представить озабоченно нахмурившим брови, этот врач вдруг помрачнел. — Худо дело. Очень худо. Я всегда знал, что Грейс — глубоко верующий человек, а не обычный шарлатан, разрабатывающий религиозную жилу с целью подзаработать. Она всегда была убежденной сторонницей теории близкого конца света. Но я и предположить не мог, что она настолько глубоко погрузилась в психопатические фантазии, — сказал Бут. Тяжело вздохнул и посмотрел на дождь за окном с высоты двенадцатого этажа. — Понимаете, она много говорит о своих «видениях», используя их, чтобы привести свою паству в состояние религиозной экзальтации. Я привык считать, что на самом деле никаких видений у нее не бывает, а она элементарно притворяется, понимая, что это эффективный инструмент для обращения в свою веру и для того, чтобы держать паству в руках. С помощью видений она может представить дело таким образом, что это господь повелевает совершать то, что на самом деле угодно ей, чему можно бы и не подчиниться, усомнись кто-нибудь в божественном происхождении этих приказов. — Но если допустить, что она истинно верующий человек, — сказал Генри, — как же она оправдывает для себя такое надувательство? — О-о, это очень просто, — сказал психотерапевт, отвлекаясь от картины дождливого февральского утра. — В собственных глазах она может оправдаться, уговаривая себя, что говорит людям то, что бог непременно передал бы ей, если бы и вправду являлся ей в видениях. И второе возможное объяснение: она действительно видит бога и внимает ему — и это куда более серьезно. — Ты хочешь сказать, она видит его в буквальном смысле? — недоумевая спросил Чарли. — Ни в коем случае, — Бу махнул пухлой рукой. Он был агностик и не чужд атеизма. Он не раз говорил Чарли, что, судя по тому, в каком жалком состоянии пребывает мир, у бога, должно быть, продолжительные вакации где-нибудь в Албании, на Таити или в другом удаленном уголке Вселенной, куда последние новости не доходят. — Я действительно имею в виду, что она видит и слышит бога, но, разумеется, все это лишь плод ее больного воображения. У больных психозом, особенно в запущенной форме, нередки галлюцинации, которые могут быть и религиозной природы. Но я не мог и предположить, что Грейс зашла так далеко и окончательно свихнулась. — Она зашла так далеко, что туда даже рельсы не проложены, — сказал Чарли. Бу засмеялся, хотя и не так непринужденно, как хотелось бы Чарли, но все же это было лучше той мрачной задумчивости, от которой Чарли было не по себе. Что касалось работы, Буту была несвойственна какая-либо претенциозность, и он не изображал из себя святошу; слово «чокнутый» звучало в его устах так же привычно, как «психическое расстройство». — Но если у Грейс совершенно отказали тормоза, значит, есть что-то, что не поддается объяснению, — сказал Бут. Чарли обратился к Генри: — Он обожает все объяснять. Прирожденный педант. Он объяснит тебе все про пиво, пока ты будешь допивать свою кружку. Только не проси его объяснить, в чем смысл жизни, иначе нам не выйти отсюда до самой пенсии. Бут сохранял необычайную серьезность. — Сейчас меня занимает отнюдь не смысл жизни, — сказал он. — Допустим, что Грейс действительно свихнулась — это похоже на правду. Но если она в самом деле верит в этот бред насчет Антихриста и не остановится перед убийством невинного ребенка, значит, у нее все признаки параноидальной шизофрении на фоне апокалиптических галлюцинаций и мании величия. Однако трудно вообразить, чтобы кто-то, находясь в таком состоянии, мог оставаться служителем культа и руководить деятельностью секты. — Может быть, сектой заправляет кто-то другой, — предположил Генри, — а она лишь своеобразный символ, который кто-то ловко использует. Бут скептически покачал головой: — Параноидального шизофреника чертовски сложно использовать таким образом. Эти люди слишком непредсказуемы. Но если она обратилась к насилию и начала действовать, исходя из своих светопреставленческих пророчеств, ей совсем необязательно быть сумасшедшей. Тому может быть другое объяснение. — Например? — спросил Чарли. — Например?.. Возможно, ее последователи разочаровались в ней, или в секте возникли центробежные тенденции, и она решила прибегнуть к решительным мерам, чтобы дать пастве новый заряд энтузиазма и веры. — Нет, — сказал Чарли, — у нее определенно не все дома. — И он рассказал Буту о неприятном визите к Грейс. Для Бута это прозвучало как гром среди ясного неба. — Неужели она действительно вгоняла гвозди в ладони? — Ну, при этом мы не присутствовали, — признал Чарли, — Может, ей и помогал кто-то из соратников, который держал молоток. Но наверняка не без ее ведома. Бу переменил положение, и кресло под ним заскрипело. — Возможно и другое. Самопроизвольное образование крестных стигмат на ладонях и ступнях у страдающих психозами на фоне религиозного бреда преследования — явление редкое, но к разряду неслыханных его не отнесешь, — сказал Бут. Услышав это, Генри Рэнкин был потрясен: — Что вы хотите сказать — что они настоящие? Что это…, божьих рук дело? — О нет, я вовсе не имел в виду, что это подлинные крестные знамения или что-то в этом роде. Бог здесь ни при чем. — Ты меня успокоил, — сказал Чарли. — А то я уже испугался, что ты ударился в мистику. А чего я от тебя никогда не ожидал, так это того, что ты ударишься в мистику или станешь солистом балета. Однако печать тревоги не сходила с лица толстого доктора. — Боже мой, Бу, я и так уже боюсь. Но если ситуация представляется настолько тревожной тебе, тогда мне следовало быть вдвое больше напуганным, — сказал Чарли. — Я в самом деле встревожен, — продолжал Бут. — Что касается феномена стигмат, существуют свидетельства того, что, находясь в состоянии мессианской экзальтации, больной такой формой психоза может воздействовать на свое тело…, на структуру тканей…, воздействовать почти на уровне подсознания, чему в современной медицине нет объяснения. Это сродни тому, как индусы ходят по раскаленным углям или лежат на гвоздях, избегая травм за счет одной концентрации воли. Раны Грейс могут быть обратной стороной той же медали. Генри, который во всем полагался на здравый смысл, порядок и предсказуемость и считал, что устройство вселенной должно отличаться такой же безупречной аккуратностью, какая царит в его шкафу для белья, был явно выбит из колеи разговорами о непостижимых возможностях психики. — Они что же, могут вызывать у себя кровотечение, просто подумав об этом? — ошарашенно спросил он. — Очевидно, им даже не обязательно думать об этом, по крайней мере, это происходит не на уровне сознания, — пытался объяснить Бут. — Стигматы образуются в результате сильного подсознательного желания стать религиозной фигурой или символом, объектом поклонения, стать чем-то большим собственной самости, частью космоса. — Он сложил руки на огромном животе. — Что вам, например, известно о так называемом чуде при Фатиме? — Почти ничего, — ответил Чарли. Генри добавил: — Тысячи людей видели явление Святой Девы Марии в тех местах. В двадцатые, по-моему, годы этого века. — Одно из двух: или это удивительное сошествие на землю обожествляемого существа, или невероятный случай массовой истерии или самовнушения, — сказал Бут, явно склоняясь в пользу второй версии. — Сотни людей свидетельствовали о том, что видели Деву Марию, и описывали возникшее в этот момент зарево на небе, сиявшее всеми цветами радуги. Среди огромной толпы у двоих образовались крестные стигматы, у какого-то мужчины начали кровоточить ладони, а у одной из женщин на ступнях появились отметины от гвоздей. Несколько человек заявляли, что обнаружили микроскопические проколы на лбу и голове, словно оставленные терновым венцом. Документально подтвержден случай, когда один из свидетелей плакал кровавыми слезами, причем в ходе последующего медицинского осмотра не было обнаружено никакого повреждения глаз, что могло бы послужить причиной кровотечения. Короче говоря, область психики во многом остается белым пятном. Там, — и он многозначительно постучал пальцами по голове, — скрыты такие тайны, которые нам, возможно, не дано раскрыть никогда. Чарли поежился. Его бросало в дрожь при одной мысли о том, что Грейс настолько погружена в безумие, что могла вызвать самопроизвольное кровотечение с одной-единственной целью — придать материальное воплощение своему больному воображению. — Конечно, — говорил Бут, — может статься, что вы и правы, говоря о молотке и гвоздях. Самопроизвольные крестные стигматы — вещь крайне редкая. Вполне вероятно, Грейс сделала это сама или кто-то из ее людей помог ей. По стеклам текли потоки воды. Вдруг за окном мелькнула черная птица, жалкая и промокшая, искавшая укрытия от ливня. Чудом не врезавшись в стекло, она полетела прочь. Думая о том, что рассказал им Бут о кровавых слезах и стигматах, вызываемых одним подсознательным желанием, Чарли сказал: — Кажется, до меня дошло, в чем смысл жизни. — И в чем же? — В том, что все мы скромные актеры в космическом фильме ужасов, который идет на экране в собственном кинотеатре господа бога. — Возможно, — согласился Бут. — Если ты внимательно почитаешь Библию, то увидишь, что господь может изобретать кары пострашнее тех, о которых могли мечтать Тоб Хупер, Стивен Спилберг и Алфред Хичкок вместе взятые.Глава 33
Когда синий «Додж» — фургон с рекламой серфинга в третий раз проехал мимо дома, Сэнди Брекенштейн в бинокль различил его номерной знак. Кристина бросилась на кухню, чтобы сообщить о подозрительной машине Максу, а Сэнди позвонил Джулии Гетере, отвечавшей в «Клемет — Гаррисон» за связь с полицией, и попросил навести справки о «Додже». В ожидании известий от Джулии он напряженно стоял у окна, не выпуская из рук бинокль. Не прошло и пяти минут, как «Додж», уже в четвертый раз, проехал мимо дома и теперь взял направление к холмам Сэнди вгляделся в бинокль и за потоками воды за лобовым стеклом разглядел смутные очертания двух фигур. Похоже, их интересовал именно этот дом Потом они пропали. Сэнди готов был пожалеть, что они не остановились напротив дома. Тогда они, по крайней мере, оставались бы у него в поле зрения Это лучше, чем потерять их из виду. Пока Сэнди стоял у окна, покусывая губу и сожалея, что не пошел по стопам отца и не стал фининспектором, Джулия из конторы связалась с управлением транспорта полиции, а затем и со службой шерифа округа Оранж. Благодаря тому, что везде были компьютеры, она получила необходимую информацию удивительно быстро и уже через пять минут перезвонила Сэнди. По данным полиции, синий «Додж» был зарегистрирован на имя Луиса Спадо из Анахейма, а из конторы шерифа, куда поступали самые свежие сведения со всех полицейских участков округа, ей сообщили, что сегодня в шесть утра мистер Спадо заявил в полицию об угоне своей машины. Как только все это стало известно, Сэнди отправился на кухню, чтобы поделиться новостью с Максом, который не меньше его был обеспокоен. — Дело дрянь, — прямо сказал Макс. — Но ведь эта машина не из Церкви, — сказала Кристина, — Она уже позаботилась о Джое, и сейчас он сидел в углу за холодильником — Верно, но люди из Церкви могли ее угнать, — заметил Сэнди — Чтобы вывести Церковь из-под подозрения, если они снова решили напасть на нас, — пояснил Макс. — Или это простое совпадение, что кто-то разъезжает в ворованной машине по этой улице, — сказала Кристина не очень убежденно. — Никогда не встречал случайность, которая бы меня устроила, — произнес Макс, по-прежнему наблюдая за садом позади дома. — И я тоже, — подтвердил Сэнди. — Но каким образом они вышли на нас? — скорее потребовала, чем спросила Кристина. — Ума не приложу, — сказал Сэнди. — Убей бог, не знаю, — согласился с ним Макс. — Мы соблюдали все меры предосторожности. У всех на уме был наиболее вероятный ответ: у Грейс Спиви в «Клемет — Гаррисон» был осведомитель, однако никто не хотел произносить этого вслух. Боялись, что это окажется правдой. — Что ты передал в контору? — спросил Макс Сэнди. — Чтобы высылали подкрепление. — Полагаешь, есть смысл дожидаться помощи? — Думаю, нет. — Вот и я тоже. Мы здесь похожи на подсадных уток. Этот дом был надежным убежищем, пока мы считали, что они никогда не вычислят его. Теперь лучше всего смыться отсюда, и побыстрее, пока они не обнаружили, что мы заметили их. Для них будет неожиданностью, если мы внезапно снимемся с места. Сэнди был с ним согласен. — Одевайтесь, — обратился он к Кристине. — Возьмите только два чемодана — вам придется нести их самой: по дороге к машине у нас с Максом руки должны быть свободны. Женщина кивнула. Она была потрясена. Джой стоял бледный, как воск… Даже собака выглядела встревоженной: принюхивалась, настороженно задирая морду, и как-то странно поскуливала. У Сэнди тоже было тоскливо на душе: он не забыл, что стало с Фрэнком Ройтером и Питом Локберном.Глава 34
От удара грома задрожали стекла. Дождь лил пуще прежнего. Из кондиционера на потолке шел горячий воздух, но Чарли все равно не мог унять охвативший его нервный озноб, от которого на ладонях выступил липкий пот. Дентон Бут продолжал свой рассказ: — Я беседовал с людьми, которые знали Грейс еще до того, как ее обуял религиозный фанатизм. Многие отмечали ее преданность мужу. Они были женаты сорок четыре года, и она боготворила его. Ее забота об Альберте не знала границ. Она угождала ему во всем: вела хозяйство, потакая его вкусам и привычкам, готовила только его излюбленные блюда, делала все, чего бы он ни пожелал. Было лишь одно, о чем он мечтал больше всего на свете и чего она не могла дать ему — сын. На его похоронах она не сдержалась и разрыдалась и все твердила одно и то же: «Я так и не подарила ему сына». Не исключено, что в ее глазах ребенок-мальчик — каждый ребенок-мальчик — становился олицетворением ее неспособности иметь собственного ребенка, о котором всю жизнь мечтал покойный муж. Пока он был жив, она компенсировала это тем, что носилась с ним как с писаной торбой, но с его смертью для нее исчезла даже такая возможность искупить свое бесплодие — тогда-то она, возможно, и возненавидела маленьких мальчиков. Сначала возненавидела, потом начала испытывать к ним суеверный страх, а потом вообразила, что один из них — Антихрист, пришедший, чтобы извести весь род людской. Это прискорбное, но вполне обычное развитие психозов. — Насколько я припоминаю, у них была приемная дочь, — сказал Генри. — Та самая, что настояла, чтобы Грейс была подвергнута психиатрической экспертизе, когда у нее впервые появилась идея об этой Церкви Сумерек, — сказал Чарли. Бут продолжал: — Тогда Грейс продала дом, перевела в наличность все сбережения и вложила деньги в свою Церковь. Ее поступки выглядели иррациональными, и дочь была права, тревожась за состояние матери. Но для Грейс психиатрическая экспертиза закончилась триумфом… — Каким же образом? — изумился Чарли. — Ей не откажешь в сообразительности. Она знала, что хотят обнаружить психиатры, и имела достаточно самообладания, чтобы скрыть те симптомы, которые могли вызвать у них тревогу. — Но она пустила все свои средства на организацию Церкви, — сказал Генри. — Врачи, несомненно, понимали, что такой поступок не может быть совершен в твердом рассудке. — Напротив. Если допустить, что она отдавала себе отчет в рискованности своих действий и предвидела все возможные последствия или, по крайней мере, убедила в этом врачей, то сам по себе факт пожертвования всем во имя бога не может служить достаточным основанием для признания ее лицом, не отвечающим за свои поступки Вам известно, что в этой стране свобода вероисповедания — это одно из конституционных прав, и закон предпочитает почтительно обходить такие случаи. — Ты должен помочь мне, Бу, — сказал Чарли. — Объясни мне образ мыслей этой женщины. Дай мне какую-нибудь зацепку. Как нейтрализовать ее? Как заставить изменить отношение к Джою Скавелло? — Для психопатической личности такого типа не существует понятия страха и неуверенности. Она едва ли подвержена депрессии. Наоборот, обладая твердой верой в свое предназначение, усугубляемой манией величия на религиозной почве…, такая личность, несмотря на обманчивую внешность, заставляющую предположить обратное, — это скала, не подвластная стрессам и в высшей степени стойкая к внешнему воздействию. Она живет в выдуманном ею самой мире, и мир этот настолько прочен, что сокрушить его или поколебать ее веру в него — невозможно. — Ты утверждаешь, что переубеждать ее бесполезно? — Думаю, это лишено смысла. — В таком случае как же мне заставить ее отступиться? Ведь это же мыльный пузырь. Должен быть какой-то элементарный способ обезвредить ее. — Ты или не слышишь, или не хочешь слышать то, что я говорю. Было бы ошибкой предположить, что она беззащитна и уязвима лишь потому, что является психопатической личностью. Людям с таким расстройством психики свойственна необыкновенная сила, способность стойко переносить удары и поражения, противостоять всем формам стресса. Стремление уберечь себя от воздействия подобных факторов — это единственная подоплека психопатических фантазий, которые по сути не что иное, как способ защитить себя от жестокостей и разочарований жизни, и это чертовски действенный способ. — Ты хочешь сказать, что у нее нет слабых мест? — спросил Чарли. — Слабые места есть у каждого. Я хочу сказать, что в случае с Грейс найти их будет непросто. Мне необходимо просмотреть ее досье и подумать… Дай мне хотя бы день. — Думай быстрее, — Чарли поднялся, — а то мне в спину дышат несколько сот религиозных фанатиков, одержимых манией убийства. Когда они уже выходили из офиса. Бут сказал: — Чарли, я знаю, ты относишься с большим доверием к моему мнению… — Точно, у меня просто комплекс в отношении твоего мессианства. Не обращая внимания на шутку и сохраняя непривычное для него угрюмое выражение лица, Бут сказал: — Просто должен предупредить, в настоящий момент, если тыхочешь спасти жизнь своим клиентам, есть только один способ нейтрализовать Грейс. — Какой же? — Убить ее, — совершенно серьезно ответил Бут. — Да; — ты точно не принадлежишь к числу мягкотелых либералов от психиатрии, одержимых стремлением дать закоренелым убийцам последний шанс исправиться. Ты где получил свой диплом — в Школе психиатрии имени Атиллы? Чарли очень хотелось, чтобы Бут поддержал его шутливый тон. Его выбило из колеи то мрачное настроение, которое вызвал у психиатра его рассказ об утреннем визите к Грейс Спиви и которое совершенно не вязалось с характером Бута. Чарли ждал от него хотя бы ободряющей улыбки, хотел услышать, что нет худа без добра и что всегда есть какая-то надежда, но видел лишь сдержанный пессимизм, и это пугало больше, чем витийствование самой Грейс Спиви. — Чарли, ты меня знаешь, — наконец нарушил молчание Бут. — Я во всем могу найти смешную сторону, даже в слабоумии. Меня забавляют некоторые аспекты смерти, системы налогообложения, проказы американской политики и злокачественные опухоли. Тебе могут подтвердить, что я веселился, когда вместе с внуками смотрел в повторном показе «Лаверн и Ширли». Но в данном случае я не вижу ничего забавного. Чарли, ты мой близкий друг, и я боюсь за тебя. — Не хочешь же ты сказать, что я действительно дол-, жен убить ее. — Я знаю, ты не способен на хладнокровное убийство, — сказал Бут. — Но, боюсь, смерть Грейс — это единственное, что способно отвлечь внимание этих сектантов от твоих клиентов. — Выходит, было бы куда полезнее, если бы я оказался способен совершить хладнокровное убийство? — Выходит — так. — Полезнее быть чуточку убийцей? — Да. — Боже правый, что ты говоришь! — Таковы обстоятельства, — промолвил Бут.Глава 35
В доме не было гаража, их зеленый «Шевроле» стоял под навесом, и это значило, что им придется обнаружить себя, садясь в машину. Сэнди это было не по душе, но выбирать не приходилось. Можно остаться в доме и ждать подкрепления, однако он чувствовал нутром, что такое решение ошибочно. Сэнди вышел первым через запасной выход, ведущий прямо на стоянку. Навес и заросшие жимолостью боковые решетки защищали от дождя, но лишь отчасти, поскольку холодный ветер швырял брызги под навес со стороны въезда и они попадали ему в лицо. Прежде чем подать сигнал Кристине и Джою, что все тихо и можно идти, он вышел на дорожку проверить, не прячется ли кто-нибудь перед домом. Он был в плаще, но зонт с собой не взял, чтобы оставить руки свободными, и теперь дождь лил ему на голову, стекал по лицу и за воротник. Ни на дорожке, ни у входной двери, ни возле кустов никого не было, и Сэнди дал знать Кристине, чтобы они с мальчиком садились в машину. Он сделал еще несколько шагов по дорожке — выглянуть на улицу, как вдруг увидел синий «Додж» — фургон. Машина стояла в полутора кварталах на другой стороне улицы, развернувшись в направлении к их дому. Едва Сэнди заметил его, фургон вырулил с обочины и устремился к нему. Сэнди оглянулся и увидел, что Кристина с двумя чемоданами уже подошла к машине, рядом была собака, а мальчик держал открытой заднюю дверцу. — Постойте! — крикнул Сэнди. Он снова посмотрел на улицу. Синий фургон быстро приближался. Чертовски быстро! — Назад, в дом! — закричал Сэнди. Женщина, должно быть, внутренне была готова ко всему, потому что, не раздумывая и ни о чем не спрашивая, бросила чемоданы, схватила в охапку сына и устремилась к двери, у которой стоял Макс. Все остальное заняло считанные секунды, но Сэнди Брекенштейну эти панические мгновения показались бесконечно, невыносимо долгими. Синий «Додж» сразу повел себя как-то странно: он наискось пересек улицу и въехал во двор второго от них дома, расположенного выше по склону холма. Но здесь он и не думал останавливаться. Свернув с дорожки, но не затем, чтобы выехать обратно на улицу, машина взревела и понеслась в их направлении по траве через лужайку перед домом, выбрасывая из-под колес ошметки грязи и куски дерна, сминая цветы; с грохотом влетела в декоративный прудик для птиц, колеса пошли юзом, но только на миг — с маниакальной целеустремленностью машина мчалась вперед. Что за черт… Правая дверца фургона открылась, и из него на ходу выпрыгнул человек, упал на траву и покатился кубарем. Сэнди подумал о крысах, покидающих тонущее судно. Фургон вдребезги разнес деревянную изгородь, разделяющую два участка. За спиной Сэнди услышал крик Макса: — Что здесь происходит? «Додж» был уже на соседнем участке. Чубакка неистово лаял. Водитель поддал газу. «Додж» летел, будто скорый поезд, если не ракета. Расчет был ясен. Каким бы безумием это ни казалось, они собирались протаранить дом, в котором укрылись Скавелло. — Выходите! — закричал Сэнди. — Выходите во двор, живо! Макс бросился вон из дома, и они втроем, с Кристиной и Джоем, а следом собака, побежали прочь, на задний двор — единственное место, куда путь им еще не был перекрыт. Выше, у соседнего дома, «Додж» круто вывернул, чтобы не врезаться в дерево джакаранды, и пробил последнюю изгородь, отделявшую его от их участка. Сэнди уже развернулся и убегал вдоль стены. Услышал, как сзади с хрустом разлетелась деревянная ограда. Он стремглав проскочил под автомобильным навесом, мимо машины, успев заметить брошенные чемоданы, криками умоляя остальных спешить — ради бога спешить, — быстрее в глубину сада, к задней изгороди, за которой был узкий проулок. И не успели они пересечь сад, как машина со страшным грохотом врезалась в дом. А долей секунды позже оглушительный взрыв сотряс воздух, и на мгновение показалось, что вздыбилась земля и обрушилось небо. Фургон был начинен взрывчаткой! Сэнди взрывной волной подбросило вверх, обдало горячим воздухом. Он перелетел через кусты азалии и правым плечом врезался в изгородь. На том месте, где был дом, теперь вздымался ослепительный столб огня и дыма и летели какие-то обломки и целые предметы: камни, разбитые доски, куски кровли, дранки и штукатурка, битое стекло, разодранная спинка мягкого кресла, оторванная крышка от унитаза, диванные подушки, клочья коврового покрытия, — Сэнди пригнулся, молясь, чтобы ему на голову не рухнуло что-нибудь тяжелое или острое. Укрываясь от падающих обломков, он подумал, успел ли выпрыгнуть из машины водитель, как это сделал еще раньше тот, кто сидел справа. Выскочил ли он в последний момент или был настолько одержим идеей покончить с Джоем Скавелло, что остался за рулем до конца? Может, сейчас он сидит среди груды щебня с облезающей под огнем кожей, сжимая обгоревшими до костей пальцами оплывающую баранку рулевого колеса?* * *
Когда произошел взрыв, словно чья-то гигантская рука с силой толкнула Кристину в спину. Оглушив, ее отбросило в сторону от Джоя, и она грохнулась оземь. В короткой, но зловещей тишине она перекатилась через клумбу, подминая яркие красные и лиловые гроздья бальзаминов, кожей ощущая волны раскаленного воздуха, способного, казалось, обратить ливень в пар. Больно ударившись коленом о кирпичный бордюр и ткнувшись лицом в грязь, она осталась лежать, привалившись к стене беседки, оплетенной бугенвиллеей. Уши у нее все еще были заложены, сверху сыпалась дранка, битая штукатурка и щебень. Постепенно слух, кажется, возвращался, потому что она услышала, как рядом с лязгом упал тостер — еще недавно такая необходимая вещь для приготовления завтрака — и как живой запрыгал по земле, за ним хвостом волочился шнур. Вдруг что-то огромное свалилось на крышу беседки — то ли стропило, то ли здоровенный кусок каменной кладки. Беседка рухнула, стена, у которой сидела Кристина, провалилась внутрь, и она оказалась заваленной ветвями бугенвиллеи. Кристина ужаснулась — она была на волосок от гибели. — Джой! — закричала она. Ответа не было. На четвереньках она отползла от разрушенной беседки и, пошатываясь, встала на ноги. — Джой! Ни звука. Из-за пелены зловонного дыма, поднимавшегося с пепелища, перемешанного с клочьями тумана и косыми струями дождя, в саду уже в двух метрах невозможно было ничего разглядеть. Джоя и след простыл. Кристина понятия не имела, где его искать, она вслепую двинулась налево, тяжело дыша из-за едкого дыма и тисками сдавившего грудь страха. Она наткнулась на искореженную дверцу холодильника, прошла между карликовыми апельсиновыми деревьями, на одном из которых висела простыня, и наступила на валявшуюся в траве, метрах в десяти от косяка, дверь. Потом увидела Макса Стека. Она был живой и пытался выбраться из колючих розовых кустов, в которых застрял. Кристина прошла мимо него, она по-прежнему звала Джоя и по-прежнему не получала ответа. Вдруг ей стало не по себе: среди кучи хлама она заметила куклу Джоя. Взрывом ей оторвало обе ноги и руки, голова обгорела, в животе зияла прореха, из которой вываливалось наружу все, чем она была набита. Это была всего лишь игрушка, но странным образом в глазах Кристины она стала неким предвестником смерти, символом того, что она могла увидеть, когда наконец найдет Джоя. Она пустилась бегом, стараясь, чтобы изгородь оставалась в поле зрения, как безумная кружила по участку в поисках сына, спотыкалась, падала, снова вставала и не переставала молить бога об одном — чтобы увидеть Джоя целым и невредимым. — Джой! Тишина. — Джой! Тишина. Дым разъедал глаза. Она с трудом что-либо различала. — Джо-о-о-о-й! И вдруг она увидела его. Он неподвижно лежал в глубине участка, возле калитки, ведущей в проулок, уткнувшись лицом в мокрую от дождя землю. Чубакка, склонившись над мальчиком, обнюхивал его шею, точно надеясь обнаружить в нем признаки жизни, но тот оставался неподвижен, пугающе неподвижен.Глава 36
Кристина опустилась на колени и отогнала собаку. Она взяла Джоя за плечи. Мгновение она не решалась перевернуть его, боясь увидеть обезображенное лицо или выбитые осколками глаза. Их накрыла очередная волна дыма, поднимавшегося над горящими руинами, вызвав у Кристины приступ кашля, по щекам ее катились слезы, наконец она бережно повернула Джоя на спину. На лице не было никаких повреждений, его лишь запачкало грязью, да и ту быстро смыл дождь. Порезов или открытых переломов она не обнаружила. Крови, слава богу, не было. Его веки затрепетали, глаза открылись, и он рассеянно посмотрел на нее. Джой просто потерял сознание. Вдруг она почувствовала себя так свободно и легко, словно парила над землей. Она прижала его к себе, а когда взгляд его прояснился, поводила перед глазами тремя пальцами и спросила, сколько пальцев он видит, для того чтобы убедиться, что нет сотрясения мозга. Он в недоумении часто заморгал. — Милый, сколько здесь пальцев? — повторила она. Джой хрипло откашлялся, очищая легкие от дыма, и наконец сказал: — Три. Три пальца. — А сейчас? — Два. Макс Стек, выбравшись из розовых кустов, подошел к ним. Кристина продолжала допрашивать Джоя: — Ты узнаешь меня? Похоже, он был озадачен, но не потому, что затруднялся ответить, а потому, что не мог сообразить, зачем она задает такой вопрос. — Ты моя мама, — произнес он. — А как тебя зовут? — Ты что, не знаешь? — Я хочу убедиться, знаешь ли ты, — сказала она. — Ну, конечно, знаю, — сказал мальчик. — Джой. Джозеф. Джозеф Энтони Скавелло. Никакого сотрясения у него не было. Почувствовав удивительное облегчение, она крепко прижала его к себе. За ними, сидя на корточках, кашлял Сэнди Брекенштейн. У него была рассечена левая бровь, и половина лица залито кровью, однако серьезных ран не было. — Мальчика можно нести? — спросил он — С ним все нормально, — сказал Макс Стек. — Тогда давайте выбираться отсюда. Как бы они не стали разнюхивать, достиг ли цели взрыв. Макс открыл калитку. Чубакка кинулся вперед, в проулок, остальные двинулись следом. Это был узкий проход, по обе стороны тянулись задние дворы, кое-где попадались гаражи и стояли мусорные баки. Стоков для воды не было, и она устремлялась по узкому проулку вниз к водозаборной трубе у подножия холма. Они вышли на середину проулка, превратившегося в русло неглубокого ручья, не зная, в какую сторону идти, как вдруг во втором доме выше по склону открылась калитка, и оттуда появился высокий мужчина в желтом дождевике с капюшоном. Даже в сумеречном свете, сквозь дождь Кристина увидела, что он вооружен. Макс выхватил револьвер и, держа его двумя руками, закричал: — Брось оружие! Но незнакомец открыл огонь. Макс, не раздумывая, трижды выстрелил, доказав, что он первоклассный стрелок. Не успел над холмами смолкнуть звук выстрелов, незадачливый убийца свалился на землю, раненный в ногу. Поднимая столб брызг, кубарем покатился по склону, полы плаща вздымались, словно крылья гигантской яркой птицы. Он сбил два мусорных бака, и его наполовину засыпало вывалившимися оттуда отходами. Пистолет выпал у него из рук и завертелся на асфальте. Они даже не остановились посмотреть, жив он или мертв. Поблизости могли находиться другие слуги Сумерек. — Надо выбираться отсюда, найти телефон, сообщить, вызвать группу поддержки, — Макс говорил короткими отрывистыми фразами. Сэнди и Чубакка впереди, Макс в прикрытии сзади — так, скользя на мокром асфальте, но не падая, они устремились вниз. Кристина все время оглядывалась назад. Раненый так и остался лежать под кучей мусора. Преследования не было. Пока. На первом же углу свернули направо и пустились бегом по ровной, тянувшейся вдоль холма улице, промчались мимо шарахнувшегося от них в сторону перепуганного почтальона. Вдогонку ревел ветер, вокруг шумели и качались деревья, трещали хрупкие пальмовые листья, и, попав под ноги, прогрохотала банка из-под содовой. Миновав два квартала, снова свернули на круто уходящую вниз улицу. Нависавшие с двух сторон ветви деревьев образовывали своеобразный туннель, отчего и без того безрадостный ненастный день казался еще мрачнее, как будто это было не утро, а глубокий вечер. Кристине было больно дышать: ей обожгло горло. Глаза еще резало от дыма, а сердце так бешено колотилось, что ломило в груди, она не знала, на сколько еще у нее хватит сил, если они будут мчаться с такой скоростью. Ненадолго. Ода с удивлением отметила, что Джой на своих маленьких ножках несется очень быстро. Им почти не приходилось приспосабливаться к нему — он не отставал. Навстречу, вверх по холму, поднималась машина, свет ее фар прорезал туманную дымку и густую тень от гигантских деревьев еще прежде, чем они успели ее разглядеть. Внезапно Кристину осенило, что это могло означать только одно — снова люди Грейс Спиви. Она схватила Джоя за руку и бросилась с ним в другую сторону. Сэнди кричал ей, чтобы она остановилась, потом крикнул Макс; она уже не разобрала что, громко залаял Чубакка, но она ни на кого не обращала внимания. Неужели они не видят, что это сама смерть? Она слышала за спиной нарастающий рев двигателя. Он настигал с неумолимостью рока. Джой споткнулся о край тротуара, и его занесло во двор какого-то дома. Кристина всем телом навалилась на Джоя, чтобы уберечь его от выстрелов, которых ожидала каждую секунду. Машина уже поравнялась с ними. Казалось, что весь мир наполнен рокочущим звуком ее двигателя. — Нет! — закричала она. Но машина не остановилась. Эти люди не были посланцами Грейс Спиви. Когда Макс помогал Кристине подняться на ноги, она чувствовала себя сконфуженной. Все-таки не весь мир преследует их, как ей это казалось.Глава 37
В центре Лагуна-Бич на станции техобслуживания «Арко» они укрылись от возможного нападения учеников Грейс Спиви. Сэнди Брекенштейн показал хозяину свою лицензию полицейского, обрисовал суть дела и заручился его поддержкой. Им разрешили взять Чубакку в служебное помещение, и они надежно привязали его к стойке с инструментами. Сэнди не хотел оставлять пса на улице не только потому, что тот бы промок, он уже был мокрым и дрожал, но, главное, была вероятность, пусть ничтожная, что люди Спиви будут рыскать по городу, вынюхивая их следы, и могут опознать собаку. Пока Макс оставался с Кристиной и Джоем в задних помещениях, подальше от дверей и окон, Сэнди звонил из маленького застекленного аукционного зала. Он позвонил в «Клемет — Гаррисон», но Чарли в офисе не оказалось. Он поговорил с Шерри Ордуэй, секретаршей, описав ей положение так, чтобы она поняла всю серьезность, но не назвал ни места, где они находятся, ни телефона, по которому их можно найти. Он не думал, что Шерри могла быть осведомителем Церкви Сумерек, но и не был абсолютно уверен в ее лояльности. — Найдите Чарли. Мне необходимо поговорить с ним, — сказал Сэнди. — Но как же он узнает, где вы? — спросила Шерри. — Я перезвоню через пятнадцать минут. — Если я смогу найти его за пятнадцать минут… — Я буду перезванивать каждые пятнадцать минут, пока вам это не удастся. — И он повесил трубку. Он вернулся в служебное помещение, где в воздухе ощущалась влага и пахло краской, смазочными маслами и бензином. На одном из двух гидравлических подъемников была подвешена «Тойота», пробегавшая года три, и человек с лисьим лицом в сером комбинезоне менял у нее глушитель. Сэнди сказал Максу и Кристине, что пока не удалось связаться с Чарли Гаррисоном. Другой рабочий, молодой блондин, монтировал новые покрышки на изготовленные по заказу хромированные колеса, а Джой с восторгом смотрел на приспособления, и в голове у него крутилось множество вопросов, но он старался задавать мастеру лишь наиболее волнующие его. Бедный мальчик промок до костей; грязный, растрепанный, он не жаловался и не хныкал, как делали бы другие дети в таких обстоятельствах. Это потрясающий ребенок — в любой ситуации он старался найти положительную сторону, вот и сейчас, наблюдая за установкой покрышек, он как бы вознаграждал себя за испытания, через которые только что прошел. Семь месяцев назад жена Сэнди — Мориан родила мальчика — Троя Франклина Брекенштейна. Сэнди надеялся, что его сын будет таким же благовоспитанным, как Джой Кавелло. Потом он подумал: «Если б я чего и желал, так это жить подольше и видеть, как растет Трои, неважно, благовоспитанным он будет или нет». Через пятнадцать минут Сэнди вернулся в зал и по телефону, который стоял около автомата по продаже конфет, позвонил Шерри Ордуэй. Она проверила автоответчик Чарли — он пока не звонил. Дождь барабанил по асфальту перед зданием станции, и по улице растекся глубокий мутный поток. Мастер поставил еще одну покрышку, а Сэнди еще больше разнервничался, когда позвонил в офис в третий раз. — Чарли в полицейской лаборатории с Генри Рэнкином, он пытается выяснить, что показала судебно-медицинская экспертиза о телах в доме Скавелло и не связаны ли они с Грейс Спиви, — ответила Шерри. — Но это длинная история. — Тут уж ничего не поделаешь, — сказала Шерри. Она дала ему номер телефона Чарли, который он записал в свою маленькую записную книжечку. Позвонив в лабораторию, он попросил Чарли, и тот сразу подошел. Сэнди рассказал более подробно, чем Шерри Ордуэй, о нападении в доме Мириам Рэнкин. Хотя Чарли уже знал о случившемся от Шерри, он был потрясен и встревожен тем, как быстро люди Спиви определили местонахождение Скавелло. — С ними все в порядке? — спросил он. — Грязные, мокрые, но невредимые, — успокоил Сэнди. — Итак, среди нас есть провокатор, — сказал Чарли. — Похоже, что так. Если только они не выследили вас прошлой ночью, когда вы выходили из дома. — Я уверен, что нет. Но, может, в нашей машине установлен «жучок». — Может быть. — А может, и нет, — сказал Чарли. — Как ни прискорбно, но надо признать, что, возможно, к нам внедрился агент. Откуда ты звонишь? Вместо ответа Сэнди спросил: — Генри Рэнкин с вами? — Да. Рядом. Хочешь поговорить с ним? — Нет. Я просто хочу знать, слышит ли он наш разговор? — Только не тебя. — Если я скажу, где мы, никому не говорите, — сказал Сэнди и добавил, — не потому, что у меня есть причины подозревать, что Генри — агент Спиви. У меня их нет. Я очень доверяю Генри. Но дело в том, что по-настоящему я не доверяю никому, кроме вас. Вас, себя и Макса, потому что, если бы это был Макс, он бы уже покончил-с мальчиком. — Если у нас есть негодяй, — ответил Чарли, — это, скорее всего, секретарь, или бухгалтер, или что-то в этом роде. — Знаю. Но я несу ответственность за женщину и мальчика. И пока я с ними, моя жизнь тоже висит на волоске. — Скажи мне, где ты, — сказал Чарли. — Я никому не передам и приеду один. Сэнди сказал. — Погода сейчас…, пожалуй, дай мне сорок пять минут. — Мы никуда не уйдем, — ответил Сэнди. Он повесил трубку и вернулся к остальным в гараж. Молния почти не видна была во время вчерашней грозы, а последние двенадцать часов ее не было совсем. Бури в Калифорнии обычно спокойнее, чем в других районах страны. Во время грозы не всегда бывает молния, а сильные электрические разряды и вовсе редкость. Но сейчас, когда холмы пропитались влагой и существовала угроза селей, когда улицы превратились в бурные реки, а на берег набрасывались гонимые ветром огромные волны, над Лагуна-Бич неожиданно засверкали страшные молнии. Удары грома, от которых дрожали стены, сопровождались апокалиптическими разрядами молнии, как будто пронзавшими землю, и серый день на короткое время становился ослепительно ярким. Подобно фотовспышке, молния, на мгновение блеснувшая в проеме двери, озарила высокие грязные окна гаража, и тени внутри стали живыми, заплясали, извиваясь. Второй разряд вызвал мощный удар грома, заставил задребезжать стекла в расшатанных рамах, а потом прогремел и третий разряд: мокрый асфальт перед станцией блестел и вспыхивал мерцающими огнями, как будто природа обрушивала на землю свой гнев. Джой отошел от матери и стоял у открытых дверей гаража. Он вздрагивал при каждой вспышке молнии и ударе грома, но, казалось, совсем не боялся. Когда на минуту небо прояснилось, он повернулся к матери: — Здорово! Гнев божий, да, мам? Ты про это говорила? — Гнев божий, — согласилась Кристина. — Лучше отойди оттуда. Следующий всполох пронзил небо, и день, казалось, померк от убийственного электрического удара. Этот был сильнее предыдущих: не только задрожали окна и стены, но заколебалась под ногами земля, а у Сэнди застучали зубы. — Здорово! — сказал Джой. — Милый, отойди от открытой двери, — попросила Кристина. Мальчик не пошевелился, и в следующее мгновение его осветила целая серия молний, таких ослепительных и мощных, что механик от испуга выронил накидной ключ. Собака заскулила и попыталась спрятаться под стойку с инструментами, а Кристина бросилась к Джою, схватила его и увела от дверного проема. — Мам, так красиво, — сказал он. Сэнди старался представить, каково это — быть опять молодым, таким молодым, чтобы не осознавать, как много страха в этом мире, таким молодым, чтобы не знать значения слова «рак», не думать о смерти, или неизбежности налогов, или ужасах ядерной войны, или предательской природе тромбов в кровеносной системе человека. Каково это быть таким молодым, чтобы с восторгом наблюдать за молнией и не подозревать, что в одну десятитысячную долю секунды она может поджарить твои мозги. Сэнди посмотрел на Джоя Скавелло и нахмурился. Он чувствовал себя старым, всего тридцать два, но уже старым. Его волновало, что он не может вспомнить, что когда-то был молодым и свободным от страха, хотя, конечно, в шесть лет он не задумывался о смерти. Говорят, что у животных отсутствует боязнь смерти, — ужасно несправедливо, что человек не может позволить себе такую же роскошь. Человек не может избежать мыслей о неотвратимости смерти: сознательно или бессознательно она с ним каждый час. Если бы Сэнди мог поговорить с этой религиозной фанатичкой Грейс Спиви, он бы хотел узнать у нее, как она может так верить и быть такой преданной богу, который сотворил человека только затем, чтобы позволить ему как-нибудь ужасно умереть. Он вздохнул. Он видел все в мрачном свете, а это было не свойственно ему. Похоже, сегодня не обойтись одной бутылкой пива на ночь, нужен десяток. Но все же…, он бы хотел задать Грейс Спиви свой вопрос.Глава 38
Ближе к полудню Чарли прибыл в Лагуна-Бич, где на станции техобслуживания нашел дожидавшихся его Сэнди, Макса, Кристину и Джоя с собакой. Джой бросился к нему и, налетев у самых дверей, закричал: — Чарли, жаль, ты не видел, как шарахнуло дом, как в кино про войну или что-то такое! Чарли подхватил его на руки и поднял вверх: — А я-то думал, что ты будешь злиться на нас за эту осечку. Боялся, что ты снова будешь настаивать, чтобы наняли Магнума. — Ну нет, — сказал мальчик. — Твои ребята молодцы. А потом, откуда тебе было знать, что это будет настоящая война? В самом деле, откуда? Чарли отнес Джоя в глубь гаража, где между полками с запчастями и грудами покрышек стояли все остальные. Сэнди уже говорил ему, что с женщиной и мальчиком все в порядке, и, разумеется, Чарли верил его слову, однако лишь теперь, когда увидел их собственными глазами, сердце его окончательно успокоилось. Его охватило чувство радостного облегчения, он ощущал его почти физически, и это лишний раз напоминало — хотя напоминание ему было совершенно не нужно — о том, насколько важное место в его жизни заняли эти два человека за такое короткое время. К тому времени они уже просохли, но все равно смотреть на них было жалко: мятая грязная одежда, спутанные обвисшие волосы. Макс и Сэнди были полны мрачной гневной решимости, на их лицах читалась угроза, одного их вида было достаточно, чтобы очистить от посетителей какой-нибудь переполненный бар. К чести Кристины надо признать, что красота ее не померкла, и выглядела она почти так же хорошо, как если бы была свежа и ухожена. Чарли вспомнил, что он чувствовал прошлой ночью в домике Мириам Рэнкин, когда, прежде чем уехать к себе, держал Кристину в объятиях, и то же самое теплое желание обнять ее охватило его сейчас, но на глазах своих служащих все, что он мог себе позволить, это, отпустив Джоя, взять ее руку в свои и сказать: — Слава богу, вы живы. Нижняя губа у нее задрожала. Мгновение казалось, что она вот-вот уткнется ему в плечо и разрыдается. Но, взяв себя в руки, она сказала: — Я все время повторяю себе, что это просто дурной сон…, но я никак не могу проснуться. — Мы должны немедленно увезти их отсюда, из Лагуны, — сказал Макс. — Согласен, — сказал Чарли. — Мы поедем сейчас же, в моей машине. Когда мы уедем, позвоните в офис и сообщите Шерри, где вы находитесь, чтобы сюда прислали машину. Отправитесь обратно к дому Мириам… — От него не много осталось, — сказал Сэнди. — Взрыв был дьявольской силы, — подтвердил Макс. — Фургон, должно быть, до отказа набили взрывчаткой. — Возможно, от дома ничего не осталось, — сказал Чарли, — но там полиция и пожарные. Шерри связалась с полицией Лагуна-Бич, я говорил с ней по телефону из машины, пока ехал сюда. Сообщите полиции о случившемся, окажите им всяческое содействие и выясните, что им удалось установить. — Они нашли того парня из проулка, которого я подстрелил? — спросил Макс. — Нет, — сказал Чарли, — он исчез. — Если только ползком. Я попал ему в ногу. — Стало быть, ползком, — сказал Чарли. — Или же был кто-то третий, который помог ему скрыться. — Третий? — удивился Сэнди. — Ну да, — подтвердил Чарли. — Шерри говорит, что второй так и остался в фургоне. — Боже! — Да это настоящие камикадзе, — с дрожью в голосе произнесла Кристина. — Его, должно быть, разнесло на тысячу кусочков, — начал говорить Макс и сказал бы еще больше, если бы его не остановил Чарли, указав на мальчика, который слушал все это, широко раскрыв рот. Они замолчали, каждый представил себе страшный конец, постигший человека из фургона. Дождь стучал по крыше, словно барабанная дробь похоронной процессии. Механик включил электроключ, и все вздрогнули от резкого металлического звука. Когда звук смолк, Чарли посмотрел на Кристину и сказал: — Хорошо, давайте-ка отсюда выбираться. Макс и Сэнди, не оставляя без внимания ни единого шороха, проводили их до стоявшего перед гаражом серого «Мерседеса». Кристина села впереди рядом с Чарли, Джой с собакой — сзади. Чарли, уже сидя за баранкой и обращаясь через открытое окно к Сэнди и Максу, сказал: — Вы хорошо поработали! — Да, только едва не потеряли их, — сказал Сэнди, не принимая похвалы. — Главное — не потеряли, — сказал Чарли. — При этом сами остались живы. Лишись он еще кого-то из своих людей, когда так свежа в памяти гибель Пита и Фрэнка, он не уверен, что справился бы с этим. С данного момента только ему одному будет известно местонахождение Кристины и Джоя. Его люди будут заниматься этим делом, доказывать, что существует связь между Церковью Сумерек и всеми этими убийствами или попытками убийства, но, пока не удастся остановить Грейс Спиви, только он один будет знать, где скрываются его подопечные. Таким образом, шпионы Грейс Спиви не смогут их найти, а ему не придется переживать за своих людей. Он будет рисковать только своей собственной жизнью. Чарли поднял оконное стекло, заблокировал все четыре двери с дистанционного пульта и помчал прочь. Лагуна-Бич был чудесным, теплым, чистым и жизнерадостным городком, но сегодня его окутывали дождь и туман, и все краски поблекли. У Чарли возникло ощущение, что он на кладбище, как будто над ним медленно опускают крышку гроба. Ему стало легче дышать лишь после того, как они выехали за черту города и устремились на север по шоссе Пэсиденк-Кост.* * *
Кристина обернулась и посмотрела на Джоя, который притих на заднем сиденье. Брэнди…, то есть нет, Чубакка лежал рядом, положив голову ему на колени. Джой рассеянно поглаживал собаку и безучастно смотрел в окно на неспокойные, покрытые рябью воды океана, с которого в сторону берега надвигалась плотная стена тумана. У него был отсутствующий взгляд, ничего не выражающий, почти — но не совсем. В нем угадывалось нечто, чего Кристина никогда прежде не замечала, и она не могла постичь этого. О чем он думал? Что чувствовал? Она уже дважды спросила его, как он себя чувствует, и он ответил, что хорошо. Она не хотела надоедать ему, но также не могла и унять тревоги. И дело было не только в том, что ее беспокоило его физическое здоровье, хотя она терзалась и об этом. Более всего ее волновало состояние его психики. Если он выйдет живым из этой безумной охоты за ним, которую устроила Грейс Спиви, какие раны на всю жизнь останутся после этого в его душе? Невозможно, чтобы такое испытание прошло без всяких последствий для его психики. Джой продолжал гладить собаку по голове, но при этом пребывал точно в гипнотическом сне: как будто не ощущая, что собака на самом деле рядом с ним, отсутствующим взглядом смотрел на океан. — Полиция хочет, чтобы я привез вас, — у них есть к вам вопросы, — сказал Чарли. — К черту полицию, — отозвалась Кристина. — Теперь они серьезно хотят помочь… — Потребовалось несколько смертей, чтобы они удостоили нас своим вниманием. — Не стоит списывать их со счетов. Разумеется, мы защитим вас лучше, чем они, и, возможно, нам удастся раскопать что-то, что ускорит арест Грейс. Но теперь, когда полиция завела дело об убийстве, они выполнят основную работу, необходимую, чтобы выдвинуть против Грейс обвинение и привлечь ее к суду. Только так можно остановить ее. — Я не верю полиции, — резко возразила она. — У Спиви, видимо, есть свои люди там. — Не могла же она посадить их в каждое полицейское управление по всей стране. У нее нет такого количества последователей. — Необязательно в каждое, — бесстрастно сказала Кристина. — Достаточно иметь своих людей в тех городах, где она проводит кампании по сбору средств и вербует сторонников. — Полицейские Лагуна-Бич тоже, разумеется, хотели бы поговорить с вами о том, что случилось сегодня утром. — К чертям и их тоже. Даже если никто из них и не принадлежит к Церкви Сумерек, Спиви, возможно, рассчитывает на то, что я появлюсь в полицейском управлении. Ее люди могут поджидать нас, чтобы в ту же секунду прикончить, как только выйдем из машины. — Страшная догадка осенила ее, и она спросила: — Вы что, везете нас в полицию? — Нет, — успокоил Чарли. — Я только сказал, что они хотели встретиться с вами. Я не говорил, что считаю это хорошей идеей. Кристина откинулась на сиденье: — А есть они, хорошие идеи? — Главное — не унывать. — Я хочу сказать, что мы будем делать теперь? У нас нет никакой одежды, кроме той, что на нас, да еще сумка и кредитная карточка. Не много. Нам негде остановиться. Мы не можем поехать ни к друзьям, ни к знакомым. Они травят нас, как дичь. — Не совсем так, — сказал Чарли. — Дичь, которую травят, не может позволить себе роскоши спасаться бегством на «Мерседесе». Кристине были приятны его робкие попытки вызвать ее улыбку, но у нее не было сил подыграть. Глухой перестук «дворников» — стеклоочистителей походил на сердцебиение неведомого неземного существа. — Мы отправимся в Лос-Анджелес, — сказал Чарли. — Хотя там и слышали о существовании Церкви Сумерек, но ее основная деятельность сосредоточена в округах Оранж и Сан-Диего. В Лос-Анджелесе шляется гораздо меньше соратников Грейс, поэтому риск того, что нас случайно заметят, невелик. Практически никакого риска. — Они повсюду, — сказала Кристина. — Побольше оптимизма, — сказал Чарли. — И не забывайте о маленьких ушках. Она оглянулась и посмотрела на Джоя, почувствовав себя виноватой, ведь она могла нечаянно напугать его. Но он, казалось, не обращал никакого внимания на их разговор. По-прежнему смотрел в окно, только теперь не на океан, а на вереницу магазинов вдоль шоссе в Корона-Дель-Мар. — В Лос-Анджелесе купим чемоданы, одежду и все, что может потребоваться, — сказал Чарли. — И дальше? — Поужинаем. — И потом? — Найдем отель. — Что, если в этом отеле работает кто-то из ее людей? — А что, если кто-то из ее людей работает мэром Пекина? — спросил Чарли. — Тогда лучше не совать носа в Китай? На этот раз Кристина одарила его вымученной улыбкой — единственное, на что она оказалась способна. Но сама она была изумлена, что ее хватило хотя бы на это. — Простите, — сказала она. — За что? За то, что вы живой человек и к тому же до смерти напуганы? — Не хочется впадать в истерику. — Так не надо. — Не буду. — Вот и хорошо. Есть ведь и хорошие новости. — Например? — Установили личность одного из трех нападавших, погибшего в первую ночь, — того рыжего, что вы застрелили. Его имя Пэт О'Хара. Полиция уверена в этом потому, что он профессиональный взломщик и за ним числятся три ареста и одна судимость. — Взломщик? — Кристина была совершенно сбита с толку тем обстоятельством, что в этой истории был замешан заурядный уголовник. — Но полиция не только установила его имя. Они нашли подтверждение его причастности к секте Грейс Спиви. Эти слова вывели Кристину из апатии. — Каким образом? — Его родные и приятели показали, что восемь месяцев назад он вступил в секту Сумерек. — Наконец-то! — выпалила она, дрожа от охватившего ее возбуждения. — Теперь у них есть все, чтобы притянуть Грейс Спиви к ответу. — Разумеется, они снова были в церкви и говорили с ней. — И это все? Всего лишь поговорили! — На данном этапе у них нет никаких доказательств… — Но О'Хара член ее секты! — Однако нет доказательств, что он действовал, выполняя ее распоряжение. — Все они делают то, что она говорит им, они слепо подчиняются ее приказам. — Но Грейс заявляет, что ее Церковь придерживается свободных взглядов, никого не контролирует и не навязывает своей воли, так же как в любой католической или протестантской церкви, так же, как в синагоге. — Чушь собачья, — сказала она тихо, но с большим чувством. — Верно, — подтвердил Чарли. — Но это чертовски трудно доказать, особенно учитывая то обстоятельство, что мы не можем взять показания у кого-либо из бывших членов секты, чтобы получше узнать о царящих там порядках. От возбуждения, овладевшего Кристиной, не осталось и следа. — В таком случае какой нам прок от новости, что О'Хара состоит в секте Сумерек? — Ну, это придает вес вашим заявлениям о том, что Грейс преследует вас. Теперь в полиции куда более серьезно относятся к вашему делу, а это нам не повредит. — Но этого мало. — Есть и еще кое-что. — Что? — О'Хара — или тот второй, что был вместе с ним, — оставил у вашего дома кое-какие следы. Это сумка с эмблемой авиакомпании. В ней нашли приспособления, употребляемые взломщиками, но не только… Там была пластиковая банка, наполненная бесцветной жидкостью, которая оказалась простой водой. Но еще более любопытные находки — небольшой бронзовый крест и Библия. — Подтверждается, что у них была некая сумасшедшая религиозная миссия, верно? — Это, конечно, нельзя считать доказательством, но так или иначе интерес представляет. Круг все больше сужается. Это еще одно звено в цепи фактов, на основе которых можно будет возбудить дело против Грейс Спиви. — Такими темпами она окажется на скамье подсудимых разве что в самый канун следующего столетия, — мрачно изрекла Кристина. Они мчались по бульвару Макартура — дорога ныряла вниз, взбиралась на холмы, мимо Фэнш-Айленд, мимо роскошных особняков, мимо заболоченной поймы в районе Ньюпорт-Бей, поросшей высоким тростником, который то гнулся под косыми струями дождя, то вдруг выпрямлялся и часто дрожал, когда порывистый штормовой ветер внезапно менял направление. Был полдень, но большинство встречных машин ехали с зажженными фарами. — А полиции известно, что проповедует Грейс Спиви? О наступлении Сумерек, о Страшном суде, об Антихристе? — спросила Кристина. — Да, все это им известно, — ответил Чарли. — Им известно то, что она утверждает, будто Антихрист уже среди нас? — Да. — И что последние несколько лет она посвятила его поискам? — Да. — И что она намерена уничтожить его, как только найдет? — Она никогда не говорила об этом публично, и такого пассажа нет ни в одном из опубликованных ею религиозных опусов. — Но именно таковы ее планы, и мы знаем об этом. — Существует разница между тем, что мы знаем, и тем, что мы можем доказать. — Полиция должна понимать, что именно поэтому она зациклилась на Джое и… — Вчера вечером на допросе она отрицала, что знает вас с Джоем, как отрицала и саму сцену в «Саут-Кост-Плаза». По ее словам, она не понимает, что вы имеете против нее и почему стремитесь опорочить ее доброе имя. Она заявила, что еще не нашла Антихриста и, более того, считает это делом далекого будущего. Когда ее спросили, что она предпримет, если все же найдет Антихриста, ответила, что обратится с молитвами о помощи ко всевышнему. Ее спросили, не будет ли она предпринимать попыток убить Антихриста, но она сделала такой вид, будто одна мысль об этом вызывает негодование. Заявила, что она — божий человек, а не уголовник и что вполне достаточно будет ее молитв, которые остановят Антихриста и водворят его обратно в ад. — И они, разумеется, ей поверили. — Нет. Сегодня утром я разговаривал со следователем и читал протокол беседы с Грейс Спиви. Они считают ее личностью крайне неуравновешенной, а возможно, и опасной, отводя ей место основного подозреваемого по делу о попытке убийства вас двоих. Кристина не могла скрыть своего удивления. — Вот видите? — сказал Чарли. — Не стоит быть такой пессимисткой. Кое-что все же делается. Не так быстро, как хотелось бы, это верно, — потому что существуют формальные правила, которым полиция должна следовать, существует доказательственное право, конституционные права, наконец, которые надо уважать… — Мне иногда кажется, что единственные люди, которые имеют конституционные права, — это уголовные преступники. — Понимаю. Но лучшее, что мы можем сделать, — это постараться приспособиться к системе. Они миновали аэропорт «Оранж» и выехали на автостраду Сан-Диего, ведущую на север, к Лос-Анджелесу. Кристина снова оглянулась на Джоя. Он уже не смотрел в окно и не гладил собаку. Его укачало: свернувшись на заднем сиденье, он крепко спал, открыв рот и сладко посапывая. Повернувшись к Чарли, Кристина сказала: — Меня пугает, что в то время, как мы медленно и деликатно приспосабливаемся к системе, этой сучке Спиви никакой закон не писан. Она может себе позволить действовать быстро и жестоко. Пока мы будем топтаться, пытаясь не ущемить ее прав, она нас всех поубивает. — Но раньше она, возможно, изведет саму себя, — сказал Чарли. — Что вы хотите сказать? — Утром я был у нее в церкви, встречался с ней. Говорю вам, Кристина, она невменяема. Совершенно иррациональная особа. Расползается по швам. И Чарли поведал о визите к старухе, о кровавых стигматах на ступнях и ладонях. Если он рассчитывал, что придаст Кристине бодрости, изобразив Грейс Спиви косноязычной кликушей, балансирующей на краю гибели, то он ошибся. Неистовая одержимость этой безумной женщины делала ее в глазах Кристины еще более страшной и безжалостной, чем прежде, а ее угрозы от этого представлялись еще более неотвратимыми. — Вы сообщили об этом полиции? — спросила Кристина — Вы сказали, что она в вашем присутствии откровенно угрожала Джою? — Нет. Одних моих слов против нее недостаточно. Он рассказал о своей встрече с Дентоном Бутом, его другом, психологом. — Бут утверждает, что подверженные такого рода психозам отличаются неимоверной силой. Он говорит, не стоит надеяться на то, что ее хватит удар и это решит все наши проблемы, — но, говоря так, он сам никогда не видел ее. Будь он там со мной и Генри, он бы знал, что она долго не протянет. — Были у него какие-нибудь предложения, идеи относительно того, как ее остановить? — Он сказал, что самый верный способ —это убить ее, — с улыбкой ответил Чарли. Но Кристине было не до смеха. Оторвав взгляд от залитого дождем шоссе, он посмотрел на нее. Догадался, о чем она думает, и сказал: — Бу, разумеется, пошутил. — Пошутил? — Как вам сказать…, не совсем… То есть он действительно имел это в виду…, но в то же время он не мог не знать, что мы не можем всерьез рассматривать такой вариант. — Но вдруг это и есть единственный выход?! Чарли снова посмотрел на нее, озабоченно нахмурившись: — Надеюсь, и вы шутите? Она не ответила. — Кристина, если вы пойдете на нее с оружием…, если вы убьете ее, то окажетесь за решеткой. Джоя у вас отберут по суду. Так или иначе вы потеряете его. Прикончить Грейд Спиви — это не выход из положения. Кристина, тяжело вздохнув, согласно кивнула. Ей не хотелось спорить об этом. Но она задумалась… Пусть она закончит жизнь за решеткой и пусть у нее заберут Джоя, но по крайней мере он останется жив.* * *
Когда их «Мерседес» съехал с автострады на бульвар Уилшир в западном секторе Лос-Анджелеса, Джой проснулся и, шумно зевнув, спросил, где они находятся. — Вествуд, — ответил Чарли. — Никогда не был в Вествуде, — сказал Джой. — Вот как? — Чарли оживился. — А я подумал, что ты гражданин мира и побывал везде. — Как же я мог побывать везде? — спросил мальчик. — Ведь мне только шесть лет. — Что ж, достаточно взрослый, чтобы успеть везде, — сказал Чарли. — В твои годы я добирался от дома в Индиане аж до самой Пеории. — Это неприличное слово? — подозрительно спросил мальчик. Чарли рассмеялся, увидев, что у Кристины последний вопрос тоже вызвал улыбку. — Пеория? Да нет, ничего неприличного в этом слове нет. Это всего лишь название места. Видно, ты все-таки не гражданин мира. Гражданин мира Пеорию знает так же хорошо, как Париж. — Мамочка, о чем это он говорит? — Милый, он просто дурачится. — Я так и подумал, — сказал мальчик. — Все детективы иногда так себя ведут. Джим Рокфорд, бывает, дурачится. — Именно у него я этому научился, — сказал Чарли. — У старины Джима Рокфорда. Они оставили машину в подземном гараже возле Вествудского театра напротив здания Лос-Анджелесского университета и направились в Вествуд-Виллидж, чтобы купить одежду и другие необходимые вещи. Расплачивались по кредитным карточкам. Вопреки обстоятельствам и невзирая на отвратительную погоду, прогулка доставила им огромное удовольствие. Над входом в каждый магазин был или козырек, или матерчатый навес, под которым можно было оставить Чубакку, чтобы тот не мок под дождем, пока они делают покупки. Повышенного внимания они к себе не привлекали, поскольку растрепанный вид и забрызганную грязью одежду можно было отнести на счет проливного дождя — основная тема, живо обсуждавшаяся всеми продавцами. Чарли язвил по поводу одежды, которую они примеряли, а когда притворился, будто приглядел для себя спортивную рубашку кричащего апельсинового цвета, Джой зажал нос пальцами, словно почувствовал всепроникающий цитрусовый запах. Их вполне можно было принять за обычную семью, совершающую вылазку по магазинам, и казалось, что религиозные фанатики существуют где-то в другом мире, на Ближнем Востоке, где они никак не могут поделить свою нефть или мечети. Было приятно сознавать, что втроем они образуют некое единое целое, что их связывают особые узы, и Чарли вновь ощутил приступ ностальгии по домашнему теплу и уюту, о которых он прежде, до встречи с Кристиной Скавелло, никогда не думал. Они дважды относили покупки к машине, складывая их в багажник. Купив все необходимое для Кристины и Джоя, зашли еще в два магазина, чтобы экипировать и Чарли. Он не хотел рисковать, заезжая домой, где ему могли сесть на хвост, и купил себе чемодан, туалетные принадлежности, а также смену белья и кое-какую одежду с расчетом на три дня. Несколько раз замечали на улице людей, которые как будто наблюдали за ними или просто вызывали подозрение, но всякий раз опасность оказывалась мнимой, и постепенно они почувствовали себя спокойней. Конечно, не забывались и держались настороже, но уже не вели себя так, будто за каждым углом их поджидали вооруженные маньяки. Магазины уже закрывались, было половина шестого, когда они зашли в уютный ресторанчик, отделанный под атласное дерево, с витражами на окнах и фирменными блюдами типа фаршированного картофеля с сыром и беконом. Для ужина было еще довольно рано, но они не обедали и просто умирали от голода. Заказали аперитив, после чего Кристина с Джоем отправились в туалетную комнату умыться и переодеться. Пока их не было, Чарли по платному телефону позвонил в офис. Шерри еще сидела на работе и соединила Чарли с Генри Рэнкином, который хоть и ждал его звонка, однако новостей у него было немного. Исходя из результатов лабораторной экспертизы, полиция заключила, что в синем «Додже» — фургоне было два ящика с пластиковой взрывчаткой, аналогичной той, что находится на вооружении в американской армии, однако установить, где она была приобретена или похищена, не представлялось возможным. Удалось связаться с Мириам, теткой Генри, живущей в Мексике. Разумеется, ее поразило известие о том, что ее дома больше нет, но Генри она ни в чем не винила. Сказала, что не намерена возвращаться из Мексики раньше времени — отчасти потому, что вряд ли из имущества можно еще что-то спасти, а причиненный ущерб ей все равно возместят по страховке; отчасти же потому, что была жизнерадостным человеком и легко принимала неприятные сюрпризы, которые преподносила ей судьба, но главное — в Акапулько она познакомилась с очень интересным мужчиной. Его зовут Эрнесто. Это были все новости. — Я буду звонить два раза в день, чтобы быть в курсе, как продвигается дело, и чтобы, по возможности, оказать со своей стороны содействие, — сказал Чарли. — Если будет что-то новенькое про тетю Мириам и Эрнесто, я обязательно поделюсь с тобой. — Буду признателен. Повисла напряженная пауза — ни один, ни другой были не в настроении поддерживать разговор в шутливом тоне. Наконец Генри нарушил молчание: — Ты уверен, что поступаешь правильно, пытаясь защитить их в одиночку? — Это единственная возможность. — Трудно поверить, что Спиви внедрила к нам своих людей, тем не менее я каждого изучаю под микроскопом на предмет червоточины. Если такой есть — я его вычислю. — Я верю тебе, — сказал Чарли. Он не собирался говорить, что, пока Генри проверяет всех остальных, его самого — по приказу Чарли — проверяет другой оперативник, Майк Спеклович. Чарли мучили угрызения совести — приходилось не доверять другу, хотя он понимал, что это вызвано необходимостью. — Где ты сейчас? — спросил Генри. — В австралийской глубинке, — ответил Чарли. — Что? Ах да. Не мое дело, верно? — Мне, право, очень жаль, Генри. — Ничего страшного. Возможно, ты ведешь единственно верную игру, — сказал Генри, но в голосе звучала обида. Чарли повесил трубку и вернулся к столу. Настроение было подавленное: он ценил отношения доверительности и товарищества, установившиеся между его сотрудниками, а теперь с горечью отмечал, что эти отношения разрушаются из-за дела Спиви. Официантка поставила перед ним водку с мартини. Даже не пригубив, он заказал еще одну, после чего стал изучать меню. Кристина вернулась с сумкой, набитой старой одеждой и всякой косметикой. Теперь на ней были бежевые вельветовые джинсы и зеленая блузка, а на Джое — синие джинсы и ковбойская рубашка — предмет особой гордости. Новую экипировку было бы нелишне хорошенько выгладить, но она по крайней мере была куда чище и свежее того, что они носили с тех самых пор, как покинули обреченный дом Мириам Рэнкин. В самом деле, несмотря на складки на блузке, Кристина выглядела сногсшибательно, и у Чарли при одном взгляде на нее затрепетало в груди. К тому времени, как они вышли из ресторана, прихватив с собой пару гамбургеров для Чубакки, на город опустилась ночь и дождь поутих. Слегка моросило, и тяжелый, насыщенный влагой воздух угнетал дыхание, однако, похоже, необходимость постройки ковчега отпала. Пес почуял запах бутербродов, догадался, что это для него, так А» — 'что пришлось скормить их ему тут же, не дожидаясь возвращения в гараж. Он уплел их прямо перед входом в ресторан, на что Кристина заметила: — Знаете, у него даже повадки те же, что были у Брэнди. — Ты же всегда говорила, что у Брэнди дурные повадки, — напомнил Джой. — Именно это я и хотела сказать. Теперь, когда гроза отступила, улицы заполнили студенты Калифорнийского университета, спешившие кто в ресторан поужинать, кто в кино; было полно праздношатающихся зевак, глазеющих на витрины, и театралов, коротавших время, оставшееся до начала вечернего спектакля. Калифорнийцы ненавидят дождь и после грозы, подобно сегодняшней, высыпают на улицы, пребывая почти в карнавальном настроении. Чарли с сожалением уходил отсюда: посреди сошедшего с ума мира Вествуд-Виллидж создавал ощущение оазиса душевного здоровья, и он чувствовал благодарность за ту короткую передышку, которую они здесь нашли. Днем, когда ставили машину, гараж был почти полон и им пришлось переехать на самый нижний уровень. Сейчас, спускаясь в лифте, они ощущали приподнятое настроение, что всего несколько часов назад казалось невозможным. Не было более веского доказательства того, что бог существует и что жить в этом мире совсем неплохо, чем хороший ужин и безмятежная прогулка по оживленным улицам, когда не боишься, что тебя в любой момент могут застрелить. Но настроение упало, едва открылись двери лифта. Освещение перед самим лифтом было отключено. По обе стороны в глубине гаража горело несколько тусклых лампочек, были видны ряды машин, грубые бетонные стены и массивные несущие колонны, но пространство перед ними окутывала тьма. Казалось маловероятным, что три или четыре лампы перегорели одновременно. Эта тревожная мысль мелькнула в голове Чарли, как только раздвинулись двери лифта. Он не сделал еще и шага, как вдруг Чубакка разразился лаем, увидев впереди густые тени. Внезапно пес стал невероятно злобным, словно охваченный бешенством, однако не рвался из лифта прочь в погоню за тем, кто вызвал его гнев, и это, было плохим знаком — что-то нехорошее подстерегало там, в темноте. Чарли протянул руку, чтобы нажать кнопку. Что-то просвистело и ударило в стену, в пяти сантиметрах от Кристины. Пуля. В металлической панели зияла дыра. Звук от выстрела был как запоздалая мысль. — На пол! — крикнул Чарли и нажал кнопку. Раздался второй выстрел, и пуля попала в двери, которые в этот момент начали сдвигаться. Под аккомпанемент собачьего лая и крика Кристины Чарли нажал кнопку верхнего этажа, наконец двери закрылись, и они, словно пойманные в клетку, тронулись вверх. И Чарли показалось, что, пока они поднимались из этого бетонного колодца, он слышал еще один, последний выстрел. Убийцы, планируя покушение, не приняли в расчет, что собака мгновенно учует их и поднимет такой шум. Они не хотели убивать свою жертву в кабине лифта, а ждали, что Кристина с Джоем выйдут из него. Случись все так, как планировалось, они стреляли бы наверняка и сейчас Джой или его мать — или оба — уже были бы мертвы. Так или иначе, но все покушавшиеся находились на нижнем уровне гаража. Если бы они предусмотрели такую случайность, если бы они предвидели возможность того, что их жертва окажется начеку и не покинет кабину лифта, они могли бы поставить своих людей и наверху. Могли поставить стрелков на каждом этаже, где останавливается лифт. «Как они вычислили нас? — в смятении пытался понять Чарли, пока Кристина поднималась с пола. — Черт побери, как!» Он сжал пистолет, который не вынимал с тех пор, как утром ушел на свидание с Грейс Спиви, и направил его прямо перед собой, на двери лифта. Лифт остановился на последнем этаже. Открылись двери. Тусклый желтый свет. Серые бетонные стены. Призрачно мерцали контуры машин, стоявших в тесных боксах. Вооруженных людей видно не было. — Идем! — сказал Чарли. И они пустились бегом, опасаясь, что нападавшие следуют за ними по пятам.Глава 39
Они бежали по Хилгард-авеню, потом дальше, от Калифорнийского университета и деловой части Вествуда к дорогому и тихому пригороду. Чарли было спокойнее, когда их скрывала тень, и тревожно в островках света вокруг уличных фонарей, где их — единственных на улице — было легко обнаружить. Несколько раз они поворачивали, пытаясь найти укрытие около роскошных вилл. Постепенно становилось ясно, что они оторвались от преследователей, хотя и знали, что долго еще не будут чувствовать себя в полной безопасности. Дождь кончился, и в воздухе висел легкий туман, но к тому времени, когда Чарли стал подыскивать машину, они, хоть и были в плащах, снова вымокли и замерзли. Машины стояли вдоль тротуара под пропитанными влагой коралловыми деревьями и пальмами, и Чарли, воровато оглядываясь, пробовал открыть дверцы, молясь, чтобы никто не наблюдал за ними из соседних домов. Первые три не поддались, а дверца четвертой, желтого «Кадиллака», изготовленного года два назад, открылась. Кристине и Джою он жестом велел садиться в машину скорее. — Ключи есть? — Нет. — Вы собираетесь угнать ее или как? — Да, садитесь. — Я не хочу, чтобы вы нарушали закон и попали в тюрьму из-за меня и… — Садитесь! — нетерпеливо произнес он. На переднем велюровом сиденье могли поместиться трое, и Кристина посадила Джоя посередине, боясь отпустить его даже на заднее сиденье. Собака забралась назад, отряхиваясь и разбрызгивая на всех капли дождя. В «бардачке» нашелся маленький съемный фонарик, крепящийся к специальной нише и постоянно заряжающийся на ходу. Чарли посветил им под приборным щитком, ниже ведущего колеса, и нащупал провода зажигания. Замкнул контакты, и сразу заработал мотор «Кадиллака». Прошло не более двух минут с того момента, как он открыл машину. Отъехали от тротуара, с потушенными фарами проехали первый квартал. Убедившись, что их не заметили, Чарли включил фары и направил машину к Сансет-бульвару. — Что, если полиция остановит нас? — спросила Кристина. — Не остановит. Владелец, скорее всего, до утра не заявит об угоне. И даже если уже через десять минут обнаружит пропажу, то все равно некоторое время машина не будет объявлена в розыск. — Но могут остановить за превышение скорости… — Я не собираюсь превышать скорость. — … или какое-нибудь нарушение. — Вы думаете — я каскадер? — А ты — каскадер? — спросил Джой. — Конечно, лучше Эвеля Нивеля, — ответил Чарли. — Кого? — поинтересовался мальчик. — Боже, я старею, — ответил Чарли. — У нас будет погоня, как по телевизору? — не унимался Джой. — Надеюсь, нет, — сказал Чарли. — А я хотел бы, — отозвался мальчик. Чарли посмотрел в зеркало заднего обзора. Следом шли две машины. Но он не мог определить ни их модели, ничего. Только две пары фар в темноте. — Но рано или поздно найдут машину, — сказала Кристина. — Мы припаркуем ее где-нибудь и возьмем другую, — ответил Чарли. — Украсть еще одну? — Я ведь не пойду к «Герцу» или «Авису». Машину, взятую напрокат, найти легче. «Боже, помоги, — подумал он. — Скоро я буду похож на Рэя Милланда из «Потерянных выходных» — начну шарахаться от собственной тени, видеть огромных жуков, выползающих из стен». Он повернул налево. Обе машины сзади тоже. — Как они нашли нас? — спросила Кристина. — Наверное, установили радиомаячок на моем «Мерседесе». — Когда же они это сделали? — Не знаю. Может, когда я был в церкви утром. — Но вы говорили, что оставили в машине человека, чтобы тот послал за подмогой, если б вы не вернулись вовремя. — Да, Картера Рилбека. — Значит, он видел, как устанавливали маячок. — Если, конечно, он не один из них, — сказал Чарли. — Вы думаете, это может быть? — Наверное, нет. Они могли поставить «жучок» до этого. Как только узнали, что вы меня наняли. У Хилгарда повернул направо. Машины сзади тоже. Он сказал Кристине: — Или, может быть, Генри Рэнкин принадлежит Церкви Сумерек и, когда я звонил ему из ресторана, выследил по номеру, откуда звонок. — Вы говорили, он как брат. — Да. Но разве Каин не был братом Авелю? Повернули налево, на Сансет-бульвар, Калифорнийский университет остался слева, а здание Бел-Эйр на холмах справа. За ними последовала только одна машина. Кристина сказала: — Вы говорите так, будто стали параноиком, вроде меня. — Грейс Спиви не оставляет мне выбора. — Куда мы едем? — спросила она. — Дальше. — Куда? — Еще не знаю. — Мы потратили столько времени на покупку одежды и прочего, а теперь почти ничего нет, — произнесла она. — Мы завтра можем купить все необходимое. — Я не могу прийти домой, не могу ходить на работу, не могу остановиться ни у кого из моих друзей… — Я ваш друг, — сказал Чарли. — Теперь у нас даже нет машины. — У нас есть. — Краденая. — У нее четыре колеса, — ответил он. — Она на ходу. Этого вполне достаточно. — Я чувствую себя так, будто мы ковбои из какого-то старого фильма — индейцы заманили их в каньон и теснят к стене. — А помните, кто побеждает всегда в таких фильмах? — спросил Чарли. — Ковбои, — вмешался Джой. — Точно. Пришлось остановиться на красный свет светофора, потому что по иронии судьбы на другой стороне перекрестка находилась полицейская патрульная машина. Остановившись, Чарли почувствовал, как он уязвим. То и дело он поглядывал в боковые зеркальца и в зеркало заднего вида, наблюдая за машиной, следующей за ними, — боялся, что кто-нибудь выйдет из нее, пока они стоят здесь, кто-нибудь с дробовиком. — Мне бы вашу уверенность, — устало произнесла Кристина. Ее тон испугал Чарли. «Мне бы тоже», — подумал про себя. Светофор переключился. Проехали перекресток. Машина сзади немного отстала. Чарли сказал: — Утром все будет лучше. — А где мы будем утром? — спросила Кристина. Доехали до пересечения с бульваром Уилшир. Повернули направо к автостраде. — Как насчет Санта-Барбары? — Вы серьезно? — Это недалеко. Часа два. Мы можем быть там к девяти тридцати, заказать номер. Идущая следом машина тоже повернула направо у Уилшира и снова повисла на хвосте. — Лос-Анджелес — большой город, — сказала она. — Вы не считаете, что мы там будем в безопасности? — Может, и будем, — согласился он, — но я не буду чувствовать себя в безопасности, а мне необходимо остановиться там, где я бы не беспокоился, мог расслабиться и спокойно обдумать случившееся. Не могу работать в состоянии постоянной паники. Они не ожидают, что мы уедем далеко от моего офиса. Считают, что я буду крутиться где-то поблизости, не дальше Лос-Анджелеса, поэтому, думаю, в Санта-Барбаре мы будем в безопасности. Чарли свернул на въезд к автостраде Сан-Диего, ведущей на север. Посмотрел в зеркало. Пока машины не было. Понял, что все время сдерживал дыхание.. — Вы не рассчитывали на такие неприятности и неудобства, — возражала Кристина. — Рассчитывал, — ответил он. — Это же мой хлеб. — Ну да, конечно. — Спросите Джоя. Он все о нас знает, детективах. Он знает, просто мы любим рисковать. — Да, мам, — сказал мальчик. — Они любят рисковать. Чарли снова взглянул в зеркало заднего вида. Сзади не было ни одной машины. Их не преследовали. Они двигались на север, в ночь. Вскоре опять начался сильный дождь и опустился туман. Ландшафт и дорога приняли смутные очертания, и временами казалось, что они едут не по дороге, а пребывают в призрачном иллюзорном мире духов и снов.Глава 40
Квартира Кайла Барлоу в Санта-Ане была обставлена соответственно его габаритам. В ней стояли просторные кресла, большой раздвижной глубокий диван, крепкие приставные столики к нему и массивный журнальный столик, на который можно было положить ноги, не боясь его опрокинуть. Круглый стол в обеденном алькове появился в результате бесконечных поисков в магазинах уцененной мебели. Этот простой, разбитый, некрасивый стол был выше, чем обычные, и Кайлу хватало места для ног. В ванной — очень старая, очень большая ванна на ножках, а в спальне разместился огромный шкаф, приобретенный за сорок шесть долларов, и очень широкая кровать с изготовленным на заказ матрасом, на котором он только-только помещался. Его квартира — единственное место на земле, где он чувствовал себя по-настоящему спокойно. Но только не сегодня. Он не мог чувствовать себя спокойным, пока Антихрист жив. Не мог расслабиться, зная, что за последние двенадцать часов провалились два покушения. Он метался взад-вперед из маленькой кухни в гостиную, спальню, опять в гостиную, останавливаясь, чтобы посмотреть в окно. Жуткий бледно-желтый свет уличных фонарей и красный, синий, розоватый, фиолетовый оттенки неоновых реклам освещали главную улицу, причудливо искажая цвета и очертания предметов. Проезжающие машины поднимали фосфоресцирующие брызги воды, которые снова падали на тротуар подобно осколкам горного хрусталя. Ночь была совсем не жаркой, но падающие капли дождя казались капельками расплавленного серебра. Он пробовал смотреть телевизор. Не смог сосредоточиться. Он не мог сидеть на одном месте — садился и сразу вскакивал, пересаживался в другое кресло, опять вскакивал, шел в спальню, ложился на кровать, слышался странный шум за окном, он вставал, чтобы посмотреть и убедиться, что это всего лишь шум воды в водостоках, возвращался в спальню, решал, что не хочет ложиться, возвращался в гостиную. Антихрист был еще жив. Но не только это заставляло нервничать. Он старался не думать, что его еще что-то волнует, притворялся, что беспокоится только из-за мальчишки Скавелло, но в конце концов вынужден был признаться себе, что на самом деле тяготело над ним. Старая страсть. Непреодолимая страсть. ТАЙНАЯ СТРАСТЬ. Он хотел — нет! Неважно, что он хотел. Он не имеет права на это. Не может уступить ТАЙНОЙ СТРАСТИ. Не осмеливается. Он упал на колени посередине гостиной и молился господу, чтобы тот помог преодолеть его слабость. Молился неистово, страстно, самозабвенно, стиснув зубы так, что прошиб пот. Все еще он чувствовал старое невысказанное чудовищное желание кромсать, колотить, выворачивать руки, ноги, драть когтями, причинять боль, убивать. В полном отчаянии он поднялся с колен, пошел на кухню, открыл холодную воду, заткнул раковину, достал из холодильника кубики льда и бросил в воду. Когда раковина почти наполнилась, закрыл кран и опустил в ледяную воду голову. На некоторое время застыл в таком положении, задержав дыхание, лицом вниз, чувствуя жгучую боль, пока в конце концов не начал задыхаться, тогда поднял голову. Он дрожал, зубы стучали от холода, но ярость внутри не прошла, и он опять опустил голову и держал ее в воде до тех пор, пока не почувствовал, что легкие готовы взорваться, поднялся, отплевываясь и откашливаясь, теперь он совсем окоченел, била дрожь, но ярость все еще клокотала. Теперь здесь был сатана. Должен быть. Он был здесь, вызывал у Кайла старые чувства и соблазнял его, отнимал последний шанс на спасение. Я не буду! Как бешеный, метался по квартире, точно стараясь определить, где спрятался сатана. Он заглянул в кладовку, открыл шкафы, отдернул занавески. Он не рассчитывал увидеть сатану воочию, но был уверен, что почувствует присутствие дьявола где-нибудь, каким бы невидимым он ни был. Но никого не нашел. Это только доказывало, что Дьявол знает, где прятаться. Когда наконец оставил поиски сатаны, в ванной увидел свое отражение в зеркале: дикие глаза, раздувающиеся ноздри, трясущаяся нижняя челюсть, бескровные губы, оскаленные кривые желтые зубы. Он вспомнил призрака из фильма «Призрак оперы». Вспомнил чудовище Франкенштейна и сотни других искаженных, нечеловеческих лиц из сотни фильмов, которые смотрел в «Театре ужасов». Мир ненавидел его, а он ненавидел мир, всех их, кто смеялся, указывал на него пальцем, женщин, которые находили его отталкивающим, всех. «Нет, господи, прошу. Не позволяй мне думать об этом. Избавь меня от этого. Помоги. Прошу». Он не мог отвести глаз от тусклого зеркала, где отражалось его лицо, вобравшее в себя черты многих героев фильмов ужасов. — Он всегда смотрел по телевизору старые фильмы ужасов. Многими ночами сидел в одиночестве перед черно-белым экраном, завороженный кошмарными образами, а когда фильм заканчивался, направлялся в ванную, к этому зеркалу и смотрел на себя и говорил себе, что он не такой уродливый, не такой отпугивающий, не такой, как существа, которые выползали из первобытных болот, или прилетали из космоса, или исчезали из лабораторий сумасшедших ученых. По сравнению с ними он был почти обычным. В худшем случае жалким. Но никогда не мог уговорить себя. Зеркало не лгало. Оно показывало лицо, вызывающее кошмары. Он улыбнулся себе в зеркале, стараясь выглядеть дружелюбным. Результат получился ужасным. Вместо улыбки получилась злобная ухмылка. Ни одна женщина не пошла бы с ним, если бы он не платил, и даже некоторые проститутки отказывали ему. Шлюхи. Все. Грязные, вонючие, бессердечные шлюхи. Он хотел причинить им боль. Хотел передать, загнать свою боль в одну из них и оставить хотя бы ненадолго, чтобы самому избавиться от боли. Нет. Это плохие мысли. Злые мысли. Вспомни Мать Грейс. Вспомни о Сумерках, о спасении души и вечной жизни. Но он хотел. Он жаждал. Неожиданно для себя он вдруг очутился у выхода из квартиры. Приоткрыл дверь. Он собирался найти проститутку или кого-то избить. Или то и другое. Нет! Захлопнул дверь, запер на замок, прислонился к ней спиной, безумным взглядом обвел гостиную. Он должен был действовать быстро, чтобы спасти себя. Он проигрывал в сражении с искушением. Он задрожал, заскулил, застонал. Он знал: через какое-то мгновение опять откроет дверь и уйдет охотиться… В панике бросился к небольшой книжной полке, вытащил одну книгу из множества томов своей библиотеки церковной литературы, вырвал горсть страниц, бросил на пол, вырвал еще и еще, пока от книги не остался один переплет, который тоже разодрал пополам. Еще хорошо было что-то уничтожить. Он задыхался и дрожал, как загнанная лошадь, схватил вторую книгу, разорвал на кусочки, разбросал вокруг, поспешно схватил третью, уничтожил, потом еще и еще… Когда пришел в себя, вокруг на полу выросла кипа из порванных книг, тысячи вырванных страниц. Он сидел и тихо плакал. Вынул носовой платок, вытер глаза. Встал на колени, потом поднялся. Он больше не дрожал. ТАЙНАЯ СТРАСТЬ ушла. Сатана исчез. Кайл не уступил соблазну и теперь понимал, почему господь хотел, чтобы такие, как он, вступили в битву с Сумерками. Если господь набирал свою армию из людей, которые никогда Не грешили, как он мог быть уверен, что они устоят перед искушением дьявола? «Но, выбирая людей, подобных мне, — думал Кайл, — людей, не устоявших перед грехом, давая нам второй шанс на спасение, позволяя нам проявить себя, господь приобрел армию закаленных солдат». Он поднял глаза к потолку, но увидел вместо него небо и заглянул в сердце Вселенной. Произнес: — Я — достоин. Я выбрался из трясины порока и доказал, что не вернусь обратно. Если ты хочешь, чтобы я вручил тебе душу мальчишки, теперь я — достоин. Дай мне мальчишку. Позволь взять его душу. Позволь. Он чувствовал, что ТАЙНАЯ СТРАСТЬ снова поднимается в нем — потребность душить, рвать, громить, но на этот раз это было чистое чувство, святое послание божьему гладиатору. Его осенило, что господь просил сделать его то, чего он больше всего хотел избежать. Он не хотел опять убивать. Он не хотел больше причинять людям вред. Он наконец стал испытывать к себе хоть какое-то уважение, увидел, пусть смутную, возможность жить когда-нибудь в мире с остальными — и теперь господь хотел, чтобы он убивал, выплескивал свою ярость на избранные жертвы. «Почему? — вопрошал он во внезапной тихой тоске. — Почему я? Я гордился ТАЙНОЙ СТРАСТЬЮ, а теперь боюсь ее, она должна пугать меня. Почему меня надо использовать так, а не как-то иначе?» Это было тем, что Мать Грейс называла «греховными мыслями», и он старался избавиться от них. Он не должен подвергать сомнению волю господа. Просто надо принять то, что он хочет. Пути господни неисповедимы. Иногда он гневается, и мы не можем понять, почему он требует от тебя так много. Например, почему он хочет, чтобы ты совершил убийство… Или почему он сотворил тебя уродом, когда ему ничего не стоило сделать тебя красавцем. Нет. Это еще одна греховная мысль. Кайл убрал изодранные в клочья книги и налил себе стакан молока. Присев возле телефона, стал дожидаться, когда позвонит Грейс и скажет, что пробил час стать мечом господним.Часть IV. ПОГОНЯ
Ложь завораживает.Платон
Как ни весела охота, верьте, Вам не избежать объятий смерти. Собаки резвятся, точно черти, На каждой морде — маска смерти. Охота не вечна, псы голодны. Быстро и жадно Нажрутся они.«Книга исчислимых скорбей»
Глава 41
В Вентуре они бросили желтый «Кадиллак». Они шли по улице мимо частных домов, пока внимание Чарли не привлек темно-синий «Форд», владелец которого имел неосторожность оставить ключ в замке зажигания. Проехали пару миль и остановились на слабо освещенной стоянке за каким-то кинотеатром, где Чарли снял с машины номерные знаки и бросил в багажник, после чего отвернул номера с припаркованной поблизости «Тойоты» и перевесил их на «Форд». Если повезет, хозяин «Тойоты» не обнаружит пропажи до завтра, а возможно, и дольше, а заметив, что с его машины сняли номера, может, и не станет — по крайней мере сразу — заявлять в полицию. Как бы там ни было, полиция наверняка не придаст пропаже номеров такое же серьезное значение, как угону машины. И вряд ли после этого каждый полицейский штата будет озабочен поисками пары табличек, а кроме того, весьма маловероятно, чтобы этот мелкий случай связали с угоном «Форда». Полиция, получив заявление о краже номеров, расценит ее как простое хулиганство. А между тем на похищенном «Форде» появятся новые номера, и, таким образом, машина с этими номерами не будет значиться в розыске. Из Вентуры они направились на север и около десяти вечера во вторник прибыли в Санта-Барбару. Прежде Чарли любил убегать сюда, когда работать становилось невмоготу. Обычно останавливался в «Билтморе» или в «Монтесито Инн». Однако на этот раз выбрал захудалый мотель под названием «Тихий приют», расположившийся в восточной части Стейт-стрит. Все знали о той слабости, которую Чарли питал к дорогим вещам и хорошему сервису, поэтому никому не могло прийти в голову искать его в таком убогом месте. В «Тихом приюте» нашелся свободный номер, совмещенный с кухней, и Чарли снял его на неделю, зарегистрировавшись под именем Юноха Флинта и заплатив вперед наличными, чтобы лишний раз не показывать кредитную карточку. На окнах в номере висели бирюзового цвета шторы, на полу лежал выцветший оранжевый ковер, а на кроватях — кричащие желто-лиловые покрывала. Одно из двух: либо художник был стеснен в выделенных ему средствах и у него не было выбора, либо он был слепой, получивший это место в соответствии с федеральной программой занятости, направленной на обеспечение равных возможностей. Матрасы на двух просторных кроватях оказались слишком мягкими и сбившимися. Кушетка, которую можно было бы использовать в качестве третьего спального места, еще меньше подходила для этой цели. Мебель была разрозненная и довольно обшарпанная. В ванной висело пожелтевшее от времени зеркало, кафельная плитка на полу вся потрескалась, а у кондиционера во время работы появлялась одышка астматика. На кухне, расположенной в алькове и не видной из комнаты, стоял стол и четыре стула, имелась раковина с протекающим краном, разбитый холодильник, плита, дешевые тарелки и еще более дешевые столовые приборы, а также электрокофеварка; прилагались пакетики с кофе, сахар и обезжиренные сливки — стоимость их входила в оплату номера. Не бог весть что, но все же там было чище, чем они ожидали. Пока Кристина укладывала Джоя в постель, Чарли сварил кофе. Спустя несколько минут, войдя на кухню, Кристина заметила: — М-м-м, божественный аромат. Он налил две чашки кофе — себе и ей — и спросил: — Как там Джой? — Я еще не успела укрыть его, как он уже спал. Собака улеглась вместе с ним на кровати. Обычно я этого не позволяю. Но, черт возьми, я подумала, что, когда день начинается со взрыва бомбы и потом катится в том же духе, ты заслуживаешь, чтобы тебе разрешили спать вместе с собакой. Они сидели за кухонным столиком у окна, выходящего к автостоянке и небольшому плавательному бассейну, обнесенному кованой железной оградой, которая явно нуждалась в покраске. На мокром асфальте и на припаркованных машинах отражался оранжевый неоновый свет вывески мотеля. Снова надвигалась гроза. Кофе оказался неплохой, но самое приятное было просто побеседовать — обо всем, что приходило в голову, — о политике, кино, книгах, любимых местах отдыха, о работе, музыке, о мексиканской кухне, обо всем, кроме Грейс Спиви с ее Сумерками. Как будто между ними существовало негласное соглашение не упоминать о той ситуации, в которой они оказались. Они отчаянно нуждались в передышке. Для Чарли же эта беседа значила много больше: она давала возможность ближе узнать Кристину. С неиссякаемой любознательностью, свойственной влюбленному мужчине, он не пропускал ни одной детали, касающейся ее жизни, о каких бы приземленных материях ни шла речь. Возможно, он льстил себе, но ему казалось, что Кристина тоже проявляет к нему интерес. Он надеялся, что не обманывается. Больше всего на свете хотелось, чтобы она разделяла его чувства. К полуночи он поймал себя на том, что рассказывает ей такие подробности, которых прежде не говорил никому и о которых хотел забыть. Он думал, что поведал Кристине о событиях, давно утративших способность причинять ему боль, но теперь понял, что боль эта никогда по-настоящему не оставляла его. Он рассказал о годах лишений в Индианаполисе, когда бывало нечего есть, а зимой в доме царил ледяной холод, потому что пособие по бедности уходило в первую очередь на выпивку. Рассказал, как не мог уснуть ночами из-за страха, что крысы, кишащие в убогой лачуге, заберутся в кровать и объедят ему лицо. Он рассказал о жестоком отце-пьянице, который избивал мать с педантичной регулярностью, словно выполняя принудительную работу. Иногда и Чарли доставалось, когда отец слишком напивался, и уже не мог учинить настоящий дебош. Мать была слабой недалекой женщиной, к тому же сама не прочь выпить, Чарли она тяготилась и ни разу не вступилась за него, когда отец поднимал на него руку. — Ваши отец и мать до сих пор живы? — спросила Кристина. — Слава богу, нет! Теперь, когда я преуспел, они наверняка разбили бы лагерь у меня на пороге, изображая лучших в мире родителей. Но в этой семье никогда не существовало и тени любви или привязанности. — Вы довольно высоко забрались по лестнице, — сказала Кристина. — Да, особенно если учесть, что я не рассчитывал протянуть долго. Кристина посмотрела в окно на стоянку и плавательный бассейн. Он тоже смотрел туда. Вокруг стояла такая незыблемая тишина, что казалось — они единственные люди на земле. Чарли продолжал рассказ: — Я всегда думал, что рано или поздно, но отец убьет меня. Но самое забавное, что уже тогда я мечтал стать частным детективом, таким, как те, которых я видел по телевизору, — Ричард Дайэмонд или Питер Ганн, я знал, что они-то никогда ничего не боялись. А я, сколько себя помню, вечно жил в страхе и поэтому больше всего хотел избавиться от него. — И сейчас вы, разумеется, бесстрашный человек, — ее голос выдал иронию. Чарли улыбнулся: — Все кажется простым, когда ты ребенок. У мотеля остановилась машина, и они замерли в оцепенении, пока из нее не вышла молодая пара с двумя детьми. Чарли подлил кофе и продолжал: — Частенько, лежа в постели и прислушиваясь к крысиному шороху, молился, чтобы родители умерли прежде, чем успеют меня прикончить, и я по-настоящему разгневался на бога — он не откликался на мои молитвы. Я не мог защитить себя сам. Почему же бог не помогает беззащитным? — думал я. Постепенно взрослея, пришел к выводу: господь милостив и не станет убивать никого, даже таких моральных уродов, как мои старики. Тогда я стал молиться о том, чтобы хотя бы вырваться из этого места. «Милый боже, — молил я, — это я, Чарли, и все, чего я хочу, это выбраться когда-нибудь отсюда, чтобы жить в красивом доме, и что у меня были деньги, и чтобы больше ничего не бояться». Вдруг он вспомнил один трагикомический эпизод, о котором вроде бы давно забыл, и рассмеялся, удивившись причудливым лабиринтам памяти. — Как вы можете смеяться над этим? — спросила Кристина. — Хотя теперь я знаю, что все кончилось хорошо, мне до сих пор страшно за того мальчика из Индианаполиса. Как будто он все еще живет там. — Нет, нет… Я совсем не над этим… Я вспомнил кое-что другое, смешное и в то же время грустное. Спустя примерно год после того, как я начал молиться богу, мне надоело дожидаться, когда он отзовется на мои молитвы, и на какое-то время я обратился к противоположной стороне. — К противоположной стороне? Глядя на улицу, где в темноте бушевал ливень, Чарли сказал: — Тогда я прочитал историю о человеке, продавшем Душу дьяволу. Просто однажды ему захотелось получить то, в чем он давно нуждался, и заявил, что готов продать за это душу, и — бах — дьявол тут как тут с готовым контрактом, который остается только подписать. Тут я и решил, что дьявол действует намного быстрее и эффективнее бога. И по ночам стал молиться дьяволу. — Подозреваю, что он так никогда и не объявился с этим контрактом? — Нет. Оказался таким же недееспособным, как и бог. И однажды ночью вдруг до меня дошло, что мои старики наверняка окажутся в аду и если я продам свою душу дьяволу, то и я попаду туда же и останусь вместе с ними целую вечность. Эта мысль так напугала меня, что в темноте я вскочил с кровати и со всей истовостью, на которую был способен, стал молить бога спасти меня. Я понимал, что у него слишком много молитв, на которые надо ответить, и что должно пройти какое-то время, прежде чем очередь дойдет до меня. Я падал ниц, просил, умолял простить меня за то, что усомнился в нем. Похоже, я делал это довольно шумно, потому что мать вошла в комнату посмотреть, что происходит. Она, как всегда, была пьяна. Когда я признался, что разговариваю с богом, она сказала: «Да ну? Тогда скажи ему, что твой папаша опять шляется где-то с какой-нибудь шлюхой, и попроси его сделать так, чтобы у этого ублюдка отвалился член». — Боже правый! — воскликнула Кристина сквозь смех, но было видно, что она шокирована. Чарли понимал, что ее покоробило не само слово и не то, что он решился рассказать ей эту историю, ее потрясла атмосфера, царившая в доме и приоткрывшаяся ей в привычной для матери Чарли грубости. — Мне было только десять лет, — продолжал Чарли, — но всю свою жизнь я провел в самом грязном районе города, а моих родителей никто никогда не спутал бы с Оззи и Гарриет. Так что в то время я уже понимал, о чем она говорит, и ее слова казались мне самыми смешными из всего слышанного когда-либо. И после этого каждую ночь, обращаясь к богу со своими молитвами, я рано или поздно вспоминал то, что просила у бога моя мать, и начинал хохотать. Ни одна молитва не обходилась без моих хихиканий. А немного погодя я совсем прекратил беседы с богом: в свои двенадцать или тринадцать лет я уже знал, что, скорее всего, никакого бога и никакого дьявола нет, а даже если и есть, то ты должен сам устроить свою жизнь. Кристина тоже рассказала о своей матери, о монастыре, о том, чем занимается в магазине. Некоторые ее истории были такими же грустными, как и его. Другие были смешными, но в любом случае они казались самыми захватывающими из всех, которые он когда-нибудь слышал, потому что это были ее истории. Время от времени один из них говорил, что не мешало бы поспать, ведь они действительно измучены, но они продолжали беседовать, выпив два кофейника кофе. Было уже половина второго ночи, когда Чарли вдруг подумал, что непреодолимое желание узнать друг друга ближе не единственная причина их бдения. Они боялись ложиться спать. Часто выглядывали в окно. Чарли признал: они ждали, когда на стоянке появится белый «Форд» — фургон. Наконец он сказал: — Послушайте, мы же не можем просидеть так всю ночь. Здесь нас не найдут. Это невозможно. Давайте ложиться. Нам надо набраться сил. Кристина посмотрела на окно: — Если спать по очереди, один из нас все время сможет дежурить. — Это необязательно. Они не могли нас выследить. — Я буду дежурить первой. Вы ложитесь, я разбужу вас, скажем…, в полпятого. Он вздохнул: — Нет, я не хочу спать, ложитесь вы. — Тогда разбудите меня в полпятого, чтобы я вас сменила. — Хорошо. Они сполоснули грязные чашки. И вдруг обнялись и осторожно, тихо поцеловались. Его руки нежно ее ласкали, очаровательные изгибы тела возбуждали его. Если бы в комнате не было Джоя, они бы легли в постель, и это было бы самым лучшим. Но все, что могли они себе позволить, — стоять на кухне, прижавшись друг к другу, пока возбуждение не вылилось в раздражение. Тогда она поцеловала его страстно, а потом легко и нежно в уголки губ, и пошла спать. Погасив свет, Чарли сел за стол у окна и стал наблюдать за стоянкой. Он не намеревался будить Кристину в половине пятого. Через полчаса после того, как она легла в кровать, где спал Джой, Чарли, убедившись, что она уснула, улегся в другую кровать. Пока не сморил сон, он еще раз вспомнил о том, что рассказал Кристине о своем детстве, и в первый раз за двадцать пять лет произнес молитву. Как и раньше, молился о безопасности и избавлении маленького мальчика, но не того мальчика из Индианаполиса, которым он когда-то был, на этот раз онпросил за другого малыша, в Санта-Барбаре, волей злой судьбы ставшего объектом ненависти сумасшедшей старухи. Господи, не дай Грейс Спиви совершить это. Именем твоим не дай ей убить невинное дитя. Нет большего святотатства, чем это. Если ты действительно существуешь, если тебе действительно небезразлично, тогда пришло время совершить чудо. Пошли стаю воронов, чтобы они выклевали глаза этой старухе. Пошли наводнение, которое унесло бы ее прочь. Сделай что-нибудь — пусть инфаркт, инсульт, только бы остановить ее. Прислушиваясь к себе, он осознал, почему после стольких лет молчания снова обратился к богу. Впервые за долгое-долгое время, преследуемый сумасшедшей старухой и ее фанатиками, он почувствовал себя беззащитным ребенком, которому нужна помощь.Глава 42
Кайлу Барлоу снилось, что его убивают: безликий громила все бил и бил его ножом, Кайл понимал, что умирает, хотя было не больно и совсем не страшно. Он не сопротивлялся, а, напротив, подчинялся, и в этой покорности таилось самое глубокое чувство душевного покоя, какое только он мог испытывать. И хотя его убивали, это был не кошмар, а приятный сон; и какая-то его часть понимала, что убивают не всего его, а только порочную часть, убивают прежнего Кайла, который ненавидел весь мир, и когда он избавится от этой порочной части, то будет таким же, как все, — единственное, о чем он мечтал всю жизнь. Быть таким, как все… Его разбудил телефонный звонок. В темноте он нащупал трубку. — Слушаю? — Это Кайл? — послышался голос Матери Грейс. — Это я, — сон как рукой сняло. — Много чего происходит сейчас, — сказала она. Он посмотрел на светящийся циферблат часов. Они показывали 4:06. — Что? Что происходит? — Мы избавляемся от неверных, — загадочно произнесла она. — Я хочу присутствовать там, где что-то будет происходить. — Мы сожгли их и посыпали землю солью, чтобы они не смогли вернуться, — голос становился тверже. — Ты же обещала мне. Я хотел сам быть там. — До сих пор ты был не нужен, — сказала Мать Грейс. Он сбросил одеяло, сел на край кровати, оскалившись в темноту: — Что от меня требуется? — Они увезли мальчишку. Они хотят спрятать его до тех пор, пока он не станет достаточно могущественным, пока не превратится в неприкасаемого. — Куда увезли его? — спросил Кайл. — Не знаю точно. Но они наверняка были в Вентуре. Жду или новых известий, или видения, которое прояснит ситуацию. Пока будем искать на севере. — Кто? — Ты, Эдна, я сама, еще шесть-восемь человек. — Мы будем искать мальчишку? — Да. Собери вещи и приходи в церковь. Мы уезжаем не позже чем через час. — Я буду немедленно, — сказал он. — Да благословит тебя бог. — Она повесила трубку. Барлоу было страшно. Он вспомнил сон, вспомнил, как хорошо было во сне, показалось, что он понимает смысл сна: у него пропадает вкус к разрушению, пропадает жажда крови. Но сейчас ничего хорошего в этом не было, потому что впервые в жизни ему предоставлялся шанс применить свой талант к насилию на благое дело. От этого зависело его спасение. Он должен убить мальчишку. Это праведное дело. Он не должен окончательно утратить чувство горькой, ненависти, которое руководило им всю его жизнь. Было уже поздно. Сумерки опускались, и Грейс хотела, чтобы он стал карающим мечом господа.Глава 43
В среду утром дождь перестал, а небо лишь наполовину было забрано облаками. Чарли поднялся первым, принял душ, и к тому времени, когда проснулись Кристина с Джоем, он варил кофе. Кристину, похоже, поразил сам факт, что они до сих Пор живы. Халата у нее не было, она обмоталась полотенцем и вышла на кухню, похожая на индейскую скво. — Вы не разбудили меня подежурить, — сказала она. — Мы же не морские пехотинцы, — Чарли улыбнулся, он решил избегать паники, охватившей их накануне. Будучи чересчур взвинченными, они не могли действовать, только отбивались. В конечном итоге такое поведение приведет к гибели. Он должен был подумать, он должен был составить план, но не в состоянии был делать ни того, ни другого, Постоянно нервно оглядываясь. Здесь, в Санта-Барбаре, они были в безопасности, пока соблюдали минимальные меры предосторожности. — Но мы же все спали, — сказала Кристина. — Мы должны были отдохнуть. — Но я спала настолько крепко…, они могли ворваться сюда, и я бы поняла это только тогда, когда прогремели бы выстрелы. Чарли огляделся, притворно нахмурившись. — А где камера? Мы что, снимаем ролик о мерах личной безопасности? Она вздохнула и улыбнулась: — А вы думаете, мы в безопасности? — Думаю, да. — В самом деле? — Эта ночь подтвердила, что это так, верно? На кухню вошел Джой, босой, в трусиках, волосы растрепаны и все еще заспанное лицо. — Мне снилась ведьма, — сказал он. — Сны не могут причинить вред, — сказал Чарли. В это утро мальчик выглядел подавленным. Его яркие синие глаза были скучными. — Мне приснилось, что она превратила тебя в жука, а потом раздавила ногой. — Сны ровным счетом ничего не значат, — сказал Чарли. — Мне однажды приснилось, что я президент Соединенных Штатов. Но ведь вокруг меня не шныряют агенты секретной службы, правда? — Она убила…, во сне она убила и мою маму тоже, — произнес Джой. Кристина прижала его к себе: — Малыш, Чарли прав. Сны ничего не значат. — Что бы мне ни снилось, ничего не происходило на самом деле, — сказал Чарли. Мальчик подошел к окну и, устремив взгляд на автостоянку, сказал: — Она где-то там. Кристина посмотрела на Чарли. Он понял, о чем она думает. До сих пор Джоя отличала удивительная эластичность психики: он легко приходил в себя после очередного стресса, после каждого перенесенного ужаса у него всегда находились силы для улыбки. Но теперь, возможно, он исчерпал свои ресурсы и его психика была уже не в состоянии восстанавливаться. Чубакка зашел на кухню и, остановившись рядом с мальчиком, тихо зарычал. — Видите? — сказал Джой. — Чубакка знает. Знает, что она где-то рядом. В мальчике уже не было прежней живости. Было мучительно видеть его посеревшее лицо, его самого, совсем упавшего духом. Чарли с Кристиной пытались приободрить его, но тщетно.* * *
В половине десятого они позавтракали в ближнем кафе. Чарли и Кристина были чертовски голодны, но Джоя пришлось заставить поесть. Они сидели в уголке у большого окна, Джой все время смотрел на небо, где виднелось несколько полосок синевы, похожих на яркие ленты, связывающие грязные облака. Он был таким угрюмым, как только может быть шестилетний ребенок. Чарли заинтересовало, почему мальчик то и дело смотрел на небо. Может быть, он ждал, что ведьма прилетит сюда на метле? Да, на самом деле так оно и было. Когда вам шесть лет от роду, вы не всегда в состоянии отличить настоящую опасность от мнимой. В этом возрасте вы верите в то, что в шкафу живет чудовище, и убеждены, что под кровать заполз кто-то еще похуже. Для Джоя, возможно, более естественным было высматривать помело в небе, чем белый «Форд» — фургон на шоссе. Чубакку оставили в машине около кафе. На завтрак ему принесли яичницу с ветчиной, которую он с жадностью проглотил. — Вчера были гамбургеры, сегодня — яичница с ветчиной, — сказала Кристина, — нужно бы зайти в магазин и купить собачью еду, а то пес решит, что всегда будет так хорошо питаться. Они опять отправились за одеждой и всякими мелочами в торговый центр неподалеку от Ист-Стейт-стрит. Джой кое-что примерил, но совсем равнодушно, уже не проявляя вчерашнего энтузиазма. Он мало говорил и совсем не улыбался. Кристина была встревожена этим. Так же, как и Чарли.* * *
Когда они вышли из магазина, было время обеда. Последней их покупкой стал маленький электронный приборчик в отделе радиотоваров. Размером с пачку сигарет, он представлял собой продукт паранойи 70 — 80-х годов и, в другое время, когда люди больше доверяли друг другу, не нашел бы своего покупателя. Это был детектор, позволяющий установить, подключено ли к телефону записывающее устройство или другая аппаратура слежения. В телефонной будке около бокового входа в универсам «Сирс» Чарли открутил телефон на трубке, заменив телефонов, прилагающимся к детектору. Затем снял микрофон и ключом от машины замкнул блокирующее устройство, не позволяющее позвонить в другой город, минуя оператора телефонной станции, после чего набрал номер «Клемет — Гаррисон» в Коста-Мезе. Если прибор засечет подслушивающее устройство, он успеет повесить трубку сразу после соединения, и, возможно, прежде, чем установят, что звонят по междугородному номеру, и определят код города. Послышалось два гудка, затем щелчок. Прибор показал, что записывающего устройства нет. Но вместо знакомого голоса Шерри Ордуэй Чарли услышал запись на автоответчике телефонной станции: — Номер, который вы набрали, больше не функционирует. Пожалуйста, уточните номер по справочнику или свяжитесь с оператором, чтобы… Чарли повесил трубку. Попробовал еще раз. Результат тот же. Мучимый предчувствием катастрофы, набрал домашний номер Генри Рэнкина. Трубку сняли после первого же гудка, детектор снова не показал подслушивающего устройства, но в этот раз отвечал не автоответчик. — Алло? — сказал Генри. — Генри, это я. Я только что звонил в офис… — Я как раз сидел у телефона, ожидая, что рано или поздно ты свяжешься со мной. Чарли, у нас большие неприятности, — сказал Генри.* * *
Кристина не слышала, о чем говорил Чарли, но догадалась — что-то произошло. Когда он наконец повесил трубку и открыл дверь, на нем не было лица. — Что случилось? — спросила она. Взглянув на Джоя, Чарли сказал: — Ничего страшного. Я говорил с Генри Рэнкином. Они работают, но новостей пока нет. Он лгал, желая пощадить Джоя, однако, как и Кристина, тот почувствовал это и спросил: — Что она теперь сделала? Что сделала ведьма? — Ничего, — ответил Чарли. — Она не может разыскать нас и поэтому бушует в округе Оранж. Вот и все. — Что значит «бушует»? — спросил Джой. — Не волнуйся. Все будет в порядке. Все идет по плану. Пойдемте в машину, надо найти какой-нибудь супермаркет и запастись провизией. Пока они шли через торговые ряды к машине, Чарли беспокойно оглядывался и заметно нервничал, чего утром за ним не наблюдалось. Кристине начала было передаваться его уверенность в том, что здесь, в Санта-Барбаре, они в безопасности, но сейчас из глубины подсознания снова, охватив ее всю, выполз страх. Погода опять портилась, что тоже было дурным предзнаменованием. Небо затягивали черные тучи. Они нашли супермаркет. Джой отставал. Обычно он бежал впереди, выбирая покупки и радуясь, что может помочь. Но сегодня шел медленно, почти не обращая внимания на прилавки. Убедившись, что мальчик не слышит, Чарли тихо сказал: — Вчера вечером спалили мою контору. — Спалили?! — Внутри у Кристины все оборвалось. — Вы хотите сказать…, сожгли? Он кивнул, взял с полки пару банок с мандариновыми дольками и положил их в тележку. — Все пропало…, мебель, аппаратура, картотека… — Помедлил, подождав, пока мимо пройдут две женщины с тележками, и продолжал: — Картотека хранилась в несгораемых ящиках, но кто-то открыл их, вытащил все бумаги и облил бензином. Кристина была потрясена: — Но в таком деле, как ваше…, неужели у вас не было сигнализации? — Две параллельные системы, действующие независимо друг от друга, обе с автономными источниками питания на случай отключения электроэнергии, — сказал Чарли. — Такие вещи должны действовать безотказно. — Так оно и предполагалось. Но ее людям удалось проникнуть внутрь. Кристина почувствовала себя дурно: — Думаете, это была Грейс Спиви? — Я знаю, что это была она. Вы еще не слышали обо всем, что произошло вчера вечером. Да, кроме нее, и некому, потому что все было сделано с удивительной злобой и бешеной одержимостью, а она сейчас должна испытывать злобу, потому что мы улизнули от нее. Не знает, куда мы пропали, не в состоянии настигнуть Джоя и поэтому крушит все что попало в сумасшедшем раже. Кристина вспомнила стол в офисе, картины Мартина Грина и промолвила: — О, Чарли, мне так жаль. Из-за меня вы потеряли свое дело, и все ваше… — Это может быть восстановлено, — ответил он, хотя она видела, что потери расстроили его. — Важные файлы микрофильмированы и хранятся в другом месте. Их можно восстановить. Мы найдем новое помещение. Страховка почти полностью покроет ущерб. Меня тревожат не деньги и не какие-то неудобства, а то обстоятельство, что в течение по меньшей мере нескольких дней, пока Генри не наведет там порядок, мои люди будут не в состоянии контролировать Грейс Спиви — и они не смогут прикрывать и поддерживать нас. Временно нам придется полагаться только на свои собственные силы. Было от чего расстроиться. Джой подошел к ним, держа в руках банку ананасовых консервов. — Мам, можно мне это? — Разумеется, — сказала она и положила банку в тележку. Если бы это заставило его улыбнуться, она купила бы ему упаковку миндальных конфет и еще что-нибудь из того, что обычно ему не позволялось. Джой опять ушел вперед, оглядывая полки. — Вы сказали, вчера случилось что-то еще… — напомнила Кристина. Чарли колебался. Он положил в тележку две банки яблочного сока, затем с болью и тревогой в голосе сказал: — Ваш дом тоже сожгли. Моментально, не отдавая себе отчета, она принялась в уме перечислять вещи, которых лишилась, — те, что были ей дороги, и те, что имели действительно большую ценность и теперь пропали в результате поджога: детские рисунки Джоя, восточный ковер в гостиной стоимостью пятнадцать тысяч долларов — это была первая дорогая вещь, которую она позволила себе купить после долгих лет самоограничения, которого требовала от нее мать, фотографии Тони, ее покойного брата, коллекция хрусталя «Лавлик»… В какой-то момент она едва не разрыдалась, но тут вернулся Джой и сообщил, что в конце ряда находится молочный отдел и он хочет купить к ананасу творога. И тут Кристина осознала, что потеря восточных ковров, картин и старых фотографий не имеет ровно никакого значения, пока с ней остается Джой. Только он в ее жизни был незаменим. Слезы отступили, и она велела ему взять творог. Когда Джой отошел, Чарли сказал: — И мой дом — тоже. До нее не сразу дошло: — Сгорел? — Дотла, — сказал он. — О боже. Это было уже слишком. Кристина чувствовала себя разносчиком чумы. Она приносила несчастье каждому, кто пытался помочь. — Грейс в ярости! — воскликнул Чарли. — Она не знает, куда мы исчезли, а поскольку действительно считает Джоя Антихристом, то боится, что миссия, порученная ей богом, провалилась. Она бесится и в то же время напугана и наносит удары вслепую. Сам факт, что Грейс пошла на это, означает, что здесь мы в безопасности. Более того, это значит, что она неумолимо уничтожает самое себя. Она слишком далеко зашла. Переступила все мыслимые границы. Полиция не может не связать эти три поджога с убийствами в вашем доме и со взрывом в Лагуна-Бич, в доме Мириам Рэнкин. Теперь это самое крупное дело в округе Оранж, а может быть, и во всем штате. Она не может безнаказанно взрывать или сжигать дома. Она объявила войну всему округу, и, честное слово, никто не будет терпеть этого. Теперь полиция займется ею всерьез. Они будут допрашивать ее и каждого члена ее Церкви. Они будут изучать ее дела под микроскопом. Вчера вечером она не могла не совершить ошибки, она не могла не оставить улик. Все, что нужно полиции, — это одна-единственная маленькая ошибка, за которую они ухватятся, и от ее алиби ничего не останется. С ней покончено. Это дело времени. От нас требуется только одно — сидеть в мотеле и несколько дней не высовывать носа, ждать, пока Церковь Сумерек не развалится на кусочки. — Надеюсь, что вы правы, — промолвила Кристина, больше не желая себя чересчур обнадеживать. Джой вернулся с творогом и некоторое время находился около них, пока они не оказались в ряду с небольшим отделом игрушек. И он вновь оставил их, чтобы поглазеть на игрушечное оружие. — Закончив с провизией, накупим кучу журналов, колоду карт, какие-нибудь игры — чтобы было чем заняться до выходных. Когда перевезем все это к себе, я избавлюсь от машины… — Но я думала, что она не будет объявлена в розыск еще несколько дней. Вы же сами сказали. Чарли старался не выглядеть удрученным, но голос и выражение лица выдавали его. Он бросил в тележку пачку печенья. — Все так, но, если верить Генри, полиция уже нашла желтый «Кадиллак», который бросили в Вентуре, и уже связала его с угоном «Форда» и пропавшими номерными знаками. На «Кадиллаке» остались отпечатки пальцев, и быстро установили, что они принадлежат мне, поскольку мои отпечатки есть в досье полицейского управления. — Но из того, что вы говорили, я поняла, что полиция никогда не работает так быстро. — Как правило, нет. В данном случае нам просто не повезло. — Опять? — «Кадиллак» принадлежит местному сенатору, и полиция подошла к этому делу не как к заурядному угону. — Нас будто кто-то сглазил. — Это просто случайность, — сказал Чарли, но такое развитие событий явно вывело его из равновесия. В следующем проходе были полки с картофельными и кукурузными чипсами и прочей сухой закуской — то, от чего Кристина всегда подальше держала Джоя. Но сейчас взяла картофельные чипсы и сырные шарики, положила в тележку — и потому, что хотела поднять Джою настроение, но главным образом потому, что казалось глупым отказывать себе в чем-то, когда отпущенного им времени могло оставаться очень мало. — Так что теперь полиция ищет уже не столько «Форд», — сказала Кристина, — сколько нас. — Но есть кое-что и похуже, — произнес он едва слышно, почти шепотом. Она уставилась на него, сомневаясь, хочет ли услышать то, что Чарли собирается сказать. За эти дни создалось впечатление, что они попали в тиски; последние несколько часов тиски чуть отпустили, но теперь Грейс Спиви вновь зажимала их. — Полиция в вествудском гараже нашла мой «Мерседер». Им сообщили о нем по телефону. В багажнике…, обнаружили труп. Кристина едва не лишилась дара речи: — Чей? — Они пока не знают. Мужчина. Лет тридцати с лишним, без документов, с двумя огнестрельными ранами. — Люди Спиви прикончили его и подбросили в вашу машину? — спросила она, приглядывая за Джоем, который выбирал игрушечные пистолеты в конце прохода. — Да, думаю, так. Возможно, он находился в гараже, когда они напали на нас. Может быть, он слишком много знал, и его необходимо было убрать. А потом поняли, что тело можно использовать, чтобы навести полицию на мой след. Теперь меня разыскивают не последователи Грейс Спиви, а каждый полицейский штата. Они остановились на месте и говорили тихо, но увлечённей уже не притворяясь, что поглощены выбором продуктов. — Но полиция, надеюсь, не считает, что это вы убили его? — Им приходится допускать, что я каким-то образом причастен. — Но неужели они не поймут, что это связано с Церковью, с этой сумасшедшей… — Безусловно. Однако могли решить, что этот тип в моем багажнике — один из ее людей и что я убрал его. И даже если заподозрят, что меня подставили, им все равно необходимо допросить меня. Так или иначе, вынуждены подготовить ордер на мой арест. Теперь за ними охотился весь мир. Казалось, не было никакой надежды. Словно яд, в Кристине поселилось отчаяние, высасывая последние силы. Она хотела просто лечь, закрыть глаза и уснуть. — Идемте, — сказал Чарли. — Давайте заканчивать с покупками, отвезем все в мотель, а потом избавимся от машины. Мне не стоит высовываться, пока какой-нибудь полицейский не заметит наши номера или не опознает меня. — Вы думаете, что полиции известно, что мы отправились из Вентуры в Санта-Барбару? — Они не могут знать этого наверняка, однако известно, что из Лос-Анджелеса мы все время двигались на север, так что вполне могут предположить, что мы подались в Санта-Барбару. Когда еще раз они проходили по рядам и расплачивались у кассы, Кристина почувствовала, что ей трудно дышать. Как будто на них направили прожектор. Ждала, что вот-вот завоют сирены. Джой становился все более вялым и грустным. Чувствовал, что от него что-то скрывают. Конечно, нехорошо, что приходится его обманывать, но Кристина сочла это лучшим, чем рассказать правду о поджоге дома. Тогда он был бы убежден, что никогда они не вернутся домой. Этого бы он не выдержал. Даже она была почти уже на пределе. Потому что это могло оказаться правдой. Возможно, им не суждено больше вернуться домой.Глава 44
Чарли загнал «Форд» на стоянку и, когда ставил перед входом в номер, в маленьком окне на кухне заметил какое-то движение. Это могло быть и плодом воображения. Могла зайти горничная. Чарли не верил ни в то, ни в другое. Не выключая двигателя, подал назад. — Что случилось? — спросила Кристина. — Банда, — ответил Чарли. — Что? Где? С заднего сиденья голосом, исполненным ужаса, Джой произнес: — Ведьма. Пока отъезжали назад, впереди медленно открывалась дверь их номера. «Черт побери, как же им удалось найти нас так быстро?» — изумился Чарли. Не тратя времени на разворот, продолжал вести машину задним ходом, быстро приближаясь к выезду на шоссе. В этот момент на улице появился белый фургон. Резко вывернув, заблокировал въезд к «Тихому приюту». Чарли увидел это в зеркало заднего вида и нажал на тормоза, чтобы избежать столкновения. Послышалась стрельба. Из мотеля выскочили два человека с автоматами. — Ложитесь! Кристина оглянулась на Джоя. — Живо на пол! — приказала она. — И вы тоже, — сказал Чарли, снова нажав на педаль газа и крутанув руль, чтобы увернуться от фургона. Кристина отстегнула ремень и пригнулась, чтобы ее не было видно в переднее стекло. Но если будут стрелять в дверь, пули ей все равно не избежать. Здесь Чарли был бессилен что-либо предпринять. Он мог только постараться поскорее выскочить отсюда. В закрытой машине оглушительно залаяла собака. Чарли промчался задним ходом через автостоянку, едва не столкнувшись с «Тойотой» и задев за край железной загородки, окружавшей плавательный бассейн. Другого выезда на улицу не было, но ему было на это наплевать. Он проделает свой собственный выезд. Подал назад на тротуар, задний мост заскрежетал по бордюру, Чарли молил бога, чтобы не пробило бак. «Форд» резко подскочил и вылетел на тротуар. Слава богу, движок продолжал работать. Сердце стучало, как шестицилиндровый мотор. Чарли не отпускал ноги с педали газа — машина, визжа шинами, с ревом вылетела задним ходом на Стейт-стрит, едва не врезавшись в «Фольксваген», ехавший вверх по улице, и заставив полдюжины других автомобилей резко затормозить и вывернуть в сторону, чтобы уступить ему дорогу. Белый фургон рванул от мотеля на улицу и попытался протаранить их. Он мчался прямо на них, и решетка радиатора напоминала жуткий оскал, разверстую акулью пасть. За лобовым стеклом было видно двоих. Фургон зацепил правое переднее крыло «Форда», раздался металлический скрежет и звон стекла разбитой фары. От сильного удара «Форд» подскочил — кричал Джой, скулила собака, Чарли чуть не откусил язык. Кристина хотела подняться и посмотреть, что происходит, но Чарли закричал, чтобы она оставалась на месте, переключил скорость и рванул вперед по Стейт-стрит, на восток, обогнув белый фургон. Тот попытался протаранить их, дав задний ход, но опоздал. Чарли боялся, что покореженное крыло будет цепляться за колесо и в конце концов им придется остановиться, но этого не случилось. Несколько раз слышалось какое-то бряканье, когда от машины отваливались поврежденные части, однако того специфического скрежещущего звука, с которым крыло блокирует колесо или ось, не было. Снова послышалась стрельба. Пули били по обшивке, но в салон не попадали. «Форд» на огромной скорости проскочил простреливаемый сектор. Чарли с такой силой сжал зубы, что у него свело челюсти. Впереди у перекрестка из-за угла появился еще один белый «Форд» — фургон, выскочивший из тени огромного дуба. Боже, они повсюду! Фургон остановился на перекрестке, загораживая им путь. Чарли отчаянно вырулил на полосу встречного движения, заставив шарахнуться в сторону приближавшийся «Мустанг». Какой-то красный «Ягуар», чтобы избежать столкновения, подпрыгнув на бордюре, влетел на автостоянку. Они были у самого перекрестка, и, хотя Чарли не отпускал ногу с педали газа, машина больше не набирала скорость. Второй фургон приближался. Он уже не успевал заблокировать дорогу, поэтому пошел на таран. Чарли все еще ехал по полосе встречного движения. Водитель мчащегося навстречу «Понтиака» затормозил слишком резко, и машину занесло и боком неотвратимо потащило прямо на них. Чарли отпустил газ, но не тормозил, иначе потерял бы маневренность и лишь на время отсрочил бы столкновение. У него оставались доли секунды, чтобы оценить ситуацию. Он не мог повернуть влево из-за потока транспорта. Справа наезжал белый фургон. Подать назад тоже нельзя — там машины, и, кроме того, на переключение скорости не было времени. Оставалось одно — продолжать ехать вперед и попытаться увильнуть от летящей на них стальной махины «Понтиака», который уже нависал над ними, точно гора. Из-под дымящихся шин «Понтиака» в воздух летели куски резины. В следующее мгновение ситуация переменилась: «Понтиак» уже не был обращен к ним боком, а, продолжая на ходу вращаться, развернулся на сто восемьдесят градусов. Теперь он летел на них задом, занимая меньший участок трассы. Чарли рванул руль вправо, затем влево; огибая юзом летевший «Понтиак», который просвистел мимо в каком-нибудь дюйме. С правой стороны в них врезался фургон. К счастью, он зацепил лишь бампер, который оторвался с диким скрежетом. Машина задрожала, ее отбросило на пару метров в сторону. Рулевое колесо словно сошло с ума: оно вращалось под ладонями Чарли, обжигая кожу. Он вскрикнул от боли, но не выпустил баранку из рук. Извергая проклятья и пытаясь подавить навернувшиеся от боли слезы, которые мешали смотреть, он направил машину на восток, надавил на газ и помчался вперед. Миновав перекресток, он вывернул вправо и перебрался на нужную полосу. Он просигналил идущим впереди машинам, чтобы они уступили дорогу. Второй фургон, тот, что снес бампер, наконец выбрался из свалки, образовавшейся на перекрестке, и пустился в погоню. Их разделяли две машины, потом одна, потом он оказался сразу за ними. Кристина с Джоем после того, как стихла стрельба, приподнялись на своих сиденьях. Мальчик посмотрел в заднее стекло и воскликнул: — Это ведьма! Я вижу ее! Я вижу ее! — Сядь и пристегни ремень, — велел ему Чарли. — Возможно, придется резко тормозить или поворачивать. Фургон был в десяти метрах и продолжал нагонять их. Оставалось семь метров. Чубакка опять залаял. Перегнувшись, Джой обнял собаку и пытался ее успокоить. Впереди идущие машины сворачивали и сбавляли скорость. Чарли поправил зеркало заднего обзора. Фургон был всего в пяти метрах. В трех. — Они будут таранить нас на ходу, — сказала Кристина. Слегка нажав на тормоза, Чарли повернул направо в узкий переулок, оставляя позади себя перегруженную транспортом Стейт-стрит. Они оказались в старом жилом районе, застроенном в основном бунгало и двухэтажными домами. Вокруг стояли старые деревья, по одной стороне были припаркованы машины. Фургон ехал следом, однако немного отстал, так как задержался на повороте. Он был менее маневренным, чем «Форд». Именно на это и рассчитывал Чарли. На ближайшем углу Чарли повернул налево, почти не сбавляя скорости, едва не поставив машину на два колеса. Он чуть было не потерял управление, но все-таки справился с ним, чудом избежав столкновения с автомобилем, который стоял у самого перекрестка. Миновав квартал, ушел вправо, затем влево, снова направо и еще раз направо, кружа по узким улочкам и постоянно увеличивая дистанцию между ними и фургоном. Когда они уже оторвались на расстояние двух кварталов, так что их преследователи больше не видели, куда они поворачивают, Чарли прекратил беспорядочные маневры и стал выбирать дорогу более расчетливо, направляясь обратно в сторону Стейт-стрит, затем пересек основную городскую магистраль и заехал на автостоянку возле какого-то торгового центра. — Мы что, останавливаемся? — спросила Кристина. — Да. — Но… — Мы оторвались от них. — Возможно, на какое-то время. Но они… — Мне надо кое-что проверить, — сказал Чарли. Он припарковался так, чтобы не было видно со Стейт-стрит, поставив машину между двумя другими, которые по размеру превосходили «Форд»: один — туристический трейлер, а второй — грузовичок-пикап. Очевидно, при столкновении со вторым белым фургоном, помимо бампера, была повреждена выхлопная труба, а может, и глушитель. Снизу в салон проникал едкий дым. Чарли попросил немного опустить стекла. Он не хотел бы выключать двигатель, чтобы в случае необходимости немедленно сняться с места, но дым был таким едким, что пришлось заглушить мотор. Кристина отстегнула ремень и повернулась к Джою: — Как дела, малыш? Мальчик не ответил. Чарли оглянулся на него. Джой забился в угол, крепко стиснув кулачки. Подбородок дрожал, в лице не было ни кровинки. Губы кривились, однако он был слишком напуган, чтобы заплакать, и, парализованный страхом, не мог вымолвить ни слова. Наконец он поднял глаза, взгляд был затравленным и каким-то старческим. Когда Чарли увидел обращенные на него глаза мальчика, в которых читалось страшное страдание, его охватили тоска, и отчаяние, и гнев. У него было подсознательное желание немедленно выйти из машины, найти на Стейт-стрит Грейс Спиви и разрядить в нее обойму. «Сука. Тупая, безумная, безжалостная, злобная, отвратительная старая сука!» Собака тихо поскуливала, как будто сопереживая своему юному хозяину. Мальчик издал похожий звук и посмотрел на пса, который положил голову ему на колени. Ведьма нашла их, словно по волшебству. Мальчик предупреждал, что от ведьмы спрятаться невозможно, что бы они ни предпринимали. И, похоже, он был прав. — Джой, — сказала Кристина, — что с тобой, малыш? Скажи что-нибудь. Все в порядке? Мальчик кивнул, но не произнес ни слова. И кивнул он как-то неуверенно. Чарли понимал, что происходит с мальчиком. Было трудно говорить, за какие-нибудь несколько минут все может пойти кувырком. В глазах Кристины стояли слезы. Чарли догадывался, о чем она думает. Она боялась, что теперь Джой сломался. Возможно, так оно и было.Глава 45
Клубящиеся черно-серые тучи прорвались, и разразилась собиравшаяся все утро гроза. Дождь поливал стоянку у торгового центра и стучал по крыше их потрепанного «Форда». Зловещие вспышки молний озаряли хмурое серое небо. Хорошо, думал Чарли, глядя в окно на затопляемый водой мир. Шторм, особенно грозовые разряды, были им на руку. Они радовались любой помощи, пусть даже небесной. — Должно быть где-то здесь, — сказал Чарли, открыв сумочку Кристины и вывалив все, что в ней было, на кресло. — Но я не понимаю, как они могли это сделать, — сказала она. — Это единственное место, где они могли его спрятать, — настаивал он, перерывая содержимое в поисках наиболее вероятного предмета, в котором мог быть спрятан миниатюрный передатчик. — Это единственная вещь, которая путешествует с нами от самого Лос-Анджелеса. Мы бросили чемоданы, оставили мою машину, так что это единственное место, где можно было его спрятать. — Но кому могла попасть в руки моя сумочка? — Его могли установить еще пару дней назад, до того, как началось это безумие, когда вы еще не подозревали ничего, — сказал Чарли. Он понимал, что хватается за соломинку, и старался, чтобы его голос не, выдавал отчаяния, но это не очень ему удавалось. «Если мы не таскаем с собой передатчик, — думал он, — тогда как же, черт побери, им удалось так быстро выйти на нас? Как?» Он огляделся по сторонам. Никаких белых фургонов не было. Пока. Джой смотрел в окно. Губы его шевелились, но он не произносил ни звука. Он выглядел совершенно изможденным. Капли дождя сквозь узкую щель в окне попали ему на лицо, но он, казалось, не замечал этого. Чарли вспомнил о своем несчастном детстве, о побоях, которые терпел от отца, вспомнил пьяное лицо матери, в котором не было ни тени любви. Он подумал о других беспомощных детях во всем мире, которые становятся жертвами насилия, потому что еще слишком малы, чтобы дать сдачи, и новая волна гнева придала ему сил. Он взял зеленую малахитовую пудреницу, которую вместе со всем остальным вытряхнул из сумочки Кристины, открыл ее, убрал пуховку и снял слой пудры, выбросив и то и другое в мешок для мусора, который был подвешен на щитке. Он быстро проверил пудреницу, но ничего не нашел. Он постучал ею об руль, отчего она разбилась, и он внимательно осмотрел осколки, не обнаружив ничего подозрительного. — Если бы где-то здесь был передатчик, — сказала Кристина, — у него должен был быть мощный источник питания, верно? — Батарейка, — сказал он, разбирая футляр с помадой. — Но он же не смог бы работать от такой крохотной батарейки. — Уровень современной технологии позволяет и не такое. Они могут быть микроскопическими, вы не поверите. Хотя все четыре окна были слегка приоткрыты и свежий воздух беспрепятственно поступал в салон, стекла запотели. Чарли не мог наблюдать за стоянкой, это нервировало, поэтому он завел машину и, несмотря на выхлопные газы, которые просачивались в салон из поврежденного глушителя и выхлопной трубы, включил обогреватель стекол. В сумочке была ручка с золотым пером и капиллярная ручка. Чарли разобрал обе. — На какое расстояние может передавать такое устройство? — поинтересовалась Кристина. — Зависит от того, насколько совершенна его конструкция. — А точнее? — Мили на две. — Всего лишь? — Ну, максимум на пять. — Но из Лос-Анджелеса его засечь невозможно? — Нет. В ручках передатчика не оказалось. — Как же они нашли нас здесь, в Санта-Барбаре? — спросила Кристина. Просматривая ее бумажник, проверяя карманный фонарик, пузырек с эскедрином и другие мелочи, он сказал: — Возможно, у них есть осведомители в полицейских управлениях, через которых они узнали, что угнанный «Кадиллак» обнаружен в Вентуре. Затем, должно быть, предположили, что мы двигаемся в сторону Санта-Барбары, объявились здесь и на своих фургонах начали наугад прочесывать улицу за улицей с включенными принимающими устройствами, пока не оказались на достаточном расстоянии и не запеленговали передатчик. — Но ведь мы могли отправиться в сотню других мест, — сказала Кристина. — Я просто не понимаю, как они так быстро вышли на Санта-Барбару. — Может, они искали нас не только здесь. У них могут быть специальные группы в Вентуре, Оджае и в десятке других городов. — Какова вероятность обнаружить нас, прочесывая город такого размера и рассчитывая засечь сигнал передатчика? — Вероятность невелика, но такое возможно. Наверное, так оно и было, потому что как иначе они могли нас обнаружить? — Это ведьма, — с заднего сиденья произнес Джой. — У нее есть волшебная сила…, колдовские чары…, что-то такое, — и он снова погрузился в угрюмое молчание, глядя на дождь за окном. Чарли был готов согласиться с наивным объяснением Джоя. Старуха отличалась нечеловеческой одержимостью и обладала потрясающим даром преследования добычи. Естественно, никакого волшебства в этом не было. Всему есть логическое объяснение. Версия о миниатюрном передатчике выглядела наиболее убедительно, но будь это передатчик или что-либо другое, им было необходимо приложить весь свой интеллект и здравый смысл, чтобы найти ответ. В противном случае им никогда не оторваться от этой старой суки с ее фанатиками. Стекла очистились. Белых фургонов на стоянке не было. Чарли проверил все содержимое сумочки, но так и не нашел электронного устройства, которое, по его мнению, наверняка было там спрятано. Тогда стал прощупывать саму сумку в надежде найти что-то под подкладкой. — По-моему, нам пора трогаться, — нервничала Кристина. — Одну минуту, — сказал Чарли, разрывая пилкой для ногтей крепкие швы на ручке сумки. — Меня уже тошнит от выхлопных газов, — сказала она. — Откройте пошире окно. Внутри ручек не нашел ничего, кроме ватной прокладки. — Никакого передатчика, — сказала она. — И все же дело, должно быть, именно в этом. — Но если не в сумочке…, то где же? — Где-то, — мрачно произнес он. — Вы же сами сказали, что он должен быть в сумочке. — Я ошибся. Где-то еще… — Он задумался, но мысль о белых фургонах не давала сосредоточиться. — Нам надо ехать, — настаивала Кристина. — Я знаю. Он снял машину с ручного тормоза, переключил скорость и, подняв столб брызг, тронулся с места. — Куда теперь? — спросила Кристина. — Не знаю.Глава 46
Некоторое время они бесцельно кружили по Санта-Барбаре и соседнему городку Монтесито, держась в стороне от крупных автомагистралей, переезжая из одного спального района в другой с одной-единственной целью — не останавливаться. То здесь, то там на перекрестках в местах соединения — водостоков образовались настоящие озера, из-за которых проехать было сложно, а иногда и совсем невозможно. С деревьев капало, они стояли мокрые, с отяжелевшими от сырости ветками. Из-за дождя и туманной хмари все дома, независимо от стиля и цвета, казались одинаково серыми и грязными. Кристина боялась, что Чарли не представляет себе, как выбраться из создавшегося положения. Более того, что у него не осталось и надежды. Он был неразговорчив, вел машину, не произнося ни звука, мрачно глядя на залитые дождем улицы. Только теперь она окончательно осознала, насколько привыкла полагаться на его хорошее настроение, на его оптимизм и непоколебимую уверенность в себе. Она держалась только благодаря ему. Никогда она не думала, что будет способна сказать такое о мужчине, каком бы то ни было, но сейчас должна была признать: без Чарли она просто пропала бы. Джой говорил только тогда, когда к нему обращались, но сказать ему было особенно нечего, и голос его звучал отстраненно, точно у призрака. Таким же вялым и апатичным был Чубакка. Всю дорогу они слушали радио, ловили станции, передающие рок-музыку, или кантри, или свинг, или джаз. Но любая музыка, независимо от стиля, звучала фальшиво. Реклама казалась неуместной: когда за вами гонится банда лунатиков, чтобы убить вас и маленького мальчика, какая вам разница, лучше или хуже та или иная марка машинного масла, виски, джинсов или туалетной бумаги? Новости в основном касались погоды и были неутешительными: в десятке городов между Лос-Анджелесом и Сан-Диего — наводнения, в Малибу затопило первые этажи дорогих особняков, грязевые потоки наносят ущерб в Сан-Клементе, Лагуна-Бич, Пэсифик-Пэлисейдс, Монтесито и других населенных пунктах к северу по побережью. Мир Кристины рухнул и развалился на части, и теперь, похоже, все мироздание готово было последовать этому примеру. Когда Чарли заговорил, нарушив тягостное молчание, Кристина почувствовала такое облегчение, что едва не разрыдалась. А сказал он следующее: — Главная наша задача — убраться из Санта-Барбары, найти безопасное место и затаиться до тех пор, пока Генри не приведет все в порядок. Мы не сможем ничего предпринять, пока все мои люди не займутся делом Спиви вплотную и не начнут оказывать давление на нее и на всех прочих в ее поганой Церкви. — Как же нам выбраться из города? — спросила Кристина. — Ведь машина в розыске. — Да. К тому же разваливается на ходу. — Ну что, угоним еще одну тачку? — Нет, — сказал Чарли. — Первым делом нам нужны наличные. Деньги на исходе, а расплачиваться всюду по кредитным карточкам невозможно, потому что так мы оставляем след. Но пока мы здесь, в этой осторожности нет никакого смысла — им все равно известно, что мы в Санта-Барбаре, так что нужно получить по кредиткам всю имеющуюся на наших счетах наличность. Чарли стал действовать с ошеломляющей скоростью. Они разыскали телефонную будку и по справочнику выписали адреса ближайших отделений банков «Уэллс-Фарго» и «Секьюрити Пэсифик». Чарли имел счет в первом, Кристина — во втором. В одном из филиалов «Секьюрити Пэсифик» Кристина по кредитной карточке «Виза» сняла тысячу долларов, в другом получила пятьсот долларов по «Мастеркард», а в третьем приобрела на две тысячи долларов дорожных чеков номинальной стоимостью по двадцать и сто долларов каждый. Затем у входа в банк, используя свою автоматическую чековую книжку, получила в банковском кассовом аппарате три сотни долларов единовременно и, справившись через компьютер, выяснила, что имеет право снимать такую же сумму дважды в день. Таким образом, к полутора тысячам, полученным по «Мастеркард» и «Виза», добавила еще шестьсот долларов. Вместе с двумя тысячами в дорожных чеках у нее образовалась сумма в четыре тысячи сто долларов. — Теперь посмотрим, что имеется у меня, — сказал Чарли, приступив к поискам отделения «Уэллс-Фарго». — Но этого должно хватить надолго, — сказала Кристина. — Только не для того, что я задумал, — ответил Чарли. — И что же вы задумали? — Потерпите…, увидите. В бумажнике у Чарли всегда лежал незаполненный чек. В ближайшем отделении своего банка, предъявив целую кипу удостоверений и пространно побеседовав с управляющим, Чарли снял со своего текущего счета семь тысяч пятьсот долларов из имевшихся восьми тысяч двухсот пятидесяти четырех. Он боялся, что полиция уже известила банк о том, что имеется ордер на его арест и, как только он появится за банковской стойкой, первый же служащий донесет на него властям. Но удача улыбнулась ему.Полиция не могла тягаться в оперативности с Грейс Спиви и ее сектантами. В других банках он снял деньги по «Виза», «Мастеркард», «Карт-Бланш» и «Америкэн Экспресс». Дважды, пока они кружили по городу, они видели патрульные машины, и каждый раз! Чарли старался убраться подальше с глаз полиции. Если же это было невозможно, он, затаив дыхание, ждал, что их вот-вот остановят, но всякий раз проносило. Он понимал — они играют с судьбой: в любой момент какой-нибудь фараон мог обратить внимание на номера или люди Спиви вновь запеленгуют их. Где же спрятан передатчик, если не в сумке Кристины? Где-то ведь он должен быть. Другого объяснения не было. С каждой минутой он все больше тревожился, покрываясь холодным потом. К концу дня они собрали больше четырнадцати тысяч долларов. Все так же лил дождь, и быстро темнело. — Ну, вот, — сказала Кристина. — Даже если бы можно было выжать еще несколько сотен, банки уже закрыты. Так что же теперь? Они остановились у торговых рядов, где приобрели новую сумочку для Кристины и кейс, чтобы сложить туда аккуратные банковские пачки, а также свежую газету. Внимание Чарли привлек огромный заголовок, занимавший половину первой полосы:ЛИДЕР РЕЛИГИОЗНОЙ СЕКТЫ РАЗЫСКИВАЕТСЯ В СВЯЗИ С СЕРИЕЙ ПОДЖОГОВ И ВЗРЫВОВОн показал газету Кристине. Стоя под козырьком у магазина готового платья, они внимательно, боясь пропустить хотя бы слово, прочитали статью. Шумел дождь, пузырились лужи на тротуаре. В статье мелькали их имена и говорилось, что Чарли разыскивается для дачи показаний по смежному делу об убийстве, но, к счастью, их фотографий газета не напечатала. — Итак, полиция ищет не только меня, — заключил Чарли, — но и Грейс Спиви. Это уже отрадно. — Это верно, только они ничего не смогут ей предъявить, — сказала Кристина. — Она чересчур умна и коварна для них. — Ведьмы не боятся полицейских, — мрачно заметил Джой. — Не стоит отчаиваться, — подбодрил их обоих Чарли. — Если бы вы видели эти дыры у нее на ладонях, если бы вы слышали, какой бред она несет, вы бы поняли, что она балансирует на краю пропасти. Меня совсем не удивит, если при очередном разговоре с полицией она будет бахвалиться перед ними своими подвигами. — Послушайте, — сказала Кристина, — ее, очевидно, разыскивают в округе Оранж или в районе Лос-Анджелес, но никак не здесь. Почему бы нам не позвонить в полицию — разумеется, анонимно — и не сообщить им, что она в этих краях. — Превосходная мысль, — сказал Чарли. Он позвонил из телефонной будки и был весьма краток. Он говорил с дежурным сержантом Пуласки, сообщив ему, что к произошедшему тем днем инциденту в мотеле «Тихая пристань» причастны Грейс Спиви и ее Церковь Сумерек. Он описал белые фургоны и предупредил, что члены секты вооружены автоматами. Он повесил трубку, не обращая внимания на вопросы сержанта. Вернувшись в машину, Чарли снова развернул газету, нашел в разделе объявлений рубрику «Продажа автомобилей» и углубился в чтение. Дом был небольшой, но опрятный. Одноэтажный коттедж под двускатной крышей с фронтоном — стиль, который редко встретишь в Калифорнии, — выкрашенный голубой краской, с белыми ставнями и белыми же оконными рамами. Фонари в конце дорожки и на крыльце напоминали латунные корабельные светильники. Дом походил на тихую гавань, в которой можно укрыться от шторма и всяких превратностей судьбы. Внезапная ностальгия по собственному дому охватила Чарли, он почувствовал запоздалую горечь, вспомнив о том, что сообщил ему утром Генри Рэнкин: его дом, так же как и Кристинин, сгорел дотла. Он убеждал себя, что страховка возместит ущерб, что не стоит оплакивать прошлое, что в жизни есть более важные вещи, чем те, что сгорели в огне. Но сейчас, как бы ни увещевал себя, не мог избавиться от тупой боли в сердце. Стоя в промозглых февральских сумерках под проливным дождем, усталый, обремененный грузом ответственности за безопасность Кристины и Джоя (бремя, тяжесть которого час за часом все увеличивалась), он не мог избавиться от щемящей тоски по любимому креслу, книгам и мебели в своем кабинете. — Хватит, — гневно приказал он себе. — Нет времени на сантименты и жалость к самому себе. По крайней мере, если мы собираемся жить дальше». От его дома осталась куча щебня. Его любимое кресло обратилось в прах. Его книги превратились в дым. Втроем в сопровождении Чубакки они поднялись на крыльцо и позвонили. Дверь открыл седой мужчина, на вид лет шестидесяти с лишним, в коричневом вязаном кардигане. — Мистер Мэдиган? — осведомился Чарли. — Я звонил вам некоторое время тому назад по поводу… — Вы Пол Смит, — сказал Мэдиган. — Он самый. — Проходите, проходите. О, да у вас собака. Можете привязать ее на крыльце. Кинув взгляд мимо хозяина дома в глубину гостиной, где лежал светло-бежевый ковер, Чарли заметил: — Боюсь, мы наследим у вас. Там на дорожке — тот самый фургон? — Точно, — сказал Мэдиган. — Секундочку, я только возьму ключи. Они молча ждали, пока он ходил за ключами. Коттедж стоял на высоком холме, с которого открывался вид на Санта-Барбару. Сквозь плотную пелену дождя внизу тускло мерцали огни города. Когда Мэдиган вернулся, на нем был плащ с капюшоном и высокие резиновые калоши. Янтарный свет, отбрасываемый фонарями, смягчал некоторую грубоватость изборожденного морщинами лица. Если бы они снимали фильм и искали актера на роль благодушного старикана, Мэдиган подошел бы как нельзя лучше. Мэдиган принял Кристину и Джоя за жену и сына Чарли и посетовал, как они рискнули выйти на улицу в такую отвратительную погоду. — Мы родом из Сиэтла, — солгала Кристина. — И такая погода для нас — привычное дело. Тем временем Джой все больше уходил в себя. Он не разговаривал с Мэдиганом и даже не улыбнулся, когда тот пытался подтрунивать над ним. Впрочем, если не знать, каким общительным ребенком он был, его неразговорчивость легко можно было принять за обычную застенчивость. Мэдиган горел желанием сбыть с рук джип-фургон, хотя и не отдавал себе отчета, что проявлял свое желание чересчур откровенно. Он считал, что ведет себя сдержанно, но без конца твердил о маленьком — всего тридцать две тысячи миль — пробеге, о протекторах, которые почти как новые, и прочих достоинствах машины. Чарли быстро сообразил, что к чему. Год назад Мэдиган стал пенсионером и ощутил, что на одну скромную пенсию и пособие службы социальной защиты трудно вести образ жизни, к которому они с женой привыкли. У них было два автомобиля, моторный катер и джип-фургон, не считая двух снегоходов. Теперь им приходилось выбирать между морским туризмом и зимними видами спорта, и они решили избавиться от джипа и снегоходов. Мэдигану было досадно, он сетовал на правительство, которое тянуло с него налоги, когда он был помоложе. — Выдирай они всего на десять процентов меньше, у меня бы сейчас была такая пенсия, что остаток жизни я провел бы как король. Но они забирали мои денежки и пускали их на ветер, да-да, пускали на ветер. Хотя, кроме двух лампочек, горевших над гаражом, другого освещения поблизости не было, Чарли отметил, что фургон находился в приличном состоянии, нигде не поржавел и не нуждался в ремонте. Двигатель заводился с пол-оборота, не чихал и не стучал. — Если желаете, можете попробовать на ходу, — предложил Мэдиган. — Это необязательно, — сказал Чарли. — Давайте лучше обсудим условия. Мэдиган просиял: — Пройдемте в дом. — Право, не хотелось бы наследить у вас на ковре. — Мы войдем через кухню. Они привязали Чубакку к столбу на заднем крыльце, вытерли ноги, отряхнули плащи и вошли в дом. В веселенькой светло-желтых тонов кухне было тепло. Миссис Мэдиган мыла и тут же возле раковины натирала овощи. Круглолицая и седая, она принадлежала к тому же типу благообразных и доброжелательных стариков, что и ее муж. Она настояла на том, чтобы Кристина с Чарли выпили кофе, и налила чашку горячего шоколада для Джоя, который был по-прежнему неразговорчив и печален. Мэдиган перебрал, пожалуй, процентов на двадцать, но Чарли без колебаний согласился на его цену, и старик не мог скрыть радостного удивления. — Что ж…, прекрасно! Если вы завтра принесете чек… — Я бы хотел заплатить наличными и забрать джип сегодня, — сказал Чарли. — Наличными? — удивился Мэдиган. — Э-э…, гм… можно и так. Только вот оформление… — Вы что-то задолжали банку или у вас нет паспорта на машину? — О нет, я ничего за нее не должен, а паспорт у меня здесь. — Значит, можно оформить и сегодня. — Но нам придется пройти экспертизу на уровень токсичности выхлопных газов, прежде чем вы сможете перерегистрировать ее на свое имя. — Знаю, я займусь этим утром, первым делом. — А если возникнут осложнения… — Вы, я вижу, мистер Мэдиган, порядочный человек. Уверен, вы не стали бы предлагать мне машину в плохом состоянии. — Ну что вы! Я ухаживал за ней, как за младенцем. — Меня это устраивает. — Вам надо будет поговорить со своим страховым агентом… — Непременно. Пока же, на ближайшие двадцать четыре часа, я застрахован. Быстрота, с какой Чарли хотел все провернуть, а также то, что он предложил расплатиться сейчас же и наличными, привели Мэдигана в некоторое замешательство и даже заронили какое-то подозрение. Однако он получал на восемьсот-девятьсот баксов больше того, на что первоначально рассчитывал, и этого было достаточно, чтобы он посмотрел на странные обстоятельства сквозь пальцы. Пятнадцать минут спустя они уже ехали в джипе-фургоне, и ни полиция, ни Грейс Спиви не могли бы установить факта покупки Чарли этой машины до тех пор, пока он не обратится в полицию с заявлением о перерегистрации ее на свое имя. И хотя дождь лил так же, а черные тучи то и дело прорезала молния, вечер больше не представлялся таким зловещим, каким был до сделки с Мэдиганом. — Почему это непременно должен быть джип? — спросила Кристина, когда они выехали на шоссе 101 и взяли курс на север. — Там, куда мы направляемся, — ответил Чарли, — нам потребуется четырехприводная машина. — А куда мы направляемся? — В конечном итоге в горы. — Зачем? — Есть один уголок, где мы сможем укрыться, пока Генри или полиция не найдут способа остановить Грейс Спиви. Я на паях владею коттеджем в горах Сьерра-Невады у озера Таху. — Это так далеко… — Но это идеальное место. Уединенное. Кроме меня, совладельцев еще трое. Каждый из нас проводит там по несколько недель в году, а когда дом пустует, мы сдаем его в аренду. Его построили как горнолыжный приют, но зимой он практически не используется, потому что дорогу туда так и не заасфальтировали. Там планировали построить двадцать шале такого же типа, а администрация округа обещала проложить дорогу, однако успели построить только первый, после чего планы забросили. Так что теперь туда ведет грунтовая дорога, по которой может проехать только одна машина, снег никогда не чистят, а зимой добраться до места совсем не просто. Дело довольно убыточное, как оказалось, но, возможно, сейчас принесет пользу. — Мы все время бежим, бежим куда-то… Я не привыкла бегать от проблем. — Но мы ничего не можем с этим поделать. Все в руках Генри и других. Наше дело — держаться подальше и остаться в живых. А в горах ни одна душа искать нас не будет. С заднего сиденья раздался усталый и бесцветный голос Джоя: — Ведьма будет искать нас. Она найдет нас. Нам не спрятаться от нее.
Глава 47
Грейс, как обычно, не спалось. Выехав из Санта-Барбары — вдесятером на двух белых фургонах и синем «Олдсмобиле», — они направились на север и спустя какое-то время остановились в мотеле в Соледаде. Мальчишку они упустили. Грейс была уверена — его увозили в северную часть штата, — она шкурой чувствовала это, но не знала, куда именно, и была вынуждена сделать остановку, чтобы дождаться последних новостей — или божественного озарения. Еще до того, как остановиться в мотеле, Грейс решила впасть в транс, и Кайл всячески старался помочь ей в этом, но она никак не могла перешагнуть барьер, отделяющий этот мир от потустороннего. Что-то стояло у нее на пути, некая стена, которой никогда прежде не было, — зловещая сдерживающая сила. Она ощущала присутствие сатаны. Он был рядом, в фургоне, не позволяя ей войти в царства теней. И ее молитв оказалось недостаточно, чтобы развеять дьявольские чары и вознестись к богу, чего она страстно желала. Поверженные, они остановились на ночлег и все вместе поужинали в местном кафе. Они были слишком измучены и напуганы, и ни у кого не было ни аппетита, ни желания о чем-то говорить. После ужина все разошлись по комнатам, словно монахи по кельям, чтобы помолиться, собраться с мыслями, прийти в себя. Но сон ускользал от Грейс. Кровать у нее была удобная, с тугим матрасом, однако ей постоянно мерещились голоса из царства духов. Хотя она и не пребывала в трансе, голоса взывали к ней откуда-то из-за изголовья, бормоча и предупреждая о чем-то — она никак не могла разобрать, о чем же, — задавая вопросы, которые она не могла разобрать. За то время, что она владела Даром, это был первый случай, когда ей не удавалось вступить в контакт с миром теней, и ею овладели раздражение и страх одновременно. Ей было страшно, так как она понимала, что это значит: дьявол добивался все большей власти над миром. Зверь стал настолько уверен в себе, что уже мог дерзко вмешиваться в отношения Грейс с богом. Сумерки опускались быстрее, чем предполагалось. Неумолимо распахивались врата ада. И хотя теперь голоса духов были невнятны, их мольбы звучали приглушенно и искаженно, Грейс улавливала в них тревожные нотки и знала, что впереди разверзлась пропасть. Может быть, если она отдохнет, если ей удастся уснуть, она наберется сил и сможет преодолеть барьер, разделивший два мира. Но в это страшное время покоя ей не было. За последние несколько дней она похудела на два килограмма, и глаза ее воспалились от постоянного недосыпания. Она хотела только одного — уснуть. Но невнятные голоса не отступали — ее уносил поток потусторонних голосов. Ей передавалась их тревога, ее охватывала паника. Время было на исходе. Мальчишка становился все сильнее. Слишком мало времени, чтобы успеть сделать все необходимое. Слишком мало времени. А может быть, времени уже и не осталось… Ее заполняли не только голоса, но и видения. Лежа в темноте на постели и вперив взгляд в потолок, Грейс видела, как внезапно оживали тени и покров ночи превращался в черные крылья и что-то отвратительное начинало» опускаться с потолка — нет — и падало на нее, трепыхалось, и шипело, и плевало ей в лицо какой-то холодной слизью — о боже, нет! — и дышало, источая серное зловоние. Отчаянно молотя руками, она давилась, силясь позвать на помощь, но голос предал ее, так же как она предала доверие господа. Руки не слушались. Тогда она заколотила ногами, но ноги тоже отнимались. Она извивалась. Тело сотрясала дрожь. Она чувствовала на теле грубые ладони. Они щипали и били ее. Чей-то масляный язык облизал ее лицо. Она видела устремленные на нее кровавые глаза, оскал рта, полного страшных острых зубов, провал носа — кошмарная личина, частью человечья, частью свиная, частью напоминавшая морду летучей мыши. К ней вернулась речь, но говорить она могла только шепотом. Она истово призывала бога, святых и произносила те священные слова, которые могли бы отвратить таинственного демона; и наконец он стал сжиматься и усыхать, глаза его тускнели, смрадное дыхание стихало, и вот он милостиво отпустил ее, взмыл к потолку и шарахнулся в окутанный мраком угол комнаты. Она села, отбросила скомканное одеяло и перевалилась к краю кровати. Дрожащей рукой нащупала ночную лампу. Сердце колотилось с такой силой, что ломило всю грудь и казалось, трещат кости. Она включила ночник. Никакого демона в комнате не было. Включив еще одну лампу, прошла в ванную. Там тоже никого не было. Но она знала, что он был реальностью, чудовищной реальностью, а не просто плодом ее воображения или галлюцинаций. Да, да. Она знала истину. Она знала страшную истину… …но чего она не знала, так это того, как она вышла из комнаты и очутилась на полу возле широкой кровати. Очевидно, в ванной ей стало плохо и она ползком добралась до постели. Но этого она не помнила. Когда сознание вернулось к ней, она нагая лежала ничком на ковре и тихо плакала. Потрясенная, сбитая с толку, сконфуженная, она надела пижаму и тут заметила, что под кроватью прячется змея. Она шипела. Это был самый зловещий звук, который Грейс когда-либо доводилось слышать. Змея выползла из-под кровати, огромная, как удав, с дьявольской мордой, какая бывает у гремучей змеи, с сетчатыми глазами насекомого и большими, точно скрюченные пальцы, клыками, с которых стекали капли яда. Так же, как некогда змей в Эдемском саду, тварь произнесла; — Твой бог больше не будет тебе покровительствовать, твой бог отказался от тебя. Она отчаянно затрясла головой: — Нет-нет-нет! С дьявольской грацией, от которой становилось не по себе, змея свернулась в кольцо, а из кольца поднялась ее голова. Она открыла пасть и бросилась вперед, укусив Грейс в шею… …как вдруг, не понимая, как она там очутилась, Грейс обнаружила себя сидящей на табуретке перед туалетным столиком, вперив взгляд в свое отражение в зеркале. Глаза ее были воспалены и слезились, ее пробирала дрожь. В глазах — она видела это даже по искаженному отражению, — в глазах было нечто такое, чего она не ожидала увидеть, и в испуге опустила взгляд, посмотрев на свою дряблую шею. Грейс думала, что увидит след от змеиного укуса, но ничего не было. Это невозможно. Зеркало лжет. Она провела ладонью по шее, но не почувствовала никакой раны, не было и боли. Выходит, змея не укусила ее. Но ведь она так отчетливо помнит… Прямо перед собой она увидела полную окурков пепельницу. В правой руке дымилась сигарета. Должно быть, она просидела здесь около часа, курила, уставившись в зеркало, — но этого она не помнила. Что с ней? Она потушила сигарету и снова посмотрела на себя в зеркало. Она была потрясена. Точно увидела себя впервые за много лет. Увидела всклокоченные грязные космы, ввалившиеся глаза, а под ними синие нездоровые мешки. Зубы — о боже, их будто две недели не чистили — с сильным желтым налетом. Теперь она знала: Дар лишил ее не только сна, но и многого другого из ее прежней жизни. Только теперь она была вынуждена с горечью признать, что ее божественный Дар — все эти видения, трансы, общения с духами — заставил ее махнуть на себя рукой. На пижаме были жирные пятна и пепел от сигарет. Она подняла руки и принялась с изумлением их рассматривать; когти давно не стриженные и обломанные, а под ними — слой грязи, костяшки пальцев посерели от грязи. Она всегда ценила чистоту и опрятность. Что бы сказал ее Альберт, если б увидел ее такой… Мелькнула унизительная мысль: не была ли ее дочь права, когда отправила ее на психиатрическое обследование? Подумалось, не грезит ли она. Может, она никакой не религиозный лидер, а просто старая женщина с помутившимся рассудком, одержимая страшными галлюцинациями и бредом, — сумасшедшая. Действительно ли Джой Скавелло — воплощенный Антихрист? Или всего лишь невинный ребенок? Действительно ли грядут Сумерки? Или ее страх перед дьяволом всего лишь больная фантазия глупой старухи? Внезапно с выворачивающей душу ясностью осознала, что ее «святая миссия» — не более чем крестовый поход жалкого шизофреника. Нет. Она яростно затрясла головой. Нет! Эти мерзкие сомнения — происки сатаны. Это был ее Гефсиманский сад. В Гефсиманском саду у Кедронского ручья тяжелые сомнения охватили Иисуса. Ее Гефсиманский сад расположился в куда более скромном месте: невзрачном мотеле в Соледаде, штат Калифорния. Но в ее жизни это был такой же ответственный момент, как и в жизни Иисуса. Это было испытание. Она должна укрепиться в своей вере в бога и в самое себя. Грейс открыла глаза и посмотрела на себя в зеркало, взгляд оставался таким же безумным. Нет! Она схватила пепельницу и швырнула в отражение, разбив вдребезги зеркало. На туалетный столик и на пол посыпались стекло и окурки. Она сразу же почувствовала себя лучше. Дьявол прятался в зеркале. Она разбила стекло, и дьявол оставил ее. Волна уверенности в своих силах захлестнула ее. У нее была божественная миссия. Она должна выполнить ее.Глава 48
Незадолго до полуночи Чарли остановился у мотеля, где они сняли двухместный номер. Будучи уверенным, что их никто не преследовал, и чувствуя себя намного спокойнее, чем прошлым вечером, он и теперь не сомневался в необходимости быть начеку постоянно, поэтому с Кристиной они отдыхали по очереди. Джой спал неспокойно, его преследовали кошмары, от которых он то и дело просыпался в холодном поту. А утром выглядел еще бледнее и практически не разговаривал. Ливень стих, и лишь слегка моросило. Низко нависали темные зловещие тучи. После завтрака Чарли вновь повел джип на север, на Сакраменто. Кристина села сзади вместе с мальчиком. Она читала ему купленные накануне книжки с рассказами и комиксами, Джой покорно слушал и при этом не задал ни единого вопроса и ни разу не улыбнулся Кристина предложила ему сыграть в карты, но он не захотел. Все больше Чарли переживал за мальчика, чувствовал возраставшие досаду и гнев. Он обещал защитить их, дал слово положить конец преследованиям Спиви. На поверку же вышло, что он помогал им только бежать, удирать, поджав хвост. Будущее представлялось туманным. Даже Чубакка выглядел подавленным. Его поместили в багажном отделении за задним сиденьем. Он лежал неподвижно и только иногда поднимал голову, чтобы посмотреть на серый бесцветный день, затем вновь скрывался за спинкой сиденья. Они прибыли в Сакраменто, когда не было и десяти. Разыскали большой магазин спорттоваров и накупили массу вещей, необходимых для жизни в горах: спальные мешки на случай, если в доме окажется недостаточно тепло, башмаки на толстой подошве, лыжные костюмы: белый — для Джоя, синий — для Кристины, зеленый — для Чарли, перчатки, темные очки, чтобы предотвратить снежную слепоту, вязаные шапочки, снегоступы, охотничьи спички в жестяных упаковках, топор и дюжину других вещей. Кроме того — дробовик «ремингтон», автоматический винчестер под патроны калибра 0,308 дюйма — легкое, но мощное оружие, и кучу патронов. Чарли был уверен — в горах Спиви не найдет их. В этом не могло быть сомнений. Но просто, на всякий случай… Они на скорую руку перекусили в «Макдоналдсе», а потом Чарли позвонил Генри Рэнкину, подсоединив предварительно к платному телефону детектор и убедившись, что линия не прослушивается. Новостей было немного. Газеты Оранжа и Лос-Анджелеса все так же пестрели материалами, посвященными Церкви Сумерек, а полиция по-прежнему занималась поисками Грейс Спиви. Искали и Чарли, все с большим нетерпением. Полиция подозревала, что он не объявляется из-за того, что и в самом деле замешан в убийстве. Полицейским и в голову не приходило, что он избегает их из опасения, что у Спиви могли быть осведомители в полицейском управлении. Такой возможности они просто не допускали. Тем временем Генри Рэнкин пытался снова поставить агентство на ноги, устроив у себя в доме штаб-квартиру. С завтрашнего дня он надеялся вплотную заняться делом Спиви. На станции техобслуживания они переоделись во все теплое. До гор оставалось рукой подать. Снова сели в джип, Чарли взял курс на восток к горам Сьерра-Невада. Кристина сидела с Джоем, читала, разговаривала с ним, отчаянно, но без видимых результатов пытаюсь его растормошить. Дождь совсем прекратился. Усиливался ветер. Потом началась метель.Глава 49
Мать Грейс ехала в «Олдсмобиле». За ней на двух белых фургонах следовали восемь учеников. Они двигались по шоссе номер пять в самом сердце Калифорнии, вокруг простирались необозримые поля, на которых даже в самый разгар зимы вызревал урожай. За рулем сидел Кайл Барлоу. Его охватывали то тревога и раздражительность, то усталость и сонливость, временами угнетали утомительная бесконечная дорога и унылый дождливый пейзаж. Хотя их агенты в полиции и других местах не знали ничего о местонахождении Джоя Скавелло и его матери, они держали курс на север от Соледада, потому что Грейс уверяла, что мальчишка и его стража должны быть где-то там. Она заявила, что ночью ей было видение. Барлоу был совершенно убежден — никакого видения не было, это одни домыслы. Слишком хорошо он знал ее, чтобы так просто попасться на удочку. Видел ее насквозь. Посети ее видение, она была бы теперь…, в эйфории. Она же, напротив, мрачна и молчалива. Кайл подозревал, что Грейс пребывает в полной растерянности и не хочет открыться им, что потеряла всякий контакт с царством теней. Его охватила тревога. Если Грейс утратила способность говорить с богом, если не могла больше совершать путешествия в потусторонний мир и общаться с ангелами и душами умерших, означало ли это, что она не является больше божьей избранницей и лишена божьего благословения на выполнение своей миссии? Или власть дьявола над миром настолько возросла, что Зверь может встать между богом и Грейс? Если это так, то Сумерки вот-вот наступят, и тогда начнется тысячелетнее правление зла. Он посмотрел на Грейс. Та была словно в забытьи: взгляд устремлен вперед, сквозь дождь, на прямое как стрела шоссе. Она выглядела еще более постаревшей, словно за несколько дней прожила десятилетие, и походила на древнюю мумию, посеревшую и иссохшую. Серым было не только ее лицо, но и вся одежда. По непонятной для Барлоу причине Грейс всегда носила одежду какого-нибудь одного цвета, видимо, это имело религиозный смысл, касалось ее видений, хотя он и не был в этом уверен. Он привык видеть ее в одной гамме, однако сегодня впервые она была в сером. Он мог представить ее в платье какого угодно цвета — желтого, синего, всех оттенков красного, зеленого, белого, лилового, оранжевого или розового, — но это всегда был яркий цвет, а не такой безнадежно унылый, как теперь. Ее выбор был неожидан. Утром, выйдя из мотеля, им пришлось зайти в магазин — купить Грейс серые башмаки и такие же серые блузку и свитер, потому что у нее никогда не было серых вещей. Она пребывала в нервозном состоянии, на грани истерики, пока не облачилась во все серое. «Сегодня в царстве духов серый день, — сказала она перед тем, — и энергия имеет серый цвет. Я должна выглядеть соответствующе. Я не вписываюсь, я вношу диссонанс. Я должна быть гармонична». Настаивала, чтобы ей купили украшения — была неравнодушна к драгоценностям, но найти серые кольца, браслеты и броши оказалось непросто. Большинство ювелирных изделий — броские и яркие. В конце концов ей пришлось довольствоваться ниткой серого жемчуга, и было непривычно видеть ее без единого перстня на бледных высохших пальцах. Серый день в царстве духов. Что бы это значило? Хорошо это или плохо? Судя по поведению Грейс, ничего хорошего в этом не было. Времени оставалось мало. Именно это Грейс имела в виду утром, но не захотела развивать свою мысль дальше. Время текло неумолимо, они пребывали в растерянности и продвигались на север, полагаясь только на интуицию. Кайлу стало страшно. Он испугался: убей он снова, пусть даже во имя господа, и оживет его ужасное прошлое. Он ведь гордился, что может подавить в себе агрессивность и тягу к насилию, что начинает — пусть постепенно — приспосабливаться к жизни в обществе, а теперь появилось опасение, что за одним убийством последуют другие. Имел ли он право убить — даже во имя господа? Он понимал — это ненужные мысли, но не мог избавиться от них. И порой, когда украдкой поглядывал на Грейс, его охватывало беспокойство: может быть, все это время он заблуждался и она вовсе не посланник божий — но это была совсем непозволительная мысль. Дело в том… Грейс учила, что существуют так называемые нравственные критерии, теперь он безотчетно поверял ими все свои поступки. Так или иначе, но если Грейс права в отношении этого ребенка — а она, разумеется, права, — то времени у них слишком мало, но здесь они ничего не могли поделать, оставалось ехать вперед и надеяться на то, что к ней вернется способность вступать в контакт с царством духов, да еще время от времени позванивать в церковь в Анахейме, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь обнадеживающих новостей. Барлоу чуть прибавил газ. Они и без того мчались со скоростью свыше семидесяти миль в час. Это была предельно допустимая при таком дожде скорость, даже принимая во внимание, что трасса идеально прямая. Но ведь они были избранными. Ведь с ними был бог. Барлоу надавил на педаль газа. Стрелка спидометра достигла отметки «80». Два белых фургона следовали за ними не отставая.Глава 50
Джип, как и обещал Мэдиган, находился в отличном состоянии, и в четверг они без хлопот достигли озера Таху. Кристину утомила дорога, зато Джой немного приободрился и даже проявлял интерес к мелькающему за окном пейзажу. Это не могло не радовать. Не то чтобы он повеселел — просто оживился, и Кристина сообразила, что ведь он никогда раньше не видел настоящего снега — только на картинках, в кино или по телевизору. Здесь снега было в избытке. Деревья сгибались под его тяжестью, все вокруг, сколько хватало глаз, окутало белое покрывало. Нависали тяжелые свинцовые облака, мело, и по радио передавали, что к ночи будет буран. Озеро лежало на самой границе двух штатов, одна его часть находилась в Калифорнии, другая — в Неваде. В калифорнийской части городка Саут-Лейк-Таху, раскинувшегося на берегу озера, располагалось огромное количество мотелей (удивительно, что в таком красивом и относительно дорогом курортном местечке многие из них были самые что ни на есть захудалые), полно магазинов, винных лавок и ресторанов. В невадской части было несколько крупных, хотя и не столь броских, как в Лас-Вегасе, отелей и казино, где развлекались самыми разнообразными азартными играми. Северный берег был застроен не густо, и постройки лучше вписывались в ландшафт, нежели на южном берегу. По обе стороны границы, как на юге, так и на севере, попадались изумительные уголки, которые европейцы называли «американской Швейцарией»: горы с покрытыми снегом вершинами, ослепительно сверкающими даже в самый облачный день; обширные участки девственных сосновых, еловых, пихтовых и других вечнозеленых лесов; озеро, которое летом было самым прозрачным и самым живописным в мире, переливающееся всеми оттенками синего и зеленого, настолько чистое, что дно было видно даже на глубине двадцати, а то и более метров. Они остановились на северном берегу возле торгового центра — большого, но довольно примитивной постройки здания, расположенного в тени лиственниц и елей. У них еще были продукты, купленные накануне в Санта-Барбаре, которые они так и не успели положить в холодильник в «Тихом приюте». Они выбросили скоропортящуюся провизию и запаслись молоком, яйцами, сыром, мороженым и другими замороженными продуктами. В магазине по просьбе Чарли замороженную провизию упаковали в большую коробку, отдельно от остальной. На стоянке Чарли проделал в коробке несколько отверстий и вместе с Кристиной привязал коробку шпагатом сверху к багажнику. Была минусовая температура, и можно было не опасаться, что по дороге к коттеджу продукты растают. Пока они возились с коробкой (Чубакка заинтересованно наблюдал за ними из машины), Кристина на многих автомобилях заметила лыжи. Она всегда хотела научиться кататься на лыжах, представляла себе, что когда-нибудь они с Джоем будут брать уроки, как только он немного подрастет. Было бы так здорово! Но сейчас казалось, что и этого им не суждено. Это была мучительная мысль. Невероятно мучительная. Она понимала, что должна держать себя в руках, хотя бы ради Джоя. Он почувствует ее мрачное настроение и еще больше замкнется в себе. Но Кристина не могла избавиться от тяжких мыслей, казалось, ничто не в состоянии поднять ей настроение. Говорила себе, что надо наслаждаться бодрящим, чистым горным воздухом, но он был обжигающе холодным. Поднимись ветер, и погода станет просто невыносимой. Пыталась убедить себя, что снег необыкновенно красив, но он был мокрым, холодным и враждебным. Она посмотрела на Джоя. Он стоял позади нее, наблюдая, как Чарли затягивал последний узел на коробке. Он был похож на маленького старичка. Не лепил снежков, не высовывал язык, чтобы поймать снежинки, не катался на обледеневших участках стоянки. Он не делал ничего из того, что сделал бы маленький мальчик, впервые в жизни увидевший снег. «Он просто устал, как и я, — убеждала себя Кристина. — Был трудный день. С субботы никто из нас по-настоящему не спал. Как только мы хорошо поужинаем, поспим восемь часов без кошмаров, без того, чтобы просыпаться при каждом воображаемом шорохе, тогда нам будет лучше. Обязательно. Конечно». Но она не могла убедить себя, что завтра ей станет хорошо или что к лучшему изменятся обстоятельства. Несмотря на пройденное расстояние и на удаленность пристанища, к которому они направлялись, она не ощущала себя в безопасности. Дело не только в том, что тысячи две религиозных фанатиков больше всего хотели бы их смерти. Это ужасно. Но было что-то тягостное в том, как теснились вокруг огромные деревья, как обступали со всех сторон горы и в застывших тенях и сером зимнем свете таилась необъяснимая угроза. Никогда она не почувствует себя здесь в безопасности. Но горы ни при чем Она нигде бы не чувствовала себя в безопасности. Они свернули с главной дороги, огибающей озеро, на двухрядное шоссе, поднимавшееся по отлогим склонам мимо богатых особняков и охотничьих приютов, затерявшихся в густом лесу среди массивных деревьев. И если бы в этих домах не горел теплый яркий свет, то в окутавшей все вокруг черно-лиловой тьме их было бы совсем не видно, даже до наступления вечера здесь приходилось зажигать свет. По обе стороны дороги намело высокие сугробы, а в некоторых местах из-за снежных заносов проезжей оставалась только одна полоса. Нельзя сказать, что движение было оживленным — им встретились только две машины: еще один джип-снегоочиститель и «Тойота Лендровер». Когда асфальтированная дорога кончилась, Чарли решил, что неплохо бы надеть на колеса цепи. Хотя недавно и прошел снегоочиститель, снега здесь было больше, чем внизу, и чаще попадались обледенелые участки. Съехав на ровную узкую дорожку, которая тянулась вдоль склона, Чарли остановил машину, достал цепи Ушло минут двадцать на то, чтобы установить их, и он невесело заметил, как вместе с усиливающейся пургой стремительно сгущался мрак. Они поехали дальше, громыхая цепями на колесах. Скоро асфальтированная дорога превратилась в узкую грунтовку. Первые полмили ее чистили, но поскольку она была уже, чем на нижних участках, ее быстрее заносило снегом. Тем не менее медленно, но верно джип упорно карабкался наверх. Чарли уже не старался поддерживать разговор. Это было бесполезно. С того самого момента, как они выехали из Сакраменто, Кристина становилась все менее и менее разговорчивой. И теперь, как и Джой, замкнулась в себе и всю дорогу молчала. Произошедшая в ней перемена приводила его в отчаяние, хотя он и понимал, почему ей трудно сопротивляться депрессии. Горы, которые обычно вызывали ободряющее чувство легкости и свободы, теперь странным образом подавляли и угнетали. Даже когда проезжали по широкой луговине и деревья отступали от дороги, общее настроение окружающего ландшафта оставалось прежним. Возможно, у Кристины закралось подозрение, не было ли путешествие сюда серьезной ошибкой. Чарли тоже думал об этом. Но больше было решительно некуда поехать. Помня, что их искали люди Грейс, а полиция прочесывала всю Калифорнию, учитывая, что они не могли доверять ни властям, ни даже сотрудникам Чарли, им не оставалось ничего другого, как только укрыться в каком-нибудь месте, где никто их не обнаружит, другими словами, в таком месте, где было бы как можно меньше людей Чарли убеждал себя, что они поступили весьма разумно, что проявили необходимую осторожность при покупке джипа, что все хорошо спланировали и что двигались с завидной скоростью и, в конечном итоге, полностью контролировали ситуацию. Они проведут здесь, возможно, всего неделю или около того, до тех пор, пока его люди или полиция не арестуют Грейс Спиви. Но как бы он ни уговаривал себя, им владело такое чувство, как будто они совершенно утратили ориентиры и их бегство превратилось в паническое. Казалось, в горах их ждет не тихая гавань, а ловушка. Было ощущение, что они шли по узким шатким сходням. Чарли попытался отогнать эти мысли, понимая, что ему изменяет здравый смысл. Сейчас в нем возобладали эмоции. Пока не вернется способность трезвой оценки, лучше всего выбросить из головы всякие мысли о Грейс Спиви. Теперь встречалось гораздо меньше домов и коттеджей, чем вдоль асфальтированной дороги, по которой они ехали прежде, а еще метров через четыреста дома и вовсе перестали попадаться. Дальше дорогу никто не чистил, и она скрывалась под полутораметровой толщей снега. Чарли остановил машину, поставив на ручной тормоз, и выключил двигатель. — И где ваша хижина? — спросила Кристина. — В полумиле отсюда. — Что же нам делать? — Пойдем пешком. — В этих снегоступах? — Точно. Для этого мы их и купили. — Раньше мне никогда не приходилось ими пользоваться. — Ничего, научитесь. — Джой… — Мы понесем его по очереди. А потом он останется в доме, а мы вернемся за… — Как, останется один? — С ним будет собака, и ему там ничто не угрожает, Спиви не могла узнать, что мы направляемся сюда, она не вездесуща. Джой не возражал. Казалось, он даже не слышал, о чем они говорили. Он уставился в окно, хотя видеть там ничего не мог — стекло запотело от его дыхания. Чарли вышел из машины и поморщился от морозного воздуха. С тех пор как они отъехали от торгового центра у озера, значительно похолодало. Снегопад усилился. Огромные снежинки крутились под низко нависшими облаками на легком ветру, но, когда на секунду Чарли оглянулся вокруг, он почувствовал, что ветер усиливается. На опушке тесно прижавшиеся друг к другу деревья, казалось, приседают, готовясь к прыжку. Вдруг он вспомнил старую сказку о Красной Шапочке. Перед глазами ожила картинка из книги детства: Красная Шапочка пробирается сквозь мрачный лес, в котором бродят злые волки. Потом пришли на ум Ганзель и Грета, заблудившиеся в лесу. А потом он вспомнил про ведьм. Про ведьм, которые поджаривают маленьких детей в печи и съедают их. Боже, никогда до него не доходило, насколько страшными были некоторые сказки! Снежинки стали меньше и летели все быстрее и быстрее. Начал тихо завывать ветер.* * *
Кристина подивилась, как быстро она освоила неуклюжие снегоступы, и поняла, насколько непросто было бы двигаться без них, особенно с тяжелыми рюкзаками, которые пришлось на себе тащить. В некоторых местах ветер обнажил землю, но в других, где было хотя бы малейшее препятствие, задерживающее снег, — намело огромные сугробы высотой от двух до четырех метров, а иногда и выше. И, конечно же, снег засыпал каждую ложбинку и каждое углубление, так что попытайся они пройти над невидимой впадиной без снегоступов, непременно провалились бы в глубокий снежный колодец, выбраться из которого было бы трудно, если вообще возможно. Серый полуденный свет был тревожен, искусствен, производил обманчивый эффект, создавая ложное ощущение глубины и изменяя очертания предметов. Иногда даже Кристина принимала снежный гребень за впадину, пока не подходила ближе. И только тогда понимала, что вместо предполагаемого спуска предстоит подъем. Джою оказалось гораздо сложнее приспособиться к снегоступам, хотя специально подбирали ему детский размер. День быстро угасал, а заканчивать разгрузку машины в кромешной темноте не хотелось, поэтому не было времени обучать Джоя. Тогда Чарли взял его на руки. Чубакка хотя и был крупным псом, но не настолько тяжелым, чтобы наст не выдержал его, кроме того, он инстинктивно избегал места, где наст был тонким либо его не было вовсе, и часто обходил самые глубокие сугробы, пробираясь от одного продуваемого ветром места к другому. Все-таки раза три он провалился. Один раз удалось выбраться самому, а дважды его пришлось вытаскивать. После того как оставили машину, они прошли вверх по склону около трехсот метров, пока не достигли конца безлесного участка. По заваленной снегом просеке углубились в лес, двигаясь вдоль широкого кряжа. Справа простирался ровный участок леса, а слева — заросшая лощина. Хотя до наступления темноты оставался час, в лощине сгущалась синева с оттенками серого и лилового, а вдали ее поглощала мгла, в которой не было видно ни единого огонька, что заставляло Кристину предположить, что никакого жилья впереди нет. Она уже знала, что Чарли был значительно сильнее, чем можно было предположить по его виду. И все равно Кристина не переставала поражаться его выносливости. Рюкзак давил ей на плечи, словно набитый цементом, в то же время Чарли будто бы не обращал внимания на свою ношу, гораздо большую и тяжелую, чем у нее. Он еще нес на руках Джоя и, пройдя первую четверть мили, лишь раз остановился и спустил мальчика на землю, чтобы размять затекшие мускулы. Через сотню метров они стали отдаляться от края лощины, продвигаясь вдоль склона горы, а еще метров через пятьдесят дорога снова пошла в гору. Деревья стали еще толще и массивнее и местами погружались в такую глубокую тень, что, казалось, уже наступила ночь. И наконец они вышли на другую поляну, шире той, где остался джип, простиравшуюся метров на четыреста. — Вот и моя хижина! — сказал Чарли звенящим на морозе голосом. Кристина ничего не видела. Он остановился, снова опустил Джоя и показал рукой: — Вон там, вдали, на самой опушке леса, а у дома — ветряная мельница. Сначала она увидела ветряную мельницу благодаря вращающимся крыльям: высокая, один каркас, ничего от голландскойживописности в ней не было, скорее походила на нефтяную вышку — функциональную и уродливую. И хижина и мельница сливались с деревьями, растущими за ними, хотя, вероятно, днем их было лучше видно. — Вы не говорили про ветряк, — значит, есть свет? — спросила она. — Да, конечно. — Его щеки, нос, подбородок покраснели от холода, он высморкался. — И полно горячей воды. — И электрическое отопление? — Да… Даже на таком ветреном месте мельница недостаточно для этого мощная. У Джоя развязался шнурок капюшона и выбился шарф. Кристина наклонилась поправить. Лицо мальчика покраснело, глаза слезились от холода. — Мы почти пришли, капитан. Он кивнул. Переведя дух, снова побрели вверх. Чубакка побежал вперед, будто понимая, что хижина означает конец пути. Дом был построен из красного дерева, которое снаружи немного потемнело от непогоды. Хотя крытая кедровой дранкой крыша имела крутые скаты, немного снега задержалось и на ней. Оконные стекла покрывали морозные узоры. Снегом замело ступеньки и крыльцо. Они сняли снегоступы и перчатки. Чарли достал ключ из тайника, хитроумно скрытого в одном из столбов на крыльце. Он открыл дверь, хрустнул лед, и заскрипели замерзшие петли. Они вошли внутрь, и Кристина с удивлением отметила приятную обстановку. Нижний этаж представлял собой один большой зал, в дальнем конце переходивший в кухню, отделенную длинным обеденным столом из сосны. Натертые дубовые полы, лоскутные коврики, удобные мягкие темно-зеленые диваны и кресла, медные светильники, обитые деревом стены, шторы в шотландскую клетку с преобладающим зеленым цветом, гармонировавшим с диванами и креслами, а также массивный каменный камин, размером со стенной шкаф. Зал окружала галерея второго этажа, где находились еще три комнаты. «Две спальни и ванная», — объяснил Чарли. Дом был простой, но вполне приличный. У входной двери, на полу, облицованном кафельной плиткой, они оставили обледеневшие башмаки. Потом обошли дом. На мебели лежал слой пыли, в воздухе чувствовалась затхлость. Электричества не было, потому что пробки были отключены, а щиток находился на мельнице, в помещении, где стояла силовая установка. Но Чарли сказал, что потребуется лишь несколько минут, чтобы все наладить. Возле трех каминов — одного большого в гостиной и двух поменьше в каждой из спален — лежали наколотые дрова и щепки, которые Чарли использовал для растопки. На каминах — вентиляционные отдушины, так что даже в разгар зимы в доме бывало довольно тепло. — Хорошо, что никто не врывался в дом и ничего не поломано, — сказал Чарли. — Такое случается? — спросила Кристина. — Вроде бы нет. В другое время года, когда дорога свободна от снега, здесь почти всегда кто-нибудь есть. А когда сюда не пробраться из-за заносов и некому приглядывать за домом, потенциальные взломщики даже и не догадываются, что так глубоко в лесу есть какая-то хижина. А тот, кто знает…, может, считает, что овчинка выделки не стоит. И все-таки, когда первый раз приезжаешь сюда весной, все время боишься найти разоренный дом. Тихо потрескивали дрова, и через вентиляционные отверстия в гостиную потянуло долгожданным теплом. Чубакка уже устроился у очага, положив морду на лапы. — И что теперь? — спросила Кристина. Чарли открыл рюкзак и достал фонарь. — Вы с Джоем распаковывайте сумки, а я займусь электричеством. Кристина с Джоем отнесли рюкзаки на кухню, а Чарли снова надел башмаки. Он отправился на мельницу, а они стали рассовывать в кухонные ящики консервы; как обычная семья, приехавшая в горы в обычный отпуск и предвкушавшая неделю веселого отдыха. Как будто. Насвистывая веселые мелодии, пошучивая и притворяясь, что ей действительно нравится это приключение, Кристина попыталась создать праздничное настроение у Джоя, однако либо мальчик понимал, что это наигранное веселье, либо вовсе не обращал на нее внимания, так или иначе, он почти не реагировал и совсем не улыбался. Наверху, монотонно жужжа, вращались крылья ветряка, напоминающие пропеллер. Чарли лопатой разгреб снег у деревянных дверей, за которыми начинались ступени, ведущие в помещение под мельницей. Он спустился на два лестничных пролета, довольно глубоко уходящих под землю; комната с силовой установкой располагалась ниже уровня промерзания почвы. Он оказался в туманной синеватой мгле, которая лишала снежинки, падавшие вокруг него, белизны, и они больше напоминали развеянный в воздухе пепел. Чарли достал из кармана куртки фонарь, включил, осветив тяжелую металлическую дверь. Открыл ее и мгновение спустя оказался в помещении с силовой установкой. Похоже, все в порядке: кабель, мощные аккумуляторные батареи, рассчитанные на десять лет, на двух стеллажах, сама установка, закрепленная на бетонной подушке, полки с инструментами. В нос ударил неприятный запах, и он сразу догадался, откуда он исходит. Сначала подошел к щитку и включил все пробки. Затем нашел на стене выключатель и зажег на потолке две продолговатые лампы дневного света. И тогда увидел трех дохлых разложившихся мышей, одну — в центре комнаты и двух — в углу у стеллажа с аккумуляторами. Необходимо было оставлять здесь отраву, особенно сейчас, зимой, когда, вероятнее всего, мыши будут искать убежище, потому что, если дать грызунам волю, они перегрызут изоляцию на кабеле и проводах, и к весне система электроснабжения выйдет из строя. Мышь, которая валялась в центре комнаты, видимо, сдохла уже давно, так как совсем разложилась. Остались лишь кости и кусочки шкурки. Двух, лежавших в углу, смерть настигла недавно. Их маленькие тельца раздулись и источали зловоние. В глазницах копошились черви. Эти подохли несколько дней назад. Чувствуя тошноту, Чарли вышел на улицу, взял лопату, вернулся, сгреб останки, отнес за мельницу и выбросил в лес. Но, даже избавившись от них, даже несмотря на то, что порыв ветра с гор принес чистый воздух, Чарли чувствовал мерзкий запах смерти. Странно, но этот запах сопровождал его всю дорогу назад в комнату с аккумуляторами и продолжал висеть во влажном, затхлом воздухе помещения. Времени для тщательной проверки оборудования не было, но он хотел убедиться, что мыши, прежде чем испустить дух, не успели причинить серьезного вреда. В некоторых местах они уже начали грызть проводку и кабель, но повода для серьезного беспокойства не было. Он уже почти закончил проверку, удостоверившись, что система цела, как вдруг за спиной услышал странный зловещий звук.Глава 51
Смеркалось. Угасли все краски, и деревья, и холмы, и все вокруг становилось таким же серым, как простиравшееся перед ними полотно шоссе. Кайл Барлоу включил фары и, нависая над рулевым колесом «Олдсмобиля», широко оскалился. Наконец-то. Наконец-то у них появилась реальная зацепка. Появилась ниточка. Информация. Четкий план. Теперь они полагались не только на наитие и молитвы. Теперь они ехали не вслепую, держа курс на север просто потому, что это казалось хорошей идеей. Теперь они знали, где был мальчишка, где он должен быть. Теперь у них была цель. И Барлоу снова доверял Матери Грейс. Она сидела рядом с ним, привалившись к дверце, забывшись коротким, но глубоким сном, что случалось с ней все чаще в последнее время. Это хорошо. Ей нужен отдых. Схватка приближалась. Кто — кого? Когда они окажутся лицом к лицу с дьяволом, от нее потребуется вся ее энергия. Но если допустить, что Грейс не являлась посланницей бога, тогда как же такая ценная информация попала к ней? Это лишний раз подтверждало, что она права, она знала, что делает, говорила правду, и они должны подчиниться ей. Его сомнения вновь рассеялись. Барлоу взглянул в зеркало заднего обзора. Два фургона по-прежнему следовали за ним. Они были крестоносцами. Только не в седле, а на колесах.Глава 52
Услышав за спиной странные звуки, Чарли развернулся и слегка присел, словно приготовившись обороняться. Он ожидал увидеть в дверном проеме Грейс Спиви, однако источником непонятного звука оказался не человек. Это была крыса. Мерзкая тварь находилась между ним и выходом, но он был уверен, что появилась она не с улицы, потому что по услышанному ранее звуку понял — она выбралась откуда-то из генераторной установки. Она шипела, пищала, уставив на него кровавые глаза, словно угрожая отрезать путь назад. Это была чудовищно большая крыса, но, несмотря на свои размеры, указывающие, что питалась она вдосталь, впечатление вполне здоровой не производила. Шерсть не гладкая, а маслянистая, свалявшаяся и грязная. В ушах засохшая грязь или корка, возможно и кровь, а с морды падали куски кровавой пены. Скорей всего, это действовал яд. Сейчас, обезумевшая от боли, крыса могла оказаться бесстрашным и злобным противником. У Чарли возникло еще более тревожное подозрение — возможно, пена на морде свидетельствовала о том, что крыса больна бешенством. Переносят ли грызуны бешенство, так же как собаки и кошки? Ежегодно в горах Калифорнии служба ветеринарного надзора обнаруживала несколько случаев бешенства среди животных. Иногда закрывались целые участки парков до выяснения, имеет ли место эпидемия бешенства. Вероятнее всего, эта крыса была отравлена, а не поражена бешенством, но если он ошибается и крыса его укусит… Он пожалел, что не захватил с собой лопату после того, как выкинул дохлых мышей. Оружия никакого не было, кроме револьвера, а для такой мелкой твари это было уж слишком, как палить по воробьям из пушки. Он выпрямился, и это вывело крысу из себя. Она двинулась на него. Он отпрянул к стене. Тварь стремительно приближалась с пронзительным писком. Если она заберется по ноге… Он ударил ее мыском ботинка. Она пролетела через комнату и, ударившись о стену, с визгом плюхнулась на пол. Чарли бросился за дверь, прежде чем крыса поднялась. Он взбежал вверх по лестнице, схватил лопату и опять спустился вниз. Крыса была в дверях. Обезумевшая, она издавала протяжный воющий и стонущий звук, от которого бросало в дрожь. Снова кинулась к Чарли. Он размахнулся и ударил ее лопатой плашмя. Потом еще раз и еще, пока звук не прекратился. Затем посмотрел на нее и, увидев, что она еще шевелится, ударил снова, с еще большей силой. Наконец она затихла, наверняка мертвая, а он, тяжело дыша, опустил лопату. Как могла крыса такого размера проникнуть в закрытую комнату? С мышами все понятно — тем, чтобы пробраться внутрь, нужна лишь крохотная щелка. Но эта тварь была размером с десяток мышей, ей потребовалось бы отверстие по крайней мере восьми-десяти сантиметров в диаметре. А поскольку перекрытие в этой небольшой комнате бетонное, а стены из шлакоблоков, скрепленных раствором, крыса никак не могла их прогрызть. Дверь — металлическая, без малейшего изъяна. Может, ее заперли здесь прошлой осенью, когда уезжали последние отдыхающие? Или когда приходил инспектор из земельной службы, чтобы законсервировать дом на зиму? Нет, этого не может быть. Крыса давно бы съела отравленную приманку и сдохла бы несколько месяцев назад. Ее отравили недавно, а следовательно, и проникла она сюда недавно. Он проверил каждый уголок, пытаясь найти отверстие, через которое могла бы пробраться крыса, но нашел только небольшие щели на стыках шлакоблоков, сквозь которые могли пролезть лишь мыши, пробравшись сперва в теплоизоляционную подушку в толще двойных стен. Это — загадка, и, стоя над дохлой крысой, Чарли не мог отделаться от чувства, что короткая и яростная схватка с этой отвратительной тварью значила нечто большее, чем могло показаться на первый взгляд; крыса была неким символом. Надо признать, он вырос в страхе перед крысами, которыми кишел дом, где прошло его детство. Невольно вспомнил фильмы ужасов, в которых крысы рыскали по заброшенным кладбищам. Смерть. Вот что, как правило, символизировали крысы. Смерть, разложение, пропасть тьмы. Возможно, это был знак. Возможно, предупреждение о том, что смерть, которую олицетворяла Грейс Спиви, настигнет их здесь, в горах; предупреждение, что надо быть готовыми к этому. Чарли встряхнулся. Нет. Он слишком поддавался своему воображению. Так же, как в понедельник в офисе, когда, глядя на Джоя, увидел голый череп вместо лица. Это было не более чем воображение: и тогда, и теперь. Он не верил в приметы. Здесь смерть их не найдет. Грейс Спиви никогда не узнает, куда они уехали. Никогда. Джой не умрет. Он в безопасности. Они все в безопасности.* * *
Кристине не хотелось оставлять Джоя одного, пока они с Чарли пойдут к джипу за остальной провизией. Она знала, что Грейс Спиви поблизости не было, знала, что здесь им ничто не угрожает и ничего не случится за то короткое время, пока ее не будет, и все же содрогалась при мысли, что, вернувшись, они найдут ее мальчика мертвым. Но Чарли не мог один унести всего, и с ее стороны было бы неудобно просить его об этом. И Джоя они не могли взять с собой. Потому что тогда им пришлось бы идти медленнее, а предвечерний свет неумолимо угасал, и буран усиливался. Она должна идти, а Джой должен остаться. Выбора не было. Даже хорошо для всех, если он на какое-то время останется один с Чубаккой; тем самым укрепится их с Чарли уверенность, что они выбрали действительно безопасное убежище, убеждала она себя, а кроме того, возможно, это придаст веру и надежду Джою. И все же, когда Кристина, пытаясь приободрить сына, обняла и поцеловала его, оставляя сидящим на диване перед камином, она едва смогла найти в себе силы, чтобы повернуться и уйти. Закрыв за собой дверь и глядя, как Чарли запирает ее, почувствовала такой приступ страха, что ее едва не стошнило. Сходя с заснеженного крыльца, она ощутила в ногах такую болезненную слабость, что с трудом могла двигаться. Каждый шаг, отдалявший ее от коттеджа, давался ей с таким усилием, как будто она шла по планете, где сила гравитации была в пять раз больше земной. С тех пор как они оставили джип и поднялись выше в горы, погода окончательно испортилась, и постепенно, загоняя вглубь страх, ею овладели мысли о необыкновенной враждебности стихии. В горах пронзительно свистел ветер, раскачивая огромные деревья; скорость его достигала двадцати-тридцати миль в час, а при порывах по меньшей мере пятидесяти. Снег уже не был крупным и пушистым, превратившись в мелкие колючие иголки, бешено мчавшиеся под напором ветра. Когда они поднимались вверх, то шли без защитных масок, теперь же Чарли велел достать их. И хотя Кристина сначала возражала, потому что в маске было трудно дышать, теперь она была рада, что надела ее, так как температура резко упала до нуля, а то и ниже. К морозу прибавлялся страшный ветер, даже под маской она чувствовала его ледяное дыхание, а без маски наверняка обморозилась бы. Когда они достигли машины, последний свет дня таял; как будто на горшке, в который погрузили весь мир, задвигали гигантскую крышку. Вокруг колес уже намело сугробы, а замок замерз и с трудом поддался, когда Чарли открывал его ключом. Они набили рюкзаки банками и коробками с провизией, спичками, патронами для ружей и многим другим. Чарли привязал три свернутых спальных мешка бечевкой к поясу так, чтобы тащить их за собой; сделанные из теплозащитного полихлорвинила, они были легкие и хорошо скользили по снегу. Чарли сказал, что с ними у него не будет никаких хлопот. Кристина несла винтовку, повесив ее на плечо, а Чарли взял дробовик. И хотя в машине оставалось еще много нужных вещей, они были не в состоянии их забрать. — Придется вернуться еще раз! — прокричал Чарли сквозь рев ветра. — Уже совсем темно, — возразила она, неожиданно осознав, — как просто можно сгинуть в слепящей мгле. — Завтра, — сказал он. — Вернемся сюда завтра. Она кивнула, и Чарли закрыл джип на ключ, хотя погода и без того была прекрасным сторожем. Ни один уважающий себя вор, привыкший к безмятежной жизни, не высунет носа на улицу в такую ночь. Они пустились в обратный путь, продвигаясь значительно медленнее, обремененные своей ношей, преодолевая ветер и само сознание, что им приходится взбираться наверх, а не спускаться. До сих пор идти в снегоступах было удивительно легко, но теперь, когда они миновали только первую поляну, у Кристины ныли бедра и икры, и она знала, что наутро все тело будет ломить. Ветер подхватывал снег с земли и кружил его ледяными балдахинами, образовывая воронки, которые в диком танце вертелись во мраке. В меркнущем свете снежные вихри носились словно духи, будто холодные призраки, блуждающие по забытым богом предгорьям у вершины мира. Склоны, казалось, были еще круче, чем тогда, когда они взбирались по ним впервые вместе с Джоем и собакой, и уж совершенно очевидно, что снегоступы у Кристины стали в два раза больше, чем прежде, и…, в десять раз тяжелее. Ночь окончательно настигла их, когда они вошли в лес, еще не успев добраться до верхней поляны. Им не грозила опасность заблудиться, потому что от заснеженной земли исходило слабое свечение и был ясно виден проход между деревьями, по обе стороны которого стоял глухой лес. Но к тому времени, как они вышли к верхней поляне, рассвирепевший буран лишил их последней привилегии — возможности ориентироваться по снежному свечению. Теперь снег падал настолько густо, а ветер вздымал такую плотную пелену метели, что, если бы не едва различимый огонь в доме, они, несомненно, сбились бы с пути и брели бы без всякого ориентира, описывая круги, пока не упали бы в снег и не умерли меньше чем в четырехстах метрах от очага. Неверный, рассеянный янтарный свет в окнах хижины служил путеводной звездой. Когда же тучи снега скрывали от них этот последний луч надежды, Кристине приходилось бороться с охватывающей ее паникой, останавливаться и ждать, пока вновь не мелькнет свет, так как иначе, пробуя идти вслепую, она через несколько шагов обязательно сбивалась с пути. Она старалась держаться вплотную к Чарли, но часто и он пропадал, потому что видно было не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Боль в ногах усилилась, плечи и спина нестерпимо гудели, а ночной холод непонятно как проникал под одежду. Но Кристина проклинала и одновременно благословляла буран, это был дьявольский ураган! Теперь они были отрезаны от всего мира. Изолированы. К утру к ним нельзя будет пройти из-за снега. Буран был их лучшей защитой. По крайней мере, в ближайшие день-два Грейс Спиви не добраться до них, даже если произойдет чудо и она узнает, где они находятся. Зайдя в дом, они увидели, что настроение у Джоя улучшилось. На щеках снова появился румянец, впервые за последние два дня он был бодр и разговорчив и даже улыбался. На мгновение произошедшая в нем перемена показалась Кристине невероятной и даже таинственной, но внезапно она поняла, что буран подействовал на него так же успокаивающе, как и на нее. — Теперь все будет хорошо, да, мам? Ведь ведьма не сможет летать на своей метле во время такого урагана, верно? — сказал он. — Да, — согласилась Кристина, снимая рюкзак. — Сегодня у ведьм нелетная погода. — Инструкции ФАВ, — сказал Чарли. Джой вопросительно посмотрел на него: — Что это за… ФАВ? — Федеральная Администрация Ведьм, — сказал Чарли, разуваясь. — Это такое правительственное агентство, которое выдает ведьмам лицензии. — А чтобы стать ведьмой, нужна лицензия? — спросил мальчик. Чарли изобразил удивление: — Ну конечно, а ты как думаешь — кто угодно может стать седьмой? Во-первых; если девочка пожелает сделаться ведьмой, то она должна доказать, что она вредная. Например, твоя мама никогда бы не подошла. Кроме того, будущая ведьма должна быть страшной, потому что ведьмы всегда страшные. А если хорошенькая женщина, вроде твоей мамы, захочет стать ведьмой, то ей придется сделать пластическую операцию, чтобы обезобразить себя. — Здорово! — широко открыв глаза, воскликнул Джой. — В самом деле? — Но это еще не самое страшное, — сказал Чарли. — Самое сложное, если хочешь стать ведьмой, это найти высокий островерхий черный колпак. — Да ну? — Ну вот подумай сам, ты же ходил с мамой в магазин, когда она покупала одежду. Ты хоть раз видел в магазинах такие колпаки? Мальчик нахмурился. — Ну вот, не видел, — сказал Чарли, перенося на кухню один из рюкзаков. — Такие колпаки нигде не продают, потому что никто не хочет, чтобы к ним в магазин все время являлись ведьмы. От ведьм пахнет крыльями летучих мышей, хвостами тритонов, саламандровым языком и всякой прочей гадостью, которую они варят в своих котлах. Когда покупатели увидят в магазине ведьму, от которой воняет вареным свиным рылом, они больше носа туда не покажут. — Фу, гадость, — сказал Джой. — Вот именно, — согласился Чарли. Кристина была так рада, что Джой снова похож на обычного шестилетнего ребенка, что с трудом сдерживала слезы. Ей хотелось обнять Чарли, крепко прижать его к себе и поблагодарить за его силу, за то, как он обращается с мальчиком, и просто за то, что он такой, какой есть. За окном выл, свистел и ухал ветер. Ночь обнимала хижину, снег укутывал ее. В гостиной в камине потрескивали поленья. Они вместе готовили ужин. После ужина сидели на полу, играли в карты и в «крестики-нолики», и Чарли шутил, а Джой хохотал над его шутками. Кристина чувствовала себя умиротворенной и спокойной.Глава 53
Магазинчик, торгующий снегоходами в Саут-Лейк-Таху, уже закрывался, когда туда зашли Грейс Спиви, Барлоу, а с ними еще восемь человек. Они приехали из центра города, где купили себе лыжные костюмы и другую теплую одежду. Они уже переоделись и теперь вполне могли сойти за местных жителей. К радости и изумлению хозяина заведения — дородного мужчины по имени Орли Трит, который сказал, что друзья зовут его просто Попрыгунчик, — они приобрели четыре снегохода «Скиду» и два буксировочных трейлера. В магазине больше остальных говорили Кайл Барлоу и член их секты Джордж Уэствек, потому что Уэствек хорошо разбирался в снегоходах, а Барлоу, что бы он ни покупал, умел превосходно торговаться. Его внушительные размеры, угрожающая внешность и с трудом сдерживаемая агрессивность давали ему преимущество во время любой сделки, но его умение вести переговоры основывалось не только на устрашении. Его отличало развитое чутье, позволявшее определить сильные и слабые стороны оппонента и угадать его намерения. Он обнаружил в себе эти способности уже после того, как Грейс отвратила его от жизни, полной самоуничижения и социопатии, и это открытие было столь же радостным, сколь и неожиданным. Он был в неоплатном долгу перед Матерью Грейс не только потому, что она спасла его душу, но и потому, что она предоставила ему возможность найти в себе и развить таланты, о которых без ее помощи он бы так никогда и не узнал. Орли Трит, который был слишком тучен для детского прозвища Попрыгунчик, все пытался догадаться, кто же это такие. Он приставал к Грейс, Барлоу и остальным, расспрашивая, не принадлежат ли они к какому-нибудь клубу, не родственники ли они. Помня о том, что полиция по-прежнему хотела бы встретиться с Грейс, чтобы расспросить ее о последних событиях в округе Оранж, и беспокоясь, что кто-нибудь из ее учеников случайно проговорится, Барлоу отправил всех, кроме Джорджа Уэствека, подыскать какой-нибудь отель на центральной улице городка, где было бы достаточно свободных номеров. Трит не верил своим глазам, когда они стали расплачиваться за снегоходы пачками наличных. От Барлоу не ускользнуло, что глаза Трита алчно загорелись, и он подумал, что тот уже прикидывает, как бы «схимичить» с отчетностью и утаить эти наличные от налоговой службы. И хотя любопытство доставляло Триту почти физическое страдание, он прекратил совать нос не в свое дело из боязни все испортить. Их фордовские фургоны не были оборудованы замками для буксировки трейлеров, но Трит пообещал, что их приварят за ночь: — Утром все будет готово…, скажем…, к десяти. — Раньше, — произнесла Грейс. — Гораздо раньше. Мы должны быть на северном берегу с рассветом. Трит, улыбнувшись, кивнул в сторону витрин, за которыми в тусклом свете фонарей на стоянке валил снег и шумел ветер. — Синоптики обещают осадки до полуметра, штормовой ветер пройдет только к четырем-пяти часам завтрашнего утра, так что дорожные бригады расчистят шоссе к северному берегу только часам к десяти, а может, к одиннадцати. Вам, ребята, нет смысла уезжать отсюда раньше. — Если снегоходы не будут готовы к четырем тридцати утра, сделка не состоится, — сказала Грейс. Барлоу знал, что она блефует, так как это было единственное место, где они могли приобрести необходимые им машины, но, судя по изменившемуся лицу Трита, тот воспринял ее угрозу всерьез. — Послушай, Попрыгунчик, здесь всего делов-то на два часа. Если сделаешь это сегодня, мы заплатим тебе сверху, — сказал Барлоу. — Но мне необходимо подготовить снегоходы и… — Так подготовь. — Но я уже закрывался, когда вы… — Придется задержаться на пару часов, — сказал Барлоу. — Я знаю, это хлопотно, я ценю это, в самом деле. Однако, Попрыгунчик, как часто тебе удается продать зараз четыре снегохода и два трейлера? Трит вздохнул: — Ладно, все будет готово к четырем тридцати утра, но вам все равно не добраться сразу до северного берега. Грейс, Джордж Уэствек и Барлоу вышли на улицу, где их ждали остальные. Эдна Ванофф подошла к ним и сказала: — Мать Грейс, мы нашли мотель, где достаточно свободных номеров. Это в четверти мили вверх по шоссе. Мы можем дойти пешком. Грейс взглянула на ночное небо, прищурилась, когда ветер швырнул ей в лицо пригоршню снега, залепив лоб. Из-под натянутой на уши вязаной шапки выбились длинные спутанные пряди мокрых седых волос. — Сатана вызвал этот ураган. Он пытается остановить нас, хочет помешать нам добраться до мальчишки. Пока не станет слишком поздно. Но бог поможет нам.Глава 54
В половине десятого Джой уже засыпал. Ему постелили чистые простыни и укрыли теплым сине-зеленым стеганым одеялом. Кристина хотела остаться с ним, хотя еще и не собиралась спать, но Чарли нужно было поговорить с ней и обсудить план действий. — Ты ведь не боишься один, да, Джой? — спросил он. — Думаю, нет, — ответил мальчик. Под просторным одеялом на огромной пуховой подушке он выглядел совсем крошечным, словно эльф. — Я не хочу оставлять его одного, — сказала Кристина. — Чтобы добраться до него, им надо подняться по лестнице снизу, а там будем мы, — сказал Чарли. — А окно?.. — Окно — на втором этаже. Им пришлось бы поставить стремянку, а я сомневаюсь, что они захватят ее с собой. Но Кристина, нахмурившись, в нерешительности посмотрела на окно. — Кристина, сюда до нас не добраться. Прислушайтесь к этому ветру. Даже если бы им было известно, что мы где-то здесь, в горах, даже если бы они знали о существовании этой хижины — чего быть не может, — сегодня им все равно не пройти. — Мам, все будет хорошо, — сказал Джой. — Со мной будет Чубакка, и Чарли ведь сказал, что по инструкции ФАВ ведьмам запрещено летать в пургу. Кристина вздохнула, подоткнула ему одеяло и, поцеловав, пожелала спокойной ночи. Джой захотел, чтобы Чарли тоже поцеловал его. Для Чарли это было совершенно новым ощущением, и, когда губы мальчика коснулись его щеки, волна переживаний захлестнула его: острое осознание детской беззащитности; жгучее желание защитить; понимание чистой и непосредственной привязанности ребенка. Его младенческая невинность и очаровательное простодушие заставили учащенно биться сердце, а та безоглядная вера, с которой мальчик относился к Чарли, трогала и вместе с тем пугала его. Момент был настолько душевным, радостным и счастливым, что Чарли изумился, как он мог до сих пор, дожив до тридцати шести лет, обходиться без собственной семьи. А может быть, это была судьба, может быть, он ждал, пока его помощь потребуется Кристине и Джою? Если бы У него уже была своя семья, он бы, пожалуй, не был способен на то, на что пошел ради семьи Скавелло; все, что он делал, выходя за рамки служебных обязанностей, выпало бы на долю кого-то из сотрудников, кто, возможно, вел бы себя не так умно и предусмотрительно. Когда Кристина впервые вошла в его офис, он был потрясен ее красотой и почувствовал, что они должны были встретиться так или иначе; если бы их не свела судьба в лице Грейс Спиви, они бы все равно нашли друг друга. Ему казалось, что их взаимные чувства были неизбежны. А теперь таким же неизбежным и правильным представлялось то, что он должен быть защитником Джоя, а вскоре стать и его законным отцом, чтобы каждый вечер слышать, как маленький мальчик произносит не «спокойной ночи, Чарли», а «спокойной ночи, папа». Судьба. Этому понятию он никогда не придавал большого значения. Спроси его кто-нибудь неделей раньше, верит ли он в судьбу, он, вероятно, ответил бы «нет». Теперь же для него простая, естественная и неоспоримая истина заключалась в том, что путь всех мужчин и женщин определен судьбой и что ему предназначено судьбой быть рядом с этой женщиной и этим ребенком. Они задернули плотные шторы и оставили включенным светильник, набросив на абажур полотенце, чтобы свет был не таким ярким. К этому времени Джой уже спал. Чубакка свернулся калачиком на кровати. Кристина хотела прогнать его, но он только виновато на нее посмотрел. Чарли шепнул ей, чтобы она не трогала пса, и они крадучись вышли из комнаты, оставив дверь слегка приоткрытой. Пока они спускались по лестнице, Кристина несколько раз оглянулась, как будто колебалась, покидая мальчика. Но Чарли взял ее за руку и решительно провел к столу. Они сидели, пили кофе и разговаривали. А за окном под карнизами постанывал ветер и снежная крупа сыпала в стекла. — Итак, когда буран уляжется и расчистят дороги, я съезжу к торговому центру и из автомата позвоню Генри Рэнкину. Я буду ездить каждые два дня, а возможно, и каждый день. Когда меня не будет, думаю, вам с Джоем следует укрываться в помещении, где стоит силовая установка, под мельницей. Там… — Нет, — прервала его Кристина. — Мы будем вместе с вами. — Это утомительно, если ездить ежедневно. — Ничего, я выдержу. — Но Джой может не выдержать. — Мы не останемся здесь одни! — пылко воскликнула она. — Учитывая, что нас разыскивает полиция, «все вместе мы будем более заметны, и им будет легче… — Мы будем с вами, — сказала она. — Прошу вас. Пожалуйста. Чарли кивнул: — Хорошо. Он достал карту, которую купил в Сакраменто, расстелил ее на столе и показал Кристине запасной маршрут на случай бегства; они воспользуются им, если люди Спиви, вопреки всем ожиданиям, объявятся здесь и если у них останется время для бегства. Тогда они поднимутся еще выше в горы, перевалят через хребет, спустятся в долину и вдоль горного ручья двинутся на юг, к озеру, до которого было четыре или пять миль пути, однако в занесенном снегом краю это могло показаться доброй сотней миль. Но по дороге у них будут надежные ориентиры, и, имея с собой карту и компас, они не пропадут. Постепенно разговор перешел на другую тему. Они стали говорить о себе: о своем прошлом, о том, что они любили и чего не любили, о своих мечтах и надеждах, — пользуясь возможностью, которой раньше у них не было. Через какое-то время они поднялись из-за стола, потушили свет и перешли на диван перед камином, который освещал комнату мягким неровным светом, отчего тени, казалось, оживали. Разговор стал интимным и немногословным, и вскоре само молчание наполнилось для них смыслом. Чарли не помнил первый поцелуй; он вдруг почувствовал, что они обнимают друг друга с нарастающим пылом, его рука касалась ее груди, и он нащупал ладонью под блузкой набухший горячий сосок. Языю ее был такой же горячий, губы обжигали, а когда он кончиками пальцев провел по ее лицу, словно электрический разряд пронзил его. Ни одну женщину он не желал с такой страстью, как желал Кристину, и судя по тому, как напряглось все ее тело, как извивалась она в его объятиях, женщину опалила не меньшая страсть. Он знал, что, несмотря на не самые удачные обстоятельства и место, уготованное им судьбой, сегодня она будет принадлежать ему — это неизбежно. Блузка расстегнута — он нашел губами ее грудь. — Чарли, — тихо сказала она. Он нежно поцеловал один сосок, потом другой. — Нет, — сказала она и отстранилась, но в этом не было осуждения, а только нерешительность и тайная надежда, что он будет уговаривать ее. — Я люблю тебя, — сказал он, и это было правдой. Потребовалось всего несколько дней, чтобы он полюбил ее тонко очерченное лицо, ее тело, оригинальный острый ум, ее храбрость перед лицом опасности, ее неукротимый дух; ему нравилось, как она ходила, как развевались на ветру ее волосы. — Джой… — сказала она. — Он спит. — Он может проснуться… Чарли поцеловал ее в шею — под его губами пульсировала жилка, ее сердце колотилось так же сильно. — Он может выйти на галерею…, и увидеть нас, — сказала она. Тогда он увел ее от камина к длинному глубокому дивану, который стоял под галереей и не был виден сверху. Все окутывали темно-лиловые тени. — Мы не должны, — бормотала она, продолжая целовать его шею, подбородок, щеки, губы, глаза. — Даже здесь…, вдруг он проснется… — Сначала он позовет нас, — сказал Чарли, задыхаясь, изнемогая от желания. — Не станет же он сразу спускаться в темную комнату. Она осыпала поцелуями его лицо, уголки рта, коснулась губами уха. Его руки скользили по ее телу, и он приходил в восторг от совершенства ее форм. Каждая милая выпуклость и впадинка, каждый манящий уголок, пышная грудь, плоский живот, зрелые ягодицы, гладкие округлые бедра и икры — все в ней до миллиметра отвечало идеалу женственности. — Хорошо, — слабым голосом произнесла она. — Только тихо. — Ни звука, — пообещал он. — Ли звука. — Ни единого звука… Ветер стонал за окном, а он не мог позволить своему наслаждению вырваться наружу. Это неподходящий момент, мелькало в ее затуманенном сознании. Неподходящее место, неподходящее время, неподходящее все. Джой. Может. Проснуться. И хотя это должно было беспокоить ее, но казалось уже не настолько важным, чтобы подавить желание. Он признался, что любит ее, и она сказала, что любит, и она знала, что так оно и было, что это правда, а не притворство. Она не знала наверняка, когда родилось это чувство. Если бы она напрягла свою память, то, возможно, восстановила бы то мгновение, когда уважение, восхищение и привязанность переросли во что-то большее и властное. Ведь она знала его всего несколько дней, и не так уж трудно определить момент появления на свет любви в таком коротком отрезке времени. Разумеется, сейчас она была не в состоянии трезво судить об этом. Чувство захватило ее целиком, хотя это не было для нее характерно. Несмотря на их взаимное объяснение в любви, не только любовь заставила ее отбросить всякую осторожность и пойти на риск быть застигнутой врасплох в момент страсти: было еще и естественное здоровое влечение. Никогда она не хотела мужчину так, как хотела Чарли. Внезапно она поняла, что должна ощутить его внутри себя, что она не сможет дышать, пока он не овладеет ею. У него было стройное тело, крепкие, резко очерченные мускулы; его скульптурные плечи, твердые, как камень, бицепсы, гладкая широкая грудь — все возбуждало в ней такое желание, которого она до сих пор не знала. Ее нервы стали более чувствительными — каждый поцелуй и касание, каждое его движение в ней приносило потрясающее наслаждение, граничащее с болью. Удивительное наслаждение, которое переполняло ее, вытесняя и подавляя все остальное, всякую мысль, пока она наконец не прижалась к нему безотчетно, едва успев изумиться, с какой отрешенностью она обняла его, не в силах противостоять охватившему ее первобытному зову плоти.* * *
Вынужденная тишина, обет молчания имели странный и сильный эротический эффект. Даже когда Чарли испытывал оргазм, он не издавал ни стона, а только сдавливал ее бедра и прижимал ее к себе, и хотя его рот был раскрыт, он оставался нем и каким-то образом подавлял крик, сохранял энергию и потенцию, эрекция не ослабевала ни на мгновение, и они останавливались только затем, чтобы изменить положение, оставаясь сплетенными вместе, разметавшись на диване, и уже она оказывалась сверху и в плавном ритме взлетала над ним, словно купаясь в текучей материи, и это было не похоже ни на что, что ему доводилось испытывать прежде, и он утрачивал чувство времени и пространства, растворившись в тихой, шелковистой, безмолвной музыке плоти и движения.* * *
Никогда в жизни она так не теряла голову во время близости. Она забыла, где была и даже кем была, она превратилась в безумно совокупляющееся животное, сосредоточившись только на наслаждении, отбросив все остальное. Только один раз гипнотический ритм любви был нарушен, когда ей вдруг показалось, что Джой спустился и стоит в тени, наблюдая за ними, но когда она подняла голову от груди Чарли и огляделась, то не увидела ничего, кроме очертаний мебели, освещенных потухающим огнем камина, и поняла, что вообразила это себе. Затем любовь — похоть — секс снова захватили ее с такой потрясающей и даже пугающей силой, что она отдалась им, не в состоянии совладать с собой, и пропала окончательно. Перед тем как рухнуть без сил, Чарли три раза доходил, до пика наслаждения, она — больше, но дело было не в счете, а в том, что ни один из них не испытывал ничего подобного в прошлом. Когда все кончилось, он еще продолжал трепетать и чувствовал себя опустошенным. Какое-то время они лежали молча, пока вновь не услышали завывающий за окнами ветер и до их сознания не дошло, что осень угасает и в комнату пробирается холод Они нехотя оделись и поднялись на второй этаж, где для Кристины была приготовлена вторая спальня. — Я могу лечь с Джоем, а ты ляжешь здесь, — сказала она. — Нет, ты только разбудишь его, а бедняге нужен отдых. — Но где же ты будешь спать? — спросила она. — На галерее. — На полу? — Я постелю спальный мешок у лестницы. На мгновение сонливость уступила место тревоге. — Я думала…, ведь ты говорил, что сегодня они не смогут до нас добраться, даже если… Он приложил палец к ее губам. — Они не доберутся. Никак. Но будет нехорошо, если утром Джой увидит меня в твоей кровати, верно? А на диванах спать слишком мягко. Так что если уж спать в мешке, то почему бы не положить его возле лестницы? — И спать с пистолетом под подушкой? — Разумеется. Хотя в этом и нет необходимости. Это действительно так. Давай-ка ложиться. Укрыв одеялом, он поцеловал ее и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. На галерее он взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что уже очень поздно. Неужели они занимались любовью почти два часа? Нет, не может быть. В их близости было что-то пугающее, восхитительно-животное, они отдались друг другу безудержно и самозабвенно, потеряв представление о времени. Он никогда не подозревал в себе буйства, присущего разве жеребцу, и не предполагал, что может заниматься любовью так долго и ненасытно. Но его часы раньше никогда не спешили и не могли вдруг за тридцать минут убежать на целый час или даже больше. Чарли поймал себя на том, что стоит один за дверью Кристины и улыбается самодовольно, как Чеширский кот. Он подбросил поленьев в камин, отнес на галерею спальный мешок, выключил свет и лег. Он вслушивался в звуки бурана, но недолго, сон объял его, словно темная волна прилива. Во сне он поправлял Джою постель, разглаживал одеяло, взбивал подушку; Джой хотел поцеловать его, и, когда Чарли наклонился, подставив ему щеку, он ощутил, что губы мальчика тверды и холодны. Посмотрев на него, увидел вместо лица лишь пустой череп с двумя горящими глазами, которые казались чудовищно неуместными на этом известковом подобии лица. Чарли не чувствовал его губ, а лишь отверстый, лишенный плоти рот и ледяные зубы. Он содрогнулся от ужаса. Джой отбросил одеяло и сел на кровати. Обыкновенный маленький мальчик, только на месте головы у него был пустой череп. Череп уставился на Чарли выпученными глазами, а маленькие детские пальчики начали расстегивать пижаму с изображением космических рыцарей, и, когда обнажилась впалая грудь ребенка, Чарли увидел, что она разверста, он хотел повернуться и бежать, но не мог, не мог закрыть глаза и — отвести взгляд, а мог лишь смотреть, как разрывается детская грудь и оттуда появляются полчища кровоглазых крыс, похожих на ту, что он видел на мельнице. Десятки, сотни, тысячи крыс, пока тело мальчика не опустошилось и он не рухнул, обратившись в комочек кожи, словно лопнувший воздушный шар. А крысы подступали все ближе к Чарли… …Он проснулся, задыхаясь, в поту, с застывшим в горле криком. Что-то тянуло его вниз, не давая пошевелить ни рукой, ни ногой, и на мгновение ему показалось, что это крысы, те, из сна. И он в панике забился, пока наконец не осознал, что лежит в застегнутом спальном мешке. Он нашел «молнию», расстегнул мешок, подполз к стене и сел, прислонившись к ней, слушая, как гулко ухает сердце, и ожидая, пока оно успокоится. Придя в себя, он зашел в комнату Джоя, просто на всякий случай. Мальчик безмятежно спал. Чубакка поднял лохматую морду и зевнул. Чарли посмотрел на циферблат. Он спал около четырех часов. Приближался рассвет. Он вернулся на галерею. Дрожь не унималась. Он спустился вниз и приготовил кофе. Старался не вспоминать о сне, но это не удавалось. Никогда ему не снился кошмар настолько близкий к яви, и сила его воздействия на Чарли была так велика, что он начинал, воспринимать его не просто как сон, а как феномен ясновидения, предвосхищение событий будущего. Не то чтобы крысы должны были и в самом деле извергнуться из тела Джоя. Разумеется, нет. Сон имел символический смысл, но означал он одно: Джой должен был умереть. Не желая верить в это, в смятении от одной мысли, что ему не удастся защитить мальчика, он тем не менее был не в состоянии относиться к этому только как ко сну. Он знал, он чувствовал нутром: Джой должен умереть. Возможно, всем им придется умереть. Теперь он понимал, почему они с Кристиной предавались любви с таким неистовством, с таким самозабвением и животной страстью. В глубине души онизнали — у них нет времени; подсознательно они ощущали приближение смерти и попытались бросить ей вызов этим древнейшим и самым жизнеутверждающим ритуалом, танцем плоти. Он поднялся из-за стола, оставив недопитый кофе, и подошел к входной двери. Оттер замерзшее стекло и посмотрел на занесенное снегом крыльцо. Кружились снежинки, и было темно. Буран шел на убыль, и Спиви была где-то рядом, близко. Вот каков был смысл его сна.Глава 55
К рассвету буран прекратился. Кристина с Джоем проснулись рано. Мальчик не был таким жизнерадостным, как накануне вечером. Более того, он снова погрузился в уныние, был мрачен, однако помогал Кристине и Чарли готовить завтрак и хорошо поел. После завтрака Чарли оделся и вышел на улицу, один, чтобы пристрелять винтовку, купленную накануне в Сакраменто. Ночью выпало еще около полуметра снега. Сугробы вокруг коттеджа стали значительно выше, достигая окон первого этажа. Лапы елей согнулись под тяжестью снега, и мир вокруг был так безмолвен, что казался огромным кладбищем. День был холодным, серым, унылым. Ветер пока не поднялся. Он соорудил мишень из квадратного куска картона, привязав его бечевкой к стволу ели, стоявшей в нескольких метрах от мельницы, вниз по склону. Затем отмерил двадцать пять ярдов и распластался на снегу. Пристроив свернутый спальный мешок под ложе, он прицелился в центр мишени и три раза выстрелил, делая паузы, чтобы убедиться, что перекрестье прицела совмещается с центром мишени. Сотая модель винчестера была снабжена оптическим прицелом, и мишень была у него прямо перед глазами. Он видел, как каждая граненая пуля попадает в цель. Выстрелы разорвали тишину гор и эхом отозвались в далеких долинах. Чарли встал, подошел к мишени и по разбросу выстрелов определил среднюю точку попаданий. Затем, измерив расстояние между этой точкой и центром мишени, он определил погрешность и соответствующим образом подстроил оптический прицел. Выстрелы ложились правее и ниже. Сначала он откорректировал угол подъема, затем угол отклонения, после чего снова распластался на снегу и снова выстрелил три раза. Теперь он с удовлетворением увидел, что все выстрелы попали в «яблочко». Поскольку пуля летит не по прямой, а по изогнутой траектории, она дважды пересекает линию прицела — первый раз при подъеме, второй раз — при падении. Применительно к оружию и боеприпасам, которыми он пользовался, Чарли подсчитал, что каждая выпущенная им пуля первый раз пересечет линию прицела на расстоянии приблизительно двадцати пяти ярдов, достигнув высшей точки, то есть около двух с половиной дюймов над линией прицела, находясь в удалении ста ярдов, и затем по нисходящей траектории пересечет линию прицела в двухстах ярдах от него. Таким образом, его винчестер был пристрелян для поражения цели на расстоянии двухсот ярдов. Он, де хотел никого убивать. Он надеялся, что в этом не будет необходимости. Но он был готов к этому. Кристина и Чарли надели снегоступы и рюкзаки и спустились к нижней поляне, чтобы закончить разгрузку джипа. На плече у Чарли висела винтовка. — Ты что, готовишься к неприятностям? — спросила Кристина. — Нет. Но что толку в ружье, если не держать его при себе? Сегодня она оставила Джоя с более спокойным сердцем, чем накануне, но все же тревожилась за него. Периоды хорошего настроения у него были кратковременны. Он снова замкнулся в себе, уйдя в свой собственный внутренний мир, и эта перемена в нем была еще более пугающей, чем в прошлый раз. Когда накануне вечером он совсем оправился, она понадеялась, что теперь он долгое время сохранит бодрость. Если же он вновь погрузится в безнадежное молчание, то, скорей всего, оно будет еще более глубоким, чем раньше, и, возможно, на сей раз ему вообще не удастся выйти из этого состояния. Конечно, нельзя полностью исключить вероятность того, что совершенно нормальный, хорошо адаптирующийся ребенок может оказаться подвержен аутизму, оборвав все связи с внешним миром. Она читала о таких случаях, но никогда не обращала на них особого внимания. Ведь Джой всегда был открытым, веселым и общительным ребенком, и она в первую очередь боялась всевозможных вирусных заболеваний и несчастных случаев. Аутизм мог проявиться у каких-то других детей, но ни в коем случае не у ее сына — экстраверта. Но теперь… Утром он не сказал и двух слов и ни разу не улыбнулся. Ей хотелось не отходить от него ни на минуту, прижать его к себе, но она вспомнила и о том, как вчера, когда он остался один, у него наконец появилась внутренняя уверенность, что ведьма не должна находиться поблизости. Возможно, и сегодня, предоставленный самому себе, он придет к такому же оптимистическому заключению. Когда они с Чарли направились вниз, Кристина ни разу не оглянулась на хижину. Если бы она это сделала, то Джой, возможно наблюдавший за ними из окна, мог воспринять это как признак ее беспокойства за него, и тогда ее собственный страх передался бы и ему. Дыхание замерзало в воздухе, и иней покрывал волосы. Воздух был холодным и колючим, но, поскольку ветра не было, они не надели лыжные маски. Сначала они не разговаривали, а просто шли, пробираясь между снежными сугробами, то и дело проваливаясь, несмотря на снегоступы. Выбирали наст покрепче, щурясь, потому что глаза уставали от снежного сияния, хотя солнца и не было. Наконец, дойдя до края леса, Чарли произнес: — Э-э-э… По поводу вчерашнего… — Чур, я первая, — перебила она его негромко, потому что вокруг стояла такая тишина, что даже шепот был слышен. — Я была несколько…, смущена сегодня утром. — Из-за вчерашнего? — Да. — Ты жалеешь, что это случилось? — Нет-нет. — Слава богу, потому что я-то уж точно не жалею. — Я просто хотела сказать тебе, что…, такой, какой я была вчера…, такой настойчивой, такой ненасытной, такой… — Страстной? — Это больше, чем страсть, тебе не кажется? — Да, пожалуй. — Боже, я была похожа на какое-то животное. Мне все время не хватало тебя. — Это очень приятно для моего самолюбия, — сказал он, широко улыбаясь. — А я и не знала, что у тебя больное самолюбие. — Да нет. Но и любимцем женщин я никогда себя не считал. — Но после вчерашнего считаешь? — Совершенно верно. Они углубились в лес метров на двадцать, остановились и, взглянув друг на друга, нежно поцеловались. — Я просто хочу, чтобы ты понял, у меня такого никогда не было, — сказала она. Он изобразил притворное удивление и разочарование: — Ты хочешь сказать, что ты не помешана на сексе? — Только с тобой. — Видимо, потому, что я — дамский угодник? Она не улыбалась. — Чарли, это важно для меня — чтобы ты понял. Прошлой ночью…, я не знаю, что на меня нашло. — Я на тебя нашел. — Не шути. Прошу тебя. Я не хочу, чтобы ты думал, что у меня так было с другими. Не было. Никогда. Я делала прошлой ночью с тобой то, чего никогда раньше не делала. Я даже не знала, что могу это делать. Я была необузданным животным. Я…, я не ханжа, но… — Послушай, — сказал он, — если ты была животным, то я был чудовищем. Как правило, я не теряю контроля над собой, и, конечно, на меня не похоже…, быть таким требовательным…, грубым. Но я не стыжусь себя такого, каким я был. И ты не должна. Между нами произошло что-то особенное, что-то необыкновенное, именно поэтому мы и вели себя так, как вели. Возможно, это было грубо, но чертовски хорошо, правда? — О да! Они снова поцеловались, но на этот раз их поцелуй был прерван отдаленным глухим рокотом. Чарли прислушался. Звук нарастал. — Самолет? — спросила она, посмотрев вверх на узкую полоску неба между деревьями. — Снегоходы, — сказал Чарли. — Раньше в горах всегда было тихо и спокойно. Сейчас не то время. Эти проклятые снегоходы снуют повсюду. Их как нерезаных собак. Гул моторов приближался. — Зачем им забираться так высоко? — в ее голосе была тревога. — Кто их знает. — Звук такой, как будто они уже над нами. — Может, и наоборот. Звук в горах обманчив и разносится очень далеко. — Но если мы встретим их?.. — Скажем, что арендуем коттедж. Меня зовут… — Боб… Хендерсон. Мы из Сиэтла, а здесь катаемся на лыжах и просто отдыхаем. Понятно? — Понятно. — И ни слова о Джое. Она кивнула. И они пошли дальше. Моторы ревели все сильнее и сильнее и вдруг замолкли один за другим. Снова повисла тишина, и раздавался лишь скрип снегоступов. Дойдя до верхнего края поляны, они увидели в просвете между деревьями, метрах в трехстах ниже, возле своего джипа четыре снегохода и восемь-десять человек, окруживших машину. Они находились слишком далеко, и Кристина не могла рассмотреть их, нельзя было даже определить, женщины это или мужчины, просто маленькие темные фигурки на ослепительно белом снегу. Джип наполовину засыпало снегом, и незнакомцы расчищали сугробы, чтобы открыть двери. До Кристины доносились голоса, но слов было не разобрать. В холодном воздухе раздался звон разбитого стекла, и тут Кристина поняла, что это не просто любители покататься на снегоходах. Чарли потащил ее назад, в тень и левее от тропы, и они оба едва не упали, потому что снегоступы не были предназначены для того, чтобы уходить от погони… Они стояли под гигантской тсугой. Ее густые ветви начинались метрах в двух над землей, скрывая их своей тенью. Тонкий слой снега под деревом был усыпан иголками. Чарли прислонился к огромному стволу и, выглянув из-за него, посмотрел туда, где в просвете между соснами на другом конце поляны виднелся их джип. Он отстегнул от пояса футляр и достал бинокль. — Кто это? — спросила Кристина, наблюдая, как Чарли наводит бинокль. Она заранее знала ответ, но не хотела поверить в очевидное. — Они не просто туристы. Это уж точно. Те не стали бы выбивать стекла в чужих машинах. — Может, это просто группа подростков, — сказал он, — которые ищут себе приключений. — Никто не будет забираться так высоко в горы по такому снегу в поисках приключений, — сказала она. Чарли отступил на два шага вправо и, держа бинокль обеими руками, вгляделся внимательнее. Наконец он произнес: — Я узнал одного из них — тот здоровый тип, который пришел к Спиви, когда мы с Генри уже уходили от нее. Она называла его Кайл. — О боже. Горы оказались не тихой заводью, а тупиком, западней. Неожиданно они поняли, что идея укрыться среди безлюдных заснеженных склонов и лесов оказалась недальновидной и просто глупой. Отрезав себя от всего мира, чтобы их никто не нашел, они в то же время лишились всякой надежды на чью-нибудь помощь в случае неожиданного нападения. Здесь, высоко в холодных горах, их убьют и похоронят, так что ни одна душа, кроме самих убийц, никогда не узнает, что с ними произошло. — Ты видишь…, ее? — спросила Кристина. — Спиви? По-моему…, да… Та, что сидит в снегоходе. Я уверен — это она. — Но как они нашли нас? — Кто-то знал, что я являюсь совладельцем этого коттеджа. Кто-то вспомнил об этом и сообщил людям Спиви. — Генри Рэнкин? — Возможно. Об этом месте знают очень немногие. — И все же…, почему так быстро? — Шестеро…, семеро…, девять. Нет, десять. Их десять человек. «Мы не умрем», — промелькнуло в сознании Кристины. И впервые с тех пор, как она оставила монастырь и утратила свою веру, она пожалела, что совершенно отвернулась от религии. Неожиданно на фоне безумия фанатиков из секты Спиви древнее учение римской католической церкви, проникнутое духом сострадания, показалось ей притягательным и успокаивающим душу, и ей страстно захотелось обратиться к этому учению, искренне, не лицемерно, умолять бога о помощи и просить Святую Деву о божественном заступничестве. Но нельзя, отвергнув церковь, полностью вычеркнув ее из своей жизни, вновь обратиться к ней, когда в этом возникает необходимость, и рассчитывать на то, что церковь примет тебя в распростертые объятия без всякого искупления грехов. Твоя вера нужна господу в трудные времена так же, как и в благополучные. Умри она теперь от рук фанатиков, и будет лишена даже последнего причастия, возможности быть похороненной в освященной земле; Кристина искренне удивилась, что сейчас потребность в вере вдруг пробудилась в ней после долгих лет, в течение которых она не придавала ей никакого значения. Чарли убрал бинокль в футляр и снял с плеча винтовку. — Возвращайся в дом как можно быстрее, — сказал он, — держись за деревьями, пока тропа не повернет, тогда они не увидят тебя с поляны. Собери Джоя, возьми немного еды. Одним словом, будь готова. — Ты остаешься здесь, зачем? — Чтобы прикончить кого-нибудь из них, — ответил он. В одном из карманов его куртки были патроны. Он расстегнул его. Когда он разрядит винтовку, то сможет быстрее перезарядить ее. Кристина стояла в нерешительности, боясь уходить от него. — Иди, — приказал он, — живее, у нас мало времени. Она кивнула и с колотящимся сердцем бросилась между деревьями вверх по склону, стараясь двигаться как можно быстрее, насколько позволяли снегоступы и ветки, которые приходилось все время раздвигать руками. Она с благодарностью отметила про себя, что огромные деревья преграждают доступ солнечным лучам, а подлеска практически нет, иначе снегоступы неизбежно застревали бы в кустах и идти ей было бы куда тяжелее. Чтобы стрелять точно, необходимо соблюдать два правила: занять, по возможности, удобную и устойчивую позицию и спускать курок в нужное время и как можно более плавно. Лишь немногие стрелки — охотники, военные и другие — умеют делать это как следует. Большинство начинает стрелять не приготовившись, вместо того чтобы выбрать более удачную позицию, или со всей силы давят на спдесевой крючок и делают это так резко, что руки непременно уводит в сторону. Лучше всего стрелять из положения лежа, особенно если цель находится ниже. Сняв снегоступы, Чарли вышел на опушку леса, к самому краю поляны, и лег на землю. Снег здесь был неглубокий, всего около двух дюймов, так как ветер продувал поляну с запада и уносил снег к востоку, где он собирался в сугробы вдоль края леса. Склон был довольно крутой, и Чарли смотрел вниз на людей, которые по-прежнему копошились вокруг джипа. Он приподнял винтовку, поддерживая ее левой рукой и поставив локоть на землю. В таком положении, ружье закреплялось неподвижно, упираясь в предплечье, которое было зафиксировано. Он прицелился в темную фигуру, сидевшую в головном снегоходе, хотя маячили и более удобные мишени, но он был почти уверен, что это Грейс Спиви. Ее голова чуть возвышалась над передним щитком, но об этом не стоило волноваться: пуля не могла отрикошетить от плексигласа. Если ему удастся подстрелить ее, возможно, это вызовет смятение и раскол среди остальных. На фанатиков не могло не произвести удручающего впечатления, если бы их маленький божок погиб у них на глазах. Чарли был в перчатках, но в них он плохо чувствовал курок, поэтому он снял перчатку с правой руки и положил палец на спусковой крючок. Так было гораздо лучше. Он навел перекрестье прицела на лоб Грейс Спиви, рассчитав, что на таком расстоянии пуля к моменту попадания уже пересечет линию прицела и ударит где-то на дюйм ниже. Если повезет — точно между глаз. Если же нет — все равно она попадет или в лицо, или в шею. Несмотря на минусовую температуру, Чарли было жарко. Пот градом катился с него. Можно ли назвать это самообороной? Никто из них сейчас не угрожал ему оружием, и его жизнь не находилась в непосредственной опасности. Разумеется, он понимал, что, если не уничтожить нескольких из них прежде, чем они подойдут ближе, перевес будет на их стороне. И все же он колебался. Никогда еще не доводилось ему так хладнокровно расстреливать людей… Что-то в нем восставало против того, чтобы действовать исподтишка, дабы не уподобиться тем монстрам, которые загнали его в ловушку. Но если он откажется от такой возможности, то непременно погибнет — так же, как Кристина и Джой. Перекрестье прицела было точно на лбу Спиви. Чарли надавил на курок, но не сразу, а постепенно, потому что под давлением прицел слегка отклонился от цели, и он, продолжая давить на спусковой крючок, снова поймал ее на «мушку» и лишь после этого окончательно нажал на спуск, и, словно запоздалая мысль, прогремел выстрел. Он вздрогнул, но не от предвосхищения выстрела, отреагировав на него позднее, когда пуля уже не могла отклониться, к этому времени уже вылетев из ствола. Предвосхищающая дрожь — это то, чего следует избегать при стрельбе, ибо во время постепенного, в два приема, спуска курка подсознание вводится в заблуждение, и выстрел всегда оказывается неожиданным. Но для него гораздо неожиданнее было другое: ему показалось, что в самый момент выстрела Спиви подалась вперед, потянувшись за чем-то, и слегка нагнулась. Сейчас, снова пытаясь разыскать ее в окуляре, он не мог этого сделать. Одно из двух: или он попал в нее и она рухнула, или ее на самом деле в последний момент спасла судьба — она пригнулась и теперь была вне досягаемости. Он немедленно прицелился в следующего. В одного из тех, что стояли у джипа. Тот только и успел, что повернуться на звук первого выстрела. Он, видимо, не обладал мгновенной реакцией, был растерян и не вполне осознавал опасность. Чарли выстрелил. На этот раз он был вознагражден: человек отлетел назад и распластался на снегу, убитый или смертельно раненный. Пробираясь краем леса, Кристина достигла открытого места, и идти ей стало легче. Тут она услышала выстрел, а через секунду или две еще один. Она хотела вернуться к Чарли, хотела быть рядом с ним, хотя и знала, что не сможет ничем помочь. У нее не было времени даже для того, чтобы оглянуться. Она удвоила усилия, изо рта у нее валил пар, она старалась как можно мягче наступать на снег, но из-за спешки все равно ломала наст и проваливалась, отчаянно выискивала относительно свободные от снега участки, чтобы двигаться быстрее. А если с Чарли что-то случилось? Что, если они с Джоем больше не увидят его? Она не ходила в походы и знала, что ей не выжить в этой снежной пустыне. Если им придется покинуть коттедж вдвоем, без Чарли, они наверняка заблудятся и умрут от голода или замерзнут. Природа словно желала еще больше устрашить ее, словно издевалась над ней — снова повалил снег.* * *
Когда упал первый, остальные бросились за джип, но двое направились к снегоходам, образовав прекрасные мишени, и Чарли прицелился в одного из них. Как и предыдущий, этот выстрел оказался точным: пуля попала в грудь, человека перебросило через снегоход, он упал в сугроб и остался лежать неподвижно. Второй лег на землю, и в него было трудно целиться, но Чарли все равно выстрелил. Он не мог определить, попал ли на этот раз, потому что его жертва теперь была скрыта под снегом. Он перезарядил винтовку. Чарли подумал, что среди них могут быть охотники или бывшие военные с достаточной смекалкой и они определят его местонахождение. Он стал обдумывать, как ему пробраться по опушке и найти другую позицию, надеялся — за деревьями его передвижение не будет обнаружено. Однако чутье подсказывало, что такого опыта у них не было и они не знали правил партизанской войны. Поэтому он остался на месте, рассчитывая, что кто-то из них совершит ошибку. Долго ждать не пришлось. Один из тех, кто укрылся за джипом, оказался чересчур любопытным. Прошло полминуты, и он, присев на корточки, оглянулся, надеясь, что в таком положении попасть в него невозможно. На самом же деле для Чарли он был прекрасной мишенью. Вероятно, тот тоже полагался на собственное чутье, рассчитывая упасть и прижаться к земле при малейшем шорохе, но был подстрелен и упал замертво еще до того, как звук выстрела докатился до него. Трое. Остается семеро. А если не считать и Спиви, то шестеро. Впервые в жизни Чарли с благодарностью вспоминал время, проведенное во Вьетнаме. С тех пор прошло пятнадцать лет, но он еще не утратил военной сноровки. Ему был знаком выматывающий душу ужас, который испытывает как охотник, так и преследуемый, и сейчас он чувствовал психологический стресс, который бывает во время боя, но он знал, как использовать это напряжение, как обратить этот стресс в свою пользу, чтобы оставаться начеку. Остальные не двигались, зарывшись в снег, прижавшись к джипу и к снегоходам. Чарли слышал, как они что-то кричат друг другу, но никто больше не посмел высунуться. Он понимал, что теперь они прикованы к месту на пять-десять минут и, может быть, есть смысл вернуться сейчас в хижину, воспользовавшись этим преимуществом во времени. Но ему не хотелось упускать шанс: если у него хватит терпения, ему представится случай сделать еще один удачный выстрел, когда они немного придут в себя. Пока он был в более выигрышном положении и остался лежать на опушке. Снова перезарядил винтовку и непрерывно смотрел вниз. Ему было приятно сознавать, что он оказался таким метким стрелком, и в то же время он стыдился своей гордости. Он радовался, что убил трех человек, и одновременно терзался своей кровожадностью. Небо нависло свинцовыми тучами. Падал слабый снег. Ветра пока не было. Хорошо. Ветер помешал бы стрельбе. Внизу у машины переговоры стихли. На горы опустилась первозданная тишина. Время шло. Там, внизу, они были напуганы. У Чарли появилась надежда.Глава 56
Кристина с Джоем стояли в гостиной. Лицо мальчика было пепельно-серым. Он слышал стрельбу. Он все понял: — Это она? — Милый, надевай костюм и ботинки. Мы скоро уходим. — Правда? — Мы должны быть готовы к приходу Чарли. — Это она, правда? — Да, — сказала Кристина. У мальчика на глаза навернулись слезы. Она прижала его к себе. — Вот увидишь, все обойдется. Чарли не даст нас в обиду. …Она смотрела ему в глаза, но он не видел ее. Его взор был устремлен сквозь нее, в какой-то иной мир, его взгляд был пустым и отсутствующим, и Кристину охватила дрожь. Она надеялась, что, пока соберет вещи, Джой уже оденется. Но он был на грани ступора: неподвижно стоял с безучастным лицом и безвольно опущенными руками. Она схватила лыжный костюм и натянула на Джоя поверх свитера и джинсов, в которых он ходил дома. На толстые шерстяные носки она надела ботинки и сама зашнуровала их. На пол у двери она положила его перчатки и лыжную маску, чтобы не забыть их, когда они будут уходить. Когда Кристина прошла на кухню собрать продукты и кое-какие вещи, Джой двинулся следом и остановился рядом с ней. Неожиданно он встрепенулся и, выйдя из оцепенения, с исказившимся от страха лицом произнес: — Брэнди? Где Брэнди? — Ты хочешь сказать — Чубакка, милый? — Брэнди. Я хочу сказать Брэнди! Потрясенная, Кристина бросила сумку, склонилась к Джою и погладила его по щеке: — Милый мой…, не надо…, не надо так расстраивать маму. Ты же помнишь… Брэнди умер. — Нет. — Ведьма… — Нет! — …убила его. Он яростно затряс головой. — Нет. Нет! Брэнди! Брэ-э-э-э-энди-и-и! Кристина пробовала прижать его к себе, но он вырывался. — Милый, прошу тебя, не надо… В этот момент на кухню зашел Чубакка, привлеченный шумом, и мальчик, вырвавшись из рук Кристины, радостно вцепился в него, обхватив лохматую голову: — Брэнди! Ты видишь? Это Брэнди. Он здесь. Ты наврала мне. Брэнди жив. Старина Брэнди жив-здоров. У Кристины перехватило дыхание, и она застыла, пронзенная болью, болью не физической, а душевной, острой и мучительной. Джой не воспринимал действительность. Ей казалось, что он уже смирился со смертью Брэнди, что все улеглось, когда она настояла на том, чтобы он назвал новую собаку Чубаккой, а не Брэнди Второй. Но теперь… Когда она обращалась к нему, он не реагировал и даже не смотрел на нее, а только что-то бормотал, шептался с собакой, гладил и обнимал ее. Кристина громко позвала Джоя, но он не ответил Зря она согласилась завести этого двойника. Надо было отвезти его обратно в питомник Надо было выбрать другую породу, только не золотистого ретривера. А может, и нет. Может быть, она уже никак не могла спасти его рассудок. Нельзя требовать выдержки от шестилетнего ребенка, когда вокруг него рушится мир. Даже взрослый сломался бы быстрее. Хотя она не признавалась в этом себе, однако все это время чувствовала, что Джой неизбежно должен столкнуться с эмоциональными и психологическими проблемами. Хороший психиатр поможет ему, уверяла она себя. Его бегство от реальности было лишь временным. Ей необходимо было верить, что это так. Она должна верить. Иначе не было смысла продолжать скрываться. Она жила для Джоя. Он был ее миром, ее смыслом. Без него… Самое страшное, что у нее не было времени прижать его к себе, приласкать и поговорить с ним, что было отчаянно необходимо ему, так же как, впрочем, и ей. Но времени не оставалось. Спиви была рядом. И сейчас ей приходилось не обращать внимания на Джоя, отвернуться от него в тот момент, когда он больше всего нуждался в ней. Ей пришлось взять себя в руки и снова собирать рюкзак. По лицу катились слезы, руки дрожали. Никогда ей не было так плохо. Теперь даже если Чарли спасет жизнь Джою, она все равно может лишиться своего мальчика, от которого останется лишь пустая оболочка. Но она упорно продолжала заниматься делом, распахивая дверцы буфета, отбирая вещи, которые пригодятся им, когда они уйдут в лес. Сердце ее было преисполнено черной ненависти к Спиви и ее подручным. Она не просто желала их смерти, сначала она хотела бы насладиться зрелищем их пыток. Она хотела заставить старую стерву визжать и молить о пощаде; отвратительная, грязная, безумная, старая стерва. Джой тихо бормотал: — Брэнди… Брэнди… Брэнди… — и гладил Чубакку.Глава 57
Прошло семь минут, прежде чем кто-то из людей Спиви осмелился обнаружить себя, чтобы проверить, держат ли их еще под прицелом. Чарли увидел его и открыл стрельбу. Но хотя это и был Долгожданный шанс, он не успел собраться, был слишком возбужден и напряжен. Он дернул курок, вместо того чтобы плавно отпустить его, и промазал. С той стороны немедленно открыли ответный огонь. Чарли подозревал, что они вооружены, но до последнего Момента у него не было полной уверенности. Стреляли из двух винтовок в направлении верхней кромки поляны. Первые залпы были направлены левее него метров на пятьдесят; он слышал, как в той стороне затрещали ветки. Следующие пули легли уже ближе, метрах в тридцати и по-прежнему левее, но пальба не прекращалась, и пули свистели все ближе и ближе. Люди Спиви представляли, где приблизительно мог находиться Чарли, и теперь вынуждали его обнаружить себя. По мере того как стрельба смещалась в его сторону, Чарли все ниже пригибал голову и прижимался к земле под сенью деревьев на опушке. Он слышал, как свистят пули у него над головой. Отлетали куски коры, сыпались иголки, рядом упало несколько сосновых шишек, но если те, внизу, надеялись на удачу, то их надежды не оправдались. Пули стали ложиться справа от Чарли, а это говорило о том, что им понятно только одно: в них стреляли откуда-то сверху — однако они понятия не имели, в каком месте засел нападавший. Чарли снова поднял винтовку и прильнул к окуляру прицела. И тут до него дошло — стреляя в него, те преследовали еще одну цель: прикрыть двоих, которые короткими перебежками устремились к лесу, огибая поляну с восточной стороны. — Проклятье! — Чарли попытался взять на мушку одного из бежавших. Но те двигались слишком быстро, невзирая на сугробы, поднимая облако снежной пыли. Не успел он поймать кого-нибудь из них в перекрестье прицела, как оба скрылись в темноте между деревьями. В то же мгновение стрельба стихла. Чарли прикинул, сколько времени потребуется тем двоим, чтобы пройти лесом и напасть на него с тыла. Немного. Лес в этих местах довольно чистый. Минут пять, не больше. Он еще мог кое-что предпринять, даже если сектанты, укрывшиеся за джипом, и не высунутся. Чарли прицелился в один из снегоходов и дважды выстрелил в надежде, что удастся вывести его из строя. Если он заставит Спиви с компанией топать пешком, поединок между ними будет честнее. Он взял на мушку другой снегоход и всадил две пули в двигатель. Третий был виден лишь наполовину, и попасть в него было трудно, поэтому Чарли выстрелил пять раз, для чего ему пришлось перезарядить винтовку. Внизу наконец определили его местоположение и открыли огонь, теперь пули ложились в непосредственной близости от него. Четвертый снегоход стоял за джипом, вне досягаемости, и Чарли не оставалось ничего другого, как отступить. Он надел вторую перчатку, по-пластунски пополз глубже в лес и укрылся за стволом тсуги. Он снова надел снегоступы, которые несколько минут назад сбросил, чтобы было удобнее стрелять. Старался производить как можно меньше шума, одновременно прислушиваясь к каждому шороху с восточной стороны, откуда на него могли выйти двое из группы Спиви. По его расчетам, они уже должны были дать о себе знать. Однако он быстро сообразил, что теперь они будут действовать крайне осторожно. Они не могли не понимать, что бросок к лесу не остался незамеченным и теперь их появление не будет неожиданным. К тому же они осознавали, что у него есть одно преимущество: ему была знакома эта местность. Стало быть, они будут продвигаться медленно, от укрытия к укрытию, внимательно вглядываясь в каждое дерево, в каждый камень, отмечая каждую впадину, где могла быть засада. У них могло уйти минут десять-пятнадцать, чтобы добраться сюда, и еще столько же, чтобы обшарить окрестности, пока они не поймут, что его там уже нет. Таким образом, у них с Кристиной и Джоем было в запасе двадцать — двадцать пять минут. Он опрометью бросился вверх через лес к коттеджу. На верхней поляне мела поземка. Ветер крепчал. Небо нахмурилось и потемнело. Несмотря на то что было утро, создавалось впечатление, что близится вечер, хуже того, казалось, близился конец света. Чубакка не отрывал взгляд от Джоя, словно чувствуя, что его юный хозяин нуждается в нем. Но мальчик больше не обращал внимания на собаку. Джой погрузился в свой внутренний мир, не замечая уже мира реального. Кусая губы, пытаясь унять острую тревогу за сына, Кристина набила провизией свой рюкзак, приготовила вещи для второго рюкзака и зарядила дробовик. Тут вошел Чарли — с красным от морозного ветра лицом и заиндевевшими бровями. От него веяло холодом, но больше всего холода было в его глазах. — Что произошло? — спросила Кристина, когда он прошел к столу в гостиной, оставляя на полу мокрые следы. — Вышиб им мозги, черт бы их побрал. — Что, всем? — спросила Кристина, — помогая ему снять рюкзак. — Нет. Я убил или серьезно ранил троих. Возможно, подбил еще одного, однако не уверен. Она принялась судорожно вкладывать вещи в непромокаемый рюкзак. — А что Спиви? — Не знаю. Возможно, я и попал в нее, но не поручусь. — Они идут? — Да. У нас в запасе минут двадцать. Кристина оторвалась от своего занятия и застыла с жестяной упаковкой спичек в руке, с тревогой глядя Чарли в глаза. — Что с тобой, Чарли? Он провел ладонью по влажному лбу: — Я никогда не делал ничего подобного. Это была… бойня. Разве что на войне, но ведь это совсем другое. То война. — Это тоже война. — Да, видимо, так. Кроме одного…, когда я стрелял… это доставляло мне наслаждение. Даже на войне со мной такого не было. — Ничего страшного, — сказала она, продолжая собирать рюкзак. — После всего, что мы вытерпели от них, я тоже не прочь застрелить одного-двух. Я бы хотела этого, черт побери! Чарли повернулся к Джою. — Капитан, надеваем перчатки и маску. Мальчик не реагировал. Он стоял возле стола с отсутствующим взглядом. — Джой? — позвал его Чарли. Мальчик молчал. Он смотрел на руки Кристины, запихивающие в рюкзак всякую всячину, но, похоже, не видел их. — Что с ним? — спросил Чарли. — Он…, он просто отключился от всего, — ответила Кристина, снова едва не плача. Чарли подошел к мальчику и, взяв за подбородок, легонько приподнял его голову. Джой смотрел на Чарли, но не видел его. Чарли пытался говорить с ним, но безрезультатно. На губах ребенка блуждала слабая улыбка, бессмысленная и призрачная, но и она не была реакцией на то, что говорил Чарли; он улыбался чему-то, увиденному в своем новом мире, каким-то своим мыслям, связанным с этим миром, который отделяли от реального долгие световые годы. В уголках детских глаз блестели слезы, но с губ не сходила все та же жуткая улыбка. Он ни разу не всхлипнул, не проронил ни звука. — Что за черт, — тихо произнес Чарли. Он прижал Джоя к себе, но тот не реагировал. Тогда Чарли надел уже собранный рюкзак, поправил ремни и зафиксировал их на груди. Кристина уложила второй, проверила клапаны карманов и взвалила на спину. Чарли надел Джою перчатки и лыжную маску. Мальчик не проявил к этому никакого интереса. Они вышли из дома, Кристина — последней, с заряженным дробовиком в руках. Прежде чем закрыть дверь, она бросила последний взгляд внутрь: в камине тлели поленья, на стене мягким янтарным светом горело бра; кресла и диваны словно просили остаться, обещая уют и покой. Она с грустью подумала, доведется ли ей когда-нибудь еще сидеть в мягком кресле при свете лампы. Или ей суждено сгинуть в лесах и быть погребенной в снежной могиле? Она закрыла дверь и двинулась навстречу серой холодной громаде зловещих гор. Они завернули за дом и углубились в лес. Чарли нес Джоя на руках. Пока деревья не скрыли их, Чарли то и дело оглядывался на поляну, опасаясь, что с противоположной стороны ее вот-вот появится Спиви со своими подручными. Чубакка держался впереди, каким-то шестым чувством угадывая направление. Вначале ему приходилось несладко из-за глубоких сугробов, но затем, в глубине леса, где снег лежал ровный и плотный, где не попадалось ни поваленных деревьев, ни каменистых выступов, он заметно оживился и побежал быстрее. Ближе к краю леса еще встречался кустарник, но дальше деревья плотнее смыкали ряды, и всякий подлесок пропадал. Они поднимались все выше, склоны становились все более каменистыми и неровными. Им пришлось бы совсем трудно, если бы не мелкое русло, по весне, должно быть, принимающее многочисленные ручьи, которые образуются в горах, когда начинает таять паковый снег на вершинах. Они пошли по этому руслу, держа путь, как и рассчитывали, на северо-запад. Снегоступы они привязали к рюкзакам, поскольку путь их пролегал под нависавшими со всех сторон ветвями исполинских деревьев и снежный покров здесь был невелик. Попадались места, где мохнатые хвойные лапы смыкались так плотно, что земля под ними была совсем голой. Несмотря на это, снега было достаточно, чтобы за идущими оставался четкий след. Можно было задержаться и попробовать замести следы ветками, но Чарли не останавливался, считая это пустой тратой времени. Улики, которые он оставит, пытаясь уничтожить отпечатки ступней на снегу, будут с не меньшей очевидностью свидетельствовать о том, что они проходили здесь; в глубине леса, особенно у земли, ветер был не таким сильным, чтобы запорошить снегом следы от веток. Оставалось только нажимать, уповая на то, что они идут быстрее своих преследователей. Возможно, потом, если они будут переходить открытые участки, усиливающийся ветер сыграет им на руку, затруднив банде Спиви их поиски. Если. Если им удастся преодолеть этот лес и выйти на открытый участок. Если ищейки Спиви не настигнут их в ближайшие полчаса. Если. В лесу царил полумрак, и они обнаружили, что лыжные маски с их узкими отверстиями еще больше ухудшают видимость. Они спотыкались и падали, и в конце концов им пришлось снять маски. Мороз обжигал лицо, но оставалось только терпеть. Чарли чувствовал, что их преимущество во времени перед командой Спиви неуклонно тает. Они покинули хижину спустя почти пять минут после его прихода, так что теперь они опережали гнавшуюся за ними свору всего минут на пятнадцать, а возможно, и того меньше. А поскольку он не мог, с Джоем на руках, идти так быстро, как хотелось бы, фактически не оставалось сомнений, что с каждой минутой разрыв сокращается. Склон становился все круче; Чарли начал уставать и слышал за спиной учащенное дыхание Кристины. Он еще ни разу не спустил Джоя на землю и от усталости уже не чувствовал собственных рук; ныли икры и бедра. Их путеводное русло начинало забирать все больше на восток; туда им было ни к чему. Они могли пройти по нему еще какое-то время, однако рано или поздно Чарли придется опустить мальчика, так как впереди простиралась куда менее гостеприимная местность. Если они рассчитывают оторваться от погони, Джой должен будет идти самостоятельно. Но что, если он откажется идти? Что, если он застынет на месте как вкопанный, с этим рассеянным пустым взглядом?Глава 58
Чтобы не попасть под пулю, Грейс вся сжалась, сидя в снегоходе, хотя все ее старые кости протестовали против такого скрюченного положения. В царстве духов это был черный день. Узнав ночью эту тревожную новость, она испугалась, что не сможет подобрать одежду, которая гармонировала бы со спектральной энергией. В ее гардеробе не было черных вещей. Прежде черные дни не выпадали ни разу. Никогда. Но, на ее счастье, у Лоры Панкен, ученицы, оказался черный лыжный костюм, почти ее размера, и Грейс сменила серое платье на экипировку нужного цвета. Сейчас она едва ли не жалела, что вступала в контакт со святыми и душами умерших. Излучаемая ими спектральная энергия была неизменно обескураживающей, словно заряженная страхом. Кроме того, Грейс досаждали видения ада и смертных мук, но они не были ниспосланы ей господом; их происхождение было совсем иное, в них был налет серы. Смущающими душу видениями сатана пытался разрушить храм ее веры, повергнуть ее в ужас. Он хотел обратить ее в бегство, хотел, чтобы она отказалась от своей миссии. Грейс знала, что замышляет отец нечестивой веры. Знала. Порой, вглядываясь в лица окружающих, она чувствовала, что от нее ускользает их истинная суть; перед ней представала пораженная тлением и паразитами плоть, и она содрогалась от явных свидетельств бренности человеческого тела. Дьявол своим столь же коварным, сколь порочным, умом понимал, что она никогда не поддастся его искушению, поэтому пытался поколебать устои ее веры, поразив ее страхом. Не выйдет. Никогда. Вера ее крепла. Но сатана не отступался. Иногда, когда Грейс обращала взор к грозовому небу, она видела там нечто: скалящиеся козлиные морды, отвратительные свиные рыла с огромными клыками. А ветер доносил голоса. В их зловещем шипении слышались лживые посулы, они перевирали истину, говорили об извращенных наслаждениях, и их описание бесстыжего действа гипнотизировали сознание, вызывая в нем живые яркие образы, в которых порок представал в своей смущающей развратной красоте. В снегоходе, согнувшись в три погибели, чтобы спастись от выстрелов, Грейс вдруг увидела огромных тараканов, величиной с ладонь; они ползли по ее ногам и уже подбирались к лицу. Она едва не подпрыгнула от отвращения. Именно этого дьявол и добивался, надеясь, что она обнаружит себя и станет легкой добычей. К горлу подступила тошнота, но Грейс, мучительно сглотнув, поборола ее и еще плотнее прижалась к днищу машины. Она заметила, что головы у тараканов были человечьи. Они обращали к ней свои крошечные личики, выражавшие боль, унижение и ужас, и Грейс понимала — это были сцены, на которых лежала печать божьего проклятия, до сих пор корчившиеся в аду, пока сатана не перенес их сюда, чтобы явить ей, на какие страдания обречена его паства; чтобы доказать ей, что его жестокость не знает границ. Грейс охватил такой страх, что она чуть не сделала под себя. Дьявол рассчитывал, что, наслав на нее этих тварей с человечьими лицами, он заставит ее задуматься: зачем бог допустил существование ада? Да, дьявол ждал, что она будет терзаться вопросом: не жесток ли сам бог, потворствуя жестокости сатаны? Дьявол ждал, что она усомнится в добродетели своего Создателя. Это должно было внести смятение и страх в ее душу. Вдруг Грейс увидела, что лицо одного из тараканов — это лицо ее покойного мужа, ее Альберта. Нет, Альберт был добр. Он не мог оказаться в аду. Это ложь. Крохотное личико запрокинулось вверх. Хотя она не слышала ни звука, но знала, что он пронзительно кричит. Нет, Альберт был милый человек, праведник, святой. Альберт в аду? Обречен на вечные муки? Бог никогда не допустил бы такой несправедливости. Она так надеялась снова встретиться с мужем на Небесах, но если его там нет… Она почувствовала, что находится на грани помешательства. Нет. Нет, и еще раз нет. Сатана лжет. Он хочет, чтобы она сошла с ума. Дьяволу только этого и нужно. Если бы она обезумела, то уже не смогла бы служить господу. Если она усомнится в своем душевном здоровье, она может усомниться и в своей миссии, своем божественном Даре, в своих отношениях с господом. Она не должна сомневаться в себе. Она здорова, и ее Альберт — в раю, и она должна подавить в себе всякую неуверенность и всецело и слепо отдаться вере. Грейс закрыла глаза и больше не смотрела на жутких насекомых, ползавших по ее башмакам. Она чувствовала, что они там, даже через толстую кожу, но она только стиснула зубы и молилась, чтобы прекратились выстрелы. Когда она открыла глаза, тараканы исчезли. На какое-то время она спасена. Ей удалось отогнать дьявольское наваждение. Стихла и стрельба. Пирс Морган и Дэнни Роджерс, посланные в лес, чтобы обойти Гаррисона с тыла, подали сигнал с верхнего края поляны, давая знать, что путь свободен. Гаррисон пропал. Грейс выбралась из снегохода и увидела, как Морган и Роджерс машут им сверху. Она посмотрела на лежащего в снегу Карла Рэйни, это в него попала первая пуля. Он был мертв — в груди зияла огромная рана. Разбросанные в стороны руки заметал снег. Грейс опустилась на колени. Кайл не выдержал и подошел к ней. — О'Коннер тоже мертв. И Джордж Уэствек, — его голос дрожал от боли и гнева. — Мы знали — кому-то из нас придется пожертвовать собой. Их смерть была не напрасной, — сказала Грейс. Подошли остальные: Лора Панкен, Эдна Ванофф, Берт Тулли. Они были в равной степени преисполнены гневной решимости истраха. Они не обратятся в бегство. С ними их вера. — Карл Рэйни…, теперь в раю, в объятиях господа, так же как и… — она мучительно вспоминала, как звали О'Коннера и Уэствека, попутно помолившись, чтобы господь не лишил ее памяти о чем-нибудь более важном. — Как и… Джордж Уэствек и… Кен… Кен… Кевин… Кевин О'Коннер…, все они на Небесах. Снег постепенно накрыл тело Рэйни белым саваном. — Мы захороним тела? — спросила Лора Панкен. — Земля слишком мерзлая, — сказал Кайл. — Оставьте. У нас нет времени на похороны, — сказала Грейс. — Антихрист почти в наших руках, но сила его прибывает с каждым часом. Мы не можем мешкать. Два снегохода были выведены из строя, поэтому два оставшихся заняли Грейс, Эдна, Лора и Берт Тулли, а Кайл следовал за ними пешком. Они двинулись наверх, где их ждали Морган с Роджерсом. Грейс охватило уныние — три ее соратника мертвы. Они продвигались медленно, все время останавливаясь, чтобы разведать путь и не напороться на засаду. Усиливался ветер, началась метель. Тучи были страшнее смертного покрывала. Еще немного, и она окажется лицом к лицу с ребенком-Антихристом, и тогда ее предназначение будет выполнено.Часть V. ДОБЫЧА
Уильям Шекспир, «Макбет»
Ничто так не печалит бога, как гибель ребенка.Д-р Том Дули
Глава 59
Глядя, как Джой безропотно карабкается вслед за Чарли, Кристина ласково приговаривала: — Вот умница. Вот хороший мальчик. Они держали курс к выступу, выдававшемуся на полпути к гребню горного хребта. Кристина боялась, что Джой откажется идти сам — встанет и будет стоять, как зомби. Но, как видно, он все же воспринимал реальность; он молчал, смотрел на нее невидящим взглядом, однако в глубине души, очевидно, понимал — надо идти, чтобы спастись от ведьмы. Ему было неимоверно трудно, к тому же он чувствовал себя неуклюже в мешковатой лыжной экипировке, а дорога местами забирала так круто вверх, что приходилось цепляться за камни и редкие кусты, чтобы сохранить равновесие. Джой не жаловался, хотя и продвигался все с большим трудом, время от времени опускаясь на четвереньки, и Кристина то и дело помогала ему перебраться через упавший ствол или покрытые ледяной коркой выступы голых скал. Они вынуждены были идти медленнее, приспосабливаясь к Джою, и все-таки шли; возьми его Чарли на руки, они не сделали бы ни шагу. Чубакка постоянно норовил оторваться от них, прыгая и карабкаясь по склону, словно и не собака вовсе, а настоящий волк — абориген этих первозданных мест. Порой он застывал на месте, тяжело дыша, оборачивался и устремлял долгий взгляд назад; при этом одно ухо у него смешно топорщилось. И мальчик при виде своего пса, казалось, оживал и двигался с удвоенной энергией. И Кристина сказала себе, что должна быть благодарна этой собаке, пусть даже ее сходство с Брэнди отчасти усугубляло психологическое состояние мальчика. Она даже начала беспокоиться о Чубакке. Шерсть у него была густая, но шелковистая, не то что у волков или других исконных обитателей этих мест. На брюхе, на боках и на хвосте у него уже намерзли куски льда, так же как на кончиках лохматых ушей. Пока это, похоже, не причиняло ему неудобств, но что будет через час? Через два? Да и подушечки его лап не были приспособлены, чтобы бить их по этой суровой земле. Как бы там ни было, но пес — домашний, привыкший к вольготной жизни в тихой провинции. Пройдет немного времени, и лапы его будут кровоточить от порезов и ссадин, и, вместо того чтобы весело мчаться впереди, он, прихрамывая, будет ковылять сзади. Если Чубакка не выдержит перехода, если бедняга умрет по дороге, каким ударом это будет для Джоя! Это может убить его. Возможно. Или он навсегда безмолвно замкнется в себе. Кристина прислушалась: снизу раздавался далекий рокот — она догадалась, что это взревели снегоходы, направляясь к их коттеджу. Это невеселое обстоятельство, Должно быть, не осталось незамеченным даже Джоем, несмотря на его затуманенное сознание. Он предпринял мужественную попытку и бросился вперед, карабкаясь что было сил и цепляясь за землю. Потом звук растаял, и вместе с ним растаяли его силы, и он снова шел медленно, и было видно, что каждый шаг дается ему с большим трудом. Дойдя до выступа, они остановились, чтобы перевести дыхание, не произнося при этом ни звука, словно берегли силы для более важных дел. Да и говорить, по правде, было особенно не о чем, разве что о том, сколько еще пройдет времени, пока их схватят и прикончат. Они вздрогнули. В нескольких метрах от них из кизиловых зарослей кто-то выскочил и бросился наутек. Чарли снял с плеча винтовку. Чубакка принюхался и отрывисто тявкнул. Это была всего-навсего серая лисица, вскоре исчезнувшая в сумраке леса. Кристина предположила, что она преследовала добычу, белку или зайца или кого-то еще. Зимой местным обитателям приходится несладко. И все же ее симпатии были на стороне жертвы, а не лисы. Кристина-то знала, каково это, когда тебя травят. Чарли снова повесил винтовку на плечо, и они двинулись дальше. За выступом простирался последний участок, отделявший их от вершины хребта. Лес здесь поредел, и снега заметно прибавилось, хотя можно было еще обходиться без снегоступов. Чарли обнаружил оленью тропу, облегчавшую подъем на плоскую площадку на вершине хребта. Не наткнись они на эту тропу, Джою пришлось бы преодолевать слишком высокие сугробы. Олени позаботились о нем — должно быть, с десяток их прошли здесь со времени последнего бурана, притоптав снег копытами, так что теперь Джой лишь изредка оступался и поскальзывался. Чубакка, почуяв запах проходивших здесь животных, фыркал и глухо рычал. Тут до Кристины дошло, что с тех пор, как они оставили хижину, их пес ни разу не залаял. Даже когда его вспугнула лиса, он лишь по-щенячьи тявкнул, и этот звук не мог разнестись далеко. Казалось, чутье подсказывало ему, что лай может привлечь внимание ведьмы. Или у него просто не оставалось сил взбираться в гору и лаять одновременно. Поднимаясь все выше, они не только удалялись от преследователей, но как будто перемещались в другой климатический пояс: с каждым шагом вверх погода неумолимо ухудшалась, словно ее состояние обусловливалось географическим положением, а не состоянием атмосферы и временем года. Они забирались все глубже в холодное царство зимы. Облака нависали над самыми верхушками сосен и елей. Сплошной стеной повалил снег, и к тому моменту, как они достигли вершины, деревья были скрыты за плотной белой пеленой. Кристина видела, что на них надвигается очередной буран, и, судя по первым его признакам, он обещал быть еще страшнее того, что бушевал минувшей ночью. Заметно похолодало, ветер, гонимый термальными потоками, мчался из долин в горы, и у них перехватывало дыхание под его шквальными порывами. Не пройдет и двух часов, как все вокруг превратится в кромешный ад. Только теперь они не могли укрыться от него в теплой хижине. Чарли не спешил спускаться в очередную долину. Он повернулся и задумчиво посмотрел вниз, окидывая взглядом пройденный ими путь. Он что-то обдумывал, некий план. Кристина догадывалась об этом, и в ее душе блеснула надежда. Их превосходили численностью и вооружением, и, чтобы победить, им необходимо проявить чертовскую изворотливость. Она склонилась над Джоем. Из носа у мальчика текло, и на верхней губе и на щеке тут же намерзал лед. Она вытерла ему лицо, поцеловала и постаралась защитить от ветра. Он молчал. Как и прежде, он смотрел насквозь, не видя ее. «Я убью тебя, Грейс Спиви», — думала Кристина, глядя туда, откуда он пришли.* * *
Щурясь от слепящего ветра и снега, Чарли осмотрелся и решил, что здесь самое подходящее место, чтобы устроить засаду. Вершина хребта представляла собой узкую, шириной всего в пять-десять метров, безжизненную каменную гряду, протянувшуюся с севера на юг и лишенную даже снега из-за гуляющих здесь шквальных ветров. Повсюду торчали причудливой формы голые скалы, за тысячелетия отполированные ветром до блеска и предлагавшие множество удобных укромных мест, откуда Чарли, оставаясь незамеченным, мог наблюдать за сектантами Спиви. Пока они не давали о себе знать. Разумеется, он не мог видеть, что происходило внизу под сенью леса, потому что хотя непосредственно на подступах к гряде деревья росли значительно реже, чем на более удаленных склонах, все же они, казалось, смыкались в сплошную шеренгу всего в ста — ста десяти метрах ниже кромки гребня. За этой отметкой он уже был не в состоянии что бы то ни было различить, наступай оттуда хоть целая армия. Да еще ветер, который на вершине ревел и свистел, в лесу, в ветвях вековых деревьев производил бесконечный шорох и хруст, маскируя любой звук, которым преследователи могли бы выдать себя. Но Чарли инстинктивно чувствовал, что у него есть еще минут двадцать, возможно, чуть больше. Он, конечно, отдавал себе отчет, что, карабкаясь к вершине, они из-за Джоя потеряли много драгоценного времени и их первоначальный отрыв сократился, но он также понимал, что банда Спиви будет подниматься крайне осторожно, по крайней мере на протяжении первого отрезка пути, пока они вновь не обретут уверенность. К тому же они, возможно, заглянули в хижину, а это еще несколько потерянных минут. Так что у него было достаточно времени, чтобы подготовиться к «теплой» встрече. Он подошел к Кристине и Джою и присел рядом. Мальчик, как и до сих пор, пребывал в полной отрешенности, почти в ступоре, не замечая, как собака преданно трется о его ногу. — Мы пройдем вниз к долине, сколько успеем за шесть минут, найдем место поспокойнее для вас с Джоем, а я вернусь сюда и буду ждать гостей, — сказал Чарли. — Нет. — Я должен снять хотя бы одного до того, как они успеют укрыться. — Нет. — Кристина твердо стояла на своем. — Если ты должен ждать их здесь, мы останемся с тобой. — Это невозможно. Когда я отстреляюсь, мне надо будет мгновенно исчезнуть из виду, придется пробежаться. Если вы будете со мной, мы потеряем слишком много времени. — Я считаю, что нам не следует разлучаться. — Это единственный выход. — Мне страшно. — Я должен постепенно выводить их из строя. Она прикусила губу: — И все-таки я боюсь за тебя. — Это неопасно. — Черта с два. — Правда. Я буду выше, когда открою огонь. В укрытии. Сразу они не определят, откуда стреляют, а потом будет поздно. Я уже дам тягу. У меня явное преимущество. — Что, если они не полезут за нами так высоко? — Полезут. — Прогулка не из приятных. — Мы же прошли; пройдут и они. — Но Спиви стара для таких гонок. — Они оставят ее в хижине, приставив к ней пару охранников. Остальные бросятся за нами. Кристина, я должен помешать им. Я должен перестрелять всех, если получится. Клянусь, засада — это совсем не опасно. Я шлепну одного-двух и улизну прежде, чем они успеют засечь меня и открыть ответный огонь. Она ничего не сказала. — Ну же, — сказал Чарли. — Мы теряем время. Секунду поколебавшись, она кивнула ему: — Идем. Это была железная женщина. Чарли знал не многих мужчин, которые бы вынесли все это без единой жалобы, и уж наверняка не было такой женщины, которая согласилась бы остаться одна в подобных обстоятельствах посреди ледяного леса, вне зависимости от того, насколько это было необходимо. В ней столько же душевной стойкости и мужества, сколько женского обаяния и красоты. Чуть дальше к северу на гряде он нашел ту же оленью тропу, и они пошли по ней вниз к следующей долине. Тропа извивалась, словно это она, а не олени, торившие ее, выбирала самые безопасные и удобные для прохода места, минуя отвесные склоны. Чарли рассчитывал проводить их как можно дальше к подножию и успеть вернуться назад — поставить капкан на свору Спиви. Однако из-за того, что тропа бесконечно петляла, облегчая дорогу, но и увеличивая расстояние, за пять минут они не только не спустились в долину, но не прошли и половины пути. Там, где тропа, огибая выступ, проходила под каменным козырьком, образующим защищенную впадину, Чарли остановился. Это нельзя было назвать настоящей пещерой, но там вполне можно было укрыться от ветра и снега, который сыпался сквозь ветви стоявших вокруг деревьев. С противоположной стороны нишу прикрывал крутой склон холма, уходящий вверх почти отвесной стеной, так что созданное природой убежище было защищено с трех сторон. — Ждите меня здесь, — сказал Чарли. — Можете наломать сушняка — вон с той ели — и развести костер. — Но ведь тебя не будет всего…, минут двадцать — двадцать пять? Вряд ли имеет смысл разводить костер. — Выйдя из хижины, мы все время двигались, — сказал Чарли, — и не ощущали холода. Но без движения вы быстро замерзнете. — У нас утепленные… — Чепуха. Все равно огонь не помешает. По крайней мере, Джою он точно не повредит, у него нет такого запаса прочности, как у взрослых. — Хорошо. А может…, мы пойдем дальше по оленьей тропе, а ты нагонишь нас? — Нет, в лесу слишком просто заблудиться. Тропа будет разветвляться. Вы можете и не обратить на это внимания, а мне потом останется лишь догадываться, в какую сторону вы пошли. Кристина кивнула. — Костер разложи на тропе, — продолжал Чарли, — только не под самым козырьком, чтобы в нише не скапливался дым. Так вам все равно будет достаточно тепло. — А они не могут заметить дым? — спросила Кристина. — Нет, они же по ту сторону хребта. К тому же видимость отвратительная. — Он быстро отвязал от рюкзака снегоступы. — А если и увидят — это не страшно. Перед ними буду еще и я, а я очень надеюсь уложить одного-другого. Это заставит их затаиться по меньшей мере минут на десять. К тому времени, как они очухаются, никакого костра и в помине не останется, а мы будем уже внизу, в долине. — Он проворно скинул рюкзак, оставив с собой только винтовку и набив карманы патронами. — Ну, мне пора. Кристина поцеловала его. Джой, похоже, не заметил его ухода. Чарли устремился назад, следуя по той же узкой тропе. Он шел быстро, так как на подъем требовалось больше времени, а его-то как раз оставалось немного. Самым трудным за всю его жизнь оказалось это решение оставить сейчас Джоя и Кристину одних. Джой с Чубаккой ждали под каменным козырьком, пока Кристина принесет сухих веток для костра. Под огромными разлапистыми ветвями ближе к земле на стволах елей и сосен оставалось множество сухих сучков со старыми шишками, которые хорошо идут на растопку. Они были сухие, потому что верхние пушистые ветви задерживали снег. Более того, сгибаясь под тяжестью снега, верхние ветки надламывали сушняк, и Кристине было совсем не трудно заготовить хворосту для костра. Она быстро собрала целую охапку и вернулась назад. Вскоре у входа в каменный мешок, где нашли убежище они втроем — Кристина, Джой и Чубакка, — уже потрескивали в огне сухие сучья. Едва Кристина ощутила, как от костра потянуло жаром, она поняла, что, несмотря на теплую одежду, холод пробрал ее до костей; это окончательно убедило ее в том, что сидеть здесь в ожидании Чарли без огня было бы крайне опасно. Джой сидел, привалившись к стене, устремив на костер пустой взгляд ничего не выражавших глаз, которые были бы похожи на кусочки мертвого стекла, если бы их не оживляли отражавшиеся язычки пламени. Чубакка лег и принялся зализывать раны на лапах. Кристина не знала, сбил он лапы или порезал, однако было видно, что раны причиняют псу боль, хотя он даже не скулил. Каменные стены вокруг них начали отогреваться, и поскольку ветер не проникал в их пещеру, скоро в ней стало удивительно тепло. Кристина стянула перчатки, расстегнула карман куртки и достала оттуда коробку с картечью для дробовика. Она открыла ее и положила рядом с уже заряженным ружьем, на случай, если Чарли больше не вернется…, а вместо него придет кто-то другой.Глава 60
Когда Чарли добрался до гряды, ему не хватало дыхания, а ноги — от бедер до икр — пронизывала пульсирующая боль. Плечи, шея, спина ныли так, словно он по-прежнему волок на себе тяжелый рюкзак, и он то и дело перекладывал ружье из одной руки в другую, чтобы размять затекшие мышцы. Вряд ли можно было сказать, что он был не в форме; живя нормальной жизнью у себя дома, в Оранже, он дважды в неделю посещал гимнастический зал и через день по утрам пробегал по пять миль. Если даже он начал уставать, то каково же Кристине и Джою? Даже если ему повезет подстрелить пару фанатиков, сколько еще смогут продержаться два близких ему человека? Он старался не думать об этом, так как боялся — ответы на эти вопросы будут не очень обнадеживающими. Чарли, пригнувшись от ветра, который задувал с такой яростью, что мог свалить с ног, бегом пересек узкое скалистое плато. Шел такой густой снег, что видимость на голом гребне не превышала десяти-пятнадцати метров и была еще хуже, когда налетал порыв ветра. Такого снега Чарли в жизни не видел; казалось, он падает не просто хлопьями, а охапками, пачками хлопьев. Не знай Чарли точного направления, сейчас он шарахался бы как слепой из стороны в сторону, но он безошибочно вышел на цепь гладких валунов, лежавших по краю гребня, и распластался на земле в облюбованном заранее месте. Здесь, лежа между скальными выходами гранитной породы на самом краю гряды, он мог спокойно ждать. Отсюда хорошо просматривалась та самая извилистая тропа, по которой немногим раньше поднимались они втроем и которой теперь наверняка воспользуются фанатики. Он подался чуть вперед, стараясь разглядеть кромку леса, как вдруг всего метрах в девяноста ниже по склону заметил какое-то движение. Он вскинул винтовку и прильнул к окуляру прицела: поднимались двое. Чтоб вам… Они уже были здесь. Но почему только двое? Где остальные? Тут он заметил, что пара приближается к участку тропы, который не просматривался сверху, и решил, что они замыкающие в группе; передние же уже, видно, прошли поворот и скоро должны снова показаться выше на тропе. Один из обнаруженной двойки был среднего роста, одетый во что-то темное. Второй — непомерно высокого роста, в синем лыжном костюме, поверх которого коричневая парка с капюшоном и меховой опушкой. Должно быть, этого гиганта видел Чарли, когда приходил к Спиви, — чудовище Кайл. Чарли содрогнулся. От одного упоминания этого имени у него побежали мурашки. Чарли рассчитывал, что ему придется некоторое время — минут десять или даже больше — ждать их появления, как вдруг выяснилось, что они уже рядом. Очевидно, они карабкались вверх, не останавливаясь, чтобы проверить, нет ли впереди засады, отбросив всякий страх. Приди Чарли двумя минутами позже, он столкнулся бы с ними на самой гряде. По смешанному сосняку и ельнику тропа огибала скалистый выступ. Двое замыкающих скрылись из вида. С трепещущим сердцем Чарли навел прицел на то место, где тропа появлялась из-за выступа. Сектор стрельбы был ограничен прогалиной, составлявшей метров восемь. Расстояние до цели метров шестьдесят пять, то есть пули будут ложиться на один и три четверти дюйма выше прицела, значит, чтобы всадить пулю в сердце, надо целиться в нижнюю часть груди. В зависимости от того, насколько близко друг к другу идут эти выродки, на открытом участке могут одновременно оказаться трое из них, причем первый уже будет приближаться к следующей не простреливаемой зоне. Он не особенно надеялся уложить троих; они будут следовать гуськом, закрывая друг друга, так что хорошенько прицелиться во второго можно лишь после того, как упадет первый. К тому же после первого выстрела они наверняка кинутся искать укрытие. Допустим даже, что в этой суматохе он уложит и второго, но третий так или иначе успеет спрятаться прежде, чем он возьмет его на прицел. Следовало рассчитывать на двоих. На сером фоне прогалины показался первый. Чарли поймал его в перекрестье и увидел, что это женщина. Довольно миловидная молодая женщина. Он растерялся. Из леса вышел еще один, и Чарли перевел винтовку на него. И снова женщина, хотя и не такая молодая и миловидная, как первая. Умно. Они пустили вперед женщин в расчете сбить его с толку. Они полагались на его совесть, которая не позволит ему стрелять в женщину. Их совесть в этом отношении молчала. Это было даже смешно. Они, истые верующие, возомнившие себя божьими наместниками, но расценивающие его моральные устои как более строгие и прочные, чем их. И их план сработал бы, если бы не одно «но»: он воевал во Вьетнаме. Пятнадцать лет назад он потерял двух близких друзей и едва не погиб сам, когда в одной деревне навстречу им вышла улыбающаяся девушка, а как только они остановились, чтобы поговорить с ней, она подорвала себя гранатой. В своей жизни ему уже приходилось иметь дело с фанатиками, с одной разницей: те были скорее фанатиками от политики, чем от религии. Хотя какое это имеет значение? И политика и религия, случается, несут в себе одну отраву. Чарли прекрасно знал, что слепая ненависть и жажда насилия, подчас поражающие праведников, могут превратить женщину в безумного палача, не менее страшного, чем любой одержимый идеей собственного мессианства мужчина Канонизированное безумие и варварство не имеют ограничений по признаку пола. У Чарли было о ком переживать. Пощади он этих женщин, они убьют женщину, которую любит он, вместе с ее ребенком. «Меня они тоже не пощадят», — думал он. Мысль, что ему предстоит убить ее, была отвратительна, но он снова навел прицел на первую женщину, поймал ее в перекрестье окуляра и выстрелил. Ее сбило с ног и отбросило прочь с оленьей тропы. Уже мертвая, она рухнула на колючие лапы черной ели, с которой от сотрясения сошла маленькая снежная лавина, погребя под собой тело женщины. А потом началось что-то неладное.* * *
Кристина только что подбросила в костер хвороста, снова устроилась рядом с Джоем под каменным козырьком, когда услышала звук первого выстрела, эхом прокатившегося по лесу. Чубакка настороженно задрал морду и навострил уши. Через секунду раздались новые выстрелы, но на этот раз — не из винтовки Чарли. Теперь это было равномерное стрекотание, оглушительный металлический стук, который она помнила по старым фильмам» стреляли из автоматического оружия, возможно, из пулемета. Холодный душераздирающий звук пронизывал лес, и Кристине подумалось, что если смерть может смеяться, то звучать этот смех должен именно так. Она знала, что Чарли попал в беду.* * *
Чарли не успел вторично прицелиться, когда грянувшая вдруг автоматная очередь заставила его вздрогнуть от неожиданности. В следующее же мгновение звук эхом раскатился по горам и, отраженный, вернулся обратно. Было трудно определить, откуда он шел. Однако события последних дней показали, что он не растерял боевого опыта, приобретенного во Вьетнаме. Чарли тотчас понял, что стрелок расположился не на склоне, а на одном с ним уровне, к северу по гребню. Они послали вперед лазутчика, и тот ставил капкан. Прижимаясь к земле, словно пытаясь раствориться в ней, Чарли с удивлением подумал, почему капкан не захлопнулся раньше. Почему его не уложили сразу, когда он только забрался наверх. Может, лазутчик прозевал его? Или густой снег сомкнулся вокруг него как раз в нужный момент, словно одолжив ему на время шапку-невидимку? Это, несомненно, должно было служить объяснением случившемуся, хотя бы отчасти, — Чарли помнил, какой густой снег повалил, как только он достиг гребня. Стрельба стихла. Чарли услышал металлическое лязганье и скрежет и понял, что автоматчик меняет обойму. Не успел он поднять голову, чтобы оглядеться, как снова прогремела очередь. Пули, выбивая фонтаны гранитной крошки, рикошетили от валунов, среди которых притаился Чарли. Теперь выстрелы ложились в непосредственной близости от него. Стрелок выпустил очередь по камням, прикрывавшим Чарли с севера, после чего выстрелы стали производить южнее по гряде; оттуда доносился тонкий свист отскакивающих от скал пуль. Становилось ясно, что нападавший, не видя цели, палит вслепую. У Чарли еще был шанс выбраться живым. Он, не высовываясь из-за валуна, присел на корточки и повернулся лицом к северу. Автомат замолчал. Что делает стрелок? Изучает скалы? Меняет позицию или снова вставляет новую обойму? Если верно последнее, значит, тот временно безоружен. Сейчас Чарли не слышал характерный звук, сопровождающий смену обоймы, но он не мог просто сидеть на корточках и ждать неизвестно чего — он в прыжке бросился вперед и сразу же увидел мстителя, стоявшего всего в шести метрах от него. Это был мужчина в теплых лыжных брюках и темной парке. Он держал автомат, но не перезаряжал его — прищурившись, Он пристально вглядывался в скалы, тянувшиеся по гряде к югу за спиной у Чарли. Тут-то Чарли и застал его врасплох. Испустив крик, он вскинул автомат. Но Чарли находился в более выгодном положении и, используя эффект внезапности, выстрелил первым, попав борцу с Сумерками в шею. Того отшвырнуло назад, и он, уже падая навзничь, ненароком выпустил в заснеженное небо бесполезную очередь. Пулей ему разворотило горло так, что голова едва не оторвалась. Смерть была мгновенной. В то самое мгновение, когда смерть подкараулила автоматчика, когда прогремел роковой выстрел, Чарли заметил второго, десятью метрами выше. Он даже не успел осознать опасность, когда тот выстрелил из винтовки. От сокрушительного удара Чарли завертелся на месте и упал, сильно ударившись о землю. Он лежал за валунами, невидимый для стрелка, вне линии огня, но это не могло продолжаться долго. Внезапно холод пронизал левую руку, плечо и левую половину груди, и они начали неметь. И хотя боли он пока не чувствовал, но знал, что его ранили. Тяжело ранили. Это уже было хуже.Глава 61
Крик заставил Кристину вскочить и броситься из их каменного мешка, мимо угасавшего костра, на тропу. Она посмотрела вверх, туда, где должен быть гребень хребта. Разумеется, она ничего не смогла разглядеть. Слишком далеко. Мешали снег и деревья. Крик завис в воздухе. Боже, это было что-то страшное. Даже несмотря на расстояние, заглушаемый лесом, крик был чудовищен, крик боли и ужаса, от которого кровь стыла в жилах. Кристина поежилась, отнюдь не от холода. Похоже, это кричал Чарли. Нет. Она просто давала волю воображению. Это мог быть кто угодно. Крик был слишком далеким и заглушенным, чтобы можно было сказать наверняка, чей он. Он продолжался полминуты, может, чуть дольше. Кристине эти секунды показались часами. Кто бы это ни был, он словно выворачивал собственную душу, и ей самой хотелось кричать вместе с ним. Потом крик стих и погас совсем, словно тому, от кого он исходил, уже недоставало сил, чтобы озвучить свою агонию. Чубакка вышел из пещеры и задрал голову, устремив взгляд на вершину хребта. Опустилась тишина. Кристина ждала. Ни звука. Ничего. Она вернулась в нишу, где по-прежнему в ступоре сидел Джой, и взяла ружье.* * *
Это было серьезно. Пуля угодила в плечо. Рука онемела, и он не мог пошевелить пальцами. Чертовски серьезно. Ему повезет, если он останется жив, об этом можно будет судить, только сняв куртку и осмотрев рану, или это станет понятно само собой, когда он начнет отключаться. Стоит на таком холоде потерять сознание, смерть будет неминуема — неважно, придут фанатики прикончить его или нет. Поняв, что его ранили, Чарли заорал, но не оттого, что боль была нестерпимой (собственно, боли как таковой еще не было), и не оттого, что он был испуган (хотя он был действительно страшно испуган), а потому, что хотел, чтобы подстреливший его человек знал о его ранении. Он кричал так, как может кричать человек, увидевший собственные внутренности, вываливающиеся из раны в животе, кричал так, как если бы знал, что умирает; он одновременно перевернулся на спину, распластался на снегу и подальше оттолкнул от себя винтовку, от которой теперь, когда одна рука больше не действовала, было мало проку. Он расстегнул куртку и вытащил оружие из наплечной кобуры — револьвер. Здоровой рукой подсунул оружие под себя, чтобы скрыть его. Левая рука была безжизненно откинута в сторону, ладонью кверху. Он начал перемежать крик отрывистым тяжелым хрипом; затем постарался кричать чуть тише, в то же время прибавив стонов. Наконец он затих. На какое-то мгновение ветер, словно принимая сторону Чарли, прекратился. Горы сковала мертвая тишина. За скрывающими его валунами он различил движение. Стук башмаков по голому камню. Несколько быстрых шагов. Напряженная тишина. Еще несколько шагов. Чарли рассчитывал на то, что стрелявший в него окажется любителем, как и тот тип с автоматом. Профессионал, обойдя гранитные глыбы, станет стрелять, тогда как дилетант скорее будет склонен поверить в его крики, начнет праздновать завершение охоты и тем самым обезоружит себя. Шаги. Ближе. Совсем рядом. Чарли широко распахнул глаза и уставил взгляд в свинцовое небо над ним. Каменные глыбы вокруг отчасти сдерживали снег, но хлопья его все же падали ему на лицо, на глаза, и Чарли изо всех сил старался не сморгнуть. Он лежал с отвислой челюстью, сдерживая дыхание, чтобы пар изо рта не выдал его. Секунда. Пять секунд. Десять. Еще полминуты, и ему потребуется глотнуть воздух. Глаза начали слезиться. Мелькнула мысль, что этот план неудачный. Дурацкий. Он погибнет здесь, надо было придумать что-нибудь получше, поумнее. Наконец из-за гранитной глыбы появился вояка Спиви. Глаза Чарли как бы застыли, он притворился мертвым; поэтому он не мог как следует разглядеть незнакомца, видя его только периферийным зрением. Но он чувствовал, что его спектакль имел успех; еще бы — ведь декорации обильно орошала его собственная кровь. Нападавший, подойдя вплотную, оскалившись, посмотрел на него сверху. Чарли сконцентрировался на том, чтобы смотреть как бы сквозь него, не фокусируя взгляд на склонившемся над ним лицом. Это было непросто. Глаз устроен так, что реагирует на любое движение. Незнакомец был бодр и вооружен, и преимущество было явно за ним. Если он поймет, что Чарли жив, то прикончит его в мгновение ока. Стук. Снова стук. «Он услышит, как бьется мое сердце!» — мелькнула безумная мысль. Потом пришли более обоснованные опасения — Чарли испугался, что неизвестный заметит биение пульса у него на шее или на виске. Чарли едва не запаниковал, но вовремя сообразил, что под курткой и капюшоном не видно ни шеи, ни виска — так что можно не опасаться. Нападавший оставил его, подошел к краю гряды и крикнул так, чтобы его услышали соратники-сектанты на склоне: — Я прикончил его! Я прикончил этого сукиного сына! Воспользовавшись тем, что противник отвлекся, Чарли осторожно перенес тяжесть тела на левую сторону и правой рукой вытащил из-под себя револьвер. Сектант, открыв рот и тяжело дыша, уже поворачивался к нему. Чарли выстрелил дважды. Одна пуля попала в бок, другая — в голову. Тот упал с уступа и, сминая кусты, покатился между деревьями вниз, пока огромная сосна не преградила ему путь. Он умер, не успев даже вскрикнуть. Перевернувшись на живот, Чарли подполз к краю гряды и посмотрел вниз — люди Спиви в ответ на победный клич их сообщника вышли из укрытий. Очевидно, не до всех еще дошло, что их противник остался в живых. Скорее всего, они решили, что прогремевшие друг за другом два выстрела произведены для верности самим кричавшим, наверное, они приняли скатившееся по откосу тело за труп Чарли. Они даже не попытались укрыться, пока Чарли не прокричал: — Ублюдки! — и дважды выстрелил из револьвера. Лишь после этого, словно крысы, почуявшие приближение кота, они опрометью бросились в укрытия. Он разрядил револьвер, в котором еще оставалось два патрона, уже не надеясь ни в кого попасть и даже не целясь, а просто чтобы напугать их и вынудить, какое-то время оставаться на месте. — Я убил их обоих! — прокричал он. — Они мертвы. Как же это так — бог на вашей стороне, а они мертвы? Ответом было молчание. Выкрик вымотал его. Чарли выждал и несколько раз глубоко вздохнул. Он не хотел показать им свою слабость и снова закричал: — Почему бы вам не выйти и не попросить бога, чтобы он отвел пули, когда я буду в вас стрелять? Молчание. — Так вы могли бы что-нибудь доказать, верно? Тишина. Ему снова требовалось отдышаться. Затем он попробовал пошевелить левой ладонью. Пальцы двигались, но они онемели и были словно чужие. Он прикинул, достаточно ли их перестрелял, чтобы заставить остальных отступить. Двоих уложил на гряде, одного — на тропе, троих еще раньше — на поляне, когда они ползали вокруг джипа и снегоходов. Итого — шесть трупов. Шесть из десяти. Сколько же их сейчас прячется в лесу? Трое? Ему показалось, что видел еще троих: женщину, Кайла и мужчину, который шел впереди. Неужели никто не остался с Матерью Грейс? Она же наверняка не захочет сидеть в хижине одна. И, уж конечно, не в состоянии проделать такой изнурительный путь. Или она тоже здесь? И прячется где-то среди деревьев всего в шестидесяти-семидесяти метрах от него, скорчившись в тени, словно злобный старый тролль? — Я буду ждать здесь! — крикнул Чарли. Выудив из кармана куртки патроны, одной рукой он перезарядил револьвер. — Рано или поздно вы выйдете! — кричал им Чарли вниз. — Вам необходимо будет размяться, иначе у вас затекут ноги. — В ледяном безмолвии голос его звучал призрачно. — А потом вы начнете медленно замерзать и погибнете от холода. Анестезирующий шок начинал проходить. Нервы снова обретали чувствительность, и первая волна тупой боли окатила руку и плечо. — Как только будете готовы, — снова закричал он, — давайте испытаем вашу веру. Поглядим, по-настоящему ли вы верите, что бог на вашей стороне. Просто встаньте и выйдите, чтобы я мог выстрелить в вас, и мы посмотрим — отклонит ли господь пули. Он выждал минуту, пока не убедился, что они не собираются ничего предпринимать, спрятал револьвер в кобуру и отполз от края гряды. Они не поймут, что он ушел. Может, и заподозрят, но наверняка знать не будут. Теперь они полчаса не сойдут с места, а может, и дольше, пока снова не рискнут продолжить преследование. По крайней мере, так он предполагал. Нельзя терять ни минуты. Боль в плече обострялась, на животе Чарли прополз до противоположной кромки гребня, двигаясь, как покалеченный краб, и не старался подняться до тех пор, пока не достиг края откоса, откуда вниз между деревьями уходила оленья тропа. Попытался встать, но ноги не слушались, они подогнулись, и Чарли снова повалился на землю, сильно ударившись раненым плечом, и почувствовал, как черная пелена туманит сознание. Он задержал дыхание, закрыл глаза и выждал, пока не спадет пелена, отказываясь ей подчиняться. Из тупой боль превратилась в жгучую, грызущую, словно в плече засела некая живая тварь и теперь выедает его плоть. Малейшее движение во сто крат усугубляло мучения. И все же он не мог оставаться здесь. Невзирая на боль, он должен подняться, чтобы вернуться к Кристине. Если ему суждено умереть, он не хотел бы остаться один в лесу, когда пробьет его час. Черт побери, это непростительный пессимизм. Не думать о смерти. Думать о деле. Рана болит, но это не значит, что она смертельна. Не стоило заходить так далеко, чтобы сдаться с такой легкостью. Должен быть шанс. Всегда есть какой-нибудь шанс. Он терпел, живя с жестокими, вечно пьяными отцом и матерью. Он терпел нищету. Он вынес войну. И это он тоже вынесет, черт побери. Он сполз с плато на оленью тропу. И там, у самого края, зацепившись за еловую ветку, подтянулся и встал, опершись о ствол. Голова не кружилась, и это было хорошим признаком. Он несколько раз глубоко вдохнул и, постояв с минуту у дерева, почувствовал, что ноги начинают слушаться. Боль не утихала, но он, похоже, притерпелся к ней; выбор небогатый — или терпеть, или, потеряв сознание, избавиться от боли, но такой роскоши позволить себе он не мог. Со стиснутыми зубами, преодолевая боль, которая разгоралась все сильнее, Чарли оторвался от ствола и двинулся вниз по тропе. Он даже не ожидал, что сможет идти так быстро. Он спешил, но в то же время был крайне осторожен, чтобы не оступиться и не разбередить рану снова. Если свалиться на левый бок, то от боли можно потерять сознание. Каково будет прийти в себя и увидеть приставленный ко лбу ствол и стоящих вокруг бандитов Спиви?! Пройдя метров семьдесят, он спохватился, что не забрал с собой автомат. Может, у того типа оставалась еще пара обойм. Тогда бы шансы заметно уравнялись. Будь у него автомат, он устроил бы еще одну засаду и на этот раз перебил бы их всех. Он остановился и оглянулся, соображая, не стоит ли вернуться за оружием. Тропа казалась еще круче, чем прежде. В ней таились угроза и вызов, не меньше, чем те, что поджидают на самом труднодоступном и опасном склоне Эвереста. Она выглядела отвесной. У него не осталось сил на обратный путь, и он, проклиная себя за рассеянность, понял, что его сознание далеко не такое ясное, как хотелось бы. Он двинулся дальше. Еще через двадцать метров Чарли показалось, что деревья кружатся вокруг него хороводом. Он встал, пошире расставив ноги, как будто в надежде, что заставит эту чертову карусель остановиться, если просто замрет как вкопанный. Вращение замедлилось, но полностью избавиться от него он не мог и медленно продолжал путь, осторожно переставляя ноги — с осмотрительностью и неторопливостью пьяного, который хочет убедить полицейского в том, что трезв. Усиливался ветер, вызвав волнение в кронах исполинских деревьев. Самые высокие поскрипывали, когда их макушки раскачивались под шквальными ударами ветра. Голые ветки стучали друг о друга, а в растревоженном хвойном лесу шуршали, потрескивали, спадая, иголки. Скрип нарастал, и казалось, что одновременно открываются тысячи дверей на несмазанных петлях: треск, шорох и шум становились все отчетливее, переходя в гром, заполняя собой пространство, причиняя боль, пока Чарли не ощутил себя внутри огромного барабана и, пошатнувшись, едва не упал, в то же мгновение осознав, что звук исходит не из леса, а из его собственного тела; что он слышит, как в ушах стучит кровь, выталкиваемая сердцем, бившимся все быстрее и быстрее. Деревья снова начали кружиться и, вращаясь, стаскивали с небес тьму, сматывая ее, словно нитку с катушки, больше и больше тьмы, и эта круговерть теперь походила не на карусель, а скорее на снующую раму ткацкого станка, нанизывающего одну за другой нити тьмы для черного полотна, которое вздымалось вокруг, окутывало его, идущего не разбирая дороги, спотыкаясь и падая… Боль! Яркая вспышка. Тьма. Черная мгла. Чернее ночь. Тишина… Он полз в кромешной тьме, с неистовым стремлением найти Джоя. Он должен найти мальчика как можно скорее. Ему стало известно, что Чубакка — не обыкновенная собака, а робот, дьявольская конструкция, начиненная взрывчаткой. Джой ничего не знал и, возможно, в эту минуту играл со своим псом. Спиви в любой момент может нажать на стержень взрывателя, собака взлетит на воздух, и Джой будет мертв. Чарли добрался до серого проема во мгле и очутился в спальне и увидел в кровати Джоя. Рядом сидел Чубакка, совсем как человек, держа в одной лапе нож, в другой — вилку. Оба, и мальчик и собака, ели бифштекс. «Что такое ты ешь?» — спросил Чарли, и мальчик ответил: «Это вкусно». Чарли поднялся на ноги и отобрал у Джоя мясо. Собака зарычала, а Чарли сказал: «Неужели ты не понимаешь? Мясо отравлено. Они отравили тебя». — «Нет, — сказал Джой. — Оно хорошее. Попробуй сам». — «Яд! Это яд!» Чарли не забыл о спрятанной в собаке взрывчатке и уже хотел предупредить Джоя, но было поздно. Прогремел взрыв. Только взорвалась не собака, а Джой. Грудь его разверзлась, и оттуда посыпались крысы, уймы крыс, вроде той, под мельницей, и они кинулись к Чарли. Он, шатаясь, пятился назад, но они уже взбирались по ногам. Облепили его всего, десятки, сотни крыс, они вонзали в него зубы, и под их тяжестью он упал, и хлынула кровь, почему-то кровь была холодной как лед, и он закричал… …и очнулся, ничего не понимая. Чарли почувствовал, что лицо у него в крови, провел по нему рукой, увидел, что это не кровь, а снег. Он лежал на спине поперек тропы, глядя в просвет между деревьями на серое хмурое небо; на землю падал снег. Он с трудом сел. Горло заложило мокротой. Он прокашлялся и сплюнул. Сколько времени он пробыл без сознания? Этого Чарли не знал. Насколько он мог видеть, на тропе вверху никого не было. Люди Спиви еще не гнались за ним. Значит, он оставался без сознания недолго. Боль в плече как бы дала отростки, которые поползли по спине, груди, шее и дальше по голове. Он попробовал поднять руку, и в какой-то степени ему это удалось, даже мог немного пошевелить пальцами, не усугубляя при этом боль. Чарли подполз к ближайшему дереву и попытался подняться, но не сумел. Тогда попробовал еще раз, и снова безуспешно. Кристина, Джой. Они надеялись на него. Придется какое-то время двигаться ползком. Пока не вернутся силы. И он пополз, цепляясь пальцами и отталкиваясь коленями, щадя левую руку и действуя в основном правой, и, к своему удивлению, обнаружил, что продвигается довольно скоро. Если тропа уходила вниз довольно круто, он полагался на силу гравитации и просто скользил, иногда проезжая сразу до четырех-пяти метров. Чарли пытался сообразить, далеко ли еще до каменного козырька, под которым он оставил Кристину и Джоя. Может, он уже за следующим поворотом, а может быть, до него еще сотни метров. Он потерял всякое представление о расстоянии. Но интуиция вела его в нужном направлении, и он упорно продолжал сползать вниз вдолину. Прошло несколько минут, а возможно, секунд, Чарли вдруг обнаружил, что потерял винтовку. Наверное, она свалилась с плеча, когда он падал. Он должен вернуться за ней. Но что, если винтовка упала куда-нибудь в кусты или провалилась между камнями? Найти ее будет непросто. Оставался еще револьвер. А у Кристины был дробовик. Придется обходиться ими. Он прополз дальше и наткнулся на поваленное дерево, преградившее путь. Он не помнил, чтобы оно лежало здесь раньше, и подумал, что, возможно, повернул не в ту сторону. Но когда он дважды проходил по этой тропе, то не видел, чтобы она где-либо разветвлялась, так что не мог сбиться с нее. Он привалился к поваленному стволу… …и очутился в кабинете зубного врача, привязанный к креслу. На левом плече и на руке выросла сотня зубов, и, на беду, у каждого зуба надо было пломбировать каналы. Открылась дверь, и вошел врач — это была Грейс Спиви. Никогда не видел он бормашины с таким огромным отвратительным сверлом, и он понял, что Спиви не собирается лечить ему зубы, а хочет просверлить дыру прямо в сердце… …и его сердце бешено трепетало, когда он очнулся и увидел, что лежит, привалившись к поваленному дереву. Кристина. Джой. Он не может подвести их. Перелезая через ствол, присел на него и прикинул, сможет ли идти, но решил не рисковать и, опустившись на колени, снова пополз. Спустя какое-то время руке стало лучше. Она стала как мертвая. И это было лучше. Боль утихла. А он полз дальше. Остановись он хотя бы на минуту, приляг и закрой глаза, боль ушла бы окончательно. Он знал это. Но продолжал ползти. Его мучила жажда, он весь горел, несмотря на холод. Остановился, зачерпнул ладонью снег и поднес ко рту. У снега был мерзкий медный привкус. Но он все равно проглотил его, потому что горело горло, а снег, хоть и отвратительный на вкус, был по крайней мере холодный. Прежде чем двинуться дальше, была необходима хотя бы минутная передышка, больше ничего. День был пасмурный, но, несмотря на это, стальной свет, пробивавшийся сквозь деревья, слепил глаза. Если бы он только мог закрыть их, чтобы несколько секунд не видеть этого серого сияния…Глава 62
Кристине не хотелось оставлять Джоя одного, но у нее не было выбора, так как она была уверена, что Чарли в беде. Ее встревожила не только продолжительная пальба. Прежде всего, насторожил крик, а также долгое отсутствие Чарли. Но главное — чутье. Если хотите, называйте это женской интуицией: она чувствовала, что нужна Чарли. Она сказала Джою, что далеко не пойдет, только поднимется метров на сто по тропе посмотреть, что с Чарли. Она обняла мальчика, успокаивая его, ей даже показалось, что он кивнул, но никакой внятной реакции она от него не добилась. — Никуда не выходи без меня, — сказала она. Он не ответил. — Никуда не выходи, слышишь? Мальчик моргнул. Он по-прежнему не видел ее. — Слышишь? Я люблю тебя. Малыш снова моргнул. — Охраняй его, — наказала она Чубакке. Собака фыркнула. Она взяла ружье и мимо догорающего костра вышла на тропу. Оглянулась. Джой даже не смотрел в ее сторону. Он сидел, прислонившись к каменной стене, вобрав голову в плечи, скорчившись, прижав руки к животу, и неотрывно смотрел в землю. Кристине было страшно оставлять его, но она знала, что нужна Чарли, повернулась и пошла вверх по тропе. После отдыха у костра она чувствовала себя лучше. Мышцы и кости уже не ныли так сильно, и идти было намного легче. Деревья защищали от ветра, но по тому, как он шумел в кронах, было ясно, что наверху бушевало вовсю. В такие редкие прогалины между ветвями свинцовый снег падал так густо и так стремительно, что скорее напоминал ливень. Она не прошла и восьмидесяти метров, миновав два поворота, как увидела Чарли. Он лежал на тропе лицом вниз. Нет. Остановилась в каком-нибудь метре от него, но не подходила ближе, потому что боялась убедиться в том, что предчувствовала. Он не шевелился. Мертв. Боже, он убит. Они убили его. Чарли и она так любили друг друга, и вот теперь он погиб из-за нее. И от этой мысли ей стало дурно. И без того мрачные и тусклые краски дня еще больше померкли. Ее сковали серая безнадежность и холодное отчаяние. Но скорбь неизбежно должна была уступить место страху, ведь они с Джоем остались одни, а без Чарли им вряд ли удастся выбраться из этих гор живыми. Его смерть была грозным предзнаменованием для них. Она огляделась — поблизости никого не видно. Должно быть, Чарли ранили на гребне, и ему удалось приползти сюда. Фанатики Спиви могли находиться еще по ту сторону хребта. А может, он перестрелял их всех. Повесив ружье на плечо, она подошла к нему, боясь увидеть холодное мертвое лицо. Опустилась на колени и заметила, что он дышит. У нее перехватило дыхание и казалось, перестало биться сердце. Он жив. Без сознания, но жив. Все-таки в жизни случаются чудеса. Она чуть не засмеялась от счастья, но суеверно подавила это желание из боязни, что бог останется недоволен ее радостью и окончательно отнимет у нее Чарли. Она прикоснулась к нему. Он, не приходя в сознание, что-то пробормотал. Кристина перевернула его на спину, и он глухо застонал. Она увидела разорванную на плече куртку — он ранен. Вокруг раны на рваных клочках ткани намерзла кусками темная кровь. Дело было худо, но все-таки он был жив. — Чарли? Он не ответил, она коснулась ладонью его лица и позвала еще раз, и наконец глаза его открылись. Мгновение они бессмысленно блуждали, но потом взгляд остановился на ней, и она увидела, что он пришел в сознание; хотя в голове у него все мутилось, бреда не было. — Потерял, — сказал он. — Что? — Винтовку. — Не переживай, — сказала она. — Я убил троих, — прохрипел он. — Хорошо. — Где они? — тревожно спросил он. — Не знаю. — Должно быть, рядом. — Вряд ли. Он попытался сесть. Видимо, захваченный темным потоком боли, он зажмурился и задержал дыхание, и на мгновение ей показалось, что он вот-вот снова потеряет сознание. Лицо его покрыла смертельная бледность. Он стиснул ее ладонь и держал до тех пор, пока боль не отпустила. — Остались еще другие, — сказал он и снова попробовал сесть. На этот раз удалось. — Ты можешь двигаться? — Слабо. — Надо уходить отсюда. — Только…, ползком. — Ты сможешь идти? — Сам едва ли. — А если обопрешься на меня? — Попробую. Она помогла ему подняться и, поддерживая, повела вниз. Сначала шли медленно, с остановками, потом чуть быстрее, раза два оступились и едва не упали, наконец добрались до своего убежища. Джой никак не отреагировал на их возвращение. Зато Чубакка, когда Кристина помогла Чарли сесть, подбежал и, виляя хвостом, лизнул его в лицо. Костер, от которого остались лишь тлеющие угольки, успел нагреть каменные стены, и теперь от них исходило тепло. — Хорошо, — сказал Чарли. Кристину беспокоил его слабый голос. — Голова кружится? — спросила она. — Слегка. — Мутит? — Уже нет. — Пелена перед глазами? — Ничего похожего. — Я должна осмотреть рану, — сказала она и начала снимать с него куртку. — Некогда, — он взял ее за руку, чтобы остановить. — Я быстро. — Нет времени! — ответил он. — Послушай, — настаивала она, — сейчас с такой болью ты не сможешь двигаться быстро. — Словно черепаха. — И ты потеряешь силы. — Чувствуешь себя, словно…, младенец. — Но у нас с собой довольно большая аптечка, может быть, нам удастся залатать твою рану и облегчить боль. Надеюсь, тогда ты сможешь идти. Поэтому сейчас не стоит спешить. Он задумался и наконец кивнул: — Ладно, но…, держи ухо востро, они могут быть…, где-то рядом. Она стянула с него стеганую куртку, расстегнула рубашку и спустила ее с плеча, затем задрала теплую нижнюю рубашку, пропитавшуюся потом и кровью. В верхней левой части груди, прямо под ключевой костью, зияла страшная рана. Ее вид заставил Кристину содрогнуться. Кровотечения уже почти не было, но участок тела вокруг был сильно воспален. Кожа приобрела лиловый оттенок, переходящий в мертвенный синевато-белый… — Что, много крови? — спросил он. — Было. — А теперь? — Немного кровоточит. — Струей? — Нет. Если бы была перебита артерия, ты был бы уже мертв. — Счастливчик, — сказал он. — Да уж. Рана была сквозная. Со спины она выглядела не лучше, и Кристине показалось, что в разорванных тканях виднеются осколки кости. — Пуля прошла навылет, — сказала она. — Уже лучше. Аптечка находилась в рюкзаке Чарли. Кристина достала ее, открыла пузырек с раствором борной кислоты и полила на рану. Кислота дала обильную пену, не причиняя такую боль, как йод или тимеразол; отстраненно, словно во сне, Чарли смотрел, как пузырится жидкость. Кристина быстро зачерпнула снега в жестяную кружку и поставила ее на угли, чтобы приготовить воду. Чарли стряхнул оцепенение и произнес: — Быстрее. — Я стараюсь, — сказала она. Когда борная кислота перестала пениться, Кристина присыпала оба отверстия раны антибиотиком желтоватого цвета, а затем белым анестезирующим порошком. Теперь крови практически не было. С помощью ваты, марлевых подушечек и бинта она не очень умело, по-дилетантски, сделала перевязку, но так прочно закрепила все пластырем, что не сомневалась — повязка будет держаться. — Тише! — сказал он. Она замерла. Они прислушались, но, кроме шума ветра в лесу, ничего не услышали. — Это не они, — сказала она. — Пока нет. — Чубакка предупредит нас, если кто-то вдруг появится. Пес спокойно лежал рядом с Джоем. Ледяной ветер уже начинал выдувать тепло из их каменного убежища. В нишу снова пробирался холод. Сильный озноб бил Чарли. Кристина быстро одела его, застегнула «молнию» на куртке, набросила на голову капюшон и сняла с огня кружку с водой. В аптечке был тиленол, безобидное болеутоляющее средство, не самое радикальное, но больше у них ничего не было. Она дала Чарли две таблетки, потом, поколебавшись, еще одну. Сначала ему было трудно глотать, и это встревожило Кристину. Но он успокоил ее, сказав, что у него просто пересохло в горле, и третью таблетку он проглотил уже свободно. Он не мог нести свой рюкзак; им приходилось оставить его здесь. Кристина выбросила кое-какие вещи из своего рюкзака, чтобы освободить место для аптечки, закрыла все клапаны и забросила рюкзак за спину. Ей не терпелось тронуться в путь. Не обязательно было смотреть на часы, чтобы понять, что у них мало времени.Глава 63
При своих внушительных размерах Кайл Барлоу не был совсем уж неуклюжим. Когда хотел, он мог двигаться бесшумно и осторожно. Через десять минут после того, как Гаррисон убил Дэнни Роджерса и его тело скатилось с гребня хребта, Барлоу, крадучись, выбрался из зарослей кустарника, где он укрывался, и проскользнул к тому месту, где была густая тень, похожая на замерзшие озера ночью. Оттуда, воровато озираясь, он проскочил к огромному поваленному дереву и дальше к острому скалистому выступу. Он двигался параллельно кромке хребта, уходя из того сектора, который Гаррисон держал под прицелом. Остальные задержались там, но, если ему повезет, ненадолго. Минут через десять, убедившись, что Гаррисону его не достать, Барлоу стал менее осмотрителен и, отчаянно рванувшись вверх по склону, вскарабкался на гребень. Он продвигался в проходе между скалами и остановился на плоском, отшлифованном ветром плато. Свой кольт «магнум» девятого калибра он держал в наплечной кобуре и довольно долго возился с «молнией» куртки, чтобы достать его. Из-за густого снега он не видел дальше двадцати метров, но это его не беспокоило. Наоборот, он подумал, что плохая видимость — это дар божий. Он уже знал, откуда Гаррисон вел стрельбу; теперь он легко найдет это место. Пока же за плотной снежной пеленой Гаррисон не мог его увидеть — если, конечно, он по-прежнему оставался на гребне, в чем Кайл сомневался. Он двинулся на юг, навстречу ветру, который стегал и обжигал лицо, заставляя все время щуриться. Глаза слезились, из носа текло. Но ветер не мог ни покачнуть его, ни тем более сбить с ног; проще было повалить одно из тех исполинских деревьев, что росли по склону. Пройдя метров пятьдесят, он наткнулся на тело Моргана Пирса. Распахнутые, но невидящие глаза принадлежали словно некоему неземному существу — на них молочной катарактой намерзла испещренная паутиной трещинок ледяная пленка. Брови, ресницы и усы заиндевели. Над телом ветер трудолюбиво сооружал из снега могильный холм. Барлоу удивило, что Гаррисон не взял с собой автомат Пирса, компактный израильский «узи». Он поднял его, надеясь, что тот не поврежден. Но решил не полагаться на автомат до тех пор, пока не подвернется случай испытать его, и повесил оружие на плечо. Двигаясь по восточной кромке гребня, он достиг места, откуда в них стрелял Гаррисон и откуда падал бедняга Дэнни Роджерс. Держа перед собой револьвер, Кайл на брюхе обогнул валун, который прикрывал Гаррисона с севера, — он не был удивлен, обнаружив, что детектив исчез. Небольшое пространство между скал было защищено от ветра, и поэтому там лежал снег; на нем блеснула медь: это валялись стреляные гильзы. Кроме того, Барлоу заметил на камне следы крови: темные замерзшие пятна на сером граните. Он наклонился, разглядывая валявшиеся на снегу гильзы. Смел в сторону вместе с гильзами слой мягкого и сухого снега, нападавшего за последние полчаса-час, и под ним снова обнаружил кровь. Кровь Дэнни Роджерса? Или здесь была и кровь Гаррисона? Что, если Роджерс ранил этого мерзавца? Он пересек узкое плато на гребне и начал искать место, где оленья тропа спускается вниз в долину по противоположному склону хребта. Поскольку Антихрист со своей охраной до сих пор следовал по этой тропе, разумно было предположить, что они и дальше предпочтут воспользоваться ею. Ветер продувал плато насквозь, и свежий снег здесь не задерживался; однако по кромке гребня, там, где выступали скалы и торчали кусты, ветер намел настоящие сугробы, за которыми выхода на тропу было не разглядеть. Он чуть было не пропустил его, ему пришлось даже разгребать сугробы, пока наконец не наткнулся на следы, оставленные оленями на плотном прибитом снегу. Были там и отпечатки ног человека. Он прошел несколько метров вниз и увидел то, что ожидал: пятна крови. Глупо было бы думать, что она принадлежала Дэнни Роджерсу. Сомнений не оставалось — это кровь раненого Гаррисона.Глава 64
Нельзя сказать, что Чарли особенно удивился тому, как быстро и уверенно Кристина взяла все в свои руки. Она вывела их на тропу и повела вниз, в долину. Джой с Чубаккой шли следом. Мальчик молчал и тащился уныло, как будто понимая, что они напрасно тратят время и что спастись им все равно не удастся. Однако он не останавливался, не пятился назад и все время держался рядом. Собаке словно передалось настроение хозяина: Чубакка трусил, не издавая ни звука, опустив голову и глядя на тропу перед собой. Чарли чувствовал, что вот-вот за спиной у них раздадутся крики и по ним откроют пальбу, в этом не приходилось сомневаться. Но падал снег, завывал ветер, поскрипывали и шумели деревья, а люди Спиви все не появлялись. Должно быть, засада здорово их напугала. Видимо, они оставались в укрытии, где прятались от его выстрелов, не менее получаса, и, даже выйдя оттуда, они должны были продвигаться к вершине хребта крайне осторожно. Надеяться на то, что они отступятся и повернут назад, было бы наивно. Они никогда не сдадутся. Теперь он знал это наверняка. Дентон Бут, его толстый друг-психолог, был прав, когда говорил, что остановить племя фанатиков может только смерть. Чем ниже шел спуск, тем извилистее и замысловатее становилась тропа. Чтобы достичь долины, времени требовалось явно больше, чем предполагали Кристина и Чарли. Первые двадцать минут пути Чарли практически не нуждался в помощи. Дорога была ровной и не требовала больших усилий. Несколько раз ему пришлось цепляться за деревья или камни, чтобы удержать равновесие, и пару раз, когда склон становился чересчур крутым, Кристина поддерживала его, однако в основном он справлялся сам. Когда они выходили, он и подумать не мог, что сумеет двигаться так споро. Хотя антибиотики, которыми Кристина присыпала ему рану, и таблетки тиленола возымели действие, но боль в плече и в руке, поутихнув, не исчезла окончательно. Было бы неудивительно, если бы она уже свалила Чарли с ног, однако он обнаружил в себе большую стойкость, чем мог предположить; он терпел — с искаженным мукой лицом, стирая в порошок зубы, но все-таки терпел. Через двадцать минут он начал сдаваться и все чаще прибегал к помощи Кристины! Однако через двадцать пять минут пути они спустились в долину. К этому времени у Чарли снова начало туманиться сознание. Еще через пять минут, выйдя на опушку леса, где начиналась широкая поляна, по которой вовсю гуляли снег и ветер, они вынуждены были сделать привал, пока еще находились под покровом леса. Он сел под сосной и прислонился к стволу. Джой сел рядом, но не сказал ни слова, точно не подозревая о его присутствии. Чарли был слишком слаб, чтобы пытаться растормошить мальчика. Чубакка зализывал слегка кровоточащие раны на лапах. Кристина тоже села; она достала карту, которую Чарли показывал ей в хижине вчера вечером, когда объяснял, как они будут выбираться отсюда, если объявится банда Спиви и попытается загнать их в угол. Боже, каким невероятным казалось это вчера и какой неизбежностью обернулось сегодня!* * *
Кристине, пока она изучала маршрут, постоянно приходилось разворачивать и вновь складывать карту, чтобы иметь перед глазами лишь небольшой ее фрагмент, так как ветер, время от времени задувавший с поляны, мог запросто вырвать ее из рук. За лесом в долине свирепствовал буран. Шквальный юго-западный ветер проносился из одного ее конца в другой с грохотом скорого поезда, вздымая тучи снега. Снежная пелена была настолько плотной, что постоянно была видна лишь треть поляны, а дальше вставала пустая белая стена, за которой мир обрывался. Но порой ветер на несколько секунд стихал или ненадолго менял направление, и тогда в одно и то же мгновение начинали трепетать и раздвигались сотни непроницаемых занавесей, и вдали взору открывались деревья, смыкающиеся на противоположной стороне поляны, и еще дальше узкая лощина, а за ней далекий хребет, ледяная вершина которого даже в этот хмурый день сияла, словно хромированная сталь. Судя по карте, поляну пересекал небольшой ручей. Кристина, прищурившись, устремила взгляд вперед, туда, где за границей леса бушевали снежные вихри, но не смогла увидеть там никакого ручья, даже когда снегопад стихал. Наверняка он замерз и был покрыт снегом. Если они пойдут вдоль ручья (вместо того чтобы, перейдя через поляну, углубиться в другой островок леса), то попадут к верхнему участку небольшой лощины, спускавшейся к озеру. Сейчас они находились еще довольно высоко над уровнем Таху, в долине, тянущейся на юго-запад. Вчера, когда Чарли показал ей карту, он предложил на случай вынужденного бегства пойти именно этим путем, но все это было до его ранения. Отсюда до цивилизации оставалось три-четыре мили — рукой подать, будь они в хорошей физической форме. Сейчас же, когда Чарли потерял много сил, а буран стремительно надвигался, не было никакой надежды добраться до озера этим маршрутом. В сложившихся обстоятельствах пройти три-четыре мили было делом таким же героическим, как совершить переход через пустыню Гоби. Кристина отчаянно старалась найти на карте другой путь или увидеть пометки, обозначающие какое-либо убежище; и наконец, несколько раз справившись в таблице условных обозначений, обнаружила пещеры. Они располагались по этой же стороне долины, к северо-востоку, в полумиле отсюда. Судя по карте, пещеры являлись местной достопримечательностью, привлекая тех редких чудаков, которые интересовались древнеиндейской наскальной живописью и с маниакальной страстью коллекционировали наконечники для стрел. По карте Кристина не могла определить, была ли это одна, или две небольшие пещеры, или их цепь, но решила, что в любом случае места хватит, чтобы спрятаться от фанатиков Спиви и убийственной непогоды. Она придвинулась ближе к Чарли, чтобы он услышал ее за воем ветра, и, наклонившись к самому его уху, рассказала о своем плане. Он горячо поддержал ее, и это придало ей уверенности. Она теперь не сомневалась, правильно ли выбрала цель — пещеры, а больше думала о том, сумеют ли они сквозь буран добраться до них. — Мы можем пойти лесом по краю долины, — предложила Кристина, — но будем оставлять следы. — Тогда так: если мы, прежде чем направиться вверх, спустимся на поляну и пройдем какое-то расстояние по открытому пространству — буран моментально уничтожит все следы. — Точно. — Здесь они нас и потеряют, — сказал Чарли. — Вот именно. Разумеется, нам все равно придется войти в лес, если мы хотим добраться до пещер, но у них нет ни единого шанса снова напасть на наш след. Главное, они рассчитывают, что мы пойдем вниз на юго-запад к озеру, потому что там люди. — Верно, — Чарли облизал потрескавшиеся губы. — А к северо-востоку от нас — ничего, кроме…, такой же пустыни. — Они не будут искать нас там, правда? — спросила Кристина. — Вряд ли, — сказал он. — Тронулись. — Идти по открытому месту в снег и ветер…, будет непросто, — сказала она. — Ничего. Я выдержу. Но по его виду этого утверждать было нельзя. Он выглядел так скверно, что непонятно было, как вообще он поднимется на ноги. Глаза его были воспалены и слезились. Лицо изможденное и страшно бледное, тубы бескровные. — Надо…, смотреть за Джоем, — сказал Чарли. — Лучше всего отрезать кусок бечевки…, и держать его на привязи. Это было хорошее предложение. На открытом месте видимость не превышала в лучшем случае десятка метров, а при шквальном ветре и в сильный снегопад падала до четырех метров. Отступи Джой на несколько шагов в сторону, они потеряют друг друга из вида; и соединиться вновь будет трудно, а то и невозможно. Она отрезала метра два бечевки с катушки, которая была у них с собой, и привязала один конец к поясу Джоя, а другой — к своему. Чарли то и дело нервно оглядывался назад. Кристину больше тревожило то, что и Чубакка неотрывно смотрел на тропу, по которой они пришли. Пес лежал пока еще относительно спокойно, но уже насторожил уши и глухо урчал. Она помогла Чарли и Джою надеть лыжные маски, потому что теперь было не обойтись без них, сколь бы узкими и неудобными ни казались отверстия для глаз. Потом она надела маску сама, набросила капюшон и потуже затянула тесемки под подбородком. Джой понял все с полуслова и мгновенно встал на ноги. Это показалось Кристине хорошим знаком. Он по-прежнему был замкнут, отстранен, не проявлял никакого интереса к происходящему, но по крайней мере на подсознательном уровне до него дошло — пора идти, а это значило, что до него еще можно достучаться. Кристина помогла Чарли подняться. Выглядел он неважно. Последние полмили, остававшиеся до пещер, будут для него пыткой. Но другого выхода не было. Поддерживая Чарли под здоровую руку, готовая, если потребуется, подставить ему плечо, в связке с Джоем, Кристина вывела их на поляну. Ветер ревел, как зверь. Было по меньшей мере двадцать градусов мороза. Снежные хлопья, валившие до сих пор, превратились теперь в крохотную кристаллическую дробь, которая с треском отскакивала от одежды. Это был сущий ад, но не горячий, а ледяной.Глава 65
Зола и обуглившиеся головешки сучьев — все, что осталось от недавнего костра. Кайл Барлоу ткнул в кострище носком башмака и раскидал угли. Войдя под каменный козырек, посмотрел на оставленный рюкзак. В самом углу валялись обрывки бумаги и упаковки из-под марлевых повязок. — Ты был прав, — сказал Берт Тулли. — Малый действительно ранен. — Довольно тяжело, раз не смог даже нести рюкзак, — сказал Барлоу, снова выходя на тропу. — Но я не думаю, что нам вчетвером имеет смысл гнаться за ними дальше, — сказал Тулли. — Нужно подкрепление. — У нас нет на это времени, — возразил Кайл Барлоу. — Но ведь…, мы потеряли так много людей. — Не надо нас пугать. — Нет, нет, — сказал Тулли, но было видно, что он боится. — Сейчас ты воин, — сказал Барлоу, — под покровительством господа нашего. — Я знаю, просто я хочу сказать…, что этот тип… Гаррисон…, не промах. — Был. До того, как Дэнни подстрелил его. — Но он убил Дэнни! Должно быть, он еще покажет нам, почем фунт лиха. Кайл начал раздражаться: — Ты же видел то место выше по тропе, где он свалился. Там было полно крови. Женщина поднималась туда, чтобы помочь ему. — Но подкрепление… — Забудь об этом, — сказал Кайл и прошел вперед. Его тоже терзали сомнения, и он подумал, что был так груб с Бертом лишь потому, что хотел подавить свои тоскливые мысли. Эдна Ванофф и Мать Грейс ждали на тропе. Старуха выглядела больной. Глаза покраснели и ввалились, их наполовину скрывали отвисшие почерневшие веки. Она стояла ссутулившись и сгорбившись — само измождение. Барлоу не переставал удивляться, как она до сих пор выносит этот поход. Он хотел, чтобы она осталась в хижине под охраной, — но она незаурядная женщина, обладающая для своего возраста внушительной силой и выносливостью, и все же ее неутомимость поражала. Время от времени приходилось помогать ей преодолеть тяжелый участок, а один раз он даже нес ее метров тридцать, но большую часть пути она проделала сама. — Когда они ушли отсюда? — спросила Грейс голосом таким же сухим и безжизненным, как ее губы. — Трудно сказать. Костер уже холодный, но в такую погоду угли остывают быстро. — Если Гаррисон, как мы и предполагаем, серьезно ранен, они не могли далеко уйти. Мы, должно быть, наступаем им на пятки. Мы можем не торопиться и быть поосторожнее, чтобы не нарваться еще на одну засаду. — Нет. Если они близко, надо пошевеливаться. Надо кончать с этим. Она повернулась и, шагнув вперед, оступилась и упала. Барлоу поставил ее на ноги. — Я беспокоюсь о тебе, Мать Грейс. — Все хорошо, — сказала она. — Мать, ты выглядишь совершенно…, истерзанной, — возразила Эдна Ванофф. — Может, немного передохнем? — предложил Берт. — Нет! — Грейс сверлила их взглядом. — Ни одной минуты, мы не имеем права давать мальчишке ни одной лишней секунды. Я же говорила вам…, с каждой прожитой секундой его силы прибывают. Я тысячу раз повторяла вам это! — Мать, если что-нибудь случится с тобой, мы не сможем продолжать борьбу, — сказал Барлоу. Он весь сжался под ее испепеляющим взглядом. И голос ее приобрел тот особый оттенок, который возникал в моменты, когда ей являлось видение. Он звучал с пронзительной резкостью, от которой у Кайла кровь застывала в жилах: — Если я упаду, вы должны продолжать без меня. Вы будете бороться. Святотатство говорить о том, что вы больше преданы мне, чем господу. Вы будете идти, пока не откажут ноги, пока не сможете больше проползти ни метра, и даже тогда вы все равно будете идти, или господь не помилует вас. Не ждите от него ни милости, ни пощады. Если вы не оправдаете его надежд, вы пополните списки грешников, и души ваши отправятся в ад. Случалось, речи Матери Грейс не производили на людей никакого впечатления. Некоторые не слышали в ее словах ничего, кроме напыщенной трескотни старой идиотки. Другие бежали от нее как черт от ладана, как будто она угрожала им. Третьи потешались над ней. Но Кайл Барлоу всегда сохранял почтительное смирение. И сейчас ее голос по-прежнему завораживал его. «Но буду ли я таким же очарованным и смиренным, когда она прикажет мне убить мальчика? Или я восстану против насилия, без которого когда-то не мог жить? Нечестивая мысль». Они оставили позади каменную нишу, направляясь вниз по оленьей тропе: Барлоу впереди, за ним Эдна Ванофф, Мать Грейс, и замыкал процессию Берт Тулли. Ветер ревел, словно трубный глас демона, и для Барлоу он был постоянным напоминанием о зловещих силах, которые даже сейчас продолжали плести паутину заговора, чтобы установить на земле свою власть.Глава 66
Кристине начинало казаться, что они никогда не выберутся с этой поляны живыми. Творилось что-то похуже бурана. Это была белая смерть: ветер дул с такой страшной силой, что составил бы конкуренцию любому урагану в тропиках, снег шел такой плотный и падал так быстро, что не было видно ни зги. Мир растворился, кошмарный ландшафт был лишен деталей, лес пропал. Кристину окружала вселенная, состоящая единственно из снега и серой мглы. Когда Джой натягивал бечевку, она уже не видела его. Это было ужасно! И хотя свет был блеклым и рассеянным, глаза ее болели от всеподавляющего сияния; теперь она поняла, что снежная слепота — не выдумка. Что они будут делать, когда придется пробираться на ощупь, вслепую пытаясь выйти к северо-восточному краю долины, следуя только инстинкту? Она знала ответ: они умрут. Через каждые тридцать шагов она останавливалась, чтобы свериться с компасом, который прятала в перчатке. И хотя она старалась строго придерживаться курса, несколько раз оказывалось, что они отклонялись в сторону, и приходилось корректировать направление. Даже если они не собьются с пути и не заблудятся, они могут умереть здесь, если не будут двигаться достаточно быстро; она не представляла себе, что может быть так холодно; и ее не удивило бы, превратись она на ходу в ледяной столб. Кристина болезненно переживала из-за Джоя, но он упорно шагал рядом, хотя уже давно мог бы свалиться. По иронии судьбы, аутизм при таких обстоятельствах оказался спасительным: отключившись от реального мира, мальчик оказался менее подвержен воздействию холода и ветра. Но рано или поздно стихия обессилит его. Как можно скорее надо добраться до леса, неважно, достигнут они пещер или нет. Чарли приходилось куда хуже Джоя. Он спотыкался и опускался на колени. Через пять минут ему впервые потребовалась поддержка Кристины, и он оперся на ее плечо. Минут через десять он стал прибегать к ее помощи все чаще, а через пятнадцать уже не мог двигаться самостоятельно, и они были вынуждены еще сбавить скорость и теперь еле-еле тащились. Она не говорила им, что скоро собирается повернуть к лесу, потому что из-за ветра все равно ничего не было слышно. Если она стояла против ветра, слова застревали в горле, а когда отворачивалась, они вылетали изо рта тщедушными пушинками, разбивались на ничего не значащие слоги и уносились прочь. Чубакка надолго исчезал из вида, и несколько раз она уже было решила, что собаки им больше не видать, но пес каждый раз возвращался, потрепанный и явно ослабевший, но живой. Шерсть его покрывала ледяная корка, и когда он возникал из снежных вихрей, то казался выходцем с того света. Ветер почти полностью обнажил поляну, сметая снег прочь, и лишь местами оставался лежать прибитый слой в несколько дюймов толщиной, однако там, где имелись малейшие выступы, впадины или провалы, намело настоящие сугробы, часто скрывавшие под собой коварные ловушки. Как пришлось оставить в каменной нише рюкзак, поскольку из-за раны в плече Чарли не мог больше тащить его, так пришлось избавиться и от его снегоступов, потому что он слишком нетвердо стоял на ногах, чтобы пользоваться ими. Теперь Кристина с Джоем лишились возможности надевать свои снегоступы, чтобы перебираться через сугробы, потому что приходилось выбирать такой маршрут, где мог бы вместе с ними пройти и Чарли. Иногда Кристина проваливалась в снег по колено, иногда и глубже, и тогда она возвращалась назад, чтобы обойти занос, а это чертовски трудно, когда не видишь, куда идешь. Или не успевала она оглянуться, как оказывалась по пояс в снегу, попав в занесенную им яму. Она боялась, как бы не свалиться с какого-нибудь обрыва или не попасть в пустоты, которые здесь, в горах, встречались довольно часто, и они уже прошли несколько таких, тысячелетиями вымываемых водой в известняке карстовых ям, которые сверху казались бездонными. Сделай Кристина один неверный шаг и окажись погребена под снегом, Чарли не сможет ее вытащить, даже если она останется цела и ничего не сломает. Точно так же и у нее не хватит сил извлечь кого-нибудь из них из подобной ловушки. Она так боялась этого, что остановилась и отвязала от пояса бечевку, чтобы, упаси бог, не увлечь за собой в пропасть и Джоя. Теперь она намотала конец веревки на руку, чтобы успеть выпустить его, если и в самом деле сверзнется вниз. Она убеждала себя, что страхи, которые мы испытываем, никогда не оправдываются и что чаще всего мы оказываемся поверженными из-за чего-то другого, совершенно неожиданного — как их страшная встреча в прошедшее воскресенье на стоянке в Саут-Кост-Плаза с Грейс Спиви. Но когда они уже зашли в глубь поляны, когда Кристина уже готова была повернуть назад на восток к лесу, случилось как раз то, чего она больше всего боялась. У Чарли словно открылось второе дыхание, и он шел без ее помощи, когда Кристина вдруг, шагнув в глубокий снег, поняла, что летит вниз. Она хотела отпрянуть, но поскольку шла согнувшись, преодолевая ветер, не успела удержать равновесие. Испустив вопль, тут же унесенный ветром, она с головой ушла под снег и, пролетев два с половиной метра, шлепнулась на землю, больно подвернув ногу. Она взглянула вверх — в пробитое ею же отверстие падал снег. Она была похоронена заживо. Кристина читала в газетах, как люди оказывались погребенными, умирали от удушья или были раздавлены в таких же вот карстовых ямах. Разумеется, снег не был таким тяжелым, как оползни из земли и песка, и ее не могло раздавить, и даже если она не сможет выбраться наружу, все-таки под снегом будет в состоянии дышать, но это ничуть не уменьшало ее паники. Сразу после падения Кристина, превозмогая боль в ноге, распрямилась и стала шарить руками в поисках твердой опоры. Но не могла ничего найти. Вокруг был один снег. Мягкий, податливый, словно нематериальный, снег. Задрав голову, она закричала. Сверху упал комок снега, и она едва не задохнулась. Яма над ней обрушивалась, со всех сторон ее засыпало по грудь, по плечи, по подбородок — боже, — она отчаянно пыталась разгрести снег, чтобы оставались свободными лицо и руки, но он смыкался над ней быстрее, чем она разбрасывала его. Сверху показалось лицо Чарли. Он лежал на снегу, заглядывая вниз. Он что-то кричал. Но она не могла разобрать ни слова. Она продолжала работать руками, но снег засыпал ее все сильнее, пока руки ее не сковало. Нет! А снег продолжал рушиться вниз, засыпав ее до самого подбородка, потом до рта. Она сжала губы и закрыла глаза, ожидая, что тьма вот-вот сомкнется над ее головой, уверенная, что Чарли никогда не сможет вытащить ее отсюда, из этой могилы. Как вдруг, когда из снега остался торчать лишь ее нос, лавина остановилась. Кристина открыла глаза и посмотрела вверх, в конец белого туннеля, где был Чарли. Снежные стены не колебались, но в любой момент могли обрушиться и засыпать ее с головой. Она оставалась неподвижной, боясь пошевелить пальцем, и лишь тяжело дышала. Джой, что с Джоем? Она успела отпустить веревку (а вместе с ней и Джоя), едва почувствовав, что проваливается. Она надеялась, что Чарли успел удержать ребенка. Пребывавший в оцепенении мальчик мог и не остановиться, не обратив внимания на то, что Кристина скрылась под снегом. И если бы он пропал в снегу, они едва ли нашли бы его. За толстым слоем снега и воем ветра его крики были бы не слышны. Сердце ее билось так быстро и так сильно, что, казалось, вот-вот разорвется. Чарли протянул вниз здоровую руку и пошевелил пальцами, давая знак ухватиться за нее. Если ей удастся освободить руки из-под снега, она сможет дотянуться до него и с его помощью попробует выбраться из ямы. Но если она пошевелит руками, это может вызвать еще одну лавину, и на этот раз ее засыплет с головой. Она должна быть осторожна, двигаться медленно и расчетливо. Она пошевелила правой рукой, отодвигая снег, потом стала загребать снег ладонью, освобождая пространство, чтобы вытянуть руку, и наконец рука до локтя показалась из-под снега. Кристина потянулась и нашла ладонь Чарли. Неужели получится? Затем освободила вторую руку и обхватила его запястье. Снег вокруг дрогнул. Чарли потянул ее, и она подалась вверх. Снежные стены снова начали рушиться. Они сползали, словно это был не снег, а зыбучий песок. Чарли продолжал тянуть ее, и она почувствовала, что ноги оторвались ото дна. Она принялась двигать ногами, яростно пытаясь найти опору, чтобы оттолкнуться. Чарли отполз назад, поднимая ее все выше. Это, должно быть, причиняло ему мучительную боль в плече, высасывая из него последние силы. Но дело продвигалось. Слава богу, снежная трясина отпускала ее. Теперь она была достаточно высоко, чтобы, отпустив одну руку, опереться ею о край обрыва. Под ее пальцами крошился лед и мерзлая земля, но она попробовала снова, и на этот раз уцепилась за что-то твердое. Голова ее показалась на поверхности, и она, хватая ртом воздух, со стоном сделала последнее усилие и на спине поползла наверх, испытывая при этом смутное чувство, что выбралась живой из пасти ледяного чудовища, которое едва не сожрало ее. Тут только она спохватилась, что ружье соскочило у нее с плеча при падении в яму. Оно, должно быть, осталось там. Но бездна за ним сомкнулась, и теперь было поздно что-либо предпринять. Впрочем, это было неважно. Банда Спиви не пойдет за ними в такую бурю. Кристина встала на четвереньки и поползла прочь от снежной ловушки, высматривая Джоя. Он лежал, свернувшись калачиком, как плод в утробе, вобрав голову и подтянув к груди колени. Чубакка был тут же, точно чувствуя, что мальчику нужно его тепло, хотя, похоже, тепла у пса уже не оставалось. Шерсть его покрывала корка снега и льда. Он посмотрел на Кристину печальными глазами, в которых читались недоумение, страдание и страх. Кристине вдруг стало стыдно, что она считала его отчасти виновным в теперешнем состоянии Джоя, что уже не раз бывала не рада ему. Она положила ладонь на его голову, и он, несмотря на усталость, преданно уткнулся в нее носом. Джой был жив и не потерял сознание, но ему было больно. Снег забился под маску. Если как можно скорее не вывести его в спокойное безветренное место, начнется обморожение. Глаза мальчика смотрели еще более отстранение, чем раньше. Кристина пыталась поднять его, но безуспешно. Он не мог встать. Она была до предела измождена и шаталась, левая нога, подвернутая при падении, болела, но, так или иначе, ей придется тащить его на себе. Она достала компас и встала лицом на восток — северо-восток, по направлению к тому участку леса, в котором находились пещеры. На два метра вперед сквозь кромешную тьму бурана ничего не было видно. Поражаясь собственной выносливости, она взяла Джоя на руки. Малыша спасет ее материнский инстинкт, какую бы цену ни пришлось заплатить ей, и, словно вняв ее материнскому отчаянию, в кровь прилила слабая волна адреналина. Подошел Чарли. Он еще мог стоять на ногах, но вид у него был едва ли не плачевнее, чем у Джоя. — Надо уходить в лес! — закричала она ему в ухо. — Подальше от ветра! Она была уверена, он не слышит ее сквозь оглушающий рев ветра, но он кивнул, словно зная о ее намерении, и они двинулись сквозь белую мглу, надеясь только на то, что с помощью компаса доберутся до сравнительно тихого леса. Они брели, мнительно выверяя каждый шаг, чтобы избежать новой западни. Оглянувшись, Кристина увидела, что собака из последних сил пытается подняться. Она с ужасом осознала, что даже если Чубакка сейчас встанет, у него практически нет шансов добраться живым до леса. Возможно, она видит его в последний раз, буран сожрет его, как снежная бездна чуть не поглотила ее. Каждый шаг давался с трудом. Ветер. Снег. Дьявольский холод. Легче умереть, чем продолжать идти. Эта мысль пугала ее, дав силы еще на несколько шагов. Одно успокаивало: они не оставят за собой следов — в этом не приходилось сомневаться. Невозможно представить, чтобы фанатики бросились за ними в этот чудовищный буран. Снег падал, словно его вываливали из огромных ларей клочьями, комками, сплошным обвалом. Еще один шаг. И еще. Как будто одевая их в доспехи, ветер облепливал руки и ноги, спину и грудь, пока они окончательно не растворились во мгле. Что это впереди? Темный силуэт, материализовавшийся из бури и в то же мгновение стертый очередным шквалом. Вот он замаячил снова и на этот раз не растаял. И еще один. Огромные темные клубы, вздымающиеся за снежной пеленой. Очертания становились отчетливее, различимее. Так и есть. Дерево. Много деревьев. Они углубились в лес метров на пятьдесят, прежде чем нашли место, где переплетающиеся хвойные лапы образовывали мощный полог, задерживающий снег. Видимость стала сносной. Ветер тоже остался позади, и они вздохнули свободнее. Кристина остановилась, опустила Джоя на землю, сняла с него маску и обмерла, увидев его лицо.Глава 67
Дойдя до опушки хвойного леса, все они: Кайл Барлоу, Берт Тулли и Эдна Ванофф — окружили Мать Грейс. С поляны на них набрасывался ветер, словно привлеченный исходившим от них теплом. Сняв перчатки, раскинув руки, Грейс стояла, пытаясь ладонями, повернутыми к поляне, уловить энергетический след, оставленный беглецами. Остальные, погрузившись в молчание, ждали, когда она скажет свое слово. На открытом пространстве долины буран метал громы и молнии, образуя бесконечную череду пороховых вспышек, от несмолкающего рева ветра сотрясался воздух, и снег, словно дым, окутывал землю. Погода как перед концом света. — Они пошли туда, — произнесла Мать Грейс. Барлоу уже знал, что их дичь покинула лес в этом месте, — на это указывали следы. Другое дело — в каком направлении они пошли дальше? Хотя они проходили здесь совсем недавно, за чертой леса их следы почти сразу пропадали. Кайл ждал, чтобы Мать Грейс объяснила ему то, чего он сам был не всостоянии понять. Тревожно оглядев простиравшееся перед ними заснеженное поле, Берт Тулли робко произнес: — Туда нельзя. Мы погибнем. Внезапно Грейс опустила руки и пошла прочь от опушки, удаляясь в глубину леса. Они двинулись следом, всех насторожило выражение ужаса на ее лице. — Демоны, — хриплым голосом вымолвила она. — Где? — спросила Эдна. Грейс сотрясала дрожь. — Там… — В пурге? — спросил Барлоу. — Сотни…, тысячи…, поджидают нас…, укрывшись за сугробами…, готовые подняться…, и уничтожить нас. Барлоу вгляделся во мглу, но не видел ничего, кроме снега. Ему очень недоставало божественного Дара Матери-Грейс. Совсем рядом носились оглашенные духи, а он не мог обнаружить их, и от этого он чувствовал себя беззащитным и уязвимым. — Мы должны переждать здесь, — сказала Грейс, — пока не уляжется буран. Берт Тулли с облегчением вздохнул. — Но мальчишка… — начал Барлоу. — Верно, его сила растет, — признала Грейс. — Неужели господь не защитит нас, когда мы выйдем туда? Разве не осеняет нас его десница и благодать? — спросил Кайл. — Мы должны ждать, — единственное, что ответила на это Грейс, — и молиться. Теперь до сознания Кайла Барлоу дошло, как мало времени отпущено им. Он понял, что они должны быть особенно бдительны. У них было так мало времени, что они не могли себе позволить расточительной бесшабашной храбрости. Сатана. Сейчас сатана был такой же могучей и реальной сущностью в этом мире, как и господь бог. Чаша весов дьявола еще не перетягивала, но равновесие было хрупким.Глава 68
Кристина сняла с мальчика маску, и Чарли отвернулся, чтобы не видеть его лица. «Я не уберег их», — мелькнула мысль. Отчаяние охватило его, и на глаза навернулись слезы. Он сидел, прислонившись спиной к стволу дерева. Откинул голову, закрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь, стараясь направить мысли в здравое русло, убеждая себя, что все в конце концов обойдется, — но тщетно. Всю свою жизнь он был оптимистом, и это внезапное, выворачивающее душу отчаяние действовало на него разрушающе. Тивенол и анестезирующий порошок лишь уменьшили боль, но теперь даже их слабое действие заканчивалось. Боль в плече усиливалась и начинала расползаться — как и раньше — по груди, поднимаясь к голове. Кристина мягким успокаивающим голосом что-то говорила Джою, хотя и у нее в глазах стояли слезы. Чарли поборол страх и посмотрел на мальчика. Джоя трудно было узнать. Лицо его покраснело и бугрилось. Обмороженная кожа покрылась волдырями. Глаза заплыли и почти не открывались; в уголках и на ресницах застыл липкий желтоватый гной; нос заложило, и дышать он мог только ртом; губы потрескались, опухли и кровоточили. Лицо пламенело, точно костер, однако на щеках и на кончике носа проступили сизые пятна, которые означали обморожение, и оставалось только молиться, чтобы оно не было обширным. Кристина взглянула на Чарли. — Ну ладно. Надо двигаться дальше. Джою больше нельзя находиться на холоде. Мы должны найти эти пещеры. — Взгляд ее и голос выдавали отчаяние. — Пока ничего похожего не видно, — сказал Чарли. — Они должны быть где-то здесь, — сказала она. — Тебе помочь? — Я сам, — ответил он. Кристина взяла Джоя на руки. Мальчик даже не старался держаться за нее, безжизненно свесив руки. Она не оглянулась на Чарли. Он тяжело вздохнул и, ухватившись за дерево, с трудом встал на ноги, удивившись, что ему это удалось. Но он удивился еще больше, когда увидел облепленного снегом и льдом Чубакку, который плелся, низко опустив голову — живое воплощение несчастья. Когда последний раз он видел собаку в открытом поле, то подумал, что она обречена. — Боже мой! — только и сказала Кристина, завидя Чубакку, изумившись не меньше Чарли. «Это важно, — подумал Чарли. — Раз бедняга держится, значит, и мы вытянем». Ему очень хотелось верить в это. Он страстно убеждал себя. Но идти им предстояло еще долго. Дело принимало серьезный оборот, и Кристине начинало казаться, что им никогда не найти вожделенные пещеры, что они обречены брести через лес до тех пор, пока не упадут от изнеможения и холода. Но судьба, однако, смилостивилась, и минут через десять они нашли то, что искали. Лес вблизи пещер расступился, так как почва вокруг сделалась ужасно каменистой, вздымаясь уступами, образуя бугры, ступени и непроходимые нагромождения скал. Поскольку лес поредел, у подножия склона и выше, где каменные гряды и нагромождение скал создавали укромные уголки, — всюду, где только можно, нанесло огромные сугробы. Но и ветер в этих местах становился ощутимее, он срывался с верхушек деревьев, и на широких продуваемых участках склона снега совсем не было. В нижних складках хребта, куда они вполне могли забраться, — зияли раскрытыми пастями три пещеры; выше виднелось еще несколько входов, но добраться туда было невозможно. Скорее всего, существовали и другие лазы, сейчас зане сенные снегом, — в этом месте склон изобиловал узкими проходами, каменными мешками и кавернами. У подножия склона, возле груды гигантских валунов, надежно защищавших от ветра, Кристина опустила Джоя на землю. Ковылявший следом за ними Чубакка устало завалился рядом с хозяином. Удивительно, как эта собака смогла проделать такой путь, но было ясно, что ее хватит ненадолго. Издав стон облегчения и боли одновременно, Чарли сел тут же. Его вид напугал Кристину ничуть не меньше, чем обезображенное лицо Джоя. Воспаленные глаза на мертвенно-бледном лице мерцали точно горящие угли. Она испугалась, что останется одна над телами тех, кого только и любила в этом мире, охраняя их, словно кладбищенский сторож, пока сама не обретет последнее пристанище в этой пустыне. — Я проверю пещеры! — Теперь, когда они опять вышли на относительно открытое место, Кристине приходилось кричать. — Посмотрю, какая из них больше подойдет нам. Чарли слабо кивнул. Джой никак не отреагировал на ее слова, и она полезла вверх по скалистому склону, туда, где чернел первый провал. Кристина не знала, из каких пород — известняка или гранита — образован склон, но это было и неважно, поскольку, не будучи спелеологом, она понятия не имела, какие пещеры наиболее безопасны и надежны. Да и все равно, больше им идти было некуда. В первую пещеру вел низкий и узкий лаз. Кристина достала из рюкзака фонарь и полезла вперед. Ей пришлось встать на четвереньки; местами лаз был настолько тесным, что требовалась немалая ловкость, чтобы в нем двигаться. Она проползла три-четыре метра, пока не оказалась в каменном зале, растянувшемся метров на пять, с низкими сводами, под которыми только-только можно было выпрямиться. Несмотря на неудобство, места для них троих хватало. Из этого зала начинались лазы, которые, возможно, вели в другие помещения, но все они были слишком узки, чтобы Кристина могла пробраться сквозь них. Вторая пещера не подходила, зато третья почти идеально отвечала ожиданиям Кристины. Коридор был достаточно просторный, чтобы не ползти и не протискиваться. У самого входа намело небольшой сугроб, но Кристина легко преодолела его. Через полтора метра коридор резко поворачивал вправо, а еще через два метра снова уходил влево, что создавало двойной заслон от ветра. Первый зал имел примерно семь метров в ширину, метров двенадцать в длину и от четырех до пяти метров в высоту, ровное гладкое дно и стены, кое-где потрескавшиеся, с торчащими острыми выступами, а местами гладкие и отшлифованные водой. Справа другой коридор вед во второй зал. Он был меньше, со сводом пониже. Сталактиты и сталагмиты, словно отлитые из серого воска, соединяясь, образовывали изящные колонны. Кристина посветила вокруг фонариком и в дальнем конце увидела еще один ход, ведущий, как она предположила, в третий зал, но уже увиденного ей было достаточно. Первое помещение вполне устраивало их. Ближе к задней стене его основание полого поднималось, и на высоте полутора метров, на таком же расстоянии от стены образовывался уступ, как бы полка шириной более шести метров, от которой до свода оставалось около метра. Обследовав эту нишу с помощью фонарика, Кристина наткнулась на дыру в стене диаметром около полуметра, уходящую в темноту, и поняла, что нашла огромный, созданный природой очаг с готовой системой вытяжки. Дыра, должно быть, вела в другую пещеру, располагавшуюся выше по склону холма; и через нее или любую другую дым в конечном итоге будет выходить наружу. Костер был необходим им. Они не взяли с собой спальные мешки из-за их громоздкости, а также потому, что рассчитывали выйти к озеру до наступления ночи. Буран и ранение Чарли помешали их планам, и теперь костер был жизненно необходим. Кристина не волновалась по поводу того, что из-за дыма они могли себя обнаружить. За деревьями его не будет видно, а когда он поднимется выше, то буран поглотит его. Кроме того, банда Спиви почти наверняка будет искать их на юго-западе, там, где долина вела к человеческому жилью. В пещере обнаружилось нечто такое, что должно было добавить ей привлекательности. На одной из стен виднелась двухметровая наскальная роспись с изображением индейского тотема — медведя, похожего на гризли. Изображение было вытравлено коррозионным составом. То ли оно было наивно-грубоватым, то ли чрезмерно стилизованным — Кристина недостаточно знала про индейские тотемы, чтобы оценить его художественные достоинства. Одно она знала наверняка: подобные рисунки должны были приносить удачу обитателям пещеры; образ медведя, как она предполагала, являлся воплощением духа-покровителя. Сперва это показалось ей добрым предзнаменованием. Им троим, Чарли, Джою и ей, не помешало бы чье-либо покровительство. Но когда она внимательнее разглядела серо-желтое изображение медведя, то почувствовала в нем что-то зловещее. Разумеется, это было смешно и только говорило о ее смятении, ведь всего-то — рисунок на камне. И все же, глянув еще раз, она пришла к выводу, что предпочла бы этому тотему любую грязную стену. Но она не собиралась искать новую пещеру только из-за того, что ей не нравился дизайн этой. Наличия природного очага было более чем достаточно, чтобы достоинства найденной пещеры перевесили в ее глазах недостаток художественного вкуса у прежних ее владельцев. Со светом и теплом пещера будет почти таким же надежным убежищем, как оставленная ими хижина. Может, не таким комфортабельным, но сейчас Кристину волновало не отсутствие комфорта, а то, как остаться в живых им троим: ее сыну, Чарли и ей самой. Чарли чрезвычайно обрадовался, увидев пещеру, и на мгновение она показалась ему роскошной, как номер люкс, несмотря на каменный пол и отсутствие кресел и кроватей. Одно то, что они могли укрыться от ветра и снега, было ни с чем не сравнимым блаженством. Более часа Кристина провела в лесу, собирая дрова и сухой хворост для костра. Она снова и снова приносила охапки хвороста и сучьев, аккуратно раскладывая их в кучки в зависимости от размера: в одну — хворост для растопки, в другую — сучья потолще, в третью — мощные поленья. Чарли восхищался ее энергией. Неужели источник такой выносливости — всего лишь материнский инстинкт, дающий ей силы для защиты своего ребенка? Он не находил другого объяснения. Если бы не это, она уже давно должна была лишиться сил. Видя, что батарейки в фонаре вот-вот сядут, Чарли хотел выключать его каждый раз, когда Кристина выходила из пещеры, и включать при ее возвращении с новой охапкой дров. Однако он не выключал фонарь, чтобы Джою не было страшно в темноте. Мальчик совсем сдал. Тяжело дыша, он неподвижно лежал рядом с такой же измученной, как он сам, собакой. Прислушиваясь к затрудненному дыханию Джоя, Чарли твердил себе, что эта пещера — еще одно доброе предзнаменование, что удача наконец улыбнулась им и через день-два они восстановят силы и пойдут к озеру. Но другой, пессимистический голос убеждал его, что пещера — это каменная могила, и, хотя он старался не слушать этот голос, все равно не мог избавиться от беспокойства. Было слышно, как в соседнем зале капает вода. Холодные каменные стены и пустые пространства усиливали слабый звук, отчего он казался странным и зловещим, словно где-то билось искусственное сердце или кто-то постукивал в стекло длинным когтем. Костер отбрасывал мерцающие оранжевые блики на бурые стены, желтый тотемный медведь, казалось, вздрагивал. Потянуло долгожданным теплом. Естественный дымоход, как и предполагала Кристина, оказался исправен, и дым уходил из пещеры, не отравляя воздух. Огонь производил эффект шкафа-сушилки, забирая влагу и уничтожая неприятный, несколько затхлый запах, который встретил Кристину, когда она впервые очутилась в сырой промозглой пещере. Некоторое время они просто наслаждались теплом, ничего не делая, не произнося ни слова, стараясь даже не думать. Кристина сняла перчатки, потом откинула капюшон, наконец сбросила куртку. В пещере еще было не очень тепло: из примыкающих залов тянуло сквозняком, но Кристина, оставшись во фланелевой рубашке, под которой была теплая толстовка, уже не мерзла. Она помогла снять куртки Чарли и Джою. Затем Кристина снова дала Чарли тиленол. Сняла повязку, обработала рану антибиотиками и присыпала анестезирующим порошком. Чарли сказал, что рана болит не так сильно. Она знала — он обманывает ее. Волдыри у Джоя начали спадать, припухлости уже не было, и лицо постепенно принимало нормальный вид. Нос прочистился, и он уже мог дышать не только ртом, но в груди по-прежнему слышались хрипы — значит, в легких скопилась мокрота. Боже, только бы не воспаление легких, подумала Кристина. Джой широко открыл глаза, но они были все такие же пустые. Кристина улыбнулась ему и состроила потешную рожицу, пытаясь добиться отклика, — но тщетно. Ей казалось, что он даже не видит ее.* * *
Чарли не чувствовал голода, пока Кристина не начала готовить фасоль и венские колбаски в алюминиевом горшочке из набора кухонной утвари, который они взяли с собой. От ударившего в нос запаха съестного у него потекли слюнки и заурчало в желудке — внезапно он ощутил зверский голод. Но, едва приступив к еде, он мгновенно наелся, желудок отказывался принимать больше пищи, и ему стало трудно глотать. Даже пережевывание отдавалось болью в голове, а от нее боль устремлялась вниз к раненому плечу. В конце концов пища стала казаться горькой, и он окончательно утратил к ней интерес. Фактически он едва притронулся к еде, но даже эта малость вызвала у него тошноту. — Поешь еще немного, — сказала Кристина. — Попозже. — Тебе нехорошо? — Ничего страшного. — Тебя тошнит? — Нет-нет, я просто устал. Кристина с минуту молча смотрела на него; он попробовал улыбнуться ей; наконец она произнесла: — Хорошо, если захочешь есть, я подогрею. От языков пламени на каменной стене прыгали, скакали тени; Чарли рассеянно наблюдал, как Кристина кормит Джоя. Мальчик был голоден и свободно глотал, но ей приходилось тщательно все размешивать и кормить его с ложки, точно младенца. Горькое чувство поражения снова охватило Чарли. Мальчик разрешил для себя невыносимую ситуацию, покинув мир, в котором столкнулся с откровенной ненавистью и злобой, чтобы обрести приют в вымышленном фантастическом мире, который был более благожелателен к нему. Как глубоко он погрузился в этот мир? Будет ли он в состоянии когда-нибудь вернуться оттуда? Джой больше не хотел есть. Мать переживала, но не могла заставить его съесть еще хотя бы ложку. Наступила очередь Чубакки, и тот обнаружил аппетит куда лучший, чем у его хозяина. Чарли хотел предупредить Кристину, что не стоит особенно переводить продукты на собаку. Если за этим бураном последует другой, если погода в ближайшие несколько дней не улучшится, им придется ограничить свой рацион до минимума, и тогда они пожалеют о каждом лишнем кусочке, который скормили собаке. Но он знал — Кристина восхищена выносливостью и преданностью Чубакки, считая, что его присутствие не дает Джою окончательно сорваться в ступор; и у Чарли не хватало духу сказать ей, чтобы она не закармливала пса. Не сейчас. Это потерпит до утра. Может, к утру распогодится, и они смогут двинуться к озеру. В какое-то мгновение дыхание Джоя стало пугающе хриплым и отрывистым. Кристина повернула мальчика на другой бок и положила ему под голову свою куртку. Это помогло — дыхание снова было ровным. Глядя на мальчика, Чарли думал: «Неужели и тебе так же худо, малыш? Дай бог, чтобы это было не так. Ты не заслужил этого. Что ты заслуживаешь, так это более толкового телохранителя, чем я, — это уж точно». Боль причиняла ему гораздо большие муки, чем можно было предположить по его виду. Он скрывал это от Кристины. Тиленол и анестезия помогли, но уже не так заметно, как в первый раз. Боль в плече и в руке уже не воспринималась как живое существо, пытающееся прогрызть его плоть, чтобы выбраться на волю. Сейчас он чувствовал, будто в нем роятся лилипуты с чужой планеты, которые ломают ему кости и дробят их в порошок, рвут связки и рассекают сухожилия, а потом обливают все серной кислотой. Они старались постепенно опустошить его, сжечь кислотой все его внутренности, оставив одну кожу, чтобы затем надуть эту мертвую оболочку и выставить в музее у себя дома на своей маленькой планете. Такой была его боль, и это было ужасно, по-настоящему ужасно. Позже, когда Кристина вышла за снегом, чтобы вскипятить воду, она увидела, что опустилась ночь. В пещере ветра не было слышно, но снаружи она слышала его нестихающий рев. Из темной бездны неба валил снег, и шквальные удары бурана с яростью обрушивались на горные склоны. Кристина вернулась в пещеру, поставила котелок со снегом на огонь, заговорила с Чарли. Он отвечал едва слышно. Было ясно, что он все время притворялся, не желая показывать ей, как ему плохо, она же, подыгрывая ему, в свою очередь не давала ему понять, что видит его состояние, так как больше все равно ничего не могла для него сделать. Не прошло и часа, как, невзирая на боль, он уже спал, как спали Джой с Чубаккой. Она сидела между сыном и любимым мужчиной, спиной к огню, и смотрела, как в сумасшедшем гавоте мелькают по стенам отблески пламени и причудливые тени. Какой-то частью сознания она внимала странным диковинным звукам, в то время как другой — чутко прислушивалась к дыханию спящих мужчины и мальчика, страшась одного — чтобы кто-то из них вдруг не перестал дышать. Рядом лежал заряженный револьвер. К своему ужасу, она не обнаружила в карманах куртки Чарли патронов. Коробка с ними осталась в рюкзаке, брошенном под каменным козырьком, где Кристина перевязывала Чарли плечо. Она готова была возненавидеть себя за рассеянность. Винтовка и дробовик пропали, и револьвер оставался единственным средством обороны, но в нем было всего шесть патронов.* * *
Ровно в 8:10 утра Кристина, подбрасывая дрова в очаг, услышала, как Чарли застонал во сне. Он метался по подушке, которую она соорудила из его куртки, и был покрыт липким потом. Она приложила ладонь к его лбу — этого было достаточно, чтобы убедиться, что у него жар. Она подождала в надежде, что он успокоится, но ему становилось все хуже. Сначала он стонал, потом начал слабо вскрикивать; крики становились громче. Он бормотал: это была какая-то мешанина из слов — отдельные слова и оборванные бессмысленные фразы. В конце концов он пришел в такое возбуждение, что Кристина взяла две таблетки тивенола, налила в кружку воды и попробовала разбудить его. И хотя сон, казалось, не приносил ему никакого облегчения, он никак не мог прийти в себя, а когда наконец открыл глаза, они были затуманенными и бессмысленными. Он был в бреду и, похоже, не узнавал ее. Кристина заставила Чарли принять таблетки, и он с жадностью запил их водой. Она не успела отнять кружку от его губ, как он уже уснул. Стоны и бессвязное бормотанье возобновились; несмотря на сильный жар, Чарли колотил озноб. У него стучали зубы. Она пожалела, что у них нет одеял. Подбросила дров в огонь. В пещере было довольно тепло, но она видела, что для Чарли этого тепла было недостаточно. Около десяти утра Чарли успокоился: уже не метался и не потел — мирно спал. По крайней мере, это всего лишь сон, успокаивала себя Кристина, могло быть хуже. Что-то пискнуло. Кристина схватилась за револьвер и вскочила на ноги, как если бы услышала не слабый писк, а настоящий визг. Джой и Чарли безмятежно спали. Прислушалась, затаив дыхание, — звук повторился, на этот раз не один, а целая серия — пронзительное, хотя и долетающее откуда-то издалека, попискивание. Это был не тот звук, который мог исходить от камня, земли или воды, — не мертвый звук. Это было что-то другое, живое. Кристина взяла фонарь. С бешено колотившимся сердцем, держа револьвер в вытянутой руке, она двинулась на звук. Ей показалось, он доносится из помещения, примыкавшего к их залу. Мурашки бежали у нее по коже — такими чужими и враждебными казались эти слабые звуки. У прохода в следующий зал Кристина остановилась, посветив туда фонариком. Она увидела восковые столбы сталактитов и сталагмитов, влажные каменные стены, но ничего из ряда вон выходящего. Теперь звуки доносились откуда-то из глубины, возможно, из следующей или еще более дальней пещеры. Кристина подалась вперед и напрягла слух. Внезапно она поняла, откуда исходят звуки. Летучие мыши. Множество мышей. Очевидно, они гнездились где-то в отдаленных залах в глубине горы и проникали через другой вход, потому что в тех помещениях, где находились сейчас люди, не было ни помета, ни останков, ни каких бы то ни было других следов пребывания летучих мышей. Кристина не имела ничего против такого соседства, пока соседи не нарушали границ чужого владения. Она вернулась назад, села между спящими Чарли и Джоем, положила револьвер и выключила фонарь. Ей пришла в голову мысль: что, если люди Спиви придут сюда, блокируют вход и не оставят им никакого другого выбора, кроме одного — отступать в глубь горы в поисках другого выхода, в поисках какого-нибудь хода, ведущего к спасению. Что, если они с Чарли и Джоем будут вынуждены спасаться бегством, шарахаясь из одного каменного мешка в другой, пока не окажутся загнаны в тот, где гнездятся летучие мыши? Там, наверное, можно по колено увязнуть в мышином помете; ведь этих тварей, висящих под сводом, должно быть, сотни, тысячи, и часть из них, а может, и все, заражены бешенством: ведь летучие мыши — известные переносчики бешенства… Хватит! — гневно приказала она себе. У нее и без того достаточно забот. Лунатики Спиви. Джой. Раненый Чарли. Мерзкая погода. Возвращение к человеческому жилью. Только летучих мышей не хватало в этом списке. Это безумие! Из миллиона был только один шанс, что они окажутся рядом с мерзкими летучими тварями. Она постаралась отвлечься. Подбросила дров в костер. Писк прекратился. Пещера погрузилась в тишину, которую нарушали только учащенное дыхание Джоя и потрескивание дров в очаге.* * *
Ее клонило ко сну. Как ни боролась Кристина с ним, веки ее становились все тяжелее. Она боялась уснуть. Пока она будет дремать, Джою может стать хуже. Или что-то понадобится Чарли, а она не услышит. Кроме того, кто-то должен быть начеку. Банда Спиви может нагрянуть ночью. Нет. Буран. Ведьмам запрещено летать на помеле в такую погоду. Она улыбнулась, вспомнив, как Чарли весело шутил. Мерцание костра завораживало… Кто-то все равно должен оставаться начеку. «Только вздремну». Ведьмам… Кто-то…, должен… Это был один из тех кошмаров, когда понимаешь, что спишь, что происходящее — сон, но от этого не становится менее страшно. Кристине снилось, что все пещеры в этой горе соединились в причудливый лабиринт, что Грейс Спиви вместе со своими подручными — религиозными экстремистами — проникла в их пещеру через пронизывающие гору ходы. Ей снилось, что они готовятся совершить жертвоприношение и для заклания выбрали Джоя. Она пыталась убить их, но после каждого ее выстрела из упавшего трупа выходили два новых фанатика, так что, уничтожая, она лишь множила их число. Ее все больше охватывали исступленное отчаяние и ужас; армия фанатиков росла непрерывно, пока не оказалось, что все пещеры по склону горы кишат людьми Спиви — словно это были полчища тараканов или крыс. Затем, понимая, что спит, Кристина стала подозревать — подручные Спиви не только в пещерах из ее сна, но и в настоящих пещерах из настоящей жизни и они совершают ритуал жертвоприношения не только в ее сне, но и наяву, и, если она не проснется и не остановит их, они убьют Джоя взаправду, а не понарошку, убьют, пока она спит. Она попыталась освободиться из железных объятий сна, но не могла, не могла проснуться, и сейчас ей снилось, что они собираются перерезать горло ее малышу. А наяву, не во сне? Что наяву?Глава 69
Когда Кристина проснулась, Джой ел плитку шоколада и гладил Чубакку. Она смотрела, не веря своим глазам, и чувствовала, что по ее щекам льются слезы. Только на этот раз она плакала от счастья. Похоже, он освободился из душевного плена, на который его обрекли. И выглядел он гораздо лучше. Может, все еще обойдется. Слава богу! Отек на лице прошел, и вернулся нормальный, хотя и не совсем здоровый цвет. Дыхание восстановилось. Пусть его взгляд еще оставался обращенным внутрь, но уже не был таким отрешенным и жалким, как прошлым вечером. То, что он встал, чтобы найти себе — и нашел — сладости, обнадеживало. Кроме того, он, как видно, подбросил хворосту в костер — тот горел ярко, хотя к этому времени там должна была остаться лишь кучка теплых углей. Кристина подобралась к нему и обняла, и он — хотя и слабо — обнял ее в ответ. Мальчик ничего не говорил, и она знала — никакая сила не заставит его произнести хотя бы слово. Его глаза по-прежнему смотрели мимо, словно он не до конца осознавал, что она рядом; однако она заметила, как следует за ней взгляд его пронзительных синих глаз, стоило ей лишь отвернуться. У нее появилась надежда на его возвращение в этот мир — пусть медленное, на ощупь, от черты аутизма, но она понимала, что торопить его или тянуть силой нельзя. Чубакка не сделал таких успехов, как Джой, но вид у него был поживее, чем накануне. Похоже, пес тоже пошел на поправку, думала Кристина, глядя, с какой благодарностью он встречает каждое прикосновение маленьких рук Джоя, словно в них была исцеляющая сила. Между собакой и ребенком иногда устанавливается удивительно таинственное и глубокое чувство преданности, общности данного только им знания. Джой держал шоколадку прямо перед собой, и на губах его блуждала слабая улыбка. Больше всего остального Кристина хотела видеть Джоя улыбающимся, и теперь губы ее тоже тронула улыбка, улыбка сопереживания. За ее спиной, вздрогнув, очнулся Чарли. И Кристина сразу отметила, что ему, в отличие от других, не стало лучше. Он не бредил, но его состояние явно ухудшилось. Лицо походило на поднявшееся дрожжевое тесто и лоснилось от испарины. Глаза глубоко ввалились, словно отказываясь видеть продолжение всех этих ужасов. Его донимал сильный озноб, временами вызывавший неуемную дрожь, которая, казалось, вот-вот обернется конвульсией. Жар привел к обезвоживанию. Когда Чарли попытался заговорить, он не смог открыть рта: губы спеклись, а язык прилип к небу. Кристина помогла ему сесть и дала тиленол и кружку воды. — Лучше? — Немножко, — прошептал Чарли. — Болит? — Везде. Ей показалось, что он не понял, и она переспросила: — Я имею в виду плечо. — Ну да. Я про то же. Она уже не только в плече. Похоже, она повсюду…, по всему телу…, от пяток до кончика носа…, везде. Который теперь час? Кристина взглянула на часы: «Боже! Уже половина восьмого! Я проспала несколько часов как убитая, и это на каменном полу!» — Как Джой? — Посмотри сам. Он повернул голову и увидел, что Джой скармливает последний кусочек шоколада Чубакке. — Кажется, он поправляется, — сказала Кристина. — Слава богу! Она убрала с его лба прилипшие волосы. Когда она была с ним в хижине, Чарли казался ей самым красивым мужчиной, которого она знала. И даже теперь — с запавшими щеками, бледный и обессиленный — он был красив: какое чувственное у него лицо, какой нежный взгляд. Она хотела лечь рядом с ним, обнять его, прижаться к нему, но побоялась причинить ему боль. — Поешь что-нибудь? — спросила она. Он покачал головой. — Ты должен, — настаивала она. — Надо восстанавливать силы. Он сощурил слезящиеся глаза, словно стараясь что-то увидеть. — Может быть…, позже. Снег все…, идет? — Сегодня я еще не выходила. — Если уже прояснилось…, вам с Джоем надо немедленно…, уходить…, без меня. — Чушь. — В это время года…, хорошая погода не продержится…, и суток. Ты должна воспользоваться…, благоприятным моментом…, и выбраться с гор…, пока снова не налетит буран. — Без тебя я никуда не пойду. — Я не могу идти, — сказал он. — Ты еще не пробовал. — Не смогу. Даже говорю…, с трудом. Разговор утомлял его. С каждым сказанным словом ему становилось тяжелее дышать. — Сам ты не сможешь поддерживать огонь, — возражала Кристина. — Верно. Ты подвинешь меня…, поближе к костру… чтобы я мог дотянуться…, и оставишь дрова…, на пару дней…, со мной…, ничего не случится. — Ты не сможешь приготовить себе поесть… — Оставь мне пару…, плиток шоколада. — Этого мало. Взгляд его помрачнел, какое-то время он собирался с силами, потом сурово, отчетливо проговорил: — Вы должны идти без меня. Это единственный выход. Так будет лучше для тебя и для Джоя…, и для меня тоже…, потому что мне не выбраться отсюда…, без команды спасателей-медиков. — Ну, хорошо, — сказала она. — Ладно. Он обмяк. Этот короткий диалог доконал его. Когда он заговорил снова, это был уже не просто шепот, а трепещущий шепот, в котором иногда пропадали окончания слов: — Когда дойдешь…, до озера…, пошлешь помощь…, за мной. — Все это под вопросом, пока я не узнаю, стих буран или нет, — сказала Кристина. — Пойду гляну. Она хотела встать, и тут услышала обращенный к ним мужской голос, раздавшийся у входа в пещеру в начале зигзагообразного коридора: — Мы знаем, что вы здесь! Вам не скрыться от нас! Мы знаем! Гончие псы Спиви настигли их.Глава 70
Инстинктивно, не раздумывая ни минуты, Кристина схватила заряженный револьвер и бросилась через пещеру к выходу. — Нет! — закричал Чарли. Не обращая внимания на его крик, она прошла до первого поворота, свернула направо, не посмотрев, прячется ли кто-нибудь там; она видела вблизи скалы, а впереди, у следующего поворота, — слабый серый свет — за ним был последний прямой отрезок лаза, а потом — открытый склон горы. Она рвалась вперед с безрассудной отвагой — и потому, что люди Спиви наверняка не ожидали от нее такого, но еще и потому, что ничего другого она предпринять не могла; она уже не контролировала себя. Сумасшедшие, злые, наглые мерзавцы выгнали ее из дома, загнали в эту нору и теперь собирались убить ее ребенка. — Мы знаем, вы здесь! — опять закричал кто-то невидимый. Никогда раньше она не впадала в истерику, но сейчас — сейчас она не могла ничего с собой поделать. Впрочем, она и не хотела ничего делать, потому что это было хорошо, чертовски хорошо — дать волю слепой ярости и безумному желанию выпустить из них кровь, заставить их почувствовать боль и страх. За второй угол она повернула с таким же бессознательным пренебрежением к опасности, как и раньше: впереди был последний участок лаза, затем — открытое пространство и фигуры на фоне серого утреннего света; человек в парке с надетым на голову капюшоном. Он держал винтовку, нет, автомат, но он опустил его к земле, а не направил в узкий проход, потому что никогда в жизни не ожидал, что она выскочит прямо на него, такая легкая добыча, — но это было именно так, так она и сделала, подобно безрассудному камикадзе, не думая о последствиях. Она застигла его врасплох и, когда он направил на нее дуло автомата, выстрелила — раз, два, три раза, попадая в него каждый раз — он был так близко, что промазать было почти невозможно. Первый выстрел заставил его оторваться от земли, второй — отбросил назад, а третий сбил с ног. Автомат выскользнул из его рук, и мгновенно появилась надежда завладеть желанным оружием, но, выйдя из пещеры, она услышала, как автомат стучал по каменистому склону, скатываясь вниз. Снег прекратился, и ветер стих, а на склоне, позади того, которого она убила, стояли трое. Один из них, невероятного роста, слева от нее, бросился в укрытие, как только услышал выстрелы и его товарищ упал на землю. Два других сектанта не были так проворны, как великан. Низкорослая крепкая женщина стояла прямо перед Кристиной, не далее чем в трех-четырех метрах — превосходная мишень, и Кристина инстинктивно нажала на курок — женщина упала, лицо ее разорвалось, подобно проткнутому воздушному шару, наполненному красной жидкостью. Двигаясь к выходу из пещеры, Кристина молчала, сейчас же она безотчетно начала выкрикивать проклятия так громко, что заболело горло и сорвался голос, а она все кричала и кричала. Никогда раньше не употребляла она таких слов, они были отвратительны ей, но она не могла остановиться — ярость выплескивалась в нечленораздельных звуках и бессмысленных непристойностях. Повернувшись к третьему человеку в шести метрах справа от себя, она узнала Грейс Спиви. — Ты! — Истерика захлестнула ее при виде старухи. — Ты! Сумасшедшая старая сука! Откуда только у женщины преклонного возраста взялись силы забраться на эти гребни и противостоять изматывающей непогоде в горах Сьерра-Невады? Безумие придавало ей силы? Возможно. Безумие исключало все сомнения, усталость, оно стало щитом от боли, когда она проткнула себе руки и ноги, чтобы инсценировать появление стигматов. «Боже, помоги нам», — думала Кристина. Ведьма, неподвижная, прямая, высокомерная, вызывающая, стояла так, будто это она позволила Кристине нажимать на курок, и даже издалека чувствовалась странная и завораживающая сила ее взгляда. Преодолевая гипнотическое действие безумных глаз, Кристина выстрелила, и рука с револьвером дернулась назад. Она не попала, хоть расстояние было небольшое. Кристина снова нажала на курок, удивилась, что не попала и на сей раз, с меньшего расстояния, хотела выстрелить в третий, но обнаружила, что кончились патроны. О боже. Ни патронов. Ни оружия. Боже. Ничего, кроме рук. Хорошо, я сделаю это, сделаю голыми руками, отлично, я задушу суку, оторву ей башку. Охваченная ужасом, сопя, извергая проклятия, с криком Кристина пошла на Спиви. Но тут верзила открыл по ней стрельбу из-за валунов, за которыми укрывался. Пули, бешено свистя, пролетали мимо, ударяясь о скалы и отскакивая. Она чувствовала, как они рассекают воздух вокруг ее головы. Понимая, что не сможет помочь Джою, если погибнет, Кристина остановилась и начала отступать к пещере. Еще один выстрел. Посыпались острые осколки камней. Она все еще была в истерике, но маниакальная злость внезапно преобразовалась: из ярости и жажды крови — в инстинкт самосохранения. Она отходила к пещере, слыша звуки выстрелов позади себя. Верзила вышел из укрытия и двинулся на нее. Пули с силой стучали по камням, и она ждала, что одна из них попадет ей в спину. Миновав вход в пещеру и достигнув первого поворота, она исчезла из поля зрения великана и подумала, что теперь находится в безопасности. Но последняя пуля отрикошетила от углового выступа и вонзилась ей в правое бедро, сбив с ног. Она упала, сильно ударившись плечом, и почувствовала, что на нее наваливается темнота. Отказываясь подчиниться шоку, вызванному ранением, хватая ртом воздух, отчаянно пытаясь отогнать подступавшую тьму, Кристина поползла по проходу. Она не думала, что они пойдут за ней. Они не знали, что у нее только револьвер и нет патронов. Они будут осторожны. Но они придут. Осторожно. Медленно. Но не так медленно, как хотелось бы. Они были неумолимы, как шериф из фильмов-вестернов. Она вспотела, еле подвигая и волоча ногу, словно это была бетонная глыба, уползая по камням к месту, где в неровном свете костра ее ждали Чарли и Джой. — О боже, тебя ранили, — сказал Чарли. Джой ничего не сказал. Он стоял у самого костра, и пульсирующий свет придавал его лицу кровавый оттенок. Он сосал свой большой палец и смотрел на нее широко открытыми глазами. — Ничего, — сказала она, стараясь не показать, как напугана. Она прислонилась к стене, стоя на одной ноге. Кристина дотронулась до бедра и почувствовала липкую кровь. Она не хотела смотреть на рану. Если было сильное кровотечение, следовало бы наложить жгут. Но на это не было времени. Стоит ей отвлечься, чтобы затянуть жгут, Спиви или верзила придут и вышибут ей мозги. Рассудок ее еще не помутился, и Кристина уже не боялась, что скоро отключится, но силы начали оставлять ее. Руки по-прежнему сжимали незаряженный, бесполезный револьвер. Она отбросила его. — Болит? — спросил Чарли. — Нет. — Это было почти правдой, она не испытывала боли в тот момент, но знала, что скоро почувствует ее. — Отдайте нам мальчишку! Мы оставим вас в живых, если вы отдадите нам мальчишку! — кричал снаружи верзила. Кристина не обращала внимания. — Я уложила двух мерзавцев, — сказала она Чарли. — Сколько осталось? — спросил он. — Еще двое, — ответила она, не вдаваясь в подробности, чтобы Джой не узнал, что Грейс Спиви здесь. Чубакка встал на задние лапы и зарычал. Кристина удивилась, что он смог подняться; выглядел он слабым и нездоровым. Он не сможет защитить Чарли. Она заметила нож, лежавший в груде вещей в дальнем углу, и попросила Джоя принести его, но он только смотрел, не двигаясь, — помощи от него ждать не приходилось. — Патронов больше нет? — спросил Чарли. — Ни одного. Снаружи слышалось: — Отдайте мальчишку! Чарли попробовал дотянуться до ножа, но был слишком слаб. Он начал хрипеть, потом кашлять и окончательно обессилел — на губах выступила кровавая слюна. Кристина с отчаянием осознавала, что время утекает, как песок сквозь пальцы. — Отдайте нам Антихриста! Кристина, держась за стены и прыгая на здоровой ноге, стала медленно двигаться в угол пещеры. Добраться бы до ножа, а затем вернуться, тогда бы она засела в про-, ходе за углом, и, когда они войдут, смогла бы кинуться вперед и вонзить нож в одного из них. Наконец она добралась до вещей, наклонилась и взяла нож — лезвие было слишком коротким. Она вертела его в руке, пытаясь убедить себя, что это как раз то, что надо. Но требовалось проткнуть парку, одежду под ней, а лезвие такое короткое. Если бы она могла ударить их в лицо, но…, они вооружены, и шансов, что она победит в схватке, нет. Проклятье. Кристина с ненавистью отбросила нож. — Огонь, — сказал Чарли. Сначала она не поняла. Он вытер рукой кровавую слюну: — Огонь. Это…, хорошее…, оружие. Конечно. Огонь. Лучше, чем нож с коротким лезвием. Ей вдруг пришло в голову, что горящая головешка может стать частью огнестрельного оружия. Временами боль пронзала раненую ногу в такт с биением ее пульса, но Кристина, стиснув зубы, склонилась над снаряжением. Нагибаться было тяжело, и она с ужасом думала, как придется распрямляться, хотя и опиралась на стену, помогая себе. Она порылась в вещах, которые вытряхнула из рюкзака накануне, и обнаружила пластиковую бутылку с зажигательной жидкостью, которую они купили на случай, если будут трудности с разведением огня в камине хижины. Кристина положила ее в правый карман брюк. Когда она поднималась, каменный пол закачался под ногами. Она схватилась за край очага и подождала, пока головокружение пройдет. Повернувшись к огню, между двух больших поленьев Кристина выхватила горящую ветку, боясь, что она погаснет, но ветка продолжала гореть ярким факелом. Джой не шевелился и не разговаривал, но наблюдал с интересом. Он зависел от нее, сейчас его жизнь целиком была в ее руках. Уже некоторое время снаружи не доносились никакие крики. Эта тишина пугала. Она могла лишь означать, что Спиви и верзила были уже внутри, в извилистом проходе. Кристина пустилась в обратный путь вдоль стены, мимо Чарли, к проходу, в котором в любой момент могли появиться фанатики. Она в отчаянии сознавала, что, выбирая длинный, но самый надежный путь, она теряет драгоценные секунды, но не могла рисковать, идя через центр зала, из опасения упасть и погасить факел. Она держала горящую головешку в левой руке, а правой опиралась на стену, прихрамывая, а не прыгая на одной ноге, — так было быстрее; немного помогая и раненой ногой, хотя боль пронзала ее насквозь, когда она слишком неосторожно наступала. И хотя боль накатывала по-прежнему в такт с пульсом, она уже не была тупой, а жила, жалила, била, колола, скручивала и становилась сильнее с каждым ударом сердца. Кристина подумала было, сколько крови потеряла, но оборвала себя, решив, что это неважно. Если потеря крови невелика, она может выстоять в последней схватке с фанатиками. Если же потеря большая и кровь текла из вены или из поврежденной артерии, не было смысла выяснять это, и жгут не помог бы ей, во всяком случае здесь, за много миль от ближайшего пункта медицинской помощи. Когда она добралась до противоположного угла пещеры, где начинался лаз, голова ее кружилась и подкатила тошнота. Она задохнулась, почувствовав ее у горла, но смогла подавить. Пульсирующий свет огня, отражаясь от стен, лишал пещеру четких очертаний; размеры зала все время менялись; камни казались уже не камнями, а странным пластиком, который постоянно плавился и менялся: стены то отступали, то подступали ближе, опять отступали; выпуклость скалы неожиданно становилась вогнутостью; потолок спускался так, что почти касался головы Кристины, поднимаясь через минуту на прежнюю высоту; пол вращался и горбатился, потом, казалось, ускользал, уходил из-под ног. В отчаянии Кристина зажмурила глаза, закусила губу и глубоко задышала, пока не почувствовала, что обморок отступает. Когдаона снова открыла глаза, пещера обрела четкие очертания. Кристина крепче стояла на ногах, но знала, что это ненадолго. Она прислонилась к стене в небольшом углублении с одной стороны прохода. Держа факел в левой руке, она нащупала правой в кармане бутылочку с зажигательной жидкостью и вытащила ее. Зажав бутылочку тремя пальцами в ладони, она большим и указательным открутила колпачок, обнажив твердую пластиковую насадку. Она была готова. У нее был план, хороший план. Он должен был быть хорошим, потому что другого у нее не было. Возможно, великан войдет в пещеру первым. У него будет винтовка, может, та самая полуавтоматическая винтовка, которой он пользовался снаружи. Он будет держать оружие перед собой, на уровне пояса. Проблема была в том, чтобы облить его горючим прежде, чем он прицелится в нее и нажмет курок. За какое время он сделает это — за две секунды? Или за одну? Эффект неожиданности был ее лучшей и единственной надеждой. Он мог ожидать выстрелов, ножа, но не этого. Если она пустит в него струю в тот самый момент, когда он покажется, он потеряет целую секунду; вторую секунду он может потерять от шока, когда поймет по запаху жидкости, что она воспламеняется. Только это время у нее есть, чтобы поджечь его. Кристина затаила дыхание, прислушалась. Ничего. Даже если горючее не попадет на кожу великана, а только замочит его парку, он почти наверняка в ужасе и панике бросит винтовку и будет сбивать огонь. Она глубоко вздохнула, задержала дыхание, опять прислушалась. Все еще ничего. Если бы она смогла брызнуть ему в лицо, не только паника заставила бы его бросить оружие. Он катался бы от невыносимой боли, когда его кожа покрылась бы волдырями и лупилась, а пламя лизало бы его глаза. Дым от факела струился по потолку, ища выхода из закрытого помещения. Чарли, Джой и Чубакка в другом конце зала молча ждали. Утомленный пес тяжело опустился на задние лапы. Ну, давай, Спиви! Давай, черт возьми. У Кристины не было твердой уверенности в том, что она сможет удачно использовать зажигательную жидкость и факел. Она понимала, что, в лучшем случае, был один шанс из десяти провернуть это дело, но все равно хотела, чтобы они пришли, прямо сейчас, чтобы можно было покончить с этим. Ожидание было хуже, чем неизбежное столкновение. Что-то хрустнуло, щелкнуло, и Кристина вздрогнула, но это трещала ветка в очаге в другом конце зала. Давай. Она хотела посмотреть за угол, в узкий проход, чтобы прекратить ожидание. Но не осмелилась. Она бы потеряла преимущество, которое давал эффект неожиданности. Кристина думала, что слышит тихое тиканье своих часов. Возможно, ей это только казалось, но звук отсчитывал секунды: тик, тик, тик… Если бы ей удалось облить и поджечь верзилу и он не застрелил ее, она бы занялась потом Спиви. У старухи, конечно, есть винтовка. Тик, тик… Их дымоход вытягивал дым от очага, но дым от факела Кристины поднялся под потолок и образовал ядовитое облако. Теперь это облако медленно двигалось в зал, отравляя воздух, которым они дышали, его подхватывали воздушные потоки, но уносили не так быстро. Запах пока былине очень едкий, но через несколько минут они, пожалуй, начнут кашлять. Пещеры хорошо продувались, и задохнуться здесь вряд ли возможно, но дым еще больше обессилил бы их. И все же она не могла потушить факел, он был ее единственным оружием. Что-то произойдет скоро, подумала она. Очень скоро. Тик, тик, тик… Отвлеченная дымом и воображаемым, но тем не менее сводящим с ума звуком уходящего времени, Кристина почти не прореагировала на важный звук. Щелчок затвора, скрип. Только тогда до Кристины дошло, что это Спиви или верзила. Она ждала в напряжении, высоко подняв факел, держа зажигательную жидкость перед собой, сжимая бутылочку. Еще скрип. Тихий металлический звук. Кристина подалась вперед из углубления, в котором она пряталась, молясь, чтобы нога не подвела ее, — и неожиданно поняла, что звуки доносились не из извилистого прохода, а из следующего, находящегося в глубине скалы, зала. Она увидела неяркий свет фонарика в соседней пещере, его луч, скользнувший по сталактиту. Потом он исчез. Нет, это невозможно! Она заметила движение на краю темноты, где следующая пещера примыкала к этой… Невероятно высокий, широкоплечий, пугающе уродливый человек выступил из мрака на границу мерцающего пламени в четырех-пяти метрах от Кристины. Слишком поздно она поняла, что Спиви может прийти к ним из другой пещеры, а не через вход на склоне. Но как? Как они узнали, какой из коридоров ведет сюда? У них были карты? Или они полагались на удачу? Как им могло так, везти? Безумие. Нечестно. Кристина, шатаясь, сделала один, второй шаг из тени, которая скрывала ее. Великан увидел ее. Он поднял винтовку. Она брызнула в него струей зажигательной жидкости. Он был слишком далеко. Горючая смесь, описав дугу, разлилась на камнях примерно в метре от него. Он моментально понял, что Кристина не стала бы использовать такое примитивное оружие, будь у нее патроны. — Брось, — твердо сказал он. Ее великолепный план неожиданно показался жалким и глупым. Джой. Он зависел от нее. Она была его последней защитой. Она сделала еще один нетвердый шаг. — Брось. Прежде чем он выстрелил, раненая нога подвела Кристину. Она рухнула. — Кристина! — закричал» Чарли, отчаяние и боль слились в одном слове. Бутылочка пролетела по полу через весь зал и осталась в углу, откуда ее было не достать. Кристина упала на раненое бедро и закричала от жуткой боли, пронзившей ее ногу. Падая, она выронила факел, который упал в лужицу зажигательной жидкости. Вспыхнул огонь, наполняя пещеру ослепительным светом, затем, трепеща, затих, не причинив вреда никому. Рыча, оскалив зубы, Чубакка бросился на великана, но был слишком слаб, чтобы бороться. Он схватил зубами парку, но громила, подняв обеими руками винтовку, обрушил ее на голову собаки. Чубакка коротко и резко взвизгнул и свалился под ноги великану то ли без сознания, то ли мертвый. Кристина старалась не лишиться чувств; хотя волны темноты накатывали на нее. Скалясь, как существо из старого фильма ужасов о Франкенштейне, верзила вступил в зал. Кристина увидела, как Джой забился в дальний угол пещеры. Она не смогла спасти его. Господи, ведь что-то она может сделать такое, что спасет их. Есть какое-то решение, найдя которое она уничтожит противника его же оружием. Должно быть. Но она ничего не могла придумать.Глава 71
Огромный человек прошел дальше в пещеру. Это был монстр, которого Чарли встретил у Спиви, великан с перекошенным лицом. Тот, кого ведьма называла Кайлом. Когда Чарли увидел, с каким важным видом вошел он в зал и как съежилась в испуге Кристина, его в одинаковой мере переполнили страх и презрение к себе. Он боялся, так как знал, что умрет в этой промозглой заброшенной дыре, а презирал себя за слабость, беспомощность и провал. Его родители, слабые люди и неудачники, одурманивали себя алкоголем, чтобы не мучиться от неспособности справляться с превратностями жизни, и еще в юности Чарли пообещал себе, что никогда не будет похожим на них. Всю жизнь он учился быть сильным, всегда. Он никогда не отступал перед вызовом судьбы, главным образом потому, что родители всегда отступали. И он редко проигрывал. Он ненавидел проигрыш — родители проигрывали, а не он, не Чарли Гаррисон из «Клемет — Гаррисон». Проигравшие были слабы духом и телом, а слабость была величайшим грехом. Но он не мог закрыть глаза на теперешние обстоятельства; никуда было не деться от факта, что сейчас он был наполовину парализован болью, слаб, как котенок, и старался не потерять сознание. Нельзя было отрицать, что это он привел сюда Кристину и Джоя, допустил случившееся, обещал, что поможет им, а обещание оказалось пустым. Они нуждались в нем, а он ничего не мог сделать для них и теперь собирался умереть, так и не сумев помочь тем, кого любил, — так что не очень далеко ушел он от алкоголика-отца и всех ненавидевшей, пьяной матери. Подсознательно Чарли чувствовал, что слишком требователен к себе. Он сделал все от него зависящее. Никто не смог бы сделать больше. Но он всегда был требователен к себе и не собирался делать поблажки теперь. Имело значение не то, что он намеревался сделать, а то, что сделал. В итоге они оказались лицом к лицу со смертью. За Кайлом в проеме, ведущем в следующий зал, возникла фигура. Женщина. Мгновение она была в тени, потом появилась в ярко-оранжевом свете огня. Грейс Спиви. С трудом Чарли повернул затекшую шею, сильно зажмурился, чтобы стряхнуть пелену с глаз, и посмотрел на Джоя. Мальчик стоял в углу, с заложенными за спину руками; он прислонился к стене, крепко прижав к ней ладони, как будто хотел усилием воли проникнуть сквозь камень и выйти из этого зала. Его глаза, казалось, выскакивали из орбит. Слезы блестели на лице. Из мира фантазий, где он инстинктивно прятался, его бесцеремонно вытащили в наводящий ужас мир, где правила ненавистная Грейс Спиви. Чарли попытался поднять руки, если бы это удалось, он бы сел, а если бы сел, то и встал, а если бы встал — мог бы бороться. Он не сумел поднять руки, ни на дюйм. Спиви медлила, глядя на Кристину. — Не трогайте его, — сказала Кристина, почти умоляя. — Ради бога, не трогайте моего маленького мальчика. Спиви не ответила. Вместо этого она повернулась к Чарли и зашаркала к нему через зал. В ее глазах светились патологическая ненависть и триумф. Ужас и отвращение вызвал у Чарли этот взгляд, и он отвернулся. Он мучительно искал выход — что может спасти их, какое оружие или действие, о котором они не подумали? Он вдруг поверил в то, что не все потеряно и, несмотря ни на что, они не обречены. Это были не пустые мечты или горячечный бред. Чарли не без основания доверял своей интуиции, он мыслил трезво и реалистично, как и раньше. Все еще был выход. Но где, какой? Когда Кристина смотрела в глаза Грейс Спиви, у нее было такое ощущение, что холодная рука погружается в ее грудь и сжимает ее сердце ледяными тисками. Она смотрела как завороженная, у нее перехватило дыхание, она не могла думать. Старуха была безумной, да, законченной сумасшедшей, но в глазах ее сверкала такая несгибаемая сила, что Кристина в этот момент поняла, как Спиви могла собирать и удерживать возле себя обращенных в свою безумную веру. Потом, когда ведьма отвернулась и Кристина снова могла дышать, она почувствовала обжигающую боль в ноге. Спиви остановилась перед Чарли и смотрела на него. Она намеренно игнорирует Джоя, подумала Кристина. Только ради него она прошла весь этот путь, рискуя быть убитой, пробиралась через горы и буран, а теперь игнорирует его, чтобы оттянуть момент, насладиться триумфом. Кристина питала к Спиви черную ненависть, но теперь ее ненависть была чернее ночи. Она вытеснила из сердца все остальное; на несколько секунд она вытеснила даже любовь к Джою и стала всеохватывающей, всепоглощающей. Когда сумасшедшая обернулась к Джою, ненависть в Кристине отступила, и ее захлестнули смешанные чувства любви, страха, жалости и ужаса. И появилась надежда, что все же существует нечто, могущее заставить Спиви и верзилу встать на колени. Только бы вернулась ясность мысли.* * *
Наконец Грейс Спиви стояла лицом к лицу с мальчиком. Она чувствовала окружившую ее темную ауру, и ей сделалось страшно, потому что она могла прийти чересчур поздно. Возможно, сила Антихриста стала слишком велика, и этот ребенок теперь неуязвим. На глазах у него были слезы. Он все еще прикидывался обыкновенным шестилетним ребенком — маленьким, испуганным и беззащитным. Неужели он действительно думал, что может ввести ее в заблуждение этим спектаклем, заронить в ней сомнение в этот последний час? У нее бывали минуты сомнений, как в том мотеле, в Соледаде, но это были всего лишь минуты слабости, и теперь они остались позади. Мальчик пытался забиться еще глубже в угол, но он и без того вжался так плотно, что казался вырезанным в камне. Она остановилась всего в двух-трех метрах от него и сказала: — Ты не наследуешь землю — ни на тысячу лет, ни на минуту. Я пришла, чтобы остановить тебя. Мальчик молчал. Грейс почувствовала, что сила его еще недостаточна, чтобы повергнуть ее, и в ней укрепилась уверенность. Она пришла вовремя. — Неужели ты надеешься улизнуть от меня? — На ее губах играла зловещая улыбка. Его взгляд был обращен куда-то мимо нее, и она поняла — он смотрел на свою собаку. — Твой пес — это исчадие ада — больше тебе не помощник. Мальчик задрожал, губы его задвигались, и она прочитала по ним, что он хотел сказать: «Мама», — но изо рта его не вырвалось ни звука. Из чехла, притороченного к поясу, она вытащила остроконечный охотничий нож с длинным лезвием. Он был острый, как бритва. Кристина увидела нож и попробовала встать, но дикая боль в ноге скрутила ее, и не успел гигант навести на нее винтовку, как она снова упала на камни. Спиви обращалась к Джою: — Я избрана на это благое дело за все годы служения Альберту, потому что я знаю, как отдавать себя всю, без остатка. Так я посвятила себя божественной миссии — без сомнений и колебаний, всю свою энергию и силу духа. У тебя не было ни единого шанса спастись от меня. Кристина с отчаянием обреченного попробовала сыграть на жалости; — Прошу вас, выслушайте меня, пожалуйста. Вы ошибаетесь. Вы не правы. Он всего лишь маленький мальчик, и я люблю его, и он любит меня, — она вдруг забормотала что-то нечленораздельное, бессвязное и возненавидела себя за то, что не может найти слова, способные убедить. — О боже, если бы вы только знали, какой он милый и ласковый, вы бы поняли, что заблуждаетесь. Вы не можете отнять его у меня. Это…, несправедливо. Не обращая внимания на Кристину, Спиви подняла нож. — Я много часов провела в молитвах над этим клинком. И однажды ночью я увидела, как ко мне в окно слетел с Небес дух одного из ангелов господних, и дух его до сих пор пребывает здесь, а этом священном лезвии, и когда оно войдет в твою плоть, знай: это не просто лезвие — это Дух святой осенит тебя. Кристина видела — у этой женщины буйное помешательство, поэтому обращаться к ее разуму, взывать к здравому смыслу было так же безнадежно, как надеяться вызвать у нее сострадание, — но как бы там ни было, она должна попытаться. — Подождите! Послушайте. Вы ошибаетесь. Неужели вы не видите? Даже если допустить, что Джой тот, за кого вы его принимаете — а это не так, это просто безумие, — но даже если бы это было так, пусть бог желал бы его смерти, тогда почему же бог не уничтожил его? Почему его не поразило громом, почему он не попал под машину? Бог не справился бы с Антихристом без вашей помощи? На этот раз Спиви ответила ей, но при этом продолжала смотреть на Джоя. Она говорила с пугающим пылом; ее голос, голос бродячего проповедника, вздымался и опадал, обнаруживая неимоверную энергию, выплескивая овладевшее ею бешеное возбуждение; речь ее иногда перерастала почти в звериное рычание, а иногда восторженно парила, словно церковный гимн. От ее голоса бросало в дрожь, он зачаровывал; Кристина подумала, что именно так Гитлер и Сталин обращали толпу в послушное стадо. — Когда дьявол явится среди нас и начнет свою работу в этом скорбном мире, мы не можем просто пасть ниц и молить господа, чтобы он избавил нас от него. Искушение дьяволом — это испытание нашей веры и добродетели, это вызов нам, и мы не можем пренебречь им, мы должны доказывать, что достойны спасения, достойны того, чтобы вознестись в рай. Мы не можем уповать на то, что господь избавит нас от ярма, потому что мы сами возложили на себя это ярмо Наша святая обязанность противостоять греху и восторжествовать над грехом, своей волей, своими силами, которыми господь всемогущий наделил нас Так заслужим мы честь быть по правую его руку вместе с ангелами. Старуха наконец оторвала взгляд от Джоя и обратилась к Кристине — глаза ее были как никогда безумны. — А ты только выказываешь собственное невежество и безверие, если относишь болезнь, или смерть, или другие земные страдания на счет господа нашего, владыки небесного и земного. Не он принес зло на землю и наслал на род людской десять тысяч казней. Это сам сатана, отвратительный змей, искушавший в Эдемском саду Еву, которая познакомила тысячи поколений с грехом, смертью и отчаянием Мы сами навлекли на себя это зло, и теперь, когда в обличье ребенка воплощенное зло ходит по земле, мы обязаны сами остановить его. Это испытание из испытаний, и спасение рода людского зависит от того, способны ли мы выдержать его! Кристина, онемев от ярости старухи, утратила всякую надежду Спиви снова повернулась к Джою: — Я чую, как смердит твое сердце, чую, как от тебя исходит энергия зла. Она ледяным холодом пронизывает меня до костей. О, мне известно, кто ты Известно. Уже неспособная предпринять что-либо физически, Кристина преодолела охвативший ее панический ужас, грозивший лишить ее разума, и мучительно старалась ухватиться за какую-нибудь спасительную идею. Она была готова на все, каким бы бесполезным это ни казалось, но ей на ум не приходило ровно ничего. Она увидела, что Чарли, несмотря на его состояние, удалось подтянуться и сесть, хотя каждое движение должно было причинять ему адскую боль. Он не стал бы предпринимать таких усилий, не будь у него какой-то побудительной причины. Может быть, его осенила та идея, которая ускользнула от Кристины. Ей хотелось в это верить. Она всем сердцем надеялась на это. Спиви переложила нож и протянула его верзиле: — Пора, Кайл. Внешность мальчишки — обман. Он только кажется маленьким и тщедушным, на деле же он силен и будет сопротивляться, и хотя я избрана, у меня уже не хватает сил Дело за тобой. На лице Кайла появилось странное выражение. Кристина ждала, что увидит в его глазах торжество, маниакальную ненависть, но встретила там…, не то чтобы тревогу или растерянность, но какую-то смесь из того и другого… и еще нерешительность. — Кайл, пробил твой час стать разящим мечом господним. Кристина содрогнулась. Царапая ногтями камни, она поползла к верзиле, от страха забыв про боль в ноге. Она уцепилась за край его куртки в надежде опрокинуть его и вырвать из рук оружие — при той силе и гигантских размерах, которыми он обладал, это выглядело совершенным безрассудством, — но не успела предпринять ровным счетом ничего, потому что он с размаху ударил ее прикладом, как до того уже огрел собаку. Удар пришелся в плечо, и Кристину отбросило на камни с такой силой, что у нее прервалось дыхание. Ловя ртом воздух, она схватилась за ушибленное место и заплакала.* * *
Из последних сил преодолевая боль, от которой темнело в глазах, Чарли подтянулся и сел, как будто, взглянув на сцену под другим углом зрения, мог наткнуться на какую-то зацепку, которую они прозевали, пытаясь изменить ситуацию. Однако спасительная идея не приходила. Кайл взял из рук Грейс нож, отдав ей винтовку. Старуха отступила, пропуская верзилу вперед. Кайл разглядывал нож с каким-то недоумением. На лезвии мерцали призрачные блики огня. Чарли попробовал подняться, уцепившись за уступ, на котором горел костер, рассчитывая схватить горящую головню и швырнуть ею в верзилу. Спиви краем глаза видела его отчаянную попытку преодолеть тяжесть своего разбитого тела и наставила на него ружье. Она напрасно беспокоилась — сил дотянуться до костра у него не было.* * *
Кайл Барлоу посмотрел на нож, потом на мальчика, не в силах определить, что больше страшит его. Он имел дело с ножами. Когда-то он вонзал их в людей, иногда убивая их. Это было несложно, а он таким образом выпускал пар, давая выход ярости, которая постоянно накапливалась в нем. Но он уже не был прежним Кайлом. Он научился контролировать эмоции. Он наконец узнал, какой он есть. Прежний Кайл готов был ненавидеть каждого, знакомого и незнакомого, просто за то, что рано или поздно все отворачивались от него. Но теперешний, новый Кайл осознал, что своей ненавистью он больше вредил себе, чем другим. Теперь он понимал, что не всегда от него отворачивались из-за его отталкивающей внешности, а чаще из-за грубости и злобы. Грейс приняла его и указала ему цель; со временем он узнал, что такое привязанность, а потом впервые открыл для себя, что такое любить и быть любимым. Сейчас же, если он снова возьмется за нож, если убьет ребенка, то неминуемо скатится в пропасть, из которой когда-то выбрался. Он боялся ножа. Но он боялся и ребенка. Он верил в психическую энергию Грейс, поскольку был свидетелем, как она совершала такое, что не под силу простому смертному. Поэтому возможно, она и права, утверждая, что этот ребенок — исчадие ада. Если ему не удастся убить мальчишку-демона, он предаст бога, Грейс и весь род людской. Но не требуют ли от него душу в обмен на обещания спасения? Что значит убить, чтобы снискать благодать божью? Нет ли здесь противоречия? — Прошу вас, пощадите моего малыша. Пожалуйста, — умоляла его Кристина Скавелло. Кайл взглянул на нее; он все больше недоумевал. Эта женщина совсем не походила на черную Мадонну, за спиной у которой была власть тьмы. Это была раненая, перепуганная, умоляющая о пощаде женщина. Это он причинил ей боль и теперь чувствовал внезапный приступ вины. Заподозрив неладное. Мать Грейс окликнула его: — Кайл? Повернувшись к мальчику. Кайл отвел руку, в которой держал нож, назад, чтобы ударить изо всей силы. Сейчас он сделает последний шаг, нагнется пониже и, размахнувшись, вонзит нож в живот своей жертве — секунда, и все кончено. Мальчик плакал и, как завороженный, смотрел синими горящими глазами на острие ножа в руке Кайла. Ужас исказил его мертвенно-бледное, покрытое испариной лицо. Он согнулся, точно в предвосхищении грядущей боли. — Убей его! — потребовала Мать Грейс. Кайла одолевали сомнения. «Если бог милостив, тогда зачем он обрекает меня жить с этим лицом чудовища? Что это за бог, который избавляет меня от бессмысленной жизни, где правят насилие, боль и ненависть, только затем, чтобы заставить снова убивать? Если господь бог правит миром, почему он допускает, чтобы здесь было так много страданий, мук и горя? И что изменится, если править придет сатана, ведь хуже все равно не бывает?» — Все твои сомнения от дьявола! — кричала Грейс. — Вот откуда они берутся. В тебе этого нет. Кайл. Это все от лукавого! — Нет, — заявил он. — Ты учила меня думать о том, чтобы совершать добрые дела, желать добра. Сейчас мне нужно минуту подумать, только минуту! — Не надо думать, делай! — сказала Мать Грейс. — Или уйди с дороги, и я сделаю это сама. Как ты можешь в такой момент обмануть мое доверие? После всего, что я сделала для тебя, как ты можешь? Она права. Он обязан ей всем. Если бы не она, до сих пор он был бы опустившимся, живущим в грязи подонком, снедаемым ненавистью. Если он обманет ее доверие, где же его честь, его благородство? Не будет ли этот обман означать то же, что означает убийство, на которое она его толкает, а именно — возвращение к его прежней никчемной жизни? — Прошу вас, — умоляла Кристина Скавелло. — Прошу, не троньте моего мальчика. — Отправь его обратно в ад, навсегда! — вопила Грейс. Кайл чувствовал себя так, как будто его рвали на части. Он всего несколько лет назад столкнулся с необходимостью принимать решения, руководствуясь категориями морали и нравственности; недостаточный срок, чтобы это превратилось в привычную внутреннюю потребность, недостаточный, чтобы легко справиться с возникшей дилеммой. Он почувствовал, что по щекам его катятся слезы. Мальчик оторвал взгляд от ножа. — Убей его! — снова закричала Грейс. Кайла колотила дрожь. Их взгляды не просто сошлись…, они слились…, так что Кайлу стало казаться, что он видит не только собственными глазами, но и глазами ребенка. Это был случай почти магической эмпатии; как будто он, оставаясь самим собой, был и этим ребенком, одновременно палачом и жертвой. Он ощущал себя огромным и угрожающим…, и в то же время — маленьким и беззащитным. Внезапно у него закружилась голова и затуманилось сознание. На мгновение все поплыло перед глазами. И он увидел — или вообразил, что увидел, — себя, склонившегося над ребенком, то есть буквально увидел себя глазами мальчика, как будто он — это Джой Скавелло. Его словно пронзила молния; это было потрясающее мгновение проницательности, адекватной самооценки, странное и дезориентирующее переживание, сродни озарению ясновидца. Взглянув на себя со стороны, он был поражен: свирепое лицо дикаря, изготовившегося, чтобы совершить бессмысленное кровопролитие. По спине пробежал холодок, сбивалось дыхание. Эта нелицеприятная правда поразила его сознание, словно по нему ударили неким психологическим молотом. Он часто заморгал, и видение отхлынуло, и он снова был самим собой, только теперь у него страшно болела и кружилась голова. К изумлению Кристины, верзила повернулся и забросил нож в костер, над которым тут же взлетел рой огненных пчел. — Нет! — закричала Грейс Спиви. — Я больше не буду никого убивать, — сказал этот огромный человек. По лицу его непрерывно текли слезы, смягчая суровый и зловещий взгляд, как смягчают и затуманивают пейзаж за окном капли дождя на стекле. — Нет, — повторила Спиви. — Это не правильно, — сказал он. — Даже если я сделаю это для тебя…, это не правильно. — Дьявол вложил эти мысли в твою голову, — в голосе старухи звучало предостережение. — Нет, Мать Грейс. Ты сама вложила их туда. — Дьявол! — неистовствовала она. — Дьявол вложил! Верзила стоял в нерешительности, обхватив ладонями лицо. Кристина, затаив дыхание, с надеждой и страхом наблюдала за происходящим. Если это напоминающее Франкенштейна существо действительно восстанет против хозяйки, то может оказаться хорошим союзником; пока же великан, видимо, не до конца определился, чью сторону занять. Хотя он и выбросил нож, но пребывал в замешательстве, в душевном и эмоциональном смятении и даже слегка пошатывался. С воздетыми к лицу ладонями, со слезами на глазах, он имел такой страдальческий вид, словно его били дубинками. В конце концов, он мог в любой момент передумать и убить Джоя. — Твои сомнения — это происки дьявола! — вопила Грейс Спиви, наступая на верзилу. — Это дьявол. Дьявол, дьявол! Он опустил мокрые от слез руки и пронзительно взглянул на старуху. — Если это и дьявол, то он вовсе не такой уж плохой. Вовсе не такой уж плохой, раз хочет, чтобы я больше никого не убивал. Грузно переваливаясь, он направился к выходу из пещеры, потом остановился и тяжело прислонился к каменной стене, словно нуждаясь в передышке после изнурительного труда. — Тогда я сама сделаю это, — с яростью произнесла Спиви. Она сжимала в кулаке ремень висевшей у нее на плече винтовки. — Ты Иуда, Кайл Барлоу. Иуда. Ты предал меня. Но бог не выдаст меня. И я не изменю своему господу так, как поступил ты. Только не я, его Избранная, я не изменю! Кристина повернулась к Джою. Он так же стоял, зажавшись в угол, выставив вперед побелевшие ладони, словно они могли уберечь его от пуль Грейс Спиви. Распахнутыми глазами он, как загипнотизированный, смотрел на старуху. Кристина уже хотела крикнуть ему, чтобы он бежал, но это было бесполезно — путь ему преграждала Грейс Спиви, и она не выпустила бы его. Да и куда ему было бежать? Выйди он из пещеры — там его ожидало неминуемое обморожение. Убеги он в отдаленные залы — Грейс Спиви быстро отыщет его. Маленький и беззащитный, он попал в западню, из которой выхода не было. Кристина посмотрела на Чарли — тот плакал от сознания собственного бессилия; тогда она решила сама добраться до Спиви, но из-за раненой ноги и поврежденного плеча вынуждена была отказаться от своего замысла и наконец в отчаянии снова обратилась к Кайлу: — Остановите ее! Ради бога! Остановите ее! В ответ великан только тупо моргал, словно погрузившись в прострацию после шока, не в состоянии вырвать винтовку из рук Спиви. — Пожалуйста, остановите ее, — умоляла Кристина. — Заткнись, ты! — угрожающе произнесла Грейс и сделала шаг к Кристине. Затем снова переключила внимание на Джоя: — А ты не строй мне глазки. Со мной этот номер не пройдет. Так у тебя ничего не выйдет, у тебя вообще ничего не выйдет. Я могу защитить себя. Старуха замешкалась, соображая, на что следует нажать, и, когда наконец ружье выстрелило, пуля, забрав выше, вонзилась в камень над головой Джоя, почти под самым сводом, и эхо выстрела мгновенно разнеслось в замкнутом пространстве пещеры и завибрировало, отразившись от стен, и, расщепившись, оглушительно завывало на разные перекрывающие друг друга голоса. От отдачи и наделанного ею громоподобного шума Спиви дернулась всем своим тщедушным телом, неуклюже подалась назад и, уже отчаянно, снова нажала на курок. На этот раз пуля угодила в свод и, отрикошетив, со свистом пролетела через зал. Джой визжал. Кристина озиралась по сторонам в поисках любого предмета, которым можно было бы запустить в Спиви, но ничего не находила. Боль в ноге была такая, словно ее пригвоздили чугунным костылем, и Кристине оставалось только в бессильной ярости колотить кулаками о камни. Старуха двинулась к Джою, неумело держа винтовку в руках, с явным намерением на сей раз довести дело до конца. Однако что-то опять не ладилось. То ли кончились патроны, то ли ружье заело, только она никак не могла с ним справиться. Когда смолкло эхо от второго выстрела, где-то в глубине горы родился таинственный звук и, прокатываясь по другим пещерам, стал неумолимо разрастаться — странный пугающий шум, который Кристина когда-то слышала, но никак не могла вспомнить, что это. Ружье и в самом деле заклинило. Спиви удалось извлечь застрявшую в патроннике латунную гильзу, которая выскочила из гнезда и, сверкнув отражением огня, со звоном упала на пол. Вип-вип-вип-вип — странный звук, словно от хлопающих кусочков кожи, — разрастался, заставляя дрожать воздух. Спиви, полуобернувшись, уставилась на проем, ведущий в соседнюю пещеру, через который они с великаном вошли сюда всего несколько минут назад. — Нет! — произнесла она, словно поняв, что на нее надвигается. В то же мгновение Кристину осенило. Летучие мыши. Зловещий колышущийся смерч из летучих мышей. Мгновение спустя они роем ворвались в зал: сотня, другая, все больше и больше; взмыв под каменные своды пещеры, они усердно колотили по воздуху своими перепончатыми лапами-крыльями и сновали взад-вперед с пронзительным писком — сумятица обезумевших теней в озаренном светом костра пространстве. Старуха не могла оторвать от них одурманенного взгляда. Она что-то говорила, но за шумом роя слов было не разобрать. Вдруг одновременно мыши смолкли. Слышался только треск, свист и шорох крыльев. Молчание мышей казалось настолько неестественным, что пугало больше, чем их крики. «Нет, — твердила про себя Кристина. — Нет, нет!» Под этим зловещим покровом от мании величия Спиви не осталось и следа. Она в ужасе дважды выпалила из ружья в жуткую стаю, не подумав, что это не только бессмысленно, но и опасно. То ли спровоцированные стрельбой, то ли привлеченные чем-то, мыши ринулись вниз, словно единый организм — сплошной, усеянный зубами и когтями клубок черных крохотных существ-убийц, — и обрушились на Грейс Спиви. Раздирая в клочья лыжный костюм, запутываясь в волосах, впиваясь когтями в тело, они складывали крылья и повисали на ней. Спиви, пошатываясь, бросилась через зал, размахивая руками и вращаясь вокруг собственной оси, словно исполняла танец смерти или рассчитывала улететь вместе с мышами. Визжа, давясь собственным криком, она налетела на стену, отскочила, но мерзкие твари не реагировали, продолжая терзать ее. Кайл Барлоу сделал было два нерешительных шага ей навстречу, но остановился — не столько напуганный, сколько сбитый с толку. Кристина, помимо своей воли, не могла оторвать взгляд от жуткой сцены. Казалось, на Спиви надето платье, сшитое из сотен черных лоскутков, которые сейчас трепетали и подрагивали на ней. Под оборванными клочьями ее лица совершенно не было видно. Мышиные крылья вибрировали и поскрипывали, и в наступившей зловещей тишине животные работали лишь неистовее, и в их методичности была болезненная одержимость. Они рвали Грейс на кусочки.Глава 72
Наконец мыши затихли. Затихла и Спиви. С минуту мыши покрывали тело живым черным саваном, словно колыхаемым ветром. Неестественная тишина с каждой секундой становилась все более пугающей. Невольно возникало сомнение в том, что эти животные — обычные летучие мыши… Даже не принимая во внимание поразительную своевременность их появления и ту целеустремленность, с какой они набросились на Спиви, в них было нечто невыразимо странное. Кристина видела, как маленькие злобные головки поднимались и, сверкая красно-малиновыми глазками, поворачивались налево-направо, словно ожидая указаний от главаря стаи. Потом, точно повинуясь приказу, который только им и был понятен, они, как одна, колыхающимся облаком взмыли вверх и унеслись прочь в другие пещеры. Кайл Барлоу и Кристина, пораженные, не произносили ни звука. Она, как зачарованная, смотрела на сына. Он был жив — непостижимым чудесным образом он остался жив. После пережитого нами ужаса и боли, когда казалось — смерть неминуема, ей было трудно поверить, что в последнюю минуту смертный приговор был отменен. Она не могла преодолеть иррационального ощущения, что, отведи она взгляд от Джоя, в следующее же мгновение он будет мертв, а их необыкновенное спасение окажется плодом расстроенного воображения, сном. Более всего она хотела сейчас взять Джоя на руки, гладить его волосы, прижать его к груди крепко-крепко и чувствовать биение его сердца и тепло его дыхания. Но из-за ранения она не могла сделать этого, а он, похоже, был в шоке и даже не замечал ее присутствия. Откуда-то из глубины пещер вновь послышался писк летучих мышей, словно они дрались друг с другом за право занять самые удобные места. От зловещих звуков, вскоре стихших, Кристину пробрала дрожь, которая лишь усилилась, когда она увидела, как ее сын, словно под гипнозом, посмотрел вверх, как будто до него доходил тайный смысл, заключенный в пронзительных криках этих кошмарных существ. Джой был неестественно бледен. Губы кривились в подобии улыбки, но Кристина поняла, что на самом деле это гримаса отвращения и ужаса, вызванных зрелищем, свидетелем которого он только что стал и которое повергло его в полуобморочное состояние. Крики летучих мышей постепенно стихли, и Кристина вдруг почувствовала страх, хотя он и не был связан с тем, что произошло с Грейс Спиви. Не боялась она и того, что мыши вернутся и снова начнут убивать. Она почему-то была уверена, что этого больше не произойдет, и именно эта непостижимым образом появившаяся уверенность пугала ее. Она не хотела знать, откуда исходит эта уверенность, не хотела доискиваться до ее корней. Она гнала от себя вопрос, что бы это могло означать. Джой был жив. Все остальное было неважно. Звук выстрелов привлек летучих мышей, и по счастливой случайности — а может, по милости божьей — они выбрали в качестве жертвы именно Грейс Спиви. Джой остался жив. Жив. На ее глаза навернулись слезы радости. Джой жив. И сейчас только этот чудесный поворот судьбы имел для нее смысл, потому что с этого момента для них начиналась новая жизнь, светлая, полная любви и счастья, в которой не будет ни печали, ни страхов, а самое главное — сомнений. Сомнения отравляют душу, разрушают счастье, превращают любовь в горечь. Даже между матерью и любимым сыном может встать непреодолимая стена сомнения, и она не хотела допустить этого. И все же непрошеные, незваные воспоминания нахлынули на нее. Вторник, Лагуна-Бич, станция техобслуживания «Арко», где они ждали Чарли, чудом оставшись в живых после того, как взрыв стер с лица земли дом Мириам Рэнкин; она с Джоем и два телохранителя возле сложенных горкой автомобильных протекторов; на улице свирепствует гроза, словно предвещая близкий конец света; Джой подходит к открытым дверям, очарованный молнией, одна страшнее другой, — Кристина в жизни не видела ничего подобного, тем более в Южной Калифорнии, где молния вообще была явлением крайне редким; Джой взирает на грозу без всякого страха, точно это всего-навсего фейерверк, точно ему известно, что молния не может причинить ему никакого вреда. Как будто это был знак, понятный ему одному. Как будто в безумной ярости грозы ему чудилась некая весть, в которой он черпал свою надежду. Нет, этого не может быть. Ей приходилось гнать прочь эти вздорные мысли. Это было сумасшествие, которое может охватить человека просто потому, что ему приходится иметь дело с людьми, подобными Грейс Спиви. Боже, эта старуха была словно носитель чумы, распространение которой не поддается логическому объяснению, заражая каждого, кто сталкивался с ней, своими параноидальными фантазиями. Но при чем здесь мыши? Почему они появились в самый что ни на есть подходящий момент? Почему набросились именно на Грейс Спиви? «Довольно, — приказала она себе. — Ты выдумываешь то…, чего нет. Летучих мышей просто-напросто привлек звук произведенных Грейс Спиви выстрелов. Звук был настолько громкий, что они испугались и снялись с места. А потом…, когда они уже оказались здесь…, она выстрелила в них, и это заставило мышей нападать. Ну конечно. Все было именно так. Кроме одного… Если два первых выстрела напугали мышей, почему они тогда не испугались третьего и четвертого выстрелов? Почему не улетели? Почему напали на Грейс, разделавшись с ней так…, кстати? Нет. Чепуха». Джой смотрел под ноги. Он по-прежнему был мертвенно-бледен, но начинал приходить в себя после ступора. Он нервно кусал палец, как ребенок, который знает, что расстраивает мать, но все равно делает это. Мгновение спустя он поднял голову, и их взгляды встретились. Он попробовал улыбнуться сквозь слезы, но губы после пережитого шока кривились и не слушались. Никогда он не был для нее столь любимым и столь нуждавшимся в ее любви, и, видя его слабость и беззащитность, Кристина ощутила, как екнуло у нее сердце. Ослабевший от боли и потери крови, Чарли глянул вокруг затуманенным взором — не привиделось ли ему все это в горячечном бреду? Но летучие мыши были настоящими. И их окровавленная добыча лежала лишь в метре от него. Он пытался доказать себе: то не правдоподобное нападение на Грейс Спиви имело какое-то разумное, естественное объяснение, но уверенности в этом не было. Возможно, мыши были заражены бешенством и прилетели на звук выстрела, поскольку все бешеные животные особенно чувствительны и легко возбуждаются от яркого света и громких звуков. Но почему они искусали и разорвали только Грейс, не тронув Джоя, Кристину, Барлоу и его самого? Он посмотрел на Джоя. Мальчик вышел из транса. Он подвинулся к Чубакке, плача, встал перед ним на колени, хотел погладить, но боялся притронуться к безжизненному телу и только беспомощно всплескивал руками. Чарли вспомнил, как в прошлый понедельник в своем офисе он взглянул на Джоя и увидел пустой череп вместо лица. Видение продолжалось доли секунды, и он постарался стереть его из памяти. Если о нем и стоило помнить, то только потому, что оно могло означать, что Джой должен был умереть, но поскольку Чарли не был склонен верить в видения и предзнаменования, то он и не вспоминал об этом. Но теперь вспомнил. Видение должно означать, что Джой сам и был смертью. Такие мысли только подтверждали наличие у него сильного жара. Джой был просто Джоем, ни больше ни меньше. Но Чарли вспомнил крысу в подвале и свой сон той ночью — крысы, предвестники смерти, извергались из груди мальчика. «Все, — сказал он себе. — Я слишком долго был детективом и больше не доверяю никому. Я ищу обман и испорченность даже в самых невинных существах». Джой, лаская собаку, захлебываясь рыданиями, произнес: — Мам, он умер? Этот…, плохой человек…, убил Чубакку? Чарли посмотрел на Кристину. Лицо ее было мокрым от слез, в глазах опять стояли слезы. Она не могла вымолвить ни слова. Противоречивые чувства захватили ее и отражались на прелестном лице: ужас от кровавой смерти Спиви, неверие в их спасение и радость при виде ее невредимого ребенка. Видя эту радость, Чарли устыдился собственных подозрений. Но…, он был детективом, а дело детектива — подозревать. Он пристально смотрел на Джоя, но не видел излучаемого зла, о котором говорила Спиви, не чувствовал в нем ничего чудовищного. Джой был просто шестилетним мальчиком, симпатичным, с милой улыбкой. Он был способен смеяться и плакать, волноваться и надеяться. Чарли видел, что случилось с Грейс Спиви, но он совершенно не боялся Джоя, потому что, черт возьми, не мог сразу поверить в дьяволов, демонов и Антихриста. Как обыватель он всегда интересовался наукой, с детства верил в космические программы, считая, что логика, разум и наука — земной эквивалент христианской Святой Троицы — в один прекрасный день решат все проблемы человечества, раскроют тайны существования, в том числе источник и смысл жизни. И наука, возможно, сумеет объяснить, что же случилось здесь; какой-нибудь биолог или зоолог, специалист по летучим мышам найдет простое логическое объяснение их поведения. Джой ползал вокруг Чубакки, ласкал его, и вдруг собака дернула хвостом, а потом застучала им по полу. — Мама, смотри! Он жив! — закричал Джой. Чубакка потянулся, встал на лапы, встряхнулся. Совсем недавно он казался мертвым, а сейчас даже не шатался. Он встал на задние лапы, передние положил на плечи своего хозяина и стал облизывать его лицо. Мальчик засмеялся, взъерошил собачью шерсть. — Как ты, Чубакка? Хороший пес. Хороший Чубакка. — Чубакка? — удивилась Кристина. — Или Брэнди? Люди Спиви обезглавили Брэнди, и он был с почестями похоронен на собачьем кладбище в Анахейме. А если сейчас пойти на кладбище и открыть могилу, что они найдут? Вдруг ничего? Пустой деревянный ящик? Может, Брэнди воскрес и успел очутиться в питомнике, чтобы Чарли и Джой снова взяли его? Ерунда, оборвала себя Кристина. Блажь. Глупости. Но она не могла избавитьсяот этих болезненных мыслей, а они рождали другие иррациональные соображения. Семь лет назад…, человек на туристическом лайнере. Люциус… Люк? Кто он был на самом деле? Чем занимался? Нет, нет, нет. Невозможно. Она крепко зажмурила глаза, положила руку на лоб. Она была такой уставшей. Опустошенной. Не было сил сопротивляться навязчивому бреду. Она чувствовала, что Грейс заразила ее своим безумием, кружилась голова, мысли путались — так, должно быть, чувствуют себя жертвы малярии. Люк. Многие годы она пыталась забыть его, теперь же — старалась вспомнить. Ему было около тридцати, худощавый, с хорошо развитой мускулатурой. Светлые волосы, выгоревшие на солнце. Ясные синие глаза. Бронзовый загар. Белые ровные зубы. Располагающая улыбка, приятные манеры. В нем присутствовала подкупающая, но отнюдь не оригинальная смесь изощренности и простоты, искушенности и невинности, а вкрадчивыми разговорами он мог добиться от женщин того, чего хотел. Она приняла его за повесу, такое он производил впечатление — молодой калифорнийский повеса. Но даже несмотря на то, что рана кровоточила, силы медленно покидали ее, голова кружилась и рассудок мутился, позволяя безумным обвинениям Спиви завладеть им, она не верила, что Люк был сатаной. Дьявол в облике повесы? Слишком банально, чтобы в это можно было поверить. Если сатана существовал на самом деле, если хотел сына, если хотел, чтобы она выносила этого сына, почему он не пришел к ней ночью в своем реальном обличий? Она не могла бы сопротивляться ему. Почему не взял ее сразу, хлопая крыльями и стуча хвостом? Люк пил пиво и обожал картофельные чипсы. Он справлял нужду, принимал душ и чистил зубы, как любой человек. Иногда его разговоры были утомительными и скучными. Разве дьявол не был бы хотя бы остроумным? Конечно же, Люк был Люком, ни больше ни меньше. Она открыла глаза. Джой хохотал и обнимал Чубакку, счастливый. Такой обычный. «Несомненно, — думала она, — дьявол мог бы испытать порочное удовольствие, используя меня, именно меня, чтобы выносить своего ребенка». Ведь она — бывшая монахиня. Ее брат был священником — и мучеником. Она изменила своему призванию. Она, девственница, отдалась человеку на корабле. Не стала ли она прекрасным объектом, используя который дьявол поиздевался над самой идеей непорочного зачатия? Безумие. Она ненавидела себя за то, что сомневалась в своем ребенке, что поверила болтовне Спиви. И все же…, не изменилась ли ее жизнь к лучшему, как только она забеременела? Она хорошо себя чувствовала: ни простуд, ни головных болей, счастлива и удачлива в бизнесе. Как будто осененная благодатью. Удостоверившись, что с собакой все в порядке, Джой оторвался от Чубакки и подошел к Кристине. Вытирая покрасневшие глаза, он сказал: — Мам, это все? С нами все будет хорошо? Я еще боюсь. Она нехотя посмотрела ему в глаза, но, к своему удивлению, не нашла в них того испуга, от которого ее кровь холодела. Брэнди…, нет, Чубакка подошел к ней и лизнул руку. — Мамочка, — сказал Джой, вставая рядом на колени. — Я боюсь. Что они сделали с тобой? Что они сделали? Ты умрешь? Пожалуйста, не умирай, мамочка, пожалуйста. Она коснулась его лица. Он был испуган, дрожал. Но это было лучше, чем аутический транс. Он прислонился к ней, и она обняла его здоровой рукой. Ее Джой. Ее сын. Ее ребенок. Было потрясающе, невыразимо прекрасно чувствовать, как он уютно прижался к ней. Это было лучше всяких лекарств, прикосновение оживляло ее, проясняло сознание и рассеивало болезненные образы и бредовые страхи, посеянные старухой. Обнимая своего ребенка, чувствуя, как он льнет к ней, она излечивалась от заразы Спиви… Этот мальчик был ее плотью, она дала ему жизнь, и ничего не было для нее дороже его — и не будет.* * *
Кайл Барлоу сполз на пол, привалившись спиной к стене, закрыл лицо руками, стараясь не смотреть на ужасные останки Матери Грейс. Но к нему подошла собака, стала обнюхивать, и он очнулся. Пес лизнул его в лицо, язык у животного был теплым, нос — холодным, как у любой собаки. Забавная морда. Как он мог вообразить, что эта собака — гончий пес ада? — Я любил ее как мать, она изменила мою жизнь, и я оставался с ней, даже когда она была не права, делала что-то плохое и даже когда она начала…, совершать действительно безумные поступки, — сказал Кайл, поражаясь звуку собственного голоса и удивляясь, что он объясняет свое поведение Кристине Скавелло и Чарли Гаррисону. — У нее была…, эта власть. Нельзя отрицать. Она была…, как в кино…, ясновидящей. Знаете? Экстрасенс. Поэтому она и могла преследовать вас и мальчика…, не потому, что бог руководил ею…, и не потому, что мальчик был сыном сатаны…, но потому, что она была просто…, ясновидящей. — Это было то, чего он сам не знал, пока не произнес вслух. Но даже и теперь он не совсем осознавал, что собирается сказать. — У нее были видения. Думаю, не религиозные, как я считал всегда. Не от бога. Не совсем. Может, она об этом знала. А может, и не понимала. Возможно, она верила, что говорит с богом. Знаете, она не хотела делать зло. Она просто не правильно истолковывала свои видения. Ведь существует большая разница между экстрасенсом и Жанной д'Арк. Большая.* * *
Чарли слушал, как Кайл Барлоу открывал перед ними душу, и был странным образом успокоен глубоким, полным раскаяния голосом великана. Успокоение приходило еще и потому, что Барлоу помогал им увидеть последние события без фантастического отсвета битвы при Армагеддоне. Благодаря ему они начинали понимать, что паранормальное явление не обязательно несет на себе печать неестественного и неземного. На Чарли действовали не только необычайно мягкие интонации голоса великана и его доверительный тон, но и повисший легкий дымок — благодаря свету и теплу возникал гипнотический эффект. — Мать Грейс хотела добра, — говорил Кайл. — Она просто запуталась под конец. Запуталась. И, боже, помоги, я шел за ней, хотя сомневался. И чуть не зашел слишком далеко. Чуть…, боже, помоги…, чуть не убил ножом этого маленького мальчика. Знаете…, я думаю, может, ваш Джой…, может, у него есть способности экстрасенса. Знаете? Замечали когда-нибудь? Были какие-то проявления? Я думаю, он сам немного, как Мать Грейс, немного ясновидец или что-то в этом роде, даже если он сам этого не знает, если его сила еще полностью не проявилась…, и именно это она почувствовала в нем…, но не правильно поняла. Наверное, это так. Так можно объяснить. Бедная Грейс. Бедная милая Грейс. Она хотела добра. Верите? Она хотела добра, и я, и все в Церкви. Она хотела добра. Чубакка отвернулся от Кайла и подошел к Чарли, принялся его, обнюхивать. Чарли заметил запекшуюся кровь на ушах собаки: значит, Барлоу очень сильно ударил ее прикладом, но тем не менее Чубакка вроде бы пришел в себя. Несомненно, он пережил сильное сотрясение, но уже твердо стоял на ногах. Пес посмотрел ему в глаза. Чарли нахмурился. — Она хотела добра. Хотела добра, — повторил Кайл, закрыл лицо руками и заплакал. Свернувшись калачиком возле матери, Джой сказал: — Мамочка, я боюсь его. О чем он говорит? Я боюсь! — Все хорошо, — успокоила его Кристина, — все хорошо, капитан. К удивлению Чарли, Кристина нашла в себе силы сесть и, немного подвинувшись, прислонилась к стене. Она была слишком измучена, чтобы двигаться, даже говорить. Но лицо ее уже не было таким бледным. Все еще шмыгая носом, вытирая его рукавом, а глаза — маленьким кулачком, Джой спросил: — Чарли? Как ты? Хотя уже нечего было опасаться Спиви и ее людей, Чарли все еще был уверен, что умрет в этой пещере. Он совсем плох, однако пройдут часы, прежде чем вызовут помощь и она доберется сюда. Ему не выдержать так долго. Все же он постарался улыбнуться Джою и голосом, таким слабым, что он сам испугался, ответил: — Хорошо. Мальчик остановился около Чарли. — Магнум не сделал бы лучше тебя. Джой сел, взял Чарли за руку. Тот вздрогнул от боли, но сейчас же ему стало хорошо, очень хорошо, а потом на несколько минут Чарли потерял сознание или просто провалился в сон, он не понял. Когда он очнулся, Джой опять был возле матери, а Кайл Барлоу куда-то собирался. — Что случилось? — спросил Чарли. — Что теперь? Кристина обрадовалась, что он пришел в себя. — Мы с тобой не сможем выбраться отсюда самостоятельно. Нам нужны носилки. Мистер Барлоу идет за помощью. Барлоу доверительно улыбнулся — улыбка казалась странной на его грубом лице. — Снег перестал и ветра нет. Если я пойду по лесной тропе, то через несколько часов спущусь вниз и доберусь до жилья. Может, я сумею найти команду горноспасателей до наступления темноты и вернусь с ними. Уверен, что смогу. — Вы берете Джоя с собой? — спросил Чарли. Он отметил, что голос его окреп, слова давались уже не с таким трудов как несколько минут назад. — Вы выведете его? — Нет, — сказала Кристина, — Джой остается с нами. — Без него я пойду быстрее, — подтвердил Барлоу. — Кроме того, вам нужно, чтобы время от времени он подбрасывал дрова в огонь. — Я позабочусь о них, мистер Барлоу, — сказал Джой. — Можете рассчитывать на меня. На Чубакку и на меня. Собака тихо заурчала, словно присоединяясь к обещанию мальчика. Барлоу одарил мальчика еще одной улыбкой уродливого лица, и Джой улыбнулся в ответ. Он воспринял перемену в великане с большей готовностью, чем Чарли, и его доверие было естественным и казалось взаимным. Барлоу ушел. Несколько минут они сидели молча. Они даже не смотрели на труп Грейс Спиви, будто это был просто камень. Стиснув зубы, приготовившись к мучительной боли и будучи почти уверен, что не сумеет этого сделать, Чарли попытался сесть. Раньше у него не хватало сил, теперь же он легко изменил положение. Боль от пули в плече, к его удивлению, отступила и стала тупой, он мог терпеть ее. Другие раны и ушибы беспокоили его, но не так, как раньше, они не высасывали из него силы. Он чувствовал, что…, будто оживает…, и знал, что продержится, пока не прибудет команда спасателей и не заберет их в больницу. Он раздумывал, не стало ли ему лучше благодаря Джою: мальчик подошел к нему, взял за руку, он проспал несколько минут, а когда очнулся, был…, частично исцелен. Обладал ли ребенок необычными способностями? Если да, они были недостаточно развиты, потому что к Чарли не вернулось полностью здоровье: пулевое ранение не затянулось, ушибы и порезы не исчезли; он чувствовал себя только немного лучше. Само несовершенство целительства Джоя, казалось, подвергало сомнению то, что сказал Барлоу о присущем ему даре. Но скорее это несоответствие показывало, что мальчик не ведал о своих способностях, они выражались бессознательно, а это означало, что он был просто маленьким мальчиком, наделенным необычным талантом. Если бы он был Антихристом, он имел бы неограниченную волшебную силу и мог бы быстро и полностью исцелить свою мать и Чарли. Разве нет? Конечно, мог бы. Чубакка вернулся к Чарли. В его ушах еще была запекшаяся кровь. Чарли посмотрел ему в глаза. Приласкал его. Рана Кристины больше не кровоточила, и боль оставила ее. В голове прояснилось. С каждой минутой в ней росла убежденность, что своим спасением они были обязаны не вмешательству сверхъестественных сил, а собственной невероятной решимости и выносливости. К ней возвращалась уверенность в собственных силах, и она вновь обретала веру в будущее. Всего на несколько мгновений, когда Спиви нависла над Джоем, Кристина, беспомощная, истекавшая кровью, поддалась несвойственному ей отчаянию. Она была настолько угнетена и подавлена, что на мгновение, когда летучие мыши, рассвирепевшие от выстрелов, напали на Спиви, она подумала, не может ли оказаться, что Джой действительно был тем, кем провозглашала его старуха. Боже милостивый! Сейчас, когда Барлоу отправился за помощью, когда боль улеглась, когда она находила все больше сходства между своей судьбой и Чарли, наблюдая, как Джой неуклюже подбрасывает в костер сухие сучья, она изумилась, как такие темные и пустые страхи могли прийти ей в голову. Просто она была так измучена, слаба и подавлена, что не могла противостоять одурманивающим рассудок чарам Спиви. И хотя этот момент истерии остался в прошлом и к ней вернулось душевное равновесие, от одного сознания, что она — пусть ненадолго — могла послужить благодатной почвой для безумных фантазий Спиви, по спине у нее пробегал холодок. Как просто такое могло произойти: одна безумная проповедует свои бредовые фантазии среди легковерных, и вот уже перед ней целая истеричная толпа, в данном случае секта, которая уверовала в то, что руководствуется самыми лучшими побуждениями и не сомневается в собственной праведности. Теперь Кристина понимала: дьявол скрывался не в ее мальчике, а в фатальной предрасположенности людей к поиску легких, пусть даже иррациональных ответов. — Думаешь, Барлоу можно доверять? — спросил Чарли, сидевший у противоположной стены пещеры. — Думаю, да, — ответила Кристина. — А вдруг он еще раз передумает по дороге? — По-моему, он пришлет помощь. — Если он снова пересмотрит свое отношение к Джою, ему не нужно будет даже возвращаться сюда. Он просто оставит нас здесь, предоставив холоду и голоду довершить дело за него. — Он вернется, я могу поспорить, — сказал Джой, который подбросил сучьев в огонь и теперь потирал маленькие ладошки. — По-моему, он все-таки неплохой парень. Правда, мам? Правда, он неплохой парень? — Да, малыш, — Кристина улыбнулась. — Он неплохой парень. — Вроде нас, — сказал Джой. — Вроде нас, — согласилась она.* * *
Прошло уже несколько часов, хотя до наступления темноты было еще далеко. Послышался шум летящего вертолета. — Они приземлятся на поляне и оттуда на лыжах двинутся к нам, — предположил Чарли. — Мы едем домой? — спросил Джой. — Да, малыш, едем домой. Надевай куртку и перчатки, собирайся, — сквозь слезы облегчения и радости сказала Кристина. Мальчик бросился к сваленной в углу теплой одежде. Обращаясь к Чарли, Кристина сказала: — Спасибо тебе. — Я подвел вас, — откликнулся он. — Нет. Конечно, в конце нам сопутствовала удача… Нерешительность Барлоу, а потом летучие мыши. Но если бы не ты, нам бы не дожить до этого. Ты действовал как надо. Я люблю тебя, Чарли. Он не решался ответить тем же, потому что обнять ее можно было, только обняв и Джоя, а с мальчиком он все еще чувствовал себя немного скованно, хотя изо всех сил старался поверить в то, что объяснение Барлоу было правдой. Джой, наморщив лоб, подошел к Кристине; тесемки на его капюшоне висели слишком свободно, а он никак не мог развязать узел, чтобы затянуть их потуже. — Мам, зачем на капюшоне эти шнурки от ботинок? Кристина, улыбаясь, взялась помогать ему. — Я думала, ты уже умеешь завязывать шнурки. — Конечно, умею, — гордо сказал мальчик, — но они должны быть на ногах. — Боюсь, что тебя нельзя будет назвать большим мальчиком, пока ты не научишься завязывать шнурки, независимо от того, где они находятся. — Черт. Тогда мне никогда не стать большим. — Ну, ты и не заметишь, как вырастешь, — сказала Кристина, завязав тесемки. Чарли смотрел, как она обняла сына. Он вздохнул и покачал головой. — Я тоже люблю тебя, Кристина. Честное слово, люблю, — промолвил он.* * *
После двух дней в больнице Рено, после бесконечных врачей и медсестер, после нескольких интервью полиции и одного прессе, после двух ночей, когда ему удавалось уснуть, только приняв снотворное, Чарли наконец уснул сам, без всяких лекарств. Он спал, и ему снилось, что он занимается любовью с Кристиной; и это была не просто сексуальная фантазия, а скорее воспоминание о той ночи в хижине. Никогда он не предавался любви с такой полнотой, как той ночью с Кристиной; а на следующий день она неожиданно для самой себя призналась ему, что ей никогда и в голову не могло прийти вести себя с другими мужчинами так, как она вела себя с ним. И теперь, во сне, они соединились с той же ошеломляющей страстью и силой, отбросив всякую сдержанность. Но во сне, так же, как и в реальности, было что-то…, дикое, свирепое, животное, словно секс, соединивший их, был больше, чем проявление любви или влечения, словно это был ритуал полного подчинения его души Кристине, а следовательно, и Джою. Когда Кристина оказалась сверху и он глубоко проник в нее, фантазия отделилась от реальности — пол под ними разверзся, вдоль дивана прошла трещина, которая становилась все шире; и хотя оба — и Кристина, и Чарли — сознавали опасность, но ничего не могли сделать, чтобы спастись, а лишь теснее прижимались друг к другу; а трещина увеличивалась, и они вдруг поняли, что внизу притаилось что-то ужасное и алчное; Чарли хотел выйти из нее, бежать, кричать, но не мог, а лишь плотнее прижимался к ней; а диван рушился в образовавшуюся пропасть, и они падали вниз, и пол хижины смыкался над ними… Он рвался с больничной постели, задыхался и хватал руками воздух. На соседней кровати, посапывая, крепко спал человек. В палате было темно, несмотря на маленькие ночники, горящие в ногах каждой постели, и тусклый лунный свет в окне. Чарли прислонился к спинке кровати. Постепенно сердцебиение стало тише; дыхание нормализовалось. Он был мокрый от пота. Вместе с этим сном к Чарли вернулись все его сомнения, касающиеся Джоя. В тот день из Оранжа прилетела Вэл Гарднер и забрала мальчика с собой; Чарли было искренне жаль расставаться с ним. Он был такой милый, добродушный, в нем было столько наивного детского озорства, что персонал клиники привязался к нему всем сердцем, а Чарли его частые визиты помогали коротать время. Но теперь после ночного кошмара, возникшего в результате его подсознательных переживаний, Чарли снова был в мучительном смятении. Он привык думать о себе как о человеке добром, совершающем благие поступки, старающемся по мере сил помогать невиновным и наказывать виноватых. Именно поэтому его привлекала деятельность частного сыщика. Сэм Спейд, Филипп Марлоу, Лью Арчер, Чарли Гаррисон: эти люди были известны как высоконравственные, достойные восхищения, возможно, в чем-то даже герои. Итак. Что, если? Что, если это Джой вызвал летучих мышей? Что, если Чубакка — это Брэнди, который дважды погибал и которого дважды оживлял его хозяин? Что, если Джой был не подсознательным экстрасенсом, как полагал Барлоу, а демоном, как утверждала Спиви? Безумие. Но все же? Как должен вести себя добрый человек в подобной ситуации? Какие действия будут правильными?* * *
Несколько недель спустя апрельским вечером Чарли оказался на кладбище домашних животных, где был похоронен Брэнди. Он появился там после закрытия, когда уже стемнело; с собой у него были мотыга и лопата. Он нашел могилку с маленькой мемориальной доской, как и говорила Кристина, на холмике между двумя индийскими лаврами; трава в лунном свете казалась серебряной. БРЭНДИ Любимой собаке и другу Чарли постоял, рассматривая могилу, — ему очень не хотелось приступать к задуманному, но он понимал, что выбора нет. Он не обретет покой, пока не узнает правды. Кладбище окутывала ночная мгла и сверхъестественная тишина; здесь спали вечным сном кошки, собаки, хомяки, попугаи, кролики и морские свинки. Дул мягкий прохладный ветер. Слегка шевелились ветви деревьев, издавая чуть слышный шорох. Чарли снял куртку, поставил фонарь и взялся за дело. Его рана быстро заживала, значительно быстрее, чем предсказали врачи, но все же он еще не обрел прежней формы, и вскоре мускулы заныли от физической работы. На глубине чуть больше полуметра лопата ударилась обо что-то твердое и пустое. Через несколько минут Чарли откопал гроб — грубый сосновый ящик, белевший в лунном свете, на фоне черной земли. Чарли знал, что на кладбище предлагали два вида услуг: захоронение в гробу и без него. В обоих случаях животное заворачивали в полотно и помещали в холщовый мешок на «молнии». Очевидно, Кристина с Джоем предпочли полную программу и такой мешок сейчас находился в этом ящике. Но были ли в мешке останки Брэнди или он был пуст? Чарли не заметил пятен гниения, но это было и неудивительно, если мешок влагозащитный и наглухо закрыт. Он с минуту просидел на краю могилы, как будто для того, чтобы перевести дыхание. На самом деле он просто тянул время. Ему было страшно открывать ящик, но не потому, что его мутило от предстоящей возможности увидеть тронутые тлением останки золотистого ретривера, напротив, он боялся, что ничего там не найдет. Может, лучше остановиться, засыпать могилу и уйти? Может, это неважно, кто на самом деле Джой Скавелло? В конце концов, некоторые теологи утверждают, что дьявол, будучи падшим ангелом и, следовательно, от природы добродетельным, не злонамерен, а всего лишь отличен от бога. Он вспомнил строки из Сэмюэла Батлера, которого любил читать, когда учился в колледже: «Апология дьявола: следует помнить, что мы выслушали лишь одну сторону. Ведь все книги написаны богом». Пахло влажной землей. Луна наблюдала за ним. Наконец он отодрал крышку от ящика. Внутри лежал застегнутый на «молнию» мешок. Чарли растянулся на земле над ямой и нерешительно взялся за него. Он словно играл в жмурки со смертью, изучая контуры трупа, и наконец убедил себя, что внутри находилось тело собаки, размеры которой соответствовали размерам взрослого ретривера. Довольно. Этого было достаточно. Он нашел необходимое доказательство. Одному богу известно, зачем это ему понадобилось, но он нашел его. Его преследовало чувство, будто ему…, ведено свыше установить истину; им двигало не простое любопытство, но ощущение необходимости, продиктованное откуда-то извне, некое побуждение, которое возникает, говорят, когда длань господня простирается над тобой. Но он предпочитал не думать об этом и обойтись без категорических формулировок. Последние несколько недель Чарли жил под грузом непреодолимого желания, настойчиво призываемый внутренним голосом совершить поездку на это кладбище. Наконец он сдался и обрек себя на исполнение дурацкого плана, и то, что он нашел, свидетельствовало не о дьявольских кознях, а о его собственной глупости. Хотя вокруг не было ни души и никто не мог увидеть его за этим занятием, он покраснел от стыда. Брэнди не выходил из могилы. Чубакка был другой собакой. Подозревать иное было бы глупо. Все убедительно подтверждало невинность Джоя; не имело смысла открывать мешок и лицезреть отвратительные останки. А что, если бы могила оказалась пустой, подумал Чарли. Ему что, пришлось бы тогда убить мальчика, чтобы уничтожить Антихриста и избавить мир от Армагеддона? Какой вздор. Он не смог бы совершить подобного, даже если господь бог предстал бы перед ним в развевающемся балахоне, с пламенеющей бородой и высеченным на скрижалях смертным приговором. Чарли самого били родители, и он знал, что значит быть жертвой. Преступление, возмущавшее его больше любого другого, — преступление против ребенка. Даже если бы могила оказалась пустой, что свидетельствовало бы о правоте Спиви, Чарли не стал бы охотиться за мальчиком. Он не мог превзойти своих родителей и пасть до того, чтобы убить ребенка. Какое-то время, возможно, он смог бы мириться с сознанием совершенного им, убеждая себя, что Джой был не просто маленький мальчик, а воплощенный дьявол. Но потом неизбежно возникнут сомнения. Он начнет думать, что непостижимое поведение летучих мышей — всего лишь плод его воображения, а пустая могила утратит значение первостепенной улики, и все прочие символы и знамения будут казаться не более чем самообманом. Он начнет убеждать себя, что в Джое не было никакого демонизма, а лишь божий дар, что он вовсе не был одержим дьяволом, а имел лишь неординарные способности экстрасенса. Он неизбежно придет к выводу, что убил не порождение дьявола, а всего лишь незаурядного, но все равно невинного ребенка. И тут-то, по крайней мере для него, ад на земле станет реальностью. Чарли лежал вниз лицом на сырой земле. Он смотрел в глубину собачьей могилы. Что-то завернутое лежало в ящике из светлых сосновых досок, темный куль, в котором могло оказаться все, что угодно, но его руки подсказывали ему, что это собака, и уже не было ровным счетом никакой необходимости вскрывать мешок. Лунный свет выхватил из тьмы застежку на мешке, которая блеснула, словно холодный остекленевший глаз. Даже если он откроет мешок и найдет там только груду камней, или, еще хуже, что-нибудь невыразимо ужасное, безусловно доказывающее сатанинское происхождение Джоя, он все равно не сможет взять на себя роль божьего мстителя. Был ли он обязан сохранять преданность богу, который смотрит сквозь пальцы на людские мучения? Где был этот бог, когда он сам, будучи еще ребенком, страдал от побоев, бесконечного одиночества и страха? Может ли жизнь стать еще хуже просто оттого, что на небе сменится власть? Он вспомнил название механической копилки Дентона Бута: «В мире ослов нет справедливости». Возможно, чтобы наступила справедливость, нужны перемены. Но, так или иначе, он не верил, что миром правит бог или дьявол. Он не верил в священные монархии. И от этого его присутствие здесь выглядело еще смешнее. Тускло блестела застежка-«молния». Он перевернулся на спину, чтобы не видеть этого блеска. Он поднялся и взял крышку. Он закроет ящик, и засыплет могилу землей, и отправится восвояси, и взглянет на эту ситуацию с позиций здравого смысла. Он замер в нерешительности. Черт побери. Проклиная свою одержимость, Чарли снова положил крышку на землю. Опустил руки в могилу и вытащил мешок. Расстегнул «молнию», которая прострекотала, словно кузнечик. Его колотила дрожь. Откинул погребальную ткань. Включил фонарь. Не хватало воздуха. Что за чертовщина?.. Трясущейся рукой направил луч на надгробие и в неверном свете еще раз прочитал эпитафию, потом снова осветил содержимое мешка. Мгновение он раздумывал, как отнестись к своей находке, но постепенно рассудок его прояснился, и он отвернулся от могилы, от разлагавшегося трупа, источавшего сногсшибательную вонь; подавил в себе рвотный позыв. Когда приступ тошноты прошел, он принялся дрожать, но теперь скорее от смеха, чем от страха. Он стоял среди ночной тишины, один на кладбище домашних животных, взрослый мужчина в плену детских предрассудков, и чувствовал себя так, словно с ним сыграли злую шутку, от которой ему самому стало чертовски весело, хотя его и выставили на посмешище. Собака в могиле Брэнди оказалась ирландским сеттером, а не золотистым ретривером, никаким не Брэнди, а это означало, что люди, отвечавшие за похороны, перепутали все на свете и захоронили Брэнди в чужую могилу, а на его место закопали сеттера. Обернутых холстиной собак не отличить одну от другой, и ошибка могильщиков казалась не просто объяснимой, но даже неизбежной. Видно, этот человек был невнимателен, или — что более вероятно — прикладывался к бутылке, так что было бы неудивительно, если бы оказалось, что множество собак покоятся здесь под чужими плитами. В конце концов, собачьи похороны были мероприятием не столь важным, как похороны бабушки или тети Эммы, а следовательно, и процедура выполнялась не так тщательно. Тщательность была не та. Чтобы найти место, где на самом деле был погребен Брэнди, Чарли пришлось бы идентифицировать сеттера и разрыть вторую могилу, а оглядев ряды с сотнями низких надгробий, он понял, что задача эта совершенно невыполнима. Кроме того, все уже было неважно. Халатность могильщика подействовала на него отрезвляюще; привела Чарли в чувство. Неожиданно он увидел в собственных действиях пародию на героя старых комиксов ужасов, рыщущего по кладбищам в поисках…, кого бы вы думали? Собаки графа Дракулы? Ему стало так смешно, что он должен был сесть, чтобы не упасть от смеха. Говорят, пути господни неисповедимы, так, может, и пути дьявола неисповедимы, — но Чарли не мог поверить, что дьявол был настолько неисповедим, хитер, умен, коварен — и откровенно глуп, чтобы запутать следы при помощи ошибки кладбищенского могильщика. С таким же успехом он мог попытаться купить чью-то душу, предложив взамен набор вкладышей от жевательной резинки с изображением игроков бейсбольных клубов; такого демона невозможно воспринимать всерьез. Почему же он отнесся к этому так серьезно? Неужели религиозная мания Грейс Спиви оказалась заразной? Неужели он подцепил апокалиптическую лихорадку? Смех возымел очищающий эффект, и, вдоволь нахохотавшись, Чарли почувствовал себя значительно лучше, так хорошо, как не чувствовал ни разу на протяжении последних недель. Лопатой он столкнул труп собаки обратно в яму. Затем опустил сверху крышку, забросал могилу землей, притоптал, вытер лопату о траву и вернулся к машине. Он не обнаружил то, что искал, а возможно, не узнал и правду, но он нашел, в большей или меньшей степени, то, что надеялся найти, — выход, приемлемый ответ, нечто, с чем он мог жить дальше, разрешение от бремени.* * *
Начало мая в Лас-Вегасе — прекрасное время: изнуряющая жара лета еще впереди, а холодные зимние ночи — позади. Теплый сухой воздух развеял последние воспоминания о кошмарной погоне в горах Сьерры. Утром в первую среду месяца Чарли и Кристина обвенчались в восхитительно безвкусной, шумной церкви рядом с казино, что ужасно веселило их обоих. Они хотели, чтобы свадьба была не торжественной пышной церемонией, а началом радостного приключения, которое лучше всего было начать весело. Кроме того, решив пожениться, они хотели сделать это немедленно, и никакое место, кроме Вегаса, с его либеральными законами о браке, не подошло бы им лучше. Они приехали в Вегас накануне вечером и сняли небольшой номер в «Бейли Гранд», и за несколько часов город, казалось, подарил им много предзнаменований будущей совместной жизни. Перед ужином Кристина опустила в игральный автомат четыре жетона по двадцать пять центов и, хотя играла впервые, сорвала банк в тысячу долларов. Позже они играли в малый блэк-джек и выиграли враз еще почти тысячу. Утром, выходя из кафе после отменного завтрака, Джой нашел серебряный доллар, кем-то оброненный, и считал, что теперь он гораздо богаче, чем его мама и Чарли: «Целый доллар!» Они взяли Джоя с собой, потому что Кристина не допускала мысли о разлуке с ним. Недавно пережитое, когда она чуть не потеряла мальчика, все еще довлело над ней, и если она не видела его больше двух часов, начинала нервничать. «Придет время, — говорила она Чарли, — и я смогу немного расслабиться. Но не теперь. Придет время, и мы уедем вместе, только мы вдвоем, а Джоя оставим с Вэл. Но не теперь. Еще не сейчас. Если ты хочешь взять меня в жены, придется нам проводить медовый месяц втроем. Это романтично?» Чарли не возражал. Он любил мальчика. С Джоем приятно было проводить время: он был послушным, любознательным, сообразительным и ласковым ребенком. На церемонии Джой был шафером, и ему очень нравилась его роль. Он с серьезным лицом торжественно нес кольцо, а в нужный момент отдал его Чарли с такой широкой и теплой улыбкой, которая, казалось, могла расплавить золото кольца. Когда официальная часть закончилась и под звуки «Радости к миру» Уэйна Ньютона они покидали церковь, было решено отпустить заказанный лимузин и пойти до гостиницы пешком. День был теплым, небо — голубым, не считая нескольких редких белых облачков, и даже музыка, гремящая в барах по обе стороны бульвара Лас-Вегас, не раздражала. — Как насчет свадебного обеда? — поинтересовался Джой. — Ты же завтракал два часа назад, — сказал Чарли. — Я расту. — Верно. — А как ты представляешь хороший свадебный обед? — спросила Кристина. Джой немного подумал, потом сказал: — Биг-мак и баскин-роббинс. — Ты знаешь, что с тобой может случиться, если ты будешь есть слишком много биг-маков? — сказала Кристина. — Что? — спросил мальчик. — Когда вырастешь, будешь как Рональд Макдональдс. — Верно, — подтвердил Чарли. — Большой красный нос, рыжие волосы и толстые красные губы. Джой засмеялся: — Здорово! Хотел бы я, чтобы Чубакка был здесь. — Я уверена, что Вэл хорошо заботится о нем, милый. — Да, но он не слышит наших шуток. Они шли по тротуару, Джой — между ними, и даже в это время дня горели вывески и реклама. — Я вырасту, и у меня будут ноги как у клоуна? — спросил Джой. — Точно, — ответил Чарли, — двадцать восьмого размера. — Невозможно будет водить машину, — предупредила Кристина. — Или танцевать, — подхватил Чарли. — Я не люблю танцевать, — парировал Джой. — «Не люблю девчонок. — Ну, через несколько лет полюбишь, — пообещала мать. Джой нахмурился. — Чубакка говорит то же самое, но я не верю. — О, Чубакка, значит, разговаривает? — подтрунивала Кристина. — Ну… — И он разбирается в девочках? — Ну, хорошо, если ты хочешь знать, — сказал Джой. — Я признаюсь, что я просто притворяюсь, что он разговаривает. Чарли засмеялся и подмигнул жене. — А если я буду есть много биг-маков, у меня и руки будут как у клоуна? — не унимался Джой. — Ну да, — ответил Чарли. — И ты не сможешь завязывать шнурки на ботинках. — Или ковырять в носу, — добавила Кристина. — Я не ковыряю в носу, — возмутился Джой. — А знаешь, что Вэл сказала о ковырянии в носу? — Нет. Что? — спросила Кристина, и Чарли заметил, что она немного боится ответа, потому что у Вэл мальчик всегда подхватывал разные словечки. Джой сощурился от лучей солнца, будто старался точнее вспомнить высказывание Вэл. Потом произнес: — Она сказала, что в носу ковыряют лодыри, психи, налоговые инспекторы и ее бывший муж. Чарли и Кристина посмотрели друг на друга и засмеялись. Так хорошо было смеяться. Джой сказал: — Знаете, если вы хотите побыть…, ммм…, одни, можете оставить меня в игровой комнате в гостинице. — Я не возражаю. Там здорово. Всякие игры и прочее. А может, вы хотите поиграть в карты или на том автомате, где мама выиграла вчера? — Я думаю, мы, пожалуй, остановимся, пока не проигрались, милый. — А я думаю, вы должны играть, мам. Спорим, вы выиграете. Гораздо больше. Правда. Я знаю, что выиграете. Я просто знаю, — сказал мальчик. Солнце снова выглянуло из-за редких белых облаков, осветило мостовую, отразилось в хромированных панелях и стеклах проезжающих автомобилей, преобразив обшарпанные гостиницы и казино и наполнив воздух фантастическим мерцанием. Эта история заканчивалась при ярком свете дня, а не темной, непогожей ночью.
ДВЕРЬ В ДЕКАБРЬ (роман)
Дьявольский эксперимент открыл дверь в наш мир чему-то ужасному. И когда ОНО приходило за очередной жертвой, ледяное дыхание иной реальности вымораживало не только воздух вокруг, но и души людей… Детектив Дэн Холдейн, переживший множество потерь и поражений, но так и не сумевший примириться с насилием, на этот раз решил сделать все, чтобы спасти от неведомого врага девятилетнюю Мелани Маккэфри и ее очаровательную и мужественную мать Лауру. Но ненависть и жажда мести толкают таинственного убийцу на все новые преступления. ОНО приближается…
Часть I. СЕРАЯ КОМНАТА Среда 2.50-8.00
Глава 1
Одевшись, Лаура метнулась к входной двери и, открыв ее, увидела, как к тротуару перед ее домом подкатила патрульная машина управления полиции Лос-Анджелеса. Она вышла на крыльцо, захлопнула дверь, сбежала по ступенькам, и ее каблучки зацокали по дорожке. Длинные стрелы холодного дождя пригвоздили ночь к городу. Зонтик она с собой не взяла. Не помнила, в какой стенной шкаф засунула его, и не хотела тратить время на поиски. Раскаты грома прокатывались по темному небу, но она едва замечала это зловещее громыхание. Для нее самыми громкими ночными звуками были удары собственного сердца. Водительская дверца черно-белого автомобиля открылась, из кабины вышел полицейский в форме. Увидев ее, вернулся за руль, перегнулся через пассажирское сиденье и открыл дверцу со стороны тротуара. Она села рядом с полицейским, захлопнула дверцу. Холодной, трясущейся рукой откинула с лица прядь мокрых волос, заложила за ухо. Патрульная машина благоухала дезинфицирующим средством с запахом сосны, сквозь который пробивалась вонь блевотины. — Миссис Маккэффри? — спросил молодой полицейский. — Да. — Карл Куэйд. Я отвезу вас к лейтенанту Холдейну. — И к моему мужу? — озабоченно спросила она. — Об этом я ничего не знаю. — Мне сказали, что они нашли Дилана, моего мужа. — Вполне возможно. Лейтенант Холдейн вам все расскажет. Она поперхнулась, прикрыла рот рукой. — Прошу извинить за вонь. Этим вечером арестовал парня за управление автомобилем в пьяном виде, так он еще и повел себя как свинья. Ее желудок поднялся к горлу вовсе не из-за запаха. Ей стало нехорошо совсем по другой причине: несколько минут назад кто-то из полицейских сообщил по телефону, что они нашли ее мужа, но не упомянул Мелани. А если Мелани не с Диланом, то где она? Потерялась? Умерла? Нет. Немыслимо. Лаура, прижимая руку ко рту, скрипнула зубами, задержала дыхание, подождала, пока тошнота отступит. — Куда… куда мы едем? — В один дом в Студио-Сити. Недалеко. — В котором они нашли Дилана? — Если вам сказали, что нашли его, скорее всего, да. — Как смогли они его засечь? Я не знала, что его искали. Полиция сказала мне, что повода вмешиваться у них нет… Это не по их части. Я уже думала, что у меня нет шансов когда-нибудь увидеть его… или Мелани. — Вам нужно поговорить с лейтенантом Холдейном. — Дилан, должно быть, ограбил банк. — Она не скрывала горечи. — Похищения ребенка у матери недостаточно для того, чтобы привлечь полицию. — Пристегните ремень безопасности, пожалуйста. Лаура нервно схватилась за ремень, защелкнула его, Куэйд отъехал от тротуара, развернулся на пустынной, залитой дождем улице. — Так что вы можете сказать о Мелани? — спросила она. — О ком? — О моей дочери. Она в порядке? — Извините, я и об этом ничего не знаю. — Так ее не было с моим мужем? — Думаю, что нет. — Я не видела ее… почти шесть лет. — Спор об опеке? — спросил он. — Нет. Он ее похитил. — Правда? — Ну, закон называет это спором об опеке, но, по моему разумению, это похищение, и ничто другое. Злость и негодование охватывали ее, как только она начинала думать о Дилане. Лаура постаралась отогнать эти чувства, постаралась не испытывать к нему ненависти, потому что в голову внезапно пришла безумная мысль: Бог наблюдает за ней, Он судит о ней по чувствам и делам, и, если она позволит ненависти накрыть ее с головой или злобе заполнить разум, Он решит, что она недостойна воссоединения с маленькой дочерью. Безумие, конечно. Но она ничего не могла с собой поделать. Страх сделал ее безумной. И отнял у нее все силы. Она так ослабела, что не могла набрать полную грудь воздуха. Дилан… Лаура задалась вопросом, чего ждать от первой за столько лет встречи лицом к лицу. Он попытается объяснить свое предательство? И что скажет она? Сможет выразить словами переполняющие ее ярость и боль? Дрожь начала бить Лауру после телефонного звонка, но теперь ее просто трясло. — Вы в порядке? — спросил Куэйд. — Да, — солгала она. Куэйд промолчал. С включенной мигалкой, но без сирены, они мчались по залитой дождем западной части города. Если пересекали глубокую лужу, вода летела в обе стороны, покрываясь белой пеной. — Ей сейчас уже девять лет, — нарушила затянувшееся молчание Лаура. — Моей дочери. Я не могу сказать, как Мелани сейчас выглядит. В последний раз видела ее трехлетней. — Извините. Я не заметил там маленькой девочки. — Каштановые волосы. Зеленые глаза. Коп промолчал. — Мелани должна быть с Диланом! — воскликнула Лаура, разрываясь между радостью и ужасом. Радовалась, что снова увидит дочь, боялась, что она мертва. Лауре так часто снился такой сон: она находит обезображенный труп Мелани. И теперь она подозревала, что сон этот — вещий, знак свыше. — Она должна быть с Диланом. С ним она провела все эти годы, шесть долгих лет, так почему сейчас ей не быть с ним? — Мы будем на месте через несколько минут, — разлепил губы Куэйд. — Лейтенант Холдейн ответит на все ваши вопросы. «Они не стали бы будить меня в половине третьего ночи, вытаскивать из дома в грозу, если бы не нашли и Мелани. Уверена, что не стали бы». Куэйд смотрел на дорогу, и его молчание пугало ее сильнее любых слов. Скрипучие «дворники» не могли полностью очистить лобовое стекло. Прилипшая к нему жировая пленка искажала окружающий мир, и Лауре казалось, что едут они во сне, а не наяву. У нее вспотели ладони. Она вытерла их о джинсы. Чувствовала, как пот выступает под мышками, течет по бокам. Вновь скрутило желудок, тошнота снова подкатила к горлу. — Она ранена? У нее серьезная травма? Так? Поэтому вы не хотите ничего о ней говорить? Куэйд искоса глянул на нее. — Честное слово, миссис Маккэффри, я не видел в доме маленькой девочки. Я от вас ничего не скрываю. Лаура обмякла, откинувшись на спинку сиденья. Слезы уже выступили на глазах, но она приказала себе не плакать. Слезы означали бы признание в том, что она потеряла всякую надежду найти Мелани живой, а если она теряла надежду (еще одна безумная мысль), то на нее ложилась ответственность за смерть ребенка, потому что (еще безумнее) Мелани, возможно, продолжала существовать, как Динь-Динь в сказочной повести «Питер Пэн», поддерживаемая лишь постоянной и страстной верой. Лаура понимала, что охвачена тихой истерией. Сама идея о том, что жизнь Мелани зависит от материнской веры и сдерживания слез, была нелепой и иррациональной, но Лаура ухватилась за нее, подавила слезы, снова и снова твердила себе, что Мелани жива. «Дворники» монотонно поскрипывали по стеклу, дождь глухо барабанил по крыше, шины шуршали по мокрой мостовой, а Студио-Сити, похоже, находился никак не ближе Гонконга.* * *
Они свернули с бульвара Вентуры вСтудио-Сити, район, где смешалось множество архитектурных стилей: испанский, кейп-код, колониальный, постмодерн. Название свое эта часть города получила в честь «Рипаблик студиос», с которой началась киноиндустрия и где до телевизионной эры снимались многие малобюджетные вестерны. Новыми жителями Студио-Сити становились сценаристы, художники, операторы, музыканты, техники, беженцы из районов, которые все более приходили в упадок, и теперь, при строительстве домов, они устраивали негласное соревнование со старожилами Студио-Сити. То есть ни о каком стилевом единообразии не могло быть и речи. Патрульный Куэйд остановил машину перед скромным домом-ранчо на тихой боковой улице, усаженной деревьями. Часть из них по случаю зимы осталась без листвы, другие, вечнозеленые, ее сохранили. Несколько автомобилей стояли у тротуара, включая два «Форда»-седана горчичного цвета, две черно-белые патрульные машины, один серый фургон с гербом города на борту. Но взгляд Лауры поймал и приковал другой фургон, с надписью «КОРОНЕР»[32] на задних дверцах. О господи, пожалуйста, нет. Нет! Лаура закрыла глаза, стараясь поверить, что все это — часть сна, из которого так резко вырвал ее телефонный звонок. Собственно, звонок из полиции вполне мог быть частью кошмара. В этом случае патрульный Куэйд был еще одной его частью. И этот дом тоже. Ей надо только проснуться, и тогда все исчезнет: и звонок, и телефонный разговор, и Куэйд, и дом, и все, все, все. Но, когда Лаура открыла глаза, фургон коронера остался на прежнем месте. Окна дома были закрыты плотными портьерами, но фронтон озарялся ярким светом портативных прожекторов, серебрившим вьюны, которые закрывали стены. На тротуаре стоял полицейский в дождевике. Еще один находился под свесом крыши над площадкой перед входной дверью. Им поставили задачу не подпускать к дому зевак, но плохая погода и поздний час взяли эту работу на себя. Куэйд вышел из машины, но Лаура застыла на сиденье. Он наклонился, заглянул в кабину. — Это тот самый дом. Лаура кивнула, но не сдвинулась с места. Она не хотела входить в дом. Знала, что там найдет. Мелани. Мертвую. Куэйд подождал несколько мгновений, потом обошел патрульную машину, открыл дверцу, протянул Лауре руку. Ветер забрасывал в кабину холодные капли. — Миссис Маккэффри? — нахмурился патрульный. — Вы плачете? Она не могла отвести глаз от фургона коронера. Если он уедет с маленьким тельцем Мелани, то увезет с собой все надежды Лауры и оставит ее такой же мертвой, как и дочь. — Вы солгали мне. — Голос ее дрожал, словно осенний лист на ветру. — Я? Нет, в общем-то, нет. Она не смотрела на него. Куэйд всосал воздух между стиснутыми зубами. — Ну, мы расследуем дело об убийстве. Так что пара трупов у нас есть. Крик рвался из груди Лауры, но она сдержала его. У нее защемило сердце. Куэйд же быстро продолжил: — Но вашей маленькой девочки в доме нет. Она не погибла. Честное слово, среди трупов ее нет. Лаура наконец-то встретилась с ним взглядом. Вроде бы лицо искреннее. Да и не было ему смысла врать, потому что правду она могла узнать очень скоро, переступив порог. Она выбралась из патрульной машины. Взяв Лауру за руку, патрульный Куэйд повел ее к входной двери. Дождь стучал по мостовой и крышам, словно барабаны похоронной процессии.Глава 2
Охранник прошел в дом, чтобы вызвать лейтенанта Холдейна. Лаура и Куэйд остались под свесом крыши, защищавшим от дождя и частично от ветра. Ночь пахла озоном и розами. Побеги вьющейся розы обвивали стойки перед домом, а в Калифорнии большинство сортов цвели даже зимой. Намокшие под дождем лепестки пригибали цветки к земле. Холдейн появился без задержки. Высокий, широкоплечий, крепко сбитый, с короткими русыми волосами и широким доброжелательным лицом ирландца. Синие глаза напоминали два стеклянных овала, и Лаура задалась вопросом: а вдруг они выглядят такими безжизненными лишь благодаря увиденному в доме? В твидовом пиджаке спортивного покроя, белой рубашке, галстуке с ослабленным узлом, серых слаксах и черных мокасинах, он, за исключением глаз, ассоциировался не с копом, а скорее с каким-нибудь соседом-добряком. Способствовала такому впечатлению и теплота, которая наполняла мимолетную улыбку. — Доктор Маккэффри? Я — Дэн Холдейн. — Моя дочь… — Мелани мы пока не нашли. — Она не… — Что? — Мертва? — Нет, нет. Господи, да нет же. Только не ваша дочка. В этом случае я бы не обратился к вам с просьбой приехать сюда. Облегчения Лаура не почувствовала, потому что не знала, можно ли ему верить. Она видела, что он на взводе. Должно быть, в этом доме произошло что-то ужасное. А если они не нашли Мелани, то зачем было привозить ее сюда в такой час? В чем же, собственно, дело? Холдейн отпустил Карла Куэйда, который под дождем вернулся к патрульной машине. — Дилан? Мой муж? — спросила Лаура. Холдейн отвел глаза. — Да, мы думаем, что нашли его. — Он… мертв? — Ну… да. Вероятно, это он. У нас есть тело с его удостоверением личности, но точно сказать, что это он, мы не можем. Мы должны свериться с его зубной картой и сравнить отпечатки пальцев. Новость о смерти Дилана, как это ни удивительно, не произвела на нее особого впечатления. Ощущения потери не возникло, потому что последние шесть лет она его ненавидела. Но его смерть не принесла и радости: ей не хотелось прыгать от восторга, не появилось и чувства удовлетворенности, ощущения, что Дилан получил по заслугам. Сначала она его любила, потом ненавидела, теперь на смену любви и ненависти пришло безразличие. Она совершенно ничего не чувствовала, и вот это, пожалуй, более всего огорчало ее. Ветер изменил направление. Начал забрасывать капли ледяного дождя под свес крыши. Холдейн увлек Лауру к самой стене. Она задалась вопросом: а чего они не идут в дом? Похоже, там было что-то такое, чего ему не хотелось ей показывать. Что-то слишком ужасное? Что же, во имя господа, произошло в этом доме? — Как он умер? — спросила она. — Его убили. — Кто это сделал? — Мы не знаем. — Застрелили? — Нет. Его… забили до смерти. — Господи! — Ей стало нехорошо. Она привалилась к стене. Потому что ноги внезапно подогнулись. — Доктор Маккэффри? — В голосе офицера слышалась тревога, он взял ее под руку, готовый оказать помощь, если таковая потребуется. — Все нормально. Но я думала, что Дилан и Мелани будут вместе. Дилан забрал ее у меня. — Я знаю. — Шесть лет тому назад. Он закрыл наши общие банковские счета, бросил работу и сбежал. Потому что я хотела с ним развестись. А он не хотел отдавать мне Мелани. — Когда мы ввели его имя и фамилию в поисковую систему, она выдала нам его досье. У меня не было времени вникать в подробности, но с основными фактами я успел ознакомиться, так что в курсе событий. — Он погубил свою жизнь, отказался от карьеры и всего остального, чтобы сохранить Мелани. Конечно же, она должна по-прежнему быть с ним. — В голосе Лауры слышалось отчаяние. — Она была. Она жила здесь, с ним, в этом доме… — Жила здесь? Здесь? В десяти или пятнадцати минутах езды от меня? — Совершенно верно. — Но я нанимала частных детективов, нескольких, и никто не смог… — Иногда оптимальный вариант — держаться поближе к месту похищения, — заметил лейтенант Холдейн. — Я думала, что он покинул страну, перебрался в Мексику или куда-то еще, а они все это время жили рядом со мной. Ветер стих, дождь усилился, но теперь капли падали вертикально. Лужайка медленно, но верно превращалась в озеро. — Мы нашли одежду маленькой девочки. Несколько книг, соответствующих ее возрасту, — объяснил лейтенант Холдейн. — Пачку овсяных хлопьев «Граф Чокула», которые, я уверен, никто из взрослых есть бы не стал. — Никто из взрослых? В доме, помимо Дилана и Мелани, еще кто-то жил? — Мы не уверены. Но есть… и другие тела. Мы думаем, здесь жил еще один человек, потому что мы нашли мужскую одежду двух размеров. Один подходит вашему мужу, второй — одному из других мужчин. — Сколько всего тел? — Еще два. Всего три. — И все забиты до смерти? Он кивнул. — И вы пока не знаете, где Мелани? — Пока не знаем. — Тогда, возможно… тот или те, кто убил Дилана и остальных, увел ее с собой? — Такое возможно. Даже если Мелани жива, она в заложницах у убийцы. Может, не просто убийцы, но и насильника. Нет. Ей же всего девять лет. Зачем она насильнику? Она еще ребенок. Разумеется, в наше время сие не имело ровно никакого значения. По городам бродили звери в человеческом образе. Монстры охотились на детей, им особенно нравились маленькие девочки. Внутри у нее все похолодело. — Мы должны ее найти. — У Лауры так сел голос, что она едва узнала его. — Мы пытаемся, — заверил ее Холдейн. Теперь она видела в его синих глазах симпатию и сочувствие, но ее это не утешало. — Я бы хотел, чтобы вы прошли со мной в дом, — добавил он, — но должен предупредить, зрелище не из приятных. — Я — врач, лейтенант. — Да, но психиатр. — И при этом врач. У всех психиатров медицинское образование. — Что ж, оно и к лучшему. Я как-то не подумал. — Полагаю, вы хотите, чтобы я опознала тело Дилана. — Нет. Я не собирался просить вас взглянуть на тело. Состояние… Визуально опознать его невозможно. Я хотел показать вам другое, в надежде, что вы сможете объяснить, как это надо понимать. — Показать что? — Нечто странное, — ответил он. — Нечто чертовски странное.Глава 3
В доме ярко горели все лампы: под потолком, на стенах, на столах. После ночной темноты Лауре даже пришлось прищуриться. Она увидела, что гостиная обставлена уютно, но не в одном стиле. Геометрические фигуры обивки дивана совершенно не гармонировали с цветочками занавесок. Зеленые ковер и стены не совпадали оттенками. Только две сотни книг на полках, похоже, подбирались с любовью. В остальном гостиная напоминала сценическую декорацию, которую торопливо собрали для спектакля с маленьким бюджетом. — Пожалуйста, ничего не трогайте, — предупредил Лауру Холдейн. — Если вы не хотите, чтобы я опознала Дилана… — Как я и говорил, едва ли вам это удастся. — Почему? — Нечего там опознавать. От лица просто ничего не осталось. — Господи! Они стояли в прихожей, у арки, ведущей в гостиную. Холдейну определенно не хотелось вести ее дальше, как чуть раньше, когда они стояли под свесом крыши, не хотелось приглашать в дом. — У него были какие-то особые приметы? — Участок лишенной пигмента кожи… — Родимое пятно? — Да. — Где? — На груди, посередине. Холдейн покачал головой: — Скорее всего, нам это не поможет. — Почему? Он посмотрел на нее, потом взгляд его уперся в пол. — Я — врач, — напомнила она ему. — Его грудь буквально сплющена. — От побоев? — Да. Все ребра сломаны, и не единожды. Грудина раздроблена, как тарелка из китайского фарфора. — Раздроблена? — Да. Именно так, доктор Маккэффри. Я говорю не о трещинах или переломах. Грудина именно раздроблена. Словно была стеклянной. — Это невозможно. — Видел это собственными глазами. О чем могу только сожалеть. — Но грудина — крепкая кость. В человеческом теле она и череп выполняют роль брони. — Убийцей был чертовски сильный сукин сын. Лаура покачала головой. — Нет. Можно раздробить грудину в автомобильной аварии, где мощность удара невероятно велика, если столкновение происходит на скорости пятьдесят или шестьдесят миль в час. Но избить человека до такой степени невозможно… — Мы предположили, что убийца орудовал свинцовой трубой или… — Невозможно, — повторила она. — Раздроблена? Конечно же, нет. «Мелани, моя маленькая Мелани. Что с тобой случилось, куда тебя увезли, увижусь ли я с тобой вновь?» Она содрогнулась: — Послушайте, если вам не нужно, чтобы я опознала Дилана, я просто представить себе не могу, чем еще могу вам помочь… — Как я и говорил, мне хочется вам кое-что показать. — Что-то странное? — Да. Однако он держал ее в прихожей и даже пытался загородить собственным телом арку, ведущую в гостиную. В нем явно боролись две силы. С одной стороны, ему хотелось получить ответы на интересующие его вопросы, которые она могла ему дать, с другой — он опасался подвергать ее шоку, который она могла испытать, увидев место преступления. — Я не понимаю. Странное? В каком смысле? Холдейн на вопрос не ответил. — По работе вы и он занимались одним и тем же? — Не совсем. — Он был психиатром, не так ли? — Нет. Психологом, который занимался вопросами поведения людей. Особенно Дилана интересовали методы воздействия на поведение людей и способы его изменения. — А вы — психиатр, по образованию врач. — Моя специализация — лечение детей. — Да, я понимаю. Разные области. — Совершенно. Лейтенант нахмурился. — Ладно, побывав в его лаборатории, вы все-таки сможете сказать мне, чем занимался там ваш муж. — Лаборатории? Он здесь и работал? — Он здесь только работал. Не думаю, что пребывание вашего мужа и дочери в этом доме можно назвать нормальной жизнью. — Работал? И что же он делал? — Проводил какие-то эксперименты. Мы не можем в этом разобраться. — Так пойдемте посмотрим. — Зрелище… жуткое, — он пристально смотрел на нее. — Я же говорила… я — врач. — Да, а я — коп, и коп видит больше крови, чем врач, но от того, что мы там нашли, мне стало дурно. — Лейтенант, вы привезли меня сюда, и теперь вам не удастся избавиться от меня, пока я не узнаю, что мой муж и моя маленькая дочка делали в этом доме. Он кивнул: — В таком случае нам сюда. Она последовала за ним мимо гостиной, подальше от кухни, в короткий коридор, где стройный, симпатичный латинос командовал двумя мужчинами в униформе с надписью «СЛУЖБА КОРОНЕРА» на спине. Они укладывали труп в матовый пластиковый мешок. Один из мужчин застегнул «молнию». Сквозь непрозрачную поверхность Лаура видела лишь контуры мужского тела да несколько крупных потеков крови. Дилан? — Это не ваш муж, — Холдейн словно прочитал ее мысли. — У этого человека не было никаких документов. Так что установить личность мы сможем только по отпечаткам пальцев, если они есть в нашей картотеке. Она видела кровь на стенах, на полу, много крови, так много, что Лауре казалось, будто она не в реальном доме, а перенеслась в какой-то эпизод из плохого фильма-ужастика. По центру коридора постелили пластиковую дорожку, чтобы следователи и технические эксперты не наступили на кровь и не вымазали подошвы. Холдейн искоса глянул на нее, и она изо всех сил попыталась скрыть от него свой страх. Неужто Мелани была здесь, когда убивали этих людей? Если да, если сейчас она с мужчиной (мужчинами?), который это сделал, ее тоже ждет смерть, потому что она — свидетельница преступления. Даже если она ничего не видела, убийца покончит с ней, когда… она ему надоест. Сомнений в этом быть не могло. Он убьет ее, потому что это убийство доставит ему удовольствие. Судя по тому, что она сейчас видела, убийца — психопат. Ни один человек в здравом уме не стал бы убивать с такой жестокостью, проливая реки крови, наслаждаясь ее видом. Оба сотрудника службы коронера вышли из дома, чтобы взять каталку и увезти на ней труп. Стройный латинос в черном костюме повернулся к Холдейну. Голос у него оказался на удивление сильным. — Мы все обследовали, лейтенант, сфотографировали, сняли, где могли, отпечатки пальцев. Теперь выносим тела. — Предварительное обследование позволило получить что-нибудь интересное, Джой? — спросил Холдейн. Лаура предположила, что Джой — полицейский патологоанатом, хотя чувствовалось, что он слишком уж потрясен для человека, привычного к сценам насильственной смерти. — Такое ощущение, что все кости тела сломаны как минимум по одному разу, — начал Джой. — Один перелом над другим, их сотни, невозможно установить, как много. Я уверен, что вскрытие покажет перфорацию внутренних органов, повреждение печени… — он бросил короткий взгляд на Лауру, не зная, стоит ли продолжать. Она надеялась, что ее лицо — бесстрастная маска, отражающая только профессиональный интерес и скрывающая истинные чувства: ужас и смятение. — Размозженный череп, зубы переломаны и частично выбиты, один глаз вытек. Лаура увидела на полу каминную кочергу. — Это орудие убийства? — Мы так не думаем, — ответил Холдейн. — Кочергу этот парень держал в руке. Нам пришлось потрудиться, чтобы разжать его пальцы. Он пытался защищаться, — пояснил Джой. Они помолчали, глядя на матовый пластиковый мешок. Монотонный стук капель дождя по крыше чем-то напоминал далекий грохот огромных ворот, которые отворяются во сне, открывая глазу загадочные и опасные земли. Двое мужчин вернулись с каталкой. Одно из колес разболталось и постукивало по полу. Звук этот действовал на и без того натянутые нервы. От короткого коридора отходили три двери, одна — в дальнем торце, две — в боковых стенах. Все три были приоткрыты. Холдейн повел Лауру мимо трупа к комнате в конце коридора. Несмотря на теплый свитер и пиджак на подкладке, Лауре было холодно. Она просто замерзала. Руки побелели до такой степени, что не отличались от рук мертвеца. Она знала, что система кондиционирования работает, потому что чувствовала теплый воздух, идущий из вентиляционных отверстий, когда проходила мимо них, поэтому понимала, что источник холода находится в ее теле. Комната когда-то была кабинетом, но ныне превратилась в образчик хаоса и уничтожения. Металлические ящики бюро выдернули из ячеек, смяли, согнули. Ручки оторвали. Содержимое разбросали по полу. Тяжелый письменный стол из орехового дерева с хромированными металлическими частями лежал на боку. Две металлические ножки погнули, дерево в некоторых местах треснуло, топорщилось щепками, словно стол рубили топором. Пишущую машинку швырнули в стену с такой силой, что несколько букв выскочили и впились в обои. Всюду валялись бумаги, графики, страницы с какими-то рисунками и записями, сделанными мелким, каллиграфическим почерком. Многие из этих листов порвали, измяли, свернули в плотные шарики. И везде была кровь — на полу, на мебели, на бумагах, на стенах, даже на потолке. В комнате стоял резкий, неприятный запах. — Господи! — выдохнула Лаура. — Я хотел показать вам соседнюю комнату. — Лейтенант направился к двери в дальней стене разрушенного кабинета. Она заметила на полу еще два матовых пластиковых мешка. Обернувшись к ней, Холдейн повторил: — Соседнюю комнату. Лауре не хотелось останавливаться, но она остановилась. Не хотела смотреть на два уложенных в пластиковые мешки тела, но посмотрела. — Один из них… Дилан? Холдейн, уже подошедший к двери, вернулся. — Вот у этого человека, — он указал на один из мешков, — мы нашли удостоверение личности Дилана Маккэффри. Но наверняка вам не хочется увидеть его в таком виде. — Нет, не хочется, — согласилась она, перевела взгляд на второй мешок. — А это кто? — Согласно водительскому удостоверению и кредитным карточкам в бумажнике, его звали Вильгельм Хоффриц. Она изумилась. Должно быть, изумление это отразилось на ее лице, потому что Холдейн спросил: — Вы его знаете? — Он работал в университете. Один из… коллег моего мужа. — В ЛАКУ[33]? — Да. Дилан и Хоффриц вели совместные исследования. Они разделяли некоторые… навязчивые идеи. — Я отмечаю осуждение в вашем тоне? Она промолчала. — Вы не любили Хоффрица? — не унимался Холдейн. — Я его презирала. — Почему? — Он был самодовольным, самоуверенным, высокомерным, напыщенным, наглым недомерком. — Что еще? — Разве этого мало? — Вы не из тех женщин, которые с легкостью используют слово «презирать». Встретившись с ним взглядом, она увидела острый и проницательный ум, чего не замечала раньше. Закрыла глаза. Прямой взгляд Холдейна приводил в замешательство, но смотреть куда-то еще не хотелось, потому что все остальное марала кровь. — Хоффриц верил в централизованное социальное планирование. Он интересовался использованием психологии, наркотиков и различных видов воздействия на подсознание с целью перевоспитания и направления масс. Холдейн долго молчал, потом спросил: — Контроль разума? — Совершенно верно. — Глаз она не открывала, голову наклонила. — Он был элитистом[34]. Нет, это слишком доброе слово. Он был тоталитаристом. Из него вышел бы отменный нацист или коммунист. Без разницы. В политике он признавал только грубую силу. Стремился к контролю над обществом. — В ЛАКУ проводят такие исследования? Она открыла глаза и увидела, что он не шутит, вопрос задан серьезно. — Естественно. Это же крупный университет. Свободный университет. Там не признают никаких ограничений по части направления научных исследований, при условии, что ты обеспечишь их финансирование. — Но последствия таких исследований… Она с горечью улыбнулась: — Практические результаты. Научные прорывы. Получение новых знаний — вот что заботит настоящего ученого, лейтенант. Не последствия. — Вы говорите, ваш муж разделял некоторые навязчивые идеи Хоффрица. То есть он тоже активно занимался исследованиями по обретению контроля над человеческим разумом? — Да. Но он не был таким фашистом, как Хоффриц. Его больше интересовало воздействие на поведение преступников как средство снижения уровня преступности. По крайней мере, я думала, что его это интересовало. Об этом Дилан говорил чаще всего. Но чем больше Дилан вовлекался в этот проект, тем меньше говорил о нем, словно разговоры отнимали энергию, необходимую для работы. — Он получал государственные гранты? — Дилан? Да. И он, и Хоффриц. — Пентагон? — Возможно. Но первоначально он не ориентировался на оборонные проекты. С какой стати? Какое они могли иметь к нему отношение? Холдейн не ответил. — Вы говорили, что ваш муж ушел из университета. А потом убежал с вашей дочерью. — Да. — А теперь выясняется, что он по-прежнему работал с Хоффрицем. — Хоффриц более не связан с ЛАКУ, ушел оттуда три или четыре года тому назад, может, раньше. — Что случилось? — Я не знаю. Мне говорили, что ему вроде бы предложили более интересную работу. Но у меня создалось впечатление, что его попросили уйти. — Почему? — Ходили слухи… из-за нарушения профессиональной этики. — А конкретнее? — Я не знаю. Спросите кого-нибудь в ЛАКУ. — А вы никак не связаны с университетом? — Нет. Исследованиями я не занимаюсь. Работаю в детской больнице Святого Марка. Кроме того, у меня небольшая частная практика. Возможно, поговорив с кем-нибудь из ЛАКУ, вы сможете узнать, почему там пожелали расстаться с Хоффрицем. Она более не испытывала тошноты, обилие крови не волновало ее. Собственно, она перестала замечать кровь. Слишком много ужаса открылось глазам Лауры, вот ее чувства и притупились. Один труп и одна капля крови подействовали бы на нее куда сильнее, чем эта вонючая бойня. Она теперь понимала, почему копы так быстро становятся невосприимчивыми к сценам кровавого насилия. Ты или адаптируешься, или сходишь с ума, и второй вариант, по большому счету, совсем и не вариант. — Я думаю, ваш муж и Хоффриц работали вместе, — сказал Холдейн. — Здесь. В этом доме. — И что они делали? — Точно сказать не могу. Поэтому и попросил вас приехать. Поэтому и хочу, чтобы вы осмотрели лабораторию в соседней комнате. Может быть, вы скажете мне, чем они тут занимались. — Давайте поглядим. Он помялся: — И вот что еще… — Что? — Я думаю, ваша дочь участвовала в их экспериментах. Лаура молча смотрела на него. — Я думаю, они… использовали ее. — Как? — Вот это я и хочу услышать от вас, — ответил детектив. — Я — не ученый. Знаю лишь то, что можно прочитать в газетах. Но, прежде чем мы войдем туда… должен вам сказать, что некоторые из этих экспериментов были… болезненными. «Мелани, чего они от тебя хотели, что с тобой сделали, куда увезли?» Она глубоко вдохнула. Вытерла мокрые от пота ладони о пиджак. Последовала за Холдейном в лабораторию.Глава 4
Дэн Холдейн удивлялся, с какой легкостью эта женщина приспосабливается к ситуации. Ладно, она получила медицинское образование, но многие врачи не привыкли шагать по крови. И, попадая туда, где с особой жестокостью убили нескольких человек, врачи в большинстве своем вели себя точно так же, как и обычные граждане. А потому отнюдь не медицинское образование помогало Лауре Маккэффри сохранять самообладание. Эта женщина отличалась невероятной стойкостью, которая безмерно восхищала Дэна. Ее дочь пропала, возможно, ранена, может, даже убита, но, не получив ответы на все важные вопросы, касающиеся Мелани, она не собиралась отступать или дать волю эмоциям. Да, Лаура определенно ему нравилась. А ведь она была еще и красоткой, пусть и не пользовалась косметикой, а каштановые волосы намокли от дождя и висели патлами. В свои тридцать шесть она выглядела моложе. И эти зеленые глаза, ясные, открытые, проницательные, прекрасные. Пусть в них и застыл ужас. Дэн понимал, что увиденное в лаборатории только усилит тревогу женщины, и ругал себя за то, что вел ее туда. Но именно для этого он и позвонил Лауре глубокой ночью. Хотя она не видела мужа шесть лет, вряд ли кто знал его лучше, чем она. А будучи психиатром, она могла понять, какие эксперименты и исследования проводил здесь Дилан Маккэффри. И у Дэна было предчувствие, что он не сможет найти убийцу, да и Мелани тоже, не поняв, чем занимался Дилан Маккэффри. Лаура следом за ним переступила порог. Как только они очутились в серой комнате, Дэн пристально наблюдал за лицом Лауры. Отметил изумление, недоумение, неуверенность. В гараже на два автомобиля ворота заложили кирпичом, превратив в глухую стену. Получилась большая комната без единого окна, совершенно безликая, где не было ни одного предмета, за который мог бы зацепиться глаз. Серый потолок. Серые стены. Флуоресцентные лампы под потолком за серыми пластиковыми панелями. Даже ручки сдвижных дверей стенных шкафов выкрасили в серый цвет. Той же краской покрыли и металлические сетки вентиляционных каналов. Без краски они бы слишком блестели. Во всей комнате Лаура не обнаружила ни единого цветового пятна. В результате создавалось ощущение, что никакая это не комната. А гроб. Из установленного здесь оборудования наибольшее впечатление производил металлический резервуар, чем-то напоминающий первые установки «Искусственное легкое», но гораздо больших размеров. Цветом он не отличался от стен. От него в пол уходили трубы, а электрический кабель спускался от распределительного щитка на потолке. Передвижная лесенка из трех ступенек обеспечивала доступ к поднятому над уровнем пола входному люку с откинутой крышкой. Лаура поднялась по ступенькам, заглянула внутрь. Дэн знал, что она там найдет: черный интерьер, освещаемый слабым светом, попадающим в резервуар через люк. Звуки воды, которая начала плескаться благодаря вибрации, передаваемой от лесенки к стенке. Влажный солевой запах. — Знаете, что это? — спросил он. Лаура спустилась вниз. — Конечно. Камера, в которой органы чувств человека перестают поставлять в мозг какую-либо информацию. — И что он с ней делал? — Вы хотите сказать, каково ее научное применение? Дэн кивнул. — Ну, на несколько футов резервуар заполняется водой… На самом деле берется десятипроцентный водяной раствор сульфата магния, чтобы обеспечить оптимальную подъемную силу. Раствор нагревается До девяноста трех градусов по Фаренгейту, то есть температуры, при которой воздействие гравитации на плавающее тело минимально. Или, в зависимости от природы эксперимента, воду можно нагреть до девяноста восьми градусов, чтобы свести к нулю разницу между температурой тела и воды. Потом субъект… — Человек… не животное? Вопрос ее, несомненно, удивил. Дэн Холдейн почувствовал себя необразованной деревенщиной, но Лаура не стала стыдить его, да и в голос ее не прокралось раздражение, так что настроение у него сразу улучшилось. — Да. Человек. Не животное. Далее, когда вода готова, человек раздевается, входит в камеру, закрывает за собой дверцу и плавает в полной темноте, в полной тишине. — Зачем? — Чтобы лишить себя сенсорной подпитки. Ничего не видно. Ничего не слышно. Нет информации, связанной со вкусом, или она минимальна. Самый минимум дает осязание. Нет ощущения веса, места, времени. — Но зачем кому-то это могло понадобиться? — Поначалу, когда появились первые подобные резервуары, эти эксперименты проводились для того, чтобы понять, что происходит, когда человек практически лишен возможности получать информацию извне. — Да? И что же происходило? — Совсем не то, что ожидали экспериментаторы. Никакой клаустрофобии, никакой паранойи. Короткий момент страха, да, но потом… не такая уж неприятная временная и пространственная дезориентация. Ощущение дискомфорта пропадало через минуту или около того. У некоторых субъектов возникало ощущение, что они не в маленькой камере, а в огромной, бескрайней. При отсутствии внешних источников информации мозг переключается на себя, начинает исследовать совершенно новый мир внутренней информации. — Галлюцинации? На какие-то мгновения тревога исчезла. Ее профессиональный интерес к функционированию мозга не вызывал сомнений, и Дэн понимал: если бы она выбрала карьеру учителя, студенты ломились бы на ее лекции и семинары. Она получала удовольствие, объясняя то, что знала сама, делясь своими знаниями. — Да, иногда и галлюцинации. Но не пугающие или несущие в себе угрозу, ничего такого, чего можно ждать после приема наркотиков. Во многих случаях — яркие и необычайно живые сексуальные фантазии. И практически каждый участник экспериментов сообщал о резкой активизации процесса мышления. Некоторые без помощи карандаша и бумаги решали сложные математические задачи, требующие алгебраических и дифференциальных расчетов. И повторить эти достижения в обычных условиях им не удавалось. Возникло даже психотерапевтическое направление, которое использует камеры отсечения внешних воздействий, чтобы предоставить пациенту возможность максимально сконцентрироваться на исследовании внутреннего мира. — Судя по вашему тону, вы это не одобряете. — Не то чтобы не одобряю. Но если вы имеете дело с психологически неуравновешенным индивидуумом, который уже отрывается от реальности, только наполовину контролирует себя… тогда дезориентация, неизбежная в этой камере, практически наверняка приведет к негативным эффектам. Некоторым пациентам необходима максимальная связь с окружающим миром, без этого они не могут существовать. — Лаура пожала плечами. — Но, опять же, возможно, я слишком осторожна, консервативна. В конце концов, эти камеры продаются для использования в частных домах, за последние годы их наверняка продано несколько тысяч, и, конечно, некоторые используются психически неуравновешенными людьми, но я пока не слышала, чтобы у кого-либо из-за такой вот камеры окончательно съехала крыша. — Должно быть, дорогое удовольствие. — Камера отсечения внешних воздействий? Безусловно. Но те, что устанавливаются в частных домах… новые игрушки для богатых, знаете ли. — А с чего у кого-то может возникнуть желание купить такую камеру и установить ее дома? — Помимо ярких галлюцинаций и активизации процесса мышления, все участники экспериментов сообщали о полном расслаблении и приливе жизненных сил после таких сеансов. После того как вы проведете час в такой камере, волны вашего мозга становятся точно такими же, как у буддийского монаха в состоянии глубокой медитации. Назовите это способом медитировать для ленивых. Не требуется ничему учиться, нет нужды ограничивать себя какими-либо религиозными принципами, залез в камеру, и наступает полное расслабление, которое так приятно после напряженного рабочего дня или недели. — Но ваш муж использовал камеру не для расслабления. — Это точно, — согласилась она. — Тогда для чего она ему понадобилась? — Я действительно не знаю. — Душевная боль вернулась в ее глаза, отразилась на лице. — Я думаю, здесь была не только его лаборатория. Я думаю, ваша дочь жила в этой комнате. Я думаю, это была ее тюремная камера. И еще я думаю, что она спала в этом резервуаре каждую ночь, а иногда проводила в нем и сутки. — Сутки? Нет. Это… невозможно. — Почему? — Потенциальный психологический вред, риск… — Может, вашего мужа этот риск не волновал. — Но она была его дочерью. Он любил Мелани. В этом я должна отдать ему должное. Он искренне ее любил. — Мы нашли дневник, в котором ваш муж описывал каждую минуту жизни вашей дочери в течение последних пяти с половиной лет. Она сощурилась: — Я хочу его видеть. — Буквально через минуту. Я еще не успел тщательно его изучить, но не думаю, что ваша дочь за эти пять с половиной лет хоть раз покинула стены этого дома. Не ходила ни в школу, ни к врачу, ни в кино или зоопарк, никуда. И пусть вы говорите, что это невозможно, из прочитанного мною следует, что иногда она не покидала этот резервуар трое или четверо суток кряду. — Но еда… — Не думаю, что ее в это время кормили. — Вода… — Может, она пила то, в чем плавала. — Ей приходилось справлять естественную нужду. — Из того, что я прочитал, следует, что иногда ее выпускали из резервуара на десять или пятнадцать минут, чтобы воспользоваться туалетом. Но в других случаях, думаю, он использовал катетер, чтобы она могла мочиться в закрытый сосуд и не загрязнять жидкость, в которой плавала. Лаура обомлела. Выдерживая паузу, чтобы дать ей возможность прийти в себя, и потому, что его самого мутило от этой лаборатории, Дэн увел ее от резервуара к другой Установке. — Она предназначена для контроля деятельности мозга, — объяснила Лаура. — Включает ЭЭГ, электроэнцефалограф, который записывает излучаемые мозгом волны. Электроэнцефалограмма позволяет определить характер мозговых волн и, следовательно, состояние мозга. — Насчет ЭЭГ я знаю. А вот это что? Он указывал на деревянный стул с подлокотниками, с которого свисали кожаные ремни и провода, заканчивающиеся электродами. Лаура Маккэффри осмотрела стул, и Дэн почувствовал, как в ней поднимается волна отвращения… и ужаса. — Это устройство для болевой терапии. — А мне кажется, что это электрический стул. — Так и есть, только этот стул не убивает. И электрический ток поступает от этих аккумуляторов, а не из розетки, подключенной к сети. Вот этот рычаг… — она коснулась рычага, закрепленного на боковой поверхности сиденья, — регулирует подаваемое напряжение. Можно и чуть пощекотать, и дать сильный разряд. — Это стандартный инструмент психологических исследований? — Святой боже, нет! — Вы уже видели такой в лаборатории? — Однажды. Ну… два раза. — Где? — У одного беспринципного ученого, изучавшего психологию животных, которого я когда-то знала. Он использовал болевую терапию в экспериментах с мартышками. — Пытал их? — Я уверена, что он трактовал свои действия иначе. — Так работают все ученые, изучающие психологию животных? — Я же говорю, он был беспринципным. Послушайте, надеюсь, вы — не один из новых луддитов, которые думают, что все ученые дураки или монстры?! — Я — нет. Когда я был маленький, всегда смотрел передачу «Мистер Мудрец». Ей удалось выдавить из себя слабую улыбку: — Не хотела на вас кричать. — Я понимаю. Вы сказали, что видели такой стул дважды. Второй раз — это где? Остатки улыбки исчезли бесследно. — Второй раз я видела его на фотографии. — Да? — В книге о… научных экспериментах в нацистской Германии. — Вот оно что. — Они использовали его в экспериментах на людях. Он замялся. Но не мог не сказать: — Так же, как и ваш муж. Взгляд Лауры Маккэффри говорил о том, что она ему не верит, более того, просто отказывается поверить. Ее лицо посерело. — Думаю, он сажал вашу дочь на этот стул… — Нет. — …и он, и Хоффриц, и еще бог знает кто… — Нет. — …пытали ее, — закончил Дэн. — Нет. — В дневнике, о котором я вам говорил, есть соответствующие записи. — Но… — Я думаю, они использовали… как вы это называли, «болевую терапию» для того, чтобы научить ее контролировать рисунок волн своего мозга. При мысли о Мелани, привязанной к этому стулу, Лаура Маккэффри едва не лишилась чувств. Ее кожа более не была серой, она становилась все белее и белее, приобретая трупную бледность. Глаза запали, вдруг стали тусклыми. Лицо мгновенно осунулось. «Но… это бессмысленно. Болевая терапия — наименее результативный метод обретения контроля над мозговыми волнами». Дэну хотелось обнять ее, прижать к груди, погладить по волосам, успокоить. Поцеловать. Он нашел ее привлекательной, как только увидел, но до этого момента не испытывал к ней романтических чувств. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Он не мог равнодушно пройти мимо беспомощного котенка или сломанной куклы, ему всегда хотелось помочь потерявшимся, слабым, попавшим в беду. И всегда дело заканчивалось одинаково: потом он жалел, что ввязался. Лаура Маккэффри поначалу не привлекала его из-за уверенности в себе, самообладания, выдержки. Но, как только она начала давать слабину, более не могла скрывать страх и замешательство, его так и потянуло к ней. Ник Хэммонд, другой детектив отдела расследования убийств и большой говнюк, как-то обвинил Дэна в том, что у него сильно развит материнский инстинкт, и, пожалуй, попал в десятку. «Что это со мной? — думал Дэн. — Почему я настаиваю на том, чтобы изображать из себя странствующего рыцаря, постоянно пребывающего в поисках попавшей в беду дамы? Я едва знаю эту женщину, но уже хочу, чтобы она полностью доверилась мне, возложила на мои плечи все свои надежды и страхи. Да, мэм, вы можете рассчитывать только на Большого Дэна Холдейна, и ни на кого другого. Большой Дэн поймает этих злодеев и склеит ваш разбитый мир. Большому Дэну это по силам, мэм, пусть сердцем он еще идиот-подросток». Нет. Не в этот раз. У него есть работа, и он должен ее сделать, но полагаясь исключительно на профессионализм. Никаких личных чувств. И потом, нужен ли он этой женщине? Ее образование не чета его. И сам он ей не ровня. Она идет по разряду бренди, тогда как он — пива. А кроме того, сейчас не время для романтики. Она слишком ранима. Волнуется из-за дочери, мужа только что убили. Его насильственная смерть не может не подействовать на нее, пусть даже она давно разлюбила этого человека. Да и какой мужчина может в такой момент избрать ее объектом своих романтических возжеланий. Стыдно, дорогой мой. И однако… Он вздохнул: — Возможно, внимательно изучив дневник вашего мужа, вы сможете доказать, что он не сажал вашу дочь на этот стул. Но я так не думаю. Она стояла столбом, испуганная, потерянная. Он подошел к стенному шкафу, распахнул дверцы, открыв взгляду джинсы, свитера, футболки, туфли кроссовки — размером на девятилетнюю девочку. Все серое. — Почему? — спросил Дэн. — Что он надеялся доказать? Чего пытался добиться от малышки? Женщина покачала головой, от горя она не могла произнести ни слова. — И вот о чем еще я думаю, — продолжил Дэн. — На шесть лет такой жизни у него должна была уйти сумма большая, чем та, что он снял с ваших общих банковских счетов, когда бросил вас. Гораздо большая. Однако он нигде не работал. Никуда не выходил. Возможно, деньги ему давал Вильгельм Хоффриц. Но наверняка и другие вносили свою лепту. Кто? Кто финансировал эти исследования? — Понятия не имею, — ответила она. — И почему? — задал он еще один вопрос. — И куда они увезли Мелани? — У Лауры тоже нашлись вопросы. — И что сейчас делают с ней?Глава 5
Кухня не была грязной, но и не сверкала чистотой. Раковину заполняла гора использованной посуды. На столе, который стоял у единственного окна, хватало крошек. Лаура присела к столу, смахнула часть крошек на пол. Ей не терпелось заглянуть в дневник, в который Дилан записывал свои эксперименты с Мелани. А вот Холдейн не торопился передавать ей дневник, большущую книгу в дерматиновом переплете. Расхаживал по кухне, не выпуская ее из рук, и продолжал задавать вопросы. Капли дождя били в окно и стекали по стеклу. Иногда вспышка молнии освещала ночь, и тогда тени бегущих по стеклу струек проецировались на стены. В такие моменты очертания кухни расплывались, она становилась полупрозрачной, напоминая мираж. — Я хочу узнать о вашем муже как можно больше. — Например. — Почему вы решили развестись с ним? — Это имеет отношение к вашему расследованию? — Вполне вероятно. — Каким боком? — Во-первых, если в этой истории замешана еще одна женщина, она, возможно, сможет рассказать нам о том, что он тут делал. Может, даже скажет, кто его убил. — Другой женщины не было. — Тогда почему вы решили развестись с ним? — Просто… я его больше не любила. — Но в свое время вы его любили. — Да. Но он уже не был тем мужчиной, за которого я выходила замуж. — И когда же он изменился? Лаура вздохнула: — Он не менялся. Никогда не был тем мужчиной, за которого я выходила замуж. Я только думала, что был. Потом, по прошествии какого-то времени, мне стало ясно, что я его совершенно не понимала, принимала за другого, с самого начала. Холдейн перестал ходить, прислонился к разделочному столику, сложил руки на груди, держа в одной дневник. — И в чем же вы его не понимали? — Ну… во-первых, тут нужно сказать пару слов обо мне. Ни в школе, ни в колледже я не пользовалась успехом. Меня не так уж часто приглашали на свидания. — Должен признать, в это трудно поверить. Онапокраснела. Ей бы, конечно, хотелось контролировать цвет своего лица, но не получилось. — Это правда. Я была невероятно застенчива. Избегала юношей. Избегала всех. У меня не было и близких подруг. — И никто не говорил вам, каким нужно пользоваться зубным эликсиром или шампунем из одуванчиков? Она улыбнулась его попытке настроить ее на нужную волну, но разговор о себе никогда не давался ей легко. — Я никого не хотела подпускать к себе, думала, что не понравлюсь им, а если бы меня отвергли, я бы этого не перенесла. — А почему вы могли кому-то не понравиться? — Ну… для них я могла быть недостаточно остроумна, недостаточно умна, недостаточно красива. — Я не могу сказать, остроумная вы женщина или нет. Боюсь, это место не располагает к остротам. Но в отношении вашего высокого интеллекта сомнений нет. Вы же защитили докторскую диссертацию. И я не понимаю, кого, кроме красавицы, вы можете увидеть, посмотревшись в зеркало. Она оторвала глаза от усыпанного крошками стола. Встретилась с прямым, теплым, открытым взглядом лейтенанта, в котором не было ничего наглого, ничего оскорбительного. Холдейн говорил, как полицейский, не делая никаких допущений, выкладывая только факты. И однако под маской профессионализма она уловила что-то личное. Его явно влекло к ней. И от этого влечения ей стало как-то не по себе. Смутившись, она перевела взгляд на залитое дождем окно. — Тогда я страдала сильнейшим комплексом неполноценности. — Почему? — Мои родители. — Разве бывает по-другому? — Бывает. Иногда. Но в моем случае… в основном моя мать. — Расскажите о них. — К делу это не имеет никакого отношения. Да и потом, их уже нет. — Они умерли? — Да. — Я сожалею. — Напрасно. Я — нет. — Понимаю. Лучше бы она не произносила последние фразы. К собственному удивлению, она вдруг поняла, что хочет произвести на него хорошее впечатление. С другой стороны, она еще не могла найти в себе силы, чтобы рассказать ему о своих родителях и лишенном любви детстве. — Что же касается Дилана… — Она замолчала, не могла вспомнить, а на чем они остановились. — Вы говорили мне, что с самого начала приняли его за другого человека, — подсказал Холдейн. — Видите ли, я так поднаторела в умении отталкивать от себя людей, восстанавливать всех против себя и прятаться в собственном коконе, что меня обходили на пушечный выстрел. Особенно юноши… и мужчины. Я знала, как дать им от ворот поворот. До того, как появился Дилан. Он не сдавался. Продолжал приглашать меня на свидания. Как бы часто я ни отказывала ему, приходил снова. Моя застенчивость не останавливала его. Грубость, безразличие, холодность — ничего не помогало. Он преследовал меня. Не желал отказаться от меня. Я стала для него навязчивой идеей. Но в этой навязчивости не было ничего пугающего, только сентиментальность. Он посылал мне цветы, конфеты, снова цветы, однажды большущего плюшевого медведя. — Плюшевого медведя для молодой женщины, которая пишет докторскую диссертацию? — спросил Холдейн. — Я же упомянула про сентиментальность. Он писал мне стихи и подписывался «Тайный поклонник». Банальность, конечно, но на женщину, которая в двадцать шесть лет от силы несколько раз целовалась и нацеливалась в старые девы, это действовало. Он стал первым, которому удалось показать мне, что я… особенная. — Он пробил брешь в ваших оборонительных редутах. — Черт, он их просто смел. Стоило ей произнести эти слова, как то время и те чувства вернулись, необычайно живые и сильные. А с воспоминаниями пришла грусть, потому что ожидания не сбылись. Слишком уж она оказалась наивной. — Позже, когда мы уже поженились, я узнала, что страсть и пыл Дилана предназначены не только мне. Нет, других женщин не было. Но с той же страстностью, с какой он преследовал Дилан отдавался любому своему увлечению. Исследования, связанные с изменением человеческого поведения, оккультизм, скоростные автомобили с мощным двигателем, всему он отдавал себя без остатка, щедро растрачивая ту энергию, с которой ранее добивался моего благорасположения. Она вспомнила, как волновалась из-за Дилана… о том влиянии, которое он окажет на Мелани. В какой-то степени и развестись она захотела потому, что опасалась, как бы Мелани не передалась импульсивная одержимость ее мужа. — Например, он решил построить за домом настоящий японский сад и многие месяцы отдавал этому саду все свое свободное время. Стремился довести его до совершенства. Каждый цветок, каждое растение, каждый камень, все должно было быть идеальным. Каждое деревцо должно было иметь те же пропорции и располагаться так же гармонично, как в примерах, которые приводились в книгах по классическому восточному садоводству. Он ожидал, что этот проект увлечет и меня, как и все его остальные проекты. Но я не могла увлекаться, как он. Да и не хотела. А кроме того, при его фанатичном стремлении к совершенству, все, что я делала для него, из забавы постепенно превращалось в тяжелый труд, за который мне платили только придирками да насмешками. Никогда раньше мне не встречались столь одержимые люди. И хотя Дилан постоянно увлекался чем-то новым, он не получал от своих увлечений ни удовольствия, ни радости. Потому что на радость у него просто не оставалось времени. — Получается, что жизнь с ним была далеко не сахар, — вставил Холдейн. — Господи, да! Через год-полтора его увлеченность перестала быть заразительной, потому что он постоянно переключался с одного на другое, и ни один здравомыслящий человек не может постоянно жить в таком напряжении. Он перестал интриговать, вселять энергию, бодрость. Он… стал утомлять. Сводить с ума. Ни минуты покоя, никакой возможности расслабиться. К тому времени я заканчивала докторскую диссертацию по психиатрии, проходила курс психоанализа, необходимое условие для тех, кто хотел стать практикующим психиатром, и наконец поняла, что у Дилана далеко не все в порядке с психикой и я имею дело отнюдь не со сверхэнергичным человеком, которому просто не сидится на месте. Я старалась убедить его обратиться к психоаналитику, но это мое предложение не вызвало у него энтузиазма. И наконец я сказала ему, что хочу с ним развестись. Он не дал мне времени, чтобы заполнить соответствующие бумаги. На следующий день снял деньги с наших общих банковских счетов и ушел с Мелани. Мне следовало предугадать, что так и будет. — Почему? — Потому что Мелани он был одержим так же, как и остальным. В его глазах она была самым прекрасным, самым удивительным, самым умным ребенком, какой только ходил по этой земле, и он всегда следил за тем, чтобы она была идеально одета, идеально ухожена, идеально воспитана. Ей было только три годика, но он уже учил ее читать, пытался учить французскому. В три годика! Он говорил, что малышам учеба дается легко. Это правда. Но он делал это не для Мелани. О нет! Ни в коем разе. Он думал только о себе, о том, что у него будет ребенок-совершенство. Он не выносил даже мысли о том, что его дочь не будет самой красивой, самой умной, самой потрясающей девочкой для всех, кто мог ее увидеть. Они помолчали. Дождь заливал окно, барабанил по крыше, потоки воды бежали по сливным канавам. — Такой человек мог… — прервал паузу Холдейн. — Мог экспериментировать на собственной дочери, мог подвергать ее пыткам, если думал, что все это пойдет ей только на пользу. Или если увлекся серией экспериментов, в которых роль подопытного кролика отводилась ребенку. — Господи! — В голосе Холдейна слышались отвращение, шок, жалость. К собственному удивлению, Лаура заплакала. Детектив подошел к столу. Отодвинул стул, сел рядом с ней. Она вытерла глаза бумажной салфеткой. Холдейн положил руку ей на плечо: — Все будет хорошо. Она кивнула, высморкалась. — Мы ее найдем. — Боюсь, она мертва. — Она жива. — Я боюсь. — Не нужно бояться. — Ничего не могу с собой поделать. — Я знаю.* * *
Полчаса (лейтенанту Холдейну хватало дел в других комнатах) Лаура читала написанный от руки дневник Дилана, по существу, подробное описание дней и ночей, которые Мелани провела в этом доме. К тому времени, когда детектив вернулся на кухню, Лаура была ни жива ни мертва от ужаса. — Это правда. Они прожили здесь как минимум пять с половиной лет, во всяком случае, столько времени он вел дневник, и Мелани, насколько я поняла, ни разу не выходила из дома. — И она каждую ночь спала в камере отсечения внешних воздействий, как я и думал? — Да. Вначале восемь часов каждую ночь. Потом восемь с половиной. Девять. К концу первого года проводила в камере по десять часов ночью и еще два — во второй половине дня. Лаура захлопнула дневник. Один только вид аккуратного почерка Дилана приводил ее в ярость. — Что еще? — С самого утра она час медитировала. — Медитировала? Такая маленькая девочка? Да она не могла знать даже значения этого слова. — По сути, медитация не что иное, как направление разума внутрь себя, отсечение материального мира, поиск покоя через внутреннее уединение. Я сомневаюсь, что он учил Мелани буддистской медитации или любой другой, основанной на философских или религиозных принципах. Скорее всего, он учил ее, как сидеть неподвижно, уходить в себя и ни о чем не думать. — Самогипноз. — Да, конечно. — Но зачем он ее этому учил? — Не знаю. Она поднялась со стула, нервная, взволнованная. Не могла усидеть на месте, ей хотелось двигаться, ходить, расходовать энергию, которая так и рвалась из нее. Но кухня была слишком мала. Пять шагов, и Лаура уперлась бы в стену. Она направилась к двери в коридор, но остановилась, осознав, что не сможет пройти через дом, мимо тел, по крови, мешая полицейским и сотрудникам службы коронера. Прислонилась к разделочному столику, взялась за край руками, яростно сжала, словно надеялась, что тем самым избавится от части своей нервной энергии, «сольет» ее в керамическую поверхность. — Каждый день после медитации Мелани проводила несколько часов, обучаясь методам управления волнами, которые излучает мозг. — Сидя на электрическом стуле? — Думаю, что да. Но… — Но что? — Электрический стул использовался не только для этого. Я думаю, с его помощью она училась не чувствовать боли. — Повторите еще раз. — Я думаю, Дилан использовал электрический шок, чтобы научить Мелани блокировать боль, выдерживать, игнорировать, как это делают восточные мистики, те же йоги. — Зачем? — Может, для того, чтобы позднее блокировка боли позволила ей проводить больше времени в камере отсечения внешних воздействий. — Так в этом я не ошибся? — Нет. Он постепенно увеличивал время ее пребывания в камере, и к третьему году она иной раз оставалась на плаву трое суток. К четвертому году — четверо или пятеро суток. А совсем недавно… буквально на прошлой неделе, он продержал ее в камере семь суток. — С катетером? — Да. И на капельнице, через которую в вену подавался раствор глюкозы, чтобы избежать слишком большой потери веса и обезвоживания организма. — Святой боже. Лаура промолчала. Она с трудом сдерживала слезы. Ее мутило. Глаза жгло, словно в них насыпали песку. Лицо горело. Она подошла к раковине, открыла холодную воду, которая полилась на груду грязной посуды. Подставила под струю сложенные лодочкой ладони, плеснула в лицо. Оторвала несколько сухих полотенец от рулона, который висел на стене, вытерла лицо и руки. Лучше ей не стало. — Он хотел научить ее противостоять боли, чтобы она легче выдерживала удлиняющиеся периоды пребывания в камере. — Холдейн словно размышлял вслух. — Возможно. Но уверенности в этом нет. — Но какие болевые ощущения может вызвать пребывание в этом резервуаре? Я думал, физических ощущений при этом нет вовсе. Вы сами так говорили. — При нормальной продолжительности пребывания болевых ощущений нет. Но, если вы собираетесь продержать человека в камере отсечения внешних воздействий несколько дней, может начать трескаться кожа. Начнут появляться язвы. — Ага. — И этот чертов катетер. В вашем возрасте у вас, скорее всего, не было столь тяжелого заболевания, чтобы вам ставили катетер. — Нет, никогда. — Видите ли, через пару дней катетер вызывает воспаление уретры. Это болезненно. — Могу себе представить. Ей хотелось выпить. Она практически не пила. Разве что изредка позволяла себе бокал вина. «Мартини». Но сейчас она бы с радостью напилась. — К чему он стремился? — спросил Холдейн. — Что пытался доказать? Зачем он все это с ней проделывал? Лаура пожала плечами. — Должна же у вас возникнуть хоть какая-то идея. — Никакой. В дневнике не описываются эксперименты, нет ни слова о его намерениях. Это всего лишь описание каждодневного состояния, с указанием продолжительности эксперимента и установки, на которой он проводился. — Вы видели бумаги в его кабинете, разбросанные по полу. В них наверняка больше информации, чем в дневнике. Может, из них мы что-то узнаем? — Возможно. — Я просмотрел несколько листов, но мало что смог разобрать. Технический язык, психологический жаргон. Для меня это что греческий. Если я сделаю ксерокопии, сложу их в ящик и пришлю вам через пару дней, вы сможете их просмотреть, систематизировать, высказать свое мнение? Она замялась: — Я… не знаю. Мне и от дневника стало дурно. — Разве вы не хотите знать, что он делал с Мелани? Если мы ее найдем, вы должны это знать. Иначе не сможете избавить ее от психологической травмы, нанесенной ей пребыванием в этом доме. Он говорил правильно. Для того чтобы подобрать правильное лечение, ей предстояло проникнуть в кошмар дочери и сделать его своим. — А кроме того, в этих бумагах могут быть какие-то зацепки, которые позволят определить, с кем он работал, кто мог его убить. Если нам удастся это выяснить, мы, возможно, сможем понять, кто и куда увез Мелани. Не исключено, что в бумагах вашего мужа вы найдете ту самую крупинку информации, которая поможет нам найти вашу дочь. — Хорошо, — устало ответила она. — Когда вы подготовите ксерокопии, отправьте их мне домой. — Я понимаю, это будет нелегко. — Вы чертовски правы. — Я хочу знать, кто финансировал пытки маленькой девочки во имя каких-то там исследований. — Лауре показалось, что в голосе лейтенанта слышится жажда мщения, которую не положено выказывать слуге закона. — Я очень хочу это знать. Он хотел сказать что-то еще, но в этот момент в кухню из коридора вошел полицейский. — Лейтенант? — В чем дело, Фил? — Вы ищете маленькую девочку, не так ли? — Да. — Похоже, ее нашли. Сердце Лауры словно сжали железные пальцы. Грудь пронзила боль. Она хотела задать самый важный для нее вопрос, но не смогла, потому что горло не пропускало воздух, а язык и губы не желали пошевельнуться. — Сколько лет? — спросил Холдейн. Лаура хотела задать совсем другой вопрос. — Они полагают, восемь или девять. — Приметы? — спросил Холдейн. Опять не тот вопрос. — Каштановые волосы. Зеленые глаза, — ответил полицейский. Оба мужчины повернулись к Лауре. Она знала, что смотрят они на ее каштановые волосы и зеленые глаза. Попыталась что-то сказать. Но дар речи не возвращался. — Живая? — это был тот самый вопрос, который не удалось озвучить Лауре. — Да, — кивнул полицейский. — Патрульная машина засекла ее в семи кварталах отсюда. Горло разжалось, язык и губы обрели подвижность. — Она жива? — Лаура боялась поверить услышанному. Полицейский кивнул: — Да. Я же сказал. Жива. — Когда? — спросил Холдейн. — Полтора часа тому назад. Холдейн побагровел. — И за это время никто мне не сказал. Черт побери! — Ее же заметил обычный патруль. Они понятия не имели, что девочка как-то связана с этим расследованием. Это выяснилось несколько минут тому назад. — Где она? — спросила Лаура. — В «Вэлью медикэл». — В больнице? — Сердце Лауры заколотилось о ребра. — Что с ней? Она ранена? Как сильно? — Не ранена, — ответил коп. — Насколько я понял, ее нашли бредущей по улице, голую, словно в трансе. — Голую, — повторила Лаура. Вернулся страх, связанный с насильниками, растлителями малолетних. Она привалилась к разделочному столику, вновь ухватилась пальцами за край, боясь, что ноги не удержат ее и она сползет на пол, попыталась глубоко вдохнуть, но горло опять перехватило. — Голую? — Она не понимала, где находится, не могла говорить, — продолжил Фил. — Они подумали, что она в шоке, а может, под действием наркотиков, и отвезли ее в больницу. Холдейн взял Лауру за руку: — Поехали. Не будем терять времени. — Но… — Что «но»? Она облизала губы. — А если это не Мелани? Я не могу обретать надежду, чтобы тут же ее потерять. — Это она, — настаивал лейтенант. — Здесь мы потеряли девятилетнюю девочку, в семи кварталах отсюда они ее нашли. Таких совпадений не бывает. — Но если… — Доктор Маккэффри, что с вами? — Что, если это не конец кошмара? — Не понял. — Что, если это только начало? — Вы спрашиваете меня, думаю ли я, что… после шести лет пыток… — Думаете ли вы, что она сможет стать нормальной девочкой? — У Лауры сел голос. — Не надо сразу ожидать худшего. Надежда есть всегда. Вы ничего не узнаете наверняка, пока не увидите ее, не поговорите с ней. Лаура упрямо покачала головой: — Нет. Не сможет она стать нормальной. Не сможет после того, что сделал с ней родной отец. После стольких лет насильственной изоляции. Она, должно быть, очень больная маленькая девочка, с сильнейшим психическим расстройством. И нет даже одного шанса на миллион, что она станет нормальной. — Нет, — мягко ответил он, понимая, что голословные утверждения обратного только разозлят Лауру. — Едва ли мы увидим здоровенькую, полностью адаптированную к действительности девочку. Она будет больной, испуганной, возможно, замкнувшейся в собственном мире. Достучаться до нее будет сложно, может, и не удастся. Но вы не должны забывать об одном. Лаура встретилась с ним взглядом. — О чем? — Вы ей нужны. Лаура кивнула. Они покинули залитый кровью дом. Дождь все лил, ночь осветила молния, сопровождаемая громовым раскатом. Холдейн усадил ее в седан. Поставил на крышу мигалку. Они помчались в «Вэлью медикэл» с включенными мигалкой и сиреной, в шипении шин по залитому водой асфальту, с летящими из-под колес брызгами.Глава 6
В отделении интенсивной терапии дежурил Ричард Пантагельо, молодой врач с густыми темными волосами и аккуратной темно-русой бородкой. Он встретил Лауру и Холдейна в приемном отделении и повел их в палату девочки. Шли они по пустынным коридорам, лишь изредка им попадались скользящие, словно призраки, медицинские сестры. В десять минут пятого утра в больнице царила тишина. На ходу доктор Пантагельо тихим голосом, почти шепотом, вводил их в курс дела: — У девочки нет ни переломов, ни порезов, ни ссадин. Только один синяк, на правой руке. Прямо над веной. Судя по характеру синяка, я бы сказал, что он — результат неумелого введения иглы для внутривенного вливания. — В каком она состоянии? — спросил Холдейн. — Я бы сказал, что она в трансе. Никаких признаков травмы головы нет, хотя с того самого момента, как ее привезли в больницу, она не может или не хочет говорить. Подстраиваясь под ровный тон врача, но не в силах полностью изгнать озабоченность из голоса, Лаура спросила: — Как насчет… изнасилования? — Я не смог найти ни одного признака надругательства над девочкой. Они обогнули угол и остановились перед закрытой дверью в палату 256. — Она там. — Доктор Пантагельо сунул руки в карманы белого халата. Лаура все еще обдумывала ответ врача на ее вопрос об изнасиловании. — Вы не нашли признаков надругательства над девочкой, но это не означает, что ее не могли изнасиловать. — Никаких следов спермы в вагинальном тракте. Ни синяков, ни кровотечения на половых губах или стенках влагалища. — Так и должно быть, если она не один год была жертвой растлителей малолетних. — Разумеется. Но ее девственная плева не тронута. — Значит, ее не насиловали, — подвел черту Холдейн. У Лауры вновь сжалось сердце, когда она увидела печаль и жалость в добрых карих глазах врача. И в голосе, когда он заговорил, звучала печаль: — С ней не совершался нормальный половой акт, в этом можно не сомневаться. Но… разумеется, я не могу этого утверждать. — Он откашлялся. Лаура видела, что этот разговор дается молодому доктору ничуть не легче, чем ей. Она хотела, чтобы он замолчал, но понимала, что должна услышать все, должна знать все, а его обязанность — рассказать обо всем. Прокашлявшись, он продолжил с того места, где остановился: — Я не могу полностью исключить оральный секс. Горестный бессловесный вскрик сорвался с губ Лауры. Холдейн взял ее за руку, и она привалилась к нему. — Спокойно. Спокойно. Пока мы даже не знаем, что это Мелани. — Она, — мрачно ответила Лаура. — Я уверена, что она. Лаура хотела увидеть дочь, ей не терпелось встретиться с ней после стольких лет разлуки. Но она боялась открыть дверь и войти в палату. За порогом ее ждало будущее, и она страшилась того, что в этом будущем ее ждет только душевная боль и отчаяние. Медсестра прошла мимо, не взглянув на них, намеренно избегая их взглядов, не желая соприкасаться с еще одной трагедией. — Мне очень жаль. — Пантагельо вытащил руки из карманов халата. Хотел утешить Лауру, но, похоже, боялся прикоснуться к ней. Вместо этого взялся за стетоскоп, висевший на груди, повертел. — Послушайте, если это поможет… ну, по моему мнению, ее не растлевали. Я не могу этого доказать. Просто чувствую. А кроме того, растление малолетних обычно сопровождается синяками. Порезами, другими травмами. Отсутствие следов насилия указывает на то, что ее никто не трогал. Действительно, я готов на это поспорить. — Он улыбнулся. Ей хотелось верить, что улыбнулся, хотя улыбка эта больше смахивала на гримасу. — Готов поспорить на год моей жизни. — Но, если к ней не прикасались, — Лаура глотала слезы, — почему она бродила по улицам голой? Ответ пришел к ней до того, как Лаура закончила озвучивать вопрос. — Должно быть, она находилась в камере отсечения внешних воздействий, когда в дом проник убийца или убийцы. В камере она находилась голая. — Отсечение внешних воздействий? — Брови Пантагельо приподнялись. Лаура повернулась к Холдейну. — Может, поэтому ее и не убили вместе с остальными. Может, убийца не знал, что она там, в резервуаре. — Возможно, — ответил Холдейн. — И она выбралась из резервуара после ухода убийцы. — Затеплившаяся у Лауры надежда начала набирать силу. — Увидела тела… всю эту кровь… зрелище очень травмирующее. Этим может объясняться ее нынешнее состояние, транс. Пантагельо с любопытством посмотрел на лейтенанта Холдейна. — Должно быть, вы ведете необычное расследование. — Очень, — согласился детектив. Внезапно у Лауры пропали все страхи. Она более не боялась открыть дверь в палату Мелани. Взялась за ручку, уже собралась толкнуть дверь. Остановила ее рука доктора Пантагельо, опустившаяся ей на плечо. — Еще один момент. Лаура с замиранием сердца ждала, пока молодой врач подберет слова, чтобы сообщить последнюю плохую новость. Она знала, что новость будет плохой. Видела это по его лицу. Он был слишком неопытен, чтобы скрывать свои чувства за бесстрастной маской профессионала. — Состояние, в котором она находится… ранее я назвал его «трансом». Но это не совсем верно. По существу, это практически кома. Такое состояние можно увидеть у детей-аутистов, когда они в максимальной степени уходят в себя. Во рту у Лауры пересохло, как будто последние полчаса она ела песок. На языке появился металлический привкус страха. — Продолжайте, доктор Пантагельо. Говорите прямо. Я сама врач. Психиатр. Что бы вы мне ни сказали, я выдержу. Теперь он заговорил быстрее, слова полились потоком, словно он стремился как можно скорее поделиться с ней плохими новостями и умыть руки. — Аутизм, психические расстройства в целом — не мой профиль. Очевидно, это по вашей части. Поэтому лучше мне вообще об этом не говорить. Но я хочу подготовить вас к тому, что ждет вас за дверью. Ее уход в себя, ее молчание, ее отстраненность… в общем. Я не думаю, что из этого состояния ее удастся вывести легко и быстро. Я думаю, она пережила что-то очень травмирующее и ушла в себя, чтобы отгородиться от воспоминаний. Чтобы вернуть ее в реальный мир, потребуется… невероятное терпение. — А может, она уже не вернется? — спросила Лаура. Пантагельо покачал головой, подергал бородку, повертел стетоскоп. — Нет, нет, я этого не говорил. — Но вы об этом подумали. Молчание послужило подтверждением. Лаура открыла дверь и вошла в палату. Врач и детектив последовали за ней. Дождь бил в единственное окно. Создавалось впечатление, будто по стеклу колотят крыльями сотни птиц, пытающихся вырваться из западни. Далеко в ночи, ближе к невидимому океану, дважды, трижды полыхнула молния и умерла в темноте. Из двух кроватей ближайшая к окну пустовала, и в той половине палаты царил сумрак. Свет горел над второй кроватью, на которой лежала девочка, укрытая простыней, в обычном больничном халате. Ее голова покоилась на подушке. Часть кровати у изголовья приподняли вместе с верхней половиной тела лежащего ребенка, так что Лаура, переступив порог, сразу увидела лицо девочки. Это была Мелани. Лаура в этом не сомневалась. Девочка унаследовала волосы матери, нос, аккуратный подбородок. А вот лоб и скулы достались ей от отца. Глаза были того же зеленого оттенка, что и у Лауры, но глубоко утопленными, как у Дилана. За шесть прошедших лет Мелани, конечно, изменилась. Лаура помнила ее совсем не такой, но установить личность позволяли скорее не внешние приметы, а нечто иное, неуловимое, возможно, аура, эмоциональная и даже психическая связь между матерью и дочерью, которая восстановилась, как только Лаура вошла в палату. Она знала, что перед нею ее маленькая девочка, а вот каким образом она это узнала, объяснить, пожалуй, если бы и смогла, то с трудом. Мелани напоминала ребенка с плакатов международных организаций, борющихся с голодом или собирающих средства на поиск методов лечения какой-то редкой и пока еще смертельной болезни. Бледная кожа с нездоровым, сероватым оттенком, губы скорее серые, чем розовые, темные мешки под запавшими глазами, словно она размазывала слезы чернильным кулачком. Да и сами глаза свидетельствовали о ее нездоровье. Она смотрела в пустой воздух над собой, моргая, но ничего не видя… ничего в этом мире. В этих глазах не было ни боли, ни страха. Только опустошенность. — Сладенькая, — обратилась к ней Лаура. Девочка не пошевельнулась. Глаза не дернулись. — Мелани! Никакой реакции. Лаура нерешительно двинулась к кровати. Девочка не ощущала ее приближения. Лаура опустила предохранительный поручень, наклонилась к ребенку, вновь позвала по имени и опять не добилась ответной реакции. Дрожащей рукой коснулась лица Мелани, горячего, как при повышенной температуре, и это прикосновение потрясло ее до глубины души. Дамба, сдерживающая эмоции, рухнула, Лаура схватила девочку, подняла с кровати, обнимая, крепко прижала к себе. — Мелани, крошка, моя Мелани, теперь все будет хорошо, все будет хорошо, обязательно будет, ты в безопасности, со мной ты в безопасности, с мамой ты в безопасности, слава богу, в безопасности, слава богу. — И вместе со словами из глаз Лауры катились слезы, она плакала навзрыд, никого не стесняясь, как в последний раз плакала давным-давно, когда сама была ребенком. Если бы Мелани тоже заплакала. Но нет. И не обняла мать. Лежала, обмякнув, в объятиях Лауры: податливое тело, пустая оболочка, не ведающая о любви, которую могла получить, неспособная принять поддержку и уход, предлагаемый матерью, отстраненная, остающаяся в своем собственном мире, потерянная.* * *
Десять минут спустя, в коридоре, Лаура вытерла глаза двумя бумажными салфетками, высморкалась. Дэн Холдейн ходил взад-вперед. Его ботинки поскрипывали по чисто вымытым виниловым плиткам. По выражению лица детектива Лаура догадалась, что он пытается подавить ярость, которую вызывали у него те, кто сотворил такое с Мелани. Может, у копов было больше сострадания, чем она думала. У этого, к примеру. — Я хочу оставить Мелани в палате как минимум до второй половины завтрашнего дня, — нарушил молчание доктор Пантагельо. — Для наблюдения. — Конечно, — кивнула Лаура. — Когда она выпишется из больницы, ей потребуется психиатрическая помощь. Лаура кивнула. — Вот о чем я думаю… вы не собираетесь лечить ее сами, не так ли? Лаура сунула мокрые салфетки в карман пиджака. — Вы думаете, что лучше пригласить кого-то еще, квалифицированного, но постороннего психиатра? — Да. — Доктор, я понимаю, на чем вы основываетесь, и в большинстве случаев согласилась бы с вами, но не в этом. — Но мать, лечащая своего ребенка, — вариант не из лучших. Вы будете более требовательно относиться к дочери, чем к обычному пациенту. И уж извините меня, но вполне возможно, что родительское воздействие — часть возникшей у ребенка проблемы. — Да. Вы правы. Обычно. Но не на этот раз. Я не творила такого с моей маленькой девочкой. Я не имела к этому ни малейшего отношения. По существу, я для нее — такая же незнакомка, как и любой другой психиатр, но я могу уделить ей больше времени, окружить ее большей заботой, большим вниманием, чем кто бы то ни было. С другим врачом она будет еще одним пациентом. Но со мной — моим единственным пациентом. Я уйду из больницы Святого Марка. Я передам моих частных пациентов коллегам на несколько недель, а то и месяцев. У меня не будет необходимости ожидать быстрого прогресса, потому что я не буду ограничена во времени. Я целиком посвящу себя Мелани. Она получит не только то, что я могу предложить как психиатр, как врач, но и мою материнскую любовь. Пантагельо уже собрался предупредить еще о какой-то опасности принятого Лаурой решения, но в последний момент передумал. — Тогда… удачи вам. — Спасибо. — Это большая работа, — сказал детектив после того, как врач ушел, оставив их в пустынном, пахнущем дезинфицирующим раствором коридоре. — Я смогу с этим справиться. — Уверен, что сможете. — У нее все будет хорошо. — Я очень на это надеюсь. На сестринском посту в конце коридора дважды звякнул телефон. — Я приказал прислать полицейского, — продолжил Холдейн. — На случай, что кто-то будет искать Мелани, если она стала свидетельницей убийств. Охрана не помешает. Во всяком случае, до второй половины завтрашнего дня. — Спасибо, лейтенант. — Вы останетесь здесь, не так ли? — Да. Конечно. Где же еще? — Надеюсь, ненадолго? — На несколько часов. — Вам нужно отдохнуть, доктор Маккэффри. — Мелани нуждается во мне в большей степени. Да и я все равно не смогу уснуть. — Но если завтра она отправится домой, разве вам не нужно подготовиться к ее приезду? Глаза Лауры широко раскрылись. — Ох! Я даже не подумала об этом. Я должна приготовить спальню. Она больше не сможет спать в детской кроватке. — Вам лучше поехать домой, — мягко заметил он. — Скоро поеду, — согласилась она. — Но не для того, чтобы спать. Я не могу спать. Оставлю Мелани одну лишь на время, которое понадобится мне, чтобы подготовиться к ее возвращению домой. — Вы уж извините, что говорю об этом, но мне нужны образцы крови, вашей и Мелани. Просьба удивила ее. — Зачем? Он помялся. — Ну, по анализам крови, вашей, вашего мужа и девочки, мы сможем точно установить, что она — ваша дочь. — В этом нет необходимости. — Это наиболее простой способ… — Я сказала, в этом нет необходимости, — раздраженно повторила Лаура. — Она — Мелани. Моя маленькая девочка. Я это знаю. — Я понимаю, каково вам сейчас. — В голосе слышалось сочувствие. — Уверен, что она — ваша дочь. Но, поскольку вы не видели ее шесть лет, за которые она сильно изменилась, поскольку она не может говорить, мы должны иметь вещественные доказательства, а не только ваши инстинкты, иначе суд по делам несовершеннолетних отдаст ее под опеку штата. Вы этого не хотите, не так ли? — Господи, нет. — Доктор Пантагельо сказал мне, что образец крови девочки у них есть. На то, чтобы взять несколько кубических сантиметров вашей крови, потребуется лишь минута. — Хорошо. Но… где? — Рядом с сестринским постом процедурный кабинет. Лаура с тревогой посмотрела на закрытую дверь палаты Мелани. — Мы сможем побыть здесь до прихода полицейского? — Конечно. — Он прислонился к стене. Лаура не сдвинулась с места, глядя на дверь. Молчание становилось все более невыносимым. — Я была права, не так ли? — Лаура нарушила молчание вопросом. — Насчет чего? — Когда сказала, что кошмар не закончится после того, как мы найдем Мелани, а только начнется. — Да. Вы не ошиблись. Но по крайней мере это начало. Она знала, о чем он: они могли найти тело Мелани вместе с остальными телами, избитыми, изуродованными, мертвыми. Однако нашли живую Мелани. Будущее тревожило, пугало, вызывало массу вопросов, но это было будущее.Глава 7
Дэн Холдейн сидел за столом, выделенным ему во временное пользование в полицейском участке Ист-Вэлью. На повидавшей виды деревянной поверхности хватало темных пятен, как от затушенных о стол сигарет, так и от разлитого горячего кофе. Но удобства Холдейна не интересовали. Он любил свою работу и мог заниматься ею хоть в палатке. В этот предрассветный час в полицейском участке царил относительный покой. Большинство потенциальных жертв еще не проснулось, и даже преступникам требовался сон. Понятное дело, что численностью замогильная смена[35] значительно уступала дневной. Поэтому тишина в эти недолгие, оставшиеся до рассвета минуты нарушалась разве что стрекотом пишущей машинки да ударами швабры уборщицы о ножки пустующих столов. Где-то зазвонил телефон: даже в столь ранний час кто-то попал в беду. Дэн раскрыл потрепанный брифкейс и разложил его содержимое по столу. Поляроидные фотографии трех тел, найденных в доме в Студио-Сити. Несколько листов, поднятых наугад с пола в кабинете Дилана Маккэффри. Показания соседей. Предварительные заключения коронера и департамента экспертно-технической поддержки (ОТП). И списки. Дэн верил в списки. У него были списки содержимого ящиков столов, буфетов, стенных шкафов дома, где совершились убийства, список названий книг, которые стояли на полках в гостиной, список телефонных номеров из блокнота, который лежал у телефонного аппарата в кабинете Маккэффри. И список фамилий, всех фамилий, которые встречались на листах или обрывках бумаги, найденных в доме в Студио-Сити. До завершения расследования он намеревался носить эти списки с собой, доставать их и просматривать в любой свободный момент, за ленчем, в туалете, в кровати, перед тем как выключить свет, чтобы дразнить свое подсознание, надеясь, что в какой-то момент ему удастся найти упущенную ранее важную связь. Стэнли Холбайн, давний друг и бывший напарник из отдела расследований грабежей и убийств, однажды смутил Дэна, рассказав на рождественской вечеринке отдела длинную и забавную (а также не соответствующую действительности) историю о самых секретных списках Дэна, включая и тот, в который заносилось все съеденное на завтрак, обед и ужин, начиная с девятилетнего возраста, плюс время каждой дефекации и возникающие при этом ощущения. Дэн, красный как рак, слушал, улыбаясь, глубоко засунув руки в карманы, и в конце концов сделал вид, что ему хочется задушить Стэнли. Но в тот момент, когда он уже собрался броситься на своего друга, на пол выпали с полдесятка листков, которые он случайно, вытаскивая руки, достал из карманов, что вызвало гомерический хохот присутствующих, а Дэну пришлось срочно ретироваться в другую комнату. Теперь же он бегло просмотрел последний комплект списков, смутно надеясь обнаружить что-то важное, какой-то ключевой для расследования момент. Ничего не обнаружилось, и он пошел по второму кругу, теперь уже более внимательно проглядывая каждый список. Названия книг были сплошь незнакомы. Библиотека состояла из книг по психологии, медицине, естественным наукам, оккультизму. Почему ученый, доктор наук интересовался ясновидением, психическими силами и другими паранормальными феноменами? Он просмотрел список фамилий. Ни одной знакомой. И хотя в желудке жгло все сильнее, он раз за разом возвращался к фотографиям тел. За четырнадцать лет в УПЛА и четыре года в армии он насмотрелся на мертвых. Но с таким сталкивался впервые. Видел, во что превращались люди, которые наступали на противопехотные мины. Но даже они выглядели получше, чем эти. Убийц, конечно же, их было несколько, отличала невероятная сила или нечеловеческая жестокость, а может, и то и другое. Жертв продолжали методично избивать и после того, как несчастные умерли, превращая тела в желе. Какие люди могли убивать со столь беспредельной злобой? Какая маниакальная ярость двигала ими? Прежде чем он успел сосредоточиться на этих вопросах, послышались приближающиеся шаги. К столу Дэна подходил Росс Мондейл, капитан участка, крепкий, широкоплечий мужчина ростом пять футов и восемь дюймов, с карими глазами, каштановыми волосами и бровями, в темно-коричневом костюме, бежевой рубашке, коричневом галстуке и туфлях. На правой руке он носил тяжелый перстень с ярким рубином, единственным цветовым пятном в облике, выдержанном в коричневых тонах. Уборщица ушла. В большом зале они остались вдвоем. — Ты все еще здесь? — спросил Мондейл. — Нет, это моя картонная копия. А сам я в сортире, ширяюсь героином. Мондейл не улыбнулся: — Я думал, ты уже уехал к себе. — Меня приписали к Ист-Вэлью. У смога здесь особый вкус. Мондейл сердито глянул на него: — Это сокращение фондов — постоянная головная боль. Раньше, если человек заболевал или уходил в отпуск, мне было кем его заменить. А теперь мы должны приглашать людей с других участков, а нередко одалживать своих, хотя у них и тут полно работы. Это же просто кошмар. Дэн знал, что Мондейл не возражал, если к нему в участок для каких-то расследований присылали кого-то еще. Просто он не любил Дэна. И антипатия была взаимной. Они вместе учились в полицейской академии, а потом их свели в один патрульный экипаж. Дэн написал рапорт с просьбой дать ему другого напарника, но ничего не добился. И со временем лишь встреча с сумасшедшим, пуля в грудь и длительное пребывание в госпитале позволили Дэну добиться желаемого: вернувшись на службу, он получил нового и более надежного напарника. По натуре Дэн был патрульным. Ему нравилось находиться на улицах, в гуще событий. Мондейл, наоборот, тяготел к кабинетной службе. Умел подать себя и найти подход к нужным людям. Манипулятор, подхалим, льстец, он всегда держал нос по ветру, прекрасно разбирался во внутренних интригах и иерархии полицейского управления, стремился войти в доверие к тем высокопоставленным сотрудникам, которые могли сделать для него максимум возможного, и тут же отворачивался от бывших союзников, если они теряли власть. А кроме того, он умел находить общий язык как с политиками, так и с репортерами. Эти таланты помогали ему продвигаться по службе быстрее Дэна. Ходили слухи, что мэр прочил Росса Мондейла в начальники управления полиции Лос-Анджелеса. Так что для Дэна у Мондейла не находилось добрых слов. — У тебя пятно на рубашке, Холдейн. Дэн опустил голову, увидел пятно цвета ржавчины размером с десятицентовик. — Хот-дог с соусом «Чили». — Знаешь, Холдейн, каждый из нас представляет целый участок. Наша обязанность… долг… делать все, чтобы у общественности складывалось о нас самое благоприятное впечатление. — Ты прав. Больше не буду есть хот-доги с соусом «Чили». Только рогалики с черной икрой. Тогда пятна на рубашке будут совсем другого качества. Клянусь. — У тебя привычка высмеивать всех вышестоящих офицеров? — Нет. Только тебя. — Мне это без разницы. — Я так и думал. — Слушай, я не собираюсь вечно терпеть твои выходки только потому, что мы вместе учились в академии. Ностальгия не была причиной, по которой Мондейл терпел выходки Дэна, и оба это прекрасно понимали. Просто Дэн знал кое-что о Мондейле, и информация эта, став достоянием общественности, могла порушить карьеру капитана. Мондейл совершил некий проступок на втором году службы, когда они еще ездили в одной патрульной машине, и сведения эти стали бы праздником для любого шантажиста. Но Дэн не собирался использовать этот козырь против Мондейла. Да, он презирал капитана, но не мог заставить себя опуститься до шантажа. Если бы их роли поменялись, Мондейл без всякого сожаления пошел бы на шантаж или разоблачение Дэна, в зависимости от того, что могло принести большую выгоду. И продолжающееся молчание Дэна ставило капитана в тупик, лишало спокойствия, заставляло при каждой их встрече вести себя с крайней осторожностью. — А если конкретнее? — полюбопытствовал Дэн. — Как долго ты еще будешь терпеть мои выходки? — Слава богу, не очень-то и долго. — Мондейл улыбнулся. — По окончании этой смены ты возвращаешься на свой участок. Дэн откинулся на спинку старого стула, который протестующе заскрипел, закинул руки за голову, сплел пальцы на затылке. — К сожалению, придется тебя разочаровать. Какое-то время я побуду здесь. Этой ночью я занимался убийством. Теперь это мое дело. Полагаю, до конца смены найти убийц мне не удастся. Так что я задержусь у тебя. Улыбка капитана растаяла, как тает мороженое на раскаленной сковородке. — Ты выезжал на тройное убийство в Студио-Сити? — Ага, теперь я понимаю, почему ты приехал в участок в такую рань. Ты об этом услышал. Двух достаточно известных психологов убили при загадочных обстоятельствах, вот ты и решил, что пресса неоставит это расследование без внимания. Как тебе удается так быстро все узнавать, Росс? Ты спишь, поставив рядом с кроватью полицейскую рацию? Пропустив вопрос мимо ушей, Мондейл уселся на край стола. — Есть зацепки? — Нет. Зато могу показать фотографии жертв. И удовлетворенно отметил, как кровь отхлынула от лица Мондейла, когда тот увидел изуродованные тела. Капитан даже не досмотрел снимки до конца. Положил на стол. — Похоже, что грабители потеряли контроль над собой. — Никакого взлома не было. Деньги мы нашли на каждом теле. Хватало наличных и в доме. Ничего не украли. — Я этого не знал. — Но ты должен знать, что грабители обычно убивают, когда загнаны в угол, и стараются это сделать быстро и чисто. Не так, как здесь. — Всегда бывают исключения, — высокомерно возразил Мондейл. — Даже бабушки грабят банки. Дэн рассмеялся. — Но это правда. — Ты великолепен, Росс. — Но это правда. — Моя бабушка банки не грабила. — Я не говорил, твоя бабушка. — То есть ты хотел сказать, что банки грабила твоя бабушка, Росс? — Чья-то чертова бабушка это делает, и ты можешь поставить на спор свой зад. — Ты знаком с букмекером, который берет ставки на то, что чья-то бабушка ограбит или не ограбит банк? Если можно выиграть приличные деньги, я, пожалуй, поставлю сотню баксов. Мондейл слез со стола, поправил узел галстука: — Я не хочу, чтобы ты здесь работал, сукин ты сын. — Ты же помнишь старую песню «Роллинг стоунз», Росс. Не всегда можно получить то, что хочешь. — Я могу отправить твой зад в Центральный участок, где ему самое место. — Тебе не удастся отправить его без остальных частей моего тела, а остальные части намерены какое-то время побыть здесь. Лицо Мондейла потемнело. Губы сжались и побелели. Казалось, еще чуть-чуть, и он бросится на Дэна с кулаками. Но Дэн заговорил до того, как капитан успел совершить что-либо опрометчивое. — Послушай, ты не можешь снять меня с расследования, которое я начал вести с самого начала, если я не напортачу. Ты знаешь, таковы правила. Но я не хочу собачиться с тобой. Меня это отвлекает. Поэтому давай заключим перемирие, а? Я тебя не цепляю, веду себя как пай-мальчик, а ты не путаешься у меня под ногами. Мондейл молчал. Тяжело дышал и, похоже, не решался заговорить, опасаясь, что сболтнет лишнее. — Мы не очень любим друг друга, но это не та причина, которая может помешать нам работать вместе, — добавил Дэн, чтобы окончательно успокоить Мондейла. — Почему ты не хочешь отказаться от этого расследования? — Потому что оно интересное. Большинство расследований убийств скучны. Муж убивает бойфренда жены. Какой-нибудь псих убивает женщин, которые напоминают ему мать. Один торговец наркотиками убивает другого торговца наркотиками. Я сталкивался с этим сотню раз. Наводит тоску. А вот здесь, думаю, что-то особенное. Вот почему я не хочу отдавать это расследование. В жизни нам всем необходимо разнообразие. Вот ты, Росс, носишь только коричневые костюмы, и это твоя ошибка. Шпильку Мондейл проигнорировал. — Так ты думаешь, на этот раз у нас громкое дело? — Три убийства… ты не считаешь, что это привлечет внимание? — Я имел в виду что-то действительно громкое. Вроде семьи Мэйсона или Душителя из Хиллсайда. — Вполне возможно. Все зависит от того, как пойдет расследование. Но, да, я предполагаю, что это та самая история. Которая увеличивает продажу газет и повышает рейтинги новостных телепрограмм. Мондейл задумался над словами Дэна, глаза его затуманились. — Настаиваю я только на одном. — Дэн наклонился вперед, положил руки на стол, изобразил на лице суровость. — Если я буду вести это расследование, то не хочу тратить время на разговоры с репортерами, на интервью. И твоя задача — не подпускать этих мерзавцев ко мне. Пусть сколько хотят снимают кровавые пятна, чтобы им было что показать в дневном выпуске новостей, но рядом со мной их быть не должно. Общаться с ними — не по моей части. Туман в глазах Мондейла рассеялся, он встретился с Дэном взглядом. — Да, конечно, никаких проблем. От прессы иной раз одна головная боль. — Возможность покрасоваться перед телекамерами и побеседовать с репортерами Мондейла только радовала. — Я возьму их на себя. — Отлично. — И ты будешь докладывать результаты мне, никому, кроме меня. — Естественно. — Каждый день, подробный отчет. — Как скажешь. Мондейл смотрел на Дэна, не веря своей удаче, но и боясь ее спугнуть. Каждый человек любит помечтать. Даже Росс Мондейл. — Учитывая нехватку сотрудников и все такое, разве тебе нечем заняться? — спросил Дэн. Капитан направился к своему кабинету, остановился через пару шагов, обернулся. — Пока у нас есть трупы двух достаточно известных психологов, а известным людям нравится узнавать всякие новости об известных людях. Так что ты сможешь выйти на другой уровень, отличный от того, на котором находился, когда расследовал убийства наркодилеров. А кроме того, это расследование привлечет пристальное внимание прессы. Так что мне, скорее всего, придется встречаться с начальником полицейского управления, членами комиссариата, может, даже с мэром. — И что? — Поэтому не наступай ни на чьи мозоли. — Об этом не волнуйся, Росс, я никогда не стану танцевать с этими парнями. Мондейл покачал головой: «Господи!» Дэн проводил капитана взглядом. А оставшись один, вернулся к спискам.Глава 8
Небо просветлело, из черного стало серо-черным. Заря еще не выползла из своей норы, но уже подобралась к выходу из нее, и оставалось десять или пятнадцать минут до ее появления над холмистым горизонтом. Автомобильная стоянка у «Вэлью медикэл» практически пустовала, темноту на ней разгоняли лишь редкие круги света от подвешенных на столбах натриевых ламп. Сидя за рулем своего «Вольво», Нед Ринк сожалел о том, что ночь подходит к концу. Он предпочитал ночную жизнь, был совой, а не жаворонком. До полудня мало что соображал и лишь после полуночи становился самим собой. Такая особенность его организма программировалась на генном уровне, потому что в этом он ничем не отличался от своей матери. У них обоих биологические часы шли не так, как это бывает у большинства людей. Тем не менее ночную жизнь он выбрал сознательно. В темноте чувствовал себя более уверенно, чем при свете дня. Он был уродлив и знал это. Понимал, что днем уродство это бросается всем в глаза, тогда как темнота смягчала его, делала менее заметным. Низкий покатый лоб Неда вроде бы указывал на недостаток ума, но на самом деле он был далеко не глуп. Маленькие глазки располагались слишком близко к крючковатому носу, а остальные черты словно вырубили топором. За широкие плечи, длинные руки и бочкообразную грудь, несоразмерные его росту (ныне пять футов и семь дюймов), его еще в детстве (дети, как известно, жестоки) прозвали Обезьяной. Он так нервно реагировал на их насмешки, что уже к тринадцати годам заработал язву желудка. Но теперь Нед Ринк никому не позволял насмехаться над собой. Теперь, если такой смельчак находился, Нед Ринк просто убивал его, вышибал мозги без малейшего колебания и не испытывая при этом никаких угрызений совести. Он нашел прекрасный способ борьбы со стрессом: язвы давным-давно зарубцевались и более его не беспокоили. С пассажирского сиденья он взял черный «дипломат», в котором лежали белый врачебный халат, белое больничное полотенце, стетоскоп и полуавтоматический пистолет «вальтер» с глушителем. Пули в патронах были с полыми наконечниками и с тефлоновым покрытием, от таких не спасали и пуленепробиваемые жилеты. Ему не пришлось открывать «дипломат», чтобы убедиться, что все на месте. Вышеуказанные предметы он уложил туда сам менее чем час тому назад. Попав в вестибюль больницы, он намеревался прямиком пойти в общественный туалет, снять плащ, надеть белый халат, прикрыть пистолет полотенцем и подняться в палату 256, куда поместили девочку. Ринка предупредили, что около палаты может дежурить полицейский. Его это не смутило. Он знал, как устранить это препятствие. Он намеревался представиться врачом, под каким-то предлогом зазвать копа в палату девочки, где их не могли видеть медсестры, пристрелить сначала этого кретина, затем девочку. А потом сделать по контрольному выстрелу. Приложить ствол к уху каждому и нажать на спусковой крючок, чтобы гарантировать их смерть. Покончив с заданием, Ринк тут же покинул бы палату, спустился вниз, прошел в туалет, взял плащ и «дипломат» и ретировался из больницы. План был предельно простым и четким, и Ринк не представлял себе, что могло бы помешать его реализации. Прежде чем открыть дверцу и выбраться из «Вольво», он пристально оглядел стоянку, чтобы убедиться, что за ним не наблюдают. Хотя гроза ушла и дождь уже с полчаса как перестал, город был накрыт легким туманом, который что-то прятал, что-то искажал. Каждую выемку в асфальте наполняла вода, рябь на лужах (ветер все еще продолжал дуть) отражала желтый свет натриевых ламп. Но, кроме тумана и ветра, в ночи вроде бы ничего не двигалось. Ринк решил, что он один и его никто не видит. На востоке серо-черное небо посветлело, начало приобретать розово-голубой оттенок. Заря готовилась показать свое лицо. Еще час, и спокойная ночная жизнь больницы сменится дневной суетой. Пришло время действовать. Ринку не терпелось перейти к делу. Раньше он никогда не убивал ребенка. Вот и хотелось попробовать что-то новенькое.Глава 9
Девочка проснулась, одна. Села на кровати, попыталась закричать. Рот широко открылся, мышцы шеи напряглись, кровяные сосуды в горле и на висках пульсировали от напряжения, но она не смогла издать ни звука. Посидела с полминуты, сжимая в маленьких кулачках мокрую от пота простыню. С широко раскрытыми глазами. Но она смотрела и реагировала не на то, что находилось в палате. Ужас лежал за этими стенами. На какие-то мгновения ее глаза очистились. Она уже понимала, что находится в какой-то комнате. И тут впервые осознала, что она одна. Вспомнила, кем была, ей отчаянно захотелось, чтобы ее обняли, пригрели, успокоили. — Привет? — прошептала она. — К-кто-нибудь? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Мамик? Если бы рядом находились люди, возможно, они бы захватили ее внимание и раз и навсегда отвлекли от тех ужасов, которые пугали ее. Но в палате она была одна и не смогла отделаться от кошмара, вонзившего в нее свои когти, так что глаза девочки вновь заволокло. И взгляд устремился куда-то далеко-далеко. Наконец, отчаянно, безмолвно всхлипывая, она перебралась через предохранительный поручень и вылезла из кровати. Сделала несколько шагов. Опустилась на колени. Тяжело дыша, даже задыхаясь от страха, поползла в темную половину палаты, мимо пустующей кровати, в угол, где дружелюбные тени обещали защиту. Села спиной к стене, лицом к палате, подтянула колени к груди. Больничный халат заканчивался на бедрах. Она обхватила руками тоненькие ножки и сжалась в комок. Оставалась в таком положении с минуту, а потом начала пищать и скулить, как испуганное животное. Подняла руки и закрыла лицо, стремясь отсечь что-то отвратительное. — Нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Учащенно дыша, паника все нарастала, она опустила руки и сжала кулаки. Забарабанила по груди, сильнее и сильнее. — Нет, нет, нет, — повторяла она. Била сильно, такие удары не могли не вызывать боли, но девочка ее не чувствовала. — Дверь, — прошептала она. — Дверь… дверь… Пугали девочку не дверь в коридор или дверь в ванную. Она смутно воспринимала окружающий ее мир, вместо этого концентрируя свое внимание на том, что в этой комнате не мог видеть никто, во всяком случае, находясь в этой больничной палате. Она подняла обе руки, выставила перед собой, словно уперлась ими в невидимую дверь, изо всех сил пытаясь удержать ее, не дать открыться. — Не двигайся. Слабенькие мышцы рук напряглись, но потом ее локти согнулись, словно невидимая дверь имела реальный вес и открывалась, несмотря на все ее усилия. Словно что-то большое неумолимо толкало дверь с другой стороны. Что-то большое и невероятно сильное. Резко, ахнув, она метнулась из укутанного тенями угла, бросилась на пол. Заползла под пустующую кровать. Она в безопасности. Или нет. Безопасности не найти нигде. Под кроватью она свернулась в клубок, приняла позу зародыша, что-то бормоча, пытаясь спрятаться от неведомой твари за дверью. — Дверь, — прошептала она. — Дверь… дверь в декабрь. С руками, скрещенными на груди, с пальцами, вжимающимися в худенькие плечи, она начала тихонько плакать. — Помогите мне, помогите, — шептала она, но шепот не мог долететь до коридора, где ее могли бы услышать на сестринском посту. Если бы кто-то откликнулся на ее крик, Мелани могла в ужасе приникнуть к этому человеку, не в силах сбросить покров аутизма, защищавшего ее от мира, жестокость которого она не могла вынести. Даже такой контакт с человеческим существом, когда ей того хотелось, мог бы стать первым маленьким шагом на пути выздоровления. Но, из лучших побуждений, люди оставили ее одну, отдыхать, и ее мольба о помощи осталась неуслышанной. Она содрогнулась. — Помогите мне. Она открывается. Она… открывается, — последнее слово растворилось в глухом стоне черного отчаяния. Боль рвала душу. Но постепенно частота дыхания замедлилась до нормальной. Рыдания прекратились. Она лежала в молчании, недвижно, словно крепко спала. Но в темноте под кроватью ее глаза оставались широко открытыми, и видели они кошмар и ужас.Глава 10
Вернувшись домой чуть ли не на рассвете, Лаура сварила себе крепкий кофе. С полной кружкой прошла в спальню для гостей и, пригубливая обжигающий напиток, принялась протирать пыль, застилать кровать, готовиться к приезду Мелани. Ее четырехлетний кот Перец вертелся рядом, терся о ноги, требовал, чтобы его погладили, почесали за ухом. Кот, похоже, чувствовал, что скоро он перестанет быть главным в доме. Четыре года Перец заменял Лауре ребенка. В каком-то смысле и дом заменял ей ребенка, служил для выхода энергии, которую Лаура могла бы потратить на свою маленькую девочку. Шестью годами раньше, после того как Дилан ушел, сняв с банковских счетов все деньги и оставив Лауру без цента, ей пришлось сильно напрячься, чтобы поддерживать дом в должном состоянии. Жили они не в особняке, но в просторном, построенном в испанском стиле двухэтажном доме с четырьмя спальнями в Шерман-Оукс, на престижной стороне бульвара Вентуры, на улице, где во многих домах имелись бассейны, в том числе и с подогревом, откуда детей часто отправляли в частные школы, если держали собак, то не каких-то дворняжек, а породистых немецких овчарок, спаниелей, золотистых ретриверов, эрдель-терьеров и пуделей, зарегистрированных в Американском клубе собаководства[36]. Дом стоял на большом участке, наполовину скрытый коралловыми деревьями, магнолиями, кустами красного и лилового гибискуса, красной азалии и зеленой изгородью. Выложенную плитами дорожку, идущую к парадной двери, с двух сторон окаймлял цветочный бордюр. Лаура гордилась своим домом. Три года тому назад, перестав нанимать частных детективов для поисков Дилана и Мелани, она стала вкладывать остающиеся после текущих расходов деньги в обновление дома, в гостиной отделала стены дубом, поменяла двери, в большой ванной сменила кафель на темно-синий, поставила новые ванну и раковины, краны с золотым покрытием. Восточный сад Дилана она срыла, потому что он напоминал ей о сбежавшем муже, и заменила розарием, где теперь росли двадцать сортов роз. В каком-то смысле дом занял место украденной у нее дочери: она тревожилась из-за дома, возилась с ним, прихорашивала. Короче, заботилась о состоянии дома точно так же, как мать заботится о здоровье ребенка. Теперь у нее отпала необходимость сублимировать материнский инстинкт. Ее дочь наконец-то возвращалась домой. Перец мяукнул. Схватив кота за шкирку, Лаура рывком подняла его на уровень лица. Все четыре лапки скребли воздух. — Для одного жалкого кота любви у меня хватит. Об этом можешь не волноваться, охотник на мышей. Зазвонил телефон. Она опустила кота на пол, по коридору прошла в большую спальню, сняла трубку с рычага. «Алло?» Ответа не услышала. Тот, кто звонил, выждал несколько секунд, потом оборвал связь. Лаура в тревоге посмотрела на телефон. Может, неправильно набрали номер. Но в этот предрассветный час, в эту экстраординарную ночь звонящий телефон и молчание на другом конце провода вызывали предчувствие дурного. Она проверила, хорошо ли заперты все дверные замки. Вроде бы неадекватная реакция, но что еще она могла сделать? Все еще тревожась, она постаралась забыть о звонке и вернулась в пустую комнату, которая когда-то была детской. Двумя годами раньше она выбросила детскую мебель из спальни Мелани, наконец-то признав, что дочь к этому времени ее переросла. А вот ремонт в спальне делать не стала, исходя из того, что девочка, вернувшись, сможет сама выбрать цвет обоев, рисунок занавесок и все прочее. Собственно, Лаура оставила комнату пустой, потому что (хотя не признавалась в собственных страхах) в глубине сердца не ждала возвращения девочки, смирилась с тем, что ребенок исчез навсегда. Однако она сохранила несколько игрушек Мелани. И теперь достала ящик с игрушками из стенного шкафа, просмотрела его содержимое. Трехлетние и девятилетние играют в разные игрушки, но Лаура нашла две, которые могли бы заинтересовать Мелани: большую куклу Рэггеди Энн[37], только чуть замызганную, и маленького плюшевого медвежонка с висящими ушами. Медвежонка и куклу она перенесла в спальню для гостей и посадила на подушки, спинами к изголовью. Переступив порог, Мелани сразу увидела бы их. Перец запрыгнул на кровать, с любопытством и тревогой приблизился к кукле и медвежонку. Понюхал куклу, лизнул медвежонка, потом свернулся калачиком рядом с ними, вероятно, решив, что они — друзья. Первые лучи утреннего солнца проникли в комнату через французские окна, говоря о том, что дождь закончился и в сплошных облаках появились разрывы, чем незамедлительно воспользовалось солнце. Хотя ночью Лауре удалось поспать не больше трех часов, а ее дочь могла покинуть больницу лишь через шесть-восемь часов, вновь ложиться в кровать Лауре не хотелось. Она чувствовала себя бодрой, энергичной. С крыльца взяла запечатанную в пластик утреннюю газету. На кухне из двух апельсинов выжала себе стакан сока, поставила на плиту кастрюльку с водой, достала из буфета коробку овсянки с изюмом, сунула в тостер два ломтика хлеба. И даже напевала («Даниэля» Элтона Джона), когда садилась за стол. Ее дочь возвращалась домой. Статьи на первой полосе, напряженность на Ближнем Востоке, вооруженные столкновения в Центральной Америке, козни политиков, ограбления, грабежи и бессмысленные убийства не вызывали у нее привычной озабоченности. Об убийстве Дилана, Хоффрица и третьего неопознанного мужчины ничего не сообщалось. Убитых нашли слишком поздно: утренний выпуск уже ушел в печать. Если бы она прочитала об этой бойне, с соответствующими фотоснимками, в «Таймc», возможно, на сердце у нее не было бы так легко. Но о тройном убийстве в газете она не нашла ни слова, Мелани обещали выписать из больницы во второй половине дня, так что, по большому счету, она знавала и куда более худшие утра. Ее дочь возвращалась домой. Закончив завтрак, она отодвинула газету и пересела к окну, посмотрела на розарий. Вымокшие цветы казались неестественно яркими в косых солнечных лучах, такие насыщенные цвета она видела во сне, а не наяву. Лаура потеряла счет времени, возможно, просидела у окна минуту, а может, и десять, когда из грез ее вырвал раздавшийся где-то в доме грохот. Она вскочила, напряженная, испуганная, перед мысленным взором возникли залитые кровью стены и три тела в матовых пластиковых мешках. А потом Перец влетел в столовую, потом на кухню, его когти царапали по виниловым плиткам. Промчался мимо Лауры в угол, развернулся, с вздыбленной шерстью, прижав уши к голове, уставился на дверь, через которую только что вбежал. А затем, совершенно неожиданно, и выглядело это очень комично, кот изобразил полную беззаботность, свернулся на полу пушистым калачиком, зевнул, поднял на Лауру сонные глаза, как бы говоря: «Кто, я? Потерял свое кошачье достоинство? Даже на мгновение? Ни в коем разе. Испугался? Нелепо!» — Что ты сделал, котик? Что-то сшиб и испугался? Кот снова зевнул. — Лучше бы ты сшиб что-то небьющееся, — продолжила Лаура, — а не то у меня наконец-то появятся теплые наушники из кошачьей шкурки, о которых я давно мечтаю. Она прошлась по дому, чтобы посмотреть, какой нанесен урон. Обнаружила, что Перец буянил в спальне для гостей. Плюшевый медвежонок и Рэггеди Энн валялись на полу. К счастью, кот не подрал их когтями. Смахнул Перец со столика у кровати и будильник. Лаура подняла его, увидела, что часы тикают, стекло тоже не разбилось. Поставила будильник на положенное место, вернула куклу и медвежонка на кровать. Странно, Перец три последние года не позволял себе ничего подобного. За это время немного поправился, вел себя смирно, был всем доволен. И такая перемена в поведении могла трактоваться однозначно: кот знал, что в доме Маккэффри ему придется потесниться. На кухне Перец по-прежнему лежал в углу. Лаура наполнила едой его миску. — К счастью для тебя, ничего не разбилось. Мне бы не хотелось, чтобы из твоей шкуры сшили наушники. Перец сел, навострил ушки. Лаура постучала по миске пустой банкой из-под кошачьей еды. — Пора ам-ам, ты, беспощадный истребитель мышей. Перец не сдвинулся с места. — Ладно, поешь, когда захочешь, — Лаура вымыла банку под струей воды в раковине, прежде чем бросить в мусорное ведро. Перец ракетой вылетел из угла, промчался по кухне, пересек столовую, исчез в гостиной. — Сумасшедший кот. — Лаура, хмурясь, смотрела на полную миску. Обычно Перец начинал есть еще до того, как весь корм вываливался из банки. Странно.Часть II. БЕЗЛИКИЕ ВРАГИ Среда 13.00–19.45
Глава 11
В час дня, когда Лаура на своей синей «Хонде» подъехала к «Вэлью медикэл», полицейский в форме, который стоял у въезда на главную автомобильную стоянку, остановил ее и направил на стоянку для сотрудников, открытую для всех «на то время, пока мы во всем разберемся». За его спиной стояли черно-белые патрульные машины УПЛА и автомобили других городских служб, некоторые с включенными мигалками. Следуя указаниям полицейского и направляясь к стоянке автомобилей сотрудников больницы, Лаура посмотрела направо и за забором увидела лейтенанта Холдейна. Ростом и габаритами он превосходил всех, кто находился на автостоянке. И тут Лаура внезапно поняла, что вся эта суета, возможно, связана с Мелани и убийствами в Студио-Сити. К тому времени, когда она втиснула «Хонду» между двумя автомобиля с буквами MD[38] на пластинах с номерными знаками и побежала к забору, за которым находилась общественная автостоянка, Лаура уже наполовину убедила себя, что Мелани ранена, похищена или убита. Полицейский у ворот не пропустил ее, даже когда Лаура сказала, кто она такая, и ей пришлось во весь голос звать Дэна Холдейна. Тот поспешил к воротам, чуть подволакивая левую ногу. Чуть, но подволакивая. Она бы этого не заметила, но страх до предела обострил ее чувства. Он взял Лауру под руку и повел вдоль забора, подальше от ворот, где их никто не мог подслушать. На ходу она спросила: — Что случилось с Мелани? — Ничего. — Скажите мне правду! — Это правда. Она в своей палате. Цела и невредима. Какой вы ее и оставили. Они остановились, и она повернулась спиной к забору, глядя мимо Холдейна на включенные мигалки. Заметила среди патрульных машин и фургон, в каких перевозили трупы. Нет. Такого просто не могло быть. Найти Мелани после стольких лет поисков и так быстро вновь потерять ее: немыслимо! Грудь сжало железным обручем. В висках запульсировала кровь. — Кто умер? — Я звонил вам домой… — Я хочу… — …пытался связаться с вами… — …знать… — …последние полтора часа. — …кто умер! — потребовала она. — Послушайте, это не Мелани. Понимаете? — голос звучал необычно мягко и даже нежно для мужчины таких габаритов. — С Мелани все в порядке. Честное слово. Лаура всмотрелась в его лицо, глаза. И поверила, что он говорит правду. С Мелани все в порядке. Но страх по-прежнему не отпускал Лауру. — Я попал домой только в семь утра, — продолжил Холдейн. — Буквально упал на кровать. В одиннадцать часов мне позвонили и срочно вызвали в «Вэлью медикэл». Они подумали, что есть какая-то связь между этим убийством и Мелани, потому что… — Потому что «что»? — Ну, в конце концов, она — пациент этой больницы. Вот я и пытался связаться с вами… — Я поехала в магазин, покупала ей одежду, — прервала его Лаура. — Что случилось? Кого убили? Что вы мне такое говорите? — Мужчину в автомобиле. Вот в том «Вольво». Его труп на переднем сиденье. За рулем. — Кто он? — Согласно водительскому удостоверению его зовут Нед Ринк. Она привалилась к сетчатому забору, пульс начал медленно замедляться. — Вы когда-нибудь слышали о нем? — спросил Холдейн. — О Неде Ринке? — Нет. — Я подумал, может, он сотрудничал с вашим мужем. Или с Хоффрицем. — Если и сотрудничал, то я об этом не знаю. Мне незнакомы ни имя, ни фамилия. Почему вы думаете, что он знал Дилана? Он умер так же, как те трое? Из-за этого? Его забили насмерть, как и остальных? — Нет. Но умер он странно. — Расскажите мне. Холдейн замялся, но по выражению синих глаз она поняла, что речь пойдет еще об одном особенно жестоком убийстве. — Расскажите мне. — Ему сломали шею. Такое ощущение, будто кто-то с невероятной силой ударил куском свинцовой трубы аккурат по адамову яблоку. Ударил не раз. Шея превратилась в пульпу. От дыхательного горла остались одни ошметки, адамово яблоко раздроблено, перелом основания черепа, переломы позвоночника. — Ясно. — Во рту у Лауры пересохло. — Мне все ясно. — Извините. Конечно, не та картина, что в Студио-Сити, но тоже необычная. Вы понимаете, почему мы могли решить, что эти преступления взаимосвязаны. В обоих случаях речь идет о необычной жестокости убийц. Конечно, этого парня отделали не так, как тех троих, но все-таки… Лаура оттолкнулась от забора. — Я хочу видеть Мелани. Внезапно она поняла, что должна немедленно увидеться с Мелани. Просто обязана. Не просто увидеться, прикоснуться к девочке, обнять, убедиться, что с ее доченькой все в порядке. Она направилась к входу в больницу. Холдейн шагал рядом, чуть прихрамывая, но не морщась от боли. — Вы попали в аварию? — Не понял? — Ваша нога. — Нет. Футбольная травма со времен колледжа. На втором году обучения серьезно повредил колено. Во влажную погоду оно иногда дает о себе знать. Послушайте, я вам не все рассказал об этом парне из «Вольво», Ринке. — И что? — При нем был «дипломат». А в нем белый халат, стетоскоп и пистолет с глушителем. — Он застрелил свою жертву? Вы ищете человека с пулевым ранением? — Нет. Из пистолета не стреляли. Но вы понимаете, к чему я клоню? Белый халат? Стетоскоп? — Он — не врач, так? — Нет. И мы полагаем, что он намеревался войти в больницу, надеть белый халат, повесить стетоскоп на шею и прикинуться врачом. Она посмотрела на него, когда они добрались до бордюрного камня, и поднялась на тротуар. — И зачем ему все это понадобилось? — Судя по результатам предварительного осмотра, наш медицинский эксперт считает, что смерть наступила между четырьмя и шестью часами утра, хотя обнаружили труп только без четверти десять. Получается, что он хотел войти в больницу, скажем, в пять утра, то есть должен был выдавать себя за врача, потому что посетителей начинают пускать только с часа дня. Если бы в столь ранний час он поднялся на один из этажей, где расположены палаты, в обычной одежде, его остановила бы или медсестра, или охранник. Но в белом халате, со стетоскопом на груди, он бы ни у кого не вызвал подозрений. Они подошли к двери, и Лаура остановилась. — Вы хотите сказать, он приехал в больницу не для того, чтобы навестить кого-то из родственников или друзей? — Не для того. — То есть вы уверены, что он намеревался кого-то убить. — Человек не берет с собой пистолет с глушителем, если не собирается его использовать. Глушители запрещены законом. И наказание предусмотрено очень строгое. Если тебя ловят с глушителем, считай, что ты в тюрьме, и надолго. Я еще не знаю подробностей, но мне сказали, что Ринк — достаточно известная фигура в криминальном мире. Есть подозрения, что последние несколько лет он по заказу устранял неугодных кому-то людей. — Наемный убийца? — Я в этом практически уверен. — Но он приехал сюда не для того, чтобы убить Мелани. Конечно же, в больнице… — Мы уже отработали этот вариант. Проверили список пациентов в поисках тех, кто связан с преступностью или выступает важным свидетелем на готовящемся судебном процессе. Или крупный наркодилер, или член одной из мафиозных групп. Никого не нашли из тех, кто мог бы быть целью Ринка… за исключением Мелани. — Вы говорите мне, что Ринк, возможно, убил Дилана, Хоффрица и еще одного мужчину в Студио-Сити… а теперь приехал сюда, потому что Мелани могла видеть, как он убивал остальных? — Этого нельзя исключить. — Но тогда кто убил Ринка? Холдейн вздохнул. — Вот тут наша логическая цепочка разрывается. — Тот, кто убил Ринка, не хотел, чтобы он убил Мелани. Холдейн пожал плечами. — Если это так, я рада. — Чему тут можно радоваться? — Ну, если кто-то убил Ринка, чтобы не позволить ему убить Мелани, значит, у нее есть не только враги. У нее есть и друзья. — Нет, — в голосе Холдейна слышалась нескрываемая жалость. — Ваш вывод далеко не единственный. Люди, которые убили Ринка, возможно, тоже хотят добраться до Мелани, и ничуть не меньше, чем он… только им она нужна живая. — Почему? — Потому что она слишком много знает об экспериментах, которые проводились в этом доме. — А потом они захотят убить ее, как убили Ринка. — Если только она не потребуется им, чтобы продолжить эксперименты. Едва эти слова сорвались с его губ, как Лаура поняла, что такое вполне возможно, и ее плечи согнулись под грузом нового страха. Почему Дилан работал с этим Хоффрицем, фанатиком, дискредитировавшим себя в глазах научного сообщества? И кто их финансировал? Ни один официально зарегистрированный фонд, университет или исследовательский институт не выдал бы гранта Хоффрицу после того, как его попросили из ЛАКУ. Ни одно дорожащее своей репутацией научное учреждение не стало бы субсидировать исследования Дилана, человека, который похитил собственную дочь и скрывался от адвокатов жены, человека, который использовал дочь в качестве подопытного кролика в своих экспериментах, поставив ее на грань аутизма. Получается, что те, кто поддерживал Дилана и его исследования, исповедовали такие же безумные идеи, как Дилан и Хоффриц. Ей хотелось поставить точку в этой истории. Хотелось забрать Мелани домой, окружить теплом и заботой, дать ей счастливую жизнь, потому что если кто на этой земле и заслуживал покоя и счастья, так это ее маленькая девочка. Но теперь «они» этого бы не допустили. «Они» наверняка попытаются вновь украсть у нее Мелани. Ребенок требовался «им» по причинам, которые знали только «они». И кто же они такие, черт побери? Безымянные. Без лица. Лаура не могла бороться с врагом, которого не могла увидеть, разглядеть, узнать. — Они хорошо информированы, — заметила она. — И не теряют времени даром. Холдейн моргнул: — В каком смысле? — Мелани провела в больнице пару часов, а Ринк уже приехал, чтобы убить ее. Он очень быстро узнал, куда ее отвезли. — Быстро, — согласился лейтенант. — Поневоле подумаешь, что у него были хорошие источники информации. — Источники информации? Вы хотите сказать, в полицейском управлении? — Возможно. И врагам Ринка не потребовалось много времени, чтобы понять, кого ему заказали. Они действуют чертовски быстро, обе группы. Она стояла у дверей больницы, смотрела на поток автомобилей, проезжающих мимо, на магазины и конторы на противоположной стороне улицы. Солнечные лучи били в большие стеклянные витрины. Солнечные лучи отражались от ветровых стекол и хромированных деталей легковушек и грузовиков. Лаура смотрела на этот залитый солнцем мир и надеялась заметить что-то подозрительное, указать на человека, которого Холдейн мог бы выследить и поймать, но видела лишь обычных людей, занимающихся обычными делами. Их ординарность злила Лауру, враг никак не хотел выделиться, объявить во всеуслышание: «Вот он я!» Более того, ее злили даже солнечный свет и теплый воздух. Холдейн только что сказал ей, что кто-то хотел убить ее дочь, а еще кто-то — похитить и вновь засунуть в камеру отсечения внешних воздействий, а может, и усадить на электрический стул, чтобы продолжать мучить во имя бог знает каких целей. После таких новостей и в мире все должно быть плохо. К таким новостям очень бы даже подошли вспышки молний и раскаты грома, низко нависшие над землей серо-черные тучи, проливной дождь, холодный порывистый ветер. Казалось несправедливым, что мир вокруг нее нежится в теплых солнечных лучах, другие люди посвистывают, улыбаются, неспешно прогуливаются, наслаждаются жизнью, тогда как она погружается все глубже в черный кошмар, только не во сне, а наяву. Лаура посмотрела на Дэна Холдейна. Ветерок ерошил его светло-русые волосы, солнечный свет заострял черты лица, добавляя красоты. При других обстоятельствах, он мог бы заинтересовать ее как мужчина. Контраст между внешностью громилы и мягкостью души придавал ему некую загадочность. Но эти неизвестные «они» подгадили ей и в этом, лишили возможности наладить с ним более близкие отношения. — А почему вы искали меня? — спросила она. — Почему звонили полтора часа? Не для того же, чтобы рассказать о Ринке. Вы знали, что я приеду сюда. Могли бы подождать моего приезда, а уж потом сообщить плохие новости. Он обвел взглядом автомобильную стоянку, труповозка как раз уезжала с места преступления. Когда вновь посмотрел на Лауру, лицо прорезали морщины, рот превратился в узкую полоску, глаза потемнели от тревоги. — Я хотел, чтобы вы позвонили в частную службу безопасности и попросили организовать круглосуточную охрану вашего дома после того, как заберете Мелани. — Нанять ей телохранителя? — Вот именно. — Но, если она в опасности, разве управление полиции не может обеспечить ей защиту? Он покачал головой: — В ее случае — нет. Напрямую ей никто не угрожал. Не было ни телефонных звонков, ни записок. — Ринк… — Мы не знаем, приезжал ли он с тем, чтобы убить Мелани. Только подозреваем. — Но тем не менее… — Если бы в штате и городе не бушевал бюджетный кризис, если бы финансирование полиции не урезалось, если бы мы не испытывали нехватку сотрудников, тогда, возможно, мы бы напряглись и установили наблюдение за вашим домом. Но в сегодняшней ситуации я эту меру обосновать не могу. А если я без ведома капитана распоряжусь, чтобы за вашим домом установили наблюдение, он подаст на меня рапорт в службу внутренней безопасности, и меня наверняка вышибут с работы. Но частное охранное бюро, профессиональные телохранители… они обеспечат защиту не хуже нас, даже если бы мы располагали необходимыми финансовыми и людскими возможностями. У вас есть средства, чтобы их нанять, хотя бы на несколько дней? — Полагаю, что да. Я не знаю, сколько это стоит, но я же не бедная. И если вы думаете, что их услуги потребуются лишь на несколько дней… — У меня есть предчувствие, что все закончится очень быстро. Эти убийства, риск, на который кто-то идет… все говорит за то, что эти люди в жутком цейтноте, что им поставлен какой-то крайний срок. Я понятия не имею, что они делали с вашим ребенком и почему им так нужно снова заполучить ее в свое распоряжение, но я чувствую, что ситуация напоминает огромный снежный ком, который катится с горы, быстро, как скорый поезд, становясь все больше и больше. Сейчас он уже огромный и находится совсем близко от подножия горы. А добравшись туда, разлетится на сотни кусков. Будучи детским психиатром, Лаура всегда с осторожностью подходила к новому пациенту, долго определялась с лечением, стараясь подобрать оптимальное для каждого конкретного пациента. Но, определившись, без колебаний следовала выбранному курсу. Она была хорошим врачом, целителем психики, и ее успехи придавали ей уверенности, подвигая ее на новые достижения. Но теперь она чувствовала себя потерянной. Маленькой, уязвимой, беспомощной. Подобных ощущений она не испытывала уже несколько лет, с тех пор, как смирилась с потерей Мелани. — Я… я даже не знаю, как… куда должен идти человек, чтобы найти телохранителей. Холдейн достал бумажник, порылся в нем, вытащил визитную карточку. — Большинство частных детективов, к которым вы обращались несколько лет тому назад, чтобы разыскать Дилана, скорее всего, предлагают и охранные услуги. Нам не положено давать рекомендаций. Но я хорошо знаю этих парней, и цены у них приемлемые. Она взяла визитку, прочитала:КАЛИФОРНИЯ ПАЛАДИН, ИНК. ЧАСТНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ Личная безопасность
И телефонный номер в нижнем правом углу. Лаура сунула визитку в сумочку. — Благодарю. — Позвоните им до того, как покинете больницу. — Я позвоню. — Пусть пришлют человека сюда. Он сможет проводить вас до дома. Внутри у нее все похолодело. — Хорошо. — И она направилась к дверям больницы. — Подождите. — Холдейн протянул еще одну визитную карточку, собственную. — Напечатанный номер — моя линия в Центральном участке, но там вы меня не найдете, потому что сейчас я работаю в участке Ист-Вэлью, и мой нынешний номер я записал на обратной стороне. Я хочу, чтобы вы позвонили мне, если вдруг что-то вспомните о прошлом Дилана или о каких-то его давних исследованиях, которые могли привести к этим. Она перевернула визитку. — Тут два номера. — Нижний — мой домашний, на случай, если вы не найдете меня на службе. — Разве у вас на службе не принимают сообщений? — Принимают, но передают с большой задержкой. Если я срочно вам понадоблюсь, я хочу, чтобы вы меня разыскали. — Вы всем даете свой домашний номер? — Нет. — Тогда почему? — Больше всего на свете я ненавижу… — Что? — Такие преступления. Когда жертвами становятся дети. Меня от этого мутит. Закипает кровь. — Я вас понимаю. — Да, пожалуй, понимаете.
Глава 12
Доктор Рафаэль Йбарра, главный педиатр больницы «Вэлью медикэл», встретился с Лаурой в маленькой комнатке рядом с сестринским постом, в которой сотрудники пили кофе. У одной стены стояли два торговых автомата. Рядом с ними погромыхивала машина для приготовления льда. За спиной Лауры тихонько гудел холодильник. Она сидела напротив Йбарры за длинным столом, на котором лежали зачитанные до дыр журналы и стояли две пепельницы, полные окурков. Педиатр, смуглый, хрупкий, с правильными чертами лица, держался крайне формально. Его идеально расчесанные волосы напоминали лакированный парик. Лаура отметила и стоящий колом ворот рубашки, и безупречный узел галстука, и сшитый по фигуре белый халат. Ходил он так, словно боялся испачкать туфли, сидел, расправив плечи и подняв голову. Оглядел крошки и пепел от сигарет на столе, поморщился и оставил руки на коленях. Лаура решила, что этот мужчина ей не нравится. Говорил доктор Йбарра властно, рубя слова: — Физически ваша дочь в хорошем состоянии, на удивление хорошем, учитывая обстоятельства. У нее недостаток веса, но не такой уж и большой. На правой руке синяк от многочисленных внутривенных инъекций, которые делались не очень умело. В уретре небольшое воспаление, причиной которого, вероятно, являлся катетер. Я прописал ей необходимое лекарство. И это все проблемы, связанные с ее физическим состоянием. Лаура кивнула: — Я знаю. И приехала, чтобы увезти ее домой. — Нет, нет, я бы этого не советовал, — покачал головой доктор Йбарра. — Во-первых, вам будет слишком сложно обеспечить ей должный уход на дому. — Она ничем не больна? — Нет, но… — Она не доставляет неудобств? — Нет. Пользуется туалетом. — Она может сама есть? — В принципе да. Ее нужно начать кормить, но потом она ест сама. Но за ней нужно следить, потому что после нескольких ложек она вроде бы забывает, что делает, теряет интерес к еде. Ей нужно говорить, что она должна есть и дальше. И помогать одеваться. — Я со всем этим справлюсь. — И все-таки мне бы не хотелось ее отпускать, — гнул свое Йбарра. — Но прошлой ночью доктор Пантагельо сказал… При упоминании Пантагельо Йбарра поморщился. В его голосе слышалось пренебрежение. — Доктор Пантагельо только осенью закончил ординатуру и подписал контракт с нашей больницей месяц тому назад. Я же здесь главный педиатр, и, по моему мнению, вашей дочери лучше остаться здесь. — Надолго? — Ее состояние характеризуется симптомами, возникающими у ребенка при длительном пребывании в заточении и при жестоком обращении. Ей следует остаться у нас, пока мы не проведем полное психиатрическое обследование. На это уйдет неделя… может, десять дней. — Нет. — Для ребенка это будет наилучший вариант. — От голоса так и веяло холодом. И возникали серьезные сомнения в том, что доктора Йбарру действительно волновало благополучие ребенка. Так что Лаура не могла не задаться вопросом: «А что чувствуют дети, имея дело с таким суровым врачом?» — Я сама детский психиатр, — ответила она. — Так что смогу оценить ее состояние и окружить должной заботой дома. — Лечить собственную дочь? — Йбарравскинул брови. — Не думаю, что это разумно. — Я с вами не согласна, — она не собиралась объяснять этому человеку свои резоны. — Послушайте, после проведения обследования и определения лечения мы сможем провести его здесь. У вас дома нет необходимого оборудования. Лаура нахмурилась: — Оборудования? Какого оборудования? О каком, собственно, лечении вы говорите? — Это решать доктору Гехагену в отделении психиатрии. Но если Мелани будет оставаться в таком состоянии, или оно будет ухудшаться… я думаю, он порекомендует барбитураты и электросудорожную терапию… — Черта с два! — резко бросила Лаура, отодвинула стул, вскочила. Йбарра моргнул, удивленный ее враждебностью. — Наркотики и электрошок — именно этим, среди прочего, и потчевал ее отец, будь он проклят, последние шесть лет. — Но, разумеется, мы будем использовать другие наркотики и другой электрошок, да и наши намерения… — Да, конечно, но откуда Мелани знать, какие у вас намерения? Я знаю, для некоторых пациентов барбитураты и даже электросудорожная терапия дают хорошие результаты, но для моей дочери они не годятся. Ей нужно вернуть уверенность в себе, чувство собственного достоинства. Ее нужно освободить от страха и боли. Ей нужны спокойствие и постоянство. Ей нужно… чтобы ее любили. Йбарра пожал плечами: — Вы не подвергнете опасности здоровье девочки, забирая ее домой сегодня, поэтому у меня нет возможности запретить вам уйти вместе с ней. — Вот и прекрасно, — подвела черту Лаура.* * *
Труповозка уехала, но технические эксперты еще продолжали возиться с «Вольво», когда Керри Берн один из патрульных, подошел к Дэну Холдейну. — Звонок из Ист-Вэлью, от капитана Мондейла. — Ага. Нашего достопочтенного и славного капитана. — Он хочет немедленно вас видеть. — Он по мне соскучился? — Причина не называлась. — Готов спорить, соскучился. — У вас с Мондейлом что-то личное? — Конечно же, нет. То есть Мондейл, возможно, и гей, но я западаю только на женщин. — Вы понимаете, о чем я. Вы же терпеть друг друга не можете! — Неужели это заметно? — игриво спросил Холдейн. — А заметно, что собаки не любят кошек? — Скажем так, если я буду гореть ярким пламенем, а у Росса Мондейла будет единственное в радиусе десяти миль ведро с водой, я предпочту гасить огонь собственной слюной. — Тогда мне все ясно. Так вы возвращаетесь в Ист-Вэлью? — Он же мне приказал, не так ли? — Но вы туда поедете? Я должен позвонить и подтвердить. — Конечно. — Так я звоню и говорю, что вы уже выехали. — Абсолютно. Керри направился к своей патрульной машине, а Дэн сел за руль седана. Выехал с автомобильной стоянки и повернул к центру города, тогда как Ист-Вэлью и Росс Мондейл находились в противоположной стороне.* * *
До разговора с доктором Йбаррой Лаура позвонила в частную охранную фирму, порекомендованную Дэном Холдейном. И к тому времени, когда она, переговорив с Йбаррой, одела Мелани в джинсы, клетчатую синюю блузку и кроссовки и подписала все необходимые для выписки документы, в больницу уже прибыл сотрудник «Калифорния паладин». Звали его Эрл Бентон, и выглядел он как деревенский парень, который однажды проснулся не в том доме, и ему пришлось брать одежду из гардероба банкира. Его светлые волосы были зачесаны назад, модно подбриты на висках, не парикмахером — стилистом, но ему это совершенно не шло. Его простецкое, с грубыми чертами лицо куда лучше сочеталось бы с торчащими во все стороны вихрами. Шея диаметром в добрые семнадцать дюймов буквально рвалась из воротничка рубашки от Ива Сен-Лорана. Чувствовалось, что ему неуютно в сером костюме-тройке. А его огромные, с толстыми пальцами кисти просто не могли выглядеть изящными, однако маникюр ему явно делал профессионал. Лаура могла с первого взгляда сказать, что Эрл — один из тех десятков тысяч людей, что ежегодно приезжают в Лос-Анджелес, чтобы подняться по социальной лестнице, и ему, похоже, это удалось. Более того, она предположила, что он будет подниматься и дальше, обтачивая свои грубые углы и все более обживаясь в костюмах известных модельеров. Он ей понравился. И широкой, обаятельной улыбкой, и манерой держаться, и цепким, наблюдательным взглядом. Они встретились в коридоре, около двери в палату Мелани, а после того, как Лаура более детально, чем по телефону, объяснила ситуацию, она спросила: — Вы вооружены? — Да, мэм. — Хорошо. — Я буду с вами до полуночи, — добавил Эрл, — а потом меня сменит другой наш сотрудник. — Отлично. Через пару минут, когда Лаура вывела Мелани из палаты, Эрл присел рядом с малышкой на корточки. — Какая ты красивая девочка. Мелани промолчала. — Должен отметить, ты очень напоминаешь мне мою сестру Эмму. Мелани смотрела сквозь него. Взяв вялую руку девочки в свои две, огромные, как лопаты, Эл продолжил, словно это был диалог, а не монолог: — Эмма, она на девять лет моложе меня, сейчас учится в первом классе средней школы. Она вырастила двух призовых бычков, моя Эмма. Теперь у нее целая коллекция премиальных ленточек, штук двадцать, не меньше, с различных конкурсов, включая выставки домашних животных на ярмарках трех округов. Ты что-нибудь знаешь насчет бычков? Любишь животных? Бычки, они лучше всех. У них такие милые мордашки. Готов спорить, ты бы с ними отлично ладила, так же как Эмма. Глядя на то, как Эрл Бентон воркует с Мелани, Лаура поняла, что он все больше и больше ей нравится. — Отныне, Мелани, тебе не о чем волноваться, понимаешь? — спросил он. — Я — твой друг, а пока Эрл Бентон твой друг, никто не посмеет даже косо на тебя посмотреть. Девочка, похоже, и не подозревала о его присутствии. Он отпустил ее ручку, и она, как плеть, упала вниз, повисла вдоль бока. Эрл поднялся, повел плечами, чтобы расправить пиджак, повернулся к Лауре. — Так вы говорите, вина за то, что она такая, лежит на ее отце? — Он — один из тех, кто несет за это ответственность, — ответила Лаура. — И он… мертв? — Да. — Но кто-то из остальных еще жив, не так ли? — Да. — С удовольствием бы встретился с одним из них. И поговорил. Наедине. С большим удовольствием. — В голосе Эрла слышались резкие нотки, глаза вспыхнули ледяным светом. И впервые Лаура поняла, что этот человек очень и очень опасен для своих врагов. Ей это тоже понравилось. — А теперь, мэм… доктор Маккэффри, так, полагаю, мне следует к вам обращаться, когда мы будем выходить отсюда, я пойду первым. Я знаю, джентльмены так не поступают, но отныне я буду практически всюду идти на пару шагов впереди, можно сказать, разведывать дорогу. — Я уверена, никто не будет стрелять в нас ясным днем, — ответила Лаура. — Может, и не будет. Но я все равно пойду первым. — Хорошо. — Если я попрошу вас что-то сделать, делайте незамедлительно, и никаких вопросов. Понятно? Она кивнула. — Возможно, я не буду кричать. Возможно, скажу «бегите» или «ложитесь на землю» приятным голосом, каким говорят: «Добрый день». Так что будьте начеку. — Я понимаю. — Хорошо. Я уверен, все у нас будет хорошо. А теперь, дорогие дамы, вы готовы к отъезду домой? Они направились к лифту, спустились в вестибюль. Как минимум тысячу раз за последние шесть лет Лаура грезила о том знаменательном дне, когда она приведет Мелани домой. Она представляла себе, что это будет самый счастливый день в ее жизни. И никак не думала, что ей понадобится прибегать к услугам телохранителя.Глава 13
В Центральном участке Дэн Холдейн получил от сотрудника архивного отдела два досье и с ними прошел к одному из маленьких столиков, что стояли у стены. На обложке первого значилось: Эрнст Эндрю Купер. Проверка отпечатков пальцев показала, что именно он погиб прошлой ночью в доме в Студио-Сити, вместе с Диланом Маккэффри и Вильгельмом Хоффрицем. Куперу было тридцать семь лет, при росте в пять футов и одиннадцать дюймов весил он сто шестьдесят фунтов. В досье имелись фотографии: анфас и в профиль, сделанные при последнем аресте, но пользы от них Дэну не было никакой, потому что лицо убитого превратили в лишенную черт кровавую пульпу. Так что он полагался исключительно на отпечатки пальцев. Жил Купер в Хэнкок-Парк, на улице, застроенный домами, стоимость которых измерялась миллионами и десятками миллионов долларов. Он был председателем совета директоров и главным акционером «Купер софтех», процветающей фирмы, продукцией которой являлось программное обеспечение компьютеров. В пределах Лос-Анджелеса его арестовывали трижды, всякий раз за вождение в нетрезвом виде, и ни разу при нем не было водительского удостоверения. Он опротестовывал аресты, каждый раз дело передавалось в суд, его трижды признавали виновным, приговаривали к штрафу, но за решетку он ни разу так и не попал. В каждом случае патрульные, которые арестовывали его, отмечали, что Купер называл арест аморальным и считал, что при этом нарушаются его конституционные права, поскольку государство заставляет человека носить при себе идентификационный документ, пусть и всего лишь водительское удостоверение. Второй патрульный записал: «…мистер Купер проинформировал меня, что он (мистер Купер) является членом организации «Свобода теперь», которая поставит все государства на колени, и эта организация использует его арест, как пробный камень для определения соответствия конституции некоторых законов. Потом он назвал меня невольным орудием сил тоталитаризма, после чего его вырвало, и он отключился». Улыбнувшись последней фразе, Дэн закрыл досье и взялся за второе, Эдуарда Филиппа Ринка. Его очень интересовала личность этого наемного убийцы, но сначала вместе с досье он переместился за один из трех компьютеров. Включил его, ввел пароль допуска, попросил сведения об организации «Свобода теперь». И после короткой паузы на мониторе начала появляться затребованная им информация. «СВОБОДА ТЕПЕРЬ» Политическая организация, зарегистрированная в федеральной комиссии по проведению выборов и департаменте налогов и сборов. Пожалуйста, учтите: «СВОБОДА ТЕПЕРЬ» — легитимная организация частных лиц, реализующих свои конституционные права. Эта организация не являлась объектом какого-либо полицейского расследования и не должна стать объектом такого расследования до тех пор, пока ее действия не выходят за рамки, определенные и утвержденные федеральной комиссией по проведению выборов. Вся информация в этом файле собрана из открытых источников. Этот файл создан с единственной целью — идентифицировать легитимные политические организации и отделить их от групп, занимающихся подрывной деятельностью. Существование этого файла ни в коем случае не является подтверждением наличия особого интереса полиции к организации «Свобода теперь». УПЛА подвергалось серьезной критике со стороны Американского союза гражданских свобод и других правозащитных организаций за тайную слежку за политическими группами, которые подозревались в опасной подрывной деятельности. Управление по-прежнему вело расследование деятельности террористических организаций, но его обязали воздержаться от внедрения своих агентов в легитимные политические организации до тех пор, пока собранные доказательства не убедят судью, что данная конкретная организация тесно связана с группами, которые занимаются террористической деятельностью. Это вступление Дэн знал чуть ли не наизусть, поэтому сразу сдвинул курсор ниже.«СВОБОДА ТЕПЕРЬ» — руководство: Президент: Эрнст Эндрю Купер, Хэнкок-Парк Казначей: Вильгельм Стивен Хоффриц, Уэствуд Секретарь: Мэри Кэтрин О'Хара, Бербэнк. «СВОБОДА ТЕПЕРЬ» создана и зарегистрирована в 1989 г. с целью поддержки либерально ориентированных кандидатов, публично заявляющих о своем намерении постепенного сведения функций государства до абсолютного минимума и такого же постепенного роспуска всех политических партий.Купер и Хоффриц, президент и казначей, оба убиты. А сама организация создана в тот год, когда Дилан Маккэффри исчез вместе с малолетней дочерью. Возможно, это совпадение, а может быть, и нет. В любом случае любопытный момент. Дэну потребовалось двадцать минут, чтобы просмотреть файл и выписать заинтересовавшие его сведения. Потом он выключил компьютер и раскрыл досье Неда Ринка. Документов в досье хватало, и Холдейн с интересом просматривал их один за другим. Ринку, которого этим утром нашли мертвым в «Вольво», исполнилось тридцать девять лет. В двадцать один он закончил Лос-Анджелесскую полицейскую академию, четыре года прослужил в полиции, по вечерам изучая в университете уголовное законодательство. Дважды становился объектом внутреннего расследования в связи с обвинениями в чрезмерной жестокости, но из-за недостатка доказательств никаких мер по отношению к нему не предпринималось. Он подал заявление в ФБР, его взяли, и он проработал в Бюро пять лет. Девять лет назад Ринка отчислили из ФБР, причина в досье не указывалась, хотя имелся намек на превышение полномочий более чем в одном случае и излишнее усердие при допросе подозреваемого. Дэн подумал, что знаком с таким типом людей. Некоторые выбирают службу в полиции, потому что хотят работать на благо общества, для других полицейские были героями детства, у третьих в полиции работали отцы, четвертые полагали эту работу престижной и гарантирующей высокую пенсию. Наверное, причин существовала добрая сотня. Но таких, как Ринк, привлекала власть. Они просто ловили кайф, отдавая приказы, потому что им нравилось командовать людьми, нравилось почтение, с которым относятся к власть имущим. Согласно досье восемь лет тому назад, через год после увольнения из ФБР, Ринка арестовали за нападение с покушением на убийство. Потом обвинение переквалифицировали на простое нападение, чтобы гарантировать обвинительный приговор, и Ринк отсидел десять месяцев, после чего его досрочно освободили за примерное поведение. Шесть лет тому назад его арестовали снова, по подозрению в убийстве. С уликами не сложилось, и обвинение с него сняли. После этого Ринк стал осторожнее. Правоохранительные органы города, штата, страны предполагали, что он — наемный убийца, который выполняет заказы преступного мира и всех, кто готов хорошо заплатить за его услуги, и за последние пять лет косвенные улики связывали его с девятью убийствами (возможно, это была только верхушка айсберга), но никому не удалось собрать достаточно улик, чтобы арестовать Ринка и передать дело в суд. Однако теперь ему воздали по заслугам. Правда, без участия правоохранительных ведомств или судебных инстанций. Холдейн закрыл досье, положил его поверх досье Купера и вытащил из кармана списки, связанные с последним расследованием. Несколько минут просматривал их, и на этот раз нашел знакомые имя и фамилию: Мэри О'Хара, секретарь общественной организации «Свобода теперь». Номер ее телефона значился в блокноте, который лежал на столе в кабинете Дилана Маккэффри. Он убрал списки и задумался. Два доктора психологии, оба раньше работали в ЛАКУ, оба мертвы. Один бизнесмен-миллионер и политический активист — мертв. Один бывший коп, бывший агент ФБР и подозреваемый наемный убийца мертв. Странная серая комната в обычном, неприметном доме в пригороде, где маленькую девочку, среди прочего, пытали электрошоком. И пытал ее отец. Великий бог «жареной» журналистики щедро одаривал свою паству: пресса не могла не ухватиться за эту историю. Дэн вернул оба досье сотруднику архивного отдела и на лифте поднялся в ДЭТП, департамент экспертно-технической поддержки.
Глава 14
Как только они добрались до дома, Эрл Бентон обошел все комнаты, чтобы убедиться, что окна и двери заперты. Потом опустил жалюзи, сдвинул портьеры и посоветовал Лауре и Мелани держаться подальше от окон. Взяв несколько журналов из стопки, что лежала в кабинете Лауры, Эрл пододвинул кресло к одному из окон гостиной, из которого мог видеть дорожку, ведущую к крыльцу, и улицу. — Со стороны может показаться, что я бездельничаю, но волноваться нет нужды. Журналы меня не отвлекают. — Я и не волнуюсь. — По большей части наша работа — это сидеть и ждать. И человек может сойти с ума, если у него нет журнала или газеты. — Я понимаю, — заверила его Лаура. Перец, кот, в большей степени заинтересовался Эрлом, тогда как Мелани не произвела на него особого впечатления. Осторожно кружил вокруг него, изучал, обнюхивал ноги. Наконец прыгнул на колени, требуя ласки. — Хороший котик. — Эрл почесал Перца за ушами. На морде кота отражалось блаженство. — Так быстро он сходится далеко не со всеми, — заметила Лаура. Эрл улыбнулся: — Всегда умел найти подход к животным. Пусть это покажется глупостью, но именно отношение Перца к телохранителю окончательно убедило Лауру в том, что ему можно полностью доверять. «И что сие должно означать? — спросила себя Лаура. — Разве ранее я ему не полностью доверяла? Подсознательно сохраняла какие-то сомнения?» Его наняли, чтобы охранять ее и Мелани, для этого он и приехал сначала в больницу, а потом в ее дом. У нее не было причин подозревать, что он связан как с людьми, которые хотели убить Мелани, так и с теми, кто хотел захватить ее живой и запереть в какой-нибудь другой серой комнате. И однако именно в этом Лаура подозревала Эрла, глубоко внутри, на чисто подсознательном уровне. Она поняла, что ей уже пора бороться с паранойей. Она не знала, кто ее враги: лиц у них по-прежнему не было. Поэтому и возникало естественное желание подозревать всех и вся, а это могло привести к печальному результату: она бы решила, что против нее и Мелани объединился весь мир. Сварив кофе Эрлу и себе, она приготовила Мелани горячий шоколад и отнесла в кабинет, где ждала девочка. Ранее она уже позвонила в больницу Святого Марка, договорилась об отпуске и попросила помощницу на этой неделе самой принять всех частных пациентов. Она собиралась начать лечение Мелани в этот же день, но не знала, как проводить сессию в одной комнате с Эрлом, который мог отвлекать девочку. Кабинет у Лауры был маленький, но уютный. Две стены занимали стеллажи от пола до потолка, уставленные книгами, от популярных романов до специальной литературы по психологии. Две другие драпировались бежевой тканью из волокна рами. На одной, напротив окна, висели две репродукции картин Делакруа. Обстановка состояла из письменного стола темной сосны, стула с бежевой обивкой, кресла-качалки и изумрудно-зеленого дивана со множеством подушек. Две лампы на одинаковых тумбочках освещали кабинет мягким янтарным светом. Ранее Эрл задернул изумрудно-зеленые шторы на обоих окнах. Мелани сидела на диване, положив руки на колени, уставившись на ладони. — Мелани. Девочка не шевельнулась, ничем не показала, что знает о присутствии матери. — Сладенькая, я принесла тебе чашку горячего шоколада. Девочка вновь не отреагировала, поэтому Лаура села рядом с ней. Держа кружку какао в одной руке, вторую она подсунула под подбородок Мелани, приподняла ее голову, заглянула в глаза. Они оставались пустыми, и Лаура не смогла войти хоть в какой-то визуальный контакт с дочерью. — Я хочу, чтобы ты выпила какао. Оно очень вкусное. Тебе понравится. Я знаю, что понравится. Она прислонила ободок чашки к губам дочери и после долгих уговоров убедила ее сделать маленький глоток. Часть какао вытекла на подбородок Мелани, и Лаура вытерла его бумажной салфеткой до того, как капли могли упасть на блузку или диван. Дальнейшие уговоры привели к тому, что Мелани продолжила пить, уже не проливая какао. И наконец тоненькие ручки поднялись и сжали кружку, так что Лаура смогла ее отпустить. Как только кружка оказалась в руках девочки, она быстро, с жадностью допила горячий шоколад. Когда в кружке ничего не осталось, облизнулась. В глазах на кратчайший момент блеснула жизнь, она словно поняла, где находится. На секунду, не больше чем на секунду, ее взгляд встретился со взглядом матери, и она смотрела уже не сквозь, как прежде, а на нее. Мгновение контакта вдохновило Лауру. Но, увы, Мелани тут же ушла в свой, никому не ведомый внутренний мир, и ее глаза затуманились. Но теперь Лаура знала, что ее ребенок способен возвратиться из ссылки, в которую сам себя и отправил. А значит, существовал шанс, что она вернется в реальность не на мгновение, а навсегда. Она взяла пустую чашку из рук Мелани, поставила на одну из тумбочек, бочком села на диван, лицом к девочке. Сжала обе руки Мелани своими. — Сладенькая, это было так давно, ты была такая маленькая, когда мы виделись в последний раз… Может, ты точно не знаешь, кто я. Я — твоя мама, Мелани. Девочка не отреагировала. Лаура говорила мягко, убедительно, шаг за шагом рассказывала обо всем, потому что точно знала: на каком-то, пусть подсознательном, уровне девочка могла ее понять. — Я привела тебя в этот мир, потому что больше всего на свете хотела ребенка. Ты была прекрасным младенцем, таким сладким, никому не доставляла хлопот. Ты научилась ходить и говорить раньше, чем я ожидала, и я тобой очень гордилась. А потом тебя украли у меня, и пока тебя не было, я хотела только одного, чтобы ты ко мне вернулась. Хотела вновь обнять тебя, вновь любить. И теперь, дитя мое, самое главное — вылечить тебя, вытащить из той дыры, в которой ты прячешься. Я собираюсь это сделать. Сладенькая. Я сделаю так, чтобы тебе стало хорошо. Помогу тебе выздороветь. Девочка молчала. Зеленые глаза показывали, что внимание Мелани сосредоточено совсем на другом. Лаура усадила дочь себе на колени, обняла, прижала к себе. Какое-то время они просто сидели, тесно прижавшись друг к другу, возрождая узы любви и привязанности, необходимые для успешного лечения. Несколько минут спустя Лаура поймала себя на том, что уже напевает колыбельную, шепотом произнося слова. Пальцами она гладила Мелани по лбу, убирая волосы с лица. Глаза девочки оставались затуманенными, устремленными в никуда, но она поднесла руку к лицу и сунула большой палец в рот. Словно превратилась в маленького ребенка. Так она делала в три года. Глаза Лауры наполнились слезами. Голос задрожал, но она продолжала напевать, поглаживая шелковистые волосы Мелани. Потом вспомнила, сколько положила усилий на то, чтобы отучить трехлетнюю Мелани сосать палец, и подивилась тому, как теперь ей это нравится, как тронута она этим всунутым в рот большим пальцем. Фактически у нее так поднялось настроение и она так воодушевилась как сосанием пальца, так и мгновением прямого визуального контакта после выпитой чашки горячего шоколада, что решила попробовать гипноз прямо сегодня, не ждать, как планировала раньше, завтрашнего дня. В полном сознании и в полукататоническом состоянии ребенок глубоко ушел во внутренний мир и не хотел возвращаться оттуда. Загипнотизированная, Мелани могла стать более податливой, лучше откликаться на предложения, могла пройти хотя бы часть пути, отделяющего ее от реального мира. В сравнении с обычным человеком, загипнотизировать того, кто находится в таком состоянии, как Мелани, было или проще, или невозможно. Продолжая напевать колыбельную, Лаура начала массировать виски девочки, пальцы ее описывали небольшие круги, усиливая давление. Когда веки ребенка начали подрагивать, Лаура перестала петь и зашептала: — Давай, крошка. Засыпай, крошка, засыпай, я хочу, чтобы ты заснула, расслабься… ты просто погружаешься в глубокий, естественный сон… опускаешься, как перышко, планирующее в застывшем теплом воздухе… планируешь все ниже и ниже… спи… но будешь по-прежнему слышать мой голос… вниз и вниз ты опускаешься, неспешно, как перышко… но мой голос будет следовать за тобой в сон… вниз… вниз… и ты будешь слышать меня и отвечать на все мои вопросы… будешь спать, но ты будешь слышать и слушаться. — Лаура продолжала массировать виски Мелани все более легкими движениями, пока глаза девочки не закрылись, а ровное дыхание не указало на то, что она крепко спит. Перец вошел в дверь, с любопытством уставился на них. Потом пересек комнату, прыгнул на кресло-качалку, свернулся в клубок. Лаура заговорила, по-прежнему держа дочь на коленях: — Ты сейчас опустилась вниз, крепко спишь. Но ты слышишь мой голос и будешь отвечать мне, когда я стану задавать тебе вопросы. Лицевые мышцы девочки расслабились, губы чуть разошлись. — Ты меня слышишь, Мелани? Девочка не ответила. — Мелани, ты меня слышишь? Девочка вздохнула, вздох этот был таким же мягким, как свет, идущий от бронзовых ламп под стеклянными абажурами цвета янтаря. — Ах… Это был первый звук, произнесенный Мелани при Лауре с того момента, как последняя увидела дочь на больничной койке. — Как тебя зовут? Девочка нахмурила лоб. — Мах… Перец поднял голову. — Мелани? Это твое имя? Мелани? — Мах… мах… Перец навострил уши. Лаура решила перейти к следующему вопросу: — Ты знаешь, кто я, Мелани? Во сне малышка облизала губы. — Мах… мах… это… ах… это… — Она дернулась и начала поднимать руку, словно от чего-то защищаясь. — Успокойся, — сказала Лаура. — Расслабься. Успокойся и расслабься. Спи. Ты в безопасности. Со мной ты в безопасности. Девочка опустила руку. Вздохнула. Когда складки на лице Мелани разгладились, Лаура повторила вопрос: — Ты знаешь, кто я, Мелани? Складки тревоги или страха вновь вернулись на лицо девочки, и в ответ Лаура услышала: — Амм… ах… ах-ах-ах… это… это… Лаура попыталась зайти с другой стороны. — Чего ты боишься, Мелани? — Это… это… там… — Теперь страх отчетливо читался на бледном, как полотно, лице девочки. — Что ты видишь? — спросила Лаура. — Чего ты боишься, сладенькая? Что ты видишь? — Это… там… это… Перец поднял голову, выгнул спину. Напрягся, не сводя глаз с девочки. Воздух вдруг застыл, стал тяжелым. И хотя такого быть не могло, Лауре показалось, что тени по углам потемнели и вытянулись вперед, наползая на диван. — Это… там… нет, нет, нет, нет. Лаура положила руку на изрезанный складками лоб дочери, заверяя ее, что все в порядке, дожидаясь, когда девочка заговорит. Ее саму охватила тревога. Она почувствовала, как холод, словно живое существо, ползет от поясницы по позвоночнику, поднимаясь все выше. — Где ты, Мелани? — Нет… — Ты в серой комнате? Девочка заскрипела зубами, плотно закрыла глаза, пальцы сжались в кулаки, словно она активно чему-то сопротивлялась. Лаура собиралась увести ее в прошлое, вернуть в серую комнату в доме в Студио-Сити, но, похоже, девочка сама вернулась туда, как только ее загипнотизировали. Но такого не могло быть: Лаура никогда не слышала о спонтанном гипнотическом перемещении в прошлое. Пациента следовало направлять, постепенно приближаясь вместе с ним к месту получения психической травмы. — Где ты, Мелани? — Н-нет… это… нет! — Расслабься. Успокойся. Чего ты боишься? — Пожалуйста… нет… — Успокойся, сладенькая. Что ты видишь? Скажи мне, крошка. Скажи маме, что ты видишь? Резервуар, камеру отсечения внешних воздействий? Никто больше не посадит тебя туда, крошка. Но пугал девочку не резервуар. Так что заверения матери ее не успокоили. — Это… это… — Стул для болевой терапии? Электрический стул? Тебя больше не посадят и на него, сладенькая. Девочку ужасало что-то другое. По ее телу пробежала дрожь, она напряглась, словно хотела соскочить с колен Лауры, убежать. — Сладенькая, со мной ты в безопасности, — шептала Лаура, еще сильнее прижимая Мелани к себе. — Тебе никто не причинит вреда. — Открывается… она открывается… нет… она… открывается… — Успокойся, — Лаура почувствовала, как холод, поднимаясь по спине, добрался до шеи, и поняла, что сейчас произойдет что-то очень важное.Глава 15
За глаза лейтенанта Феликса Порто из ДЭТП называли «Пуаро», намекая на его сходство со знаменитым детективом-бельгийцем Агаты Кристи. У Дэна не вызывало сомнений, что Порто мнит себя Шерлоком Холмсом, несмотря на толстенькие ножки, приличный животик, покатые плечи, лицо Санта-Клауса и лысую, с высоким лбом голову. Чтобы больше соответствовать желанному образу, Порто практически не расставался с трубкой, которую набивал ароматизированным табаком. Трубка не дымилась, когда Дэн вошел в кабинет, но Порто ухватил ее из пепельницы и использовал для того, чтобы указать на стул. — Присядь, Дэн, присядь. Разумеется, я тебя ждал. Знал, что ты придешь сюда, чтобы справиться о моих находках в том доме в Студио-Сити. — Отдаю должное твоей проницательности, Феликс. Порто откинулся на спинку стула. — Необычное это дело, удивительное. Естественно, на подготовку официального заключения моей лаборатории потребуется несколько дней, — он всегда говорил «моя лаборатория», как будто не руководил командой экспертов полицейского управления большого города, а проводил эксперименты в комнатенке своих апартаментов на Бейкер-стрит. — Однако я могу, если хочешь, поделиться с тобой некоторыми предварительными результатами. — За это я тебе буду крайне признателен. Порто прикусил мундштук, бросил на Дэна озорной взгляд, улыбнулся: — Ты надо мной насмехаешься, Дэниэль. — Никогда в жизни. — Да. Ты насмехаешься над всеми. — Тебя послушать, так я — противный, ехидный тип. — Ты ехидный. — Премного тебе благодарен. — Ехидный, но не противный. Остроумный, умный, обаятельный, а это совсем другое дело. — Теперь получается, что я — Гэри Грант. — А разве ты не ассоциируешь себя с ним? Дэн задумался: — Возможно, наполовину я — Гэри Грант, а на вторую половину, во всяком случае сейчас, Уайл[39] Э. Койот. — Это еще кто? — Койот из мультфильмов про калифорнийскую кукушку. — Понятно. А почему? — У меня такое ощущение, что огромный валун перекатился через край обрыва прямо надо мной, уже падает вниз и вот-вот раздавит меня. — Валун — это самое расследование. — Да. Есть у тебя отпечатки пальцев, которые могут нам помочь? Порто выдвинул ящик стола, достал табачный кисет: — Множество отпечатков, принадлежащих трем жертвам. По всему дому. Другие — маленькой девочки. Но их нашли только в реконструированном гараже. — В лаборатории. — Серой комнате, как назвал ее один из моих людей. — Ее держали там постоянно? — Это самый логичный вывод, да. Мы нашли несколько ее пальчиков в туалете, что находится в коридоре, но нигде больше. — И это все? Никаких отпечатков пальцев, которые могли бы принадлежать киллерам? — Нет, конечно, мы нашли еще множество отпечатков и сейчас прогоняем их через высокоскоростную компьютерную программу, позволяющую сравнить найденные отпечатки пальцев с имеющимися в картотеке отпечатками пальцев преступников, но пока результата нет. И, боюсь, не будет. — Он замолчал, начал набивать табаком трубку. — Скажи мне, Дэниэль, как часто, по твоему опыту, убийца оставлял на месте преступления четкие, легко идентифицируемые отпечатки пальцев? — Дважды, — ответил Дэн. — За четырнадцать лет. Значит, от отпечатков помощи ждать не приходится. Что еще у нас есть? Порто раскурил трубку, выдохнул струю ароматного дыма, потушил спичку. — Оружия не найдено. — Один из убитых держал в руке каминную кочергу. Порто кивнул. — Мистер Купер, судя по всему, пытался ею защититься. Но он никого не ударил. На кочерге кровь только Купера, да и то несколько капель. Она же брызнула во все стороны, на пол, на стены. Попала и на кочергу. — Значит, Купер не успел ударить кочергой кого-нибудь из убийц, но и его били не кочергой. — Совершенно верно. — А что твои люди собрали пылесосом, помимо пыли? — Анализ еще не закончен. Но, откровенно говоря, оптимизма я не испытываю. Обычно Порто излучал оптимизм, еще одна холмсовская черта, поэтому его пессимизм относительно расследования, которое вел Холдейн, настораживал. — А что нашли под ногтями убитых? — спросил Дэн. — Ничего интересного. Ни кожи, ни волос, ни крови, за исключением собственной. Это означает, что у них не было шанса добраться до своих убийц. — Но убийцы не могли не приблизиться к ним вплотную. Я хочу сказать, Феликс, они же забили этих троих до смерти. — Да. Но, хотя они и приблизились вплотную, ни один из них не получил ни малейших повреждений. Мы взяли десятки образцов крови, с каждой поверхности во всех комнатах, чтобы выяснить, что вся кровь принадлежит убитым. Они посидели в молчании. Порто выдыхал все новые клубы дыма. Глаза его затуманились, словно он размышлял над полученными уликами, и если бы он, как Шерлок, играл на скрипке, то обязательно потянулся бы за инструментом. Затянувшееся молчание прервал Дэн: — Как я понимаю, ты видел фотографии тел. — Да. Ужасно. Невероятно. Такая дикая ярость. — У тебя возникло ощущение, что это таинственное убийство. — Дэниэль, я нахожу все убийства таинственными. — Но это представляется мне более таинственным, чем другие. — Оно более таинственное, — согласился Порто и улыбнулся, словно трудности его только радовали. — У меня от него мурашки бегут по коже. — Берегитесь падающего валуна, мистер Койот. Дэн оставил лейтенанта ДЭТП в облаке ароматного дыма и на лифте спустился вниз, на этот раз в подвал, где работали патологоанатомы.Глава 16
Все еще загипнотизированная, девочка воскликнула: «Нет!» — Мелани, сладенькая, успокойся, пожалуйста, успокойся. Никто больше тебя не обидит. Девочка мотала головой, задышала быстро и часто, что свидетельствовало об охватившей ее панике. Вопль страха и ужаса застрял в горле, вырвался лишь жалким, пронзительным: «И-и-и-и-и». Она задергалась, пытаясь слезть с колен матери. Лаура удерживала ее. — Перестань дергаться, Мелани. Расслабься. Успокойся. Все будет хорошо. Внезапно девочка ударила воображаемого нападавшего, выбросив вперед обе руки. Не ведая того, нанесла матери два сильных и болезненных удара. В грудь и лицо. На мгновение Лаура застыла. Удар в лицо вышел таким сильным, что на глазах от боли выступили слезы. Девочка скатилась с колен матери на пол и поползла от дивана. — Мелани, остановись! Несмотря на постгипнотическое внушение, требующее от девочки реагировать и повиноваться командам Лауры, Мелани приказ проигнорировала. Проползла мимо кресла-качалки, издавая животные звуки беспредельного ужаса. Кот, сидевший на кресле-качалке, прижав уши к голове, тоже зашипел от страха. Когда Мелани проползала мимо кресла, перепрыгнул через нее, приземлился на пол и стремглав выскочил из кабинета. Девочка исчезла за столом. Лаура тоже обошла стол. Левую щеку еще саднило в том месте, куда ударил кулак Мелани. Мелани забралась в нишу между тумбами и спряталась там. Девочка сидела, подтянув колени к груди, обхватив ноги руками, сгорбившись, положив подбородок на колени, уставившись перед собой широко раскрытыми глазами, не видя ни Лауры, ни кабинета. — Сладенькая? Жадно ловя ртом воздух, словно она долго и быстро бежала, девочка выдохнула: — Не дай ей… открыться. Держи… закрытой… плотно закрытой. Эрл Бентон возник на пороге. — Вы в порядке? Лаура посмотрела на него поверх стола. — Да… просто моя дочь… но у нее все будет хорошо. — Вы уверены? Моя помощь не нужна? — Нет, нет. Мне нужно побыть с ней вдвоем. Я справлюсь. С неохотой Бентон вернулся в гостиную. Лаура вновь заглянула под стол. Мелани по-прежнему тяжело дышала, но теперь еще и дрожала всем телом. Из глаз по щекам струились слезы. — Вылезай оттуда, сладенькая. Девочка не шевельнулась. — Мелани, ты будешь слушать меня, будешь делать то, что я тебе говорю. Немедленно вылезай оттуда. Вместо этого девочка попыталась еще глубже залезть в нишу, но ее спина и так упиралась в стенку между тумбами. Лаура и представить себе не могла, что загипнотизированный пациент может полностью игнорировать команды гипнотизера. Она пристально посмотрела на девочку и решила позволить ей на какое-то время остаться в нише, раз уж там она чувствовала себя в относительной безопасности. — Сладенькая, от кого или чего ты прячешься? Нет ответа. — Мелани, ты должна мне сказать… что ты увидела? Что я должна держать закрытой? — Не дай ей открыться, — пролепетала девочка, вроде бы впервые отреагировав на вопрос Лауры, хотя глаза ее по-прежнему не отрывались от некоего ужаса в другом времени и месте. — Чему я не должна дать открыться? Скажи мне, Мелани. — Держи ее закрытой! — взвизгнула девочка, закрыла глаза и так сильно укусила нижнюю губу, что на ней появилась капелька крови. Лаура сунулась в нишу, успокаивающе коснулась пальцами руки девочки. — Сладенькая, о чем ты говоришь? Я помогу тебе держать ее закрытой, если только ты скажешь мне, о чем речь. — Д-д-дверь, — промямлила девочка. — Какая дверь? — ДВЕРЬ! — Дверь в резервуар? — Она открывается, она открывается! — Нет, — резко бросила Лаура. — Слушай меня. Ты должна слушать меня и принимать то, что я скажу. Дверь не открывается. Она закрыта. Плотно закрыта. Посмотри на нее. Видишь? Она даже не приоткрыта. Нет даже маленькой щелочки. — Нет даже щелочки, — повторила девочка, и теперь пропали последние сомнения в том, что какая-то часть ее рассудка может слышать Лауру, пусть даже она продолжала смотреть сквозь мать и, по большей части, находилась в другой, созданной ею самой реальности. — Нет даже щелочки, — кивнула Лаура, испытывая безмерное облегчение от того, что смогла в какой-то степени взять ситуацию под контроль. Девочка чуть успокоилась. Она еще дрожала, а на лице отражался страх, но губу она более не кусала. По ее подбородку змеилась алая полоска крови. — Теперь, сладенькая, дверь закрыта и останется закрытой, и никто и ничто с той стороны не сможет ее открыть, потому что я врезала в дверь новый замок, крепкий замок. Ты понимаешь? — Да. — В слабеньком голосе слышалось сомнение. — Посмотри на дверь. Видишь на ней большой, блестящий новый замок? Ты видишь новый замок? — Да. — Уверенности в голосе Мелани прибавилось. — Большой латунный замок. Огромный. — Да. — Огромный и прочный. И ничто в мире не сможет сломать этот замок. — Ничто, — согласилась девочка. — Хорошо. Очень хорошо. А теперь… пусть даже дверь не сможет открыться, я бы хотела знать, что находится на той стороне. Девочка промолчала. — Сладенькая! Помни про крепкий замок. Теперь ты в безопасности. Поэтому скажи мне, что по ту сторону двери. Маленькие бледные ручки Мелани поднялись и прошлись по воздуху перед ней, словно она пыталась что-то нарисовать. — Что по другую сторону двери? — повторила Лаура. Руки двигались и двигались. С губ девочки слетали бессвязные звуки. — Скажи мне, сладенькая… — Это дверь… — Куда ведет эта дверь? — Эта дверь… — Что за комната по другую сторону? — Это дверь в… — Куда? — Это дверь… в… декабрь, — ответила Мелани, ее страх рухнул под напором других эмоций, печали, тоски, отчаяния, раздражения, все они чувствовались в вырвавшихся из груди рыданиях. А потом, вдруг: — Мамик? Мамик? — Я здесь, крошка, — Лаура удивилась и обрадовалась тому, что дочь признала ее. — Мамик? — Рядом с тобой. Иди ко мне, крошка. Вылезай оттуда. Девочка продолжала плакать, но из-под стола не вылезла. «Мамик?» — похоже, она думала, что по-прежнему одна-одинешенька, далеко от объятий Лауры, хотя их разделяли считаные дюймы. — О, мамик! Мамик! Вглядываясь в темную нишу под письменным столом, наблюдая, как плачет маленькая девочка, Лаура потянулась к ней, коснулась ребенка и ощутила те чувства, что переполняли Мелани, особенно горе и раздражение. Но теперь Лауру разбирало любопытство. Дверь в декабрь? — Мама? — Я здесь, рядом с тобой. Они находились совсем рядом, но их разделяла огромная и таинственная пропасть.Глава 17
Чернокожий Лютер Уильямс был одним из самых молодых патологоанатомов УПЛА. Одевался он, как призрак Сэмми Девиса-младшего[40], роскошные костюмы и слишком много украшений, но красноречием и остроумием ничуть не уступал Томасу Соуэллу, чернокожему социологу. Лютер был большим поклонником Соуэлла и других социологов и экономистов, представляющих в интеллектуальном сообществе чернокожих буржуазное консервативное течение, и частенько цитировал их книги. Чуть ли не страницами. Несколько раз он рассказывал Дэну о преимуществах прагматичной политики и экономики свободного предпринимательства, утверждая, что только с их помощью можно вытащить бедных из бедности. При этом он был отличным патологоанатомом, с наметанным глазом на аномалии, которые частенько имели самое важное значение в судебной медицине. Поэтому Дэн и соглашался выслушивать долгие политические лекции, чтобы получить информацию, которую приносило вскрытие. Приносило почти всегда. Когда Дэн вошел в лабораторию с облицованными зеленым кафелем стенами, Лютер сидел за микроскопом, изучал образец ткани. Он оторвался от окуляров и улыбнулся, увидев, кто к нему пожаловал. — Дэнни, дружище! Ты воспользовался билетами, которые я тебе дал? Поначалу Дэн даже не понял, о чем спрашивает его патологоанатом, потом вспомнил. Лютер купил два билета на предвыборные дебаты Дж. Гордона Лидди и Тимоти Лири, но пойти не смог, что-то помешало. Неделю тому назад он столкнулся в коридоре с Дэном и настоял, чтобы тот взял билеты. «Такие дебаты не дают заснуть совести», — заявил тогда он. Теперь Дэн начал переминаться с ноги на ногу. — Слушай, я же еще тогда предупредил тебя, что, скорее всего, не смогу пойти. И попросил отдать билеты кому-нибудь еще. — Так ты не пошел? — В голосе Лютера слышалось разочарование. — Не было времени. — Дэнни, Дэнни, для такого ты должен находить время. Идет битва, которая определит наше будущее, битва между теми, кто любит свободу, и теми, кто нет, тихаявойна между любящими свободу либералами и ненавидящими свободу фашистами и леваками. Дэн не голосовал, даже не регистрировался для голосования, уже двенадцать лет. Его совершенно не волновало, какая партия стоит у власти и какая господствует идеология. Нет, он не считал, что все они говнюки: республиканцы и демократы, либералы и консерваторы. Возможно, они ими и были, но его это не волновало, поскольку причина его упорного безразличия к политике была другой. Он полагал, что преступность будет существовать в обществе, независимо от того, кто стоит у власти, а потому не видел смысла в том, чтобы выслушивать наводящие тоску политические аргументы. Его главным интересом в жизни, всепоглощающим интересом, были убийства, вот почему у него не оставалось времени на политику. Убийства и убийцы. Некоторые люди оказывались способными на чудовищную жестокость, и они зачаровывали Дэна Холдейна. Не те убийцы, что были психами. Не те, кто убивал в безрассудном приступе ярости или страсти. Другие. Мужья, которые могли убивать жен, не испытывая угрызений совести просто потому, что жены им надоели. Матери, которые могли убивать детей, потому что больше не хотели нести ответственность за их воспитание, и убивали, не испытывая ни горя, ни даже чувства вины. Некоторые люди могли убивать по самой банальной причине, скажем, только за то, что его подрезали на автостраде. Все они были аморальными социопатами, и Дэну не надоедало изучать эту категорию убийц и их извращенную психологию. Он хотел их понять. Хотел понять, кто они, психически больные… или выродки? Может, это был какой-то особый тип людей, способных на хладнокровное убийство, ни в коей мере не связанное с самозащитой? Если дело обстояло именно так, если они были волками в обществе овец, Дэну хотелось выяснить, что же их отличало? Чего в них не хватало? Почему они не знали, что такое сострадание и сочувствие? Он не мог на все сто процентов понять и объяснить свой интерес к убийствам. По складу ума он не относил себя ни к мыслителям, ни к философам, был практиком до мозга костей. Но, возможно, работая изо дня в день в мире насилия, крови и смерти, по прошествии многих лет невозможно не выработать в себе философский взгляд на проблему. Возможно, большинство копов, занятых расследованием убийств, проводят немало времени, размышляя о темной стороне человеческой натуры; возможно, он был не единственным; но знать этого он не мог; большинство копов предпочитают о таком не говорить. В случае Дэна, однако, стремление понять причины совершения убийств и образ мышления убийц определялось тем, что его брат и сестра были убиты. Возможно, именно этим. Теперь же, благоухая спиртом и какими-то другими химикалиями, которые используются в патологоанатомической лаборатории, широко улыбаясь Дэну, Лютер Уильямс продолжил: — Послушай, Дэнни, на следующей неделе состоятся действительно потрясающие дебаты между… Дэн прервал его: — Лютер, ты меня извини, но у меня нет времени на болтовню. Мне нужны кое-какие сведения, и срочно. — А с чего такая спешка? — Мне хочется отлить. — Послушай, Дэнни, я знаю, политика вызывает у тебя зевоту… — Нет, дело не в этом. — Лицо Дэна стало очень серьезным. — Мне действительно хочется пи-пи. Лютер вздохнул: — Придет день, когда тоталитаристы возьмут верх, и они примут законы, по которым ты не сможешь справить малую нужду, не получив разрешения официального представителя Федеральной комиссии по моче. — Ой! — Вот тогда ты придешь ко мне с наполненным до предела мочевым пузырем и скажешь: «Лютер, господи, почему ты не предупредил меня, кто эти люди?» — Нет, нет, я обещаю, что уползу в какой-нибудь подвал, один, и позволю моему мочевому пузырю разорваться. Обещаю, чего там, клянусь, что не побеспокою тебя. — Да, потому что ты действительно скорее позволишь своему мочевому пузырю разорваться, чем согласишься выслушать меня, а зря. Лютер сидел за лабораторным столом на стуле с колесиками. Дэн пододвинул другой стул, сел перед ним. — Ладно. Поразите меня своими научными открытиями, доктор Уильямс. Прошлой ночью вы получили трех необычных клиентов. Маккэффри, Хоффрица и Купера. — Их вскрытие намечено на этот вечер. — То есть с ними еще не работали? — У нас запарка, Дэнни. Людей нынче убивают быстрее, чем мы успеваем их вскрывать. — Похоже на нарушение принципов свободного предпринимательства. — Не понял? — Предложение превышает спрос. — Ты думаешь, это не так? А чего бы тебе не зайти в морг, не взглянуть на столы с наваленными один на другой трупами? — Нет, благодарю, хотя ты предлагаешь приятную экскурсию. — Скоро мы будем рассовывать их по чуланам и обкладывать мешками со льдом. — Ты, по крайней мере, видел тех троих, что меня интересуют? — Да, конечно. — Можешь ты что-нибудь о них сказать? — Они мертвы. — Как только тоталитаристы возьмут верх, они первым делом покончат со всеми слишком умными чернокожими патологоанатомами. — Слушай, именно об этом я тебе и толкую! — воскликнул Лютер. — Ты осмотрел их ранения? Темное лицо потемнело еще больше. — Никогда не видел ничего подобного. У каждого трупа множество следов от ударов, десятки, даже сотни. Живого места нет. Ужас какой-то. И однако нет двух одинаковых следов. Все кости переломаны поразному, нет каких-то закономерностей. Вскрытие, конечно, даст более точную информацию, но предварительно я могу сказать, что кости где-то сломаны, где-то раздроблены, а где-то… раздавлены. И я представить себе не могу, как некий тупой предмет, использованный в качестве дубинки, может превратить кость в порошок. Удар ломает кость, дробит ее, если это удар. Но растолочь удар не может, такое случается, если автомобиль врезается в пешехода и размазывает его по кирпичной стене. Можно, конечно, раздавить кость, прилагая давление, но это должно быть чертовски большое давление. — Так чем же их били? — Ты меня не понимаешь. Видишь ли, когда человека бьют так сильно и так долго, как вроде бы били этих парней, ты находишь какие-то закономерности, можешь сказать, что его били, скажем, молотком с закругленной ударной поверхностью диаметром один дюйм, с притупленной кромкой. Или били ломом, или обухом топора, книгой, батоном салями. То есть, осматривая следы от ударов, обычно можно понять, чем они наносились. Но не на этот раз. Все переломы и ранения разные, словно убийцы применяли великое множество орудий убийства. Дэн подергал левую мочку. — Полагаю, мы отметем версию, согласно которой убийца вошел в дом с чемоданом, набитым тупыми орудиями убийства, потому что он — большой любитель разнообразия. Я не думаю, что жертвы спокойно стояли и ждали, пока он сменит молоток на сковороду, а сковороду — на ломик. — Я бы сказал, что это логичное предположение. Дело в том… я не заметил ни одной раны или перелома от удара молотка, сковороды или лома. Каждый след от удара не просто отличается от других, он уникален, он совершенно необычной формы. — Есть идеи? — Знаешь, если бы мы были персонажами одного из старых романов про Фу Манчу, я бы сказал, что мы имеем дело со злодеем, который изобрел дьявольское оружие, некую машину-компрессор, которая обладает большей мощью, чем Арнольд Шварценеггер с кузнечным молотом. Любопытная версия. Но маловероятная. — Ты когда-нибудь читал Сакса Ромера[41], эти старые книжки о Фу Манчу? Черт, в них полным-полно экзотического оружия, приводятся необычные способы убийства. — Слушай, это же реальная жизнь. — Да, вроде бы так говорят. — Реальная жизнь — не романы про Фу Манчу. Лютер пожал плечами: — У меня такой уверенности нет. Ты в последнее время смотришь выпуски новостей? — Мне нужно что-нибудь получше, чем ссылка на роман про Фу Манчу, Лютер. В этом расследовании мне нужна конкретная помощь. Их взгляды встретились. И Лютер ответил ему, совершенно серьезно, без намека на шутку: — Но именно так они выглядят, Дэнни. Словно их забил до смерти мощный удар воздушной волны.Глава 18
После того как Лауре удалось убедить девочку вылезти из-под письменного стола, она вывела ее из гипнотического состояния. Конечно, не до конца: полностью сознание к ребенку не вернулось. Мелани вышла из гипнотического транса, но осталась в полукататоническом состоянии, в каком пребывала с того самого момента, как ее нашла полиция.Лаура лелеяла надежду, что выход из гипноза оборвет и кататонию. На какие-то мгновения глаза ребенка встретились с глазами Лауры, она протянула ручку и коснулась ее щеки, словно не веря в присутствие матери. — Оставайся со мной, крошка. Не уходи от меня. Оставайся со мной. Но девочка соскользнула в собственный мир. Контакт с реальностью был, но короткий, очень короткий. Сеанс гипноза отнял много сил у Мелани. Ее лицо побледнело от усталости, глаза налились кровью. Лаура уложила Мелани на кровать, и девочка заснула, едва ее голова коснулась подушки. Вернувшись в гостиную, Лаура увидела, что Эрл Бенсон на ногах и без пиджака. Он также достал пистолет из плечевой кобуры и держал его в правой руке, наготове, словно думал, что необходимость воспользоваться им может возникнуть в любую минуту. Он стоял у французского окна, под прикрытием стены, смотрел на улицу, на его широком лице отражалась тревога. — Эрл? — позвала она. Он коротко глянул на нее. — Где Мелани? — Спит. Он вновь повернулся к улице. — Лучше оставайтесь с ней. У нее перехватило дыхание. Она судорожно сглотнула слюну. — Что случилось? — Может, и ничего. Полчаса тому назад на противоположной стороне улицы остановился фургон телефонной компании. Никто из него не вышел. Она подошла, встала рядом с ним. Серо-синий фургон с белыми надписями на борту стоял напротив ее дома, чуть выше по склону холма, наполовину на солнце, наполовину в тени палисандрового дерева. Выглядел он точь-в-точь как другие фургоны телефонной компании, которые ранее попадались ей на глаза: она не нашла в нем ничего особенного, ничего угрожающего. — А почему он показался вам подозрительным? — спросила она. — Как я и говорил, до сих пор из фургона никто не выходил. — Может, монтер решил вздремнуть за счет компании? — Маловероятно. В телефонной компании слишком хорошие управляющие, чтобы допускать такое. А потом… что-то здесь не так. Я это чую. Уже сталкивался с чем-то подобным. Мне представляется, что за нами следят. — Следят? Кто? — Трудно сказать. Но фургон телефонной компании… так часто работают феды. — Федеральные агенты? — Да. В изумлении она перевела взгляд с фургона на профиль Эрла. А вот он, похоже, ее изумления не разделял. — Вы хотите сказать, ФБР? — Возможно. Или Министерство финансов… Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия. Может, одна из секретных служб Министерства обороны. Феды бывают разные. — Но с какой стати федеральным агентам устанавливать за нами слежку? Мы — жертвы… во всяком случае, потенциальные жертвы, не преступники. — У меня нет полной уверенности, что это феды. Я лишь говорю, что они часто так действуют. Глядя на Эрла, который не отрывал глаз от фургона, Лаура поняла, что он изменился. Теперь она видела перед собой не деревенщину под тонким слоем лос-анджелесского лоска. Он вдруг стал старше своих двадцати шести лет, весь подобрался, словно готовясь к бою. Лаура не понимала, что происходит. — Но если это государственные служащие, беспокоиться не о чем. — Неужто? — Они же не те, кто пытался убить Мелани. — Не те? Она даже вздрогнула. — Конечно, не те. Ведь не государство убило моего мужа и тех двоих. — Откуда вам это известно? — Эрл по-прежнему не отрывал взгляда от фургона телефонной компании. — Ради бога… — Ваш муж и один из тех, кого убили вместе с ним… раньше они работали в ЛАКУ? — И что? — Они получали фанты. На исследования. — Да, конечно, но… — Некоторые гранты, точнее, большинство, выделяло государство, не так ли? Лаура не стала отвечать, потому что Эрл, судя по всему, и без того знал ответ. — Гранты Министерства обороны, — добавил он. Она кивнула. — И других ведомств. — Министерство обороны интересуется коррекцией поведения. Контролем за разумом. Лучший способ борьбы с врагом — взять под контроль его разум, превратить в своего друга, не позволяя осознать, что им манипулируют. Научный прорыв в этой области может положить конец войнам в их нынешнем виде. Черт, да любое государственное ведомство заинтересовано в контроле разума. — Но откуда вам известно о характере работы Дилана? Я вам ничего не говорила. Эрл вопрос проигнорировал. — Возможно, ваш муж и Хоффриц до сих пор работали на государство. — Хоффрица выгнали… — Если его исследования имели важное значение, если он получал требуемые результаты, они бы не посмотрели на то, что Хоффриц потерял уважение научного сообщества. Его бы все равно использовали. Эрл вновь взглянул на нее, в его глазах читался цинизм, выражение лица совершенно изменилось. Она более не видела перед собой деревенского парня, который, как Лаура думала, приехал в Лос-Анджелес в поисках лучшей жизни. И поняла, что Эрл Бентон, несмотря на молодость, далеко не так прост, как ей поначалу показалось. И у нее уже не было уверенности, что она может ему доверять. Ситуация с каждым мгновением усложнялась, возможные варианты развития событий множились с пугающей скоростью, она почувствовала, что голова идет кругом. — Государственный заговор? Но зачем убивать Дилана и Хоффрица, если они работали на них? Эрл ответил без запинки: — Может, убивали не они. Если уж на то пошло, вероятность этого крайне мала. Но, возможно, исследования вашего мужа вели к серьезному научному прорыву, и результаты могли иметь важное военное применение, вот другая сторона его и ликвидировала. — Другая сторона? Он вновь смотрел на улицу. — Иностранные агенты. — Советскому Союзу пришел капут. Может, вы слышали. Об этом писали все газеты. — Русские по-прежнему здесь, и мы с ними очень не скоро станем лучшими друзьями. А есть еще Китай, Иран, Ирак, Ливия. Врагов мало не бывает. Все рвущиеся к власти хотят посчитаться с нами. — Это безумие, — запротестовала она. — Что? — Иностранные агенты, шпионы, международные интриги… Обычные люди не имеют к этому никакого отношения. Попадают в такие передряги только в кино. — Все так, — согласился Эрл. — Но ваш муж не был обычным человеком. Как и Хоффриц. Она не могла оторвать взгляда от этого человека, с которым у нее на глазах происходили столь глубокие изменения, он становился все старше, суровее. Она повторила вопрос, на который Эрл не ответил раньше. — Все эти рассуждения… вы не могли делать такие выводы, если не знали моего мужа, области его исследований, работы, которой он занимался. Кто рассказал вам все это про Дилана? Я не рассказывала. — Дэн Холдейн. — Детектив? Когда? — Когда позвонил мне. Около полудня. — Но я еще в час дня не знала, что обращусь в вашу фирму. — Дэн сказал, что дал вам нашу визитную карточку и не сомневается, что вы позвоните. Он хотел, чтобы мы с самого начала знали о всех возможных осложнениях. — Но он не говорил мне, что в этой истории могут быть замешаны агенты ФБР и, не дай бог, русские. — Он не знает, замешаны ли они, доктор Маккэффри. Он всего лишь пришел к выводу, что эти убийства могут иметь серьезный резонанс. А вам ничего этого говорить не стал, потому что не хотел, чтобы вы волновались попусту. — Господи! Волна паранойи вновь начала подниматься в ее рассудке. Она чувствовала, что попала в тщательно сплетенную паутину заговоров. — Так что лучше приглядывайте за Мелани, — посоветовал Эрл. По улице медленно ехал «шеви»-седан. Остановился, поравнявшись с фургоном телефонной компании, проехал чуть вперед, припарковался перед ним. Из седана вышли двое мужчин. — Наши люди, — пояснил Эрл. — Сотрудники «Паладина»? — Да. Я позвонил в контору после того, как понял, что из фургона следят за домом, попросил прислать кого-нибудь из парней, потому что не хотел выходить и оставлять вас одних. Двое мужчин, которые вышли из «шеви», с двух сторон направлялись к фургону. — Лучше приглядите за Мелани, — повторил Эрл. — Она в порядке. — Тогда отступите на шаг от окна. — Почему? — Потому что мне платят за риск, а вам — нет. И я с самого начала предупреждал, что вы должны выполнять все мои указания, не задавая вопросов. Она отступила от окна, но только на шаг. Хотела увидеть, как будут развиваться события. Один из сотрудников «Паладина» остался у водительской дверцы, второй обошел фургон сзади. — Если это федеральные агенты, стрельбы не будет, — догадалась Лаура. — Даже если им нужна Мелани. — Но, как я и говорил, возможно, в этом фургоне не феды. — А если там… кто-то еще? — спросила она, не сумев заставить себя произнести: «Русские». — Тогда можно ждать всякого. — И его пальцы еще крепче сжали рукоятку пистолета. Лаура смотрела в окно, все в грязных потеках после вчерашнего дождя. Катящееся к горизонту солнце окрасило улицу в красно-бронзовые цвета. Прищурившись, она увидела, как открылась одна половинка задней дверцы фургона телефонной компании.
Глава 19
Дэн вышел из патологоанатомической лаборатории, но не прошел и нескольких шагов, как в голове сверкнула мысль, заставившая его остановиться. А мгновением позже он уже возвращался в лабораторию. Открыл дверь, вошел. Лютер оторвался от микроскопа. — Вроде бы ты пошел отлить, но отсутствовал только десять секунд. — Отлил прямо в коридоре. — Обычное дело для детектива отдела расследования убийств. — Послушай, Лютер, ты — либерал? — Да, конечно, но либералы бывают разные. Есть либералы-консерваторы, либералы-анархисты, либералы-ортодоксы. Есть либералы, которые верят, что мы должны… — Лютер, посмотри на меня, и ты увидишь живой пример существительного «скука». — Тогда почему ты спрашиваешь? — Я просто хотел узнать, слышал ли ты о либеральной группе, которая называется «Свобода теперь». — Если мне не изменяет память, нет. — Это комитет политических действий. — Мне это ничего не говорит. — Ты достаточно активен в либеральных кругах, не так ли? Ты бы слышал о «Свободе теперь», если бы они вели какую-то работу, проповедовали свои идеи, стремились реализовать их? — Пожалуй. — Эрнст Эндрю Купер. — Один из трех убитых в Студио-Сити, — кивнул Лютер. — Да. Раньше никогда о нем не слышал? — Нет. — Вроде бы большая шишка в либеральных кругах. — Где? — Здесь, в Лос-Анджелесе. — Нет, конечно. Раньше никогда о нем не слышал. — Ты уверен? — Разумеется, уверен. Почему ты меня допрашиваешь, как детектив отдела расследования убийств? — Я и есть детектив отдела расследования убийств. — Ты — детектив, это точно. — Лютер заулыбался. — Все люди, с которыми ты работаешь, так говорят. Некоторые, правда, используют другие слова, но подразумевают то самое — детектив[42]. — Лютер, по-моему, ты просто зациклился на этом слове, что с тобой такое? Тебе одиноко, может, тебе нужен новый бойфренд? Патологоанатом рассмеялся. Смеялся он всегда очень заразительно, и улыбка у него была такая обаятельная, что собеседник не мог не улыбнуться в ответ. Дэн не раз спрашивал себя, а почему такой добродушный, жизнелюбивый, оптимистичный, энергичный, веселый человек, как Лютер Уильямс, решил отведенное работе время проводить с трупами?* * *
Кабинет доктора Ирматруды Гелькеншеттль, заведующей кафедрой психологии ЛАКУ, занимал угловое помещение, и из многочисленных окон открывался вид на кампус. Часы показывали без четверти пять, короткий зимний день подходил к концу. Багрянец заката напоминал еще раскаленные угли костра. Тени вытягивались с каждой минутой. Студенты спешили разбежаться по общежитиям и опередить пробирающий до костей холод, который несла с собой приближающаяся ночь. Дэн расположился в современном датском кресле, тогда как доктор Гелькеншеттль обошла стол и села на стул с высокой спинкой. Невысокая коренастая женщина пятидесяти с небольшим лет, с коротко стриженными, обильно тронутыми сединой волосами, красавицей никогда не была, но ее доброе лицо притягивало взгляд. Носила она синие джинсы и белую мужскую рубашку с накладными карманами, эполетами и закатанными по локоть рукавами. Часы у нее тоже были мужские, простой, но надежный «Таймекс» на браслете. Она излучала компетентность, уверенность в себе, интеллигентность. Хотя Дэн встретился с ней впервые, у него создалось ощущение, что он давно уже ее знает. Очень уж она напоминала ему тетю Кей, сестру матери, офицера американской армии. Доктор Гелькеншеттль, несомненно, выбирала одежду по критериям удобства, долговечности и стоимости. Она не осуждала тех, кто стремился идти в ногу с модой. Просто ей в голову не приходила мысль о том, что при обновлении гардероба необходимо принимать во внимание моду. Он даже знал, почему она отдавала предпочтение мужским часам. Точно так же поступала и тетя Кей, потому что у мужских часов больше циферблат, и проще рассмотреть, который час. Поначалу ее внешность его ошарашила. Он и представить себе не мог, что вот так может выглядеть глава кафедры психологии. Но потом он заметил, что одна из полок книжного шкафа, который стоял за ее столом, заполнена более чем двадцатью томами с ее фамилией на корешке. — Доктор Гелькеншеттль… Она подняла руку, прерывая его. — Эту фамилию произнести невозможно. Доктором Гелькеншеттль называют меня только студенты, коллеги, которых я презираю, и мой автомеханик, этих ребят нужно держать в узде, а не то они сдерут с тебя годовое жалованье за обычное техобслуживание, и незнакомцы. Мы — незнакомцы, или почти что незнакомцы, но мы также профессионалы, поэтому давайте обойдемся без формальностей. Зовите меня Мардж. — Это ваше второе имя? — К сожалению, нет. Но Ирматруда ничуть не лучше Гелькеншеттль, а мое второе имя — Хейди. Как по-вашему, Хейди мне подходит? Он улыбнулся: — Полагаю, что нет. — Вы чертовски правы. Мои родители были очень милые люди, они любили меня, но вот с подбором имен дали маху. — Меня зовут Дэн. — Гораздо лучше. Просто. Разумно. Каждый может выговорить Дэн. Так вы хотите поговорить о Дилане Маккэффри и Вилли Хоффрице. Трудно поверить, что они мертвы. — Если б вы увидели тела, то поверили бы сразу. Сначала расскажите мне о Дилане. Какого вы о нем были мнения? — Я не занимала этот кабинет, когда здесь работал Дилан. Меня назначили заведующей кафедрой лишь четыре года тому назад. — Но вы уже преподавали в университете, вели собственные исследования. Работали с ним на одной кафедре. — Да. Я не знала его очень хорошо, но в одном сомнений у меня не было: я не хотела узнать его лучше. — Как я понимаю, он полностью отдавался работе. Его жена, она психиатр, говорит, что он уходил в работу с головой, называла его одержимым. — Он был чокнутым, — высказала свое мнение Мардж.* * *
Два сотрудника «Паладина» отошли от подозрительного фургона телефонной компании и направились к парадной двери дома Лауры. Эрл Бентон впустил их в дом. Высокого и низкого. Высокий был еще и тощим, с лицом серого цвета. У низкого по переносице и по обеим щекам рассыпались веснушки. Они не захотели присесть, отказались от кофе. Низкорослого Эрл называл Флэш[43], и Лаура так и не поняла, имя это или прозвище. Говорил только Флэш, высокий стоял рядом с бесстрастным лицом. — Они разозлились из-за того, что мы их вычислили. — Если б они этого не хотели, могли действовать тоньше, — ответил Эрл. — Так я им и сказал, — кивнул Флэш. — Кто они? — Они показали нам удостоверения агентов ФБР. — Ты записал фамилии? — Фамилии, имена и номера удостоверений. — Удостоверения показались тебе настоящими? — Да, — кивнул Флэш. — А сами мужчины? Похожи на агентов ФБР? — Да. Одеты строго. Сдержанные, говорят мягко, вежливо, пусть и злятся, но наглые и самодовольные. Ты же знаешь, какие они. — Знаю, — согласился Эрл. — Мы направляемся в контору, — продолжил Флэш, — проверим, есть ли в Бюро такие агенты. — Фамилии ты найдешь, даже если в фургоне совсем другие люди, — заметил Эрл. — Ты должен заполучить фотографии настоящих агентов и посмотреть, выглядят ли они как эти парни.— Этим мы и собирались заняться, — заверил его Флэш. — Возвращайтесь сюда как можно быстрее, — напутствовал парочку Эрл, и они направились к двери. — Подождите, — остановила их Лаура. Все трое посмотрели на нее. — Что они вам сказали? По какой причине они следят за моим домом? — Бюро не рассказывает о своих операциях, если, конечно, не хочет рассказать, — объяснил Лауре Эрл. — А эти парни не хотели, — добавил Флэш. — Скорее они бы расцеловали нас и пригласили потанцевать, чем рассказали бы о том, что им поручено. Высокий согласно кивнул. — Если бы они приехали для того, чтобы защитить Мелани и меня, они бы нам сказали, не так ли? Следовательно, они хотят отнять ее у меня. — Необязательно, — возразил Флэш. Эрл сунул пистолет в плечевую кобуру. — Лаура, для Бюро ситуация, возможно, такая же неопределенная, как и для нас. Например, представьте себе, что ваш муж работал над важным пентагоновским проектом, когда исчез вместе с Мелани. Допустим, с тех пор ФБР разыскивало его. Теперь он появляется, мертвый, при необычных обстоятельствах. Может, последние шесть лет его финансировало совсем не наше государство, и в этом случае у ФБР может возникнуть вопрос, а где он брал деньги. Вновь Лаура почувствовала, что пол уходит у нее из-под ног, словно реальный мир, который она всегда принимала как само собой разумеющееся, в действительности оказался иллюзией. А настоящая реальность — кошмарный мир параноика, полный невидимых врагов, изощренных заговоров. — Так вы говорите мне, что они сидят в фургоне телефонной компании, следят за моим домом, потому что думают, как бы кто-то еще не пришел за Мелани, и хотят их перехватить? Но я все равно не понимаю, почему они не пришли ко мне и не сказали, что будут вести наблюдение. — Вам они не доверяют, — ответил Флэш. — Они злы на нас за то, что мы выдали их присутствие не только тем, кто тоже может наблюдать за вашим домом, — добавил Эрл, — но и вам. — Почему? — в голосе Лауры слышалось недоумение. Эрл замялся: — Потому что, насколько им известно, вы могли быть замешаны в этой истории наравне с вашим мужем. — Он украл у меня Мелани. Эрл откашлялся, ему определенно не хотелось объяснять Лауре очевидное, но ничего другого не оставалось. — С точки зрения Бюро вы могли позволить вашему мужу забрать вашу дочь, чтобы он мог экспериментировать с ней без вмешательства родственников или друзей. — Это безумие! — воскликнула Лаура, потрясенная таким предположением. — Вы же видите, что он сделал с Мелани! Как я могла в этом участвовать? — Люди способны на странные поступки. — Я ее люблю. Она — моя маленькая девочка. У Дилана была расстроенная психика, возможно, он был сумасшедшим, он мог не видеть или не обращать внимания на то, что он мучает ее, убивает. Но у меня-то с психикой все в порядке! Я — не Дилан. — Я знаю, — Эрл попытался успокоить ее. — Я знаю, что вы — не он. По глазам Эрла она поняла, что он верит ей, сочувствует, но в глазах двух других сотрудников «Паладина» увидела толику сомнения и подозрительности. Они работали на нее, но не до конца верили, что она говорит правду. Безумие! Она попала в водоворот, который все дальше и дальше уносил ее в кошмарный мир подозрительности, обмана и насилия, в мир, где все видимое на поверку оборачивалось чем-то совсем другим.
* * *
— Чокнутым? — удивленно повторил Дэн. — Не знал, что в лексиконе психологов есть такие слова. Мардж усмехнулась: — Разумеется, мы не употребляем их в студенческих аудиториях, публикуемых работах или в зале суда, если нас приглашают на какой-то процесс в качестве экспертов. Но в уединении моего кабинета, между нами, почти что незнакомцами, скажу вам, Дэн, он был чокнутым. Нет, конечно, на учете он не состоял, будьте уверены. До этого не дошло. Но и не был просто эксцентричным человеком. Вроде бы его исследования сосредотачивались на разработке и практическом применении методов коррекции поведения, которые могли быть использованы для перевоспитания преступников. Но он постоянно сбивался с курса, воодушевляясь то одним, то другим хобби. Регулярно объявлял о глубокой увлеченности, я бы выразилась точнее — одержимости, каким-то новым направлением исследований, но обычно через шесть месяцев, или около того, он терял к этому направлению всякий интерес. — А что это были за хобби? Она откинулась на спинку стула, сложила руки на груди. — К примеру, он пытался подобрать дозировки наркотиков для лечения от никотиновой зависимости. Вам это представляется разумным? Снять у курильщиков зависимость от сигарет и посадить их на наркотики. Черта с два! Потом он предлагал воздействовать на подсознание людей, скажем, давать гипнотическую установку, которая позволила бы поверить в сверхъестественное и открыть разум для психических экспериментов, чтобы мы могли видеть души так же легко, как мы видим друг друга. — Души? Вы говорите о призраках? — Говорю. Вернее, он говорил. — Я не думал, что психологи могут верить в призраков. — Перед вами психолог, которая не верит. Маккэффри был одним из тех, кто верил. — Я помню книги, которые мы нашли в его доме. Некоторые были об оккультизме. — Возможно, половина его хобби была связана с оккультизмом, — сказала она. — С одним сверхъестественным феноменом или с другим. — А кто же оплачивал такие исследования? — Мне придется поднять архивные документы. Могу предположить, что связанное с оккультизмом он оплачивал сам или использовал деньги, предназначенные для других работ. — Разве можно использовать фонды не по назначению? Вроде бы за все нужно отчитываться. — Если ты нечестен, обмануть государство довольно легко. Иногда воры становятся легкой добычей другого вора, потому что не представляют себя в роли добычи, только хищника. — А кто финансировал его основные исследования? — Он получал какие-то деньги от фондов, основанных выпускниками университета для финансирования научных исследований. И, разумеется, корпоративные гранты. А также, как я уже говорила, государственные деньги. — В основном его финансировало государство? — Я бы сказала, в основном. Дэн нахмурился: — Послушайте, если Дилан Маккэффри был чокнутым, как государство могло с ним работать? — Да, он был чокнутым, и его интерес к оккультизму не мог не раздражать, но ведь и ума ему хватало. Этого у него не отнимешь. Будь у него побольше психологической устойчивости, блестящий интеллект поднял бы его на самую вершину. Он бы стал знаменитостью в своей области, а может, и для широкой общественности. — Пентагон финансировал его исследования? — Да. — А над чем он работал для Пентагона? — Не могу сказать. Во-первых, не знаю. Я могла бы покопаться в архивах, но, если бы узнала, все равно сказать бы не смогла. У вас нет допуска к секретной информации. — Логично. А что вы можете сказать мне о Вильгельме Хоффрице? — Он был мразью. Дэн рассмеялся: — Доктор… Мардж, вы определенно не стараетесь подбирать слова. — Но это правда. Хоффриц был отъявленным сукиным сыном. Чертовым элитистом. Отчаянно хотел стать заведующим кафедрой. Но не имел ни малейшего шанса. Все знали, каким он станет, обретя власть над нами. Злобным. Мстительным. Завистливым. Он бы втоптал кафедру в грязь. — Он тоже работал на Министерство обороны? — Практически полностью. Об этом тоже ничего сказать не могу. — Ходит слух, что его вынудили уйти из университета. — Да, для ЛАКУ это был праздник. — И за что от него избавились? — Одна молодая девушка, студентка… — Ага. — Все гораздо хуже, чем вы думаете, — продолжила Мардж. — Речь идет не просто о нарушении неписаного морального кодекса. Он не был первым профессором, который спал со студенткой. За это прегрешение пришлось бы выгнать половину преподавателей-мужчин и пятую часть женщин. Он не только спал с ней, но и бил ее, и в результате она попала в больницу. Их отношения были… мягко говоря, извращенными. Как-то ночью он потерял контроль над собой. — Вы говорите об играх с привязыванием рук и ног, не так ли? — Да. Хоффриц был садистом. — А девушка ему подыгрывала? Была мазохисткой? — Да. За это и поплатилась. В одну из ночей Хоффриц сломал ей нос, три пальца, левую руку. Я ездила к ней в больницу. Оба заплывших глаза, рассеченная губа, синяки по всему телу.* * *
Лаура и Эрл наблюдали, как Флэш и высокий в сгущающихся сумерках идут к седану. Фургон телефонной компании превратился в темное пятно, буквы на борту растворились в густой тени, падающей от палисандрового дерева. — ФБР, значит? — подала голос Лаура. — Они не уедут? — Нет. — Несмотря на то что мне известно об их присутствии? — Они не убеждены, что вы были с мужем заодно. Собственно, для них это один из наименее вероятных вариантов. Они предполагают, что те, кто финансировал исследования Дилана, придут за Мелани, и хотят находиться здесь, когда это случится. — Но без вас мне все равно не обойтись, — заметила Лаура. — На случай, если агенты ФБР захотят увезти мою дочь. — Да. Если такое произойдет, вам понадобится свидетель для того, чтобы прижать их в суде. Она подошла к дивану, присела на краешек, ссутулившись, опустив голову, положив руки на колени. — У меня такое ощущение, что я схожу с ума. — Все образуется, так что… Его прервал вопль Мелани.* * *
Выслушав описание избитой студентки, Дэн поморщился. — Но Хоффрица не арестовали. — Девушка не написала заявления в полицию. — Он так ее избил, а она позволила ему выйти сухим из воды? Почему? Мардж поднялась, подошла к окну, посмотрела на кампус. Оранжевый свет заката уступил место серости и синеве сумерек. По небу со стороны моря наплывали редкие облака. Заговорила психолог после долгой паузы: — Когда мы на время отстранили Вилли от преподавания и начали разбираться с его взаимоотношениями со студентками, выяснилось, что эта девушка была не первой. За предыдущие годы как минимум четверо, мы, во всяком случае, точно знаем о четверых, вступали с Хоффрицем в сексуальные отношения, все играли роль мазохисток, с готовностью принимавших его садизм, но до серьезных травм никогда не доходило. До этой девушки все заканчивалось пусть грубыми, но играми. Первые четверо согласились поговорить с нами, и в результате этих бесед мы узнали некоторые интересные, приводящие в смятение… и пугающие подробности. Дэн подгонять ее не стал. Почувствовал, что для нее очень болезненно и унизительно признавать, что коллега, пусть и тот, кого она терпеть не могла, оказался способен на такие гадости, тем самым доказывая, что научное сообщество ничуть не лучше человечества в целом. Но она была реалисткой, понимала, что так уж устроена жизнь, и он не сомневался, что она расскажет ему все. От него требовалось только одно: не мешать ей. Она продолжила, всматриваясь в сумерки: — Среди этих первых четырех девушек не было распутниц. Все из хороших семей, приехали сюда, чтобы получить образование, а не ради того, чтобы вырваться из-под родительской опеки и удовлетворять свои сексуальные фантазии. Собственно, двое были девственницами до того, как попали под влияние Хоффрица. И ни одна до встречи с Хоффрицем ни с кем не вступала в садомазохистские отношения. Их мутило от воспоминаний о том, что они позволяли ему с ними делать. Мардж вновь замолчала. Он решил, что она хочет услышать от него вопрос, и задал его: — Но, если им это не нравилось, почему они это делали? — Ответ достаточно сложен. — Я постараюсь понять. Я тоже не так-то прост. Она отвернулась от окна, улыбнулась, но лишь на мгновение. И действительно, в том, что она рассказала, не было ничего веселого или забавного. — Мы узнали, что все четыре девушки добровольно участвовали в закрытых экспериментах по изменению поведения, которые проводил Хоффриц. Эксперименты эти включали постгипнотическое внушение и использование подавляющих собственное достоинство наркотиков. — Но почему у них возникло желание в этом участвовать? — Чтобы доставить удовольствие профессору. Чтобы получить хорошие оценки. А может, потому, что предложение их заинтересовало. Студенты, знаете ли, иногда интересуются тем, что изучают, даже в наши дни, даже средненькие студенты, которые ныне приходят к нам. А Хоффриц не был лишен обаяния, которое на некоторых действовало сильнее, чем на других. — Но не на вас. — Когда он пытался обаять меня, то я находила его еще более мерзким, чем всегда. Короче, он учил этих девушек, он их очаровал, и не следует забывать, что он постоянно публиковал свои работы как в периодике, так и в монографиях, и в своей области считался компетентным специалистом. Получил известность. — И после начала таких экспериментов каждая девушка попадала к нему в постель. — Да. — Вы думаете, что он использовал гипноз, наркотики, подсознательное воздействие, чтобы… изменить их психику, подстроить под себя? — Чтобы запрограммировать в их психологическую матрицу распутство и мазохизм. Да. Именно так я и думаю.* * *
Пронзительный вопль Мелани наполнил дом. Выкрикивая имя дочери, Лаура последовала за Бенсоном в коридор. С пистолетом в руке, телохранитель первым вошел в комнату Мелани, включил свет. Девочка была одна. Угрозу, которая заставила ее закричать, могла видеть только она. В белых носках и трусиках из белой хлопчатобумажной ткани, в которых она спала, девочка забилась в угол, выставила перед собой руки, защищаясь от невидимого врага, и вопила так пронзительно, что могла повредить горло. И выглядела она такой хрупкой, такой ранимой. Лауру просто сокрушила ненависть к Дилану. Ноги отказывались держать ее тело, она уже начала опускаться на пол, вес переполняющей ее злости оказался слишком велик. Эрл сунул пистолет в кобуру. Протянул руки к Мелани, но она ударила по ним и поползла вдоль стены, подальше от него. — Мелани, сладенькая, прекрати! Все хорошо, — обратилась к дочери Лаура. Девочка не услышала мать. Добралась до другого угла, уселась, подтянула ноги к груди, выставила перед собой маленькие, сжатые в кулаки ручонки. Она больше не кричала, с губ срывался только один бессвязный панический звук: — Ах… ах… ах… ах… ах… Эрл присел перед ней на корточки. — Все в порядке, малыш. — Ах… ах… ах… ах… — Теперь все в порядке. Действительно в порядке, Мелани. Я позабочусь о тебе. — Эта д-д-дверь, — проговорила Мелани. — Эта дверь. Не позволяйте ей открыться. — Она закрыта, — Лаура поспешила к дочери, опустилась перед ней на колени. — Дверь закрыта и заперта, сладенькая. — Держите ее закрытой! — Разве ты не помнишь, крошка? — спросила Лаура. — На двери большой, новый, крепкий замок. Разве ты не помнишь? Эрл в недоумении посмотрел на Лауру. — Дверь закрыта, — продолжала она. — Заперта. Запечатана. Наглухо забита гвоздями. Никто не сможет ее открыть, сладенькая. Никто. Большущие слезы появились в уголках глаз Мелани. Покатились по щекам. — Я позабочусь о тебе, — мягко произнес Эрл. — Крошка, ты тут в безопасности. Никто не сможет причинить тебе вред. Мелани вздохнула. Страх начал покидать ее лицо. — Здесь ты в безопасности. В полной безопасности. Девочка подняла одну бледную руку к голове и начала рассеянно вертеть в руках прядь волос, как это делала бы любая другая девочка, занятая мыслями о мальчиках, лошадях, беседах с подружками или о чем-то еще, все-таки в головы к девятилетним девочкам приходят самые разные мысли. Действительно, после столь странного поведения, которое она до этого времени демонстрировала, после резких переходов от истерики к кататонии и обратно вид ее руки, играющей с прядью волос вселял самые радужные надежды, потому что являл собой толику нормального поведения, малую, конечно, толику, не прорыв, не брешь в прочной броне аутизма, но уже толику нормальности. И Лаура не могла за это не ухватиться. — Ты бы хотела пойти со мной в салон красоты, крошка? А? Ты ведь никогда не была в настоящем салоне красоты. Мы пойдем, и там твои волосы приведут в порядок. Тебе бы этого хотелось? И хотя глаза Мелани оставались стеклянными, брови чуть сошлись у переносицы, словно она рассматривала предложение матери. — Видит бог, тебе нужно что-то сделать с волосами, — продолжила Лаура, стремясь сохранить этот момент. Растянуть, углубить и расширить этот неожиданный контакт с дочерью, отделенной от нее и от всего реального мира броней аутизма. — Мы их подстрижем и уложим. Может, сделаем завивку. Ты бы хотела, чтобы твои волосы стали вьющимися, сладенькая? С кудряшками ты будешь так славно выглядеть. Лицо девочки смягчилось. Еще чуть-чуть, и губы начали бы изгибаться в улыбке. — А после салона красоты мы с тобой пойдем по магазинам, покупать одежду. Не возражаешь, сладенькая? Купим множество новых платьев. Платьев и свитеров. Даже блестящий пиджак, какие сейчас носят дети. Могу поспорить, тебе такой понравится. Но начавшая формироваться улыбка Мелани застыла на полпути. И хотя Лаура продолжала говорить, та самая толика нормальности вдруг исчезла бесследно. На только что спокойном лице девочки отразилось отвращение, словно в своем личном мире она увидела нечто мерзкое и ужасающее. Потом она повела себя совсем странно, даже пугающе. Начала бить себясвоими маленькими кулачками сначала по коленям и бедрам, с громкими чавкающими звуками заколотила по груди… — Мелани! Кулаки молотили по бицепсам, по плечам с невероятной силой, яростью, с тем, чтобы причинить себе боль. — Перестань! Мелани! — Лауру потрясла и перепугала внезапно открывшаяся в Мелани жажда самоуничтожения. Мелани ударила себя по лицу. — Я ее остановлю! — крикнул Эрл. Девочка укусила его, когда он попытался схватить ее за руки. Вырвала одну руку и в кровь исцарапала собственную грудь. — Господи! — выдохнул Эрл, когда девочка пнула его голой ногой и вывернулась из его рук.* * *
— Запрограммировал распутство и мазохизм? — хмурясь, переспросил Дэн. — Разве такое возможно? Мардж кивнула: — Если психолог в должной мере владеет современными методами глубокого воздействия на мозг, если он беспринципен, если находится человек, желающий на это пойти, или у психолога есть возможность контролировать человека и работать с ним в течение продолжительного времени… тогда такое возможно. Но обычно на это уходит очень много времени, требуется терпение и упорство. Самым удивительным и пугающим в этой истории является то обстоятельство, что Хоффриц сумел запрограммировать этих девушек буквально за несколько недель, работая с ними час или два в день, три или четыре раза в неделю. Вероятно, он разработал новые и чертовски эффективные методы психологической коррекции. Но с первыми четырьмя ему не удавалось добиться длительного эффекта, через несколько недель или месяцев все шло насмарку. Психологическая матрица каждой девушки обретала прежнюю конфигурацию. Поначалу она испытывала стыд за ту сексуальную акробатику, которую проделывала с Хоффрицем, но продолжала получать удовольствие в унижении и боли, которые доставались ей как мазохистке. Потом весь садомазохистский аспект их взаимоотношений вызывал у нее страх и отвращение. Каждая из девушек говорила, что она словно вырывалась из кошмарного сна, когда у нее возникало и крепло желание порвать с Хоффрицем. И все четыре девушки в конце концов нашли в себе силы это сделать. — Слава богу. — Я понимаю, почему Его славят, но иногда задаюсь вопросом, а как Он может позволять таким людям, как Хоффриц, ходить по этой земле. — Почему девушки не обратились в полицию… или как минимум в администрацию университета? — Их всех останавливало глубокое чувство стыда. До того как мы нашли их и допросили, они и представить себе не могли, что их мазохизм — результат воздействия Хоффрица на их психику. Все они думали, что эти извращенные желания заложены в них природой. — Но как такое может быть? Они же знали, что участвуют в экспериментах по изменению поведения. И когда начали вести себя, как не вели никогда раньше… Она подняла руку, останавливая его: — Вилли Хоффриц, возможно, давал им постгипнозные директивы, запрещающие каждой девушке рассматривать возможность того, что он несет ответственность за изменения в их поведении. Мысль о том, что мозгом так легко манипулировать, не на шутку напугала Дэна.* * *
Мелани протиснулась мимо Эрла, в два шага оказалась на середине спальни, остановилась. Покачнулась, чуть не упала. Вновь начала колошматить себя, словно чувствуя, что заслуживает наказания, или стремясь изгнать какую-то черную душу из своей, предавшей ее плоти. Подойдя ближе, Лаура, выбрав момент, обняла дочь, притянула к себе, стараясь прижать руки к бокам. Но, даже лишившись возможности бить себя руками, Мелани не успокоилась. Принялась пинаться и кричать. Эрл Бентон надвинулся на девочку сзади, зажав ее между собой и Лаурой, чтобы она не могла пошевелиться. Ей оставалось только кричать, плакать и пытаться вырваться. В таком положении все трое оставались минуту-другую. Лаура продолжала уговаривать девочку успокоиться, и Мелани в конце концов перестала сопротивляться. Мешком обвисла между ними. — Она угомонилась? — спросил Эрл. — Думаю, да, — ответила Лаура. — Бедная малышка. Мелани выглядела так, будто совершенно вымоталась. Эрл отступил на шаг. Став покорной, Мелани позволила Лауре довести ее до кровати. Села на краешек. Из глаз продолжали катиться слезы. — Крошка, ты в порядке? — спросила Лаура. — Она открылась, — ответила девочка, ее глаза снова остекленели. — Она снова открылась, открылась полностью. — И в отвращении содрогнулась.* * *
— А пятая девушка? — спросил Дэн. — Та, которая после его побоев попала в больницу. Как ее звали? Коренастая психологиня отошла от окна, за которым сумерки стремительно сменялись ночью, вернулась к своему столу, плюхнулась на стул, словно эти неприятные воспоминания отняли у нее больше сил, чем долгий рабочий день. — Не уверена, что могу вам сказать. — Я считаю, что должны. — Вторжение в личную жизнь и все такое. — Полицейское расследование и все такое. — Конфиденциальность отношений врач — пациент и все такое, — упорствовала Мардж. — Да? Девушка была вашим пациентом? — Я несколько раз приходила к ней в больницу. — Слабенький аргумент, Мардж. Слова, конечно, правильные, но аргумент слабенький. Я приходил к моему отцу каждый день, когда он лежал в больнице после коронарного шунтирования, но не уверен, что такие визиты дают мне право называть себя его врачом. Мардж вздохнула: — Просто бедняжка так настрадалась, и теперь, по прошествии четырех лет, снова втягивать ее… — Я никуда не собираюсь ее втягивать и ворошить прошлое перед ее новым мужем и детьми, — заверил ее Дэн. — Я, возможно, выгляжу большим, тупым и грубым, но на самом деле я — тонко чувствующая натура и умею не привлекать лишнего внимания. — Вы не выглядите тупым или грубым. — Благодарю. — И вы выглядите опасным. — Я сознательно поддерживаю этот образ. Помогает в моей работе, знаете ли. Какое-то время она еще мялась, потом пожала плечами. — Ее зовут Реджина Саванна. — Вы шутите. — Стала бы Ирматруда Гелькеншеттль шутить с именами других людей? — Извините, — он записал «Реджина Саванна» в маленький блокнот. — Вы знаете, где она живет? — Когда это все случилось, Реджине оставалось два года до диплома. Она жила в большой квартире вне кампуса в Уэствуде с тремя другими студентками. — Что произошло после того, как девушка выписалась из больницы? Она ушла из университета? — Нет. Закончила учебу, защитила диплом, хотя в университете хватало людей, которые хотели, чтобы она перевелась в другое учебное заведение. Они чувствовали, что ее присутствие позорит ЛАКУ. Дэн удивился: — Позорит? Я-то думал, все обрадовались тому, что она поправилась, физически и психически, и может учиться дальше. — Дело в том, что она продолжала встречаться с Хоффрицем. — Что? — Потрясающе, не так ли? — Она продолжала встречаться с ним, после того как его стараниями попала в больницу? — Совершенно верно. Более того, Реджина написала мне письмо, как заведующей кафедрой, в котором защищала Хоффрица. — Святой боже! — Она отправила точно такие же письма президенту университета и многим членам комиссии по этике. Сделала все, что было в ее силах, чтобы Хоффрица не выгнали с работы. Дэну вновь стало не по себе. Он полагал, что пронять его не так-то просто, но от всей этой истории с Хоффрицем у него похолодело внутри. Если Хоффриц мог до такой степени подчинить себе Реджину, не хотелось даже думать о том, чего добились он и Дилан Маккэффри, объединив свои демонические таланты. И ради какой цели они превратили Мелани практически в растение? Дэн более не мог усидеть на месте. Поднялся. Но кабинет был маленький, а он — мужчина крупный, так что покружить по кабинету не было никакой возможности. Вот он и остался стоять, сунув руки в карманы. — Вы можете сказать, что после того, как Хоффриц побил Реджину, она смогла вырваться из-под его влияния? Мардж покачала головой: — Даже после того, как Хоффрица вышибли из университета, Реджина приводила его в кампус на все мероприятия как своего кавалера. Дэн вытаращился на нее. — И он был ее единственным гостем на выпускном вечере. — Святой боже! — Им обоим страшно нравилось тыкать нас мордой в грязь. — Этой девушке требовалась психологическая помощь. — Да. — Депрограммирование. На добром лице психологини отразилась печаль. Она сняла очки, будто они вдруг стали слишком тяжелыми, потерла усталые глаза. Дэн хорошо представлял себе, что чувствует сейчас эта женщина. Она любила свою профессию, хорошо делала то, что умела, установила для себя высокие личные стандарты. У нее имелись принципы и идеалы. Она чутко прислушивалась к голосу совести, верила, что такие люди, как Хоффриц, позорили не только профессию, но и всех тех, кто работал рядом с ним. — Мы постарались сделать все возможное, чтобы Реджина получила необходимую ей помощь, но она отказалась. За окном зажглись натриевые лампы уличных фонарей, но они не смогли отогнать ночь. — Вероятно, Реджина не обратилась в полицию и не выдвинула обвинения против Хоффрица, потому что ей нравилось такое обращение? — Вероятно. — Он так ее запрограммировал, что ей нравилось. — Вероятно. — Опыт, накопленный с первыми четырьмя девушками, не пропал зря. — Да. — Он потерял над ними контроль, но понял, в чем его ошибка. И еще до того, как Реджина попала под его влияние, модифицировал свой метод с тем, чтобы удерживать ее железной хваткой. — Дэн чувствовал, что должен двигаться, сбросить распиравшую его энергию. В пять шагов добрался до книжных стеллажей, вернулся обратно, положил руки на спинку стула. — Теперь при упоминании термина «коррекция поведения» меня будет тошнить. — Это очень серьезная область исследований, достойное уважения направление психологии. — Мардж вступилась за свою профессию. — Благодаря методам, которые разрабатываются в рамках коррекции поведения, для детей облегчается процесс обучения, и они лучше и на более продолжительное время запоминают полученную информацию. Коррекция поведения помогает нам снижать уровень преступности, лечить больных, создавать более спокойный мир. Если Дэну не терпелось от разговоров перейти к действиям, то Мардж, похоже, искала облегчения в летаргии. Она еще сильнее вдавилась в спинку кресла. Она привыкла принимать решения, могла найти выход из многих ситуаций, но, похоже, такие монстры, как Хоффриц, были ей не по зубам. И когда сталкивалась с тем, что не могла контролировать, из кадрового военного офицера превращалась в бабушку, которая с радостью бы оказалась в кресле-качалке с чашкой чая с медом в руках. Дэну такая ранимость в ней только нравилась. Голос ее звучал устало. — Коррекция поведения и «промывка мозгов» — далеко не одно и то же. «Промывка мозгов» — это извращение коррекции поведения, и Хоффриц не был обыкновенным человеком и не был обыкновенным ученым, а был извращенцем, как в первой, так и во второй ипостаси. — Реджина до сих пор с ним? — Не знаю. Последний раз я видела ее более двух лет тому назад, и тогда она была с ним. — Если она не бросила его после того избиения, полагаю, ничто не заставит ее уйти от него. Так что, скорее всего, она по-прежнему с ним. — Если только она ему не надоела, — вставила Мардж. — Судя по тому, что я о нем слышал, ему не может надоесть человек, который боится его и во всем ему подчиняется. Мардж мрачно кивнула. Дэн взглянул на часы, торопясь двинуться дальше. — Вы говорили, что Дилан Маккэффри был блестящим ученым, гением. Вы бы могли сказать такое о Хоффрице? — Пожалуй. Фактически да. Но его гениальность более черная, извращенная, злая. — Вроде бы и с Маккэффри та же история. — Нет, Хоффриц тут даст ему большую фору. — Но если они начали работать вместе, получая существенное, возможно, неограниченное субсидирование, не сдерживаемые никакими юридическими или моральными ограничениями, комбинация получалась опасной, не так ли? — Да. — Пауза. — Дьявольская. Это слово, «дьявольская», казалось гиперболой, несвойственной Мардж, но Дэн не сомневался, что выбрала она это слово сознательно. — Дьявольская, — повторила она, чтобы у него не осталось сомнений в том, что она глубоко встревожена.* * *
В ванной Лаура смазала укус на руке Эрла Бентона йодом и заклеила пластырем. — Это ерунда, — заверил он ее. — Не волнуйтесь. Мелани сидела на краю ванны, уставившись в выложенную зеленой плиткой стену. Она ничем не напоминала ту фурию, что несколько минут тому назад яростно сражалась с ними в спальне. — Человеческий укус более опасен, чем собачий или любого другого животного, — тревожилась Лаура. — Вы залили ранку йодом, да и крови вытекло совсем ничего. Поверхностный укус. Даже не больно, — ответил, он, хотя Лаура знала, что ранка жжется. — Вам в последнее время делали прививку от столбняка? — спросила она. — Да. В прошлом месяце. Искали мы тут одну компанию. Так какой-то тип, когда его нашли, полез на меня с ножом. В общем-то, обошлось, всего семь швов, но прививку от столбняка мне на всякий случай сделали. — Я сожалею, что все так вышло. — Вы это уже говорили. — Тем не менее сожалею. — Послушайте, я знаю, девочка этого не хотела. А потом, такая у меня работа. Лаура присела перед Мелани, осмотрела покраснение на левой щеке в том месте, где девочка ударила себя кулаком. Да, со временем красноте предстояло смениться полноценным синяком. На шее и груди виднелись царапины от ногтей. Губа припухла там, где девочка укусила ее этим днем, в конце сеанса гипноза. Во рту у Лауры пересохло от страха и тревоги. Она повернулась к Эрлу: — Как же нам защитить ее? Это не просто какой-то враг без лица, который хочет добраться до нее. Это не просто государственные агенты или русские. Как мы сможем защитить ее от нее самой? — Кто-то должен оставаться с ней, каждую минуту держать ее под присмотром. Лаура подсунула пальцы под подбородок девочки, повернула ее голову так, чтобы их взгляды встретились. — Это уже перебор, крошка. Мамик может постараться уберечь свою девочку от плохих людей, которые хотят схватить ее. И Мамик может постараться помочь тебе в твоем нынешнем состоянии, сделает все, чтобы вывести тебя из него. Но теперь… это уже перебор. Почему ты хотела причинить себе вред, крошка? Почему? Мелани шевельнулась, словно отчаянно хотела ответить, но кто-то удерживал ее. Губы дернулись, зашевелились, но с них не слетело ни звука. По телу девочки пробежала дрожь, она покачала головой, застонала. У Лауры щемило сердце, когда она наблюдала, как ее ребенок безуспешно пытается сбросить с себя оковы аутизма.Глава 20
Нед Ринк, бывший полицейский и агент ФБР, которого нашли мертвым в автомобиле на стоянке у больницы, жил в маленьком уютном доме на окраине Ван-Нейса. Дэн поехал туда сразу после беседы с Мардж Гелькеншеттль. Дом был низкий, с плоской крышей, выложенной белыми камнями, и стоял на ровной части долины Сан-Фернандо в окружении таких же низких домов с плоскими крышами, которые вместе образовывали целую улицу. Вокруг в изобилии росли кусты. Геометрические формы дома указывали на то, что построили его в конце 1950-х годов. Дом встретил Дэна темными окнами. Горел только грязный уличный фонарь, который выхватывал из темноты черные окна да светло-желтую штукатурку стен там, где их не закрывала пышная растительность. Автомобили стояли вдоль одной стороны узкой улицы. И хотя полицейский седан без знаков отличия занял место в темноте, между двух уличных фонарей, Дэн сразу же вычислил его. Один мужчина сидел за рулем неприметного «Форда», пригнувшись, наблюдал за домом Ринка, сам оставаясь практически невидимым. Дэн проехал мимо дома, обогнул квартал, вернулся, припарковался в полуквартале от полицейского «Форда». Вышел из машины, зашагал к нему. Водитель наполовину опустил стекло. Дэн наклонился к окошку. Наблюдение вел детектив из полицейского участка Ист-Вэлью, и Дэн его знал. Внешне Джордж Падракис напоминал певца 50—60-х годов Перри Комо. Падракис полностью опустил стекло. — Ты приехал меня сменить или как? — И голос у него походил на голос Комо, мягкий, мелодичный, сонный. Он посмотрел на часы. — Нет, мне еще торчать здесь пару часов. Для смены рановато. — Я приехал, чтобы заглянуть в дом, — ответил Дэн. Падракис повернул голову, чтобы посмотреть на него. — Это твое дело? — Это мое дело. — Уэкслерш и Мануэльо уже перевернули дом вверх дном. Уэкслерш и Мануэльо, два ближайших помощника Росса Мондейла в полицейском участке Ист-Вэлью, два детектива-карьериста, которые прицепили свои вагоны к поезду шефа. Для него они могли пойти на все, даже нарушить закон. Дэн терпеть их не мог. — Они тоже занимаются этим расследованием? — спросил Дэн. — Ты же не думаешь, что все достанется тебе одному, не так ли? Слишком большое дело. Четыре трупа. Один из них — миллионер с Хэнкок-Парк. Одинокому рейнджеру такое не по статусу. — А чего они оставили тебя здесь? — спросил Дэн, присаживаясь на корточки, чтобы оказаться лицом к лицу с Падракисом. — Понятия не имею. Наверное, решили, что в доме Ринка есть нечто такое, что может подсказать им, на кого он работал или кто его нанял. Они думают, что этот человек может прийти сюда, чтобы уничтожить улики. — А ты его, само собой, прихватишь. — Нелепо, не правда ли? — И чья это идея? — Догадайся с трех раз. — Мондейла. — Приз твой. Бери любую из набивных игрушек. Порыв ледяного ветра зашелестел листвой. — Ты, должно быть, работаешь круглые сутки, если прошлой ночью был в доме в Студио-Сити, — добавил Падракис. — Практически да. — А что ты делаешь здесь? — Прослышал, что тут бесплатно раздавали попкорн. — Тебе бы поехать домой, выпить пива, положить ноги на стол. Я бы точно поехал. — Пива у меня дома нет, — ответил Дэн. — А потом, я очень люблю свою работу. Они оставили тебе ключ, Джордж? — Все говорят, что ты — трудоголик. — Ты хочешь провести со мной сеанс психоанализа или сначала скажешь, оставили тебе ключ или нет? — Да. Но не знаю, должен ли я дать его тебе. — Это мое расследование. — Но в этом доме уже произведен обыск. — Не мной. — Уэкслершем и Мануэльо. — Сладкой парочкой. Перестань, Джордж, не будь занудой. С неохотой Падракис полез в карман пиджака за ключом от дома Неда Ринка. — Насколько мне известно, Мондейл очень хочет поговорить с тобой. Дэн кивнул: — Все потому, что я — блестящий собеседник. Ты бы слышал, как я рассуждаю о балете. Падракис нашел ключ, но Дэну не отдал. — Он весь день пытается тебя найти. — И он называет себя детективом? — Дэн протянул руку за ключом. — Он искал тебя весь день, а ты объявляешься здесь, вместо того чтобы вернуться в участок, как ты ему обещал, и если я дам тебе ключ… его это не порадует. Дэн вздохнул: — Думаешь, он больше порадуется, если ты откажешься отдать ключ и мне придется разбивать стекло, чтобы попасть в дом? — Ты не разобьешь. — Выбирай окно. — Это же глупо. — Любое окно. Наконец Падракис дал ему ключ. Дэн пересек тротуар, миновал ворота, направился к входной двери, чуть подволакивая больную ногу. Колено чувствовало: будет дождь. Дэн открыл дверь и вошел. Очутился в крошечной прихожей. В гостиной по его правую руку темноту чуть разгонял свет далеких уличных фонарей, падающий через окна. Налево уходил узкий коридор, и где-то там, в спальне или кабинете, горела лампа, невидимая с улицы. Уэкслерш и Мануэльо, должно быть, забыли погасить ее, когда закончили обыск. Они частенько допускали неряшливость в работе. Он включил свет в коридоре, ступил в темноту справа, нащупал выключатель, включил свет и оглядел гостиную. Это был скромный дом в скромном районе, но обстановкой он напоминал тайное убежище одного из Рокфеллеров. Середину комнаты занимал роскошный, двенадцать на двенадцать футов, толщиной три дюйма китайский ковер с драконами и цветками вишни. Французские стулья четырнадцатого века, с гнутыми ножками и подлокотниками, диван с такими же ножками и обивкой, точно соответствующей цвету ковра. Две бронзовые лампы с хрустальными абажурами, большой кофейный столик, каких Дэн никогда не видывал, из бронзы и оловянного сплава, с каким-то восточным орнаментом на поверхности. Поверхность эта плавно переходила в боковины, боковины — в ножки, и казалось, что столик отлит зацело. Стены украшали пейзажи в золоченых рамах, определенно принадлежащие кисти какого-то мэтра. В дальнем углу стоял стеллаж работы французских мастеров, с хрустальными фигурками, статуэтками, вазочками, и Дэн никогда не видел ничего более прекрасного. Обстановка гостиной стоила гораздо больше всего этого скромного дома. Не вызывало сомнений, что профессия наемного убийцы обеспечивала Неду Ринку безбедное существование. И он знал, как и на что тратить свои деньги. А если бы купил большой дом в престижном районе, в департаменте налогов и сборов обратили бы на него внимание и спросили, откуда денежки. Здесь же он мог жить в роскоши, не вызывая ненужных вопросов. Дэн попытался представить себе Ринка в этой комнате. Недомерок, урод. Его желание окружать себя прекрасным в принципе понятно, но ведь здесь он выглядел как таракан на праздничном торте. Дэн обратил внимание на то, что в гостиной нет зеркал, и предположил, что нет их и во всем доме, за исключением разве что ванной. И буквально пожалел Ринка, любителя и ценителя красоты, который терпеть не мог пялиться на собственное лицо. Из гостиной он вернулся в коридор, чтобы осмотреть весь дом. Первым делом направился в комнату, где Уэкслерш и Мануэльо оставили включенную лампу. Когда переступил порог, внезапно подумал, а вдруг Уэкслерша и Мануэльо не стоит винить за излишний расход электроэнергии и в дом проник кто-то еще, несмотря на то что Джордж Падракис держал под контролем парадную дверь. И тут же краем глаза уловил какое-то движение, но было поздно. Повернувшись, увидел опускающуюся на него рукоятку револьвера. Поскольку успел повернуться, удар пришелся в лоб, а не по затылку. Дэн повалился на пол. Чего там, рухнул как подкошенный. Свет под потолком погас. Он чувствовал, что череп у него, скорее всего, пробит, но сознания не потерял. Услышав шум, понял, что нападавший мимо него направляется к двери. В коридоре горел свет, но перед глазами Дэна стоял туман, так что разглядел он разве что расплывающийся силуэт. Более того, этот силуэт мотало вверх-вниз и одновременно по кругу, и Дэн понимал, что сознание вот-вот покинет его. Тем не менее он развернулся на полу, хотя дикая боль в голове распространилась на шею и плечи, и схватил убегающего призрака. Схватил за штанину и изо всех сил дернул на себя. Незнакомец пошатнулся, его бросило на дверной косяк, он воскликнул: «Дерьмо!» Дэн штанину не отпускал. Ругаясь, незваный гость пнул его в плечо. Потом снова. Дэн схватился за штанину уже обеими руками и пытался завалить незнакомца на пол, чтобы хоть как-то уравнять силы, но тот держался за дверной косяк и старался вырвать ногу. Дэн напоминал себе собаку, напавшую на почтальона. Незваный гость пнул его вновь, на этот раз в правую руку, и правая рука онемела. Так что теперь он держал ногу преступника только одной рукой. Перед глазами все по-прежнему плыло, свет начал меркнуть. Глаза жгло. Он скрипнул зубами, словно хотел впиться ими в сознание и удержать его, плотно сжав челюсти. Незнакомец, все тот же черный силуэт на фоне освещенного коридора, наклонился и опять ударил его рукояткой пистолета. На этот раз по плечу. Потом по спине. Еще раз по плечу. Отчаянно моргая, изо всех сил стараясь избавиться от застилающего глаза тумана, Дэн отпустил ногу незнакомца, но вскинул левую руку, попытавшись добраться до лица или шеи мерзавца. Ухватился за ухо, дернул изо всех оставшихся сил. Незнакомец взвыл. Рука Дэна соскользнула с залитого кровью уха, но пальцы зацепились за воротник рубашки. Незваный гость лупил Дэна по руке, стараясь освободиться. Дэн держал его крепко. Онемение частично ушло из правой руки, так что он смог приподняться, упираясь ею в пол, не выпуская из левой воротник рубашки своего противника. Встал на колени, потом уперся в пол одной ступней. Поднимаясь, толкал незнакомца назад, в коридор. Вот так, шатаясь из стороны в сторону, словно неуклюжие танцоры, они прошли два или три шага. Потом рухнули на пол. Оба. Дэн оказался наверху, но по-прежнему не мог разглядеть лицо этого парня. Туман перед глазами не рассеивался, свету в коридоре явно недоставало яркости. Глаза горели, словно в них плеснули кислотой, и он решил, что их заливает пот или кровь из раны на лбу. Он сунул руку под пиджак и вытащил из плечевой кобуры «полис спешл» 38-го калибра, но не заметил, как незнакомец размахнулся, чтобы вышибить револьвер из его руки, так что не смог уклониться от удара. Хрястнули костяшки пальцев, и револьвер отлетел в сторону. Продолжая бороться, они подкатились к стене, и Дэн попытался врезать здоровым коленом незнакомцу в пах, но тот блокировал удар. Хуже того, незнакомец пнул Дэна во второе, травмированное колено, его слабое место. Боль выстрелила в бедро, добралась до желудка. Удар по его правому колену иногда достигал той же цели, что и удар по яйцам: перехватывало дыхание, силы уходили. Он почти отпустил незнакомца. Но только почти. Парень выбрался из-под него, попытался оторваться, взяв курс на кухню, но Дэн ухватился за его пиджак. Преступник тем не менее продвигался в выбранном направлении, буквально таща Дэна за собой. Все это могло показаться забавным, но обоим уже крепко досталось, Дэну, понятное дело, больше, и дышали они, как загнанные лошади. Да и борьба шла не на жизнь, а на смерть. По-прежнему ничего не видя перед собой, Дэн в последней отчаянной попытке прыгнул вперед, чтобы накрыть своим телом незнакомца и припечатать к полу. Но преступник, должно быть, решил, что лучшая оборона — нападение, поэтому оставил попытки оторваться от Дэна и повернулся к нему, ругаясь так яростно, что изо рта летели брызги слюны, и принялся осыпать лейтенанта ударами четырех, а то и пяти рук. Они покатились по полу, а когда остановились, незваный гость оказался наверху. Что-то холодное и тяжелое уперлось в зубы Дэна. Он знал, что это такое. Ствол пистолета. — Немедленно прекрати! — прорычал незнакомец. — Если бы ты хотел меня убить, давно бы это сделал. — Зубы Дэна постукивали о металл. — Не испытывай судьбу. — В голосе слышалось столько злости, что Дэн понял: незваный гость может нажать на спусковой крючок, хотел он этого или нет. Отчаянно моргнув, Дэну удалось хоть чуть-чуть, но разогнать туман. Он увидел пистолет, огромный, как артиллерийское орудие, приставленный к его губам. Увидел и человека, который держал пистолет в руке, но смутно. Лампа находилась выше и позади сукина сына, так что лицо оставалось в тени. Левое ухо висело под странным углом, с него капала кровь. Дэн понял, что и его ресницы слиплись от крови. Кровь по-прежнему натекала в глаза вместе с потом и тоже мешала получше разглядеть незнакомца. Он перестал сопротивляться. — Отпусти меня… ты… бульдог… мерзавец! — Каждое слово его противник выплевал вместе с выдохом, словно свинцовую дробину. — Ладно. — Дэн его отпустил. — Ты что, псих? — Да ладно, ладно. — Ты наполовину оторвал мое гребаное ухо! — Ладно, проехали. — Или ты не знаешь, когда нужно остановиться, сукин ты сын? — Сейчас? — Да, сейчас. — Хорошо. — Лежи тихо! — Хорошо. Незваный гость медленно подался назад, по-прежнему держа Дэна на мушке, но уже отведя ствол пистолета от его зубов. Несколько мгновений настороженно смотрел на Дэна, потом поднялся, пошатываясь. Теперь Дэн мог разглядеть его, но толку в этом не было, потому что никогда раньше он этого человека не видел. Незнакомец попятился к кухне. В одной руке держал пистолет, вторую прижимал к уху. Беззащитный, не решаясь пошевельнуться из опасения получить пулю в лоб, Дэн лежал на полу, приподняв голову. Кровь из раны на лбу заливала глаза, текла по щекам, попадала в рот, сердце стучало, как паровой молот. Ему хотелось вскочить, броситься за незнакомцем, не обращая внимания на пистолет, но он сдержался, понимая, что ему не остается ничего другого, как наблюдать за уходом незваного гостя. И Дэна, конечно же, это бесило. Преступник добрался до кухни. Все еще пятясь, миновал дверь черного хода, повернулся, побежал. Дэн ползком добрался до своего револьвера. Оружие отбросило к двери комнаты, в которой он подвергся нападению, схватил его, поднялся на ноги и взвыл от боли, когда в травмированном колене словно взорвалась граната. Неимоверным усилием воли ему удалось подавить боль, и он поспешил на кухню. Когда добрался до двери черного хода и вышел в холодный ночной воздух, незваного гостя и след простыл. Он понятия не имел, в какую сторону побежал преступник.* * *
Дэн умылся в ванной Ринка. От удара рукояткой пистолета лоб превратился в сплошной синяк, увенчанный рваной раной. Острота зрения полностью восстановилась. И хотя оставалось ощущение, что его голова какое-то время служила кузнечной наковальней, он понимал, что сотрясения мозга нет. Болела не только голова, но и шея, плечи, спина. И, конечно, боль пульсировала в травмированном колене. В аптечном шкафчике над раковиной он нашел вату, из которой сделал компресс и отложил в сторону. Тут же стоял баллончик «Бактайна», и Дэн обработал этим дезинфицирующим и кровоостанавливающим средством рану на лбу, после чего прижал к ране ватный компресс в надежде, что кровь полностью остановится, пока он доведет до конца осмотр дома. Дэн вернулся в комнату, в которой подвергся нападению, и включил верхний свет. Это был кабинет, возможно, не столь элегантный, как гостиная, но тоже обставленный дорогой мебелью. Одну стену занимали книжные стеллажи, поставленные по бокам телевизора и видеомагнитофона. Половину полок заполняли книги, вторую половину — видеокассеты. Начал он с видеокассет и увидел много знакомых названий: «Серебряная лента», все фильмы знаменитого комедийного дуэта Эбботт — Костелло, «Тутси», «До свидания, девушки», «День сурка», «Грязная игра», «Миссис Даблфайр», несколько фильмов Чарли Чаплина, два — братьев Меркс. Из лицензионных видеокассет Ринк покупал только комедии, и объяснение лежало на поверхности: профессиональному киллеру хотелось немного расслабиться после трудового дня, отданному вышибанию мозгов других людей. Но в большинстве своем видеокассеты были нелицензионными, в основном порнографическими. С названиями вроде «Дэбби трахает Даллас» и «Сперминатор». Дэн прикинул, что порноколлекция включает никак не меньше двухсот фильмов, может, и все триста. Книги заинтересовали Дэна гораздо больше, потому что, судя по всему, за ними и явился незваный гость. На полу у стеллажей стояла картонная коробка. Несколько книг уже сняли с полок и положили в нее. Дэн прежде всего оглядел полки и обнаружил, что беллетристики здесь нет, а все книги так или иначе связаны с оккультными науками. Потом, по-прежнему держа правой рукой ватный компресс у лба, присел рядом с картонной коробкой, одну за другой достал семь лежавших в ней книг. Все их написал один человек, Альберт Ахландер. Ахландер? Он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал маленькую телефонную книжку, которую прошлой ночью взял со стола в развороченном кабинете Дилана Маккэффри. Нашел в ней Ахландера. Маккэффри, который интересовался оккультизмом, знал Ахландера. Ринк, который интересовался оккультизмом, как минимум читал Ахландера. То есть связь между Маккэффри и Недом Ринком была. Но действовали ли они заодно или по разные стороны баррикады? И какое отношение имел к этому оккультизм? Мысли налезали друг на друга, и не только потому, что ему звезданули по лбу рукояткой пистолета. Так или иначе, Ахландер становился ключевым звеном для понимания происходящего. Вероятно, незваный гость проник в дом Ринка только для того, чтобы изъять книги Ахландера и не позволить детективам выйти на его след. Прижимая вату ко лбу, Дэн вышел из кабинета. Как электрический ток, боль, похоже, передавалась через вату в кисть, руку, правое плечо, спускалась по спине, переходила в левую лопатку, потом плечо, по шее возвращалась к лицу и замыкала круг во лбу, чтобы вновь двинуться тем же маршрутом. Осторожно ступая на левую ногу, чтобы поберечь травмированное колено, перекладывая вещи с места на место одной рукой, напоминая себе большого покалеченного жука, Дэн продолжил обыск дома, но более ничего интересного не обнаружил. Ринк был наемным убийцей, а последние не стремятся помочь полицейскому расследованию, оставляя на видном месте записные книжки с адресами заказчиков и перечнем выполненных заказов. В ванной он опустил правую руку с ватным компрессом и увидел, что кровь действительно больше не течет. Выглядел он ужасно. И внешность в его случае полностью соответствовала содержанию, потому что чувствовал он себя еще хуже.Глава 21
Когда Дэн вышел на тротуар, неся в руках коробку с книгами, Джордж Падракис все так же сидел за рулем неприметного седана, с наполовину опущенным стеклом водительской дверцы. Увидев Дэна, он опустил стекло полностью. — Я только что говорил по рации. Мондейл хочет… Эй, что у тебя со лбом? Дэн рассказал ему о незваном госте. Падракис открыл дверцу и вышел из автомобиля. Он не только выглядел и говорил, как Перри Комо, но двигался так же, лениво, небрежно, с достоинством. — Этот тип уже убежал, — сказал Дэн, когда Падракис шагнул к дому Ринка. — Давно убежал. — Как он мог туда попасть? — Со двора. — Улица тихая, стекло я опустил, — возразил Падракис. — Я бы услышал, как бьется стекло. — Я не нашел разбитых стекол, — ответил Дэн. — Думаю, он вошел через дверь на кухню, возможно, воспользовавшись ключом. — Что ж, тогда они не будут винить меня. — Падракис вернул револьвер в кобуру. — Я не могу быть в двух местах одновременно. Если они хотели, чтобы за домом следили и со двора, им следовало прислать двух человек. Ты хорошо разглядел этого козла, который напал на тебя? — Не так, чтобы хорошо. — Дэн вернул Падракису ключ от дома. — Но если ты увидишь парня с наполовину оторванным ухом, это он. — Ухом. — Я чуть не оторвал его. — Зачем ты это сделал? — Во-первых, потому, что он пытался вышибить мне мозги, — нетерпеливо ответил Дэн. — А кроме того, во мне есть что-то от матадора. Всегда стараюсь приносить домой какой-нибудь трофей, а хвоста у этого парня не было. На лице Падракиса отразилось недоумение. Гигантский дом на колесах обогнул угол, ревя двигателем, и прокатился мимо, словно динозавр. Глядя на коробку в руках Дэна, Падракис возвысил голос, чтобы перекричать ревущий двигатель автомобиля, которому отдавали предпочтение любители природы. — Что у тебя там? — Книги. — Книги? — Скрепленные воедино страницы со словами на них, предназначенные для передачи информации или получения удовольствия. А что насчет рации? Чего нужно Мондейлу? — Ты берешь эти книги с собой? — Совершенно верно. — Не уверен, что ты можешь это сделать. — Не волнуйся, я справлюсь. Они не такие тяжелые. — Я не об этом. — А что хочет Мондейл? С тоской глядя на коробку в руках Дэна, Падракис подождал, пока дом на колесах не скроется вдали, словно бронтозавр в доисторическом болоте. Их обдало холодным воздухом и выхлопными газами. — Я позвонил в участок, чтобы сообщить Мондейлу, что ты здесь. — Какой ты заботливый, Джордж. — Он как раз собирался поехать в «Пентаграмму» на бульваре Вентуры. — Уверен, эта поездка пойдет ему на пользу. — Он действительно хочет, чтобы ты встретился с ним там. — «Пентаграмма» — это что? Похоже на название бара для вервольфов. — Я думаю, это книжный магазин или что-то в этом роде, — Падракис все еще смотрел на коробку с книгами. — Там убили какого-то парня. — Какого парня? — Думаю, владельца. Фамилия Скальдоне. Мондейл говорит, что выглядит он точно так же, как трупы в доме в Студио-Сити. — Опять я остался без обеда, — Дэн направился к своему автомобилю, переходя из чернильных теней в круги янтарного света под уличными фонарями. Падракис последовал за ним. — Слушай, эти книги… — Ты любитель почитать, Джордж? — Они же собственность убитого… — Нет ничего более приятного, чем улечься на диване с хорошей книгой, хотя, возможно, это не столь уж и приятно, если ты мертв. — Но это же не место преступления, откуда мы можем забирать вещественные доказательства. Дэн поставил коробку на бампер своего автомобиля, открыл багажник, положил коробку в него. — «Человек, который не читает хороших книг, ничуть не отличается от человека, который уже не может их читать». Это сказал Марк Твен, Джордж. — Послушай, пока не найден кто-нибудь из его родственников и не получено согласие последнего, я действительно думаю, что… Дэн захлопнул крышку. — «В книгах больше сокровищ, чем в пиратских кладах на Острове сокровищ». Это слова Уолта Диснея. И он был прав, Джордж. Тебе следует больше читать. — Но… — «Книги — не просто тома безжизненной бумаги, но мысли, живущие на полках». Гильберт Хигет[44], — он похлопал Джорджа Падракиса по плечу. — Расширяй свой кругозор, Джордж. Книги так оживляют жизнь детектива. Читай, Джордж, читай! — Но… Дэн сел за руль, захлопнул дверцу, завел двигатель. Падракис, хмурясь, смотрел на него сквозь стекло. Уезжая, Дэн помахал рукой. Повернув за угол и проехав пару кварталов, свернул к тротуару, остановил автомобиль. Достал записную книжку Дилана Маккэффри. Нашел Джозефа Скальдоне. Далее следовало слово «Пентаграмма», телефонный номер и адрес на бульваре Вентуры. Не вызывала сомнений связь убийств в доме в Студио-Сити, Неда Ринка и вот теперь Джозефа Скальдоне. По всему выходило, что кто-то отчаянно пытается скрыть какой-то неизвестный заговор, уничтожая всех, кто имел к нему определенное отношение. Из чего следовал вывод: рано или поздно они попытаются или убить Мелани Маккэффри, или выкрасть ее у матери. И если эти лишенные лиц враги смогут заполучить девочку, она исчезнет навеки. Вероятность того, что ее удалось бы спасти второй раз, если и отличалась от нуля, то ненамного.* * *
Вечером, в пять минут восьмого, Лаура хлопотала на кухне, готовила ужин для себя, Мелани и Эрла. Вода закипала в большой кастрюле. Подогревалась также и маленькая, с соусом для спагетти и фрикадельками. От запахов чеснока, лука, помидоров, базилика, сыра, заполнивших кухню, рот наполнялся слюной. Лаура помыла несколько черных оливок и добавила их в миску с салатом. Мелани сидела за столом, молчаливая, неподвижная, уставившись на свои руки, сложенные на коленях. С закрытыми глазами. Казалось, спала. А может, углубилась дальше, чем обычно, в свой тайный, личный мир. За последние шесть лет Лаура впервые готовила ужин для дочери, и вызывающее сожаление состояние Мелани не могло приуменьшить значимость этого события. Лаура чувствовала себя как матерью, так и хозяйкой дома. Давно уже она не испытывала этих чувств, забыла, до чего же это хорошо, быть матерью. Такую же удовлетворенность лишь изредка приносила ей работа. Эрл Бентон накрыл на стол, расставил тарелки и стаканы, разложил столовые приборы, салфетки и теперь сидел за столом напротив Мелани, в рубашке, с плечевой кобурой, читал газету. Когда находил что-нибудь необычное, шокирующее или забавное, зачитывал заметку вслух. Перец уютно свернулся калачиком в углу у холодильника, его убаюкивали гудение и вибрация компрессора. Кот знал, что ни на стол, ни на разделочные столики хода ему нет, и обычно в кухне вел себя скромно, чтобы его не вышвырнули вон. Но вдруг он отчаянно мяукнул и вскочил на все четыре лапы. Спина выгнулась, шерсть встала дыбом. Оглядев кухню безумными глазами, кот зашипел. — Что случилось, киска? — спросил Эрл, отложив газету. Лаура оторвалась от доски, на которой резала салат. Перца что-то сильно разозлило. Он стоял, прижав уши к голове, ощерившись. — Перец, что с тобой? Глаза кота, которые едва не вылезали из орбит, на мгновение повернулись к Лауре. В глазах этих не было ничего домашнего, на нее смотрели глаза дикого зверя. — Перец… Кот вылетел из угла, шипя от страха или ярости, а может, и от первого, и от второго. Взял курс на буфет, затормозил на полпути, словно в буфете затаилось что-то страшное. Резко развернулся, скребя когтями по плиткам пола. Направился к раковине, но вновь остановился, принялся вертеться на месте, гоняясь за своим хвостом, потом вдруг подпрыгнул в воздух, словно его укололи или ударили. Молотя перед собой передними лапами, закружился на задних, исполняя какой-то странный танец святого Витта, вновь опустился на все четыре лапы и метнулся под стол, проскочил между стульев к двери в столовую. Исчез. Устроил незабываемое представление. Лаура могла поклясться, что ранее ничего подобного никогда не было. Мелани же ничего не заметила. По-прежнему сидела со сложенными на коленях руками, наклонив голову, закрыв глаза. Эрл отложил газету, встал. В другой части дома Перец издал еще один полный отчаяния крик. И наступила тишина.* * *
«Пентаграммой» назывался маленький магазинчик, расположенный в квартале, который по праву считался квинтэссенцией южнокалифорнийских надежд и грез. Фотографии этой части бульвара Вентуры частенько использовались в толковых словарях как иллюстрация термина «мелкое предпринимательство». Здесь теснилось множество маленьких магазинчиков и ресторанов, они занимали квартал за кварталом, среди их владельцев были люди самого разного возраста и национальности, и любой человек, попавший сюда, мог найти для себя что-нибудь интересное, как экзотическое, так и обыденное:корейский ресторан на пятнадцать столиков, феминистский книжный магазин, лавку охотничьих ножей, которые прямо в ней и изготавливали, некое заведение, именуемое «Ресурсный центр геев», сухую химчистку, фирму по организации вечеринок, пару кулинарий, книжный магазин, где продавали исключительно фэнтези и научную фантастику, финансовый центр братьев Чинь «Кредиты надежным клиентам», крошечный ресторан «Американская нигерийская кухня», соседствующий с «Франко-китайской кухней», магазин армейской атрибутики, где продавали все военное, за исключением оружия. Некоторые из владельцев этих заведений становились богачами, другие — нет, пусть и мечтали об этом, и Дэну казалось, что в этой части бульвара Вентуры темноту раннего вечера разгоняли не только уличные фонари, но и свет надежд. Дэн припарковался в квартале от «Пентаграммы» и до магазина добирался пешком, шагая мимо фургона телепрограммы «Новости очевидца», таких же фургонов новостных программ каналов «Эн-би-си Калифорния» и «Телевидение Лос-Анджелеса», полицейских автомобилей, патрульных и без знаков отличия, а также фургона коронера. Тротуар запрудила толпа, состоящая из местных зевак, панков и рэпперов, которые хотели выглядеть как дети улицы, но, скорее всего, жили с родителями в домах стоимостью от трехсот тысяч долларов и выше, охочих на сенсации репортеров с рыскающими глазами (Дэну они напоминали шакалов). Он проталкивался сквозь толпу, заметил репортера криминальной хроники «Лос-Анджелес таймс», постарался не попасть в зону действия видеокамеры: съемочная группа Четвертого канала готовила сюжет для одиннадцатичасового выпуска новостей. Дэн протиснулся мимо девушки с сине-зелеными волосами, собранными в розовые пики. Она была в высоких, до колен, черных сапогах, красной мини-юбке и белом свитере, разрисованном мертвыми детьми. Фасад магазина покрывали разнообразные астрологические знаки, полицейский в форме стоял под выцветшей красной пентаграммой, охраняя входную дверь. Дэн показал бляху детектива и прошел в магазин. Увидел уже знакомый масштаб разрушений. Обезумевший гигант, который забрел прошлой ночью в дом в Студио-Сити, решил вновь оттянуться и пожаловал в этот магазин. Электронный кассовый аппарат подставили под паровой молот. Однако какая-то электрическая цепочка осталась жива, так что на панели мерцала красная и неполная цифра 6, должно быть, старалась что-то рассказать копам об убийце. Некоторые полки разбили в щепы, книги грудами валялись на полу. Но книги не были единственным товаром, который предлагал покупателям магазин «Пентаграмма», так что на полу валялись свечи всех размеров, форм и цветов, карты Таро, гадальные доски, пара совиных чучел, тотемы, амулеты, пузырьки и баночки с сотнями экзотических порошков и масел. Пахло в магазине розами, клубникой и смертью. Детективы Уэкслерш и Мануэльо, находившиеся в магазине среди полицейских и технических экспертов, заметили Дэна, как только тот переступил порог. Направились к нему, лавируя среди мусора. С одинаково ледяными улыбками, в которых юмор отсутствовал полностью. Две сухопутные акулы, такие же холоднокровные и хищные, как настоящие океанские. Уэкслерш, с его светло-серыми глазами и рыхлым бледным лицом, даже зимой казался в Калифорнии чужаком. — Что с твоим лбом? — спросил он. — Наткнулся на ветку. — А выглядишь ты так, словно избил какого-то бедного, невинно задержанного, злостно нарушив его гражданские права, и задержанному этому хватило дури сопротивляться. — Именно так вы обращаетесь с задержанными в участке Ист-Вэлью? — А может, тебя так отделала шлюха, которая не захотела забесплатно подставить известно что, когда ты показал ей свою бляху, — тут Уэкслерш широко улыбнулся. — Не пытайся изображать юмориста, — предложил ему Дэн. — Остроумия у тебя не больше, чем у туалетного сиденья. Уэкслерш продолжал улыбаться, но серые глаза стали злыми. — Холдейн, как думаешь, с каким маньяком мы здесь столкнулись? Мануэльо, несмотря на характерную фамилию, внешне ничем не напоминал латиноса, высокий, светловолосый, с угловатыми чертами лица, ямочкой, будто у Керка Дугласа, по центру подбородка. — Да, Холдейн, — добавил он, — поделись с нами мудростью своего опыта. — Ага, — кивнул Уэкслерш. — Ты же лейтенант. А мы всего лишь детективы, пусть и первого класса. — Да, пожалуйста, мы жаждем услышать все, что ты хотел бы сказать об этом отвратительном преступлении. — В голосе Мануэльо слышалась откровенная насмешка. — Аж затаили дыхание. И хотя Дэн был полицейским более высокого ранга, такое неуважение к старшему по званию могло сойти им с рук. И не только потому, что они работали в участке Ист-Вэлью, а не в Центральном, где служил Дэн. Просто они были любимчиками Росса Мондейла и знали, что капитан не даст их в обиду. — Знаете, вы оба допустили серьезную ошибку, когда выбирали карьеру, — ответил им Дэн. — Я уверен, нарушать закон вам нравится гораздо больше, чем защищать его. — Но действительно, лейтенант. — Уэкслерш предпочел пропустить последнюю реплику Дэна мимо ушей. — Есть же у вас какие-то версии. Что за маньяк бродит по городу, избивая людей до такой степени, что они превращаются в клубничный джем? — Кстати, может, ты знаешь, к какому типу маньяков следует отнести последнюю жертву? — спросил Мануэльо. — Джозефа Скальдоне? — переспросил Дэн. — Он же хозяин этого магазина, так? Почему вы записали его в маньяки? — Прежде всего, он никак не мог считаться ординарным бизнесменом, — ответил Уэкслерш. — Не думаю, что его хотели бы видеть в Торговой палате, — поддакнул Мануэльо. — Или в Бюро по совершенствованию бизнеса[45], — кивнул Уэкслерш. — Законченный псих, — подвел итог Мануэльо. — О чем вы оба долдоните? — спросил Дэн. Ему ответил Мануэльо: — А ты не думаешь, что только псих может держать магазин… — Он сунул руку в карман и достал небольшую стеклянную баночку, в каких продают оливки. — …Магазин, в котором продается такое? Поначалу Дэн решил, что в баночке оливки, но, приглядевшись, понял, что это глазные яблоки. НЕ человеческие. Меньшего размера. И странные. С желтыми радужными оболочками, зелеными, оранжевыми, даже красными, по цвету радужки разнились, по форме — нет: в отличие от круглых, как глаза людей и большинства животных, были продолговатыми, эллипсовидными, на удивление злыми. — Змеиные глаза, — Мануэльо указал на наклейку. — А что ты скажешь насчет этого? — Уэкслерш достал из кармана своего пиджака другую баночку. Эту наполнял серый порошок. Аккуратно напечатанная надпись на наклейке гласила: «Гуано летучей мыши». — Говно летучей мыши, — расшифровал Уэкслерш. — Растертое в порошок говно летучей мыши, — уточнил Мануэльо, — змеиные глаза, языки саламандр, ожерелья из чеснока, пузырьки с бычьей кровью, магические амулеты, шестигранники и прочее, и прочее. Какие люди приходят сюда и покупают такой товар, лейтенант? — Ведьмы, — ответил Уэкслерш, прежде чем Дэн успел открыть рот.— Люди, которые думают, что они ведьмы, — поправил напарника Мануэльо. — Колдуны, — продолжил перечисление Уэкслерш. — Люди, которые думают, что они колдуны, — развил мысль Мануэльо. — Люди со странностями, — вставил Уэкслерш. — Маньяки, — добавил Мануэльо. — Но в этом месте принимают карточки «Виза» и «Мастеркард», — вспомнил Уэкслерш. — Разумеется, при наличии удостоверения личности. — Да, в наши дни колдуны и маньяки без кредитных карт никуда, — произнес Мануэльо. — Разве это не удивительно? — Где жертва? — спросил Дэн. Уэкслерш махнул рукой в глубину магазина. — Там. Сыграл главную роль в новой серии «Техасской резни». — Надеюсь, у парней из Центрального участка крепкие желудки, — сказал Мануэльо напарнику, когда Дэн двинулся в указанном направлении. — Только не блевани там, — предупредил Уэкслерш. — Да, ни один судья не позволит приобщить к делу вещественные улики, на которые блеванул коп. Дэн их проигнорировал. Возникни у него такое желание, он бы блеванул на Уэкслерша и Мануэльо. Переступил через груду порванных книг, спрыснутых жасминовым маслом, направился к помощнику медицинского эксперта, склонившемуся над чем-то алым и бесформенным. Даже не верилось, что это человеческое тело, и человек этот не так уж давно звался Джозефом Скальдоне.
* * *
Исходя из предположения, что кот уловил какой-то звук, недоступный человеческому уху, и испугался присутствия в другой части дома незваного гостя, Эрл переходил из комнаты в комнату, проверяя окна и двери. Заглянул во все чуланы, стенные шкафы и за крупногабаритную мебель. Не нашел посторонних, еще раз убедился, что окна и двери надежно заперты. Кота он нашел в гостиной. Уже не испуганного, но настороженного. Кот лежал на телевизоре. Позволил себя погладить, замурлыкал. — Что на тебя нашло, киска? — спросил Эрл. Какое-то время спустя кот протянул лапку в сторону пульта управления и посмотрел на Эрла, словно спрашивая, не будет ли тот столь любезен, что включит обогреватель с картинками и голосами, чтобы выбранная им лежанка немного прогрелась. Не включив телевизор, Эрл вернулся на кухню. Мелани по-прежнему сидела за столом, квелая, как залежавшаяся морковка. Лаура стояла у разделочного столика, с ножом в руке. В его отсутствие она приготовлением обеда не занималась. Просто ждала. С ножом в руке, на случай, что вернется не Эрл, а кто-то другой. На ее лице отразилось облегчение, когда Эрл появился в дверном проеме, нож она опустила. — Ну что? — Ничего. Холодильник внезапно открылся сам по себе. Банки, бутылки, другие предметы, которые стояли на стеклянных полках, начали трястись и дребезжать. Распахнулись, словно за них взялись невидимые руки, и дверцы нескольких полок и буфетов. Лаура ахнула. Инстинктивно Эрл схватился за оружие, но цели не обнаружил. Постоял, сжимая пальцами рукоятку, чувствуя себя идиотом, не понимая, что происходит. Тарелки подпрыгивали и позвякивали на полках, календарь, что висел на стене у двери черного хода, свалился на пол, шелестя листами, как крыльями. Через десять или пятнадцать секунд, которые тянулись целый час, тарелки перестали звенеть, дверцы — качаться на петлях. Успокоилось и содержимое холодильника. — Землетрясение, — предположил он. — Ой ли? — В голосе Лауры слышалось сомнение. Он знал, о чем она. Да, похоже на землетрясение средней силы… но только похоже. Изменение давления словно сгустило воздух, а волна холода, вдруг накрывшая кухню, не могла вырваться из открывшейся дверцы холодильника. Собственно, как только тарелки, дверцы и все прочее утихомирилось, воздух в кухне мгновенно согрелся, хотя дверца холодильника оставалась открытой. Но, если не землетрясение, тогда что? Не звуковая волна. Она не объясняла холода и изменения давления. Не призрак. Он не верил в призраков. И откуда вообще взялась эта мысль? Пару дней тому назад он смотрел «Полтергейст» на видео. Может, аналогичный случай? Но Эрл был не столь впечатлителен, чтобы один фильм-ужастик, пусть и хороший, заставил бы его искать сверхъестественное объяснение случившемуся, когда ответ был куда более прозаическим. — Всего лишь землетрясение, — заверил он Лауру, далеко не убежденный в собственной правоте.* * *
Они предположили, что это Джозеф Скальдоне, владелец магазина, потому что в бумажнике убитого лежали документы этого человека. Но без сравнения отпечатков пальцев и зубной карты это была лишь одна из версий. Потому что бумажник могли и подбросить. Из тех же, кто лично знал Скальдоне, никто не мог его опознать, потому что у бедняги не осталось лица. И не было никакой надежды идентифицировать его по старым шрамам или родимым пятнам, потому что на теле тоже не осталось живого места, и шрамы вместе с родимыми пятнами, если они и были, исчезли в кровавом месиве. Острые концы сломанных ребер торчали сквозь дыры в рубашке. Острые концы костей пронзали брючины на голенях и бедрах. Он выглядел… раздавленным. Отвернувшись от тела, Дэн столкнулся лицом к лицу с мужчиной, биологические часы которого определенно дали сбой. Гладкое, без единой морщины, открытое лицо тридцатилетнего человека совершенно не вязалось с седеющими волосами пятидесятилетнего и сутулыми плечами пенсионера. Одет он был в сшитый по фигуре темно-синий костюм, белую рубашку и темно-синий галстук с золотой цепочкой вместо заколки. — Вы — Холдейн? — спросил он. — Совершенно верно. — Майкл Симс, ФБР. Они обменялись рукопожатиями. Рука Симса была холодной и влажной. Они отошли в угол, где не было мусора. — Вы тоже занялись этим расследованием? — спросил Дэн. — Не волнуйтесь. Мы не отпихиваем вас в сторону, — дипломатично заверил его Симс. — Просто хотим присмотреться. Выступить наблюдателями… пока. — Хорошо, — бесстрастно ответил Дэн. — Я поговорил со всеми, кто работает по этому делу, поэтому просто хотел повторить вам то, что сказал им. Пожалуйста, держите меня в курсе. Если появится что-то новое, пусть вы и решите, что это мелочь, я хочу, чтобы меня ставили в известность. — Но каково юридическое основание для вмешательства ФБР в это расследование? — Юридическое основание? — На лице Симса появилась натянутая улыбка. — На чьей вы стороне, лейтенант? — Я хочу сказать, какие нарушены федеральные законы? — Скажем так, это вопрос национальной безопасности. А вот глаза на молодом лице Симса были старыми, мудрыми, проницательными. Глаза хищной рептилии, которая обитала на Земле с мезозойской эры и знала если не все, то почти все. — Хоффриц ранее работал на Пентагон, — поделился известной ему информацией Дэн. — Проводил какие-то исследования. — Совершенно верно. — Он проводил исследования на нужды обороны, когда его убили? — Нет. В голосе агента эмоции отсутствовали напрочь, поэтому Дэн не мог сказать, говорит тот правду или лжет. — Маккэффри? — спросил Дэн. — Он проводил исследования на нужды обороны? — Он работал не на нас, — ответил Симс. — Во всяком случае, в последнее время. — На кого-то еще? — Возможно. — Русских? — Более вероятно, что на Ирак, Ливию или Иран. Такое уж нынче время. — Вы говорите, что одна из этих стран финансировала его исследования? — Я ничего такого не говорю. Мы не знаем. — Все тот же бесстрастный голос мог служить идеальной ширмой для лжи. — Вот почему мы хотим быть в курсе событий. Шесть лет тому назад, когда Маккэффри исчез с девочкой, он работал над проектом, субсидируемым Пентагоном. Тогда мы провели расследование по просьбе Министерства обороны и установили, что он не мог сбежать с какой-либо новой, ценной информацией, полученной в результате своих исследований. Мы решили, что у этого побега нет второго плана, что это исключительно личный вопрос, связанный с правом опеки над ребенком. — Может, так и было. — Да, может, — не стал спорить Симс. — Во всяком случае, поначалу. Но потом Маккэффри втянулся во что-то важное… возможно, что-то опасное. Во всяком случае, такие мысли возникают после осмотра серой комнаты в доме в Студио-Сити. Что же касается Вилли Хоффрица… через восемнадцать месяцев после исчезновения Маккэффри Хоффриц закончил довольно длительный пентагоновский проект и отказался браться за следующий. Заявил, что подобные исследования начинают беспокоить его совесть. Поначалу военные пытались переубедить Хоффрица, но потом смирились с его отказом. — Из того, что мне о нем известно, — заметил Дэн, — напрашивается однозначный вывод: у Хоффрица совести не было. Проницательные, ястребиные глаза Симса не отрывались от лица Дэна. — Думаю, в этом вы правы. Когда Хоффриц отказался продолжать работать с военными, Министерство обороны не попросило нас выяснить, с чего это вдруг его потянуло в пацифисты. Они приняли его объяснение за чистую монету. Я убежден, он отказался от пентагоновских грантов, потому что хотел избежать периодических проверок, которые проводила служба безопасности. Не хотел тревожиться из-за того, что находится у кого-то под колпаком. Предпочитал заниматься своим новым проектом втайне от всех. — К примеру, пытать девятилетнюю девочку, — вставил Дэн. — Да, я побывал в Студио-Сити несколько часов тому назад, осмотрел тот дом. Жуткое место. Но выражение лица и глаз ни в коей степени не соответствовало осуждению в голосе. А если судить по глазам, то даже возникала мысль, что Майкл Симс нашел серую комнату скорее интересной, чем отвратительной. — Как вы думаете, почему они проделывали все это с Мелани Маккэффри? — спросил Дэн. — Не знаю. Странными они занимались исследованиями. — Симс в недоумении покачал головой. Но внезапная демонстрация наивности выглядела дозированной, точно рассчитанной. — Чего они намеревались добиться? — Я не знаю. — В этом доме они занимались отнюдь не коррекцией поведения. Симс пожал плечами. — Их интересовала «промывка мозгов», полный контроль над разумом… и что-то еще… что-то худшее. Симс, похоже, заскучал. Взгляд его сместился с Дэна на экспертов, перебиравших залитый кровью мусор. — Но зачем? — Я действительно не знаю. — На этот раз в голосе Симса послышалось нетерпение. — Я только… — Но вам же очень нужно выяснить, кто финансировал этот дьявольский проект, — напирал Дэн. — Я бы не сказал, что очень. Скорее для нас это жизненно необходимо. В таком вот разрезе. — Тогда вы должны хотя бы в общих чертах представлять себе, чем они занимались. Что-то вы знаете, и это «что-то» заставляет вас принять участие в этом расследовании. — Ради бога, Холдейн… — говорил Симс зло, но и злость казалась дозированной, точно отмеренной. — Вы видели состояние тел. Известные ученые, ранее проводившие исследования по заказу Пентагона, убиты необъяснимым способом… черт, конечно же, мы хотим знать, кто за этим стоит. — Необъяснимым способом? — переспросил Дэн. — А что тут необъяснимого? Их забили до смерти. — Перестаньте, Холдейн. Все гораздо сложнее. Вы говорили с сотрудниками коронера, а потому знаете, что они не могут определить, каким было орудие убийства. На телах и под ногтями жертв не было ни кожи, ни волос нападавших. И многие удары нанесены не дубинкой, потому что у человека не хватит силы, чтобы вот так раздробить кости другого человека. Для этого требуется огромная сила, механическая сила… нечеловеческая сила. Их не забили до смерти, их раздавили, как жуков. А что вы думаете насчет здешних дверей? Дэн нахмурился. — Каких дверей? — Здешних, в этом магазине, парадной и черного хода. — А что я должен о них думать? — Вы ничего не знаете? — Я только что пришел. Ни с кем не успел поговорить. Симс нервно поправил узел галстука, и от одного только вида нервничающего агента ФБР Дэну стало не по себе. Раньше такие ему не встречались. Причем нервозность Майкла Симса была истинной, ее он не изображал. — Когда прибыли ваши люди, двери были заперты, — ответил агент. — Скальдоне закрыл магазин аккурат перед тем, как его убили. Дверь черного хода, возможно, была все время заперта, но он запер и парадную дверь, опустил жалюзи. Вероятно, он всегда уходил через черный ход (его автомобиль стоит там) после того, как подбивал итоги дня. Но на этот раз подбить итоги он не успел. Его убили при запертых дверях. Первому полицейскому, который приехал к магазину, пришлось выбивать парадную дверь. — И что? — А то, что в магазине была только жертва. Обе двери были заперты, когда подъехали копы, но убийцу в магазине они не обнаружили. — А что тут удивительного? Из сказанного вами лишь следует, что у убийцы был ключ. — И, уходя с места преступления, он запер дверь? — Вполне возможно. Симс покачал головой: — Нет, если вы знаете, как были заперты обе двери. Помимо пары врезных замков, на каждой имеется засов, открыть который можно, лишь находясь внутри магазина. — Засовы на обеих дверях? — переспросил Дэн. — Да. И в магазине только два окна. Большое окно-витрина, стекло которого вделано в стену. Через него можно выйти, лишь разбив стекло кирпичом. Второе окно в подсобке, которая также и кабинет. По существу, вентиляционное окошко. — Но достаточно большое, чтобы через него пролез человек? — Да, — кивнул Симс. — Но изнутри оно забрано железными прутьями. — Железными прутьями? — Да. — Тогда должен быть еще один выход. — Вот вы его и найдите. — Тон Симса говорил о том, что такого выхода не существует. Дэн оглядел разгромленный магазин, провел рукой по лицу, словно хотел снять усталость, поморщился от боли, когда подушечки его пальцев коснулись еще липкой раны на лбу. — Вы говорите мне, что Скальдоне забили до смерти в закрытой комнате? — Убили в закрытой комнате. Я до сих пор не уверен насчет «избиения». — И убийца никоим образом не мог выйти из магазина до прибытия первого копа? — Никоим образом. — Однако его здесь нет. — Совершенно верно. — Слишком уж молодое лицо Симса пришло в большее соответствие с седеющими волосами и согнутыми возрастом плечами. — Вы понимаете, почему мне жизненно необходимо разобраться в этом деле, лейтенант Холдейн? Мне это жизненно необходимо, потому что два первоклассных исполнителя оборонных исследований, пусть и бывших, убиты неизвестными людьми или силами, с помощью оружия, для которого не служит преградой запертая дверь. И против этого оружия, похоже, нет абсолютно никакой защиты.Случившее чем-то отличалось от землетрясения, но назвать конкретные отличия Лаура, пожалуй, бы не смогла. Вроде бы она не помнила, чтобы дребезжали оконные стекла, хотя при землетрясении, достаточно сильном, чтобы распахнуть дверцы полок и буфетов, стекла не могли не дребезжать. И земля под ногами вроде бы не качнулась, не заходила ходуном. Но, конечно, если они находились далеко от эпицентра, движения земли она могла и не уловить. И воздух стал каким-то странным, давящим, не душным или влажным, но… тяжелым, что ли? Землетрясения в Калифорнии не редкость, на ее памяти случилось не одно и не два, но она не помнила, чтобы хоть раз воздух вот так давил на нее. И что-то еще говорило за то, что случившееся — не землетрясение, что-то важное, но она не могла понять, что именно. Эрл вернулся к столу и газете, Мелани продолжала смотреть на свои руки. Лаура закончила резать овощи для салата. Перемешала их в миске и поставила ее в холодильник. Вода закипела. Над кастрюлей поднимался пар. Лаура как раз доставала спагетти из коробки, когда Эрл оторвался от газеты. — Теперь понятно, почему кот повел себя так странно! Лаура не поняла. — Что? — Считается, что звери предчувствуют землетрясение. Начинают нервничать и вести себя необычно. Может, именно поэтому Перец устроил истерику и принялся гоняться за призраками. Но, прежде чем Лаура успела обдумать слова Эрла, щелкнул радиоприемник, словно кто-то нажал на кнопку включения. Шесть лет Лаура прожила одна и иногда не могла выдерживать тишину и пустоту дома, поэтому держала радиоприемники в нескольких комнатах. На кухне радиоприемник стоял рядом с хлебницей, в нескольких футах от Лауры, портативный «Сони» с часами. Когда он включился сам по себе, Бонни Тайлер пела «Полное затмение сердца». Песню транслировала радиостанция KRLA. Лаура настроила на нее приемник, когда включала его в последний раз. Эрл отложил газету. Уже успел вскочить. Сам по себе диск регулятора громкости начал вращаться по часовой стрелке. Лаура это видела собственными глазами. Голос Бонни Тайлер прибавил в громкости. — Что за черт?! — воскликнул Эрл. Мелани пребывала в своем, никому не ведомом, мире. Голос Бонни Тайлер и музыка, сопровождающая ее пение, метались между стенами кухни, вызывая дребезжание оконных стекол, что оказалось не под силу «землетрясению». Ощущая холод, вновь опустившийся на кухню, Лаура шагнула к радиоприемнику. В другой части дома вновь отчаянно заорал Перец.
* * *
Когда Дэн уже отворачивался от Майкла Симса, агент ФБР спросил: — Между прочим, что случилось с вашим лбом? — Примерял шляпы, — ответил Холдейн. — Шляпы? — Натянул на голову слишком маленькую. Потерял массу времени, пытаясь снять. В результате она слезла вместе с кожей. Прежде чем Симс успел как-нибудь отреагировать, в магазин через дверь подсобки вошел Росс Мондейл. Увидев Дэна, позвал: — Холдейн. Подойди сюда. — Что такое, чиф? — Хочу поговорить с тобой. — О чем, чиф? — Наедине, — прошипел Мондейл. — Уже иду, чиф. И, оставив недоумевающего Симса, лавируя между мусором, обходя тело, Дэн направился к капитану. Мондейл указал на дверь подсобки, последовал туда за Дэном. Шириной подсобка-кабинет не уступала магазину, но ее глубина не превышала четырех футов. Стены, сложенные из бетонных блоков, даже не оштукатурили. Слева громоздились ящики, вероятно с товаром. Справа стояли стол с компьютером, маленький холодильник, несколько бюро, рабочий стол с кофеваркой. Здесь никаких следов погрома не наблюдалось. Мондейл уже просмотрел содержимое ящиков стола. Несколько предметов, в том числе и записная книжка, лежали рядом с компьютером. Пока капитан закрывал за собой дверь, Дэн обошел стол и сел. — И что ты, по-твоему, делаешь? — спросил Мондейл. — Даю отдых ногам. Чертовски длинным выдался день. — Ты знаешь, я не об этом. — Правда? Как и всегда, Мондейл был в коричневом костюме, светло-бежевой рубашке, коричневых галстуке, носках, ботинках. Его карие глаза злобно блестели. Рубин в перстне кроваво сверкал. — Я ждал тебя в моем кабинете к половине третьего? — Я не получил твоего вызова. — Я чертовски хорошо знаю, что получил. — Нет. Правда. Я бы примчался. — Не дури мне голову. Дэн молча смотрел на него. Капитан на несколько шагов приблизился к столу, плечи напряглись, пальцы то сжимались, то разжимались. Чувствовалось, что он с трудом сдерживает желание наброситься на Холдейна с кулаками. — Чем ты занимался целый день? — Размышлял над смыслом жизни. — Ты побывал в доме Ринка. — Для этого нет нужды идти в церковь. Размышлять о смысле жизни можно где угодно. — Я не посылал тебя к дому Ринка. — Я, между прочим, детектив-лейтенант. И обычно при расследовании делаю то, что считаю нужным. — Только не в этом. Дело слишком крупное. И на этот раз ты — игрок одной команды. Делаешь, что я тебе говорю, идешь, куда я тебя посылаю. Даже не срешь, не получив от меня такой команды. — Держи себя в руках, Росс. А то может создаться впечатление, что ты обезумел от жажды власти. — Что у тебя со лбом? — Брал уроки карате. — Что? — Пытался разбить доску головой. — Черта с два. — Ладно, рассказываю, как все случилось. Услышал от Джорджа Падракиса, что ты хочешь меня видеть, и одного упоминания твоего имени хватило, чтобы я упал на колени и поклонился. Причем поклонился так быстро, что ободрал лоб об асфальт тротуара. На мгновение Росс Мондейл лишился дара речи. Его загорелое лицо побагровело. Каждый вдох давался ему с трудом. А Дэн уже разглядывал вещи, которые Мондейл достал из ящиков стола: записную книжку, чековую, с логотипом магазина «Пентаграмма», ежедневник, толстую пачку накладных. Первой взял со стола записную книжку. — Положи ее и послушай меня. — Мондейл наконец-то обрел голос. Дэн одарил его ослепительной невинной улыбкой. — Но именно здесь может таиться зацепка, капитан. Я веду расследование и едва ли сумею справиться с заданием, если упущу что-то важное. Мондейл ринулся к столу. Теперь уже его пальцы крепко сжались в кулаки. «Наконец-то, — подумал Дэн. — Мы уже не один год ждали этой схватки».Лаура встала перед «Сони», сверля радиоприемник взглядом, боясь до него дотронуться, дрожа в холодном воздухе. Холод, казалось, шел от радиоприемника, его излучал светло-зеленый дисплей настройки. Нет, безумная мысль. Это же радиоприемник, а не воздушный кондиционер. Не… Не… Просто радиоприемник. Обычный радиоприемник. Обычный радиоприемник, который включается сам по себе, без чьей-либо помощи. Бонни Тайлер уступила место новому исполнителю. Золотой фонд классики. Прокул Харум запел «Зимний оттенок белого». Тоже на полную громкость. Радиоприемник вибрировал на пластиковой поверхности столика, на котором стоял. Дребезжали оконные стекла. Громовой звук грозил разорвать барабанные перепонки. Подошел Эрл, встал позади Лауры. Если Перец и продолжал орать в другой комнате, столь громкая музыка полностью заглушала кошачьи вопли. С опаской, осторожно, Лаура взялась пальцами за диск регулятора громкости. Обжигающе ледяной. Содрогнувшись всем телом, едва не отдернула руку, потому что холод, идущий от пластика, отличался от прежних ощущений, вызываемых холодом, пробирал не только тело, но и рассудок, и душу. Тем не менее она не выпустила диск из пальцев и попыталась повернуть его против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость, но диск не сдвинулся с места. И она не могла отключить Прокула Харума, потому что радиоприемник включался и выключался нажатием диска регулятора громкости. А он не реагировал на попытки повернуть его или вдавить в корпус, хотя Лаура прилагала все силы, и от напряжения заболели мышцы руки. Ее начало трясти. Она отпустила диск регулятора громкости. И хотя «Зимний оттенок белого» на редкость мелодичная и теплая песня, при такой громкости она стала просто зловещей. Удары барабанов воспринимались как приближающиеся шаги какого-то чудовища, звуки труб — как его полные враждебности крики. Лаура схватила провод, дернула. Штепсель вылетел из розетки. Музыка мгновенно стихла. Лаура боялась, что она будет звучать и дальше, без подвода к радиоприемнику электрического тока.
* * *
Поскольку Дэн не положил на стол записную книжку Джозефа Скальдоне, совсем маленькую, карманного формата, Мондейл правой рукой сильно сжал правое запястье Дэна, чтобы заставить его разжать пальцы. Ростом Мондейл не вышел, но его отличали широкие плечи и грудь. А также мощные руки, широкие запястья, большие кисти. И незаурядная сила. Да только Дэн был сильнее. Он не выпустил из пальцев записную книжку. А потом, глядя в глаза Мондейла, попытался левой рукой оторвать от правой его пальцы. Ситуация с каждой секундой становилась все более нелепой. Оба вели себя как идиоты-подростки, решившие доказать друг другу свою крутизну: Мондейл пытался раздавить правую руку Дэна, а последний всеми силами старался показать, что ему совсем и не больно, одновременно стараясь освободиться. Ему удалось ухватиться за один из пальцев Мондейла, и он начал отгибать его назад. Челюсть Мондейла закаменела. Мышцы напряглись до предела. Палец отгибался все дальше и дальше. Мондейл отказывался ослабить хватку на правой руке Дэна, но тот неумолимо отгибал и отгибал палец капитана, грозя выломать его. На лбу Мондейла выступили капли пота. «Моя собака лучше твоей собаки, моя мать красивее твоей матери, — думал Дэн. — Господи! Сколько же нам сейчас лет? Четырнадцать? Двенадцать?» Но он не отрывал взгляда от глаз Мондейла и отказывался дать знать капитану, что тот причиняет ему боль. А этот чертов палец отгибал все дальше и понял, что в следующее мгновение сломает его. И тут Мондейл ахнул и разжал остальные четыре пальца. Записная книжка осталась в правой руке Дэна. А палец он отпустил еще через пару секунд, чтобы не было сомнений в том, кто сдался первым. Поединок получился глупым, детским, но Дэн точно знал, что Мондейлу хотелось одержать в нем верх. Очень хотелось. И если капитан думал, что преподаст Дэну урок, покажет, на чьей стороне сила, возможно, поединок этот стал уроком для него самого.* * *
Они стояли в полной тишине, глядя на радиоприемник. — Как он мог… — первым заговорил Эрл. — Не знаю, — ответила Лаура. — Такое уже… — Никогда. Радиоприемник из безобидного предмета домашнего обихода превратился в угрозу. — Включите его, — предложил Эрл. Лауру вдруг охватил безотчетный страх: если подключить радиоприемник к сети, он тут же выпустит лапки, будто у краба, и засеменит к ней по столику. Мысль эта была настолько странной, что она не могла не подивиться на себя. Откуда только взялась эта боязнь сверхъестественного у нее, которая занималась наукой, полагала себя логически мыслящей женщиной, никогда не сомневающейся в том, что у всякого следствия есть причина. И однако Лаура не могла отделаться от чувства, что в радиоприемнике поселилась какая-то злобная сила, которая с нетерпением ждала, когда же штепсель вставят в розетку и она сможет подпитаться электрическим током. Ерунда. Чушь. Тем не менее Лаура спросила: — Включить? Зачем? — Ну, я хочу посмотреть, что из этого выйдет, — ответил Эрл. — Мы не можем этого так оставить. Все очень уж странно. Нам надо разобраться, что к чему. Лаура понимала, что он прав. Осторожно потянулась к проводу. Где-то ожидала, что он обовьет ей руку, как холодная змея, и вопьется в плоть вилкой. Но это был всего лишь электрический провод: самый обычный и совсем не живой. Она прикоснулась к диску регулятора громкости и обнаружила, что он свободно вертится. Полностью убрала звук, нажала на диск, выключая радиоприемник. Очень осторожно, с предчувствием самого худшего, вставила штепсель в розетку. Ничего не произошло. Миновало пять секунд. Десять. Пятнадцать. — Ну, что бы это ни было… — начал Эрл. Радио включилось. Воздух вновь похолодел. Лаура подалась от столика, попятилась, боясь, что радиоприемник прыгнет на нее. Остановилась рядом с Мелани, положила руку на плечо девочки, чтобы успокоить ее, но Мелани не замечала странных событий, происходящих вокруг нее, она пребывала совсем в другом месте. Диск регулятора громкости завертелся по часовой стрелке. На этот раз остановился на полпути к максимуму. Пел кто-то из модных рэпперов. Музыка, конечно, грохотала, но не грозила разорвать барабанные перепонки. И тут под невидимыми пальцами пришел в движение диск настройки. Красная полоска поползла по светло-зеленому дисплею настройки, оставив рэп позади, быстро приближаясь к правому краю. Песни, рекламные объявления, новости, прогноз погоды, голоса диджеев сменяли друг друга. Дойдя до упора, красная полоска поползла к левому краю дисплея, вернулась к правому, уже с большей скоростью, так что музыка и голоса слились в какую-то какофонию. Эрл приблизился к «Сони». — Осторожно, — прошептала Лаура. Она понимала, нелепо предупреждать его, это же простой радиоприемник. Неодушевленный предмет, не живое существо. Этот радиоприемник стоял у нее на кухне три или четыре года. Он позволял ей слушать музыку, ничего больше. Всего лишь радиоприемник.* * *
Убрав руку, Мондейл не стал потирать палец, чтобы изгнать из него боль. Нет, продолжал притворяться, будто ничего такого и не произошло и он по-прежнему круче. Небрежно сунул руку в карман, словно за ключами или мелочью, и оставил там. Зато поднял вторую, нацелил палец в Дэна. — Не дури мне голову, Холдейн. Это важное расследование. Оно привлечет внимание, много внимания. У нас возникнет ощущение, будто работаем мы на раскаленной сковороде. Пресса наседает на меня, ФБР просто не дает прохода. Мне уже звонил мэр и чиф Келси, оба ждут результата. Я не собираюсь запороть это расследование. От него, возможно, зависит моя карьера. Я держу все под контролем, Холдейн. Под жестким контролем. И не допущу, чтобы какой-то Одинокий рейнджер подставил меня под удар. Если все закончится тем, что мне дадут пинка под зад, я хочу быть уверен, что вина в этом моя, и только моя. Это командная игра, знаешь ли, и я — капитан, тренер и куотербек[46]. Мы все должны действовать заодно, и никто не может играть в команде, не выходя на поле. Ты меня понял? Дэн понял, что драки все-таки не будет. Весь пыл Росса ушел в гудок. Он чувствовал себя такой важной шишкой, когда устраивал разнос подчиненному. Дэн разочарованно вздохнул, откинулся на спинку стула. Сложил руки за головой. — Раскаленные сковородки, футбольные поля… Росс, ты путаешься в метафорах. Признай, старина, ты никогда не был вдохновенным оратором и поборником дисциплины. Генерал Патон — да, но не ты. Мондейл сверлил его взглядом. — По требованию чифа Келси я собираю специальную группу для этого расследования. Как ты помнишь, несколько лет тому назад такую же создавали для поимки Душителя из Хиллсайда. Все назначения идут через меня, и я назначаю тебя координатором. Будешь сидеть в участке и координировать некоторые вопросы расследования. — Я — не кабинетный коп. — Теперь станешь им. — В кабинете у меня сразу начинается приступ клаустрофобии. Если ты заставишь меня работать в кабинете, дело закончится нервным расстройством. Лечение обойдется управлению полиции слишком дорого. — Не дури мне голову, — вновь предупредил Мондейл. — Я боюсь, что из ящиков стола полезут какие-то чудовища, а эти стаканчики для карандашей… они напоминают мне реактивную ракетную установку, которая в любой момент может дать по мне залп всеми этими карандашами. Поэтому, думаю, завтра утром я займусь общественной организацией «Свобода теперь» и, возможно… — Ими займутся Уэкслерш и Мануэльо, — перебил его Мондейл. — Они же поговорят с заведующей кафедрой психологии ЛАКУ. А ты будешь сидеть за столом, Холдейн, за своим столом, и делать то, что тебе говорят. Дэн не стал сообщать, что уже побывал в ЛАКУ и побеседовал с Ирматрудой Гелькеншеттль. Он не собирался делиться с Мондейлом какой-либо информацией. — Уэкслерш — не детектив, — указал он. — Черт, да ему нужно покрасить свою пипиську в ярко-желтый цвет, чтобы найти ее, если возникает желание отлить. А Мануэльо пьет. — Черта с два! — рявкнул Мондейл. — И на службе бывает чаще пьяным, чем трезвым. — Он — превосходный детектив, — настаивал Мондейл. — Для тебя определение «превосходный» — синоним определения «послушный». Тебе нравится Мануэльо, потому что он смотрит тебе в рот и лижет твою задницу. Ты — потрясающий карьерист, Росс, но паршивый коп и еще худший лидер. Для твоего же блага, как, впрочем, и для блага других, я проигнорирую твой приказ, привязывающий меня к столу, и продолжу расследовать это дело так, как считаю нужным. — Ну наконец-то, наглец ты этакий! Наконец-то! Считай, что тебя здесь больше нет. Я позвоню твоему боссу. Я позвоню Темплтону, и он вернет своего подчиненного к себе, в Центральный участок, где тебе самое место! Капитан развернулся и направился к двери, чтобы услышать: — Если ты заставишь Темплтона снять меня с расследования, мне придется рассказать ему и всем остальным о Синди Лейки. Мондейл остановился, не дотянувшись рукой до дверной ручки, тяжело задышал, но к Дэну не повернулся. Поэтому Дэн продолжил, обращаясь к спине Мондейла: — Мне придется рассказать им, что Синди Лейки, бедная восьмилетняя малышка, была бы сейчас жива, выросла бы в молодую женщину, возможно, вышла бы замуж и сама родила дочку. А не случилось этого из-за тебя.* * *
Лаура осталась рядом с Мелани, положив руку на плечо девочки, готовая схватить ее и бежать из кухни, возникни такая необходимость. Эрл Бентон наклонился к радиоприемнику, похоже, зачарованный чудесным образом вращающимся диском и красной индикаторной полоской выбора частоты, бегающей взад-вперед по светло-зеленому дисплею. Внезапно красная полоска остановилась, только на мгновение, которого хватило для того, чтобы диджей ясно и отчетливо произнес: — …что-то… Двинулась дальше, остановилась на другой частоте, опять на чуть-чуть, чтобы они услышали одно произнесенное диктором слово: — …идет… Снова двинулась, остановилась, выхватив слово из песни: — …что-то… Тут же перескочила на новую станцию, ворвавшись в рекламное объявление: — …идет… И двинулась в обратный путь. И Лаура внезапно осознала, что эти паузы не случайны. «Нам передали послание», — подумала она. «Что-то идет». Послание от кого? Откуда? Эрл посмотрел на нее. Изумление, написанное на его лице, показывало, что он задает себе те же вопросы. Ей хотелось бежать из кухни, из дома, бежать куда глаза глядят. Она не могла сдвинуться с места. Все суставы словно залили бетоном. Мышцы не желали сокращаться. Красная полоска снова остановилась на секунду. Может, на долю секунды. На этот раз Лаура узнала песню, из которой выдернули слово. «Битлз». «…Что-то…» Новая станция: «…идет…» Воздух стал ледяным, но Лаура дрожала не только от холода. «Что-то… идет…» Два слова. Не просто послание. Предупреждение об опасности.* * *
Мондейл так и не открыл дверь, ведущую из подсобки-кабинета Джозефа Скальдоне в торговый зал магазина «Пентаграмма». Вновь повернулся к Дэну, злость и негодование на его лице сменило более сильное чувство. Теперь оно пылало ненавистью. Впервые за тринадцать лет Дэн упомянул Синди Лейки. Этот секрет они делили между собой, он главным образом и определял характер их взаимоотношений. И теперь, озвучив эти имя и фамилию, Дэн порадовался возможности увидеть, как поведет себя Мондейл, осознав, что, возможно, придется держать ответ за давний проступок. — Я не убивал Синди Лейки, черт побери! — Но ты позволил ее убить, хотя мог бы предотвратить это убийство. — Я — не господь бог, — с горечью ответил Мондейл. — Ты — коп. У тебя есть обязанности. — Ты самодовольный говнюк. — Ты дал клятву защищать простых граждан. — Да? Правда? Между прочим, простые граждане никогда не плачут над мертвым копом, — говорил Мондейл тихо, несмотря на распиравшую его ярость, дабы их разговор не долетел до ушей тех, кто находился за дверью. — Также твой долг — не бросать напарника в беде, прикрывать ему спину. — Ну ты прямо-таки бойскаут. — Голос Мондейла сочился презрением. — Один за всех и все за одного!Чушь! Когда пахнет жареным, каждый сам за себя, и ты это знаешь! Дэн уже жалел о том, что упомянул Синди Лейки. Радостное возбуждение, на мгновение охватившее его, ушло. И настроение только ухудшилось. Он почувствовал смертельную усталость. После стольких лет молчания он решил указать Мондейлу на его ответственность перед обществом, но получилось, что мог бы и не открывать рта. Мог бы не открывать рта, потому что Мондейл не относился к тем людям, которые способны признать собственную слабость или ошибку. Ранее ему всегда удавалось перекладывать вину за свои ошибки на других. У него был безупречный послужной список и, скорее всего, остался бы безупречным не только в глазах других, но и в его собственных. Потому что даже перед собой он не сознавался в слабости или ошибке. Росс Мондейл не ведал чувства вины, ни в чем не упрекал себя. И сейчас, стоя перед Дэном, не считал себя ответственным за то, что случилось с Синди Лейки, не испытывал угрызений совести. Его захватило только одно чувство: иррациональная ярость, мишенью которой был бывший напарник. — Если кто и несет ответственность за смерть девочки, так это ее мать. Дэну не хотелось продолжать эту битву. Он устал, как столетний старик, протанцевавший весь вечер на своем юбилее. — Распни на кресте эту чертову мать, а не меня. Дэн молчал. — Все произошло только потому, что ее мать встречалась с Феликсом Данбаром. В глазах Дэна появилось презрение. — Ты говоришь мне, что Френ Лейки следовало бы знать о психическом состоянии Данбара? — Черт, ну, конечно! — Между прочим, по всем параметрам он был славным парнем. — Вышиб ее гребаные мозги, не так ли? — Владелец фирмы. Хорошо одевался. Без криминального прошлого. Постоянно бывал в церкви. С какой стороны ни посмотри, добропорядочный гражданин, находка для любой женщины. — Добропорядочные граждане не вышибают другим людям мозги. Френ Лейки встречалась с неудачником. Подонком, законченным психом. Из того, что я узнал позднее, она встречалась со множеством мужчин, и едва ли не все они были неудачниками. Она подвергла жизнь своей дочери опасности — не я. Дэн наблюдал за Мондейлом, как мог бы наблюдать за необычайно отвратительным насекомым, ползущим по обеденному столу. — Ты говоришь мне, что ей следовало бы видеть будущее? Следовало бы знать, что у ее бойфренда окончательно съедет крыша, когда она скажет ему, что порывает с ним? Ей следовало бы знать, что он придет к ней в дом с пистолетом и попытается убить ее саму и ее дочь по более чем прозаичной причине — ее отказе пойти с ним в кино? Если бы она могла так хорошо видеть будущее, Росс, то оставила бы без работы всех тех, кто зарабатывает на жизнь гаданием на картах, по ладони или хрустальному шару. Она стала бы знаменитостью. — Она подвергла жизнь дочери опасности, — стоял на своем Мондейл. Дэн наклонился вперед, над столом, понизил голос: — Если бы она могла видеть будущее, то знала бы: вызов копов в тот вечер пользы не принесет. Она знала бы, что одним из патрульных, приехавших на вызов, будешь ты, знала бы, что ты струсишь и… — Я не струсил, — Мондейл шагнул к столу, но, как от угрозы, пользы от этого шага не было никакой.* * *
«Что-то… идет…» Эрл не отрывал глаз от радиоприемника. Лаура посмотрела на дверь, ведущую во внутренний дворик, и на лужайку во дворе. Заперта. Окна тоже. Жалюзи опущены. Если бы что-то пришло, то куда и откуда? И что могло прийти, господи, что могло прийти? Радиоприемник произнес еще одно слово: «…берегитесь…» Теперь Лаура смотрела на открытую дверь в столовую. То, что могло прийти, должно быть, уже находилось в доме. Может, это «что-то» уже в гостиной и сейчас придет через столовую… Красная полоска вновь остановилась, из динамиков загремел голос диджея. Он всего лишь болтал ни о чем, заполняя короткую паузу между двумя песнями, но Лауре его монолог показался зловещим: «Остерегайтесь, мои рок-н-ролльные друзья, остерегайтесь тех, кто бродит в ночи, но знайте, вас всегда защитит кузен Френки, то есть я, поэтому лучше не меняйте частоту, на которую настроены ваши радиоприемники, а вот если поменяете, то вам придется поостеречься, придется, а не то попадете в лапы каких-нибудь старых гоблинов, которые живут под кроватью и не боятся никого, за исключением кузена Френки. Вам придется поостеречься!» Эрл положил руку на радиоприемник, и Лаура даже удивилась, когда в пластике не раскрылась пасть и острые зубы не впились в руку детектива. — Холодный, — констатировал он, когда красная полоска двинулась к другой станции. Лаура потрясла Мелани за плечо: — Сладенькая, вставай. Девочка не шевельнулась. Красная полоска остановилась, чтобы выхватить из выпуска новостей одно слово: «…убийство…»* * *
Дэну очень хотелось, чтобы какая-нибудь фея взмахом волшебной палочки перенесла его из кабинета этого мерзкого магазинчика в «Деликатесы от Сола», где он мог бы заказать себе большой «Сэндвич Рубена» и выпить несколько бутылок темного пива «Бек». Если б не получилось с «Деликатесами от Сола», он согласился бы и на «Джека-в-коробке». А если бы не попал к «Джеку», с радостью оказался бы дома, даже помыл бы грязные тарелки, которые скопились в раковине. Он был готов на что угодно, только не на продолжение стычки с Мондейлом, совершенно бессмысленной, лишь отнимающей время и силы. Но дать задний ход он уже не мог. Так что предстояло вновь вытащить из глубин памяти убийство Лейки, посмотреть, не зажила ли рана. Но ведь смотреть-то и не стоило, потому что оба и так прекрасно знали: не зажила и никогда не заживет. — После того как Данбар подстрелил меня на лужайке перед домом Лейки… — Полагаю, это тоже моя вина, — перебил его Мондейл. — Нет. Не следовало мне бросаться к нему. Я не думал, что он начнет стрелять, и я ошибся. Но, после того как он подстрелил меня, Росс, он на мгновение остолбенел, потрясенный тем, что сделал, и в этот момент был уязвим. — Чушь. Уязвим, как танк «Шерман». Он был маньяком, свихнувшимся психом, и держал в руке большущий пистолет… — Тридцать второго калибра, — поправил его Дэн. — Есть пистолеты и большего калибра. Каждый коп знает, что в любой момент на него могут наставить пистолет большего калибра. И в тот момент он был уязвим достаточно долго, чтобы ты смог его взять. — Знаешь, что я в тебе всегда ненавидел, Холдейн? — Но ты убежал, — продолжил Дэн, оставив вопрос без ответа. — Я всегда ненавидел твою непоколебимую уверенность в собственной правоте. — Если бы Данбар захотел, он бы всадил в меня вторую пулю. Никто не смог бы остановить его после того, как ты убежал за дом. — Как будто ты никогда не совершал ошибок в своей чертовой жизни. Теперь они оба перешли на шепот. — Но вместо этого он оставил меня лежать на траве… — Как будто ты никогда не боялся. — …следующим выстрелом вышиб замок входной двери… — Хочешь изображать героя. Ты и Оди Мерфи[47]. Ты и Иисус Христос. — …прошел в дом, избил Френ Лейки… — Я тебя ненавижу. — …и заставил девочку наблюдать… — Меня от тебя тошнит. — …как он убивает единственного в мире человека, которого она любила, — закончил Дэн. Он не знал жалости, потому что понимал: нельзя останавливаться, не выговорившись. Он жалел, что начался этот разговор, ему не хотелось ворошить прошлое, но теперь, начав, он не мог не довести дело до конца. Потому что хотел освободиться от этого нескончаемого кошмара. Потому что не привык останавливаться на полпути. Потому что, если бы он остановился, недосказанная часть застряла бы в горле, как комок блевотины, и он бы задохнулся. Потому что — и вот она, правда, — чувство вины за смерть Синди Лейки до сих пор тяжелым грузом лежало у него на душе, и, возможно, это объяснение с Россом Мондейлом помогло бы ему избавиться от тяжкой ноши.* * *
Радиоприемник прибавил громкости, и каждое слово взрывалось, словно артиллерийский снаряд: — …кровь… — …идет… — …бежать… Боясь того, что может случиться, стремясь заставить Мелани подняться со стула, Лаура воскликнула: «Сладенькая, вставай! Пошли!» Из радио послышалось: «…прятаться…» И: «…оно…» И: «…идет…» Громкость увеличилась. — …оно… Достигло максимума, разрывая барабанные перепонки: «…на свободе…» Эрл взялся за диск регулятора громкости. — …оно… И тут же отдернул руку, словно его ударило электрическим током. Потрясенный, посмотрел на Лауру. Вытер пальцы о рубашку. Похоже, электрическим током его не ударяло, но он коснулся чего-то мерзкого, отвратительного. Радиоприемник выплюнул: «…смерть…»Ненависть Мондейла была темным и огромным болотом, в котором он мог укрыться, когда из глубин памяти появлялась неприглядная правда о смерти Синди Лейки. И если правда эта не хотела его отпускать, он отступал все дальше в черную ненависть и прятался от нее среди змей, водяных тварей и грязи своей психики. Он продолжал смотреть на Дэна, угрожающе нависнув над столом, но ненависть его не таила в себе опасности. Он не собирался пускать в ход кулаки. Не собирался растрачивать свою ненависть наносимыми по Дэну ударами. Нет, ненависть следовало только накапливать, потому что она помогала ему прятаться от ответственности. Она являла собой ширму между ним и правдой, и чем плотнее была ширма, тем больше его это устраивало. Вот так работала у Мондейла голова. Дэн прекрасно его знал, читал его мысли, словно открытую книгу. Но, хотя Росс и пытался спрятаться от правды, он также боялся нанести ответный удар. И на то были веские причины. Правда состояла в том, что Феликс Данбар подстрелил Дэна. Правда состояла в том, что, войдя в дом, Феликс Данбар избил Френ Лейки, а потом трижды выстрелил в Синди Лейки, а Росс Мондейл пребывал в это время бог знает где. Правда состояла в том, что раненый и истекающий кровью Дэн нашел на траве свой револьвер, вполз в дом Лейки и убил Феликса Данбара. Прежде чем тот успел прострелить голову и Френ Лейки. И все это время Росс Мондейл то ли блевал в кустах, то ли терял контроль над мочевым пузырем, а может, не шевелясь, лежал на лужайке за домом, изображая клумбу или бревно. Он вернулся, когда все закончилось, мокрый от пота, бледный, как полотно, трясясь, смердя кислым запахом трусости. И теперь, сидя за столом Джозефа Скальдоне, Дэн поставил вопрос ребром: — Если ты попытаешься убрать меня из этого расследования или связать мне руки, я буду рассказывать историю о перестрелке в доме Лейки всем, кто захочет ее выслушать, и это станет концом твоей блестящей карьеры. С апломбом, который мог бы разозлить, не будь столь предсказуемым, Мондейл ответил: — Если бы ты собирался рассказать, то сделал бы это давным-давно. — Возможно, это греющая душу мысль, но неправильная. Я прикрыл тебя, потому что ты был моим напарником, и я полагал, что каждый имеет право один раз смалодушничать. Но с годами я все более сожалел о том, что повел себя таким образом, и теперь, если ты дашь мне повод, я с радостью восстановлю истину. — Это случилось очень давно, — буркнул Мондейл. — Ты думаешь, никто не обратит внимание на нарушение служебного долга только потому, что с тех пор прошло тринадцать лет? — Никто тебе не поверит. Они подумают, что все это выдумки. Я далеко продвинулся по службе, у меня появились друзья. — Да. Только такие друзья продадут мать родную, если при этом им что-то перепадет. — Ты всегда был одиночкой. И что бы ты ни думал о них, у меня есть люди, мне помогут. — Помогут надеть петлю на шею. — Власть придает людям верности, Холдейн, даже если они ею не отличались. Никто не поверит тебе, Холдейн. Все знают, какой ты болтун. Никто не поверит. — Тед Гирви мне поверит, — ответил Дэн, и, если бы он произнес эту фразу чуть тише, его бы не услышали. Тед Гирви, на десять лет старше их, ветеран-патрульный, был напарником Мондейла на первом году его службы, когда тот проходил испытательный срок. Он засвидетельствовал несколько ошибок Мондейла, разумеется, не таких серьезных, какая имела место быть у дома Лейки, уже позже, когда напарником Мондейла стал Дэн. Просто ошибки, вызванные неправильной оценкой ситуации. Недостаточно развитым чувством ответственности. Гирви показалось, что Росс еще и трусоват, но он прикрыл его, как потом это сделал Дэн. Гирви, на три четверти ирландец, крупный, добродушный мужчина, пусть и большой любитель побурчать, симпатизировал новичкам. Он не выставил Мондейлу высших баллов за его успехи в испытательный срок: добродушие и симпатия не влияли на чувство ответственности. Но не выставил и низших, по доброте сердца. Через несколько месяцев после перестрелки рядом с домом и в самом доме Лейки, когда Дэн уже начал работать с новым напарником, Тед Гирви нашел его и осторожно намекнул, что, похоже, допустил ошибку, не высказав начальству своего истинного мнения о Мондейле. В итоге они обменялись информацией и поняли, что повели себя неправильно, прикрыв Мондейла. У них не осталось сомнений, что трусость Мондейл проявил не случайно, что он трусоват по натуре. Но к тому времени с правдой они опоздали. В глазах полицейского начальства проступки Гирви и Дэна, а они нарушили служебные обязанности, не доложив о недостойном поведении Мондейла, по тяжести ненамного уступали прегрешениям Мондейла. А потому при расследовании они оказались бы в одной лодке с Мондейлом. Им не хотелось ради него наносить серьезный урон своей карьере. В наихудшем варианте их тоже могли попросить из полиции. А кроме того, Мондейла к тому времени перевели в отдел контактов с общественностью, на улицах он больше не работал. Гирви и Дэн решили, что налаживать контакты с общественностью у Мондейла получится, он больше не вернется к оперативной работе и не окажется в ситуации, когда от его решения будет зависеть чья-то жизнь. И сделали вывод, что наилучший вариант — оставить все, как есть. Никто из них и представить себе не мог, что со временем Мондейл станет одним из реальных претендентов на должность начальника полицейского управления. Возможно, они все-таки написали бы рапорты, если б могли предвидеть такое развитие событий. А теперь им оставалось только сожалеть, что они не вывели Мондейла на чистую воду. Мондейл, и это проявилось на его лице, понятия не имел о том, что Гирви и Дэн знают друг друга. И осознание того, что они могли поделиться друг с другом очень уж неприятной для него информацией, потрясло Мондейла.
* * *
Радиоприемник гремел:—ОНО! — ИДЕТ! — ПРЯЧЬТЕСЬ! — ИДЕТ!Отдельные слова, вырывающиеся из «Сони», звучали необычайно громко, такую громкость не могли обеспечить технические характеристики динамиков радиоприемника. Слова гремели. От них тряслись стены. Динамикам давно следовало развалиться или сгореть от таких выбросов звука, но они продолжали работать. Радиоприемник ходил ходуном.
— НА СВОБОДЕ! — ИДЕТ!Каждое слово врезалось в Лауру, лишало очередной частички самоконтроля. Волна паники и страха поднималась все выше, грозя накрыть ее с головой. Лампы на кухне пульсировали, тускнели, тогда как зеленый дисплей радиоприемника прибавлял в яркости, как будто «Сони» приобрел не только разум, но и у него проснулся жуткий электрический голод, вот он и высасывал из проводов весь электрический ток. Но такого просто не могло быть: сколько бы киловатт ни потреблял радиоприемник, дисплей освещала лампочка малого накала, которая не могла обеспечить такую яркость. Однако обеспечивала. И по мере того как тускнели лампы под потолком, ослепляющие изумрудные лучи пробивались через плексигласовую панель, освещая лицо Эрла Бенсона, отражаясь от хромированных частей плиты и холодильника, расходились по сумраку кухни: создавалось впечатление, будто ее вдруг перенесли под воду.
— …РАЗДИРАЮЩЕЕ… — …НА ЧАСТИ…Воздух леденил тело.
— …РАЗРЫВАЮЩЕЕ… — …НА ЧАСТИ…Лаура не понимала этот фрагмент послания, знала лишь, что речь идет о физическом насилии. «Сони» вибрировал все сильнее. Наконец запрыгал на столике.
— РАЗРУБАЮЩЕЕ… НАДВОЕ…
* * *
— Если я выступлю публично, — продолжил Дэн, — Тед Гирви, возможно, захочет последовать моему примеру. Может, еще кто видел тебя не на белом коне, Росс. Может, они тоже выступят, как и мы. Может, у них тоже есть совесть. И, судя по выражению лица Мондейла, люди, которые могли загубить его карьеру, были. В его голосе не слышалось самодовольства, когда он ответил: — Один коп никогда не доносит на другого, черт побери! — Ерунда. Если один из нас убийца, мы его не покрываем. — Я — не убийца, — возразил Мондейл. — Если один из нас вор, мы его не покрываем. — Я никогда не украл ни цента. — И если один из нас трус и хочет стать начальником всего полицейского управления, мы должны перестать покрывать его до того, как он займет кабинет, в который рвется, и начнет бросаться жизнями других людей. Так частенько поступают трусы, когда получают власть и более не должны принимать участие в бою. — Ты же знаешь наш кодекс. Мы против таких! — Что ты такое говоришь, Росс? Минуту тому назад ты утверждал, что каждый выпутывается сам. Но Мондейл уже отделил свое поведение у дома Лейки от кодекса чести полицейского, став вдруг его ревностным приверженцем. А потому повторил: — Мы против таких, черт побери! Дэн кивнул: — Все так, но, говоря «мы», я не имею в виду и тебя. Ты и я просто не можем принадлежать к одной и той же группе людей. — Ты уничтожишь свою карьеру. — Возможно. — Точно. Управление внутренней безопасности захочет знать, почему ты так долго скрывал так называемое нарушение служебных обязанностей. — Неправильно истолкованная верность одного человека в форме другому человеку в форме. — Этого будет недостаточно. — А мы посмотрим. — Они оторвут тебе яйца. — Кого они прищучат, так это тебя. Моя моральная безответственность — пассивное действие, пассивный грех. Меня могут на какое-то время отстранить от выполнения служебных обязанностей, объявить взыскание. Но из полиции за это не выгоняют. — Может, и нет. Но очередного повышения по службе тебе не видать. Дэн пожал плечами: — И что? Желания подниматься выше по служебной лестнице у меня нет. Я — не карьерист, Росс, в отличие от тебя. — Но… если ты пойдешь на такое, тебе больше никто не будет доверять. — Будут, можешь не сомневаться. — Нет, нет. Не будут, после того как ты заложил другого копа. — Если бы это был другой коп, не ты, я бы с тобой согласился. Мондейл вскипел: — У меня есть друзья! — Да, тебя любят наверху, и понятно почему. Там ты всегда говоришь то, что они хотят слышать. Ты знаешь, как манипулировать ими. Но любой коп-патрульный знает, что ты — говнюк. — Глупости! У меня друзья везде. От тебя все отвернутся, ты будешь в изоляции, изгоем. — Даже если ты говоришь правду, хотя это не так, что с того? Я все равно одиночка, помнишь? Ты сам это сказал. Ты сказал, что я — одиночка. И ты думаешь, я буду нервничать, став изгоем? И впервые ненависть на лице Мондейла в немалой степени сменилась тревогой. — Вот видишь? — Дэн широко улыбнулся. — У тебя нет выбора. Ты должен позволить мне проводить это расследование так, как я считаю нужным, не вмешиваясь, пока я не обращусь к тебе с какой-либо просьбой. А встанешь у меня на пути, я тебя уничтожу, и да поможет мне в этом бог. Пусть при этом и у меня возникнут проблемы.* * *
Лампы под потолком потускнели еще больше. А зеленый дисплей обрел такую яркость, что у Лауры заболели глаза.— …ОСТАНОВИТЕ… ПОМОГИТЕ… БЕГИТЕ… ПРЯЧЬТЕСЬ… ПОМОГИТЕ…Плексигласовая панель дисплея внезапно треснула посередине. Радиоприемник так вибрировал, что начал двигаться по столику. Лаура вспомнила кошмарный образ, несколько минут тому назад возникший перед ее мысленным взором: лапы краба, вылезающие из пластикового корпуса. Дверца холодильника вновь открылась сама по себе. И тут же, со скрежетом петель, одновременно распахнулись дверцы всех буфетов, столиков, полок. Одна ударила Эрла по ногам, и от неожиданности он едва не упал. Радиоприемник перестал выкрикивать отдельные слова, вырванные из передач различных станций. Теперь из динамиков доносился невероятно громкий, просто оглушающий треск атмосферных помех.
* * *
Росс Мондейл сидел на деревянном ящике, закрыв лицо руками, словно плакал. Дэну Холдейну оставалось только удивляться. Он-то полагал, что Мондейл просто не способен на слезы. Капитан не издавал никаких звуков, не всхлипывал, не рыдал, а когда оторвал руки от лица, Дэн увидел, что глаза у него сухие. Мондейл не плакал, а думал, отчаянно пытался найти выход из тупика, в который его загнали. И на лице его теперь появилось новое выражение: одну маску он сменил на другую. Страх и тревога полностью исчезли. Даже ярость спряталась, оставшись на виду разве что в глазах капитана. Теперь на лице господствовало дружелюбие. — Хорошо, Дэн. Хорошо. В свое время мы были друзьями, может, станем ими вновь. «Мы никогда не были друзьями», — подумал Дэн. Но ничего не сказал. Ему хотелось посмотреть, как Мондейл сможет сыграть эту новую для себя роль. — По крайней мере мы можем начать, попытавшись работать вместе, и я готов этому помочь, признав, что ты — чертовски хороший детектив. Мало того, что ты не упускаешь никаких деталей, так у тебя еще удивительная интуиция. Мне не следовало и пытаться направлять тебя. Не мешают же охотничьей собаке бежать по зову ее носа. Хорошо. В этом расследовании ты сам себе хозяин. Иди куда хочешь, смотри что хочешь, когда хочешь. Только изредка ставь меня в известность о том, что тебе удалось раскопать. Я буду тебе очень признателен. Может, нам обоим стоит чем-то поступиться, в чем-то пойти навстречу друг другу, и тогда ты поймем, что не только сможем работать вместе, но и снова станем друзьями. Дэн решил, что злость и неприкрытая ярость Мондейла нравятся ему больше, чем это слащавое дружелюбие. Ярость капитана отражала его сущность. Мед в голосе не успокоил Дэна, говоря точнее, от него по коже побежали мурашки. — Но могу я задать тебе один вопрос? — Мондейл, по-прежнему сидя на ящике, наклонился вперед. — Какой? — Почему это расследование? Почему тебе так хочется и дальше им заниматься? — Я просто хочу делать свою работу. — Мне кажется, здесь что-то большее. Дэн промолчал. — Дело в той женщине? — Нет. — Она очень симпатичная. — Дело не в той женщине, — ответил Дэн, хотя красота Лауры Маккэффри произвела на него должное впечатление. Но в действительности она лишь в малой степени повлияла на его решимость и дальше вести расследование, хотя он не собирался говорить об этом Мондейлу. — Тогда в девочке? — Возможно. — Ты всегда прилагал особые усилия в расследовании тех дел, где ребенку причиняли вред или угрожали. — Не всегда. — Нет, всегда, — покачал головой Мондейл. — Причина в случившемся с твоими братом и сестрой?* * *
Радиоприемник вибрировал все сильнее. Прыгал по поверхности столика с такой силой, что едва не разбивал пластиковое покрытие, а потом взлетел в воздух. Повис, трепыхаясь, на конце провода, совсем как наполненный гелием воздушный шар, привязанный за нитку. Лаура уже перестала чему-либо удивляться. Просто наблюдала, парализованная благоговейным трепетом. Она больше не боялась, холод и невероятность того, что происходило у нее перед глазами, превратили ее тело в статую. Треск электронных помех становился все более пронзительным, напоминая записанный на магнитофонную пленку вой падающей бомбы. Лаура посмотрела на Мелани и увидела, что девочка наконец-то начинает выходить из ступора. Она еще не открыла глаза, наоборот, плотнее сжала веки, но подняла маленькие ручки к ушам и открыла рот. Змейки дыма вырвались из чудесным образом подвешенного в воздухе радиоприемника. Он взорвался. Лаура закрыла глаза и опустила голову в самый момент взрыва. Осколки пластика пролетели над ней, угодили в руки, голову, кисти, правда, не нанеся особого вреда. Несколько больших кусков, соединенных с проводом, с грохотом упали на пол: невидимые руки больше не поддерживали радиоприемник. Штепсель выскочил из розетки, провод пополз по столику, тоже упал на пол рядом с обломками «Сони» и застыл. Когда раздался взрыв, Мелани наконец-то отреагировала на происходящее на кухне. Соскочила со стула еще до того, как перестали падать летящие обломки, на руках и коленях добралась до угла у двери во внутренний дворик. Усевшись там, закрыла голову руками и разрыдалась. В тишине, которой сменился вой радиоприемника, очень уж напоминающий крики баньши, рыдания эти проникали особенно глубоко. Каждое достигало сердца Лауры, толкая ее в пучину отчаяния и ужаса.* * *
Когда Дэн не отреагировал, Мондейл повторил вопрос. Вроде бы интересовался из чистого любопытства, но определенно преследовал какие-то свои, только ему ведомые цели. — Ты всегда прилагаешь особые усилия в расследовании тех дел, где ребенку причинен вред, из-за случившегося с твоими братом и сестрой? — Возможно. — Теперь Дэн сожалел о том, что рассказал Мондейлу о семейной трагедии. Но тогда они были молодыми копами, ездили на одной патрульной машине, и во время долгих ночных смен частенько говорили о своей жизни. Он многое поведал Мондейлу, слишком многое, прежде чем понял, что Мондейл ему не друг и никогда им не станет. — Возможно, это одна из причин, по которой я не хочу отказываться от этого расследования. Не хочу отказываться и из-за Синди Лейки. Неужели ты не видишь, Росс? Это еще один случай, когда женщина и ребенок в опасности, когда матери и дочери угрожает маньяк. Как он угрожал Френ и Синди Лейки. Так что, возможно, это мой шанс искупить грех. Шанс реабилитироваться за мою неудачу в попытке спасти Синди Лейки, шанс снять с себя хоть малую часть груза той вины. Мондейл в изумлении уставился на него. — Ты чувствуешь себя виноватым за смерть Синди Лейки? Дэн кивнул: — Мне следовало пристрелить Данбара в тот самый момент, когда он повернулся ко мне с пистолетом в руке. Не следовало ждать, не следовало давать ему шанс бросить пистолет. Если бы я сразу пристрелил его, он бы не вошел в дом. Мондейл заулыбался: — Но, послушай, ты же помнишь, какая тогда была ситуация. Еще хуже, чем сейчас. Большое жюри рассматривало не менее полудюжины обвинений в чрезмерной жестокости, выдвинутых против копов. И каждый говняный политический активист считал своим долгом подать в суд на все управление полиции. Хуже, чем сейчас. Даже когда не было сомнений в том, что коп стрелял, защищая свою жизнь, они требовали его голову. У всех тогда были права… за исключением копов. Копам предлагалось только стоять и получать пулю в грудь. Репортеры, политики, борцы за гражданские права, все воспринимали нас как жаждущих крови фашистов. Черт, ты же не можешь этого не помнить! — Я помню, — ответил Дэн. — Именно поэтому и не пристрелил Данбара, когда мог. Я же видел, что он очень возбужден, опасен. Интуитивно я знал: этим вечером он обязательно кого-нибудь убьет, но постоянно помнил о том, какое на нас оказывают давление, какие обвинения выдвигают против копов, нажимающих на спусковой крючок, и понимал: если я его пристрелю, мне придется держать за это ответ. А учитывая сложившуюся обстановку, меня никто бы не стал слушать. Мною бы пожертвовали. Я опасался потерять работу, опасался, что меня выгонят из полиции. Опасался загубить свою карьеру. Вот я и ждал, пока он вытащит пистолет, пока нацелит его на меня. И дал ему лишнюю секунду, потому что никак не мог решить, положиться ли на интуицию или на разум, а в результате он получил шанс убить Синди Лейки. Мондейл покачал головой: — Но твоей вины в этом нет. Винить нужно этих чертовых реформаторов, которые никак не желали понять, с чем мы каждодневно сталкиваемся, не знали, что творится на улицах. Винить нужно их. Не тебя. Не меня. Дэн зыркнул на него: — Не смей ставить нас на одну доску. Не смей. Ты сбежал, Росс. Я напортачил, потому что думал о своей заднице, о своей пенсии, в конце концов, тогда как следовало думать только об одном: как наилучшим образом выполнить порученную мне работу. Вот почему я продолжаю винить себя. Но не смей говорить, что вина у нас, что моя, что твоя, одинаковая. Не одинаковая. Это чушь собачья, и ты это знаешь. Мондейл пытался изобразить на лице сочувствие и понимание, но ему со все большим трудом удавалось сдерживать ярость. — А может, ты этого не знаешь, — продолжил Дэн. — И вот это, пожалуй, еще хуже. Может, ты не просто прикрываешь свою задницу. Может, ты действительно думаешь, что всегда виноват кто-то другой, но не ты. Не отвечая, Мондейл поднялся с ящика и направился к двери. — Твоя совесть действительно чиста, Росс? — спросил его спину Дэн. — Да поможет тебе бог, я чувствую, ты в этом не сомневаешься. Мондейл обернулся: — В этом расследовании ты делаешь все, что хочешь, но не попадайся мне на пути. — Ты ни разу не мучился бессонницей из-за Синди Лейки, так? — Я сказал, не попадайся мне на пути. — С радостью. — Я больше не хочу слушать твои слюнявые речи. — Будем надеяться, что не услышишь. Мондейл, не отвечая, открыл дверь. — С какой ты планеты, Росс? Мондейл переступил порог. — Готов спорить, на его родной планете есть только один цвет, — сообщил Дэн пустой комнате. — Коричневый. В том мире все должно быть коричневым. Вот почему он носит только коричневое. Такая одежда напоминает ему о доме. Шутка получилась так себе. Может, поэтому он и не смог заставить себя улыбнуться. Может, поэтому.* * *
На кухне все застыло. Ни единый звук не нарушал тишину. Воздух снова согрелся. — Все закончилось, — констатировал Эрл. К Лауре вернулась способность двигаться. Панель радиоприемника хрустнула под ее ногой, когда она пересекла кухню и опустилась на колени рядом с Мелани. Нежными словами, поглаживанием и похлопыванием она успокоила дочь. Вытерла слезы с лица ребенка. Эрл начал уборку, подбирая с пола куски «Сони», что-то бормоча себе под нос, недоумевая, еще не придя в себя от изумления. Лаура тем временем села на пол, усадила девочку себе на колени, обняла ее, принялась покачивать, безмерно радуясь тому, что ребенок по-прежнему с ней. Ей очень хотелось вычеркнуть из памяти события нескольких последних минут. Она бы многое отдала, чтобы сказать, что ничего такого не было и в помине. Но она была слишком хорошим психиатром, чтобы позволить себе даже подумать о том, что произошедшее на кухне — игра ее воображения, фокусы разума. Это было паранормальное явление. Сверхъестественный феномен не объяснялся тем, что органы чувств дали сбой. Они работали, как часы, четко и аккуратно фиксировали только то, что происходило у нее на глазах, хотя такого просто не могло быть. Она не смешивала некую последовательность реальных событий с событиями, которые происходили только в больном воображении, как случалось с шизофрениками. Да и Эрл видел, слышал, ощущал то же самое, что и она. Речь не могла идти о разделенной галлюцинации, массовом обмане. Случившееся попахивало безумием, отдавало невозможным… но случилось. В радиоприемник… что-то вселилось. Некоторые куски «Сони» еще дымились. Воздух пропитался запахом горелого. Мелани застонала. Дернулась. — Успокойся, сладенькая, успокойся. Девочка посмотрела на мать, и Лауру потряс визуальный контакт. Мелани не смотрела сквозь нее. Она опять вернулась в реальность из своего темного мира, и Лаура молила бога, чтобы на этот раз девочка вернулась навсегда, хотя надеяться на это не приходилось. — Я… хочу, — прошептала Мелани. — Что, сладенькая? Что ты хочешь? Глаза девочки не отрывались от глаз Лауры. — Мне… нужно. — Все, что угодно, Мелани. Все, что хочешь. Только скажи. Только скажи мамику, что тебе нужно. — ОНО доберется до них всех. — Голос Мелани осип от ужаса. Эрл оторвался от дымящихся обломков радио, повернулся к матери и дочери. — Что? — спросила Лаура. — Что доберется до них, сладенькая? — А потом оно… доберется… до меня. — Нет, — быстро ответила Лаура. — Ничто не доберется до тебя. Я позабочусь о тебе. Я… — ОНО… идет… изнутри. — Изнутри чего? — …изнутри… — Что это, сладенькая? Чего ты боишься? Что это? — …ОНО… придет… и съест меня… — … съест меня… всю. — И девочка задрожала всем телом. — Нет, Мелани. Не волнуйся об этом… — Она замолчала, увидев, что глаза девочки изменились. Нет, она еще не ушла в себя, но уже и не смотрела в глаза Лауре. Ребенок вздохнул, дыхание стало другим. А потом Мелани вновь оказалась в том странном месте, где пряталась с того момента, как ее нашли бредущей по улице в чем мать родила. — Док, вы можете это как-то объяснить? — спросил Эрл. — Нет. Потому что я ни черта не понимаю. — Я тоже. Чуть раньше, готовя обед, она уже с оптимизмом смотрела на будущее Мелани. Девочка медленно, но верно возвращалась к нормальному состоянию. Но теперь маятник резко качнулся в другую сторону, и Лаура снова не находила себе места от тревоги и страха. В этом городе были люди, которые хотели похитить Мелани для того, чтобы и дальше проводить с ней эксперименты. Лаура не знала, какие они ставили перед собой цели и почему выбрали Мелани, но в том, что они где-то рядом, сомнений у нее не было. И ФБР, похоже, придерживалось того же мнения. А еще были люди, которые хотели убить Мелани. Тело Неда Ринка, найденное на автостоянке больницы, неопровержимо доказывало, что жизнь Мелани в опасности. Но этим список недругов Мелани, которых она не знала в лицо, не исчерпывался. Появился новый враг. О нем шла речь в предупреждении, которое они получили с помощью радиоприемника. Но кто или что контролировало радиоприемник? И как? Кто или что послало предупреждение? И почему? А самое главное, кто был этим новым врагом? «Оно», — сказало радио, то есть получалось, что новый враг — не человек, возможно, нечто, более опасное. «Оно» на свободе, предупреждал радиоприемник. «Оно» идет. Они должны бежать, предупреждал радиоприемник. Они должны прятаться. От этого «оно». — Мамик? Мама? — Я здесь, сладенькая. С тобой. — М-ма-а-а-а-м-м-м-и-и-и-к! — Я здесь, рядышком. Все хорошо. Я рядышком. — Я… я… я… боюсь. Мелани обращалась не к Лауре, не к Эрлу. Она не слышала слов Лауры. Она говорила сама с собой тоном, который свидетельствовал о крайнем одиночестве, голосом потерявшегося, брошенного ребенка. — Так боюсь. Боюсь.Часть III. ДИЧЬ Среда. 20.00 — Четверг. 6.00
Глава 22
По-прежнему сидя за столом Джозефа Скальдоне в подсобке-кабинете магазина на бульваре Вентуры, Дэн Холдейн просматривал дискеты, которые достал из ящичка, стоявшего рядом с компьютером. Он прочитал надписи на наклейках и понял, что большинство из дискет не представляет для него никакого интереса. Но вот одну дискету, озаглавленную «СПИСОК ПОЧТОВЫХ АДРЕСОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ», определенно стоило просмотреть. Он вставил дискету в дисковод, включил компьютер, как только высветилось меню, щелкнул мышкой по соответствующим иконкам, вызвав на экран папку со списком покупателей. Она содержала двадцать шесть документов, по одному на каждую букву алфавита[48]. Открыв документ «М», он нашел Дилана Маккэффри и его адрес в Студио-Сити. В документе «X» нашел Вилли Хоффрица. В файле «К» — Эрнста Эндрю Купера, бизнесмена-миллионера, тело которого обнаружили в доме в Студио-Сити вместе с телами Маккэффри и Хоффрица. Дэн вызвал на экран документ «Р». И, конечно же, наткнулся на Неда Ринка. Он нашел ниточку, которая повязала все четыре жертвы: интерес к оккультизму и, более того, покупки в странном маленьком магазинчике безвременно покинувшего этот мир Джозефа Скальдоне. Он раскрыл файл «А», нашел адрес в Оджаи и телефонный номер Альберта Ахландера, автора нескольких томов по оккультизму, которые кто-то хотел вынести из дома Неда Ринка. Теперь эти книги лежали в багажнике полицейского седана без знаков отличия, которым пользовался Дэн. Кто еще? Подумав, он открыл документ «С» и поискал Реджину Саванну. Ту самую молодую женщину, которая находилась под полным контролем Хоффрица и из-за избиения которой ему пришлось уйти с кафедры психологии ЛАКУ. Она не значилась среди покупателей Скальдоне. Документ «Г». На всякий случай. Но Ирматруды Гелькеншеттль в списке он не нашел. Собственно, и не рассчитывал найти. Даже устыдился того, что решился на такую проверку. Но детектив, расследующий убийство, никому не мог доверять. Вызвав на экран файл «О», Дэн поискал Мэри Кэтрин О'Хара, секретаря общественной организации «Свобода теперь», в которой Купер и Хоффриц занимали должности соответственно президента и казначея. Вероятно, Мэри О'Хара не разделяла увлеченности своих коллег оккультной литературой в частности и оккультизмом вообще. Дэн не мог вспомнить, какие еще фамилии следовало бы посмотреть, но решил, что ему может попасться что-нибудь интересное, если он прочитает весь список. Поэтому отдал компьютеру команду его распечатать. Лазерный принтер через несколько секунд выдал первую страницу. Дэн схватил ее с подноса и просмотрел, пока машина продолжала работать. Двадцать фамилий с адресами, две колонки по десять в каждой. Ни одной знакомой. Он взял вторую страницу и в нижней части второй колонки увидел имя и фамилию, которые не просто были ему знакомы — поразили. Палмер Бут. Владелец «Лос-Анджелес джорнэл», наследник огромного состояния, но также один из самых удачливых бизнесменов Америки, Палмер Бут многократно приумножил доставшиеся ему капиталы. Он не только владел средствами массовой информации, в сфере его интересов находились недвижимость, банковское дело, производство фильмов, транспортные перевозки, высокие технологии, теле— и радиовещание, сельское хозяйство, выращивание породистых лошадей и, возможно, все остальное, что могло приносить прибыль. Он также играл активную роль в политике, добрых два десятка благотворительных фондов по праву считали его своим благодетелем, и все знали его как прагматика до мозга костей. И что теперь? Как стопроцентный прагматизм мог сосуществовать в одном человеке с верой в оккультизм? Почему многоопытный бизнесмен, прекрасно разбирающийся в неписаных правилах, методах и законах капитализма, является покупателем такого занюханного магазинчика, как «Пентаграмма»? Любопытно. Разумеется, Дэн никоим образом не мог утверждать, что Палмер Бут имел какие-то общие дела с такими людьми, как Маккэффри, Хоффриц, Ринк. Появление его фамилии в списке Скальдоне не связывало Бута с делом Маккэффри. Далеко не все люди, которые что-то покупали в «Пентаграмме», участвовали в этом заговоре. Тем не менее Дэн взял записную книжку Скальдоне, которая и вызвала столкновение с Мондейлом, открыл на букве Б, чтобы посмотреть, является ли Бут одним из многих покупателей. В записной книжке бизнесмен не значился. Сие указывало на то, что он всего лишь покупал в магазине какие-то книги и товары, связанные с оккультизмом. Дэн сунул руку во внутренний карман пиджака, достал записную книжку Дилана Маккэффри. Не нашел Бута и там. Тупик. Впрочем, он так и предполагал. Прежде чем убрать книжку Маккэффри, раскрыл ее на букве А. Интересовал его Альберт Ахландер. Конечно же, нашел, вместе с адресом в Оджаи и телефонным номером. Вновь заглянул в телефонную книжку Скальдоне. Ага, Альберт Ахландер, все те же адрес в Оджаи и телефонный номер. Писатель был не просто одним из покупателей магазина «Пентаграмма», а являлся составной частью проекта, каким бы он ни был, в котором участвовали Маккэффри и Хоффриц. Веселенькая подобралась компания. Дэн задался вопросом, а чем они занимались, когда собирались вместе? Сравнивали любимые сорта говна летучих мышей? Украшали наиболее вкусные блюда змеиными глазами? Обсуждали планы всеобщей «промывки мозгов» и установления контроля над всем миром? Пытали маленьких девочек? Принтер отпечатал пятнадцатую и последнюю страницу задолго до того, как Дэн успел просмотреть первые четырнадцать. Он собрал их, скрепил степлером, сложил пополам и убрал в карман. В списке покупателей значились почти триста фамилий, и он хотел просмотреть их позже, дома, в одиночестве, за бутылкой пива, когда его бы ничто не отвлекало. Он заметил пустую коробку из-под бумаги и сложил в нее записные книжки Дилана Маккэффри и Скальдоне. А также несколько других предметов. Вынес коробку из подсобки-кабинета, пересек магазин, где сотрудники службы коронера упаковывали в мешок изуродованное донельзя тело Скальдоне, и вышел на улицу. Толпа зевак уменьшилась, возможно, потому, что ночь выдалась холодной. Несколько репортеров все еще болтались около оккультного магазина, ссутулившись, сунув руки в карманы, дрожа от холода. Ледяной ветер дул вдоль бульвара Вентуры, высасывая из города и его обитателей остатки тепла. Тяжелый, влажный воздух придавливал к земле. Чувствовалось, что ночью снова пойдет дождь. Нолан Суейз, самый молодой из полицейских, охранявших магазин «Пентаграмма», взял коробку, когда Дэн протянул ее ему. — Нолан, я хочу, чтобы ты отвез все это в участок Ист-Вэлью и отдал в канцелярию. Среди прочего здесь две записные книжки. Я хочу, чтобы содержимое обеих переписали и завтра утром каждый из детективов специальной группы, которая занимается этим расследованием, получил свой экземпляр. — Будет сделано, — ответил Суейз. — Здесь еще дискета. Я хочу, чтобы все файлы распечатали и также раздали детективам. Это ежедневник. — Копии всем? — Ты быстро учишься. Суейз кивнул: — Со временем я собираюсь стать начальником полиции. — Попутного тебе ветра. — Хочу, чтобы мама мной гордилась. — Если такова твоя цель, возможно, лучше остаться патрульным. Здесь еще пачка накладных… — Вы хотите, чтобы всю информацию перенесли на более удобный для работы формат? — Точно, — кивнул Дэн. — И копии для всех. — Может, ты станешь даже мэром. — У меня уже есть слоган моей предвыборной кампании: «Давайте изменим наш город к лучшему». — Почему нет? В последние тридцать лет точно такой же слоган срабатывал для каждого кандидата. — Это… — Чековая книжка. — Вы хотите, чтобы всю информацию с корешков переписали и копии раздали всем детективам? Может, я смогу стать даже губернатором. — Нет, тебе не понравится эта работа. — Почему нет? — Придется жить в Сакраменто[49]. — А ведь вы правы. Я предпочитаю цивилизацию.* * *
С обедом они припозднились, потому что пришлось прибираться на кухне. Воду для спагетти вылили: в ней плавали кусочки радиоприемника. Лаура вымыла кастрюлю, вновь наполнила водой, поставила на плиту. К тому времени, когда они сели за стол, есть ей уже совершенно расхотелось. Она думала о радиоприемнике, в который вселился странный, демонический дух, и эти воспоминания напрочь отшибали аппетит. Воздух наполняли ароматы чеснока, томатного соуса, «пармезана». Но сквозь них пробивались запахи сгоревшего пластика и горячего металла, которые словно доказывали присутствие злого духа, какое-то время обитавшего в радиоприемнике. Эрл Бентон съел больше, чем она, но ненамного. И говорил мало. Смотрел в основном на свою тарелку, сосредоточенно жевал, лишь изредка переводил взгляд на тот столик, где стоял радиоприемник. Присущая ему уверенность в себе уже не проглядывала. В глазах застыло отсутствующее выражение. Мелани тоже смотрела куда-то далеко-далеко, но съела больше, чем Лаура и Бентон. Иногда жевала медленно и рассеянно, но, случалось, вдруг начинала набивать рот и торопливо, не разжевывая, все проглатывала, будто испытывала волчий голод. Когда Лаура кормила дочь, то и дело вытирая соус с подбородка ребенка, она не могла не подумать о собственном детстве. Ее мать, Беатрис, была религиозной фанатичкой, которая не разрешала дочери петь, танцевать и читать книги, за исключением Библии и некоторых религиозных трактатов. Она вела жизнь отшельницы и приложила немало усилий для того, чтобы Лаура оставалась застенчивой, шарахающейся от всех, боящейся окружающего мира девушкой. И Беатрис, несомненно, только порадовалась бы, если бы Лаура стала такой, как нынешняя Мелани. Она бы истолковала кататонию как отвержение греховного мира плоти, как тесную связь с богом. Беатрис не просто не сумела бы помочь Лауре вернуться в реальный мир. Она бы не захотела это делать. «Но я могу тебе помочь, сладенькая, — думала Лаура, вытирая очередной красный потек с подбородка дочери. — Я могу и хочу помочь тебе найти обратный путь в наш мир, Мелани. Только протяни мне руку, только позволь помочь». Голова Мелани упала. Она закрыла глаза. Лаура намотала на вилку очередную порцию спагетти, поднесла к губам девочки, но ребенок не отреагировал, возможно, даже заснул. — Давай, Мелани, открывай ротик. Тебе нужно немножко поправиться, сладенькая. Что-то громко щелкнуло. Эрл Бентон оторвал глаза от тарелки. — Что это? Но, прежде чем Лаура успела ответить, дверь во внутренний дворик с силой распахнулась. Цепочку с хрустом вырвало из дверного косяка. А щелкнул открывающийся врезной замок. И открылся он сам по себе. Эрл вскочил, стул повалился на пол. Из внутреннего дворика за домом, из темноты и ветра, что-то вошло в дом.* * *
В 21.15, поговорив с владельцем соседнего с «Пентаграммой» магазинчика и ничего не узнав, Дэн заглянул в «Макдоналдс» за обедом. Купил два чизбургера, большую порцию картофеля-фри, диет-колу и поел в седане, одновременно пытаясь найти Реджину Саванну с помощью установленного в автомобиле портативного компьютера. Дисплей располагался на приборном щитке, под удобным углом, так что Дэну не приходилось нагибаться, чтобы прочитать появляющуюся на нем информацию. Клавиатуру аккуратно вмонтировали в консоль между сиденьями. За последние два года такими компьютерами оснастили все патрульные машины УПЛА и половину полицейских седанов, которые со стороны ничем не отличались от автомобилей частных владельцев. Портативные компьютеры по закрытой частоте были связаны с подземным, хорошо защищенным командно-коммуникационным центром полиции, а уж через него получали доступ к различным базам данных как государственных учреждений, так и частных компаний. Откусив кусок чизбургера, Дэн завел двигатель, включил компьютер, ввел личный код доступа, вошел в базу данных телефонной компании, запросил номер Реджины Саванны по любому адресу в Большом Лос-Анджелесе. Через несколько секунд на экране появились зеленые слова:НЕ ЧИСЛИТСЯ: САВАННА, РЕДЖИНАОн потребовал вывести на экран не включенные в справочник номера, отведенные Р. или Реджине Саванне, но и тут получил негативный ответ. Бросил в рот несколько ломтиков картофеля. Экран светился, терпеливо ожидая команды. Он связался с департаментом транспортных средств и отдал команду на поиск водительского удостоверения, выданного Реджине Саванне. Такого удостоверения в Калифорнии не выдавали. Снова тупик. Обдумывая новый запрос и наблюдая за проносящимися по улице автомобилями, он доел первый чизбургер. Вновь связался с ДТС и попросил отыскать водительские удостоверения, выданные всем Реджинам, второе имя которых было Саванна. Может, она вышла замуж, а девичью фамилию оставила, как второе имя. На этот раз удача улыбнулась ему. На экране высветилось:
РЕДЖИНА САВАННА ХОФФРИЦДэн вытаращился на экран, не веря своим глазам. Хоффриц? Мардж Генкельшеттль ничего ему об этом не говорила. Неужели эта девушка вышла замуж за человека, который избил ее до такой степени, что она попала на больничную койку? Нет. Согласно имеющейся у него информации, Хоффриц не был женат. Дэн еще не побывал в доме Хоффрица, но он прочитал его досье, и в нем ничего не говорилось ни о жене, ни о семье. И сейчас другие детективы разыскивали ближайшую родственницу убитого. Сестру, которая жила то ли в Детройте, то ли в Чикаго, чтобы она занялась похоронами. Мардж Гелькеншеттль сказала бы ему о том, что Реджина и Хоффриц поженились. Но, с другой стороны, она могла этого и не знать. Согласно файлу ДТС, Реджина Саванна Хоффриц была женского пола, с черными волосами и карими глазами. Ростом в пять футов шесть дюймов, весом в сто двадцать четыре фунта. Родилась она 3 июля 1971 года. Мардж говорила о девушке примерно такого возраста. Имелся и адрес, на Голливудских холмах, и Дэн переписал его в свой блокнот. Вильгельм Хоффриц жил в Уэствуде. Если он женился на Реджине Саванне, почему они держали два дома? Развелись? Вполне возможно. Однако, даже если дело и закончилось разводом, сам факт женитьбы следовало рассматривать как странность. Какая это для нее была жизнь, с садистом, который промыл ей мозги и добился полного контроля над ней, который так сильно избил ее, что она оказалась в больнице? Если Хоффриц так жестоко обошелся с ней, когда она была его студенткой и он подвергал опасности свою карьеру, не хотелось даже думать о том, что он стал с ней вытворять, когда она стала его женой и они оставались вдвоем под крышей собственного дома? От одной этой мысли по коже Дэна побежали мурашки.
* * *
Эрл Бентон держал пистолет в руке, но то, что вошло на кухню из темноты, он не смог бы остановить даже целой обоймой патронов тридцать восьмого калибра. Когда дверь полностью распахнулась, ударившись о стену, на кухню ворвался холодный воздушный смерч, свистом, ревом, воем напоминающий дикого зверя. Но если тело зверя было из воздуха, то шкура — из цветов, потому что кухня внезапно наполнилась цветами, желтыми, красными, белыми розами, самых разнообразных оттенков, многими десятками роз, что росли за домом, некоторые со стеблями, какие-то — без, одни сорванные, другие выдернутые из земли с корнем. Ветер-зверь отряхнулся. И цветочная шкура, словно волосинки, отбросила порванные листья, яркие лепестки, изломанные стебли, комья влажной земли, прилипшие к корням. Календарь сорвался со стены и, пролетев полкухни на бумажных крыльях, рухнул на пол. Занавески поднялись к потолку, окна пытались сорваться со шпингалетов и присоединиться к этому демоническому танцу неживого. Земля полетела в Эрла, роза ударила в лицо, шип ткнулся в шею, когда цветок отлетал от него. Он поднял левую руку, чтобы защититься. Увидел, как Лаура Маккэффри прикрывает своим телом дочь, и почувствовал себя совершенно беспомощным перед такой вот аморфной угрозой. Дверь захлопнулась так же внезапно, как распахнулась. Но колонна цветов продолжала вращаться, как будто поддерживающий ее ветер не был частью того ветра, что ревел снаружи, в ночи, и существовал сам по себе. Невозможно, конечно. Безумие. И при этом реальность. Вихрь выл, шипел, плевался листьями, цветками, оторванными стеблями, стряхивал с корней новые комья земли. В своей многодырной шкуре из вращающейся растительности ветер-зверь оставался у самой двери, хотя его дыхание ощущалось в каждом углу кухни, словно наблюдал за людьми, решал, что делать дальше… а потом исчез. Ветер не стихал, его отрезало, как ножом. Оставшиеся цветы, которые еще не успели разлететься, с мягким шелестом свалились на плитки пола. И воцарилась тишина.* * *
В полицейском седане, стоявшем у «Макдоналдса», Дэн оборвал связь с компьютером ДТС и вновь связался с базой данных телефонной компании. Тут же получил адрес и телефонный номер Реджины Хоффриц. Они совпали с адресом и номером, полученными в ДТС. Дэн посмотрел на часы. 9.32. Он работал с портативным компьютером чуть больше десяти минут. В старые времена, до появления компьютеров, на сбор этой информации у него ушло бы как минимум два часа. Он выключил экран, и в кабину заползла более глубокая темнота. Доедая второй чизбургер и запивая его колой, Дэн думал о быстро изменяющемся мире, в котором жил. Новом мире, научно-фантастическом обществе, которое развивалось с невероятной скоростью. Жизнь в такое время радовала и пугала одновременно. Человечество обрело способность достичь звезд, сделать гигантский прыжок из этого мира и распространиться по всей Вселенной, но обрело также и способность уничтожить себя до начала экспансии в космос. Новые технологии, скажем, компьютер, освобождали мужчин и женщин от утомительного труда, экономили массу времени. И однако… И однако сэкономленное время не использовалось для досуга или медитации, раздумий. Вместо этого каждая технологическая волна только ускоряла ход жизни, прибавлялось дел, приходилось принимать все больше решений, появлялась возможность обрести новые навыки, и люди хватались за эту возможность, в результате чего свободного времени просто не оставалось. Каждый последующий год пробегал быстрее предыдущего, словно господь бог потерял контроль над потоком времени. Впрочем, для многих людей сама идея бога соотносилась исключительно с далеким прошлым, когда вселенную заставляли каждодневно расставаться со своими тайнами. Наука, технология, перемены — этим богам поклонялись сейчас, новой Троице. И пусть не такие жестокие и суровые, как некоторые из прежних богов, они, в своем крайнем безразличии, не могли утешить больных, одиноких, заблудших. Как мог магазин, подобный «Пентаграмме», процветать в век компьютеров, удивительных лекарств, космических кораблей? Кто мог в поисках ответов поворачиваться к оккультизму, когда физики, биохимики и генетики чуть ли не ежедневно выдавали на-гора больше ответов, чем все гадальные доски и призраки дали с незапамятных времен? Почему люди науки, ученые, такие, как Дилан Маккэффри и Вильгельм Хоффриц, вели какие-то дела с торговцем дерьмом летучей мыши и прочей хренью? Да потому, что не верили, что это хрень. Какие-то аспекты оккультизма, какие-то паранормальные феномены, должно быть, интересовали Маккэффри и Хоффрица, и они полагали, что эти феномены можно использовать в их исследованиях. Каким-то образом они хотели соединить науку и магию. Но как? И почему? Когда Дэн допил диет-колу, ему вдруг вспомнился обрывок стихотворения:* * *
Лаура в ужасе оглядывалась, не веря своим глазам. Земля, цветы, листья, мусор покрывали кухонный стол, тарелки с недоеденным обедом. Измочаленные розы валялись на полу, на столиках у стен. Красные и желтые бутоны торчали из раковины. Одна белая роза зацепилась за ручку холодильника, зеленые листочки и лепестки налипли на занавески, стены, дверцы столиков, буфетов, полок. Груда грязи, зелени, разноцветных бутонов лежала на том месте, где умер воздушный вихрь. — Уходим отсюда. — Эрл все еще сжимал в руке пистолет. — Но тут такой беспорядок, — запротестовала Лаура. — Позже. — Он подошел к Мелани, поднял то ли спящую, то ли ушедшую в себя малышку со стула. — Но я должна все убрать… — Лаура, похоже, не очень-то понимала, что происходит. — Уходим, уходим. — В голосе Эрла слышалось нетерпение. От здорового цвета кожи деревенского парня не осталось и следа. Лицо побледнело, приобрело восковой оттенок. — В гостиную. Она не двигалась с места, оглядывая замусоренную кухню. — Уходим, — в который уже раз повторил Эрл, — пока в эту дверь не войдет что-нибудь похуже.Глава 23
Реджина Саванна Хоффриц жила на одной из наименее дорогих улиц Голливудских холмов. Ее дом являл собой пример эклектико-анархической архитектуры, редко встречающейся в Калифорнии, но именно на такие дома обычно указывали шовинистически настроенные ньюйоркцы, когда хотели подчеркнуть отсутствие вкуса у обитателей Западного побережья. Судя по использованию кирпичной кладки и выставленным напоказ балкам, дом строили в стиле английских Тюдоров, но резные карнизы характеризовали уже викторианский стиль, а ставни — американский колониальный. А вот большие бронзовые каретные фонари, установленные по обе стороны парадной двери и у гаража, Дэн уже не смог отнести к какому-то конкретному периоду. На съезде с улицы гостя встречали две оштукатуренные колонны. Их венчали железные кованые фонари, так непохожие на бронзовые. На подъездной дорожке стоял черный «Порше». В ярком и резком свете фонарей плавными изгибами длинного корпуса автомобиль напоминал какого-то жука. Дэн нажал на кнопку звонка, достал полицейское удостоверение, подождал, сутулясь под холодным ветром. Позвонил снова. Дверь открылась, но на чуть-чуть, сдерживаемая цепочкой. Половина очаровательного личика уставилась на него: роскошные черные волосы, фарфоровая кожа, один большой и ясный карий глаз, половина точеного носа с аккуратненькой ноздрей, половина полных, чувственных губ. — Да? — спросила женщина. Голос мягкий, с придыханием. И хотя такой голос могла даровать ей природа, тем не менее он звучал фальшиво, картинно. — Реджина Хоффриц? — спросил Дэн. — Да. — Лейтенант Холдейн. Полиция. Я бы хотел поговорить с вами. О вашем муже. Она сощурилась, разглядывая удостоверение. — Каком муже? Он уловил новые нотки в ее голосе: уступчивость и слабость. Похоже, требовалась только команда, и она сделала бы все, что у нее попросили бы. И он не думал, что это как-то связано с его принадлежностью к полиции. Он подозревал, что такой она была всегда и со всеми. Вернее, стала такой после того, как Вилли Хоффриц изменил ее психику. — Вашем муже. Вильгельме Хоффрице. — Ох. Одну минуту. Она закрыла дверь, и последняя оставалась закрытой десять секунд, двадцать, полминуты, дольше. Дэн уже собрался позвонить вновь, когда услышал, как изнутри снимают цепочку. Дверь распахнулась. Реджина отступила назад, и Дэн прошел мимо трех чемоданов, стоявших по одну сторону двери. В гостиной сел в кресло, а она устроилась на диване. Скромность что манеры, что позы тем не менее оказывала очень сильное эротическое воздействие. Но при всей красоте Реджины чувствовалось, что с ней что-то не так. Слишком уж подчеркивала она свою женственность. Идеально уложенные волосы, безупречный макияж создавали ощущение, что она приготовилась к съемке рекламного ролика компании «Ревлон». Кремовый, до пола, шелковый халат плотно облегал талию с тем, чтобы подчеркнуть высоту грудей, плоскость живота, пышность бедер. Кружева украшали лацканы, манжеты, подол халата. На нежной шее у нее было золотое плетеное ожерелье в форме ошейника. Такие ожерелья, плотно облегающие шею, были в моде многие годы тому назад. В наши дни большинство женщин такие украшения не носили, но среди садомазохистских пар на них по-прежнему был спрос, потому что они рассматривались как символ сексуальной подчиненности. И хотя Дэн видел Реджину только минуты, он знал, что она носит золотой собачий ошейник, дабы показать свою мазохистскую сущность, ибо раздавленность и покорность ее души наглядно читались и в том, как смиренно она двигалась (словно ожидая, причем с радостью, удара, пощечины, даже пинка), и в том, что избегала встретиться с Дэном взглядом. Теперь же она ждала вопросов. Какое-то время он молчал, прислушиваясь к дому. Цепочку Реджина сняла не сразу, вот он и заподозрил, что в доме она не одна. Должно быть, с кем-то проконсультировалась и, получив разрешение, впустила детектива в дом. Но царящая в доме тишина вроде бы говорила о том, что в других комнатах никого нет. Полдюжины фотографий стояли на кофейном столике, все Вилли Хоффрица. По крайней мере, именно он смотрел на Дэна с трех, повернутых к нему. Все то же ничем не запоминающееся лицо, все те же широко посаженные глаза, те же пухлые щечки и толстый нос, которые он уже видел на водительском удостоверении, найденном в бумажнике одного из мужчин, убитых в Студио-Сити прошлой ночью. — Я уверен, вы знаете, что ваш муж мертв, — наконец нарушил затянувшееся молчание Дэн. — Вы про Вилли? — Да, про Вилли. — Я знаю. — Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. — Не уверена, что смогу помочь вам, — говорила она мягко, кротко, не отрывая взгляда от своих рук. — Когда вы в последний раз видели Вилли? — Более года тому назад. — Вы развелись? — Ну… — Стали жить раздельно? — Да, но… не в том смысле, что вы имеете в виду. Ему очень хотелось, чтобы она посмотрела на него. — Тогда скажите, что имеете в виду вы. Она нервно поерзала на диване. — Мы никогда не… регистрировали наш брак. — Не регистрировали? Но у вас же его фамилия? Она кивнула, продолжая разглядывать свои руки. — Да, он позволил мне изменить мою. — Вы пошли в суд, изменили фамилию на Хоффриц. Когда? Почему? — Два года тому назад. Потому что… потому что… вы не поймете. — А вы попробуйте мне объяснить. Реджина ответила не сразу, и Дэн, ожидая, пока она заговорит, оглядел комнату. На каминной доске над белым кирпичным камином увидел еще одну галерею фотографий Вилли Хоффрица: восемь штук. И хотя в доме было тепло, у Дэна, когда он смотрел на аккуратно расставленные, в серебряных рамках, фотографии убитого психолога, создалось ощущение, что он перенесся в январскую ночь в Скалистых горах. — Я хотела показать Вилли, что полностью принадлежу ему, полностью и навсегда. — Он не возражал против того, чтобы вы взяли его фамилию? Не говорил, что благодаря этому вы сможете подать на него в суд, потребовать алименты? — Нет, нет, я бы никогда такого не сделала. Он знал, что тут ему опасаться нечего. О, нет. Невозможно. — Если он хотел, чтобы вы носили его фамилию, почему не женился на вас? — Он не хотел жениться. — В голосе слышались разочарование и сожаление. И хотя Реджина сидела, опустив голову, Дэн увидел, как грусть, словно внезапно возросшая сила тяжести, потянула лицо вниз. Однако любопытство свое Дэн еще не утолил. — Он не собирался жениться на вас, но хотел, чтобы вы носили его фамилию. Чтобы показать, что вы… принадлежите ему. — Да. — Взять его фамилию… все равно что поставить на себя клеймо? — О, да, — сипло прошептала она, и при воспоминании об этом странном акте покорности на ее лице расцвела улыбка истинного наслаждения. — Да. Все равно что поставить на себя клеймо. — Похоже, он был чудный парень, — сказал Дэн, но она не уловила иронии в его голосе, поэтому Дэн решил ее встряхнуть, вывести из образа побитой собачонки. — Господи, да он же был законченным самовлюбленным эгоистом! Она вскинула голову, наконец-то встретилась с ним взглядом. — О, нет! — Она нахмурилась. Говорила без злобы или нетерпения, с теплотой, всеми силами стараясь исправить, как ей представлялось, неправильное восприятие характера покойного. — Нет. Только не Вилли. Такого, как Вилли, больше не будет. Удивительный человек. Я бы сделала для него все, что угодно. Все. Уникальный человек. Вы его не знали, а не то не сказали бы о нем дурного слова. Не смогли бы. Не смогли бы, если б знали Вилли. — Однако есть люди, которые его знали, и они отзывались о нем далеко не лестно. Я уверен, вы в курсе. Она вновь уставилась на свои руки. — Все они завистливые, ревнивые, злобные подонки. — Голос остался прежним, мягким, сладким, невероятно женственным, словно ей запретили марать свою женственность резкостью тона или каким-либо иным проявлением злости. — Его вышибли из ЛАКУ. Она промолчала. — Из-за того, что он сделал с вами. Реджина продолжала молчать, избегая встретиться с Дэном взглядом, но опять заерзала на диване. Халат открылся, обнажив идеальной формы бедро. Синяк, размером с монету в полдоллара, темнел на кремовой коже. Два синяка поменьше виднелись у колена. — Я хочу, чтобы вы рассказали мне о Вилли. — Не буду. — Боюсь, вы должны. Она покачала головой. — Что он делал с Диланом Маккэффри в Студио-Сити? — Против Вилли я не скажу ни слова. И мне все равно, что вы со мной сделаете. Посадите меня в тюрьму, если хотите. Мне наплевать. — Она говорила спокойно, но чувствовалось, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. — Слишком много сказано о Вилли плохого людьми, которые недостойны лизать ему ботинки. — Реджина, посмотрите на меня, — попросил Дэн. Реджина поднесла руку ко рту, принялась мягко жевать большой палец. — Реджина? Посмотрите на меня, Реджина. Нервно продолжая то ли жевать, то ли сосать большой палец, она подняла голову, но не встретилась с ним взглядом. Смотрела поверх его плеча, ему за спину. — Реджина, он же вас бил. Молчание. — Это из-за него вы попали в больницу. — Я его любила, — проговорила она, не вынимая палец изо рта. — Он опробовал на вас изощренную технику «промывки мозгов», Реджина. Каким-то образом забрался в ваш разум и изменил вас, извратил вашу психику, и все это не характеризует его как милого и удивительного человека. Слезы потекли у нее по щекам, лицо перекосило от горя. — Я так любила его. Когда Реджина поднесла руку ко рту, рукав соскользнул вниз. Дэн увидел маленький синяк у сгиба локтя, а на запястье вроде бы следы от веревок. Она сказала ему, что не видела Вилли Хоффрица год, но кто-то играл с ней в ту же садомазохистскую игру, причем совсем недавно. Дэн скользнул взглядом по фотографиям мертвого психолога, стоящим на кофейном столике. Воздух внезапно стал густым, маслянистым, грязным. И именно желание глотнуть свежего воздуха едва не заставило его подняться и броситься к двери. Но он остался на месте. — Как вы могли любить человека, который причинял вам боль? — Он освободил меня. — Нет, поработил вас. — Он освободил меня, позволил стать такой… — Какой? — Какой я хотела быть. — И какой вы хотели быть? — Какая я сейчас. — И какая вы? — Готовая сделать все, чего от меня хотят. Слезы более не текли. Улыбка изогнула кончики рта, когда она обдумывала свою последнюю фразу. — Готовая сделать все, чего от меня хотят, — повторила она, и по ее телу пробежала дрожь, словно сама мысль о том, что она — рабыня, доставляла ей сладострастное удовольствие. С нарастающими раздражением и злостью Дэн спросил: — Вы говорите мне, что родились только для того, чтобы выполнять все желания Хоффрица, родились только для того, чтобы стать такой, какой он вас сделал? — Я готова делать все, чего от меня хотят, — повторила Реджина, теперь уже глядя Дэну в глаза. Он бы предпочел, чтобы она смотрела ему за спину, потому что увидел, или вообразил, что увидел, муку, презрение к себе и отчаяние такой глубины, что у него защемило сердце. Ему открылась душа в лохмотьях. Потрепанная, затасканная, вымазанная в грязи душа. В этом зрелом, исключительно чувственном теле, под маской покорной женщины-ребенка скрывалась другая Реджина, лучшая Реджина, пойманная в ловушку, похороненная заживо, обложенная психологическими блоками, выставленными Хоффрицем, но неспособная выскользнуть из-за них, даже не представляющая себе, что у нее есть возможность выскользнуть. В эти короткие мгновения возникшего между ними контакта Дэн увидел настоящую женщину, женщину, которая существовала до того, как появился Хоффриц и превратил ее в куклу, послушную марионетку, готовую терпеть любые унижения и истязания, видящую в этом радость жизни. И эта женщина хотела, чтобы к ней поднесли спичку, которая воспламенила бы ее и сожгла. В ужасе он не мог отвести глаза. Так что первой посмотрела в пол она. Он испытал безмерное облегчение. И тошноту. Губы пересохли. Язык прилип к нёбу. — Вы знаете, какими исследованиями занимался Вилли после того, как его вышибли из ЛАКУ? — Нет. — Над каким проектом он работал вместе с Диланом Маккэффри? — Не знаю. — Вы видели серую комнату в доме в Студио-Сити? — Нет. — Вы знаете человека, которого зовут Эрнст Эндрю Купер? — Нет. — Вы знаете Джозефа Скальдоне? — Я бы хотела, чтобы вы ушли. — Неда Ринка? — Нет. Никого не знаю. — Что эти люди делали с Мелани Маккэффри? Что они от нее хотели? — Не знаю. — Кто финансировал их исследования? — Не знаю. В том, что она лжет, Дэн не сомневался. Помимо Уверенности в собственных силах, самоуважения и независимости, она также лишилась способности хитрить и изворачиваться. Теперь, когда Дэн видел Реджину и понял, сколь чудовищно изменили ее психику, он полностью потерял уважение к Хоффрицу как к человеку, но зато его даже больше, чем прежде, пугала способность Хоффрица манипулировать людьми, его дьявольская жестокость, его черный гений, и детектив, как никогда раньше, отдавал себе отчет в том, что это расследование необходимо закончить в максимально короткие сроки. Если Хоффриц так давно смог полностью трансформировать Реджину, оставалось только гадать, что ему удалось сделать на пару с Диланом Маккэффри, учитывая, что для этого у них было больше времени и финансовых ресурсов. Дэн физически ощущал, что отведенный ему срок быстро подходит к концу. Хоффриц запустил какую-то ужасную машину уничтожения, и скоро она подомнет под себя и раздавит гораздо больше людей, если не удастся понять, что это за машина, определить ее местонахождение и остановить ее. Реджина ему лгала, и он не мог ей такого позволить. Ему требовалось получить некоторые ответы, и быстро, пока еще оставалась возможность помочь Мелани.Глава 24
Они ретировались из заваленной изломанными цветами и землей кухни, но Лаура не чувствовала себя в большей безопасности. Одно странное событие следовало за другим после того, как во второй половине дня они вернулись домой. Сначала Мелани проснулась, крича в ужасе, принялась бить и царапать себя, словно превратилась в религиозную фанатичку, изгоняющую дьявола из своей плоти. Потом ожил радиоприемник, и, наконец, в дверь ворвался смерч. Если бы кто-нибудь сказал Лауре, что в доме поселились призраки, она бы не стала возражать. Вероятно, и Эрл не чувствовал себя в гостиной в большей безопасности. Он остановил Лауру, когда та пыталась заговорить. Отвел ее и Мелани в кабинет, нашел блокнот и ручку в ящике стола, быстро что-то написал. Удивленная его загадочным поведением, Лаура подошла к нему и прочитала послание. «Мы уходим из дома». Лаура согласилась с таким решением. Она живо помнила предупреждение, переданное радиоприемником: «Оно идет». Наполненный цветами смерч стал еще одним предупреждением. Оно шло. Оно хотело Мелани. И Оно знало, где они находятся. Эрл продолжил писать: «Соберите вещи, свои и Мелани». Очевидно, он исходил из того, что в доме установлены подслушивающие устройства. И полагал, что не сможет увезти Лауру и Мелани, если те, кто слушает, узнают об их планах покинуть дом. Лаура нашла это предположение логичным. Люди, которые финансировали исследования Дилана и Хоффрица, наверняка хотели знать, где находится Мелани в любой момент, чтобы, воспользовавшись первым предоставившимся шансом, убить ее или похитить. И ФБР хотело держать Мелани под постоянным контролем, чтобы иметь возможность схватить тех, кто нацелился на Мелани. Если только в первую очередь само ФБР и не хотело захватить Мелани. У Лауры вновь возникло ощущение, что из реальной жизни она перенеслась в кошмарный сон. Может, не весь мир ополчился на них, но создавалось именно такое впечатление. Хуже того, до них стремились добраться не только люди, но и какая-то нежить. Прячьтесь. Именно этим они и собирались заняться. Но уехать следовало так, чтобы никто не сел им на хвост и не смог найти. Лаура схватила карандаш и написала: «Куда мы поедем?» — Позже, — ответил он. — Сейчас нам нужно торопиться. Оно шло. В спальне он помог Лауре собрать два чемодана, один с вещами Мелани, второй — с ее. Оно шло. Фактически Лаура понятия не имела, что это за Оно, собственно, чувствовала себя довольно-таки глупо, поверив в существование этого Оно, но от этих вроде бы логичных рассуждений страх ее ни на йоту не уменьшался. Собрав чемоданы и одевшись к выходу, Лаура принялась звать Перца. Но кот не реагировал на ее зов, а быстрый осмотр дома не позволил обнаружить его. Перец спрятался, и спрятался так, чтобы его не нашли. Подобным же образом в сложившихся обстоятельствах поступил бы каждый уважающий себя кот. Через прачечную они прошли в гараж. Не стали выключать свет в комнатах, чтобы не выдавать своих намерений. Эрл положил чемоданы в багажник синей «Хонды» Лауры. Ей и в голову не пришло спрашивать, почему они едут на ее автомобиле, а не на его. Эрл припарковался на улице и, если бы агенты ФБР, которые сидели в фургоне, увидели ее и Мелани, идущих к автомобилю Эрла, то сразу бы поняли, куда они идут и почему. Возможно, попытались бы помешать им. Конечно, их торопливый отъезд мог быть и ошибкой. Не следовало исключать вероятность того, что агенты ФБР дежурили у дома, чтобы помочь им при неблагоприятном развитии событий. Но, с другой стороны, они могли быть не союзниками, а врагами. Так или иначе, в сложившейся ситуации полностью она могла доверять только Эрлу Бентону. Он усадил Мелани за заднее сиденье, закрепил ремень безопасности. Лаура обернулась с переднего сиденья, и внешность дочери ее поразила. В закрытом гараже, при свете лампочки под крышей салона, изможденное лицо девочки чуть округлилось. Рассеянный молочно-белый свет смягчил глубокие складки и заостренные черты лица. Впервые Лаура поняла, какой красавицей станет ее маленькая дочка, когда немного наберет вес. Со временем несколько лишних фунтов и спокойствие души могли изменить девочку разительным образом. В мгновение ока Лаура смогла разглядеть заложенный в девочке потенциал, увидела знакомое в чужом, красоту, еще скрытую под серой вуалью. Время, словно кисть художника, будет наносить новые впечатления и эмоции на еще не забывшуюся агонию, и когда слой краски дней, недель, месяцев, лет станет достаточно плотным, он скроет под собой ужас, который выпал на ее долю, когда она была с отцом. Мелани более не будет угловатым, исхудалым, странным существом со смертельно бледной кожей и глазами загнанного зверька; станет очень и очень красивой. И, как только Лаура это поняла, надежда ее вспыхнула с новой силой. Более того, мягкий свет и ласкающие тени позволили ей увидеть в дочери немалую часть себя, что произвело на нее огромное впечатление. Разумом она знала, что Мелани похожа на нее, очевидность сходства генов ясно читалась на лице ребенка, несмотря на маску страданий, но только теперь Лаура признала это сходство на каком-то глубоком эмоциональном уровне. Увидев себя в дочери, она еще сильнее осознала, что страдания Мелани — ее страдания и она не узнает счастья, пока не будет счастлива Мелани. И если осознание красоты девочки разожгло надежду, то мысли о том, что пришлось вынести Мелани, укрепили желание Лауры выяснить правду и победить врагов, даже если воевать пришлось бы со всем миром. Эрл сел за руль. Посмотрел на Лауру. — Следующие несколько минут будут безумными, — предупредил он. — К безумию я уже привыкла. — Она пристегнула ремень безопасности. — Я проходил специальный курс вождения, задача которого — научиться уходить от похитителей и террористов, поэтому в любой момент будьте уверены: я знаю, что делаю. — Не думаю, что ваши действия хоть чем-то меня удивят, — пожала плечами Лаура. — Во всяком случае, после того, как смерч прошелся по моей кухне. А потом, мне всегда хотелось прокатиться на машине с Джеймсом Бондом. Эрл ей улыбнулся: — Вы — отважная женщина. Когда он завел двигатель, она взяла пульт дистанционного управления воротами гаража, который лежал на консоли между сиденьями. — Пора, — скомандовал он. Лаура нажала кнопку на пульте дистанционного управления, и ворота начали подниматься. Прежде чем они успели подняться полностью, Эрл включил заднюю передачу и быстро выкатился из гаража. Крыша «Хонды» разминулась с нижней планкой ворот на какой-то дюйм. Так что удар о ворота, которого ожидала Лаура, не произошел. Задом, не снижая скорости, «Хонда» докатилась до выезда на улицу. Там Эрл резко крутанул руль вправо, и автомобиль развернулся передним бампером к подножию длинного холма. Агенты ФБР, которые сидели в фургоне, внешне не отличающемся от фургонов телефонной компании, еще не отреагировали на их действия. Эрл вдавил в пол педаль тормоза, тут же передвинул ручку коробки скоростей на движение вперед и нажал на газ. Взвизгнули шины, автомобиль на мгновение вроде бы прилип к асфальту, а потом они помчались вниз по длинной и темной улице. Проскочив два квартала, Эрл глянул в зеркало заднего обзора: — Они едут следом. Лаура обернулась и увидела через заднее стекло, что фургон отчаливает от тротуара. Эрл притормозил, крутанул руль вправо, и «Хонда» то ли повернула, то ли ее потащило юзом в боковую улицу. На следующем перекрестке он повернул налево, в конце квартала направо, вычерчивая извилистый маршрут по жилому району. Вскоре они оставили Шерман-Оукс позади, выбрались из долины, поднялись на гребень, а потом скатились в каньон Бенедикта по дороге, петляющей на лесистом склоне, держа путь к Беверли-Хиллз и Лос-Анджелесу. — Мы от них ушли, — радостно сообщил Эрл. Лаура облегчения не испытывала. Не было у нее уверенности, что от другого своего врага, нечеловеческого, неведомого Оно, им удастся удрать так же легко, как от агентов ФБР.Глава 25
Дэн пристально смотрел на Реджи ну, стараясь найти способ заставить ее рассказать все, что она знала. Он не сомневался, что с ее покорностью ему удастся добиться желаемого. Оставалось только понять, как и чем на нее надавить. Реджина более не покусывала большой палец, только посасывала его. И поза у нее была на редкость провоцирующей: невинность, ждущая, чтобы над ней надругались. Он не сомневался, что и этому ее научил Хоффриц. Может, запрограммировал? Но не вызывало сомнений, что сосание пальца ее успокаивало; внутренние муки были столь велики, что она искала утешения в самых простых, прямо-таки детских ритуалах. Только начав сосать палец, она более не изображала леди, не сидела с прямой спиной. Сгорбилась, сдвинулась в угол дивана. Халат у шеи распахнулся, открыв глубокую ложбинку между алебастровых грудей. Дэн уже представлял себе, как заставить ее говорить, но уж очень не хотелось ему это делать. Она вытащила большой палец изо рта только для того, чтобы сказать: — Я не смогу вам помочь. Действительно не смогу. Почему бы вам не уйти прямо сейчас? Пожалуйста! Он не ответил. Поднялся с кресла, обошел кофейный столик, остановился над ней, хмурясь, посмотрел на нее сверху вниз. Она по-прежнему сидела, склонив голову. — Посмотрите на меня! — чуть ли не прорычал он. Она посмотрела. — Вы сейчас уйдете? — В голосе слышалась мольба. Ей очень хотелось, чтобы ее оставили в покое. — Пожалуйста! Вы сейчас уйдете? — Вам придется ответить на мои вопросы, Реджина. — Он продолжал хмуриться. — Если вы не ответите мне, если солжете… — Вы меня ударите? — спросила она. Он видел перед собой уже не женщину, а больное, лишенное жизненных ориентиров, несчастное существо. Но не испуганное. Грядущие удары не пугали ее, не приводили в ужас. Наоборот. Она хотела, чтобы ее ударили, потому что боль доставляла ей наслаждение. Дэн продолжил, с трудом подавляя отвращение: — Я вас не ударю, не прикоснусь к вам. Но вы расскажете мне все, что я хочу знать, поскольку только ради этого вы и существуете на этой земле. В ее глазах блеснуло любопытство. — Вы всегда делаете то, что от вас хотят, так? Никому ни в чем не можете отказать. Именно этого я и жду от вас, Реджина. Я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы, и вы на них ответите, потому что это единственное, на что вы пригодны, — отвечать на вопросы. Она выжидающе смотрела на него. — Вы встречались с Эрнстом Эндрю Купером? — Нет. — Вы лжете. — Неужели? Подавляя сочувствие и сострадание, Дэн добавил льда в голос и поднял над головой кулак, хотя и не собирался пускать его в дело. — Вы знаете Купера? Она не ответила, но ее глаза восхищенно уставились на большой кулак. И тут его осенило, он изобразил злость, которой не чувствовал. — Отвечай мне, сука! Она дернулась от грубого обращения, но не потому, что испугалась. Дернулась от радости, предчувствия боли. Грубое слово оказалось тем ключом, которое открыло ларчик. — Пожалуйста, — она не сводила глаз с кулака. — Возможно. — Тебе же хочется. — Возможно… если ты скажешь все, что я хочу знать. Купер?! — Они не называли мне фамилий. Я знала какого-то Эрни, но не знаю, Купер он или нет. Дэн описал мертвого миллионера. — Да, — она переводила взгляд с кулака на глаза Дэна и обратно. — Это он. — Тебя познакомил с ним Вилли? — Да. — Джозеф Скальдоне? — Вилли… познакомил меня с парнем, которого звали Джо, но его фамилии я не знаю. Дэн описал Джозефа Скальдоне. Она кивнула: — Да, это он. — Нед Ринк? — Не думаю, что встречала его. — Невысокий, коренастый, довольно-таки уродливый мужчина. Она начала качать головой, когда он еще говорил. — Нет, никогда его не встречала. — Ты видела серую комнату? — Да. Иногда она мне снится. Я сижу на том стуле, и они делают это со мной. Шок. Электричество. — Когда ты это видела? Комнату? Стул? — Несколько лет тому назад, когда они красили стены. Устанавливали оборудование, готовили… — Что они там делали с Мелани Маккэффри? — Не знаю. — Не лги мне, черт бы тебя побрал! Ты такая, какой тебя хотят видеть, ты делаешь все, чего от тебя хотят, всегда то, чего от тебя хотят, так что прекрати врать и отвечай мне! — Нет, правда, я не знаю, — кротко ответила она. — Вилли никогда мне не говорил. Это был секрет. Важный секрет, который должен был изменить мир. Это все, что мне известно. Он не посвящал меня в свои дела. Его жизнь со мной не пересекалась с его работой с этими людьми. Дэн по-прежнему стоял над ней, а она по-прежнему сидела в углу, и, несмотря на театральность своих угроз, ему эта роль претила. — Какое отношение имел оккультизм к их экспериментам? — Понятия не имею. — Вилли верил в сверхъестественное? — Нет. — Почему ты так говоришь? — Ну… потому что Дилан Маккэффри верил во все, призраков, вызов духов и даже гоблинов… а Вилли его высмеивал, ругал за доверчивость. — Тогда почему он с ним работал? — Вилли считал Дилана гением. — Несмотря на его суеверия? — Да. — Кто их финансировал, Реджина? — Не знаю. Она чуть шевельнулась, с тем чтобы халат раскрылся больше, едва ли не полностью обнажив одну полную грудь. — Говори, — в голосе Дэна звучало нетерпение. — Кто оплачивал их счета? Кто, Реджина? — Клянусь, я не знаю. Он сел на диван рядомс ней. Взял за подбородок, повернул лицом к себе, не мягко, без нежности, в продолжение угрозы, которую поначалу символизировал вскинутый кулак. И хотя угроза вновь ничего не значила, Реджина на нее отреагировала. Именно этого она и хотела: чтобы ее унижали, чтобы ею командовали, заставляли подчиняться. — Кто? — повторил он. — Не знаю. Действительно не знаю. Я бы сказала, если бы знала. Я бы сказала все, о чем бы ты ни попросил. На этот раз он ей поверил. Но подбородок не отпустил. — Я знаю, что Мелани Маккэффри подвергалась в серой комнате психическому и физическому насилию. Но я хочу знать… Господи, я не хочу этого знать, но должен… было ли еще и сексуальное насилие? Хотя Дэн держал Реджину за подбородок, голос ее звучал сдавленно: — Откуда я могла это знать? — Ты бы знала, — настаивал он. — Так или иначе почувствовала бы, пусть Хоффриц рассказывал тебе о происходящем в Студио-Сити не так уж и много. Он мог не говорить, какие ставил цели, экспериментируя с девочкой, но похвастал бы, если б установил над ней полный контроль. Я в этом уверен. Мы с ним не встречались, но я знаю его достаточно хорошо, чтобы в этом не сомневаться. — Я не верю, что там было что-то сексуальное. Дэн с силой сжал ее подбородок, и она поморщилась, но он увидел (с отвращением), что ей это понравилось, поэтому ослабил хватку, но руку не убрал. — Ты уверена? — Почти наверняка. Ему бы хотелось… овладеть ею. Но, думаю, ты прав. Если б он это сделал, то сказал бы мне. Если бы она стала… — Но он даже не намекал на это? — Нет. У Дэна отлегло от сердца. Он даже улыбнулся. По крайней мере, ребенка не подвергали сексуальному насилию. Потом он вспомнил, что пришлось вынести девочке, и улыбка исчезла. Он отпустил подбородок Реджины, но остался рядом с ней на диване. И в тех местах, где его пальцы соприкасались с нежной кожей, выступили красные пятна. — Реджина, ты говорила, что не видела Вилли больше года. Почему? Она опустила глаза, склонила голову, плечи поникли еще больше, она вжалась в угол дивана. — Почему? — повторил Дэн. — Вилли… устал от меня. От этой слепой любви к Хоффрицу Дэну стало дурно. — Он больше не хотел меня. — Таким тоном говорили бы о безвременной смерти от рака. Нежелание Вилли обладать ею было, безусловно, самым страшным, что могло случиться. — Я делала все, что он хотел, но… я его больше не интересовала… — Он просто прогнал тебя? — Я ни разу не видела его после того, как он… велел мне уйти. Но мы изредка разговаривали по телефону. Должны были разговаривать. — Должны были разговаривать по телефону? О чем? — О других, кого он посылал ко мне. — Голос Реджины сошел на шепот. — Каких других? — Своих друзьях. Других… мужчинах. — Он посылал к тебе мужчин? — Да. — Для секса? — Для секса. Для того, что они хотели. Я делала все, что они хотели. Ради Вилли. Да, мысленный образ Вильгельма Хоффрица, который нарисовал себе Дэн, становился все более отвратительным. Этот человек был вампиром. Он не только полностью поработил Реджину, используя ее для удовлетворения собственных сексуальных потребностей, но и потом, когда она ему надоела, продолжал контролировать ее и подкладывал под других. Вероятно, сам факт, что ее продолжали использовать, доставлял ему наслаждение, говорил о том, что его хватка не слабеет. Он определенно страдал психическим заболеванием. Хуже того, просто повредился умом. Реджина подняла голову. С надеждой спросила: — Хочешь, я расскажу о том, что они заставляли меня делать? Дэн вытаращился на нее, от отвращения потеряв дар речи. — Я с радостью расскажу тебе об этом, — заверила она его. — Тебе будет интересно. Я ничего не имела против и теперь готова рассказать, что я делала. — Нет, — сипло ответил он. — Тебе будет интересно. — Нет. Она хихикнула: — Может, у тебя появятся какие-то идеи. — Заткнись! — Он едва не отвесил ей оплеуху. Она склонила голову, как собака, на которую прикрикнул сердитый хозяин. — Я знаю только их имена. Одного звали Эрни, и ты сказал мне, что его фамилия Купер. Второго Джо. — Скальдоне. Кто еще? — Говард, Шелби… Эдди. — Какой Эдди? — Говорю тебе, фамилий я не знаю. — Как часто они приходили? — Большинство из них… раз или два в неделю. — Они все еще приходят сюда? — Да, конечно. Я им нужна. Был лишь один парень, который пришел только раз и больше не вернулся. — Как его звали? — Альберт. — Альберт Ахландер? — Я не знаю. — Как он выглядел? — Высокий, худой, с… костистым лицом. Не знаю, как его описать. Пожалуй, он выглядел как ястреб… с ястребиными… острыми чертами лица. Дэн еще не смотрел на фотографию автора тех книг, что лежали в багажнике его автомобиля, но намеревался это сделать, уйдя от Реджины. — Альберт, Говард, Шелби, Эдди… кто-нибудь еще? — Как я и говорила, Эрни и Джо. Но они мертвы, не так ли? — Более чем. — Есть еще один мужчина. Он приходит постоянно, но я даже не знаю его имени. — И как он выглядит? — Ростом в шесть футов, представительный. Прекрасные седые волосы. Отличная, дорогая одежда. Не красавчик, ты понимаешь, но элегантный. Так хорошо держится, так хорошо говорит. Он… культурный. Мне он нравится. Он причиняет боль… так красиво. Дэн глубоко вдохнул. — Если ты не знаешь имени, как же ты его называешь? Она улыбнулась. — Только так, как он хочет. — На ее лице появилось озорное выражение, она подмигнула Дэну. — Папочка. — Что? — Я зову его Папочка. Всегда. Притворяюсь, что он мой папочка, а он притворяется, что я — его доченька, я сижу у него на коленях, и мы говорим о школе, и я… — Достаточно, — оборвал ее Дэн, чувствуя, что попал в уголок ада, где знание местных обычаев означало, что ты должен по ним жить. Он предпочитал не знать. Ему хотелось смести фотографии с кофейного столика, разбить стекла, которые их прикрывали, сбросить фотографии с каминной полки, зашвырнуть все в камин, поднести спичку. Но он понимал, что уничтожением этих изображений Хоффрица не поможет Реджине. Этот мерзкий тип умер, но в голове Реджины будет жить долгие годы, как злобный тролль в своей скрытой от всех глаз пещере. Дэн вновь коснулся ее лица, но на этот раз коротко и нежно. — Реджина, на что ты тратишь время, как проводишь дни, жизнь? Она пожала плечами. — Ходишь в кино, на танцы, обедаешь с подругами… или просто сидишь здесь, дожидаясь, что кому-то потребуешься? — В основном остаюсь в доме, — ответила она. — Мне тут нравится. И Вилли хотел, чтобы я большую часть времени проводила здесь. — А как ты зарабатываешь на жизнь? — Я делаю то, что они хотят. — Господи, да у тебя же диплом по психологии! Она промолчала. — Зачем ты защищала диплом в ЛАКУ, если не собиралась работать по специальности? — Вилли хотел, чтобы я защитила диплом. Это было забавно, знаешь ли. Они вышвырнули его вон, эти подонки из университета, но меня так легко вышвырнуть не смогли. Я осталась там, чтобы напоминать им о Вилли. Ему это нравилось. Он полагал, что это отменная шутка. — Ты могла бы заниматься важной работой, интересной работой. — Я делаю то, для чего создана. — Нет. Отнюдь. Ты делаешь то, для чего создана по словам Хоффрица. А это совсем другое. — Вилли знал, — ответила она. — Вилли знал все. — Вилли был мерзкой тварью. — Нет. — Ее глаза вновь наполнились слезами. — Значит, они приходят сюда и используют тебя, причиняют тебе боль. — Дэн схватил ее за руку, оттянул рукав халата, открывая синяк, который заметил ранее, и следы от веревок на запястье. — Причиняют тебе боль, не так ли? — Да, так или иначе, одни больше, чем другие. Некоторые делают это так нежно. — Почему ты на это идешь? — Мне нравится. Воздух вдруг сгустился. Стал тяжелым, влажным, пропитался грязью, которую он не мог видеть, которая оседала не на коже, а на душе. Дэн не хотел дышать этим воздухом. Этот воздух вызывал моральное разложение. — Кто платит за аренду дома? — спросил он. — Никакой аренды нет. — Кому принадлежит дом? — Компании. — Какой компании? — Что я могу для тебя сделать? — Какой компании? — Позволь мне что-нибудь сделать для тебя. — Какой компании? — настаивал он. — «Джон Уилкс энтерпрайзес». — Кто такой Джон Уилкс? — Не знаю. — К тебе никогда не приходил мужчина по имени Джон? — Нет. — Как ты узнала о «Джон Уилкс энтерпрайзес»? — Каждый месяц я получаю от них чек. На приличную сумму. Дэн поднялся. На лице Реджины отразилось разочарование. Взгляд Дэна упал на чемоданы, которые он заметил, как только вошел в квартиру. — Уезжаешь? — На несколько дней. — Куда? — В Лас-Вегас. — Решила сбежать, Реджина? — От чего мне бежать? — Людей убивают из-за того, что происходило в серой комнате. — Но я не знаю, что происходило в серой комнате, и мне на это наплевать. Так что я в безопасности. Глядя на нее, Дэн вдруг осознал, что у Реджины Саванны Хоффриц была своя серая комната. И она носила ее с собой повсюду, потому что именно в серой комнате сидела взаперти настоящая Реджина. — Тебе нужна помощь, Реджина. — Мне нужно делать то, что ты хочешь. — Нет. Тебе нужна… — Я в порядке. — Тебе нужен психотерапевт. — Я свободна. Вилли научил меня, как быть свободной. — Свободной от чего? — От ответственности. Страха. Надежды. Свободной от всего. — Вилли не освободил тебя. Он тебя поработил. — Ты не понимаешь. — Он был садистом. — В этом нет ничего плохого. — Он влез в твой разум, изменил твою психику. Мы говорим не о каком-то заштатном профессоре психологии, Реджина. Этот псих был звездой первой величины. Он работал на Пентагон, исследуя коррекцию поведения, разрабатывая новые методы «промывки мозгов». Подавляющие самоуважение наркотики, Реджина. Воздействие на подсознательном уровне. Вилли играл ту же роль при Большом брате, что Мерлин при короле Артуре. Только Вилли практиковал магию зла, Реджина. Он трансформировал тебя в… в… в мазохистку исключительно ради развлечения. — Именно так он меня освободил. — Говорила она на полном серьезе. — Видишь ли, когда ты больше не боишься боли, когда ты научился любить боль, ты больше ничего не боишься. Вот почему я свободна. Дэн хотел как следует тряхнуть ее, но понимал, что проку от этого не будет. Совсем наоборот. Она бы только попросила тряхнуть ее сильнее. Ему хотелось бы привести ее к судье, который бы отнесся к ней с пониманием и направил на принудительное лечение. Чтобы она получила необходимую психотерапевтическую помощь. Но он не был ее родственником, практически ее не знал, а потому ни один судья не пошел бы ему навстречу. Закон такого не допускал. Так что, похоже, он ничем не мог ей помочь. — Знаешь, что я тебе скажу? Думаю, Вилли, возможно, не умер, — вдруг заявила она. — Умер, будь уверена. — Может, и нет. — Я видел тело. Мы опознали его по карте дантиста и по отпечаткам пальцев. — Возможно, — не стала спорить она. — Но… я чувствую, что он жив. Иногда я ощущаю его присутствие… прямо здесь. Это так странно. Я не могу этого объяснить. Вот почему я не рыдаю, как могла бы рыдать. Потому что не убеждена в его смерти. Уж не знаю как, но он по-прежнему… здесь. Ее видение себя, причины, побуждающие жить дальше, настолько зависели от Вилли Хоффрица, от необходимости получать похвалу и одобрение, хотя бы от возможности слышать его голос по телефону, что она просто не могла принять его смерть. Дэн подозревал, что не смог бы убедить ее в смерти Вильгельма Хоффрица, даже если бы привел в морг, показал изуродованное до неузнаваемости тело, положил перед ней заключение коронера. Хоффриц проник в ее разум, разбил психику на мелкие осколки, а потом сложил, как ему того хотелось, превратившись в клей, который связывал их воедино. Если бы Реджина приняла его смерть, клей перестал бы выполнять положенную ему функцию, ее психика превратилась бы в груду осколков, ввергнув Реджину в безумие. Так что у нее оставалась одна надежда: верить, что Вилли жив. — Да, он здесь, — повторила она. — Я чувствую. Как-то, где-то, но здесь. Понимая, что он ничем не может ей помочь, кляня себя за собственное бессилие, Дэн направился к двери. За его спиной Реджина вскочила с дивана. — Подожди. Пожалуйста. Он обернулся. — Ты мог бы… взять меня. — Нет, Реджина. — Сделать что-нибудь со мной. — Нет. — Я буду твоим зверьком. Он еще на шаг приблизился к двери. — Твоим маленьким зверьком. Он едва подавил желание броситься бежать. Она схватила его за руку, когда он открывал дверь. Запах ее духов будоражил. Вторую руку она положила ему на плечо. — Ты мне нравишься. — Где твои родители, Реджина? — Ты меня возбуждаешь. — Твои отец и мать? Где они живут? Она поднесла тонкие пальчики к его губам. Теплые пальчики. Прошлась по линии рта. Он оттолкнул ее руку. — Ты действительно, действительно мне нравишься. — Может, твои родители смогут помочь тебе порвать с этим. — Ты мне нравишься. — Реджина… — Причини мне боль. Причини мне очень сильную боль! Он оттолкнул ее, как сострадательный здоровый человек может оттолкнуть прокаженного: решительно, с отвращением, со страхом заразиться, но и с пониманием деликатности ее положения. — Когда из-за Вилли я попала в больницу, он приходил ко мне каждый день. Устроил для меня отдельную палату и, приходя, всегда закрывал дверь, чтобы мы могли побыть вдвоем. Когда мы оставались наедине, он целовал мои синяки. Каждый день он приходил и целовал мои синяки. Ты даже представить себе не можешь, лейтенант, какое наслаждение доставляли его губы, прикасавшиеся к моим синякам. Один поцелуй — и каждый синяк трансформировался. Вместо боли приносил удовольствие. Как если бы… как если бы на месте каждого синяка появлялся клитор, и когда он целовал меня, я кончала и кончала, снова и снова. Дэн пулей вылетел из дома Реджины, с грохотом захлопнув за собой дверь.Глава 26
Холодный ветер тащил по улицам обрывки бумаги и прочий мусор, в воздухе вновь пахло дождем, когда Эрл Бентон привел Лауру и Мелани в квартиру на первом этаже трехэтажного жилого комплекса в Уэствуде, к югу от бульвара Уилшир. Состояла квартира из гостиной, маленькой столовой, кухни, спальни и ванной. Большие окна выходили во двор, в это время ночи освещенный синими и зелеными фонариками, спрятанными в листве. Квартира эта принадлежала агентству «Калифорния паладин» и использовалась, как «Дом безопасности». Агентство иногда нанимали, чтобы вызволить подростков или учащихся колледжей из сект религиозных фанатиков, куда те попадали по наивности и неопытности. Сразу после освобождения их привозили сюда, и здесь с ними несколько дней работали опытные психологи, нейтрализуя блоки и установки сектантов, после чего подростков возвращали родителям. «Дом безопасности» использовался и для проживания жен, которым угрожали живущие отдельно мужья, а в нескольких случаях тут проводились многодневные встречи высших чиновников корпораций для выработки стратегических планов. Здесь они могли не беспокоиться, что их кто-нибудь подслушает и принятые решения станут известны конкурентам. «Калифорния паладин» однажды поселила здесь священника-баптиста, после того как молодежная банда из южной части Лос-Анджелеса «заказала» его за свидетельские показания против одного из своих членов. Рок-звезда отсиживался здесь, чтобы избежать получения повестки в суд по гражданскому иску, который мог обойтись ему в очень большую сумму. Известной актрисе потребовалось такое вот убежище, чтобы восстановиться после сделанной в глубокой тайне онкологической операции. Если бы о ней стало известно, актриса осталась бы без многих ролей в грядущих фильмах: продюсеры не любят заключать договора со звездами, которые могут заболеть, а то и умереть в разгаре съемочного периода. Вот и Мелани с Лаурой эти спокойные, скромные комнаты могли сослужить неплохую службу, хотя бы на одну ночь. Лаура надеялась, что здесь они будут в безопасности от той странной силы, что преследовала их, что силе этой не удастся найти эту квартиру, как не нашли ее молодые бандиты и судебные исполнители. Эрл включил воздушный кондиционер, пошел на кухню, чтобы сварить кофе. Лаура попыталась заинтересовать Мелани горячим шоколадом, но девочка отказалась. Двигаясь, как лунатик, она прошла к самому большому креслу в гостиной, забралась на него, подсунула ноги под себя и уставилась на свои руки. Вытягивала их перед собой, сгибала, массировала. Переплетала пальцы, рассоединяла, переплетала вновь. И при этом с таким живым любопытством смотрела на них, словно не понимала, что это ее руки, и думала, что видит двух маленьких зверьков, играющих у нее на коленях. Кофе разогнал холод, вызванный короткой прогулкой от автомобильной стоянки до квартиры, но ничего не мог поделать с другим холодом, причиной которого стала их неожиданная и нежеланная встреча с неведомым. Пока Эрл звонил в агентство, чтобы доложить о переезде из дома в Шерман-Оукс, Лаура стояла у окна в гостиной, держа кофейную кружку обеими руками, вдыхая ароматный пар. Смотрела на озера теней и островки зеленого и синего света, когда первые капли дождя забарабанили по стеклу и листьям. Где-то в ночи что-то преследовало Мелани, что-то, находящееся за пределами человеческого понимания, неуязвимое существо, оставлявшее свои жертвы в таком виде, будто они побывали в машине для прессовки мусора, которую выключили лишь после того, как их основательно обжало. Учеба в университете, подготовка докторской диссертации дали Лауре знания, с помощью которых она со временем, возможно, могла вывести Мелани из квазиаутичного состояния, но ни университет, ни сама жизнь не подготовили ее к встрече с Неведомым, с этим Оно. Демон ли это, дух, физическая сила? Всего этого не существовало. Правильно? Не существовало. И однако… что-то Дилан и Хоффриц выпустили на свободу? И почему? Дилан верил в сверхъестественное. Периодически он увлекался тем или иным направлением оккультизма и тогда становился более нервным, буквально с пеной у рта доказывая свою правоту. В эти периоды он очень напоминал Лауре ее мать, потому что его несгибаемая вера (и постоянные разговоры об этом) в оккультизм, по сути, ничем не отличалась от религиозного фанатизма и суеверий, которые так ужасали ее в Беатрис. Эта увлеченность оккультизмом стала одной из причин, заставивших Лауру подать на развод: она не хотела в своей жизни напоминаний о страхе, которым было пропитано ее детство. Теперь же она попыталась вспомнить, что именно увлекало Дилана, какие области оккультизма вызывали его особый интерес. Стремилась вспомнить что-то такое, что могло хоть как-то объяснить происходящее с ними, но ничего важного не вспоминалось, прежде всего потому, что она отказывалась его слушать, когда он начинал говорить о таких вещах. Она полагала, что все это — горячечные фантазии… а может, и безумие. В противовес иррациональности и доверчивости матери, Лаура строила жизнь исключительно на логике и здравомыслии, доверяя только тому, что могла видеть, слышать, щупать, обонять, чувствовать. Она не верила, что треснувшее зеркало означает семь лет несчастий, не бросала соль через плечо. Если предоставлялся выбор, она всегда проходила под лестницей, а не обходила ее, прежде всего чтобы доказать, что в ней нет ничего от матери. Она не верила в дьявола и демонов, не верила, что в человека может вселиться злая душа, которую потом можно изгнать. В глубине Души она чувствовала, что бог есть, но не ходила в Церковь и не ассоциировала себя с одной из религий. Она не читала истории про призраков, не смотрела фильмы про вампиров и вервольфов. Не признавала мистицизм и ясновидение. И хотя логика и здравомыслие составляли фундамент, на котором строилась жизнь, она понимала, что глина жизни должна замешиваться на ожидании чуда, уважении к непознанному, непредвзятости в суждениях. Иначе хрупкая глина высохнет, треснет и рассыплется. Мать полагалась исключительно на религию и суеверия, что являлось свидетельством ее психического нездоровья. Но, возможно, не следовало бросаться в другую крайность. На поверку выходило, что вселенная гораздо более сложная, чем ей представлялось раньше. Что-то затаилось в ночи. Что-то такое, чего она не понимала. И это что-то, это Оно, хотело добраться до Мелани. Но даже теперь, когда Лаура стояла у окна, смотрела в дождливую ночь, осознав, что в ней могут таиться загадочные и даже сверхъестественные существа, она пыталась найти более рациональное объяснение, отыскать злодеев из плоти и крови. Она слышала, как Эрл разговаривает с кем-то из сотрудников агентства, и внезапно поняла, что только «Калифорния паладин» знает, где сейчас находится она и ее дочь. На мгновение подумала, что допустила ужасную ошибку, поступила глупо, позволив увезти себя из-под надзора ФБР, оборвать все контакты с друзьями, соседями, полицией. На Мелани нацелилось не только невидимое Оно, но и реальные люди, вроде наемного убийцы, которого нашли на автостоянке у больницы. А если у этих людей есть контакты с «Калифорния паладин»? Если Эрл — палач? Хватит! Она глубоко вдохнула. Еще раз. Она же на грани истерики. И ради Мелани, если уж не ради себя, обязана успокоиться и не распускаться.Глава 27
Дэн выскочил из дома Реджины, захлопнул за собой дверь, но не направился к своему автомобилю. Подождал, прижавшись ухом к двери, и его подозрительность оправдалась: он услышал мужской голос. Во время их разговора в доме находился еще один мужчина. И теперь этот мужчина был вне себя от ярости. Он орал, а Реджина называла его Эдди и отвечала на его крики кротким голоском. Раздался безошибочный звук крепкой оплеухи, за которым последовал ее вскрик, в котором слышалось чуть-чуть боли, чуть-чуть страха, но в основном наслаждение и возбуждение. На улице дул ветер, ветви со скрипом терлись друг о друга, поэтому Дэн слышал далеко не все, что говорилось в доме. Но он понял, почему Эдди злился на Реджину: она рассказала слишком много. Реджина пыталась объяснить, что не могла не рассказать Дэну все, что знала. Дэн не спрашивал ответов, он их требовал, а главное, требовал со знанием дела. Она же — существо покорное, смысл, цель и радость ее жизни — в повиновении, ее удел — делать то, что ей говорят. Эдди и его друзья, сказала она, любили ее такой, хотели, чтобы она была такая, и она не могла с ними быть одной, а с остальными — другой. «Разве ты не понимаешь, Эдди? Разве ты не понимаешь?» Он, скорее всего, понимал, но ее объяснения не могли утихомирить распирающую его ярость. Он отвесил ей еще несколько затрещин, которые, судя по крикам, только еще сильнее возбудили ее. Дэн двинулся вдоль фасада, к ближайшему от двери окну. Он хотел взглянуть на Эдди. Сквозь зазор между портьерами увидел часть гостиной и мужчину лет сорока пяти. Рыжеволосого, усатого, в черных слаксах, белой рубашке, серой шерстяной жилетке, галстуке-бабочке, с лицом постаревшего, избалованного ребенка. В его внешности было что-то женственное, но движениями он, наоборот, напоминал петуха, ходил, выпятив грудь, расправив плечи. И тем не менее выглядел слабаком, напоминая школьного учителя английского языка, которому с трудом удается держать класс под контролем. Он определенно не относился к тем мужчинам, которые в общении с женщинами при первом удобном случае давали волю рукам. Скорее всего, он не посмел бы ударить и Реджину, не будь она такой, какой создал ее Хоффриц. Потому что другая женщина могла дать сдачи. Больше всего Эдди расстроился из-за того, что Реджина рассказала Дэну о «Джон Уилкс энтерпрайзес», компании, владевшей домом, в котором она жила, и каждый месяц присылавшей ей чек на приличную сумму. Реджина стояла перед ним на коленях, опустив голову, как вассал перед феодальным правителем, он же высился над ней, переминался с ноги на ногу, нервно жестикулировал, отчитывая ее за длинный язык. «Джон Уилкс энтерпрайзес». Дэн знал, что получил еще один ключ от еще одного замка в этой загадке со многими дверями. Он отвернулся от окна и зашагал к оставленному на улице автомобилю. Открыл багажник, достал из картонной коробки одну из семи книг Альберта Ахландера, которые этим вечером, только чуть раньше, вынес из дома Неда Ринка. Реджина говорила, что мужчина, которого звали Альберт, побывал у нее лишь однажды и в отличие от других, приходивших снова и снова, больше не появлялся. Реджина сказала, что в острых чертах его лица проглядывало что-то ястребиное. И теперь, в призрачном свете уличных фонарей и лампочки под крышкой багажника, Дэн изучал фотографию автора, красующуюся на суперобложке. Лицо Ахландера было длинным, узким, с выпирающими бровями, скулами, челюстью. И глаза, в сочетании с большим крючковатым носом, смотрелись холодными и хищными. Действительно, что-то в нем было от ястреба или другой птицы-охотника. Следовательно, к Реджине приходил именно Ахландер, но только один раз, не подгоняемый извращенными сексуальными потребностями, как остальные, возможно, из любопытства, чтобы посмотреть, действительно ли существует женщина, которую Хоффриц полностью и бесповоротно превратил в рабыню. Возможно, Ахландер хотел лично убедиться в гениальности Хоффрица, прежде чем присоединиться к нему и Дилану Маккэффри в том странном проекте, что они реализовывали при участии Мелани. Но, какой бы ни была причина, Дэн хотел с ним поговорить. Он добавил Ахландера к списку тех, кого собирался допросить. Список этот уже включал Мэри О'Хара, жену Эрнста Эндрю Купера, жену Джозефа Скальдоне (если у того была жена), высшее руководство и/или владельцев «Джон Уилкс энтерпрайзес», представительного седовласого извращенца, который регулярно приходил к Реджине и которого она знала как «Папочку», и других мужчин, пользовавшихся ее услугами: Эдди, Шелби и Говарда. Он положил книгу в коробку, захлопнул багажник, сел за руль в тот самый момент, когда первые капли дождя упали на мостовую. Список клиентов Скальдоне лежал у него в кармане, и он не сомневался, что найдет фамилии Эдди, Шелби и Говарда среди этих трехсот покупателей магазина «Пентаграмма». Свет от уличных фонарей шел слабый, Дэн устал, в глаза словно насыпали песку, а ему еще хотелось поговорить с Лаурой Маккэффри до того, как будет совсем уж поздно. Поэтому он оставил список в кармане, завел двигатель и уехал с Голливудских холмов. В 22.44, когда он добрался до дома Лауры в Шерман-Оукс, лил холодный дождь. Хотя в нескольких комнатах горел свет, на звонок в дверь никто не откликнулся. Он позвонил еще раз, постучал, но ничего не изменилось. Где Эрл Бентон? Предполагалось, что он пробудет с Лаурой до полуночи, а потом его сменил бы другой сотрудник «Калифорния паладин». Дэн подумал об изуродованных до неузнаваемости трупах в доме в Студио-Сити, найденных прошлой ночью, подумал об убитом киллере, Неде Ринке, и с нарастающей тревогой отступил от двери, по лужайке побежал к ближайшему окну. Не увидел ничего необычного, ни трупов, ни крови. С гулко бьющимся сердцем торопливо обошел дом. Нашел, что кухонная дверь не заперта. Входя, отметил, что дверная коробка повреждена, а цепочка вырвана из нее «с мясом». А уж потом увидел, в каком состоянии кухня: вырванные и измочаленные цветы, увядшие и измятые листья, комья влажной земли. Никакой крови. На столе три тарелки с недоеденными спагетти, припорошенными землей, лепестками, листьями. Один перевернутый стул. Корни, торчащие из раковины. Никакой крови. Слава богу. Никакой крови. Пока. Он вытащил револьвер. С предчувствием дурного, опасаясь, что еще натолкнется на изувеченные трупы, он вышел из кухни, осторожно переходя из комнаты в комнату. Никого не нашел, кроме перепуганного кота, который, увидев его, тут же дал деру. Проверив гараж, Дэн обнаружил, что синей «Хонды» Лауры нет. Но не мог понять, что из этого следует. Однако, не найдя трупов, он испытал безмерное облегчение, словно мгновенно перенесся с океанского дна, где на него давили миллионы тонн воды, на сушу, где плечам приходилось выдерживать только вес воздуха. Столь велики были облегчение и сопровождающая его радость, что Дэну пришлось признать, что его чувства к женщине и ее попавшему в беду ребенку отличаются от чувств, которые он испытывал в отношение других жертв преступников, с которыми сталкивался за четырнадцать лет работы в полиции. Он не мог объяснить свою необычную вовлечённость в это расследование смутными параллелями между Лаурой и Мелани Маккэффри и Френ и Синди Лейки. Не тянуло его к Лауре Маккэффри только потому, что спасением ее и Мелани он мог искупить свою неудачу в спасении жизни Синди Лейки. Конечно, это обстоятельство тоже играло свою роль, но куда сильнее Лаура привлекала его к себе как женщина. Ничего подобного ранее с ним не случалось, и восхитила она его не столько красотой, хотя без этого не обошлось, и не столько умом, пусть ум всегда играл для него важную роль и он не разделял увлеченность мужчин пустоголовыми блондинками и легкомысленными брюнетками, как невероятной силой воли и решимостью, проявленными перед лицом опасности. «Но, даже если она и Мелани выйдут из этой передряги живыми, — думал Дэн, — надежда, что у нас что-то сложится, очень мала. Она, в конце концов, доктор психологии. Я — коп. Она более образована. Зарабатывает гораздо больше. Забудь о ней, Холдейн. Она тебе не пара». Тем не менее, не найдя в доме трупов, он испытал огромное облегчение, сердце его переполняла радость, которую он точно бы не испытывал, если бы от смерти удалось спастись не этим конкретным матери и дочери, а кому-то еще. Когда он вернулся на кухню, чтобы присмотреться к учиненному там погрому, выяснилось, что в доме он уже не один. Майкл Симс, агент ФБР, с которым он разговаривал несколько часов тому назад в «Пентаграмме», стоял у стола, засунув руки в карманы дождевика, и изучал заваливший помещение цветочный мусор. Под седеющими волосами, над старческими плечами, на его слишком уж молодом лице читались тревога и недоумение. — Куда они уехали? — спросил Дэн. — Я надеялся услышать это от вас, — ответил Симс. — По моему совету она наняла телохранителей… — «Калифорния паладин». — Да, совершенно верно. Но, насколько мне известно, они не собирались рекомендовать ей уйти в подполье или что-то в этом роде. Их задача заключалась только в том, чтобы быть рядом. — Один и был. Некий Эрл Бентон… — Да, я его знаю. — А примерно час тому назад, вместе с Лаурой Маккэффри и девочкой, он выскочил отсюда, как черт из табакерки. Мы вели наблюдение за домом. Фургон стоял на другой стороне улицы. — Да? — Наши парни попытались последовать за Бентоном, но тот ехал слишком быстро. — Симс нахмурился. — Собственно, создалось ощущение, что он пытался удрать и от нас. Не знаете, почему у него возникло такое желание? — Есть у меня одна догадка. Конечно, она не имеет никакого отношения к истинным причинам. Но, возможно, он вам не доверяет. — Мы здесь, чтобы охранять ребенка. — Вы уверены, что государство не хотело бы какое-то время подержать девочку у себя, чтобы попытаться разобраться, а чем все-таки занимались Маккэффри и Хоффриц в серой комнате? — Есть такое намерение, — признал Симс. — Но решение еще не принято. Но это Америка, вы знаете… — Да, слышал. — …и мы не стали бы похищать ее. — А как бы вы это назвали… «позаимствовали» бы ее? — Мы бы постарались получить разрешение матери на проверки, которые хотели бы провести. Дэн вздохнул, доверия слова Симса у него не вызвали. — Вы, надеюсь, не говорили Бентону, что он должен сбросить нас «с хвоста»? — А с чего мне такое говорить? Я — сотрудник органов охраны правопорядка, такой же, как вы. — Вы так ведете все расследования, чуть ли не круглыми сутками? — Не все. — Большинство? На это Дэн мог ответить честно. — Да, по большинству расследований мне приходится перерабатывать. Одно цепляется за другое, и обычно нет возможности поставить точку в пять часов вечера. Но так работают едва ли не все детективы. Вы должны это знать. — Но вы, как я слышал, работаете больше остальных. Дэн пожал плечами. — Говорят, хватка у вас будто у бульдога, вы любите свою работу, и если уж за что-то уцепились, то доведете дело до конца. — Возможно. Пожалуй, я действительно работаю много. Но при расследовании убийства след может остывать очень быстро. Обычно, если не найти ниточки, которая ведет к убийце в первые три-четыре дня, преступление остается нераскрытым. — Но в это расследование вы вкладываете куда больше сил, чем вкладывает усредненный детектив отдела расследования убийств, даже больше, чем обычно вкладываете вы сами. Не так ли, лейтенант? — Возможно. — Вы знаете, что вкладываете. — Аф, аф. — Что? — Во мне говорит бульдог. — И с чего такая бульдожья хватка в этом расследовании? — Полагаю, так уж сложилось. — Это не ответ. — Я просто съел слишком много «Пурины»[50], запасся энергией, которая потребовала выхода. Симс покачал головой: — Все потому, что в этой игре у вас особая ставка. — Правда? — А вы скажете, что нет? — Не понимаю, о чем вы, — ответил Дэн, хотя перед его мысленным взором возникло очаровательное лицо Лауры Маккэффри. Симс бросил на него подозрительный взгляд, прежде чем продолжить. — Послушайте, Холдейн, если кто-то финансировал Маккэффри и Хоффрица, потому что их проект имел военное применение, тогда эти… назовем их финансистами… эти финансисты могут потратить много денег для того, чтобы вновь заполучить девочку в свои руки. Но деньги, которые они тратят, грязные, очень грязные. И тот, кто их возьмет, может подцепить серьезную инфекцию. Понимаете, о чем я? Поначалу Дэну казалось, что Симс в курсе его романтической увлеченности. Теперь стало ясно, что агента мучают куда более темные подозрения. «Господи, — подумал Дэн, — неужели он задается вопросом, продался ли я русским или кому-то еще?» — Слушайте, Симс, вы определенно идете не по тому следу! — Они могут предложить очень крупную сумму, чтобы добраться до девочки, а полицейский детектив, пусть в этом городе ему платят неплохо, не сможет разбогатеть на свое жалованье. — Меня тошнит от вашего намека. — А я сожалею, что вы четко и ясно не говорите, что намек не по адресу. — Нет. Я никому и никогда не продавался. Нет, нет и нет. Теперь я выразился достаточно ясно? Симс не ответил, сменив тему: — Когда группа слежения потеряла Бенсона, она вернулась назад, чтобы посмотреть, кто может появиться у дома. А уж потом они решили осмотреть дом, нашли дверь на кухню, как нашли ее вы, увидели этот странный погром. — Да, как-то все это необычно. Что вы можете сказать на предмет погрома? — Цветы из сада во дворе. — Но как попали они на кухню? Кто принес их в дом? — Мы не можем этого понять. — И почему цепочка вырвана «с мясом»? — Похоже, что кто-то вломился в дом, — ответил Симс. — Правда? Да, агенты ФБР ничего не упускают из виду. — Я не понимаю вашего отношения. — Как и все остальные. — Вашего нежелания сотрудничать. — Я просто очень плохой мальчик. — Дэн направился к телефонному аппарату, а когда Симс пожелал узнать зачем, ответил: — Позвоню в «Паладин». Если Эрл решил, что здесь Лауре и Мелани угрожает опасность, он мог спешно, как вы и сказали, перевезти их в другое место, но, добравшись туда, он обязательно перезвонил в контору, чтобы сказать, где находится. Ночной дежурный «Калифорния паладин» Лонни Бимер достаточно хорошо знал Дэна и его голос, чтобы сразу ответить на поставленный вопрос. — Да, лейтенант, он отвез их в «Дом безопасности». Лонни, похоже, полагал, что адрес Дэну известен, но ошибался. Эрл не раз упоминал «Дом безопасности», рассказывая о различных дамах и господах, с которыми ему приходилось иметь дело, но если и называл адрес, то Дэн его позабыл. И он не мог спросить адрес у Лонни, не насторожив Симса, который и так ловил каждое слово. Он понял, что ночному дежурному придется звонить еще раз, после того, как ему удастся ускользнуть от агента ФБР. — Но они, скорее всего, там не задержатся, — добавил Лонни. — Это еще почему? — Разве ты не слышал? Миссис Маккэффри и ребенку больше не нужна наша защита, хотя она решила не отказываться полностью от наших услуг. Хочет, чтобы мы вели внешнее наблюдение, а непосредственную защиту будете осуществлять вы. Ее и дочь будет охранять полиция. — Ты серьезно? — Да. Круглосуточная охрана. Сейчас Эрл в Уэствуде, в «Доме безопасности», ждет приезда двух ваших людей, чтобы передать им мать и дочь Маккэффри. Они будут там с минуты на минуту. — Кто? — Э… сейчас вспомню… приставить к ним охрану приказал капитан Мондейл, и Эрлу велели передать наших клиентов детективам Уэкслершу и Мануэльо. Что-то здесь было не так. Совсем не так. В участке было слишком мало людей, чтобы обеспечивать круглосуточную охрану даже в таком важном расследовании. И Росс никогда не позвонил бы в «Паладин» сам, поручил бы этот звонок кому-то из подчиненных. А кроме того, охрану несли полицейские в форме, не детективы в штатском, которых не хватало даже больше, чем патрульных. И почему Уэкслерш и Мануэльо? — Так что тебе лучше оставаться в Шерман-Оукс, — добавил Лонни, — потому что, думаю, ваши люди привезут Маккэффри туда. Дэну хотелось узнать побольше, но он не мог задавать вопросы в присутствии Симса. — Все равно спасибо, Лонни. Но это не дело, что ты не знаешь, где ваш сотрудник и что случилось с вашими клиентами. — Что? Но я же только что сказал… — Я всегда думал, что «Паладин» лучше всех остальных, но, если вы не будете держать под контролем местонахождение ваших сотрудников и клиентов, особенно клиентов, жизнь которых находится в опасности… — Да что на тебя нашло, Холдейн? — Конечно, конечно, они, скорее всего, в безопасности, — последняя часть монолога Дэна предназначалась для ушей Симса. — Я знаю, что Эрл — классный специалист, и уверен, он убережет их от беды, но вам лучше затянуть гайки, потому что, если что-то случится с клиентом, агентству это будет стоить лицензии. Лонни начал что-то говорить, но Дэн уже положил трубку. Он понимал, что ему нужно безотлагательно убраться отсюда, найти телефон-автомат и снова позвонить Лонни, чтобы выяснить все подробности. Однако ему не хотелось показывать, что он спешит, потому что в этом случае Симс мог увязаться за ним. А если бы Симс подумал, что Дэн знает, где находятся Лаура и Мелани, отвертеться бы от него не удалось. Агент ФБР в упор смотрел на него. — В «Паладине» ничего не знают, — доложил Дэн результат телефонного разговора. — Так он вам и сказал? — Да. — Что еще он вам сказал? Ему хотелось довериться Симсу и Бюро. Ему требовалась поддержка столь мощной организации. Он, в конце концов, стал копом по зову сердца, верил в правоохранительные структуры. И в любой другой ситуации автоматически, без малейшего колебания посчитал бы Симса своим союзником. Но не сейчас. На этот раз ставки были столь высоки, что обычные правила становились неприменимы. — Ничего он мне не сказал. А с чего такой вопрос? — Почему вы вдруг испугались. — Только не я. — Вас даже прошиб пот. Дэн почувствовал пот на собственном лице, холодный, собирающийся в капли. Но быстро нашелся: — Это от удара по лбу. Вроде бы все ничего, я о нем забываю, а потом внезапно приходит боль, да такая сильная, что я потею. — А шляпы? — спросил Симс. — Что? — В «Пентаграмме» вы сказали мне, что травмировали лоб, когда примеряли шляпы. — Правда? Ну, вы понимаете, я просто сострил. — Ясно… а что произошло в действительности? — Ну, обычно я не очень много думаю и уж точно не так напряженно. Не привык к этому. Тупой коп-здоровяк, знаете ли. Но сегодня мне пришлось так крепко задуматься, что моя голова разогрелась донельзя, обожгла кожу на лбу, вот она и лопнула. — Я уверен, что вы постоянно напряженно думаете, Холдейн. Каждую минуту. — Вы мне льстите. — И вот о чем я настоятельно рекомендую вам подумать: вы — городской коп, тогда как я — федеральный агент. — Я с должным благоговением отношусь к вашему статусу и выглядывающему из-за ваших плеч призраку Дж. Эдгара Гувера. — И хотя я не намерен вмешиваться в вашу работу по любому поводу, у меня есть способы заставить вас пожалеть о том, что вы рассердили меня. — Я бы никогда на такое не пошел, сэр. Клянусь. Симс молча смотрел на него. — Тогда я, пожалуй, пойду. — Куда? — Думаю, домой. Очень уж длинным выдался день. Вы правы, я слишком много работаю. И голова чертовски болит. Придется выпить несколько таблеток аспирина и сделать ледяной компресс. — И вас вдруг перестала волновать судьба дочери и матери Маккэффри? — Нет, конечно, я очень о них тревожусь, — ответил Дэн, — но в данный момент ничего не могу для них сделать. То есть этот погром выглядит странно, но и не означает, что им грозит непосредственная опасность. Думаю, за Эрлом Бентоном они как за каменной стеной. Он хороший парень. А кроме того, мистер Симс, у детектива отдела расследования убийств довольно-таки толстая кожа. Он не может ассоциировать себя с жертвами. Понимаете? Если бы мы это делали, то сидели бы в психушке. Так? Симс, не мигая, смотрел на него. Дэн зевнул. — Пора выпить пива и в койку. — И направился к двери, чувствуя, что его видят насквозь. Обманывать он так и не научился. Симс заговорил, когда он переступал через порог. — Если мать и дочь Маккэффри в опасности, лейтенант, и если вы действительно хотите им помочь, вам бы лучше сотрудничать со мной. — Ну, как я и сказал, не думаю, что в эту самую минуту им грозит опасность, — ответил Дэн, отдавая себе отчет в том, что по лицу течет пот, сердце стучит, словно отбойный молоток, а желудок скрутило. — Черт, ну почему вы такой упрямец? Почему не хотитесотрудничать, лейтенант? Дэн встретился с ним взглядом. — Помните, вы только что обвинили меня в том, что я продался и собираюсь кому-то передать мать и дочь Маккэффри? — Подозрительность — часть моей работы, — ответил Симс. — И моей тоже. — Вы хотите сказать… вы подозреваете, что мои действия могут идти вразрез с интересами девочки? — Мистер Симс, вы уж извините, но ваше круглое, без единой морщинки лицо херувима не означает, что сердцем вы — ангел. Он покинул дом, сел в автомобиль и уехал. Они даже не попытались следить за ним, поскольку поняли, что проку от этого не будет.* * *
Первый телефон-автомат, который увидел Дэн, оказался одним из артефактов, медленное, но верное исчезновение которых свидетельствовало об упадке современной цивилизации: большая стеклянная будка стояла на углу участка, который занимала заправочная станция «Арко». К тому времени, когда он увидел будку и припарковался рядом, его уже била дрожь. Он еще не паниковал, но был близок к этому, чего раньше с ним никогда не случалось. Обычно его отличали хладнокровие, собранность. Чем хуже становилась ситуация, тем хладнокровнее и собраннее становился он. Но не на этот раз. Возможно, потому, что он не мог выбросить из головы Синди Лейки, не мог забыть ее пробитое пулями тельце. А может, из-за убийства его брата и сестры, о которых он слишком много думал последние двадцать четыре часа. А может, из-за тяги к Лауре Маккэффри, которая все нарастала и нарастала, хотя он не желал себе в этом признаться. Но, видимо, чувствовал, что ее потеря будет иметь для него катастрофические последствия. Как бы то ни было, он терял контроль над собой, и поднимающаяся волна паники грозила накрыть его с головой. Уэкслерш. Мануэльо. Почему он вдруг так их испугался? Разумеется, он на дух не выносил обоих. Они изначально были продажными копами, и, возможно, по этой причине Росс Мондейл перетащил их в Ист-Вэлью, под свое крылышко. Он хотел иметь в своем распоряжении людей, которые делали бы то, что им говорят, не задавая никаких вопросов, в верности которых он бы мог не сомневаться. И Дэн прекрасно знал, что они выполнят любой приказ Мондейла, и в рамках закона, и далеко выходящий за эти рамки. А присяга, долг перед обществом — этих понятий для них не существовало. Но они все-таки были копами, плохими копами, ленивыми копами, но не наемными убийцами вроде Неда Ринка. То есть не представляли угрозы для Лауры и Мелани. И однако… Что-то тут было не так. Об этом говорила интуиция. Он не мог объяснить, чем вызван его внезапный страх, не мог назвать конкретных причин, но за долгие годы работы привык доверять своей интуиции, и теперь страх нарастал с каждой минутой. В будке он торопливо отыскал в карманах несколько монет, скормил их автомату, начал набирать номер «Калифорния паладин». От его дыхания стеклянные стены будки запотевали изнутри, от дождя становились матовыми снаружи. Свет фонарей заправочной станции отражался от пленки воды, образовавшейся на стекле. Все вокруг расплывалось. Эти сияние и блеск в сочетании с завыванием ветра и шумом дождя создавали ощущение, что он находится в некой капсуле вне потока времени и пространства. А потому, нажимая кнопки с цифрами, он вдруг подумал о том, что дверь будки закрылась за ним навсегда, ему не удастся вырваться наружу и больше он не увидит и не услышит ни одного человеческого существа, не прикоснется к нему. Так и останется вечным пленником телефонной будки-тюрьмы, неспешно дрейфующей в Сумеречной зоне, не сможет предупредить или помочь Лауре и Мелани, не сможет сообщить Эрлу о грозящей опасности, не сможет даже спасти себя. Иногда ему снился кошмарный сон, в котором он лежал, беспомощный, парализованный, тогда как ужасное существо у него на глазах убивало людей, которых он любил. Но впервые такой кошмар возник наяву. Он набрал номер. И после нескольких электронных щелчков в трубке раздался гудок. Но даже гудок поначалу не смог разогнать страх. Дэн испугался, что на гудки эти никто не ответит, потому что не существовало телефонных линий между Реальностью и Сумеречной зоной. Однако после третьего гудка он услышал голос Лонни Бимер: «Калифорния паладин». Дэн облегченно выдохнул. — Лонни, это опять Дэн Холдейн. — Ты пришел в себя? — Тогда я говорил… для ушей человека, который ловил каждое мое слово. — Когда ты оборвал связь, я сообразил, в чем дело. — Слушай, как только мы закончим разговор, немедленно позвони Эрлу и скажи, что эта полицейская охрана дурно пахнет. — Что ты такое говоришь? — Скажи ему, что парни, которые позвонят в дверь, могут быть совсем и не копами, так что впускать их в дом нельзя. — Ты несешь чушь. Конечно же, они будут копами. — Лонни, что-то здесь не так. Я не знаю точно, что и почему… — Но я знаю, что говорил с Россом Мондейлом. То есть я узнал его голос, но все равно перезвонил по номеру телефона, который установлен в его кабинете. Дважды проверил, с кем говорю, прежде чем сказал, где находится Эрл с матерью и дочерью Маккэффри. — Ладно. — В голосе Дэна слышалось нетерпение. — Даже если действительно приедут Уэкслерш и Мануэльо, скажи Эрлу, что это дурно пахнет. Скажи ему, что он будет по уши в дерьме, если впустит их в дом. — Послушай, Дэн, я не могу предложить ему устроить перестрелку с двумя копами. — Не нужно ему стрелять. Просто скажи, чтобы он не пускал их в дом. Скажи ему, что я уже еду. Ему нужно продержаться до моего приезда. А теперь давай адрес этого «Дома безопасности». — В действительности это квартира. — Лонни продиктовал Дэну адрес в Уэствуде, к югу от бульвара Уилшир. — Эй, ты действительно думаешь, что они в опасности? — Позвони Эрлу! — крикнул Дэн. Швырнул трубку, распахнул запотевшую дверь, метнулся к автомобилю.Глава 28
— Арестован? — Эрл уставился на Уэкслерша, потом перевел взгляд на Мануэльо. Эрл выглядел таким же изумленным и недоумевающим, как и Лаура. Она сидела на диване вместе с Мелани. Детективы велели ей сесть туда с дочерью, как только вошли. Она чувствовала себя чудовищно уязвимой и не могла понять почему, если они — полицейские, которые приехали, чтобы охранять ее. Она видела их удостоверения, и Эрл, судя по всему, ранее сталкивался с ними по работе (хотя и не очень хорошо знал обоих). Поэтому не могло быть никаких сомнений в том, что они — те, за кого себя выдают. Однако темные бутоны сомнения и страха начали расцветать, и она чувствовала: что-то здесь не так. Совсем не так. Не понравились ей полицейские и внешне. Мануэльо — со злобными глазами и самодовольной ухмылкой. И с движениями словно у мачо, который только и ждет, чтобы кто-то оспорил его превосходство и он мог пустить в ход кулаки, дубинку, револьвер. А уж от бледного лица Уэкслерша и его плоских серых глаз по коже просто бежали мурашки. — Что происходит? — спросила она. — Мистер Бентон работает на меня. Я наняла его агентство. — И тут же в голове мелькнула безумная мысль, которую она незамедлительно озвучила: — Господи, вы же не думаете, что он держит нас здесь против нашей воли, не так ли? Проигнорировав ее, детектив Мануэльо обратился к Эрлу Бентону: — У тебя есть оружие? — Конечно, и разрешение на его ношение, — ответил Эрл. — Дай мне его. — Разрешение? — Оружие. — Вам нужно мое оружие? — Давай. Уэкслерш вытащил револьвер. — И будь осторожен, передавая его. Удивленный тоном и подозрительностью Уэкслерша, Эрл спросил: — Вы что, считаете меня опасным? — Просто будь осторожен, — холодно ответил Уэкслерш. Передавая пистолет Мануэльо, Эрл задал еще вопрос: — С чего мне нацеливать оружие на копа? Когда Мануэльо засовывал пистолет за пояс брюк, зазвонил телефон. Лаура начала подниматься, но Мануэльо остановил ее: — Пусть звонит. — Но… — Пусть звонит! — резко повторил Мануэльо. Телефон зазвонил снова. Лицо Эрла потемнело от тревоги, и Лаура видела, что с каждой секундой тревога эта только усиливается. Телефон звонил, звонил, звонил, и звон этот, казалось, зачаровал всех. — Эй, послушайте, — подал голос Эрл, — здесь какая-то серьезная ошибка. Телефон звонил…* * *
Дэн закрепил на крыше седана съемную мигалку. Хотя автомобиль внешне ничем не отличался от любой другой легковушки, его оборудовали сиреной, и Дэн включил ее вместе с мигалкой, дабы обеспечить беспрепятственный проезд. И действительно, автомобили послушно раздавались в обе стороны. С учетом погодных условий, он мчался, не заботясь ни о собственной безопасности, ни о безопасности тех, кто мог попасться ему на пути. Мчался с одной только целью: как можно быстрее достичь Уэствуда. Если бы кто-то подкупил Мондейла с тем, чтобы добраться до Мелани, а такой вариант не исключался, капитану не составило бы труда убедить Уэкслерша и Мануэльо оказать необходимое содействие. Они могли приехать в «Дом безопасности», войти в него, показав свои полицейские удостоверения, и забрать Мелани. При этом убили бы Эрла и Лауру, чтобы не оставлять свидетелей, и чем больше Дэн думал об этом, тем сильнее крепла его убежденность в том, что эта парочка не остановится перед убийством, если они будут знать, что оно окупится. И при этом они ничем особо не рисковали, поскольку всегда могли заявить, что по прибытии нашли трупы, а девочки уже не было. Он добрался до того места, где улица уходила под автостраду, и увидел, что дальше путь закрыт, потому что мостовая залита высоким слоем воды. Один автомобиль уже застрял на глубине, вода доходила чуть ли не до стекол, еще несколько остановились у зоны затопления. Только что прибыл грузовик из департамента благоустройства. Рабочие в светоотражающих оранжевых жилетах устанавливали насос и ограждения, чтобы направить транспорт в объезд, но больше минуты Дэн простоял в пробке, несмотря на воющую сирену и включенную мигалку на крыше седана. И ему оставалось только сидеть за рулем, в ярости, ругаясь, блокированному легковушкой впереди и грузовиком сзади, под монотонный перестук капель дождя, падающих на крышу, капот, багажник.* * *
Десять раз прозвонил телефон, и от каждого звонка напряженность в комнате нарастала. Эрл уже знал, что-то не так, но пока не мог понять, что именно. Прежде он встречался с Уэкслершем и Мануэльо, слышал о них всякие истории и знал, что они — не лучшие из детективов, получающих жалованье из городского бюджета. То есть они могли допускать ошибки. А тут точно была какая-то ошибка. Лонни Бимер сказал, что они приедут, чтобы обеспечить охрану Лауры и Мелани, но ничего не говорил об ордере на его арест, да и ордера никакого не могло быть, потому что он не сделал ничего противозаконного. Из того, что Эрл слышал об Уэкслерше и Мануэльо, вытекало, что они могли все перепутать, приехать сюда без четкого понимания, что от них требовалось, решить, что их задача — не только охранять Маккэффри, но и арестовать его. Но почему они не ответили на телефонный звонок? Звонили-то, возможно, им. Тут он уж вообще перестал что-нибудь понимать. Телефон перестал звонить. На какое-то мгновение в комнате повисла абсолютная, словно в вакууме, тишина. А потом Эрл вновь услышал, как дождь барабанит по стеклу и листве во дворе. — Надень на него наручники, — сказал Уэкслерш своему напарнику. — В чем дело? — вскинулся Эрл. — Вы не сказали мне, за что я арестован. — Мы зачитаем тебе обвинение по прибытии в участок, — ответил Уэкслерш, а Мануэльо уже доставал гибкие пластиковые одноразовые наручники. Они определенно нервничали, похоже, торопились закончить какое-то дело. И почему же они так спешили?* * *
Дэн резко свернул с бульвара Уилшир на Уэствудский бульвар, держа курс на юг. Проехал через лужу глубиной с добрый фут, выплеснув в обе стороны волны: его автомобиль на мгновение отрастил два фосфоресцирующих крыла. Сквозь залитое водой ветровое стекло он вглядывался в мокрую мостовую, на которой тени перемежались светлыми пятнами от уличных фонарей и отражениями неоновых вывесок. Налитые кровью глаза горели, голова просто раскалывалась, сердце ныло в предчувствии неудачи. Он чувствовал, что безнадежно опаздывает.* * *
С наручниками в руках Мануэльо подошел к Эрлу. — Повернись и заложи руки за спину. Эрл замялся. Посмотрел на Лауру и Мелани. Посмотрел на Уэкслерша со «смит-и-вессон полис спешл» в руке. Да, эти парни были копами, но у Эрла вдруг пропала уверенность в том, что он должен выполнять их приказы, он сожалел, что отдал им оружие, и уж точно не хотел, чтобы на него надели наручники. — Ты собрался сопротивляться аресту? — спросил Мануэльо. — Ты что, не понимаешь, что сопротивление аресту закончится для тебя потерей лицензии частного детектива? — добавил Уэкслерш. С неохотой Эрл повернулся, заложил руки за спину. — Вы не собираетесь зачитать мне мои права? — Для этого будет время в машине, — Мануэльо надел наручники на Эрла, крепко затянул их. — Возьмите пальто, — сказал Уэкслерш Лауре и Мелани. — А как насчет моего пальто? — спросил Эрл. — Вам следовало разрешить мне одеться, а уж потом надевать на меня наручники. — Ты обойдешься и без пальто, — ответил Уэкслерш. — На улице дождь. — Не растаешь. Снова зазвонил телефон. Как и прежде, детективы звонки проигнорировали. Сирена вырубилась. Дэн снова и снова нажимал ногой на кнопку включения, но увы. Так что теперь, чтобы пробиваться сквозь транспортный поток, ему приходилось непрерывно давить на клаксон. К счастью, мигалка продолжала работать. Он нутром чуял, что опаздывает. Снова. Как с Синди Лейки. Приедет слишком поздно. Он перестраивался из ряда в ряд, совершал опасные для соседних автомобилей маневры, жал и жал на клаксон, но в нем росла уверенность, что все они уже мертвы, что он потерял друга, невинного ребенка, которого надеялся защитить, и женщину, которая поразила его в самое сердце. Все мертвы.* * *
Лаура взяла дождевик Мелани, одела ее. Времени эта процедура заняла немало, потому что девочка совершенно ей не помогала. — Она что… умственно отсталая или как? — спросил Мануэльо. Теперь Лаура не только удивилась, но и разозлилась: — Я не могу поверить, что вы такое сказали. — Ну, она ведь не совсем нормальная, — гнул свое Мануэльо. — Не совсем, значит? — Голос Лауры сочился презрением. — Господи! Она — маленькая больная девочка. Как вам не стыдно. Пока Лаура одевала Мелани, Эрлу вновь приказали сесть на диван. Он устроился на самом краешке. С наручниками на заведенных за спину руках. Застегнув пуговицы дождевика девочки, Лаура взяла свой. — Не надо, — остановил ее Уэкслерш. — Сядьте на диван рядом с Бентоном. — Но… — Сядьте! — Уэкслерш указал револьвером на диван. Лаура ничего не смогла прочитать в его серых ледяных глазах. А может, просто не хотела читать очевидное. Посмотрела на детектива Мануэльо. Тот ухмылялся. Повернувшись к Эрлу, Лаура увидела, что он в полном замешательстве. — Сядьте, — повторил Уэкслерш, уже не крича, почти шепотом, однако более чем убедительно. У Лауры скрутило желудок. К горлу подкатила тошнота. Когда Лаура села, Уэкслерш подошел к Мелани. Взял за руку, отвел подальше от дивана. Теперь девочка стояла между детективами. — Нет! — воскликнула Лаура, но детективы пропустили ее вскрик мимо ушей. — Пора? — спросил Мануэльо, посмотрев на Уэкслерша. — Пора, — кивнул Уэкслерш. Мануэльо сунул руку под пиджак, достал пистолет. Не тот, что взял у Эрла. И не табельное оружие, поскольку она знала, что детективы обычно пользуются револьверами. Именно револьвер и держал в руке Уэкслерш. Увидев у Мануэльо новый пистолет, она вдруг поняла, что к нему чего-то не хватает. И тут же Мануэльо достал из кармана пиджака металлическую трубку и начал навинчивать ее на ствол пистолета. Глушитель. — Что это вы задумали? — спросил Эрл. Ни Уэкслерш, ни Мануэльо ему не ответили. — Господи Иисусе! — воскликнул Эрл, до которого наконец-то дошло, что происходит. — Никаких криков, — предупредил Уэкслерш. — Никаких криков. Эрл поднялся, пытаясь освободиться от наручников, но куда там. Уэкслерш подскочил к нему, ударил револьвером, сначала по плечу, потом по лицу, боковиной. Эрл повалился на диван. Мануэльо начал наворачивать глушитель, но тот пошел косо, потому что детектив не совместил резьбу глушителя с резьбой на стволе пистолета. Ему пришлось скрутить глушитель и предпринять вторую попытку. Все еще возвышаясь над Эрлом, Уэкслерш бросил короткий взгляд на напарника. — Нельзя ли побыстрее? — Я стараюсь, стараюсь, — ответил Мануэльо, воюя с упрямой резьбой. — Вы совсем спятили, если решили нас убить, — разбитые губы Эрла кровоточили. Лаура не удивилась, когда услышала, какая их ждет судьба. Ей вдруг стало совершенно ясно, что она знала об этом, подсознательно, с того самого момента, как детективы вошли в комнату, и осознание того, что их ждет, усилилось, когда Мануэльо затянул наручники на руках Эрла. Последние сомнения отпали, когда Уэкслерш отвел от нее Мелани, но ей все равно не хотелось признавать очевидное. Мануэльо вновь скрутил глушитель. — Это просто кусок дерьма. — Все у тебя получится, если начнешь правильно, совместив резьбу, — сказал Уэкслерш. Лаура поняла, что они не хотят использовать собственное оружие из опасения, что следы приведут к ним. Им хотелось воспользоваться пистолетом с глушителем, раз уж была такая возможность, чтобы выстрелы не разбудили соседей и кто-то из них, подойдя к окну, не увидел бы, как эти негодяи уводят Мелани. Мелани. Она стояла рядом с Мануэльо, что-то бормоча себе под нос. С закрытыми глазами, наклонив голову, издавала какие-то нечленораздельные звуки. Она знала, что должно произойти в ближайшие минуты? Знала, что ее мать ждет смерть? Или эти звуки означали что-то еще, имели отношение исключительно к ее личному, внутреннему миру? — Вы же копы, черт побери! — прорычал Эрл, брызжа кровью. В голосе уже преобладало не удивление, а ярость. — Сиди и молчи, — бросил ему Уэкслерш. Взгляд Лауры остановился на тяжелой стеклянной пепельнице на кофейном столике. Если бы она схватила ее, бросила в Уэкслерша, попала в голову, тот мог бы потерять сознание или просто выронить револьвер. А если бы он выронил револьвер, она смогла бы подхватить его до того, как отреагировал бы Мануэльо. Но прежде следовало отвлечь внимание Уэкслерша. И пока она лихорадочно искала возможности это сделать, Эрл, вероятно, решил, что они ничего не потеряют, если начнут сопротивляться. И в нужный момент отвлек внимание обоих детективов. Мануэльо продолжал бороться с непослушным глушителем, когда Эрл вскинул глаза на Уэкслерша. — Что бы вы ни делали, как бы громко ни кричали, вы не посмеете использовать свое оружие или мое, — и с громким криком, чтобы подбодрить себя, вскочил и кинулся на Уэкслерша, используя голову, как таран. От удара в живот Уэкслерша отбросило на два шага. Но детектив не упал. Более того, успел ударить Эрла рукояткой по затылку, и тот распластался на полу. Оборвалась и короткая атака, и крик. Воспользовавшись суматохой, Лаура успела схватить пепельницу в тот самый момент, когда Уэкслерш ударил Эрла. Но Мануэльо уловил ее движение и крикнул: «Эй!» — когда она метнула пепельницу в Уэкслерша. Но и короткого предупреждения хватило, чтобы детектив наклонился, и пепельница пролетела мимо. Ударилась о стену, упала на пол. Уэкслерш наставил табельный револьвер на Лауру. Она и представить себе не могла, какое огромное под мушкой отверстие. — А теперь слушай, сука, если не будешь сидеть смирно и с закрытой пастью, то умрешь не так легко, как могла бы. Мелани продолжала то ли всхлипывать, то ли мяукать. Она стояла, наклонив голову, с закрытыми глазами, но теперь отвисла и нижняя челюсть, открылся рот, из которого вылетали эти жалкие звуки. Эрл, отталкиваясь ногами, уже дополз до дивана, перевернулся, привалился к нему спиной. Из раны на голове лилась кровь. — Да? И что же вы такого можете сделать? Смерть, она и есть смерть. Уэкслерш усмехнулся. В сочетании с бескровными губами и бледным, как полотно, лицом улыбка его наводила ужас. — Мы можем залепить тебе рот и подвергнуть пыткам. А потом начнем пытать ее. Содрогнувшись, Лаура отвела взгляд от этих серых глаз. В комнате вдруг похолодало. — Красивая телка, — заметил Мануэльо. — Да, мы можем ее трахнуть, — кивнул Уэкслерш. — А заодно трахнем и девчонку, — добавил Мануэльо. — Точно. — Уэкслерш продолжал улыбаться. — Все так. Заодно можем трахнуть и девчонку. — Пусть даже она умственно отсталая. — И Мануэльо вновь принялся ругать пистолет и глушитель, которые никак не хотели становиться единым целым. — Поэтому, если не будете сидеть тихо, мы залепим вам рты и трахнем девчонку у вас на глазах, — подвел итог Уэкслерш, — а потом все равно убьем вас. С трудом подавляя тошноту, Лаура плюхнулась на диван. Угроза подействовала. Молчал и Эрл. — Хорошо, — Уэкслерш одной рукой помассировал живот в том месте, куда пришелся удар головой Эрла. — Так-то гораздо лучше. Звуки, издаваемые Мелани, стали громче, начали складываться в слова: «…открывается… дверь… открывается… нет…» Дыхание девочки участилось. — Заткнись, малышка, — Уэкслерш легонько стукнул ее ладонью по щеке. Звуки стали тише, но полностью не смолкли. Лауре хотелось подойти к девочке, обнять, но, ради собственного блага, ради блага Мелани, ей приходилось оставаться на диване. В комнате стало холодно и становилось все холоднее. Лаура вспомнила, как вдруг понизилась температура воздуха на кухне перед тем, как ожило радио. И перед тем, как смерч распахнул дверь и ворвался на кухню из темноты… — Неужели в этом чертовом доме нет отопления? — спросил Уэкслерш. — Готово! — Мануэльо наконец-то навертел глушитель на ствол. Холоднее… Как только напарник закончил подготовку оружия, Уэкслерш убрал револьвер в кобуру, схватил Мелани за руку и повел ее к двери. Холоднее… Лаура вся напряглась. Что-то должно произойти. Что-то странное. Мануэльо шагнул к Эрлу, который смотрел на него скорее с презрением, чем с ужасом. Температура резко упала, а за спиной Уэкслерша и Мелани с треском распахнулась дверь. Но ничего сверхъестественного в квартиру не ворвалось. Только Дэн Холдейн. Он буквально перелетел через порог, мгновенно оценил ситуацию, вдавил ствол револьвера в спину Уэкслерша, прежде чем тот начал поворачиваться к двери лицом. Мануэльо, естественно, развернулся на шум, и Холдейн крикнул: — Бросай оружие, подонок, бросай оружие, а не то разнесу тебе голову! Мануэльо замялся. Не потому, конечно, что беспокоился за жизнь напарника. Просто прикинул, что его первая пуля попадет в Уэкслерша, а второй раз, до того, как Холдейн разнесет ему голову, он выстрелить не успеет. Взглянул на Мелани, оценивая свои шансы схватить девочку и использовать ее как живой щит. Но тут Дэн вновь крикнул: «Бросай оружие!» — и Мануэльо признал, что игра закончена. Разжал пальцы, и пистолет с глушителем упал на пол. — У него пистолет Эрла, — предупредила Лаура. — И табельный револьвер, — добавил Эрл. Крепко держа Уэкслерша за шиворот, вдавливая ствол ему в спину, Дэн сказал: — А теперь, Мануэльо, избавляйся от остального оружия. Медленно и осторожно. И никаких фортелей. Мануэльо положил на пол сначала пистолет Эрла, потом собственный револьвер. По приказу Дэна попятился к дальней стене, где и остановился. Лаура подняла с пола оба пистолета и револьвер, а Дэн тем временем обезоружил Уэкслерша. — Почему здесь так холодно? — спросил он. Но он еще произносил эти слова, а воздух уже начал быстро прогреваться. «Что-то почти произошло, — подумала Лаура. — Что-то похожее на случившееся в нашем доме чуть раньше». Но она не думала, что они получили бы еще одно предупреждение. Не на этот раз. Все было бы гораздо хуже. Лаура не сомневалась в том, что до появления таинственного Оно оставались считаные секунды. Дэн как-то странно смотрел на нее, словно знал, что у нее есть нужный ему ответ. Но она не произнесла ни слова. Не знала, как сформулировать этот ответ и поймет ли он смысл сказанного ею. Знала она только одно: если бы Оно пришло, бойня получилась бы покруче той, что планировали два продажных детектива. Если бы Оно пришло, не превратились бы они все в обезображенные тела, вроде тех, что обнаружили в Студио-Сити?Глава 29
В медицинском центре ЛАКУ Эрла сразу же отвели в операционную, где хирурги занялись раной на голове и губами. Лаура и Мелани остались ждать в приемной, примыкающей к хирургическому отделению, тогда как Дэн направился к ближайшему телефону-автомату. Позвонил в полицейский участок Ист-Вэлью, попросил соединить его с Мондейлом. — Сегодня работаешь допоздна, Росс? — Холдейн? — Раньше за тобой такого трудолюбия не замечалось. — Чего ты хочешь, Холдейн? — Мир во всем мире меня бы полностью устроил. — Слушай, мне сейчас не до твоих… — Ладно, ладно, согласен и на успешное завершение этого расследования. — Холдейн, я, между прочим, занят, а твоя болтовня… — Конечно, конечно, только учти, что с этого момента дел у тебя только прибавится, потому что придется придумывать алиби… — О чем ты говоришь? — Об Уэкслерше и Мануэльо. Мондейл молчал. — Почему ты послал их в Уэствуд, Росс? — Полагаю, ты этого не знаешь, но я решил охранять Маккэффри силами полиции. — Несмотря на нехватку людей? — Знаешь, учитывая убийство Скальдоне этой ночью и крайнюю степень насилия этих преступлений, мне показалось уместным… — Хватит чесать языком. Сукин ты сын. — Что? — Я знаю, что они намеревались убить Эрла и Лауру… — Что ты несешь… — …и увезти Мелани… — Ты пьян, Холдейн? — …а потом вернуться и доложить, что к их прибытию Эрла и Лауру уже убили. — И как я должен понимать твое заявление? — Твое недоумение звучит очень даже искренне. — Это очень серьезное обвинение, Холдейн. — Здорово ты владеешь голосом, Росс. — Мы говорим о наших коллегах. Они… — Кому ты нас продал, Росс? — Холдейн, советую тебе… — И что ты получил, продав нас? Вот в чем главный вопрос. Послушай, послушай, помолчи секунду, дай мне выстроить версию, хорошо? Ты не стал бы продавать нас за деньги. Ты не стал бы рисковать карьерой ради денег. Разве что тебе пообещали бы пару миллионов, но за такую работу столько не дают. Двадцать пять тысяч максимум. А скорее, пятнадцать. Это больше похоже на правду. И я могу поверить, что Уэкслерш и Мануэльо сделали бы это за такие деньги, может, и за меньшие, но уверен, что без твоего разрешения, без гарантий твоей защиты убивать Лауру и Эрла они бы не стали. То есть они получали деньги, а ты — что-то еще. И что это могло быть, Росс? Ты продал нас за власть, за действительно серьезное повышение по службе, за обещанный тебе пост начальника полиции. А может, и кресло мэра. Тот, кто тебя купил, контролирует политические процессы. Я попал в десятку, Росс? Ты продал Лауру и Мелани Маккэффри в обмен на такого рода гарантии? Мондейл молчал. — Продал, Росс? — Такое ощущение, что ты не просто напился, Дэн, но еще и заторчал. Обходишься травкой или уже сел на иглу? — Продал, Росс? — Где ты, Холдейн? Вопрос Дэн проигнорировал. — Мануэльо и Уэкслерш сейчас находятся в той самой квартире в Уэствуде, связанные, с кляпом во рту, один на полу, второй в ванной. Я бы спустил их обоих в канализацию, если бы они могли пролезть в сливное отверстие. — У тебя и впрямь наркотический бред. — Остынь, Росс. Из «Паладина» уже послали туда двух парней, чтобы они посидели с твоими мальчиками, а я позвонил одному репортеру из «Таймс», а другому из «Джорнэл». Позвонил в полицейский участок, не твой, а местный, представился, объяснил, что предпринималась попытка убийства, и они уже выслали патрульные машины. Так что будет тот еще цирк. Мондейл заговорил после долгой паузы: — Миссис Маккэффри собирается дать показания, обвинив Уэкслерша и Мануэльо в покушении на убийство? — Начинаешь волноваться, Росс? — Они — мои детективы. Я несу за них ответственность. Если они сделали то, о чем ты говоришь, я хочу, чтобы их должным образом обвинили в содеянном и приговорили к заслуженному наказанию. Гнилые яблоки в корзине к добру не приводят. Я не верю в защиту чести мундира. От этого один только вред. — Что с тобой, Росс? Ты думаешь, я записываю наш разговор? Ты думаешь, кто-то нас прослушивает? Так вот, никто не прослушивает, магнитофона нет, так что прекращай этот фарс. — Я не понимаю твоего отношения, Дэн. — Никто не понимает. — Не знаю, с чего ты решил, что я замешан в этой истории. — Актером он был отвратительным. Неискренность выпирала, словно пришепетывание или заикание. — И ты не ответил на мой вопрос. Миссис Маккэффри собирается дать показания, обвинив Уэкслерша и Мануэльо в покушении на убийство, или не собирается? — Не сегодня. Я увез оттуда Лауру и Мелани, и какое-то время они побудут со мной, спрятанные в надежном месте. Я знаю, ты разочарован. Они бы стали легкой добычей для снайпера, если б остались на виду, не так ли? Но я никому не скажу, где они. Я не допущу их встречи с копами любого участка, не позволю им дать показания или прийти на опознание Уэкслерша и Мануэльо. Я больше никому не доверяю. — Странные ты ведешь речи, Дэн. — Да уж, такой вот я недоверчивый. — Послушай, ты не можешь брать на себя персональную ответственность за жизнь Маккэффри. — Однако беру. — Если им нужна охрана, мы должны обеспечить ее силами нашего участка. Об этом я и думал, посылая Уэкслерша и Мануэльо. Одному тебе не справиться. Господи, эти люди — не твои близкие родственники, ты же знаешь. Ты не можешь вести себя так, будто у тебя есть законное право на обеспечение их безопасности. — Если они захотят, чтобы я их охранял, я с этим справлюсь. Они — не мои родственники, ты прав, но тем не менее… У меня есть в этом личный интерес. — О чем ты говоришь? — Ты сам сказал об этом, в «Пентаграмме». Для меня это не обычное расследование. Вот почему я так вцепился в него. Я увлекся Лаурой. Я жалею девочку. Мне они ближе, чем другие жертвы преступников, так что поимей это в виду, Росс. — Это более чем достаточная причина для того, чтобы отстранить тебя от расследования. Ты более не можешь объективно оценивать ситуацию. — Пошел на хер. — Этим и объясняется твоя враждебность, истеричность, все эти паранойяльные версии заговоров. — Это не паранойя. Заговор есть, и ты это знаешь. — Я все понял. Ты обезумел. — Я просто предупреждаю тебя, Росс, дай задний ход. Только для этого я тебе и звоню. Ради трех слов: дай задний ход. — Мондейл молчал. — Эта женщина и этот ребенок мне очень дороги. Мондейл тяжело дышал в трубку, но никаких обещаний не давал. — Клянусь богом, я уничтожу любого, кто попытается причинить им вред. Любого. Молчание. — Тебе, возможно, удастся убедить Уэкслерша и Мануэльо держать язык за зубами. Я не удивлюсь, если ты найдешь способ снять с них все обвинения и закрыть дело. Но, если ты будешь и дальше преследовать Маккэффри, я порву тебе глотку. Клянусь в этом, Росс. Наконец Мондейл заговорил, но о другом, словно и не слышал предупреждения Дэна: — Если ты не разрешишь миссис Маккэффри дать показания, тогда Уэкслерша и Мануэльо не арестуют. — Арестуют. Показания сможет дать Эрл Бентон. Уэкслерш избил его пистолетом. Эрл в больнице, его сейчас штопают. — В какой больнице? — Росс, надо быть серьезнее. И наконец в раздражении Росс показал свои истинные чувства. Дамбу еще не прорвало, но в ней появилась нитевидная трещина. — Мерзавец. Меня от тебя тошнит. От тебя и твоих угроз. Тошнит от того, что ты висишь надо мной, как чертов меч. — Это хорошо. Выговорись, Росс. Излей душу. Но Мондейл снова замолчал. — Короче, если Эрла выпишут из больницы, он сразу поедет на квартиру, чтобы поговорить с копами, которые приехали по моему вызову, дать им показания и проследить, чтобы Уэкслерша и Мануэльо арестовали по обвинениям в нападении, нанесении телесных повреждений и покушении на убийство. Мондейл уже взял себя в руки. И больше не собирался терять контроль над собой. — Если врачи задержат его на ночь, — продолжил Дэн, — тогда копы из местного участка приедут в больницу, чтобы взять у него показания. В любом случае Уэкслершу и Мануэльо не выскользнуть… если только ты не убедишь своих дружков снять их с крючка. И я думаю, тебе придется это сделать, чтобы Уэкслерш и Мануэльо не наговорили лишнего. Нет ответа. Только тяжелое дыхание. — Когда ты все уладишь, Росс, тебе, возможно, удастся убедить чифа Келси, что ни ты, ни Уэкслерш и Мануэльо не имели отношения к попытке выкрасть девочку и убить ее мать, но пресса все равно будет что-то подозревать, и репортеры не оставят тебя в покое. Они будут следить за тобой до конца твоей карьеры, ожидая твоего неверного шага. Молчание. — Ты слышишь, что я говорю, Росс? Молчание. — При наилучшем раскладе тебе удастся сохранить за собой капитанские нашивки, но из списка претендентов на должность начальника полицейского управления, составленного мэром, ты точно вылетишь. И уже никогда в этот список не попадешь. Видишь ли, Росс, это всего лишь предупреждение. Потому, собственно, я тебе и звоню. Так что слушай внимательно. Лови каждое слово. Если будешь и дальше охотиться за Маккэффри, считай, что будущего у тебя нет. Я об этом позабочусь. Я лично тебе это гарантирую. Ты уже одной ногой в пропасти, но, если не оставишь их в покое, не удержишься и в капитанах. Я столкну тебя вниз. Независимо от того, кто тебя на это подвигнул, независимо от его богатства и могущества, он не сможет спасти твой зад, если ты вновь попытаешься приблизиться к Маккэффри. Он даже не сможет спасти твою жизнь, потому что я тебя пришибу. Картина ясна? Молчание. И тяжелое дыхание, переполненное яростью. — Мне хватает забот с ФБР, мне хватает забот с теми, кто финансировал Дилана Маккэффри и Вилли Хоффрица, потому что кто-то действительно очень хочет заполучить девочку, но будь я проклят, если мне еще придется тратить время, силы, энергию на тебя, Росс. Этой ночью ты уйдешь из группы, созданной для ведения этого расследования, и передашь свои полномочия кому-то еще до того момента, как с Уэкслерша и Мануэльо будут сняты все подозрения. Понятно? Это не предложение, Росс, это приказ! — Ты говнюк. — Какой уж есть. И вот что, если сейчас ты не скажешь то, что я хочу услышать, Росс, я кладу трубку. А после того, как я положу трубку, ты уже не сможешь передумать. Молчание. — Хорошо… прощай, Росс. — Подожди. — Извини, очень спешу. — Хорошо, хорошо. Я согласен. — На что? — На то, что ты говорил. — А конкретнее? — Я выхожу из этого расследования. — Мудрое решение. — Я даже уйду на неделю на больничный. — А-а-а, неважно себя чувствуешь? — Я выйду из расследования, я буду обходить Маккэффри за милю, но взамен кое-что попрошу. — Что? — Я не хочу, чтобы Бентон, ты или Маккэффри давали показания относительно Уэкслерша и Мануэльо. — Черта с два. — Я серьезно. — Чушь. Мы сможем держать тебя в узде только в том случае, если над этими подонками будет висеть обвинение в покушении на убийство. — Ладно. Пусть Бентон даст показания, но через пару дней, когда ты почувствуешь, что Маккэффри в полной безопасности, изменит свои показания. — Но он будет выглядеть полным идиотом. — Нет, нет. Он сможет сказать, что кто-то избил его, причем один из ударов пришелся по голове, он плохо соображал, что к чему, и ошибочно обвинил в содеянном Уэкслерша и Мануэльо. А теперь мозги у него прочистились, и он может сказать, что произошло в действительности. Да, какой-то бандит избил его, но Уэкслерш и Мануэльо на самом деле спасли ему жизнь. — Ты не в том положении, чтобы чего-то от меня требовать. — Черт побери, если ты не оставишь мне шанса на спасение, тогда мне нет смысла играть в твою игру. — Возможно. Но, если уж мы торгуемся, я попрошу у тебя кое-что еще. Мне нужна фамилия человека, который вышел на тебя, Росс. — Нет. — Кому нужна девочка, Росс? Скажи мне, и мы договоримся. — Нет. — Кто убедил тебя послать Уэкслерша и Мануэльо на квартиру в Уэствуде? — Если я тебе это скажу, тогда мне действительно конец. Я — труп. Мне проще уйти, огрызаясь, схватившись с тобой, чем донести на этого человека. Потому что в этом случае я стану таким же, как те люди в Студио-Сити, а может, и хуже. Я даю тебе Маккэффри, а ты мне, через несколько дней, Уэкслерша и Мануэльо. Вот о чем мы можем договариваться. — Как, по-твоему, именно он финансировал эксперименты в серой комнате? — Думаю, что да. — Он из государственного ведомства? — Возможно. — Этого недостаточно. — Я просто не знаю. У этого человека очень тесные контакты с государством, но, возможно, эти исследования он финансировал из собственных средств. — Он богат? — Я не назову тебе его фамилию, я не буду вдаваться в подробности, которые помогут тебе выйти на него. Черт, я не хочу подписывать собственный смертный приговор. Дэн на мгновение задумался. — Слушай, а он говорил, какой результат они хотели получить в серой комнате? — Нет. — Этот парень, тот, кто вышел на тебя, тот, кто финансировал эти безумные исследования… убивал он, Росс? Молчание. — Он, Росс? Говори. Не бойся. Ты уже сказал слишком много. Я не настаиваю на фамилии, но ответ на этот вопрос должен получить. Он несет ответственность за убийство Скальдоне и той троицы в Студио-Сити? — Нет, нет. Как раз наоборот. Он боится стать следующей жертвой. — Так кого же он боится? — Я не думаю, что это кто-то. — Не понял. — Это безумие… но, если послушать этих людей… они так напуганы, словно по их следу идет Дракула. Из того, что я понял, они боятся не человека. Это что-то неживое. И это неживое убивает всех, кто связан с серой комнатой. Я знаю, может показаться, что я несу чушь, но я все понял именно так. А теперь, черт побери, договорились мы или нет? Я выхожу из расследования, отдаю тебе мать и дочь Маккэффри, а ты отдаешь мне Уэкслерша и Мануэльо. Согласен? Дэн сделал вид, что задумался. — Хорошо, — наконец ответил он. — Мы договорились? — Да. Мондейл нервно рассмеялся. В смехе этом слышались неприятные нотки. — Ты понимаешь, что это означает, Холдейн? — И что это означает? — Ты заключаешь сделку, снимаешь обвинения с людей, которых подозреваешь в покушении на убийство… что ж, ты становишься таким же замазанным, как и любой другой. — Не таким замазанным, как ты. Я мог бы плавать в канализационной канаве месяц и жрать то, что проплывает мимо, и я все равно не стану таким грязным, как ты, Росс. Он повесил трубку. Одну угрозу удалось нейтрализовать. Никто больше не будет использовать полицейские удостоверения, чтобы подобраться к Мелани. Врагов оставалось предостаточно, но от одной их разновидности он отделался. И главное состояло в том, что он ничего не отдал в обмен за уход Мондейла, даже не выпачкал рук, потому что Дэн не собирался выполнять свою часть сделки. Не собирался просить Эрла отказываться от обвинений, выдвинутых против Уэкслерша и Мануэльо. Собственно, после завершения расследования, когда преступники будут найдены, а Лаура и Мелани смогут появиться на публике, Дэн собирался просить их дать показания против этих двух детективов, да и сам не остался бы в стороне, рассказал бы под присягой все, что увидел. Для Уэкслерша и Мануэльо служба в полиции завершилась… как, судя по всему, и для Росса Мондейла.Глава 30
В двадцать пять минут первого ночи Эрлу Бентону разрешили покинуть больницу. Вид телохранителя поразил Лауру, пусть на его лице не осталось ни пятнышка крови. На одной стороне головы врачи сбрили волосы на участке величиной с ладонь и наложили на рваную рану семь швов. Теперь это место закрывала повязка. Губы раздулись, стали лиловыми. Рот искривился. Один глаз почти заплыл. Выглядел Эрл так, будто поцеловался с грузовиком. Его появление подействовало и на Мелани. Глаза девочки очистились от тумана. Она словно вышла из транса, чтобы более пристально рассмотреть его, так рыба поднимается к поверхности озера, чтобы изучить загадочное существо, стоящее на берегу. — А-х-х-х, — грустно выдохнула она. Одной рукой прикоснулась к разбитому лицу, взгляд медленно заскользил с синяка на подбородке к распухшим, лиловым губам, «фонарю» под глазом, повязке на голове. Разглядывая Эрла, она озабоченно жевала свою нижнюю губу. Ее глаза наполнились слезами. Она попыталась заговорить, но ни звука не сорвалось с губ. — Что такое, Мелани? — спросил Эрл. Лаура наклонилась к дочери, обняла одной рукой. — Что ты хочешь сказать ему, сладенькая? Попробуй выговаривать по одному слову. Медленно. У тебя получится. Обязательно получится. Дэн, лечащий врач Эрла, молодая медсестра-латинос внимательно наблюдали за ней, ожидая продолжения. Взгляд ребенка, затуманенный слезами, продолжал перемещаться по лицу Эрла, от одной боевой раны к другой, и наконец она произнесла: — Ради м-меня. — Да, — кивнула Лаура. — Совершенно верно, крошка. Эрл сражался ради тебя. Рисковал жизнью ради тебя. — Ради меня, — с благоговением повторила Мелани, словно потрясенная новизной и необычностью самой идеи: кто-то может ее любить и защищать. Радуясь бреши, образовавшейся в броне аутизма Мелани, надеясь расширить ее или даже полностью разбить броню, Лаура добавила: — Мы все сражаемся ради тебя, сладенькая. Хотим помочь. Мы поможем тебе, если ты нам позволишь. — Ради меня, — вновь повторила Мелани, но больше ничего не сказала, хотя Лаура и Эрл не оставляли попыток разговорить ее. Слезы высохли, она убрала руку с лица Эрла, взгляд ее вновь обратился внутрь. Она усталоопустила голову. Лаура испытывала разочарование, но не отчаяние. Ребенок определенно хотел вернуться из того темного, личного мира, в котором находился, и если у малышки было сильное желание выздороветь, так, вероятно, и будет, рано или поздно. Хирург предложил оставить Эрла до утра, для наблюдения, но, несмотря на то что ему крепко досталось, Эрл отказался. Ему хотелось как можно быстрее вернуться в «Дом безопасности» и дать показания полиции, забить еще несколько гвоздей в двойной гроб для Уэкслерша и Мануэльо. В больницу они все приехали на автомобиле Дэна, но теперь Дэн не хотел возвращаться в «Дом безопасности». Не хотел, чтобы Лаура и Мелани оказались в непосредственной близости от других копов, поэтому для Эрла они вызвали такси. — Не ждите меня, — предложил Эрл. — Вам лучше уехать отсюда. — Может, лучше и подождать, — ответил Дэн, — потому что нам нужно кое-что обсудить. Как-то так вышло, что они сгрудились вокруг Мелани, защищая ее со всех сторон. Стояли они в вестибюле медицинского центра и сквозь стеклянные, залитые дождем стены могли видеть то место, куда должно было подъехать такси. Половина флуоресцентных ламп не горела, их выключали после того, как центр закрывался для посещения больных, вторая заливала вестибюль неприятным мертвеннобледным светом. Пахло дезинфицирующим раствором с запахом роз. Кроме них четверых, в вестибюле не было ни души. — Ты хочешь, чтобы из «Паладина» прислали кого-нибудь мне на замену? — спросил Эрл. — Нет, — ответил Дэн. — Я так и подумал. — «Паладин» — чертовски хорошее охранное агентство, — продолжил Дэн, — и у меня нет основания сомневаться в их порядочности, но нет и причин… — В этом конкретном расследовании у тебя нет причин доверять кому-либо в «Паладине» больше, чем ты доверяешь полиции, — закончил его мысль Эрл. — Кроме вас, — вставила Лаура. — Мы знаем, что можем доверять вам, Эрл. Без вас мы с Мелани погибли бы. — Не нужно представлять меня героем, — покачал головой Эрл. — Я повел себя глупо. Открыл дверь Мануэльо. — Но вы же не могли знать… — Но я открыл дверь. — И выражение лица, несмотря на полученные травмы, ясно говорило, что он корит себя за эту ошибку. Лаура видела, почему Дэн и Эрл были друзьями. Оба любили свою работу, обоих отличало обостренное чувство долга, оба очень критично относились к достигнутым результатам. Такие люди уже редко встречаются в мире, где все более широкое распространение получали цинизм, эгоизм, потакание собственным желаниям. — Я найду мотель, сниму номер и останусь там с Лаурой и Мелани до утра, — поделился с Эрлом своими ближайшими планами Дэн. — Подумал о том, чтобы отвезти их к себе домой, но кто-то еще может угадать такое мое решение. — А завтра? — спросил Эрл. — Я бы хотел повидаться с несколькими людьми. — Могу я помочь? — Если найдешь в себе силы утром подняться с постели. — Найду, — заверил его Эрл. — В Бербанке живет некая Мэри Кэтрин О'Хара. Она — секретарь организации «Свобода теперь». — Он дал Эрлу адрес и объяснил, что ему хотелось бы узнать от этой дамы. — Мне также нужны сведения о компании «Джон Уилкс энтерпрайзес». Кто ею руководит, кто основные акционеры. — Это калифорнийская компания? — спросил Эрл. — Скорее всего. Мне нужно знать, когда подавался пакет документов на регистрацию, кем и каким бизнесом намеревалась заниматься компания. — А каким боком этот «Джон Уилкс» связан с происходящим? — спросил Эрл. Этот же вопрос возник у Лауры. — На объяснения уйдет время, — ответил Дэн. — Я расскажу об этом завтра. Давай встретимся за ленчем, скажем, в час дня, и попытаемся разобраться с собранной информацией. — Да, к тому времени я узнаю все, что тебе нужно, — кивнул Эрл и предложил встретиться в кафетерии в Ван-Нейс, потому что в этом заведении он никогда не видел сотрудников «Паладина». — Копы туда вроде бы тоже не заглядывают, — ответил Дэн. — Звучит неплохо. — А вот и ваше такси. — Лаура указала на подъехавший автомобиль, свет фар которого ярко отразился от дождевых капель, висевших на поручнях входных дверей. Эрл посмотрел сверху вниз на Мелани. — Ну что, принцесса, сможешь улыбнуться на прощанье? Девочка подняла голову, но Лаура видела, что глаза у нее устремлены в далекое далеко. — Предупреждаю тебя, — продолжил Эрл, — я буду рядом и не оставлю тебя в покое, пока не получу от тебя улыбки. Но Мелани лишь смотрела сквозь него. Эрл повернул голову к Лауре. — А вы держитесь. Хорошо? Все образуется. Лаура кивнула: — И спасибо… — Никаких благодарностей. Я открыл им дверь. И должен загладить свою вину. И пока не заглажу, благодарить меня не за что. — Он шагнул к дверям, открыл одну, повернулся к Дэну: — Между прочим, а что случилось с тобой? — В смысле? — С твоим лбом. — Со лбом, говоришь? — Дэн коротко глянул на Лауру, и та поняла, что удар по лбу связан с расследованием, но говорить об этом он не хочет, чтобы она не почувствовала себя виноватой. — Одна старушка… она ударила меня палкой. — Да? — Я помогал ей перейти улицу. — Тогда чего же она тебя ударила? — Она не хотела переходить эту улицу, — ответил Дэн. Эрл улыбнулся, вместо улыбки получилась жуткая гримаса, переступил порог, пробежал сквозь дождь, исчез в такси. Лаура застегнула дождевик Мелани. Ведя девочку между собой, они поспешили к полицейскому седану без знаков отличия. Холодный воздух. Холодный дождь. Темнота, пропитанная злом. Темнота, в которой затаилось Оно.* * *
В номере мотеля стояли две двуспальные кровати, застланные пурпурно-зелеными покрывалами, которые никак не гармонировали с веселенькими оранжево-синими занавесками и яркими желто-коричневыми обоями. Но таким, режущим глаз цветам отдавали предпочтение примерно в каждом четвертом отеле и мотеле страны, от Аляски до Флориды. У Дэна даже создалось впечатление, что какой-то некомпетентный специалист по интерьерам постоянно колесит из одного конца Америки в другой и лихорадочно оклеивает обоями стены, застилает кровати, обивает мебель, вешает занавески. Матрацы на кроватях были слишком мягкими, мебель — обшарпанной, но к чистоте претензий не было. А кроме того, в номере стояла кофеварка и лежали пакетики с кофе. Дэн сварил кофе, пока Лаура укладывала Мелани в постель. Хотя девочка весь день вела себя как лунатик и почти не растрачивала энергию, время было позднее, поэтому она заснула еще до того, как мать подоткнула ей одеяло. Небольшой стол с двумя стульями стоял у единственного в комнате окна, туда Дэн и направился с двумя стаканами кофе. Он и Лаура сидели в тени, маленькая лампочка горела лишь у двери. В зазор между частично раздвинутыми занавесками они видели лишь залитую дождем стоянку, где синеватый свет фонарей поблескивал на мокрых стеклах и хроме автомобиля и на черном асфальте. С нарастающим изумлением и тревогой Дэн слушал историю, рассказывать которую Лаура начала еще в автомобиле: о левитирующем радиоприемнике, который вроде бы передавал предупреждение, и воздушном смерче с цветами, который ворвался в дверь кухни. И чувствовалось, что ей самой с трудом верится в эти сверхъестественные события, хотя она все видела собственными глазами. — И что вы думаете по этому поводу? — спросил он, когда Лаура закончила. — Я надеялась, что вы сможете мне все объяснить. Он рассказал ей о Джозефе Скальдоне, убитом в комнате с запертыми изнутри окнами и дверьми. — Учитывая невозможность этого убийства, в сочетании с тем, что вы мне рассказали, полагаю, мы должны признать существование чего-то, какой-то силы, энергии, которую не может объяснить накопленный человечеством опыт. Но что это такое, черт побери? — Ну, я думала об этом весь вечер и пришла вот к какому выводу… то, что вселилось в радиоприемник и принесло цветы на кухню, отличается от того, что убивает людей. Теперь-то я понимаю, сила, которая проявила себя у меня на кухне, нам не угрожала. Я бы сказала так: она предупреждала, что нечто, убившее Дилана, Хоффрица и других, со временем доберется и до Мелани. — То есть у нас есть хорошие духи и плохие духи, — уточнил Дэн. — Полагаю, такая трактовка уместна. — Хорошие духи и плохие духи, — повторил он. — Только я не верю в духов, — вздохнула она. — Я тоже. Но каким-то образом в ходе своих экспериментов в серой комнате ваш муж и Хоффриц, похоже, сначала обнаружили, а потом освободили некие оккультные существа, и некоторые из них убивают, а другие предупреждают нас об этих убийцах. И пока я не разберусь, что же это такое… мне кажется, что определенные «духи» очень даже им подходят. Они помолчали. Допили кофе. Дождь усилился, превратился в ливень, который с ревом обрушивался на землю. В глубине комнаты Мелани что-то пробормотала во сне, шевельнулась под одеялом, потом снова успокоилась. — Духи, — вырвалось у Лауры. — Призраки. Это какое-то… безумие. — Сумасшествие. — Просто дурдом. Он включил тусклую лампочку над столиком у окна. Из кармана пиджака достал распечатку списка покупателей магазина «Пентаграмма». Развернул листы и положил их перед Лаурой. — Нет ли в списке знакомых вам имен, помимо вашего мужа, Хоффрица, Эрнста Купера и Неда Ринка? Она просматривала листы десять минут и в итоге обнаружила еще четыре знакомые ей фамилии. — Вот этот. Эдвин Коликников. Профессор психологии в Южно-Калифорнийском университете. Он — постоянный получатель грантов Пентагона, помогал Дилану завязать необходимые контакты в Министерстве обороны. Коликников — специалист в поведенческой психологии, особенно в психологии поведения детей. Дэн предположил, что Коликников — тот самый Эдди, что находился в доме Реджины на Голливудских холмах, а теперь улетел с ней в Лас-Вегас. — Говард Рензевеер, — продолжила Лаура. — Представляет какой-то фонд, располагающий огромными средствами. Я не могу точно сказать, какой именно, но я знаю, что он субсидировал какие-то исследования Хоффрица и несколько раз говорил с Диланом о выделении гранта на его исследования. Я с ним практически незнакома, но у меня сложилось впечатление, что он — крайне неприятный человек, наглый и высокомерный. Дэн не сомневался, что Рензевеер — тот самый упомянутый Реджиной Говард. — Этого я тоже знаю, — Лаура указала еще на одну фамилию. — Шелдон Толбек. Друзья зовут его Шелби. Это звезда первой величины, психиатр и невропатолог, который проводил различные исследования по различным формам диссоциативного поведения. — Это еще что такое? — Диссоциативное поведение? Психологический уход от реальности, кататония, аутизм… такие вот состояния. — Как сейчас у Мелани? — Да. — У меня есть веские причины не сомневаться в том, что эти три человека вместе с вашим мужем и Хоффрицем участвовали в исследованиях, которые проводились в серой комнате. Лаура нахмурилась: — Я могу поверить, что этим занимались Коликников и Рензевеер, но не Толбек. У него безупречная репутация. — Она вернулась к первому листу. — Чуть не пропустила. Вот еще один. Альберт Ахландер. Он — писатель, автор странных… — Знаю. В багажнике моего автомобиля стоит коробка с его книгами. — Он и Дилан активно переписывались. — На какой предмет? — Различные аспекты оккультизма. Точно я не знаю. Больше никаких знакомых фамилий в списке она не нашла, но идентифицировала всех членов тайной исследовательской группы, за исключением высокого, представительного, седовласого мужчины, известного Реджине как Папочка. И Дилан предположил, что Папочка — не просто еще один извращенец, не просто еще один участник исследований, которые проводились в серой комнате, но ключевая фигура, на которой все и держалось. — Я думаю, что все эти люди: Коликников, Рензевеер, Толбек и Ахландер должны умереть. Скоро. Что-то методично убивает всех, кто был связан с экспериментами в серой комнате. Это «что-то», за неимением лучшего термина, мы называем «дух». Это «что-то» они освободили, но не смогли взять под контроль. Если я прав, этим четверым осталось не так уж много времени. — Тогда мы должны предупредить их… — Предупредить их? Нынешнее состояние Мелани на их совести. — Однако пусть мне и хочется их наказания… — Мне кажется, они уже знают о том, что «дух» идет по их следу. Этой ночью Эдди Коликников покинул город. И другие, думаю, тоже собираются уехать. Если еще не уехали. Лаура заговорила после паузы: — И то, что охотится за ними… после того, как доберется до них… следующей целью будет Мелани. — Если верить посланию, которое передали через ваш радиоприемник. — Мы можем ему верить, — мрачно заявила она. Мелани вновь что-то забормотала, и бормотание быстро перешло в стоны страха. Когда девочка сбросила с себя одеяло, Лаура поднялась, шагнула к кровати… но внезапно остановилась, озабоченно огляделась. — Что-то не так? — спросил Дэн. — Воздух, — ответила она. Он это почувствовал еще до того, как Лаура ответила на его вопрос. Воздух становился холоднее.Глава 31
Самолет из Лос-Анджелеса приземлился в Лас-Вегасе перед самой полночью, и Эдди с Реджиной сразу поехали в «Хижину в пустыне», где заранее забронировали номер. К часу ночи они уже зарегистрировались и распаковали вещи. До этого она дважды побывала в Лас-Вегасе с Эдди. Всякий раз они регистрировались под ее фамилией, поэтому она не могла узнать его фамилию ни на регистрационной стойке, ни от коридорных. Знала она только одно: Лас-Вегас сильно заводил Эдди. Возможно, сказывались яркий свет и всеобщее возбуждение. Возможно, вид, запах и звук денег. Какой бы ни была причина, его сексуальный аппетит в Лас-Вегасе проявлялся куда сильнее, чем в Лос-Анджелесе. Каждый вечер, когда они шли обедать и на шоу, она надевала платье с низким вырезом, которое он сам ей выбрал, чтобы выставить напоказ ее прелести, но остальное время она проводила в номере, чтобы обслужить его, когда он возвращался из зала, где играл главным образом в блэкджек[51]. Появляясь в номере два или три раза в день, сверкая глазами, напряженный, но не нервный, он использовал ее для того, чтобы стравить избыточную энергию. Иногда останавливался на пороге, привалившись спиной к двери, расстегивал «молнию» ширинки, приказывал ей подойти к нему, встать на колени, а после того как кончал, уходил, не сказав ни слова. Иногда он хотел трахнуть ее в душе, на полу, в кровати, но в необычных позах, которые раньше его не интересовали. В Вегасе он получал гораздо большее удовлетворение от секса, трахал ее яростно и относился к ней с большей жестокостью, столь ей приятной, чем в Лос-Анджелесе. Вот почему, когда они вошли в их номер, она рассчитывала, что он тут же набросится на нее, но этим вечером секс, похоже, совершенно его не интересовал. Он очень нервничал, когда пришел к ней домой несколько часов тому назад, немного расслабился после того, как их самолет вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса, но расслабление длилось недолго. И теперь он просто… паниковал. Она знала, что он убегает от кого-то, от кого-то или от чего-то, убивающего остальных. Но глубина и сила его страха поразили Реджину. Он всегда казался таким хладнокровным, отстраненным, высокомерным. Она и представить себе не могла, что он подвержен таким эмоциям, как радость и страх. Если Эдди боялся, следовательно, угроза ужасна. Но для нее это не имело ровно никакого значения. Она не боялась. Даже если бы кто-то узнал, что Эдди решил укрыться в Вегасе, и не поленился приехать сюда, чтобы добраться до Эдди, даже если бы ей грозила опасность из-за того, что она с ним рядом, она не боялась. Потому что освободилась от страха. Ее освободил Вилли. Но Эдди от страха не освободили, поэтому он и боялся, боялся до такой степени, что не мог ни трахаться, ни спать. Он хотел спуститься в казино, немного поиграть, но — а вот это Реджина восприняла как самое необычное — хотел, чтобы она составила ему компанию. Чтобы не находиться одному среди незнакомцев, даже в таком людном месте, как казино. То есть, пусть и не напрямую, просил ее о моральной и эмоциональной поддержке, чего никогда ранее ни ему, ни всем остальным от нее не требовалось, да и не могла она оказать им такую поддержку, не могла с той поры, как Вилли изменил ее. И действительно, эмоциональная связь с Эдди возникала у нее, лишь когда он использовал ее, кричал и бил. А проявляемая им слабость вызывала у нее исключительно отвращение. Тем не менее в четверть второго ночи она вместе с ним спустилась в казино. Он хотел, чтобы она сопровождала его, а она всегда делала то, чего от нее хотели. В казино хватало людей, но основной наплыв ожидался через полчаса, после окончания полуночного шоу. Но и теперь сотни людей сидели перед мигающими, вспыхивающими, поблескивающими игровыми автоматами, за столами для блэкджека, стояли у столов, где играли в кости, в смокингах и вечерних платьях, в брюках и джинсах, ковбои, фермеры, горожане, бабушки и молодые проститутки, японцы, прибывшие чартерным рейсом из Токио, и секретарши из Сан-Диего, богатые и не очень, проигрывающие и выигрывающие, проигрывающие преобладали. Дама весом в добрые триста фунтов в ярко-желтом кафтане и тюрбане такого же цвета играла в блэкджек, ставя по тысяче долларов, а рядом с ней нефтяник из Хьюстона ставил лишь по пятьдесят. Охранники в униформе поражали своими габаритами, однако говорили мягко и вели себя крайне вежливо. Крупье были в черных слаксах, белых рубашках и черных галстуках, а за столом, где играли в баккара, даже во фраках. Питбоссы[52] и их помощники ходили по залу в сшитых по фигуре черных костюмах, окидывая происходящее цепкими, проницательными, подозрительными взглядами. В таком месте ни одно телодвижение, даже самое невинное, не могло остаться без внимания. Держась рядом с Эдди — а тот бродил по залу от столика к столику, не принимая участия ни в одной из игр, — Реджина реагировала на вегасскую суету в непривычной для себя манере. Пульс у нее участился, в кровь выплеснулся адреналин, кожу вдруг начало покалывать. Должно что-то случиться, поняла она. Не знала, что именно, но чувствовала, должно. Может, она выиграет кучу денег. Может, именно такие ощущения испытывали люди перед тем, как им улыбалась удача. Ранее она никогда не чувствовала, что ей улыбнется удача. Ранее удача никогда ей не улыбалась. Может, не улыбнется и в эту ночь, но она чувствовала: что-то должно произойти. Что-то значительное. И скоро.* * *
Воздух в комнате мотеля становился все холоднее. Мелани вроде бы спала, но металась под одеялом. Ахнула, застонала, сказала: «Эта… дверь… эта дверь…» Дэн подошел к двери, проверил замок, потому что девочка вроде бы чувствовала: что-то могло заглянуть к ним на огонек. — …держите ее закрытой! Дверь была заперта. Температура воздуха опустилась еще ниже. Мягко, но настойчиво: «Не… не… не дайте выйти!» Войти, мысленно поправила дочь Лаура. Она боится того, что может войти. Мелани металась под одеялом, опять ахнула, содрогнулась всем телом, но по-прежнему спала. Подавленная ощущением крайней беспомощности, Лаура оглядела маленькую комнатку, гадая, какой из предметов, как радиоприемник на кухне, может ожить. Дэн Холдейн вытащил револьвер. Лаура повернулась, ожидая, что окно разлетится на мелкие осколки, дверь разнесет в щепки, в стулья или в телевизор вселится злобная душа. Дэн оставался у двери, словно предчувствуя, что беда придет с этой стороны. Но потом, так же резко, как началось, все и закончилось. Воздух быстро согрелся. Мелани прекратила метаться, перестала говорить. Недвижно лежала на кровати, дышала очень уж медленно и глубоко. — Что случилось? — спросил Дэн. — Не знаю, — ответила Лаура. Температура вернулась к первоначальной. — Все кончено? — спросил Дэн. — Не знаю. Мелани лежала бледная, как смерть.* * *
Поскольку платье Реджина надела с открытыми плечами, изменение температуры воздуха она почувствовала раньше Эдди. Они стояли у стола, где бросали кости, и Эдди как раз раздумывал, а не сделать ли ему ставку. С обеих боковин стола толпился народ, в казино было не просто тепло, а жарко. Реджина даже пожалела, что у нее нет веера. А потом внезапно температура воздуха резко упала. Реджина задрожала, по коже побежали мурашки. На мгновение она подумала, что кто-то перемудрил с системой кондиционирования и чересчур понизил температуру подаваемого в зал воздуха, но потом сообразила, что температура упала слишком уж резко и кондиционерам такое не под силу. Еще две женщины заметили, что стало холоднее, потом Эдди, и на него осознание случившегося произвело жуткое впечатление. Он отвернулся от стола, где бросали кости, обхватил себя руками, задрожал всем телом, лицо перекосило от ужаса. Кровь отлила от головы, кожа стала белее алебастра, глаза остекленели. Он посмотрел направо, налево, стал пробиваться сквозь толпу, расталкивая людей локтями, держа курс на широкий проход между столиками, все дальше уходя от Реджины. — Эдди? — позвала она вслед. Он не удосужился ответить. — Эдди! Холодный воздух просто кусал кожу, во всяком случае, около столов, где бросали кости, и люди уже обсуждали столь неожиданное, резкое и значительное понижение температуры. Реджина сквозь толпу поспешила за Эдди. Он уже добрался до главного прохода, где людей практически не было, остановился, поднял руки, начал поворачиваться вокруг оси, словно ожидал нападения, но не знал, с какой стороны на него набросятся. Но никто набрасываться на него не собирался, и Реджина решила, что у Эдди помутился рассудок. Тут же она заметила, что один из охранников обратил внимание на странное поведение Эдди и тоже направляется к нему. Она вновь позвала Эдди, но тот, даже если и услышал ее, ответить бы не смог, потому что в этот самый момент его ударило, да так сильно, что он отлетел в сторону. Врезался в двух человек, которые проходили мимо него, упал на колени. Но кто ударил его? В тот момент он находился на островке открытого пространства в окружении людского моря. На расстоянии шести или восьми футов никого не было. Но его ударили. Волосы растрепались, лицо залила кровь. Господи, как много крови. Он начал кричать. Крик этот прорвался сквозь громкий шумовой фон казино: вопли радости и неудачи, бормотание крупье и игроков, разговоры, смех, перестук рулеточных шариков, удары костей друг о друга, шелест карт, мелодичный звон и вой сирен игральных автоматов, грохочущую музыку квартета, который играл в баре. И все это то ли стихло, то ли резко убавило в громкости, когда Эдди начал кричать. Его крики рвали душу, пробирали до мозга костей. Одних только этик криков хватило, чтобы люди повернули на них головы, но теперь невидимые усилители (а может, звук усиливался морозным воздухом) разносили их по всему залу, удваивая и утраивая громкость. Словно некое невидимое и чудовищное существо насмехалось над ним, повторяя его крики, но уже на другом уровне громкости. Прекратились все разговоры, замерла игра, даже квартет перестал играть. Только Эдди дико кричал от боли и ужаса, да продолжали позвякивать игральные автоматы. Люди пятились подальше от Эдди, пустое пространство вокруг него увеличивалось. И Реджина остановилась, когда присмотрелась к нему. Из правого, наполовину оторванного, уха лилась кровь. Кровоточила половина разбитого лица. С головы вырвало несколько клоков волос. Его словно ударили огромной дубиной, но сознания он не потерял. Выплюнул кровь и выбитые зубы, начал подниматься с колен, но его ударило вновь так сильно, что крик оборвался. Его подняло с пола и бросило в толпу зевак, которая стояла у одного из игровых столов. Люди кинулись врассыпную, и короткие мгновения относительной тишины сменились уже их воплями и криками. Даже охранник, ранее направлявшийся к Эдди, остановился в замешательстве и страхе. Эдди лежал на полу, напоминая кровавую груду тряпья, но внезапно вскочил, хотя и не по своей воле. Его поставили на ноги, как марионетку, движения которой контролировал невидимый и загадочный кукольник. Он сделал несколько неуверенных шагов от стола, на котором бросали кости, споткнулся, повернулся, прыгнул, развернулся, его бросало из стороны в сторону под чудовищными ударами невидимых кулаков или дубинок, но кукольник держал на ногах свою окровавленную марионетку, не позволяя ей лечь на пол. Реджина отступила в сторону, когда Эдди пронесло мимо. Он действительно не контролировал себя. Руки болтались из стороны в сторону, правый глаз вытек, левый моргал и вертелся в поисках того, кто его избивал. Он врезался в стулья, стоявшие у стола для игры в блэкджек, один перевернул, а крупье, который до того смотрел на него во все глаза, в испуге нырнул под стол. Питбосс уже кричал в телефон, требуя от службы безопасности прислать новых охранников, когда Эдди схватился за стол для блэкджека, совсем как утопающий хватается в море за край спасательного плота, с тем чтобы не позволить невидимому существу или силе тащить его дальше. Но враг силой значительно превосходил его, так что Эдди просто оторвало от пола. Он поднялся над столом для блэкджека, молотя ногами, и завис в воздухе, вызвал в толпе рев недоумения, изумления, ужаса. А потом Эдди бросило на поверхность стола, и во все стороны полетели карты, полупустые стаканы, фишки казино, оставленные игроками, которые вовремя успели выбежать из-за стола. Вновь его приподняло и опять бросило на стол, на этот раз с такой силой, что стол под ним рухнул. В том, что Эдди перебило позвоночник, и не в одном месте, сомнений быть не могло. Но на этом его мучения не закончились. Снова что-то невидимое поставило его на ноги и потащило по проходу, мимо столов, к рядам сверкающих всеми цветами радуги игровых автоматов. Одежда его превратилась в пропитанные кровью лохмотья, кровь текла с него ручьем, пачкая ковер. Он уже потерял сознание, возможно, и умер, мешок растерзанной плоти и сломанных костей, но какая-то сверхъестественная сила заставляла его двигаться. И вот тут в толпе ужас пересилил любопытство. Люди побежали. К входным дверям, к театральному залу, в кафетерий, к лестнице на второй этаж. Куда угодно, лишь бы подальше от этого кровавого месива, в которое за считаные секунды превратился живой человек. И только Реджина, словно зачарованная, последовала за Эдди в его последнем походе к игровым автоматам. Она держалась в пятнадцати футах позади и боковым зрением увидела, что охранники следуют за ней. — Женщина, остановитесь, — приказал ей один. — Станьте, где стоите! Она посмотрела на них. Три здоровяка в одинаковой униформе. Все с оружием на изготовку. Бледные и ничего не понимающие. — Уйдите с дороги, — сказал второй, а первый уже наставил на нее револьвер. Она вдруг поняла, что они, возможно, видят в ней причину случившегося с Эдди. Но что они подумали? Что она обладает сверхъестественными способностями и охвачена жаждой убивать? Она остановилась, как ей и приказали, но вновь повернулась к Эдди. От игральных автоматов его теперь отделяли десять футов. Двадцать хромированных одноруких бандитов, которые располагались непосредственно перед ним, волшебным образом активировались. Одновременно завертелись двадцать комплектов цилиндров. В окошках замелькали вишни, колокольчики, другие символы. Двигались они так быстро, что слились в цветовые полоски. Цилиндры вращались несколько секунд, а потом все двадцать комплектов разом остановились, и в каждом окошке каждой машины появился лимон. Эдди рванулся вперед с наклоненной головой, вернее, что-то понесло его вперед, наклонило голову, и на полном ходу врезался в сверкающий игральный автомат. С такой силой, что череп треснул, как брошенный на землю арбуз. Эдди рухнул. Но что-то мгновенно его подняло, оттащило назад и вновь бросило на автомат. Он опять упал. Его подняло. Оттащило назад. Бросило на автомат. На этот раз с такой силой, что разбилась плексигласовая панель. Мертвец упал на пол. Остался там, недвижим. И воздух оставался холодным. Реджина обхватила себя руками. Почувствовала, как что-то разглядывает ее. Потом воздух начал согреваться, и Реджина поняла, что неведомого существа или силы в казино больше нет. Она посмотрела на Эдди. Узнать его более не представлялось возможным. В глубине души Реджина нашла крошечную толику жалости, но в основном думала о том, какой сладкой была эта смерть, какую невоображаемо острую, всепоглощающую, мучительную боль испытал Эдди. И как же она ему завидовала.* * *
После того как Мелани спокойно пролежала несколько минут, Лаура решила, что худшее уже позади и Дэн может спокойно убирать револьвер в кобуру. Но, как только они вернулись к маленькому столику у окна, девочка вновь начала вертеться и стонать. В комнате похолодало. С гулко бьющимся сердцем Лаура вернулась к кровати. Лицо Мелани исказилось, но не от боли, а, похоже, от ужаса. В этот момент она не напоминала ребенка. Она выглядела… не как старуха, нет… но как маленькая женщина, умудренная опытом, обладающая знаниями, которые накапливаются многие и многие годы, знаниями, которые вызывают тревогу и душевную боль, знаниями о темной стороне человеческой натуры, которые лучше бы и не знать. Оно шло, и до его появления оставалось совсем ничего. Интуитивно Лаура почувствовала приближающуюся к ним зловещую силу. Тоненькие волосики на руках, волосы на затылке встали дыбом. Оно. Лаура в панике огляделась. Никаких демонических существ. Никаких рожденных в аду бестий. «Покажись, черт бы тебя побрал, — со злостью подумала она. — Чем бы ты ни было, откуда бы ни пришло, дай нам себя увидеть, чтобы мы могли тебя ударить и пристрелить». Но Оно не улавливалось пятью органами чувств, и единственным свидетельством его приближения являлось понижение температуры воздуха. И на этот раз температура падала очень быстро, до минусовых значений, чего раньше не случалось. Дыхание паром вырывалось изо рта, оконные стекла и зеркало покрыл конденсат, который на глазах замерзал, превращаясь в лед. Но тридцать или сорок секунд спустя воздух стал нагреваться. Ребенок перестал стонать, невидимый враг ушел, вновь не причинив девочке вреда. Глаза Мелани разом открылись, но смотрела она по-прежнему в свой мир. — Оно их достанет, — пробормотала она. Дэн Холдейн наклонился над ней. Положил руку на маленькое плечико. — Что это за оно, Мелани? — Оно. Оно их достанет, — повторила девочка, обращаясь скорее не к нему, а к себе. — И что же это за чертовщина? — спросил Дэн. — Оно их достанет. — По телу девочки пробежала дрожь. — Успокойся, сладенькая, — обратилась к дочери Лаура. — А потом оно достанет меня. — Нет, — возразила Лаура. — Мы позаботимся о тебе, Мелли. Клянусь. — Оно идет… изнутри… и съест меня… съест меня всю… — Нет, — повторила Лаура. — Нет. — Изнутри? — спросил Дэн. — Как это, изнутри? — Съест меня всю, — голос девочки переполняла печаль. — И откуда оно идет? — спросил Дэн. Девочка тяжело вздохнула, и вздох этот выражал не страх, а скорее смирение с судьбой. — Было здесь что-то несколько мгновений тому назад, Мелани? — спросил Дэн. — То, чего ты боишься, было в этой комнате? — Оно хочет меня, — сказала девочка. — Если оно хочет тебя, то почему не взяло, когда находилось здесь? Девочка его не слышала. Едва слышно произнесла: — Дверь… — Что за дверь? — Дверь в декабрь. — Что это значит, Мелани? — Дверь… Девочка закрыла глаза. Дыхание изменилось. Она соскользнула в сон. Лаура через кровать посмотрела на Дэна. — Сначала Оно хочет добраться до других людей, участвовавших в экспериментах в серой комнате. — До Эдди Коликникова, Говарда Рензевеера, Шелдона Толбека, Альберта Ахландера, может, до кого-то еще, до людей, неизвестных нам. — Да. А после того, как все они умрут, Оно… Оно придет за Мелани. Это она говорила сегодня вечером в нашем доме, после того как в радиоприемник… что-то вселилось. — Но откуда она это знает? Лаура пожала плечами. Они посмотрели на спящую девочку. Паузу прервал Дэн: — Мы должны пробиться через этот… через транс, в котором она находится, чтобы она смогла сказать то, что нам необходимо знать. — Я сегодня предпринимала такую попытку. Ввела ее в гипнотическое состояние. Но без особых успехов. — Вы можете это повторить? Лаура кивнула: — Утром, когда она немного отдохнет. — У нас не так много времени. — Ей нужно отдохнуть. — Хорошо, — с неохотой согласился Дэн. Она знала, о чем он думает: «Раз уж ждем до утра, будем надеяться, что не опоздаем».Глава 32
Лаура спала с Мелани на кровати у стены, тогда как Дэн — на той, что стояла ближе к двери, которая могла стать источником проблем. Лег он в рубашке, брюках, носках и туфлях, с тем, чтобы при необходимости не терять времени на одевание. Лампу над дверью они выключать не стали. После событий прошедшего дня темноте более не доверяли. Дэн прислушивался к их глубокому и ровному дыханию. Сам он спать не мог. Думал об изувеченном до неузнаваемости теле Джозефа Скальдоне, о трупах в доме в Студио-Сити, о Реджине Саванне Хоффриц, физически и умственно живой, но с умерщвленной душой. И, как всегда, когда он слишком долго думал об убийстве в мириаде форм и удивлялся способности человека убивать и убивать вновь, мысли его плавно перетекли к убитым брату и сестре. Он никогда их не видел. Во всяком случае, живыми. Они уже умерли к тому времени, когда ему назвали их имена и он начал их искать. Что же касается его, то он не родился ни «Дэном», ни «Холдейном». Пит и Эльза Холдейн усыновили его, когда ему не исполнилось и месяца. Его настоящие родители, Лоретта и Френк Детвайлер, приехали в Калифорнию из Оклахомы в поисках богатства, но так и не смогли его нажить. Более того, когда Лоретта носила под сердцем их третьего ребенка, Френк погиб в автокатастрофе. А Лоретта, беременность которой проходила с серьезными осложнениями, умерла через два дня после того, как родила Дэна. Она успела назвать его Джеймсом. Джеймсом Детвайлером. Но, поскольку родственников не было, никто не взял опеку над тремя детьми Детвайлеров, поэтому их разделили и отдали в чужие семьи. Питер и Эльза Холдейн никогда не скрывали того факта, что они не являются настоящими родителями Дэна. Он любил их и с гордостью носил фамилию приемных родителей, потому что люди они были хорошие и дали ему все, что могли, но при этом его всегда интересовали его настоящие родители, и он хотел выяснить о них как можно больше. Согласно правилам, принятым в государственных агентствах, определявших детей в другие семьи, Эльзе и Питу ничего не сказали о настоящих родителях младенца, за исключением того, что они умерли. Но и этого хватило, чтобы Дэн всегда хотел узнать, кто же его настоящие родители, поскольку они не бросили его, не отказались от него по собственной воле. Так уж распорядилась судьба. К тому времени, когда пришла пора поступать в колледж, Дэн уже начал бороться с бюрократией, ведающей усыновлением и удочерением, чтобы достать копии касающихся его документов. На это ушло немало времени, пришлось и потратиться, но в результате Дэн узнал свое настоящее имя, а также имена и фамилии своих биологических родителей. К своему изумлению, он выяснил, что у него есть брат и сестра. Когда он родился, брату Дельмару было четыре года, а сестре Кэрри — шесть. С архива агентства по усыновлению, частично уничтоженного пожаром и оказавшегося не таким полным, как надеялся Дэн, он начал еще более активные поиски своих оставшихся ближайших родственников. Пита и Эльзу Холдейн он полагал своими отцом и матерью, их братьев и сестер считал своими дядюшками и тетушками, думал об их родителях как о своих бабушках и дедушках, чувствовал себя частью большой и дружной семьи. Тем не менее… в душе его существовала какая-то пустота, ощущение, что у него нет корней, что его несет по земле, как перекати-поле, и он точно знал, что так будет, пока ему не удастся найти и обнять своих настоящих родственников. А потом он тысячу раз жалел о том, что начал их искать. Первым ему удалось найти Дельмара. В могиле. Конечно же, на надгробном камне не упоминался ни Дельмар, ни Детвайлер. Его брата похоронили как Руди Кессмана. Так назвали Дельмара его приемные родители. Четырехлетнего Дельмара усыновила молодая пара, Перри и Джанетт Кессман, которые проживали в городе Фуллертон, штат Калифорния. Но агентство по усыновлению отнеслось к своим обязанностям спустя рукава, не провело должной проверки и не установило склонности мистера Кессмана к новым, опасным, а иногда и противозаконным увлечениям. Перри Кессман водил грузовики, что, разумеется, являлось совершенно законным занятием. Он также обожал ездить на мотоцикле, что тоже не запрещал закон, хотя потенциально езда на мотоцикле представляла собой серьезную опасность. По бумагам он был католиком, но его влекли новые культы, которые то и дело возникали в Калифорнии. К примеру, долгое время он посещал собрания людей, которые поклонялись НЛО. Но кто мог осуждать человека, который искал бога, даже если искал он его не там, где следовало. Но Кессман к тому же курил марихуану, что в те времена считалось более серьезным правонарушением, чем нынче, пусть и сейчас марихуана находится под запретом. А спустя какое-то время перешел на гашиш, «колеса», сильные наркотики. И однажды ночью, в наркотическом бреду, а может, принося кровавую жертву какому-нибудь новому богу, Перри Кессман убил жену и приемного сына, а потом покончил с собой. Руди-Дельмар Кессман-Детвайлер погиб в семь лет. Кессманом он прожил даже меньше, чем Детвайлером. И теперь, лежа на кровати в номере мотеля, под светом тусклой лампочки, который не разгонял темноту, а лишь драпировал знакомые предметы в загадочные тени, Дэну даже не требовалось закрывать глаза, чтобы увидеть кладбище, где он в конце концов нашел своего брата. Надгробные камни не отличались друг от друга, все лежали на земле, чуть выступая из травы, чтобы не портить контуры склонов холма. Каждый являл собой прямоугольный кусок гранита, по центру которого крепилась полированная медная табличка с именем и фамилией усопшего, датами рождения и смерти, а также со строкой-другой из Писания или от родственников. В случае Дельмара не было ни строки Писания, ни теплых слов родственников, скорбящих о безвременной кончине, только имя, фамилия и две даты, холодная и безликая надпись. Дэн мог вспомнить тот достаточно теплый октябрьский день, легкий ветерок, тени деревьев, ложащихся на сочно-зеленую траву. Но в основном он вспоминал свои чувства, охватившие его, когда он упал на колени и положил руку на медную табличку, отмечавшую место упокоения брата, с которым ему так и не удалось встретиться: острое, рвущее душу, перехватившее дыхание ощущение потери. И даже сейчас, по прошествии многих лет, хотя он смирился с тем, что брата ему никогда не встретить, Дэн вдруг почувствовал, что у него пересохло во рту. Горло сжало. Грудь тоже. Он мог бы заплакать, как плакал другими ночами, когда к нему возвращалось это воспоминание. Он так ослабел, что слезы легко могли брызнуть из глаз. Но Мелани что-то забормотала и во сне вскрикнула от испуга, и этот вскрик мгновенно заставил Дэна подняться с кровати. Девочка металась под одеялом, но не столь яростно, как чуть раньше. В ужасе стонала, но так тихо, что не будила мать. Вроде бы Мелани боролась с тем, кто нападал на нее, но у нее недоставало сил для сопротивления. Дэну оставалось только гадать, какой монстр выслеживал ее в кошмарном сне. А потом в комнате резко похолодало, и он понял, что монстр этот, возможно, выслеживает ее не во сне, а в реальности. Он вернулся к своей кровати, взял со столика револьвер. Температура воздуха стала арктической. И продолжала понижаться.* * *
Двое мужчин сидели за столом у большого панорамного окна, играли в карты, пили шотландское виски и молоко, прикидываясь двумя парнями, которые отлично проводят время в компании друг друга. Ветер завывал под карнизами бревенчатого коттеджа. Снаружи царила морозная ночь, в феврале в горах по-другому и быть не могло, нового снегопада не ожидалось, по искрящемуся звездами небу плыла огромная луна, заливая перламутровым светом припорошенные снегом сосны и ели и укрытый белым одеялом луг на склоне горы. Они находились далеко от шумных улиц и ярких огней Большого Апельсина[53]. Шелдон Толбек удрал из Лос-Анджелеса вместе с Говардом Рензевеером в отчаянной надежде, что расстояние гарантирует безопасность. Они никому не говорили, куда отправились, в столь же отчаянной надежде, что убийственный психогейст[54] не сможет последовать за ними в место, о котором не знает. Во второй половине прошлого дня они на автомобиле уехали из Лос-Анджелеса, сначала на север, потом на северо-восток, все дальше и дальше углубляясь в горы, держа курс на небольшой бревенчатый коттедж неподалеку от Маммота[55]. Коттедж принадлежал брату Говарда, но он сам никогда там не был, так что в коттедже их не ждали. «Оно нас все равно найдет, — с тоской думал Толбек. — Так или иначе унюхает нас». Он не озвучил эту мысль, потому что не хотел злить Говарда Рензевеера. Говард, в сорок лет по-прежнему очень моложавый, не сомневался, что будет жить вечно. Он бегал трусцой, по минимуму ел жир и белый сахар, каждый день медитировал по полчаса. Говард всегда ожидал, что получит от жизни самое лучшее, и жизнь обычно ни в чем ему не отказывала. И Говард с оптимизмом оценивал их шансы. Говард абсолютно не сомневался (или говорил, что не сомневается) в том, что существо, которого они боялись, не могло путешествовать так далеко и найти их, если они позаботятся о том, чтобы замести следы. Однако Толбек, конечно же, заметил, что Говард бросал нервный взгляд на окно всякий раз, когда карнизы возмущенно скрипели под очередным порывом ветра, и иногда подпрыгивал от громкого треска горящих в камине поленьев. Да и потом, уже того, что онибодрствовали глубокой ночью, хватало, чтобы счесть оптимизм Говарда ложью. Толбек наливал в свой стакан виски и молока, а Говард Рензевеер тасовал карты, когда в комнате похолодало. Они разом повернулись к камину. Огонь горел, как и прежде, а лопасти вентилятора тихонько шуршали, гоня в комнату теплый воздух. Не открылись ни дверь, ни окно. И вот тут им стало ясно, что холод, который они почувствовали, — не случайный порыв ветерка, потому что температура воздуха быстро снижалась. Оно пришло. Сказочный, злобный враг. Только что его здесь не было, а через мгновение Оно уже обреталось рядом, демонический и смертоносный сгусток психической энергии. Толбек поднялся. Говард Рензевеер вскочил так резко, что перевернул стакан с виски и молоком, потом стул, выронил колоду карт. Комната температурой уже не отличалась от морозильника, хотя в камине все так же горел огонь. Большой круглый ковер, который лежал на полу между двумя обитыми зеленой тканью диванами, вдруг поднялся в воздух на высоту шести футов. Там и завис параллельно полу. Потом начал вращаться, будто гигантская виниловая пластинка, поставленная на невидимый проигрыватель. С мыслями о бегстве, которые казались глупыми и безнадежными, Толбек попятился к двери черного хода. Рензевеер стоял у стола, зачарованный видом вращающегося ковра, не в силах сдвинуться с места. Ковер упал на пол. Зато один из диванов полетел через комнату, сбил маленький столик с лампой, сломал две ножки, врезался в стойку для журналов, после чего глянцевые издания посыпались на пол, словно птицы, неспособные взлететь. Толбек целенаправленно пересекал гостиную в направлении кухни. Он уже практически добрался до двери. И у него появилась-таки надежда, что ему удастся спастись. Не решаясь повернуться спиной к невидимому врагу, который находился в гостиной, он завел руку за спину, пытаясь нащупать пальцами ручку двери. Вокруг Рензевеера закружились брошенные им карты, обретя собственную жизнь, совсем как щетки в фильме «Ученик чародея»[56]. Они вились вокруг него, словно листья, подхваченные дьявольским ветром, сталкивались друг с другом в этом завораживающем танце, издавая звуки, которые Толбеку уже доводилось слышать, если в его присутствии кто-то затачивал ножи. И едва мысль эта пришла ему в голову, как он увидел, что у Рензевеера кровоточат руки, которыми он пытался отбиться от этих покрытых пластиком прямоугольников, а также лицо, голова, шея. Конечно же, карты не могли быть достаточно твердыми и жесткими, чтобы нанести хоть малейшую царапину, и, однако, они резали, кромсали, а Рензевеер вопил от боли. Заведенная за спину рука Толбека наконец-то нашла ручку двери. Она не подалась под его пальцами. Заперта. Он мог повернуться, найти стопор, в мгновение ока выбежать из коттеджа, но не смог оторвать взгляд от происходящего в гостиной. Страх одновременно впрыснул в кровь адреналин и парализовал его. Ему хотелось бежать куда глаза глядят, и при этом разум и ноги онемели. Карты упали на пол, ковер тоже. Руки Говарда выглядели так, будто на них натянули алые перчатки. Карты еще падали на пол, когда каминную решетку сорвало с кронштейнов. Горящее полено вылетело из камина, пересекло комнату и ударило в Рензевеера, потрясенного до такой степени, что он даже не попытался отбить деревянный снаряд. Полено уже наполовину сгорело, и в полете за ним тянулся огненный хвост. Когда оно ударило Рензевееру в живот, обгоревшая часть окуталась черным дымом и осыпалась на туфли Рензевеера. А несгоревшая сердцевина, словно дротик, проникла в брюшину, разрывая кровеносные сосуды, внутренние органы, неся с собой жар огня. Этого жуткого зрелища вполне хватило для того, чтобы излечить паралич страха, заставивший Толбека терять у двери долгие, драгоценные секунды. Он нашел стопор, повернул, распахнул дверь, выскочил в ночь, ветер, темноту, побежал, спасая свою жизнь. Температура воздуха поднялась так же быстро, как и упала. В номере мотеля вновь стало тепло. Дэну Холдейну оставалось только гадать, что случилось… или почти случилось. Что означает изменение температуры воздуха? Опять что-то оккультное появлялось в номере на несколько секунд? Если так, если Оно появилось, почему не напало на Мелани? И что заставило его покинуть номер? Мелани, похоже, почувствовала, что угрозы больше нет, потому что затихла под одеялом. Стоя у кровати, глядя на исхудавшую девочку, Дэн, похоже, впервые понял, что она вырастет в такую же красавицу, как и ее мать. Мысль эта заставила его повернуться к Лауре, которая лежала рядом с дочерью и так крепко спала, что не почувствовала ни метаний Мелани под одеялом, ни арктического холода, на полсекунды, или около того, воцарившегося в их номере. Во сне ее лицо напоминало ему лица мадонн, которые он видел на картинах в музеях. В бледно-янтарном свете тусклой лампочки разметавшиеся по подушке густые, шелковистые каштановые волосы Лауры отливали красным золотом осеннего заката, и Дэну захотелось коснуться этих волос, почувствовать, как скользят они между пальцами. Он вернулся к своей кровати. Лег на спину, уставившись в потолок. Подумал о Синди Лейки. Погибшей от руки обезумевшего бойфренда ее матери. Подумал о своем брате, Дельмаре. Погибшем от руки приемного отца, галлюцинирующего наркомана. Разумеется, подумал о своей сестре. По-другому у него не бывало. В любую ночь, если он не мог уснуть, на память приходили Дельмар, Кэрри, Синди Лейки. Со временем, с помощью архива агентства, которое после смерти Лоретты Детвайлер занималось устройством детей в другие семьи, Дэн нашел сестру, с которой его разлучили, когда ему был месяц, а ей — шесть лет. Как и Дельмар, она уже умерла к тому времени, когда Дэн вышел на ее след. Шестилетняя Кэрри тяжело переживала распад семьи. Эти трагические события нанесли ей тяжелую психологическую и эмоциональную травму, поэтому у нее возникли поведенческие проблемы, из-за которых она никак не могла прижиться у приемных родителей. Так она и дрейфовала из приюта в семью и обратно, с крепнущим ощущением, что она нигде и никому не нужна. Поведение ее становилось все хуже, она начала убегать из приемных семей, и с каждым побегом властям все с большим трудом удавалось найти ее и привести назад. К семнадцати годам она уже прекрасно знала, как прятаться от тех, кто ее ищет, и с тех пор оставалась на свободе, сама себе хозяйка. На всех фотографиях, которые удалось найти Дэну, выглядела она красавицей, но вот в школе успевала не очень, рабочей специальности не имела, а потому, как и многие другие симпатичные девушки из неблагополучных семей, способом заработка она выбрала проституцию… или, вернее, проституция выбрала ее, поскольку выбора-то у нее особо и не было. К тому времени, когда оборвалась ее короткая, несчастная жизнь, Кэрри исполнилось двадцать восемь лет и она была высокооплачиваемой девушкой по вызову. Один из ее клиентов захотел чего-то особо извращенного. Она отказалась, возникший спор закончился для Кэрри трагически. Ее убили за пять недель до того, как Дэн нашел ее, а ко времени его приезда она пролежала в могиле всего лишь месяц. С братом он разминулся на долгих двенадцать лет, тогда как от встречи с сестрой его отделил какой-то жалкий месяц. Он говорил себе, что она была бы ему совершенно чужим человеком. У них нашлось бы слишком мало общего, а возможно, и ничего. Она могла бы и не обрадоваться встрече с ним, все-таки он — коп, а она — девушка по вызову. И он мог бы сожалеть, увидев женщину, которой стала его сестра. И почти наверняка, учитывая сложившиеся обстоятельства, их воссоединение и последующие отношения принесли бы с собой гораздо больше душевной боли, чем радости. Ему тогда было лишь двадцать два года, он только-только начал службу в полиции, когда нашел могилу сестры, и в двадцать два эмоционально он был еще очень уязвим, плакал, узнав о потере. Черт, даже теперь, прослужив в полиции много лет, навидавшись людей, которых убивали выстрелом в упор, резали, забивали насмерть, душили, закалившись работой, которую выполнял, он все равно иногда оплакивал брата и сестру, когда глубокой бессонной ночью вспоминал прошлое. Частично в смерти Кэрри он винил себя. Чувствовал, что мог искать ее более активно и тогда успел бы найти живой. Но при этом знал, что вины на нем нет. Если бы он и нашел ее раньше, его слова или действия не заставили бы ее изменить образ жизни, она осталась бы той же девушкой по вызову, и он бы не смог предотвратить ее встречу с клиентом-убийцей. Он не заслуживал вины, которая глодала его. Вина эта была еще одним признаком свойственного ему комплекса Атласа: ему казалось, что он держит на плечах весь мир. Он понимал себя, даже мог смеяться над собой, иногда говорил (учитывая способность чувствовать за собой вину), что ему следовало бы родиться евреем. Но смех над собой ни в малейшей степени не умалял его чувство ответственности. В общем, если сон никак не шел, мыслями он часто возвращался к Дельмару, Кэрри и Синди Лейки. Лежа в темноте, размышлял о человеческой способности убивать, о собственном бессилии спасти живых и рано или поздно начинал думать о том, что, по существу, убил мать, потому что она умерла от осложнений, возникших при его родах. Безумие. Но сам предмет размышлений сводил его с ума. Факт смерти. Факт убийства. Факт, что в каждом мужчине и женщине скрыт жаждущий насилия дикарь. Он так и не смог сжиться с этими непреложными фактами и полагал, что никогда не сможет. Продолжал верить, что жизнь драгоценна, а человечество благородно… или, во всяком случае, создавалось с тем, чтобы быть благородным. От Дельмара к Кэрри, от Кэрри к Синди Лейки: обычная ночная последовательность воспоминаний. Когда он заходил так далеко, то частенько находил себя на краю пропасти иррационального, согнувшимся под грузом вины и отчаяния, а потому иногда, не часто, но иногда, вставал с кровати, зажигал лампу и пил, пока не отключался. Дельмар, Кэрри, Синди Лейки. Если ему не удастся спасти дочь и мать Маккэффри, их имена пополнят череду нежеланных воспоминаний: Дельмар, Кэрри, Синди Лейки… Мелани и Лаура. И тогда он, наверное, не сможет жить с самим собой. Дэн понимал, что он — всего лишь коп, всего лишь человек, ничем не отличающийся от других, не Атлас, не рыцарь в сверкающей броне, но глубоко внутри какая-то его часть хотела, чтобы он был рыцарем, и лишь благодаря этой части (мечтатель, наивный чудак) он, собственно, и жил. Без нее он бы, пожалуй, не протянул и дня. Вот почему он защищал Мелани и Лауру, словно членов своей семьи. Они стали ему дороги, и, позволив им умереть, он тоже умер бы, во всяком случае, эмоционально и психологически. Дельмар, Кэрри, Синди Лейки… На этом последовательность пока еще обрывалась, и наконец он провалился в сон под ровное дыхание Лауры и Мелани, напоминавшее далекий морской прибой.* * *
Шелдон Толбек бежал в ночь по заснеженному лугу, хотя местами глубина снега достигала колен. Склон горы серебрили сильный мороз и лунный свет. Он бежал прочь от коттеджа, выдыхая клубы пара и поднимая облака снега, которые в фантасмагорическом сиянии луны приобретали формы каких-то страшилищ. Из коттеджа неслись крики Рензевеера, чистый прозрачный воздух уносил их далеко, прежде чем они эхом отражались от склонов гор и возвращались назад, создавая впечатление, что кричит множество людей. Эта жуткая какофония вызывала даже мысль о том, что где-то неподалеку открылись врата ада и крики эти издают грешники, поджаривающиеся на адском огне. Они нагнали такого страха на Толбека, что он мчался так, будто его преследовал дьявол. Он был в теплых сапогах, но без пальто, поэтому поначалу холодный ветер вызывал болезненные ощущения. Но, поскольку Толбек продолжал этот безумный забег к дальнему концу луга, ветер превратился в тысячи иголок, впрыскивающих в тело мощное анестезирующее средство. В пятидесяти или шестидесяти ярдах от коттеджа его лицо и руки наполовину потеряли чувствительность. Ветер продувал фланелевую рубашку и джинсы, так что в сотне ярдов от коттеджа все его тело словно оказалось под воздействием новокаина. Он знал, что потеря чувствительности продлится лишь несколько минут, потому что вызвана шоком. А потом вернется боль, и холод, как краб, заползет в кости, добираясь до мозга своими ледяными клешнями. Не зная, куда бежит, ведомый не разумом, а ужасом, он перебрался через высокий сугроб, наметенный в конце луга, и очутился в лесу. Над ним возвышались массивные ели и сосны. Фосфоресцирующий свет луны достигал земли лишь сквозь редкие прогалины между кронами этих гигантских и растущих близко друг от друга деревьев. Там же, где свету луны удавалось пробиться сквозь кроны, он напоминал лучи прожекторов, и рядом с этими светящимися колоннами все казалось эфемерным, неземным. А чуть дальше лес прятался в густой темноте, оттенки которой варьировались от чернильно-черного до синего, лилового, угольно-серого. Толбек, выставив руки, спешил увеличить расстояние между собой и коттеджем. Уходил и уходил в лес. Ногой угодил в канаву, упал лицом вниз, поднялся. Глаза его приспосабливались к темноте, но не так быстро, как хотелось бы. Он видел перед собой лишь небольшую полоску земли, дальше все скрывала темнота, но продолжал идти быстрым шагом, иногда даже переходил на бег. Несколько минут тому назад крики Рензевеера прекратились, а это означало, что теперь дичью стал он. Толбек споткнулся, упал, больно стукнувшись коленями о землю. Поднялся. Двинулся дальше. Продрался сквозь схваченные морозом кусты, которые трещали, не желали пропускать его, царапались. Но он с ними справился. Наткнулся на низкую ветвь сосны, которая ободрала его голову. Кровь, которая потекла по лицу, просто обжигала холодную кожу. Он продолжил путь. Увидел, что находится в широком, неглубоком овраге, дно которого покрывали камни, сушняк, груды замерзшей грязи, принесенные последним дождем осени, уступающей место зиме. Какие-то участки покрывал лед, где-то лежал снег, там, где деревья чуть расступались, он мог долететь до земли, не оставшись на кронах, но в целом продвигаться по оврагу было легче, чем по лесу. Толбек прошел по нему несколько сот ярдов, забираясь все выше и выше, пока овраг не сузился и не уперся в крутой склон неподалеку от гребня. Толбек преодолел склон, там, где деревья росли реже и хватало места кустам, за которые он и цеплялся. Руки так замерзли, что он не чувствовал порезов и ссадин, появившихся при подъеме. Наконец на гребне усталость и физическое истощение взяли верх над паникой. Толбек рухнул на землю, не в силах сделать хотя бы шаг. На гребне деревья росли не так густо, ветер снова нашел его, землю покрывал снег, залитый лунным светом. Через несколько мгновений, чуть отдышавшись, Толбек заполз за гранитный выступ, который защищал и от ветра, и от света. Сел, переводя взгляд с уходящего вниз склона ущелья на овраг, по которому добрался до гребня. Он слышал только посвист ветра в кронах хвойных деревьев. Разумеется, это не могло свидетельствовать о том, что психогейст не преследовал его. Он мог находиться внизу, меж деревьев, неторопливо и беззвучно приближаясь к нему. Ничто не шевелилось, лишь ветер иногда поднимал на гребне фонтанчики снега. Но, вглядываясь в темноту, Толбек понимал, что выискивать там врага бессмысленно, глупо, потому что, даже если бы психогейст приближался, увидеть его не было никакой возможности. В нем не было ничего материального, Оно представляло собой сгусток чистой энергии. Не было материальным субъектом, но обладало невероятной силой. Никакой формы, одна только сила. Никакого тела, только сознание и воля… и маниакальная жажда мести и крови. Он не мог обнаружить психогейст на расстоянии. И если бы психогейст нашел его, с ним не смог бы справиться ни он, ни кто бы то ни было. Однако он никогда не был фаталистом и не собирался становиться им теперь, не мог принять как должное безнадежность ситуации, в которой оказался. Обняв себя руками, дрожа всем телом, прижимаясь спиной к защищающему его от ветра гранитному выступу, Толбек всматривался в лежащий внизу лес, напрягал слух, но слышал лишь те звуки, причиной которых мог быть только ветер, и говорил себе снова и снова, что Оно не сможет прийти сюда, не найдет его, не разорвет на части. Неподвижность приводила к тому, что тело выделяло меньше тепла, и уже через несколько минут холод начал вгрызаться в него. Его трясло, зубы стучали, и он вдруг осознал, что не может сжать пальцы в кулак. Кожа стала не только холодной, но и сухой, губы трескались, кровоточили. От жалости к себе Толбек заплакал, и слезы собирались на усах и бороде, где и замерзали. Как же ему теперь хотелось, чтобы он никогда не повстречал Дилана Маккэффри и Вилли Хоффрица. Ведь тогда он бы не увидел ни серой комнаты, ни девочки, которую научили находить дверь в декабрь. Кто бы мог представить себе, что эти эксперименты выйдут из-под контроля и Оно сможет вырваться на свободу? Внизу что-то двигалось. От неожиданности Толбек набрал полную грудь холодного воздуха, который обжег горло и легкие. Что-то трещало, ударялось, ломалось. Олень, решил он. В этих местах хватало оленей. Но это был не олень. Он продолжал прятаться за гранитным выступом, надеясь, что там его не найти, хотя и знал, что лишь обманывает себя. Что-то застучало внизу. Странный звук нарастал, приближаясь. А потом что-то маленькое и твердое ударило Толбека в грудь, отскочило, упало на замерзшую землю. Посмотрев вниз, в лунном свете он увидел, что это голыш. Снизу злобное Оно бросило в него голышом. Вокруг все стихло. Оно играло с ним. Опять внизу что-то застучало. Его ударило второй раз, не сильно, но сильнее, чем первым голышом. Он увидел, как второй голыш, белый, размером побольше, тоже упал на землю. Теперь он понял, что за стук доносился до его ушей. Голыши поднимались по склону прыжками, ударяясь и отскакивая от камней побольше. Психогейст обладал завидной точностью. Толбеку хотелось убежать. Но сил уже не было. В отчаянии он посмотрел направо, налево. Даже если бы силы и появились, бежать было некуда. Он вскинул глаза к небу. На него смотрели холодные и яркие звезды. Никогда небо не выглядело таким враждебным. Он понял, что молится. Молится богу. Он не молился уже двадцать лет. Внезапно стук многократно усилился, армия голышей поднималась по склону, десятки, может, сотни маленьких камешков. Стук набирал силу, казалось, что град барабанит по бетонным плитам. Туча камней поднялась над гребнем, поблескивая в бледном свете луны, и понеслась на Толбека, обрушилась на голову, лицо, руки, тело. Ни один из голышей не летел со скоростью пули или даже в два раза медленнее. Нет, скорость всех была невелика, но каждый удар все равно вызывал боль. На этом гребне, на этом склоне закон всемирного тяготения более не действовал, во всяком случае, для маленьких камешков. Они поднимались вверх, сотни и сотни, и обрушивались на него. Он подтянул колени к груди, уткнулся в них лицом, закрыл голову руками. Старался вжаться в гранитный выступ, но голыши все равно находили его. Время от времени в него ударял камень, размером значительно превосходящий голыш. И всякий раз он вскрикивал от боли, потому что по силе удар такого камня превосходил удар кулаком. Тело покрыли кровоподтеки и синяки. Он подумал, что один из камней сломал ему левое запястье. Музыка, что гремела на склоне, мерный перестук барабанных палочек, изменилась: в нее вплелись тяжелые, грохочущие удары. Теперь, помимо голышей, к гребню поднимались не только камни, но, похоже, и валуны. Что-то, чего он не мог увидеть, собиралось забить его до смерти камнями, и он более не молился — кричал. И однако даже сквозь крики он слышал ужасающий грохот валунов, которые катились вверх по склону к гребню. Создавалось ощущение, что поверхностный слой склона целиком оторвался от земной коры, но, вместо того чтобы сползти вниз, нарушая все законы природы, двинулся в обратном направлении. Под ногами Толбека твердый гранит ходил ходуном. При ударе о землю каждого поднимающегося по склону валуна выделялась энергия, равная взрыву гранаты. Он кричал во всю мощь легких, но не мог слышать себя за чудовищным грохотом поднимающейся к гребню лавины. Валуны взлетали над гребнем и падали вокруг него. Некоторые с такой силой, что разлетались вдребезги. Осколки впивались в него, рвали кожу и плоть, но ни один валун в него не попал, не раздавил в лепешку, как он того ожидал. Два, три, полдюжины, десяток валунов навалило рядом с гранитным выступом, а его, Толбека, поранило только осколками. А потом все стихло. Толбек ждал, затаив дыхание. Но тут холод напомнил о себе. И ветер. Пустив в ход руки, Толбек убедился, что оказался в каменном гробу. Одна из стен — гранитный выступ, три другие и крыша — валуны. Слишком тяжелые, чтобы он мог их раскидать. В стенах хватало щелей, в некоторые даже проникал лунный свет, во все — ветер, но ни в одну Толбек не мог просунуть даже руку, не говоря уже о том, чтобы пролезть через нее, выбраться на свободу. И пусть в воздухе недостатка не было, Толбек понял, что похоронен заживо. На мгновение его охватил ужас, а потом он подумал о том, что случилось с Маккэффри, Хоффрицем и некоторыми другими, и такая смерть показалась ему почти милосердной. Холод опять начал донимать его, ледяными зубами впиваясь в кожу, мышцы, кости. Но это должно было пройти, и быстро. Несколько минут, и тело онемеет, и на этот раз онемение будет только нарастать. Кровь уже начала отступать от поверхности тела, от замерзающей кожи, в отчаянной попытке сохранить жизненно важные внутренние органы. Уменьшилось и поступление крови в мозг до минимума, поддерживающего его жизнедеятельность, и Толбека потянуло в сон. Он понимал, что от этого сна ему уже не проснуться. Но умереть во сне — не так уж и плохо. По сравнению с тем, как погибли Эрни Купер и остальные. Толбек расслабился, смирившись с неизбежным. Он боялся смерти, но теперь не возражал против того, чтобы встретиться с ней лицом к лицу, потому что знал: боли не будет. Если не считать посвиста ветра, в ночи царила тишина. С большим трудом Толбек свернулся калачиком в своей могиле и закрыл глаза. Что-то ухватило его за нос, дернуло, вывернуло с такой силой, что из глаз брызнули слезы. Он отмахнулся правой рукой, ударив воздух. Что-то оторвало ему ухо. Что-то невидимое. — Нет! — взмолился он. Что-то сильно ударило в правый глаз, боль пронзила голову, и он понял, что его ослепили, пока только на один глаз. Психогейст проник сквозь щели и составил ему компанию в каменной, продуваемой ветром могиле. Толбеку стало ясно, что смерть его не будет легкой.Ночью Лаура проснулась и не сразу поняла, где находится. Янтарный свет тусклой лампы создавал странные и угрожающие тени. Она увидела, что рядом стоит вторая кровать. На ней, полностью одетый, спал Дэн Холдейн. Мотель. Они спрятались, укрылись в номере мотеля. Все еще с затуманенным от сна рассудком, с закрывающимися глазами, она повернула голову, посмотрела на Мелани и поняла, что девочка разбудила ее. Температура воздуха в комнате резко понижалась, а Мелани ворочалась под одеялом, слабо постанывала, что-то бормотала в страхе. И в комнате… что-то находилось, что-то совсем не человеческое, иное, невидимое, но явное. Его присутствие Лаура ощущала куда более отчетливо, чем когда оно дважды врывалось на кухню в ее доме или ранее появлялось в этой самой комнате. Она только-только проснулась, а потому главенствующую роль еще продолжало играть подсознание, которое куда более открыто для восприятия самых фантастических концепций, чем сознание, такое же консервативное и во всем сомневающееся, как небезызвестный Фома. Теперь же, пусть Лаура и понятия не имела, что это такое, она почувствовала, как это «что-то» двинулось через комнату и зависло над Мелани. И внезапно Лаура осознала: ее дочь прямо сейчас забьют до смерти у нее на глазах. В панике она начала подниматься, дрожа всем телом, при каждом выдохе мельчайшие капельки воды мгновенно превращались в кристаллики льда. Но она еще не успела откинуть одеяло, как воздух согрелся, а дочь успокоилась. Лаура замерла, не отрывая глаз от девочки, потом оглядела комнату, но опасность, если она и была, исчезла. Она более не чувствовала присутствия в номере мотеля чего-то враждебного. И куда оно ушло? Зачем приходило и почему ушло по прошествии нескольких секунд? Лаура, укрывшись одеялом, легла набок, лицом к Мелани. Девочка ужасно осунулась, маленькая, хрупкая. «Я ее потеряю, — с тоской подумала Лаура. — Оно рано или поздно доберется до нее. Оно собирается ее убить, как до этого убило остальных, и я ничего не смогу сделать, чтобы остановить Оно, потому что не понимаю, откуда это Неведомое приходит, почему хочет погубить мою девочку, что собой представляет». Какое-то время она лежала, укутанная не столько одеялом, сколько отчаянием. Однако сдаваться она не привыкла, тем более вот так сразу, и постепенно убедила себя, что миром и всем, в нем происходящим, правят причинно-следственные связи, а потому, каким бы загадочным ни казалось то или иное явление, понять его можно лишь с помощью интеллекта и логики. Она решила, что утром вновь погрузит Мелани в гипнотическое состояние, и на этот раз надавит на дочь чуть сильнее, чем в первый раз. Существовала, конечно, опасность, что Мелани может «сломаться», если заставлять ее вспоминать травмирующие события, но приходилось идти на риск, потому что речь шла о спасении жизни ребенка. Что это за дверь в декабрь? Что находится по другую ее сторону? И что за чудовище приходило через эту дверь? Лаура снова и снова задавалась этими вопросами, пока они не превратились в бесконечно повторяющиеся строки колыбельной, которая и увлекла ее в темноту. Когда наступил рассвет, Лаура крепко спала и видела сон. Она стояла перед огромной железной дверью, над которой висели часы, отсчитывающие последние перед полуночью секунды. Как только все три стрелки (секундная, минутная, часовая) совместились бы в одну, направленную вверх вертикальную полоску, дверь открылась бы и на нее бросилось бы что-то ужасное, жаждущее крови. Она не могла найти что-нибудь тяжелое, чтобы подпереть дверь, помешать ей открыться, не могла отойти от двери, ей оставалось только ждать, и тут она услышала, как чьи-то острые когти скребут пол с другой стороны двери. От одного этого звука внутри все похолодело. А время истекало.
Часть IV. ОНО Четверг 8. 30–17. 00
Глава 33
Лаура сидела за маленьким столиком у окна, за которым провела часть ночи с Дэном. Только теперь напротив нее сидела Мелани. Лаура уже загипнотизировала дочь и увела ее в прошлое. И в данный момент, во всех смыслах, кроме физического, девочка вновь находилась в доме в Студио-Сити. Дождь перестал, но этот зимний день выдался облачным и мрачным. Ночной туман так и остался висеть над городом. Поэтому улица, которая лежала за автомобильной стоянкой, едва просматривалась сквозь серую мглу. Лаура искоса глянула на Холдейна, который устроился на краешке одной из кроватей. Он кивнул. Лаура вновь повернулась к Мелани. — Где ты, сладенькая? Девочка содрогнулась. — В подземной темнице, — тихо ответила она. — Так ты называешь серую комнату? — В подземной темнице. — Оглядись. С закрытыми глазами, в трансе, Мелани медленно повернула голову сначала налево, потом направо, словно изучала другое место, в котором, по ее убеждению, находилась. — Что ты видишь? — спросила Лаура. — Стул. — С электрическими проводами и электродами? — Да. — Они заставляли тебя садиться на этот стул? Девочка содрогнулась. — Успокойся. Расслабься. Никто больше не причинит тебе вреда, Мелани. Девочка успокоилась. Пока этот сеанс гипноза проходил гораздо успешнее, чем первый, который Лаура провела днем раньше. Мелани отвечала на конкретные вопросы, практически без задержки. Впервые после их воссоединения в больнице Лаура точно знала, что девочка ее слушает, реагирует на нее, и радовалась достигнутому прогрессу. — Они заставляли тебя садиться на этот стул? — повторила Лаура. Не открывая глаз, девочка сжала пальцы в кулачки, прикусила губу. — Мелани? — Я их ненавижу. — Они заставляли тебя садиться на этот стул? — Я их ненавижу! — Они заставляли тебя садиться на этот стул? Слезы выступили из-под сжатых век, пусть девочка и старалась их сдержать. — Д-да… заставляли меня… сидеть… больно… так больно… — И они подсоединяли тебя к вот этой установке контроля за деятельностью мозга. — Да. — Зачем? — Чтобы учить меня, — прошептала девочка. — Учить чему? Мелани дернулась и заплакала. — Больно! Жалится! — Ты сейчас не на том стуле, Мелани! Ты всего лишь стоишь рядом с ним. Через тебя не будут пропускать электроток. Он не будет жалиться. Сейчас с тобой все в порядке. Ты меня слышишь? От муки на лице девочки не осталось и следа. Лаура жалела дочь, но понимала, что должна продолжать сеанс, какими бы болезненными ни были эти воспоминания для Мелани, потому что только из этих воспоминаний они могли извлечь ответы, объяснения, узнать правду. — Когда они сажали тебя на стул, когда они… причиняли тебе боль, чему они старались научить тебя, Мелани? Чему ты должна была научиться? — Контролю. — … Контролю над чем? — Моими мыслями. — И о чем тебе следовало думать? — О пустоте. — Как это? — Ни о чем. — Они хотели, чтобы ты очистила свой рассудок от мыслей. Так? — И они не хотели, чтобы я чувствовала. — Чувствовала что? — Что угодно. Лаура посмотрела на Дэна. Тот хмурился и, похоже, тоже ничего не понимал. Лаура вновь повернулась к дочери. — Что еще ты видишь в серой комнате? — Резервуар. — Они заставляли тебя забираться в резервуар? — Голой. В одном этом слове, «голой», слышались не только стыд и страх, но и полная беспомощность и уязвимость. У Лауры защемило сердце. Она готова была закончить сеанс, обойти стол, обнять дочь, крепко прижать ее к себе. Но, если они хотели спасти Мелани, им требовалось узнать, что вынесла девочка и почему. И пока узнать что-либо они могли лишь с помощью гипноза. — Сладенькая, я хочу, чтобы ты поднялась по серым ступеням и влезла в резервуар. Девочка захныкала, отчаянно замотала головой, но не открыла глаза и не вырвалась из транса, в который ввела ее мать. — Поднимись по ступенькам, Мелани. — Нет. — Поднимись по ступенькам. — Пожалуйста… Ребенок побледнел. Капельки пота выступили на лбу Мелани, черные мешки под глазами стали больше и темнее. Лауре пришлось пересиливать себя, заставляя дочь вновь пережить пытку. Но другого пути не было. — Поднимись по ступенькам, Мелани. Душевная боль перекосила лицо девочки. Лаура услышала, как на кровати заерзал Дэн, но не посмотрела на него, не отрывала глаз от дочери. — Открой крышку люка резервуара, Мелани. — Я… боюсь. — Не бойся. На этот раз ты не будешь там одна. Я буду с тобой. И не позволю случиться ничему плохому. — Я боюсь, — повторила Мелани. Эти два слова прозвучали как обвинение. Ты не смогла защитить меня раньше, мама, так почему я должна поверить, что сможешь защитить теперь? — Открой крышку люка, Мелани. — Это там, — у девочки дрожал голос. — Что там? — Выход. — Выход из чего? — Выход из всего. — Я не понимаю. — Выход… из меня. — Что это означает? — Выход из меня, — повторила девочка очень печально. Лаура решила, что она еще слишком мало знает, чтобы правильно интерпретировать ответы девочки. И если станет и дальше задавать вопросы, то ответы будут только еще больше сбивать ее с толку. Поэтому она решила, что прежде всего нужно отправить Мелани в резервуар и выяснить, что там происходило. — Крышка перед тобой, сладенькая. Девочка молчала. — Ты ее видишь? — Да, — с неохотой ответила Мелани. — Открой люк, Мелани. Хватит топтаться на месте. Открой люк прямо сейчас. С протестом и отвращением, отразившимися на детском личике, девочка подняла руки и взялась за крышку люка, которая для нее, в гипнотическом состоянии, была совершенно реальной, тогда как ни Лаура, ни Дэн крышку эту, естественно, не видели. Потянула на себя, а когда люк открылся, Мелани обхватила себя руками и задрожала, словно стояла на холодном ветру. — Я… она… я ее открыла. — Это дверь, Мелани? — Это крышка люка. В резервуар. — Но это также дверь в декабрь? — Нет. — А что такое дверь в декабрь? — Выход. — Выход из чего? — Выход… выход из… резервуара. Ничего не понимая, Лаура глубоко вдохнула. — Забудь об этом. Сейчас я хочу, чтобы ты просто вошла в резервуар. Мелани опять заплакала. — Входи, сладенькая. — Я… я б-боюсь. — Не нужно бояться. — Я могу… — Что? — Если я войду… я могу… — Можешь что? — Кое-что сделать, — мрачно ответила девочка. — Что ты можешь сделать? — Что-то… — Скажи мне. — Что-то ужасное, — едва слышно выдохнула Мелани. Не зная, правильно ли она поняла дочь, Лаура переспросила: — Ты думаешь, что-то ужасное может случиться с тобой? — Нет, — еще тише. — Ну, тогда… — Да. — Что же? — Нет… да… — Сладенькая? Молчание. На лице ребенка теперь отражался не только страх. Появилось новое чувство, возможно, отчаяние. — Хорошо, — продолжила Лаура. — Не бойся. Успокойся. Расслабься. Я здесь, рядом с тобой. Ты должна войти в резервуар. Ты должна в него войти, но с тобой все будет в порядке. Напряжение покинуло Мелани. Она обмякла, сидя на стуле. Но лицо оставалось мрачным. Хуже, чем мрачным. Глаза вдруг глубоко запали. Создавалось ощущение, что они уходили все глубже и глубже, так что скоро глазницы могли остаться пустыми. Лицо побледнело до такой степени, что буквально превратилось в маску из алебастра, губы стали такими же бескровными, как кожа. Тело ее приобрело какую-то особенную хрупкость, словно место плоти, крови и костей заняли тончайшая бумага и легчайший порошок. Казалось, она могла разлететься на мельчайшие частички, стоило кому-то громко заговорить или махнуть в ее сторону рукой. — Может, хватит для одного дня? — подал голос Холдейн. — Нет, — возразила Лаура. — Мы должны это сделать. Это самый быстрый способ выяснить, что же, черт побери, происходит. Я могу провести ее по воспоминаниям независимо от того, насколько они плохие. Я такое уже делала. У меня хорошо получается. Но когда Лаура посмотрела через столик на свою тающую на глазах дочь, у нее засосало под ложечкой, и ей пришлось бороться с подкатившей к горлу тошнотой. Ей показалось, что Мелани умерла. Она сидела, обмякнув, с закрытыми глазами, не шевелясь, лицом напоминая холодный труп. Черты лица застыли в последней, болезненной гримасе смерти. Могли эти воспоминания оказаться столь ужасными, что убили бы Мелани, если бы она попыталась вытащить их на свет божий? Нет, конечно же, нет. Лаура не слышала, чтобы гипнотерапия грозила опасностью психике пациента. И однако… Мелани вернули в серую комнату, заставили говорить о стуле, на котором ее мучили электрошоком, заставили забраться в камеру отсечения внешних воздействий… да, все это просто выпило из девочки жизненные силы. Если воспоминания могли вампирить, то эти точно вампирили, высасывая из Мелани саму жизнь. — Мелани? — М-м-м-м-м-м-м? — Где ты сейчас? — Плаваю. — В резервуаре? — Плаваю. — Что ты чувствуешь? — Воду. Но… — Но что? — Но эти ощущения тоже уходят… — Что еще ты чувствуешь? — Ничего. — Что видишь? — Темноту. — Что слышишь? — Мое… сердце… бьется, бьется… Но… это… тоже уходит… — Чего они от тебя хотят? Молчание. — Мелани? Нет ответа. — Мелани, не уходи от меня. Оставайся со мной. Девочка шевельнулась, вздохнула, пусть и неглубоко, и создалось впечатление, что она вернулась с далекого, темного берега реки, которая несла свои черные воды между этим миром и последующим. — М-м-м-м-м. — Ты со мной? — Да, — ответила девочка, но так тихо, словно это было всего лишь тенью мысли. — Ты в резервуаре. Все в нем как обычно… за исключением того, что на этот раз с тобой я: спасательный круг, рука, за которую можно ухватиться. Ты понимаешь? А теперь… плавай. Ничего не чувствуя, ничего не видя, ничего не слыша… но почему ты здесь? — Чтобы научиться… — Чему? — … отпускать. — Что? — Все. — Я не понимаю, сладенькая. — Отпускать. Все. Себя. — Они хотят, чтобы ты научилась отпускать себя. Что это значит? — Соскальзывать. — Откуда… — Уходить… уходить… уходить… Лаура разочарованно вздохнула и попыталась зайти с другой стороны. — О чем ты думаешь? В голосе девочки добавилось испуга. — О двери… — Двери в декабрь? — Да. — Что такое дверь в декабрь? — Не дай ей открыться! Держи ее закрытой! — воскликнула девочка. — Она закрыта, сладенькая. — Нет, нет, нет. Она собирается открыться. Как я это ненавижу! О, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне, Иисус, мамик, помоги мне, папик, помоги мне, не делайте этого, пожалуйста, она не должна открыться, я это ненавижу, я ненавижу, когда она открывается! Мелани уже кричала, мышцы шеи напряглись, сосуды на висках вздулись. Но, несмотря на возбуждение, на лице не добавилось ни кровинки. Наоборот, Мелани побледнела еще больше. Девочку ужасало то, что находится за дверью, и ужас этот передался Лауре. Она почувствовала, как холодок ползет по спине от шеи к пояснице.* * *
С нарастающим восхищением Дэн наблюдал, как Лаура успокоила испуганную девочку. Сеанс гипноза нелегко дался и ему. Нервы превратились в туго натянутые, грозящие лопнуть струны. — Все хорошо. Все в порядке, — говорила Лаура Мелани. — А теперь… расскажи мне о двери в декабрь. Девочке отвечать не хотелось. — Что это такое, Мелани? Объясни мне. Давай, сладенькая. — Она как… — девочка понизила голос, — … окно во вчера. — Я не понимаю. Объясни. — Это как… ступени… которые уходят в сторону… не вверх, не вниз… Лаура посмотрела на Дэна. Тот пожал плечами. — Расскажи подробнее, — попросила Лаура. Голос девочки то становился громче, то затихал чуть ли не до шепота. — Это как… кошка… голодная кошка, которая съедает себя. Она голодает. Но еды для нее нет. Поэтому… она начинает есть свой хвост… поднимается выше и выше… выше и быстрее… пока от хвоста ничего не остается. Тогда… тогда кошка съедает свои задние лапы, потом середину тела. Продолжает есть и есть, пожирает себя… пока не сжирает последний кусочек… не сжирает собственные зубы… и тогда просто… исчезает. Ты видела, как эта кошка исчезает? Как может она исчезнуть? Как можно съесть зубы, съесть себя? Разве не останется хотя бы один зуб? Но не остается. Ни одного зуба. Пребывая в таком же недоумении, как Дэн, Лаура спросила: — Они хотели, чтобы ты думала об этом, находясь в резервуаре? — В некоторые дни — да. В другие говорили мне, чтобы я думала об окне во вчера, ни о чем, кроме окна во вчера, часами, часами и часами… сосредотачиваясь на окне… видя его… веря в него… Но лучше всего получалось с дверью. — В декабрь. — Да. — Расскажи мне об этом, сладенькая. — Лето… июль… — Продолжай. — Жарища, духота. Мне так жарко… Тебе не жарко? — Очень жарко, — согласилась Лаура. — Я готова отдать все… за глоток холодного воздуха. Поэтому я открываю дверь дома… а за дверью холодный зимний день. Падает снег. На крыше крыльца сосульки. Я отступаю назад и смотрю в окна по обе стороны двери… и через них вижу, что на самом деле на дворе июль… и я знаю, что это июль… тепло… везде в июле… кроме как за этой дверью… по другую сторону этой единственной двери… это дверь в декабрь. А потом… — Что потом? — вырвалось у Лауры. — Я переступаю порог… — Ты входишь в дверь? — уточнила Лаура. Глаза Мелани открылись, она вскочила со стула и, к изумлению Дэна, начала изо всех сил молотить себя кулаками. Ее маленькие кулачки ударяли в грудь, бока, бедра, она кричала: — Нет, нет, нет, нет! Дэн уже вскочил с кровати, подбежал к девочке, схватил за руки, но она вырвалась с легкостью, изумившей его. Она просто не могла быть такой сильной. — Ненавижу! — крикнула Мелани, с силой ударив себя по лицу. Дэн предпринял вторую попытку схватить ее руки. Не получилось. Она вцепилась в свои волосы и попыталась их вырвать. — Мелани, сладенькая, прекрати! Дэн ухватил девочку за запястья, крепко их сжал. На косточках, похоже, не осталось плоти, он боялся, что причиняет ей боль. Но не мог и отпустить, потому что она тут же начала бы лупить себя. — Ненавижу! — кричала Мелани, брызжа слюной. Лаура осторожно подошла к ним. Мелани отпустила волосы, которые так яростно рвала, попыталась впиться ногтями в руки Дэна и вырваться. Но он держал ее крепко и сумел прижать руки к бокам. Она извивалась, пиналась и кричала: — Ненавижу, ненавижу, ненавижу] Лаура сжала ладонями щеки девочки, зафиксировала голову, стараясь привлечь к себе внимание дочери. — Сладенькая, что с тобой? Что ты так сильно ненавидишь? — Ненавижу! — Что ты так сильно ненавидишь? — Проходить через дверь. — Ты ненавидишь проходить через дверь? — И их. — Кто они? — Я их ненавижу, я их ненавижу! — Кого? — Они заставляют меня… думать о двери, и они заставляют меня верить в дверь, и они заставляют меня… проходить через дверь, и я их ненавижу! — Ты ненавидишь своего папочку? — Да! — Потому что он заставляет тебя проходить через дверь в декабрь? — Я это ненавижу! — заверещала девочка в ярости и отчаянии. — Мелани. Что происходит, когда ты проходишь через дверь в декабрь? В гипнотическом трансе девочка могла слышать только два голоса: свой и матери. Поэтому Лаура повторила вопрос: — Что происходит, когда тыпроходишь через дверь в декабрь? Девочку начало рвать. К счастью, позавтракать она не успела, поэтому обошлось без блевотины, но даже позывы на рвоту напугали Дэна. Он по-прежнему крепко держал девочку, и каждый спазм сотрясал ее тело. Казалось, еще немного, и желудок, оторвавшись, вывернется через пищевод. И Лаура не отрывала рук от лица Мелани, только уже не сжимала их, а ласково поглаживала по щекам, тихим голосом успокаивая дочь. Наконец Мелани перестала сопротивляться, обмякла, и Дэн отпустил ее в объятия матери. Девочка прижалась к ее груди и жалобным голоском, рвущим Дэну сердце, прошептала: — Я их ненавижу… их всех… папочку… остальных… — Я знаю. — Лаура, успокаивая дочь, гладила ее по голове, плечам, спине. — Они причиняли мне боль… такую сильную боль… я их ненавижу! — Я знаю. — Но… больше всего… Лаура опустилась на пол, усадила Мелани себе на колени. — Больше всего? Кого ты ненавидишь больше всего, Мелани? — Себя, — ответила девочка. — Нет, нет. — Да. Себя. Я ненавижу себя… я ненавижу себя. — За что, сладенькая? — За то… за то, что я делаю. — Девочка зарыдала. — А что ты делаешь? — Я прохожу… через дверь. — И что происходит? — Я… прохожу… через… дверь. — А что ты делаешь по ту сторону двери, что ты там видишь, что находишь? — спросила Лаура. Девочка молчала. — Крошка? Никакой реакции. — Отвечай мне, Мелани. Молчание. Дэн наклонился, всмотрелся в лицо девочки. С тех пор как ее нашли на улице, голую, две ночи тому назад, ее глаза оставались затуманенными, смотрящими не в этот мир, но сейчас они стали еще более странными, чем обычно. Уже и глазами-то не были. Вглядываясь в них, Дэн видел два овальных окна, за которыми царила пустота, безбрежная пустота, сравнимая разве что с пустотой далекого космоса на окраине галактики. Сидя на полу номера мотеля, обнимая дочь, Лаура беззвучно плакала. Губы ее дрожали. Она покачивала девочку, а слезы, выкатываясь из глаз, текли по щекам. И молчание, в котором она плакала, только подчеркивало глубину ее горя. Потрясенный лицом Лауры, Дэн более всего хотел заключить ее в объятия и покачивать точно так же, как покачивала она дочь. Но решился лишь на то, чтобы положить руку ей на плечо. Заговорил, когда слезы Лауры начали высыхать: — По словам Мелани, она ненавидит себя за то, что сделала. Что, по-вашему, она под этим подразумевает? Что она могла сделать? — Ничего, — ответила Лаура. — Но она, очевидно, думает, что сделала. — Это типичный синдром в таких случаях, практически во всех случаях, связанных с насилием по отношению к ребенку. И хотя Лаура говорила тихо, Дэн уловил в ее голосе напряженность и страх. Она, несомненно, старалась удержать под контролем тревогу, которую вызывало у нее ухудшающееся состояние Мелани. — Обычно все дело в стыде. Вы такого и представить себе не можете. Чувство стыда у них всесокрушающее, не только в случаях сексуальных домогательств. Очень часто ребенок, который подвергся насилию, не только стыдится того, что его подвергли насилию, он еще и чувствует за это вину, как будто несет ответственность за случившееся. Видите ли, эти дети сбиты с толку, потрясены тем, что с ними произошло. Они не знают, что должны чувствовать, понимают только одно: случившееся с ними — это нехорошо, а потом по какой-то извращенной логике начинают винить себя, а не взрослых, которые подвергали их насилию. Но, с другой стороны, они сжились с мыслью, что взрослые мудрее детей, больше знают, а потому всегда правы. Господи, вы бы удивились, узнав, как часто они не понимают, что являются жертвами, что им нечего стыдиться. Они полностью теряют чувство самоуважения. Они ненавидят себя, считая, что именно они несут ответственность за то, чего не сделали или не смогли предотвратить. А если они ненавидят себя, то уходят в свой внутренний мир… все глубже и глубже… и психотерапевту крайне сложно вернуть их назад. Вот и Мелани, похоже, полностью ушла в себя. Покачивалась, как кукла, на руках матери. — То есть, по-вашему, когда она говорит, что ненавидит себя за сделанное ею что-то ужасное, на самом деле она винит себя за то, что сделали с ней. — Несомненно, — безапелляционно заявила Лаура. — Я уже вижу, что ее вина и ненависть к себе будут более глубокими, чем в большинстве случаев. В конце концов, к ней дурно относились, мучили ее шесть лет. И это было особое, психологическое насилие, куда более разрушительное, чем насилие физическое, которому в основном подвергаются дети. Дэн понимал все, что говорила ему Лаура, и чувствовал, что все, сказанное ею, — правда. Но минуту тому назад, когда он слушал Мелани, в голову ему пришла чудовищная мысль, и он никак не мог от нее избавиться. Версия эта, с совсем новым подозреваемым, сразу пустила глубокие корни. Хотя такой выбор подозреваемого противоречил всем законам логики. Такое просто казалось невозможным. Нелепым. И, однако… Дэн подумал, что искать Оно больше нет нужды. Потому что теперь он знал, что это такое. Ранее он таким себе Оно не представлял. И теперь получалось, что Оно гораздо хуже всех кошмарных чудовищ, которые рассматривались до этого. Он смотрел на девочку с сочувствием, состраданием, трепетом и леденящим душу страхом.* * *
После того как Лаура вывела Мелани из глубокого гипноза, состояние девочки не изменилось. Что в гипнотическом трансе, что без него, она практически полностью порвала связь с реальным миром. И они больше не могли получить от нее какую-либо информацию. Лаура не находила себе места от тревоги. И Дэн ее очень хорошо понимал. Они уложили Мелани на одну из кроватей, где она теперь и лежала, не шевелясь, разве что поднесла ко рту левую руку, чтобы пососать большой палец. Лаура позвонила в больницу, где работала, чтобы убедиться, что ничего чрезвычайного за время ее отсутствия не произошло, позвонила секретарю в свой офис, чтобы узнать, все ли частные клиенты распределены по другим психиатрам. Потом, еще не приняв душ, сказала: «Я буду готова через полчаса или через сорок пять минут», — прошла в ванную и закрыла за собой дверь. Изредка поглядывая на Мелани, Дэн сел за столик и принялся листать книги, написанные Альбертом Ахландером, которые днем раньше он добыл в доме Неда Ринка. Все семь книг имели непосредственное отношение к оккультизму: «Современные призраки», «Полтергейсты: двенадцать удивительных случаев», «Вуду сегодня», «Жизни мистиков», «Пророчества Нострадамуса», «Выход в астрал» и «Странные силы внутри нас». Одну книгу издали в «Патмане», еще одну — в «Харпер-и-Роу»[57], остальные пять — в «Джон Уилкс пресс». Последнее издательство, несомненно, контролировалось «Джон Уилкс энтерпрайзес», корпорацией, владеющей домом, в котором проживала Реджина Саванна Хоффриц. Поначалу он подумал, что все эти книги в ярких суперобложках — чушь собачья и все, что в них написано, адресовано тем людям, которые прочитывают от корки до корки каждый номер журнала «Судьба» и верят всем историям, рассказанным на его страницах. Эти же люди присоединялись к клубам уфологов и верили, что бог — или астронавт, или синий человечек, ростом в два фута, и глазами размером с блюдце. Но он напомнил себе и о другом: что-то нечеловеческое выслеживало людей, так или иначе связанных с экспериментами в серой комнате, и, вероятно, постоянные читатели «Судьбы» могли бы быстрее понять, что же это такое (пусть даже голова у них забита всякой чушью), чем часть человечества, к ней он относил и себя, которая с чувством превосходства и даже с пренебрежением смотрела на тех, кто принимал оккультизм за чистую монету. Теперь же, послушав ответы находящейся в гипнотическом трансе Мелани, он выдвинул тревожную версию, которая выглядела ничуть не менее фантастично, чем любая история со страниц «Судьбы». Как говорится, век живи — век учись. Он нашел адрес издательства на странице с копирайтом. Оно располагалось на Доугени-драйв в Беверли-Хиллз. Он переписал адрес в блокнот, чтобы потом сравнить его с адресом штаб-квартиры «Джон Уилкс энтерпрайзес», который этим утром должен был найти Эрл Бенсон. Потом он просмотрел во всех томах комментарии и слова признательности в надежде найти знакомые фамилии, которые, возможно, привяжут Ахландера к команде Маккэффри — Хоффрица, а может, позволят идентифицировать еще неизвестных членов этой команды, но не нашел ничего интересного. Он вновь перебрал все книги и выбрал одну, чтобы изучить ее более внимательно. Именно эта книга по первому взгляду могла подтвердить ужасную догадку, которая пришла к нему в голову, пока он наблюдал гипнотический допрос Мелани. Пока Лаура приняла душ, искупала Мелани и заявила, что готова покинуть мотель, он прочитал тридцать страниц, и на этих страницах нашел не одно подтверждение своих наихудших страхов. Туман развеялся, покров таинственности спал. Еще чуть-чуть, и он точно мог сказать, что стояло за событиями последних двух дней: серой комнатой, чудовищно изуродованными телами, тем фактом, что мужчины в доме в Студио-Сити не смогли защитить себя, чудесным спасением Мелани из этого дома, смертью Джозефа Скальдоне в запертой комнате и всеми проявлениями полтергейста. Это было безумием. Тем не менее… не противоречило логике и здравому смыслу. И насмерть перепугало его. Он хотел поделиться своими мыслями с Лаурой, узнать ее мнение. Как психиатра. Но предположение его было слишком шокирующим, слишком ужасным, и он пришел к выводу, что лучше еще раз хорошенько все обдумать. Сначала он хотел убедиться, что в его логической цепочке нет проколов, а уж потом делиться с кем-либо своей версией. А если его подозрения подтвердятся, тогда Лауре понадобятся все запасы физических, эмоциональных и ментальных сил, чтобы не сломаться под ожидающим ее ударом. Они покинули мотель и направились к автомобилю. Лаура села с Мелани на заднее сиденье, чтобы и дальше гладить и утешать ребенка: из-за компьютера места на переднем сиденье хватало только двоим. Ранее Дэн намеревался на несколько минут заехать домой, чтобы переодеться. Его пиджак, рубашка и брюки сильно помялись, потому что спал он не раздеваясь. Да и о свежести одежды говорить не приходилось. Но теперь, чувствуя, что до раскрытия преступления остается совсем ничего, он более не тревожился о том, как выглядит. Ему не терпелось переговорить с Шелдоном Толбеком, Говардом Рензевеером и другими непосредственными участниками этого проекта. Он хотел поделиться с ними идеями, которые пришли ему в голову в последние час-полтора, и увидеть их реакцию. Прежде чем выехать со стоянки мотеля, он повернулся и посмотрел на Мелани. Она сидела, привалившись к матери. С открытыми, но пустыми глазами. «Я прав, детка? — мысленно спросил он. — Оно — именно такое, каким я его себе представляю?» Он даже ожидал, что она вскинет на него глаза и ответит на невысказанные вслух вопросы, но она не встретилась с ним взглядом, не ответила. «Надеюсь, я ошибаюсь, — думал он. — Потому что, если Оно будет и дальше убивать этих людей, а покончив с ними, придет за тобой, где ты сможешь спрятаться, сладенькая? От него не спрячешься. Во всяком случае, в этом мире». По его телу пробежала дрожь. Он завел двигатель и выехал со стоянки мотеля. Оставшийся с ночи туман еще висел над городом. Вновь зарядил дождь. И когда капли падали на ветровое стекло, холод, который они несли с собой, передавался через корпус автомобиля, одежду Дэна, его мышцы и кости, проникая в самую душу.Глава 34
В то утро Дэну и Лауре не удалось узнать что-либо важное, хотя они и старались. Начавшийся дождь задержал их, потому что автомобили просто ползли по улицам, но главная проблема заключалась в другом: крысы, которые могли ответить на некоторые вопросы, сбежали с корабля. Дэн не нашел ни Толбека, ни Рензевеера ни дома, ни на работе, потратил много времени на розыски в других местах, прежде чем понял, что оба покинули город в неизвестном направлении. В час дня они встретились с Эрлом Бентоном в кафетерии в Ван-Нейсе, как и договаривались прошлым вечером. К счастью, рана головы, нанесенная Уэкслершем, не очень повлияла на работоспособность Эрла, и его утро оказалось более продуктивным, чем у Дэна с Лаурой. Все четверо расположились в кабинке в глубине ресторана, подальше от музыкального автомата, игравшего кантри. Сидели они у большого окна, по которому стекала серая пленка дождя, размывая окружающий мир. Приятно пахло картофелем-фри, жарящимися гамбургерами, фасолевым супом, беконом и, разумеется, кофе. Веселая, шустрая официантка взяла у них заказ, и, как только она отошла от столика, Эрл рассказал Дэну и Лауре все, что выяснил. Утром он первым делом позвонил Мэри О'Хара, секретарю «Свободы теперь», и договорился о встрече в десять утра. Она жила в аккуратном маленьком бунгало в Бербанке, утопающем в зелени, такие строили в 1930-х годах, и в столь хорошем состоянии, что Эрл не удивился бы, увидев стоящий на подъездной дорожке «Паккард»[58]. — Миссис О'Хара за шестьдесят, — рассказывал Эрл, — и она сохранилась почти так же хорошо, как и ее дом. Она и сейчас очень милая женщина, а в молодости была потрясающей красавицей. Уже на пенсии, ранее занималась торговлей недвижимостью. Не богата, но на жизнь вполне хватает. Дом очень хорошо обставлен, несколько вещей — антиквариат в стиле арт-деко. — Ей не хотелось говорить о «Свободе теперь»? — спросил Дэн. — Наоборот, говорила с радостью. Видишь ли, информация об этой организации, которую ты почерпнул в полицейском файле, устарела. Она более не секретарь «Свободы теперь». Подала заявление об уходе несколько месяцев тому назад. — Да? — Она — убежденный либерал, участвует в работе десятка различных общественных организаций, и, когда Эрнст Купер пригласил ее в руководство либерального политического комитета, она с радостью согласилась. Проблема заключалась в том, что Куперу хотелось лишь использовать ее имя, с тем чтобы придать большую легитимность его ЛПК, он надеялся манипулировать ею. Но манипулировать Мэри О'Хара столь же просто, как играть в футбол живым дикобразом и обойтись без травм. Дэн удивился и обрадовался, услышав смех Лауры. В последние два дня она так редко смеялась, что он и забыл, какое удовольствие доставляет ему ее смех. — Похоже, сильная женщина, — заметила Лаура. — И умная, — кивнул Эрл. — Напомнила мне вас. — Я? Сильная? — Вы сильнее, чем о себе думаете, — заверил ее Дэн. Что он, что Эрл восхищались мужеством Лауры. Над городом прокатился раскат грома. Усилился ветер, дождь так и хлестал по окну. — Миссис О'Хара проработала в «Свободе теперь» почти год, но потом последовала примеру еще нескольких либералов, которые покинули эту организацию, придя к выводу, что «Свобода теперь» не занимается тем, ради чего создавалась. Организация получала много денег, но не поддерживала либерально настроенных кандидатов или программы. Собственно, практически все деньги уходили на субсидирование некоего вроде бы либерального исследовательского проекта, возглавляемого Диланом Маккэффри. — Серая комната, — вставил Дэн. Эрл кивнул. — А что в этом проекте было либерального? — спросила Лаура. — Скорее всего, ничего, — ответил Эрл. — Ярлык либерализма — очень удобная ширма. К такому выводу в конце концов и пришла Мэри О'Хара. — Ширма для чего? — Этого она не знала. Официантка вернулась с тремя чашками кофе и стаканом пепси. — Ваш ленч будет готов через пару минут. — Она посмотрела на разбитые губы и повязку на голове Эрла, на синяк и ссадину на лбу Дэна. — Вы попали в автоаварию или как? — Упали, поднимаясь по лестнице, — ответил Дэн. — Поднимаясь? — переспросила официантка. — Летели четыре этажа, — уточнил Эрл. — Ага, вы шутите. Они ей широко улыбнулись. Она тоже улыбнулась и поспешила к соседнему столику принимать заказ. Пока Лаура вынимала из упаковки соломинку, опускала ее в стакан, а потом уговаривала Мелани попить пепси, Дэн повернулся к Эрлу. — Судя по тому, что ты рассказал, миссис О'Хара не из тех, кто просто уходит. Я бы предположил, что она написала письмо в Федеральную избирательную комиссию и добилась бы закрытия «Свободы теперь». — Она написала, — ответил Эрл. — Два письма. — И что? — Ответа не получила. Дэн нахмурился: — Ты говоришь мне, что люди, которые стоят за «Свободой теперь», могут надавить на Федеральную избирательную комиссию? — Скажем так: могут повлиять на ее решения. — То есть мы имеем дело с секретным федеральным проектом. Значит, мы поступили правильно, выскользнув из-под колпака ФБР. — У меня в этом полной уверенности нет. — Но только государственное ведомство может остановить расследование, которое должна была начать комиссия, получив такие письма, и даже в таком случае у них возникли бы проблемы. — Прояви терпение. — Эрл поднял чашку. — Ты что-то знаешь. — Я всегда что-то знаю. — Эрл улыбнулся, глотнул кофе. Дэн увидел, что Мелани выпила немного пепси, пусть и не без трудностей. Лаура уже использовала одну салфетку, вытирая коричневую жидкость с подбородка девочки. — Сначала позвольте объяснить, откуда «Свобода теперь» берет деньги, — продолжил Эрл. — Миссис О'Хара занимала пост секретаря, но, почувствовав неладное, она, не спрашивая разрешения Купера или Хоффрица, залезла в документацию казначея. Девяносто девять процентов средств, которые получал их ЛПК, поступали от трех других ЛПК: «Честность в политике», «Граждане за просвещенное государство» и «Группа «Двадцать второй век». Более того, наведя справки, она выяснила, что Купер и Хоффриц входили в руководство всех этих групп, а финансировались они не взносами простых граждан, как можно было ожидать, а двумя некоммерческими организациями, двумя благотворительными фондами. — Благотворительными фондами? Разве им разрешено заниматься политикой? Эрл кивнул: — Да, если они ведут себя осторожно, а в их уставе есть пункт о поддержке программ, направленных на «улучшение функционирования государственных структур». — А где брали деньги эти фонды? — спросил Дэн. — Любопытный ты, однако. Миссис О'Хара этим интересоваться не стала, а я позвонил из ее дома в «Паладин» и попросил это выяснить. Так вот, эти два фонда субсидировал другой, более крупный благотворительный фонд. — Господи, это какая-то китайская головоломка! — воскликнула Лаура. — Насколько я понимаю, получается следующее. — Дэн взял инициативу на себя. — Этот большой благотворительный фонд субсидировал два фонда поменьше, которые, в свою очередь, субсидировали три либеральных политических комитета, «Честность в политике», «Граждане за просвещенное государство» и «Группа «Двадцать второй век». А уже эти три организации «сливали» деньги в «Свободу теперь», где они тратились исключительно на проект Дилана Маккэффри в Студио-Сити. — Ты все понял правильно, — кивнул Эрл. — Это тщательно продуманная система отмывания денег, благодаря которой источник финансирования отделен несколькими посредниками от получателя средств, на случай, что у Дилана Маккэффри возникли бы проблемы и власти бы выяснили, что он проводит жестокие эксперименты на собственном ребенке. Веселая официантка принесла ленч, и пока она ставила на стол тарелки, они обсуждали погоду. Когда же она ушла, сразу к еде никто не притронулся. — Так какой же благотворительный фонд стоит в центре этой китайской головоломки? — спросил Дэн Эрла. — Держись за шляпу, чтобы не слетела. — На мне нет шляпы. — Фонд Бута. — Будь я проклят! — Тот самый, что поддерживает сиротские приюты, организует праздники для детей из бедных семей, оказывает помощь старикам? — спросила Лаура. — Тот самый, — подтвердил Эрл. Дэн уже сунул руку в карман. Достал распечатку покупателей магазина «Пентаграмма». Открыл на букве Б и показал им: Палмер Бут, наследник состояния Бутов, глава нынешней империи Бутов, владелец «Лос-Анджелес джорнэл», один из наиболее влиятельных людей Лос-Анджелеса, человек, определяющий политику фонда Бута. — Я увидел это вчера вечером, в кабинете Джозефа Скальдоне, который располагался в подсобке маленького магазинчика, торгующего всем, что связано с оккультизмом. Меня еще удивило, что такой сугубо прагматичный бизнесмен, как Бут, может интересоваться сверхъестественным. Разумеется, у любого можно найти слабое место. Все мы подчас увлекаемся какой-то глупостью. Но, учитывая репутацию Бута, его имидж высокоинтеллектуального человека… черт, да я и представить себе не мог, что увижу его фамилию в таком вот списке. — Адвокаты дьявола встречаются в самых непредсказуемых местах, — философски заметил Эрл. Из музыкального автомата полился голос Элтона Джона. Дэн всмотрелся в серую пелену дождя. — Два дня тому назад я даже не верил в дьявола. — Но теперь? — Но теперь… — вздохнул Дэн. Лаура начала резать чизбургер Мелани на кусочки, каждый из которых можно было подхватить вилкой и положить в рот. Девочка смотрела то ли на рисунки, которые создавала на окне стекающая по стеклу вода, то ли куда-то очень и очень далеко. В другом конце ресторана кто-то уронил несколько тарелок, и за грохотом последовал взрыв смеха. — Вы, конечно, помните о двух письмах, которые Мэри О'Хара написала в Федеральную избирательную комиссию? Так вот, в том, что реакции на них не последовало, большой загадки нет. Палмер Бут платит немалые деньги в избирательный фонд обеих партий, разумеется, всегда чуть больше выделяет той партии, которая в настоящий момент у власти. И несколько лет тому назад, когда либеральные политические комитеты граждан только появились, Бут, вероятно, понял, что они будут очень даже полезны для финансирования таких исследований, как проект Дилана Маккэффри. Вот он и основал несколько, а руководить ими поставил своих людей. Лаура наконец-то разрезала чизбургер. — Послушайте, я мало знаю о Федеральной избирательной комиссии, но мне кажется, что ее члены не являются политическими назначенцами. — Не являются, — согласился Эрл. — Напрямую. Но люди, которые управляют бюрократией, занимающейся выборным процессом, политические назначенцы. И если ты хочешь ввести кого-то в Федеральную комиссию, очень хочешь, а денег и решительности у тебя хоть отбавляй, такое возможно. Разумеется, ты не сможешь купить всю комиссию оптом, чтобы использовать ее решения исключительно в своих целях, потому что обе политические партии пристально следят за ее деятельностью. Но если цели у тебя скромные, скажем, не привлекать пристального внимания комиссии к деятельности двух-трех политических комитетов, учрежденных для ведения не только и даже не столько политической деятельности, никто на тебя внимания не обратит. А если ты — Палмер Бут, один из богатейших людей Америки, то и для работы в Федеральной избирательной комиссии ты предложишь не какую-то мелкую, никому не известную сошку, а достойных, с безупречной репутацией людей, проявивших себя в крупнейших благотворительных фондах страны. И все будут только рады, что эти образованные, заботящиеся о всеобщем благе люди соглашаются поработать на государство. Дэн вздохнул: — Значит, Палмер Бут, а не государство, финансировал исследования Маккэффри. Отсюда следует, что насчет ФБР мы можем не беспокоиться. Вряд ли Бюро хочет, чтобы Мелани вновь исчезла. — Я бы не торопился с таким утверждением, — покачал головой Эрл. — Да, государство не выделяло Денег на оплату исследований, которые Маккэффри и Хоффриц проводили в серой комнате. Но теперь, когда они увидели это место и получили возможность заглянуть в бумаги Маккэффри, они могут прийти к выводу, что исследования эти имеют важное значение для национальной безопасности. То есть у них может возникнуть желание поработать с Мелани… вдали от лишних глаз. — Только через мой труп, — отчеканила Лаура. — То есть рассчитывать мы можем только на себя, — подытожил Дэн. Эрл кивнул: — А кроме того, Буту, вероятно, удалось выйти на Мондейла и использовать против нас полицию… — Не всю полицию, — прервал его Дэн. — Только нескольких служащих в ней подонков. — Однако кто скажет, что у него нет друзей и в ФБР? Мы, скорее всего, сможем вернуть Мелани, если ее отнимет у нас государство, но, если она попадет в руки Бута, мы ее больше не увидим. Пару минут они сидели в молчании. Мужчины ели, Лаура пыталась кормить Мелани. В музыкальном автомате закончила петь Уитни Хьюстон, ей на смену пришел Брюс Спрингстин с песней о том, что все умирает, но кое-что возвращается, и, крошка, это факт. В силу сложившихся обстоятельств, в песне Спрингстина слышалось что-то зловещее и тревожащее. Дэн смотрел на дождь, прикидывая, как может им помочь новая информация о Буте. Теперь они знали, что враг у них могучий, но не всемогущий, как этого опасались они. И такое изменение соотношения сил радовало. Поднимало моральный дух. Куда проще иметь дело с богачом-одиночкой, каким бы безумным и влиятельным он ни был, чем с государственной бюрократической машиной, которая будет нестись заданным курсом, пусть это и совершенно безумный курс. Враг оставался гигантом, но и гиганта можно свалить, если иметь пращу и точно направить в цель должным образом заостренный камень. Дэн уже понял, кто такой Папочка, седовласый и представительный извращенец, который регулярно посещал Реджину Саванну Хоффриц в доме на Голливудских холмах. — А что ты узнал насчет «Джон Уилкс энтерпрайзес»? — спросил он Эрла. И тут же частично ответил на свой вопрос. — Никакого Джона Уилкса нет. Это чисто корпоративное имя, так? Джон Уилкс Бут. Человек, который убил Линкольна. То есть еще одна компания, принадлежащая Палмеру Буту, а назвал он ее «Джон Уилкс энтерпрайзес»… ну, не знаю, в шутку? Эрл кивнул: — Да, шутка для посвященных, можно сказать, но, наверное, уточнить это ты сможешь только у самого Бута. В «Паладине» поискали информацию по этой компании. Никаких темных секретов не обнаружилось. Бут — единственный акционер. Он использует «Джон Уилкс энтерпрайзес» для управления маленькими предприятиями, которые не вписываются в другие корпоративные или фондовые структуры. Одно или два из них даже не дают прибыли. — «Джон Уилкс пресс», — вставил Дэн. Эрл вскинул брови: — Да, это одно из них. Они издают книги по оккультизму, иногда заканчивают год в ноль, случается, теряют несколько баксов. «Джон Уилкс» также владеет маленьким кинотеатром в Уэствуде, тремя магазинчиками, которые торгуют шоколадом, одним кафе «Бургер Кинг» и еще всякой мелочовкой. — Включая дом, в котором Бут держит свою любовницу, — вставила Лаура. — Я не уверен, что он думает о ней как о любовнице. — В голосе Дэна слышалась неприязнь. — Скорее как о домашней зверушке… маленьком, милом зверьке, который может доставить удовольствие. Они все съели. Дождь бил в окна. Глаза Мелани оставались пустыми. — Что теперь? — спросила Лаура. — Теперь я поеду к Палмеру Буту, — ответил Дэн. — Если он не сбежал, как остальные крысы.Глава 35
Прежде чем расплатиться по счету и покинуть кафетерий, они решили, что Эрл поведет Лауру и Мелани в кино. Девочку нужно было спрятать на те несколько часов, которые требовались Дэну, чтобы найти и поговорить с Палмером Бутом, лично или по телефону, а сидеть в еще одном номере мотеля не хотелось. И ни у ФБР, ни у полиции, ни у множества «шестерок» Бута наверняка не возникло бы и мысли, что искать их следует в темном зале мультикомплекса в торговом центре. Опять же, в темноте кинозала они не могли случайно попасться на глаза тем, кто шел по их следу. Более того, Лаура предположила, что правильно подобранный фильм окажет терапевтическое влияние на Мелани: человеческие фигуры высотой в сорок футов, неестественно яркие цвета, сокрушающий барабанные перепонки грохот иногда, как ничто другое, привлекало внимание ребенка, страдающего аутизмом. У входа в ресторан стояли автоматы, продающие газеты, и Дэн, несмотря на дождь, остановился перед одним, чтобы купить «Лос-Анджелес джорнэл» и посмотреть, где какие идут фильмы. Все взрослые не преминули отметить этот аспект сложившейся ситуации: газета, издаваемая Палмером Бутом, служила источником информации для поиска убежища от его приспешников. Они выбрали приключенческий фильм Стивена Спилберга и торговый центр в Уэствуде. В этом мультикомплексе показывали еще один фильм, подходящий для Мелани, поэтому после фильма Спилберга они при необходимости могли посмотреть и его, то есть провести в мультикомплексе всю вторую половину дня и даже ранний вечер. Согласно намеченному плану они собирались оставаться там, пока Дэн (то ли он найдет Бута, то ли откажется от поисков) не вернется и не сменит Эрла. Когда Эрл, Лаура и Мелани подошли к автомобилю Эрла, Дэн на несколько минут присоединился к ним, занял переднее сиденье. С серого неба по-прежнему лил дождь. — Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня. — Дэн повернулся к Лауре, которая вместе с дочерью находилась на заднем сиденье. — Пожалуйста, в кинотеатре следите за Мелани еще более пристально, чем раньше. Что бы ни случилось, не давайте ей заснуть. Если она закроет глаза, тряхните ее, ущипните, сделайте все, что угодно, но убедитесь, что она не спит. Лаура нахмурилась: — Зачем? Отвечать на ее вопрос Дэн не стал. — А если она будет бодрствовать, но вам покажется, что она еще глубже уходит в кататоническое состояние, приложите все силы, чтобы вытащить ее оттуда. Говорите с ней, касайтесь ее, требуйте внимания. Задача это непростая, я знаю. Бедняжка уже отгородилась от реального мира, поэтому не так-то просто понять, что она уходит от него еще дальше, тем более в темном зале кинотеатра, но вы уж постарайтесь. — Ты что-то знаешь, не так ли? — спросил Эрл. — Возможно, — признал Дэн. — Ты знаешь, что происходило в серой комнате. — Я не знаю… но подозреваю. — Что? — Лаура наклонилась вперед. Ей так хотелось понять, что случилось с девочкой, чтобы, отталкиваясь от этих знаний, попытаться вернуть ее в реальность, и она даже представить себе не могла, что знать в данном случае даже хуже, чем не знать, потому что знание может оказаться куда большим кошмаром, чем тайна. — Что вы подозреваете? Почему так важно не дать ей заснуть? — На объяснения уйдет слишком много времени, — солгал он. Он знал наверняка, что происходило, а потому не хотел понапрасну тревожить Лауру. И у него не было сомнений, что она сильно огорчится, если он поделится с ней своими подозрениями. — Мне пора ехать, выяснить, в городе ли Бут. Главное, не дайте Мелани заснуть и еще глубже уйти в себя. — Когда Мелани спит или в глубоко уходит в себя, она более уязвима, не так ли? — спросила Лаура. — В чем-то более уязвима. Может… может, Оно чувствует, когда она более уязвима, и именно тогда приходит за ней? Я хочу сказать, прошлой ночью, в мотеле, когда она спала, в комнате стало холоднее и что-то пришло, не так ли? А вчера вечером, в доме, когда в радиоприемник… что-то вселилось… и когда в дверь ворвался смерч с цветами, она сидела, закрыв глаза и… она не спала, но ушла в себя глубже, чем обычно. Вы помните, Эрл? Она сидела, закрыв глаза, не отдавая себе отчета в том, что происходило вокруг. И каким-то образом Оно узнаёт, когда Мелани начеку, а потому приходит, когда девочка наиболее уязвима. В этом все дело? Поэтому вы хотите, чтобы Мелани бодрствовала? — Да, — кивнул Дэн. — В какой-то степени. А теперь мне действительно пора, Лаура. — Ему хотелось прикоснуться к ее лицу, поцеловать уголки рта, попрощаться более трогательно, нежно. Вместо всего этого он повернулся к Эрлу: — Береги их. — Будь уверен, — ответил Эрл. Дэн вышел из автомобиля, захлопнул дверцу, побежал через залитую водой стоянку к своему седану, который оставил по другую сторону здания. К тому времени, когда Дэн включил двигатель и дворники, Эрл уже выехал со стоянки и влился в поток медленно ползущих машин. Дэн задался вопросом, а увидит ли он их вновь. Дельмар, Кэрри, Синди Лейки… Ненавистные, надолго засевшие в памяти, вторгающиеся в сны неудачи, которые вспоминались десятки тысяч раз. Дельмар, Кэрри, Синди Лейки… Лаура, Мелани. Нет. На этот раз неудачи не будет. Да, он был всего лишь городским копом, но его интересовали убийства и убийцы, он достаточно хорошо разбирался в анормальном поведении и психологии последних, чтобы довести до конца это странное расследование. Возможно, он был единственным, кто мог привести дело к успешному завершению. Он знал об убийствах больше, чем большинство людей, потому что думал о них больше, чем кто-либо из его знакомых, потому что убийства играли слишком важную роль в его как личной, так и профессиональной жизни. Размышления на сей предмет давно уже привели его к печальному выводу: способность убить заложена в каждом, и он не удивлялся, когда убийцами оказывались те, кто, казалось бы, не мог вызывать никаких подозрений. Поэтому не удивляли его и подозрения, которые появились ночью, а потом только крепли, хотя Лауру и Эрла подозрения эти, возможно, не просто удивили бы, а вызвали бы активное неприятие. Дельмар, Кэрри, Синди Лейки… Последовательность неудач на этом заканчивалась. Он отъехал от ресторана и, хотя убеждал себя, что все будет хорошо, настроение у него было под стать серому, дождливому дню, сквозь который он и ехал на своем седане.* * *
Фильм Спилберга вышел на экраны за несколько недель до Рождества, но и теперь, по прошествии трех месяцев, оставался достаточно популярным, чтобы на дневном сеансе в будний день зал наполнился наполовину. За пять минут до начала зрители перешептывались, смеялись, ерзали в креслах в предвкушении захватывающего действа. Лаура, Мелани и Эрл сели в правой части зала, в нескольких креслах от центрального прохода. Мелани (Эрл и Лаура посадили ее между собой) смотрела на огромный пустой экран. Она не шевелилась, не говорила, руки лежали на коленях, но, судя по всему, не спала. И хотя в темноте следить за дочерью было бы сложнее, Лаура с нетерпением ожидала момента, когда погаснет свет и начнется фильм, потому что при свете особенно остро чувствовала свою уязвимость, находясь в окружении стольких незнакомцев. Она понимала, глупо волноваться, что плохие люди смогут увидеть их здесь и навлечь неприятности. Агенты ФБР, продажные копы, Палмер Бут и его подручные, конечно, хотели бы их найти, но это как раз означало, что эти подонки заняты поисками, а не ходят в кино. Тут они были в безопасности. Если в этом мире для них существовало убежище от всех бед, то это был самый обычный кинотеатр. Но, с другой стороны, еще раньше она пришла к выводу, что в этом мире опасность грозит им везде. Решив, что с Палмером Бутом напор и внезапность должны принести наилучший результат, из кафетерия Дэн прямиком поехал в здание «Лос-Анджелес джорнэл» на бульваре Уилшир, расположенном в паре кварталов от того места, где район Беверли-Хиллз плавно переходил в Лос-Анджелес. Он не знал, находится ли Бут в городе, не говоря уже о своем кабинете в здании «Джорнэл», но лучшего места для начала поисков Бута назвать не мог. Припарковался в подземном гараже, на лифте поднялся на восемнадцатый этаж, где находились кабинеты руководства коммуникационной империи «Джорнэл», включавшей в себя девятнадцать других газет, два журнала, три радиостанции и два телеканала. Из лифта он попал в роскошно отделанный холл с толстым, до щиколоток, ковром на полу и двумя картинами Ротко на стенах. Потрясенный осознанием того, что эти два полотна в простых деревянных рамах стоят никак не меньше пяти миллионов долларов, Дэн не столь быстро, как ему хотелось бы, «натянул» на лицо маску наводящего ужас детектива отдела расследования убийств. Тем не менее он воспользовался своим удостоверением, чтобы миновать вооруженного охранника и добраться до очаровательной девушки, которая сидела за регистрационной стойкой. По ее вызову к стойке прибыл молодой человек, то ли один из секретарей, то ли тренер по карате, то ли телохранитель, а может, и первое, и второе, и третье в одном флаконе. Длинным коридором, тихим, как кладбище, он привел Дэна к другой, еще более роскошно отделанной приемной, за которой находилось главное святилище этого здания — кабинет Палмера Бута. Молодой человек представил Дэна миссис Хадспет, миловидной, элегантной седовласой женщине в вязаном фиолетовом костюме, пастельной блузке и галстуке-бабочке того же фиолетового цвета, секретарю мистера Бута, и отбыл. Высокая, стройная, утонченная, и, несомненно, гордящаяся своей утонченностью, миссис Хадспет точностью, эффективностью и нежеланием отвлекаться на пустяки напомнила Дэну Ирматруду Гелькеншеттль. — Ох, лейтенант, — приветствовала она его, — мне очень жаль, но мистера Бута сейчас нет в этом здании. Вы разминулись с ним буквально на несколько минут. Ему пришлось уехать на совещание. Сегодня он очень занят, как, впрочем, и во все остальные дни. Дэн обеспокоился, услышав, что этот день Бута ничем не отличается от остальных. Если он выдвинул правильную версию, если правильно идентифицировал Оно, тогда Палмеру Буту следовало трястись от страха за свою жизнь, бежать куда глаза глядят, может, спрятаться в подземелье хорошо укрепленного замка, предпочтительнее в Тибете или в Швейцарских Альпах, а то и в другом, не менее дальнем уголке мира. Если же Бут, как обычно, участвует в совещаниях и принимает деловые решения… из этого следует, что он не боится, а если он не боится, тогда версия Дэна относительно серой комнаты не соответствует действительности. — Мне крайне важно поговорить с мистером Бутом, — гнул свое Дэн. — Дело очень срочное. Можно даже сказать, что это вопрос жизни и смерти. — Да, разумеется, ему тоже не терпится поговорить с вами. Я уверена, он высказался достаточно ясно в своем письме. Дэн моргнул. — Каком письме? — Но разве вы здесь не по этой причине? Вы не получили письмо, которое он оставил вам в вашем участке? — В Ист-Вэлью? — Да, и утром он первым делом позвонил вам, чтобы договориться о встрече. Но вас не оказалось на месте. Мы попытались найти вас дома, но тоже не получилось. — Я не был сегодня в Ист-Вэлью и никаких писем не получал, — ответил Дэн. — Я приехал сюда, потому что мне нужно как можно скорее поговорить с мистером Бутом. — Я точно знаю, что и он хочет того же. У меня есть распорядок его дня, где он будет и в какое время. Он попросил меня передать один экземпляр вам, на случай, если вы появитесь здесь. Попросил, чтобы вы встретились с ним там, где сочтете удобным для себя. Что ж, вот это ему нравилось больше. Бут все-таки насмерть перепуган и надеется, что Дэн или окажется продажным копом, или послужит посредником между Бутом и тем дьяволом, который преследует людей, связанных с серой комнатой. Он не убежал и не спрятался в какой-либо дыре, потому что прекрасно понимал: ни удрать, ни спрятаться возможности нет. И продолжал, как обычно, заниматься делами, потому что альтернатива — сидеть, тупо уставившись в стену, и ждать прихода Неведомого, его решительно не устраивала. Миссис Хадспет взяла со стола кожаную папку, открыла ее, достала верхний лист бумаги, распорядок босса на этот день. Просмотрела его, вскинула глаза на Дэна. — Боюсь, вы не сможете поймать его там, где он сейчас, потом какое-то время он будет в пути, разумеется, в лимузине, и получается, что раньше шестнадцати часов вы с ним не встретитесь. — Но сейчас только без четверти три. Вы уверены, что раньше не получится? — Посмотрите сами, — она протянула ему лист. Правда была на ее стороне. Если бы он попытался гоняться за Бутом по городу, то только упускал бы его: дел у издателя хватало. Но в четыре часа пополудни его ждали дома. — Где он живет? Миссис Хадспет продиктовала адрес, который Дэн записал в блокнот. Жил Бут в Бел-Эре. Убрав блокнот и подняв голову, он увидел, что миссис Хадспет пристально наблюдает за ним. В ее глазах читалось жадное любопытство. Конечно же, она понимала, происходит что-то экстраординарное, но Бут на этот раз не ввел ее в курс дела, и она едва сдерживалась, чтобы не засыпать Дэна вопросами. Тревога ела ее поедом, и скрыть это она не могла. А тревожиться до такой степени она могла только в одном случае: если знала наверняка, что и Бут крайне встревожен, то есть он не сумел утаить от нее свое состояние. Для такого многоопытного и не раз попадавшего в передряги бизнесмена, как Бут, неспособность скрыть свои эмоции говорила о том, что до паники ему оставался только один шаг. Молодой секретарь, или телохранитель, вернулся, чтобы проводить Дэна к лифтам. В холле по-прежнему маячил охранник. Очаровательная девушка что-то торопливо печатала на клавиатуре компьютера. И перестук клавиш напомнил Дэну звяканье кубиков льда в стакане с виски.* * *
Фильм начался десять минут тому назад, к немалому облегчению Лауры, потому что теперь они ничем не отличались от других зрителей, расположившихся в креслах с высокими спинками. Выражение лица Мелани не изменилось, с таким же она смотрела и на пустой экран. Отраженный от экрана свет падал на лицо Мелани. Иногда окрашивал в те цвета, что господствовали на экране, но по большей части только добавлял бледности ее коже. «По крайней мере, она бодрствует», — думала Лаура. А потом задумалась над тем, что знал Холдейн. Он ей сказал далеко не все. В этом она не сомневалась. Эрл Бентон, сидевший по другую сторону Мелани, сунул руку под пиджак, убедился, что пистолет в плечевой кобуре, и он при необходимости может легко вытащить оружие. Лаура обратила внимание, что он дважды проверил наличие пистолета до начала фильма. И точно знала, что через несколько минут рука Эрла вновь скользнет под пиджак. Это была нервная привычка, и ее проявление у человека, которому нервные привычки ранее не были свойственны, наглядно свидетельствовала о том, как он волнуется. Разумеется, если Оно придет в кинотеатр, если решит, что пора наброситься на Мелани, никакой пистолет помочь не сможет, как бы быстро Эрл ни выхватил его из кобуры. Имея в своем распоряжении час с четвертью, остающиеся до встречи с Бутом в Бел-Эре, Дэн Холдейн решил заскочить в полицейский участок в Уэствуде, где прошлой ночью Уэкслершу и Мануэльо предъявили несколько обвинений, в том числе и в покушении на убийство. Обоих детективов задержали на основании свидетельских показаний Эрла Бентона, и Дэн хотел добавить к ним и свои показания, чтобы повесить еще один замок на дверь их камеры. Он создал у Росса Мондейла впечатление, что не будет ни в чем обвинять Уэкслерша и Мануэльо, и пообещал, что через пару дней, когда дочь и мать Маккэффри будут в безопасности, Бентон откажется от своих показаний, но солгал. Даже если бы ему все-таки не удалось спасти Лауру и Мелани, он смог бы сказать, что его усилия не пропали даром, если бы Уэкслерш и Мануэльо оказались за решеткой, а карьера Мондейла рухнула. Дело вел местный детектив Герман Дорфт, который очень обрадовался, увидев Дэна. Но еще больше, чем показания Дэна, Дорфту хотелось заполучить показания Лауры Маккэффри. И он поскучнел, услышав, что в обозримом будущем связаться с нею нет никакой возможности. Отвел Дэна в комнату для допросов, где стоял обшарпанный стол, но с новеньким компьютером, и пять стульев. Предложил прислать стенографистку или принести магнитофон. — Я знаю, как работает эта штуковина, — Дэн указал на компьютер. — Так что, если не возражаешь, все напишу сам. Герман оставил Дэна наедине с компьютером, под ярким светом флуоресцентных ламп, с барабанной дробью дождя по крыше и затхлым, горьким запахом сигаретного дыма, который за долгие годы осел желтоватой пленкой на когда-то белых стенах. Двадцать минут спустя, когда он только-только распечатал свои показания и намеревался отправиться на поиски полицейского нотариуса, чтобы в его присутствии поставить свою подпись, открылась дверь, и в комнату для допросов вошел Майкл Симс, агент ФБР. — Привет, — поздоровался он. Дэн вновь отметил хронологическое несоответствие лица тридцатилетнего мужчины и сутулости плеч и затрудненности движений, свойственных глубокому старику. — Я искал вас, Холдейн. — Хороший денек для охоты на уток, не так ли? — Дэн поднялся из-за стола. — Где миссис Маккэффри и Мелани? — спросил Симс. — Трудно поверить, что несколько лет тому назад всех тревожила засуха. Теперь зимы становятся все дождливее. — Двух детективов прошлой ночью обвинили в покушении на убийство, нарушении прав граждан и еще во многом другом, так что у Бюро теперь есть достаточно оснований для того, чтобы заняться этим делом. — Лично я уже строю ковчег. — Дэн подхватил отпечатанные показания и направился к двери. Симс остался у него на пути. — И мы им занялись. Теперь мы — не сторонние наблюдатели. Расследование этих убийств передается на федеральный уровень. — Рад за вас. — И вы, разумеется, обязаны сотрудничать с нами. — Предложение интересное. — Где сейчас миссис Маккэффри и Мелани? — Наверное, в кино. — Черт побери, Холдейн… — В такой отвратительный день они точно не поедут ни на пляж, ни в Диснейленд, ни даже на пикник в Гриффит-Парк, так почему им не быть в кино? — Я начинаю думать, что вы — отменный говнюк, Холдейн. — Приятно слышать, что вы таки начинаете думать. — Капитан Мондейл предупреждал меня насчет вас. — Ой, не принимайте его слова всерьез, агент Симс. Росс — известный шутник. — Вы мешаете… — Нет, мешаете вы, — перебил его Дэн. — Стоите у меня на пути, — и с этими словами протолкнулся мимо Симса к двери. Агент ФБР последовал за ним через коридор в отдел расследования убийств к столику нотариуса. — Холдейн, вы не сможете защитить их в одиночку. Если вы будете продолжать в том же духе, их похитят или убьют, а вина ляжет на вас. Подписав показания перед нотариусом, Дэн ответил: — Возможно. Возможно, их и убьют. А вот если я передам их вам, их убьют точно. Симс вытаращился на него. — Вы намекаете, что я… что ФБР… что государство убьет маленькую девочку? Потому что она участвовала в русском или китайском исследовательском проекте? Или потому, что она участвовала в одном из наших проектов, слишком много знает и теперь мы хотим заткнуть ей рот до того, как вся эта история будет предана гласности? Вот о чем вы думаете? — Такая мысль приходила мне в голову. Брызжа слюной, кипя от ярости или отлично имитируя ярость, Симс последовал за Дэном к другому столику, за которым детектив Герман Дорфт пил кофе и просматривал альбом с фотографиями преступников. — Вы рехнулись, Холдейн, или что? — выплюнул он. — Или что. — Мы же представляем государство. Государство Соединенных Штатов Америки. — Рад за вас. — Это не Китай, где каждую ночь государство стучится в пару сотен дверей и пара сотен людей исчезает. — А как много людей исчезает здесь? Десяток за ночь? Да, это несомненный прогресс. — Тут не Иран, не Никарагуа, не Ливия. Мы — не киллеры. Наша задача — защищать людей. — Эту душещипательную речь надобно произносить под бравурную музыку. Почему я ее не слышу? — Мы — не убийцы, — твердил свое Симс. Протянув Дорфту нотариально заверенные показания, Дэн повернулся к Симсу. — Очень хорошо, государство, государственные институты, не убивают людей, разве что налогами и бумажной работой. Но государство состоит из людей, индивидуумов, и ваше Бюро состоит из индивидуумов, и не говорите мне, что некоторые из этих индивидуумов не способны убить мать и дочь Маккэффри за деньги, за возможность подняться по служебной лестнице и по тысяче других причин. Не говорите мне, что сотрудники вашего Бюро — сплошь здравомыслящие и богобоязненные люди, и даже мысль об убийстве никогда не приходила им в голову, потому что я помню перестрелку в Вако, штат Техас, и случившееся с семьей Уивер в Айдахо, и многие другие случаи, когда Бюро применяло силовые методы, выходя за рамки своих полномочий, агент Симс. Дорфт смотрел на них во все глаза, а Симс, покачав головой, успел только сказать: «Агенты ФБР…» — Преданные делу профессионалы, — закончил за него Дэн. — Но даже лучшие из них способны на убийство, агент Симс. На убийство способны даже те из нас, кто выглядит божьим одуванчиком… самые невинные, самые нежные. Поверьте мне, я знаю. Я все знаю об убийствах, об убийцах вокруг нас, об убийцах внутри нас. Больше, чем я хочу знать. Матери убивают собственных детей. Мужья напиваются и убивают жен, иной раз им и не надо для этого напиваться, достаточно несварения желудка, а бывает, что они обходятся и без несварения. Обычные секретарши убивают своих бойфрендов, которые решились трахнуть кого-то еще. Прошлым летом здесь, в Лос-Анджелесе, в один из самых жарких июльских дней, один коммивояжер убил своего соседа, с которым у него возник спор из-за газонокосилки. У нас у всех что-то не в порядке с головой, Симс. Намерения наши хорошие, мы желаем друг другу добра, и мы стараемся, видит бог, стараемся, но в нас есть какая-то червоточина, и с этой червоточиной мы должны бороться постоянно, каждую минуту, иначе она распространится и поглотит нас, и мы боремся, но иногда проигрываем. Мы убиваем из ревности, жадности, зависти, гордости… мести. Политические идеалисты продолжают свое кровавое дело и превращают в ад жизнь тех самых людей, о благе которых они, по их словам, так пекутся. Даже в самом лучшем государстве, если оно достаточно большое, полным-полно идеалистов. Которые, дай им волю, тут же пооткрывали бы концентрационные лагеря в полной уверенности, что правота на их стороне. Религиозные фанатики убивают друг друга во имя бога. Домохозяйки, священники, бизнесмены, сантехники, пацифисты, поэты, врачи, адвокаты, бабушки и подростки… во всех заложена способность убивать, при условии, что есть удобный момент, соответствующее настроение и мотивация. В такой ситуации меньше всего можно доверять тем, кто говорит тебе, что они, мужчины и женщины, мирные люди, тем, кто говорит тебе, что они далеки от насилия и ни для кого не представляют угрозы. По одной простой причине: они или лгут и выжидают, чтобы воспользоваться твоей потерей бдительности… или слишком наивны и ничего о себе не знают. В настоящий момент, как вам хорошо известно, двум людям, которые мне небезразличны, двум людям, которые мне дороже, чем кто бы то ни был на этом свете, грозит смертельная опасность, и заботу о них я могу доверить только себе, и никому больше. Уж извините. По-другому не будет. Забудьте о чем-то еще. И любому, кто попытается помешать мне охранять мать и дочь Маккэффри, я дам такого пинка, что его жопа очутится между лопаток. Как минимум. А если кто-то попытается причинить им вред, попытается прикоснуться к ним пальцем… будьте уверены, я убью этого сукина сына. Нисколько в этом не сомневаюсь, Симс, потому что у меня нет никаких иллюзий относительно собственной способности убивать. Трясясь от злости, он развернулся и направился к двери, которая вела на автомобильную стоянку. Увидел, что в комнате стоит мертвая тишина, а все взгляды обращены к нему. Понял, что говорил не только зло и агрессивно, но и во весь голос. Он чувствовал, что лицо у него горит и блестит от пота. Люди расступались, давая ему пройти. Дэн уже добрался до двери и взялся за ручку, когда Симс, похоже, пришел в себя от эмоционального взрыва и последовал за ним. — Подождите, Холдейн, ради бога, нельзя же так вести расследование. Я не позволю вам оставаться в роли Одинокого рейнджера. Придите в себя! За два дня убито восемь человек, и дело это становится слишком большим, чтобы… Дэн остановился, не открыв дверь, резко повернулся к Симсу, оборвал его: — Восемь? Так вы сказали — восемь? Дилан Маккэффри, Вилли Хоффриц, Купер, Ринк, Скальдоне. Пять. Не восемь. Только пять. Что произошло со вчерашнего вечера? — спросил Дэн. — Кого убили после Скальдоне? — Вы не знаете? — Кого еще? — Эдвина Коликникова. — Но он же уехал. В Лас-Вегас. Симс побагровел от ярости. — Вы знали насчет Коликникова? Вы знали, что он помогал Хоффрицу в этом проекте с серой комнатой? — Да. — Мы не узнали об этом, пока его не убили, черт побери! Вы утаивали информацию, важную для полицейского расследования, Холдейн, и вам за это не поздоровится, пусть вы и коп! — Что случилось с Коликниковым? Симс рассказал о кровавой публичной казни в казино Лас-Вегаса. — Все равно что полтергейст, — заключил он. — Правда, такого полтергейста еще не было. Неизвестная, невидимая, огромная сила ворвалась в казино и забила Коликникова насмерть на глазах сотен свидетелей! Теперь не остается сомнений в том, что исследования Хоффрица и Дилана Маккэффри напрямую затрагивают национальную безопасность, и мы должны знать, чем они занимались. — У вас есть все бумаги, записи, дневники из дома в Студио-Сити… — Они у нас были, — теперь его перебил Симс. — Но то, что добралось до казино и убило Коликникова, добралось и до всех документов, связанных с этим делом, и сожгло все бумаги Маккэффри… — Что? — изумленно переспросил Дэн. — И когда это произошло? — Прошлой ночью. Спонтанное гребаное возгорание. Очевидно, Симс едва сдерживал себя, потому что в ином случае федеральный агент не мог выкрикнуть ругательное слово в публичном месте. Такое поведение портит имидж, а для федералов имидж всегда имел не меньшую важность, чем результаты работы. — Вы сказали, восемь, — напомнил Дэн. — Восемь трупов. Кто еще? Кроме Коликникова? — Этим утром Говард Рензевеер найден в своем горном коттедже, неподалеку от Маммота. Полагаю, насчет Рензевеера вам тоже все известно. — Нет, — солгал Дэн, опасаясь, что правда еще сильнее разъярит агента ФБР и тот прикажет его арестовать. — Гарольд Рензевеер? — Говард, — в голосе Симса слышалась издевка. Чувствовалось, что он как минимум наполовину убежден в том, что Дэн прекрасно знает имя Рензевеера. — Еще один сообщник Вилли Хоффрица и Дилана Маккэффри. Вероятно, прятался там. Люди, которые жили в соседнем коттедже, ночью услышали крики, позвонили шерифу. Рензевеера отделали до неузнаваемости. И с ним был еще один человек. Шелдон Толбек. — Толбек? Это кто? — Инстинкт самосохранения подсказывал Дэну, что лучше всего демонстрировать свое полное неведение. — Еще один психолог, который работал вместе с Хоффрицем и Маккэффри. Есть признаки того, что Толбек находился в коттедже, когда это существо… эта сила, как ни назови, ворвалась в коттедж и начала превращать Рензевеера в отбивную котлету. Толбек убежал в лес. Его пока не нашли. Возможно, никогда не найдут, и, если он не… в общем, мы можем надеяться, что при лучшем для него раскладе он всего лишь замерз. Это было плохо. Ужасно. Хуже всего. Дэн знал, что время на исходе, но он и представить себе не мог, что оно мчится галопом, изливается, как вода, прорвавшая дамбу. Он-то думал, что остались еще как минимум пять участников проекта «Серая комната», которых должно уничтожить Оно, прежде чем обратить свое внимание на Мелани. Полагал, что на эти экзекуции уйдет еще день, а то и два, и он успеет найти подтверждение своим подозрениям задолго до того, как все участники проекта будут уничтожены, и сумеет остановить бойню и спасти Мелани. Он даже думал, что, возможно, сможет спасти одного или двух этих аморальных людей, хотя спасения они, разумеется, не заслуживали. Но внезапно его шансы спасти кого-либо сильно уменьшились: число покойников возросло до восьми. И, насколько он знал, участников проекта осталось двое: Альберт Ахландер, писатель, и Палмер Бут. И после того, как их не станет, Оно повернется к Мелани, набросится на нее с особой яростью. Разорвет на куски. Размозжит голову. Будет молотить, пока в теле не останется ни одного проблеска жизни. Только Бут и Ахландер стояли между девочкой и смертью. И даже в этот самый момент финансист или писатель, а то и оба, уже могли находиться в безжалостных руках невидимого, но страшного врага. Дэн отвернулся от Симса, рывком открыл дверь, выбежал на автостоянку, где холодный дождь, пронизывающий ветер и сгущающийся туман трудолюбиво сводили на нет устоявшийся образ Южной Калифорнии. По лужам помчался к своему седану, не обращая внимания на воду, которая попадала в туфли. Симс что-то кричал ему вслед, но Дэн не остановился, чтобы ответить. Мокрый, дрожащий, сел за руль, оглянулся, увидел стоящего в дверном проеме Симса. С такого расстояния казалось, что за несколько последних минут лицо агента заметно состарилось. Теперь оно более-менее соответствовало седым волосам. Выезжая со стоянки на улицу, Дэн удивлялся тому, что Симс позволил ему уехать. Теперь, когда стало ясно, сколь велики ставки, речь, пожалуй, действительно шла о национальной безопасности. После того как погибли восемь человек, а ФБР официально вмешалось в расследование, если бы Симс арестовал его, решение агента ФБР наверняка сочли бы оправданным. Отпустив его, он пренебрег своими обязанностями. Свобода как нельзя больше устраивала Дэна, потому что ему требовалось как можно скорее переговорить с Бутом. Если раньше жизнь Мелани висела на нитке, то теперь нитка превратилась в волосок, и время, как острая пила, не зная отдыха, перерезало его. Дельмар, Кэрри, Синди Лейки… Нет. Не на этот раз. Он спасет эту женщину, этого ребенка. На этот раз не потерпит неудачу. Он пересек Уэствуд, добрался до бульвара Уилшир, свернул налево, к Уэствудскому бульвару, который вывел бы его к бульвару Сансет и началу Бел-Эра. Он понимал, что доберется до дома Бута раньше назначенного срока, но, возможно, и Бут мог подъехать раньше. Дэн проехал еще три квартала, прежде чем его осенило: Майкл Симс, скорее всего, распорядился поставить «маячок» на его автомобиль, пока он находился в полицейском участке, печатал свои показания. Вот почему Симс не стал ни задерживать, ни арестовывать его за отказ сотрудничать с федеральным агентом. Симс понял, что проще всего ему удастся добраться до Лауры и Мелани Маккэффри, идя по следу Дэна. Впереди зажегся красный свет. Дэн надавил на педаль тормоза и посмотрел на зеркало заднего обзора. Автомобили шли плотным потоком. Для того чтобы обнаружить «хвост», требовалось немало усилий и времени, которого катастрофически не хватало. А кроме того, у тех, кто ехал за ним, не было необходимости находиться в зоне прямой видимости. Если на его седане стоит «маячок», они получали информацию о его местоположении, находясь в нескольких кварталах, наблюдая его передвижения на экране компьютера с высвеченной на нем картой города. Дэн понимал, что должен выскочить из-под «колпака». Пока он не собирался ехать к Маккэффри, но ему не хотелось, чтобы они узнали о его встрече с Бутом. Сидящие на хвосте агенты ФБР могли помешать Буту говорить откровенно. А если уж Бут и решится выложить все карты на стол, Дэн не хотел, чтобы кто-нибудь слышал откровения издателя, потому что, если Мелани каким-то чудом выживет, эта информация может быть использована против нее. И тогда у нее не будет ни единого шанса пробить сковывающую ее броню аутизма, никакой надежды вернуться к нормальной жизни. Уже и так от этой надежды осталась лишь крохотная искорка. И задача Дэна заключалась в том, чтобы сохранить ее и постараться раздуть в пламя. Красный свет сменился зеленым. Он замялся, не зная, куда ехать, что сделать, чтобы оторваться от преследователей. Дельмар, Кэрри, Синди Лейки… Он посмотрел на часы. Сердце стучало, как паровой молот. Тиканье часов, грохочущие удары сердца, перестук дождя по крыше, все слилось в единый звук метронома, отсчитывающего последние секунды перед взрывом всего мира.Глава 36
Глаза Мелани следили за происходящим на экране. Она не издала ни звука, не шевельнулась, но глаза двигались, и Лаура полагала сие хорошим признаком. За последние два дня Лаура считаные разы становилась свидетельницей того, что девочка смотрит на что-то в этом мире. Почти час движение глаз указывало на то, что Мелани достаточно продолжительный промежуток времени, а такое произошло впервые, реагирует на внешние события. И не имело значения, следила ли Мелани за сюжетом, или ее просто зачаровали меняющиеся яркие образы. Главное состояло в том, что музыка, цвет и режиссерское мастерство Спилберга, захватывающие дух сцены и совершенно необычные ракурсы сделали то, чего не получалось раньше, — начали вытягивать Мелани из психологической ссылки, куда она сама себя загнала. Лаура знала, что чудесного исцеления не будет, что после просмотра аутизм не пропадет, как по мановению волшебной палочки. Но это был первый шажок, пусть и маленький. К тому же интерес Мелани к фильму облегчал поставленную перед Лаурой задачу: постоянно контролировать дочь и не дать ей уснуть. Девочка не выказывала признаков сонливости или погружения во внутренний мир.* * *
Дэн кружил по Уэствуду, поворачивая с улицы на улицу. Всякий раз, останавливаясь на знак «Стоп» или на красный свет, ставил ручку переключения скоростей на «Парковку», выходил из автомобиля и торопливо осматривал маленькую часть днища в поисках миниатюрного передатчика, который, он уже в этом не сомневался, по приказу Симса закрепили на его седане. Он мог бы подъехать к тротуару и методично, от бампера до бампера, осмотреть автомобиль, но тогда едущие следом агенты ФБР догнали бы его и поняли, чем он занимается. А осознав, что он заподозрил наличие «маячка» и ищет его, они бы не дали ему возможности ускользнуть от них. Скорее всего, арестовали бы и доставили к Майклу Симсу. Поэтому на первом знаке «Стоп» он пошарил под левой частью переднего бампера и под левым передним крылом в надежде обнаружить электронный прибор с намагниченным корпусом, размером не превышающий пачку сигарет. Остановившись в следующий раз, осмотрел нишу над задним левым колесом. Еще две остановки ушли на то, чтобы разобраться с двумя правыми колесами и правой частью переднего бампера. Он знал, что другие водители таращатся на него, но, поскольку он все время менял направление движения, ни один из них не останавливался рядом более двух раз, а потому его поведение могло показаться им странным, эксцентричным, но никак не подозрительным. И наконец, остановившись на перекрестке в жилых кварталах, чуть южнее бульвара Сансет, рядом, так уж вышло, других машин не было, он обнаружил то, что искал, под задним бампером. Оторвал «маячок», забросил в кусты, растущие у ближайшего дома, сел за руль, захлопнул дверцу и умчался, резко вдавив в пол педаль газа. Несколько следующих кварталов то и дело смотрел в стекло заднего обзора, опасаясь, что преследователи увидели, как он выбрасывал «маячок», и перешли на визуальное наблюдение. Но нет, от агентов ФБР ему удалось уйти. Штанины до колен и туфли промокли насквозь, галлон холодной воды вылился за воротник, пока он обшаривал различные наружные части автомобиля. По телу волнами пробегала дрожь. Зубы стучали. Он включил обогреватель на полную мощность. Но город покупал дешевые автомобили, поэтому оборудование если и работало, то работало плохо. Так что вентилятор гнал в салон лишь чуть теплый и влажный воздух, с легким привкусом сероводорода, словно у автомобиля было несварение желудка, так что Дэн не перестал дрожать, пока не добрался до Бел-Эра и не нашел поместье Бута на одной из самых тихих улиц. За высокими массивными соснами и дубами возвышалась кирпичная стена цвета запекшейся крови, высотой в семь или восемь футов, прикрытая сверху навесом из черной шиферной плитки, из которой торчали черные металлические пики. Стена была такой длинной, что, казалось, она огораживает колледж, больницу, музей, но никак не частное поместье. Но в конце концов Дэн подъехал к тому месту, где стена плавно загибалась внутрь. Точно такая же, с таким же загибом стена тянулась и дальше, а загибы на пару образовывали подъездную площадку у утопленных относительно улицы на двадцать футов металлических ворот с двумя кирпичными башенками по флангам. Кованые, мощные ворота при всей своей красоте могли выдержать взрыв не одной бомбы. На мгновение Дэн подумал, что ему придется выходить из машины и искать кнопку вызова, но тут же заметил, что в одну из башенок искусно встроена сторожевая будка. Охранник, в галошах и сером дождевике с капюшоном, вышел из-за кирпичной стенки, которая маскировала вход в будку. Только теперь Дэн разглядел круглое окошко, через которое охранник и увидел седан. Мужчина подошел к водительской дверце, спросил, чем может помочь, взглянул на удостоверение Дэна и сообщил, что его ждут. — Я открою ворота, лейтенант. Вы поезжайте по главной дороге и остановитесь на кругу перед особняком. Дэн поднял стекло, пока охранник возвращался в будку, а потом колоссальные ворота распахнулись с удивительной для такой махины легкостью. И Дэн миновал их с ощущением, что за ними находится не тот мир, в котором он жил. А другой, лучший, и ворота на самом деле магический портал между мирами, через который можно попасть и в еще более странные и удивительные миры. Поместье Бута занимало восемь или десять акров и наверняка было одним из самых больших в Бел-Эре. Дорога чуть поднималась, а потом плавно повернула налево, проложенная по ухоженному парку. В доме, стоявшем по другую сторону круга, в который вливалась дорога, мог бы жить и господь бог, если бы располагал соответственными финансовыми возможностями. Внешне он напоминал старинные дворянские особняки, знакомые по фильмам, действие которых разворачивалось в Англии, скажем, «Ребекка» или «Возвращение в Брайдсхед», с кирпичными стенами, гранитными угловыми камнями и перемычками окон, трехэтажный, с выложенной черной шиферной плиткой крышей, окнами мансарды, уходящими под углом флигелями. Дюжина ступеней вела к старинным дверям из красного дерева, на которые пошли как минимум один толстый ствол и два размером поменьше. Дэн припарковался у фонтана, занимавшего середину круга. Сейчас он не работал, но выглядел точь-в-точь как фонтан из какого-то старого фильма с Кэри Грантом и Одри Хепберн о европейской романтике и интригах. Дэн поднялся по ступеням, и одна из дверей открылась, прежде чем он начал искать кнопку звонка. Вероятно, охранник позвонил и предупредил о его приезде. Оглядев просторный и роскошный холл, Дэн прикинул, что на таком пространстве смог бы жить со всеми удобствами, и не один, а с женой, если бы в конце концов женился, и двумя детьми. Дворецкий Бута отказался от традиционного наряда киношных дворецких в пользу серого костюма, белой рубашки и черного галстука, пусть и говорил с английским акцентом. Взял мокрый плащ Дэна и постарался не обращать внимания на мокрую и мятую одежду. — Мистер Бут ждет вас в библиотеке, — сообщил дворецкий. Дэн взглянул на часы. 15.55. Из-за задержки, связанной с поиском «маячка», поставленного на его автомобиль, он не смог приехать раньше назначенного срока. И вновь буквально физически почувствовал, как утекает отпущенное ему время. Дворецкий вел его по огромным комнатам, красиво и элегантно обставленным, по персидским и китайским коврам. Выложенные деревом наборные потолки, должно быть, вывезли из классических европейских поместий. Стены были украшены полотнами чуть ли не всех классиков импрессионизма, причем не возникало и мысли о том, что хоть одна из этих картин — копия или репродукция. Стоимость предметов старины, красота интерьеров производили должное впечатление, но с каждой остающейся позади и поражающей царским убранством комнатой нарастала и тревога Дэна. Он чувствовал, что какие-то мощные и зловещие силы пока еще дремлют за этими стенами и под полами, но могут очень даже быстро проснуться. Создавалось впечатление, будто колоссальная машина, способная сеять зло, урчит где-то рядом на холостом ходу, и перевести ее в рабочий режим — сущий пустяк. Несмотря на отменный вкус и безграничные ресурсы того, кто строил и обставлял особняк, несмотря на огромные комнаты, а может, и в силу того, что рассчитывались они не на людей, а на великанов, атмосфера особняка давила, прямо-таки как в средневековом замке. И Дэн не мог не задаться вопросом, как вышло, что Палмер Бут, построивший себе столь утонченный и изысканный дом, мог приговорить маленькую девочку к мучениям в серой комнате. Такое противоречие требовало раздвоения личности. Доктор Джекилл и мистер Хайд в одном флаконе. Великий издатель, либерал и филантроп, который по ночам бродил по темным улицам с дубинкой, замаскированной под тросточку. Дворецкий открыл одну из тяжелых дверей библиотеки и переступил порог, одновременно объявляя о прибытии мистера Холдейна. Дэн последовал за ним, прошел мимо книжных шкафов, между которыми располагались двери. Дворецкий тут же отбыл. Потолок высотой в двадцать футов, отделанный панелями красного дерева, плавно спускался к десятифутовым стеллажам того же дерева, заставленным книгами, до некоторых добраться можно было лишь с помощью лесенки. В дальнем конце комнаты большущие французские окна занимали единственную стену, не полностью отданную книгам. Из них открывался вид на прекрасный сад, хотя зеленые портьеры наполовину суживали обзор. На начищенном паркете лежали дорогие персидские ковры, уютные кожаные кресла так и манили к себе. На огромном столе стояла лампа от «Тиффани» с абажуром из цветного стекла. Из-за этого стола и поднялся Палмер Бут, чтобы встретить своего гостя. Высокий, под шесть футов, широкоплечий, с тонкой талией, пятидесяти пяти или шестидесяти лет, но с внешностью и энергетикой намного более молодого человека. Слишком узкое, с удлиненными чертами лицо на красоту не тянуло, но аскетизм тонких губ и прямого тонкого носа, благородство подбородка и линии челюсти вызывали на ум слово «утонченность». — Лейтенант Холдейн. — Бут приближался, протягивая руку. — Я так рад, что вы смогли подъехать. Прежде чем Дэн сообразил, что делает, он уже пожимал протянутую руку, хотя сама мысль о прикосновении к этому злобному ящеру вызывала отвращение. Более того, он вдруг понял, что им манипулируют, что он реагирует на Бута частично как вассал, приглашенный к королевского двору, частично как случайный знакомый, приглашенный в дом к известному человеку, доброе отношение которого ему хочется заслужить. Какими средствами достигался такой результат, Дэн объяснить не мог. Вероятно, в этом заключалась причина того, что Палмер Бут стоил несколько сот миллионов долларов, а Дэн делал покупки в «Кмарте», но никак не в «Найман-Маркусе». Дэн уловил движение в темном углу и, повернувшись, увидел высокого, тощего, с ястребиными чертами лица мужчину, который поднялся из кресла со стаканом виски с кубиками льда в руке. Необычайно яркие, с пронзающим взглядом, глаза мужчины максимально полно характеризовали его: высокий интеллект, жгучее любопытство, агрессивность и… толика безумия. Бут еще не успел раскрыть рта, чтобы представить мужчин друг другу, как Дэн произнес: — Альберт Ахландер. Писатель. Ахландер, вероятно, знал, что по части манипуляций людьми он Буту не чета. Поэтому не улыбнулся. Не сделал попытки обменяться рукопожатиями. Тот факт, что они находились по разные стороны баррикады и исповедовали враждебные идеологии, не составлял для Ахландера тайны, как, впрочем, и для Дэна. — Могу я предложить вам что-нибудь выпить! — Радушие хозяина, с учетом сложившейся ситуации, начинало выводить из себя. — Шотландское? Бурбон? Может, стакан хереса? — Господи, да нет у нас времени сидеть и выпивать! — рявкнул Дэн. — Ваше время истекло, и вы оба это знаете. И если я хочу попытаться спасти ваши жизни, то лишь для того, чтобы испытать огромное наслаждение, видя, как вы отправляетесь в тюрьму на долгий-долгий срок. — Очень хорошо, — холодно ответил Бут и вернулся за стол. Сел на клубный стул, обтянутый темно-зеленой кожей, и практически полностью растворился в тени. Видимым осталось только его лицо, ставшее зелено-желтым от света, падающего через абажур из цветного стекла. Ахландер подошел к французскому окну и встал спиной к стеклянным панелям. Снаружи серый от дождя и тумана день уже перетекал в ранние зимние сумерки, так что в окно библиотеки много света не попадало. Однако окно все-таки выделялось световым пятном между темно-зелеными портьерами, и на его фоне писатель превратился в темный силуэт. Тени скрывали и его глаза, и выражение лица. Дэн подошел к столу, ступил в круг многоцветного света, посмотрел сверху вниз на Бута, который уже держал в руке стакан с виски. — Почему человек с вашим положением и репутацией путается с такими, как Вилли Хоффриц? — Он был умницей. Гением в своей области. Я всегда общаюсь только с самыми умными людьми, — ответил Бут. — Во-первых, они обычно и самые интересные люди. А во-вторых, их идеи и энтузиазм частенько приносят немалую практическую прибыль. — А кроме того, Хоффриц предложил вам абсолютно покорную, полностью зависимую молодую женщину, готовую терпеть любые унижения, которым вам хотелось ее подвергнуть. Не так ли, Папочка? Наконец-то в броне самоуверенности Бута появилась трещина. На мгновение глаза его сузились от ненависти, челюстные мышцы напряглись, от злости крепко сжались зубы. Но контроль над собой он упустил лишь на доли секунды. Лицо тут же расслабилось, он отпил виски. — У всех людей есть… слабости, лейтенант. В этом я такой же человек, как и любой другой. Что-то в его глазах, выражении лица, тоне отрицало признание собственной слабости. Скорее он просто проявлял великодушие, признавая, что слабости свойственны ему также, как обычным людям. Не вызывало сомнений, что он не находит ничего постыдного в своих отношениях с Реджиной, но при сложившихся обстоятельствах посчитал целесообразным потрафить собеседнику. — Хоффриц, возможно, и был гением, но с извращенными моральными принципами, — продолжил Дэн. — Он использовал свои знания и талант не для разрешенных законом исследований коррекции поведения, а для разработки новых методов «промывки мозгов». Люди, которые его знали, говорили мне, что он — тоталитарист, фашист, элитист худшего толка. Как такое может сочетаться с вашим широко известным либерализмом? Во взгляде, обращенном к Дэну, читались жалость, пренебрежение, насмешка. А заговорил Бут, словно обращаясь к ребенку: — Лейтенант, каждый, кто верит, что проблемы общества можно решить политическим процессом, является элитистом. То есть большинство людей. И тут неважно, правый ли вы, консерватор, умеренный, либерал или крайний левак. Приклеивая к себе тот или иной политический ярлык, вы становитесь элитистом, потому что верите: проблемы общества может решить правильная группа людей, пришедшая к власти. Так что элитизм Хоффрица меня не волновал. Я, однако, уверен, что массы нуждаются в контроле, управлении… — «Промывке мозгов». — Да, в «промывке мозгов», для их же пользы. Поскольку население мира растет, а современные технологии способствуют все более широкому распространению информации и идей, прежние институты, такие, как семья и церковь, разваливаются. Появляются новые, более опасные способы и средства, через которые недовольные демонстрируют свои страдания и враждебность. Вот мы и должны найти методы подавления недовольства, контроля мыслей и действий, если мы хотим жить в стабильном обществе, стабильном мире. — Теперь я понимаю, почему вы использовали либеральные политические комитеты как ширму для финансирования исследований Маккэффри и Хоффрица. Брови Бута приподнялись. — Так вы знаете и это? — Я знаю гораздо больше. Бут вздохнул: — Либералы — такие безнадежные мечтатели. Они хотят свести государство к минимуму, практически искоренить политику. Я подумал, что будет забавно финансировать работу, преследующую прямо противоположные цели, используя в качестве прикрытия либеральный крестовый поход. Альберт Ахландер все еще стоял спиной к французскому окну, молчаливый силуэт, который приходил в движение лишь для того, чтобы поднести ко рту стакан с виски. Лицо его по-прежнему полностью скрывала тень. — Итак, вы финансировали Хоффрица, Маккэффри, Коликникова, Толбека и еще бог знает сколько «гениев» с извращенной моралью, — кивнул Дэн. — А теперь, столь упорно ища способ контролировать массы, вы потеряли контроль над ситуацией. Один из экспериментов пошел не так, как хотелось, и в результате что-то быстро убивает всех, так или иначе связанных с этим экспериментом. И скоро доберется до вас. — Я уверен, что такой ход событий вызывает у вас чувство глубокого удовлетворения, — ответил Бут. — Но я не верю, что вы знаете так много, как вам кажется, и, когда вы услышите всю историю и поймете, что происходит, думаю, у вас возникнет не меньшее, чем у нас, желание остановить убийства, положить конец ужасу, который вырвался из серой комнаты. Вы дали клятву защищать и охранять жизни, и я достаточно хорошо знаком с вашим послужным списком, чтобы знать, что к этой клятве вы относитесь очень серьезно, словно к обету, данному господу. И хотя жизни, которые вы должны защищать, моя и Альберта, и пусть мы вам противны, вы сделаете все, что необходимо, чтобы защитить нас, после того как выслушаете всю историю. Дэн покачал головой: — Вы не испытываете ничего, кроме презрения к чести и порядочности простых людей вроде меня, и однако вы полагаетесь на эту честь, чтобы спасти свой зад. — На это… и на некоторые стимулы, — от окна подал голос Ахландер. — Какие стимулы? — спросил Дэн. Бут пристально всмотрелся в него. Яркие цвета стекол «Тиффани» отражались в ледяных глазах магната. — Да, пожалуй, не повредит начать со стимулов. Альберт, принеси их, пожалуйста. Ахландер вернулся к креслу в углу, на котором сидел, поставил стакан на ближайший столик, подхватил стоящий на полу чемодан, которого раньше Дэн не замечал. Принес, положил на стол Бута, открыл. Чемоданчик заполняли аккуратные пачки банкнот по сто и пятьдесят долларов. — Полмиллиона, наличными, — мягко произнес Бут. — Но это лишь часть моего предложения. В «Джорнэл» требуется начальник службы безопасности. Вы будете получать в два раза больше, чем теперь. На деньги Дэн даже не посмотрел. — Вы демонстрируете такое завидное хладнокровие, но этот чемоданчик показывает, в каком вы отчаянии. Ваше предложение можно объяснить только паникой. Вы сказали, что знаете меня. Значит, вам известно, что такие «стимулы» дадут обратный эффект. — Да, — согласился Бут, — если бы мы хотели, чтобы за деньги вы сделали что-то противозаконное. Но мы надеемся доказать вам, что поступок, на который мы хотим вас подвигнуть, правильный, только так и может поступить честный, совестливый человек в сложившихся обстоятельствах. Я уверен, узнав, что произошло, вы поступите правильно. Именно этого мы от вас хотим. Заверяю вас, вы увидите, что деньги предложены вам не для того, чтобы заглушить чувство вины, но… скажем, как премия за хорошо выполненное доброе дело. — Он улыбнулся. — Вам нужна девочка. — Нет, — ответил Ахландер, его глаза блеснули, лицо в смеси цветов и тени стало еще более ястребиным. — Мы хотим, чтобы она умерла. — И быстро, — добавил Бут. — Вы предлагали Россу Мондейлу такую же сумму? Уэкслершу и Мануэльо? — спросил Дэн. — Господи, нет! — ответил Бут. — Но теперь только вы знаете, где найти Мелани Маккэффри. — Единственный во всем городе, — поддакнул Ахландер. Со своей стороны стола они пристально наблюдали за Дэном. — Судя по всему, вы даже хуже, чем я думал. — Дэн покачал головой. — Вы считаете, что убийство невинного ребенка, чем бы оно ни обуславливалось, может считаться правильным поступком, добрым деянием? — Ключевое слово — невинный, — ответил Бут. — Когда вы поймете, что произошло в серой комнате, что убило этих людей… — Я, возможно, уже знаю, что их убило, — перебил его Дэн. — Мелани, не так ли? Они молча уставились на детектива, удивленные его проницательностью. — Я прочитал часть вашей книги, о выходе в астрал. — Дэн смотрел на Ахландера. — Она подтолкнула меня к решению головоломки, и я смог собрать отдельные элементы в целостную картину. Он-то надеялся, что ошибался, боялся подтверждения своих самых худших подозрений. Но от правды никуда не уйти. Волна холодного отчаяния, такого же реального, как дождь за окнами, окатила его. — Она убила их всех, — ответил Ахландер. — Пока шесть человек. И убьет остальных, если у нее будет шанс. — Не шесть, — поправил его Дэн. — Восемь. Фильм Спилберга закончился. Эрл купил билеты на следующий фильм в этом же мультикомплексе. Они перешли в другой зал, Лаура и Эрл вновь посадили Мелани между собой. Лаура пристально наблюдала за дочерью во время первого фильма, но ребенок не проявлял желания ни заснуть, ни впасть в более глубокое кататоническое состояние. Глаза Мелани следили за происходящим на экране до самого конца фильма, а однажды уголки рта буквально на мгновение искривились в улыбке. Во время просмотра она не произнесла ни слова, не издала ни звука, только раз или два шевельнулась, устраиваясь поудобнее, но даже минимальное внимание к происходящему в реальном мире говорило об улучшении ее состояния. У Лауры вновь возродилась надежда на выздоровление девочки, хотя она и понимала, что рассчитывать на быстрый прогресс не приходится. А кроме того, где-то, то ли рядом, то ли нет, находилось Оно. Лаура посмотрела на часы. Две минуты до начала просмотра. Эрл оглядывал зрителей, которых собралось в два раза меньше, чем на предыдущий фильм. Все вроде бы пришли посмотреть кино и не вызывали никаких подозрений. И волновался он меньше, чем перед первым фильмом. До того как погас свет и осветился большой экран, только раз проверил, на месте ли пистолет. Мелани глубже утонула в кресле, выглядела более усталой. Но широко открытыми глазами смотрела на экран, на котором начался показ рекламных роликов новых фильмов, до начала проката которых оставалась неделя-другая. Лаура вздохнула. Большая часть второй половины дня прошла тихо и спокойно. Может, теперь все образуется. — Восемь? — в ужасе переспросил Ахландер. — Вы говорите, что она убила восьмерых? — Вы знаете насчет Коликникова в Вегасе? — спросил Дэн. — Да, — кивнул Бут. — Он был шестым. — Вы знаете насчет Рензевеера и Толбека в Маммоте? — Когда? — спросил Ахландер. — Когда она до них добралась? — Прошлой ночью. Двое мужчин переглянулись, и Дэн буквально почувствовал, как их соединил воедино поток страха. — Она избавляется от людей в определенном порядке, — пояснил Ахландер, — в соответствии с тем, как много времени они проводили в серой комнате и сколько причинили ей неудобств. Палмер и я бывали там реже, чем любой из остальных. Дэн с трудом сдержался, чтобы не возразить, что слово «неудобства» он выбрал неправильно, куда больше тут подходило другое слово — боль. Теперь он понимал, почему они держались так спокойно, когда его провели в библиотеку, почему не сомневались, что у них есть время выпить и не спеша объяснить Дэну, чего от него хотят. Они полагали, что станут жертвами в последнюю очередь, а уверенность в том, что Говард Рензевеер и Шелдон Толбек еще живы, позволяла им только бояться, не впадая в панику. За огромными французскими окнами серый день сменился короткими сумерками. В библиотеке тени росли и перемещались, словно превратились в живых существ. Свет лампы от «Тиффани» становился все ярче по мере того, как день угасал. Многоцветные пятна и полосы в сочетании с тенями уменьшали размеры комнаты, создавали впечатление, что стены надвигаются на стол и людей, собравшихся вокруг него. — Но если Говард и Шелби мертвы, — заговорил Бут, — тогда мы — следующие, и… она… она может прийти в любой момент. — В любой момент, — подтвердил Дэн. — Поэтому у нас нет времени на выпивку и подкуп. Я хочу точно знать, что происходило в серой комнате и почему. — Рассказывать нет времени! — воскликнул Бут. — Вы должны остановить ее! Вы, вероятно, знаете, что мы развивали в девочке способность ВИТ — выхода-из-тела, и она… — Что-то я знаю, еще больше подозреваю, но пока мало что понимаю, — ответил Дэн. — И я хочу знать все до мельчайших подробностей, прежде чем решу, что делать дальше. — Мне нужно выпить. — В голосе Бута слышалась дрожь, он поднялся и нетвердым шагомнаправился к бару, который занимал один из углов библиотеки. Ахландер плюхнулся на стул, который освободил Бут. Посмотрел на Дэна. — Я вам все расскажу. Дэн пододвинул к столу ближайшее кресло. В баре Бут так нервничал, что уронил на пол пару ледяных кубиков. А когда наливал себе бурбон, горлышко бутылки выбило дробь о край стакана, прежде чем Бут сумел унять дрожь в руках.* * *
Лаура продолжала следить за лицом Мелани. Девочка все глубже утопала в кресле. Этот фильм, который шел только десять минут, похоже, не увлекал ее, как картина Спилберга. Пока глаза девочки оставались открытыми, и она вроде бы следила за происходящим на экране, Лауре оставалось только гадать, сколь долго фильм будет занимать девочку.* * *
Палмер Бут мерил библиотеку шагами и пил бурбон, удивляя столь нехарактерной для него потерей самоконтроля. Альберт Ахландер, втянув голову в узкие плечи, отчего еще больше стал похож на птицу, рассказывал о проекте, который реализовывался в серой комнате. Дилан Маккэффри, пусть и был доктором психологии, всю сознательную жизнь интересовался различными аспектами оккультизма. Он прочитал несколько первых книг Ахландера, начал с ним переписываться и постепенно особо заинтересовался ВИТ, выходом-из-тела, или так называемым выходом в астрал. Феномен выхода в астрал базировался на теории, согласно которой в каждом человеке соседствуют две сущности: физическое тело из плоти и крови и астральное, или этерическое тело, иногда называемое психогейстом. Другими словами, каждый человек имеет двойную природу, включает в себя двойника, который может функционировать отдельно от физического тела, позволяя человеку находиться одновременно в двух местах. Обычно двойник, астральное тело (Ахландер называл его «тело чувств и ощущений»), пребывал в физическом теле и оживлял его. Но при крайне необычных обстоятельствах (как правило, со смертью) астральное тело покидало физическое. — Некоторые медиумы утверждают, — продолжал Ахландер, — что могут по собственной воле выйти из физического тела, но весьма вероятно, что они лгут. С другой стороны, есть много историй заслуживающих доверия людей, которым снилось, как во время сна они поднимаются из своих тел. Они рассказывают и о путешествиях в невидимом состоянии, часто в те места, где их близкие умирали или им грозила смертельная опасность. К примеру, десять лет тому назад такое случилось с одной женщиной в Орегоне. Во время сна она поднялась из тела, поплыла над крышами домов в сельскую местность и прибыла на то место, где машина ее брата перевернулась на узкой дороге, по которой редко ездили автомобили. Его зажало в разбитой машине, и он истекал кровью. Она не могла помочь, будучи астральным телом, силы у которого нет, только чувства. В таком состоянии можно только наблюдать. Но она вернулась в спящее тело, позвонила в полицию, сообщила о месте аварии и спасла ему жизнь. — Обычно астральное тело невидимо, — вставил Бут. — Чистый дух. — Хотя известны случаи видимости астрального тела и даже обретения им плотности физического, — уточнил Ахландер. — В 1810 году, когда лорд Байрон, поэт, лежал в Патрасе, Турция, потеряв сознание от высокой температуры, несколько друзей поэта встречали его в Лондоне. По их словам, он прошел мимо, не сказав ни слова, и его видели среди людей, которые справлялись о здоровье короля. Позже Байрон находил все это странным, и ему в голову не пришло, что он испытал ВИТ крайней интенсивности, но напрочь забыл об этом после того, как температура упала и он пришел в себя. В общем, каждый более-менее серьезный оккультист пытался инициировать у себя ВИТ… обычно безуспешно. Бут вернулся к бару, чтобы долить себе бурбона. — Не напейтесь, — предупредил Дэн. — Будьте уверены, потеря сознания не поможет. Только все усложнит. — За всю жизнь я ни разу не напился, — холодно ответил Бут. — Я не убегаю от проблем, лейтенант. Я их решаю, — он вновь закружил по библиотеке, но пил бурбон уже не так жадно, как раньше. — Дилан не только верил в выход в астрал, — вернул разговор в нужное русло Ахландер, — но думал, что знает, почему так трудно добиться ВИТ. Дилан, по словам Ахландера, не сомневался, что когда-то люди были наделены способностью выходить из тела и возвращаться в него, когда им заблагорассудится, все люди, все до единого. Но он также верил, что сдерживающая, ограничивающая природа человеческого общества и обучение, с длиннющим перечнем того, что можно делать и чего нельзя, что допустимо, а что — нет, эффективно «промывали» мозги детей в столь раннем возрасте, что потенциал ВИТ не реализовывался, как и многие другие психические способности, заложенные в человека. Дилан верил, что ребенок может раскрыть и развить этот потенциал, если будет воспитываться в культурной изоляции, если будет получать только ту информацию, которая позволит ему острее почувствовать существование психической вселенной. При этом необходимым условием являлись длительные периоды времени, проводимые в камере отсечения внешних воздействий, с тем чтобы ребенок сосредотачивался на своем внутреннем мире и искал собственные скрытые таланты. — Изоляция — способ достижения ребенком максимальной концентрации, — вставил Бут, — способ отсечь все отвлечения повседневной жизни для того, чтобы сфокусировать мозг на вопросах психики. — Когда миссис Маккэффри решилась развестись с Диланом, — продолжил Ахландер, — тот увидел возможность воспитать Мелани в соответствии с его собственными теориями и похитил девочку именно с таким намерением. — И вы его поддержали. — Дэн повернулся к Буту. — Пособничество в похищении, соучастие в насилии над ребенком. Седовласый издатель подошел к стулу Дэна, склонился над детективом, посмотрел на него с неприкрытым презрением. Бута нисколько не волновала боль, которую он причинил людям своими действиями. — Это было необходимо. Такие возможности не упускают. Вы только подумайте! Если бы мы смогли доказать, что выход в астрал реален, если бы ребенка научили покидать свое тело по собственному желанию, тогда, возможно, метод удалось бы усовершенствовать и обучить тому же взрослых… избранных взрослых. Представьте себе, что избранная группа, интеллектуальная элита, владеет способностью входить незамеченной в любую комнату, как бы хорошо она ни охранялась, слушать любой разговор, каким бы секретным он ни был. Ни государство, ни конкуренты, никто во всем мире не смог бы спрятать от нас свои планы и намерения. И втайне от всех мы смогли бы наконец создать всемирное государство, не встречая сопротивления оппозиции. А какое сопротивление могла бы оказать оппозиция, если бы мы присутствовали на всех заседаниях ее руководителей, знали бы их имена, намерения, секреты? Бут тяжело дышал. В какой-то степени от выпитого спиртного, но в основном от грез власти, которые рисовало его неуемное воображение. Лампа от «Тиффани» бросала янтарные круги света на его щеки, точки синего на подбородок, запятнала губы желтым, окрасила нос и лоб зеленым, так что он напомнил Дэну какого-то участника карнавала, странного и безумного клоуна, в чьих глазах можно углядеть алый отблеск костров ада и обреченную на вечные муки душу. — Мир стал бы нашим, — добавил Бут. Издатель и писатель улыбнулись, словно забыли, что план их не сработал, а сами они попали в беду. — Да вы оба — психи, — пробормотал Дэн. — Просто мы можем заглянуть в будущее, — ответил Ахландер. — Психи. — Ясновидящие, — Бут отвернулся от Дэна и опять заходил по библиотеке. Улыбка Ахландера поблекла, он вспомнил, почему они собрались здесь втроем, и продолжил рассказ: — Дилан Маккэффри жил в доме в Студио-Сити двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, год за годом, не отходя от Мелани, превратившись в такого же заключенного, как девочка, виделся лишь с несколькими друзьями и коллегами, которые пытались соединить науку и оккультизм и разделяли его взгляды и так или иначе находились в зависимости от Палмера Бута. Дилан становился все более одержим проектом, и режим, который он устанавливал для Мелани, ужесточался, он не желал принимать во внимание человеческие недостатки, слабости, ограничения. Серая комната, со звуконепроницаемыми стенами, без единого окна или цветового пятна, стала средой обитания для Мелани и центром вселенной для ее отца. Те немногие, кто знал об эксперименте, думали, что участвуют в благородной попытке трансформировать человечество, разумеется, в лучшую сторону, и держали в секрете пытки Мелани, словно охраняли что-то святое и чистое. — А потом, два дня тому назад, Мелани наконец-то совершила тот прорыв, о котором мы все мечтали. — Ахландер покачал головой. — Во время самого длительного пребывания в камере отсечения внешних воздействий, которому подверг ее отец, она сделала то, чего добивался от нее Дилан. — Девочка реализовала свой психический потенциал, — подал голос Бут, стоявший у окна и окутанный лилово-серыми тенями. — Она отделила астральное тело от физического и поднялась из резервуара. — Но дальше произошло то, чего никто из нас не ожидал, — подхватил Ахландер. — В ярости она убила своего отца, Вилли Хоффрица и Эрни Купера, который случайно оказался в тот момент в доме. — Но как? — спросил Дэн, хотя к тому времени он уже решил, что слышит правду. — Вы же сказали, что астральное тело обычно может только наблюдать, но не способно на какие-либо физические действия. И даже если это не тот случай… она же маленькая, хрупкая девочка. Этих людей забили до смерти. Жестоко забили. Палмер Бут двинулся от окна к книжным стеллажам, где тени полностью поглотили его. И из темноты донесся его лишенный тела голос: — Выход в астрал оказался не единственной психической способностью, которой маленькая сучка обучилась в ту ночь. Она так же поняла, как телепортировать свое астральное тело на любые расстояния… — В Лас-Вегас, в горы к Маммоту, — уточнил Альберт Ахландер. — …и как передвигать предметы, не касаясь их. Телекинез. — Бут замолчал. Из темноты донеслось звяканье стакана о зубы. Потом очень уж громкий глотательный звук. — Сила у нее психическая, сила мозга, у которой практически нет предела. Она сильнее десяти мужчин, ста, тысячи. Она без труда разделалась со своим отцом, Хоффрицем и Купером… а теперь разбирается с остальными, убивает нас одного за другим и, похоже, может учуять нас, где бы мы ни пытались спрятаться.* * *
Мелани вздохнула. Лаура наклонилась к ней, всмотрелась в дочь в отсвете экрана. Веки опускались девочке на глаза. Обеспокоившись, Лаура положила руку ей на плечо, мягко потрясла. Мелани моргнула. — Смотри фильм, сладенькая. Смотри фильм. Взгляд ребенка очистился от тумана. Мелани вновь следила за происходящим на экране.* * *
Бут вышел из теней. Ахландер наклонился вперед. Оба, похоже, ждали ответа Дэна, его заверений в том, что он убьет девочку и остановит бойню. Но он молчал, потому что хотел, чтобы их еще сильнее пробил пот. А кроме того, его переполняли столь противоречивые чувства, что он еще не доверял своему голосу. Дэн знал, что убивать — универсальная человеческая способность, такая же, как любить. Она имела место быть у добрых и слабых, нежных и невинных, хотя у одних была запрятана глубже, чем у других. Он не удивлялся тому, что способность эта открылась у Мелани, как не удивлялся тому, что ею обладали десятки и сотни убийц, которых он отправил за решетку… хотя тот факт, что Мелани — убийца, поверг его в глубокую тоску. Конечно, он прекрасно понимал, с чего у Мелани возникло желание убивать. Запрятанная в тюрьму, подвергаемая физическим и психологическим пыткам, лишенная любви, ласки, понимания, воспринимаемая как лабораторная мартышка, а не как человеческое существо, долгие годы испытывавшая ментальную, эмоциональную и физическую боль, она накопила в себе сверхчеловеческий потенциал ярости и ненависти. И эти ярость и ненависть, вырвавшись наружу, не знали жалости. Мелани мстила, и мстила жестоко, неистово, кроваво. Возможно, именно эти ярость и ненависть, необходимость выпустить их наружу, потому что они просто разрывали ее изнутри, оказались тем ингредиентом, который, вкупе с потугами отца лишить девочку контактов с внешним миром, чтобы она сосредотачивалась исключительно на своем внутреннем мире, позволили Мелани совершить прорыв к своим психическим способностям. И теперь она выслеживала своих мучителей, хрупкая, маленькая девочка, но при этом очень опасная и умеющая убивать куда более эффективно, чем Джек-Потрошитель или любой член семьи Мэнсона. Но она не была отпетой убийцей. И вот за эту мысль Дэн ухватился, как утопающий за соломинку. Какая-то ее часть находилась в диком ужасе от того, что она натворила. В конце концов, потрясенная собственной жаждой крови, она искала убежища в кататоническом состоянии, заползала в это темное место, где могла спрятать страшную правду об убийствах от всего мира… и от себя. Пока у нее сохранялась совесть, она еще не прошла весь путь, превращающий человека в зверя, а потому оставалась надежда на восстановление ее психического здоровья. Именно она «оживила» радиоприемник на кухне. Она не могла сбросить с души тяжелый груз вины и отвращения к себе, который держал ее в квазиаутистичном состоянии, не могла говорить о том, что сделала и собиралась сделать, но сумела через радиоприемник послать предупреждения и мольбу о помощи. Все эти послания означали следующее: «Помогите мне, остановите меня. Помогите мне. Остановите меня». И смерч, наполненный цветами, был… чем? Нет, конечно же, не угрозой. Лаура и Эрл подумали, что он им угрожал, но лишь потому, что ничего не понимали. Нет, наполненный цветами смерч являл собой отчаянную попытку Мелани выразить любовь к матери. Любовь к матери. В этой любви девочка могла обрести спасение. Молчание Дэна действовало Буту на нервы, и он заговорил первым: — Когда она совершила этот прорыв, сбросила оковы плоти, поняла, какими способностями обладает, и научилась их использовать, она должна была проникнуться к нам чувством благодарности. Эта маленькая сучка должна была благодарить своего отца и всех тех, кто помог ей стать не просто ребенком, не просто человеком. — Вместо этого злобная маленькая сучка набросилась на нас. — В голосе Ахландера слышалась прямо-таки детская обида. — Поэтому вы и послали Неда Ринка, чтобы убить ее, — разлепил наконец губы Дэн. Для того чтобы найти оправдание, много времени Буту не потребовалось. — У нас не было выбора. Она представляла собой невероятную ценность, и мы хотели изучить и понять ее. Но мы уже знали, что она идет по нашему следу, поэтому не могли снова захватить ее и продолжить исследования. Слишком большим был риск. — Мы не хотели ее убивать, — добавил Ахлан-дер. — В конце концов, мы ее создали. Благодаря нам она обрела новые способности. Но нам не оставалось ничего другого. Самосохранение. Самозащита. Ничего больше. Она стала монстром. Дэн смотрел на Ахландера и Бута, и ему казалось, что он в зоопарке, сквозь прутья смотрит на зверей в клетке. Должно быть, это был инопланетный зоопарк, и располагался он далеко от Солнечной системы, потому что здешний мир вроде бы не мог произвести на свет божий столь странных, бессердечных и жестоких существ, как эти. — Мелани не была монстром, — ответил он. — А вот вы были. И остаетесь ими. — Он поднялся, переполняющая его злоба не позволяла усидеть на месте, сжал пальцы в кулаки. — А чего вы, собственно, ждали, после того как девочка совершит тот самый прорыв, к которому вы стремились? Вы думали, что она скажет: «Ох, я премного вам благодарна! Что я могу теперь для вас сделать, какие желания выполнить, какими делами отплатить за вашу доброту?» Вы думали, что она станет джинном, выпущенным из лампы, и будет стремиться ублажить тех, кто потер медь и освободил ее? — Он понял, что кричит. Попытался понизить голос, но не смог. — Вы же засадили ее в тюрьму на шесть лет! Пытали ее! Вы думаете, заключенные обычно испытывают чувство благодарности к своим тюремщикам и мучителям? — Какие пытки! — возмутился Бут. — Это был… образовательный процесс. Ее направляли в нужную сторону. Научно обоснованная эволюция. — Мы показывали ей Путь, — добавил Ахландер.* * *
Мелани что-то пробормотала. Лаура не расслышала ни слова из-за громкой музыки и визга шин, фильм-то продолжался. Наклонилась к дочери. — Что такое, сладенькая? — Дверь… — прошептала Мелани. В пульсирующем отблеске экрана Лаура увидела, что глаза девочки вот-вот закроются. — Дверь…* * *
За французскими окнами на Бел-Эр опустилась ночь. Бут направился к бару за очередной порцией бурбона. Ахландер тоже поднялся. Стоял за столом, глядя на цветную мозаику абажура лампы от «Тиффани». — Что такое «Дверь в декабрь»? — спросил Дэн. — Дверь, которая открывается в другой сезон, в отличие от любой другой двери и окна в доме? Я кое-что прочитал об этом термине в вашей книге. Вы написали, что это парадоксальный образ, который используется как ключ к психическим способностям, заложенным в человеке, но дочитать главу я не успел и не уверен, что понял, о чем речь. Ахландер заговорил, не отрывая глаз от лампы: — Для того чтобы убедить Мелани, что возможно все, чтобы лучше объяснить ей такие фантастические концепции, как выход в астрал, ей предлагались специально разработанные образы, на которых следовало сосредоточиться во время долговременного пребывания в камере отсечения внешних воздействий. Каждый такой образ — невозможная ситуация… тщательно сконструированный парадокс. Я полагал… и до сих пор полагаю, что такие, тренирующие мозг упражнения полезны для людей, которые хотят развить свой психический потенциал. Это способ подготовить себя к изучению немыслимого, способ преобразовать свой взгляд на мир, принять то, что ранее считалось невозможным. — Альберт — умница, гений, — донесся от бара голос Бута. — Он многие годы пытается совместить науку и оккультизм. Нашел области, где эти дисциплины пересекаются. Он может многому нас научить, многое нам дать. Он не должен умереть. Вот почему вы не должны позволить этой маленькой сучке убить нас, лейтенант. Мы оба можем многое дать этому миру. Ахландер все еще смотрел на густые цвета стеклянного абажура. — Визуализацией невозможного, прилагая все силы для того, чтобы сделать каждую из этих странных концепций возможной, реальной, знакомой, вы в конце концов сможете освободить ваши психические способности из ментального ящика, в который сами же запечатали их своим неверием, взращенным как обществом, так и культурой. Предпочтительно визуализировать во время глубокой медитации или в загипнотизированном состоянии, для достижения максимальной концентрации разума. Эта гипотеза никогда не была доказана. Потому что ученым запрещено подвергать людей длительным и иногда болезненным воздействиям, необходимым для установления контакта с собственным астральным телом. — Чертовски жаль, что вы не жили в Германии, когда там правили нацисты. — В голосе Дэна слышалась горечь. — Я уверен, они предоставили бы вам не одну сотню людей для столь интересного эксперимента, и им было бы совершенно наплевать на то, какие вы будет применять методы для того, чтобы человек овладел заложенными в него психическими способностями. Ахландер словно и не услышал оскорбления. — Но с Мелани, от которой с помощью наркотиков добивались долговременной и интенсивной концентрации, в сочетании с продолжительными и все удлиняющимися по времени пребываниями в камере отсечения внешних воздействий… это был идеальный подход, который в конце концов и привел к прорыву. Оккультист объяснил, что, кроме двери в декабрь, были и другие тренирующие мозг образы. Иногда Мелани предлагалось сосредоточиться на лестнице, которая уходила вбок. Ахландер продолжал: — Представьте себе, что вы на огромной, бесконечной викторианской лестнице с резными перилами. Внезапно вы осознаете, что не поднимаетесь и не спускаетесь. Вы на лестнице, которая уходит вбок, у которой нет ни начала, ни конца. Другие концепции включали кошку, которая поедает себя (эту историю Мелани пересказала в номере мотеля, находясь в гипнотическом состоянии), или окно в прошлое. Вы стоите у окна спальни и смотрите на лужайку. Вы видите не ту лужайку, какая она сегодня, а ту, какой была вчера, когда вы загорали на ней. Вы видите себя лежащим на пляжном полотенце. Это не то зрелище, которое вы можете увидеть через другие окна в комнате. Это не обычное окно. Это окно, которое смотрит во вчера. И, если вы вылезете через это окно, окажетесь ли вы во вчера, будете ли стоять рядом с самим собой, загорающим на полотенце? Бут покинул бар, проскользнул сквозь тени, остановился у границы многоцветного светового круга, отбрасываемого лампой от «Тиффани». — Сначала участник эксперимента должен поверить в парадокс, а потом уже не только поверить, но и стать его составным элементом. К примеру, лестница в никуда лучше всего срабатывала с Мелани, и наступал момент, когда ей предлагали сойти с конца лестницы, хотя никакого конца у этой лестницы не было. А сделав это, она бы покинула свое тело, и у нее начался бы выход в астрал. Или, если бы окно во вчера с ней сработало, она бы вышла во вчера, и смещение, в результате которого она бы стала частью невозможного, также могло привести к выходу в астрал. Так, разумеется, все выглядело в теории. — Безумие, — повторил Дэн. — Никакого безумия. — Ахландер оторвал взгляд от лампы. — Все так и вышло, сами видите. Девочке удалось визуализировать дверь в декабрь, и, пройдя через нее, она вошла в контакт со своими психическими способностями. Научилась их контролировать. Дэн и Лаура ошибались. Девочка не боялась того Неведомого, которое могло выйти через дверь из какого-то сверхъестественного измерения. Она боялась другого: если дверь откроется, она войдет в нее и снова начнет убивать. Она разрывалась между двумя противоположными и мощными желаниями: с одной стороны, ей хотелось убить всех своих мучителей, с другой — она отчаянно стремилась положить конец убийствам. Господи Иисусе! Бут подошел к столу, положил руки на пачки банкнот, которые заполняли открытый чемоданчик, посмотрел на Дэна. — Ну, что? Вместо того чтобы ответить ему, Дэн задал вопрос Ахландеру: — Когда она входит в это новое для себя состояние, использует эти способности, изменяется ли температура окружающего воздуха, причем до такой степени, что это замечают другие люди? Ахландер заметно оживился: — А каким образом она может изменяться? — Резко понизиться. — Такое возможно, — кивнул Ахландер. — Скорее всего, это свидетельствует о быстром накоплении оккультной энергии. Подобный феномен ассоциируется с полтергейстом. Вы при этом присутствовали? — Да, — кивнул Дэн. — Думаю, это случается всякий раз, когда девочка покидает свое тело… или возвращается в него.* * *
Внезапно в кинотеатре похолодало. Лаура на две, максимум три секунды отвлеклась от Мелани, и до этого глаза девочки были широко раскрыты. Теперь же они закрылись, и Оно приближалось. Должно быть, где-то ждало, наблюдало, чтобы сразу же воспользоваться уязвимостью девочки. Лаура схватила Мелани, тряхнула ее, но глаза не открылись. — Мелани? Мелани, проснись! Температура воздуха падала. — Мелани! Падала и падала. В панике Лаура ущипнула дочь за щеку. — Проснись! Проснись! Сзади раздался чей-то голос: «Эй… потише». Температура падала.* * *
Рука Бута лежала на деньгах, ласкала их. — Вы знаете, где она. Вы должны ее убить. Это будет правильно. Дэн покачал головой: — Она еще ребенок. — Она уже убила восемь человек. — Человек? — Дэн невесело рассмеялся. — Да разве люди могли сделать с ней то, что делали вы? Пытать электрошоком? Куда вы прикрепляли электроды? На ее шею? Руки? На гениталии? Да, готов спорить, что на гениталии. Максимальный эффект. Именно к этому стремятся все палачи. К максимальному эффекту. Восемь человек, говорите? Есть определенный предел аморальности, уровень безжалостности, переступив которые вы уже не можете называть себя людьми. — Восемь человек. — Бут отказывался признавать правоту Дэна. — Девочка — монстр, психопатический монстр. — У нее глубокое расстройство психики. Она не может нести ответственность за свои действия. — Дэн и представить себе не мог, что будет наслаждаться, видя, как другого человека трясет от страха, но он наслаждался, глядя на ужас и отчаяние, которые все явственнее проступали на лицах этих мерзавцев по мере того, как те понимали, что их последняя надежда на спасение — ложная. — Вы — слуга закона, — сердито бросил Бут. — Ваш долг — сделать все для предотвращения насилия. — Убить маленькую девочку — совершение насилия, а не его предотвращение. — Но если вы ее не убьете, она убьет нас, — возразил Бут. — Две смерти вместо одной. Убейте ее, и в итоге вы спасете одну жизнь. — То есть в графу «кредит» я смогу записать одну жизнь, так? Любопытный подход. Знаете, мистер Бут, как только вы попадете в ад, готов спорить, что дьявол назначит вас своим бухгалтером. Внезапный прилив ярости превратил лицо седовласого издателя в гротескную маску дикой ненависти и бессильной злобы. Он швырнул в Дэна стакан. Дэн пригнулся, и дорогой хрусталь упал на пол за его спиной и разлетелся на мелкие осколки. — Ты безмозглый гребаный сукин сын! — зло выплюнул Бут. — Ой, ой. Хорошо хоть, что ваши друзья по клубу «Ротари»[59] этого не слышат. Они были бы в шоке. Бут отвернулся от него, уставился в темноту, где на полках молчаливо стояли книги. Его трясло от ярости, но он не произнес ни слова. Дэн выяснил все, что хотел. Пришла пора уходить.* * *
Лаура не могла разбудить Мелани. Она мешала смотреть фильм, злила сидящих неподалеку зрителей, но не могла добиться хоть какой-то реакции дочери. Девочка не раскрывала глаз, даже веки и те не дрожали. Эрл поднялся и сунул руку за пазуху. Лаура дико оглядывалась, ожидая первых признаков появления загадочной оккультной силы. Но холод сняло, как рукой, воздух вновь прогрелся, ничего сверхъестественного не произошло. Если в зрительный зал что-то и проникало, то теперь убралось восвояси.* * *
Взгляд Ахландера вернулся к мозаике цветного стекла абажура настольной лампы, единственного источника света в библиотеке. Но, судя по затуманившимся глазам, видел он совсем не лампу, а что-то другое, скажем, свое будущее, в котором ему, похоже, уже ничего не светило. И заговорил он с дрожью в голосе: — Лейтенант, послушайте, пожалуйста… вам необязательно соглашаться с тем, что мы делали… мы, скорее всего, вам не нравимся… но пожалейте нас. — Пожалеть? Вы думаете, что я из жалости могу вышибить мозги маленькой девочке? Палмер Бут шагнул к нему из теней. — Вы же не только спасете наши жизни. Господи, неужели вы этого не понимаете? У нее же съехала крыша. Она почувствовала вкус крови, и нет гарантий, что мы станем последними ее жертвами. Вы же сами признали, что она не в себе. Сказали, что мы свели ее с ума и она не несет ответственности за свои поступки. Хорошо! Она не несет ответственности, но она же вышла из-под контроля и со временем будет становиться все более могущественной, в большей и большей степени овладевая своими психическими способностями. Если кто-то не остановит ее сейчас, тогда, возможно, уже в ближайшем будущем никто не сможет ее остановить. Дело не только во мне и Альберте. Сколько еще людей может умереть? — Ни одного, — ответил Дэн. — Что? — Она убьет вас двоих, последних оставшихся в живых участников проекта «Серая комната», а потом… потом покончит с собой. От этих слов у него защемило сердце, перехватило дыхание. Не хотелось и думать о том, что ему не удастся остановить Мелани, не дать ей свести счеты с жизнью из-за того, что она сделала. — Покончит с собой? — переспросил Бут. — С чего вы это взяли? — спросил Ахландер. Он рассказал им о сеансах гипноза Лауры, о том, что говорила Мелани насчет собственной уязвимости. — Когда девочка уверяла, что Оно придет за ней после того, как покончит со всеми остальными, мы понятия не имели, о каком существе идет речь. Духе, демоне… Казалось невозможным поверить в их существование, но мы стали свидетелями того, что в нашем мире появилось что-то странное. Теперь мы знаем, что это не дух и не демон, и мы знаем… короче, убив вас, она собирается покончить с собой, обратить против себя свои психические способности. Так что, сами видите, на карту поставлены как ваши жизни, так и ее, и, боюсь, если у меня и есть шанс спасти чью-то жизнь, так только жизнь Мелани. Бут, который в вопросах морали не отличался от Адольфа Гитлера или Иосифа Сталина, который с чистой совестью нанимал палачей и убийц, который сам убил бы кого угодно, если бы не было другой возможности спасти собственную шкуру, этот насквозь продажный тип пришел в ужас, окончательно осознав, что Дэн, слуга закона, не только не собирается воспрепятствовать их насильственной смерти, но и радуется тому, что они покинут этот мир. — Но… но… если она убьет нас, а вы, имея возможность остановить ее, не воспользуетесь этой возможностью… тогда вы будете не меньше ее виновны в нашей смерти. Дэн посмотрел на него, потом кивнул: — Да. Но меня это не шокирует. Я всегда знал, что в этом я ничем не отличаюсь от остальных. Я всегда знал, что при определенных обстоятельствах я способен на хладнокровное убийство. Он повернулся к ним спиной. Направился к двери. — Сколько, по-вашему, у нас времени? — спросил Ахландер, когда Дэн отошел на несколько шагов. Тот остановился, повернулся, посмотрел на них. — Прочитав утром часть вашей книги, я подумал, что хотя бы частично понимаю происходящее. Поэтому, уезжая к вам, попросил Лауру не дать Мелани уснуть или еще глубже уйти в себя. Я не хотел, чтобы она пришла за вами до нашего разговора. Но этой ночью я не собираюсь заставлять Мелани бодрствовать. А когда она ляжет в постель и уснет… Все молчали. Тишину нарушал только шум дождя. — Значит, у нас есть несколько часов, — выдохнул Бут, и это был уже не тот человек, который совсем недавно поднялся навстречу Дэну из-за стола. Этот Бут производил куда более жалкое впечатление. — Всего несколько часов… Но у них не было и этих часов. Едва голос Бута смолк и тишину наполнил их ужас и жалость к себе, температура воздуха в библиотеке мгновенно упала на двадцать градусов.Лаура не смогла помешать Мелани заснуть. — Нет! — выкрикнул Ахландер. Книги сорвало с одной из самых высоких полок и бросило в Бута и Ахландера. Оба мужчины закричали и подняли руки, защищаясь от бумажных снарядов. Тяжелое кресло оторвало от пола, подняло на восемь футов. Там кресло зависло, начало вращаться вокруг оси, а потом полетело через библиотеку и ударило по французским окнам. Зазвенело разбитое стекло, потом раздался грохот: кресло отскочило от крепкой деревянной рамы и упало на пол. Мелани пришла. Ее этерическая половина. Астральное тело, или психогейст. Дэн подумал о том, чтобы заговорить с ней, попытаться остановить, прежде чем она снова убьет, но он знал, что надежды достучаться до нее нет, как не получилось это у Лауры во время сеанса гипноза. Он не мог спасти Бута и Ахландера, да и не хотел этого делать. Он мог попытаться спасти только одну жизнь — Мелани. Думал, что знает, как можно удержать ее астральное тело, не позволить ему наброситься на тело физическое. Конечно, особой уверенности, что его замысел сработает, не было. Но для того чтобы попытаться реализовать этот замысел, от него требовалось находиться рядом с телом девочки, ее физической половиной, к моменту возвращения астрального тела. Из этого следовало, что он должен спешить в Уэствуд, в мультикомплекс, в темный зал, где Мелани, Лаура и Эрл смотрели фильм, и прибыть туда до того, как девочка закончит свои дела в Бел-Эре, то есть он не мог тратить время на бесплодную попытку убедить ее не убивать Бута и Ахландера. Невидимые руки скинули книги с другой полки, и они разлетелись по всей библиотеке. Бут кричал. Бар взорвался, словно в него попала бомба, и в воздухе запахло виски. Ахландер молил о пощаде. Дэн увидел, как лампа от «Тиффани» поднялась со стола, напоминая воздушный шар на причальном тросе. Прежде чем трос-провод натянулся до предела, Дэн уже понял, что нельзя терять ни секунды. Пробежал несколько ярдов, которые еще отделяли его от дверей. Когда он открывал дверь, свет погас и библиотека за его спиной погрузилась в темноту. Дэн плотно закрыл за собой дверь и побежал через дом, возвращаясь тем же маршрутом, каким вел его дворецкий. В комнате со стенами цвета персика и лепным потолком Дэн столкнулся с ним. Тот бежал к библиотеке, откуда доносились ужасные крики. — Вызовите полицию! — приказал ему Дэн. Он не сомневался, что Мелани не причинит вреда людям, не связанным с серой комнатой. Тем не менее, когда дворецкий остановился, добавил: — Не входите в библиотеку. Не приближайтесь к ней. Вызовите полицию. И, ради бога, не входите в библиотеку!
* * *
Темный зал более не казался Лауре убежищем. У нее начался приступ клаустрофобии. Ряды кресел напирали на нее. Темнота угрожала ей. Да как могла она укрыться в этом месте средоточения тьмы! В темноте Оно наверняка чувствовало себя как рыба в воде. Что произойдет, если температура воздуха вновь понизится и эта тварь вернется? А Оно обязательно вернется. Это Лаура знала точно. Вернется, и скоро.* * *
Огромные металлические ворота начали раскрываться, когда Дэн проехал только половину дороги. Он предположил, что обычно дворецкий звонил охраннику, и тот открывал ворота, когда гость только выезжал с парковочного круга перед домом. Но в этот самый момент дворецкий звонил по номеру 911, перепуганный до смерти криками и грохотом, доносящимися из библиотеки, так что охранник привел в действие электропривод ворот, увидев фары приближающегося автомобиля. Дэн снова поставил на крышу мигалку и включил ее. Мчался к воротам, вдавив в пол педаль газа, надеясь, что ворота успеют открыться вовремя. Потому что с такой массивностью они могли остановить не только легковушку, но и танк. И при столкновении от него осталось бы мокрое место, а седан превратился бы в груду железа. Он мог бы ехать и с меньшей скоростью, но счет шел на секунды. Даже если бы астральное тело девочки и не прикончило Бута и Ахландера за несколько минут, оно вернулось бы в мультикомплекс в Уэствуде гораздо быстрее Дэна. Автомобиль не мог соревноваться в скорости с духом, последний мгновенно перемешался из одного места в другое. А кроме того, у дворецкого могла возникнуть мысль, что Дэн имеет какое-то отношение к происходящему в библиотеке. Он мог позвонить охраннику, тот бы начал закрывать еще открывающиеся ворота, блокируя путь Дэну. И тогда были бы потеряны уже не секунды — минуты. В тридцати футах от ворот, видя, что они все еще открываются, Дэн убрал ногу с педали газа, чуть придавил на педаль тормоза. Автомобиль чуть повело в сторону, но Дэн легким поворотом руля вернул его на середину дороги. Раздался резкий скрежет. Задний бампер чуть зацепил одну из створок. Улица пустовала. В визге шин и тормозов Дэн повернул налево и тут же прибавил скорости. С включенной мигалкой погнал седан на пределе возможностей. На полной скорости прошел несколько слепых и наполовину слепых поворотов, рискуя собственной жизнью и жизнью тех, кто мог ехать навстречу. Мысли вернулись в прошлое: Дельмар, Кэрри, Синди Лейки… Этот список не должен пополниться! Мелани была убийцей, да, но она не заслуживала смерти за содеянное. Она была не в своем уме, когда убивала их. А кроме того, убийство при самозащите зачастую не ставили человеку в вину, а здесь был тот самый случай. Если бы она не убила их, всех до единого, они бы продолжали преследовать ее, если не из мести, то с тем, чтобы продолжить эксперименты. Если бы она не убила всех десятерых, ее мучения бы продолжались. Ему требовалось донести до нее эту мысль. И он полагал, что знает, как это сделать. «Господи, пожалуйста, позволь моему плану сработать». Уэствуд находился неподалеку. С включенной мигалкой, не думая о собственной безопасности, он мог добраться до мультикомплекса менее чем за пять минут. Дельмар, Кэрри, Синди Лейки… Мелани… Нет!* * *
Зрительный зал превратился в большой холодильник. Лаура вскочила, не представляя себе, что нужно делать, зная только одно: невозможно усидеть на месте, когда Оно приближается. Температура воздуха падала. Ей показалось, что в зале уже холоднее, чем на кухне ее дома или в номере мотеля, во время прежних визитов Неведомого. Сзади кто-то вежливо попросил Лауру сесть, головы поворачивались к ней и с половины зрительского зала, которая находилась по другую сторону центрального прохода. Но через какое-то мгновение внимание зрителей переключилось на холод, который внезапно воцарился в зале. Эрл тоже поднялся, но на этот раз вытащил пистолет из кобуры. Мелани издала пронзительный, печальный крик, но глаза не открыла. Лаура схватила ее, тряхнула: — Крошка, проснись! Проснись! По залу пронесся шелест голосов. Но зрители реагировали не на Лауру и Мелани, они обсуждали тот факт, что мерзнут. А потом все в ужасе замолчали, потому что огромный экран с громким треском разорвало снизу доверху. Зазубренная линия черноты появилась на проецируемых образах, у фигур на экране корежило лица и тела, поскольку серебристая поверхность, на которой они существовали, начала морщиниться, вздуваться, опадать. Мелани дернулась в кресле, ударила рукой воздух, раз, другой, третий… Удары доставались и Лауре, которая пыталась разбудить девочку. Как только экран порвался, заставив замолчать зрителей, обе половины тяжелого занавеса, который его закрывал между сеансами, сорвало с направляющих под потолком. Половины занавеса взлетели в воздух, будто сам дьявол появился в зрительном зале и теперь расправлял свои крылья, такие же, как у летучей мыши. Но тут же они упали на пол грудами материи. Этого зрители уже не выдержали. В замешательстве, испуганные, повскакивали с мест. Получив с десяток ударов по рукам и лицу, Лаура сумела схватить Мелани за запястья и держала крепко. Через плечо посмотрела на экран. Механик еще не остановил показ, поэтому на разорванном экране продолжалась демонстрация фильма. Горели и лампы аварийного освещения. Света вполне хватало для того, чтобы все увидели, что произошло потом. Пустующие кресла первого ряда, привинченные, как и все остальные, к полу, вырвало «с мясом», высоко подняло в воздух и швырнуло в экран. Они прорвали прочный пластик, уничтожая еще нетронутые части экрана. Люди начали кричать, несколько человек побежали к выходу в глубине зрительного зала. Кто-то закричал: «Землетрясение!» Землетрясение не могло объяснить происходящее, и едва ли кто поверил такому объяснению. Но это слово в Калифорнии всегда вызывало панику. А из пола уже вырвало кресла второго ряда. Болты со скрежетом ломали бетон. Лаура подумала, что какое-то чудовище проникло в зал со стороны экрана и теперь прокладывало путь к ним, круша все на своем пути. — Уходим отсюда! — прокричал Эрл, хотя он не хуже Лауры понимал, что от Неведомого, пусть они и не знали, кто это или что это, убежать невозможно. Мелани прекратила сопротивление, обмякла. Так обмякла, что напоминала мертвую. Механик выключил проекционный аппарат, в зале вспыхнул свет. Все, кроме Лауры, Эрла и Мелани, спешили к дверям в задней части зала, половина зрителей уже успела выскочить в фойе. С гулко бьющимся сердцем Лаура подняла Мелани на руки, по ряду направилась к проходу. Эрл следовал за ней по пятам. В воздух уже поднимались кресла четвертого ряда. Они летели в сторону изорванного экрана и с грохотом разбивались. Но больше всего шума создавали двери запасных выходов по обе стороны от экрана. Они с диким треском снова и снова открывались и захлопывались. Пневматические доводчики, призванные обеспечить их плавное закрытие, ничего не могли поделать с той силой, что двигала дверьми. Лаура видела не двери, а голодные пасти, и знала: если она попытается выйти через одну из этих дверей, то окажется не на автомобильной стоянке, а в чреве невообразимо страшного чудовища. Безумная мысль. Безумная. Но Лаура была на грани паники. А если бы она не стала свидетельницей полтергейста куда меньших пропорций на кухне своего дома, то, наверное, и не смогла бы сдержать охватывающую ее панику. Что все это значит? Опять Неведомое? И почему Оно так хочет добраться до Мелани? Дэн знал. Если не все, то что-то точно знал. Но его знания не имели ровно никакого значения, потому что в этот момент он помочь им не мог. И Лаура сомневалась, что когда-нибудь увидит его вновь. И пусть она едва не впадала в истерику, а запас эмоциональных сил стремительно подходил к концу, мысль о том, что она никогда больше не увидит Холдейна, безмерно ее опечалила. Она уже добралась до прохода, когда ноги начали подгибаться под двойным весом Мелани и ужаса. Эрл сунул пистолет в плечевую кобуру и взял девочку из рук Лауры. Лишь несколько человек оставались у дверей в фойе, толкая в спины тех, кто шел впереди. Двое или трое оглядывались, не в силах оторвать глаз от царящего у экрана хаоса. Лаура и Эрл успели сделать несколько шагов по направлению к спасительной двери в фойе, когда из пола в первых рядах перестало вырывать кресла. Теперь неведомая сила переключилась на задние ряды. Кресла поднялись в воздух, а потом вповалку, друг на друга, их бросило в проход, создавая баррикаду. Мелани не разрешали выйти из зала. Держа девочку на руках, Эрл оглядывался, не зная, куда идти. Внезапно что-то толкнуло его. Сильно. Отбросило назад. Что-то вырвало Мелани из его рук. Девочка покатилась по проходу, пока не уперлась в боковину одного из еще стоявших на месте кресел. Крича, Лаура подскочила кдочери, перевернула на спину, приложила руку к шее, нащупала пульс. — Лаура! Она вскинула голову, услышав свое имя, и почувствовала ни с чем не сравнимое облегчение, увидев Дэна Холдейна. Он ворвался в зал через заднюю дверь, расталкивая последних, еще не успевших выбежать в фойе зрителей. Перебрался через кресла, которыми невидимый враг перегородил проход, крича: — Все так! Обнимайте ее, прижимайте к себе, защищайте! — Он добрался до Лауры, опустился на колени. — Накройте ее своим телом, отгородите ее от Неведомого. Потому что вам Оно вреда не причинит. — Почему? — Объясню позже. — Он повернулся к Эрлу, который уже поднялся на четвереньки. — Ты в порядке? — Да, отделался синяками. Дэн выпрямился во весь рост. Лаура лежала в проходе, среди попкорна, бумажных стаканчиков и прочего мусора, обнимая Мелани, стремясь своим телом укрыть ее. Она вдруг поняла, что в зрительном зале воцарилась тишина, что невидимое чудовище перестало крушить все, что попадалось у него на пути. Но воздух оставался холодным, просто ледяным. Оно составляло им компанию. Дэн медленно повернулся вокруг своей оси, не зная, с какой стороны начнется новая атака. Но, поскольку ничто не нарушало тишины, заговорил сам: — Ты не сможешь покончить с собой, не убив свою мать. Она не позволит тебе, если, конечно, ты не убьешь ее первой. Глядя на него снизу вверх, Лаура спросила: — С кем вы говорите? — А потом вскрикнула и сильнее прижалась к Мелани. — Что-то отрывает меня от нее! Дэн, что-то отрывает меня от Мелани! — Сопротивляйтесь! Лаура крепко держала Мелани и на какое-то мгновение превратилась в эпилептика, бьющегося и дергающегося на полу в припадке. Но атака прекратилась. Лауру перестало отрывать от дочери. — Отпустило? — спросил Дэн. — Да, — в недоумении ответила Лаура. Дэн заговорил, чувствуя, что астральное тело остается в зрительном зале. — Мама не позволит тебе утащить ее, чтобы ты смогла забить себя до смерти. Она тебя любит. Если придется, она умрет, чтобы защитить тебя. Три кресла взлетели в воздух, оторвавшись от пола. С полминуты кружились, ударяя друг о друга, потом упали. — Что бы ты ни думала, — говорил Дэн психогейсту, — ты не заслуживаешь смерти. То, что ты сделала, ужасно, но тебе не оставили выбора. Тишина. Никаких взлетающих кресел. — Твоя мама любит тебя. Она хочет, чтобы ты жила. Поэтому будет держаться за тебя изо всех сил. Стон, сорвавшийся с губ Лауры, показал, что до нее наконец-то дошла ужасная правда. У экрана шевельнулись и приподнялись половины занавеса, словно пытаясь вновь превратиться в крылья, но через несколько секунд упали двумя бесформенными кучами. Эрл встал. Шагнул к Дэну. Оглядывая пустой зрительный зал, он спросил: — Так это она? Дэн кивнул. Плача от пережитого потрясения, горя, страха, Лаура качала дочь на руках. Воздух оставался холодным. Что-то толкнуло Дэна невидимыми ледяными руками, но не так чтобы сильно. — Ты не сможешь покончить с собой. Мы не позволим тебе покончить с собой, — сказал Дэн невидимому астральному телу. — Мы любим тебя, Мелани. У тебя не было шанса начать новую жизнь, но мы хотим дать тебе этот шанс. Тишина. Эрл начал что-то говорить, но в нескольких рядах от них психогейт принялся выламывать кресла, половины занавеса на этот раз поднялись и распрямились, как крылья, захлопали двери обоих запасных выходов, с потолка посыпались плитки звукозащитного материала, возник и начал усиливаться дикий вой, быстро набрав такую громкость, что Эрл и Дэн заткнули уши руками. Дэн видел, как Лаура кривится от боли, но она не отпустила Мелани, чтобы заткнуть свои уши. Крепко держала дочь, прижимая ее к себе. Вой поднялся до невыносимого уровня, и Дэн уже подумал, что недооценил девочку и она сейчас обвалит крышу, чтобы убить всех ради того, чтобы покончить с собой. Но вой внезапно стих, поднятые в воздух предметы упали на пол, двери перестали хлопать. Последняя плитка упала в проход в нескольких ярдах от них, пару раз подпрыгнула, замерла. Опять никакого шевеления. Опять тишина. С минуту они с тревогой ожидали, что же будет, а потом воздух начал теплеть. Из фойе в зрительный зал зашел какой-то мужчина, скорее всего менеджер, и спросил: — Что здесь произошло, черт побери? Сопровождавший его другой мужчина, должно быть, билетер, который, скорее всего, видел начало погрома, попытался что-то объяснить, но не смог. Дэн заметил движение в окне проекционной, увидел выглядывающего из нее мужчину, на лице которого читалось изумление. Лаура наконец-то оторвалась от Мелани, Дэн и Эрл присели на корточки рядом. Девочка открыла глаза, но ни на кого не смотрела. Взгляд оставался рассеянным, но заметно отличался от прежнего. Она еще не могла сосредоточиться на чем-либо в этом мире, но уже и не смотрела внутрь себя, где раньше искала убежище. Сейчас она находилась в пограничье между воображаемым и реальным мирами, между темнотой, что царила внутри ее, и светом этого мира, в котором ей предстояло жить. — Если желание покончить с собой ушло, а я думаю, так и есть, значит, худшее позади, — сказал Дэн. — Думаю, она полностью вернется к нам, со временем. Но это потребует бесконечного терпения и огромной любви. — У меня хватит и первого, и второго, — ответила Лаура. — Мы поможем, — добавил Эрл. — Да, — кивнул Дэн, — мы поможем. Мелани ждали годы психотерапии, и существовала вероятность того, что ей не удастся излечиться от аутизма. Но Дэн чувствовал, что дверь в декабрь девочка закрыла навсегда и никогда не позволит ей открыться. А если дверь будет закрыта, Мелани, возможно, заставит себя забыть, как ее открывать, возможно, забудет боль, насилие и смерть, которые происходили по ту сторону двери. Забвение — начало выздоровления. Вот тут Дэн понял, что и ему нужно усвоить этот урок. Он должен забыть боль прежних неудач. Дельмара, Кэрри, Синди Лейки. Безрассудная, детская надежда захлестнула его: если он сможет наконец забыть эти тягостные воспоминания и закрыть собственную дверь в декабрь, тогда, возможно, удастся закрыть эту дверь и девочке. Ее выздоровление будет подстёгиваться его решимостью отвернуться от смерти. Он решил пойти на сделку с богом: «Послушай, господи, я обещаю закрыть глаза на прошлое, перестану слишком много размышлять о крови, смерти, убийстве, буду больше времени уделять жизни, ценить те радости, которыми могу наслаждаться, потому что живу, буду выказывать тебе большую благодарность за все то, что ты мне дал, а в обмен, господи, пожалуйста, сделай так, чтобы Мелани прошла весь путь до конца и вернулась к нам. Пожалуйста. Договорились?» Держа на руках и покачивая дочь, Лаура смотрела на него. — Вы такой сосредоточенный. Что-то не так? О чем вы думаете? Даже перепачканная пылью и кровью, с растрепанными волосами, она была прекрасна. — Забвение — начало выздоровления, — ответил Дэн. — Вы об этом думали? — Да. — Больше ни о чем? — Этого достаточно. Более чем достаточно.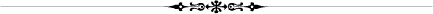
НЕЗНАКОМЦЫ (роман)
В жизнь совершенно разных людей, живущих в различных уголках США, одновременно ворвался страх: обломки схожих жутких кошмаров стали безжалостно терзать их мозг своими острыми гранями. Не сразу приходит осознание того, что нити, связывающие воедино весь этот ужас, ведут в далекую лунную ночь, в горы Невады…
Часть I. ПОРА НАПАСТЕЙ
Верный друг — надежная защита, Верный друг — амулет жизни.Апокрифы
Жуткая тьма окутала нас, но нельзя уступать ей. Мы поднимем светильники мужества и найдем путь к рассвету.Безымянный участник французского Сопротивления (1943)
Глава 1 7 ноября — 2 декабря
1
Лагуна-Бич, КалифорнияДоминик Корвейсис уснул в постели, безмятежно раскинувшись под легким шерстяным одеялом и свежей белой простыней, а проснулся в темном чреве гардероба в прихожей под куртками и пиджаками, скрючившись в защитной позе эмбриона. Кулаки его были крепко сжаты, шея и плечи ныли от перенапряжения во время дурного сна, вспомнить который он, однако, не мог. Не помнил он и того, как покинул свой удобный матрац, хотя само по себе ночное путешествие его не удивило: в последнее время такое с ним случалось уже дважды. Сомнамбулизм, или блуждание во сне, феномен весьма опасный, занимал людей во все времена. Доминик заинтересовался этим загадочным явлением с тех пор, как стал его безвольной жертвой. Как выяснилось, о лунатиках упоминается даже в письменах, датируемых тысячелетиями до нашей эры. Древние персы верили, что блуждающее тело ищет покинувшую его душу, европейцы мрачного Средневековья усматривали здесь козни дьявола или проделки оборотней. Доминик Корвейсис не придавал большого значения свалившейся на него напасти, хотя и был несколько обескуражен. Но, будучи писателем, рассматривающим любые новые впечатления как материал для грядущих беллетристических опусов, он был, конечно, заинтригован полуночными праздношатаниями, надеясь извлечь из них пользу. Тем не менее в настоящий момент плоды лунатизма были весьма горькими: морщась от расползающейся по голове и рукам боли, Доминик на четвереньках выполз из своего убежища и, преодолевая судороги в ногах, не без усилия распрямился. Хотя он и понимал, что сомнамбулизму подвержены как дети, так и взрослые, но все равно ощущал некоторую неловкость, словно мальчишка, намочивший во сне постель, и потому решил принять душ. Голый по пояс, в одних пижамных штанах, он прошлепал босиком через коридорчик, гостиную и спальню в ванную и взглянул на себя в зеркало: вид у него был не лучше, чем у беспутного матроса, вернувшегося на свой корабль после недельного безудержного загула. На самом же деле Доминика нельзя было отнести к отчаянным греховодникам: он не курил, не чревоугодничал, не употреблял наркотиков, пил в меру и был щепетилен в отношениях с женщинами. Только теперь ему вдруг вспомнилось, что он не был близок ни с одной вот уже четыре месяца. Помятым и выжатым как лимон Доминик выглядел лишь после своих ночных блужданий, всегда крайне изнурительных, поскольку в такие ночи он не знал покоя. Присев на край ванны, он осмотрел ступни, нашел их в меру чистыми, без царапин или порезов, и с облегчением сделал вывод, что сегодня не выходил во сне из дому, как, к счастью, и в двух предыдущих случаях, хотя и обошел наверняка весь дом несметное число раз. Горячий душ смыл неприятные ощущения, и Доминик вновь превратился в стройного тридцатипятилетнего мужчину, еще не утратившего способность быстро восстанавливать силы, по крайней мере соответственно своему возрасту. А после завтрака он вообще ощутил себя почти человеком и даже вышел с чашкой кофе во внутренний дворик, чтобы полюбоваться городом и океаном. В кабинет он вернулся полностью уверенным в том, что причиной его злоключений является работа. И не столько даже сама работа, сколько неожиданный успех его первого романа «Сумерки в Вавилоне», который он завершил в минувшем феврале. Его литературный агент выставил «Сумерки» на торги, и, к удивлению автора, издательство «Рэндом-Хаус» не только немедленно заключило с ним договор, но и расщедрилось на довольно приличный для первой книги аванс. Вскоре были куплены и права на экранизацию произведения, что позволило Доминику расплатиться за дом, а Литературная гильдия даже включила роман в список лучших книг года. Доминик корпел над романом не один месяц по шестьдесят, семьдесят и даже восемьдесят часов в неделю, не говоря уже о десятилетии, ушедшем на его созревание для создания такой вещи. И до сих пор он все еще чувствовал себя счастливчиком, в одну ночь превратившимся из бедного благородного литератора в знаменитость. Порой, поймав свое отражение в зеркале или в посеребренном солнцем окне, Доминик задумывался, достоин ли этот растерянный везунчик свалившегося на него счастья. Порой же его охватывало предчувствие катастрофы: столь шумный успех и слава заметно расшатали его нервишки. Как встретит роман критика? Оправдаются ли расходы издательства? Не осрамится ли он как автор и сможет ли написать новую книгу? Не отвернется ли фортуна от него навсегда? Подобные вопросы преследовали Доминика на протяжении всего дня, что давало основание предполагать, что и ночью, когда он спал, они не оставляют его в покое, вынуждая искать убежище от постоянного беспокойства, уголок, где он мог укрыться и отдохнуть от мучительной тревоги. Доминик сел за компьютер и вызвал из первого диска своей новой книги восемнадцатую главу, название которой он пока не придумал. Накануне он закончил работу на середине шестой страницы и сегодня намеревался продолжить с того же места. Но, к его изумлению, страница была уже заполнена до конца: на экране светились незнакомые зеленые строчки. Доминик тупо уставился на них, не веря глазам, потом по его спине пополз холодок. Но причиной мурашек были вовсе не новые строчки, а их содержание. Мало того, появилась еще одна заполненная страница, хотя он точно помнил, что еще не придумал ее. А также и восьмая. Ладони Доминика стали липкими от пота, едва он пробежал новый текст, всего из двух слов: «Мне страшно». Напечатанное в разрядку, с учетверенным интервалом между строками, по четыре раза в строке, тринадцать строк на шестой, двадцать семь на седьмой и двадцать семь на восьмой странице, это предложение повторялось двести шестьдесят восемь раз. Поскольку компьютер не мог сам придумать такое словосочетание и глупо было бы предположить, что некто тайно проник в дом ради хранящейся в памяти машины новой книги, Доминик решил, что это он сам и напечатал столь странное предложение во сне двести шестьдесят восемь раз, а проснувшись, все забыл. «Мне страшно». Но все же: чего он испугался? Лунатизма? Бесспорно, малоприятное ощущение, есть от чего прийти в недоумение, особенно когда просыпаешься в гардеробе, спрятавшись под одежду. Но все-таки это не Страшный суд, чтобы так панически бояться! Вероятнее предположить, что он опасался быстрого забвения после стремительного взлета на литературный олимп. Однако что-то подсказывало Доминику: новый текст не связан с его деятельностью и нависшая над ним угроза имеет совершенно иное, не познанное его сознанием происхождение, хотя и воспринятое подсознанием и переданное столь оригинальным способом во время сна. Какая-то мистика. Ерунда! Игра писательского воображения, и не более. Просто его мозг непрерывно работает. Да, работа — вот панацея от всех напастей, решил Доминик. Все нормализуется. К такому же выводу склоняли и результаты проделанного им исследования: оказалось, что по статистике большинство взрослых лунатиков спустя некоторое время избавляются от этого недуга. Лишь немногие подвергаются его приступам более шести раз и не чаще чем один раз в полгода, установил Доминик. Это дало ему повод надеяться на спокойный сон в будущем, не осложненный никакими полуночными прогулками и пробуждениями в гардеробе или чулане. Он стер лишние слова и продолжил работу над восемнадцатой главой. Когда же он снова взглянул на часы, то обнаружил, что уже половина второго и пора обедать. День выдался необычно теплым для начала ноября, и он решил подкрепиться на свежем воздухе. Легкий ветерок с океана шуршал листьями пальм, воздух благоухал цветами, Лагуна-Бич грациозно спускалась к тихоокеанским пляжам, ласкаемым ленивыми волнами, которые искрились на солнце. — И никакого падающего рояля или сейфа на голову, — рассмеялся Доминик, допив кока-колу и откинувшись на спинку плетеного кресла. — Никакого дамоклова меча. Было 7 ноября.
2
Бостон, МассачусетсДоктор Джинджер Мэри Вайс менее всего ожидала неприятностей в кулинарии «Деликатесы от Бернстайна». Однако именно там они и начались — с недоразумения с черными перчатками. Обычно Джинджер справлялась с любой неожиданной напастью, с восторгом и наслаждением встречала вызов судьбы: она умерла бы от скуки, будь ее жизненный путь гладким, без шипов и терний. Но ей ни разу еще не пришло в голову, что однажды она таки попадет в такой переплет, из которого ей уже не выпутаться. Жизнь не только часто бросает нам вызов, но и дает уроки, порой легкие, порой непростые, а иной раз и просто наносит сокрушительные удары. Джинджер была умна, хороша собой, честолюбива, трудолюбива и прекрасно готовила. Но главным ее преимуществом было то, что при первой с ней встрече ее не принимали всерьез. Грациозная, миниатюрная, хрупкая, она казалась воздушной, почти бесплотной. Проходили недели, а порой и месяцы, прежде чем имевшие с ней дело осознавали, что перед ними серьезная личность. В Колумбийском пресвитерианском госпитале в Нью-Йорке, где Джинджер училась в ординатуре за несколько лет до неприятного происшествия в «Деликатесах от Бернстайна», ее трудоспособность стала легендой. Как и все стажеры, она нередко дежурила по шестнадцать часов в сутки изо дня в день, и после смены сил оставалось лишь на то, чтобы доползти до кровати, не упав на пороге дома. Однажды в жаркий субботний июльский вечер, а точнее, в одиннадцатом часу ночи Джинджер возвращалась после особенно утомительного дежурства и почти возле дома столкнулась нос к носу с громадным узколобым неандертальцем, неповоротливым здоровенным мужиком с огромными кулаками и длиннющими ручищами. Он набросился на нее с неожиданной быстротой и вывернул ей за спину руку. — Только крикни, — зловеще прошипел он сквозь гнилые зубы, — и я вышибу тебе все зубки к чертовой матери. Ты все усвоила, сучка? Джинджер молчала, оторопев от боли и оскорбительной наглости, но тем не менее успела оглядеться, не теряя надежды на помощь случайных прохожих. Поблизости не было ни одного пешехода, а ближайшие автомобили виднелись лишь на перекрестке перед светофором, за два дома от них. Помочь ей было некому. Громила затолкал ее в узкий темный проулок, заваленный мусором, она упала, споткнувшись, и ударилась коленом и плечом о мусорный бачок, но тотчас вскочила на ноги, озираясь на обступившие ее многорукие тени. Робкое хныканье и слабые протесты девушки, поначалу решившей, что насильник вооружен, лишь придали ему уверенности. «Нужно как-то отвлечь его, — думала Джинджер, — даже рассмешить, но только не сопротивляться, иначе схлопочешь пулю». — Шевелись! — скомандовал он сквозь зубы и толкнул в спину. Затащив ее в безлюдный темный подъезд, освещаемый лишь отблесками света от единственного тусклого фонаря в проулке, он начал с видимым наслаждением объяснять ей, что ее ждет после того, как он заберет у нее деньги, но даже в полумраке девушке удалось разглядеть, что у него нет оружия. И тогда у нее мелькнула надежда. От его грязных угроз леденела кровь, но он так упорно, повторяясь, говорил о своих сексуальных намерениях, что слушать их было почти смешно. Здоровенный тупой неудачник — вот кто был перед ней. Да он просто привык надеяться на свои рост, вес и силу! Мужчины этого типа редко носят с собой пистолет. Да и навряд ли он вообще умеет драться, уповая лишь на одни мускулы. Пока он рылся в ее кошельке, который она услужливо ему протянула, Джинджер собралась с духом и резко ударила его в пах. Грабитель согнулся от удара пополам. Не теряя ни секунды, она схватила его руку и заломила назад указательный палец, да так, что громила вмиг забыл о боли в опухшей от удара промежности. Резко выкрутив указательный палец, можно обезопасить себя от посягательств любого здоровяка. Этим приемом она воздействовала на пальцевой нерв на внешней стороне его ладони, одновременно надавив и на средний и лучевой нервы на тыльной ее стороне. Острая боль тотчас пронзила его плечо и ударила в шею. Однако свободной рукой громила все-таки дернул ее за волосы. Она вскрикнула, на мгновение потеряв его из виду, но стиснула зубы и еще сильнее выгнула ему палец. На глазах у грабителя выступили слезы, мысль о сопротивлении напрочь вылетела у него из головы, и, упав на колени, он завизжал: — Отпусти меня! Отпусти, ты, сука! Моргая от струящегося по лбу пота и ощущая соленый привкус в уголках рта, Джинджер что было сил сжимала обеими руками палец напавшего на нее человека. Выбрав момент, она немного отступила назад и вывела его, словно злого пса на строгом поводке, из подъезда. Скрючившись в три погибели, сбивая себе колени и локоть, пленник мелкими шажками потихоньку продвигался вперед, пожирая ее ненавидящим взглядом. Это было даже и не человеческое лицо, а искаженная болью и яростью рожа упыря, и его пронзительные проклятия только усиливали такое впечатление, особенно когда они отдалились от фонаря и его тупая подлая физиономия стала менее различима в темноте. В нескольких шагах от улицы они все-таки вступили в переговоры, больше смахивавшие на перебранку. К этому времени горе-насильник являл собой жалкое зрелище: обезумевший от боли в руке и в подбрюшье, он мычал нечто невразумительное, судорожно хватая перекошенным ртом воздух и время от времени извергая на себя струю блевотины. И все же отпустить негодяя она не решалась, опасаясь, что он не просто зверски изобьет, а вообще убьет ее, и поэтому, борясь со страхом и отвращением, вынуждала его передвигаться еще проворнее. Доведя посрамленного и наказанного противника на буксире до тротуара и не обнаружив там никого, кто мог бы вызвать полицию, она выпихнула его на середину улицы, чем ввергла весь транспорт в ступор. И, когда наконец прибыла полиция, похоже было, что грабитель обрадовался ей больше, чем его жертва.
* * *
Джинджер недооценивали отчасти по причине ее маленького роста: пять футов[60] и два дюйма при весе в сто два фунта[61], согласитесь, не способствуют формированию впечатления о физической развитости и уж определенно не пугают. При всей ее стройности ее вряд ли можно было отнести и к секс-бомбам, однако она была-таки блондинкой, серебристый оттенок ее волос притягивал взгляды мужчин независимо от того, видели они ее в первый или же в сотый раз. Даже при ярком солнце ее волосы будили воспоминания о луне, а их неземная бледность и особый блеск в сочетании с утонченными чертами лица и голубизной глаз, излучающих мягкую доброту, стройные плечи, лебединая шея, тонкие пальцы и осиная талия не могли не убедить в ее хрупкости. К тому же Джинджер по природе была скромна и осмотрительна, что легко спутать с застенчивостью и робостью. Голос же у нее был настолько тих и мелодичен, что трудно было уловить в его журчании самоуверенность и властность. Белокурые с серебристым отливом волосы, лазурные глаза, красоту и честолюбие Джинджер унаследовала от матери-шведки по имени Анна ростом пять футов и десять дюймов. — Ты мое золотце, — то и дело повторяла она, когда дочь окончила шестой класс, на два года опередив сверстников: ее дважды переводили «через класс» за успехи в учебе. В числе трех других выпускников, участвовавших в небольшом концерте перед церемонией вручения дипломов, Джинджер исполнила две фортепьянные пьесы — Моцарта и произведение в стиле регтайм, чем вызвала шквал аплодисментов пришедшей в полный восторг аудитории. За выдающиеся достижения в учебе ей был вручен диплом с золотым обрезом. — Золотая моя крошка, — приговаривала Анна на всем протяжении пути домой, а сидевший за рулем автомобиля Иаков не мог сдержать слез умиления от охватившей его гордости за дочь. Он был впечатлительным человеком, но пытался всегда скрыть свои чувства, объясняя покраснение глаз какой-то странной аллергией. Вот и теперь, пока они возвращались домой после торжества, он дважды повторил, смахивая слезу: — Какая-то странная сегодня в воздухе пыльца. И весьма едкая, должен заметить. — Ты унаследовала все лучшие наши качества, моя крошка, — восхищалась Анна. — Вот увидишь, тебя еще оценят по достоинству. Сперва поступишь в среднюю школу, затем в колледж, станешь врачом или юристом, тебе самой решать. Все в твоих силах. Родители Джинджер были единственными людьми, которые всегда оценивали ее в полной мере. Уже на дорожке к гаражу Иаков, притормозив, воскликнул: — Бог мой, что же мы делаем?! Наша единственная ночь закончила шестой класс, наша девочка, способная абсолютно на все, которая, быть может, выйдет замуж за сиамского принца или в одно прекрасное утро отправится верхом на жирафе на Луну, наша Джинджер впервые облачилась в берет и плащ, а мы никак это не отпразднуем? Может, отправимся на Манхэттен или выпьем шампанского в «Плазе»? Отобедаем в «Уолдорфе»? Нет! Мы придумаем кое-что получше! Самое лучшее из всего, что только можно придумать в честь будущей космической путешественницы: мы отправимся в бар газированных вод Уолгрина! — Ура! — воскликнула Джинджер. В баре они, похоже, являли собой самую экстравагантную семейку, когда-либо побывавшую здесь: папа-еврей росточком едва ли выше жокея, с германской фамилией, но сефардской наружностью; мама-шведка, белокурая и женственная, всего на пять дюймов выше ростом своего супруга; и, наконец, их единственная дочь — крохотное сказочное создание, изящная, в отличие от матери, светловолосая, хотя отец ее был жгучим брюнетом, и почти волшебно красивая. Уже в детстве девочка знала: глядя на нее в компании ее родителей, окружающие думают, что она их приемная дочь. От Иакова Джинджер унаследовала хрупкую фигурку, мягкий негромкий голос, интеллект и доброту. Она так сильно любила своих родителей, что ей всегда не хватало слов, чтобы выразить свои чувства. Даже став взрослой, она с трудом подбирала нужные слова, когда ей хотелось сказать им, как много они оба для нее значили. Вскоре после того как Джинджер исполнилось двенадцать, Анна погибла в дорожной катастрофе, и среди родственников Иакова утвердилось мнение, что вдовцу и его маленькой дочери без нее долго на плаву не продержаться: в клане Вайсов, где шведку давно признали за свою и обожали, ни для кого не было секретом, как эти трое привязаны друг к другу, и, главное, именно Анна является движителем семейного успеха. Ведь это она сделала Человека из Иакова-мечтателя, Иакова-размазни, наименее честолюбивого из всех Вайсов, Иакова, чей нос вечно уткнут в детективный или фантастический роман, владельца двух магазинов. А ведь до свадьбы он лишь гнул спину в ювелирной мастерской! После похорон семья собралась в доме тети Рахили в Бруклин-Хайтс. Улучив момент, Джинджер забилась в укромный уголок в кладовой, где уселась на табурет, и, задыхаясь от ароматов специй, принялась просить Бога вернуть ей маму. Невольно она подслушала разговор тети Рахили с тетей Франциской на кухне — последняя в самых мрачных тонах рисовала невеселое будущее бедного Иакова и Джинджер. — Ты не хуже меня понимаешь, что ему не удержать без Анны дело, — причитала тетя Франциска, — даже когда он оправится от этого удара. Ведь он такой непрактичный, вечно витает в облаках, наш люфтменш[62], — добавила она на идише. — Думала и решала за него Анна, она могла дать ему дельный совет, а без нее он через пять лет пропадет. Они недооценили Джинджер. Нужно отметить, что хотя она и была уже в десятом классе, но ей было всего двенадцать лет и в глазах большинства людей она оставалась ребенком. Никто не мог предположить, что девочка вполне успешно возьмет на себя роль домашней хозяйки: как и Анна, Джинджер любила готовить и после похорон несколько недель тщательно штудировала кулинарную книгу, со свойственной ей старательностью и упорством пополняя свои познания в этом искусстве. И, когда родственники в первый раз после кончины Анны пожаловали к ним на обед, они пришли в совершенный восторг от приготовленных девочкой блюд. Картофельные биточки и сыр колаки, овощной суп креплах с брынзой и кусочками мяса, фаршированный карп, тушеный перец, цимес с черносливом и картофелем, макароны во фритюре с томатным соусом и запеканка с персиками или яблочный компот — на десерт. Франциска и Рахиль подумали, что Иаков прячет на кухне новую хозяйку, отказываясь верить, что все это приготовила его дочь. Сама же Джинджер не считала, что сделала нечто исключительное: семье был необходим повар, и она им стала. Теперь она с энтузиазмом принялась заботиться об отце. В доме все блестело и сияло, так что тете Франциске не удалось обнаружить ни одной пылинки. Несмотря на возраст, Джинджер научилась планировать расходы и вскоре взяла в свои руки и это дело. В четырнадцать лет она удостоилась чести произнести прощальную речь на торжественном выпускном акте, хотя и была на три года моложе одноклассников. А когда из многих университетов, готовых принять ее, она остановила свой выбор на Барнардском, кое-кто решил, что для ее возраста такой кусок великоват, можно и подавиться. Барнард и в самом деле оказался весьма крепким орешком: Джинджер уже не опережала, как раньше, других студентов, но все равно была на хорошем счету. Лишь однажды, когда Иакова свалил первый приступ панкреатита и ей каждый вечер нужно было навещать отца в больнице, у нее несколько снизился средний балл за семестр. Иаков дожил до дня, когда его дочь получила первую ученую степень, заметно ослаб и пожелтел к моменту, когда ей вручили диплом врача, и даже протянул еще полгода, пока она училась в ординатуре, но после трех приступов панкреатита у него развился рак поджелудочной железы, и он умер, так и не узнав, что дочь решила отказаться от научной карьеры и стать хирургом в Бостонской мемориальной клинике. Прожив с отцом гораздо дольше, чем с матерью, Джинджер испытывала к нему более глубокие чувства и была потрясена его смертью. И все же она встретила этот удар судьбы достойно, как и любой другой вызов, и окончила ординатуру с блестящими отзывами и великолепными рекомендациями. Но, прежде чем окончательно определиться в выборе постоянного места работы, Джинджер решила еще два года постажироваться в Калифорнии по уникальной и сложной программе, разработанной специалистами Стэнфорда, и только потом, впервые за многие годы, позволила себе месячный отдых, прежде чем вернуться в Бостон, где ее зачислили в группу доктора Джорджа Ханнаби — заведующего хирургическим отделением клиники, известного своими открытиями в методике сердечно-сосудистой хирургии. На протяжении почти полутора лет Джинджер прекрасно справлялась со своими обязанностями. И вот в один из ноябрьских дней, а точнее — утром во вторник, она отправилась в «Деликатесы от Бернстайна» за покупками. Там-то все и началось, с черных перчаток.* * *
Вторник был ее выходной, во всяком случае, когда не было тяжелобольных, нуждающихся в постоянном присмотре, и ее появления в больнице не ожидали. Первые два месяца она приходила в клинику и по выходным, поскольку, кроме работы, ее ничто особо не интересовало. Но Джордж Ханнаби положил этому конец, как только узнал об этой ее привычке. Практическая медицина — напряженная работа, сказал он, и хирургу требуется отдых, даже неутомимой Джинджер Вайс. — Пощадите себя, — сказал он, — хотя бы ради пациентов. Поэтому по вторникам она вставала на час позже, принимала душ и выпивала две чашки кофе, просматривая за кухонным столом у окна с видом на Маунт-Вернон-стрит утренние газеты. В десять часов она одевалась и пешком шла до кулинарии на Чарльз-стрит, чтобы накупить там всяких вкусностей, как-то: бастурму, вырезку, рогалики, пончики, винегрет, блинчики, копченую осетрину, вареники с творогом, которые оставалось только подогреть. Потом она возвращалась домой с пакетом покупок и весь день ела самым бесстыдным образом, читая Агату Кристи, Дика Фрэнсиса, Джона Макдональда и Элмора Леонарда, а случалось — и Хайнлайна. Постепенно она научилась получать удовольствие от выходного дня, и вторники уже не ввергали ее в уныние, как раньше. Тот мерзкий ноябрьский вторник тоже начался вовсе не плохо: несмотря на холод и мглистое небо, утренний ветерок скорее бодрил, чем морозил спешивших по своим делам пешеходов, и Джинджер не испытала ни малейшего раздражения от прогулки до кулинарии, куда она пришла ровно в 10 часов 21 минуту. Как всегда, зал был переполнен посетителями. Двигаясь вдоль застекленного прилавка, она неторопливо разглядывала горы выпечки, копченостей и солений, отбирая в корзинку соблазнившие ее лакомства. Кулинария напоминала волшебный горшочек, в котором, источая сказочный аромат, с веселым бульканьем варилось нечто удивительное, состоящее из теста, корицы, звонкого смеха, чеснока, гвоздики, обрывков фраз, сдобренных идишем, бостонским акцентом и жаргоном фанатиков рока, жареных орехов, квашеной капусты, соленых огурчиков, кофе и звона посуды. Набрав полный пакет всякой всячины, Джинджер оплатила покупки и, натянув на руки голубые вязаные перчатки, направилась к выходу мимо столиков, за которыми с десяток посетителей смаковали свой поздний завтрак. В левой руке у нее был пакет с продуктами, а правой она пыталась засунуть кошелек в маленькую сумочку, висевшую у нее на правом плече, когда в зал вошел мужчина в сером твидовом пальто и черной шапке-ушанке и они столкнулись. Джинджер невольно отшатнулась под напором холодного ветра, ворвавшегося с улицы, и незнакомец слегка сжал ей локоть, помогая сохранить равновесие, одновременно поддержав другой рукой ее тяжелый пакет. — Извините, — пробормотал он. — Так нелепо с моей стороны… — Это я виновата, — ответила она. — Я задумался на ходу, — объяснил он. — Наверное, еще не проснулся. — Это я не смотрела, куда иду. — С вами все в порядке? — Да, можете не беспокоиться. И в ту же секунду взгляд ее упал на его черные перчатки. Это были дорогие перчатки: из тончайшей натуральной кожи, тщательно сшитые, с едва заметными швами. И в них не было ровным счетом ничего, что могло бы объяснить ее неожиданную и резкую реакцию на них, ничего пугающего или странного. И тем не менее она вдруг почувствовала жуткий страх. Страх исходил не от мужчины — это был обычный человек с чуть рыхловатым бледным лицом и в роговых очках с толстыми стеклами. Нет, не он, с его виноватым взглядом добрых глаз, а именно его черные перчатки необъяснимым образом и без видимой причины внушили Джинджер этот ужас, от которого у нее перехватило горло и заколотилось сердце. И самым поразительным было то, что все предметы и люди вокруг нее вдруг начали терять свои очертания, будто бы вовсе и не существовали в реальности, а явились во сне, мимолетном и рассыпающемся по мере пробуждения. Покупатели, завтракающие за столиками, полки и прилавки, уставленные банками и упаковками, стенные часы с эмблемой фирмы «Манишевиц», бочонок с огурцами, столики и стулья — все это стремительно завертелось и закружилось, покрываясь туманом, словно по мановению волшебной палочки заполнившим помещение. И лишь черные перчатки не только не растворились в нем, а, напротив, стали еще более отчетливыми и угрожающими. — Что с вами, мисс? — растерянно спросил мужчина в очках, и голос его прозвучал глухо, словно бы из глубины колодца. Очертания и цвета упаковок и банок совершенно поблекли, слившись в сплошное белое марево. Звуки же, как ни странно, усилились настолько, что у Джинджер заломило в ушах от нарастающего звона посуды и грохота кассового аппарата — громоподобного, нестерпимого. Но она не могла оторвать взгляда от этих проклятых перчаток. — Что-то случилось? — переспросил незнакомец, непроизвольно взмахнув рукой и почти коснувшись лица Джинджер рукой в перчатке — черной, плотной и блестящей, с едва заметной строчкой на пальцах… И, уже не осознавая, где она и что с ней, а только испытывая неописуемый ужас, Джинджер вдруг почувствовала неукротимое желание бежать. Бежать, чтобы избежать неминуемой гибели. И немедленно, не колеблясь и не раздумывая, — иначе она умрет. Сердце ее уже не просто учащенно билось, а неистово колотилось в груди. Издав слабый крик и хватая перекошенным ртом воздух, она покачнулась и, удивленная своей странной реакцией на черные перчатки, вконец смущенная своим необъяснимым поведением, бросилась к выходу, прижимая к груди, словно щит, пакет с продуктами и едва не сбив с ног незнакомца. На улице ей тотчас полегчало. Глубоко вздохнув, она побежала по Чарльз-стрит, не замечая ни витрин магазинов, ни рычащего и визжащего потока автомобилей. Окружающий ее мир распался и перестал для нее существовать, она погрузилась в темноту и от страха перед ней помчалась еще быстрее — полубезумная, с развевающимися полами пальто, на глазах у десятков прохожих, едва успевающих расступаться перед ней. Она неслась быстрее лани, хотя никто не гнался за ней, с искаженным от ужаса лицом, мчалась, как буйнопомешанная, ничего не видя и не слыша, в полном отчаянии. Когда туман рассеялся, она обнаружила, что стоит на Маунт-Вернон-стрит, почти на середине холма, в полном изнеможении прислонившись к чугунной ограде напротив ступеней парадной внушительного здания из красного кирпича. До боли в суставах стиснув чугунные прутья, она уперлась в них лбом, словно отчаявшийся узник у дверей камеры, мокрая от липкого пота. Губы и горло ее пересохли, и она жадно хватала ртом воздух. В груди ломило, голова раскалывалась от бесплодных попыток вспомнить, как она здесь оказалась. Что-то напугало ее, но она не помнила, что именно. Постепенно страх исчез, дыхание и сердцебиение вошли в норму. Она подняла голову и, моргая от назойливых слез, огляделась: в низком и мглистом ноябрьском небе раскачивались голые черные ветви липы, подсвечиваемые слабым светом старинных чугунных фонарей, отчего возникало странное ощущение вечерних сумерек; на вершине холма возвышалось здание законодательного собрания штата Массачусетс, а у его подножия, на пересечении Маунт-Вернон и Чарльз-стрит, шумел транспортный поток. «Деликатесы от Бернстайна». Да, конечно же, сегодня ведь вторник, и она как раз была в кулинарии, когда… когда что-то случилось. Но что? Что случилось в кулинарии? И где сумка с продуктами? Она разжала наконец пальцы, вцепившиеся намертво в ограду, и, подняв руки, уставилась на свои голубые вязаные перчатки. Перчатки. Не ее, а те, другие перчатки. Близорукий мужчина в ушанке. Его черные кожаные перчатки — вот что ее напугало! Но почему с ней случилась истерика, когда она их увидела? Что страшного в обыкновенных черных кожаных перчатках? С противоположной стороны улицы Джинджер не без любопытства разглядывала пожилая семейная пара. Интересно, подумала она, чем оно вызвано? Что особенного она натворила? Нет, решительно ничего не удавалось вспомнить, последние минуты выпали из памяти. Вероятно, она со страху вбежала на Маунт-Вернон-стрит и, судя по выражению лиц наблюдавших за ней, являла собой необыкновенное зрелище. Смутившись, Джинджер отвернулась и торопливо направилась вниз по Маунт-Вернон-стрит назад к кулинарии. Свой пакет она обнаружила на углу на тротуаре и долго разглядывала его, пытаясь вспомнить, когда именно она его уронила. Но в памяти был какой-то серый провал, пустота. Что же с ней происходит? Несколько свертков выпало из пакета, но упаковка не порвалась, и Джинджер сложила покупки назад в пакет, после чего, совершенно разбитая случившимся, испытывая слабость в ногах, побрела домой, надеясь немного проветриться на морозном воздухе. Но, сделав несколько шагов, она остановилась и после недолгого раздумья решительно пошла назад к кулинарии. Ей пришлось простоять у дверей не более двух минут, прежде чем оттуда вышел, с бумажным пакетом в руке, человек в шапке-ушанке. Увидев Джинджер, он несколько растерялся. — Послушайте, — наконец проговорил он, — надеюсь, я перед вами извинился? Вы так быстро исчезли… я подумал, что, быть может, я только намеревался попросить у вас прощения… Джинджер смотрела на его правую руку в перчатке, в которой он нес пакет. Он взмахнул левой рукой, сопровождая свои слова неопределенным жестом, и она перевела взгляд на его левую руку. Перчатки уже не пугали ее, и она даже представить себе не могла, почему их вид поверг ее в панику. — Все в порядке, — сказала она, поворачиваясь к незнакомцу спиной, — это я должна была бы извиниться. Какое-то странное сегодня утро, — добавила она уже на ходу. — Всего вам хорошего. Хотя ее квартира была почти рядом, путь домой показался Джинджер чуть ли не героическим походом по бесконечному пространству серого тротуара. Так что же все-таки с ней происходит? Ей стало зябко, и вовсе не из-за погоды. Ее квартира находилась на втором этаже четырехэтажного дома, когда-то, в прошлом веке, принадлежавшего банкиру. Это место она облюбовала, потому что ей нравились хорошо сохранившиеся детали старого здания: вычурные карнизы, медальоны над дверными проемами, двери красного дерева, «фонари» створчатых окон, камины с инкрустированной мраморной облицовкой в гостиной и спальне — в этих комнатах возникало ощущение устроенности, надежности, уюта. Джинджер ценила постоянство и стабильность превыше всего, возможно, потому, что рано потеряла мать, — ведь та умерла, когда Джинджер исполнилось всего-навсего двенадцать лет. Все еще поеживаясь от озноба, хотя в квартире и было довольно тепло, она переложила покупки из сумки в буфет и холодильник и пошла в ванную взглянуть на себя в зеркало. Выглядела она неважно: бледная, с затравленным взглядом. — Что же с тобой стряслось, шнук[63]? Ты ведь выглядела, как настоящая мешугене[64], должна я тебе сказать. Совсем сдвинутая. Но почему? А? Ты ведь такая умная, вот и объясни. Почему? Вслушиваясь в собственный голос, гулко отдающийся от высокого потолка ванной комнаты, она поняла, что с ней происходит нечто серьезное. Ее отец Иаков был евреем по крови, чем весьма гордился, но никогда не придерживался строгихрелигиозных предписаний: он мог, например, посещать синагогу и отмечать еврейские праздники, но оставаться при этом абсолютно безразличным к их религиозной основе, подобно многим отошедшим фактически от христианства, но празднующим Пасху и Рождество. Джинджер относила себя к агностикам — в этом смысле она еще дальше отдалилась от религии, чем ее отец. Более того, если еврейство Иакова органично проявлялось во всех его делах и речах, этого никак нельзя было сказать о его дочери. Если бы ее попросили охарактеризовать себя, она бы сказала в первую очередь: «Женщина, врач, работоголик, аполитична», возможно, многое другое, но лишь в последнюю — еврейка, если бы вообще не забыла об этом. Словечками же из идиш она сдабривала свою речь только в минуты сильного душевного волнения или испуга, словно бы подсознательно уповая на их магическую защитную силу от всех напастей. — Несешься по улице, теряешь продукты, не помнишь, где ты и кто ты, шарахаешься неизвестно от чего, как пьяница, — сказала она своему отражению. — Люди посмотрят на тебя и подумают, что ты шикер, а зачем им врач-алкоголик? Выговорившись, Джинджер слегка порозовела и утратила застывший рыбий взгляд, да и озноб почти прошел. Она умылась, расчесала свою серебристо-белокурую гриву и, переодевшись в пижаму и халат — обычный наряд для вольных вторников, прошла в маленькую спальню, служившую ей и кабинетом, где взяла с полки энциклопедический медицинский словарь Тейбера и раскрыла его на букве А: «Автоматизм». Она знала значение этого термина, но не знала, для чего, собственно, полезла в словарь — ведь ничего нового она там для себя не почерпнет. Возможно, словарь представлялся ей еще одним талисманом вроде идиша. Книга защитит ее от нечистой силы. Наверняка. Энциклопедический словарь — амулет для заумных. Усмехнувшись своим мыслям, она тем не менее прочла: «Автоматизм — временная потеря контроля над сознанием. Выражается в импульсивном, немотивированном уходе из дома или из другого места нахождения, бесконтрольном бродяжничестве. По выздоровлении у больного отмечается потеря памяти, он не может вспомнить свои действия во время приступа». Она захлопнула книгу и поставила ее обратно на полку. У нее было достаточно других источников информации по этому заболеванию, его течению и последствиям, но она решила не углубляться в данный предмет. Ей просто не верилось, что случившееся с ней — симптом серьезной болезни. Скорее это просто результат переутомления, она слишком много работает, и перегрузка дала о себе знать вот таким неожиданным образом. Это пройдет. Всего лишь минутное забытье, маленькое предупреждение. Нужно продолжать отдыхать по вторникам и постараться каждый день заканчивать работу на час раньше, и все у нее будет в полном порядке. Джинджер лезла из кожи вон, чтобы оправдать надежды своей матери и сделаться предметом гордости своего милого отца. Она многим жертвовала ради этой цели, трудилась по выходным, забыла, что такое отпуск и прочие развлечения. Ей осталось всего лишь полгода стажировки, и она сможет уже работать самостоятельно, и она не допустит, чтобы ее планы были нарушены. Ничто не сможет лишить ее заветной мечты. Ничто. Это было 12 ноября.3
Округ Элко, НевадаЭрни Блок боялся темноты. Он плохо переносил ее в помещении, но мрак за дверями дома, необъятная тьма ночи Северной Невады вселяли в него настоящий ужас. Днем он предпочитал комнаты с несколькими окнами и достаточным количеством ламп, ночью же старался находиться в помещении без окон: ему чудилось, что темнота прижимается к стеклам, словно живое существо, выжидая момент, чтобы накинуться на него и сожрать. Он задергивал портьеры, но это не помогало, потому что он все равно помнил, что за ними притаилась страшная ночь. Его мучил стыд, но объяснить странную напасть, обрушившуюся на него несколько месяцев назад, он не мог: просто панически боялся темноты, и все. Миллионы людей страдают этой формой фобии, но, в большинстве своем, это дети. Эрни же было пятьдесят два года. В пятницу после полудня, на следующий день после Дня Благодарения, он трудился в конторе мотеля один: Фэй улетела в Висконсин проведать Люси, Фрэнка и внуков, и раньше вторника он ее не ждал. В декабре они намеревались на недельку закрыть заведение и махнуть вдвоем на Рождество к внукам; пока же Фэй отправилась к ним одна. Эрни страшно скучал по ней, скучал не только потому, что был женат на Фэй тридцать один год, но и потому, что она была его лучшим другом. Сейчас он любил ее сильнее, чем в день их свадьбы. А еще ему не хватало жены, потому что без нее ночи казались ему темнее, длиннее и страшнее, чем всегда. К половине третьего Эрни убрался во всех комнатах и сменил белье, подготовив мотель «Спокойствие» к очередному наплыву путешественников. Это было единственное жилье на двадцать миль[65] вокруг, возвышающееся на холме к северу от автострады, — маленькая придорожная гостиница посреди поросшей полынью солончаковой пустыни, плавно восходящей к альпийским лугам. Тридцать миль на восток до Элко, сорок — на запад до Батл-Маунтина, но куда как ближе до городка Карлин и поселка Биовейв, которые, правда, было не разглядеть с автостоянки напротив мотеля, как, впрочем, и вообще никакое строение в любом направлении, что позволяло считать мотель «Спокойствие» вполне соответствующим своему названию. Эрни усердно замазывал морилкой царапины на дубовой стойке в конторе, за которой гости регистрировались по прибытии и расплачивались перед отъездом. Стойка, признаться, была в неплохом состоянии, но Эрни нужно было чем-то занять себя до вечера, пока не начнут подъезжать клиенты со стороны федеральной дороги № 80. Бездельничать же он не мог, потому что непременно начал бы думать о том, как рано все-таки темнеет в ноябре, как быстро приходит ночь, и к моменту ее действительного прихода уже метался бы по гостинице, как кошка с пустой консервной банкой на хвосте. Контора смахивала на языческий храм огня. Уже с половины седьмого утра, едва лишь Эрни вошел в нее, горели все осветительные приборы: люминесцентная приземистая лампа на гибкой стойке, стоявшая на дубовом письменном столе в глубине конторы, отбрасывала бледный прямоугольник на зеленое пресс-папье; в углу, возле картотеки, сиял латунный торшер; по другую сторону стойки, где для клиентов были выставлены вертящийся стенд с открытками, стеллажи для рекламных проспектов, журналов и газет, игральный автомат и бежевый диванчик, на маленьких столиках сверкали целых три лампы, по 75, 100 и 150 ватт; с потолка струился матовый свет двухрожковой люстры, и, конечно же, целое море дневного света проникало в комнату через огромное, во всю переднюю стену, окно, смотревшее на юго-запад. Падая на белую стену за диваном, золотистые лучи предзакатного солнца придавали ей янтарный оттенок, рассыпаясь на сотни слепящих мелькающих огоньков в сиянии настольных ламп и вспыхивая в медных медальонах орнамента столиков. Когда Фэй была рядом, Эрни не включал одновременно все лампы, опасаясь получить нагоняй за неоправданный перерасход электричества, но старался не смотреть на выключенные светильники, во всяком случае, если Фэй не было поблизости: вид негорящей лампочки угнетал его. В присутствии жены он был вынужден стоически терпеть это неприятное для него зрелище, чтобы не выдать себя, поскольку был уверен, что она не догадывается о его фобии, развившейся всего четыре месяца назад, и не хотел огорчать ее. Эрни не знал причины этого не поддающегося объяснению феномена, но был уверен, что рано или поздно одолеет его, так что незачем было и унижаться из-за временного недоразумения, а тем более попусту трепать нервы Фэй. Он упорно не желал поверить в то, что это не пустяки. За всю свою жизнь он болел всего несколько раз и лишь однажды лежал в госпитале, схлопотав две пули — в спину и чуть пониже — во Вьетнаме, в первые же дни службы. В его семье никто не страдал психическими расстройствами, и поэтому Эрнест Юджин Блок был абсолютно уверен, что не станет первым из всего семейства полудохлым хлюпиком, не вылезающим из психушки: черта лысого он так просто сдастся! Да он готов с кем угодно биться об заклад, что пересилит эту напасть, выгонит из себя дурь и вновь станет здоровым как бык. Началось все в сентябре со смутного беспокойства, возникавшего с приближением сумерек и не оставлявшего его до рассвета. Поначалу оно охватывало его не каждую неделю, потом все чаще и чаще, пока к середине октября уже каждый вечер он не начал испытывать странную подавленность. В начале ноября подавленность переросла в страх, а две последние недели он уже точно знал, что темнота таит в себе непреодолимый ужас. Вот уже десять дней, как он старался не выходить из дома с наступлением сумерек, и рано или поздно Фэй должна была обратить на это внимание. Эрни Блок был настолько могуч, что никому и в голову не приходило, что его вообще можно чем-то напугать. Шести футов ростом, плотного, основательного телосложения, он полностью соответствовал своей фамилии[66]. Его жесткие седые волосы, подстриженные бобриком, высокий лоб, открытое волевое лицо производили приятное впечатление, хотя и казались высеченными из гранита, а толстая шея, массивные плечи и бочкообразная грудь и вовсе делали его похожим на сказочного великана. Игроки школьной футбольной команды, в которой он играл не последнюю роль, прозвали его Быком, а в морской пехоте, где он служил двадцать восемь лет, уйдя в отставку всего шесть лет назад, никто, даже из старших по званию, не обращался к нему иначе, как «сэр». Да у них челюсти бы отвисли, узнай они, что у Эрни Блока каждый вечер перед закатом потеют от страха ладони. Вот почему он так тщательно закрашивал и полировал дубовую стойку в своей конторе, стараясь отвлечься от мыслей о неминуемом закате, пока не завершил работу без четверти четыре пополудни. Между тем дневной свет из золотистого стал янтарно-оранжевым, а солнце начало клониться к западу. В четыре часа появились первые гости, супружеская пара примерно его возраста, мистер и миссис Джилни: они возвращались домой в Солт-Лейк-Сити после недельного отпуска в Рино, где гостили у сына. Он поболтал с ними о том о сем и не без сожаления отдал ключи от номера. Солнечный свет окончательно обрел оранжевый оттенок, чисто апельсиновый, без малейшей толики желтого цвет; реденькие высокие облака из белых суденышек превратились в золотистые и алые галеоны, скользящие на восток над бескрайними просторами штата Невада. Спустя минут десять снял номер на два дня мужчина с мертвенно-бледным лицом — он отрекомендовался специальным представителем Бюро землепользования, выполняющим особую миссию в районе. Вновь оставшись один, Эрни старался не смотреть на часы. Он также заставлял себя не глядеть на окна, потому что день за ними безвозвратно угасал. «Никакой паники, — убеждал он себя. — Я был на войне, видел худшее из того, что только может увидеть человек, и Господь уберег меня, оставил живым и невредимым, и я не собираюсь расклеиваться лишь потому, что приближается ночь». Без десяти пять закат из апельсинового превратился в кроваво-красный. Сердцебиение у Эрни участилось, ему казалось, что его грудная клетка вот-вот раздавит, словно пресс, жизненно важные органы. Он сел в кресле за стойкой, закрыл глаза и сделал несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться. Потом включил радиоприемник: иногда музыка помогала. Кенни Роджерс пел об одиночестве. Солнце коснулось горизонта и плавно исчезало из виду. Малиновый вечер поблек до ярко-голубого, а затем стал фиалковым, что навеяло воспоминания о сумерках в Сингапуре, где Эрни в молодости два года служил в охране посольства. И наконец сумерки все-таки наступили. Потом стало еще хуже: пришла ночь. И тотчас же автоматически вспыхнули синие и зеленые огни неоновой рекламы и фонари за окном, но это не подняло Эрни настроения: он был во власти ночи. Вслед за угасшим солнечным светом резко упала температура воздуха. Но, несмотря на это, Эрни Блок вспотел. В шесть часов в комнату вбежала Сэнди Сарвер из закусочной при мотеле — маленького гриль-бара с весьма скудным меню, где гости и голодные водители грузовиков могли на скорую руку подкрепиться. По предварительному заказу проживающим в «Спокойствии» подавали в номер легкий завтрак: сладкие булочки и кофе. Вместе со своим мужем Недом тридцатидвухлетняя Сэнди управлялась в гриль-баре со всеми делами, жили же они в трейлере в поселке, куда уезжали каждый вечер на своем стареньком «Форде». Когда Сэнди распахнула дверь, Эрни от неожиданности вздрогнул: у него было странное чувство, что следом за ней в контору впрыгнет, словно пантера, темнота. — Я принесла ужин, — сказала Сэнди, поеживаясь от холодного воздуха. Она поставила на стойку картонную коробочку, где находились поджаренная булочка с сыром, картофельная соломка, пластмассовая упаковка салата из капусты и банка пива. — Спасибо, Сэнди, — поблагодарил ее Эрни. Сэнди Сарвер ничего выдающегося собой не представляла: невзрачная, измученная, неряшливая. Хотя, если ее подкормить и слегка привести в порядок внешность, она еще могла бы выглядеть привлекательной. Ноги у нее были худые, но стройные, да и фигурка тоже ничего, хотя и плоская; зато красивая лебединая шея, изящные руки и подкупающая грациозность, с которой она виляла при ходьбе кормой, вполне компенсировали ее недостатки. Волосы она мыла мылом, а не шампунем, и от этого они были тусклыми и тонкими. Она никогда не пользовалась косметикой, даже помадой, не следила за ногтями. Но при всем при том у нее было доброе сердце, щедрая душа, и поэтому Эрни и Фэй искренне сочувствовали ей и желали лучшей доли в жизни. Иногда Эрни беспокоился за нее, так же, как привык волноваться за свою дочь Люси, пока она не вышла за Фрэнка и не стала совершенно счастлива. Он чувствовал, что с Сэнди Сарвер что-то произошло в прошлом, что она перенесла какой-то тяжелый удар, который если не сломал ее, то навсегда придавил к земле, приучил не высовываться, ходить с опущенной головой и не строить заоблачных планов, чтобы оградить себя от разочарований, боли и людской жестокости. Вдыхая аромат пищи, Эрни открыл банку и сказал: — Таких вкусных булочек с сыром, как готовит Нед, я нигде не ел. — Да, это счастье иметь мужа, который готовит, — робко улыбнулась в ответ Сэнди. Голос ее был тихим и слабым. — Мне повезло: ведь я совершенно никудышная повариха. — Готов держать пари, что ты тоже прекрасно готовишь, — возразил Эрни. — Вот уж нет! И не умела и не научусь. Он бросил взгляд на ее голые, в пупырышках, руки. — Не нужно было в такую холодную ночь выбегать без кофты, можешь простудиться. — О, только не я! Я давно привыкла к холоду, очень давно… И сами ее слова, и голос звучали довольно странно. Но едва Эрни собрался поподробнее расспросить Сэнди, как она направилась к двери. — Еще увидимся, Эрни. — Что, много работы? — Хватает. Скоро ведь приедут ужинать шоферы. — Она задержалась в дверях. — Я смотрю, у тебя здесь так светло… Кусок булки застрял у Эрни в горле: за спиной Сэнди зияла чернота. Она впускала мрак в дом. Пахнуло холодом. — Здесь можно загорать, — продолжала Сэнди. — Мне… мне нравится много света. Люди не любят, когда в конторе полумрак, им может показаться, что здесь не убрано. — А я об этом даже и не подумала! Теперь понимаю, почему ты босс. Мне вот до таких вещей ни за что бы не додуматься, я такая невнимательная. Ну ладно, я побежала. Эрни с облегчением кивнул ей и перевел дух, когда дверь захлопнулась. Тень Сэнди промелькнула за окном и исчезла из виду. Он ни разу не слышал, чтобы она согласилась с комплиментом в свой адрес, напротив, не задумываясь подчеркивала свои недостатки и промахи, как истинные, так и выдуманные. В общем-то, славная малышка, но с ней порой довольно скучно. Хотя сегодня он был бы рад и такой компании. Эрни попытался сосредоточиться на еде, чтобы отвлечься от ненормального страха, от которого раскалывалась голова и потело под мышками. К семи часам восемь из двадцати номеров мотеля были сданы, но он ожидал приезда еще по крайней мере восьми гостей, поскольку сегодня был только второй вечер четырехдневного праздника. Нужно было подождать до девяти часов, но он чувствовал, что не может. Да, он служил в морской пехоте и оставался в душе морским пехотинцем, для которого слова «долг» и «мужество» были священными, и он всегда выполнял свой долг, даже во Вьетнаме, под пулями и бомбами, когда вокруг гибли люди. Но он был не в силах остаться один в конторе мотеля до девяти. На больших окнах конторы не было ни занавесок, ни штор, и в них, как и в стеклянную дверь, таращилась темнота. Всякий раз, когда дверь открывалась, он едва не терял сознание со страху, потому что ничто не мешало в этот момент темноте проникнуть внутрь конторы и наброситься на него. Он взглянул на свои большие и сильные руки. Они дрожали. Под ложечкой сосало, и совсем не стоялось на одном месте. Эрни принялся расхаживать вдоль стойки, барабаня по ней пальцами. В конце концов в четверть восьмого он сдался: включил табличку с надписью «СВОБОДНЫХ НОМЕРОВ НЕТ» над входом и запер дверь. После этого он одну за другой погасил все лампы и ретировался по лестнице на второй этаж, где находилась квартира хозяев мотеля. Обычно он взбегал по ступенькам без лишней спешки, убеждая себя, что бояться просто глупо и нелепо, что за ним никто не гонится из темных углов конторы и что ему вообще — даже смешно говорить — ничто и никто не угрожает. Однако самовнушения такого рода приводили к обратному эффекту, потому что он боялся не кого-то или чего-то, скрывающегося в темноте, а самой темноты, простого отсутствия света. И сегодня он торопился взбежать по лестнице как можно быстрее, тяжело опираясь о перила и перепрыгивая сразу через две ступени, пока наконец не достиг верхней площадки, где, задыхаясь от бега, включил свет в гостиной, ударом ноги распахнул настежь дверь, ввалился в комнату, захлопнув тотчас дверь за собой, и в полном изнеможении привалился к ней своей широкой спиной. Его трясло, он задыхался от запаха собственного пота. В квартире весь день горел свет, но некоторые лампы не были включены, и, едва отдышавшись, Эрни зажег их, переходя из комнаты в комнату и щелкая выключателями. Шторы и портьеры опущены и задернуты, так что для темноты за окнами не оставалось ни малейшей лазейки. Взяв себя в руки, он позвонил в бар и сказал Сэнди, что неважно себя почувствовал и поэтому закрыл мотель раньше, чем обычно. Он также попросил ее не беспокоить его со счетами, когда они с Недом закончат работу, и подождать до утра. Затем Эрни принял душ, не в силах сносить запах собственного пота, который раздражал его не столько сам по себе, сколько как свидетельство его неспособности держать себя в руках. Вытершись после душа насухо, он надел свежее белье и теплый халат и всунул ноги в шлепанцы. Раньше, когда смутная тревога еще только зарождалась в нем, он мог спать в темной комнате, хотя и засыпал довольно плохо, лишь после банки-другой пива. Две ночи тому назад, когда Фэй уехала в Висконсин и он остался один, отключиться удалось, лишь включив ночник. И сегодня — он уже предчувствовал это — ему уже не уснуть без света. А что будет со вторника, когда Фэй вернется? Сможет ли он тогда засыпать в темноте? Вдруг Фэй выключит лампу и он закричит, словно перепуганный ребенок? Мысль об этом неминуемом унижении привела его в ярость, и, стиснув зубы, он шагнул к окну. Его мускулистая рука легла на плотно задернутую портьеру, но будто прилипла к ней: сердце стучало в груди, как пулемет. Для Фэй он всегда был сильным и крепким, как скала, таким, каким и должен быть мужчина, и он не может расстроить ее. Он должен превозмочь эту проклятую напасть, пока Фэй не вернулась. Но при одной мысли о том, что скрывается там, за окном, по спине пробежал холодок и пересохло во рту. Однако жизнь научила его смело вступать в схватку с противником, быть собранным и решительным: только так можно победить. Эта философия всегда выручала его и выручит на этот раз. За окном простирались бескрайние и безлюдные просторы холмистого предгорья, где единственный источник света — звезды. Он должен отдернуть портьеру и оказаться лицом к лицу с мрачным ландшафтом, и сделать это быстро, во что бы то ни стало: эта очная ставка очистит его от яда страха. Эрни отдернул тяжелую портьеру, взглянул на темноту ночи и сказал себе, что она не так уж и плоха, что эта прекрасная, глубокая, чистая, безбрежная и холодная чернота вовсе не таит в себе злого начала и уж, во всяком случае, никакой опасности лично для него. Тем не менее, пока он всматривался, притаившись у окна, в темноту, она… как бы это сказать, в общем, начала двигаться, сгущаться, образуя не совсем ясные, но определенно плотные массы, глыбы пульсирующих сгустков черноты, крадущихся призраков, в любой момент готовых метнуться к хрупкому окну. Скрипнув зубами, он уперся лбом в ледяное стекло. Огромная безжизненная пустыня, казалось, еще больше расширилась в пространстве. Он не видел скрытых темнотой гор, но чувствовал, что они отступают под натиском равнины, простирающейся на сотни миль вокруг, уходящей в бесконечность, безграничную пустоту, в центре которой он, Эрни Блок, — один посреди огромного, не поддающегося описанию вакуума, чудовищной, невообразимой черноты, сдавливающей его слева и справа, спереди и сзади, сверху и снизу, все сильнее и сильнее, так, что уже невозможно дышать. Это было значительно хуже всего того, что он испытывал раньше. Страх пронзал его насквозь, проникая в каждую клеточку организма, полностью парализуя его волю и подчиняя себе. Эрни вдруг остро ощутил всю невероятную тяжесть этой чудовищной темноты; она неумолимо наваливалась на него, медленно, но с неотвратимой силой окутывала бесчисленными сгустками мрака, прижимая к полу, выдавливая, как из тюбика, воздух из его груди… Он с криком отшатнулся от окна. С тихим шелестом портьера вновь наглухо закрыла стекло. Вздрогнув, Эрни упал на колени. Темнота исчезла. Вокруг был свет, благословенный свет! Уронив голову, Эрни содрогнулся и перевел дух. Он подполз к кровати, не без труда вскарабкался на нее и потом долго лежал, прислушиваясь к ударам сердца, постепенно, словно шаги, затихающим в груди. Вместо того чтобы раз и навсегда решить свою проблему, он лишь усугубил ее. — Да что здесь, в конце-то концов, происходит? — произнес он, уставившись в потолок. — Что со мной творится? Господи, что со мной? Было 22 ноября.
4
Лагуна-Бич, КалифорнияВ субботу Доминик Корвейсис, доведенный до отчаяния очередным припадком сомнамбулизма, твердо решил основательно и методично изнурить себя. К сумеркам он вознамерился так вымотаться, чтобы уснуть мертвым сном, и во исполнение своего плана уже в семь утра, когда в ущельях и кронах деревьев еще клубился холодный ночной туман, полчаса энергично делал во дворике зарядку, после чего надел кроссовки и пробежал семь миль по крутым улочкам Лагуна-Бич. Следующие пять часов он усердно трудился в саду. Потом надел плавки, прихватил полотенце и отправился на пляж, где немного позагорал и долго плавал, а после обеда в «Пикассо» совершил часовую прогулку по улицам вдоль магазинчиков, витрины которых лениво разглядывали редкие туристы. Усталый и довольный, он наконец вернулся домой. Раздеваясь в спальне, он ощущал себя опутанным веревками, за концы которых тянут тысячи лилипутов. Он редко пил, но теперь сделал добрый глоток коньяку, после чего уснул, едва выключив лампу.
* * *
Приступы сомнамбулизма случались с ним в последнее время все чаще, став главной заботой его жизни и отодвинув на второй план работу над новой книгой, продвигавшуюся, надо сказать, до этого весьма успешно. За минувшие две недели он девять раз просыпался в чуланах, причем четыре раза только за последние четыре ночи. Это уже абсолютно не интриговало и не забавляло его, он уже боялся ложиться спать, потому что во сне терял над собой контроль. Накануне, в пятницу, он собрался с духом и отправился в Ньюпорт-Бич к психиатру доктору Полу Коблецу и, запинаясь, поведал ему о своих ночных блужданиях, но так и не смог быть откровенным до конца и признаться, насколько серьезно он обеспокоен всем происходящим. Возможно, виной тому была его скрытность — следствие сиротского детства, проведенного в семьях временных опекунов, порой довольно черствых и даже враждебных, внезапно приходивших в его полную неопределенности жизнь и столь же внезапно исчезавших. Поэтому он предпочитал выражать самые важные и сокровенные мысли устами героев своих романов. В результате доктор Коблец выслушал его довольно спокойно и после тщательного осмотра объявил, что Доминик вполне здоров, просто переутомился и волнуется перед публикацией романа, поэтому и бродит по ночам по дому. — Вы полагаете, что нет нужды в дополнительном обследовании? — Вы писатель, и, естественно, у вас богатое воображение, — ответил Коблец. — Уверен, вы подозреваете у себя опухоль мозга, не так ли? — Ну допустим. — Бывают головные боли? Головокружения? Туман перед глазами? — Нет. — Я осмотрел ваши глаза. Никаких изменений в сетчатке, никаких признаков внутричерепного давления. Подташнивает иногда? — Нет, не замечал. — Внезапные приступы смеха? Периоды эйфории без особых причин? А? Ничего такого? — Нет. — В таком случае я не вижу оснований для дополнительного обследования. — Может быть, мне следует пройти курс психотерапии? — Бог с вами! Уверяю вас, все это вскоре пройдет. — А как насчет снотворного? — уже одеваясь, робко спросил Доминик. — Нет, — решительно захлопнул историю болезни доктор, — пока повременим. Не стоит торопиться с таблетками. Вот что вам следует делать, Доминик: забросьте работу на несколько недель, займитесь физическими упражнениями, ложитесь спать усталым — до такой степени, чтобы вам не хотелось даже думать о вашей книге. Никакой умственной работы, только физические нагрузки, запомните! И тогда через несколько дней вы будете совершенно здоровы. Я в этом уверен. В субботу Доминик приступил к выполнению рекомендаций доктора Коблеца, посвятив себя физической деятельности даже с большим рвением и самозабвением, чем требовалось. Результат превзошел все ожидания: он уснул мертвым сном, едва коснувшись головой подушки, и на следующее утро проснулся не в чулане. Однако он был и не в кровати. На сей раз он оказался в гараже. Доминик пришел в себя, задыхаясь от ужаса, содрогаясь от диких ударов собственного сердца, готового выбить все ребра из грудной клетки. Во рту у него пересохло, а кулаки были крепко сжаты. Он не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, отчасти после субботней физической перегрузки, отчасти — вследствие крайне неестественной и неудобной позы, в которой он спал. Ночью он умудрился взять с антресолей над верстаком две сложенные плащ-палатки и втиснуться в узкое пространство за печкой. Именно там он теперь и лежал, укрывшись парусиной, именно укрывшись, потому что натянул на себя плащ-палатки вовсе не для того, чтобы согреться: он забился под них и за печку, потому что хотел получше спрятаться. Но от кого? Или от чего? Даже теперь, отшвырнув в сторону плащ-палатки и пытаясь сесть, Доминик испытывал сильнейшее нервное возбуждение, не покидавшее его во сне. Он протер глаза, встряхнул головой и пощупал пульс: сердце не успокаивалось. Что же так напугало его? Увиденное во сне. Видимо, ему приснилось какое-то чудовище и он пытался от него спрятаться. Да, конечно же! Во сне он убегал от нависшей над ним опасности и спрятался за печку, все очень просто! Расхаживая по мрачному гаражу, освещенному тусклым светом, падающим из вентиляционных отверстий в стене и оконца под потолком, он поймал себя на мысли, что и сам он, и его белый автомобиль смахивают в этом полумраке на привидения. Вернувшись в дом, он направился прямо в кабинет. Утренний свет слепил глаза. Он сел за письменный стол, оставаясь в тех же перепачканных пижамных штанах, включил компьютер и, внимательнейшим образом изучив дискету, оставленную им в машине, не обнаружил никаких новых материалов: все было, как и в четверг. Доминик надеялся найти какую-нибудь запись, которую он мог сделать во сне: это помогло бы ему понять источник испытываемой тревоги. Несомненно, в его подсознании хранилась какая-то информация об этом, но до сознания она пока еще не дошла. Оставалось только сожалеть, что и во сне, действуя подсознательно, он не воспользовался компьютером. Доминик выключил машину и уставился в окно на океан, размышляя… Позже, направляясь из спальни в ванную, он, однако, обнаружил нечто странное: по ковру были разбросаны гвозди. Он нагнулся и стал собирать их. Все они были одинакового размера — полуторадюймовые стальные отделочные гвозди, разбросанные по всей комнате. В дальнем углу, под окном с отдернутой занавеской, лежал целый ящик таких гвоздей, а рядом с ним — молоток. Доминик поднял его и нахмурился. Чем же занимался он ночью? Взгляд его упал на подоконник: там поблескивали на солнце три гвоздя. Выходит, во сне он намеревался заколотить ставни. Боже! Значит, испуг его был столь велик, что захотелось заколотить намертво ставни, превратить дом в крепость, и только ужас, охвативший его, помешал осуществить задуманное, погнав его в гараж, где Доминик и забился за печку. Выронив молоток, он застыл на месте, тупо глядя в окно на цветущие розовые кусты, полоску газона, плющ на склоне перед соседним домом. Милый, мирный пейзаж. Трудно поверить, что он выглядел иначе минувшей ночью, что нечто страшное таилось там в темноте… Еще немного понаблюдав за снующими над розами пчелами, Доминик тяжело вздохнул и принялся подбирать гвозди. Было 24 ноября.5
Бостон, МассачусетсПосле конфуза с черными перчатками две недели прошли без сюрпризов. Первые дни после скандального случая в «Деликатесах» Джинджер Вайс оставалась «на взводе», ожидая нового приступа. Она ясно и трезво оценивала свое психофизическое состояние, пытаясь обнаружить малейшие симптомы серьезного нарушения в нем, готовая уловить слабейшие сигналы нового проявления автоматизма, но не замечала ровным счетом ничего настораживающего: никаких головных болей, приступов тошноты или неприятных ощущений в мышцах и суставах. Постепенно обретая прежнюю уверенность в себе, она пришла к заключению, что срыв был обусловлен перенапряжением и это временное умопомрачение больше никогда не повторится. Дел в клинике заметно прибавилось. Джордж Ханнаби, заведующий хирургическим отделением, дородный вальяжный господин с манерами сибарита, установил жесткий график, и, хотя Джинджер и не была его единственной ассистенткой, именно ей выпало участвовать в большинстве проводимых им операций: по пересадке тканей аорты, удалению эмбола, резекции ребер, установке стимуляторов сердца, на венозных сплетениях и подколенных сосудах. Джордж Ханнаби внимательно следил за ее успехами. За маской добродушного медведя скрывался твердый характер требовательного и не терпящего лености и безответственности руководителя. Он был беспощаден к своим жертвам, не просто уничтожал их своей критикой, а превращал в пух и прах, испепелял и развеивал по ветру. Кое-кто из ординаторов считал его тираном, но Джинджер с удовольствием ассистировала ему, потому что сама была столь же взыскательной. Она понимала, что въедливость Ханнаби обусловливается исключительно заботой о пациентах, и не воспринимала критику как личное оскорбление. Малейшая его похвала значила для нее не меньше, чем одобрение самого Бога. В последний понедельник ноября, спустя тринадцать дней после непонятного происшествия в кулинарии, Джинджер участвовала в довольно сложной операции на сердце. Пациента звали Джонни О'Дей. Этот коренастый 53-летний полицейский из Бостона с обветренным морщинистым лицом, живыми голубыми глазами и щеткой волос на голове из-за своей болезни был вынужден раньше срока выйти на пенсию, однако не утратил способности заразительно смеяться. Джинджер нравился этот бесхитростный человек, чем-то напоминавший ей отца, хотя внешне совершенно на него непохожий. Она боялась, что Джонни умрет и это произойдет отчасти по ее вине. По сравнению с другими пациентами, подвергавшимися подобным операциям, Джонни был не так уж и плох: относительная молодость и отсутствие у него побочных заболеваний типа флебита или повышенного давления позволяли надеяться на удачный исход и скорое выздоровление. Но Джинджер никак не могла избавиться от тревоги, и чем меньше оставалось времени до операции, тем сильнее она нервничала. Впервые после ее одинокого бдения возле постели умирающего отца, которому она была не в силах помочь, ее охватило сомнение. Возможно, оно родилось из неоправданного, но навязчивого опасения не справиться со своей задачей и, не сумев спасти пациента, тем самым как бы вновь подвести Иакова, возлагавшего на дочь такие большие надежды. А может быть, ее страхи напрасны и потом покажутся нелепыми и смешными. Все возможно… Тем не менее, входя в операционную, Джинджер с тревогой думала, не задрожат ли у нее руки. А руки хирурга не должны дрожать никогда. Облицованная белым и полупрозрачным кафелем операционная сверкала разнообразным хромированным и стальным оборудованием. Сестры и анестезиолог готовили пациента. Джонни О'Дей раскинулся на крестообразном столе, ладонями вверх, обнажив запястья для внутривенных игл. Агата Тэнди, опытнейшая частнопрактикующая хирургическая сестра, работавшая не столько на клинику, сколько лично на Джорджа Ханнаби, натянула латексные перчатки сперва на тщательно вымытые руки патрона, затем на руки Джинджер. Пациенту сделали анестезию. Весь оранжевый от йода и аккуратно запеленутый ниже пояса в зеленую ткань, с глазами, залепленными специальной пленкой, он дышал тихо, но ровно. В одном из углов операционной на стуле стоял портативный магнитофон: Джордж предпочитал резать под музыку Баха, и она уже наполняла комнату, успокаивая персонал. И лишь у Джинджер внутри все будто заиндевело от напряженного ожидания беды. Ханнаби взглянул на ее руки: они не дрожали. Внутри же у нее все кипело. Но вопреки ощущению надвигающейся катастрофы операция проходила успешно. Джордж Ханнаби делал свое дело быстро, уверенно, проворно, умело, так, что нельзя было наблюдать за его действиями без восхищения. Дважды он уступал свое место у стола Джинджер и просил ее закончить ту или иную часть операции. К собственному удивлению, Джинджер работала со свойственными ей уверенностью и быстротой, лишь немного сильнее, чем обычно, потела. Но сестра в нужный момент убирала пот со лба свежим тампоном. Когда они с Джорджем мыли после операции руки, он заметил одобрительно: — Четкая работа. — Вы всегда так спокойны, словно бы… словно вы вовсе и не хирург… как будто вы портной, подгоняющий костюм, — намыливая руки под краном, промолвила Джинджер. — Это только так кажется, — ответил Ханнаби. — Но я всегда в напряжении во время операции. Потому-то я и слушаю Баха. А вот вы сегодня были напряжены больше, чем обычно, — добавил он. — Да, — призналась она. — Такое случается, — успокоил Джордж, улыбаясь мягкой, детской улыбкой. — Главное, что это не сказалось на вашем мастерстве. Вы все делали гладко, по высшему разряду. Вы должны научиться использовать напряжение во благо. — Я постараюсь. — Вы, как всегда, излишне требовательны к себе, — ухмыльнулся хирург. — Я горжусь вами, крошка. Признаюсь, у меня возникала мысль, что вам лучше было бы покончить с медициной и зарабатывать себе на хлеб рубкой мяса в супермаркете, но сейчас-то я знаю, что из вас будет толк. Джинджер попыталась улыбнуться в ответ, но улыбка получилась довольно кислой. Она не просто нервничала. Она ощущала леденящий, черный ужас, вот-вот готовый одержать над ней верх, и это уже не укладывалось ни в какие рамки. Она не чувствовала раньше ничего похожего, а тем более, она не сомневалась в этом, подобного страха никогда не испытывал Джордж Ханнаби. Если так пойдет и дальше, если страх будет постоянно преследовать ее во время операций… тогда что же ей делать? В половине одиннадцатого в тот же вечер (она читала в постели книгу) раздался телефонный звонок. Это был Джордж Ханнаби. Позвони он пораньше, она бы перепугалась, решив, что Джонни стало хуже, но теперь она знала, что ей делать. — Очень жаль. Мисс Вайс нет дома. Я не говорить английский. Звоните в следующем апреле, пожалуйста. — Если это задумано как испанский акцент, — сказал Джордж, — то он звучит довольно скверно. А если как восточный, то просто ужасно. Благодарите Бога, что выбрали профессию врача, а не актрисы. — Зато вы, должна отметить, могли бы стать неплохим театральным критиком. — А разве я не обладаю столь необходимыми для этого качествами — беспристрастностью в оценках и проницательностью? А теперь заткнитесь и слушайте: у меня хорошая новость. Вы готовы, моя умница? — Готова? Для чего? — Для великих свершений. Для пересадки аорты. — Вы хотите сказать… Это значит, я буду не просто ассистенткой? Буду оперировать сама? — Да, сама — как ведущий хирург. — Пересадка аорты? Я не ослышалась? — Именно так. Не для того же вы специализируетесь на сердечно-сосудистой хирургии, чтобы всю оставшуюся жизнь вырезать аппендиксы? Она уже слушала его сидя, раскрасневшись от волнения. — И как скоро? — На следующей неделе. Пациентку зовут Флетчер, ее обследуют в четверг или в пятницу на этой неделе. Мы вместе ознакомимся с ее историей болезни в среду. Если все пойдет по графику, я склонен думать, что мы сможем прооперировать ее в понедельник утром. Конечно, вы сами составите расписание обследования и план дальнейших действий. — Бог мой! — У вас все прекрасно получится. — Но ведь вы тоже будете участвовать… — Я буду ассистировать… если вы сочтете, что я еще на что-то годен. — Но вы замените меня, если я сорвусь? — Не говорите глупостей. Вы не сорветесь. Она помолчала, потом твердо подтвердила: — Да, я не сорвусь. — Узнаю свою Джинджер. Вы можете сделать все, что задумаете. — Даже улететь на жирафе на Луну. — Что? — Так, шутка. — Послушайте, я понимаю, что вчера вы были близки к панике, но пусть это вас не беспокоит. Все стажеры через это проходят. Кто-то раньше, кто-то позже. Хирурги называют это «зажимом». Но вы были хладнокровны и собранны с самого начала, и я пришел к выводу, что у вас его не будет. Но сегодня он все-таки зажал и вас, просто немного позже, чем других. Полагаю, в любом случае вам следует только радоваться, что это уже позади. «Зажим» — штука временная, важно, что вы с ним превосходно справились. — Спасибо, Джордж. Мне кажется, что из вас вышел бы неплохой тренер по бейсболу. Положив трубку, Джинджер откинулась на подушку, обняла себя за плечи и довольно захихикала. Потом встала и пошла в чулан, где долго рылась, пока не нашла семейный альбом фотографий. Она принесла его в спальню и, забравшись на кровать, стала перелистывать: ей хотелось, чтобы Анна и Иаков были в эти минуты с ней рядом. Потом, уже засыпая, она вдруг поняла, чего она боялась сегодня днем. Это был никакой не «зажим», это было нечто совсем другое, в чем она была пока не совсем уверена, но к чему все более склонялась: это было то же ощущение, которое она испытала во вторник две недели тому назад, — приступ автоматизма. Если бы он случился, когда в руке у нее был скальпель или когда она вшивала новый кусочек сосуда… От этой мысли она даже открыла глаза. Сон исчез, словно вор, застигнутый перед дверью с отмычкой в руках. Она долго лежала не шевелясь, уставившись в темноту и косясь на причудливые тени от мебели: через щель между занавесками снаружи падал серебристый лунный свет и отблески уличных фонарей. Имеет ли она право взять на себя такую ответственность? Все-таки это ведь операция на аорте. Нет, не нужно так мучить себя сомнениями, приступ наверняка больше не повторится. Но какие у нее основания для такой уверенности? Сон вновь подкрался и сморил ее, хотя и ненадолго. Во вторник после успешного похода в кулинарию, обильной трапезы и многочасового расслабления в кресле с хорошей книгой она вновь обрела прежнюю уверенность и принялась со свойственным ей хладнокровием размышлять над предстоящей операцией. В среду Джонни О'Дей чувствовал себя прекрасно, и это было для Джинджер лучшей наградой за годы учебы и тяжелой работы: ведь именно для того она и не щадила себя — чтобы сохранять людям жизнь, облегчать страдания, дарить надежду и счастье. Имплантация сердечного стимулятора завершилась удачно. После этой операции, в которой она ассистировала, Джинджер сделала аортограмму, с помощью специального красителя проверив циркуляцию крови у пациента, а затем они с Джорджем обследовали еще семерых больных, направленных к ним другими врачами. Завершив осмотр, Джордж и Джинджер примерно полчаса просматривали историю болезни Виолы Флетчер — 58-летней пациентки, которую им предстояло оперировать на следующей неделе. Ознакомившись с ее картой, Джинджер решила, что больной лучше лечь в клинику в четверг, чтобы приступить к обследованию, и, если не будет никаких противопоказаний, оперироваться утром в понедельник. К половине седьмого, отработав двенадцатичасовую смену, Джинджер совершенно не ощущала усталости, и уходить домой ей совершенно не хотелось, хотя Джордж Ханнаби уже давно был дома, а ей самой в госпитале делать было, в общем-то, нечего. Но она все еще слонялась по отделению, болтала с больными и наконец перед уходом решила еще разок пробежать карту Виолы Флетчер. В этот час служебное отделение клиники пустовало, и скрип резиновых подошв тапочек Джинджер гулко разносился по коридору, сияющему чисто вымытым кафелем и пахнущему хвойнымидезинфектами. Смотровая и приемная Джорджа Ханнаби, как и другие комнаты, были темны и пусты, и Джинджер не стала включать весь свет, переходя из кабинета в картотеку, а зажгла только одну настольную лампу, отперла своим ключом дверь и через минуту уже держала в руках историю болезни Виолы Флетчер. Удобно устроившись за письменным столом в кожаном кресле, она не спеша перелистывала страницы, когда взгляд ее случайно упал на лежавший поперек полоски света, рядом с зеленым пресс-папье, офтальмоскоп — самый обыкновенный инструмент для осмотра глаз, имеющийся у каждого окулиста. Но у Джинджер вдруг перехватило дыхание. Более того, ее пробил холодный пот, а сердце заколотилось так часто и сильно, что казалось, будто на улице под окном бьют в большой барабан. И, точно как тогда, две недели назад в «Деликатесах от Бернстайна», все вокруг вдруг подернулось туманом и поплыло, и только сверкающий перед глазами инструмент виделся в каждой детальке, в мельчайших подробностях, как черные перчатки на руках мужчины в очках, с которым она столкнулась в дверях магазина. Это был уже не просто инструмент, а ось Вселенной, орудие страшной разрушительной силы. Вскочив на ноги, Джинджер в ужасе бросилась вон из кабинета, подгоняемая звучащим у нее в голове приказом: «Беги, иначе ты умрешь». Жуткий вопль непроизвольно вырвался у нее, словно у до смерти перепуганного ребенка. Едва не перевернув на бегу кресло, она выбежала в пустой коридор и что было сил помчалась по нему, взывая о помощи. Туман внезапно рассеялся. Оглядевшись вокруг, Джинджер обнаружила, что сидит на бетонном полу, забившись в уголок под пожарной лестницей в конце служебного крыла здания, прижавшись спиной к холодной стене и уставившись на голую лампочку, горящую над пролетом в проволочном каркасе. В зловещей тишине она отчетливо слышала звук собственного прерывистого дыхания. Джинджер поежилась: серые стены, пыльный холодный воздух, резкий свет в глаза, полутемные лестничные пролеты, металлические перила — не лучшее место для человека, ищущего поддержки в минуту душевного кризиса, когда так важно увидеть вокруг себя живые лица. Эта мрачная обстановка словно бы отражала ее собственное отчаяние. Но, может быть, это даже и к лучшему, подумалось Джинджер, во всяком случае, никто не видел ее странного поведения. Хотя достаточно уже и того, что она сама об этом знала. Джинджер вновь содрогнулась, но уже не только от страха, все еще не отпускавшего ее, а от холода: ее одежда насквозь промокла от пота и прилипла к телу. Она обтерла рукой лицо, встала, пытаясь сообразить, на каком же она этаже, и решила, что ей следует идти наверх. Звук ее шагов гулко разносился по пролетам. Почему-то ей вдруг подумалось о кладбище. — Мешугене, — вырвалось у нее. Было 27 ноября.
6
Чикаго, ИллинойсПервое воскресное утро декабря выдалось холодным, низкое серое небо сулило снег: к полудню замелькают первые редкие снежинки, а к вечеру весь чумазый город с его грязными окраинами покроется толстым слоем снежной пудры и глазури. Ночью первое место в разговорах всех горожан займет, конечно же, снежная буря — эта тема не оставит равнодушными ни жителей фешенебельного Золотого Берега, ни обитателей трущоб. Да, о снегопаде станут говорить повсюду — за исключением разве что домов прихожан храма Святой Бернадетты, где будут обсуждать возмутительный номер, который выкинул во время заутрени отец Брендан Кронин. Отец Кронин встал в половине шестого утра, помолился, принял душ, побрился, облачился в сутану, надел головной убор, взял требник и вышел без пальто на крыльцо черного хода, где на мгновение задержался, чтобы оглядеться вокруг и полной грудью вдохнуть морозный воздух. Отцу Кронину было тридцать лет, но благодаря своим выразительным зеленым глазам, веснушкам и рыжим волосам выглядел он моложе, хотя и был несколько полноват. Жир, к счастью, не откладывался лишь на середине его туловища, а распределялся равномерно по всему телу — в детстве и юности его дразнили Коротышкой, и эта кличка не отлипала от него вплоть до второго курса семинарии. Каким бы ни было его настроение, отец Кронин почти всегда казался счастливым, чему способствовало ангельское выражение его округлого лица, самой природой не предназначенного для гримас гнева, грусти или печали. В это утро отец Кронин выглядел чрезвычайно довольным собой и миром, хотя и был глубоко взволнован. Он прошел по бетонной дорожке через двор, мимо клумб с кучами замерзшей земли, к ризнице и, отперев дверь, вошел внутрь. Пахло миром, нардом и лимонным маслом, которым полировали дубовые панели и скамьи. Не зажигая света, он подошел к аналою, освещаемому мерцающим рубиновым сиянием лампады, и, склонив голову, мысленно обратился к Богу с просьбой сделать его, отца Кронина, достойным священником. Раньше эти уединенные молитвы наполняли его восторгом в предвкушении мессы, теперь же радость не приходила — вместо нее он ощущал свинцовую пустоту, от которой сжималось сердце и холодело под ложечкой. Сжав кулаки и стиснув зубы, словно он мог заставить себя впасть в состояние духовной приподнятости, отец Кронин вновь и вновь повторял свою мольбу, но желанная благодать так и не снизошла на него. Он обтер одну о другую ладони, прошептал заключительные слова молитвы, положил свой головной убор на аналой и пошел переодеваться к службе. Человек эмоциональный, с натурой художника, он усматривал в красоте обряда образец вселенского порядка, осененный Божьей милостью, и всякий раз, облачаясь в подобающие торжеству одежды, трепетал от сознания отведенной ему роли. Так было всегда, но не сегодня. Равно как и во все последние дни. Сегодня он чувствовал себя не более взволнованным, чем сварщик, надевающий перед работой спецовку. Дело было в том, что четыре месяца назад, в начале августа, отец Брендан Кронин начал утрачивать веру в Бога. Слабый, но не затухающий огонек сомнения исподволь испепелял его убеждения. Потеря веры болезненна для любого священника, но для отца Кронина она была равносильна крушению всей его жизни, ибо ни о чем ином, кроме служения церкви, он даже не помышлял. Выросший в набожной семье, он, однако, стал священником не столько в угоду родителям, сколько по зову сердца, как ни наивно это звучит в наш век агностицизма. И даже теперь, когда вера ушла от него, он продолжал ощущать себя служителем церкви, хотя и чувствовал, что ему с каждым днем все труднее молиться, читать проповеди и утешать страждущих. Натянув стихарь, он надел на шею епитрахиль и уже взялся за ризу, когда дверь в ризницу распахнулась и вбежал мальчик. Он тотчас же включил все электрическое освещение, чего сам отец Кронин сделать не спешил, и бодро воскликнул: — Доброе утро, святой отец! — Доброе утро, Керри, — приветствовал его отец Кронин. — Как поживаешь? Как тебе нравится погодка? — У меня все в порядке, святой отец, — отвечал Керри Макдевит, тряхнув огненно-рыжей шевелюрой и озорно сверкнув такими же зелеными, как у отца Кронина, глазами. — Вот только холодно сегодня на улице, как у ведьмы в… — он замялся. — Что? — вскинул брови отец Кронин. — Как у ведьмы — где? — В холодильнике, — смущенно договорил мальчик. — А в ведьмином холодильнике действительно очень холодно, хочу я вам сказать. В другое время отец Кронин по достоинству оценил бы находчивость и юмор мальчика, но теперь ему было не до шуток и он промолчал. Его молчание было истолковано шутником как осуждение, и он поспешил ретироваться в чулан, где снял пальто, шарф и перчатки и взял с вешалки рясу и стихарь. Даже поцеловав свой наперсный крест, отец Кронин ровным счетом ничего не почувствовал, поправляя перевязь на левой стороне груди: там, где когда-то были радость и вера, осталась лишь холодная, тягостная боль. И пока руки его теребили ленту, мысли вернулись к тем дням, когда он приступал к службе с ощущением переполняющего сердце счастья. До прошлого августа он ни разу не усомнился в правильности своего выбора жизненной стези. Трудолюбивый и способный ученик, он был направлен для завершения образования в Североамериканский колледж в Риме. Вечный город пленил его своей архитектурой, историей и дружелюбием. После ординатуры его приняли в иезуиты, и он еще два года служил в Ватикане помощником монсеньора Джузеппе Орбеллы, главного советника Его Святейшества папы римского по основам веры и составителя его речей. Перед юношей, удостоенным подобной чести, открывались заманчивые перспективы, например работа в канцелярии чикагского кардинала, однако вместо этого отец Кронин попросил выделить ему небольшой приход, где он мог бы служить простым священником. Вот так, после визита к епископу Сантефьоре в Сан-Франциско, старому приятелю монсеньора Орбеллы, и каникул, которые он провел, путешествуя из Сан-Франциско в Чикаго, он и прибыл в свой приход, где с радостью, без сожаления и сомнений приступил к несению обязанностей помощника викария. Сейчас, глядя на Керри Макдевита, бочком входящего в ризницу, отец Кронин с тоской думал о вере, так долго служившей ему утешением и опорой. Вернется ли она к нему вновь или он утратил ее навсегда? Между тем Керри открыл дверь, ведущую из ризницы в алтарь, сделал несколько шагов и обернулся в недоумении: отец Кронин явно колебался, идти ли ему следом. Он смотрел на алтарь и распятие на стене и не мог избавиться от странного чувства, что видит их впервые. Он также не мог объяснить самому себе, почему всегда считал это помещение в глубине церкви священным. Ведь это просто место, не хуже и не лучше любого другого, и, если он сейчас начнет совершать там привычный обряд и литанию, он будет лицемером, обманывающим всех прихожан. Недоумение на веснушчатом лице Керри Макдевита сменилось беспокойством, он бросил взгляд на ряды скамеек, которые Брендану Кронину не было видно, затем вновь посмотрел на священника. «Как я буду совершать литургию, если я больше не верю?» — думал в этот момент Брендан. Но иного выхода у него не оставалось. Держа в левой руке потир, а правой придерживая дискос и покров, он собрался с духом и вступил наконец следом за Керри в алтарь, и на мгновение ему почудилось, что Христос глядит на него с распятия с укором. На раннюю службу собралось, как обычно, не более ста прихожан. Лица их были необычайно бледны и светлы, словно бы Господь вместо обычных верующих прислал депутацию ангелов, дабы стали они свидетелями кощунства впавшего в сомнение священника, осмелившегося служить мессу, несмотря на свое грехопадение. С каждой минутой отчаяние отца Кронина углублялось, и, когда Керри Макдевит переложил требник с престола на амвон, бремя уныния, казалось, вот-вот раздавит его. Он едва шевелил руками от духовного и эмоционального перенапряжения и с невероятным трудом удерживал свое внимание на Евангелии. Лица прихожан теряли четкие очертания, превращаясь в бесформенные пятна, голос отца Кронина сперва дрожал, затем охрип и перешел в шепот. Керри уже не скрывал своего изумления, а паства начинала волноваться, чувствуя, что творится нечто странное. Отца Кронина пробил пот, его трясло, сумрак внутри него сгустился до черноты, и ему казалось, что он стремительно летит в бездонную пропасть. И вот, когда он уже взял в руки святые дары и поднял их, чтобы произнести заветные слова: «Сие есть Тело и Кровь Христовы!», в этот кульминационный момент евхаристии отец Кронин вдруг страшно разозлился — на самого себя за то, что не способен верить, на церковь за то, что она не вооружила его против сомнения, и просто потому, что вся его жизнь вдруг оказалась прожитой впустую, в угоду нелепым мифам. Гнев его забурлил, вспенился, закипел и превратился в пар неистовства, в обжигающие клубы ярости. Нечеловеческий крик вырвался из его груди, и он запустил потиром в распятие. С громким звоном чаша ударилась о стену, разбрызгивая вино, отскочила от нее, стукнулась о статую Пресвятой Девы Марии и с грохотом откатилась под амвон, с которого отец Кронин только что читал Евангелие. Совершенно ошалевший Керри Макдевит едва успел отшатнуться, послышался общий вздох изумления, но все это не остудило пыла отца Кронина: издав еще один истошный вопль, он размахнулся и швырнул хлеб на пол, потом судорожным движением левой руки сорвал с себя епитрахиль, с омерзением отбросил ее и убежал в ризницу. Только там ярость, граничащая с безумием, отпустила его, столь же внезапно, как и обуяла, и отец Кронин замер, не зная, что ему теперь делать. Случилось все это 1 декабря.
7
Лагуна-Бич, КалифорнияВ первое воскресенье декабря Доминик Корвейсис обедал с Паркером Фейном в «Лас-Брайзасе» на открытой веранде за столиком под зонтом от солнца — денек, как, впрочем, и весь этот год, выдался погожим. Щурясь на волны, с мягким рокотом накатывающиеся на берег, и вдыхая сладковатый дурман дикого жасмина, Доминик под резкие крики чаек во всех подробностях поведал Паркеру о своей затянувшейся схватке с лунатизмом. Паркер Фейн был его лучшим другом, единственным человеком в мире, с которым он мог быть откровенным, хотя внешне они были совершенно непохожи. Корвейсис был худощав и строен, Фейн приземист и мускулист, Доминик не носил бороды и регулярно, раз в три недели, посещал парикмахерскую, Паркер же ходил лохматым, с нечесаной бородищей и торчащими бровями — эдакая помесь профессионального борца и битника конца пятидесятых. Писатель мало пил и быстро пьянел, а о неутолимой жажде его друга и способностях по части выпивки ходили легенды. Доминик был по натуре замкнутым человеком и трудно сходился с людьми, Паркер уже спустя час после знакомства держался, словно знал вас всю жизнь. Он давно был богат и популярен в свои пятьдесят лет и никак не мог взять в толк, почему слава и деньги так смущают Доминика, хотя они и пришли к нему лишь совсем недавно, после успеха его «Сумерек в Вавилоне». Доминик пришел на встречу в «Лас-Брайзасе» в мокасинах, свободного покроя темно-коричневых брюках и в сорочке в бежевую клетку с модным воротничком, Паркер же заявился в синих теннисных тапочках, мятых белых джинсах и сине-белой рубахе навыпуск, так что, глядя на них, можно было подумать, что они совершенно случайно встретились у ресторана и решили по такому поводу отобедать вместе, хотя у каждого и были абсолютно иные планы. Но, как бы разительно ни отличались они друг от друга, они довольно быстро подружились, потому что их многое сближало. Оба они были художниками, но не по выбору или склонности, а по призванию, от Бога. Доминик рисовал с помощью слов, Паркер — красками, но оба делали это одинаково умело, с равной степенью требовательности к своим произведениям. Более того, хотя Паркер и заводил друзей быстрее, чем Доминик, каждый из них придавал их дружбе чрезвычайно важное значение и ценил ее. Они познакомились шесть лет назад, когда Паркер на полтора года переселился в Орегон, подыскивая новый материал для пейзажей, которые он писал в своей неповторимой манере, удачно сочетающей символизм и фантазии подсознания. Он также согласился ежемесячно читать лекцию в Портлендском университете, где Доминик преподавал на факультете английского языка и литературы. Сейчас Паркер поглощал кукурузные хлопья с сыром и авокадо в сметанном соусе, грузно навалившись на столик, а Доминик неторопливо посвящал его в свои бессознательные ночные приключения, время от времени отхлебывая из бокала пиво «Негра Модело». Он говорил тихо, хотя в этом и не было особой нужды, поскольку сидевшие за соседними столиками были заняты своими разговорами. Хлопья Доминика не соблазняли, он даже не прикоснулся к ним. Сегодня утром, уже в четвертый раз, он проснулся в гараже, охваченный страхом, и это новое свидетельство его полнейшей неспособности контролировать себя повергло его в полное уныние и начисто лишило аппетита. И даже темное крепкое мексиканское пиво казалось ему сегодня безвкусным пойлом, так что, когда он закончил свою печальную исповедь, бутылка была опустошена им лишь наполовину. В отличие от него Паркер успел выпить уже три двойных коктейля «Жемчужина» и заказать четвертый, что, однако, не притупило бдительности официанта, и, подав очередную порцию спиртного, он поинтересовался, не желают ли господа заказать обед. — Нет-нет! Обедать нам пока рановато, ведь я отведал лишь четыре «Жемчужинки», а сегодня воскресенье, — замахал руками Паркер. — Чем же прикажете нам заниматься после обеда? Слоняться по улицам? Так недолго и угодить в полицию. Да мало ли что еще может случиться! Нет-нет! Чтобы избежать тюрьмы и сохранить свое доброе имя, нам следует приступить к воскресному обеду не ранее трех часов. Лучше принесите нам еще вашего замечательного напитка и порцию кукурузных хлопьев, и побольше соуса, да погорячей. Да прихватите тарелочку зеленого лука, пожалуйста. И бутылочку пива для моего друга, ему нужно расслабиться. — Пива не надо, — перебил его Доминик, — у меня пока есть. — Нет, ты определенно меня пугаешь своей умеренностью, неисправимый пуританин. Нельзя же так долго смаковать пиво, оно ведь, верно, уже совсем теплое! В другой раз Доминик, конечно же, оценил бы все эти забавные шуточки своего друга и не преминул бы, откинувшись на спинку стула, насладиться его экспромтом, но сегодня ему было явно не до шуток. Официант бросился выполнять заказ, а Паркер, словно бы угадав мрачные мысли Доминика, еще больше подался вперед и, бросив взгляд на набежавшую на солнце тучку, вполне серьезно воскликнул: — Хорошо, попытаемся напрячь свои мозги. Почему ты не рассказал мне обо всем этом раньше? Неделю, две тому назад? — Мне было… мне было как-то неудобно, — промямлил Доминик. — Ерунда. Чушь собачья, — нахмурился Паркер. — Давай попытаемся найти этому какое-то объяснение, тогда станет ясно, что делать. Не кажется ли тебе, что причиной всей этой ерунды стал стресс? Что ты переволновался в ожидании выхода в свет романа? — Мне так казалось. Но теперь больше не кажется, — хмыкнул Доминик. — Если бы все объяснялось так просто, я хочу сказать, если бы дело было только в моем беспокойстве за судьбу книги, то разве вылилось бы это в столь необычное, навязчивое, безумное поведение? Ведь я уже блуждаю почти каждую ночь, но если бы все ограничивалось прогулками! А что делать с фокусами, которые я вытворяю во сне? Ведь я даже пытался заколотить гвоздями ставни! Это что — последствие беспокойства о своей карьере? — Возможно, ты и сам не осознаешь, насколько серьезно тебя это тревожит, — возразил Паркер. — Нет, это неубедительно. У меня нет особых оснований беспокоиться о судьбе книги, ведь все идет нормально. И не пытайся убедить меня, что ты всерьез веришь, что это мое беспокойство за «Сумерки» довело меня до полуночных блужданий. Разве я не прав? — Ты прав, — согласился Паркер. — Это не причина. — Ведь я забивался в шкафы и чуланы, чтобы спрятаться. А когда я проснулся в первый раз в гараже за печкой, то со сна мне почудилось, что меня кто-то ищет и непременно убьет, если найдет. А вчера меня разбудил собственный крик. Я кричал: «Не подходи! Не подходи!» А сегодня утром — этот нож… — Нож? — насторожился Паркер. — Ты мне ничего не рассказывал о ноже. — Я снова обнаружил себя утром лежащим за печкой. Опять спрятался туда. И у меня в руках был здоровенный нож, я взял его на кухне, когда спал. — Для самообороны? Но от кого? — На всякий случай… Мало ли кто на меня охотится… — Так кто же, черт побери, на тебя охотится? — Не могу себе представить, — пожал плечами Доминик. — Мне это не нравится, — сказал Паркер. — Ты мог бы пораниться, и серьезно. — Но это не самое страшное, что меня пугает, — заметил Доминик. — Так что же тогда тебя пугает? Доминик оглянулся: никто из сидевших на веранде не проявлял ни к нему, ни к его другу никакого интереса, хотя во время забавного разговора с официантом кое-кто и навострил уши. — Так чего же ты боишься? — повторил свой вопрос Паркер. — Я боюсь… я боюсь зарезать кого-нибудь еще, — выдавил из себя Доминик. — Ты хочешь сказать, что во сне можешь взять нож и пойти кого-нибудь убивать? — с недоверием уточнил Паркер. — Это невозможно. — От волнения он залпом осушил бокал. — Боже мой, что за театральные настроения! К счастью, ты не дошел еще до подобной сентиментальной белиберды в своих романах. Расслабься, мой друг! Ты непохож на убийцу. — Но я и не думал, что стану лунатиком. — Ах, оставь этот бред! Все не так сложно. Ты не сумасшедший, сумасшедшие никогда не признаются в своем безумии. — Мне кажется, мне стоит посоветоваться с психиатром. И обследоваться — на всякий случай… — Обследоваться — согласен. Но выбрось из головы психиатра, это пустая трата времени. У тебя всего лишь расшалились нервы, однако не до такой уж степени. Тем временем официант принес им еще чипсов, соуса, тарелку мелко нарезанного лука, пиво и пятую «Жемчужину» для Паркера. Паркер отодвинул от себя пустой бокал, отхлебнул из полного, опустил горстку кукурузных хлопьев в соус, посыпал сверху зеленым луком и отправил это себе в пасть с чрезвычайно довольным видом, после чего, прожевав, изрек: — Послушай, а не связано ли все это с тем, что стряслось с тобой полтора года назад? — А что со мной стряслось? — вытаращился на него Доминик. — Не прикидывайся, что не понимаешь, о чем я говорю. Когда я познакомился с тобой в Портленде шесть лет назад, ты был просто бледный, запуганный, забитый слизняк. — Слизняк? — Это так, и ты сам это знаешь. Нет, башка у тебя варила, ты был талантлив, но все равно — слизняк. И знаешь почему? Я скажу тебе. У тебя были способности и неплохие мозги, но ты боялся их задействовать. Ты боялся соревнования, неудачи, боялся успеха, вообще — боялся жизни. Ты был готов корпеть в одиночку, тихо-мирно, никем не замеченный. Одевался кое-как, говорил невнятно, боясь привлечь к себе внимание. Ты искал пристанища в ученом мире, потому что там меньше духа соревнования. Клянусь, ты был застенчивым кроликом, забившимся в норку и свернувшимся там калачиком. — В самом деле? Если я был настолько мерзок, какого черта ты вдруг снизошел до дружбы со мной? — Потому, мой тупоголовый олух, что я тебя раскусил. Я разглядел за твоей застенчивостью, за маской апатии и скуки нечто необыкновенное, какую-то изюминку. И это мог сделать только я, как теперь тебе известно. Потому что я вижу то, чего другие не видят. Потому что это дано лишь настоящему художнику: видеть то, чего большинство людей не замечают. — И ты посчитал меня за кролика? — Но ведь это было на самом деле так! Вспомни, как долго ты, например, собирался с духом, чтобы признаться, что пробуешь писать. Три месяца! — Верно, в то время я действительно только пробовал! — Но ведь у тебя все ящики письменного стола были забиты рассказами! Более ста рассказов, и ни один из них ты никуда не предлагал! И не только потому, что ты боялся отказа. Ты боялся еще и признания. Боялся успеха! Сколько времени пришлось мне вдалбливать в твою башку, что нужно послать парочку рассказов куда-нибудь на пробу? — Я не помню. — Зато я прекрасно помню: полгода! Битых шесть месяцев я обхаживал и умолял тебя, требовал и чуть не пинками гнал на почту, чтобы ты отправил в редакцию рассказик. Терпения мне не занимать, но и у меня не раз опускались руки, пока я не вытащил тебя за уши из твоей кроличьей норы. Тут Паркер прервал свой страстный монолог, чтобы с еще большей страстью, граничащей с неприличием, наброситься на кукурузные хлопья. Запив их остатками содержимого своего бокала, он продолжал: — И даже когда твои рассказы начали раскупать, ты хотел на этом остановиться. Мне постоянно приходилось тебя подталкивать. А когда я уехал из Орегона и ты вновь остался один, без присмотра, тебя хватило всего на несколько месяцев. А потом ты снова спрятался в свою нору. Доминик не спорил, потому что художник говорил правду. Вернувшись домой в Лагуна-Бич, Паркер продолжал посылать ему ободряющие письма, часто звонил по телефону, но, видимо, на большом расстоянии все его подбадривания не оказывали на Доминика должного воздействия: тот убедил себя, что писатель из него никудышный и что хватит его не более чем на год, перестал сотрудничать с издателями и быстренько придумал для себя новое убежище вместо норы, из которой Паркер помог ему выкарабкаться. Продолжая по привычке писать рассказы, он прятал их в самый дальний ящик своего письменного стола, даже не помышляя предложить их для публикации. Паркер подбивал его написать роман, но Доминик вбил себе в голову, что на большое произведение у него нет ни таланта, ни усердия, ни силы воли. Он вновь начал жить замкнуто, говорить тихим голосом, движения его обрели прежнюю вкрадчивость. — Но позапрошлым летом все резко переменилось, — сказал Паркер. — Ты вдруг стал рисковать и добился-таки успеха. Как это произошло? Ты никогда мне об этом не говорил. Так что же с тобой все-таки стряслось? Доминик нахмурился, задумавшись над этим вопросом. — Я и сам не знаю, — наконец не очень уверенно произнес он. — Я как-то не думал над этим. В Портлендском университете Корвейсису предстояло пройти аттестационную комиссию. У него возникло предчувствие, что ему откажут в ставке и он окажется не у дел, поскольку чурался активных связей с другими преподавателями и у них, естественно, возникли сомнения в его способности отдаваться своему предмету с надлежащим энтузиазмом. У Доминика хватило здравого смысла, чтобы оценить, чем для него чреват отказ комиссии: в любом другом университете непременно задались бы вопросом, почему его не оставили на постоянной ставке в Портленде. И, охваченный внезапным порывом самоутверждения, он предпринял лихорадочные меры в надежде выскользнуть из-под нависшего над его головой топора аттестационной комиссии до того, как тот опустится: он разослал в несколько организаций в различных западных штатах ходатайства о зачислении его на должность, особо упирая в своем послужном списке на опубликованные рассказы, поскольку это был его единственный козырь. Перечень его публикаций в литературных журналах настолько впечатлил руководство одного небольшого колледжа в штате Юта, что Доминика вызвали из Портленда для собеседования. Тот приложил все усилия, чтобы произвести достойное впечатление, и они увенчались успехом: ему предложили место преподавателя английского языка и литературного мастерства с гарантированным окладом. Он принял предложение если не с огромным удовлетворением, то, во всяком случае, с огромным облегчением. И теперь, на веранде ресторана, ободренный лучами калифорнийского солнца, вновь выглянувшего из-за облаков, Доминик сделал глоток пива, вздохнул и сказал: — Я выехал из Портленда в конце июня, погрузив свои пожитки и книги в автоприцеп. Я чувствовал себя превосходно и Портленд покидал без горечи неудачи, абсолютно ни о чем не сожалея. У меня было чувство… ну, скажем так, словно я начинаю все сначала. Я надеялся, что в Маунтин-Вью мне повезет. Паркер понимающе кивнул: — Ясное дело, ты был на седьмом небе: тебя ожидало теплое местечко в провинциальном колледже, где требования не столь уж и высоки и твою замкнутость расценивали бы как причуду творческой личности. — Прекрасная кроличья нора, не так ли? — Именно так. Так почему же ты не приступил к работе в Маунтин-Вью? — Я же тебе уже говорил… В последний момент, когда я приехал туда в середине июля, мне вдруг стало невмоготу мириться с самой мыслью о прежнем образе жизни. Я устал быть мышью, кроликом. — Но тебе точно так же претила мысль о необеспеченной жизни. Так что же произошло? Что вдруг подтолкнуло тебя на решительный шаг? — Я не знаю. — Но ведь какая-нибудь идея на этот счет у тебя должна быть! — Как это ни странно, я даже не задумывался над этим. Доминик уставился на океан, где около дюжины парусных лодок и большая яхта величественно скользили вдоль берега. — Только теперь я осознал, как удивительно мало я размышлял об этом. Обычно я склонен анализировать свои поступки, но вот об этом — не знаю… — Ага! — воскликнул Паркер. — Так я и думал. Значит, произошедшие с тобой перемены каким-то образом все-таки связаны с твоими теперешними проблемами. Продолжай. Итак, ты сообщил в колледж, что не будешь у них работать. — Они не были от этого в восторге. — И ты снял небольшую квартирку. — Да, жилая комната, кухня и туалет с душем. Но с видом на горы. — И решил жить на свои накопления и писать роман. — У меня не так уж и много было денег на счете. Но я привык жить скромно. — Импульсивное поведение, довольно рискованное. И совершенно не в твоем стиле, — отметил Паркер. — Что же тебя изменило? Почему ты вдруг стал иным? — Мне кажется, это назревало во мне исподволь, а ко времени переселения в Маунтин-Вью неудовлетворение переросло в качественные изменения моего подхода к жизни. Паркер откинулся на спинку стула. — Нет, мой друг, здесь нечто другое. Послушай, ведь ты и сам признаешь, что был счастлив, как свинья в куче дерьма, когда выезжал со своим автофургоном из Портленда. Стабильная работа с приличным заработком, тихое местечко, где тебя никто не знает. Оставалось лишь обустроиться и раствориться в Маунтин-Вью. Но когда ты туда добрался, ты вдруг решил все это поставить на карту ради сомнительного успеха в литературе. Ты переезжаешь в лачугу и обрекаешь себя на жизнь впроголодь. Что же стряслось с тобой во время поездки в Юту? Что выбило тебя из колеи? — Да ничего особенного не случилось, это была самая обычная поездка. — Возможно, но в мозгах у тебя что-то перевернулось. Доминик передернул плечами. — Насколько я помню, я просто отдыхал, наслаждался поездкой, никуда не торопился, смотрел по сторонам… — Амиго! — крикнул официанту Паркер. — Еще бокал для меня и пиво моему другу. — Нет-нет, — попытался возражать Доминик. — Я… — Ты не допил еще то пиво, я знаю, — прервал его Паркер. — Но тебе придется допить его и выпить еще, ты постепенно расслабишься, и мы докопаемся до причины твоих ночных прогулок. Ты знаешь, почему я в этом так уверен? Я тебе объясню. Невозможно дважды за два года так резко меняться без видимых причин. Они должны обязательно быть, причины перелома в твоем характере. — Я бы не стал называть это переломом, — поморщился Доминик. — В самом деле? — подался всем корпусом вперед Паркер. — Ты действительно не считаешь это переломом? — Ну, в общем-то, да. Пожалуй, можно сказать и так, — согласился Доминик. — Произошел перелом.
* * *
Друзья еще долго сидели в тот день в «Лас-Брайзасе», но так и не пришли к окончательному решению. И, ложась спать, Доминик с ужасом думал, где он проснется на следующее утро. А утром он проснулся от собственного дикого крика и обнаружил, что находится в полной, жуткой темноте. Что-то держало его, что-то холодное, липкое и живое. Он отчаянно замахал руками, чтобы освободиться, вырваться из удушающей темноты, пополз на четвереньках и ударился головой о стену. Помещение дрожало от громоподобных ударов и ужасных криков, слившихся в невыносимую, парализующую волю какофонию, источник которой он не мог определить. Он пополз вдоль плинтуса, пока не нащупал угол, прижался к нему спиной и уставился в темноту, ожидая нападения липкого страшного создания. Что было вместе с ним в комнате? Шум нарастал: выкрики, удары, грохот становились все громче. Еще не проснувшийся окончательно, оглушенный непонятным шумом и парализованный страхом, Доминик был уверен, что то, что его преследовало и от чего он пытался спрятаться в чуланах и гардеробах, наконец добралось до него. Развязка наступила. — Дом! — услышал он из темноты чей-то крик: кто-то звал его по имени, и довольно настойчиво: — Доминик! Ты меня слышишь? Раздался еще один страшный удар, затем треск дерева. Забившись в угол, Доминик наконец окончательно проснулся и понял, что липкое существо ему всего лишь приснилось. Он также узнал голос, звавший его из темноты, — голос Паркера Фейна. Паническое состояние прошло, однако удары — вполне реальные — продолжали сотрясать помещение, пока не слились в сплошной грохот, который вылился в треск сломанной двери, она распахнулась, и в проем хлынул свет. Прищурившись, Доминик увидел в дверном проеме силуэт Паркера — огромный и неуклюжий, словно сказочный тролль, он озадаченно озирался по сторонам, пытаясь разглядеть хозяина дома среди валявшейся на полу спальни мебели. — Доминик, дружище, ты жив? — спросил он, продолжая рассматривать руины баррикады, возведенной Домиником этой ночью: перевернутый столик, два торшера, кресло — все это теперь наглядно свидетельствовало о большой работе, проделанной писателем во сне. — Дружище, с тобой все в порядке? — входя в спальню, спросил Паркер. — Ты кричал, было слышно с улицы. — Мне что-то приснилось, — прохрипел Доминик. — Нечто потрясающее, полагаю, — мрачно пошутил Паркер. — Я не помню, — оставаясь на полу в углу комнаты, сказал Доминик, не в силах пошевелиться. — Но как ты здесь оказался? — Разве ты не помнишь? — растерянно заморгал Паркер. — Ты же сам позвонил мне и попросил о помощи. Ты кричал, что они уже здесь и вот-вот доберутся до тебя. Потом ты повесил трубку. Доминик готов был от стыда провалиться сквозь землю. — Значит, ты звонил мне во сне, — сообразил художник. — Я так и подумал. Голос у тебя был какой-то особенный. Я хотел было вызвать полицию, но потом заподозрил, что на тебя опять нашло, и решил не предавать это огласке. — Я не контролирую себя, Паркер, — простонал Доминик. — Со мной что-то происходит… — Довольно с меня этой чепухи, не хочу больше ничего слушать, — замахал руками Паркер. Доминик чувствовал себя беспомощным младенцем. Еще немного, и он готов был расплакаться. Он прикусил язык, сдерживая слезы, прокашлялся и спросил: — Который час? — Пятый. Сейчас еще ночь. Паркер посмотрел на окно и помрачнел. Перехватив его взгляд, Доминик увидел, что шторы плотно задернуты, а к окну придвинут комод. Да, потрудился он во сне на славу. — Бог мой, — воскликнул Паркер, явно впечатленный этой картиной, — а вот это уже никуда не годится, — повторил он, разглядывая уже кровать. Держась за стену, Доминик не без труда поднялся с пола и тоже взглянул на то, что так смутило художника. Однако то, что он увидел, заставило его пожалеть, что он не остался сидеть. На кровати был разложен целый арсенал: пистолет 22-го калибра, который он обычно держал в тумбочке, нож для рубки мяса, еще два длинных ножа, топорик, молоток и колун, который, насколько Доминик помнил, всегда хранился в гараже. — Чего ты ждал? — поинтересовался Паркер. — Вторжения русских? Что тебя так напугало? — Я не знаю. Какой-то кошмар, — пролепетал Доминик. — Так что же тебе снится такое страшное? — Я не помню. — Совершенно ничего не помнишь? — Нет, — ответил Доминик, вздрагивая. Паркер подошел и положил руку ему на плечо. — Прими душ и оденься, а я пока приготовлю что-нибудь на завтрак. Хорошо? И знаешь, мне кажется, надо сегодня же навестить твоего врача. Мне думается, ему стоит еще раз осмотреть тебя. Доминик кивнул головой. Было 2 декабря.Глава 2 2 декабря — 16 декабря
1
Бостон, МассачусетсВиола Флетчер, 58-летняя учительница начальной школы, мать двоих дочерей, преданная мужу жена, хохотушка с заразительным смехом, лежала молча и неподвижно на операционном столе, без сознания, доверив жизнь доктору Джинджер Вайс. Это был кульминационный момент всей жизни Джинджер: впервые она сама была в роли главного хирурга в серьезной операции. А до этого были горы кропотливой упорной учебы, полные надежд, и теперь она в полной мере осознала, какой долгий проделан ею путь. И при всем при том у нее замирало сердце от страха. Миссис Флетчер сделали анестезию и обернули прохладной зеленой материей. Обнаженной осталась только часть торса, на которой предстояло оперировать: она была уже протерта йодом. Даже лицо было закрыто, чтобы избежать попадания бактерий на оперируемый участок тела. Это также определенным образом исключало личностный момент и сберегало нервы хирурга, избавляя его от зрелища лица, искаженного болью или, упаси Бог, смертью. Справа от Джинджер стояла хирургическая сестра Агата Тэнди, готовая в нужный момент подать тампон, скальпель, ланцет или пинцет. Слева готовились к операции еще три сестры и анестезиолог со своей ассистенткой. Джордж Ханнаби стоял по другую сторону стола, похожий больше не на хирурга, а на бывшую звезду футбольной команды, ветерана-защитника. Однажды его жена Рита уговорила его сыграть комедийную роль в благотворительном спектакле для пациентов, и он выглядел весьма правдоподобно в охотничьих сапогах, джинсах и красной рубахе в клетку. От него веяло покоем и уверенностью знатока своего дела, что было особенно важно. Джинджер протянула правую руку. Агата вложила в нее скальпель, сверкнувший тонким, как бритва, острием. Прежде чем сделать надрез, Джинджер глубоко вздохнула. Магнитофон Джорджа стоял на обычном месте, из его динамиков лилась музыка Баха. А Джинджер думала об офтальмоскопе и блестящих черных перчатках… Но как бы ни напугали ее те два случая, они не лишили молодого врача уверенности в себе. Она чувствовала себя превосходно: была полна сил, собранности и энергии. Заметь Джинджер малейший симптом помрачения сознания, она отменила бы операцию. С другой стороны, она не намеревалась жертвовать своим будущим и перечеркивать весь пройденный путь из-за двух истерических припадков на почве переутомления. Все будет прекрасно, говорила она себе, просто замечательно. Настенные часы показывали сорок две минуты восьмого. Пора. Доктор Вайс сделала первый надрез. С помощью зажимов и пинцета она проникла глубже, раздвигая кожу, жир и мускулы, в центр брюшной полости пациентки и стала расширять надрез, действуя умело и решительно. Сестры тем временем осторожно придерживали стенки брюшины. Агата Тэнди подцепила гигроскопическую салфетку и быстро протерла лоб Джинджер, стараясь не задеть линзы хирургических очков. Глаза Джорджа сощурились в улыбке: уж он-то почти никогда не потел. В паузах между концертами Баха в тишине, зависшей в операционной, слышался лишь звук работы аппарата искусственного дыхания. Сама же пациентка не могла дышать, поскольку ей ввели мышечный релаксант, изготовленный на основе яда кураре. Механические звуки аппарата раздражали Джинджер, мешая ей окончательно подавить в себе тревогу. В другие дни, когда оперировал Джордж, шума было гораздо больше. Джордж обменивался колкими шуточками с сестрами и ассистентами, и его добродушное подтрунивание смягчало напряжение, не отвлекая, однако, внимания от жизненно важных манипуляций. У Джинджер не было подобного дара, ей было не дано одновременно играть в баскетбол, жевать резинку и решать сложную математическую задачу. Закончив проникновение в живот, она ощупала толстую кишку и определила, что с той все в порядке. Затем влажными марлевыми салфетками, поданными Агатой, она обложила кишечник и, подцепив кишки специальными крючками, вынула их и передала сестрам, обнажив аорту — магистральный канал кровеносной системы человека. Грудная аорта переходит в брюшную через диафрагму параллельно позвоночнику и разветвляется на уровне четвертого поясничного позвонка на две крупные подвздошные артерии, ведущие к бедренным. — Вот оно — расширение, — сказала Джинджер. — Как на снимке. — Она кивнула на снимок, закрепленный на подсвечиваемом экране на стене возле стола. — Аневризма аорты — как раз над местом деления. Агата промокнула ей салфеткой лоб. Аневризма — слабость стенки аорты — стала причиной выпячивания стенки артерии и образования мешочков, наполненных кровью, что затрудняло глотание и дыхание, вызывало кашель и боли в груди. В случае же разрыва разбухшего сосуда немедленно наступила бы смерть пациентки. Пока Джинджер смотрела на пульсирующие мешочки с кровью, ее охватило почти благоговейное чувство соприкосновения с тайной, глубокий трепет перед областью мистического, неземного, где перед ней вот-вот раскроется смысл бытия. Это ощущение своего могущества, превосходства возникло от осознания возможной победы над смертью. Смерть затаилась в теле пациентки в виде пульсирующей аневризмы, темного бутона, готового распуститься, но у нее, Джинджер, хватало знаний и навыков, чтобы предотвратить эту беду. Агата Тэнди извлекла из стерильной упаковки кусочек искусственной аорты — толстой ребристой трубки, разветвляющейся на два отростка меньшего размера — ветви подвздошной артерии, Джинджер примерила протез к ране, обрезала по размеру маленькими ножницами и вернула ассистентке. Агата положила белый дакроновый протез в ванночку с небольшим количеством крови пациентки, где ему надлежало хорошенько намокнуть, — лишь после этого хирург сможет приступать к пересадке на место пораженного участка: тонкий слой свернувшейся крови предотвратит фильтрацию, и, когда после вживления устойчивый поток крови образует неоинтиму, искусственный сосуд будет служить не хуже настоящей артерии. Более того, он по своим качествам превзойдет естественный, ибо даже пять сотен лет спустя, когда от Виолы Флетчер не останется ничего, кроме праха, дакроновый протез аорты останется гибким, целым и невредимым. Но до того, как пришить протез, хирургу предстояло еще раз пропустить через него кровь, зажать, слегка просушить, а потом хорошенько прокачать сильным напором крови. Агата еще раз промокнула Джинджер лоб. — Как самочувствие? — спросил Джордж. — Прекрасное. — Нервничаете? — Не очень, — солгала она. — Наблюдать за вашей работой — истинное удовольствие, доктор, — сказал Джордж. — Присоединяюсь, — заметила одна из ассистенток. — И я тоже, — подхватила другая сестра. — Благодарю, — ответила Джинджер, польщенная и смущенная. — Вы оперируете весьма изящно, легко, — продолжал Джордж. — У вас твердая рука и зоркий глаз, а эти качества, скажу я вам, весьма, к сожалению, редкие в нашей среде. Боже, сам Джордж Ханнаби гордится ею! Джинджер знала, что он не способен на ложный комплимент. У нее даже потеплело на сердце. При других обстоятельствах, пожалуй, она не сдержала бы слез умиления, но сейчас, в операционной, нужно было держать себя в руках. Однако уже сам наплыв эмоций навел на мысль о том, насколько прочно Джордж Ханнаби занял в ее жизни место отца: его похвала значила для нее не меньше, чем похвала самого Иакова Вайса! Настроение Джинджер существенно поднялось. Страх перед внезапным приступом совершенно поблек, уступив место уверенности в успехе операции. Методично ставя зажимы и специальные петли там, где это необходимо, она ограничила приток крови к ногам пациентки, и уже спустя час опасная имитация сердца в месте расширения аорты прекратилась. Миниатюрным скальпелем проколов мешочки с кровью, Джинджер вскрыла аорту вдоль передней стенки. С этого момента пациентка стала уже полностью беспомощна и зависима лишь от мастерства хирурга. Путь назад был отрезан. Действовать следовало предельно собранно и быстро. Вся бригада словно воды набрала в рот. Пленка на кассете кончилась, но никто не двинулся с места, чтобы перевернуть ее. Слышно было лишь мерное хлюпанье и посапывание аппарата искусственного дыхания и короткое «бип-бип» электрокардиографа. Джинджер взяла из ванночки с кровью дакроновый протез и прочнейшей ниткой пришила верхний его сегмент к стволу аорты. Затем, не пришивая нижнюю часть искусственного сосуда, она наполнила протез кровью, чтобы образовался еще слой свернувшейся крови. Теперь, проделывая все эти операции, она уже не потела, и это наверняка не ускользнуло от внимания Джорджа. Одна из сестер переставила кассету с музыкой Баха, видимо, сочтя, что время для этого наступило. Впереди еще были часы напряженнейшей работы, но Джинджер не чувствовала ни малейшей усталости. Она переместилась к бедрам пациентки и, откинув покрывавшую их зеленую материю, обнажила ноги до колен. Тем временем Агата уже подготовила все необходимое для вскрытия сосудов ниже паховых складок, в месте соединения бедренных и подвздошных артерий. Зажимая и перевязывая сосуды, Джинджер в конце концов добралась до бедренных артерий и, как и раньше, воспользовалась тонкими гибкими трубками и различными зажимами, чтобы перекрыть кровоток через эти ответвления сосудов, вскрыть обе артерии и сшить с отростками протеза. Несколько раз она даже ловила себя на мысли, что вся эта легкость, с которой она проделывает сложнейшие манипуляции под музыку Баха, вовсе не случайна, что она и в своих предыдущих жизнях была врачом, а теперь вновь перевоплотилась, чтобы войти в высший совет избранных целителей. Однако ей следовало бы не забывать любимые афоризмы своего отца, крохи мудрости, которые он с любовью собирал и которые, со свойственным ему тактом, внушал дочери, когда та позволяла себе шалость или была легкомысленна не в меру, забывая о возлагаемых на нее надеждах. Среди его любимых мудрых изречений были, конечно же, такие, как «Время никого не ждет», «На Бога надейся, а сам не плошай», «Сбереженный грош — все равно что заработанный», «Не таи зла на ближнего», «Не судите, и не судимы будете» и так далее. У него в запасе было множество афоризмов, но самым его любимым и наиболее часто звучащим в доме был следующий: «Гордый покичился да во прах скатился». Ей следовало помнить эти шесть слов. Но операция протекала настолько успешно и она была так довольна своей работой, так горда этим своим первым самостоятельным действом, что, подобно самонадеянному птенцу, впервые взмахнувшему крылышком, забыла о неизбежном падении. Она выпустила кровь из нижней части протеза, сняв зажим, и ввела отростки в отверстия, сделанные в бедренных артериях. Потом она сшила края, сняла зажимы с перекрытых сосудов и с видимым удовольствием стала смотреть, как по заплатанной аорте пошла кровь. Минут двадцать ушло на мелкую штопку утечек, еще пять — на проверку работы протеза, после чего она с удовлетворением воскликнула: — Можно заканчивать. — Прекрасная работа! — сказал Джордж. Джинджер была рада, что на ней хирургическая маска, скрывающая ее широкую улыбку счастливой идиотки. Она зашила разрезы на ногах пациентки. Потом взяла у совершенно обессиленных ассистенток кишки, которые те уже готовы были уронить вместе с крючками, поместила внутренности назад в тело и еще раз проверила, нет ли каких-либо отклонений от нормы, однако ничего не обнаружила. Остальное было уже несложно: уложить на место жир и мускулы, слой за слоем, и зашить прочным черным кордом. Ассистентка анестезиолога сняла покров с головы Виолы Флетчер. Анестезиолог снял ленту с ее глаз и отсоединил наркоз. Одна из сестер выключила магнитофон. Джинджер взглянула на лицо пациентки — оно было бледным, но уже не таким измученным, как раньше. Маска для искусственного дыхания все еще была на ней, но теперь больная получала только кислородную смесь. Сестры начали стягивать с рук резиновые перчатки. Веки Виолы Флетчер дрогнули, и она застонала. — Миссис Флетчер? — громко произнес анестезиолог. Пациентка не отзывалась. — Виола? — позвала Джинджер. — Вы меня слышите? Виола? Глаза женщины остались закрытыми, она все еще не проснулась, но губы зашевелились, и она едва слышно прошептала: — Да, доктор. Джинджер приняла поздравления и вместе с Джорджем вышла из операционной. Пока они стягивали перчатки, снимали маски, развязывали завязки на шапочках, она чувствовала себя так, словно была наполнена гелием и вот-вот взлетит, вопреки земному тяготению. Но с каждым шагом в направлении умывальников жизнерадостность оставляла ее, сменяясь чувством усталости. Появилась боль в шее и в плечах, заломило в спине, ноги налились свинцом. — Боже, да меня пошатывает! — Ничего удивительного, — сказал Джордж, — ведь вы начали в половине восьмого, а сейчас уже полдень. Операция на аорте чертовски выматывает. — У вас тоже такое состояние после нее? — Конечно. — Но усталость навалилась так внезапно… В операционной я чувствовала себя прекрасно, мне казалось, я могла бы продолжать еще несколько часов. — В операционной вы были бесподобны, просто божественны, — с видимым удовольствием польстил ей Джордж, — а боги не устают от своих дел. Вы ведь боролись со смертью и победили ее! Они нагнулись над раковинами и, пустив воду, стали намыливать руки. Джинджер слегка оперлась о раковину и, согнувшись от усталости больше, чем обычно, глядела прямо в отверстие стока, на воду, закручивающуюся в воронку в стальном рукомойнике, и пузырики мыльной пены на ее поверхности, описывающие круг за кругом, круг за кругом и втягиваемые в воронку… На сей раз необъяснимый ужас напал на нее без предупреждения, пронзив даже скорее, чем в кулинарии или в кабинете Джорджа Ханнаби в минувшую среду. Все ее внимание сосредоточилось на отверстии для стока воды в умывальнике, которое вдруг стало расширяться перед ее застывшим взором, словно пасть удава. Выронив из рук мыло, она с визгом отпрянула от раковины, едва не сбив с ног Агату Тэнди и не слыша, что ее окликает Джордж: двери, стены, коридор, все вокруг нее окуталось клубами жуткого пара и затянулось мистическим туманом. Все, кроме стальной раковины, в мгновение ока выросшей до невероятных размеров. Казалось, еще немного — и саму Джинджер засосет в воронку стока вместе с мыльной водой. «Это самый обыкновенный умывальник, самый обыкновенный», — внушала она себе, но ужас сковал волю и рассудок: еще раз вскрикнув, она с жутким воем помчалась прочь от надвигающейся смертельной опасности.
* * *
Снег — вот первое, что Джинджер реально ощутила. Крупные пушистые снежинки плавно, словно парашютики одуванчика, опускались мимо ее лица на землю. Она подняла голову и увидела между громадами старых зданий прямоугольник низкого мглистого неба. Волосы и брови ее тотчас же побелели, снежинки таяли на ресницах и растерянном лице, уже и без того мокром от слез, и она поняла, что тихо плачет. Джинджер поежилась: несмотря на безветрие, было довольно холодно, мороз пощипывал щеки и подбородок, а руки уже почти заиндевели. Холод проник под ее зеленый больничный халатик, и ее всю просто трясло. Тут она огляделась кругом и обнаружила, что сидит на леденящем бетоне, прижавшись спиной к холодной как лед кирпичной стене, обхватив колени руками, — в типичном положении запуганного насмерть беззащитного существа. С каждой секундой ей становилось все холоднее, но у нее напрочь пропали сила и воля, чтобы встать. Затем Джинджер вспомнила испугавший ее умывальник с жутким сточным отверстием, охвативший ее панический страх, свое нечаянное столкновение с Агатой Тэнди и удивленное выражение лица Джорджа Ханнаби, обернувшегося на ее крик, и ее охватило отчаяние. После этого она уже ничего вспомнить не смогла, но нетрудно было предположить, что она убегала, как сумасшедшая, спасаясь от мнимой опасности, на виду у своих оторопевших коллег и знаменуя этим неминуемый крах своей карьеры. Девушка сильнее прижалась спиной к кирпичной стене, всем сердцем желая поскорее умереть от холода, не сходя с места. Она сидела в конце широкого проезда, упирающегося в корпуса больничного комплекса. Слева от нее была железная дверь котельной, а за ней — выход с пожарной лестницы. Ей невольно вспомнился мрачный тупик, куда затащил ее незадачливый громила в Нью-Йорке, когда она возвращалась домой после работы в Колумбийском пресвитерианском госпитале. Но в тот раз она была собранна и смогла дать отпор насильнику. Теперь же она уже была не на коне, затравленная неудачница. Какая странная ирония судьбы — оба происшествия случились с ней в довольно схожих местах. Все ее труды, все долгие годы упорного овладения тайнами и искусством Эскулапа, все надежды и мечты в один миг рухнули. В последнюю, решающую минуту она подвела Джорджа, возлагавшего на нее как на хирурга большие надежды, подвела своих родителей и себя самое. Отрицать очевидное было уже нельзя: с ней что-то случилось, произошло нечто страшное, полностью исключающее дальнейшую врачебную карьеру. Что же это, психоз? Опухоль мозга? Склероз? Дверь пожарной лестницы внезапно распахнулась, резко скрипя и скрежеща несмазанными петлями, и, тяжело дыша, на улицу вывалился Джордж Ханнаби. Не обращая внимания на снег, покрывший скользкую мостовую тонким обманчивым слоем, он сделал несколько шагов по проулку и замер, потрясенный видом сидевшей на корточках Джинджер с открытым от изумления ртом. Ей подумалось, что он уже сожалеет о затраченном на нее времени и дополнительном внимании: ведь он считал ее талантливой ученицей, достойной этого, а она не оправдала его надежд. Джордж был так добр к ней, так верил в нее, а она предала его, пусть и невольно, но ведь предала! От этой мысли Джинджер еще горше расплакалась. — Джинджер? — с дрожью в голосе окликнул ее он. — Джинджер, что стряслось? В ответ она разрыдалась. Лучше бы он ушел, думала она, глядя на расплывающиеся контуры растерявшегося Джорджа, лучше бы он оставил ее наедине с ее позором. Разве доктор Ханнаби не понимает, как ей тяжело осознавать, что он видит ее в таком состоянии? Снег между тем повалил еще гуще. В дверном проеме пожарной лестницы возникли еще какие-то человеческие фигуры, но Джинджер не могла их разглядеть из-за слез. — Джинджер, пожалуйста, не молчи, — подойдя ближе, сказал Джордж. — Что случилось? Скажи мне. Объясни, чем я могу помочь. Она прикусила губу, пытаясь подавить слезы, но вместо этого зарыдала пуще прежнего. — Со мной что-то происходит, — наконец выдавила она из себя тоненьким голоском, лишний раз подтверждающим ее слабость. — Но что? — склонившись над ней, переспросил Ханнаби. — Ты можешь объяснить? — Я не знаю. Она всегда контролировала себя и обходилась без посторонней помощи. Потому что она была Джинджер Вайс, не такой, как другие. Она была золотой девочкой. И она не знала, как просить о помощи в подобной ситуации. — Как бы то ни было, — продолжал Джордж, все еще склоняясь над ней, — мы можем это исправить. Я понимаю, что ты необыкновенная гордячка, ты слышишь меня, детка? Я всегда берег твои чувства и не навязывал своего мнения или помощи, потому что щадил твою гордость. Ты все привыкла делать самостоятельно. Но на этот раз ты не справишься одна, и тебе не нужно этого делать. Я с тобой, и, ради бога, обопрись на мое плечо, нравится тебе это или нет. Ты слышишь меня? — Я… я все испортила. Я вас разочаровала, — простонала Джинджер. Джордж слегка улыбнулся. — Ни в коей мере, дорогая моя, ни в коей мере. У нас с Ритой были одни сыновья, но, если бы родилась дочь, мы бы хотели видеть ее именно такой, как ты. Ты не обычная женщина, Джинджер, ты доктор Вайс, очень дорогой для меня человек. Ты думаешь, что разочаровала меня? Это невозможно. Я сочту за честь, если ты обопрешься сейчас на меня, как если бы ты была мне родной дочерью. Так что позволь уж мне помочь тебе, как родному отцу, которого ты так рано потеряла. — И он протянул ей свою руку. Она с радостью ухватилась за нее и, опершись, встала. Было 2 декабря, понедельник. Пройдет еще много недель, прежде чем она узнает, что другие люди в других местах — все незнакомые ей — пережили в этот день нечто подобное кошмару, случившемуся с ней.2
Трентон, Нью-ДжерсиЗа несколько минут до полуночи Джек Твист открыл дверь, вышел из пакгауза в дождь и слякоть и увидел, как кто-то вылезает из серого грузового «Форда» возле ближайшего к нему пандуса. Фургон подъехал аккурат в момент, когда мимо грохотал товарняк. Вокруг было темно, хоть глаз выколи, если не считать блеклого света грязных лампочек сигнализации. Как назло, одна из них горела прямо над дверью, из которой вышел Джек, и незваному гостю его было хорошо видно. У спрыгнувшего из кабины грузовика парня лицо было — ни дать ни взять — как у персонажа детективного фильма: тяжелый подбородок, рот щелочкой, перебитый нос и поросячьи глазки. Это был один из исполнительных безжалостных садистов, которым в бандах отводилась роль боевиков; при других обстоятельствах этот тип мог бы служить насильником и грабителем в орде Чингисхана, ухмыляющимся головорезом у нацистов, мастером заплечных дел в сталинских лагерях, короче говоря, он весьма походил на морлока — зловещего пришельца из будущего, изображенного Гербертом Уэллсом в «Машине времени». Встреча с ним не предвещала Джеку ничего хорошего. Они уставились друг на друга, и Джек совершил промах: промедлил и не всадил в этого ублюдка пулю из своего пистолета 38-го калибра. — Ты кто такой? — спросил «морлок», но, увидев в левой руке Джека мешок, а в правой — пистолет, крикнул, вскинув от удивления брови: — Макс! Макс был, вероятно, водителем грузовика, но Джек не стал дожидаться, пока ему этого типа представят: повернувшись на сто восемьдесят градусов, он шмыгнул в пакгауз и захлопнул за собой дверь, тотчас отойдя в сторону — на случай, если кому-то из гостей вздумалось бы использовать ее в качестве мишени. Помещение склада освещалось лишь светом из конторы, располагавшейся в дальнем конце здания, да редкими лампочками в жестяных колпаках, тускло горевшими всю ночь на потолке. Но Джеку и не требовалось специального освещения, чтобы рассмотреть выражение физиономий своих компаньонов — Морта Герша и Томми Санга: они не выглядели уже столь же счастливыми, как всего пару минут назад. А были они в прекрасном расположении духа потому, что им удалось нанести удачный удар по главному перевалочному пункту на маршруте по перевозке денег, а именно — месту, куда стекались доллары от сбыта наркотиков более чем с половины штата Нью-Джерси. По воскресеньям и понедельникам курьеры доставляли сюда в чемоданах, сумках и коробках наличные деньги, а по вторникам бухгалтеры-мафиози в костюмах от Пьера Кардена приезжали подсчитывать выручку за неделю. Каждую среду чемоданчики, набитые пачками банкнотов, отправлялись в Майами, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и в другие центры большого бизнеса, чтобы эксперты по капиталовложению с дипломами Гарварда — доверенные лица мафии, или братства, — вложили их в выгодное дело. Джек, Морт и Томми просто-напросто встряли между бухгалтерией и советниками по капиталовложению и умыкнули четыре тяжелых мешка наличных. — Считайте, что мы одно из звеньев цепи посредников, — сказал Джек троим разъяренным охранникам, которые все еще лежали связанными в конторе склада. Морт и Томми при этих словах рассмеялись. Но сейчас Морту было не до смеха. В свои пятьдесят лет он уже облысел, обзавелся брюшком и ссутулился. На нем был темный костюм, серое пальто и шляпа с загнутыми полями — он всегда носил этот костюм и шляпу, даже когда и не надевал пальто. Во всяком случае, в другом наряде Джек его никогда не видел. Сегодня Джек и Том были в джинсах и стеганых виниловых куртках, и Морт по сравнению с ними выглядел довольно забавно, как персонаж массовки из старого фильма Эдуарда Робинсона. Поля его шляпы заметно пообвисли и помялись, как и сам Морт, а костюмчик пообтерся. — Кто это там снаружи? — хрипло и резко спросил он, когда Джек влетел назад и захлопнул за собой дверь. — По меньшей мере двое парней на фордовском фургоне, — ответил Джек. — Братва? — Я видел только одного из них, — сказал Джек. — Но вид у него, как у одного из неудавшихся страшилищ доктора Франкенштейна. — По крайней мере все двери заперты. — У них наверняка есть ключи. Все трое быстренько отошли от выхода подальше в тень, в проход между штабелями деревянных клетей и картонных ящиков, установленных на поддонах. За грузами можно было укрыться, как за стеной в двадцать футов высотой, склад был огромный, набитый сотнями телевизоров, микроволновых печей, смесителей, тостеров, ящиков запасных частей и деталей, и все это надежно хранилось в чистом помещении под хорошей охраной, но, как и в любом другом промышленном здании, ночью, когда работы не велись, здесь было жутковато. Странные приглушенные звуки блуждали между штабелями товаров, а все усиливающаяся дробь дождя по крыше и завывание ветра лишь усугубляли жутковатое ощущение, будто множество неизвестных созданий просачивается между стропилами и балками внутрь. — Я ведь говорил, что не нужно связываться с братвой, — сказал Томми Санг — американец китайского происхождения лет тридцати, на семь лет моложе Джека. — Ювелирные магазины, бронированные автомобили, даже банки — пусть, но только не мафия, упаси бог. Это ведь тупо — связываться с братвой, это все равно что заявиться в бар, полный морских пехотинцев, и плюнуть на флаг. — Однако ты здесь, — огрызнулся Джек. — Ну допустим, — согласился Томми. — Я не всегда хорошо соображаю. — Если фургон объявляется в такой час, — обреченным голосом произнес Морт, — это означает одно: они возят какое-то дерьмо, возможно, кокаин или травку. А что из этого следует? Да то, что это не только водитель и горилла, которую ты видел. С ними наверняка еще двое ребятишек с автоматами «узи», а то и с чем-нибудь похлеще. — Тогда почему они до сих пор не стреляют? — спросил Томми. — Они думают, что нас здесь не меньше десятка и у нас базуки. Так что они будут действовать осторожно, — пояснил Джек. — Если они перевозят наркоту, у них должна быть рация. Они уже вызвали подмогу, это уж точно, — сказал Морт. — Ты хочешь сказать, что у мафии целый парк радиофицированных фургонов, как у телефонной компании? — поинтересовался Томми. — Теперь у них все есть, как в любой порядочной фирме, — буркнул Морт. Они прислушались, надеясь уловить шум какой-то беготни вокруг склада, но ничего, кроме звуков дождя со снегом, не услышали. Пистолет в руке Джека показался ему детской игрушкой. У Морта был 9-миллиметровый «смит-вессон» модели М-39, а у Томми «смит-вессон» модели 19, «комбат-магнум», который он засунул под куртку после того, как люди в конторе были надежно связаны и уже казалось, что опасная часть работы позади. Они хорошо вооружились, но не настолько, чтобы противостоять «узи». Джеку вспомнились старые документальные фильмы о вторжении русских танков в Венгрию, когда несчастные венгры пытались сражаться с ними палками и камнями. У Джека Твиста вообще проявлялась склонность к мелодраматичности, стоило ему попасть в переплет, и всякий раз, как бы ни складывалась ситуация, он воображал себя благородным беззащитным существом, бросающим вызов силам зла. Он знал за собой эту слабость, но полагал ее одним из своих положительных качеств. Сейчас же, тем не менее, они висели на волоске, и мелодраматизировать свое положение уже не было смысла. Видимо, Морт подумал так же, потому что сказал: — Нечего и пытаться прорваться через черный ход, они уже наверняка разделились и пасут нас у обеих дверей. Выходов и в самом деле было только два — обычный и для погрузочно-разгрузочных работ. А кроме них, не было ни окон, ни вентиляционных отверстий, ни боковых дверей, ни подвала и, следовательно, выхода через него, ни чердачного люка. Готовясь к ограблению, они хорошо изучили подробный план здания и теперь знали, что попали в ловушку. — Что будем делать? — спросил Томми. Вопрос был адресован не Морту, а Джеку Твисту, потому что именно он всегда был организатором. И, если требовалось принимать какое-то решение по ходу ограбления, от него же и должны были поступать гениальные идеи. — Эй, — оживился Томми, вдруг решив взять эту роль на себя, — а почему бы нам не выбраться отсюда так же, как, мы сюда и вошли? А попали они в склад, использовав опыт троянцев, иначе им было бы не пройти изощреннейшую систему охраны. Пакгауз был прикрытием торговли наркотиками, но одновременно он все-таки функционировал как весьма рентабельное предприятие, куда регулярно доставлялись товары от легальных фирм и учреждений, нуждавшихся в складских услугах. Поэтому с помощью своего персонального компьютера и модема Джек проник в компьютерную систему склада и одной из пользующихся им солидных фирм и составил специальный «электронный пропуск», позволивший официально доставить сюда большой контейнер — он прибыл сегодня утром и был размещен согласно инструкции. Внутри контейнера находилась наша смекалистая троица, а сам он был устроен таким образом, чтобы из него можно было выбраться даже в случае, если его заблокируют с четырех сторон другими ящиками. И спустя несколько минут после одиннадцати вечера все трое вылезли наружу и очень удивили крутых ребят в конторе, уверенных, что охранная сигнализация и запертые двери обеспечивают складу неприступность крепости. — Почему бы нам не забраться назад в контейнер, — продолжал развивать свою гениальную мысль Томми, — и они просто с ума сойдут, пока будут ломать себе голову, как это нам удалось смыться у них из-под носа. А завтра вечером, когда все успокоится, мы сможем выйти через дверь. — Не годится, — хмуро возразил Морт. — Они нас раскусят. Они будут искать, пока не обнаружат нас. — Да, Томми, этот номер не пройдет, — поддержал Морта Джек. — Слушайте, что я вам скажу… — И он изложил свой план побега, который был одобрен. Томми побежал к распределительному щиту в контору, чтобы вырубить весь свет в пакгаузе. Тем временем Джек и Морт потащили мешки с деньгами в южную часть склада под аккомпанемент скрипа парусины о цементный пол, разносимый многократным эхом в холодном воздухе огромного помещения. В этом дальнем углу находились не штабеля товаров, а несколько грузовиков, подлежащих разгрузке в первую очередь на следующее утро и потому оставленных внутри зала. Джек и Морт были еще на полпути к цели, когда тусклые лампочки мигнули и погасли и склад погрузился в темноту. Им пришлось долго ждать, пока Джек наконец включил свой карманный фонарик и можно было идти дальше в полумраке. Вскоре их догнал Томми со своим фонарем и взял один мешок у Морта. Стук дождя и снега по крыше слегка стих, и Джеку показалось, что снаружи проскрипели тормоза автомобиля. Неужели так быстро подоспело подкрепление? Во внутренней погрузочной зоне, кабинами к выездным подъемным воротам, стояли четыре мощных автопоезда. Джек подошел к ближнему из них, бросил свой мешок, залез в кабину и посветил фонариком: ключи были на месте, как он того и ожидал. Уверенные в надежности охранной системы, служащие склада даже не подумали, что ночью кто-то может попытаться угнать машину. Джек и Морт обошли три других автопоезда и, обнаружив в каждом ключи, запустили двигатели. В кабине первого автомобиля за спиной водителя имелась спальная полка для сменщика, и Томми Санг закинул туда все четыре мешка с деньгами. Как только Томми закончил возиться с мешками, Джек сел за руль и выключил свой фонарь. Морт залез в кабину с другой стороны, и Джек включил мотор, не зажигая фар. Теперь работали двигатели всех четырех автопоездов. Томми с фонарем в руке сбегал к самой дальней от их машины подъемной двери и нажал кнопку пуска подъемного механизма. Дверь медленно пошла вверх. Джек внимательно наблюдал за действиями Санга из кабины своего тяжелого грузовика. Тот побежал назад вдоль стены, подсвечивая себе фонариком и нажимая поочередно на все кнопки запуска подъемников дверей. Потом он выключил фонарик и помчался к машине. Все четыре двери медленно поползли вверх со скрежетом и грохотом. Все это, конечно же, не могло остаться незамеченным затаившимися снаружи громилами. Но, не посветив внутрь склада, они не могли определить, через какой выезд намереваются рвануть их противники. Они могли бы, конечно, обстрелять из автоматов все четыре машины, но Джек надеялся выиграть несколько драгоценных секунд, которые им потребуются, чтобы решиться на такой шаг. Томми забрался в кабину автопоезда, захлопнув за собой дверь и бесцеремонно прижав Морта к Джеку. — Ну что же они так медленно, черт бы их побрал, — выругался Морт, впившись взглядом в тяжелые стальные щиты, с грохотом поднимающиеся к потолку. В проемах уже можно было видеть черноту ненастной ночи. — Давай двигай, — бросил Джеку Томми. — Рано, нас может зацепить дверью, — застегивая пояс безопасности, ответил Джек: дверь поднялась лишь на одну треть. Вновь положив обе руки на руль, он всматривался во мглу зимней ночи: в слабом свете от наружных фонарей было видно, как двое вооруженных мужчин, причем один с автоматом, торопливо, стараясь не поскользнуться и остаться незамеченными, перебегают двор в направлении дверей, одна из которых, как раз напротив Джека, поднялась уже до половины проема. К счастью, те двое пробежали мимо. Внезапно слева из-за угла пакгауза, оттуда же, откуда появились двое бандитов, вывернул серый грузовой «Форд», разбрызгивая колесами серебристые брызги снежного месива. Проскочив по скользкому асфальту первый проем, он затормозил напротив третьего и второго, перекрыв выезд. Свет от фар бил как раз в кабину четвертого грузовика, и было видно, что она пуста. Подъемная дверь напротив Джека поднялась на две трети. — Пригнитесь, — скомандовал Джек. Морт и Томми пригнулись как можно ниже, и Джек припал к рулю. Тяжелая подъемная панель поднялась еще не до конца, но был шанс проскочить, если повезет. Джек отпустил тормоз, выжал сцепление и нажал на газ. Когда он включал скорость, те, кто ждал снаружи, уже точно знали, из которого пролета готовится прорыв. Тишину ночи прорезали автоматные очереди. Джек слышал, как пули стучат по машине, когда выезжал во двор, но ни одна не пробила кабину и не повредила стекло. Джек прибавил скорость, вырулив на бетонный спуск, но дорогу впереди попытался перекрыть неизвестно откуда появившийся грузовой «Додж» — подкрепление и в самом деле не заставило себя долго ждать. Джек, однако, нажал не на тормоз, а на газ, успев заметить ужас на лицах сидевших в «Додже», когда многотонный автопоезд врезался в их грузовичок, отбросив его в сторону на пятнадцать-двадцать футов. Ремень безопасности спас Джека, но Морт и Томми ударились о приборную панель и свалились на пол, вскрикнув от боли. Автопоезд стало заносить в направлении упавшего набок «Доджа», и Джек, чертыхаясь, налег на руль с такой силой, что руки, как ему показалось, едва не вылетели из плечевых суставов. Но зато машина вышла из заноса и помчалась прямиком к выезду с территории склада. Теперь дорогу перекрыл темно-голубой «Бьюик», возле которого стояли трое мужчин, двое из них — с автоматами. Очереди прошли выше и ниже лобового стекла, выбив искры из решетки радиатора и сбив одну из труб над кабиной, — она свалилась и зависла на тросах с той стороны, где было место Томми. Стрелки успели разбежаться, прежде чем тяжелая махина, словно танк, протаранила автомобиль, сметая его со своего пути, и понеслась дальше, от одного пакгауза к другому, набирая скорость. Морт и Томми уселись на свои места, оба со следами повреждений: у Морта был до крови разбит нос, а у Томми слегка рассечена правая бровь, однако все это были, в сущности, пустяки. — Почему у нас все всегда выходит боком? — угрюмо спросил Морт, слегка гнусавя. — Пока еще не вышло, — возразил Джек, включая «дворники»: стекло залепило грязью и снегом. — Просто на этот раз нам пришлось немного поволноваться. — Не люблю волноваться, — сказал Морт, прикладывая к носу платок. Взглянув в зеркало, Джек увидел, что из-за пакгауза, принадлежащего мафии, выворачивает грузовой «Форд» — больше его преследовать братве было не на чем: «Додж» и «Бьюик» были выведены из строя. При такой скользкой дороге и его малом опыте управления тяжелым грузовиком надежды оторваться от погони не оставалось. Риск потерять управление был слишком велик. К тому же после столкновения с «Бьюиком» в моторе появились какие-то подозрительные посторонние звуки: что-то звенело, свистело, хрипело, а остановка автопоезда обрекала их на верную гибель в стычке с головорезами. До шоссе не более мили; пока еще они находились на территории промышленной зоны пакгаузов, среди цехов по производству различных видов тары и упаковки. Сейчас дорога, по которой мимо фабрик и заводов шел автопоезд, была пуста, хотя в некоторых цехах и шла работа. Вновь взглянув в боковое зеркало, Джек увидел, что «Форд» у них на хвосте и набирает скорость. Джек резко повернул вправо, на проезд мимо одного из фабричных корпусов. — Куда тебя понесло? — спросил Томми, покосившись на рекламную надпись на здании: «ХАРКРАЙТ: ОСМОТР. МОЙКА. УПАКОВКА». — Нам от них не оторваться, — обеспокоенно произнес Джек. — И не отстреляться, — прогундосил Морт сквозь окровавленный платок. — У нас пистолеты — у них «узи». — Доверьтесь мне, — бросил Джек. Фирма «Осмотр. Мойка. Упаковка» ночью не работала, и здание не было освещено в отличие от окружавшей его дороги и стоянки для грузовых автомобилей, залитых желтым светом натриевых ламп. Позади дома Джек повернул налево, на автостоянку, усыпанную снежной крупой, — при свете ламп она казалась отлитой из золота, а стоявшие на ней без кабин трейлеры смахивали на перепачканных горчицей обезглавленных доисторических животных. Джек развернулся, прижался к задней стене дома, потушил фары и поехал вдоль стены в обратном направлении — к дороге, на которой он пытался оторваться от «Форда». На углу, не выезжая из-за фабрики, он остановил автопоезд под прямым углом к шоссе. — Держитесь! — крикнул он. Морт и Томми уже смекнули, что будет дальше. Упершись ногами в приборную панель и втиснувшись как можно глубже в спинку сиденья, они приготовились к удару. Автопоезд замер, словно кошка перед броском на мышку, в ожидании «Форда», который вот-вот должен был появиться из-за угла: на шоссе уже мерцали отблески его фар. Сияние нарастало, и Джек напрягся, выжидая наилучшего мгновения, чтобы рвануть с места. Вот сияние обрело очертание двух четких параллельных лучей, очень ярких, и Джек нажал на педаль газа — машина рванулась вперед, но все же недостаточно проворно, как-никак это была не легковушка, а огромный грузовик, «Большой Мэк». И мчавшийся с большей скоростью, чем предполагал Джек, менее тяжелый «Форд» проскочил мимо его носа, так что удар пришелся лишь на заднюю часть. Но и этого было достаточно, чтобы «Форд» занесло. Он развернулся на 360 градусов раз, второй и врезался кабиной в один из трейлеров. Джек не сомневался, что после такого удара никто из сидевших в «Форде» уже не выскочит из него и не откроет огонь, но все равно не стал терять понапрасну времени. Развернув свой «Мэк», он погнал его мимо здания фирмы Харкрайта «Осмотр. Мойка. Упаковка» и на перекрестке свернул направо, оставляя позади бандитский пакгауз и двигаясь в направлении въезда на автостоянку со стороны города. За ними никто не гнался. Он миновал бензоколонку, которая, как они заранее выяснили, давно уже бездействовала, проехал мимо бесполезных бензонасосов и припарковал «Мэк» у полуразрушенного строения. Едва машина остановилась, Томми Санг распахнул дверь со своей стороны, спрыгнул на асфальт и исчез в темноте. В понедельник они оставили поблизости грязный, побитый и ржавый «Фольксваген», который, однако, был еще довольно резв на ходу. На этом «кролике» они намеревались добраться до Манхэттена и там расстаться с ним навсегда. Они также припасли на автостоянке «Понтиак» — от него было всего две минуты ходьбы до принадлежащего мафии склада. Но их план уехать с деньгами со склада на «Понтиаке» и потом пересесть на «кролика» провалился, и «Понтиаку» суждено было сгнить там, где они его бросили. Джек и Морт вытащили мешки из автопоезда и поставили их у стены заброшенной станции «Тексако». Их быстро запорашивало снежной крупой. Морт тем временем залез в кабину «Мэка» и протер там все, чего они могли касаться. Джек стоял возле мешков с деньгами, внимательно следя за улицей: вряд ли кто-нибудь из случайных водителей, проезжающих в такую слякоть мимо, заинтересовался бы автопоездом у бензозаправки, но не приведи господь появиться патрульной полицейской машине… Наконец из переулка выехал Томми на «Фольксвагене». Едва он притормозил возле колонок, Морт схватил сразу два мешка и поволок их к машине, скользя и падая. Следом тащил мешки Джек, но уже осторожнее. Когда он добрался до «кролика», Морт уже сидел на заднем сиденье. Джек забросил туда последний мешок, захлопнул дверцу и плюхнулся рядом с Томми. — Бога ради, поезжай медленно и осторожно, — сказал он. — Можешь не сомневаться, — заверил Томми. Колеса прокручивались, скользя по запорошенному асфальту, и машину несколько раз занесло, когда они наконец выбрались на дорогу. — Ну почему каждый раз нам так не везет? — простонал Морт. — Пока везет, — возразил Джек. «Кролик» вдруг вильнул и стал скользить к припаркованному у обочины автомобилю, но Томми вывернул руль и выправил машину. Они, двигаясь еще медленнее, выехали на скоростную дорогу и вскоре на подъеме увидели знак с надписью «НЬЮ-ЙОРК». На вершине подъема, когда колеса еще раз прокрутились в самой критической точке, прежде чем вынести их на ровное шоссе, Морт изрек: — Ну почему они скользят? — Теперь все пойдет нормально до самого города, — успокоил его Томми. — Здесь обычно посыпают дороги солью и шлаком. — Поглядим, — мрачно заметил Морт. — Боже, что за мерзкая выдалась ночка! — Мерзкая? — воскликнул Джек. — Мерзкая ночка? Морт, тебя никогда не примут в члены клуба оптимистов! Послушайте, ведь мы теперь миллионеры! Нам сказочно повезло! Морт от удивления даже заморгал и затряс головой, так что с полей его знаменитой шляпы полетели брызги: — Ну, в общем, это несколько скрашивает картину… Томми Санг рассмеялся. Рассмеялись и Джек с Мортом, и Джек сказал: — Это наш самый крупный удар. И без всяких налогов. Всем вдруг стало очень весело. Они пристроились в хвост к снегоуборочной машине с крутящейся мигалкой и, держась от нее на расстоянии в сотню ярдов, двигались на безопасной скорости, обсуждая самые драматические моменты своего бегства из пакгауза. Позже, когда все успокоились и нервные смешки сменились довольными улыбками, Томми заявил: — Должен тебе сказать, Джек, что это была классная работа. Ты здорово придумал эту операцию с «электронным пропуском»! Да и эта электронная штуковина, с помощью которой ты открываешь сейфы, так что не надо их взрывать… Нет, ты организатор что надо! — Да что там и говорить! — добавил Морт. — В трудную минуту ты просто виртуоз! Я таких больше не видал. Ты быстро соображаешь. Знаешь, Джек, надумай ты применить свои таланты в честной жизни, для доброго дела — ты бы горы своротил! — Для доброго дела? — переспросил Джек. — А разве плохо стать богатым? — Ты знаешь, что я хотел сказать, — буркнул Морт. — Я не герой, — продолжал Джек. — И в гробу видел эту честную жизнь. В ней одни лицемеры. Они разглагольствуют о порядочности, честности, справедливости, ответственности перед обществом, а сами только и думают, как урвать кусок получше для себя. Они ни за что не признаются в этом, и поэтому-то я их и не переношу. А я вот открыто заявляю — я хочу сам быть во всем первым, а на них мне наплевать. — Джек слышал, как голос его ожесточился, но ничего не мог с собой поделать. Он бросил взгляд на дворники на лобовом стекле. — Честная жизнь! Да ради кого стараться? Все равно эти так называемые порядочные люди подложат тебе огромную свинью! Чтоб они все провалились! — Я не хотел наступать тебе на больную мозоль, — удивленным тоном пробормотал Морт. Джек не ответил. Он погрузился в тяжелые воспоминания. И лишь спустя некоторое время, успокоившись, повторил: — Не гожусь я в герои. Откуда же ему было знать, что у него очень скоро будет повод удивиться этим своим словам о себе. Это было в двенадцать минут второго ночи в среду 4 декабря.
3
Чикаго, ИллинойсУтром 5 декабря, в четверг, отец Стефан Вайцежик отслужил раннюю мессу, позавтракал и уединился в своем ректорском кабинете, чтобы выпить чашку кофе. Отвернувшись от рабочего стола, он устремил взор на большое и высокое, доходящее до пола окно, за которым открывался вид на запорошенные снегом деревья во дворе, и постарался не думать о делах прихода: это был его час, и он его высоко ценил. Но мысли невольно возвращались к отцу Брендану Кронину, совсем еще недавно — любимцу прихожан, а теперь — падшему кюре, чья выходка стала притчей во языцех. Почему он швырнул о стену потир? Что с ним случилось? Все это просто не укладывалось в голове отца Вайцежика. Отец Стефан Вайцежик был священником тридцать два года, из них почти восемнадцать лет он посвятил церкви Святой Бернадетты. Но ни разу за все это время его не терзали сомнения. Он просто был чужд им. После посвящения его направили в церковь Святого Фомы — маленький сельский приход в Иллинойсе, где настоятелем был отец Даниель Тьюлин. Этот человек семидесяти лет от роду отличался необыкновенной кротостью, добротой и сентиментальностью, подобных ему отец Стефан Вайцежик не встречал. Почтенного старца мучила подагра, он плохо видел, ему уже трудно было нести свой крест главы прихода. Любого другого священника давно отправили бы на пенсию, но отцу Даниелю Тьюлину, сорок лет отдавшему прихожанам, было разрешено остаться на своем посту. Кардинал, большой его почитатель, долго подыскивал ему помощника, пока не остановил свой выбор на Стефане Вайцежике. Уже в первый день новый кюре понял, чего от него хотят, но не пал духом, а безропотно взвалил на свои плечи практически всю работу, ни на миг не усомнившись, что справится с ней. Спустя три года, когда отец Тьюлин отдал во сне богу душу, его место занял новый молодой священник, а Стефана кардинал отправил в другой приход в пригороде Чикаго, где настоятель, отец Орджил, случалось, впадал в запой, забывая о пастве. И, хотя он и не был законченным пьяницей, находя в себе силы не переступать последней грани и тем самым спасая себя, он нуждался в опоре, и такой опорой стал для него отец Вайцежик: ненавязчиво, но твердо он выводил отца Фрэнсиса Орджила на праведную стезю и в конце концов с чистым сердцем подтвердил, что тот вполне способен самостоятельно справляться со своими обязанностями. Следующие три года отец Стефан служил еще в двух неблагополучных церквах, снискав себе среди коллег славу «аварийного монтера» Его Высокопреосвященства. Самым экзотическим его назначением была школа-приют Пресвятой Богородицы в Сайгоне во Вьетнаме, где под началом отца Билла Надера он провел шесть кошмарных лет. Этот приют существовал на средства чикагской епархии, поскольку входил в число проектов, выношенных самим кардиналом. Билл Надер был дважды ранен, на память о чем у него остались шрамы от пуль, один на левом плече, другой на правой руке. Двое вьетнамских священников, служивших в приюте, пали от рук террористов-вьетконговцев, равно как и предшественник отца Стефана из США. Ни разу с момента своего прибытия в район боевых действий отец Стефан не сомневался, что вынесет все тяготы миссии, порученной ему в этом аду, как и в том, что она вообще имеет смысл. После падения Сайгона ему вместе с отцом Биллом Надером и тринадцатью монахинями удалось вывести из опасной зоны сто двадцать шесть детей. Сотни тысяч погибли тогда в чудовищной кровавой бойне в тех местах, но даже перед лицом смерти отец Стефан Вайцежик не сомневался, что сто двадцать шесть жизней — это очень много, и не позволил отчаянию одолеть себя. Вернувшись в США, он мог быть посвящен в сан монсеньора за свои заслуги перед кардиналом, однако отклонил это лестное предложение, попросив лишь одной награды — собственного прихода. И просьба его была удовлетворена. Этим приходом был приход церкви Святой Бернадетты. Когда отец Вайцежик принимал дела, за приходом числилось 125 тысяч долларов долга, церковь нуждалась в ремонте, даже крыша прохудилась. А дом священника былвообще в удручающем состоянии — того и гляди рухнет на голову, стоит лишь разыграться буре. При церкви не было школы, посещаемость воскресных месс неуклонно падала на протяжении последних десятилетий. Но все это не испугало отца Вайцежика. Он ни разу не усомнился, что спасет эту церковь от полного упадка. За четыре года он поднял почти наполовину посещаемость прихожан, сократил долг и отремонтировал храм. Затем он привел в порядок дом священника, удвоил количество прихожан и заложил школу. В награду за выдающиеся заслуги перед церковью кардинал перед смертью даровал ему звание постоянного настоятеля и пожизненную ставку при церкви, которую он лишь благодаря собственным усилиям спас от полного краха. Твердая, как гранит, вера отца Вайцежика мешала ему понять, что же могло настолько подорвать веру отца Брендана Кронина. Почему же, почему он запустил потиром в алтарь в минувшее воскресенье и в отчаянии убежал из храма на глазах у почти сотни верующих? Слава богу, что это не случилось на более многолюдной мессе, подумалось отцу Вайцежику. Да, похоже, что сомнения насчет этого Брендана Кронина, одолевавшие его еще полтора года назад, когда тот только появился в приходе, были обоснованны. А не понравился отец Кронин отцу Вайцежику по следующим причинам. Во-первых, тот учился в Североамериканском колледже в Риме, самом престижном учебном заведении из всех находящихся в юрисдикции церкви. Но за выпускниками этого элитарного учреждения закрепилась слава надменных белоручек, баловней судьбы, слишком самоуверенных и много о себе мнящих. Они считали ниже своего достоинства и таланта работу в приходских школах, а посещение одиноких инвалидов вообще расценивали как дурной сон. Помимо того что отец Кронин учился в Риме, он был толст. Ну если и не толст, то упитан, о чем свидетельствовали как его круглое лицо, так и светло-зеленые глаза, заглянув в которые отец Вайцежик, как ему показалось, увидел ленивую и слабую душонку. Сам отец Вайцежик был из костистых поляков, у них в семье не было ни одного толстого мужчины. Вайцежики вели свой род от польских шахтеров, эмигрировавших в США в начале века и всегда трудившихся либо на шахтах, либо на сталелитейных заводах, либо в строительстве — в общем, на тяжелых работах. Семьи Вайцежиков всегда были многочисленными, и нужно было много и упорно работать, чтобы не умереть с голоду, так что было как-то не до жиру. Стефан с детства представлял себе настоящего мужчину крепким, но сухопарым, с широкими плечами, толстой шеей и натруженными руками. Но, к удивлению отца Вайцежика, Брендан Кронин оказался очень трудолюбивым человеком, без обычных для баловней римского колледжа претензий. Он был смышлен, добр и приятен в общении, не брезговал посещениями инвалидов, с удовольствием учил детей и собирал пожертвования. В общем, он оказался лучшим из помощников, которые были у отца Вайцежика за восемнадцать лет. Вот почему его странная выходка в минувшее воскресенье и, соответственно, потеря веры, которая и обусловила этот позорный поступок, так угнетающе подействовали на отца Стефана. Конечно же, он не терял надежды вернуть блудного сына в лоно церкви: начав свою карьеру как помощник всякого священника, попавшего в беду, он и теперь был призван исполнить эту благородную роль; воспоминание о юности вновь наполнило его ощущением своей особой миссии — приходить на помощь людям в тяжелую минуту. Отец Вайцежик отхлебнул из чашки еще глоток кофе, и в этот момент в дверь постучали. Он взглянул на каминные часы — подарок одного из прихожан. Выполненные из позолоченной бронзы и инкрустированные красным деревом, с великолепным швейцарским механизмом, они были единственным украшением скромно обставленного кабинета. Здесь были только самые необходимые вещи, притом не очень удачно подобранные: мебель и потертый псевдоперсидский ковер. Часы показывали половину девятого, секунда в секунду, и, обернувшись к двери, отец Стефан сказал: — Войдите, Брендан. Отец Брендан Кронин выглядел столь же подавленным, как и в воскресенье, понедельник, вторник и среду во время их задушевных бесед в кабинете настоятеля о кризисе веры Кронина и поисках путей ее обретения вновь. Он был так бледен, что веснушки горели на его лице, словно искры, и на фоне темно-рыжих волос казались даже более яркими, чем обычно. Ступал он несколько неуверенно и тяжеловато. — Присаживайтесь, Брендан. Кофе желаете? — Благодарю вас, нет. Брендан прошел мимо двух стульев в стиле «честерфилд» и «моррис» и плюхнулся в старое кресло. Стефан хотел было спросить его, хорошо ли он позавтракал или ограничился сухариком с чашечкой кофе, но промолчал, не желая показаться излишне навязчивым своему молодому помощнику. Поэтому он перешел прямо к делу: — Вы прочли то, что я вам рекомендовал? — Да. Отец Стефан освободил Брендана от всех обязанностей по приходу и дал ему несколько книг, защищавших существование Бога и опровергавших безумствующий атеизм, — все работы принадлежали перу авторитетных интеллектуалов. — И вы поразмышляли над прочитанным? — спросил отец Вайцежик. — И нашли что-либо, что… могло бы вам быть полезным? Брендан вздохнул и покачал головой. — Вы продолжаете молить Господа наставить вас на истинный путь? Вам был знак? — Да, продолжаю. Но никакого знака мне не было. — Продолжаете ли вы искать корни сомнения? — Похоже, таковых нет. Отца Стефана все больше удручала несловоохотливость отца Кронина, такая замкнутость не была ему свойственна. Обычно Брендан был общителен и многоречив. Но после случившегося в воскресенье он ушел в себя, стал говорить медленно, тихо, короткими фразами, дорожа каждым словом, словно скупец лишней монетой. — У ваших сомнений должны быть корни, — настаивал отец Вайцежик. — Должно быть какое-то зерно, отправной пункт, вы понимаете? — Я понимаю, — едва слышно произнес Брендан. — Но дело в том, что его нет. Есть просто сомнение, и ничего более. Как если бы оно всегда было. — Но ведь это далеко не так! Вы ведь на самом деле верили! Так когда же вы стали сомневаться? Вы говорите, что в августе прошлого года. Но что послужило толчком? Должно было что-то произойти, нечто необыкновенное, чрезвычайное, что изменило ваш образ мышления. — Нет, — коротко ответил Брендан. Отец Вайцежик едва не закричал на него. Он готов был встряхнуть его, ударить — лишь бы вывести из этого подавленного состояния. Но он терпеливо продолжал: — Многие добрые священнослужители пережили кризис веры. А некоторые святые состязались с ангелами. Но у всех у них было что-то общее: они не вдруг, не в один момент теряли веру, сомнение тлело в них многие годы до того, как наступал кризис убеждений, и все они могли назвать обстоятельства, предшествовавшие возникновению сомнений. Например, смерть невинного младенца или благородной матери от рака или убийство, изнасилование. Почему Бог терпит зло в этом мире? Допускает войны? Причин для сомнений множество, и хотя учение церкви объясняет их все, оно не может утешить. Брендан, сомнение всегда исходит из особых противоречий между концепцией милости Божией и реальными человеческими горестями и печалями. — Но не в моем случае, — возразил Брендан. Мягко, но настойчиво отец Вайцежик развивал свою мысль: — И единственный способ подавить сомнения — сосредоточиться на тех противоречиях, которые, возможно, лишают вас покоя. Нужно обсудить их со своим духовным наставником. — В моем случае вера… она просто взорвалась во мне, ушла из-под ног, как пол, который казался прочным, но доски которого давно прогнили. — Вас не тревожат несправедливая смерть, болезни, убийства, война? Словно прогнившие доски, говорите вы? Вера просто рухнула в одну ночь? — Именно так. — Ерунда! — воскликнул отец Стефан, вскакивая со стула. Отец Кронин от неожиданности вздрогнул. Он вскинул голову и удивленно взглянул на отца Вайцежика. — Просто бред собачий, — в запальчивости продолжал негодовать тот, повернувшись к собеседнику спиной и хмуря брови. Он отчасти хотел шокировать резкими выражениями молодого священника и тем самым вывести его из самопогружения и замкнутости; но и в не меньшей степени он был раздосадован нежеланием Кронина быть с ним откровенным; претило ему и безнадежное отчаяние помощника. И поэтому, глядя в окно, разрисованное морозом замысловатыми узорами и сотрясаемое порывами ветра, он сказал: — Превратиться вдруг, без причины, из пастыря в атеиста вы не могли. Обязательно должны быть какие-то причины столь резких перемен в сознании, и вам не удастся меня в этом переубедить, отец Кронин. Не таите же их в своем сердце, взгляните правде в глаза, иначе вам никогда не выйти из этого скверного состояния духа. Комната погрузилась в тягостную тишину. Раздался приглушенный бой каминных часов. Наконец отец Кронин сказал: — Прошу вас, не сердитесь на меня. Я весьма уважаю вас и высоко ценю наши отношения, отец Стефан. И ваш гнев в придачу ко всему… для меня это уже слишком. Довольный тем, что ему удалось пробить скорлупу упрямства и замкнутости отца Кронина, отец Вайцежик отвернулся от окна, быстро подошел к сидевшему в кресле собеседнику и положил руку ему на плечо. — Я вовсе не сержусь на вас, Брендан. Я тревожусь за вас. Я беспокоюсь. Меня огорчает то, что вы не даете мне помочь вам. Но не более того. — Отец мой, поверьте, — взглянул на него снизу вверх отец Кронин, — мне тоже очень нужна сейчас ваша помощь. Но что я могу поделать, если мои сомнения не коренятся ни в одной из перечисленных вами возможных причин? Я сам не понимаю, откуда взялось это безверие. Это остается для меня… чем-то таинственным. Отец Стефан понимающе кивнул, сжал Брендану плечо и, вернувшись к своему стулу за письменным столом, сел и закрыл глаза, задумавшись. — Хорошо, Брендан. То, что вы не можете определить причину утраты веры, свидетельствует о том, что это не результат заблуждения. Так что оставим духовное чтение, книги здесь не помогут. Это психологическая проблема, и корни ее уходят в ваше подсознание. Нам еще предстоит докопаться до них. Открыв глаза, отец Стефан увидел, что помощник смотрит на него с интересом: предположение, что его внутреннее сознание просто действует во вред ему, явно заинтриговало молодого священника. Следовательно, не Бог отвернулся от Брендана, а Брендан подвел Бога. А это уже переводило дело в плоскость личной ответственности, что само по себе гораздо более легкая проблема, чем мысль о нереальности Бога или о том, что Он отвернулся от Кронина. — Как вам, вероятно, известно, — сказал отец Стефан, — архиепископом Иллинойсским ордена иезуитов является Ли Келлог. Однако вы можете и не знать, что у него работают два психиатра, тоже иезуиты: они помогают нуждающимся в помощи священникам. Я мог бы устроить для вас консультацию и, при необходимости, обследование и лечение. — Я был бы вам крайне признателен, — ответил Брендан, подаваясь всем корпусом вперед. — Да. Со временем. Но не теперь. Как только вы начнете курс психоанализа, архиепископ сообщит об этом префекту, и тот примется выяснять, не допускали ли вы каких-либо проступков в прошлом. — Но я никогда… — Мне это известно, — поднял руку отец Стефан. — Но в обязанности префекта входит контроль за дисциплиной, и он обязан быть подозрительным. Самое скверное то, что даже если лечение у психоаналитика будет успешным, префект на долгие годы занесет вас в черный список, что ограничит ваши перспективы. А вплоть до последнего инцидента я был уверен, что вы станете со временем епископом, возможно, пойдете и еще выше… — О нет! Это не для меня, — запротестовал Кронин. — Уверяю вас, это именно так. И, если вам удастся справиться с вашими теперешними трудностями, вас ожидает блестящая карьера. Но стоит вам попасть в список неблагонадежных, вы навсегда останетесь под подозрением. И в лучшем случае дослужитесь до приходского священника подобно мне. Брендан улыбнулся уголками губ: — Я счел бы за честь прожить жизнь так же, как вы. — Но ведь вы можете преуспеть, достойно послужить церкви! И я не сомневаюсь, что вам предоставится такой шанс. Поэтому прошу вас дать мне возможность до Рождества помочь вам выбраться из ловушки, в которую вы угодили. Мы не станем вести беседы о природе Добра и Зла, вместо этого я попробую применить на практике некоторые собственные теории по психологическим проблемам. Пусть это будет не совсем профессиональный курс психоанализа, но давайте попробуем. Только до Рождества. А потом, если не наступит улучшение и мы не продвинемся в наших поисках ответа на больной вопрос, я вверю вас нашему психиатру. Договорились? — Договорились, — кивнул Брендан. — Великолепно! — потер от удовольствия ладони отец Вайцежик, распрямляя спину, словно готовясь колоть дрова или делать гимнастику. — Значит, есть целых три недели в нашем распоряжении. Для начала вам следует переодеться в цивильный костюм, а потом отправиться к доктору Джеймсу Макмертри в детскую больницу Святого Иосифа. Он зачислит вас в санитары. Брендан недоуменно посмотрел на отца Стефана: — В санитары? Выносить ночные горшки, менять белье? Зачем это нужно? — Через неделю вы сами это поймете, — со счастливой улыбкой на лице отвечал отец Стефан. — И, когда это произойдет, я помогу вам отомкнуть один из секретных замочков вашей психики, и вы сможете заглянуть в себя и, не исключено, найдете причину утраты веры — и преодолеете ее. На лице Брендана читалось сомнение. — Но ведь вы обещали дать мне три недели! — сказал отец Стефан. — Хорошо. Брендан непроизвольно поправил свой белый жесткий воротничок — похоже, он сожалел, что ему придется расстаться с ним на некоторое время, и это уже было добрым знаком. — Я дам вам денег на расходы, вы снимете номер в недорогом отеле, будете жить среди обычных людей, это должно пойти вам на пользу после церковного затворничества. Ступайте переоденьтесь и потом зайдите ко мне. А я пока позвоню доктору Макмертри и обо всем с ним договорюсь. Кивнув, Брендан направился к двери, но вдруг остановился. — Есть одна деталь, говорящая в пользу предположения о том, что моя проблема имеет психологический, а не рассудочный характер, — нерешительно проговорил он. — В последнее время мне снятся странные сны… точнее, один и тот же сон. — Рецидивирующий сон, совсем по Фрейду. — Я видел его несколько раз после августа. Но на этой неделе — три раза за последние четыре дня. Очень неприятный сон, он повторялся вновь и вновь на протяжении ночи. Короткий, но яркий. Мне снились черные перчатки. — Черные перчатки? Брендан поморщился: — Мне снилось, что я в незнакомом месте. Лежу на кровати. Словно бы… связанный. Мои руки и ноги привязаны к кровати. Я хочу встать, убежать, выбраться из комнаты, но не могу. В комнате полумрак, трудно что-либо разобрать. И потом эти руки… Он вздрогнул. — Руки в черных перчатках? — подсказал отец Вайцежик. — Да. В черных блестящих перчатках, виниловых или резиновых. Очень плотных, туго обтягивающих руку. — Брендан отпустил дверную ручку и вернулся на середину комнаты, где замер с поднятыми перед глазами ладонями, словно бы пытаясь вспомнить подробнее, как выглядят руки в черных перчатках из его навязчивых снов. — Мне не видно, чьи это руки, что-то случилось с моим зрением. Я вижу только перчатки, до кистей. А выше — выше все расплывается. Лицо Брендана побледнело, в голосе слышался страх. Порыв холодного ветра сотряс оконное стекло, и отец Стефан спросил, невольно поежившись: — Этот человек в черных перчатках — он что-нибудь говорит вам? — Он никогда не произносит ни слова. — Брендан вновь содрогнулся, опустил руки и засунул их в карманы. — Он только прикасается ко мне своими холодными скользкими перчатками. У кюре был такой вид, словно он и сейчас чувствует их прикосновение. — И в каком месте вы ощущаете прикосновение этих черных перчаток? — с явным интересом подался вперед отец Стефан. Глаза молодого священника остекленели. — Они прикасаются к моему лицу. Ко лбу. Щекам, шее… груди. Мне холодно. Они ощупывают меня всего. — Но вы не испытываете боли? — Нет. — Однако вы боитесь этих черных перчаток, человека в них? — Страшно боюсь. Но не знаю почему. — Нужно посмотреть, как этот сон истолковывается в свете теории Фрейда. — Возможно, вы правы, — согласился священник. — Посредством сновидений подсознание посылает сигналы сознанию, и в вашем случае нетрудно распознать символическое значение черных перчаток. Это руки Сатаны, которые протянуты, чтобы утащить вас со стези праведности. Или руки вашего сомнения. Они также могут символизировать соблазны или грехи, одолевающие вас. Это испытание. — Особенно соблазны плотские, — мрачно усмехнулся Кронин. — В конце концов, эти перчатки ведь ощупывают меня всего. Он вновь направился к двери, но, взявшись за ручку, задержался. — Послушайте, я скажу вам нечто необычное. Этот сон… Я почти уверен, что он вовсе не символический. — Брендан перевел взгляд с отца Стефана на потертый ковер. — Я думаю, что за этими черными перчатками не кроется ничего, кроме рук в черных перчатках. Мне кажется… я их когда-то где-то видел на самом деле. — Уж не хотите ли вы сказать, что вы однажды оказались в ситуации, которую теперь видите во сне? Все еще не отрывая взгляда от ковра, молодой кюре произнес: — Я не знаю. Возможно, в детстве. Понимаете, это, вероятно, никак не связано с моим кризисом веры. Эти два явления, вполне может статься, вообще не связаны между собой. Отец Стефан решительно затряс головой: — Две напасти, свалившиеся на вас одновременно — утрата веры и навязчивый кошмар, — не могут быть никак не связанными между собой, и не пытайтесь меня в этом убедить. Это весьма странное совпадение, согласитесь. Между ними должна быть связь. Скажите, однако, когда, на ваш взгляд, вам мог угрожать этот некто в черных перчатках? В какой период вашего детства? — Видите ли, я дважды серьезно болел в детстве. Возможно, когда я был в бреду, меня осматривал врач и он был груб или чем-то напугал меня, быть может, своим видом. И этот забытый случай запал мне в подсознание, а теперь возвращается во сне. — Когда врачи осматривают пациента в перчатках, они надевают не черные, а светлые латексные одноразовые перчатки. И тем более не из резины или винила. Кюре глубоко вздохнул: — Вы правы. Но мне трудно отделаться от ощущения, что этот сон не символический. Возможно, он ненормальный, но эти черные перчатки я видел наяву, это уж точно. Я видел их, как сейчас вижу эту мебель и эти книги на полках. Вновь пробили каминные часы. Ветер за окном неистово сотрясал стекло, тоскливо завывая. — Прямо-таки мороз по коже, — сказал отец Стефан, имея в виду вовсе не вой ветра и не гулкий бой часов. Он встал и, подойдя к своему помощнику, похлопал его по плечу. — Но, уверяю вас, вы заблуждаетесь. Этот сон несет в себе скрытый знак, и он имеет непосредственное отношение к утрате вами веры. Это черные руки сомнения. Ваше подсознание предупреждает вас о предстоящем сражении. Но в этом сражении рядом с вами буду я, вы не одиноки. — Благодарю вас, отец мой. — Благодарите Господа, он тоже с вами. Отец Кронин согласно кивнул, но ни его лицо, ни поникшие плечи не свидетельствовали о том, что он полностью в этом уверен. — А теперь ступайте упаковывайте чемоданы, — сказал отец Вайцежик. — Вам будет без меня трудновато. — Мне помогут отец Джеррано и сестры из школы. Ну ступайте же наконец. Когда кюре ушел, отец Стефан вновь тяжело опустился на свой стул за письменным столом. Черные перчатки. Быть может, это и обычный сон, но отчего так дрожал голос отца Кронина, когда он его рассказывал? Эти черные перчатки до сих пор стояли у отца Стефана перед глазами. Черные перчатки, возникающие из тумана. Жесткие, бесцеремонные, таящие угрозу… У отца Вайцежика было предчувствие, что ему предстоит, пожалуй, самая сложная работенка из всех выпадавших на его долю спасателя. За окном пошел снег. Было 5 декабря, четверг.
4
Бостон, МассачусетсПрошло четыре дня. В пятницу Джинджер Вайс все еще находилась в палате своей же клиники, куда ее поместили после того, как Джордж Ханнаби вывел ее из заснеженного тупика. В течение трех дней Джинджер тщательнейшим образом обследовали: ей сделали электрокардиограмму, сканирующее рентгеновское обследование, проверяли ультразвуком, потом сделали вентрикулографию, спинномозговую пункцию, ангиограмму, затем провели повторное обследование, кроме, к счастью, спинномозговой пункции. С помощью самых современных методик и аппаратуры были изучены ее мозговые ткани на наличие неоплазмы, кистозных образований, нагноения, сгустков крови, расширения сосудов, доброкачественных гуммозных образований, предположив вирулентность периневральных нервов, врачи обследовали ее на хроническое внутричерепное давление. Жидкость из позвоночника проверяли на аномальный белок, искали следы внутричерепного кровоизлияния, подозревали бактериальную инфекцию, проводили анализ на содержание сахара в крови, искали признаки грибковой инфекции. Чрезвычайно добросовестные по отношению ко всем пациентам, врачи, обследовавшие Джинджер, были особенно внимательны к своему коллеге, решив приложить все силы и знания, весь свой опыт, чтобы докопаться до причины ее заболевания. В два часа пополудни в пятницу Джордж Ханнаби вошел к ней в палату с результатами последней серии анализов и заключениями специалистов. Уже сам факт, что он навестил ее лично, чтобы ознакомить ее с решением консилиума, а не поручил эту миссию онкологу или специалисту по болезням мозга, говорил о том, что новости были неутешительными, и впервые Джинджер не обрадовалась его приходу. Она сидела в постели, одетая в голубую пижаму, которую принесла из ее квартиры на Бейкон-Хилл жена Ханнаби Рита, и читала детективный роман, делая вид, что случившееся с ней не более чем малозначительный недуг. На самом же деле она была страшно напугана. Но то, что Джордж сказал ей, превзошло все самые худшие ее предположения. Он сообщил ей то, к чему она совершенно не была готова: что врачи ничего не обнаружили. Никакого заболевания. Никаких повреждений. Ровным счетом ничего. Она была здорова. И, когда Джордж торжественно зачитал ей заключение специалистов, дав понять, что все ее дикие выходки не имеют под собой никаких видимых расстройств, она не на шутку струхнула, дала волю чувствам и разревелась — впервые после того, как плакала на улице возле пожарной лестницы. Она не рыдала, не стонала, а просто тихо и безутешно хныкала. Болезнь тела можно вылечить. И по выздоровлении ничто не будет препятствовать ее возвращению к карьере хирурга. Но и результаты анализов, и заключение врачей свидетельствовали об одном: она была подвержена какой-то психической хвори, не подлежащей ни хирургическому вмешательству, ни лечению антибиотиками или регулирующими препаратами. Ей могла помочь только психотерапия, и то с малой надеждой на успех: даже специалисты высокого класса не имели оснований похвастаться достижениями в этой малоизученной области психических аномалий. Ведь, по сути, частые приступы беспричинных блужданий — верный симптом развивающейся шизофрении. Ее шансы справиться с этим недугом и вернуться к нормальной жизни были до смешного малы; а перспектива угодить в психиатрическую лечебницу весьма серьезна — при одной этой мысли ей стало не по себе. Ее мечты, вся ее жизнь в один миг разлетелась на тысячи осколков, разбилась вдребезги, словно хрустальный бокал от револьверной пули. И это тогда, когда до получения лицензии на хирургическую практику оставалось лишь несколько месяцев! Даже если состояние ее здоровья и не внушает больших опасений, даже если, пройдя курс психотерапии, Джинджер сможет контролировать эти странные приступы, ей уже никогда не получить разрешения на частную практику. Джордж высыпал на ладонь несколько успокаивающих таблеток из коробочки на ночном столике и дал Джинджер, налив стакан воды. Он взял ее руку, такую крохотную по сравнению с его лапами, и постарался успокоить девушку. Постепенно ему это удалось. Наконец Джинджер сказала: — Черт побери, Джордж, ведь я росла в нормальной психологической обстановке. У нас была счастливая, мирная семья. Меня любили и не оставляли без внимания. Меня не били, не оскорбляли и не угнетали. Она оторвала салфетку из упаковки, лежащей рядом с таблетками. — За что все это мне? Как мог у меня развиться психоз? Как? При моей фантастической мамочке, моем необыкновенном папочке, моем чертовски счастливом детстве? Откуда это серьезное психическое расстройство? Это нечестно! Это неправильно! В это даже трудно поверить! Джордж присел на край кровати, чтобы не казаться таким угрожающе громадным, но все равно не стал от этого меньше. — Во-первых, доктор Вайс, консультанты сказали мне, что в психиатрии есть целая школа, связывающая психические расстройства с химическими изменениями в организме человека. Пока еще мы не в состоянии ни диагностировать, ни истолковать их. Поэтому нет никаких оснований полагать, что ты подверглась какому-то пагубному внешнему воздействию в детстве. Так что воздержись от переоценки своей жизни. Во-вторых, я абсолютно, повторяю, совершенно не уверен, что у тебя именно депрессивный психоз. — Джордж, не нужно меня утешать… — Утешать? — воскликнул врач с таким видом, словно в жизни не слышал ничего более удивительного. — Утешать больного? Это ты мне говоришь? Я вовсе не собираюсь поднимать тебе настроение, я говорю вполне серьезно. Если не обнаружены физические причины, это еще не означает, что их нет вообще. Не исключено, что спустя месяц-два они обнаружат себя. Мы проведем дополнительное обследование, и я готов поспорить на все свое состояние, что в конце концов мы нащупаем причину твоих недугов. Джинджер позволила себе в это поверить. — Так вы и в самом деле полагаете, что такое возможно? — спросила она, отрывая еще одну салфетку. — Какая-нибудь малюсенькая опухоль в мозгу? Или абсцессик, еще не проявивший себя? — Безусловно. И мне гораздо легче поверить в это, чем согласиться, что ты психически неуравновешенна. Да ты же само спокойствие. Я и мысли не могу допустить, что ты психопатка или психоневротичка, потому что не замечал ровным счетом никаких отклонений в период между этими двумя срывами. Я хочу сказать, что серьезное душевное расстройство не может обнаруживать себя только двумя схожими эпизодами, но поражает все поведение больного, всю его жизнь. Джинджер не задумывалась раньше над этим и теперь, после этих слов, почувствовала себя немного лучше, хотя, конечно, особой радости они ей не доставили и не обнадежили. С одной стороны, казалось странным возлагать надежды на опухоль мозга, но опухоль можно удалить, при этом не повредив мозговое вещество. Сумасшествие же не вылечишь скальпелем. — Предстоящие несколько недель или месяцев будут, возможно, самыми трудными в твоей жизни, — сказал Джордж. — Это будет время ожидания. — Полагаю, меня на этот период отстранят от работы в больнице? — спросила Джинджер. — Да. Но, в зависимости от твоего самочувствия, ты, мне думается, могла бы помогать мне в работе в моем офисе. — А если я снова выкину подобный фортель? — Я буду рядом и прослежу, чтобы ты не поранила себя во время приступа. — Но что подумают пациенты? Такое ведь никак не пойдет на пользу вашей практике, не так ли? Зачем вам ассистент, который того и гляди впадет в буйство и бросится бежать с диким криком по коридору? Джордж улыбнулся: — Оставь заботу о том, что подумают мои пациенты, мне. В любом случае это дело будущего. А сейчас, по крайней мере в ближайшие две недели, смотри на жизнь проще. Никакой работы. Отдыхай. Расслабляйся. Последние дни вымотали тебя духовно и физически. — Но ведь я все время лежала в постели. Что же в этом утомительного? Не стучите по чайнику. — Чего мне не делать? — изумленно заморгал Джордж. — Ах, — смутилась за вырвавшиеся слова Джинджер, — так говаривал мой отец. Это еврейское выражение, на идише оно звучит так: «Хок нихт кайн чайник», что означает: «Не болтайте ерунду». Только не спрашивайте меня, почему именно так: просто я частенько слышала это в детстве. — Я и не говорю ерунду, — возразил врач. — Да, ты лежала в постели, но все равно тебя обследовали, и это утомительная процедура, поэтому тебе необходимо расслабиться. Я хочу, чтобы ты некоторое время пожила у нас с Ритой. — Что? Нет, я не хочу быть вам в тягость… — Ты не будешь нам в тягость. У нас постоянная служанка, так что тебе даже не придется убирать по утрам постель. Из комнаты для гостей прекрасный вид на залив. Созерцание воды хорошо успокаивает. В общем, прибегая к народному выражению, это как раз то, что доктор прописал. — Нет, в самом деле. Спасибо, но я не могу. Он нахмурился. — Ты просто не понимаешь, — твердо произнес Джордж. — Подумай, что будет, если припадок случится, когда ты будешь готовить себе обед. Представь, ты опрокинешь кастрюлю, начнется пожар, а ты даже не заметишь его, пока не кончится припадок. А тогда может быть уже поздно, ты не выберешься из огня. И это лишь один из возможных вариантов того, как ты можешь сама себе навредить. Я в состоянии придумать их сотни. Так что вынужден настаивать на том, чтобы ты некоторое время не оставалась одна. Если не хочешь пожить у нас с Ритой, то, возможно, у тебя найдутся какие-то родственники? — Но не в Бостоне. В Нью-Йорке. Там у меня тети, дяди… Но Джинджер не могла гостить у своих родственников. Конечно, они были бы рады ее принять у себя, особенно тетя Франциска или тетя Рахиль. Но она не хотела, чтобы они видели ее в ее теперешнем состоянии, а мысль о возможном припадке была просто невыносима. Ей живо представлялось, как тетушки, склонившись над кухонным столом, станут шептаться, прицокивая языком: «Что же такого натворили Иаков с Анной? Может, они слишком многого хотели от девочки? Анна всегда была к ней слишком требовательна. А после ее смерти Иаков все взвалил на ее хрупкие плечи. Это было ей не по силам. Бедная крошка, она надорвалась». Они бы сочувствовали Джинджер и всячески проявляли свою любовь к ней, но это бросило бы тень на память о ее родителях, которых она свято чтила. Поэтому она сказала Джорджу, все еще ожидавшему ее решения: — Я согласна занять гостевую комнату с видом на залив. — Превосходно! — воскликнул он. — Хотя я и считаю это ужасной навязчивостью. И предупреждаю вас, что, если мне там понравится, вам будет трудно от меня потом избавиться. И вообще, в один прекрасный день вы, вернувшись домой, можете обнаружить там уйму народу, перекрашивающего стены и меняющего занавески и шторы. — Как только речь зайдет о малярах, мы вышвырнем тебя на улицу, — улыбнулся Джордж. Он чмокнул ее в щеку, встал и направился к двери. — Я пойду оформлять бумаги на выписку, так что через два часа освободи помещение. Я позвоню Рите и попрошу ее за тобой заехать. Уверен, что ты справишься с этой напастью, Джинджер, только не теряй надежды. Когда звук его шагов по коридору стих, Джинджер откинулась на подушки и уставилась на пожелтевший от времени потолок. Улыбка сползла с ее лица. Потом она встала с кровати и прошла в ванную, не без опаски поглядывая на раковину. После недолгого колебания она пустила воду и стала смотреть, как она струится в стоковое отверстие. В понедельник, после успешно проведенной операции, эта картина напугала ее, и теперь она пыталась понять, почему это случилось. Черт побери, а в самом деле — почему? Она жаждала ответа. «Папа, — подумала она, — если бы только ты был сейчас рядом! Если бы ты мог выслушать меня, помочь мне!» Папа всегда говорил в подобных случаях, тряся головой и забавно моргая: «Зачем тревожиться о завтрашнем дне? Кто знает, что с нами будет сегодня?» Тогда ей это нравилось. Как это верно. Только теперь ей это совсем не было по душе. Она чувствовала себя инвалидом. Она оказалась в тупике. Была пятница, 6 декабря.
5
Лагуна-Бич, КалифорнияДоктор Коблец, к которому Доминик пришел вместе с Паркером Фейном утром в понедельник, 2 декабря, не рекомендовал ему торопиться с повторным обследованием, поскольку совсем недавно он уже осматривал Доминика и теперь не видел никаких значительных отклонений в его физическом состоянии. Он заверил друзей, что следует испробовать иные способы лечения, прежде чем делать поспешное заключение о нарушении функций мозга: необязательно именно это обусловило странное поведение пациента во время сна, когда он возводил у себя дома фортификационные сооружения. После первого визита Доминика 23 ноября врач, по его словам, заинтересовался сомнамбулизмом и кое-что прочитал по данному вопросу. У большинства взрослых больных приступы лунатизма довольно скоро прекращаются. Тем не менее в ряде случаев они закрепляются, а порой и переходят в устойчивое нервное расстройство с определенными формами проявления. Закрепившийся сомнамбулизм плохо поддается лечению и становится доминирующим фактором образа жизни больного, чреват страхом перед ночью и сном и порождает чувство беспомощности, что, в свою очередь, может вызвать и более серьезные заболевания. Доминик чувствовал, что он уже на этой опасной стадии. Он никак не мог забыть баррикады, которые построил в своей спальне, и арсенал на кровати. Коблец был заинтригован и обеспокоен, но не паниковал. Он заверил Доминика и Паркера, что с ночными блужданиями можно покончить с помощью успокаивающих средств, принимая их перед сном. Это обычно дает хороший эффект уже через несколько дней. В запущенных случаях, когда блуждания принимают хронический характер, следует пить днем диазепам — это снимет чувство тревоги. Учитывая особенности, врач прописал ему еще два транквилизатора — один для приема в течение дня, другой — на ночь. По пути домой в Лагуна-Бич из Ньюпорта, бросая взгляд то на море справа, то на холмы слева, Паркер Фейн доказывал Доминику, что ему не следует жить одному, пока не прекратились его полуночные блуждания. Художник вел «Вольво» быстро, даже агрессивно, но осмотрительно, без лишнего риска, накрепко вцепившись в руль и сердито потряхивая бородой и длинными волосами. Он внимательно следил за дорогой, хотя могло показаться, что все его внимание приковано к Доминику. — У меня полно свободных комнат, — говорил он. — Я смогу присматривать за тобой. Я не буду ходить за тобой по пятам, как курица за цыплятами. Но, по крайней мере, я буду рядом. Мы сможем вдоволь наговориться, разобраться во всей этой чепухе, только мы одни, ты и я, и постараться вычислить, каким образом твой лунатизм связан с переменами в твоем характере, происшедшими позапрошлым летом, когда ты отказался от работы в Маунтин-Вью. Поверь, я тот, кто тебе сейчас нужен. Клянусь, не стань я художником, из меня вышел бы неплохой психиатр. У меня дар склонять людей к откровенности. Как тебе это нравится? Давай поживи у меня, я буду твоим доктором. Доминик наотрез отказался. Он хотел побыть один у себя дома, потому что поступить иначе означало бы вновь забиться в кроличью нору, в которой он уже прятался от жизни столько лет. Перемены, которые случились с ним во время его путешествия на автомобиле в Маунтин-Вью позапрошлым летом, были поистине драматичны, необъяснимы, но они были к лучшему. В тридцать три года он наконец стал хозяином своей жизни, добился блестящего успеха и сменил место жительства. Он нравился теперь самому себе и боялся сползти вновь к прежнему жалкому существованию. Возможно, его сомнамбулизм и был каким-то непонятным образом связан с переменой его отношения к жизни, как на том настаивал Паркер, но у Доминика имелись свои резоны для сомнений в этой версии. Он не был склонен усложнять проблему, полагая, что все объясняется довольно просто: его полуночные блуждания были как бы лишним поводом, чтобы уклониться от вызовов судьбы, нервного напряжения и перегрузок, связанных с его новой ролью. А этого нельзя было допустить. Вот почему Доминик и предпочел остаться один у себя дома, принимать лекарства, прописанные доктором Коблецом, и в одиночку пересиливать недуг. К такому решению он пришел в понедельник, возвращаясь на «Вольво» Паркера в свой курортный городок, и до субботы 7 декабря все складывалось так, что он уже почти уверовал в правильность своего решения. Он не собирал больше у себя в спальне арсеналов, не строил баррикад, принимал лекарства, пил какао с молоком, и в результате вместо обычных еженочных блужданий он бродил во сне по дому только два раза за последние пять суток, на рассвете в среду и в пятницу, всякий раз просыпаясь в чулане, мокрым от страшного сна, тотчас же по пробуждении напрочь им забытого. Слава богу, говорил себе он, худшее, похоже, позади. В четверг он снова начал писать, начав работу над новым романом с того места, на котором остановился несколько недель назад. В пятницу Табита Вайкомб, его редактор в Нью-Йорке, сообщила по телефону приятную новость. Только что вышли предваряющие публикацию «Сумерек» рецензии, и обе весьма лестные, так что она даже процитировала их, прежде чем сообщить еще одно приятное известие: ажиотаж вокруг его книги среди книготорговцев нарастает, в связи с чем во второй раз увеличен тираж. Они проговорили почти полчаса, и, положив наконец трубку, Доминик почувствовал, что жизнь вошла в колею. Но субботняя ночь принесла новые события, которые можно было расценивать и как поворот к лучшему, и как возврат к худшему. Раньше после ночных похождений он не мог вспомнить ровным счетом ничего из того, что с ним происходило или что ему снилось. Субботний же кошмар, вынудивший его в панике метаться по дому, частично запомнился если и не в деталях, то в общих чертах, особенно его конец. В последние одну-две минуты сна он видел себя стоящим в плохо освещенной комнате, как бы заполненной туманом. Какой-то человек нагнул его над раковиной, так что Доминик почти касался фарфора лицом, в то время как еще кто-то поддерживал его, помогая устоять на ногах, потому что сам Доминик испытывал необычайную слабость. Его колени дрожали, его мутило, и он не в состоянии был бороться со вторым незнакомцем, который тыкал его лицом в сток в раковине. Доминик чувствовал, что не может ни говорить, ни дышать, ему казалось, что он умирает. Нужно было бы высвободиться и бежать прочь от этих людей, из этой комнаты, но для этого совершенно не было сил. Как ни расплывалось все у него перед глазами, он отчетливо видел гладкую фарфоровую раковину и хромированное кольцо сточного отверстия, поскольку его лицо было всего в нескольких дюймах от него. Ему запомнилось, что раковина была старой модели, без механической затычки, резиновая пробка была вынута и куда-то убрана, он ее не видел. Вода сильной струей била из крана мимо его лица, с брызгами ударялась о дно раковины и ввинчивалась, круг за кругом, в сливное отверстие. Те двое, что запихивали его голову под струю, кричали и спорили, хотя он и не понимал, о чем именно. У него перед глазами вертелась вода, он не мог оторвать взгляда от сливного отверстия, куда она уходила, и ему уже казалось, что и его самого засосет эта расширяющаяся на глазах страшная дыра. Внезапно ему стало ясно, что его хотят туда насильно впихнуть, чтобы таким образом избавиться от него. Там, внутри, должно быть, находилась какая-нибудь дробилка, которая изрубила и измельчила бы на мелкие кусочки… Он закричал и проснулся. Он был в ванной, куда забрался, когда спал. Он стоял, нагнувшись над раковиной, и кричал в сливное отверстие. Отшатнувшись, он поскользнулся и едва не упал, стукнувшись о край ванны и чуть не свалившись внутрь. Хорошо, что успел ухватиться за сушилку для полотенец. Тяжело дыша и дрожа, Доминик наконец собрался с духом и заглянул в умывальник. Глянцевый белый фарфор. Латунное кольцо сточного отверстия и латунная затычка. И ничего больше, ничего сверхъестественного. Приснившаяся ему комната была совершенно иной. Доминик умыл лицо и вернулся в спальню. Судя по часам на столике, было только около половины третьего ночи. Последний кошмар не на шутку обеспокоил Доминика, хотя и не имел вроде бы никакого смысла или тайного значения и никак не был связан с реальной жизнью. Успокаивало только то, что он не заколачивал на этот раз ставни гвоздями и не собирал во сне оружие. Так что этот случай можно было расценивать как небольшое отступление в атаке на болезнь. Но если поразмыслить, то вполне можно было считать его и признаком улучшения. Если он не станет забывать сны, а будет помнить их от начала до конца, тогда он сможет отыскать источник своих тревог, превративших его в лунатика, что, естественно, облегчит лечение. Ложиться снова спать Доминику не хотелось, потому что он боялся вновь увидеть тот же страшный сон. Он бросил взгляд на пузырек со снотворным, стоявший на столике у изголовья кровати. Врач прописал ему только одну таблетку на каждый вечер, но порой можно и нарушить предписание, подумал Доминик. Он прошел в гостиную и налил себе виски, трясущейся рукой положил таблетку в рот и, запив ее виски, вернулся в спальню. Он выздоравливает. Скоро он перестанет бродить по дому по ночам. Он станет нормальным человеком. Через месяц ему самому будет казаться странным все, что с ним происходило. Он почувствовал, что засыпает, и это было приятное ощущение — медленное погружение в забытье. Но, уже почти заснув, он услышал в темноте собственный голос, и то, что он бормотал, настолько заинтриговало Доминика, что он проснулся, несмотря на снотворное и виски. — Луна, — глухо повторил он. — Луна, луна. Что бы это могло означать? Почему луна? — Луна, — вновь невольно прошептал он и уснул. Было 3 часа 11 минут утра, воскресенье, 8 декабря.
6
Нью-ЙоркСпустя пять дней после похищения трех миллионов долларов умафии Джек Твист отправился проведать женщину, которая была практически мертва, но еще дышала. В час пополудни в воскресенье он припарковал свой «Камаро» в подземном гараже под частным санаторием в фешенебельном районе Ист-Сайда и на лифте поднялся в фойе. Отметившись в регистратуре, он получил пропуск посетителя. Новичку трудно было догадаться, что здесь находится больница. Фойе было обставлено совершенно в стиле двадцатых годов: две картины Эрте, диваны, кресло, столики с аккуратно разложенными журналами — все слишком роскошно для лечебного учреждения. Картины, к примеру, были совершенно лишними, мебель тоже можно было бы подобрать поскромнее. Однако администрация считала, что имидж крайне важен для привлечения богатой клиентуры и поддержания доходов на уровне ста процентов. Пациенты здесь были самые разные — от кататонических шизофреников средних лет и детей с неуемной фантазией до впавших в коматозное состояние старцев. Но у всех у них было общим, во-первых, то, что они были хрониками, а во-вторых, их семьи могли себе позволить оплачивать лечение по высшему разряду. Размышляя над ситуацией в целом, Джек всегда негодовал по поводу отсутствия в городе больницы, где пациенты с черепно-мозговой травмой, полученной в результате катастрофы, или заболеванием другого рода, требующим постоянного присмотра и ухода, могли бы получить их за умеренную плату. Нью-Йорк поглощал огромную массу денег налогоплательщиков, а его общественные учреждения, как и повсюду, оставались насмешкой над рядовыми гражданами, вынужденными пользоваться тем, что дают, за неимением ничего лучшего. Не будь он опытным и везучим вором, он не смог бы оплачивать астрономические счета, ежемесячно предъявляемые ему санаторием. К счастью, у него был воровской талант. Он прошел по пропуску в другой лифт и поднялся на пятый этаж. Коридоры на верхних этажах этого семиэтажного здания более походили на больничные, чем фойе: люминесцентные лампы, белые стены, приятный хвойный запах дезинфекции. В самом конце коридора пятого этажа, в последней палате с правой стороны лежала мертвая женщина, которая еще дышала. Джек помедлил возле двери, тяжело вздохнул, проглотил ком в горле и наконец вошел. Палата, конечно, выглядела скромнее фойе, но все равно симпатично, чем-то напоминая комнату средней стоимости в отеле «Плаза»: высокий, с белым карнизом, потолок, камин, облицованный белым кафелем, темно-зеленый ковер, нежно-зеленые занавески, зеленый диван и пара стульев. Предполагалось, что больной будет чувствовать себя в такой обстановке уютнее, чем в обычной больничной палате. И, хотя большинству пациентов обстановка была безразлична, поскольку они ее не воспринимали, посетителям такая уютная атмосфера поднимала настроение. Исключение составляла только кровать для больного, но и она, при всем своем удручающе утилитарном виде, была накрыта зеленым покрывалом. Однако с самим больным поделать уже ничего было нельзя, его вид, конечно, очень портил обстановку. Джек наклонился над женой и поцеловал ее в щеку. Та даже не пошевельнулась. Он взял ее руку в свои ладони, но она не ответила рукопожатием, рука оставалась вялой, мягкой, бесчувственной, хотя и теплой. — Дженни? Это я, Дженни. Как ты себя сегодня чувствуешь? А? Ты хорошо выглядишь, просто замечательно. Ты всегда прекрасно выглядишь. И в самом деле, для человека, восемь лет находящегося в состоянии комы, не видящего солнечного света и не чувствующего дуновения свежего воздуха, она выглядела довольно хорошо. Возможно, один Джек мог сказать, что она выглядит прекрасно, — и при этом не кривить душой. Она не была так же красива, как прежде, но, безусловно, по ее внешнему виду нельзя было сказать, что вот уже почти десять лет она кокетничает со смертью. Ее волосы утратили блеск, хотя и были по-прежнему густыми, с тем же каштановым оттенком, что и четырнадцать лет назад, когда он впервые увидел ее за прилавком парфюмерного отдела в магазине Блумингдейла. Теперь волосы ей два раза в неделю мыли и ежедневно расчесывали медсестры. Он мог бы погладить их, не беспокоя жену, потому что ее уже ничто не беспокоило, но не стал этого делать. Потому что это причинило бы боль ему самому. Ни на лбу, ни на лице Дженни не было морщин, даже в уголках глаз, всегда закрытых. Она сильно похудела, но не до такой степени, чтобы выглядеть отталкивающе. Неподвижная под зеленым покрывалом, она походила на заколдованную принцессу, уснувшую в ожидании поцелуя, который разбудит ее от векового забытья. И только едва заметное слабое дыхание и сокращение мышц шеи, когда Дженни глотала слюну, выдавали в этой спящей красавице жизнь. Но глотательные движения были чисто автоматическими и вовсе не свидетельствовали о сознательном действии или реакции на окружающий ее мир. Поражение мозга было глубоким и неизлечимым, и те слабые движения, которые она время от времени совершала, были единственными телодвижениями, на которые она была способна, пока еще в ней теплилась жизнь, если не брать в расчет предсмертную конвульсию. Она была безнадежна, и он знал это и мирился с этим. Жена выглядела бы гораздо хуже, не получай она такого добросовестного ухода: каждый день команда врачей делала ей массаж, поддерживая на необходимом для жизнедеятельности уровне мышечный тонус. Джек долго не выпускал из ладоней ее руку. Вот уже семь лет он приходил сюда дважды в неделю по вечерам и на пять-шесть часов каждое воскресенье, а случалось, навещал днем и в будний день. И, хотя состояние ее не изменилось, ему не надоедало смотреть на нее. Джек подвинул поближе к кровати стул и сел, не выпуская руки жены, у изголовья, вглядываясь в ее лицо. Он разговаривал с ней более часа: рассказал о фильме, который посмотрел после предыдущего своего посещения, о двух книгах, которые прочитал, говорил о погоде, о сильном и морозном зимнем ветре, в красках описал предпразднично разукрашенные витрины магазинов: приближалось Рождество. Она не наградила его ни вздохом, ни даже легким подрагиванием век: лежала, как всегда, безмолвная и недвижимая. Но он все равно продолжал разговаривать с ней, потому что надеялся, что она все-таки что-то воспринимает, возможно, слышит и понимает его, мучаясь от того, что не может дать об этом знать. Врачи заверяли Джека, что надежды его напрасны, его жена ничего не слышит, ничего не видит, ничего не понимает, разве только в каких-то уцелевших участках ее разрушенного мозга еще возникают некие образы и видения. Но Джек не исключал, что они ошибаются, надеялся, что ошибаются, и поэтому упорно беседовал с ней, чтобы не лишать Дженни хотя бы одностороннего общения с ним. Между тем зимний день за окном угасал, меняя тона своей серой окраски. В четверть шестого он вышел в ванную и сполоснул лицо, потом обтер его полотенцем, глядя на себя в зеркало. Как и во множестве других случаев, он подумал: что особенного нашла в нем Дженни? Ни одну из частей или черт его лица нельзя было назвать привлекательной. Лоб слишком широк, уши слишком велики. При отличном зрении левый глаз его слегка косил, и, разговаривая с ним, люди невольно переводили взгляд с одного глаза на другой, гадая, которым из них он смотрит на них, хотя смотрели оба глаза, и всегда внимательно. Улыбаясь, он становился похожим на клоуна, а когда хмурился, то своим свирепым видом мог бы вполне до смерти напугать даже Джека-потрошителя. Но Дженни в нем что-то разглядела. Она желала, любила его и нуждалась в нем. Весьма привлекательная, она не придавала особого значения внешности, и это была одна из причин, по которой он полюбил ее, только одна из тысяч других, по которой ему ее так недоставало. Он отвернулся от зеркала. Если можно чувствовать себя еще более одиноким, чем был он сейчас, да избавит Господь его от этой доли. Он вернулся в палату, попрощался с безразличной к нему женой, поцеловал ее, еще раз вдохнул запах ее волос и вышел — ровно в половине шестого. На улице, сидя за рулем своего «Камаро», Джек глядел на проходящих мимо пешеходов и проезжающих водителей с раздражением. Его соотечественники. Простые, добрые, вежливые, добропорядочные люди из честного мира, они отшатнулись бы от него с презрением и отвращением, узнай они, что он профессиональный вор, хотя именно по их вине, из-за того, как они поступили с ним и Дженни, он и стал преступником. Джек понимал, что гнев и озлобление ничего не меняют, ничего не решают, а только ранят того, кто испытывает это чувство. Ожесточение разрушает личность, он не хотел озлобляться, но временами ничего не мог с собой поделать.
* * *
Позже, поужинав в одиночестве в китайском ресторане, он вернулся к себе домой. У него была просторная квартира с одной спальней в первоклассном здании на 5-й авеню, с видом на Центральный парк. Официально она принадлежала одной корпорации со штаб-квартирой в Лихтенштейне, которая оплатила квартиру чеком, выписанным на бланке швейцарского банка. За коммунальные услуги ежемесячно поступали взносы из «Банк оф Америка». Джек Твист жил в ней под именем Филиппа Делона. Для привратника и нескольких других служащих и соседей, с которыми он общался, он был эксцентричным отпрыском богатой французской семьи, человеком с чуть подмоченной репутацией, которого отправили в Америку не столько ради интересов фирмы, сколько для того, чтобы от него избавиться. Он бегло говорил по-французски и мог говорить по-английски с весьма убедительным французским акцентом часами, ни разу при этом не выдав себя. Конечно же, никакой французской семьи не было и в помине, а оба банковских счета тоже принадлежали ему, что же касается капиталовложений, то он мог инвестировать лишь то, что украл у других. Но он не был обычным вором. Войдя в квартиру, он направился прямиком в спальню к встроенному платяному шкафу и отодвинул ложную заднюю стену. Затем извлек из тайника два мешка и перенес их, не зажигая света, в темную гостиную, где поставил возле большого окна. Потом он достал из холодильника бутылку пива, откупорил ее, вернулся в гостиную, сел там в полумраке возле окна и взглянул вниз на парк: на фоне отраженных от снега огней тени обнаженных деревьев сплетались в странном узоре. Он намеренно тянул время и сам отдавал себе в этом отчет. Наконец он включил торшер возле кресла, подтянул к себе самый маленький из мешков и принялся изучать его содержимое. В мешке были драгоценности. Бриллиантовые подвески, бриллиантовые ожерелья, бриллиантовые броши, браслет из бриллиантов и изумрудов, три браслета из бриллиантов и сапфиров, кольца, заколки, булавки для галстука и многое другое. Все это богатство он добыл шесть недель назад, в одиночку совершив дерзкое ограбление. Эта работенка была, правда, скорее на двоих, но он все так точно рассчитал, что справился с ней и один. Плохо было только то, что он не получил от нее никакого удовлетворения. Обычно после успешного дела Джек несколько дней пребывал в отличном настроении. На его взгляд, он не совершал преступлений, а мстил ненавистному честному миру, расплачивался с ним за все, что тот сделал с ним и с Дженни. До двадцати девяти лет Джек успел немало сделать для общества и страны, а в награду его отправили в забытую богом латиноамериканскую страну, где он попал в тюрьму диктаторского режима и был всеми забыт. А Дженни… Его мутило при одном только воспоминании о том, в каком состоянии он нашел ее, когда ему наконец удалось бежать и он вернулся в Штаты. С тех пор он уже ничего не давал обществу, а только брал у него, испытывая при этом громадное наслаждение. Самым большим удовольствием для него было нарушать закон, брать то, что хочется, и исчезать, не оставляя следов. И так было всегда, за исключением этой операции с драгоценностями шестинедельной давности: завершив ее, он не почувствовал себя победителем, не ощутил радости мщения. Это напугало его: ведь, по большому счету, только ради этого он и жил. Сидя возле окна в удобном кресле, Джек перебирал на коленях драгоценности, поднося особенно понравившиеся ему изделия к свету, и пытался вновь настроиться на столь желанное ощущение удовольствия от сделанного, испытать радость осуществившего возмездие. От драгоценностей надлежало избавиться как можно скорее, однако ему не хотелось расставаться с ними, пока он не получил хоть толику удовлетворения. Встревоженный затянувшимся безразличием, охватившим его, Джек сложил сокровища назад в мешок, из которого достал. Следующий мешок был набит пачками банкнотов: это была его доля добычи от налета на склад мафии, совершенного пять дней назад. Им удалось тогда вскрыть лишь один сейф, но и в нем хранилось три миллиона 100 тысяч наличными — почти по миллиону долларов на каждого, в не зарегистрированных нигде купюрах по двадцать, пятьдесят и сто долларов. Ему уже пора бы начать переводить их в чеки и другие ценные бумаги и платежные документы, чтобы переслать по почте в Швейцарию, на свои банковские счета. Но и тут он не спешил, поскольку, как и в случае с драгоценностями, еще не насладился добычей. Он достал несколько толстых пачек из мешка и повертел их в руках, поднес поближе к лицу и даже понюхал: запах денег всегда волновал его — но не на этот раз. Он не радовался тому, что умен, удачлив, безнаказан, в общем, в любом смысле гораздо выше любой законопослушной мыши, делающей лишь то, чему ее учили. Он чувствовал внутри себя пустоту. Если бы эта перемена в нем была обусловлена исключительно операцией на складе, еще можно было бы объяснить ее тем, что деньги украдены у других воров, а не у честных людей. Но точно так же реагировал он и на бриллианты, похищенные у честных торговцев. Именно апатия после того дела в ювелирном магазине и толкнула его на новую работенку, хотя обычно он делал трех-четырехмесячный перерыв. На этот раз после ограбления магазина прошло всего пять недель. Ладно, допустим, он просто потерял интерес к деньгам. В конце концов, он уже достаточно отложил на черный день, и на приличную жизнь ему тоже хватало, как и на лечение Дженни. Возможно даже, что он добывал деньги незаконным путем вовсе и не из чувства протеста, как ему казалось, а просто из-за самих денег, обманывая себя высокими соображениями. И все равно трудно было в это поверить. Он хорошо помнил, что чувствовал раньше, и ему остро не хватало прежнего ощущения. С ним что-то происходило, какой-то внутренний сдвиг, крутой перелом. Он утратил цель, смысл существования. Он не мог позволить себе потерять интерес к воровству, иначе незачем было продолжать жить вообще. Он сложил деньги назад в мешок, выключил свет и остался в темноте с бутылкой пива в руке, над пустынным Центральным парком под окном. Утрата удовлетворения от работы была не единственной напастью, свалившейся на него в последнее время. Не меньшее беспокойство доставляли мучившие его по ночам кошмары. Начались они шесть недель назад, незадолго до ограбления ювелирного магазина, и снились ему уже восемь или десять раз. Это были очень странные, яркие сновидения, ничего подобного он раньше во сне не видел. Во время их он убегал от человека в мотоциклетном шлеме с темным защитным стеклом. По крайней мере он думал, что это именно мотоциклетный шлем, хотя и не видел его в деталях и не мог что-либо еще сказать о своем преследователе. Великий незнакомец бежал за ним по каким-то комнатам, бесконечным коридорам, пустой автостраде, загоняя на безлюдную равнину, залитую зловещим лунным светом. И всякий раз Джеку становилось до такой степени страшно, что он просыпался. Было бы естественным предположить, что во сне он получал предупреждение о грозящей ему опасности со стороны полиции. Но ничего подобного во сне он не чувствовал, у него не было ощущения, что этот парень в шлеме полицейский. Тут было что-то другое. Он молил Бога избавить его сегодня от этого кошмара. День и без того был довольно противным, не хватало еще ночью трястись от страха. Он достал еще бутылочку пива, вернулся в свое кресло у окна и вновь стал размышлять о странных вещах, происходящих с ним в последнее время. Было 8 декабря, когда Джек Твист — бывший офицер отборных диверсионно-десантных войск США, бывший военнопленный в необъявленной войне, человек, спасший жизнь более чем тысяче индейцев в Центральной Америке, продолжающий жить вопреки свалившемуся на него горю, которое сломало бы любого другого, дерзкий вор с неисчерпаемым запасом мужества — задумался над тем, есть ли у него еще душевные силы, чтобы жить дальше. Если он не сможет вновь почувствовать радость от воровства, своего основного занятия, тогда нужно обрести какой-то новый смысл своего существования. И как можно скорее.* * *
Округ Элко, Невада Эрни Блок побил все рекорды скорости, возвращаясь из Элко в мотель «Спокойствие». Последний раз он так же быстро и безрассудно гнал машину в то пасмурное утро во Вьетнаме, прорываясь с группой разведчиков морской пехоты на джипе сквозь засаду, которую устроили им вьетконговцы на так называемой «дружеской территории», где они меньше всего ожидали нападения. Мина взорвалась почти под колесами автомобиля, за рулем которого сидел Эрни, подняв клубы пыли и засыпав его комьями грязи. Когда он наконец вырвался из-под кромешного огня, в нем засели три маленьких, но очень острых осколка, он почти оглох и даже не заметил, что ведет машину на ободах — все четыре шины были разорваны в клочья. Чудом оставшись в живых, он осознал, что никогда раньше не испытывал такого страха. Но теперь Эрни ощущал еще больший страх. Приближалась ночь. В Элко ему нужно было забрать дополнительное осветительное оборудование для мотеля. Он выехал на грузовом «Додже» вскоре после полудня, оставив за стойкой Фэй, и рассчитывал вернуться до темноты. Но сначала пришлось повозиться с лопнувшей шиной. Потом битый час ушел на починку колеса в Элко, потому что он не хотел возвращаться без запаски. Короче говоря, он выехал на два часа позже, чем рассчитывал, и солнце уже зависло к этому времени над дальней оконечностью Большого Бассейна. Он выжимал педаль газа до отказа, обгоняя другие машины на магистрали. Он думал, что не доберется до дома, если ему придется гнать автомобиль в полной темноте. А наутро его найдут за рулем припаркованного на обочине автомобиля, полубезумного после долгих часов, проведенных в одиночестве в полной темноте в безлюдной местности. Последовавшие после Дня Благодарения две с половиной недели он продолжал скрывать свои новые необъяснимые ощущения от Фэй. После ее возвращения из Висконсина Эрни обнаружил, что уже не может заснуть без света, потому что избаловал себя, пока жил один. Каждое утро он вставал с красными от бессонницы глазами. Хорошо еще, что жена не предложила поехать вечером в Элко в кино и Эрни не пришлось выдумывать повод для отказа. Несколько раз после захода солнца ему нужно было пройти через контору в гриль-бар, и, несмотря на достаточное освещение, он едва держался на ногах от ощущения своей уязвимости и незащищенности, однако ничем себя не выдал. Всю свою жизнь, во время службы в морской пехоте и выйдя в отставку, Эрни Блок по мере сил выполнял все, что от него требовалось и чего от него ждали. И теперь, с Божьей помощью, он надеялся, что не подведет жену. Держась за баранку «Доджа», мчавшегося на запад к мотелю «Спокойствие» под оранжево-пурпурным небом довольно грязноватого оттенка, Эрни Блок думал, не является ли этот непонятный страх перед темнотой признаком надвигающегося слабоумия или болезни Альцгеймера. Ему было всего пятьдесят два года, но и в этом возрасте исключить вероятность этого заболевания нельзя, и хотя это и пугало его, но, во всяком случае, было понятно. Да, так-то оно так, однако все-таки нелегко с этим смириться. Фэй полностью зависела от него. Он не мог позволить себе превратиться в инвалида, сесть ей на шею. В роду у Блоков мужчина никогда не был обузой для семьи, это было немыслимо. Шоссе обогнуло небольшой холм, и до мотеля осталось не более мили — его уже было хорошо видно благодаря сине-зеленой неоновой рекламе, ярко сиявшей на фоне сумеречного неба. Это зрелище очень обрадовало Эрни. До наступления полной темноты оставалось минут десять, и Эрни решил не валять дурака и не рисковать и снизить скорость: встреча с дорожной полицией, да еще рядом с мотелем, была бы совершенно лишней. Он убавил газ, и стрелка спидометра поползла вниз: девяносто, восемьдесят, семьдесят пять, шестьдесят… Ему оставалось всего три четверти мили до дома, когда произошло нечто странное: он случайно посмотрел на юг, в сторону от шоссе, и у него перехватило дыхание. Он сам не понимал, чем был так поражен. Чем-то в окружающей местности, в игре света и тени. Его неожиданно пронзила мысль, что определенный участок пространства в полумиле от него, на противоположной стороне автострады, таит в себе разгадку тех необъяснимых перемен, которые происходили в нем в последние месяцы. Пятьдесят… сорок пять… сорок миль в час. Ничто не выделяло роковой участок земли из остальных окружающих его десятков тысяч акров. Более того, Эрни и раньше проезжал мимо этого места, оставаясь совершенно к нему равнодушным. Тем не менее в наклоне поверхности, в ее неровных очертаниях, в конфигурации зарослей полыни и травы с вкраплениями камней было нечто, настоятельно требующее немедленного изучения. Ему казалось, что сама земля говорит ему: «Вот здесь, здесь, именно здесь ты найдешь ответ на мучающий тебя вопрос, объяснение твоих страхов по ночам. Здесь. Здесь…» Но это не укладывалось у него в голове. К своему немалому удивлению, он поймал себя на том, что притормаживает машину — за четверть мили до дома, недалеко от развилки шоссе и выезда на дорогу, ведущую к мотелю. Эрни охватило предчувствие приближающегося суда, столь пронзительное и глубокое, что у него даже мурашки побежали по шее. Он остановил грузовик, вылез из кабины и, дрожа от охватившего его предчувствия, пошел в направлении развилки, откуда, как ему казалось, будет удобнее рассматривать заинтриговавший его кусок земли. Переждав, пока мимо промчатся три огромных автопоезда, он перешел охваченное вихрем шоссе и остановился на краю обочины, прислушиваясь к стуку своего сердца и совершенно позабыв о надвигающейся темноте. Взгляд его был устремлен на юг и немного к западу. На нем была просторная дубленка с оторочкой из белой овчины, но на голове не было шапки, и он чувствовал, как морозный ветер пощипывает кожу под щеткой седых волос. Предчувствие чего-то чрезвычайно важного начало притупляться, и вместо него появилось ощущение, что с ним уже что-то произошло на этом клочке земли, что-то, имеющее непосредственное отношение к его боязни темноты и потом начисто забытое, вычеркнутое из памяти. Но это была какая-то бессмыслица. Если здесь произошли некие важные события, как мог он о них забыть? Эрни не был забывчивым. И был не из тех, кто изгоняет из памяти неприятные воспоминания. По затылку вновь пробежал неприятный холодок. Там, впереди, находилось место, где с ним что-то произошло, что-то, о чем он забыл и теперь вдруг попытался вспомнить, получив сигнал своего подсознания, уколовшего его память, словно иголка, забытая в одеяле и в самый неожиданный момент вонзающаяся в спящего человека. Эрни стоял на обочине, широко расставив ноги, всем своим внушительным видом бросая вызов заворожившему его ландшафту. Он изо всех сил старался восстановить в памяти загадочные события, случившиеся в этом диком месте, если, конечно, они вообще происходили, но чем сильнее он пытался ухватить ускользающее откровение, тем быстрее оно удалялось от него. Наконец он потерял всякую надежду что-либо припомнить. Смутные воспоминания о якобы пережитом оставили его так же внезапно и безвозвратно, как и волнующее предчувствие грядущего чуда, предшествовавшее им. Затылок и шею уже не пощипывало. Сердце тоже успокоилось и вошло в нормальный ритм. Испытывая легкое головокружение, он в растерянности глядел на быстро меняющий свой облик ландшафт: ощерившаяся острыми камнями земля, трава и кустарник, холмы и ложбины быстро теряли свои очертания, погружаясь во тьму, и он уже даже не мог себе представить, что в этом куске древней земли могло привлечь его внимание. Точно такая же горная равнина простиралась отсюда до Элко или даже до Батл-Маунтина. Окончательно растерявшись от внезапного возвращения к реальности с пика трансцендентного познания, он оглянулся на свой грузовик, ожидавший его по другую, северную сторону магистрали, и вдруг отчетливо понял всю нелепость и одиозность своего поступка, совершенного в припадке странного возбуждения. Не дай бог его заметила из окна Фэй: ведь мотель был всего в четверти мили от этого проклятого места, и ей, конечно же, хорошо были видны мигающие тревожные огни «Доджа», ярко вспыхивающие в быстро сгущающейся темноте. Темнота. Мысль о ее приближении пронзила Эрни Блока словно молния. Таинственная сила, притягивавшая его к этому месту, на какое-то время оказалась более могучей, чем боязнь темноты. Но чары этого загадочного магнетизма иссякли, едва он сообразил, что вся восточная половина небосвода уже стала лиловой, а через несколько минут потемнеет и западная его часть, пока еще светлая. С криком отчаяния он бросился через шоссе, рискуя быть сбитым автомобилем. Не обращая внимания на сигналы, подаваемые оторопевшими водителями, он мчался, не оглядываясь и не останавливаясь, прямиком к разделительному рву, почти физически ощущая тяжесть темноты. Он упал, спускаясь в канаву, вскочил тотчас же на ноги, словно ужаленный свившейся там клубками темнотой, и взлетел наверх, на шоссе, ведущее на запад. К счастью, оно было свободно, но он даже не оглянулся, а побежал прямо к своей машине. Темнота, казалось, норовила ухватить его за ноги, когда он взбирался в кабину, оттащить его от «Доджа» и поглотить. Наконец он распахнул дверь, вырвал ноги из цепких лап темноты и, забравшись в кабину, захлопнул и запер за собой дверь. Ему стало легче, но в полной безопасности он себя не чувствовал и, если бы не был так близко от дома, наверняка так бы и закоченел за рулем. Но ему оставалось всего четверть мили, и, когда он включил фары, мрак отступил, и это его взбодрило. Эрни так трясло, что выехать на середину шоссе он не рискнул, а двигался вдоль обочины вплоть до развилки. Натриевые фонари над поворотом на дорогу к мотелю навели его на мысль остановиться под ними, в их спасительном желтом сиянии, но он стиснул зубы и свернул на темное окружное шоссе. Проехав всего двести ярдов, Эрни достиг въезда на территорию мотеля. Он промчался мимо стоянки, остановил грузовик прямо напротив конторы, выключил фары и заглушил мотор. Фэй сидела за стойкой», ее хорошо было видно сквозь большие окна. Он почти вбежал в контору, слишком поспешно, и, с шумом захлопнув за собой дверь, постарался изобразить на лице улыбку, когда жена взглянула на него. — Я уже начала беспокоиться, дорогой, — улыбнулась она в ответ. — У меня спустила шина, — объяснил он, расстегивая дубленку. Теперь он чувствовал себя почти в безопасности, рядом была Фэй, она придавала ему силы. — Я скучала, — сказала она. — Но я выехал из дома всего лишь в полдень. — А мне показалось, что прошла вечность. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом. Они наклонились друг к другу через стойку и поцеловались. Это был поцелуй от чистого сердца. Она обняла его за голову и сильнее прижала к себе. Большинство давно женатых семейных пар, даже если они продолжают любить друг друга, выражают свои чувства чисто механически. Но у Эрни и Фэй все было иначе: через тридцать один год после свадьбы она все еще вселяла в него ощущение молодости. — Ты привез оборудование? Все в порядке? Может, прямо сейчас и разгрузишь? — О нет, только не сейчас, — бросив затравленный взгляд на темное окно, возразил Эрни. — Я вымотался. — Но ведь там всего четыре упаковки… — Нет, лучше я сделаю это завтра утром, — как можно спокойнее ответил Эрни, но голос выдавал его волнение. — За одну ночь с упаковками ничего не случится, полежат в машине. Гляди-ка, ты уже повесила рождественские украшения! — А ты только теперь заметил? На стене над диваном висела огромная гирлянда из сосновых шишек, в углу, за полочками с открытками, стоял картонный Санта-Клаус в натуральную величину, а напротив него, на стойке, маленький керамический северный олень мчал керамические сани с подарками. С потолка свисали красные и золотистые рождественские шары. — Тебе пришлось влезать на стремянку, — сказал он. — Ты могла упасть. Нужно было подождать меня. — Дорогой, я не из неженок. Успокойся. Вы, морские пехотинцы, слишком любите кичиться своим мужеством. — Ты думаешь? Входная дверь внезапно распахнулась, и вошел водитель грузовика: ему нужна была комната на ночь. Эрни не мог перевести дух, пока дверь за ним не захлопнулась. На долговязом водителе была ковбойская шляпа, джинсовая куртка, ковбойская рубаха и джинсы. Фэй выразила восхищение его шляпой, украшенной кожаной лентой с бирюзой, шофер просиял и почувствовал себя как дома. Пока клиент заполнял карту гостя, Эрни прошел за прилавок, стараясь не думать о случившемся с ним по дороге домой и о темноте за окном, повесил дубленку на вешалку у ящичков с картотекой и пошел разбирать корреспонденцию на дубовом столе: счета, рекламные проспекты, просьбы о пожертвованиях, поздравительные открытки и конверт с чеком — его пенсией. Наконец он взял в руки белый конверт без обратного адреса. Внутри была цветная фотография, сделанная «Поляроидом», с изображением семьи из трех человек — мужчины, женщины и ребенка — на фоне мотеля, рядом с дверью девятого номера. Мужчине на вид было не более тридцати, даже меньше, он хорошо загорел и прекрасно выглядел. Женщина была на пару лет моложе, симпатичная брюнетка. Девочка лет пяти или шести была просто очаровательна. Все трое улыбались. По их рубашкам с короткими рукавами Эрни определил, что снимок был сделан в середине лета. Он с недоумением повертел в руках фотографию, но на обратной стороне не было никакой надписи. Он еще раз заглянул в конверт. Тот был пуст: ни письма, ни открытки, ни визитной карточки, чтобы определить отправителя. На штемпеле значилось, что конверт отправлен из Элко в прошлую субботу, 7 декабря. Он снова взглянул на людей на фотографии, и, хотя он и не вспомнил их, по телу побежали мурашки, как тогда, возле странного места у шоссе, где он вылез из машины. У него участился пульс. Он бросил фотографию на стол и отвернулся. Фэй все еще любезничала с лихим шофером в ковбойском наряде, вручая ему ключи от номера. Эрни внимательно посмотрел на нее. От нее всегда исходило спокойствие. Она была милой сельской девушкой, когда они познакомились, и стала еще более милой женщиной. Возможно, ее белокурые волосы и начинали седеть, но это было совершенно незаметно. Ее голубые глаза по-прежнему оставались ясными и цепкими, лицо всегда спокойно, значительно и дружелюбно, почти блаженно. Когда водитель грузовика наконец ушел, Эрни уже успокоился. — Тебе это что-нибудь говорит? — спросил он Фэй, протягивая ей цветную фотографию. — Это наша девятая комната, — ответила она. — Они, наверное, останавливались у нас. — Она нахмурилась, всматриваясь в молодую семейную чету и их дочь на фото. — Нет, я их впервые вижу. Странно. — Но почему тогда они послали нам эту фотографию без всякой надписи? — Видимо, им казалось, что мы их должны помнить. — В таком случае они должны были гостить у нас по меньшей мере несколько дней, чтобы мы познакомились поближе. А я их абсолютно не знаю. Уж девочку-то я наверняка бы запомнил, — сказал Эрни: он любил детей, и они обычно отвечали ему взаимностью. — Ей впору сниматься в кино. — Мне кажется, тебе запомнилась бы и ее мать. Она такая яркая. — Отправлено из Элко, — продолжал рассуждать Эрни. — Зачем жителям Элко останавливаться в нашем мотеле? — Может быть, они и не живут там постоянно. Ну, скажем, они останавливались у нас прошлым летом, а недавно случайно оказались в этих краях и послали нам на память о себе фотографию. — Без всякой надписи. — И в самом деле странно, — нахмурилась Фэй. Он забрал у нее снимок. — А кроме того, фото сделано «Поляроидом». Если бы они хотели нам его подарить, то подарили бы сразу. Дверь распахнулась, и кучерявый парень с густыми усами вошел в дом, дрожа от озноба. — Есть свободный номер? — спросил он. Пока Фэй занималась с клиентом, Эрни положил фотографию на письменный стол. Он намеревался взять всю корреспонденцию и пойти с ней наверх, но медлил, стоя у стола и разглядывая лица людей на моментальном снимке. Был вечер 10 декабря, вторник.7
Чикаго, ИллинойсКогда Брендан Кронин начал работать санитаром в детской больнице Святого Иосифа, один только доктор Джим Макмертри знал, что на самом деле он священник. Отец Вайцежик заручился его словом никому не раскрывать эту тайну, а также не делать Брендану никаких скидок по сравнению с другими санитарами и даже, более того, поручать ему как можно больше самой неприятной работы. Поэтому в свой первый рабочий день в новом качестве он выносил «утки», менял мокрые от мочи простыни, помогал приводить в порядок лежачих больных, кормил с ложечки восьмилетнего парализованного мальчика, толкал кресла-каталки, подбадривал впавших в уныние больных, вытирал рвотную массу за двумя раковыми больными, которых тошнило после процедуры химиотерапии. И при этом никто не щадил его и не называл «отец мой». Сестры, врачи, санитары, посетители и пациенты обращались к нему по имени — Брендан, и от этого ему было слегка не по себе, он чувствовал себя незваным гостем на маскараде. В этот первый день, потрясенный увиденными больными детьми, он дважды запирался в служебном туалете и рыдал. Кривые ноги и распухшие суставы больных ревматическим артритом, другие уродства невинных детей трудно наблюдать равнодушно. Ему было до глубины души жаль и дистрофиков, худых, как скелет, и обожженных, с их ужасными ранами, и зверски избитых безжалостными родителями. Он не мог сдержать слез и плакал. Ему было совершенно непонятно, почему отец Вайцежик решил, что подобная работа поможет ему вновь обрести веру. Напротив, зрелище такого рода могло лишь усугубить сомнения. Если Бог есть, почему он допускает страдания стольких детей, обрекает на муки невинные создания? Безусловно, Брендану были известны обычные теологические аргументы, к которым прибегали, отвечая на подобные вопросы: человечество обрекло себя на всевозможные страдания, впав в первородный грех, оно само сделало этот выбор, презрев милость Творца. Но все эти постулаты церкви показались ему ничтожными, когда он сам столкнулся с несчастными маленькими жертвами злого рока. На второй день персонал по-прежнему звал его Бренданом, зато дети прозвали Толстяком, наслушавшись его же смешных историй. Они были в восторге от этих шуток, стишков, сказок и присказок, а ему было приятно видеть их смеющиеся или улыбающиеся рожицы. В этот день он плакал в уборной только один раз. На третий день Толстяком его звали уже не только дети, но и взрослые. В нем раскрылся еще один талант: помимо выполнения обычных обязанностей санитара он до колик смешил всех больных. И радостные приветственные вопли: «Толстяк пришел!» — были для него лучшей наградой за труды. Он больше не плакал, запершись в кабине туалета, а давал волю чувствам, лишь добравшись до своей комнаты в гостинице, где жил согласно плану его излечения, разработанному отцом Вайцежиком. На седьмой день, в среду, он понял, почему тот послал его в эту больницу. Его осенило, когда он причесывал десятилетнюю девочку, пораженную редким заболеванием костей. Девочку звали Эммилин, и она с полным правом могла гордиться своими волосами. Густые, блестящие, цвета воронова крыла, они своим здоровым видом словно бы бросали вызов ее болезненному тельцу. Она очень любила расчесывать свои замечательные волосы, но, к сожалению, ее воспаленные суставы не позволяли ей самой держать щетку. В среду Брендан усадил ее в каталку и повез в рентгеновский кабинет, где делали контрольную рентгенограмму для проверки эффективности действия нового препарата, которым девочку лечили. А когда он привез ее в палату, она попросила его расчесать ей волосы. Эммилин сидела в кресле-каталке и глядела в окно, а Брендан осторожно водил щеткой по ее шелковистым локонам, слушая, как девочка восторгается волшебным зимним пейзажем. — Видишь вон тот сугроб, Толстяк? — указала она искалеченной болезнью рукой на крышу соседнего дома, где чудом сохранилась куча снега, не растаявшего вопреки поднимавшемуся из вентиляционных труб теплому воздуху. — Он похож на корабль. Понимаешь? Прекрасный старинный корабль с тремя белыми парусами, скользящий по свинцовому морю. Брендан не сразу разглядел в форме сугроба, задержавшегося на шифере, корабль. Но девочка продолжала с воодушевлением описывать его, и он тоже наконец заметил это удивительное сходство кучи снега с судном, мчащимся по волнам. Длинные сосульки за окном напоминали ему прозрачную решетку, а сама больница — тюрьму, из которой девочке никогда не выбраться. Но Эмми в этих замерзших сталактитах виделись чудесные рождественские украшения, они настраивали ее на праздничный лад. — Бог любит зиму не меньше, чем весну, — объясняла ему Эмми. — Меняя времена года, он не дает нам скучать, так нам сказала сестра Кэтрин, и теперь я и сама вижу, что это правда. Когда светит солнце, от этих сосулек к моей кровати протягивается радуга. Снег и лед похожи на драгоценности, на горностаевую мантию, в которую Бог укутывает зимой мир, чтобы порадовать нас. Я знаю, так оно и есть, особенно когда рассматриваю снежинки: ведь все они разные. Таким образом Он напоминает нам, что созданный Им для людей мир прекрасен, как сказка. И, словно бы подтверждая ее слова, с серого декабрьского неба крупными хлопьями повалил снег. Вопреки своему уродству, несмотря на бесполезные ноги и искривленные руки, презрев всю боль, которую она испытала, Эмми верила в милость Бога и воодушевляющую справедливость сотворенного Им мира. Твердая вера была свойственна почти всем детям в больнице Святого Иосифа. Они не сомневались, что заботливый Отец следит за ними из Своего царства небесного, и это придавало им мужества. Брендану представилось, как отец Вайцежик с укором говорит ему: «Если эти невинные создания при всех своих страданиях не утратили веру, какое оправдание есть у тебя для этого, Брендан? Не кажется ли тебе, Брендан, что в своей невинности и наивности они знают нечто такое, что ты успел забыть за время изучения премудростей богословия в Риме? Быть может, тебе следует кое-чему у них поучиться? Подумай над этим, Брендан». И все равно этот урок не возымел достаточного воздействия. Брендан был до глубины души растроган, но не вероятностью существования заботливого и сострадательного Господа, а поразительным мужеством, с которым дети встречали выпавшие на их долю страдания. Он сто раз провел щеткой по волосам Эмми, потом еще десять, чем доставил девочке дополнительное удовольствие, после чего на руках отнес ее в кровать. Укутывая одеялом ее худые кривые ноги, он вдруг ощутил приступ сильного гнева, аналогичный тому, что испытал во время мессы в церкви Святой Бернадетты две недели назад, и, будь сейчас в его руках снова потир, он бы без колебания вновь швырнул его. Эмми от удивления открыла рот, и Брендану подумалось, что она прочла его святотатственные мысли. Однако она сказала: — Ой, Толстяк, ты поранился? — Что ты имеешь в виду? — Ты обжегся? Посмотри на свои руки. Что с ними? Озадаченный ее вопросом, он посмотрел на свои руки, повернул их ладонями вверх и с удивлением увидел на них красные круги. Кожа припухла и пылала, как при ожоге. Каждое из колец было по два дюйма в диаметре, с четко очерченной окружностью, причем ширина этой ярко-красной каймы не превышала половины дюйма; кожа внутри и снаружи круга была совершенно нормальной. Странные знаки на ладонях казались нарисованными, но, когда Брендан потрогал один из них кончиком пальца, он почувствовал припухлость. — Странно, — задумчиво произнес он.
* * *
Доктор Стэн Хитон, дежуривший в этот день в палате неотложной помощи при больнице Святого Иосифа, с интересом осмотрел ладони Брендана и спросил: — Болит? — Нет. Абсолютно, — ответил Брендан. — Чешется? Жжет? — Нет, ни то, ни другое. — Ну хотя бы покалывает? Тоже нет? И раньше такого тоже никогда не замечали? — Никогда. — У вас есть на что-нибудь аллергия? Нет? Гм, странно. Впечатление, как от свежего ожога, но вы бы помнили, что схватились за что-то горячее. И было бы больно. Так что это можно исключить. То же самое и в отношении ожога кислотой. Вы говорите, что отвозили девочку в рентгеновский кабинет? — Верно, но я выходил из него, когда ей делали процедуру. — Да и непохоже это на радиационный ожог. Может быть, какое-то грибковое заболевание, но симптоматика нетипична: ни зуда, ни жжения. И кольца слишком четко очерчены, совсем не так, как при поражении микроспорами или трихофитонами. — Тогда на что же это похоже? — Не думаю, что это что-то серьезное, — после недолгого раздумья сказал Хитон. — Скорее всего это высыпание, обусловленное неустановленной аллергией. Если оно не пройдет, вам нужно будет пройти обычное в таких случаях обследование и выяснить источник аллергии. Он отпустил руку Брендана, отошел к письменному столу и, сев за него, стал выписывать рецепт. Брендан с недоумением посмотрел на руки и положил их на колени. — Для начала я пропишу вам кортизоновые примочки, а если через пару дней сыпь не исчезнет, зайдите снова ко мне. — С этими словами он встал и с рецептом в руке подошел к Брендану. Брендан взял у него рецепт. — Послушайте, а это не заразная болезнь? Я не могу заразить детей? — Нет-нет, иначе я предупредил был вас. Позвольте еще разок взглянуть. Брендан протянул ему руки ладонями вверх. — Что за чертовщина? — воскликнул доктор Хитон. Странные круги исчезли. Ночью в гостиницеБрендана опять мучил тот же кошмар, о котором он рассказывал отцу Вайцежику. На прошлой неделе этот сон снился ему дважды. Ему снилось, что он лежит в незнакомом месте со связанными руками и ногами. Из сумрака к нему тянутся две руки в блестящих черных перчатках. Он проснулся в скомканной и насквозь мокрой от пота постели, сел, прислонившись к спинке в изголовье, и потер ладонями лицо, чтобы прогнать остатки сна. Когда ладони коснулись щек, его словно бы ударило током. Он включил ночник. Распухшие огненные кольца вновь проявились на ладонях. Однако, пока он рассматривал их, они исчезли. Было 12 декабря, четверг.8
Лагуна-Бич, КалифорнияПроснувшись утром в четверг в постели, Доминик Корвейсис уже было решил, что он спокойно проспал там всю ночь, не сдвинувшись с места ни на один дюйм, в том же положении, в котором и заснул накануне вечером. Но когда он сел за компьютер, то обнаружил, что заблуждается: сомнамбулизм и не думал отступать, о чем свидетельствовала новая, сделанная им во сне запись на диске. Но если раньше он записывал слова: «Мне страшно», то теперь на экране дисплея мерцало другое слово: «Луна». «Луна. Луна. Луна. Луна. Луна. Луна. Луна. Луна». Это слово повторялось сотни раз, и он сразу вспомнил, как однажды, засыпая, шептал его, — кажется, это было в минувшее воскресенье. Уставившись на экран, похолодевший от страха Доминик тщетно пытался сообразить, какой тайный смысл заложен в этом слове — «луна» — и был ли в нем вообще какой-либо смысл. Прописанные лекарства действовали на него вполне благотворно: до сегодняшнего дня вот уже неделю он ни разу не бродил по дому ночью и не видел страшных снов вроде того, крайне неприятного, в котором его пытались утопить в раковине с чудовищным стоковым отверстием. Он был у доктора Коблеца, тот порадовался улучшению здоровья пациента и продлил курс лечения. — Но прошу вас, не принимайте валиум чаще чем два раза в день, — строго предупредил он. — Я так и поступаю, — солгал Доминик. — И по одной таблетке снотворного на ночь, иначе вы привыкнете к лекарству, а это нежелательно. Уверен, мы победим эту напасть к Новому году. Доминик верил, что так оно и будет, и поэтому не хотел огорчать доктора Коблеца признанием в нарушении его предписаний: бывали дни, когда он держался лишь благодаря успокоительному, и ночи, когда он принимал по две-три таблетки снотворного сразу, запивая их пивом или виски. Он надеялся, что через пару недель сможет обходиться без лекарства, не опасаясь, что сомнамбулизм вернется к нему: ведь лечение шло успешно, а это был добрый знак, слава богу. Да, лечение шло успешно. До сегодняшнего дня. Луна. Разбитый и злой, он стер с диска сотни строк с этим словом, повторявшимся четыре раза на каждой строке, и долго еще смотрел на экран, чувствуя, как нарастает в нем раздражение. В конце концов он принял валиум.
* * *
В то утро Доминик уже не мог работать, и в половине двенадцатого они с Паркером Фейном заехали за Денни Ульмесом и Нгуен Као Чаном — своими подопечными из отделения благотворительной организации «Американские старшие братья» в округе Ориндж. Планы у них были грандиозные: днем — пляж, обед в «Хамбургер хэмлит», а потом — кино. Доминику хотелось развеяться. В программе «Старшие братья» он начал участвовать еще когда жил в Портленде, штат Орегон. Это была его единственная отдушина, спасение от прозябания в своей кроличьей норе. Сам сирота, проведший детство и юность в чужих домах, он знал, что такое одиночество, и мечтал когда-нибудь, когда он наконец женится, усыновить нескольких детей. И, посвящая досуг детям, он помогал не только им, но и самому себе, потому что в душе оставался сиротой. Нгуен Као Чан предпочитал, чтобы его звали, как его любимого киноартиста Джона Уэйна, — Герцогом. Герцогу было тринадцать лет, он был младшим сыном во вьетнамской семье, бежавшей от ужасов «мирного» Вьетнама на лодке. Это был смекалистый паренек, худой и шустрый. Его отец, выживший в жестокой войне, а потом в концентрационном лагере, перенесший двухнедельное плавание в утлом суденышке по океану, погиб три года назад от рук бандитов, ограбивших магазинчик в солнечной Южной Калифорнии, где он подрабатывал но ночам. Денни Ульмес, двенадцатилетний «младший брат» Паркера, осиротел, когда его отец умер от рака. Он был более скрытен, чем Герцог, но они сдружились. Доминик и Паркер частенько брали их обоих вместе на пикники и загородные прогулки. Паркер стал «старшим братом» по настоянию Доминика, хотя и упорно противился этому поначалу. — Да какой из меня отец, — кричал Паркер. — У меня и в мыслях никогда не было стать отцом. Я пью, обожаю женщин. Чему у меня может научиться ребенок? Я эгоист, мечтатель, все откладывающий на потом. И мне нравится такая беспечная жизнь! Ну что, скажи мне бога ради, могу я предложить ребенку? Я ведь даже собак не люблю, а дети — все равно что собаки, а я их не переношу, этих чертовых блохастых тварей. Нет, ты определенно тронулся рассудком, дружище. Но в четверг на пляже Паркер пересмотрел свое отношение к идее Доминика. Вода в тот день была слишком холодной, чтобы купаться, и Паркер предложил поиграть в волейбол и в одну довольно непростую игру собственного изобретения, после чего возглавил строительство песочной крепости и страшного дракона. За обедом в Коста-Месе Паркер сказал: — Знаешь, дружище, а эта идея со «старшими братьями» не так уж и плоха. Даже чертовски хороша, я должен тебе сказать. Это, пожалуй, самая грандиозная идея из всех, которые приходили мне в голову. — Тебе в голову? — изумленно вытаращился на него Доминик. — Да ведь мне пришлось чуть ли не пинками тебя гнать! — Чепуха! — твердо заявил Паркер. — Я всегда ладил с детьми. Каждый художник сам немного ребенок в душе. Нам нужно оставаться молодыми, чтобы творить. Дети вдохновляют меня, придают мне свежих мыслей и сил. — Теперь тебе остается только завести собаку. Паркер рассмеялся, допил пиво и наклонился к нему поближе. — Похоже, с тобой все в порядке. А утром ты был слегка не в своей тарелке. Верно? — Много проблем, — сказал Доминик. — Но я держусь. По ночам гуляю по дому уже реже. И кошмары почти прекратились. Доктор Коблец свое дело знает. — Как продвигается новая книга? Только не морочь мне голову, говори прямо. — Хорошо, — соврал Доминик. — Когда ты говоришь с такой миной, — Паркер внимательно вгляделся в Доминика, — сразу видно, что ты наглотался таблеток. Надеюсь, ты не злоупотребляешь ими? Проницательность художника вконец обескуражила Доминика. — Я же не идиот, чтобы сосать валиум, как леденцы. Конечно, я принимаю только нужную дозу, — пробормотал он. Паркер смерил его пристальным взглядом, но не стал углубляться в этот вопрос. Фильм, на который они пошли, был интересный, но первые полчаса Доминик нервничал. Когда беспокойство уже грозило перерасти в нервный срыв, он выскользнул в туалет, где судорожно запихнул в рот успокаивающую пилюлю. Но главное, что он все-таки побеждал болезнь. Он выздоравливал. Сомнамбулизм отступал. В туалете воняло мочой, несмотря на сильный хвойный запах дезинфекции. У Доминика закружилась голова, и он поспешно проглотил пилюлю, даже не запив ее водой. В ту ночь страшный сон вновь приснился ему, хотя он и накачался снотворным. Но на этот раз Доминику уже запомнилась большая его часть, а не только та, где его суют головой в раковину. Итак, он был в какой-то комнате, где все словно бы затянулось густым туманом. Или же туман был лишь перед его глазами, во всяком случае, он ничего толком не мог разглядеть. Рядом с кроватью была какая-то мебель, еще было не менее двух незнакомых мужчин. Очертания их расплывались, словно это были струйки дыма. Ему казалось, что он где-то под водой, очень глубоко в толще загадочного холодного океана. Доминик дышал с трудом. Каждый вдох и выдох был мучителен, словно агония. Он чувствовал, что умирает. Две неясные фигуры приблизились, взволнованно переговариваясь: похоже, их беспокоило состояние Доминика. Разговор шел на английском, однако Доминик ничего не понимал. Потом его коснулась холодная рука, звякнула какая-то склянка, где-то хлопнула дверь… Действие стремительно, словно в кино, переместилось на кухню или в ванную. Кто-то тыкал его лицом в раковину. Дышать стало еще труднее. Воздух сгустился и, казалось, застревал в ноздрях, прилипал к ним. Он пытался выдохнуть его, почти задыхаясь, а те двое незнакомцев орали на него, но он так ничего и не понимал из того, что они пытались ему внушить, и они снова и снова тыкали его лицом в раковину… Доминик проснулся: он лежал в постели. В прошлую субботу он стряхнул с себя сон не на кровати, а в ванной. На сей раз он был под одеялом. «Я все-таки выздоравливаю», — подумалось ему. Дрожа всем телом, он встал и включил свет. Никаких баррикад. Никаких следов паники во сне. Он взглянул на электронные часы: 2 часа 9 минут. На ночном столике стояла наполовину пустая банка пива, теперь уже теплого. Он запил пивом таблетку снотворного. Я выздоравливаю. Была пятница, 13 декабря.9
Округ Элко, НевадаВ пятницу ночью, спустя три дня после необычайного происшествия на шоссе по дороге домой, Эрни Блок вообще не сомкнул глаз. Едва темнота сгустилась вокруг него, его нервы напряглись как струна, и он с трудом сдерживался, чтобы не закричать. Бесшумно выбравшись из-под одеяла и убедившись, что Фэй спит, он прошел в ванную, закрыл за собой дверь и включил свет. Какое это чудо — свет! Ему сразу полегчало. Минут пятнадцать Эрни наслаждался светом, как ящерица, греющаяся на солнышке на камне, только он сидел на крышке унитаза. Наконец он сообразил, что нужно снова ложиться в постель. Что, если Фэй проснется, а его нет рядом? Что она подумает? Ему не хотелось, чтобы она что-то заподозрила. Хотя он и не воспользовался унитазом, он на всякий случай спустил воду и вымыл руки. Сдернул с сушилки полотенце, и в этот момент взгляд его упал на окно. Оно было над ванной, прямоугольник три фута шириной и высотой два фута. Сейчас окно замерзло и за ним ничего не было видно, но у Эрни все равно пополз по спине холодок. Мало того, вслед за гусиной кожей ему в голову сами собой пришли какие-то странные мысли, от которых он еще больше похолодел: «Через это окно вполне можно пролезть и таким образом скрыться, исчезнуть, а крыша подсобки прямо под окном, я не разобьюсь и буду свободен, спущусь сперва в овраг за мотелем, а оттуда уйду в горы, на восток, доберусь до какой-нибудь фермы, там мне помогут…» Мысль пронеслась у него в мозгу, словно полуночный экспресс, и Эрни даже не заметил, как залез на край ванны. Его охватило стремление бежать. Но от кого? От чего? Почему? Ведь он был у себя дома, ему нечего было бояться в этих стенах. И тем не менее он как зачарованный смотрел на замерзшее окно. Навязчивая идея пленила его, и он, осознавая это, ничего не мог с собой поделать. «Нужно выбраться отсюда, скрыться, другого случая не представится, нужно ловить момент, давай действуй, не медли…» Окно было на уровне его лица, голые ступни уже начинали мерзнуть на холодной эмали ванны. «Открой окно, подтянись на руках и вылезай, не теряй драгоценные минуты…» Без всякой на то причины он нервничал все сильнее. У него неприятно тянуло под ложечкой и перехватывало дыхание. Не зная, зачем он это делает, Эрни против своей воли отодвинул шпингалет и отворил окно. Он был не один. Кто-то притаился за окном, на крыше пристройки, кто-то с темным, бесформенным, блестящим лицом. Даже отшатнувшись от окна, Эрни сообразил, что это был мужчина в белом мотошлеме с затемненным щитком, закрывавшим все его лицо, отчего оно казалось почти черным. В проеме возникла рука в черной перчатке и потянулась к горлу Эрни. Он закричал, отступил на шаг и, соскользнув с края ванны, упал в нее, сорвав рукой клеенчатую занавеску и больно ударившись бедром. — Эрни! — услышал он испуганный крик Фэй, а в следующую секунду в ванную ворвалась и она сама. — Эрни, боже мой, что случилось? Что с тобой? — Выйди, — кривясь от боли, крикнул он, с трудом вылезая из ванны. — Там кто-то есть. Холодный ветер, ворвавшийся через открытое окно, терзал остатки порванной занавески. Фэй поежилась от холода, потому что на ней была одна пижама. Эрни тоже била мелкая дрожь, но не только от холода. Когда он упал, больно ударившись бедром, в голове его сразу просветлело и он вдруг задался вопросом: была ли голова в шлеме на самом деле или это ему померещилось? — На крыше? — удивилась Фэй. — Под окном? Но кто там может быть? — Не знаю, — ответил Эрни, потирая бедро, и вновь выглянул в окно. На этот раз он никого не заметил. — Ну хоть как он выглядел? — Трудно сказать. На нем был мотоциклетный шлем и перчатки, — пожал плечами Эрни, сам понимая, как дико все это звучит. Он снова выглянул на улицу и посмотрел на крышу под окном. Там никого не было, незнакомец исчез — если он вообще был. Эрни вдруг пронзила мысль о том, как же вокруг темно. Мрак окутал холмы, горы на горизонте, все огромное пространство вокруг мотеля, и только звезды мешали его полному торжеству. Эрни в ужасе отшатнулся и поспешно отвернулся от окна. — Закрой на задвижку, — сказала Фэй. Эрни зажмурился, чтобы не видеть темноты, нащупал скобу на раме и дернул ее на себя с такой силой, что едва не вылетело стекло. Трясущимися руками он задвинул шпингалет. Когда он наконец вылез из ванны, то заметил в глазах Фэй тревогу и удивление. К этому он был, в общем-то, готов. Хуже было другое: по ее пронзительному взгляду он понял, что она все знает, а к этому-то как раз он готов и не был. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Наконец Фэй произнесла: — Ну, ты созрел, чтобы все мне рассказать? — Так ведь я уже сказал, что видел на крыше какого-то парня, — неуверенно ответил Эрни, пряча глаза. — Я не об этом, Эрни, — просверлила его взглядом Фэй. — Я спрашиваю о другом: что гложет тебя? Что с тобой вообще происходит в последнее время? За два-три месяца ты сильно изменился. Эрни онемел, он не ожидал, что Фэй все подмечает. — Дорогой, тебя что-то тревожит. Я тебя никогда таким не видела. Более того, ты чем-то напуган. — Ну, это не совсем так… — Нет, именно напуган, — повторила Фэй очень спокойно и доброжелательно. — Я только один раз видела тебя напуганным, когда Люси заболела — помнишь, ей было пять, и у нее заподозрили мышечную дистрофию. — Да, в самом деле, тогда я чертовски струхнул, — признался Эрни. — Но после этого ты уже ничего не боялся. — Ну, во Вьетнаме тоже порой было страшновато, — сказал он, и его признание гулко отозвалось эхом от стен и потолка ванной. — Я этого не замечала, — возразила Фэй. — Когда страшно тебе, Эрни, то страшно становится и мне, так уж я устроена. Мне даже хуже, чем тебе, потому что я не знаю, в чем дело. Понимаешь? Неизвестность хуже любой самой ужасной тайны, которую ты от меня скрываешь. Она расплакалась. — Эй, только без слез, — забеспокоился Эрни. — Все будет хорошо, Фэй, я обещаю. — Расскажи мне правду! — потребовала Фэй. — Хорошо. — И сейчас же, все без утайки! Эрни все еще не мог взять себя в руки, проклиная свою тупость и непрозорливость. Ведь Фэй была его женой, она повсюду следовала за ним, когда он служил в морской пехоте, даже на Аляску. Разве что во Вьетнаме и Бейруте не была. Она стойко переносила все тяготы походной жизни, никогда не жаловалась, держалась молодцом, ни разу не подвела его. Как же он мог об этом забыть! — Хорошо, без утайки, — повторил он с облегчением.
* * *
Фэй сварила кофе и, усевшись в пижаме и шлепанцах за кухонным столом, приготовилась слушать исповедь мужа. Она видела, что тот волнуется, и не перебивала его, пока он, морща лоб, пытался вспомнить подробности. Просто не спеша отхлебывала свой кофе и слушала. Эрни был почти идеальным мужем, любая женщина могла о таком мечтать, но порой фамильная тупость вдруг втемяшивалась ему в голову, и тогда Фэй приходилось призывать мужа к здравому смыслу. Упрямство было характерной чертой всех Блоков, особенно мужчин. Они всегда думали только по-своему и никогда — иначе, и объяснить это было невозможно. Например, мужчины семейства Блок любили выглаженные сорочки, но им было наплевать, выглажены ли их подштанники. Женщины всегда носили лифчик, даже дома, в любую жару. И женщины, и мужчины этой семьи садились за ленч ровно в половине первого, обедали в половине седьмого, и не приведи господи появиться блюдам на столе двумя минутами позже: поднимался жуткий скандал. Ездили все Блоки исключительно на автомобилях «Дженерал моторс», и не потому, что эти машины лучше других, а потому, что так в этой семье было заведено. Слава богу, Эрни был помягче своего отца и братьев. У него хватило мозгов уехать из Питсбурга, где жило много поколений клана Блоков. В морской пехоте он не мог рассчитывать на обед точно в излюбленное его родственниками время, а вскоре после того, как они поженились, Фэй ясно дала понять ему, что готова обеспечивать в их доме образцовый уют и порядок, но не желает слепо соблюдать нелепые традиции. Эрни свыкся с этим, хотя и не сразу, и теперь для родственников он стал белой вороной: такой грех, как езда на автомобилях иных, кроме «Дженерал моторс», фирм, они ему простить не могли. Единственное, в чем Эрни не отступал от семейных традиций, был его взгляд на взаимоотношения мужчин и женщин. Он полагал, что муж обязан избавить жену от всяческих неприятностей и дел, с которыми она в силу своей хрупкости не могла справиться. Он считал, что муж не должен позволять своей жене видеть его в минуту слабости. И за все годы их семейной жизни Эрни, похоже, так и не понял, что она уже давно протекает совсем не в русле традиций клана Блоков. Фэй вот уже несколько месяцев как подметила неладное в поведении мужа. Но Эрни упорно делал вид, что все нормально, что он вполне доволен жизнью отставного морского пехотинца, начавшего свою новую карьеру хозяина мотеля. Фэй видела, что его что-то гложет, но все ее робкие попытки склонить его к откровенности просто не воспринимались им. За несколько недель, минувших после ее возвращения из Висконсина, Фэй неоднократно получала подтверждения подмеченным ею странностям в его поведении: он боялся выходить из дома по вечерам, неуютно чувствовал себя в помещении, если там оставалась незажженной хотя бы одна лампа. И теперь, сидя за кухонным столом с чашкой дымящегося кофе в руке и внимательно слушая Эрни, она старалась не задавать лишних вопросов, потому что уже знала, что сможет помочь ему. Она понимала, в чем корень его страданий, и не сомневалась, что беда эта поправима. Свою исповедь Эрни завершил тихим и полным отчаяния восклицанием: — И это награда за годы тяжелой службы и тщательного финансового расчета? Преждевременное слабоумие? И это тогда, когда мы со спокойной душой можем начать наслаждаться плодами сделанного! А вместо этого у меня ум заходит за разум, я писаю в штаны и становлюсь ненужным ни самому себе, ни тебе. Ну почему так рано? Фэй, клянусь, я всегда понимал, что жизнь скверная штука, но не думал, что она так больно ударит меня. — Этого не будет, — сказала она, беря его за руку. — Конечно, старческий маразм может поразить людей и помоложе, но я уверена, что это у тебя не болезнь Альцгеймера. Судя по тому, что я читала, и по тому, как это было с моим отцом, слабоумие так не проявляется. Все это больше похоже на фобию. Некоторые люди испытывают необъяснимый страх перед высотой, не переносят самолетов. А у тебя развился страх перед темнотой, но в этом нет ничего страшного, это пройдет. — Но ведь эти фобии не охватывают человека ни с того ни с сего? — возразил Эрни. Она сжала его руку: — Ты помнишь Хелен Дорфман? Ту, у которой мы снимали квартиру почти двадцать четыре года тому назад, когда ты служил в Кемп-Пендлтоне? — Да, конечно! Дом стоял на Вайн-стрит, мы жили в шестой квартире, а она сама в первой, на первом этаже. У нее, помнится, была кошка — она еще приносила нам под дверь разные подарки. — Дохлых мышей. — Да, и клала их рядом с газетой и пакетом молока. Эрни рассмеялся: — Похоже, я знаю, к чему ты клонишь! Хелен боялась выходить из дома, даже на свой собственный газон. — У бедняжки была боязнь пространства, агорафобия. Она была пленницей собственной квартиры. На улице ее охватывал страх. Она впадала в панику. — Впадала в панику, — тихо повторил за ней Эрни. — Как это верно. — С ней это случилось после смерти мужа, когда ей было тридцать пять. Страхи развиваются внезапно, и от возраста это не зависит, понимаешь? — В любом случае фобия лучше, чем старческий маразм, — угрюмо заметил Эрни. — Но, боже праведный, мне бы чертовски не хотелось остаток жизни трястись от страха перед темнотой. — А ты и не будешь ее бояться, — заверила мужа Фэй. — Раньше врачи не понимали природу фобии, не было и эффективного лечения. Но теперь все изменилось, я в этом не сомневаюсь. — Но я не сумасшедший, Фэй, — взглянул он на жену после некоторого раздумья. — Я в этом и не сомневаюсь, глупыш. В глазах Эрни светилась надежда, ему явно понравилось необычное слово «фобия». — Но как вписывается в твои объяснения тот странный случай на шоссе? А эти галлюцинации сегодня? Мотоциклист на крыше, который, я уверен, мне привиделся, — как он соотносится с моими страхами? — Вот этого я не знаю, — ответила Фэй. — Но не сомневаюсь, что опытный врач все может объяснить и увязать. Все не так сложно, как тебе это кажется, Эрни. — Хорошо, — оживился он, немного подумав. — Так с чего же мы начнем? К кому обратимся за помощью? Как мне побороть эту проклятую напасть? — Я уже думала об этом, — сказала Фэй. — В Элко нет специалистов, которые могли бы тебе помочь. Нам нужен врач, постоянно имеющий дело с разными формами фобии. В Рино мы его тоже вряд ли найдем, так что придется отправиться в какой-то крупный город, может быть, в Милуоки: там мы сможем пожить у Люси и Фрэнка… — И повидаться с внуками, — улыбнулся Эрни. — Вот именно, — кивнула Фэй. — Мы поедем туда на неделю раньше, чем планировали, в ближайшее воскресенье, то есть завтра: ведь сегодня уже суббота. В Милуоки мы наверняка найдем врача. Если будет нужно, мы там задержимся до Нового года. Я могу слетать и уговорить кого-нибудь поработать здесь вместо нас, а потом вернусь к тебе. Мы же собирались нанять помощников весной, так сделаем это чуть раньше. — Если мы закроем мотель на неделю раньше, Сэнди и Нед недоберут выручку в гриль-баре, — заметил Эрни. — Шоферам-дальнобойщикам мотель не нужен, было бы где перекусить. Так что заведение Сэнди не останется без клиентов. В крайнем случае мы им выплатим разницу. — Я гляжу, ты все рассчитала, — улыбнулся Эрни. — Ты чудо, Фэй! — Да, не скрою, порой я бываю просто неотразима. — Я не устаю благодарить Бога за то, что встретил тебя. — Я тоже не жалею, Эрни, и уверена, что никогда не пожалею. — Знаешь, мне уже гораздо лучше, чем до нашего разговора. Сам не пойму, какого черта я так долго не советовался с тобой? — И ты еще удивляешься? Ведь ты Блок! — И поэтому у меня в голове частенько замыкает, — ухмыльнулся Эрни. Они рассмеялись. Он сжал ей руку и поцеловал ее. — Впервые смеялся от души за последнее время, — признался Эрни. — Мы отличная парочка, Фэй. Нам ничто не страшно, когда мы вместе. Правда? — Правда, — кивнула она. Было раннее утро субботы 14 декабря, и Фэй Блок не сомневалась, что они справятся с бедой, свалившейся на Эрни, как всегда справлялись с трудностями, если брались за дело сообща. И она, и Эрни уже позабыли о странной цветной фотографии, полученной в минувший вторник.10
Бостон, МассачусетсНа кружевной салфетке на полированном кленовом туалетном столике лежали блестящие черные перчатки и офтальмоскоп из нержавеющей стали. Стоя слева от столика возле окна, Джинджер Вайс смотрела на залив: сейчас он походил на зеркальное отображение свинцового декабрьского неба в ненастный день. Вязкий утренний туман тускло-жемчужного цвета укутал берег, завис рваными хлопьями на частном причале, врезавшемся в неспокойные воды залива у подножия скалы возле границы владений Ханнаби. Причал запорошило снегом, еще больше его нанесло на лужайку перед домом. Это был громадный дом, возведенный в середине прошлого столетия и позже неоднократно перестраивавшийся, с огромной галереей, нависшей над извилистой брусчатой дорожкой, которая вела к широким ступеням и массивным дверям, с колоннами, пилястрами, резными гранитными перемычками и искусными украшениями над круглыми и ромбовидными окнами мансарды, с балконами и прогулочной площадкой на крыше — словом, настоящий замок. Такой особняк был бы не по карману даже столь преуспевающему хирургу, как Джордж, но ему не пришлось за него платить: дом перешел к нему от отца, который, в свою очередь, унаследовал его от деда Джорджа, отец которого и купил его в 1884 году. У этого здания даже было имя — «Страж Залива», как у всех имений или замков в английских романах, и это внушало Джинджер благоговейный трепет: в Бруклине, где она выросла, у домов не было имен. В клинике Джинджер никогда не тяготило присутствие рядом с ней Джорджа: он был ее шефом, и, безусловно, она уважала его, но при всем при том он оставался вполне земным человеком. Здесь же, в старинном особняке, она впервые почувствовала, что он принадлежит к высшему сословию и между ними пролегла пропасть. Джордж не проявлял высокомерия, в этом его как раз нельзя было упрекнуть, но сам аристократический дух, витавший в комнатах и коридорах «Стража Залива», нередко напоминал ей, что она здесь чужая. Угловой флигель для гостей, в котором поселили Джинджер, был обставлен довольно скромно по сравнению с другими комнатами особняка, и она чувствовала себя почти как в своей квартире. Пол из дубового паркета был устлан цветастым ковром в голубовато-розовых тонах, стены тоже были бледно-розовыми, а потолок — белым. Кленовая мебель — шкаф, ночной столик, комод — когда-то принадлежала прадеду Джорджа, владевшему многими торговыми судами. Пара старинных кресел с прямыми спинками была обита розовым шелком: подставки светильников на ночных столиках когда-то служили канделябрами (они были выполнены в стиле «баккара»), а теперь напоминали о том, что относительная простота убранства комнаты покоится на изящном основании. Джинджер подошла к столику и стала рассматривать черные перчатки на салфетке. Как и в бесчисленных предыдущих случаях за минувшие десять дней, она примерила их, сжимая и разжимая ладони в ожидании приступа страха. Но это были обычные перчатки, купленные ею в день выписки из больницы, и они не обладали чудодейственной, могущественной силой обращать ее в паническое бегство. Джинджер не без некоторого разочарования сняла их. Раздался стук в дверь, и голос Риты Ханнаби спросил: — Джинджер, дорогая, ты готова? — Сейчас иду. Джинджер бросила быстрый взгляд на свое отражение в зеркале на столике и подхватила с кровати сумочку. В трикотажном костюме лимонного цвета и кремовой водолазке с лимонным воротником, в зеленых туфельках в тон платью и с лаковой сумочкой в тон туфелек, с малахитовым, на золоте, браслетом на запястье, золотоволосая Джинджер казалась себе просто шикарной, во всяком случае, одетой со вкусом. Но стоило ей только выйти в коридор и взглянуть на Риту Ханнаби, как она тотчас же скисла, почувствовав свою несостоятельность в сравнении с ней. Такая же худенькая, как и Джинджер, Рита была на шесть дюймов выше ростом, и все в ее облике выглядело по-королевски: и безукоризненно подстриженные гладкие темно-каштановые волосы, и нежная кожа лица, и полные губы, смягчающие его несколько строгие черты, и лучистые серые глаза. На Рите были строгий серый костюм, жемчужное ожерелье, жемчужные серьги и черная шляпа с широкими полями. Но больше всего поразило Джинджер то, с какой неподдельной легкостью она держалась. По ней никак нельзя было сказать, что она специально готовилась, чтобы произвести своим внешним видом триумф. Нет, глядя на нее, можно было скорее подумать, что она родилась такой ухоженной и одетой по последней моде; элегантность была ее естественным состоянием. — Ты потрясающе выглядишь! — воскликнула Рита. — Но рядом с тобой я чувствую себя замарашкой в синих джинсах и свитере, — ответила Джинджер. — Чепуха. Будь я даже на двадцать лет моложе, мне бы все равно не затмить тебя. Увидишь сама, вокруг кого будут носиться официанты. Джинджер была чужда ложная скромность, она знала, что недурна собой. Но то была красота доброй феи, но никак не принцессы: в отличие от Риты, в ее жилах явно не текла голубая кровь и ей не суждено было восседать на троне. Тем не менее Рита ничем не унизила ее и не позволила себе ничего такого, что могло бы вызвать у Джинджер комплекс неполноценности. Она обращалась с гостьей даже и не как с дочерью, а как с сестрой или с ровней, так что чувство ущербности, испытываемое Джинджер, было, конечно же, следствием ее нынешнего подавленного состояния. Еще две недели назад, до этих припадков страха, ввергнувших ее в полное отчаяние, Джинджер ни от кого не зависела. Теперь же она попала в зависимость, потому что не могла контролировать себя, и с каждым днем все меньше уважала себя за это. И ни мягкий добрый юмор Риты Ханнаби, ни тщательно продуманные совместные выходы в свет, ни доверительные беседы не могли отвлечь Джинджер от гнетущей мысли, что в тридцать лет злой рок превратил ее в беспомощного ребенка. Они спустились в фойе с мраморным полом, взяли в гардеробе пальто, вышли из дома и по массивным ступеням сошли вниз к ожидавшему их на дорожке черному «Мерседесу-500» — Герберт, дворецкий и верный Пятница семьи Ханнаби, предусмотрительно подогнал его поближе за пять минут до их выхода, оставив двигатель включенным, так что в салоне было тепло и уютно. Рита вела машину уверенно, и вскоре старинные особняки и тихие улочки с обнаженными тополями и вязами за окном «Мерседеса» сменились оживленными транспортными артериями, ведущими к кабинету доктора Иммануеля Гудхаузена на суматошной Стейт-стрит. Доктор Гудхаузен ждал Джинджер в половине двенадцатого на очередной прием: она уже дважды была у него на прошлой неделе и должна была теперь посещать его каждый понедельник, среду и пятницу до тех пор, пока не выяснится причина ее приступов панического бегства. В минуты уныния Джинджер порой казалось, что ей суждено пролежать на кушетке в кабинете доктора Гудхаузена всю оставшуюся жизнь. Рита намеревалась походить по магазинам, пока Джинджер будет на консультации. Потом они собирались сходить в шикарный ресторан, где Рита Ханнаби, конечно же, предстала бы в полном блеске своего величия, а Джинджер вновь чувствовала бы себя школьницей, пытающейся сойти за взрослую. — Ты обдумала предложение, которое я сделала в прошлую пятницу? — спросила Рита, не отрывая взгляда от дороги. — В отношении благотворительной работы в клинике? — Мне кажется, я не подойду для этой работы. Я буду стесняться, — сказала Джинджер. — Это чрезвычайно важная работа, — сказала Рита, ловко обогнав грузовичок с эмблемой «Бостон глоб». — Я понимаю. Я знаю, как много ты сделала для клиники, но сейчас, мне кажется, мне не стоит там пока появляться: слишком тяжело свыкнуться с мыслью, что я больше не гожусь для того, чему так долго училась. — Я тебя понимаю, дорогая. Забудь об этом. Но ведь есть еще и Женская лига помощи престарелым, и Комитет защиты детей. Ты могла бы найти себе там применение. Неутомимая труженица на ниве благотворительности, Рита не только участвовала в самых различных комитетах или сотрудничала с ними, но не гнушалась и черноты практической работы. — Так что ты скажешь на это? — продолжала развивать свою мысль она. — Мне думается, тебя увлечет работа с детьми. — Рита, а что, если приступ случится, когда я как раз буду с детьми? Ведь они испугаются, а я… — Ах, оставь, ради бога! — фыркнула Рита. — Это всего лишь отговорки, чтобы не появляться на людях. Все будет в порядке, я уверена. И не бойся поставить меня в неудобное положение, это не так уж легко сделать. Меня трудно чем-либо смутить, дорогая. — Да я и не считала тебя за недотрогу. Но ведь ты не видела, что со мной творится во время приступа. По правде говоря, я и сама не знаю, как я выгляжу в такой момент… — Ради бога, только не делай из себя чудовище! Ведь ты не забила никого до смерти палкой, мисс Чудовище? — Ну, Рита, ты человек! — расхохоталась Джинджер. — Превосходно! В таком случае ты уже член нашего комитета. Хотя Рита и не рассматривала Джинджер как объект для благотворительности, она твердо решила использовать ее случай в качестве повода для расширения поля своей кипучей деятельности. Она уже засучила рукава и посвятила себя опеке над Джинджер, и ничто на свете не могло ее остановить в этом благородном порыве. Забота Риты была приятна Джинджер, но мысль о том, что она в таковой нуждается, угнетала ее. Они остановились у светофора, со всех сторон зажатые легковыми автомобилями, грузовиками, автобусами и такси. В «Мерседесе» какофония центра города несколько приглушалась, но не стихала окончательно, и, когда Джинджер выглянула в окно, пытаясь установить конкретный источник особенно раздражавшего ее рокота, она увидела большой мотоцикл. Мотоциклист обернулся на нее, но ей не удалось рассмотреть его лицо: на голове у него был шлем с затемненным щитком, закрывавшим все лицо до подбородка. Впервые за последние десять дней Джинджер вновь окутал дурманящий туман, и это произошло гораздо быстрее, чем раньше, в случаях с черными перчатками, офтальмоскопом и отверстием в умывальнике. Она лишь взглянула на черный блестящий щиток, и ее сердце бешено заколотилось, у нее перехватило дыхание, и мощная волна страха смыла ее с сиденья «Мерседеса».
* * *
Первое, что услышала Джинджер, было надрывное гудение автомобилей: ей сигналили водители легковых машин, автобусов и грузовиков. Сигналы ревели, визжали, стонали, квакали, гавкали со всех сторон. Она открыла глаза. Зрение ее обрело четкость. Она вновь сидела в салоне «Мерседеса», стоявшего перед светофором. Мотор работал, машина несколько продвинулась вперед, ближе к перекрестку, и слегка заехала в соседний ряд, мешая проезду других автомобилей, из-за чего они и сигналили столь отчаянно. Джинджер поняла, что она всхлипывает. Перегнувшись к ней через подлокотник, отделяющий сиденье водителя от места для пассажира, Рита крепко сжимала ее руки. — Джинджер, с тобой все в порядке? Ты слышишь меня, Джинджер? Кровь. Теперь, после надрывного воя гудков и сирен, после голоса Риты, Джинджер осознала, что ее желто-зеленая юбка перепачкана кровью. Темное пятно расплылось и по рукаву пиджака. Руки же ее были сплошь в крови, так же как и руки Риты. — О господи, — простонала Джинджер. — Джинджер, ты меня слышишь? Джинджер?.. Один из ухоженных ногтей Риты был полностью оторван, остался лишь небольшой кусочек у самого основания, а обе ладони были в ссадинах и царапинах и обильно кровоточили. Манжеты ее жакета тоже были все в крови. — Джинджер, не молчи! — повторила она. Гудки продолжали реветь. Только теперь Джинджер заметила, что волосы Риты растрепались, а на щеке алела глубокая царапина в добрых два дюйма длиной. По подбородку на шею стекала струйка крови, смешанной с пудрой. — Вижу, что ты пришла в себя, — удовлетворенно вздохнула Рита. — Слава богу! У тебя снова был приступ, ты пыталась вырваться и бежать из автомобиля. Я не могла тебе этого позволить, ты попала бы под колеса. Какой-то разъяренный водитель, пытавшийся объехать «Мерседес», громко кричал им нечто не вполне вежливое. — Я поранила тебя, — еле вымолвила Джинджер. Ей стало дурно при одной мысли о том, что она натворила. Не обращая внимания на нетерпеливые сигналы других водителей, Рита снова сжала ладони Джинджер, на этот раз лишь желая успокоить и ободрить ее, а не удержать. — Все в порядке, дорогая, — повторила она. — Теперь все уже хорошо, а немного йода меня только украсит. Мотоциклист. Темный щиток на его шлеме. Джинджер выглянула в окно — мотоциклиста не было. В конце концов, он ей ничем не угрожал, обычный случайный встречный, спешащий по своим делам, мало ли таких на улице! Черные перчатки, офтальмоскоп, стоковое отверстие в раковине умывальника, темный защитный шлем с толстым стеклом. Почему именно эти конкретные предметы выбивают ее из колеи? Что между ними общего? И есть ли оно вообще? — Извини меня, — давясь слезами, сказала Джинджер. — Не нужно извиняться, — перебила Рита. — Пора нам отсюда выбираться. — Она обтерла руки салфетками из пачки, лежавшей в ящичке в подлокотнике, и, зажав одну из них в ладони, включила передачу, стараясь не запачкать ручку кровью. Джинджер взглянула на свои руки, перепачканные кровью Риты, откинулась на спинку сиденья и зажмурилась, стараясь не плакать, но это ей не удалось. Четыре психических срыва за пять недель. Она не могла больше убивать день за днем в ожидании нового приступа, утешая себя надеждой, что когда-нибудь выяснит его причину. Она не желала более чувствовать себя беззащитной игрушкой в руках неумолимой судьбы. Был понедельник, 16 декабря, и Джинджер вдруг твердо решила действовать, сделать хоть что-то до пятого припадка. Она еще не знала, что она может предпринять, но уже не сомневалась в том, что найдет выход, если очень постарается и перестанет себя жалеть. Она достигла самого дна, опускаться ниже было некуда, как бы она ни унижалась, ни боялась и ни паниковала. У нее оставался один путь — наверх. И она обязательно выкарабкается из этой проклятой ямы, чего бы это ей ни стоило, она выберется из темноты к свету, черт побери!Глава 3 Сочельник — Рождество
1
Лагуна-Бич, КалифорнияВо вторник, 24 декабря, Доминик Корвейсис встал с постели в восемь утра вялым и разбитым: назойливая дремота никак не покидала его после вчерашнего злоупотребления успокоительным и снотворным. Тщательный туалет не принес особого облегчения, тем не менее Доминик не падал духом. Вот уже одиннадцатую ночь кряду он спал спокойно: лекарственная терапия действовала, и он был полон решимости перетерпеть временное вынужденное затворничество, чтобы навсегда покончить с изнурительными полуночными блужданиями. В опасность физической и психологической зависимости от таблеток он не верил, хотя уже почти исчерпал все свои запасы медикаментов, прописанных доктором Коблецем. Чтобы заполучить новый рецепт, он выдумал целую историю об ограблении своей квартиры, во время которого лекарства якобы исчезли вместе с проигрывателем и телевизором. Порой Доминику становилось мучительно стыдно за эту ложь, но, оглушенный и размягченный очередной порцией пилюль, которые он глотал пригоршнями, он без труда находил для себя оправдания. О том, что может произойти, если приступы сомнамбулизма возобновятся в январе, когда лекарства иссякнут, он старался не думать. В десять часов, отчаявшись сосредоточиться на работе, он надел легкий плисовый пиджак и вышел из дома. На улице было прохладно, значит, вплоть до апреля, за исключением отдельных погожих теплых дней, пляжи будут полупустыми, подумалось ему. Спускаясь на своем «Файерберде» с холмов к центру города, Доминик обратил внимание на то, каким унылым кажется Лагуна-Бич в пасмурную погоду. На мгновение ему пришло в голову, что такое впечатление сложилось у него под воздействием все тех же лекарств, но он прогнал эту неприятную мысль, сосредоточившись на дороге: в таком полусонном состоянии недолго и разбиться. Почти всю корреспонденцию Доминик получал на почте, где абонировал специальный большой ящик: накануне Рождества тот был почти полон. Доминик сгреб содержимое ящика в охапку и отнес в машину, решив разобрать конверты и пакеты за завтраком. Популярный многие годы ресторан «Коттедж» располагался на склоне холма с восточной стороны шоссе. Туда-то и направился Доминик в поисках пищи и уединения: в этот час, когда время завтрака уже прошло, а ленча — еще не настало, заведение пустовало. Доминику предложили столик у окна с прекрасным обзором окрестностей, и он заказал яичницу с беконом, гренки и грейпфрутовый сок. Поглощая яичницу, он одновременно просматривал почту. Помимо журналов и счетов, в ней оказалось и письмо от Леннарта Сейна, литературного агента Доминика в Швеции, занимавшегося, и довольно успешно, продажей прав на перевод его произведений в Скандинавии и Голландии. Прочитав письмо и в очередной раз отметив похвальную расторопность шведа, Доминик взял в руки пухлый пакет от «Рэндом-Хаус». Едва взглянув на адрес издательства, он уже догадался, что внутри пакета. Голова его тотчас просветлела, а сонливость как рукой сняло. Доминик отложил надкусанный ломтик хрустящего хлеба и надорвал пакет — оттуда ему на колени выскользнул только что отпечатанный пробный экземпляр его романа. Ни одному мужчине не дано знать, что испытывает женщина, когда в первый раз берет на руки своего новорожденного младенца, но чувство автора, держащего в руках первую написанную им книгу, с полным правом можно сравнить с восторгом матери, с любовью вглядывающейся в личико своей крошки и ощущающей сквозь пеленки тепло маленького тельца. Доминик положил книгу рядом с тарелкой и попытался закончить завтрак. Но, лишь заказав кофе, он перестал ежеминутно поглядывать на «Сумерки» и смог продолжить прерванное занятие. Наконец ему попался обычный белый конверт без обратного адреса, надорвав который Доминик обнаружил лист бумаги с двумя напечатанными на машинке строчками. Содержание этого короткого послания заставило его забыть и о кофе, и о свежем экземпляре романа. Взаписке говорилось следующее: «Лунатику настоятельно рекомендуется покопаться в своем прошлом, ибо именно там он отыщет ключ к своим проблемам». Доминик еще раз пробежал текст. Листок бумаги задрожал в его руке, а по спине пополз холодок.
2
Бостон, МассачусетсВыйдя из такси, Джинджер очутилась перед семиэтажным кирпичным зданием в стиле викторианской готики. Холодный порывистый ветер грозил сбить ее с ног, голые деревья вдоль Ньюбери-стрит тоскливо скрипели и стучали заиндевелыми ветвями, навевая ассоциации с гремящими костями скелетами. Прикрыв лицо рукой, Джинджер прошла в ворота железной ограды и вошла в дом номер 127, примечательный тем, что когда-то в нем была гостиница «Агассиз», вошедшая в анналы истории города. Ныне здесь обосновались состоятельные владельцы кооперативных квартир. Один из них, по имени Пабло Джексон, о котором Джинджер знала только то, что накануне прочитала в статье в газете «Бостон глоб», и был ей нужен. Из «Стража Залива» она выбралась, воспользовавшись тем, что Джордж уехал в клинику, а Рита отправилась за рождественскими подарками. Ее опасения, что хозяева дома могут не отпустить ее в город одну, были не напрасны: даже служанка Лавиния умоляла Джинджер не делать этого опрометчивого шага, и ей пришлось оставить записку, в которой она указывала, где ее можно будет найти, и извинялась за свой поступок. Когда Пабло Джексон открыл дверь, Джинджер не без усилия удалось подавить удивление: перед ней стоял совершенно не тот человек, которого она себе представляла, прочитав «Бостон глоб». То, что хозяин квартиры — негр и ему за восемьдесят, не было для нее новостью, но она абсолютно не ожидала увидеть старца весьма преклонного возраста настолько бодрым и полным жизненных сил. Сухощавый, среднего роста, Пабло Джексон держался на ногах твердо и по-военному прямо, а белая сорочка, отутюженные черные брюки и веселая улыбка на открытом лице, с которой он пригласил гостью войти, свидетельствовали о почти юношеском задоре. Его густые жесткие волосы совершенно не поредели, но стали такими ярко-белыми, что, казалось, излучали призрачное сияние, придававшее обладателю редкостной шевелюры некую таинственность. С резвостью тридцатилетнего мужчины хозяин квартиры проводил Джинджер в гостиную. Здесь ее ждал еще один сюрприз: комната являла собой прямую противоположность как ее представлениям об апартаментах старинных гостиниц вроде «Агассиза», так и об интерьере обители престарелого холостяка, такого, как, к примеру, Пабло Джексон. Стены гостиной были нежного кремового цвета, в тон им была подобрана и обивка вполне современных кресел и дивана, рельефный волнистый узор дорогого, тоже кремового цвета, ковра вносил в обстановку комнаты приятное разнообразие, а яркие — желтая, персиковая, зеленая и голубая — подушечки и две большие, писанные маслом картины, одна из которых принадлежала кисти Пикассо, придавали этому модернистскому декору свет, теплоту, сочность красок и живость. Устроившись в одном из стоявших возле окна кресел и положив сумочку на разделяющий их столик, Джинджер отказалась от предложенного кофе и сразу перешла к делу. — Должна вам покаяться, мистер Джексон, — начала она, — что ввела вас в заблуждение, договариваясь с вами о встрече. — Любопытное начало, — улыбнулся Пабло Джексон, скрещивая ноги и кладя руки на подлокотники кресла. — Я вовсе не репортер, — продолжала Джинджер. — Значит, вы не из «Пипл», — прищурившись, кивнул головой хозяин дома. — Вот и чудесно. Я догадался, что вы не из газеты, едва увидел вас стоящей на пороге. Видите ли, в наше время всех газетчиков отличает необыкновенная самоуверенность и пронырливость. А стоило мне лишь взглянуть на вас, как я сказал себе: «Пабло, эта крошка не репортер. Она настоящий человек». — Мне нужна помощь, и только вы можете оказать ее мне, — сказала Джинджер. — Девичьи страдания? — спросил Пабло Джексон, явно польщенный, и Джинджер вздохнула с облегчением: она боялась, что он рассердится на нее. — Я скрыла истинную причину своего визита, опасаясь, что вы не захотите принять меня, если я скажу вам правду. Дело в том, что я врач, работаю хирургом в мемориальной клинике. Когда я прочитала в газете «Глоб» о вас, то подумала: вот кто мне поможет! — Я был бы рад познакомиться с вами, будь вы даже продавщицей журналов: в восемьдесят один год можно позволить себе отказаться от встречи с кем-либо, только… только если предпочитаешь провести остаток дней, беседуя со стенами. «А ведь он, несомненно, живет более насыщенной и интересной жизнью, чем я», — подумала Джинджер, с благодарностью отмечая стремление Пабло Джексона успокоить ее. — А кроме того, — добавил он, — даже такой древний старикан, как я, не упустит шанса насладиться обществом столь милой девушки, как вы. Так что выкладывайте, какую такую помощь вы хотите от меня получить. — Во-первых, мне нужно знать наверняка, насколько статья о вас в газете соответствует действительности, — наклонившись вперед, произнесла Джинджер. — Настолько, насколько это вообще возможно, когда речь заходит о публикациях в прессе, — пожал он плечами. — Мои родители переселились из Америки во Францию, как пишет газета. Мама была довольно популярной шансонеткой до и После первой мировой войны, она пела в парижских кафе. Отец, как справедливо отмечает «Глоб», тоже был музыкантом. Верно и то, что мои родители были знакомы с Пикассо и раньше других оценили его талант: ведь меня не случайно назвали его именем. Они покупали его работы, еще когда они стоили гроши, да и сам он подарил им несколько своих картин. Правда, у них собралось не сто, а около пятидесяти произведений художника, тут газета несколько преувеличивает размеры их коллекции, но все равно она вызывала зависть у многих богачей. Постепенно распродавая картины, родители обеспечили себе спокойную старость и помогли мне встать на ноги. — Но ведь вы работали долгое время фокусником, не так ли? — спросила Джинджер. — Более полувека, — легко и грациозно взмахнул руками Пабло Джексон, словно бы удивляясь собственному долголетию, и Джинджер замерла, ожидая, что старик сейчас прямо из воздуха извлечет живых белых голубей. — Не скрою, я тоже имел успех, меня знали в Европе, несколько меньше — здесь, в Америке. — И вы гипнотизировали желающих из публики? — Это был гвоздь программы, — кивнул Пабло. — Ради этого и приходили на мои выступления. — А теперь вы помогаете полиции с помощью гипноза восстанавливать в памяти свидетелей детали преступления, которые они забыли, не так ли? — Это не основная моя работа, — отмахнулся Пабло, желая этим жестом развеять возможные заблуждения гостьи на его счет, и вновь Джинджер показалось, что сейчас из воздуха появится букет цветов или колода карт. — С такой просьбой ко мне обращались всего четыре раза за последние два года. К моей помощи полиция прибегает в крайнем случае. — И ваша помощь была эффективна? — О да, здесь газета ничего не преувеличивает. Например, случайный прохожий, ставший очевидцем убийства, мельком видел номерной знак автомобиля, на котором скрылся преступник, но не может его вспомнить. На самом деле этот номер все равно остался у него в подсознании, потому что мы ничего не забываем из того, что видели. Гипнотизер, погрузив свидетеля в гипнотический транс, восстанавливает его память, шаг за шагом приказывая описывать все эпизоды события, пока наконец не добирается до того момента, когда появилась машина. Свидетель как бы вновь мысленно видит ее и, конечно же, называет номер. — И это всегда срабатывает? — Не всегда, но в большинстве случаев. — Но почему полиция обращается именно к вам? Разве полицейские психиатры не владеют в нужной мере гипнозом? — Конечно же, владеют. Но они все же не гипнотизеры, а врачи. Они не специализировались в этой области. Я же занимаюсь гипнозом всю жизнь, разработал специальную технику и нередко добиваюсь успеха там, где обычные методы не срабатывают. — Значит, вы в этом деле кое-что смыслите. — И даже больше, чем кто-либо другой. Но почему вас так это интересует, доктор? Боже мой, что это с вами? Оставьте в покое вашу сумочку, не волнуйтесь, — воскликнул Пабло Джексон, заметив, что пальцы гостьи побелели от напряжения, намертво вцепившись в сумочку, которая за время беседы успела перекочевать ей на колени. Поборов волнение, Джинджер приступила к рассказу о своих бедах, однако вскоре вновь разнервничалась, и внимательно следившему за ней хозяину дома удалось привести ее в чувство, лишь заставив выпить немного коньяку. — Несчастное дитя! — приговаривал с искренним сожалением он, покачивая седой головой. — Это ужасно! Скажите, вы хорошо спали этой ночью? Нет? Так я и думал. Не корите себя за этот глоток коньяку в неурочный час, вы давно уже встали, так что для вас это уже не утро, а почти вечер. Так почему бы и не позволить себе выпить немного под вечер? — Пабло, — слегка расслабившись, сказала Джинджер. — Я хочу, чтобы вы загипнотизировали меня и вернули к событиям двенадцатого ноября. Я хочу наконец понять, почему в то утро я так испугалась черных перчаток в «Деликатесах от Бернстайна». — Нет, и не просите, — затряс головой Пабло Джексон. — Это невозможно. — Я вам хорошо заплачу… — Дело не в деньгах, — поморщился гипнотизер. — Я в них не нуждаюсь. Поймите, я фокусник, а не врач. — Я уже была у психиатра, но он не смог мне помочь. Вернее, он тоже отказался погружать меня в транс. — На это, видимо, имелись причины, — нахмурился Пабло Джексон. — Он сказал, что рано прибегать к такому лечению. Он согласился со мной в том смысле, что гипноз, быть может, и поможет мне восстановить причину моих срывов, но сама я могу оказаться не готовой к правильному восприятию истины и окончательно сорвусь. — Вот видите? Врачу лучше знать. Нет, я не стану браться не за свое дело, и не уговаривайте меня, бога ради. — Ничего он не понимает, этот психиатр, — рассердилась Джинджер, вспомнив недавний разговор с чрезвычайно любезным, но неуступчивым лечащим врачом. — Может быть, он и знает, что лучше для других пациентов, но уж точно не может ничем помочь мне. А я больше так не могу. Да я с ума сойду, пока он решится наконец применить гипноз. Нужно что-то делать немедленно, нужно взять, в конце концов, эту напасть под контроль. — Но ведь вы сами понимаете, что я не могу взять на себя такую ответственность, — настаивал Пабло Джексон. — Минуточку! — перебила она его, ставя бокал на столик. — Я предвидела, что вы не захотите ввязываться в эту историю. — Она достала из сумочки сложенный лист бумаги. — Вот, взгляните, пожалуйста! Он взял у нее листок. При этом она отметила, что рука его, в отличие от ее рук, не дрожит, хотя он и на полвека старше. — Что это такое? — спросил он. — Расписка, где говорится, что я снимаю с вас всякую ответственность за последствия эксперимента. Пабло даже не потрудился пробежать документ. — Вы, я вижу, так ничего и не поняли, дорогая леди. Я не боюсь судебного преследования. В моем ли возрасте и при нашей ли неповоротливой судебной системе бояться чего-то подобного? Дело совсем в другом: человеческая память — чрезвычайно чувствительная штуковина, и, если что-то выйдет не так, если я доведу вас до срыва, мне уж точно жариться в аду. — Если вы не поможете… и мне придется пролежать не один месяц в больнице, без всякой уверенности в будущем… я точно свихнусь! — Джинджер не заметила, что перестала контролировать себя и почти кричит от отчаяния. — Если вы выставите меня за порог, оставите меня на милость друзей и Гудхаузена, то мне конец. Клянусь вам, вот тогда мне точно конец! Больше терпеть такое у меня нет сил! И вам придется все равно отвечать за последствия, потому что вы ничего не сделали, чтобы их предотвратить. — Извините, — развел руками Пабло. — Пожалуйста! — Нет, не могу, — твердо сказал он. — Бесчувственная черная тварь! — вскричала Джинджер и сама вздрогнула от сорвавшихся с языка эпитетов. Лицо Пабло исказилось гримасой боли, и Джинджер готова была от стыда провалиться сквозь землю. — Извините, умоляю вас, простите меня, — воскликнула она, закрывая лицо руками, и, согнувшись в три погибели, разрыдалась. Пабло Джексон подошел к ней и взял за подбородок. — Доктор Вайс, не плачьте. Не надо отчаиваться. Все будет хорошо. — Он аккуратно отвел ее руки от лица, улыбнулся, пристально глядя ей прямо в глаза, подмигнул и показал свою ладонь, чтобы она убедилась, что в ней ничего нет. Затем, к ее изумлению, он достал у нее из правого уха монетку в двадцать пять центов. — А теперь помолчите, — потрепал он ее по плечу. — Вы добились своего, и у меня не черствое сердце. Женские слезы способны перевернуть мир. Постараюсь сделать все, что в моих силах. Вместо того чтобы перестать хныкать, Джинджер расплакалась пуще прежнего, только на этот раз по ее щекам текли слезы благодарности.
* * *
— …а сейчас вы спите, глубоко, спокойно спите, вы полностью расслабились и будете отвечать на все мои вопросы. Вы поняли меня? — Да. — Вы не можете не отвечать на мои вопросы. Вы не в силах противиться. Не в силах. Пабло задернул шторы на всех трех окнах и погасил почти весь свет, оставив гореть только торшер за спиной Джинджер, — в его янтарных лучах волосы девушки казались золотыми, а лицо — мертвенно-зеленым. Стоя напротив нее, Пабло пристально смотрел ей в глаза. При всей хрупкой красоте и необычайной женственности Джинджер, ее лицо говорило ему о чрезвычайной, почти мужской силе воли этой женщины. Такое сочетание характера и красоты ему доводилось наблюдать на человеческом лице нечасто. Глаза ее были закрыты, а слабое подрагивание век свидетельствовало о том, что она в глубоком трансе. Пабло вернулся к своему креслу, стоявшему в тени, вне досягаемости света лампы за спиной Джинджер, сел и скрестил ноги. — Джинджер, почему вы так испугались черных перчаток? — Я не знаю, — тихо ответила она. — Вы не можете мне лгать. Вы понимаете? Вы не можете от меня ничего скрывать. Так почему вас так напугали черные перчатки? — Я не знаю. — Почему вас напугал офтальмоскоп? — Не знаю. — Почему вы испугались стока в раковине? — Не знаю. — Вы знаете мотоциклиста, которого видели на Стейт-стрит? — Нет. — Так почему же вы его испугались? — Я не знаю. — Очень хорошо, Джинджер, — кивнул Пабло. — А сейчас мы сделаем нечто удивительное, нечто такое, что может показаться невозможным, но на самом деле, уверяю вас, вполне достижимо. Сделать это даже очень легко. Мы заставим время бежать вспять, Джинджер. Мы медленно, но верно будем возвращаться в прошлое. Вы будете молодеть. Вы уже молодеете. И с этим ничего нельзя поделать, время подобно реке… но реке, которая течет вспять… и сейчас не двадцать четвертое декабря, а двадцать третье декабря, понедельник, стрелки часов крутятся назад, все быстрее и быстрее, и вот уже сегодня двадцать второе декабря, двадцатое, восемнадцатое… — Он продолжал в том же духе, пока не вернул память Джинджер в двенадцатое ноября. — Вы в кулинарии «Деликатесы от Бернстайна», сделали заказ. Вы чувствуете, как здесь вкусно пахнет жареным и приправами? Чувствуете? Так расскажите и мне, какие чудесные запахи вы ощущаете. Джинджер глубоко и с наслаждением вздохнула, голос ее несколько потеплел: — Пахнет чесноком, пирожками, медовыми пряниками, гвоздикой и корицей… Она все так же сидела в кресле, с закрытыми глазами, но двигала головой влево и вправо, словно бы окидывая взором зал кулинарии. — Шоколад. Понюхайте, как чудесно пахнет этот шоколадный торт! — Просто великолепно, — одобрил Пабло. — Ну, расплачивайтесь, поворачивайтесь спиной к прилавку, лицом к выходу… Чем вы теперь озабочены? — Никак не могу засунуть в сумочку бумажник, — сказала Джинджер. — Так ведь у вас в одной руке пакет с покупками. — Нужно наконец убрать этот бумажник в сумку. — Бум! Вы столкнулись с человеком в шапке-ушанке. Джинджер оторопело раскрыла рот. — Он подхватил пакет с покупками, чтобы вы его не уронили, — подсказал Пабло. — Ах! — воскликнула Джинджер. — Он извиняется перед вами. — Я сама недоглядела, — сказала Джинджер, словно бы обращаясь к человеку с бледным лицом в ушанке, которого видела в тот вторник в кулинарии. — Он протягивает вам ваш пакет, вы забираете его и замечаете перчатки. Лицо Джинджер исказилось гримасой ужаса, глаза раскрылись, она выпрямилась в кресле. — Перчатки! Боже мой, перчатки! — Расскажите мне, какие они, Джинджер! — Черные, — тихим дрожащим голосом прошептала она. — Блестящие. — Что еще? — Нет! — закричала она, вскакивая с кресла. — Пожалуйста, сядьте, — произнес Пабло. Джинджер замерла, словно бы и не слышала его. — Джинджер, приказываю вам сесть и расслабиться. Она присела, весьма неохотно, на краешек кресла, сжав кулаки. Ее лучистые голубые глаза были широко раскрыты, но она видела не Пабло, а черные перчатки. Похоже было, что в любой момент она снова вскочит на ноги. — Сейчас вы расслабитесь, Джинджер, вы успокоитесь, вы уже спокойны, совершенно спокойны. Вы понимаете? — Да, все хорошо, — ответила она, переводя дух и несколько опуская плечи. Обычно Пабло удавалось сохранять полный контроль над погруженным в гипнотический транс, и сопротивление Джинджер его воле удивило старика. Однако нельзя было успокаивать ее бесконечно, и он вновь спросил: — Расскажите мне о перчатках, Джинджер. — О боже! — передернулась от страха она. — Расслабьтесь и скажите мне, почему вы так их боитесь. — Я н-не хочу, чтобы они п-прикасались ко мне! — Но почему вы их боитесь? Джинджер обняла себя за плечи и забилась поглубже в кресло. — Послушайте, меня, Джинджер. Время застыло. Стрелки часов не движутся ни вперед, ни назад. Перчатки не могут дотронуться до вас. Я им этого не позволю. Я остановил время, я обладаю такой властью. Вы в безопасности. Вы слышите меня? — Да, — промолвила она, но в голосе звучал потаенный ужас. — Вам совершенно нечего бояться, — повторил Пабло, расстроенный испуганным видом Джинджер. — Время застыло, так что можете хорошенько разглядеть эти перчатки. Вы их изучите, а потом все расскажете мне. Она молчала, дрожа мелкой дрожью. — Вы должны мне ответить, Джинджер. Почему вас пугают эти перчатки? Джинджер в ответ судорожно всхлипнула, и ему на мгновение показалось, что она чего-то недопонимает, поэтому он переспросил: — Так вас пугают именно эти черные перчатки? — Н-нет. Не совсем. — Так перчатки этого мужчины в кулинарии вам о чем-то напоминают? О каком-то давнишнем случае, верно? — Да-да, это так. — И когда же этот случай произошел? Джинджер, на какие другие перчатки похожи черные перчатки, которые вы увидели в «Деликатесах от Бернстайна»? — Я не знаю. — Нет, знаете. — Пабло даже встал с кресла и подошел к зашторенному окну, чтобы взглянуть на Джинджер оттуда. — Ладно, стрелки часов снова пошли. Время бежит вспять… вспять… до того момента, когда вас впервые напутали черные перчатки. Вспоминайте… вот сейчас вы снова в той же обстановке. Вы находитесь в том же времени и в том же месте, где они вас испугали в первый раз. Взгляд Джинджер застыл, прикованный к неизвестному Пабло месту где-то в прошлом, и это был взгляд до смерти напуганного человека. — Где вы сейчас, Джинджер? — спросил Пабло. — Не молчите, говорите же, что с вами происходит? — Я вижу лицо, — загробным голосом произнесла она, и Пабло поежился. — Но это лицо абсолютно пустое, я не могу описать его. — Поясните, что вы имеете в виду, Джинджер. Какое лицо? Что вы сейчас видите? — Черные перчатки… застекленное темное лицо. — Вы хотите сказать, что лицо скрыто щитком, как у мотоциклиста? — Да, перчатки… и щиток. Она содрогнулась от страха. — Так все-таки — как у мотоциклиста? Расслабьтесь, успокойтесь. Все в порядке. Вам ничто не угрожает. Вы сейчас видите человека в перчатках и в шлеме? Она монотонно захныкала. — Джинджер, успокойтесь. Расслабьтесь наконец. Вам ничто не угрожает. Опасаясь, что он теряет над ней контроль и ему скоро придется выводить ее из транса, Пабло быстро подошел к ней, присел рядом на корточках и, поглаживая ее по руке, стал спрашивать: — Где вы сейчас, Джинджер? Как далеко вы вернулись в прошлое? Где вы, отвечайте же?! Но Джинджер продолжала хныкать, все громче и отчаяннее, давая волю глубоко засевшему в ней страху. Пабло изменил тактику: он заговорил твердо и отчетливо, повысив голос: — Слушайте мои команды, Джинджер. Сейчас вы спите и целиком в моей власти. Отвечайте мне. Я требую. Где вы теперь? — Нигде, — содрогнулась Джинджер. — Повторяю вопрос: где вы находитесь? — Нигде! Она внезапно перестала дрожать, откинулась в кресле, страх исчез с ее лица, она обмякла и тонким голоском сказала: — Я мертва. — Как вас понимать? Вы живы! — Я умерла, — упрямо повторила Джинджер. — Где и в каком времени вы сейчас находитесь? Расскажите мне все о тех черных перчатках, которые впервые вас напугали. Ведь те перчатки, что вы видели в кулинарии, лишь напомнили вам о них, не правда ли? Говорите же, Джинджер! — Я умерла. Пабло вдруг понял, что она и в самом деле едва дышит. Рука ее стала холодной, пульс почти не прощупывался, готовый оборваться окончательно. Похоже, спасаясь от настойчивых вопросов, она впала в глубочайший транс, близкий к коме, и теперь уже не слышала его команд. С подобной реакцией на гипноз Пабло столкнулся впервые, описаний таких случаев он не встречал в научных публикациях. Неужели Джинджер предпочла смерть ответам на его вопросы? Случаи блокировки памяти о неприятных эпизодах, нанесших человеку сильную травму, были ему известны, о них упоминалось в журналах по психологии, однако такие психологические барьеры могли быть устранены без риска для жизни пациента. Что же так потрясло Джинджер, что она предпочитает умереть, но не вспомнить о пережитом? Между тем пульс почти окончательно пропал. — Слушайте меня, Джинджер, — торопливо проговорил Пабло Джексон. — Вам не нужно отвечать мне, вы можете проснуться. Я больше не стану задавать вам неприятных вопросов. Джинджер застыла на грани между жизнью и смертью. — Джинджер, слушайте, что я вам скажу! Никаких вопросов! Я больше не стану вас ни о чем расспрашивать. Я обещаю вам. Пульс несколько участился. — Меня больше не интересуют черные перчатки. Я лишь хочу, чтобы вы проснулись. Вы меня слышите? Пожалуйста, Джинджер, ответьте мне! Пульс Джинджер стал ровным, дыхание глубоким, щеки порозовели. Менее чем за минуту Пабло вернул ее в 24 декабря и разбудил. — Ну что? — моргая, спросила она. — Не вышло? Вам не удалось погрузить меня на нужную глубину воспоминаний? — Вы погрузились слишком глубоко, — дрожащим голосом произнес он. — Глубже, чем я ожидал. — Но вы дрожите, Пабло! Что с вами? — спросила она. — Что произошло? На этот раз идти на кухню за коньяком пришлось уже ей.* * *
В ожидании такси, которое Пабло вызвал для нее, Джинджер продолжала недоумевать: — Мне все еще не верится, что такое могло быть. Ничего такого, что я предпочла бы скрыть ценой собственной жизни, со мной не происходило. Ничего настолько ужасного. — Вас что-то сильно травмировало в прошлом, — сказал Пабло. — В этом участвовал человек в черных перчатках, к тому же, как вы говорили, у него было «темное стеклянное лицо». Возможно, это был мотоциклист вроде того, что напугал вас на Стейт-стрит. Этот случай намертво похоронен в вашей памяти… и, похоже, вы любой ценой будете противиться его воскрешению. Мне думается, вам стоит рассказать о сегодняшнем случае доктору Гудхаузену, может быть, он сумеет добиться лучшего результата. — Гудхаузен слишком нерешителен, он не станет рисковать. Я надеюсь только на вас. — Я не рискну вновь погружать вас в такой же глубокий транс и задавать те же опасные вопросы. — Пока вам не встретятся аналогичные случаи в процессе ваших исследований. — Это маловероятно. Мне ни разу не попадалось ничего похожего в литературе по психологии и гипнозу, а за свою жизнь я прочитал ее немало. — Но вы обещали мне провести исследовательскую работу. — Я попытаюсь и дам вам знать. — В особенности будет интересно попробовать использовать на мне какую-нибудь новую методику проникновения в блокированную память, если кто-нибудь ее разработал. Джинджер была и разочарована, и заинтригована, но настроение у нее тем не менее было лучше, чем до сеанса гипноза. По крайней мере они добились определенного результата, пусть пока и не совсем ясного. Они обнаружили, что она пережила какой-то загадочный шок, и, хотя им и не удалось выяснить подробности, теперь уже стало очевидно, что память об этом случае все еще таится в глубинах ее подсознания и докопаться до истины очень нелегко, на это потребуется много сил и времени. — Так вы все-таки расскажите о том, что случилось сегодня, доктору Гудхаузену, — повторил Пабло. — Все надежды я возлагаю только на вас, — стояла на своем Джинджер. — Вы очень упрямы, — вздохнул фокусник, качая головой. — Нет, я настойчива, — возразила Джинджер. — Сумасбродны. — Решительна. — Acharnee![67] — Когда я вернусь в «Страж Залива», я посмотрю в словаре это слово, и, если это оскорбление, вы еще пожалеете, когда я вновь навещу вас в четверг! — погрозила она пальцем. — Не в четверг, — сказал он. — Мне потребуется время. Пока не откопаю упоминание о чем-то похожем и не изучу апробированную методику, я не рискну вас снова гипнотизировать. Я должен быть уверен в успехе. — Хорошо, но знайте, что, если вы не позвоните мне до пятницы или субботы, я ворвусь к вам без приглашения. Не забывайте, что вы моя последняя надежда. — Если только мы получим положительный результат. — Вы недооцениваете себя, Пабло Джексон. — Она поцеловала его в щеку. — Жду вашего звонка. — Аи revoir. — Shalom. Уже на улице, когда Джинджер садилась в такси, ей вспомнилось одно из любимых изречений отца, вмиг отрезвившее ее, как холодный душ: «Перед наступлением темноты свет всегда ярче».3
Чикаго, ИллинойсУинтон Толк — высокий веселый чернокожий полицейский патрульной машины — вылез из нее, чтобы купить три гамбургера в угловом кафетерии, оставив за рулем своего напарника Пола Армса и отца Брендана Кронина на заднем сиденье. Брендан взглянул на кафетерий, но не смог разглядеть, что происходит внутри: витрина была сплошь разрисована праздничными картинками. Там были изображены Санта-Клаус, северный олень, гирлянды и ангелы. Только что закружились первые легкие снежинки — предвестницы основательного, судя по прогнозу погоды, снегопада (к вечеру обещали не менее восьми дюймов снега на дорогах), а это значило, что завтра будет настоящее белое Рождество. Пока Уинтон вылезал из машины и шел к кафетерию, Брендан, наклонившись к Полу Армсу, заметил: — Ты помнишь фильм «Жизнь чудесна»? Вот это картина, должен тебе сказать. — Да, с Джимми Стюартом и Донной Рид, — отметил Пол. — А какие чудные актеры там вообще подобрались! — продолжал восхищаться одним из лучших рождественских фильмов Брендан. — Лайонель Барримор, Глория Грэхем! — Томас Митчелл, — добавил Пол Армс, бросая быстрый взгляд на напарника, входящего в этот момент в кафетерий. — Уорд Бонд! Боже, какие артисты! Но, согласись, «Чудо на 34-й улице» не хуже! — Да, потрясающий фильм, но картина Капра все же лучше… Выстрелы и звон разбитых стекол раздались одновременно, без всякого интервала. Даже при закрытых дверях машины и работающем двигателе, треске и шуме полицейской рации звуки выстрелов были достаточно громкими, чтобы оборвать Брендана на полуслове. Грохот и пальба в кафетерии вмиг развеяли мирную праздничную атмосферу тихой улочки этого бедного квартала, вдребезги разлетевшуюся вместе с нарядной витриной. За первыми выстрелами гулко прозвучали новые, сопровождаемые резким и противным звуком ударов осколков стекла по крыше, дверям и капоту автомобиля. — О черт! — Пол Армс выхватил из кобуры револьвер, распахнул дверь и выполз из салона, крикнув Брендану, чтобы тот не вздумал высовываться. Брендан ошалело взглянул в окно со своей стороны — дверь кафетерия внезапно распахнулась настежь, и на улицу выскочили двое молодых парней, белый и черный. Белый, в клетчатой охотничьей куртке, был вооружен револьвером. Чернокожий, одетый в трикотажную шапочку и длиннополый бушлат, держал в руках обрез. Они выбежали, согнувшись в три погибели, и чернокожий направил обрез на патрульную машину. Брендан смотрел прямо в дуло: оттуда сверкнуло, и он подумал, что убит. Но, к его удивлению, стекло задней дверцы осталось целым, а вместо него разлетелось переднее стекло, усыпав сиденья и приборный щиток градом осколков. Промах вывел Брендана из оцепенения, и он скатился со своего сиденья на пол машины, слыша громкие, почти как выстрелы, удары собственного сердца. Уинтона Толка угораздило ввалиться в кафетерий, в аккурат когда тот подвергся вооруженному ограблению. Теперь он скорее всего был мертв. — Бросай оружие! — услышал Брендан голос Пола Армса с улицы и еще плотнее прижался к полу салона. В ответ грохнули два выстрела, но не из обреза — из револьвера. Но кто нажал на курок? Пол Армс или тот парень в клетчатой охотничьей куртке? Раздался еще выстрел, кто-то вскрикнул. Но кого ранило? Полицейского или бандита? Брендана подмывало взглянуть, но он не решался высунуться. В патрульную машину он попал на пять предпраздничных дней, по договоренности отца Вайцежика с капитаном местной полиции, в качестве наблюдателя от церкви, которую якобы интересовали условия жизни здешних бедняков-католиков. Эта легенда, похоже, сработала, и вот уже пятый день Брендан, облачившись в цивильный костюм, галстук и пальто, изображал из себя консультанта, собирающего материал для программы католической благотворительной помощи. Уинтон и Пол патрулировали участок между Фостер-авеню, Лейк-Шор-драйв, Ирвинг-Парк-роуд и Норт-Эшленд-авеню, один из беднейших и опаснейших в криминогенном отношении пригородных районов Чикаго: здесь жили негры, индейцы и латиноамериканцы. Брендан сдружился с обоими полицейскими и проникся симпатией ко всем честным обитателям этих трущоб и замусоренных улиц, несчастным жертвам заполонивших их стай шакалов в человечьем обличье. Он научился быть готовым к любым неожиданностям во время рейдов, но перестрелка в кафетерии явилась для него, пожалуй, самым тяжелым испытанием. Еще один выстрел из обреза сотряс корпус автомобиля. Свернувшись калачиком на полу машины, Брендан попытался молиться, но не смог подобрать нужных слов: Бог все еще оставался потерянным для него, и Брендан сжался от острого ощущения неприкаянности. — Сдавайтесь! — крикнул Пол Армс. — Черта лысого! — огрызнулся налетчик с обрезом. Отчитываясь о своей работе в больнице для детей, Брендан не смог обрадовать отца Вайцежика, и тот направил его в другую больницу, где Брендану пришлось работать ночным сторожем. Брендану не составило большого труда догадаться, какой урок хотел преподать ему отец Вайцежик: перед лицом скорой смерти большинство людей уже переставали страшиться ее, смерть становилась для них желанной наградой Господа за их муки, и они не упрекали, а благодарили Его за грядущее избавление от страданий. Умирая, многие из тех, кто раньше не верил в Бога, обретали веру, а отрекшиеся от Господа вновь возвращались к Нему. Нередко уход из жизни, сопровождающийся страданиями, исполнялся благородства и даже наводил на мысль, что каждый человек таинственным образом приобщается к предсмертным мукам Христа, неся свой крест. Но и усвоив этот урок, Брендан не обрел утраченной веры. И теперь уста его были безмолвны и сухи, а слова молитвы вместо него выстукивало бешено колотившееся сердце. Снаружи доносились выкрики, но он уже не различал слов, то ли оттого, что выкрики эти были бессвязными, то ли потому, что оглох от пальбы. Он еще не до конца усвоил урок, который ему, с легкой руки отца Вайцежика, предстояло извлечь из близкого знакомства с нравами этих задворок Чикаго. И сейчас, прислушиваясь к происходящему снаружи хаосу, он понял, что и этого урока будет ему мало, чтобы уверовать в то, что Бог столь же реален, как и пули. Смерть — это кровавая, дурно пахнущая, мерзкая реальность, и посулы радужной загробной жизни перед ее отвратительным лицом вовсе не казались ему убедительными. Вновь выстрелил обрез, ему ответил револьвер Пола, потом прозвучали какие-то крики и звук быстро бегущих ног: все как на войне. Еще выстрел из крупнокалиберного револьвера, звон стекла, дикий крик, выстрел — и тишина. Абсолютная и всепоглощающая тишина. Дверь рядом с сиденьем водителя вдруг резко открылась. Брендан от неожиданности издал вопль ужаса. — Лежи и не шевелись, — присаживаясь на переднее сиденье, приказал ему Пол Армс. — Эти двое убиты, но внутри могут быть еще идиоты, способные на любую пакость. — Где Уинтон? — спросил Брендан. Пол не ответил, а схватил рацию и принялся вызывать полицию: — Центральная! Ранен офицер, ранен офицер! Он сообщил свои координаты и запросил поддержки. Лежа в исковерканной патрульной машине, Брендан прикрыл глаза и с душераздирающей ясностью представил себе фотографии, которые Уинтон Толк всегда носил в бумажнике, — фотографии его жены Райнелы и троих его детей. — Эти проклятые сволочи, чтоб им ни дна ни покрышки, — дрожащим от ярости голосом выругался Пол Армс. Брендан наконец догадался, что он перезаряжает револьвер. — Уинтона подстрелили? — спросил он. — Готов поспорить, что именно так, — буркнул Пол. — Ему, наверное, нужна помощь. — Она уже в пути. — Но он скорее всего нуждается в помощи именно сейчас, — сказал Брендан. — Нельзя туда входить. Там могут быть сообщники тех двоих. Нужно дождаться прибытия подкрепления. — Ему надо срочно сделать перевязку, наложить жгут. Иначе он не доживет до приезда бригады «Скорой помощи». — А тебе не кажется, что я и сам это понимаю? — с горечью огрызнулся Пол, выбираясь с револьвером наготове из автомобиля, чтобы занять удобную для наблюдения за домом позицию. Чем больше Брендан думал о лежащем на полу кафетерия Уинтоне Толке, тем сильнее он злился. Будь он до сих пор верующим, Бог превратил бы его злость в тихую молитву. Но, поскольку он больше не верил, его злость перерастала в ярость. Сердце стучало сильнее, чем во время обстрела машины, когда он лежал, скрючившись, на полу в салоне. Судьба поступила с Уинтоном несправедливо, нечестно, не по правилам, и сама мысль об этом разъедала, словно кислота, сердце Брендана. Он вылез из патрульной машины и направился ко входу в кафетерий, не обращая внимания на идущий снег и окрики Пола Армса, умолявшего его остановиться: в голове у Брендана была в этот момент лишь одна мысль — Уинтон Толк нуждается в срочной помощи, он может погибнуть. Поперек тротуара, раскинув руки, лежал на спине убитый грабитель в клетчатой охотничьей куртке. Пуля из револьвера Армса угодила ему в грудь, вторая пуля — в горло. От трупа дурно пахло испражнениями. Рядом в снегу валялся револьвер, возможно, тот самый, из которого стреляли в Уинтона Толка. — Кронин! — орал Пол Армс. — Немедленно возвращайся, идиот! Проходя мимо разбитой витрины, Брендан с удивлением отметил, что в кафетерии не горит электричество. Видимо, бандиты разбили лампы или вырубили рубильник. Серый дневной свет с улицы освещал лишь пол и прилавок возле окна, никого не было видно, что, однако, не означало отсутствие опасности. — Кронин! — Голос Пола был полон отчаяния. Брендан вошел внутрь темного помещения и едва не споткнулся о труп бандита в черном бушлате. Рядом валялись осколки стекла, разлетевшегося от выстрелов, тысячи блестящих осколков. Брендан перешагнул через мертвеца и вошел в зал. На этот раз на нем не было его стоячего воротничка священника, который, возможно, и защитил бы его. Но, с другой стороны, подумал Кронин, эти дегенераты со спокойной душой убьют и священника — не дрогнула же у них рука стрелять в полицейского. В своем нынешнем гражданском костюме с галстуком и в обычном пальто Брендан ничем не отличался от любого случайного прохожего и вполне мог быть убит затаившимся подонком, но ему сейчас было все равно: он был очень зол, зол на Бога за то, что того нет, или же за то, что тот, если Он и есть, не спасает невинных людей. В дальнем углу зала находился прилавок, за которым стояло различное оборудование. По эту сторону прилавка в беспорядке громоздились столики и с десяток стульев, на полу валялись салфетки, бутылочки с кетчупом и горчицей, а также несколько смятых мелких купюр. В луже крови распластался Уинтон Толк. Даже не остановившись, чтобы осмотреться, Брендан подошел прямо к нему и опустился перед ним на колени. На груди офицера зияли две пулевые раны, с первого же взгляда на которые Брендан понял, что перевязка тут вряд ли поможет. Кровь лилась изо рта Уинтона, заливая грудь и весь пол вокруг. Неподвижный, с закрытыми глазами, он был либо без сознания, либо уже мертв. — Уинтон? — позвал Брендан. Полицейский не отреагировал, его веки даже не дрогнули. Ощущая ту же ярость, которая охватила его во время мессы и вынудила швырнуть потир в стену, Брендан Кронин приложил свои ладони к шее Уинтона Толка, надеясь уловить пульс. Но никаких признаков жизни он не обнаружил, и перед его мысленным взором, будто наяву, возникли фотографии Райнелы и детей Толка, и он буквально вскипел от ненависти к этому безучастному миру. — Он не может умереть! — в сердцах воскликнул Брендан. — Этого не должно быть. Внезапно ему почудилось, что его ладони уловили слабый пульс. Он ощупал еще раз горло Толка, ища подтверждение тому, что тот жив, и нашел его: на сей раз пульс прощупывался, слабый, но довольно ровный. — Он мертв? Брендан поднял голову и увидел выходящего из-за прилавка хозяина кафетерия — латиноамериканца в белом переднике. Следом за ним появилась женщина, тоже в белом фартуке. Снаружи доносился нарастающий рев сирен. Пульсация под ладонями Брендана обретала все большую наполненность и четкость, и это было довольно странно. Уинтон потерял слишком много крови и до прибытия бригады медиков со всем необходимым оборудованием неминуемо должен был бы умереть. Но, вопреки логике, налицо были признаки улучшения его состояния. Сирены надрывались уже где-то совсем рядом, на расстоянии одного-двух домов от кафетерия. В разбитые окна мело снегом. Хозяин и хозяйка подошли поближе. Онемев от пережитого потрясения, Брендан водил руками по шее и груди Уинтона, трясясь от злости на коварную злодейку-судьбу. Вид струящейся из ран крови окончательно вывел его из равновесия, и он заплакал, в бессильной ярости, от ощущения собственной слабости и бесполезности. Уинтон Толк проглотил ком в горле и кашлянул, потом открыл глаза. В горле у него свистело и хрипело, он дышал с трудом, но уже не стонал. Изумленный, Брендан вновь ощупал у него на шее пульс: тот был слабым, но определенно ритмичным. — Уинтон! — что было сил закричал Брендан, перекрывая вой сирен, от которого дрожали перепонки. — Уинтон! Ты меня слышишь? Полицейский не узнавал Брендана, он, похоже, даже не осознавал, где они и что с ним. Он кашлянул и подавился кровью и слизью. Брендан быстро приподнял его голову и повернул ее несколько набок, чтобы мокрота и кровь свободно стекали изо рта. Дыхание раненого тотчас же улучшилось, хотя и оставалось хриплым и судорожным. Уинтон все еще находился в критическом состоянии, остро нуждаясь в срочной квалифицированной помощи, но все же он был жив. Уинтон выжил. Это было невероятно. Вопреки огромной потере крови, он все еще держался, в нем теплилась жизнь. Снаружи одна за другой в последний раз взвыли и смолкли три сирены. Брендан стал громко звать Пола Армса, взволнованный надеждой на то, что Уинтона смогут спасти, и опасаясь, что врачи замешкаются на какие-то секунды и будет поздно. — Бегите же! Приведите их сюда скорее! — крикнул он хозяину кафетерия. — Скажите, что здесь все спокойно, пусть пошевеливаются, черт бы их побрал! Мужчина в белом фартуке не без колебаний направился к двери. Уинтон Толк наконец отплевался и задышал легко и свободно. Брендан аккуратно положил его голову на пол. Полицейский продолжал ритмично, хотя и неглубоко, дышать. Снаружи послышались крики и топот ног, захлопали двери. Руки Брендана были мокрыми от крови Толка, и он непроизвольно обтер их о свое пальто. И только тогда он заметил на ладонях красные кольца — они проявились во всей своей яркости впервые за минувшие две недели. По одному пылающему кругу на каждой ладони, четкому и чуть припухшему. После первого их появления Брендан несколько дней прикладывал к ладоням кортизоновые примочки, прописанные доктором Хитоном из больницы Святого Иосифа, но, поскольку круги вскоре исчезли и больше не появлялись, он прекратил лечение, а спустя некоторое время и вовсе забыл об этих странных отметинах. Теперь же, глядя на красные кольца на своих припухших ладонях, он словно бы сквозь вату слышал голоса суетящихся вокруг людей: — Боже, сколько крови! — Невероятно, что он жив… Две пули в груди. — Да отойдите наконец, черт бы вас побрал! — Плазму, срочно! — Какая у него группа крови? Нет! Скорее несите в машину! Брендан наконец осмотрелся: вокруг Уинтона Толка склонились несколько врачей «Скорой помощи». Они уже положили его на носилки и теперь намеревались отнести в машину. Какой-то полицейский, чертыхаясь, тащил за ноги в сторону убитогоналетчика, освобождая врачам проход. Следом за носилками семенил Пол Армс. Лужа крови, в которой лежал раненый, превратилась в озеро. Брендан вновь взглянул на свои ладони. Кольца исчезли.
4
Лас-Вегас, НевадаТехасец в желтых блестящих штанах из полиэфирной ткани вряд ли пытался бы затащить Жоржу Монтанелла в постель, знай он, что она как раз настроена кого-нибудь кастрировать. Хотя был полдень 24 декабря, Жоржа не чувствовала предрождественского подъема. Обычно спокойная и легкая в общении, сегодня она была крайне раздражительна и с трудом сдерживалась, разнося по казино напитки играющим в рулетку и карты. Причин тому было несколько. Во-первых, ей опостылела такая работа. Подавать коктейли утомительно и в нормальном баре, но делать это в казино размером с футбольное поле равнозначно самоубийству: к концу смены ноги опухали в щиколотках и ныли. Неудобным было и время работы. Как можно нормально воспитывать семилетнюю дочь, если работаешь в разные смены — то по вечерам, то по ночам? Жоржу также бесил и ее дурацкий костюм: красный лоскут с высоким вырезом на бедрах и в промежности, глубоким — на бюсте, короче говоря — нечто, непохожее даже на самый смелый купальник. Эластичный корсет стягивал талию и выпячивал грудь, а если природа и без того не обделила женщину тонкой талией и внушительным бюстом, как это и было у Жоржи, такой наряд гарантировал ей вызывающе эротический облик. А кроме того, ей досаждали постоянными ухаживаниями боссы: каждый из них так и норовил при случае ущипнуть или отпустить сальную шутку, будучи уверенным в том, что уж если официантка решилась ради заработка натянуть на себя подобный костюм, то лечь с кем угодно в постель для нее вообще пара пустяков. Она также не сомневалась, что фривольному обращению с ней немало способствовало уже само ее имя: Жоржа. Это было слишком круто. Мамочка, несомненно, здорово перебрала, когда трудилась над написанием ее имени — Джорджия. На слух оно воспринималось еще нормально, потому как откуда же людям знать, что это ее мамочку сподобило его так сократить, но ведь приходилось прицеплять к наряду карточку со своим именем — Жоржа, и по крайней мере с добрый десяток посетителей ежедневно высказывались по этому поводу. Имя было слишком фривольным в таком написании, что не могло не навести на мысль о легкомысленности его обладательницы. Она даже подумывала над тем, не изменить ли ей свое имя законным путем, но боялась обидеть мать. Однако, если бы парни в казино и дальше продолжали привязываться к ней на каждом шагу, она в конце концов поменяла бы свое имя на «Мать Тереза», лишь бы охладить этих неуемных жеребцов. Но увиливать от назойливых коллег — это еще полбеды. Гораздо хуже ей приходилось, когда в заведение наведывались толстосумы из Детройта, или Лос-Анджелеса, или Далласа, сорившие деньгами и швырявшие на зеленое сукно тугие пачки долларов. При виде Жоржи они расплывались в улыбках и, поманив пальцем крупье, уговаривали его устроить им именно эту красотку, хотя среди официанток и было несколько вполне покладистых. Однако в ответ на уговоры крупье Жоржа всегда отвечала одно: — Пусть катятся к черту. Я официантка, а не шлюха. Но ее обычный холодный ответ на этот раз не возымел должного воздействия, и не прошло и часа после очередного недвусмысленного намека, как к ней снова подошел с тем же предложением один из крупье. Оказывается, этот маньяк с похотливыми глазками и бородавчатым лицом — нефтепромышленник из Хьюстона, щеголяющий в фосфоресцирующих желтых штанах, голубой рубахе и красном галстуке, воспылал к Жорже пылкими чувствами и усиленно наводил о ней справки. Боссы злились на нее за ее несговорчивость, а Райни Тарнелл, крупье из дневной смены, без обиняков заявил ей: «Не будь такой недотрогой с ценным клиентом, крошка!» Можно подумать, что лечь под незнакомца из Хьюстона и расставить ноги — сущий пустяк вроде невинной небрежности в выборе наряда, например белых туфель перед Днем Памяти или после Дня Труда. Хотя Жорже и надоело таскаться по казино с подносом, она не могла позволить себе бросить такую работу: разведенная мать, воспитывающая дочь в одиночку и без всякой надежды на социальное пособие на детей, она к тому же выплачивала за Алана долги, боясь лишиться кредита, так что хорошо знала цену доллару. Оклад у нее был невелик, зато чаевые, случалось, перепадали щедрые, особенно если клиенту крупно везло в игре. В канун Рождества посетителей в казино было мало, равно как и чаевых. Раньше 26 декабря нового наплыва не предвиделось, и крупье изнывали от скуки, зевая под негромкое позвякивание и побрякивание игральных автоматов. «Нечего и удивляться, что у меня паршивое настроение, — подумалось Жорже. — Ноги стерты, спина болит, нет отбоя от наглых типов, решивших, что меня так же легко заполучить, как коктейль, который я подаю, Райни Тарнелл вконец охамел, и никакой тебе за все мучения достойной компенсации». Закончив наконец работу в четыре часа, Жоржа быстренько отметилась в диспетчерской внизу, переоделась и стрелой вылетела через черный ход на служебную автостоянку. Погода никак не повлияла на ее настроение: зимний день в Лас-Вегасе мог быть и холодным, с пронизывающим до костей ветром, и достаточно теплым, чтобы надеть шорты и сарафаны. В этом году сочельник выдался погожим. Ее запыленный и помятый «Шеветт» завелся только с третьей попытки, что уже было неплохо. Но, вслушиваясь в хрип стартера и кашель мотора, она вдруг вспомнила о новеньком «Бьюике», который забрал Алан, расставшись с ней пятнадцать месяцев назад, и вновь разозлилась. Алан Райкофф. Он портил ей настроение больше, чем работа и другие мелкие неприятности. После развода Жоржа взяла свою девичью фамилию Монтанелла, но вытравить из памяти все обиды, которые этот тип нанес ей и Марси, было сложнее. Выруливая со стоянки на улицу за отелем, Жоржа попыталась выбросить Алана из головы, но ей это не удалось: этот подонок намертво вцепился в ее подсознание. Укатить со своей подружкой, пустоголовой блондинкой с немыслимым именем Пеппер, на неделю в Акапулько и даже не позаботиться о подарке для Марси на Рождество! А что прикажете отвечать семилетней девочке, когда она спросит, почему папочка ничего не купил ей к празднику и не пришел навестить ее? Хотя Алан и оставил ей кучу неоплаченных счетов, Жоржа сознательно отказалась от алиментов, потому что не хотела больше зависеть от него. Он вообще заявил, что Марси не его ребенок и он снимает с себя всякую ответственность за ее воспитание. Да чтоб он сдох! Жоржа выскочила за него замуж, когда ей было всего девятнадцать, а ему уже двадцать четыре, и ни разу не изменила ему. Алан знал, что она его не обманывает, но сохранить свой привычный джазовый стиль жизни — тратить все до цента на тряпки, автомобили и девок — для него было важнее, чем сберечь репутацию жены и счастье дочери. Только щадя Марси, Жоржа не стала настаивать в суде на алиментах, черт с ними, лишь бы девочка не слышала грязных обвинений папаши в адрес матери. С ним было покончено, можно было вычеркнуть его из памяти. Но, проезжая перекресток Мэриленд-Парк-вей и Дезерт-Инн-роуд, Жоржа подумала, как она была молода, когда связалась с Аланом, и как наивна. Конечно же, у нее не было такого жизненного опыта, чтобы раскусить его — такого, как ей тогда казалось, умудренного жизнью, такого обаятельного. Более года они жили прекрасно, но постепенно она поняла, что это за тип — мелочный, пустой, ленивый эгоист и похотливый бабник. Позапрошлым летом, когда их отношения уже были натянутыми, она предприняла отчаянную попытку спасти семью, уговорив Алана вместе провести трехнедельный отпуск. Она все продумала тогда до мелочей и надеялась, что эти беззаботные деньки исправят сложившееся положение. Ведь они так редко бывали дома вместе, Алан работал крупье в другом отеле, часто в другую смену, так что семейное путешествие на машине наверняка должно было пойти им на пользу. К несчастью, ее план не сработал. После отпуска, едва они вернулись в Лас-Вегас, Алан начал бегать за каждой юбкой с удвоенной энергией. Он словно бы помешался на своих амурных делах. Жорже даже казалось, что именно это путешествие каким-то образом подтолкнуло его к последней черте, потому что теперь интенсивность его измен обрела уже маниакальный характер, доводя ее до отчаяния. Спустя три месяца, в октябре того же года, он бросил их с Марси. Единственное приятное воспоминание о той поездке осталось у Жоржи от знакомства с молодой женщиной-хирургом по имени Джинджер Вайс: она тоже путешествовала на автомобиле из Стэнфорда в Бостон, проводя таким образом свой первый, как она с улыбкой призналась, отпуск. И, хотя они провели вместе всего час и после этого не встречались, Джинджер Вайс невольно изменила всю дальнейшую жизнь Жоржи. Несмотря на свою молодость, эта миловидная стройная и очень обаятельная женщина была исполнена уверенности в себе, и Жоржа, под влиянием Джинджер, по-новому взглянула на самое себя. Раньше она и не мечтала ни о чем другом, как о работе официантки в казино, но, когда Алан покинул семью, она вспомнила ту женщину-хирурга и решила попытаться добиться чего-то большего. В течение одиннадцати месяцев Жоржа ходила на курсы менеджеров, пожертвовав всем своим и без того скудным досугом. Погасив наконец все долги Алана, она рассчитывала открыть свое собственное дело вроде ателье. Она все тщательно взвесила и продумала и была уверена, что у нее все получится и она тоже добьется успеха. Ей было стыдно, что она так никогда и не отблагодарит доктора Джинджер Вайс, и вовсе не за то, что та сделала для нее, а просто за то, что она жила на свете. Как бы то ни было, в свои двадцать семь лет Жоржа смотрела в будущее с большим оптимизмом, чем когда-либо прежде. Она свернула с Дезерт-Инн-роуд на Пони-драйв, улочку с доходными домами за бульваром Мол, и остановилась напротив дома Кары Персаньян. Парадная дверь открылась прежде, чем Жоржа дошла до нее, и с радостным возгласом «Мама! Мамочка!» ей на шею бросилась ее дочь. И Жоржа наконец забыла и о работе, и о техасце, и о ссоре с крупье, и об удручающем состоянии машины. Она присела на корточки и заключила Марси в свои объятия: в трудную минуту лишь одна она поднимала ей настроение. — Мамочка, — спросила девочка, — у тебя был удачный день? — Да, моя милая. А от тебя пахнет арахисовым маслом. — Это печенье! Тетя Кара испекла печенье! У меня тоже сегодня был замечательный день. Мамочка, а ты знаешь, почему слоны… ну, в общем, почему слоны пришли из далекой Африки к нам в Америку? — Марси хихикнула. — Потому что у нас здесь много оркестров, а слоны любят танцевать! Хи-хи! Глупо, правда? Жоржа обожала свою дочь. У нее были такие же, как у матери, темно-каштановые, почти черные, волосы и такой же смуглый цвет лица. А вот глаза у нее были не карие, как у Жоржи, а голубые — это от отца. Сейчас она вытаращила их на мать и спросила: — А ты не забыла, какой сегодня день? — Нет, милая, я помню, что сегодня сочельник. — Да, когда стемнеет. Тетя Кара даст нам с собой домой печенья. Знаешь, Санта-Клаус уже в пути, и он уже спускается в дома по дымоходам, конечно, пока только в других частях света, где уже стемнело. Тетя Кара сказала, что, раз я себя плохо вела весь год, я получу от него в подарок бусы из угля, но я знаю, что это она меня дразнит. Правда, мама, она меня разыгрывает? — Ну конечно же, она просто шутит, — подтвердила Жоржа. — А вот и нет! — послышался голос Кары Персаньян. Она вышла из дома на дорожку в домашнем платье и фартуке, настоящая бабушка из детской сказки. — Бусы из угольев и… может быть, серьги из угольков в придачу. Марси снова захихикала. Кара не была ей родной теткой, она просто сидела с ней после занятий в школе. Марси начала называть ее «тетей Карой» уже через две недели после знакомства, чем весьма угодила своей няне. Сейчас в руках у Кары была куртка девочки, большая книжка-раскраска с картинками на рождественские темы и тарелочка печенья. Жоржа передала картинки и куртку дочери, приняла угощение, изобразив на лице благодарность и восхищение, после чего Кара сказала: — Жоржа, могу я с тобой переговорить с глазу на глаз? — Конечно, — сказала та и, усадив девочку с печеньем в автомобиль, с вопрошающим видом обернулась к Каре: — Так что же еще она натворила? — Право же, ничего страшного. Она сущий ангел, ваша крошка. Ни на что дурное она просто не способна. Но вот сегодня… Понимаете, она говорила о том, что больше всего на свете ей хотелось бы получить в подарок набор игрушечных врачебных инструментов… — Впервые она выклянчивает у меня игрушку, — сказала Жоржа. — Не могу даже представить себе, почему ей вдруг так захотелось получить именно этот набор. — Она говорит о нем каждый день. Вы купите его? — Да, — мельком взглянув на машину и удостоверившись, что дочь ее не слышит, пообещала с улыбкой Жоржа. — Этот комплект непременно окажется в мешке Санта-Клауса. — Вот и чудесно. Иначе бы она расстроилась. Но послушайте, какая история приключилась сегодня! Я даже заподозрила, уж не заболела ли она. Скажите, раньше она не болела чем-то серьезным? — Серьезным? Нет. Она исключительно здоровый ребенок. — И не лежала в больнице? — Нет. А в чем, собственно, дело? Кара нахмурилась: — Видите ли, сегодня, когда Марси вновь заговорила об этом наборе маленького доктора, она сказала мне, что хочет стать врачом, когда вырастет большой, чтобы лечить самое себя, если она заболеет, самой. Она сказала, что не хочет, чтобы доктора снова прикасались к ней, потому что однажды они сделали ей очень больно. Я спросила, что она этим хочет сказать, но она промолчала и затихла, так что я решила, что ей просто не хочется отвечать. Но потом, все тем же угрюмым тоном, она сказала, что какие-то врачи однажды привязали ее к больничной кровати, так что она не могла с нее встать, и потом воткнули в нее много разных иголок, и слепили ярким светом в лицо, и делали разные ужасные вещи с ней. Она сказала, что ей действительно было очень больно и поэтому она больше никогда никому не позволит себя лечить. — Вы не шутите? Ну, это неправда, — сказала Жоржа. — Ума не приложу, почему она такое выдумала. Это очень странно. — Но это еще не самое странное. Когда она мне все это рассказала, я забеспокоилась и задумалась, отчего вы сами мне ничего подобного не рассказывали. Я хочу сказать, что если Марси и в самом деле серьезно болела, мне лучше было бы знать об этом — на случай рецидива. Я начала было выпытывать у нее подробности, ну, сами знаете, как расспрашивают маленьких детей, но девочка вдруг разрыдалась! Мы как раз готовили на кухне печенье, а она заплакала и затряслась, бедненькая, как осиновый лист. Я попыталась утешить ее, но она вырвалась и убежала. Нашла я ее в гостиной, за большим зеленым креслом, она там притаилась, как мышка, на корточках, словно пряталась от кого-то. — Боже мой! — всплеснула руками Жоржа. — Минут пять я ее успокаивала и еще минут десять выманивала из убежища. Она взяла с меня слово, что, если эти противные врачи когда-нибудь снова придут за ней, я позволю ей спрятаться за креслом и не выдам. Знаете, Жоржа, она ведь говорила все это вполне серьезно.
* * *
По пути домой Жоржа спросила: — Что за историю ты рассказала Каре? — Какую историю? — глядя прямо перед собой, вопросом на вопрос ответила Марси. — Историю о каких-то врачах. — Ах, эту… — Будто бы тебя привязывали к кровати. Что это тебе взбрело в голову? — Это правда, — сказала Марси. — Нет, это неправда! — Это правда, — чуть слышно повторила девочка. — Ты только один раз была в больнице — когда я родила тебя, но этого ты уж наверняка не помнишь, — вздохнула Жоржа. — Разве ты не знаешь, что бывает с врунишками? Что случилось с Дэнни Даком, когда он прихвастнул? — Фея Правды не разрешила ему пойти к суркам на праздник. — Верно. — Врать нехорошо, — тихо произнесла Марси. — Лгунов никто не любит, особенно сурки и суслики. Совершено обезоруженная, Жоржа с трудом сдержала улыбку и как можно строже повторила: — Вот именно, врунов никто не любит. Они остановились на красный свет светофора, но Марси упорно избегала смотреть на мать, глядя прямо перед собой. — Особенно плохо врать маме и папе. — А также и тем, кто заботился о тебе. А выдумывать истории, чтобы напугать Кару, — это все равно что соврать. — Я не хотела ее напугать, — сказала Марси. — Ну, тогда хотела, чтобы она тебя пожалела. Ведь ты никогда не лежала в больнице. — Нет, лежала. — Интересно узнать, когда же? — Не помню. — Значит, не помнишь? — Почти не помню. — Почти — не ответ. Где же эта больница? — Точно не знаю… Иногда я все вспоминаю четче, иногда — хуже. Бывает, что вообще помню совсем смутно. А когда вдруг все вспоминаю очень ясно, мне становится… страшно. — А сейчас ты тоже все помнишь довольно смутно, верно? — Да. Но утром мне вдруг все вспомнилось очень ясно и стало страшно… Зажегся зеленый, и Жоржа молча тронула с места машину, размышляя, как ей лучше построить дальше разговор. Ничего путного в голову не приходило. Да и вообще глупо воображать, что понимаешь своего ребенка. Марси всегда поражала ее своими поступками, заявлениями, гениальными идеями, мыслями вслух и вопросами — казалось, они исходили не от нее самой, а были почерпнуты из тайных книг, известных только детям, вроде руководства о том, как вывести маму и папу из терпения. И, словно бы заглянув в одну из таких книг, Марси спросила: — Почему у Санта-Клауса все дети ненормальные? — Что? — Ну, понимаешь, у Санты и миссис Клаус ведь было много детей, но все они были эльфами. — Эльфы вовсе и не дети Санта-Клауса. Они у него работают. — Ой, правда? И сколько же он им платит? — Он ничего им не платит, моя дорогая. — На что же они тогда покупают себе еду? — А им и не нужно ничего покупать. Санта-Клаус им даст все, что им нужно. — Жорже стало ясно, что это Рождество — последнее, когда ее дочь еще верит в Санта-Клауса. Все ее одноклассники уже давно в этом засомневались. Да и сама Марси уже не в первый раз задает такие каверзные наводящие вопросы, от которых Жорже становится немного грустно: когда исчезает красота вымысла и волшебство, это ведь всегда печально. — Эльфы — члены его семьи, и они работают на него, потому что любят свою работу. — Ты хочешь сказать, что они его приемные дети? Значит, у Санты нет своих детей? Жаль, — вздохнула Марси. — Зато у него много эльфов, которых он любит, — сказала Жоржа. «Боже, — подумала она, — как же я люблю эту крошку. Спасибо Тебе, Господи! Спасибо Тебе, что Ты подарил ее мне, пусть даже мне пришлось связаться ради этого с Аланом Райкоффом. Нет худа без добра». Она свернула на проезд к своему многоквартирному дому со странным названием, которое в переводе с испанского означает «Яйца», и припарковала машину в четвертой секции гаража. Прожив пять лет в этом доме, она так и не могла взять в толк, кому пришло в голову дать ему столь одиозное название: «Яйца». Едва машина остановилась, Марси выскочила из нее, подхватив картинки и тарелку с печеньем, и бросилась бегом по дорожке для пешеходов к дверям. Она явно не была настроена продолжать начатый в дороге разговор. Жоржа тоже решила, что не нужно портить ребенку праздник. Марси — хорошая девочка, лучше многих других, и выдумка насчет врачей — скорее исключение, чем правило в ее поведении. Жоржа ведь сказала ей, что обманывать — нехорошо, и девочка все поняла, хотя и поупрямилась немного, но ведь потом она переменила тему разговора, значит, признала, что не права. Все порой заблуждаются, и не следует ее в этом упрекать, тем более в канун Рождества. Жоржа не сомневалась, что больше никогда не услышит от дочери подобных глупых выдумок.5
Лагуна-Бич, КалифорнияВ течение дня Доминик Корвейсис перечитал анонимную записку, отпечатанную на машинке, не менее сотни раз: «Лунатику настоятельно рекомендуется покопаться в своем прошлом, ибо именно там он отыщет ключ к своим проблемам». Подозрительным было не только отсутствие на листе бумаги подписи, а на конверте обратного адреса, но и слабый, смазанный оттиск штемпеля, по которому невозможно было даже определить, откуда — из Лагуна-Бич или из другого города — было отправлено загадочное послание. Расплатившись за завтрак и покинув ресторан, он сел в машину и, не обращая внимания на свежий экземпляр своей книги, еще несколько раз перечитал записку. Это занятие привело его в такое нервное возбуждение, что он выудил из кармана пиджака пару пилюль валиума и сунул в рот, намереваясь проглотить, не запивая, но в последний момент заколебался: для анализа новой ситуации ему потребуется свежая голова. И, впервые за последнее время, он решил отказаться от таблеток как панацеи от своих тревог — пилюли вернулись в коробочку, а последняя, в свою очередь, в карман пиджака. Он поехал в направлении магазинов на Саут-Кост, в Коста-Меса, намереваясь купить какие-то рождественские сувениры. И всякий раз, когда продавцы заворачивали для него очередную покупку, он извлекал из кармана письмо и вновь и вновь пробегал его. У него было промелькнула догадка, что записка — дело рук Паркера, решившего подразнить его и таким оригинальным способом вывести из полусонного состояния. На Паркера это было очень похоже, ведь он мнил себя большим психоаналитиком и обожал розыгрыши. Но в конце концов Доминик отверг эту гипотезу: козни в духе Макиавелли не вписывались в характер художника, он был, по правде говоря, слишком прямолинейным. Да, Паркер, конечно же, не мог написать эту записку, но у него вполне могли бы возникнуть на этот счет любопытные предположения. И совместно они могли бы решить, каковы возможные последствия появления этого странного послания и что лучше предпринять дальше. Позже, уже почти подъезжая к дому Паркера, Доминик вдруг пришел к потрясающему умозаключению, от которого так разволновался, что даже притормозил у обочины. Он снова достал из кармана пиджака письмо, перечитал его и в задумчивости уперся пальцем в текст. У него похолодело под ложечкой. Он посмотрел на себя в зеркало, и выражение собственных глаз ему совершенно не понравилось. А не сам ли он написал это письмо? Он вполне мог составить его на компьютере во время очередного приступа сомнамбулизма. Но дико было предположить, что он оделся, дошел до почтового ящика, опустил в него конверт, вернулся домой, снова переоделся в пижаму и при этом не проснулся. Нет, это невозможно. А если подумать? Да, уж если он начал вытворять такие фокусы, значит, мозги у него не совсем в порядке. У него вспотели ладони, и он обтер их о брюки. Только три человека знали о том, что он подвержен сомнамбулизму: он сам, Паркер Фейн и доктор Коблец. Паркера он исключил. Доктор Коблец, конечно же, такого сделать не мог. И если не сам он отправил себе это письмо, тогда кто же? Настроение ехать к другу пропало, и Доминик направился домой. Спустя десять минут, войдя в кабинет, он вновь достал из кармана проклятый конверт, напечатал текст, появившийся на экране в виде зеленых строк, а затем дал компьютеру команду выдать ему копию на бумаге. Принтер послушно отстучал загадочные слова. Печатающее устройство компьютера Доминика имело четыре комплекта различных шрифтов: «Престиж-элит», «Артизан-10», «Курьер-10» и «Литера готик». Доминик использовал все гарнитуры и карандашом отметил на каждом варианте тип шрифта. После этого он разгладил несколько помятый оригинал и поочередно сличил с ним каждую из копий. «Курьер-10» полностью совпадал с типом шрифта полученной им записки. Но это еще ни о чем не свидетельствовало: по всей стране в учреждениях и частными лицами использовались миллионы печатных устройств с такой гарнитурой. На всякий случай Доминик сравнил тип использованной в обоих случаях бумаги: листы оказались также идентичными — 8,5 на 11 дюймов, одной плотности, но такой бумагой были завалены тысячи магазинов в пятидесяти штатах. Доминик посмотрел листы на просвет и не обнаружил никаких специфических вкраплений и водяных знаков, наличие которых могло бы подтвердить, что оригинал письма напечатан не на бумаге из его запасов. Паркер, доктор Коблец и он сам, размышлял Доминик. Кто еще мог знать? И что именно должно было донести до него это послание? Что за секрет похоронен в его прошлом? Какая забытая травма, какое стершееся в памяти событие явилось причиной его лунатизма? Сидя за рабочим столом, Доминик напряженно всматривался в темноту ночи за окном, ища разгадку. Мучительно тянуло принять транквилизатор, но он терпел: решение задачи требовало мобилизации всей его воли и всего интеллекта, и он нашел в себе силы сделать это. Впервые за долгое время у него появилось основание гордиться собой. Несмотря на ощущение бессилия перед данной конкретной проблемой, он осознал, что по крайней мере он способен самостоятельно решать, как ему жить и как поступать. Оказывается, чтобы поверить в собственные силы и возможности, требуется не так уж и много, какой-нибудь занозистый пустяк вроде этой записки, задевшей его самолюбие, и тогда жизнь вдруг предстает в совершенно ином свете. Он встал и прошелся по кабинету с письмом в руке. Взгляд его упал на почтовый ящик под окном, освещаемый голубоватым светом фонаря. Случалось, что кто-то из его друзей и знакомых посылал ему открытку или письмо на домашний адрес. Доминик вспомнил, что сегодня он еще не забирал корреспонденцию из этого ящика. Он вышел из дома, прошелся по дорожке и ключом открыл ящик. С побережья веяло запахом океана, было довольно прохладно. В тишине ночи тоскливо поскрипывали деревья, шумя листвой. В неярком свете фонаря над головой Доминик бегло осмотрел конверты и открытки. Внимание его привлек простой белый конверт без обратного адреса. Закрыв ящик, Доминик торопливо вернулся в дом, ощущая неприятное волнение, прошел в кабинет, надорвал конверт и вытащил оттуда листок бумаги. Присев за стол, он развернул письмо и прочитал: «Луна». Никакое другое слово не могло бы потрясти его сильнее. Он словно провалился в нору Белого Кролика, попав в фантастическое царство, где не действуют законы логики и здравого смысла. Луна. Это просто невозможно. Никто не знал, что он просыпался от кошмарных снов именно с этим словом на устах. «Луна, луна…» — шептал он в ужасе. И никто не знал, что во время блужданий во сне он однажды напечатал на принтере это слово. Он не сказал об этом ни Паркеру, ни доктору Коблецу, потому что случилось это уже после того, как он начал принимать лекарства и появились обнадеживающие результаты. К тому же, как ни пугало его это слово, он не понимал, что за ним кроется, как не понимал и того, почему оно вызывает у него мурашки, и поэтому инстинктивно скрывал эту тайну от всех — до поры. Он боялся, что Коблец решит, что лекарства ему не помогают, и прибегнет к психотерапии, отменив прежние пилюли, к которым Доминик привык. Луна. Черт побери, ведь никто же не знал! Никто, кроме… него самого. На улице он не взглянул на штемпель. Сейчас он как следует рассмотрел его и убедился, что конверт не появился чудесным образом из ниоткуда, а был отправлен 18 декабря, то есть в прошлую среду, из Нью-Йорка. Доминик едва не расхохотался. Выходит, он никакой не безумец! Он не посылал сам себе эти шифрованные послания и не мог посылать, поскольку всю неделю был в Лагуна-Бич. От почтового ящика, в который опустили этот конверт, его отделяли три тысячи миль. Но кто и зачем отправил ему эти письма? Кто, находясь в Нью-Йорке, мог знать о его сомнамбулизме и о том, что он многократно напечатал слово «луна» на принтере? Тысячи вопросов роились в голове Доминика, и ни на один он не находил ответа. Хуже того, он даже не видел, с чего начать поиски. Ситуация не укладывалась ни в какие рамки, к ней невозможно было подобрать логического ключа. Два месяца он был уверен, что ничего более странного и страшного, чем охвативший его сомнамбулизм, он не испытывал и вряд ли когда-либо испытает. Но подоплека его лунатизма, какой бы она ни была, представлялась ему еще более загадочной и ужасной. Ему вспомнилось первое свое послание самому себе, прочитанное на экране дисплея: «Мне страшно». От чего он прятался в чулане? Когда он начал забивать гвоздями окна во сне? Что его страшило? Доминик понял, что ночные блуждания не вызваны переутомлением. Он также не был перевозбужден ожиданиями успеха или провала своей книги. Никакими обычными причинами его поведение объяснить было нельзя. Здесь крылось нечто иное. Нечто необычное и ужасное. Так что же открывалось ему во сне такое, что он забывал, как только просыпался?
6
Нью-Хейвен, КоннектикутНа закате небо прояснилось, замерцали тусклые звезды — предвестники близящегося восхода Луны над стылой землей. Прислонившись спиной к валуну, Джек Твист сидел на снегу на вершине холма среди сосен, поджидая появления на шоссе бронированного автомобиля для перевозки ценных грузов. Спустя всего три недели после успешной операции по изъятию более миллиона долларов со склада мафии он уже приступил к новой рискованной работенке. На нем были ботинки, перчатки и белый лыжный костюм с капюшоном, накрепко завязанным под подбородком. В трех сотнях ярдов за его спиной, на юго-запад от лесочка, горели огни стройки, а прямо перед ним уходили на северо-восток темные поля, местами поросшие голыми деревцами и кустарником. И лишь где-то совсем далеко, невидимые для Джека, начинались корпуса завода электронных приборов, магазины и жилые дома, на что намекали лишь тусклые электрические огни на горизонте. На дальней кромке поля на шоссе тоже появился свет. Поднеся к глазам бинокль ночного видения, Джек направил его, сфокусировав, на приближающийся автомобиль. Хотя левый глаз его слегка косил, зрение у Джека было отличное, и с помощью бинокля он безошибочно определил, что это автомобиль другой марки, не представляющий, следовательно, для него интереса. Поэтому он опустил бинокль. В ожидании бронированного автофургона он мысленно вернулся в иные времена и теплые края — в душную и влажную ночь в центральноамериканских джунглях: там он вот так же, как и теперь, пристально вглядывался с помощью бинокля в ночной ландшафт, высматривая подкрадывающегося к нему и его товарищам противника…
* * *
Его взвод, двадцать прекрасно подготовленных десантников под командованием лейтенанта Рейфа Айкхорна, заместителем которого был он, Джек Твист, нелегально пересек границу и прошел уже пятнадцать миль, не замеченный пограничниками. Действия десантников могли быть расценены как боевые, поэтому на их маскировочных костюмах не было знаков различия и ни у кого, из бойцов не было никаких документов. Их целью был небольшой концентрационный лагерь, цинично именуемый «Институтом братства», где Народная армия «перевоспитывала» тысячи индейцев племени мискито. Двумя неделями раньше мужественные католические священники сумели вывести из страны через джунгли полторы тысячи индейцев, спасая их от неминуемого заключения. Эти-то святые отцы и сообщили о готовящейся над узниками «Института братства» расправе: их намеревались убить и похоронить в общих могилах уже в ближайшем месяце. Гордое племя мискито, имеющее богатую древнюю культуру, отказалось подчиниться коллективистской шовинистической философии новоявленных лидеров страны, и те, памятуя о приверженности индейцев собственным традициям, без колебаний прибегли к силе, чтобы изолировать и уничтожить потенциальных врагов. Но спасение индейцев было не единственной целью тайной операции диверсионно-десантной группы. Диктаторские режимы самых различных толков постоянно уничтожали своих несчастных граждан в разных уголках планеты, и у Соединенных Штатов не было ни сил, ни возможностей предотвратить все эти санкционированные государством убийства. В данном же случае, помимо индейцев, в лагере содержались одиннадцать узников, представлявших для правительства США значительный интерес. Эти одиннадцать человек ранее боролись против свергнутого ныне правого диктаторского режима, но позже не захотели быть молчаливыми свидетелями террора, воцарившегося в стране после захвата власти их бывшими соратниками, которые предали идеалы революции. Несомненно, эти одиннадцать бывших революционеров являлись носителями важной информации, и с этой точки зрения их жизнь представляла для Вашингтона куда больший интерес, чем жизнь тысяч индейцев. Итак, взвод Джека достиг, оставаясь необнаруженным, концентрационного лагеря, который находился на границе джунглей и крестьянских полей. «Институт братства» был обнесен колючей проволокой и окружен сторожевыми вышками. По краям заграждения стояли два трехэтажных административных здания из бетонных блоков и деревянная полуразвалившаяся казарма. Вскоре после полуночи взвод десантников обстрелял казарму и бетонные корпуса ракетами и бросился в атаку. Через полчаса после первого выстрела индейцы и другие заключенные были построены в колонну и двинулись к границе. В бою двое бойцов их отряда погибли и трое были ранены. Пока Рейф Айкхорн формировал колонну и наблюдал за безопасностью флангов, Джек и еще трое бойцов слегка поотстали, чтобы проверить, все ли заключенные покинули лагерь, а заодно и прихватить документы, свидетельствующие о допросах с применением пыток, убийствах индейцев и местных крестьян. К тому времени, когда они закончили в лагере все дела, колонна успела уйти вперед на две мили. Как ни старались Джек и его ребята, догнать колонну им так и не удалось. До границы с Гондурасом оставалось еще несколько миль, когда на рассвете из-за верхушек деревьев возникли, словно гигантские черные осы, вертолеты противника с десантниками. Колонна индейцев и все остальные бойцы взвода Джека успели вырваться на свободу, но сам он и трое его товарищей были захвачены в плен и доставлены в учреждение, схожее с «Институтом братства». Но это место было во много раз хуже концентрационного лагеря. Официально его вообще как бы и не существовало. Правящая хунта не могла допустить, чтобы о подобной адской дыре узнали граждане страны, в которой для трудящихся строился «рай на земле», ибо за стенами темницы творились чудовищные злодеяния в духе инквизиции. За этими безымянными стенами в камерах без номеров Джек и его товарищи подвергались психологическим и физическим пыткам, невиданным унижениям и оскорблениям, мучились от голода и постоянных угроз, изо дня в день ожидая смерти. Один из четверых скончался, другой сошел с ума. И только Джек и его близкий друг Оскар Вестон сумели сохранить жизнь и здравый рассудок на протяжении всех одиннадцати с половиной месяцев заключения…* * *
Сейчас, спустя восемь лет, сидя на заснеженной вершине холма в Коннектикуте в ожидании бронированного «гардмастера», Джек явственно слышал звуки и запахи, не принадлежащие этой морозной зимней ночи: гулкие отзвуки шагов в бетонных коридорах, вонь переполненной параши, крики выводимого из камеры на очередной допрос заключенного, обезумевшего от побоев. Джек с наслаждением вдохнул полной грудью чистый холодный воздух Коннектикута. Воспоминания о том времени и том безымянном месте редко беспокоили его, гораздо чаще вспоминалось случившееся с ним уже после удачного побега из душного ада и то, что произошло в его отсутствие с Дженни. И не мытарства в Центральной Америке, а то, что выпало на его долю уже после того, как они остались позади, обозлило Джека и отвернуло его от общества. Тем временем на шоссе вспыхнули новые огоньки. На сей раз это приближался его фургон. Джек взглянул на часы: 9.38 — точно по расписанию, впрочем, как и каждый вечер в течение всей недели. Даже накануне праздника фирма по безопасной перевозке ценностей держала марку. Джек откинул крышку лежавшего рядом с ним атташе-кейса, и на шкале сканера засветились голубые цифры: даже с самым совершенным электронным оборудованием Джек ухлопал три вечера, чтобы поймать частоту радиосвязи фургона с диспетчерским пунктом. Джек повертел ручку громкости приемника — сперва послышалось легкое шипение и потрескивание, потом голос диспетчера: — Три — ноль — один. — Северный олень, — отозвался водитель. — Рудольф, — сказал диспетчер. — Купол, — подтвердил водитель. Ворвались атмосферные помехи, и Джек выключил приемник: ему уже все было ясно. Диспетчер назвал номер машины, дальше пошел закодированный запрос, все ли благополучно, и подтверждение водителя. Бронированный фургон промчался футах в двухстах от Джека, и он проводил взглядом его задние фонари. Теперь он знал расписание триста первого «гардмастера» и вернется сюда, на это промерзшее поле, лишь в ночь операции, намеченной им на субботу, 11 января. Но до этого еще многое предстояло сделать. Обычно подготовка операции доставляла ему не меньшее удовольствие, чем ее осуществление. Но теперь, шагая в направлении домов на юго-западе к оставленной там машине, он не испытывал ни малейшего удовлетворения, никаких признаков азарта. Он явно утрачивал способность наслаждаться даже разработкой преступления. С ним что-то происходило, он менялся. И при этом не понимал, почему это происходит. Между тем ночь становилась светлее, и Джек взглянул вверх: над горизонтом вальяжно зависла жирная до неприличия Луна, казалось, она вот-вот раздавит землю. Джек замер, любуясь восходящим спутником своей планеты. По спине его вдруг пробежал озноб, но он не был следствием зимнего холода, он шел откуда-то изнутри. — Луна, — тихо произнес Джек. Услышав свой собственный голос, он содрогнулся, охваченный необъяснимым страхом. Ему безумно захотелось бежать и спрятаться от Луны, словно ее сияние могло растворить его, как едкая кислота. Через минуту странный порыв прошел. Джек не мог понять, почему Луна так неожиданно напугала его. Ведь это всего лишь старинная знакомая, воспетая многими поэтами в романтических стихах и любовных песнях. Странно. Он продолжал свой путь к машине, время от времени поглядывая на Луну и пожимая плечами. Однако, когда он сел за руль, доехал до Нью-Хейвена и вырулил на федеральное шоссе № 95, этот любопытный инцидент полностью выветрился у него из головы. Он вновь думал о Дженни, своей фактически мертвой жене, чье состояние угнетало его под Рождество всегда сильнее, чем в обычные дни. Позже, у себя в квартире, стоя возле окна и глядя на раскинувшийся за ним город, он почувствовал себя самым одиноким и несчастным человеком на свете.7
Рождество Округ Элко, НевадаСэнди Сарвер проснулась рано, едва солнце заглянуло в окна спальни их трейлера. Вокруг было настолько тихо, что казалось, будто время остановилось. Она вполне могла повернуться на другой бок и спать дальше, если бы захотела, потому что впереди у нее было еще восемь дней отпуска. Эрни и Фэй Блок закрыли мотель «Спокойствие» и укатили проведать своих внуков в Милуоки. Примыкающий к мотелю гриль-бар, где работали Сэнди и ее муж, также закрылся на праздники. Но Сэнди знала, что уже не заснет, потому что совершенно проснулась и ощущала прилив сил. Она потянулась, как кошка, под одеялом, подумывая, не разбудить ли ей Неда и не затащить ли его на себя. Едва различимый в темной спальне, Нед крепко спал, судя по глубокому дыханию, и, хотя плоть Сэнди и требовала удовлетворения, она не стала будить его: для любви у них будет достаточно времени и днем. Сэнди выскользнула из постели, прошла в душевую и приняла сперва горячий, а потом холодный душ. Многие годы она не интересовалась сексом, оставаясь фригидной. Но недавно вид собственного обнаженного тела смутил ее, вогнав в краску. И, хотя она не знала причины своих новых ощущений, она определенно изменилась. А случилось это позапрошлым летом, когда секс впервые стал для нее привлекательным, если можно так выразиться. Теперь это звучало глупо. Ну конечно же, секс привлекателен. Но до того лета она предавалась этому занятию чисто механически, и потому запоздавший расцвет ее эротических чувств не только приятно удивил, но и заинтриговал ее. Обнаженная, Сэнди вернулась из душевой в спальню, взяла из шкафа свитер и джинсы и оделась. Потом она прошла на кухню и налила себе стакан апельсинового сока. Внезапно ей захотелось погонять на машине. Она оставила Неду записку, надела отороченную овчиной куртку и вышла из трейлера к пикапу. Секс и езда на автомобиле стали для нее новыми увлечениями, которым она отдавалась с одинаковой страстью. Это было еще одной пикантной неожиданностью: до позапрошлого лета она терпеть не могла ездить на «Форде» и редко садилась за руль. Она боялась поездок на автомобиле так же, как некоторые люди боятся самолетов. Теперь же на втором месте после секса среди ее удовольствий стояла гонка по шоссе — без всякой определенной цели, просто ради самого процесса езды, от которой перехватывает дух. Она понимала, почему секс раньше вызывал у нее отвращение, здесь не было ничего непонятного: за это следовало бы спросить с ее папаши, Хортона Перни. Мать Сэнди умерла при родах, и ее она, естественно, не знала, но вот своего папашу изучила прекрасно. Они жили с развалюхе на окраине Барстоу, на краю калифорнийской пустыни, вдвоем, вдали от людей, и Сэнди рано испытала сексуальные домогательства со стороны отца. Хортон Перни был угрюмым, тяжелым, подлым и опасным человеком, и, пока в четырнадцать лет Сэнди не сбежала из дома, он использовал ее как сексуальную игрушку. Совсем недавно она также поняла, что и прежняя ее неприязнь к езде на автомобиле тоже была обусловлена какой-то обидой, нанесенной в детстве отцом. Хортон Перни имел мастерскую по ремонту мотоциклов — обветшалый, рассохшийся, некрашеный сарай рядом с домом, но доходов она ему почти не приносила. Поэтому два раза в год он сажал Сэнди в машину и два с половиной часа гнал по пустыне до Лас-Вегаса, где у него был знакомый сутенер поимени Самсон Шеррик. У этого типа имелся список извращенцев, питающих особую страсть к детям, и он всегда был рад видеть Сэнди. После нескольких недель, проведенных в Лас-Вегасе, папаша Сэнди набивал карманы банкнотами, сажал дочь обратно в машину и гнал назад в Барстоу. Для Сэнди эти поездки были кошмаром, потому что она наперед знала, что ожидает ее по приезде в Лас-Вегас. Но еще хуже было возвращение домой, сулившее только прежнюю постылую жизнь в вонючей хибаре и постоянные грубые приставания похотливого папаши. В обоих направлениях дорога вела в ад, и она возненавидела и рев мотора, и скрип покрышек по асфальту, и сам вид бесконечной ленты шоссе перед глазами. Вот почему ей казалось чудом пробуждение в ней интереса к сексу и езде на автомобиле. Она не могла понять, где почерпнула силы и волю побороть свое кошмарное прошлое. Она просто изменилась после позапрошлого лета и продолжала меняться, испытывая наслаждение от ощущения происходящих в ней перемен, нарастающего уважения к себе, чувства свободы, в конце концов. Сейчас она забралась в фордовский пикап и запустила двигатель. Их трейлер стоял на голом участке земли на южной окраине маленького поселка Биовейна, неподалеку от шоссе № 21. Вокруг, куда ни глянь, не было ничего примечательного: пустынная равнина, покатые холмы, пустые бочки из-под бензина, острые камни, жухлая трава и кустарник. Лазурное утреннее небо казалось необъятным и манило к себе, Сэнди так и хотелось взлететь, до упора утопив педаль газа. Если бы она поехала на север, она вскоре достигла бы федерального шоссе № 60, которое вело на восток к Элко или на запад к Батл-Маунтину. Но Сэнди поехала на юг, по плохой дороге, со скоростью семьдесят миль в час. Спустя пятнадцать минут потрескавшийся асфальт кончился и пошел гравий, но Сэнди не стала испытывать судьбу на этой пустынной дороге, а предпочла свернуть на восток и помчалась по грунтовому проселку, основательно заросшему кустарником и травой. В это рождественское утро на дороге кое-где лежал снег, вершины далеких гор были белыми, но здесь, в предгорье, осадков вообще выпадало мало, а снега — особенно: за исключением отдельных заметенных снегом холмиков и кустов, бурая земля была голой и сухой. Пикап несся по проселку, оставляя позади пыльный шлейф. Незаметно для себя Сэнди съехала с дороги и помчалась на север, потом — на запад, достигнув наконец знакомого места. Но, как ни пыталась она припомнить, с чем связаны ее воспоминания об этом месте, ей это не удавалось. Каким-то необъяснимым образом ее подсознание нередко приводило ее именно сюда во время вот таких автомобильных прогулок, порой довольно запутанным маршрутом. Она затормозила и уставилась в грязное ветровое стекло. Она приезжала сюда, потому что чувствовала себя после этого всегда гораздо лучше, что тоже было для нее загадкой. Возможно, настроение поднимал ландшафт, хотя он мало чем отличался от других окрестных местечек, ласкающих взор своей дикой красотой. Но только здесь Сэнди ощущала какой-то ни с чем не сравнимый покой, столь желанное умиротворение. Она выключила двигатель, спрыгнула из пикапа на землю и, засунув руки в карманы куртки, принялась расхаживать взад и вперед, не обращая внимания на холодный ветер. Место, где она теперь прогуливалась, находилось всего в сотне ярдов к югу от федерального шоссе № 80 — оттуда время от времени доносился рев проносящихся грузовиков, чем-то похожий на рык дракона. Дальше за шоссе, на северо-восточной возвышенности, стояли мотель «Спокойствие» и ее гриль-бар, но Сэнди только раз посмотрела в том направлении. Ее больше интересовала близлежащая местность, таящая в себе необъяснимую притягательность: Сэнди казалось, что от нее исходит покой, подобно тому, как от камня, нагревшегося за день на солнце, вечером пышет теплом. Она не искала объяснения своей привязанности к этому месту, полагая, что некой тайной силой обладает само гармоничное сочетание природных линий и форм, игра света и тени, специфика рельефа и любая попытка логически вывести формулу таинства естества столь же нелепа, как стремление разгадать секрет обаяния заката или притягательной силы любимого цветка. В это рождественское утро Сэнди еще не знала, что именно к этому куску земли столь же неудержимо влекло 10 декабря и Эрни Блока, когда он возвращался вечером из Элко. Не ведала она и того, что именно здесь испытал он пронзительный трепет ожидания грядущего чуда и всепоглощающий страх. Пройдут недели, прежде чем она узнает, что не одинока в своей странной привязанности к этому заколдованному кусочку земли: как выяснится, немало других людей, знакомых и незнакомых ей, тоже зачарованы им.
* * *
Чикаго, Иллинойс Это рождественское утро оказалось крайне напряженным для отца Стефана Вайцежика — неутомимого поляка, настоятеля церкви Святой Бернадетты и спасителя попавших в беду коллег-священнослужителей. С каждым новым часом этот день обретал для него все большее значение, да что там — можно с полным правом утверждать, что за всю жизнь у отца Вайцежика не было другого такого Рождества! Отслужив вторую мессу, он около часа поздравлял прихожан, сгрудившихся с подарками — корзинами фруктов, коробочками домашнего печенья и другой выпечки — возле дорожки, которая вела к его дому, после чего поехал в университетскую больницу проведать Уинтона Толка, полицейского, которого накануне тяжело ранили налетчики в кафетерии в пригороде города. После операции раненого поместили в отделение реанимации. Теперь он уже вышел из критического состояния, но все еще находился под постоянным контролем. Когда отец Вайцежик прибыл в больницу, возле кровати мужа уже сидела Райнела Толк — весьма привлекательная женщина с шоколадно-коричневой кожей и тщательно уложенными волосами. — Миссис Толк? Я Стефан Вайцежик, — представился священник. — Но… — смутилась женщина. — Успокойтесь. Я здесь не для того, чтобы отпускать грехи, — улыбнулся Вайцежик. — Вот и хорошо, — подал голос Уинтон, — потому что и я не собираюсь пока умирать. Раненый не только был в ясном рассудке, но и вполне бодр, он явно не страдал от боли. Его кровать была приподнята таким образом, чтобы ему было удобнее сидеть. И хотя грудь его была перебинтована, на шее висели датчики прибора сердечной телеметрии, а к левой руке была подсоединена капельница с глюкозой и антибиотиками, выглядел он на удивление хорошо, если принять во внимание его недавние злоключения. Отец Вайцежик был взволнован. Но его чувства выдавало разве только то, как он мял и крутил в руках свою черную шляпу. Осознав наконец, что это выглядит довольно нелепо, он поспешно положил ее на стул. — Мистер Толк, — начал он, — если вы не возражаете, я бы хотел задать вам несколько вопросов о вчерашнем происшествии. Толка и его жену явно смутило любопытство священника. — Видите ли, — пояснил отец Стефан, — в машине вместе с вами находился наш сотрудник, Брендан Кронин… — Мне очень хотелось бы встретиться с ним, — светлея лицом, вступила в разговор Райнела. — Он спас мне жизнь, — сказал Толк. — Он совершил просто невероятно смелый поступок. Ему не следовало бы так рисковать собственной головой, но я, конечно, счастлив, что он поступил именно так. — Мистер Кронин вошел в кафетерий, не зная, есть или нет там еще бандиты. Его самого могли бы застрелить, — поддержала мужа Райнела. — Наши инструкции категорически запрещают подобные действия, — пояснил Толк. — И, окажись я сам в тот момент на улице, я бы строго придерживался их. Вот почему я, хотя и не одобряю поступок Брендана как полицейский, все же не могу не высказать ему свою искреннюю благодарность. — Это поразительно, — произнес отец Вайцежик, словно бы в первый раз слышал о смелости Брендана. На самом же деле он накануне долго беседовал с начальником Уинтона Толка, своим старым знакомым, и уже слышал как похвалу Брендану за мужество, так и порицание — за неосмотрительность. — Я никогда не сомневался, что на Брендана можно положиться, — добавил он. — Скажите, он оказал вам первую помощь? — Видимо, да, — ответил Уинтон. — Я точно не могу сказать. Я помню, как пришел в сознание… и увидел рядом его… довольно смутно, впрочем… он звал меня по имени. Но я все еще был как бы в полусне, понимаете? — Это просто чудо, что Уинтон выжил, — дрожащим голосом вымолвила Райнела. — Успокойся, успокойся, милая, — мягко сказал Уинтон. — Я выжил, и это главное. — Убедившись, что с женой все в порядке, он взглянул на отца Стефана и добавил: — Все поражены тем, что мне удалось выкарабкаться, потеряв столько крови. Мне сказали, что она почти вся вытекла. — Брендан наложил вам жгут? — спросил отец Вайцежик. — Не уверен, — наморщил лоб Толк. — Я был как в тумане, плохо соображал. Отцу Вайцежику не терпелось выяснить то, ради чего, собственно, он сюда и приехал, но он медлил, обдумывая вопрос. Его следовало сформулировать так, чтобы никоим образом не раскрыть суть интересовавшего его чрезвычайного обстоятельства. — Я понимаю, что вы не можете ответить мне со всей определенностью, — наконец нашел он нужные слова, — однако скажите, не заметили ли вы чего-то особенного… чего-то необычного в руках Брендана? Он ведь прикасался ими к вам, не правда ли? — Конечно, прикасался. Кажется, искал пульс, потом ощупал меня всего, стараясь найти рану, из которой лилась кровь. — Ну а вы не чувствовали нечто… нечто необычное, когда он к вам прикасался? У вас не было никакого странного ощущения? — Отец Стефан тщательно подбирал слова, расстроенный необходимостью прибегать к хитрости и напускать туман. — Я не совсем вас понимаю, святой отец. К чему вы клоните? — Оставим это, — натянуто улыбнулся отец Вайцежик. — Главное, что с вами все в порядке. — Он взглянул на часы: — Боже мой, я опаздываю на встречу! И, не дав супругам Толк опомниться, подхватил со стула шляпу, попрощался и поспешно удалился, провожаемый недоуменными взорами Уинтона и Райнелы. При первом взгляде на отца Вайцежика люди обычно принимали его за сержанта-инструктора или футбольного тренера, но уж, во всяком случае, не за священника: его крепкая фигура и уверенная манера держаться никак не соответствовали распространенному представлению о внешности священнослужителя. Когда же он торопился, он походил даже и не на бравого сержанта и не на наставника команды игроков в американский футбол, а скорее на танк. Из палаты Толка отец Вайцежик выбежал в холл, пролетел сквозь одну пару вращающихся дверей, затем сквозь другую и очутился в отделении реанимации, где совсем еще недавно выхаживали раненого полицейского. Там он подошел к дежурному врачу, доктору Ройсу Албрайту, и, представившись духовником семьи Толк, попросил уделить ему несколько минут. — Миссис Толк хотелось бы знать ваше мнение о состоянии ее супруга, — пояснил он, мысленно моля Господа простить ему эту маленькую ложь, допущенную ради благого дела. У доктора Албрайта была внешность кинозвезды Джерри Льюиса и глубокий рокочущий голос Генри Киссинджера, что несколько обескураживало, но он любезно согласился ответить на любые вопросы отца Вайцежика. — Можете заверить миссис Толк, — пробасил он, — что ухудшение здоровья ее мужу не грозит: он пошел на поправку. Два выстрела в грудь в упор из тридцать восьмого калибра! Да у нас никто бы не поверил, что с такими ранами человек может выжить! Да еще и выписаться из реанимации спустя сутки! Мистеру Толку невероятно повезло, должен я вам сказать. — Значит, пули не задели ни сердце, ни другие жизненно важные органы? — осторожно спросил отец Вайцежик. — Более того, — воскликнул доктор Албрайт, — ни одна из них не повредила главные кровеносные сосуды. А ведь у пули тридцать восьмого калибра страшная убойная сила, святой отец. Как правило, она разрывает свою жертву на куски. А у Толка оказались поврежденными лишь одна главная артерия и одна вена. Большая удача, уверяю вас. — Не задержала ли пули какая-то кость? — Кость изменила угол проникновения пуль в мягкие ткани, но не остановила их. Обе они были позже извлечены. И что самое интересное, кость осталась цела, от нее не откололось ни малейшего кусочка! Редкое везение! — Но когда пули были извлечены из тела, не было ли каких-то признаков того, что они не совсем соответствуют пулям этого калибра? Я хочу сказать, не были ли патроны нестандартными, с меньшим количеством свинца в пулях? Иначе чем же объяснить, что выстрелы из револьвера тридцать восьмого калибра оказались менее эффективными, чем, к примеру, пара выстрелов из двадцать второго? — Не знаю, — метнул головой доктор Албрайт. — Вам лучше спросить об этом у полицейских либо поговорить с хирургом, доктором Зоннефордом. Это он извлекал из Толка пули. — Насколько я понимаю, Толк потерял много крови. — Мне кажется, в его истории болезни допущена ошибка, — поморщился доктор Албрайт. — Я еще не разговаривал сегодня с доктором Зоннефордом, Рождество, сами понимаете, но, если судить по записи в истории болезни, Толку влили в операционной четыре литра крови. Этого, безусловно, не может быть. — Почему? — Да потому, святой отец, что если бы Толк и в самом деле потерял четыре литра крови, его бы просто не довезли живым до больницы. Он был бы трупом. Холодным, как камень.* * *
Лас-Вегас, Невада Мэри и Пит Монтанелла, родители Жоржи, приехали к ней в это рождественское утро рано — в шесть часов, с воспаленными от недосыпания глазами, но полные решимости занять свой законный пост у праздничной елки прежде, чем Марси проснется. Когда-то Мэри, такая же высокая, как Жоржа, не уступала дочери в стройности, теперь же сильно располнела. Пит был ниже ее ростом, с бочкообразной грудью и походкой самоуверенного драчуна. На самом же деле это был самый забитый человек, каких Жоржа когда-либо встречала. Родители прибыли к дочке и внучке с уймой подарков. Вдобавок к обычному набору подарков для Жоржи у них были припасены: придирки, неуместные добрые советы и упреки. Мэри чуть ли не с порога заявила, что нужно вымыть воздухоочиститель на кухне над плитой, и немедленно принялась копаться под раковиной, откуда в конце концов извлекла бутылку «Уиндекса» и тряпку, вооружившись которыми тотчас же показала дочери, как следует наводить в квартире блеск и чистоту. Она также заметила, что на елке мало игрушек и не хватает лампочек. Потом ее привела в отчаяние упаковочная бумага: «Боже мой, разве в такую темную бумагу заворачивают подарки детям! А что это за уродливые ленты? Девочкам нравятся широкие длинные ленты и яркая бумага с Санта-Клаусом!» Отец тоже не остался в долгу: ему, видите ли, не понравилось, что пирожные и печенье были из магазина. — Разве ты не испекла домашнее печенье в этом году, Жоржа? — А разве ты не знаешь, папа, что я поздно прихожу домой да еще учусь на курсах менеджеров, и к тому же… — растерялась Жоржа. — Я знаю, что тяжело одной воспитывать дочь, — продолжал Пит, — но мы сейчас говорим об элементарных вещах. Домашнее печенье — это неотъемлемая часть праздника, и тебе следовало бы знать эту прописную истину, дочь моя! — Совершенно верно, — поддержала его Мэри. — Прописные истины следует знать. Они, видимо, решили окончательно испортить Жорже настроение на Рождество в этом году своими нудными наставлениями и скорее всего преуспели бы в этом, если бы ровно в половине седьмого, едва Жоржа поставила в духовку четырнадцатифунтовую рождественскую индейку, в гостиной не появилась Марси. Она была еще в пижаме, милый идеальный ребенок, словно сошедший с картины Нормана Рокуэлла. — Санта-Клаус принес мне набор «Маленький доктор»? — первым делом спросила она. — Он принес тебе даже больше, чем это, моя тыковка, — расплылся в улыбке Пит. — Ты только посмотри, сколько он принес тебе подарков! Марси обернулась и обомлела: под елкой, которую «Санта-Клаус» успел поставить и нарядить ночью, высилась целая гора подарков. Восторг внучки тотчас же передался бабушке и дедушке, и на какое-то время они забыли о таких вещах, как пыль на воздухоочистителе и магазинное печенье: квартира наполнилась радостными возгласами и оживлением. Но к моменту, когда Марси рассмотрела половину подарков, праздничная тональность начала меняться, в ней появились мрачные нотки, предвещавшие грозу к полудню. Хныкающим голосом, не свойственным ей, девочка посетовала, что Санта забыл о наборе маленькой докторши. Она даже не притронулась к кукле, о которой раньше мечтала, и стала распаковывать следующий подарок, надеясь, что там столь желанные ею игрушечные медицинские инструменты. Что-то в ее настроении и во взгляде насторожило Жоржи. На необычное поведение девочки обратили внимание и дедушка с бабушкой. Они принялись уговаривать Марси не торопиться разворачивать свертки и коробочки, а как следует рассмотреть каждый подарок, но их маленькая хитрость не увенчалась успехом. Жоржа не положила набор под елку нарочно: она приберегла его под конец в шкафу как завершающий сюрприз. Но когда осталось развернуть всего три свертка, Марси побледнела и задрожала от волнения: желанного набора «Маленький доктор» все еще не было! Но почему она придавала ему такое значение? Многие распакованные игрушки были гораздо интереснее и стоили куда как дороже, чем игрушечная сумочка с комплектом инструментов. Почему же внимание девочки сосредоточилось именно на нем? Что так привлекало Марси, что вызывало такое беспокойство? Когда последний из подарков, лежавших под елкой и привезенных Мэри и Питом, был распакован, Марси разрыдалась: — Санта не принес его! Он забыл! Он забыл! Отчаяние девочки выглядело крайне странно на фоне чудесных подарков, разбросанных по комнате. Жоржа была расстроена и огорчена таким неблагодарным поведением Марси, да и ее родители были просто ошарашены и подавлены этой неожиданной и беспричинной истерикой внучки. Жоржа вскочила и выбежала в спальню, где за коробками с обувью была спрятана сумочка маленькой докторши: праздник рушился у нее на глазах, и она не могла этого допустить. Когда со свертком в руках она вернулась в гостиную, Марси буквально выхватила его и начала разрывать обертку. — Что случилось с девочкой? — спросила Мэри. — Да, — со вздохом сказал Пит, — не понимаю, что особенного в этом «Маленьком докторе»? Убедившись, что она обрела наконец то, что хотела, Марси тотчас же успокоилась и перестала дрожать. — Санта не забыл о том, что я у него просила! — торжествующе объявила она. — Но, моя милая, может быть, это вовсе и не от Санты, — заметила Жоржа. — Посмотри, что написано на ярлыке. Марси послушно изучила ярлык, прочла написанные на нем слова и, подняв голову, робко улыбнулась: — Это от… папы. Жоржа почувствовала на себе недоуменные взгляды родителей, но не решилась взглянуть им в глаза. Они знали, что Алан укатил со своей очередной крошкой в Акапулько и что он не удосужился оставить для дочери даже поздравительную открытку. Такой щедрый жест со стороны дочери они, конечно же, не одобряли. Позже, на кухне, мать присела рядом с Жоржей на корточки, когда та вытаскивала из духовки индейку, чтобы проверить, готова ли она, и негромко спросила: — Зачем ты это сделала, Жоржа? Зачем ты написала это поганое имя на самом желанном для ребенка подарке? Жоржа слегка выдвинула решетку из духовки, чтобы получше разглядеть индейку на свету, зачерпнула ковшиком со сковороды жир и полила им птицу. — Не портить же дочери Рождество из-за того, что ее папаша осел, — наконец ответила она. — Ты не должна скрывать от нее правду, — спокойно сказала Мэри. — В семь лет ей еще рано знать такую ужасную правду. — Чем раньше она узнает, какая гнида ее отец, тем лучше. Знаешь, что Пит слышал о женщине, с которой живет Алан? — Надеюсь, к полудню птица будет готова, — констатировала Жоржа. — Она в списке «девочек по звонку» в двух казино, Жоржа, — не унималась Мэри. — Ты меня понимаешь? Она «девушка по вызову». Алан живет с проституткой. Что с ним случилось? Жоржа зажмурилась и глубоко вздохнула. — Если он не хочет знать Марси, это даже к лучшему, — продолжала Мэри. — Одному богу известно, какие болезни он мог подцепить от этой женщины. Жоржа запихнула индейку обратно в духовку, закрыла дверцу и встала. — Нельзя ли переменить тему? — поинтересовалась она. — Я думала, тебе будет любопытно узнать, с кем теперь живет твой бывший муж. — Теперь знаю. — Что, если в один прекрасный день он заявится сюда и скажет: «Пеппер и я хотим, чтобы Марси поехала в Акапулько вместе с нами!», или в Диснейленд, или просто пожила вместе с ними некоторое время? — прошипела Мэри. — Да пойми же ты наконец, мама, что он ничего не хочет от Марси, потому что она напоминает ему о его обязанностях! — едва сдерживаясь, сказала Жоржа. — Но что, если… — Мама, хватит, черт побери! — вырвалось у Жоржи. И хотя Жоржа не повысила голос, эффект, произведенный на мать последним восклицанием, был поразительным: она обиделась и отвернулась, сделав вид, что ее интересует содержимое холодильника. — Я смотрю, ты приготовила клецки? — Да уж не в магазине купила, — дрожащим голосом сказала Жоржа, подумав, что это успокоит мать, но в следующий же момент сообразила, что ее слова могут быть расценены как шпилька отцу, и прикусила губу, чтобы не разреветься. — Так у тебя еще и картошка? — по-прежнему глядя в холодильник, напряженным тоном отметила Мэри. — А это что? О, и капусту ты нашинковала для салата. Я думала, тебе потребуется помощь, а ты, оказывается, сама обо всем позаботилась. Она закрыла дверцу холодильника и оглянулась по сторонам, ища себе какое-нибудь занятие. На глазах у нее блестели слезы. Жоржа вскочила из-за кухонного столика и обняла мать. Мэри прижала ее к себе, и они замерли, обнявшись, поняв одна другую без слов. — Я сама не пойму, почему я такая, — пробормотала виновато Мэри. — Вся в мать, она тоже так со мной себя вела. Я поклялась, что никогда не буду такой по отношению к тебе. — Я люблю тебя такой, какая ты есть, — сказала Жоржа. — Может быть, это потому, что ты у меня единственная. Будь у меня возможность завести еще парочку детей, я не была бы такой строгой с тобой. — Да я и сама виновата, мама. Я стала такой вспыльчивой в последнее время. — А как же тебе не стать такой? — крепче прижала ее к себе Мэри. — Эта гнида у тебя всю кровь высосала, тебе приходится одной содержать себя и дочь да еще ходить на занятия… Ты имеешь полно право стать вспыльчивой. Мы так гордимся тобой, Жоржа. Ты такая мужественная. Из гостиной раздался истерический визг Марси. «Что там еще стряслось?» — подумала Жоржа. Вбегая в гостиную, она увидела, что ее папочка пытается убедить внучку поиграть с куклой. — Вот гляди, — вертя куклу, говорил Пит. — Повернешь ее вот так — она плачет. А в этом положении она смеется. — Я не хочу играть с немой куклой, — надулась Марси. — Давай лучше я сделаю тебе еще укол! — сказала она, размахивая почти взаправдашним пластиковым шприцем из набора «Маленький доктор». — Но сладенькая моя, — упрашивал ее Пит, — ты ведь уже сделала мне двадцать уколов! — Мне нужно практиковаться, — настаивала Марси. — Я никогда не смогу лечить себя сама, если не начну практиковаться уже теперь. Пит выразительно посмотрел на Жоржу. — Да что, скажите мне наконец, она нашла в этом наборе? — спросила Мэри. — Хотела бы я знать, — вздохнула Жоржа. Марси наморщила лобик и воткнула резиновый наконечник иглы в руку дедушки. Над бровями у нее выступил пот. — Хотела бы я знать… — озабоченно повторила Жоржа.* * *
Бостон, Массачусетс Это было самое ужасное Рождество в жизни Джинджер Вайс. Хотя ее отец и был евреем, он всегда отмечал вместе со всеми Рождество, потому что ему нравился дух гармонии и доброй воли, наполняющий этот праздник, и, когда отца не стало, Джинджер продолжала относиться к 25 декабря как к особому, радостному дню. И раньше Рождество никогда не угнетало ее. Джордж и Рита сделали все, чтобы Джинджер тоже было хорошо в этот праздник, но она тем не менее не могла побороть в себе ощущение, что она на нем посторонняя. Трое сыновей Ханнаби привезли в «Страж Залива» на несколько дней свои семейства, и огромный особняк наполнился серебристыми детскими голосами и звонким смехом. Все усиленно старались вовлечь Джинджер в традиционные семейные обряды и развлечения. Рано утром она вместе с другими взрослыми присутствовала при штурме оравой детей горы подарков и, как и другие взрослые, ползала с ними по полу, помогая собрать игрушки. На какое-то время ее тревога улеглась, и совершенно естественным образом она стала как бы членом семьи Ханнаби. Тем не менее за завтраком — изысканным, с большим выбором разнообразных закусок, как бы намекающим на предстоящее вечером экстравагантное пиршество, — Джинджер вновь почувствовала себя не в своей тарелке. Великолепный вид на залив успокаивал ее, но не мог остановить начавшееся скольжение по витку спирали депрессии, и оставалось только надеяться: завтра непременно позвонит Пабло Джексон и скажет, что проштудировал материалы по проблеме блокировки памяти и готов вновь подвергнуть ее гипнозу. Вопреки ее ожиданиям, Джордж и Рита не были сильно огорчены визитом Джинджер к Пабло, они лишь пожурили ее за то, что она отправилась к нему одна, без спутника, который мог бы подстраховать ее в случае внезапного приступа панического страха, и взяли с нее слово в следующий раз быть осмотрительнее и позволить Рите или кому-то из слуг сопровождать ее. Само же необычное лечение не вызвало у них нареканий. Успокаивающие возможности вида на залив были не безграничны. Она отвернулась от окна и подошла к кровати: здесь на ночном столике ее ожидал сюрприз — две книги. Одна из них оказалась фантастическим романом Тима Пауэрса, произведения которого она читала раньше, а вторая называлась «Сумерки в Вавилоне». Откуда они появились, у Джинджер не было ни малейшего представления. В комнате были и другие книги, взятые ею внизу в библиотеке и прочитанные за две минувшие недели, свободные от прочих занятий, но эти две она видела впервые. У Риты был приятель, пишущий литературные обозрения для «Бостон глоб», который иногда присылал ей интересные книги еще до того, как они появлялись в магазинах. Очевидно, эти две книги были получены вчера или позавчера, и Рита, зная, что Джинджер неравнодушна к беллетристике, принесла их сюда. Судя по аннотации, в новом романе Тима Пауэрса описывались забавные приключения путешествующих во времени троллей, ведущих во время Американской революции секретную войну против британских домовых. Такие книги обожал Иаков. Джинджер с улыбкой отложила книгу Пауэрса в сторонку, решив насладиться ею позже, и принялась изучать «Сумерки в Вавилоне». Имя автора — Доминик Корвейсис — ей ничего не говорило, но аннотация заинтриговала ее, а прочитав лишь одну страницу, она была потрясена. Но, прежде чем продолжить чтение, она уселась в одном из удобных кресел и лишь после этого бросила взгляд на фотографию автора на обложке. У нее перехватило дыхание, ей стало жутко. Сперва она подумала, что вновь впадает в истерику и сейчас куда-то помчится. Она попыталась отложить книгу, встать, но не смогла. Сделав несколько глубоких вздохов, Джинджер закрыла глаза и подождала, пока сердце угомонится. Когда она снова взглянула на фотографию, та все еще внушала ей беспокойство, но уже не столь сильное, как минуту назад. Где-то она видела этого человека, встречалась с ним, и при далеко не лучших обстоятельствах, но вот где и когда — не могла вспомнить. Из его биографии, напечатанной на обложке, следовало, что раньше он жил в Портленде, штат Орегон, а в настоящее время проживает в Лагуна-Бич, штат Калифорния. Поскольку ни в одном из этих городов ей бывать не доводилось, то Джинджер даже в голову не приходило, где могли перекреститься их жизненные дорожки. Тридцатипятилетний Доминик Корвейсис, мужчина с выразительной внешностью, чем-то напоминающий артиста Энтони Перкинса в молодые годы, наверняка должен был бы хорошо запомниться ей, поэтому необъяснимый провал в памяти казался Джинджер вдвойне странным. Странной была и ее первая реакция на фотографию писателя, и, если бы не выработавшаяся за последние два месяца привычка не сбрасывать со счетов ни одно неординарное происшествие или обстоятельство, Джинджер, возможно, и не стала бы долго ломать голову размышлениями над очередным капризом своей памяти. Но теперь все было иначе. Она уставилась на фотографию, надеясь расшевелить дремлющую память, но, кроме смутного предчувствия, что «Сумеркам в Вавилоне» предназначено в корне изменить ее жизнь, никаких других эмоций или ассоциаций у нее не возникло, поэтому она открыла книгу и начала читать.* * *
Чикаго, Иллинойс Из университетской больницы отец Стефан Вайцежик поехал через весь город в лабораторию при отделе научных исследований чикагского управления полиции. Несмотря на Рождество, городские службы все еще убирали с улиц снег после ночного снегопада. В полицейской лаборатории дежурили двое сотрудников. В помещении было душно и пыльно, как в какой-нибудь египетской гробнице, погребенной в толще песка: ничего другого от этого старого правительственного здания ожидать и не приходилось. Звук шагов гулко разносился по длинным коридорам с высокими потолками и кафельным полом. Обычно лаборатория не делилась информацией с посторонними, но половина полицейских в Чикаго исповедовала католическую веру, из чего следовало, что отец Вайцежик мог рассчитывать не только на нескольких своих хороших знакомых, которые, собственно, и помогли ему проникнуть в эту лабораторию. Его встретил доктор Мерфи Эймс, полноватый человек с абсолютно лысой головой и моржовыми усами. Они заранее договорились о встрече (отец Стефан предупредил о своем визите по телефону из больницы), и у Мерфи было время подготовиться. Они уселись за длинным столом напротив затемненного окна, и Эймс раскрыл лежащую перед ним папку. — Должен сказать вам, святой отец, что я никогда не пошел бы на обнародование материалов уголовного дела, будь хоть малейшая вероятность рассмотрения его в суде. Но, поскольку оба преступника убиты и судить некого, я решил удовлетворить просьбу ходатайствующих за вас коллег. — Я высоко ценю это, доктор Эймс, поверьте. Я чрезвычайно признателен вам за то, что вы смогли уделить мне время и внимание. На лице Мерфи Эймса читалось недоумение. — Однако, признаться, я не совсем понимаю, что вас заинтересовало в этом деле. — Откровенно говоря, я тоже, — произнес отец Стефан несколько загадочно. Он не посвятил в свои намерения высших чинов, которые помогли ему попасть в секретное учреждение, и не собирался раскрывать карты перед Эймсом, хотя бы для того, чтобы его не посчитали маразматиком. — Итак, — начал Эймс, несколько задетый недоверием, — вы интересовались пулями. — Он открыл плотный конверт из темной бумаги, в каких обычно хранят или отправляют секретные материалы, и высыпал его содержимое себе на ладонь: это были два кусочка свинца. — Хирург извлек их из тела Уинтона Толка. Вы сказали, что они вас очень интересуют… — Именно так, — подтвердил отец Стефан, рассматривая смятые в лепешку пули. — Я полагаю, вы взвесили их, ведь это, должно быть, обычная процедура. И вес их совпадает с весом стандартных пуль тридцать восьмого калибра? — Если вы интересуетесь, не расщепились ли они от удара, то я отвечу — нет. Они деформировались в результате соприкосновения с костью, так что, в общем-то, могли бы и расщепиться, но этого не произошло. — Дело в том, — глядя на пули, пояснил отец Вайцежик, — что я имел в виду другое: я хотел бы знать, соответствуют ли они вообще пулям этого калибра? Не была ли допущена какая-то ошибка при сборке патрона, не фабричный ли это брак? Или они как раз нужного размера и веса? — О, они соответствуют стандарту, вне сомнений. — И следовательно, способны нанести больший урон. Значительно больший, — задумчиво произнес отец Вайцежик. — А какой марки револьвер? — Короткоствольный «смит-вессон» тридцать восьмого калибра, модель «чифс-спешиал», — сказал Эймс, извлекая из другого конверта револьвер, из которого стреляли в Толка. — Вы производили из него контрольные выстрелы? — Безусловно, это предусмотрено инструкцией. — И никаких отклонений не обнаружили? Никаких аномалий, в результате которых, например, пуля может вылетать из ствола с меньшей, чем требуется, скоростью? — Интересный вопрос, святой отец. И ответ на него — нет. Это отменный револьвер, он соответствует всем высоким стандартам фирмы «Смит и Вессон». — А как насчет гильз? Возможно ли, что в патроне оказалось меньше пороха, чем обычно? Собеседник отца Вайцежика прищурился. — Сдается мне, что вы пытаетесь выяснить, почему эти две пули не разнесли в куски грудь Уинтона Толка. Верно? Священник кивнул, сохранив на лице непроницаемую маску, и задал следующий вопрос: — В барабане остались неиспользованные патроны? — Да, два. Плюс запасные патроны в кармане куртки одного из стрелявших — около дюжины. — Вы не вскрывали неиспользованные патроны, чтобы установить, насколько они соответствуют стандарту? — Не вижу для этого причин, — пожал плечами Эймс. — А вы не могли бы сделать это прямо сейчас? — Мог бы, конечно. Но какая в этом необходимость? Скажите, святой отец, для чего вообще все это нужно? — Я понимаю, что это несправедливо и мне следовало бы отплатить вам за вашу любезность хотя бы разъяснениями, — с тяжелым вздохом отвечал отец Вайцежик, — но увы! Я не могу пока этого сделать. Священники, подобно врачам и адвокатам, обязаны соблюдать конфиденциальность, беречь тайну. Но обещаю, вы будете первым, кому я раскрою ее, если когда-нибудь буду волен это сделать. Эймс пристально взглянул на него, и отец Стефан не отвел глаз. Наконец эксперт распечатал еще один конверт: внутри его находились неиспользованные патроны от револьвера убитого налетчика. — Подождите здесь, — сказал Эймс и вышел. Спустя двадцать минут он вернулся с белой эмалированной кюветой, в которой лежали разобранные патроны 38-го калибра. Пользуясь карандашом как указкой, он дал подробные объяснения: — Все очень просто: вот гильза, вот пуля, вот капсюль. Между ними камера сгорания, или пороховое отделение, где находится нитроцеллюлоза, горючее вещество — вот оно, серенькое, видите? Я его взвесил, все в норме. На всякий случай я разобрал еще один патрон, с ним тоже все в порядке. Патроны фирмы «Ремингтон» не подводят. Просто Уинтону Толку очень повезло. Он родился в рубашке, святой отец.* * *
Нью-Йорк Джек Твист провел Рождество в палате санатория с Дженни. В праздник ему рядом с ней было особенно тоскливо. Но оставить жену одну и уйти он не мог, потому что знал — ему будет еще хуже. Хотя Дженни и провела на больничной койке большую часть их семейной жизни, Джек по-прежнему любил ее. Уже почти восемь лет она не могла ни улыбнуться ему, ни поцеловать, ни назвать по имени, но в его сердце ничего не изменилось, просто время остановилось. Она все еще оставалась для него прекрасной Дженни Мэй Александер, юной и очаровательной невестой. В той безымянной Центральноамериканской тюрьме он жил мыслью о том, что Дженни ждет его дома, скучает по нему, волнуется и молится за него каждый вечер. Мечта об их будущей встрече после долгой разлуки помогала ему переносить пытки и голод, сохранить рассудок. Из всех четверых десантников, попавших в плен, лишь Джек и его друг Оскар Вестон выжили и вернулись домой, хотя их побег был просто чудом. Почти год они ждали, что их выручат, не сомневаясь в том, что их страна не забудет своих сыновей. Случалось, они спорили, как именно их освободят — с помощью коммандос или же прибегнув к переговорам по дипломатическим каналам. Спустя одиннадцать месяцев они все еще верили, что соотечественники вызволят их, но потом терпение друзей лопнуло. Они сильно похудели и ослабели, их мучили какие-то неизвестные тропические болезни. Ждать дальше манны небесной становилось опасно. Бежать они могли только во время одного из регулярных посещений Народного центра правосудия — чистого светлого учреждения, образцовой тюрьмы, созданной в столице страны специально для того, чтобы убедить иностранных журналистов в гуманности нового режима. Джека и Оскара возили туда каждый месяц. Там они мылись в душе, подвергались санобработке, переодевались в чистую одежду, после чего им надевали на руки наручники и, усадив перед видеокамерами, задавали вопросы. Джек и Оскар обычно сдабривали ответы махровой похабщиной или же прикидывались идиотами, но это не имело ровным счетом никакого значения, потому что цензоры редактировали запись, а на стертые куски накладывали голоса опытных лингвистов, говоривших по-английски без акцента. Когда пропагандистский фильм был отснят, их стали показывать зарубежным журналистам, но лишь на экране телевизора. Журналисты находились в другом помещении и не могли видеть, что отвечает за них сотрудник контрразведки, остающийся за кадром. В начале одиннадцатого месяца заключения Джек и Оскар начали разрабатывать план побега. Они надеялись осуществить его во время ближайшей поездки в Центр правосудия, охраняемый, как им казалось, менее тщательно, чем тюрьма. Физически они были слабы, а их единственным оружием являлись заточки из крысиных костей — с их помощью узники надеялись одолеть вооруженную до зубов охрану. Как ни странно, но их затея удалась. Внутри здания Центра правосудия узников «пас» всего один охранник, сопровождавший их в душевую, которая находилась на втором этаже. Охранник держал свой револьвер в кобуре, вероятно, полагая, что из тюрьмы, находящейся в другой большой тюрьме, которой, по сути, и была столица, бежать бессмысленно, а может быть, потому, что считал Джека и Оскара морально раздавленными, слабыми, безоружными. Он даже не успел удивиться, когда они набросились на него и закололи спрятанными под одеждой костяными заточками: после двух ударов в шею и одного в правый глаз он затих навеки, не издав ни звука. Забрав у охранника револьвер и патроны, узники побежали по коридорам, рискуя быть замеченными и схваченными. Но так как это была не тюрьма в полном смысле этого слова, а пропагандистский центр «перевоспитания», им удалось спуститься до черной лестницы в подвал, откуда, пройдя через несколько складских помещений, они выбрались через окно на разгрузочную площадку. Семь или восемь больших ящиков только что выгрузили из доставившего их грузовика, водитель которого что-то доказывал диспетчеру. Больше поблизости никого не было видно, и, как только эти двое направились к застекленной конторе, Джек и Оскар сперва перебежали к ящикам, а потом забрались в кузов машины. Спустя минуту водитель вернулся, проклиная тупоголового диспетчера, хлопнул дверцей и укатил в город до того, как завыла сирена. Минут через десять, отъехав довольно далеко от Центра правосудия, грузовик остановился. Водитель открыл задние двери фургона, взял какую-то коробку, не заметив притаившихся за ящиками беглецов, и понес ее в здание. Друзья не стали дожидаться, пока он вернется. Пробежав несколько кварталов, они очутились среди грязных обветшалых лачуг, обитатели которых не испытывали верноподданнических чувств ни к прежним, ни к нынешним тиранам, а потому рады были спрятать от них двух сбежавших из тюрьмы янки. Дождавшись ночи, Джек и Оскар поблагодарили хозяев за приют и скромные съестные припасы в дорогу и стали пробираться в пригород. Достигнув фермерских полей, они проникли в амбар и стащили там острый серп, сушеных яблок, кожаный фартук кузнеца и несколько мешков, чтобы подвязать ими свои гнилые тюремные ботинки. Вдобавок они увели лошадь. На рассвете беглецы добрались до настоящих джунглей, отпустили лошадь и пошли дальше уже пешком. Изможденные, полуголодные, вооруженные лишь серпом и револьвером, взятым у убитого охранника, без компаса, ориентируясь по солнцу и звездам, они шли на север через тропический лес к границе. До нее было восемьдесят миль. Только мысль о Дженни спасла тогда Джека: все семь дней и ночей этого кошмарного путешествия, пока они не вышли на дружественную территорию, он мечтал о встрече с ней, видел ее во сне, стремился к ней. Вырвавшись на свободу, он думал, что худшее позади. Но он ошибался. И теперь, сидя возле постели жены и слушая рождественские мелодии, Джек Твист вдруг остро ощутил печаль: ему вспомнилось Рождество, которое он встречал в тюрьме. Тогда его согревала мысль о Дженни, но он еще не знал, что она уже в коме и навсегда потеряна для него. Веселые праздники.* * *
Чикаго, Иллинойс Шагая по коридорам и залам детской больницы Святого Иосифа, отец Стефан Вайцежик все более веселел и ободрялся духом, хотя и до прибытия сюда уже был в приподнятом настроении. Больница гудела оживленными голосами посетителей, из динамиков внутренней радиосети неслись рождественские песни. Мамы, папы, братья, сестры, бабушки и дедушки, а также другие родственники и друзья пришли поздравить детей с подарками, угощениями и наилучшими пожеланиями, и поэтому в этом обычно мрачном учреждении сейчас звучало смеха и радостных возгласов больше, чем можно было услышать за месяц. Даже самые тяжелые больные широко улыбались, забыв на время о своих страданиях. Но нигде в больнице не было так оживленно и весело, как возле кровати десятилетней Эммилин Халбург. Когда отец Вайцежик представился, его тепло приветствовали родители Эмми, две ее сестры, дедушка и бабушка, тетя и дядя, приняв его за одного из больничных капелланов. По рассказам Брендана Кронина, с которым Стефан виделся накануне, он ожидал увидеть маленькую девочку, потихоньку идущую на поправку. Но он не был готов увидеть Эмми сияющей. Всего две недели назад она умирала, парализованная. А сейчас ее глаза светились счастьем, на щеках появился румянец, боли в совсем ещенедавно опухших суставах прошли. Она выглядела не выздоравливающей, аздоровой. Но, что самое поразительное, Эмми не лежала на кровати, а ходила по ней, держась за поручни, к полнейшему восторгу и восхищению родственников. Из палаты даже убрали ее коляску. — Ну, — сказал отец Стефан, — мне пора, Эмми. Я ведь зашел, чтобы передать тебе поздравления от твоего друга Брендана Кронина. — От Толстяка! — радостно воскликнула она. — Он прелесть, правда? Это ужасно, что он здесь больше не работает, мы все по нему скучаем. — Я не знакома с этим Толстяком, — заметила мама Эмми, — но дети его обожают, он для них был полезнее любого лекарства. — Он работал здесь всего неделю, — сказала Эмми. — Но он ведь еще вернется, это точно. Он и теперь иногда заходит меня проведать. Я ждала его сегодня, чтобы поцеловать. — Он хотел забежать, но потом решил побыть на Рождество с родителями. — Это замечательно! Ведь для чего же тогда этот праздник, верно, святой отец? Все должны быть вместе с родными, вместе веселиться, любить друг друга. — Да, Эмми, — подтвердил отец Стефан Вайцежик, думая о том, что лучше не сказал бы ни один философ или теолог. — Для этого мы и празднуем Рождество. Если бы он был в палате один, он спросил бы девочку о событиях 11 декабря. В тот день Брендан расчесывал волосы Эмми, сидевшей в коляске вот перед этим самым окном. Отцу Стефану хотелось узнать, не испытала ли она каких-либо необычных ощущений, когда Брендан прикасался к ней. Но вокруг было слишком много взрослых, и они наверняка стали бы задавать вопросы. А отец Стефан пока еще не был готов раскрыть причину своего любопытства.* * *
Лас-Вегас, Невада Между тем события в доме Жоржи Монтанеллы развивались в этот праздничный день весьма стремительно и драматично. Мэри и Пит перестали донимать дочь неуместными советами и упрекать, обуздав порывы благонамеренности и переключившись на внучку. Рождественский обед начался без десяти час, всего на двадцать минут позже положенного времени, и был изысканным. К этому моменту Марси успела вволю наиграться с дедушкой и бабушкой и забыть о наборе «Маленький доктор». Теперь все ее внимание было отдано роскошному столу, и она ела каждое блюдо не спеша, смакуя, как и взрослые. Это был неторопливый семейный праздничный обед с непринужденной болтовней и смехом, с наряженной елкой, весело подмигивающей огоньками лампочек. Все шло великолепно, пока во время десерта дедушке не захотелось пошутить. — И куда только у такой малютки помещается столько еды? — спросил он Марси. — Ты одна съела больше, чем мы втроем. — Ну дедушка! — Нет, в самом деле, ведь ты просто метешь все со стола! Еще немного, и ты лопнешь! Тебя просто разнесет на куски! Марси демонстративно взяла еще кусок тыквенного пирога и широко раскрыла рот, намереваясь съесть и его. — Нет, только не это! — словно бы спасаясь от неминуемого взрыва, прикрыл лицо руками Пит: Марси запихнула кусочек в рот, прожевала и проглотила. — Видишь? И не лопнула. — После следующего куска ты точно лопнешь, — сказал Пит. — На один кусок я ошибся. Ты взорвешься, и нам придется везти тебя в больницу, чтобы там тебя привели в порядок. — Никакой больницы, — нахмурилась Марси. — Придется, — стоял на своем Пит, — тебя раздует, и нам не останется ничего другого, как отвезти тебя туда. — Никакой больницы, — твердо повторила девочка. Жоржа поняла, что тон голоса Марси изменился, что она уже не участвует в игре, а самым настоящим образом напугана. И не опасностью взорваться от лишнего куска пирога, а самой мыслью о больнице. Бедняжка так разволновалась при одном лишь упоминании о ней, что побледнела. — Только не в больницу, — затравленно озираясь по сторонам, еще раз повторила она. — Нет, мы отвезем тебя туда, — веселился Пит, не замечая перемены в настроении внучки. — Папа, мне кажется, нам… — попыталась отвлечь его Жоржа. — Ну конечно, конечно, нам нелегко будет это сделать, — не унимался Пит, войдя в роль, — ведь тебя раздует до невероятных размеров. Но мы наймем грузовик! — Я ни за что на свете не поеду в больницу! — затрясла головой Марси. — Я не дам врачам трогать меня! — Доченька, — сказала Жоржа, — дедушка только пошутил. На самом деле он… — Эти доктора сделают мне больно, как они один раз уже сделали, — не слыша ее, срывающимся голосом проговорила Марси. — Я не позволю им делать мне больно. — Когда это она была в больнице? — удивилась Мэри. — Она и не была там, — ответила Жоржа. — Я не знаю, почему она… — Нет, я была, была! — закричала Марси. — Они меня привязали к кровати и втыкали в меня разные иголки, и мне было очень страшно, и я не дам им ко мне прикоснуться! Вспомнив о внезапном припадке, случившемся с дочерью у Кары Персаньян накануне, Жоржа решила действовать быстро и решительно, чтобы предотвратить такую же сцену. Положив руку Марси на плечо, она сказала: — Доченька, ведь ты же никогда… — Нет, я была! — взвизгнула истерически Марси и отшвырнула вилку, чуть не угодив ею в едва успевшего уклониться деда. — Марси! — крикнула Жоржа. Девочка спрыгнула со стула и отвернулась от стола, бледная как мел. — Когда я вырасту большой, я сама стану себя лечить, и никто не будет втыкать в меня иголки, — рыдая, пролепетала она. Жоржа вышла из-за стола и направилась к дочери, желая успокоить ее, но та выставила ладони вперед, словно бы защищаясь от нападения, хотя боялась она вовсе не матери. Она смотрела куда-то сквозь Жоржу, и в ее глазах застыл неподдельный ужас. Она не только смертельно побледнела, но буквально сотрясалась от страха, переполнявшего ее. — Марси, что с тобой?! Девочка забилась в угол. Жоржа сжала ее вытянутые руки. — Марси, объясни мне, в чем дело, — повторила Жоржа, но не успела она вымолвить это, как в комнате резко запахло мочой и темное пятно начало расползаться на джинсах Марси по обеим ногам. — Марси! Девочка хотела закричать, но не смогла, только хватала раскрытым ртом воздух. — Что происходит? — спросила Мэри. — Что случилось? — Я сама ничего не понимаю, — сказала Жоржа. — Видит бог, я ничего не понимаю. Не отрывая полных ужаса глаз от какого-то лишь одной ей видимого предмета, Марси начала тихо хныкать.* * *
Нью-Йорк Из динамиков магнитофона по-прежнему лилась рождественская музыка, а Дженни Твист лежала все так же неподвижно и бесчувственно, но Джек уже прекратил бесполезное и удручающее одностороннее общение, которым он заполнял первые несколько часов своего посещения. Теперь он сидел молча, и его мысли сами собой перенеслись через годы к событиям, последовавшим за его побегом из тюрьмы в Центральной Америке… Вернувшись в Соединенные Штаты, он обнаружил, что спасение заключенных из «Института братства» было расценено в некоторых кругах как террористический акт, массовое похищение людей с целью спровоцировать войну. Его, как и других участников операции, выставили перед общественностью уголовниками в военной форме, а на освобожденных заключенных обрушила свой праведный гнев оппозиция, имевшая, видимо, на это особые причины. Переполошившийся конгресс с перепугу наложил запрет вообще на все тайные операции в Центральной Америке, включая уже разработанный план освобождения четверых попавших в плен диверсантов, предписав добиваться их освобождения исключительно по дипломатическим каналам. Так вот почему так долго к ним никто не приходил на помощь! Их родина предала их. Сначала Джек отказывался этому верить, а когда наконец поверил, это стало для него вторым сокрушительным ударом, одним из сильнейших, которые он перенес в жизни. Отвоевав свою свободу, снова оказавшись дома, Джек стал жертвой назойливых журналистов и к тому же был вынужден давать показания специальному комитету конгресса о своем участии в секретной операции. Он надеялся, что уж там-то правда восторжествует, но очень скоро обнаружил, что его точка зрения никого не интересует, а все эти слушания, транслируемые телевидением на всю страну, политические деятели используют исключительно как возможность лишний раз устроить шоу в позорных традициях Джо Маккарти. Однако уже через несколько месяцев о нем забыли, а когда он восстановил прежнюю физическую форму, прибавив в весе, в нем перестали узнавать преступника, которого показывали по телевидению. Но боль и обида отверженного не стихали в его душе. Если предательство со стороны своей страны было для Джека вторым сильнейшим потрясением в его жизни, то самым ужасным стало то, что произошло с Дженни, пока он гнил в центральноамериканской тюрьме. В подъезде на нее напал насильник и, приставив к голове пистолет, затолкал в ее же квартиру, где надругался, оглушил ударом рукоятки пистолета по голове и оставил умирать. Вернувшись наконец домой, Джек нашел Дженни в больнице, в коматозном состоянии, лишенной какого-либо ухода и внимания врачей. Преступник, изнасиловавший и едва не убивший Дженни, был вскоре найден по отпечаткам пальцев и показаниям очевидцев, но изворотливый защитник умудрился оттянуть суд над ним. Джек провел собственное расследование и пришел к заключению, что подонок по имени Норман Хазерт, уже судимый ранее за жестокие сексуальные преступления, виновен и должен быть наказан. Джеку также стало ясно, что Хазерта оправдают за недостаточностью улик. Имея за плечами горький опыт общения с прессой и политиканами, Джек решил для себя, как жить дальше: во-первых, он убьет Нормана Хазерта, но так, чтобы его никто в этом даже не заподозрил; а во-вторых, он достанет необходимое количество денег, чтобы положить Дженни в частную клинику, хотя ради этого ему и пришлось бы совершить преступление. В диверсионно-десантном подразделении его научили многому: владеть почти всеми видами оружия, искусству рукопашного боя и выживания, обращаться со взрывчатыми веществами. Общество обмануло его, но оно также дало ему и знания и средства для реванша, научило нарушать законы, избегая наказания. Норман Хазерт погиб при случайном взрыве газа спустя два месяца после возвращения Джека в Соединенные Штаты. А еще через две недели, после незамысловатого, но и по-военному четко организованного ограбления банка, Дженни переместилась в частную лечебницу. Убив Хазерта, Джек не ощутил удовлетворения. Более того, он впал в депрессию. Убивать на войне и убивать в мирной жизни — это далеко не одно и то же. Он не испытывал потребности убивать, разве что в целях самообороны. Другое дело — хищение денег. После налета на банк он долго находился в прекрасном настроении, успех пьянил его. Дерзкое ограбление оказывало на него положительное воздействие, становилось жизненным стимулом, преступления наполняли смыслом его существование. До недавнего времени. Сейчас, сидя у постели Дженни, Джек Твист думал, что у него останется в жизни, если покончить с воровством. Кроме Дженни, у него ничего не оставалось. Но ему не нужно было доставать для нее деньги, он уже накопил больше, чем требовалось. Значит, единственное, что ему оставалось, — это приходить к ней в палату несколько раз в неделю, смотреть на ее безмятежное лицо, брать ее за руку — и молить Бога о чуде. Смешно подумать: трезвомыслящий, уверенный в себе индивидуалист вынужден надеяться только на какое-то мистическое чудо! Эти невеселые размышления прервал странный булькающий звук, который издала Дженни. Потом она дважды судорожно и глубоко вздохнула и захрипела, подергиваясь. Пронзенный безумной надеждой, что чудо свершилось, едва он успел о нем подумать, Джек вскочил со стула, ожидая, что Дженни впервые за восемь лет откроет глаза и посмотрит на него осмысленным взглядом. Но глаза ее были закрыты, а лицо обмякло. Джек провел по нему рукой, потрогал горло: пульс не прощупывался. То, что произошло у него на глазах, было вовсе не чудом, а полной его противоположностью. Свершилось неизбежное — Дженни Твист скончалась.* * *
Чикаго, Иллинойс В это Рождество в больнице Святого Иосифа дежурили несколько врачей, и двое из них, Джарвил и Клинет, согласились побеседовать с отцом Вайцежиком об Эммилин Халбург, чудесным образом идущей на поправку. Клинет, молодой человек с густыми курчавыми волосами, проводил священника в совещательную комнату, чтобы вместе с ним пролистать историю болезни девочки и просмотреть рентгеновские снимки. — Пять недель назад ей начали вводить новый лекарственный препарат — намилоксиприн, — начал он, несколько волнуясь. Доктор Джарвил, постоянно работающий и живущий при больнице человек с тихим голосом и массивными надбровными дугами, тоже был явно взволнован резким, неожиданным улучшением здоровья Эмми. — Намилоксиприн очень эффективен при лечении подобных костных заболеваний, — пояснил он. — Он останавливает процесс разрушения надкостницы, способствует росту костных клеток и в некоторой степени стимулирует накопление межклеточного кальция. А в случаях, схожих с тем, что мы наблюдаем у Эмми, то есть когда поражен костный мозг, намилоксиприн создает необычную химическую среду в костномозговых полостях и в гаверсовых каналах, среду, губительную для микроорганизмов, но способствующую росту костномозговых клеток, образованию кровяных клеток и гемоглобина. — Но мы не ожидали такого быстрого результата, — заверил Клинет. — К тому же этот препарат главным образом останавливает разрушительный процесс, задерживает развитие болезни. Безусловно, нельзя исключить и его благотворное влияние на процесс восстановления, но вряд ли оно может быть столь интенсивным, чтобы вызвать такое стремительное улучшение, как у Эмми, — заявил Джарвил. — Весьма стремительное, — подтвердил Клинет и при этом даже хлопнул себя ладонью по лбу, лишний раз демонстрируя свое недоумение и восхищение. — Вот, взгляните сами. — Он показал Стефану серию снимков, сделанных за минувшие шесть недель, убедительно демонстрирующих изменения в костях и суставах Эмми. — Три недели препарат не давал видимых результатов, — продолжал Клинет, — но потом, совершенно неожиданно, две недели тому назад, в организме девочки не только началась ремиссия, но и пошел процесс восстановления поврежденных тканей. Время преображения Эмми самым замечательным образом совпадало со временем первого проявления красных колец на ладонях Брендана Кронина. Но об этом совпадении отец Стефан Вайцежик умолчал. Джарвил продемонстрировал другие рентгеновские снимки и результаты анализов, свидетельствующие о заметных улучшениях в гаверсовых каналах, по которым кость снабжается кровью и лимфой, необходимыми для ее жизнедеятельности и восстановления поврежденных участков. Многие из них раньше были забиты бляшками, но за последние две недели эти бляшки почти все исчезли и циркуляция крови и лимфы восстановилась. — Никто и не подозревал, что намилоксиприн способен прочищать каналы, — сказал Джарвил. — Не было ни одного подобного прецедента. Отмечалось, правда, уменьшение закупорки, но только как следствие приостановления заболевания. То же, что наблюдаем мы, просто поразительно. — Если регенерация будет идти такими же темпами и дальше, — подвел итог Клинет, — через три месяца Эмми станет нормальным здоровым ребенком. Величайший случай! — Да, она может выздороветь, — подтвердил Джарвил. Они довольно улыбнулись отцу Вайцежику, и у него не хватило духу высказать предположение, что девочка выздоравливает вовсе не благодаря их усилиям и новому лекарству. Сейчас они испытывали эйфорию от головокружительного успеха, поэтому священник не стал делиться с ними своей гипотезой, заключавшейся в следующем: своим выздоровлением Эмми обязана силе, куда более загадочной, чем современная медицина.* * *
Милуоки, Висконсин Рождественский день, проведенный Эрни и Фэй Блок с Люси, Фрэнком и внуками, выдался веселым и приятным: когда после обеда супруги вышли вдвоем на прогулку, они чувствовали себя значительно лучше, чем все последнее время. Погода благоприятствовала прогулке. Воздух был свеж, довольно прохладен, но спокоен. Последний снегопад был четыре дня назад, так что тротуары были чисты. По мере приближения сумерек небо обретало багровый оттенок. Закутанные в теплые куртки и шарфы, Фэй и Эрни не спеша прогуливались рука об руку, обсуждая события этого дня и любуясь снежными фигурами, слепленными соседями Люси и Фрэнка на лужайке перед своим домом. Фэй чувствовала себя помолодевшей, ей казалось, что они с Эрни все еще молодожены, полные сил и планов. У нее появилась надежда, что отныне все будет хорошо. Эрни даже внешне преобразился за эти десять дней в Милуоки: держался увереннее, чаще шутил и улыбался. По-видимому, уже сама перемена обстановки и внимание детей и внуков помогли ему избавиться от мучившего его в последнее время страха. Благотворно сказывались на состоянии Эрни и лечебные сеансы у доктора Фонтлейна: уже после шести пациент перестал испытывать панический страх перед темнотой, хотя полностью неприятные ощущения не исчезли. Доктор заверил Эрни и Фэй, что фобии лечатся гораздо легче, чем другие психические расстройства. Исследования в этой области в последние годы показали, что нет необходимости выяснять психологические причины такого заболевания; чтобы избавиться от него, вполне достаточно провести длительный курс направленного лечения, обучить больного приемам десенсибилизации. Однако приблизительно треть всех страдающих неврозом страха не поддаются лечению по такой методике, и в отношении их приходится прибегать к лекарственной терапии, в том числе к таким сильнодействующим препаратам, как альпразолам. Но Эрни выздоравливал настолько быстро, что удивил даже самого доктора Фонтлейна, и без того оптимиста по натуре. Фэй перечитала гору литературы по неврозам страха и обнаружила, что она тоже может способствовать излечению Эрни, откапывая для него забавные курьезные примеры, поднимающие настроение и настраивающие на оптимистический лад. Особенно нравилось ему слушать о редких случаях неврозов, по сравнению с которыми его собственная фобия казалась сущим пустяком, причем вполне объяснимым. Например, некоторые люди панически боялись птиц, в особенности их перьев, другие — рыб, третьи с диким криком бросались бежать от кукол. И уж, конечно, боязнь ночи была гораздо предпочтительнее страха перед половым актом и не шла ни в какое сравнение с шараханьем от собственного отражения в зеркале. И сейчас, прогуливаясь в сумерках, Фэй пыталась отвлечь Эрни от мыслей о сгущающейся темноте рассказами о писателе Джоне Чивере, лауреате Национальной литературной премии, который боялся ходить по высоким мостам. Эрни слушал ее с интересом, не забывая тем не менее о приближающейся ночи. И по мере того как тени на снегу становились все длиннее, его ладонь сильнее сжимала ее предплечье, пока ей не стало больно. Если бы не толстый свитер и куртка, она давно уже высвободила бы руку. Вернуться домой до полной темноты уже не представлялось возможным, небо на две трети почернело, оставшаяся треть была темно-фиолетовой. Тени на снегу походили на чернильные пятна. Зажглись уличные фонари. Фэй остановилась под одним из них, давая Эрни возможность перевести дух. У него был затравленный взгляд, он тяжело дышал. — Помни, что нужно дышать ровно, — сказала Фэй. Он послушно кивнул и сразу же начал дышать размереннее. Когда небо окончательно почернело, она спросила: — Ты готов идти назад? — Готов, — глухо ответил он. Они вышли из-под фонаря в темноту и направились к дому. Эрни с шумом втягивал воздух сквозь стиснутые зубы. Сейчас они использовали терапевтический прием, называемый «паводок», суть которого заключалась в том, что, подобно паводку, страх со временем проходит, нужно только заставить себя перетерпеть его прилив. Однако этот прием был чреват полным упадком сил, и доктор Фонтлейн разработал щадящий вариант его применения, разбив на три этапа. На первом этапе, как он рекомендовал Эрни, нужно было постараться пробыть в темноте пятнадцать минут. Это оказалось нетрудным, когда рядом была Фэй и на определенном расстоянии горели фонари, — доходя до каждого из них, они делали передышку и лишь потом, когда Эрни собирался с духом, шли к следующему. На втором этапе нужно было идти вместе, держась за руки, в совершенной темноте, а отдыхать при свете карманного фонаря. На последнем этапе лечения Эрни предстояло прогуляться в полной темноте одному. После нескольких таких прогулок он, несомненно, должен был полностью выздороветь. Но пока еще Эрни не выздоровел, и к моменту, когда они прошли уже шесть кварталов и до их дома оставался только один, он дышал, как загнанная лошадь, думая только о том, чтобы поскорее оказаться в освещенном помещении. Это уже было неплохо, до исцеления оставалось совсем чуть-чуть. Однако именно быстрота, с которой выздоравливал Эрни, и настораживала Фэй. Как ни старалась она думать хорошо о достигнутых успехах, входя следом за мужем в дом, где Люси уже помогала отцу раздеться, Фэй все же было трудно побороть гложущее ее сомнение. Что-то тут было не так. Далеко не так, как ей бы хотелось.* * *
Бостон, Массачусетс Со своим диковинным прошлым — крестный сын Пикассо и звезда европейских подмостков — Пабло Джексон, конечно же, и теперь блистал в высшем свете Бостона, а его сотрудничество с французским Сопротивлением и британской разведкой в качестве связного во время Второй мировой войны, равно как и с полицией в качестве гипнотизера уже после нее, лишь придавало ореолу его славы еще более мистический оттенок. Поэтому его всегда желали видеть в качестве гостя в лучших домах. В рождественский вечер Пабло присутствовал на званом обеде для двадцати двух избранных персон в доме мистера и миссис Хергенсхаймер в Бруклине, великолепном кирпичном особняке в колониальном стиле эпохи королей Георгов, столь же изысканном и гостеприимном, как и его хозяева, разбогатевшие на операциях с недвижимостью в пятидесятые годы. В библиотеке к услугам гостей был устроен буфет, по необъятной гостиной сновали в белых жакетах официанты с шампанским и бутербродами с икрой, а в фойе негромко играл струнный квартет. Из всех присутствующих наибольший интерес для Пабло представлял Александр Кристофсон, бывший посол в Великобритании, экс-сенатор от штата Массачусетс, а позднее — директор ЦРУ, уже десять лет как ушедший на пенсию. С Пабло они были знакомы почти полвека. Это был высокий видный 76-летний старец, уступавший лишь Пабло в возрасте среди гостей, однако сохранивший ясный ум и почти не тронутое морщинами лицо классического бостонского типа, и лишь легкий тремор правой руки выдавал незалеченную болезнь Паркинсона — свидетельство долгого земного пути. За полчаса до обеда Пабло умудрился отвоевать Александра у других гостей и увлечь его в дубовый кабинет, смежный с библиотекой, для беседы с глазу на глаз. Старый фокусник затворил за собой дверь, и они уселись с бокалами шампанского в глубокие кожаные кресла возле окна. — Алекс, мне нужен твой совет. — Насколько я понимаю, — произнес Кристофсон, — в нашем возрасте люди обожают давать советы. Это служит им утешением за то, что сами они уже не в состоянии служить плохим примером. Но мне трудно себе представить, какую проблему ты не мог бы разрешить без моей помощи. — Вчера, — продолжал Пабло, — у меня была одна молодая женщина. Очень милая, очаровательная и интеллигентная женщина, обычно самостоятельно справляющаяся со своими трудностями. Но сейчас она столкнулась с чем-то весьма непонятным и странным и крайне нуждается в помощи. Алекс вскинул брови: — В твои годы к тебе все еще обращаются за помощью хорошенькие молодые женщины? Я потрясен, растерян и полон зависти, Пабло. — Это вовсе не coup de foudre[68], извращенный старый греховодник. Страсти здесь ни при чем. — И, не называя имени и профессии Джинджер Вайс, Пабло поведал другу о ее напастях — странных и необъяснимых страхах — и описал испугавшую его реакцию пациентки на его попытку докопаться с помощью гипнотического сна до корня проблемы. — Она фактически была на грани глубочайшей комы, чреватой смертью. И все это в результате моих вопросов. Естественно, я не рискнул вновь ввести ее в транс, это было бы слишком опасно. Но я пообещал ей провести научные изыскания по данному вопросу, с тем чтобы попытаться найти упоминания о схожих случаях. Я перерыл уйму литературы за вчерашний вечер и сегодняшнее утро, разыскивая материалы по блокировке памяти с установкой на самоуничтожение, и наконец наткнулся на одну из твоих книг. Правда, ты описываешь случаи навязанных психологических условий, созданных в результате так называемой промывки мозгов, а у этой женщины блокада памяти создана ею самой. Но сходство имеется. Основываясь на собственном опыте и знаниях, полученных за время работы в разведке в годы Второй мировой и последовавшей за ней «холодной войны», Алекс Кристофсон написал несколько книг, две из которых о феномене промывания мозгов. В частности, Алекс описывал прием под названием «Блокада Азраила», по имени одного из ангелов смерти, жутко напоминающий барьер в памяти Джинджер Вайс, мешающий ей вспомнить пережитое в прошлом некое потрясение. Бросив взгляд на дверь, из-за которой доносились приглушенные звуки музыки, Алекс поставил свой бокал с шампанским, боясь расплескать его, поскольку дрожь в руке внезапно резко усилилась, и негромко сказал: — А что, если тебе оставить эту проблему и выкинуть ее навсегда из головы? Я смею тебя заверить, что это было бы самым разумным решением. — Дело в том, — ответил Пабло, несколько удивленный зловещими нотками в голосе друга, — что я обещал ей помочь. — Ты знаешь, я давно на пенсии и несколько утратил чутье, но мне это дело не нравится. Брось его, Пабло. Не встречайся с ней больше. И не пытайся ей помочь. — Но, Алекс, ведь я дал слово. — Этого-то я и опасался. — Алекс сцепил дрожащие руки. — Ладно. Итак, «Блокада Азраила». Этот прием не часто используется западными разведслужбами, но к нему охотно прибегают русские. Представим себе, например, русского суперагента по имени Иван, проработавшего в КГБ тридцать лет. Его память хранит огромное количество чрезвычайно секретной информации, которая, попади она в руки западной разведки, нанесет непоправимый урон всей советской шпионской сети. Начальство Ивана пребывает в постоянной тревоге, что их агента могут раскрыть и подвергнуть допросу. — Насколько я понимаю, при современных препаратах и технике гипноза скрыть информацию от опытного дознавателя просто невозможно. — Именно так. При всей своей натренированности Иван выложит все, что знает, и без всяких пыток. Поэтому его начальство предпочтет послать за рубеж более молодых агентов, которые в случае провала выдадут менее ценную информацию. Однако во многих случаях не обойтись без такого старого волка, как Иван, и опасения возможной утечки известной ему информации не дают покоя руководителям КГБ ни днем ни ночью, хотят они того или нет. — Любое предприятие связано с риском. — Именно так. Тем не менее давай представим себе, что среди всей информации, которой напичкана голова Ивана, есть два-три секрета особой важности, такие, раскрытие которых чревато непоправимым ущербом для страны. И вот эти-то несколько важных секретов и могут быть заблокированы в его памяти без сколько-нибудь серьезных последствий для мозга в целом. Я имею в виду подавление очень незначительного объема его памяти. И тогда, попав в руки противника, он выдаст довольно много ценной информации, но не сможет раскрыть главных секретов. — Потому что в действие приходит «Блокада Азраила», — закончил мысль Пабло. — С помощью специальных наркотиков и приемов гипноза его коллеги «запечатывают» определенные воспоминания в его памяти перед тем, как заслать его за рубеж с новым заданием. Алекс кивнул головой. — Допустим, например, что в далеком прошлом Иван участвовал в покушении на папу Иоанна Павла II. При наличии блокады осведомленность агента об этой операции может быть заперта в его подсознании, и тем, кто будет его допрашивать, уже нельзя будет добраться до нее. Но для этого подойдет не любая блокада, потому что если допрашивающие Ивана обнаружат, что имеют дело с обычным видом блокады памяти, они подберут к ней ключ, пытаясь любой ценой выудить информацию особой важности. Следовательно, необходим такой барьер, чтобы его нельзя было даже обнаружить. Таким барьером и является «Блокада Азраила». Когда допрашиваемого начинают спрашивать о каком-то определенном секретном предмете, он впадает в глубокую кому и не слышит даже голоса дознавателя. Более того, он может умереть, если на него начнут сильно давить. Точнее было бы назвать эту технику гипноза «Спусковой крючок Азраила», поскольку, вторгаясь в запретную зону памяти допрашиваемого, дознаватель как бы нажимает на спусковой крючок и ввергает Ивана в кому, а нажимая сильнее, он может вообще убить его. Зачарованный объяснениями Алекса, Пабло спросил: — Но разве инстинкт выживания не сильнее блокады? Если Иван будет поставлен перед выбором между смертью и жизнью ценой выдачи забытого им секрета, подавленное воспоминание, конечно же, всплывет. — Нет, — глухо произнес Алекс, и даже в янтарном свете торшера было заметно, как его лицо обрело землистый оттенок. — Только не при современном уровне медикаментозного и психического воздействия. В области контроля над деятельностью мозга наука достигла устрашающих результатов. Инстинкт выживания — самый сильный инстинкт человека, но даже он может быть подавлен. Иван может быть запрограммирован на самоуничтожение. Только теперь Пабло заметил, что его бокал пуст. — Моя юная леди, похоже, придумала нечто вроде такой блокады сама, чтобы не вспоминать необычайно неприятные события собственного прошлого, — предположил он. — Нет, — перебил его Алекс, — она не изобрела его сама. — Но ведь это очевидно. Она в ужасном состоянии, Алекс. Она просто… ускользнула от моих вопросов. Вот почему я и обратился к тебе за консультацией как к специалисту в этой области. Что ты посоветуешь мне делать? — Ты все еще никак не поймешь, почему я предлагаю тебе, пока не поздно, отказаться от этой затеи, — сказал Алекс. Он встал, подошел к окну, засунул руки в карманы и уставился на заснеженный газон. — О каком самовнушении, аналогичном «Блокаде Азраила», ты говоришь? Это просто немыслимо! Мозг человека никогда не даст ему команду на самоуничтожение просто ради того, чтобы что-то утаить от самого себя. «Блокада Азраила» всегда результат внешнего вмешательства. Если ты столкнулся с подобным барьером, значит, кто-то воздвиг его в памяти этой женщины. — Ты хочешь сказать, что она подверглась промыванию мозгов? Это просто смешно! Она ведь не шпион. — В этом я не сомневаюсь. — И она не русская. Тогда зачем ей промывать мозги? Рядовые граждане не подвергаются таким процедурам. Алекс обернулся и пристально взглянул на Пабло. — Однако не исключено, что она стала случайной свидетельницей того, что ей не следовало видеть. Чего-то чрезвычайно важного, секретного. И, как результат, ее подвергли промыванию мозгов, чтобы она, не дай бог, никому не рассказала об увиденном. Пабло изумленно уставился на него. — Но что же такое она могла увидеть, чтобы возникла необходимость прибегнуть к таким жестким мерам предосторожности?! В ответ Алекс лишь пожал плечами. — И кто мог совершить подобную операцию? — Русские, ЦРУ, израильский МОССАД, английская разведка — любая организация, компетентная в таких вещах. — Мне кажется, она не покидала США, поэтому ЦРУ исключается. — Совсем не обязательно. В этой стране тоже действуют иностранные спецслужбы, преследуя свои интересы. А помимо всего прочего, разведывательные организации не единственные, которым известна техника контроля памяти. Вполне сведущи в этом вопросе религиозные фанатики, политические группировки различного толка, да и мало ли кто еще. Знания распространяются стремительно, а пагубные знания — тем более. Если люди такого сорта хотят, чтобы она о чем-то прочно забыла, тебе не следует помогать ей это вспомнить. Это может плохо кончиться как для нее, так и для тебя, Пабло. — Но мне трудно поверить, что… — Постарайся, — подчеркнуто произнес Алекс. — Но все эти ее внезапные бегства, эти страхи перед черными перчатками и шлемами… ведь это, похоже, признаки того, что блокада памяти разрушается. Но люди, подобные упомянутым тобой, не допускают промахов в работе, не так ли? Уж если бы они установили ей блокаду, она уже не разрушилась бы никогда. Алекс вернулся к своему креслу, сел в него и, подавшись корпусом вперед, уставился на Пабло, словно бы еще раз подчеркивая всю тяжесть ситуации. — Вот это-то меня больше всего и беспокоит, мой дорогой друг. Как правило, подобный прочный барьер сам по себе не ослабевает. И я не сомневаюсь, что люди, установившие его в сознании этой молодой леди, досконально знают свое дело. Они не могли промахнуться. Поэтому ее проблемы, ухудшение ее душевного состояния могут означать только одно. — Что же? — Очевидно, секреты, заблокированные в ее памяти, настолько взрывоопасны, настолько пугающи, настолько болезненны для воспоминаний, что сдержать их не в состоянии даже самый прочный барьер. Память этой женщины хранит шокирующую информацию огромной важности, и эта информация стремится вырваться из тюрьмы, в которую ее заперли на уровне подсознания, в область осознанного мышления. Похоже, что предметы, которых она так боится — перчатки, отверстие в раковине, шлем, — составные части подавленных воспоминаний. Стоит ей лишь обратить внимание на один из них, как она приближается к прорыву блокады, балансируя на пороге воспоминания. И тогда включается программа, и она впадает в беспамятство. От волнения у Пабло участилось сердцебиение. — В таком случае мне представляется вполне возможным использовать гипнотическое воздействие для возвращения памяти моей пациентки в прошлое вплоть до «Блокады Азраила» с последующим поэтапным расширением имеющихся в ней трещин. Конечно, нужно быть крайне осторожным, чтобы не ввергнуть ее в кому, однако… — Ты не слушаешь меня! — вновь вскочил на ноги Алекс. Наклонившись над Пабло, он воскликнул, потрясая в воздухе вытянутым указательным пальцем: — Это невероятно опасно! Ты влип в историю, справиться с которой тебе не по силам. Если ты поможешь ей вспомнить то, что ее заставили забыть, ты наживешь себе могущественных врагов. — Но она такая славная девочка, вся ее жизнь рушится из-за этого. — Ты не сможешь ей помочь. Ты слишком стар, и ты действуешь в одиночку. — Послушай, может быть, ты не до конца понимаешь ситуацию. Я не назвал тебе ее имя и профессию, но теперь я скажу… — Я не желаю знать, как ее зовут! — воскликнул Алекс, побагровев. — Она врач, — продолжал тем не менее Пабло. — Последние четырнадцать лет она посвятила учебе, и вот теперь все ее планы рушатся. Для нее это подлинная трагедия. — Она непременно поймет, что знать правду хуже, чем ее не знать, — подумай же наконец об этом, черт побери! Если подавленная память так рвется наружу, значит, то, что она увидела, вообще могло свести ее с ума. — Возможно, — согласился Пабло. — Но разве не она сама должна решать, знать ей правду или нет? Алекс был непреклонен: — Если даже сама память не убьет ее, то это сделают те, кто блокировал ее сознание. Странно, что они ее сразу не убили. Разведке — нашей ли, другой ли страны — наплевать на обычных граждан, их жизнь для спецслужб не стоит и ломаного гроша. Ей очень повезло, что ей только промыли мозги, а не всадили в них пулю: она дешевле и надежнее. Второй раз миндальничать они не станут. Если только им станет известно, что «Блокада Азраила» дала трещину, если они обнаружат, что она раскрыла секрет, который они столь тщательно скрывали от нее, они просто вышибут ей мозги. — Это еще неизвестно, — возразил Пабло. — А кроме того, Алекс, ты не знаешь ее характера. Это человек решительный и смелый. На ее взгляд, жить так, как она живет теперь, это все равно что вообще лишиться мозгов. Даже не пытаясь скрыть огорчение, Алекс сказал: — Ты ей поможешь, и они вышибут мозги тебе. Этого тебе мало? — В восемьдесят один год, — пожал плечами Пабло, — не так уж и часто случается что-то интересное. Трудно отказаться от редкой возможности пощекотать себе нервы. Это, возможно, мой последний шанс — и я должен его использовать. — Ты делаешь ошибку. — Возможно, старина. Возможно. Но… в таком случае отчего у меня такое прекрасное настроение?* * *
Чикаго, Иллинойс Доктор Беннет Зоннефорд, оперировавший Уинтона Толка после перестрелки в кафетерии, пригласил отца Вайцежика в просторный кабинет, все стены которого были уставлены чучелами рыб: более трех десятков стеклянных глаз — марлина, огромного тунца, окуня, форели — вперили в вошедших безжизненный взор. На полках за стеклом стояли и лежали призы: серебряные и золотые кубки, чаши, медали. Доктор сел за сосновый рабочий стол в тени, отбрасываемой огромным марлином с открытым ртом, а отец Стефан устроился в удобном кресле напротив. Хотя в больнице отцу Вайцежику дали только номер служебного телефона доктора Зоннефорда, с помощью знакомых в телефонной компании и полиции ему удалось узнать домашний адрес врача, и священник появился на пороге его квартиры в половине восьмого, рассыпаясь в извинениях за свое неожиданное вторжение в рождественский вечер. — Брендан — мой коллега, — пояснил отец Стефан, освоившись в необычной обстановке, — я очень ценю его и не хочу, чтобы у него были неприятности. Любитель рыбной ловли, сам немного смахивающий на рыбину — бледный, с чуть выпуклыми глазами и вытянутыми губами, удивился: — Неприятности? Он открыл коробочку с набором миниатюрных инструментов, подцепил ногтем крохотную отвертку и, вооружившись ею, переключился на лежащую перед ним спиннинговую катушку. — О каких неприятностях вы говорите? — рассеянно переспросил он. — Но ведь он вмешался в дела полицейских во время несения ими службы. — Это несерьезно. — Зоннефорд осторожно снял крышку и начал копаться в механизме. — Если бы он не бросился на помощь Толку, тот уже давно был бы покойником. Мы влили в него четыре с половиной литра крови. — В самом деле? Значит, в истории болезни Толка нет ошибки? — Ошибки нет, — орудуя отверткой, подтвердил Зоннефорд. — У взрослого человека на килограмм веса приходится семьдесят миллилитров крови. Толк весит сто килограммов, значит, в нем должно быть не менее семи литров. Литр в него влили еще по дороге, в машине, а когда поставили ко мне, потеря крови составляла шестьдесят процентов. Он отложил отвертку и взял маленький ключ. — Вы хотите сказать, что фактически он потерял более семидесяти процентов крови к тому времени, когда его вынесли из кафетерия? Но… разве человек в подобной ситуации может выжить? — Нет, — отрезал Зоннефорд невозмутимо. Отец Стефан почувствовал приятное волнение. — И обе пули попали в мягкие ткани, не повредив ни одного органа. Не задели ли они кость или ребро? Хирург разобрал катушку и задумчиво уставился на разложенные на столе детали. — Если бы пули такого калибра задели кость, она бы раскололась на кусочки. Ничего подобного я не обнаружил. Но, с другой стороны, если они не срикошетили, ударившись о кость, почему они не прошили его насквозь и не оставили огромного выходного отверстия? Ведь я обнаружил их в мышечной ткани! Отец Вайцежик задумчиво смотрел на опущенную голову собеседника. — У меня такое чувство, что вы не до конца откровенны со мной. Почему вы не хотите сказать правду? — наконец спросил он. Зоннефорд медленно поднял голову: — А почему у меня такое чувство, что вы тоже что-то от меня утаиваете, святой отец? Какова истинная причина вашего визита? — Touche[69], — поднял руки отец Стефан. Зоннефорд вздохнул и сложил инструменты в футляр. — Хорошо. Входные отверстия свидетельствуют, что одна из пуль ранила Толка в грудь, а именно — в нижнюю часть грудины, которая от удара должна была бы треснуть или разлететься на осколки, которые, в свою очередь, должны были поранить жизненно важные сосуды и органы подобно шрапнели. Однако этого не произошло, по всей видимости. — По всей видимости? Как прикажете понимать ваши слова? Либо это случилось, либо нет. — По входному отверстию пули я знаю, что она ударилась о грудину, святой отец. Раны не оставляют сомнения в том, что одна из пуль поразила Толка в грудь и прошила ее, как игла, застряв в мягких тканях спины. Но кость осталась целой и невредимой, вот в чем загадка. Более того, входное отверстие от второй пули указывает на то, что должно быть повреждено четвертое ребро. Однако и этого не случилось. — А если вы ошиблись? — нарочно подзадорил его провокационным вопросом отец Стефан. — Может быть, пуля прошла между ребер? — Нет. — Зоннефорд отвел от собеседника взгляд, в котором все еще читалось сомнение. — Таких ошибок я не допускаю. Пули находились именно там, где и должны были бы находиться, столкнувшись с костью, пробив ее и застряв в мышцах. Однако я не обнаружил поврежденных тканей между входным отверстием и застрявшими пулями. Но это невозможно! Пули не могут прошить грудь человека, не оставив следа. — Это прямо какое-то маленькое чудо. — Отнюдь не маленькое, а чертовски большое чудо, как мне кажется. — Если была повреждена только одна артерия и одна вена, мог ли Толк потерять столько крови? — Нет. Эти травмы не вызвали бы столь сильного кровотечения. Хирург опустил глаза, в которых отец Вайцежик, однако, успел заметить затаенный страх. Но чего он боялся? Если он думал, что стал свидетелем чуда, разве этому не следует радоваться? — Доктор, — продолжал отец Стефан, — я понимаю, чтоученому, тем более врачу, трудно признать, что он видел нечто необъяснимое с позиций современной науки, полученных им знаний и вообще прямо противоречащее всем его воззрениям. Но я умоляю вас рассказать мне все, что вы видели. Что вы от меня скрываете? Почему Уинтон Толк при столь незначительных ранах потерял так много крови? Зоннефорд откинулся на спинку кресла. — В операционной, когда ему начали вливать кровь, я определил с помощью рентгеновского аппарата местонахождение пуль и приготовился к их извлечению. В ходе операции я обнаружил небольшое отверстие в главной брыжеечной артерии и еще одно — в одной из межреберных вен. Уверенный в том, что повреждены и другие сосуды, которые я обязательно обнаружу позже, я зажал оба задетых пулями сосуда и стал зашивать артерию, кровоточившую сильнее вены. Потом… — Что потом? — спросил отец Вайцежик с плохо скрытым нетерпением. — Потом, зашив артерию, я собрался было штопать вену, но ранка уже затянулась. — Затянулась, — повторил за ним священник, удовлетворенно и глубоко вздохнув: он так и предполагал. — Затянулась, — в свою очередь повторил хирург и наконец посмотрел отцу Стефану в глаза. По его взгляду священник понял, что доктор Зоннефорд признал факт чуда. — Поврежденная вена затянулась сама по себе, святой отец. И это видели мои ассистенты и все сестры. Я снял зажимы, и кровь снова потекла по вене, и ни капли не просочилось сквозь стенки. А позже, когда я извлек пули, мышечные ткани срослись на моих глазах. — Может быть, вам показалось? — В том-то и дело, что нет, — упрямо стоял на своем Зоннефорд. — Мышцы действительно срослись у меня на глазах. Невероятно, но я все это наблюдал. Я не могу доказать, святой отец, но я точно знаю, что пули разворотили Толку грудь и раздробили ребра. От такого удара осколки кости не могли не порвать все внутри. Раны были ужасные, смертельные, они не могли быть иными. Но, пока его везли в больницу, они зажили сами по себе. А раздробленные кости срослись. Это, возможно, покажется вам весьма странным, но я мог бы и не зашивать артерию, она тоже затянулась бы самостоятельно, как и вена, я в этом не сомневаюсь. — А что думают сестры и ассистенты? — Самое забавное, что мы почти и не говорим об этом. Может быть, мы просто перестали верить в чудеса в наш рациональный век. — Если это так, то это очень печально, — покачал головой отец Вайцежик. С затаенным страхом в серых водянистых глазах Зоннефорд спросил: — Святой отец, если Бог есть, а я не уверен в этом, но если все-таки Он существует, почему Он спас именно этого полицейского? — Уинтон хороший человек, — ответил отец Вайцежик. — Ну и что из того? Я видел, как умирали сотни хороших людей. Почему Он спас именно этого человека, а не кого-то другого? Почему Он не спасает других хороших людей? Отец Вайцежик передвинулся вместе с креслом поближе к хирургу. — Вы были откровенны со мной, доктор, и я отплачу вам той же монетой. За всем случившимся я чувствую конкретную силу. Она здесь, среди нас: это Дух Святой, вселившийся в Брендана… человека… священника, который первым пришел на помощь Толку в кафетерии. — Но вы вряд ли пришли бы к такому заключению, не имея… — Доказательства имеются. Брендан связан с еще одним чудом, — сказал отец Стефан. Не называя имени девочки, он поведал хирургу о ее чудесном выздоровлении. Лицо Беннета Зоннефорда, однако, еще более помрачнело, когда он выслушал эту историю, что несколько огорчило отца Вайцежика, и он сказал: — Доктор, может быть, я чего-то не понимаю, но мне кажется, у вас есть все основания радоваться. Вам выпала редкая удача, вы стали свидетелем настоящего чуда, творимого рукой Господа. — Он протянул доктору Зоннефорду руку, и тот охотно пожал ее. — Так скажите мне, Беннет, отчего вы приуныли? Зоннефорд прокашлялся и сказал: — Я родился и воспитывался как лютеранин, но вот уже двадцать пять лет я атеист. Но отныне… — Я понимаю, — произнес отец Стефан. И, чрезвычайно довольный, он приступил к борьбе за душу Беннета Зоннефорда в его причудливо декорированном кабинете, даже не подозревая, что еще до конца этого дня от его эйфории не останется и следа и что он испытает горькое разочарование.* * *
Рино, Невада Зеб Ломак никогда не думал, что закончит жизнь самоубийством, да еще и на Рождество, но к этой ночи его мучения стали настолько невыносимыми, что он мечтал лишь об одном: скорее положить им конец. Он зарядил дробовик, положил его на грязный кухонный стол и поклялся, что нажмет на курок, если не сможет до полуночи отделаться от этой проклятой ерунды с Луной. Его эксцентричное увлечение Луной началось позапрошлым летом, хотя сперва оно и казалось довольно невинным. В конце августа того года он вышел с банкой пива на задний двор своего маленького уютного домика и залюбовался вечерним небом. В середине сентября того же года он купил мощный телескоп и пару книг по астрономии. Неожиданный интерес к звездам озадачил Зебедию: за все пятьдесят прожитых лет его ничто, кроме карт, особо не увлекало. Он искал удачи в Рино, Лейк-Тахо, Лас-Вегасе, маленьких городах вроде Элко или Булхед-Сити, играя в покер с туристами и местными заядлыми картежниками. Карты он не просто любил, он обожал их — сильнее, чем женщин, выпивку и еду. Деньги не имели для него большого значения, Зеб получал удовольствие от самой игры. До тех пор, пока не купил телескоп и не спятил окончательно. Первые два месяца он лишь просто любовался небом и почитывал книжки по астрономии; потом купил еще несколько книг, но все равно это оставалось для него развлечением в свободное от игры время. Но где-то перед прошлым Рождеством он охладел к звездам и не в шутку увлекся только одной Луной, после чего с ним стали происходить необъяснимые вещи. Новое хобби вскоре пленило его сильнее, чем карты, и ради него Зеб, случалось, даже отказывался от запланированного посещения казино. К февралю он рассматривал поверхность Луны каждую ночь, если небо не затягивали тучи. А к апрелю в его подборке книг о Луне насчитывалось уже около пятисот наименований, стены же и потолок спальни были оклеены цветными фотографиями Луны, вырезанными из журналов и газет. Он забросил карты и начал жить на сбережения: невинное увлечение Луной превратилось в наваждение. В сентябре его коллекция книг выросла до полутора тысяч томов и уже с трудом помещалась в доме. Днем он либо читал о Луне, либо рассматривал ее изображения, сам не понимая, что находил в ее изрытой кратерами поверхности, которую изучил даже лучше, чем свои пять комнат. А по ночам он изучал спутницу Земли в телескоп, пока у него не начинало рябить в глазах. До того как пасть жертвой безумного увлечения, Зеб Ломак был здоровым, поджарым и подвижным мужчиной. Но в последнее время он забросил гимнастику и стал есть все подряд: пирожные, мороженое, всяческие бутерброды — у него не хватало времени, чтобы приготовить настоящий обед. Дальше — больше. Луна уже не зачаровывала его, а вселяла беспокойство, наполняя не столько изумлением, сколько страхом, поэтому он постоянно был возбужден, его успокаивала лишь еда. Он обмяк, обрюзг, но сам не замечал происходящих с ним изменений. В начале октября он думал о Луне постоянно, видел ее ночью во сне и повсюду натыкался на ее изображение. Теперь его обуяла идея оклеить фотографиями Луны весь дом, и он лихорадочно вырезал снимки из астрономических журналов, книг и газет, причем не только цветные, но и черно-белые. Как-то во время одной из редких прогулок он увидел огромный плакат со снимком лунной поверхности, сделанным астронавтами, и купил пятьдесят копий — как раз хватило на потолок и стены гостиной. Зеб также приклеил плакаты липкой лентой на окна, так что каждый дюйм комнаты, за исключением двери, был декорирован многократно повторяющимся видом. Он вынес из гостиной мебель, превратив ее в планетарий с неменяющейся экспозицией. Порой он ложился на пол и смотрел на окружающие его луны, испытывая одновременно благоговейный трепет и пронзительный страх, природу которого объяснить не мог. Лежа вот так на полу в рождественскую ночь, окруженный со всех сторон изображением Луны, он вдруг заметил на одной из фотографий сделанную фломастером надпись, которой раньше не было. Поперек картинки было написано лишь одно слово: «Доминик». Он узнал свой почерк, но не мог вспомнить, чтобы наносил это имя на Луну. Потом его взгляд упал на другой плакат — на нем также имелась надпись, на этот раз другая: «Джинджер». Рядом он увидел еще одно имя — «Фэй», и еще одно — «Эрни». Зеб вскочил на ноги и принялся ходить по комнате, проверяя остальные плакаты, но ничего больше не обнаружил. Мало того, что он не помнил, чтобы писал эти имена, он не мог припомнить никого из своих знакомых, кого бы так звали. Правда, он имел дело с двумя Эрни, но ни с одним из них не поддерживал отношений, и четко выписанные буквы этого имени на плакате были не меньшей загадкой, чем появление трех других. Но чем дольше всматривался Зеб в эти ровным счетом ничего не говорившие ему имена, тем острее ощущал беспокойство. У него возникло странное чувство, что на самом-то деле он все-таки знал этих людей и что они сыграли в его жизни чрезвычайно важную роль, более того, что его здоровье и жизнь самым тесным образом зависит от того, вспомнит он их или нет. В нем бродили смутные, полузабытые воспоминания о чем-то очень важном для него, они распирали Зеба подобно тому, как разбухает воздушный шар, и тогда казалось: еще миг, и он все вспомнит — и этих четверых, чьи имена загадочным образом появились на Рождество на стенах, и причину его основанного на страхе увлечения Луной. Но вместе с пробуждающимися воспоминаниями в нем нарастал и панический ужас, заставлявший его покрываться потом и приводивший в дрожь. Он отвернулся от плакатов, пронзенный страхом перед просветлением памяти, и побрел на кухню, испытывая настоятельную потребность заморить нервный озноб пищей. К его удивлению, полки холодильника оказались пусты, точнее, заполнены лишь грязными мисками и пустыми пластиковыми упаковками из-под продуктов, двумя пустыми молочными пакетами и перепачканной вытекшим и засохшим желтком коробкой из-под яиц. В морозилке, кроме мороза, тоже ничего не было. Когда же он в последний раз наведывался в супермаркет? Неделю назад? Месяц? Увлечение Луной лишило понятие времени какого-либо значения. А когда он в последний раз ел? Ведь вроде была банка колбасного фарша, но когда же он ее прикончил? Сегодня утром, вчера или позавчера? Вспомнить это Зебу не удалось. Потрясенный таким поворотом событий, Зебедия Ломак впервые за последние недели взглянул вокруг себя и от отчаяния застонал. Впервые он увидел — и осознал — весь кошмар своего существования, ранее затушеванный его всепоглощающей страстью к Луне. Пол был почти сплошь покрыт липкими пустыми банками из-под фруктовых соков, пакетами из-под молока и картофельной соломки, смятыми конфетными упаковками и полчищами тараканов — они ползали и бегали между пакетами и банками, лезли на стены, копошились на полках и настороженно шевелили усами в раковине. — Боже, — прохрипел Зеб, — что происходит? Во что я превратился? Что со мной стряслось? Он провел ладонью по лицу и вздрогнул от удивления, обнаружив бороду. Он всегда был гладко выбрит, и ему казалось, что и сегодня утром он брился. Жесткие курчавые волосы на лице так напугали его, что он кинулся в ванную, чтобы взглянуть в зеркало. Он увидел незнакомца: сальные спутанные лохмы, бледное болезненное лицо, крошки хлеба в грязной бороде, дикий взгляд. От собственной вони у него вдруг перехватило горло: он явно не мылся уже несколько недель. Он заболел и нуждался в помощи. Он запутался в жизни. Нужно срочно кому-то позвонить и попросить ему помочь. Но звонить он не пошел, испугавшись, что его упекут навеки в сумасшедший дом, как упекли его папашу, когда Зебу было всего восемь лет: допившись до чертиков, он понес несусветицу о каких-то ползучих гадах, вылезающих из стен, и врачи увезли его в больницу. Папаша Зеба так и провел в желтом доме остаток своих дней. После этого Зеб стал опасаться за собственное здоровье и теперь, глядя в зеркало, решил, что сперва нужно привести себя в божеский вид и убраться в доме, иначе его запрут в больничной палате и выкинут ключ. Вытерпеть собственное отражение, пока он побреется, Зеб не мог и поэтому решил начать с уборки. Стараясь не смотреть на луны, притягивающие его подобно настоящей Луне с ее приливно-отливным магнетизмом, он стремительно прошел в спальню, открыл гардероб, порылся в нем и извлек из-за пиджаков свой «ремингтон» 12-го калибра и коробку с патронами. Не поднимая головы, он вернулся на кухню, зарядил ружье и положил его на заваленный мусором кухонный стол. Потом вслух приказал себе: — Выброси все дурацкие книжки о Луне, сорви со стен плакаты, вымой кухню, побрейся и прими душ. После этого ты, может быть, сообразишь, что с тобой творится. А пока ты всего этого не сделаешь, нечего и думать о том, чтобы обратиться к кому-то за помощью. Весь этот монолог был произнесен при лежащем на столе охотничьем ружье. Хорошо, что он стряхнул с себя дурман лунофобии и проголодался, но если этот кошмар снова затянет его, то еще неизвестно, опомнится ли он во второй раз. А поэтому, если он не найдет в себе силы противиться чарам лун на стенах своего дома, лучше недолго думая взять ружье со стола, вставить ствол в рот и спустить курок. Лучше умереть, чем жить так дальше. Лучше умереть, чем жить взаперти в дурдоме, как его покойный отец. Вернувшись в комнаты, Зеб начал собирать книги, не поднимая глаз от пола. У некоторых из книг когда-то были яркие обложки с фотографиями Луны, но он вырезал картинки. Набрав стопку книг, Зеб вышел с ней во двор, запорошенный снегом, и ссыпал книги в бетонную яму для сжигания мусора. Дрожа от холода, он бегом вернулся в дом за новой стопкой, стараясь при этом не глядеть на небо, чтобы не видеть зависшее в черноте светило. Его неудержимо тянуло вернуться во двор с телескопом и продолжить изучение Луны, бороться с этим желанием ему было так же трудно, как наркоману с тягой к очередному уколу героина, но Зеб держался. Одновременно в нем нарастали воспоминания, связанные с четырьмя забытыми им людьми: Домиником, Джинджер, Фэй и Эрни. У него было чувство, что он найдет разгадку своего увлечения Луной, лишь только вспомнив, что же это за люди. Он сосредоточился на их именах, чтобы забыть на время о Луне, и, похоже, ему это удалось, поскольку он перетаскал в яму почти три сотни книг. Но едва Зеб чиркнул спичкой и наклонился, чтобы поджечь их, как обнаружил, что яма пуста. Ошеломленный, он в ужасе уставился на нее, потом бросил коробок и бегом вернулся в дом. Распахнув дверь кухни, он вбежал в нее и замер, увидев то, чего больше всего боялся: стопки мокрых книг лежали на полу, перепачканные золой. Значит, он сначала отнес их в яму, а потом, уже не помня себя, под воздействием Луны перетаскал обратно в дом. Зеб заплакал, но стиснул зубы и вновь начал таскать книги в яму с упорством грешника, расплачивающегося в аду за земные грехи. Когда он решил, что снова заполнил яму, и стал шарить по карманам в поисках спичек, он вдруг понял, что носил книги не к тому месту, где хотел их сжечь, а от него. Луна не выпускала его из своей мертвой хватки. Снег перед домом искрился лунным серебром. Сам того не желая, Зеб поднял голову и взглянул на почти безоблачное черное небо. — Луна, — произнес он. Теперь он знал, что он уже мертвец.* * *
Лагуна-Бич, Калифорния Для Доминика Корвейсиса Рождество мало чем отличалось от обычных дней. У него не было ни жены, ни детей, ради которых стоило бы как-то выделять его — покупать подарки и прочее. Не было у него и родственников, с которыми он мог бы разделить праздничную трапезу: индейку и мясной пирог. Приглашения немногочисленных знакомых, в их числе, конечно же, и Паркера Файна, он обычно отклонял, чтобы не чувствовать себя пятым колесом в телеге. Однако он никогда и не скучал на Рождество, вполне довольствуясь редкой возможностью почитать хорошую книгу. Но в это Рождество Доминик был слишком рассеян для чтения, терзаемый загадочным посланием, полученным накануне, и настоятельной потребностью в таблетке валиума, с которой он упорно боролся. Даже страх перед приступом сомнамбулизма не заставил его вчера принять успокаивающее и снотворное, и он был настроен воздерживаться от лекарств и в дальнейшем, как ни трудно это для него было. В конце концов, не полагаясь больше на силу воли, он выбросил все таблетки в унитаз. В течение дня возбуждение его стремительно нарастало и к вечеру достигло уровня, который он испытывал до того, как стал принимать транквилизаторы. В семь часов Доминик прибыл в живописный модернистский особняк Паркера на склоне холма и согласился откушать домашнего яичного ликера с корицей. Непривычно было видеть художника чинным, ухоженным, подстриженным, с расчесанной бородой и в строгом костюме. Однако он был не в состоянии долго сохранять соответствующую торжеству благообразность, сдерживая свою кипучую натуру. — Какое чудесное Рождество! — восторгался он. — Сегодня в моем доме царят мир и любовь, можешь мне поверить. Мой драгоценный братец позволил себе только сорок или пятьдесят едких и завистливых реплик по поводу моего успеха, что почти вдвое меньше, чем он отпускает в мой адрес в не столь торжественные дни. Моя святейшая единоутробная сестрица Карла всего лишь один раз назвала свою невестку Дорин сучкой, но и это вряд ли можно поставить ей в вину, поскольку Дорин к тому времени уже успела навесить на Карлу ярлык «безмозглой истерички и психопатки». В самом деле, сегодня все чертовски внимательны и любезны. Никто не распускает руки, можешь себе представить. И даже муж Карлы, хоть и напился в стельку, как обычно, не буянил и не падал с лестницы, как в пошлом году, хотя и норовил отколоть какой-нибудь номер. — Я намерен отправиться в путешествие, — сказал Доминик, когда они отошли к окну, оставшись вдвоем. — До Портленда я долечу самолетом, а там возьму напрокат машину. Я повторю тот маршрут, что проделал позапрошлым летом, от Портленда до Рино, через Неваду и Юту по шоссе № 80, а потом заеду в Маунтин-Вью. Доминик сел в кресло, однако Паркер оставался на ногах, явно взволнованный услышанным. — Что произошло? — спросил он. — Зачем тебе это нужно? Ты в здравом уме? Похоже, что нет. Похоже, у тебя откуда-то появилась идея, что эта поездка каким-то образом связана с переменами, происшедшими с тобой в позапрошлом году. Снова бродил ночью? — Пока нет, но сегодня, кажется, мне этого не избежать, потому что я выбросил все таблетки. Они мне не помогали. Я лгал. Я начал привыкать к ним, Паркер. Я думал, что уж лучше сидеть на таблетках, чем постоянно думать о том, какие фокусы я вытворяю по ночам. Но теперь со всем этим покончено. Вот, взгляни! — Он протянул Паркеру два послания от неизвестного доброжелателя. — Загвоздка, оказывается, не только во мне и в моей психике. Дело представляется куда более серьезным и странным. Паркер взял у него из дрожащей руки первую записку, прочитал ее и тупо уставился на друга, не в силах вымолвить ни слова от потрясения. — Я нашел это вчера в своем почтовом ящике на почте. На конверте не было обратного адреса. А другое письмо, если так его можно назвать, пришло ко мне домой. В нем было всего одно слово: «Луна». Он рассказал, как напечатал это слово сотни раз на компьютере, как шептал его во сне, потом протянул Паркеру второй листок бумаги. — Но если ты рассказал о Луне только мне, как же об этом мог узнать тот, кто послал тебе эту записку? — спросил Паркер. — Кто бы это ни был, — ответил Доминик, — он осведомлен о моих ночных блужданиях. Может быть, потому, что я обращался к врачу… — Уж не хочешь ли ты сказать, что за тобой наблюдают? — В некотором смысле именно так. Если не постоянно, то время от времени. Однако остается загадкой, каким образом наблюдающему стали известны такие вещи, как многократная запись слова «Луна» на компьютере, или то, что я бормочу его ночью. Не стоял же он, в самом деле, рядом с моей кроватью! Однако он точно знает, что кроется за всей этой чертовщиной. Паркер наконец присел на край кресла. — Найди его, и все станет ясно. — Нью-Йорк слишком велик, чтобы начинать там поиски, — сказал Доминик. — Но, когда я получил первое письмо — о том, что мне следует покопаться в своем прошлом, — я сообразил: ты был прав, утверждая, что надлом моей психики связан с предыдущими переменами во всем моем поведении. А начались они именно во время моего путешествия из Портленда в Маунтин-Вью. И если повторить в точности тот же маршрут, останавливаясь в тех же мотелях и питаясь в тех же придорожных ресторанах, то не исключено — что-нибудь прояснится… Моя память может получить толчок. — Но как ты мог забыть нечто чрезвычайно важное? — А может, я вовсе ничего и не забывал. Может быть, меня лишили воспоминаний. Решив оставить объяснения «на потом», Паркер спросил: — Кто бы ни был этот парень, зачем ему посылать тебе записки? Ведь, насколько я понял, ты придумал версию, где тебе противостоит какая-то загадочная группа людей, и этот парень — один из них, не так ли? — Возможно, он не полностью разделяет их позицию. Возможно, он против того, что сделали со мной, чтобы я все забыл. — Сделали с тобой? Что ты хочешь этим сказать? Доминик нервно покрутил в руках рюмку с ликером. — Я не знаю. Но этот анонимный корреспондент явно хочет, чтобы я понял: у моих проблем не только психологическая подоплека. Мне кажется, он хочет помочь мне докопаться до истины. — Так почему бы ему просто не позвонить тебе и не выложить все начистоту? — Мне кажется, он не хочет рисковать. Он, видимо, участвует в какой-то тайной операции, и, если обратится ко мне открыто, его сообщники об этом узнают, и ему тогда несдобровать. Паркер несколько яростно взлохматил пятерней шевелюру. — Получается, что какая-то всеведущая тайная организация села тебе на хвост. Иезуиты, масоны и ЦРУ в одном лице? Ты и вправду думаешь, что тебе промыли мозги? — Ну, если тебе так угодно, можно сказать и так. Чтб бы я ни забыл, мне помогли это забыть, это уж точно. И что бы я ни видел или ни пережил, это было нечто потрясающее, нечто страшное, поэтому-то воспоминания об этом и копошатся до сих пор в моем подсознании, давая о себе знать по ночам и через компьютерные послания. Даже промывание мозгов не смогло полностью стереть это событие из моей памяти! Стал бы кто-то из членов этого секретного общества рисковать головой из-за пустяка! Значит, игра стоит свеч. Пробежав еще раз записки, Паркер вернул их Доминику и отхлебнул из рюмки. — Черт побери! Похоже, ты прав, хотя мне это и не нравится. Мне не хочется в это верить. Это похоже на плод разыгравшейся писательской фантазии, словно бы ты обкатываешь на мне круто закрученный сюжет. Но как бы то ни было, я затрудняюсь дать тебе определенный ответ. Только теперь Доминик сообразил, что слишком сильно сжимает свою рюмку с ликером. Он поставил ее на столик и положил руки на колени. — У меня его тоже нет, — сказал он. — Но, кроме этой версии, ничто не объясняет связь между моим проклятым лунатизмом, переменами, происшедшими со мной позапрошлым летом во время поездки из Портленда в Маунтин-Вью, и двумя записками. — Но что это может быть, Доминик? — озабоченно нахмурился Паркер. — Во что ты встрял во время ее? — Понятия не имею. — А ты не задумывался о том, что правда может оказаться слишком неприятной, чреватой опасными последствиями? Может, лучше бросить всю эту затею? — Но, если я не узнаю правду, я так и буду блуждать по ночам всю жизнь. Во сне я убегаю от воспоминаний о случившемся со мной в пути позапрошлым летом, и, не выяснив, что же все-таки произошло, я никогда не успокоюсь. Более того, я могу сойти с ума. Да-да, именно сойти с ума, как ни напыщенно это звучит. Если я не узнаю правду, я начну думать об этом загадочном происшествии постоянно, во сне и наяву, пока в конце концов мне ничего не останется, как вставить себе в рот револьвер и спустить курок. — Избави Бог! — Я говорю вполне серьезно. — Я знаю. Да поможет тебе Господь, дружище.* * *
Рино, Невада Зеба Ломака спасло облако. Оно закрыло Луну до того, как та успела окончательно овладеть им. Получив неожиданную передышку на время короткого затемнения царственного светила, Зебедия тотчас же сообразил, что стоит на морозе без пальто и, как загипнотизированный, пялится на ночное декабрьское небо. Если бы облако не прервало его забытье, он так бы и смотрел на Луну, пока та не скрылась бы за горизонтом, после чего, окончательно завороженный Луной, вернулся бы в обклеенную ее фотографиями комнату и лежал бы там, вперив взгляд в лик древнего божества, олицетворением которого у древних греков была Артемида, а у римлян — Диана, лежал, пока не умер бы от голода. Зеб издал истошный вопль и побежал в дом, но поскользнулся и упал в сугроб, потом еще раз упал, споткнувшись о ступеньку крыльца, на четвереньках вполз в прихожую и, привалившись спиной к двери, перевел дух. Но и в доме он не был в полной безопасности. Закрыв глаза, он принялся срывать со стен фотографии и плакаты и швырять их на пол, и без того заваленный мусором и банками. Он не видел испещренного кратерами лика Луны, но все равно чувствовал его: ощущал бледный свет сотен лун на своем лице, их округлость, когда он рвал их на кусочки, что было, несомненно, безумием, поскольку это были всего лишь картинки, они не могли испускать свет или тепло, но тем не менее он все это чувствовал. Он открыл глаза и тотчас же был пленен до боли знакомым небесным телом. «Все, — подумал Зеб, — теперь точно упекут в психушку до конца жизни. Как отца». Подобно отдаленной вспышке молнии, эта мысль пронзила мозг Зеба Ломака, не дав ему окончательно помутиться. Не теряя даром ни секунды, он отшвырнул скомканный плакат и бросился на кухню, где на грязном обеденном столе его ждало заряженное ружье.* * *
Чикаго, Иллинойс Отец Стефан Вайцежик, человек неробкого десятка, не раз приходивший на помощь другим священникам, не привык к поражениям и встретил его, нужно признать, во всеоружии. — Как же ты смеешь не верить после всего, что я тебе рассказал? — несколько обескураженно вопрошал он. — Отец Стефан, мне очень жаль, — отвечал Брендан Кронин. — Но по сравнению со вчерашним днем мое отношение к существованию Бога ничуть не изменилось. Разговор происходил в спальне на втором этаже уютного дома из красного кирпича, принадлежавшего родителям Брендана: здесь, в тихом ирландском квартале Бриджпорт, молодой священник отдыхал по указанию отца Вайцежика после перестрелки в кафетерии. Брендан в белой сорочке и серых слаксах сидел на краешке двуспальной кровати, устланной довольно потертым желтым плюшевым покрывалом. Уязвленный упрямством своего помощника, отец Стефан беспрерывно ходил взад-вперед по комнате, от трюмо к комоду, от окна к кровати и снова к трюмо, словно пытался убежать от чувства досады на самого себя за свое поражение. — Сегодня вечером я беседовал с безбожником, почти уверовавшим в Бога после невероятного исцеления Толка. Но на тебя даже это не производит впечатления! — Я рад за доктора Зоннефорда, — кротко отвечал Брендан, — но его возродившаяся вера не воспламеняет ту, что угасла во мне. Это нежелание должным образом воспринять недавние чудесные события было не единственной причиной раздражения отца Вайцежика: его выводило из себя и умиротворенное настроение молодого священника. Если уж у него не появлялось желания вновь уверовать в Господа, то ему по крайней мере следовало бы убиваться и страдать по поводу утраты веры. Вместо этого Брендан, похоже, совершенно не унывал в связи со своим жалким душевным состоянием, а, напротив, по сравнению с предыдущей их встречей разительно переменился, обретя непоколебимое спокойствие. — Именно ты, Брендан, исцелил Эмми Халбург и Уинтона Толка, — настойчиво продолжал приводить свои доводы отец Стефан. — Да, именно ты, силой стигматов на твоих ладонях — стигматов, посланных тебе Богом как знак. Брендан взглянул на ладони, теперь не отмеченные никаким особым знаком, и все так же кротко ответил: — Я полагаю, что каким-то образом действительно излечил и Эмми, и Уинтона. Но не силой Бога, действовавшего через меня. — Кто же, как не Господь, мог даровать тебе силу исцелять людей? — Этого я не знаю. Но через меня действовал не Бог. Я не ощущаю божественного присутствия, святой отец. — Боже мой, какие еще доказательства Его присутствия тебе нужны? Может, Ему следует лично явиться к тебе со своим жезлом правосудия, со всеми архангелами и представиться? Брендан улыбнулся и пожал плечами: — Святой отец, я понимаю, что эти удивительные события трудно объяснить иначе, как с позиции религии, однако не могу избавиться от чувства, что за всем этим стоит нечто большее, обладающее большей силой, чем Бог. — И что же это? — с вызовом спросил отец Стефан. — Я не знаю. Нечто чрезвычайно значительное, удивительное и величественное… но не Бог. Вот вы говорили, что те кольца — стигматы. Но если бы на самом деле это было так, почему бы им не проявиться в форме, характерной для христианской символики? Почему кольца? Какая здесь связь с посланием Христа? Когда три недели назад Брендан начал курс нетрадиционной психотерапии в больнице Святого Иосифа, он так был подавлен утратой веры, что стал быстро худеть. Сейчас же он перестал терять вес и, хотя и весил на тридцать фунтов меньше, чем обычно, уже не казался изможденным и замученным, как после своей шокирующей выходки во время мессы 1 декабря. Вопреки духовному падению, его лицо лоснилось, а в глазах вновь появился былой блеск. — Ты чувствуешь себя великолепно, не так ли? — спросил отец Стефан. — Да, хотя и не понимаю почему. — И твою душу больше ничто не тревожит? — Ничто. — Несмотря на то, что ты так и не нашел пути к Богу? — Увы, — признал Брендан. — Возможно, это как-то связано со сном, который приснился мне прошлой ночью. — Снова черные перчатки? — Нет, они мне пока не снятся. Прошлой ночью я гулял во сне в каком-то месте, наполненном прекрасным золотистым сиянием, настолько ярким, что я ничего вокруг себя не мог различить, но при этом у меня совершенно не болели глаза. — В голосе кюре появилась особая, почти благоговейная интонация. — Во сне я все шел и шел, не ведая, где я, и не понимая, куда иду, но предчувствуя встречу с чем-то необычайно значительным и невообразимо прекрасным. Я не просто сам приближался к этому предмету или явлению, меня влекло туда, влекло настолько властно, что, казалось, этот безмолвный зов сотрясает меня. Сердце мое готово было выскочить из груди, и мне было страшно, правда, совсем чуть-чуть. И то был вовсе не дурной страх, святой отец, вовсе нет. Я просто с замирающим сердцем шел сквозь золотистый свет к чему-то изумительному, чего я не видел, но ощущал. Завороженный проникновенным голосом Брендана, отец Вайцежик даже присел на край кровати. — Это, несомненно, видение, обращение к тебе во сне Бога. Он зовет тебя назад к вере, призывает вернуться к несению службы. — Нет! — затряс головой Брендан. — Нет. В этом сне не было ничего религиозного, ни малейшего намека на божественное присутствие. Иного рода трепет наполнял меня, радость, отличная от радости служения Господу или веры в Него. Я четырежды пробуждался за эту ночь, каждый раз на моих ладонях были круги. И каждый раз, засыпая, я снова видел тот же сон. Происходит нечто чрезвычайно необычное и важное, святой отец, и я участвую в этом. Но, что бы то ни было, ни моя прежняя вера, ни опыт, ни знания не готовили меня к этому. «Не был ли то призыв дьявола? — подумалось вдруг отцу Вайцежику. — Возможно, сатана, узнав о том, что душа священника в опасности, одел свой омерзительный облик в обманчиво привлекательный золотистый свет, дабы сбить молодого служителя Господа с истинного пути». Не отступаясь от своего твердого намерения вернуть кюре в лоно церкви, но лишь временно терпя поражение, отец Стефан Вайцежик решил объявить перемирие, а потому сказал: — Итак, что же теперь? Ты не готов надеть свой католический воротничок и вернуться к выполнению своей миссии. Следует ли мне понимать это так, что пора связаться с Ли Келлогом, иллинойским архиепископом, и попросить его утвердить проведение психиатрической экспертизы? Ты этого хочешь? — Нет, — улыбнулся Брендан. — Мне уже не кажется, что в этом будет какой-то прок. Если вы не возражаете, я хотел бы вернуться в свою комнату при церкви и подождать там, как будут развиваться события дальше. Конечно, как разуверившийся священник я уже не могу выслушивать исповеди или служить мессу. Но зато я вполне могу хоть что-то делать, например, помогать вам с документацией. Отец Вайцежик вздохнул с облегчением: он ожидал, что Брендан пожелает вернуться к мирской жизни. — Конечно же, ты можешь жить в своей комнате и для тебя найдется немало работы — можешь не сомневаться, без дела не засидишься. Однако, Брендан, скажи мне: ты действительно думаешь, что при определенном стечении обстоятельств ты вновь обретешь путь к Богу? — Я больше не ощущаю враждебности к Богу, — кивнул Брендан. — Я просто не ощущаю его в себе. Посмотрим, как сложатся обстоятельства. Все еще расстроенный и разочарованный отказом Брендана усмотреть присутствие Бога в излечении Эмми и Уинтона, отец Вайцежик тем не менее обрадовался тому, что его помощник будет у него под рукой, а следовательно, еще имеется шанс вернуть его к вере. Брендан проводил отца Стефана вниз, и возле двери двое мужчин обнялись, словно отец и сын, — так, во всяком случае, могло показаться стороннему наблюдателю. Уже на крыльце, под жуткое завывание порывистого ветра, подходящего скорее для Дня Всех Святых, чем для Рождества, Брендан сказал: — Не знаю почему, но у меня такое чувство, что нас ждет какое-то удивительное приключение. — Обретение, или вторичное обретение, веры всегда удивительное приключение, Брендан, — произнес отец Вайцежик, после чего, удовлетворенный с трудом одержанной победой, со спокойной совестью удалился.* * *
Рино, Невада Жалобно стеная и судорожно хватая ртом воздух, но не сдаваясь натиску лунного дурмана, Зеб Ломак храбро пробирался через горы гнилого мусора и полчища тараканов, устилающих пол кухни, к столу. Наконец он достиг цели, схватил ружье, всунул ствол в рот — и только тогда сообразил, что не дотянется до спускового крючка. Желание задрать голову и взглянуть на чарующие луны на стенах и потолке было столь велико, что казалось: кто-то тянет его за волосы, силой принуждая оторвать взгляд от кишащего насекомыми пола. Он зажмурился в отчаянной попытке защититься от наваждения, но невидимый враг принялся настойчиво разлеплять ему веки. Охваченный паническим страхом перед перспективой угодить, как отец, в сумасшедший дом, он нашел в себе силы противостоять гипнотическому зову Луны. Не открывая глаз, он рухнул в кресло, сбил с ноги ботинок, стянул носок, двумя руками вновь вставил ствол ружья в рот, стиснув его зубами, поднял босую ступню и пальцем коснулся холодного спускового крючка. Воображаемый лунный свет столь явственно щекотал кожу, а магнитная сила Луны столь требовательно и властно будоражила его кровь, что он открыл-таки глаза, увидел сонм лун на стенах и выкрикнул: «Нет!» — прямо в отверстие ствола. И, уже впадая в транс под воздействием чар Луны, он из последних сил надавил ступней на собачку — и тут распухающий шар памяти наконец лопнул в его сознании, и он вспомнил все: и позапрошлое лето, и Доминика, и Джинджер, и Фэй, и Эрни, и молодого священника, и всех остальных, кто был тогда в мотеле «Спокойствие» на федеральном шоссе № 80, и — о боже! — Луну! Быть может, сдержать движение ступни Зебедия Ломак уже просто не мог, а возможно, ожившая память привела его в такой ужас, что он нарочно дернул ногой, желая ускорить развязку, но, как бы то ни было, пуля 12-го калибра с грохотом вырвалась из ствола, снеся Зебу Ломаку затылок, и для него (но лишь только для него одного!) кошмар закончился.* * *
Бостон, Массачусетс Всю вторую половину рождественского дня Джинджер Вайс провела за чтением «Сумерек в Вавилоне», и, когда в семь вечера пора было спускаться вниз на обед с семейством Ханнаби, она с большим трудом заставила себя отложить книгу в сторону. В не меньшей, а возможно даже, что и в большей степени, чем увлекательный сюжет, ее пленила фотография автора: властный взгляд и смуглое привлекательное лицо Доминика Корвейсиса будили в ней волнение, граничащее со страхом, и она не могла побороть странное ощущение, что однажды уже встречалась с этим человеком. Забыть лицо Доминика Корвейсиса не помог и обед с хозяевами дома, их детьми и внуками, и оттого впечатление от застолья несколько скомкалось. В десять часов, когда можно уже было встать из-за стола, никого не обидев, она еще раз пожелала всем счастливого Рождества, здоровья и счастья и вернулась в свою комнату. Она начала читать с того места, на котором остановилась, и, стараясь как можно реже рассматривать фотографию автора, к четырем часам утра дочитала роман до конца. В доме воцарилась глубокая тишина. Джинджер положила книгу на колени и уставилась на до боли знакомое лицо на обложке. Проходила минута за минутой, а она продолжала изучать фотографию, все больше убеждаясь в том, что где-то уже видела этого мужчину, который, в чем она уже почти и не сомневалась, каким-то необъяснимым образом был связан с ее недавними напастями. Некоторое время она гнала прочь эти мысли, пытаясь отнести их на счет того же психического расстройства, которое лежало в основе ее внезапных припадков автоматизма, однако охватившее ее возбуждение неуклонно нарастало и наконец достигло такой степени, что Джинджер, окончательно утратив самообладание и дрожа мелкой дрожью, решила перейти к действию. Потихоньку выбравшись из комнаты и оглядываясь по сторонам, она спустилась вниз, прошла в темноте огромного дома на кухню, включила свет и сняла трубку настенного телефона. В Калифорнии был час ночи, слишком поздно, чтобы звонить Корвейсису в Лагуна-Бич, но ей было достаточно узнать его номер в справочном бюро, тогда бы она по крайней мере смогла спокойно уснуть и связаться с ним утром. Но полученный ответ не только не удивил, а скорее еще больше напугал ее: в телефонном справочнике номер писателя отсутствовал. Джинджер выключила свет, пробралась на цыпочках назад в свою комнату и там решила утром написать и отправить экспресс-почтой письмо издателю Корвейсиса с просьбой связаться с ней немедленно. Возможно, это безрассудный порыв, возможно, она никогда и не встречалась с Корвейсисом и он не связан с ее странным несчастьем. Не исключено, что он примет ее за ненормальную. Но даже если шансы на удачу — один на миллион, то и тогда ей стоит попробовать, ибо в случае выигрыша она будет спасена. А ради этого стоит рискнуть показаться дурой.* * *
Лагуна-Бич, Калифорния Между тем Доминик, не подозревавший о том, что «Сумерки в Вавилоне» уже связали его с глубоко встревоженной женщиной из Бостона, оставался в доме Паркера до полуночи, обсуждая с другом возможные варианты подоплеки гипотетического заговора таинственных темных сил, направленных против него. Несмотря на досадную нехватку информации, необходимой, чтобы свести концы с концами, уже сам обмен мнениями и предположениями смягчал впечатление от вырисовывающейся страшноватой картины. Они сошлись на том, что Доминику не следует вылетать в Портленд и начинать свою одиссею, пока он не выяснит, продолжаются ли его ночные блуждания теперь, после того как он прекратил принимать лекарства, а если да — то в какой форме. Ведь если сомнамбулизм не возобновится, вопреки его ожиданиям, он может путешествовать спокойно, не опасаясь потерять контроль над собой вдали от дома. Но если ночные блуждания повторятся, ему потребуется пара недель, чтобы научиться сдерживать себя во время сна, и лишь потом можно будет отправляться в Портленд. Кроме того, выждав некоторое время, он имеет шанс получить новые письма от незнакомого корреспондента, а это, в свою очередь, либо сделает поездку вообще ненужной, либо сузит ее до определенного района или участка пути, где что-то увиденное либо испытанное поможет Доминику вспомнить стертые из его памяти детали. В полночь, когда Доминик засобирался домой, заинтригованный художник, провожая его до парадной двери, спросил: — Ты уверен, что будет разумно остаться ночью одному? Вступив на дорожку, изрезанную острыми тенями пальмовых листьев, подсвечиваемых декоративными чугунными фонарями, Доминик обернулся к другу и твердо сказал: — Возможно, это и не совсем разумно, но другого выхода нет. — Ты позвонишь мне, если понадобится помощь? — Обязательно. — И прими все меры предосторожности, о которых мы говорили. Вернувшись домой, Доминик принял меры. Первым делом он вынул пистолет из тумбочки, переложил в ящик рабочего стола, запер его на ключ и спрятал ключ в морозильник под пачку мороженого — уж лучше оказаться безоружным перед грабителями, чем открыть из пистолета стрельбу во сне. Затем он отрезал от мотка веревки кусок длиной десять футов, почистил зубы, разделся и привязал себя веревкой за руку к изголовью кровати, сделав для надежности четыре узла. В предыдущие свои лунатические путешествия Доминик, правда, умудрялся совершать ряд довольно сложных операций, но было маловероятно, что он справится во сне с узлом, развязать который было нелегко даже бодрствуя. Во сне он, безусловно, не сможет должным образом сосредоточиться и в конце концов проснется. Подобное самоограничение было чревато определенным риском. Например, вспыхни в доме пожар или случись землетрясение, он мог погибнуть от дыма или оказаться погребенным под обломками рухнувшей стены. Но приходилось рисковать. На электронных часах было без чего-то час, когда Доминик выключил ночник и с веревкой на правом запястье скользнул под одеяло. Уставившись втемный потолок, он мысленно спросил у Бога, во что же все-таки его втянули позапрошлым летом на федеральном шоссе № 80, но, так и не дождавшись ответа, заснул. Телефон на тумбочке молчал. Если бы его номер был в телефонном справочнике, как раз в этот момент раздался бы звонок от находящейся за сотни миль отсюда одинокой и напуганной молодой женщины. И этот несостоявшийся телефонный разговор мог бы не только коренным образом изменить события предстоящих недель, но и спасти не одну жизнь.* * *
Милуоки, Висконсин Из-за невроза Эрни ночник в комнате для гостей не гасили. Подперев голову рукой, Фэй напряженно вслушивалась в невнятное бормотание спящего мужа. Несколько минут назад ее разбудил его сдавленный крик, и, напуганная, она сперва боялась даже пошевелиться. Между тем Эрни с настораживающим упорством все что-то шептал и шептал, уткнувшись лицом в подушку. Неожиданно он слегка повернул голову, и Фэй явственно услышала: — Луна, луна, луна, луна… По спине у нее поползли мурашки.* * *
Лас-Вегас, Невада На ночь Жоржа взяла дочь к себе в постель, боясь оставить ее одну после случившегося днем. Марси то и дело вскрикивала, билась и вертелась под одеялом, словно пытаясь высвободиться из чьих-то рук, бормотала о каких-то врачах и длинных иголках. Жоржа впервые задумалась, как долго такое продолжается: возможно, крики дочери заглушали разделяющие их спальни гардеробы, набитые одеждой. При мысли о том, что девочку уже много ночей мучают жуткие кошмары, Жоржа похолодела. Утром нужно будет непременно показать ее врачу. Но как это сделать, если девочка панически боится всех докторов? Конечно же, она упрется и закатит новую истерику. Однако еще опаснее не показывать ее специалисту. И, если бы не Рождество, Жоржа немедленно обратилась бы за помощью. После истерики Марси, вызванной неудачной шуткой дедушки, день был потерян, праздник скомкан. Малышка так перепугалась, что описалась, а потом еще минут десять отчаянно отбивалась и визжала, не давая матери раздеть и вымыть ее. Когда вспышка ярости наконец прошла, она дала отвести себя в ванную, но при этом выглядела словно маленькая зомби: пустой взгляд, застывшее лицо — как будто ужас, вышедший из нее криком, прихватил с собой все ее силы и рассудок. Этот квазиступор сковал девочку почти на целый час, в течение которого Жоржа лихорадочно названивала по телефону, разыскивая доктора Безанкорта, педиатра, лечившего Марси, когда той случалось заболеть. И пока Мэри и Пит безуспешно пробовали выдавить из Марси улыбку или, на худой конец, словечко, Жоржа мучительно припоминала, в каких журналах ей попадались статьи о детях-мечтателях. Она так и не вспомнила, начинается ли аутизм в младенчестве или же и вполне нормальная семилетняя девочка может внезапно уйти в свои несбыточные фантазии и навсегда отрешиться от окружающего мира. Постепенно, однако, Марси вышла из оцепенения и стала отвечать на вопросы бабушки и дедушки, но каким-то вялым, безразличным и бесцветным голосом. Наконец ей это наскучило, и, засунув в рот большой палец, чего она не делала с двухлетнего возраста, она отправилась в гостиную забавляться с новыми игрушками. Она провозилась с ними почти до вечера, но явно без всякого удовольствия, со скукой на личике. Единственное, что слегка успокаивало наблюдавшую за ней Жоржу, было отсутствие интереса к набору игрушечных медицинских инструментов. В половине пятого девочка несколько ожила, повеселела и снова стала милой, общительной и спокойной, так что можно было подумать, что истерика за столом — не более чем обычный детский каприз. Спускаясь по лестнице к машине, мать Жоржи задержалась и негромко, так, чтобы не слышала Марси, сказала: — Она просто хочет показать нам, что обижена и расстроена. Она не понимает, почему от вас ушел папа. Ей сейчас нужно много внимания и много любви. Вот и все. Но Жоржа знала, что дело обстоит гораздо хуже. Она не сомневалась, что Марси переживает из-за отца, оскорблена его уходом, но помимо этого ее грызет и нечто иное, неподвластное здравому смыслу и оттого пугающее. Вскоре после отъезда дедушки и бабушки Марси вновь начала играть в «Маленького доктора», проявляя прежнюю возбужденность, и даже захотела взять набор в постель, когда пришло время укладываться спать. Сейчас одни инструменты валялись рядом с кроватью на полу, другие лежали на тумбочке. А в темной спальне девочка, похныкивая, бормотала во сне о докторах, сестрах и иголках. Жоржа не смогла бы уснуть, будь Марси даже совершенно спокойна в эту ночь: тревога вызывает бессонницу куда эффективней, чем дюжина чашек кофе. И раз уж ей все равно не спалось, она напряженно вслушивалась в каждое произнесенное дочерью слово, надеясь услышать нечто такое, что помогло бы понять источник смятения девочки, а врачу — установить диагноз. После двух ночи Марси начала бормотать нечто совершенно новое, отличное от того, что она говорила раньше. Вдруг она резко перевернулась с живота на спину, отчаянно работая ручками и ножками, судорожно вздохнула и застыла. Потом тихонько, голосом, полным удивления и страха, затянула: — Луна, луна, луна, луна, луна, луна… Жоржа содрогнулась: то явно не было бессмысленным бормотанием спящего человечка.* * *
Чикаго, Иллинойс Брендан Кронин тихо спал под теплым одеялом и пледом, чему-то улыбаясь во сне. За окном зимний ветер раскачивал гигантскую сосну, выводил затейливые мелодии в водосточных трубах, громыхал кровлей и стонал под карнизом. Казалось, природа продувает ночь огромными механическими мехами. И, словно бы в такт порывам ветра, Брендан вдруг начал повторять во сне: — Луна… Луна… Луна… Луна…* * *
Лагуна-Бич, Калифорния — Луна! Луна! Доминик Корвейсис проснулся от собственного жуткого крика и боли в правой кисти. Он стоял на четвереньках в темноте возле кровати, отчаянно пытаясь высвободиться от чего-то вцепившегося в его руку. Наконец сонная одурь прошла, и он осознал, что его держит не что иное, как веревка, которой он сам же себя и привязал к спинке кровати. Тяжело дыша, он нащупал выключатель и, щелкнув им, зажмурился от неожиданно яркого света, ударившего в глаза. С одного взгляда на сдерживающую его веревку ему стало ясно, что он умудрился развязать один из четырех узлов и слегка ослабить второй, прежде чем терпение его лопнуло и он принялся лихорадочно, как это и случалось обычно во время его сомнамбулических блужданий, тянуть и дергать веревку, стремясь во что бы то ни стало освободиться. Доминик встал с пола и, откинув смятые простыни, сел на край кровати. Он ничего не мог вспомнить из того, что ему снилось. Тем не менее он знал, что это был не один из предыдущих кошмарных снов, а совершенно новый, необычный, не менее страшный, только иного качества. И выкрики, разбудившие его, были настолько назойливо-настойчивыми, настолько паническими, что он и сейчас словно бы слышал их наяву: «Луна! Луна!» Он вздрогнул и обхватил голову руками. Луна. Что бы это могло значить?* * *
Бостон, Массачусетс Джинджер с пронзительным криком села в своей постели. Лавиния, экономка Ханнаби, с тревогой сказала: — Извините, доктор Вайс, я не хотела вас испугать. Но вам снился какой-то кошмар. — Кошмар? — Джинджер совершенно не помнила, что ей снилось. — О да! — подтвердила Лавиния. — И действительно страшный, судя по тому, как вы кричали. Я проходила по коридору и услышала. Сперва я хотела тотчас же войти, но потом подумала, что вы, видимо, спите, и не захотела вас будить. Но вы продолжали кричать, выкрикивая это слово снова и снова, и я решилась вас разбудить. — Я кричала? И что же я кричала? — заморгала удивленно Джинджер. — Вы кричали: «Луна! Луна! Луна!» — и таким испуганным голосом… — Я ничего не помню. — Луна! — заверила ее Лавиния. — Вы все время выкрикивали только одно это слово, да еще таким жутким голосом, что я было подумала, не убивают ли вас.Часть II. ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
Мужество — не в отсутствии страха, а в умении сопротивляться ему и совладать с ним.Марк Твен
В чем жизни быстротечной соль? Зачем страданья нам и боль? Как мы попали в мир земной? Кому обязаны судьбой? Сомнений тяжких хоровод День омрачает, сон крадет. Приди же, откровенья свет, И грез людских раскрой секрет!Книга Печалей
Друг вполне может быть причислен к шедеврам природы.Ралф Уолдо Эмерсон
Глава 4 26 декабря — 1 января
1
Бостон, МассачусетсС 27 декабря по 5 января доктор Джинджер Вайс шесть раз побывала в квартире Пабло Джексона, и во время последнего визита он с помощью гипноза осторожно попробовал проникнуть за «Блокаду Азраила». Всякий раз, когда Джинджер появлялась у двери старого фокусника, она казалась ему все более прекрасной и, конечно же, более обворожительной, умной и решительной. Именно такой он хотел бы видеть свою дочь. Джинджер разбудила в Пабло доселе не испытанные им отцовские чувства, теперь он просто не мог не защитить ее. Он рассказал ей почти все, что узнал от Александра Кристофсона на рождественской вечеринке, но она не желала верить, что на ее память воздействовали какие-то неизвестные люди. — Это звучит очень странно, — пожала плечами она. — Такие вещи не происходят с обычными людьми вроде меня, обывательницы из Бруклина. Я не замешана ни в каких международных интригах. Единственное, о чем умолчал Пабло, было предупреждение отставного разведчика держаться от Джинджер подальше; знай она, что ему грозит опасность, она наверняка отказалась бы от его помощи, а ему этого не хотелось. Напротив, Пабло стремился стать частью ее жизни, заботиться о ней. К их встрече 27 декабря Пабло приготовил кише и салат. — Я никогда не имела никакого отношения к военным секретам или разработкам в области обороны. Среди моих знакомых нет иностранных агентов! — повторяла Джинджер, с аппетитом уплетая ужин. — Это просто нелепо! — Не исключено, что вы столкнулись с чем-то не подлежащим огласке совершенно случайно, — возражал ей Пабло, — в самом обычном месте, но не в самое удачное время. — Но послушайте, Пабло, если мне промыли мозги, на это ушло определенное время. Меня нужно было где-то содержать под охраной. Верно? — Мне думается, на это ушло несколько дней, — согласился Пабло. — В таком случае вы наверняка заблуждаетесь! — обрадовалась Джинджер. — Насколько я понимаю, блокировав память об увиденном, эти люди должны были бы заглушить и память о месте происшествия. Но тогда в моем прошлом возникло бы окно, разрыв во времени, в течение которого я подвергалась промывке мозгов. — Ничего подобного! — воскликнул Пабло. — Они могли заполнить этот промежуток ложными воспоминаниями, а вы даже не догадываетесь об этом. — Боже мой, в самом деле? Они и это могут? — изумилась она. — Я надеюсь распознать эти ложные воспоминания, — успокоил Джинджер старик. — Для этого мне придется исподволь возвращать вас к минувшим событиям, день за днем, неделя за неделей, до тех пор, пока я не наткнусь на ложные данные. Полагаю, мне не составит особого труда определить их, поскольку им будет не хватать подробностей, мелких штришков, характерных для подлинных воспоминаний. Действуя по этой схеме, мы рано или поздно наткнемся на два-три дня, запомнившиеся вам лишь в общем, и таким образом вычленим источник проблемы, потому что это и будут как раз те дни, в течение которых вы находились в руках этих людей. — Дошло! — восторженно воскликнула Джинджер. — Я, кажется, начинаю вас понимать. Первый день смазанных воспоминаний будет тем самым днем, когда я увидела нечто, чего мне видеть не следовало! А последний такой день будет днем, когда они закончили промывать мне мозги. В это чрезвычайно трудно поверить… Но, если мне действительно имплантировали эту блокаду памяти, а все мои неприятности — следствие бунта подавленных воспоминаний, тогда у меня нет никакого психического расстройства и есть шанс вновь вернуться к медицине. Нужно лишь докопаться до этих воспоминаний, вытащить их на свет божий, и все встанет на свои места. Пабло сжал ее руку. — Именно так оно и будет, я в этом уверен. Но все это далеко не просто, каждый раз, когда я буду наталкиваться на блокаду, вы, возможно, будете впадать в обморочное состояние, если не хуже… Я постараюсь быть очень и очень осторожным, но риск остается.
* * *
Первые два сеанса гипноза, во время которых они сидели в больших креслах у окна, состоялись 27 и 29 декабря и продолжались по четыре часа. Пабло восстановил день за днем последние девять месяцев, но не обнаружил признаков внедренных воспоминаний. В воскресенье, 29-го, Джинджер предложила, чтобы Пабло задал ей несколько вопросов относительно Доминика Корвейсиса, писателя, чей портрет произвел на нее странное впечатление. Когда Пабло, погрузив ее в гипнотический сон, спросил, не встречалась ли она когда-нибудь с Корвейсисом, то услышал: «Да». Пабло попытался уточнить, при каких обстоятельствах произошла их встреча, но не получил вразумительного ответа. Наконец Джинджер сказала: — Он швырнул мне в лицо соль. — Корвейсис швырнул вам в лицо соль? — удивился Пабло. — Зачем? — Не могу точно вспомнить. — Где это случилось? Джинджер насупилась, а когда он начал задавать новые вопросы, впала в кому. Пабло едва успел вернуть ее из этого состояния, заверив, что больше не будет спрашивать о Корвейсисе. Стало абсолютно ясно, что эта встреча действительно имела место, но каким-то образом изъята из памяти Джинджер.* * *
Во время следующих двух сеансов, состоявшихся 30 декабря и 1 января, Пабло восстановил события еще восьми месяцев жизни Джинджер, вплоть до конца июля позапрошлого года, однако так и не выявил ложных или сомнительных фактов, указывающих на постороннее вмешательство. В четверг 2 января Джинджер попросила Пабло спросить ее о сне, который она видела предыдущей ночью: уже в четвертый раз после Рождества она кричала во сне слово «луна», причем настолько громко, что разбудила весь дом. — Мне кажется, этот сон связан со временем и местом украденного из моей памяти события, — предположила она. — Может быть, под гипнозом я что-нибудь вспомню. Однако под гипнозом она отказалась отвечать на вопросы и впала в глубокий сон, а это означало, что Пабло вновь коснулся «Блокады Азраила», надежно защищающей запретные воспоминания.* * *
В пятницу Пабло и Джинджер не встречались: Пабло нужно было время, чтобы просмотреть литературу о различных блокадах памяти и подумать, как лучше действовать дальше. Кроме того, он несколько часов посвятил прослушиванию магнитофонной записи проведенных сеансов, надеясь уловить какое-нибудь словечко или изменение голоса Джинджер, которое могло бы помочь отыскать ключ к загадке. Ничего особенного Пабло не обнаружил, хотя и заметил, что голос Джинджер зазвучал несколько более возбужденно, когда он расспрашивал ее о событиях лета позапрошлого года. Во время сеанса Пабло не обратил на эти новые нотки никакого внимания, но теперь, прослушивая пленку, он заподозрил присутствие ложной информации в ее памяти. Поэтому во время шестого сеанса, состоявшегося в субботу, 4 января, Пабло не удивился, когда наконец произошел долгожданный прорыв. Как и всегда, Джинджер сидела в кресле у окна, за которым шел изумительной белизны снег. Ее серебристые волосы отливали призрачным светом. Едва Пабло вернул ее в июль позапрошлого года, как брови Джинджер нахмурились, а голос зазвучал глуше и напряженней. Он уже расспрашивал ее во время предыдущих сеансов о ее работе в клинике, вплоть до понедельника, 31 июля, когда она более семнадцати месяцев назад впервые пришла в отделение Джорджа Ханнаби. Джинджер в мельчайших подробностях описывала все, чем занималась до этого, — обустраивалась в новой квартире, разбирала вещи, покупала мебель. 17 июля она приехала в Бостон на автомобиле и на ночь остановилась в гостинице, поскольку в ее новой квартире не на чем было спать. — На автомобиле? — уточнил Пабло. — Вы проделали на нем такой долгий путь, от самого Стэнфорда? — Это был мой первый настоящий отпуск. Я люблю путешествовать на машине, и мне не хотелось упускать возможность побывать в новых местах. — Джинджер произнесла это весьма странным, убитым тоном, словно совершила путешествие в преисподнюю, а не по стране. Итак, Пабло начал день за днем восстанавливать ее поездку. Внимательно выслушав рассказ о впечатлениях от Скалистых гор, Юты и Невады, он насторожился, когда речь зашла о вторнике, 10 июля, точнее, о ночи с 9-го на 10-е, которую Джинджер провела в мотеле: при упоминании о нем она вздрогнула. — Как называется этот мотель? — спросил Пабло, подавшись всем корпусом вперед. — Мотель «Спокойствие», — неуверенно произнесла Джинджер. — «Спокойствие»? — переспросил Пабло. — Где он находится? Опишите, пожалуйста, это место. — В тридцати милях от Элко, на федеральном шоссе № 80, — вцепившись в ручки кресла, прошептала Джинджер. Сбивчиво, неохотно описала она сам мотель и гриль-бар. Что-то явно пугало ее, каждый мускул ее тела напрягся. — Значит, вечером девятого июля вы остановились в этом мотеле, — повторил Пабло. — Это было в понедельник. Хорошо. Итак, представьте, что сегодня понедельник, девятое августа. Вы приехали в мотель. Раньше вы там не останавливались. Какое теперь время дня? Она не ответила, только задрожала еще сильнее и, когда он повторил вопрос, сказала, запинаясь: — Я приехала не в понедельник. Это было в пятницу. — В пятницу? — вздрогнул Пабло. — В предыдущую пятницу? Значит, все это время вы находились в мотеле? С шестого июля и до девятого? Четыре ночи в маленьком мотеле, в окрестностях которого нет ничего примечательного? Что же задержало вас там? — Там было очень спокойно, — мертвым голосом произнесла Джинджер. — Ведь я была в отпуске, не забывайте. Мне нужно было отдохнуть, расслабиться, а это было самое подходящее для отдыха место. Старый фокусник взглянул в окно, за которым медленно кружились пушистые снежинки, и задал следующий вопрос: — Вот вы сказали, что при этом мотеле нет бассейна. Да и комнаты, судя по вашему описанию, далеко не шикарные, во всяком случае, это гостиница не того класса, в каких останавливаются на длительный срок. Так что же вы делали в этой дыре целых четыре дня, Джинджер? — Как я уже сказала, я просто отдыхала. Отсыпалась, прочла пару книг, смотрела телевизор — у них на крыше прекрасная спутниковая антенна. — Она говорила так, словно читала текст по бумажке. — После двух лет напряженной работы в Стэнфорде мне необходимо было полное безделье на несколько дней. — Какие же книги вы прочли в мотеле? — Я… я не помню точно. Кулаки ее все еще были сжаты, а все тело напряжено. На лбу выступили крупные капли пота. — Джинджер, сейчас вы в номере мотеля, читаете. Вы меня понимаете? Вы читаете то, что читали тогда. Посмотрите на обложку и скажите, как называется эта книга. — Я… здесь нет названия. — Любая книга как-то называется. — А эта нет. — Не потому ли, что нет вообще никакой книги? — Да. Я слегка расслабилась. Вздремнула, потом смотрела телевизор, прочла пару книг, — произнесла Джинджер тихим, бесцветным голосом. — У них прекрасная спутниковая антенна на крыше, поэтому можно смотреть любые передачи. — Какие же именно вы видели? — Новости. Фильмы. — Какие фильмы? — Я… я точно не помню, — поежилась она. Теперь Пабло уже не сомневался, что она ничего точно не помнит просто потому, что ничего этого не делала. Да, она была в мотеле, об этом говорило то, с какой точностью она описывала его, но не могла вспомнить ни названий телепередач, ни названий книг. Ей внушили под гипнозом, что она занималась в мотеле тем-то и тем-то, с единственной целью — скрыть подлинные события. Даже если бы специалист по промыванию мозгов позаботился о детализации легенды, она не звучала бы столь же убедительно, как рассказ о подлинных событиях и фактах. — Где вы ужинали? — спросил Пабло. — В гриль-баре «Спокойствие». Это маленькое заведение со скромным выбором блюд, но готовят там вкусно, — тем же безжизненным ровным голосом объяснила Джинджер. — И что же вы там ели, в этом гриль-баре? — Я… я точно не помню. — Но вы сказали, что готовят там вкусно. Как же вы можете судить о качестве приготовленных блюд, если не пробовали их? — Ну, там так мило, уютно, хотя выбор блюд и невелик. Чем настойчивее он добивался от нее подробностей, тем сильнее она напрягалась. Голос ее оставался бесстрастным, когда она произносила запрограммированные ответы на вопросы, но лицо искажалось и напрягалось от нервной перегрузки. Пабло мог бы сказать Джинджер, что ее воспоминания о тех четырех днях в мотеле «Спокойствие» ложные. Он мог бы приказать ей стереть их, сдуть с памяти, как сдувают пыль со старой книги, и она выполнила бы его приказ. Потом он сообщил бы ей, что подлинные события закрыты «Блокадой Азраила» и нужно постараться откопать их. Но если бы она сделала это, то снова впала бы в кому, и ему понадобилось бы немало дней, а может быть, и недель, чтобы нащупать трещинки в этой прочной защите. Пока же он решил ограничиться точным определением времени, проведенного Джинджер в мотеле. Он перенес ее назад в пятницу 6 июля позапрошлого лета и спросил, когда она заполняла карточку гостя. — Чуть позже восьми вечера, — ответила Джинджер нормальным голосом. — До захода солнца оставался еще час, но я чувствовала себя крайне уставшей. Мне хотелось поужинать, принять душ и лечь в постель. Она детально описала мужчину и женщину за стойкой и даже вспомнила их имена: Эрни и Фэй. — Вы зарегистрировались и пошли ужинать в гриль-бар. Опишите его, — попросил Пабло. Джинджер в мельчайших деталях описала бар, но стоило Пабло коснуться момента, когда она покидала его, как она вновь заговорила монотонным голосом. Не вызывало сомнений, что ее воспоминания на определенном моменте обрублены и затем дополнены ложью. — Расскажите мне о том, как вы ужинали в гриль-баре при мотеле «Спокойствие», минута за минутой. Джинджер выпрямилась в кресле, ее сомкнутые веки задрожали, словно бы она оглядывалась по сторонам, войдя в гриль-бар; она разжала кулаки, сжимавшие ручки кресла, и встала, чем очень удивила Пабло. Она вышла на середину комнаты, словно по проходу между столиками, лицо ее разгладилось и обрело уверенное, спокойное выражение: теперь она целиком находилась в том, прошлом времени, предшествующем всем ее неприятностям, и ей нечего было опасаться. Спокойным негромким голосом она объяснила: — Я немножко задержалась в комнате, приводя себя с дороги в порядок, и уже почти стемнело. Снаружи окрестности залиты оранжевым светом заходящего солнца, и все помещение бара наполнено золотистыми отблесками. Я, пожалуй, займу местечко в углу возле окна. Пабло осторожно шел рядом, поддерживая ее за локоть и ненавязчиво направляя к одной из кушеток с цветастыми подушечками. — О, пахнет заманчиво: лук, специи, жареный картофель… — Сколько человек в баре, Джинджер? Она повернула голову, словно бы осматривая комнату: — Повар и официантка, трое мужчин, видимо, водители грузовиков, возле стойки, еще трое — за столом, за другим столом толстяк священник и с ним какой-то парень, всего одиннадцать человек, считая и меня. — Хорошо, — сказал Пабло. — Подойдем к столику у окна. Джинджер двинулась дальше, улыбнулась кому-то, сделала шаг в сторону, обходя препятствие, и вдруг замерла, вздрогнув от удивления, и схватилась рукой за лицо. — Ой! — вскрикнула она. — В чем дело? — спросил Пабло. — Что случилось? Джинджер отчаянно заморгала, улыбнулась и заговорила с кем-то, с кем случайно столкнулась тогда, в позапрошлом году, 6 июля, в гриль-баре «Спокойствие»: — Нет-нет, со мной все в порядке, не беспокойтесь. Я уже все смахнула. — Она вытерла ладонью лицо. — Вот видите? — При этом она смотрела вниз, как если бы тот, к кому она обращалась, сидел за столом. Потом она приподняла голову: видимо, человек встал. Пабло ждал, что она скажет дальше. — Бросьте еще шепотку соли через плечо, иначе всякое может случиться. Мой отец обычно бросал не менее трех шепоток через плечо, когда просыпал соль. Так что, если бы вы делали, как он, вы бы просто засыпали меня солью, — произнесла она и пошла дальше, но Пабло остановил ее: — Стоп! Подождите, Джинджер! Опишите этого мужчину! — Молодой, тридцати двух — тридцати трех лет, среднего роста, худощавый, темноволосый, с темными глазами. Довольно симпатичный. Кажется, мягкий, застенчивый. Доминик Корвейсис, вне всяких сомнений. Джинджер снова пришла в движение. Пабло догадался, что она намеревается сесть за столик, и подвел ее к кушетке. Она села и посмотрела в окно, улыбаясь виду на невадскую равнину, залитую светом умирающего солнца. Пабло внимательно следил за тем, как Джинджер обменивается любезностями с официанткой и заказывает бутылку пива. Вот пиво подано, и Джинджер начинает потягивать его, любуясь закатом. Пабло не торопил ее, потому что знал: приближается решающий момент, когда ее настоящие воспоминания сменятся ложными. Событие, свидетелем которого она невольно стала, произошло именно в это время, и Пабло было важно знать все, что случилось до него. Наступили сумерки. Подошла официантка, Джинджер заказала тарелку овощного супа и чизбургер со специями. На Неваду опустилась ночь. Вдруг Джинджер нахмурилась. — Что это? — взглянула она с изумлением на воображаемое окно. — Что вы видите? — насторожился Пабло. — Что это за шум? — Джинджер с озабоченным видом вскочила с места. — Что это может быть? — озираясь по сторонам, спросила она. — Я не знаю, что это может быть, — продолжала взволнованно говорить она. Потом вдруг покачнулась, едва не упав, и вскрикнула: — Гевальт![70] — Джинджер протянула руку, опираясь на стул или на стол. — Трясет! Почему все так трясется?! — Она подпрыгнула от удивления. — Это что, землетрясение? Что происходит? Что это за звук? — Она вновь покачнулась, лицо ее исказилось страхом. — Дверь! — взвизгнула в ужасе девушка и резко замолчала, дрожа всем телом и хватая перекошенным ртом воздух, словно задыхаясь. Пабло подхватил ее под мышки, она упала на колени и уронила голову. — Что происходит, Джинджер? — Ничего. Она мгновенно переменилась. — Что это за шум? — Какой шум? — снова голос робота. — Джинджер, что, черт побери, происходит? — сорвался Пабло. — Я ужинаю, — с перекошенным от страха лицом, но ровным голосом отвечала Джинджер. — Это ложные воспоминания! — Просто ужинаю. Он попытался заставить ее продолжить рассказ с того момента, когда она чего-то испугалась, но в конце концов вынужден был оставить эту затею, отступив перед «Блокадой Азраила». Во всяком случае, определенный прогресс был достигнут. Они выяснили, что в пятницу 6 июля позапрошлого года Джинджер увидела нечто, чего видеть ей не следовало. Но, став невольной свидетельницей случившегося она почти наверняка была помещена в одну из комнат мотеля «Спокойствие», где ее подвергли промывке мозгов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нежелательной информации. С ней работали три дня — субботу, воскресенье и понедельник — и отпустили, вбив ей в голову нейтральные воспоминания, только во вторник. Но кто же эти всемогущие незнакомцы? И что же она видела?2
Портленд, ОрегонВ воскресенье 5 января Доминик Корвейсис прилетел в Портленд и снял номер в гостинице рядом с домом, где он когда-то жил. Лил проливной дождь, и было очень холодно. Остаток воскресного вечера он провел, сидя за столом у окна в гостиничном номере, отлучившись лишь однажды, чтобы поужинать в ресторане. Он то задумчиво глядел в окно, то вновь принимался изучать дорожный атлас. Вновь и вновь он мысленно восстанавливал маршрут своего путешествия в позапрошлое лето, которое он намеревался теперь повторить. Как Доминик сказал Паркеру Фейну в рождественскую ночь, он был убежден, что вляпался в какую-то опасную историю, воспоминания о которой были кем-то стерты из его памяти. Послания неизвестного корреспондента указывали именно на такую версию, как бы странно она ни выглядела со стороны. Два дня назад он получил третий конверт без обратного адреса, отправленный, судя по штемпелю, из Нью-Йорка. Теперь, устав изучать карту и глазеть в окно, Доминик вновь взял в руки этот конверт, вытряхнул содержимое и начал разглядывать его. На этот раз это были две моментальные фотографии, сделанные с помощью «Поляроида». Первый снимок не произвел на него особого впечатления, хотя и несколько насторожил. На нем был запечатлен совершенно незнакомый ему человек: молодой полный священник с веснушчатым лицом, рыжими волосами и зелеными глазами. Он глядел в объектив, сидя на стуле возле письменного стола, в ногах у него стоял чемодан. Священник держался неестественно прямо, подняв голову, расправив плечи и положив руки на сжатые колени. Именно это выражение лица, почти мертвое, и насторожило Доминика: человек, глядевший на него с фотографии, конечно же, был жив, но глаза его были холодными и пустыми. Вторая фотография поразила Доминика сильнее первой: запечатленная на ней женщина явно была ему знакома, хотя он и не мог вспомнить, где именно произошло их знакомство. При первом же взгляде на нее Доминик почувствовал сильное сердцебиение, похожее на то, которое испытал однажды, проснувшись после сомнамбулических блужданий. Женщине было под тридцать. Голубоглазая, с серебристыми волосами и правильными чертами лица, она могла бы показаться необыкновенно красивой, если бы не та же, что и у священника, безжизненность, те же пустые, мертвые глаза. Она лежала на узкой кровати, покрытая до самого подбородка простыней и привязанная к кровати ремнями. К ее руке, лежавшей поверх простыни, была подсоединена капельница. Снимок навеял воспоминания об одном из его кошмарных снов, в котором какие-то люди кричали на него и тыкали лицом в раковину. Пару раз тот же сон начинался не в ванной, а в какой-то незнакомой комнате, где он тоже лежал на кровати. Теперь Доминик не сомневался, что и его сняли тем же «Поляроидом» при сходных обстоятельствах: с капельницей, подключенной к руке, и с безжизненным выражением лица. Когда он показал фотографии Паркеру Фейну, художник сразу выдвинул ту же версию: — Поджарь меня на адском огне и угости этим блюдом дьявола, если я ошибаюсь! — вскричал он. — Но это фотография женщины в трансе или наркотическом оцепенении. Ей явно промыли мозги, как и тебе. Боже мой, это дело с каждым днем приобретает все более загадочный и интригующий оборот! Вообще-то следовало бы пойти в полицию, но на чьей она стороне? А вдруг ты перебежал дорогу правительственному ведомству? В любом случае ясно, что не ты один влип в дурную историю, дружище. Этот священник и эта женщина тоже замешаны в ней. Сдается мне, что все гораздо более серьезно, чем я предполагал. И сейчас, сидя за столом в гостиничном номере, Доминик спрашивал, глядя на лежащие перед ним фотографии: — Кто вы? Как вас зовут? Что с нами произошло? Снаружи над ночным Портлендом с грохотом сверкнула молния, словно космический извозчик поторапливал ею ленивый дождь, и тысячи капель забарабанили по стенам, окнам, крыше гостиницы, словно копыта ошпаренных кнутом лошадей по мостовой. Позже, укладываясь спать, Доминик тщательно привязал себя к кровати нейлоновой веревкой, предварительно обмотав запястье клейкой лентой, чтобы не поранить кожу. Веревка была значительно прочнее обычной, поскольку предназначалась для альпинистов. Доминик решил использовать именно ее, ибо уже имел горький опыт: в ночь на 28 декабря он перегрыз во сне бечевку и таким образом освободился. Нейлоновая же веревка была тверда, как медный кабель. В ту ночь в Портленде он трижды просыпался, мокрый от пота и борьбы с удерживавшей его в постели привязью, с бешено колотящимся от страха сердцем. — Луна! Луна! — как заведенный повторял он.
3
Лас-Вегас, НевадаПосле Рождества Жоржа Монтанелла отвезла Марси к доктору Луису Бесанкорту. Там девочка закатила такую истерику, что не только расстроила врача и напугала мать, но и привела их обоих в замешательство. — Никаких врачей! — закричала Марси, едва оказалась в приемной. — Они сделают мне больно! Она визжала, плакала и пыталась вырваться и убежать. Обычно достаточно было легкого шлепка, чтобы расшалившаяся или заупрямившаяся Марси образумилась. Однако на этот раз Жоржа добилась обратного эффекта: Марси стала кричать и плакать пуще прежнего. Лишь с помощью опытной сестры удалось завести ребенка в кабинет, но к этому времени Жоржа была уже не на шутку встревожена странным поведением дочери. Доктор Бесанкорт тоже не сумел успокоить девочку: не помогли ни шутки, ни ласковое обхождение. Она не давала осмотреть себя, кричала, колотила доктора кулачками, отбивалась ногами, и в конце концов мать и медсестра вынуждены были держать ее за руки и за ноги, чтобы дать возможность доктору произвести осмотр. Ее ужас достиг высшей степени, когда он извлек офтальмоскоп, чтобы осмотреть глаза: как и на Рождество, девочка описалась. После этого, однако, она успокоилась и замолчала, хотя и продолжала едва заметно дрожать и была смертельно бледна. Ее странный отчужденный вид вновь навел Жоржу на мысль об аутизме. Доктор Бесанкорт не сообщил Жорже ничего утешительного: говорил что-то насчет нервного и психического расстройства и порекомендовал положить Марси на обследование в больницу «Санрайз». В больнице Марси выкидывала такие коленца, по сравнению с которыми ее выходки у доктора Бесанкорта казались невинными шалостями. Вид врачей и сестер приводил ее в паническое состояние, которое переходило в истерический припадок, заканчивавшийся полным оцепенением, из которого она выходила лишь через несколько часов. Жоржа взяла отпуск в казино и поселилась на четыре дня в больнице, где для нее поставили рядом с кроватью дочери раскладушку. Она не знала ни минуты покоя. Даже после успокаивающего укола Марси металась во сне, рыдала и все время повторяла: «Луна! Луна…» К воскресенью 29 декабря Жоржа сама нуждалась в медицинской помощи. Однако в субботу утром свершилось чудо: неестественный страх у Марси исчез. И, хотя она и продолжала выказывать недовольство в связи с госпитализацией и настаивать, чтобы ее отвезли домой, ей уже не казалось, что стены надвигаются на нее и вот-вот раздавят. В обществе врачей она чувствовала себя все еще скованно, однако уже не содрогалась от ужаса при их появлении и позволяла им себя осматривать. Все еще бледненькая, издерганная и настороженная, девочка впервые за все время пребывания в больнице с аппетитом съела завтрак. Днем, когда завершился последний осмотр и Марси, сидя в постели, обедала, доктор Бесанкорт разговаривал с Жоржей в коридоре. Глядя на расстроенную мать преданным собачьим взглядом добрых влажных глаз, он говорил, озабоченно потирая свой нос-картошку: — Ни одного положительного теста, все результаты отрицательные. Нет никаких признаков злокачественной опухоли мозга, травмы или расстройства нервной системы. — Слава богу! — едва не разрыдалась Жоржа. — Я намерен показать Марси еще одному специалисту, — продолжал Бесанкорт. — Его зовут Тед Каверли, он детский психолог, один из лучших. Я уверен, он выяснит причину ее странного поведения. Забавно, но мне кажется, что мы в некотором смысле вылечили, сами того не осознавая, вашу дочь. — Вылечили? — удивленно заморгала Жоржа. — Что вы хотите этим сказать? — Ее поведение типично для страдающих неврозом. Я подозреваю, что у нее развился панический страх перед всем, что связано с медициной. Иногда такое заболевание лечится методом «затопления»: больного умышленно подвергают открытому воздействию предметов, которых он боится, и страх сперва притупляется, а потом проходит. Положив Марси на обследование в больничную палату, мы невольно использовали именно этот метод. — Но почему у нее развился такой страх? — спросила Жоржа. — Откуда он вообще взялся? У нее никогда не возникало неприятных впечатлений от общения с врачами или пребывания в больнице. Она вообще никогда серьезно не болела. Бесанкорт пожал плечами и отступил, пропуская сестер, выкатывающих из кабинета кресло с пациентом. — Мы не знаем, как возникают такие неврозы. Для того чтобы бояться летать на самолетах, вовсе не обязательно сперва угодить в авиакатастрофу. Страхи просто появляются, и все. Даже если мы случайно вылечили ее, возможны остаточные явления. Помощь Теда Каверли ей необходима, он выявит все ее подавленные страхи. Не волнуйтесь, Жоржа, все будет хорошо. После обеда Марси выписали из больницы. По дороге домой она радостно угадывала в очертаниях облаков фигурки животных, а дома сразу же побежала разбирать гору игрушек, подаренных ей на Рождество. Набор маленькой докторши все еще занимал ее, но не более, чем другие подарки, которыми она так и не успела насладиться. Немедленно примчались дедушка с бабушкой, соскучившиеся по внучке: в больницу Жоржа их не пускала, боясь, что они выведут девочку из хрупкого равновесия. За обедом Марси совершенно очаровала стариков, была мила и любезна. Последующие три недели Марси спала в постели Жоржи, но лишь дважды будила мать своим тихим бормотанием во сне. — Луна! Луна! — повторяла она негромко. Утром за завтраком Жоржа спросила дочь, что ей снилось, но девочка не смогла вспомнить. — Луна? — нахмурилась она, глядя в тарелку с кукурузными хлопьями. — Нет, мне не снилась Луна. Мне снились лошади. Мама, у меня когда-нибудь будет своя лошадка? — Может быть, если мы будем жить не в квартире, а в отдельном домике, — сказала мать. — Я знаю, — захихикала Марси. — Нельзя держать лошадь в квартире: соседи будут недовольны.
* * *
В четверг Марси впервые показали доктору Каверли. Девочке он понравился. Если она еще и боялась врачей, то успешно скрывала свой страх. В ту ночь Марси спала в собственной постели, в обнимку с плюшевым медвежонком по прозвищу Мэрфи. Трижды Жоржа вставала, чтобы взглянуть на дочь. Один раз она слышала знакомое бормотание: «Луна! Луна!» — и от странного шепота, в котором смешались страх и восторг, у нее зашевелились на голове волосы. А в пятницу, за три дня до окончания каникул, Жоржа отвезла дочь к Каре Персаньян и вышла на работу. Пыль и дым казино, окурки и недопитое пиво по сравнению с запахом антисептиков в больнице показались ей едва ли не благовонием, а постоянный шум и эпизодические домогательства не раздражали, а были даже приятны. Вечером, когда Жоржа увозила Марси на ночь домой, та похвасталась своими новыми рисунками: на листах оберточной бумаги в самых разных видах цветными карандашами была изображена Луна. Утром в воскресенье, 5 января, когда Жоржа, встав с постели, пошла варить кофе, она застала Марси за обеденным столом, увлеченную любопытным занятием: все еще в своей ночной пижаме, девочка вынимала из альбома фотографии и складывала их в аккуратные стопки. — Я положу снимки в коробку из-под ботинок, потому что мне нужен альбом, — заявила Марси, хмуря лобик и старательно выговаривая слово «альбом». — Он нужен мне для моей лунной коллекции. — Она показала Жорже вырезки из журнала. — Я хочу собрать большую коллекцию. — Но зачем? — удивилась Жоржа. — Почему тебя так заинтересовала Луна? — Она красивая, — сказала Марси, кладя фотографию Луны на освободившуюся страницу альбома, и в ее застывшем взгляде и восторженном выражении лица Жоржа уловила оттенок той же самой одержимости, с которой девочка играла с набором игрушечных инструментов «Маленький доктор». «Вот так и зарождается эта проклятая боязнь врачей, — с тревогой подумала Жоржа. — Тихо. Невинно. Может быть, на место прежнего страха прокрался новый?» Она готова была бежать к телефону дозваниваться до доктора Каверли, хотя и было воскресенье. Но, глядя на дочь, спокойно перебирающую фотографии, она решила, что ей не следует торопить события и впадать в панику из-за пустяков. В конце концов, Марси ведь не боится изображений Луны, она просто почему-то очарована этим небесным телом. Но это увлечение пройдет. Девочкам ее возраста свойственно увлекаться и восторгаться, это знают все родители. Тем не менее Жоржа решила рассказать о новом увлечении доктору Каверли, когда снова поведет к нему Марси во вторник. В понедельник, двадцать минут первого ночи, собираясь лечь спать, Жоржа заглянула к Марси, чтобы убедиться, что та спит спокойно. Но девочки не было в постели: пододвинув в темной комнате кресло к окну, она смотрела на небо. — В чем дело, Марси? Почему ты не спишь? — спросила Жоржа. — Ни в чем, мама. Посмотри! — тихим мечтательным голосом промолвила девочка. — И что ты там увидела? Расскажи мне! — Луна! — ответила Марси, пристально вглядываясь в серебристый полумесяц на небе. — Луна!4
Бостон, МассачусетсВ понедельник, 6 января, с Атлантического океана подул сильный холодный ветер, и весь Бостон тотчас же сник: кутаясь в шарфы и шали, тепло одетые люди спешили поскорее укрыться где-нибудь от непогоды. В зимней мгле современные стеклянные башни офисов казались вырубленными изо льда, а солидные старинные строения выглядели убогими и сырыми развалюхами. После выпавшего накануне мокрого снега голые деревья покрылись блестящей коркой, ощетинившись мертвыми черными сучьями. Мажордом семейства Ханнаби Герберт подвез ДжинджерВайс до дома Пабло Джексона на их седьмую, последнюю, рождественскую встречу. Ветер и снежная буря повалили накануне ночью добрую половину светофорных столбов, из-за чего Джинджер на пять минут опоздала, приехав только в пять минут двенадцатого. После прорыва, достигнутого во время предыдущего сеанса, Джинджер захотелось связаться с людьми из мотеля «Спокойствие» в Неваде и обсудить с ними события, происшедшие там в позапрошлом году в ночь с 6 на 7 июля. Владельцы мотеля были либо сообщниками неизвестных, воздействовавших на память Джинджер, либо их жертвами, — в последнем случае если они также подверглись промыванию мозгов, то должны были испытывать аналогичные приступы беспокойства. Пабло возражал против поспешных шагов, полагая что риск слишком велик. Если владельцы мотеля были не жертвами, а соучастниками злоумышленников, Джинджер подвергнет себя серьезной опасности. — Нужно набраться терпения, — убеждал ее старый фокусник. — Прежде чем подбираться к ним, нужно постараться добыть как можно больше информации. Она предложила обратиться в полицию, но Пабло убедил ее, что полиция не заинтересуется этим делом. Ведь у нее не было никаких доказательств того, что Джинджер Вайс стала жертвой психической агрессии. Кроме того, местная полиция не обладала полномочиями действовать за пределами штата, и пришлось бы обращаться в федеральные органы или в полицию штата Невада, то есть, вполне могло статься, как раз к тем людям, которые были виновны в случившемся с ней. Расстроенная тем, что не смогла переубедить Пабло, Джинджер согласилась продолжать разработанную им программу лечения. Он собирался в воскресенье прослушать запись предыдущего сеанса, а в понедельник утром повидаться со своим приятелем в больнице. — А вы подъезжайте ко мне, скажем, к часу дня, и мы снова пощупаем эту блокаду, как говорится, не спеша, надев мягкие тапочки, — сказал он Джинджер. Но сегодня утром Пабло позвонил ей из больницы и сообщил, что сможет встретиться с ней пораньше, в одиннадцать. — Заодно поможете мне приготовить обед. Выйдя из лифта и остановившись в коридорчике перед дверью квартиры старого фокусника, Джинджер решила, что на этот раз она сделает все возможное, чтобы содействовать успеху, и будет послушной и терпеливой. Дверь оказалась незапертой и чуть приоткрытой. Подумав, что Пабло специально оставил ее такой, ожидая ее, она вошла в прихожую и, притворяя за собой дверь, позвала: — Пабло! В комнате кто-то застонал, что-то тихо звякнуло, потом послышался глухой звук падения на пол чего-то тяжелого. — Пабло? — Он не отзывался. Джинджер прошла в столовую и вновь окликнула его: — Пабло? Тишина. Одна из двойных дверей в библиотеку была открыта, там горел свет. Джинджер вошла и увидела Пабло лежащим на полу рядом с письменным столом: на нем были галоши и пальто, видимо, он только что вернулся из больницы. Пока она подбегала к нему, в голову лезли самые мрачные предположения: кровоизлияние в мозг, закупорка сосудов, обширный инфаркт. Но то, что она увидела, перевернув Пабло на спину, превзошло все ее худшие ожидания: Пабло был сражен выстрелом в верхнюю часть груди, из раны хлестала алая артериальная кровь. Глаза его открылись, он, похоже, узнал ее. На губах пузырилась кровь. Он выдохнул только одно слово: — Беги! Только теперь Джинджер поняла, что над ней самой нависла смертельная опасность: до этого момента она думала только о том, как помочь раненому. Она ведь не слышала выстрела, следовательно, стреляли из пистолета с глушителем. Нападавший не был обычным грабителем. Он был гораздо опасней. Все это прокрутилось в ее голове в считанные мгновения. Джинджер поднялась и с замирающим сердцем обернулась лицом к двери: из-за нее вышел стрелявший — высокий широкоплечий мужчина в кожаной куртке, туго затянутой на поясе, и с длинноствольным пистолетом в руке. Вид его, однако, не был устрашающим: это был аккуратно подстриженный человек примерно ее лет с невинными голубыми глазами и добрым лицом. Разница между его непримечательной внешностью и поступками еще более усилилась, когда он заговорил. — Этого не должно было случиться, — извиняющимся тоном произнес он. — Я не хотел этого, клянусь богом! Я просто хотел переписать записи с кассет, не более того. И кое-что изменить в них. Он указал пальцем на письменный стол, и Джинджер увидела открытый атташе-кейс со встроенным электронным прибором. В разбросанных по столу кассетах она тотчас признала те, на которые записывались сеансы гипноза. — Нужно вызвать «Скорую помощь», — сказала Джинджер и потянулась к телефонному аппарату, но он остановил ее, угрожающе взмахнув пистолетом. — Мне нужно было лишь переписать кассеты, — голосом, полным отчаяния и ярости, воскликнул он. — Я мог бы сделать свое дело и спокойно уйти. Он не должен был вернуться раньше, чем через час, черт бы его побрал! Джинджер схватила с кресла подушку и подложила под голову Пабло, чтобы тот не захлебнулся кровью и слизью. — Он так тихо вошел, — сетовал человек с пистолетом, — просто возник за моей спиной, как призрак. Джинджер вспомнила, с каким достоинством и грациозностью всегда держался Пабло; каждый шаг его, каждое движение было как бы прелюдией к фокусу. Пабло кашлянул и закрыл глаза. Ему могла помочь только срочная операция, и Джинджер, осознавая свое бессилие в данной ситуации, лишь ободряюще сжимала его локоть. — И какого дьявола он угрожал мне пистолетом? Зачем восьмидесятилетнему старику пистолет, если он не знает, как с ним обращаться? На полу Джинджер заметила пистолет: он валялся в нескольких шагах от вытянутой руки Пабло. При виде его Джинджер содрогнулась от ужасающей догадки: если фокусник носил с собой оружие, значит, он знал, что ему грозит опасность, и виновница ее она, Джинджер. Она даже не предполагала, что любая попытка пробиться сквозь блокаду памяти моментально привлечет нежелательное внимание людей, подобных этому субъекту в кожаной куртке. Значит, за ней все время наблюдали. И стоило ей только позвонить Пабло, как она поставила под угрозу его жизнь. И он знал о нависшей над ним опасности, поэтому и носил при себе оружие. Джинджер остро почувствовала свою вину перед ним. — Если бы он не угрожал мне этой дурацкой игрушкой двадцать второго калибра, — простонал стрелявший, — и не собирался бы вызвать полицию, я бы ушел, не тронув его и пальцем. Я не хотел стрелять в него, черт побери! — Он потряс головой и, взглянув на скорчившегося на ковре фокусника, отрешенно воскликнул: — А теперь все равно уже поздно. Он мертв. Эти последние слова настолько потрясли Джинджер, что у нее перехватило дыхание и помутилось в глазах. Одного взгляда на Пабло было достаточно, чтобы убедиться в правдивости слов убийцы, но Джинджер не желала в это верить. Она сжала пальцами тонкое черное запястье фокусника, нащупывая пульс, и, не обнаружив его, потрогала сонную артерию на шее. Но вместо желанного, хотя бы и слабого, биения она ощутила ужасающую неподвижность еще теплого тела. — Нет! — воскликнула она в отчаянии. — О нет! Она дотронулась до темных бровей Пабло, но не как врач, а как любящая дочь. Ей не верилось, что она знала этого человека всего две недели: настолько она успела привязаться к нему. Старик очень напоминал ей покойного отца, возможно, именно поэтому его смерть столь болезненно сжимала теперь ее сердце. — Мне искренне жаль, — с дрожью в голосе сказал человек с пистолетом. — Мне в самом деле жаль, что так получилось. Если бы он не встал на моем пути, я бы спокойно ушел. А теперь я убийца, не так ли? И… вы видели мое лицо… До Джинджер вдруг дошло, что теперь не время оплакивать погибшего. Она заморгала, прогоняя слезы, и медленно распрямилась. — Придется теперь и вами заняться, — словно бы размышляя вслух, говорил человек в кожаной куртке. — Придется обыскать помещение, вытряхнуть все из стола и шкафов, взять кое-какие ценности и придать всему вид ограбления. — Он озабоченно пожевал губами. — Да, пожалуй, это сработает. Кассеты я возьму с собой, значит, здесь вопросов не будет. — Он вдруг виновато и с искренним огорчением посмотрел на Джинджер. — Ради бога, не сердитесь на меня, но иначе нельзя. Мне очень жаль, что все так вышло. Отчасти я и сам виноват, мне следовало бы услышать, как эта сволочь вошла. Нельзя было позволять ему застать меня врасплох. — Он приблизился к Джинджер. — Может, мне следует изнасиловать тебя, а? Ведь грабитель не стал бы просто убивать такую симпатичную девчонку, как ты, верно? Он бы сперва попользовался тобой, не так ли? Это больше похоже на правду. — Он подошел еще ближе, и она сделала шаг назад. — Боже мой, даже и не знаю, смогу ли я это сделать, — бормотал человек с пистолетом. — У меня ведь и не встанет, ведь я знаю, что мне потом придется тебя убить. — Он припер ее спиной к книжным полкам. — Мне это совершенно не по душе, поверь, я не хотел этого. Этого не должно было случиться. Черт, надо же было так вляпаться! От этих слов, произнесенных извиняющимся тоном, у Джинджер по спине поползли мурашки. Если бы он вел себя грубо и агрессивно, он бы меньше напугал ее. Но, если человек испытывает угрызения совести, но при этом хладнокровно совершает два убийства и изнасилование в придачу, это уже не человек, а чудовище, монстр. — Пожалуйста, сними пальто, — отступая назад на три шага, сказал монстр. Умолять было бесполезно, однако Джинджер рассчитывала на его излишнюю самоуверенность. — Я не выдам вас, — тихо сказала она. — Клянусь. Пожалуйста, позвольте мне уйти. — С удовольствием, но не могу. Снимай пальто. Джинджер стала медленно расстегивать пуговицы, стараясь выиграть время. Руки ее дрожали, но в конце концов она стянула с себя пальто и уронила его на пол. Мужчина подошел ближе, почти упершись пистолетом в ее грудь. Он явно расслабился, не так сильно сжимал пистолет и не размахивал им, хотя и не намеревался шутить. — Пожалуйста, не делайте мне больно, — попросила Джинджер, надеясь, что он окончательно расслабится, допустит ошибку и она сможет убежать. — Я не хочу причинять тебе боль, — обиженно пробурчал он. — Я не хотел убивать этого старого дурака. Но он сам меня вынудил. Послушай, я сделаю все по возможности безболезненно, обещаю. Все еще сжимая пистолет в правой руке, он левой рукой стал щупать под свитером ее грудь. Она не сопротивлялась, надеясь, что он возбудится и потеряет бдительность. Сомнений в том, что он сможет ее изнасиловать, уже не оставалось, хотя он и высказывал на этот счет опасения. Ему явно доставляло удовольствие то, что он делает и уже сделал. Его извинения и мягкие манеры были только маской, скрывающей отвратительную сущность убийцы и садиста. — Очень маленькая, — шепнул он. — Маленькая, но славненькая. Его рука под свитером нащупала застежку бюстгальтера и резко разорвала ее. Джинджер вздрогнула, насильник поморщился, словно его самого хлестнуло по спине лопнувшей бретелькой, и озабоченно поинтересовался: — Я все-таки сделал тебе больно? Я не хотел. Постараюсь впредь быть осторожней. — Он сдвинул разорванный лифчик и сжал холодной рукой ее обнаженную грудь. От страха и внезапного озноба Джинджер сильнее прижалась спиной к полкам, но пространства для маневра все равно не оставалось, потому что дуло пистолета по-прежнему упиралось ей в солнечное сплетение. Попытайся она вырваться, он наверняка всадил бы ей в живот пулю. Продолжая гладить Джинджер холодной рукой, садист все тем же тихим голосом извинялся за то, что ему придется ее изнасиловать и убить, словно бы внушая ей эту простую мысль с одной целью — чтобы она поняла и не обижалась на него. Джинджер уже была не в силах слушать этот поток монотонного бормотания и терпеть эту холодную руку, ощупывающую ее тело, покрывшееся гусиной кожей. Ее подмывало вцепиться в его рожу ногтями и вынудить поскорее прикончить ее, чтобы не мучиться. Изо рта у него несло сильным мятным запахом жевательной резинки, от которого Джинджер едва не стошнило. Она застонала и завертела головой, словно бы отказываясь верить, что ее насилуют. Пожалуй, даже если бы она специально репетировала, ей не удалось бы так правдиво изобразить полное отчаяние и совершенную беспомощность, но, к сожалению, это вышло у нее почти естественно. Распаленный ее бессилием, он прижался к ней всем телом, бормоча: — Мне кажется, я смогу это сделать, крошка, я сделаю это. Похоже, он думал, что она забудет о том, при каких трагических обстоятельствах происходит эта сцена, и даст волю своим сексуальным чувствам. Но он жестоко просчитался. Когда он прижался к ней низом живота, то опустил пистолет дулом вниз, убежденный, что Джинджер окончательно размякла. Но она не оправдала его надежд: едва он убрал оружие, она навалилась на него, словно бы теряя сознание или млея от нахлынувшей страсти, приблизившись таким образом ртом к его горлу. В следующее мгновение ее зубы впились в его кадык, а колено ударило в промежность. Одновременно Джинджер сжала запястье руки, в которой он держал пистолет. Убийца успел среагировать и смягчить удар коленом но укуса в адамово яблоко он не ожидал: шокированный пронизывающей болью, он оттолкнул ее, отступив на два шага. Джинджер укусила его довольно глубоко и теперь ощущала во рту привкус крови, но это не сковало ее волю к дальнейшей атаке: дернув насильника за руку, она укусила его за кисть. Вскрикнув от боли и удивления, он выронил пистолет, но одновременно со страшной силой огрел ее кулаком по спине, так что она рухнула на колени, решив, что он перешиб ей позвоночник. Боль пронзила спину, ударила в шею и вспыхнула в голове. Едва дыша, парализованная ударом, Джинджер не заметила, как он потянулся за пистолетом, и, только когда его пальцы почти коснулись его, она из последних сил кинулась ему в ноги. Пытаясь увернуться, он подпрыгнул, потерял равновесие, упав навзничь, ударился затылком о подлокотник кресла, сшиб со столика лампу и перекатился на распластавшееся на полу тело Пабло. На мгновение они оба замерли, уставившись друг на друга и переводя дух. В вытаращенных глазах убийцы Джинджер прочла ужас от осознания им собственной уязвимости. Укус не мог быть смертельным, она не прокусила ни сонную артерию, ни яремную вену, а только слегка сдавила щитовидный хрящ и повредила мелкие сосуды. Тем не менее нетрудно было догадаться, почему он так перепугался: боль была резкой и сильной. Он поднес руку к горлу и, отдернув, посмотрел на капающую кровь. Убийца решил, что умирает, и это могло в равной степени и деморализовать, и обозлить его. Почти одновременно оба посмотрели на лежащий на полу между ними пистолет. Издав странный булькающий и одновременно хриплый звук, он пополз на четвереньках к пистолету, и Джинджер не оставалось ничего другого, как вскочить на ноги и убежать. Это был, конечно, не бег. Она влетела из библиотеки в столовую, ковыляя из-за резкой боли в спине, мешавшей ей даже разогнуться, и направилась было к входной двери, но вовремя смекнула, что это было бы ошибкой: дожидаться лифта времени не было, а на лестнице он наверняка догнал бы ее. Поэтому она доползла до кухни и направилась прямо к висевшей на стене полке, откуда достала разделочный нож. Только теперь, заметив, что тихо подвывает, она замолчала, глубоко вздохнула и постаралась взять себя в руки. Налетчик, вопреки ее ожиданиям, не ворвался следом за ней на кухню, и она сообразила, что никакого проку от ножа нет: убийца успел бы первый выстрелить в нее. Проклиная себя за едва не стоившую ей жизни промашку, Джинджер на цыпочках подкралась к двери и замерла возле нее, прижавшись спиной к стене. Позвоночник еще болел, но не так сильно. Сердце билось так сильно и гулко, что, казалось, звук разносится по всей квартире. Она опустила руку с ножом, приготовившись нанести удар. Однако успех задуманного зависел от дальнейшего поведения бандита. Если бы он ворвался очертя голову в кухню, обуреваемый жаждой мести перед лицом неминуемой смерти, тогда бы план удался. Но если он вместо этого подкрался бы к двери и медленно открыл ее дулом пистолета, тогда Джинджер оказалась бы в трудном положении. С каждой секундой ее шансы на успех таяли. Оставалось надеяться, что рана в горле гораздо серьезнее, чем она предполагала. В этом случае он, возможно, задержался в библиотеке, истекая кровью на китайском ковре. Она молила Бога, чтобы так оно и случилось. Но он был жив и приближался. Можно было закричать, надеясь, что соседи всполошатся и вызовут полицию. Но убийца все равно убьет ее, так что кричать было бесполезно. Джинджер сильнее прижалась к стене, не отрывая взгляда от двери, готовая мгновенно нанести смертельный удар. Но дверь оставалась неподвижной. Куда же он запропастился? Прошло пять секунд. Десять. Двадцать. Что он делает? Вкус крови во рту становился все более едким, к горлу подступила тошнота. В голове возникли мысли об удивительной собственной жестокости, внезапно проявившейся в библиотеке, и о том, что она намеревается еще сделать с этим бандитом. Ей явственно представилось, как она всаживает в него нож, и от этой мысли она содрогнулась: ведь она была не убийцей, а врачом, не только по образованию, но и по натуре, по призванию. Джинджер постаралась не думать о том, как будет убивать налетчика, это теперь было опасно для ее собственной жизни. Но где же он? Она не могла больше ждать. Бездействие притупляло животный инстинкт, столь необходимый ей сейчас, чтобы выжить, с каждой секундой промедления она утрачивала врожденное коварство и ярость, а хитрый противник получал преимущество. Она уже положила ладонь на дверь, готовая распахнуть ее и выскочить пулей в коридор, но замерла, похолодев от мысли, что он притаился в нескольких дюймах от косяка и ждет, что она допустит ошибку и сама сделает первый шаг. Джинджер прислушалась: тишина. Припав ухом к двери, она затаила дыхание, но все равно ничего не услышала. Рукоятка ножа в ее вспотевшей руке стала скользкой. Наконец она медленно и осторожно приоткрыла дверь на полдюйма. Выстрелов в ответ на это не последовало, и она припала к щелке одним глазом. Убийца, вопреки ее опасениям, был не прямо перед ней, а в конце коридора, на пороге прихожей: он, видимо, бегал искать ее на лестничной клетке или в лифте и, не найдя, вернулся. Судя по тому, что он запер входную дверь на все замки и даже навесил цепочку, чтобы помешать ей скрыться, он не сомневался, что его жертва здесь, в квартире убитого им старого негра. Он поднес укушенную руку к укушенной шее. Даже на расстоянии Джинджер слышала его хриплое дыхание. Тем не менее он явно успокоился. Не умерев до сих пор, он убедился, что будет жить. Он заглянул налево, в столовую, потом направо, в спальню, потом обернулся и стал вглядываться в темноту коридора. На мгновение у Джинджер замерло сердце: ей показалось, что он смотрит прямо на нее. Но на таком расстоянии он, конечно, не мог заметить, что дверь на кухню слегка приоткрыта. Поколебавшись, убийца направился в спальню. Целеустремленность, с которой он передвигался, не вызывала сомнений в его намерениях. Джинджер прикрыла дверь, осознав тот удручающий факт, что ее план уже не сработает. Это был профессионал, привыкший к насилию, и, хотя он и потерял на какое-то время равновесие, ошеломленный ее стремительной атакой, он быстро наверстывал упущенное. Когда убийца осмотрит спальню и кладовки, он окончательно возьмет себя в руки и будет действовать наверняка. И тогда уж точно не подставится под удар. Нужно было срочно выбираться из квартиры. Надежды выскользнуть через входную дверь не было никакой. К этому моменту ее противник, возможно, уже обыскал спальню и мог наброситься на нее в коридоре. Джинджер положила нож на стол, стянула с себя разорванный лифчик и бросила его на пол. Потом она тихонько обошла кухонный стол и, отдернув занавеску на окне, выглянула на площадку пожарной лестницы. Стараясь не шуметь, она повернула ручку запора и стала поднимать раму вверх. Разбухшая от сырости деревянная рама заскрипела и задребезжала. Когда она наконец вдруг поддалась и с лязгом поехала вверх, Джинджер услышала в коридоре топот ног: убийца бежал на шум. Она поспешно выбралась через окно на железную пожарную лестницу и побежала вниз, пронизываемая до костей холодным ветром. Железные ступени после вчерашней снежной бури обледенели, с перил свисали сосульки, но думать об осторожности времени не было: в любую секунду она могла получить пулю в затылок. Ноги то и дело выезжали вперед, а крепко держаться за покрывшиеся коркой льда поручни было невозможно. Когда же она ухватилась за голый металл, кожа тотчас прилипла, и пришлось оставить кусочек на перилах, высвобождая руку. До конца пролета оставалось еще четыре ступени, когда над головой Джинджер раздалось ругательство. Обернувшись, она увидела, что ее преследователь вылезает следом за ней из окна. Джинджер утратила бдительность, и лед сделал свое дело: ноги взлетели вверх, и она упала на бок, вновь пронзенная острой болью в позвоночнике. Сосульки и обломки льда со ступенек с грохотом полетели вниз по пролетам металлической лестницы, разлетаясь вдребезги от ударов по нижним ступеням. В нескольких дюймах от своего лица Джинджер увидела сноп искр и, хотя и не слышала за воем ветра приглушенного звука выстрела, поняла, что на этот раз ей повезло. Она обернулась, и как раз вовремя, потому что убийца в этот момент вновь прицеливался в нее. Вдруг ноги его разъехались, и он, нелепо взмахнув ими в воздухе, поехал на спине по ступеням вниз. Он трижды отчаянно хватался за поручень, прежде чем ему удалось остановить стремительное скольжение. Он распластался в неудобной позе на лестнице, застряв ногой между железными столбиками перил, уцепившись одной рукой за ступеньку, а другой, сжимавшей пистолет, обхватив стойку. В таком положении стрелять он, конечно, не мог. Джинджер приготовилась было бежать, но взгляд ее случайно упал на пуговицы на его кожаной куртке — блестящие медные пуговицы с геральдическим британским львом, которыми так любят украшать спортивные куртки, свитера и жакеты. Взгляд Джинджер застыл на их сверкающей поверхности, а все остальное затянулось туманом и как бы перестало существовать. Она уже не ощущала даже ледяных порывов ветра, не в силах оторвать взгляд от пуговиц. Только они теперь были в центре ее внимания, и именно они разбудили в ней ужас, затмивший страх перед преследователем. — Нет, — прошептала она, отказываясь верить в то, что с ней происходит. — Нет, только не это! — Пуговицы. Худшее время и место, чтобы потерять над собой контроль, невозможно было придумать. Пуговицы. Впервые за минувшие три недели Джинджер вновь охватила неестественная, необоримая паника, превратив ее в ничтожное, беззащитное существо и окунув в беспросветный мрак, сквозь который она должна была безрассудно мчаться. Отвернувшись от пуговиц, Джинджер бросилась вниз по пожарной лестнице, зная наперед, что это закончится для нее в лучшем случае переломом ноги. А потом, когда она будет беспомощно лежать внизу, к ней подойдет убийца, приставит к голове пистолет и вышибет мозги. Дальше она уже ничего не помнила.
* * *
Когда мир вернулся к Джинджер, или она вернулась в окружающий мир, первое, что она ощутила, был жуткий холод. Она сидела, прислонившись спиной к бетонной стене, под крыльцом подвала жилого особняка, далеко от многоквартирного дома Пабло на Ньюбери-стрит. Тупая боль сковала спину, ныл правый бок и саднила ободранная левая ладонь. Но хуже всего был холод, исходивший от снега, льда и бетона. Промозглый ветер, словно голодный зверь, тоскливо завывал наверху, перед спуском в подвал. Нужно было выбираться из этого каменного саркофага, чтобы не схватить вдобавок ко всем напастям еще и воспаление легких. Было удивительно, как она умудрилась спуститься по скользкой пожарной лестнице, не свернув шею, видимо, ее спас врожденный инстинкт самосохранения. Осторожно поднявшись по ступеням, Джинджер выглянула из-под козырька и огляделась: крохотный дворик с голыми деревцами, зябко дрожащими на ветру, был пуст. Поеживаясь и чихая, Джинджер прошла по кирпичной дорожке к калитке, намереваясь из первой же телефонной будки позвонить в полицию, и замерла: ее внимание привлек падающий на серебристый наст желтоватый неверный свет. Он исходил от янтарных плафонов чугунных фонарей, не выключенных по недосмотру или зажегшихся автоматически от фотоэлементов, сработавших по ошибке в это мрачное зимнее утро, похожее на вечерние сумерки. От этого зыбкого зловещего свечения у Джинджер неожиданно снова перехватило дыхание и помутилось перед глазами: это был еще один приступ беспричинного страха. Нет! Только не это! Но, увы, это случилось: снова туман, пустота, провал.* * *
Очень холодно. Руки и ноги онемели. Она вновь находилась на Ньюбери-стрит, на этот раз под стоящим у кромки тротуара грузовиком. Приподнявшись на локте, Джинджер выглянула из-за колеса, но не увидела ничего, кроме колес машин, припаркованных на противоположной стороне улицы. Она снова пряталась. Всякий раз, приходя в себя после панического бегства, она осознавала, что ищет убежища от чего-то очень страшного. Допустим, сегодня она убегала от убийцы Пабло. А в других случаях? От чего она пряталась тогда? Ведь даже сейчас она стремилась спастись не только от пули, но и от чего-то другого, скрывающегося где-то на грани ее памяти. Чего-то, что она видела в Неваде. Но что же это было? — Мисс! Эй, мисс! Джинджер встряхнула головой и обернулась на голос, звучащий откуда-то сзади со стороны кузова. Присмотревшись, она разглядела стоящего на четвереньках мужчину. На секунду ей показалось, что это ее преследователь. — Мисс! Что случилось? Нет, это не убийца. Тот, видимо, отчаялся догнать ее и исчез. Этого человека она видела впервые, но в данной ситуации была даже рада незнакомому лицу. — Какого черта вы там делаете? — спросил незнакомец. Джинджер вдруг стало жаль себя. Она подумала, как дико, должно быть, она выглядит. Она утратила всякое достоинство. Вернее, его украли у нее, превратив в сумасшедшую уродку. Она подползла на карачках к обращавшемуся к ней мужчине, схватилась за протянутую руку в перчатке и позволила ему вытянуть себя из-под грузовика, принадлежащего, как выяснилось, фирме «Мейфлауэр мувинг». Двери прицепа были распахнуты. Внутри Джинджер увидела какие-то ящики и мебель. Вытащивший ее парень был молод, мускулист и одет в теплый стеганый комбинезон с эмблемой фирмы на груди. — Что происходит? — спросил он. — От кого вы прячетесь, леди? Джинджер заметила стоящего на перекрестке полицейского и, не ответив, побежала к нему. Парень припустил следом. Она сама удивилась, что способна бежать. Ей казалось, что она вся состоит из болей, простуды и прострелов в спине. И все же она неслась вперед со сказочной легкостью, вопреки пронизывающему встречному ветру и скользкому месиву из снега, песка и соли под ногами. Увернувшись от чуть было не сбившего ее автомобиля, Джинджер крикнула приближающемуся полицейскому: — Там убили человека! Убийство! Вы должны туда пойти! Убийство! Затем, когда на его широком ирландском лице появилось озабоченное выражение, она вдруг увидела на его зимней форменной шинели блестящие медные пуговицы, и все снова пропало. Это не были точно такие же пуговицы, как на куртке убийцы, на них не было геральдического льва с поднятой правой лапой, но была какая-то похожая символика, и одного взгляда на эти пуговицы было достаточно, чтобы напомнить ей о пуговицах, которые она видела тогда, во время таинственных событий в мотеле «Спокойствие». Какие-то запрещенные воспоминания всплыли на поверхность, спустив курок «Блокады Азраила». Джинджер потеряла над собой контроль и провалилась в темноту, издав душераздирающий крик отчаяния.* * *
Невыносимо холодно. В то утро Бостон казался Джинджер Вайс самым холодным местом на свете. Порывистый полярный ветер пронизывал до мозга костей, замораживая душу и тело. Джинджер очнулась на земле, среди снега и льда; руки и ноги ее окоченели, губы распухли и потрескались. На сей раз она укрылась в узком пространстве между тщательно ухоженным кустарником и кирпичной стеной дома Пабло, бывшей гостиницы «Агассиз», где его убили: круг ее побега замкнулся. Кто-то приближался к ней. Сквозь запорошенные ветви кустарника она увидела перелезающего через низенькую чугунную ограду человека, вернее, одни его ноги в сапогах и синих брюках и полы тяжелой синей шинели. Когда человек приблизился, она узнала его: это был дорожный полицейский, от которого она убежала. Ей стало страшно от одной лишь мысли, что вид его пуговиц снова вызовет приступ ужаса, и она закрыла глаза. Возможно, необратимое психическое расстройство явилось побочным эффектом промывания мозгов, которому она подверглась, неотвратимым результатом постоянного перенапряжения, вызванного искусственно подавленной памятью, упорно дающей о себе знать. Скорее всего блокаду вообще невозможно прорвать, и никакой гипнотизер ей в этом не поможет, ей будет все хуже и хуже. Если только за одно утро с ней случилось три припадка, чего же ожидать в будущем? Громкий хруст сапог полицейского по насту приближался. Вот он остановился перед ней, раздвинул кусты и спросил: — Мисс, что с вами? Что это вы кричали насчет убийства? Эй, мисс? А вдруг она никогда не выйдет из сумеречного состояния? — Послушайте же, мисс, почему вы плачете? — сочувственно спросил полицейский. — Дорогуша, я ведь не смогу вам помочь, если вы не объясните, что стряслось. Она не была бы дочерью Иакова Вайса, если бы не отозвалась на малейшее проявление доброты и участия постороннего человека, поэтому слова полицейского подействовали: она «открыла глаза и посмотрела на его блестящие медные пуговицы. Их вид не вызвал ненавистного помрачения рассудка, но это еще ни о чем не говорило, потому что офтальмоскоп, черные перчатки и прочие предметы, провоцирующие приступ, тоже не производили на нее никакого впечатления, когда она заставляла себя спокойно смотреть на них. — Они убили Пабло, — сказал Джинджер. — Убили Пабло. Когда она произнесла эти слова, ее охватило острое чувство собственной вины. 6 января навсегда останется для нее черным днем ее жизни. Пабло мертв. Он погиб, пытаясь помочь ей. Это был очень холодный день.5
На шоссеВ понедельник 6 января Доминик Корвейсис взял напрокат «Шевроле» и начал объезжать окрестность Портленда, надеясь вернуть себе настроение, в котором пребывал, направляясь из Орегона в Маунтин-Вью, штат Юта, более восемнадцати месяцев тому назад. Ливень прекратился перед рассветом, и теперь небо, все еще затянутое облаками, обрело пепельный оттенок, словно на небесах, за облаками, недавно затух пожар. Он проехал студенческий городок, время от времени останавливаясь и впитывая знакомую атмосферу, чтобы разбередить былые чувства, прогулялся по улице, на которой жил тогда почти два года назад, и долго смотрел на окно комнаты, в которой провел столько дней и ночей, вспоминая, каким он в то время был. К его удивлению, образ прежнего, застенчивого Доминика воскресал в памяти довольно трудно, оставаясь весьма расплывчатым, лишенным четких деталей. Он мысленно видел себя в минувшем, но не мог вновь пережить прежние ощущения, что, кажется, указывало на то, что он никогда уже не станет таким, каким был, как бы он того ни опасался. Он был убежден, что видел нечто ужасное на шоссе летом позапрошлого года и что с ним самим сделали что-то чудовищное. Но это убеждение содержало в себе как тайну, так и противоречие. Таинственными представлялись последовавшие за этим событием изменения в его натуре, несомненно, в лучшую сторону. Как из болезненного и страшного опыта могло родиться совершенно новое, плодотворное отношение к жизни? Противоречие же Доминик усматривал в том, что наряду с положительными переменами в его характере это событие наполнило его сны кошмарами. Это непостижимое сочетание хорошего и дурного оставалось неразрешимой загадкой. Ответ, если он вообще был, следовало искать, безусловно, не в Портленде, а далеко от него, на автостраде. Доминик в последний раз бросил взгляд на окна своего бывшего пристанища и двинулся навстречу новым бедам. Самый короткий маршрут из Портленда в Маунтин-Вью пролегал по федеральному шоссе № 80, на север. Но, как и полтора года назад, Доминик избрал окружной путь по федеральному шоссе № 5, взяв курс на юг. В то памятное лето он собирал для своей книги материал об азартных играх, поэтому и решил немного задержаться в Рино. Доминик двигался по знакомому маршруту со скоростью сорок-пятьдесят миль в час, не быстрее, чем в прошлый раз, потому что тогда он тащил за собой до чертиков надоевший ему трейлер. И, как и раньше, остановился на обед в Юджине. Надеясь нащупать что-то так или иначе связанное с загадочным происшествием во время предыдущей поездки, Доминик заскакивал по пути в маленькие городишки, однако ни разу его сердце не екнуло и ровным счетом ничего из ряда вон выходящего с ним так и не приключилось вплоть до самого Гранте-Пасса, куда он прибыл незадолго до шести вечера, точно по расписанию. Остановился он в том же самом мотеле, что и восемнадцать месяцев тому назад, и даже в том же номере, которой оказался свободным, — десятом. Номер комнаты он запомнил, потому что как раз рядом с дверью стоял автомат по продаже газированных напитков и холодильник, шум которых мешал ему спокойно спать ночью. Пообедал Доминик в гриль-баре через дорогу. Он ждал внезапного озарения, неожиданного откровения, но оно не приходило. Он постоянно поглядывал украдкой в зеркальце, проверяя, не следят ли за ним, косился на других постояльцев, но ничего подозрительного не замечал. Если за ним и наблюдали, то весьма профессионально. В девять часов он отправился на ближайшую станцию технического обслуживания, чтобы позвонить, хотя в номере и был аппарат. Воспользовавшись кредитной карточкой, он позвонил в кабину уличного телефона в Лагуна-Бич, где его звонка ждал Паркер Фейн. Он должен был сообщить Доминику, какая корреспонденция поступила за последние дни. Скорее всего их телефоны и не прослушивались, но в данном случае оба они сошлись во мнении, что меры предосторожности не повредят, как бы нелепо это ни выглядело. — Счета, — сообщил Паркер, — рекламные проспекты. Никаких странных посланий и никаких фотографий. Как там у тебя дела? — Пока никак, — ответил Доминик, прислоняясь спиной к стенке кабинки. — Плохо спал прошлой ночью. — На прогулку, надеюсь, не ходил? — Даже не пытался развязать ни один узел, хотя и мучился кошмарами. Снова Луна. За тобой никто не следит? — Вроде бы нет, если только это не человек-невидимка. Можешь позвонить мне сюда же завтра вечером, думаю, нас не подслушивают. — Понаблюдать за нами со стороны — полные идиоты, — сказал Доминик. — А по мне — так просто умора! Фараоны, грабители, шпионы, сыщики и воры — я любил играть в подобные игры, когда был маленьким. Побудь там подольше, старина, если понадобится помощь, я мигом прилечу. — Я знаю. Ночью дул холодный сырой ветер. Доминик трижды просыпался, как и в Портленде, каждый раз забывал, какой кошмар его мучил, все время выкрикивал что-то о Луне. Утром во вторник седьмого января Доминик выехал в направлении Сакраменто, но вскоре свернул на федеральное шоссе № 80 и взял курс на восток, на город Рино. У подножия Сьерра-Невады холодный дождь, всю дорогу барабанивший по машине, сменился снегом, и Доминик заехал на станцию техобслуживания и установил на колеса цепи, прежде чем подниматься в гору. Позапрошлым летом на дороге Грантс-Пасса до Рино у него ушло более десяти часов, а в этот раз и того больше, так что, когда он наконец добрался до знакомой гостиницы, позвонил из уличной телефонной кабины Паркеру Фейну, перекусил в кафе и купил местную газету, у него осталось сил лишь на то, чтобы добраться до своего номера и упасть на кровать. Развернув газету, он прочитал: ИМУЩЕСТВО ЛУННОГО ЧЕЛОВЕКА ОЦЕНЕНО В ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ РИНО. Зебедия Гарольд Ломак, пятидесяти лет, чье самоубийство на Рождество выявило его странное увлечение Луной, оставил после себя имущество, оцененное более чем в 500 тысяч долларов. Как явствует из завещания, оставленного покойным, ббльшая его часть приходится на ценные бумаги и наличные деньги. Скромный же домик на Уасс-Вэлли-роуд, 1420, в котором проживал мистер Ломак, оценен всего в 35 тысяч долларов. Ломак, профессиональный карточный игрок, нажил свое состояние игрой в покер. «Он был одним из лучших игроков, которых я знал, — сказал Сидней Гарфок из Рино, профессиональный шулер и победитель прошлогоднего мирового чемпионата по покеру в казино «Подкова» в Лас-Вегасе. «Он пристрастился к картам еще ребенком, в возрасте, когда нормальные дети играют в бейсбол или увлекаются математикой или физикой», — добавил мистер Гарфок по прозвищу Сьерра-Сид. Покойный мог бы скопить и большую сумму, пояснили друзья Ломака, но его погубила страсть к игре в кости. «Он просаживал в них половину выигранного за карточным столом», — уточнил тот же Гарфок. В ночь на Рождество, прибыв в дом Ломака по вызову соседей, услышавших выстрел, полиция обнаружила на заваленной мусором кухне тело удачливого картежника. В ходе расследования были обнаружены тысячи фотографий Луны, наклеенных на стенах, потолке и мебели. Единственная сестра и наследница состояния Ломака отказалась комментировать этот факт.
* * *
Доминик прочитал заметку о происшествии, явно ставшем местной сенсацией, с нарастающим интересом и беспокойством. Скорее всего Зебедия Ломак спятил на почве увлечения Луной и никакой связи с проблемами Доминика здесь не было. Обычное совпадение. И все же… И все же Доминик ощутил признаки того же страха, замешанного на благоговейном трепете, который испытывал, пробуждаясь после кошмарных снов либо блуждая во сне по дому и пытаясь наглухо заколотить гвоздями окно. Он несколько раз пробежал заметку и в четверть десятого, несмотря на усталость, решил, что необходимо взглянуть на жилище Ломака. Он оделся, сел в «Шевроле» и направился по указанному в газете адресу. По пути Доминик купил в дежурном магазинчике фонарик. К дому Ломака он подъехал в начале одиннадцатого и припарковал автомобиль на противоположной стороне улицы. Жилищем Ломака оказалось бунгало с большими верандами на участке в пол-акра[71]. На крыше дома, газоне и соснах лежал не успевший растаять снег. Окна были темными. Как сообщала газета, Элеонора Уолси, сестра покойного, прилетела из Флориды спустя три дня после его смерти, 28 декабря, остановившись на время похорон в гостинице: бунгало брата действовало на нее угнетающе. Доминик был законопослушным гражданином, он предпочел бы не проникать в чужой дом. Но это нужно было сделать, поскольку Элеонора Уолси уже заявила, что до смерти устала от любопытных и репортеров, и уговаривать ее было бесполезно. Обойдя дом, Доминик обнаружил, что дверь черного хода закрыта на огромный навесной замок и засов. Но одна из фрамуг на кухне оказалась незапертой, он поднял ее и забрался внутрь. Подсвечивая себе фонариком, чтобы не привлечь постороннего внимания, Доминик обшарил лучом кухню, убранную сестрой Ломака перед продажей бунгало и пахнущую свежей краской и антисептиком. Испуганный таракан метнулся по плинтусу за холодильник. Фотографий Луны уже не было. Доминик с тревогой подумал, что Элеонора Уолси и ее помощники вполне могли переусердствовать и уничтожить все следы безумного увлечения Зебедии Ломака, соскоблить рисунки, фотографии и плакаты со стен и выбросить их на помойку. Но эти опасения улетучились, едва Доминик вошел в столовую: стены, потолок и окна по-прежнему были заклеены плакатами с изображением Луны. Складывалось впечатление, что он попал в открытый космос, где в невообразимой близости одна от другой вращаются десятки испещренных кратерами планет. У Доминика закружилась голова и пересохло во рту. Словно во сне, он вышел из столовой в коридор, тоже сплошь заклеенный фотографиями Луны, большими и маленькими, цветными и черно-белыми. Так же выглядели и обе спальни: Луна была повсюду. В заметке говорилось, что Ломака никто не навещал более года. Доминик поверил этому, потому что знакомые Ломака непременно сообщили бы об увиденном куда следует и Ломака наверняка упрятали бы в психиатрическую больницу. Соседи сказали, что были удивлены переменой в характере Ломака, из рубахи-парня превратившегося вдруг в затворника. Все свидетельствовало о том, что увлечение Луной началось позапрошлым летом. Итак, снова позапрошлое лето… В это же время неузнаваемо переменился и сам Доминик. С каждой секундой Доминику все больше становилось не по себе. Он не мог понять мотивов самоубийства Ломака, не мог поставить себя на его место, но отлично представлял себе, какого рода ужас тот испытывал. Это сонмище лун действовало крайне угнетающе, от него мороз пробегал по коже. Лунная поверхность не зачаровывала Доминика, как Ломака, но, глядя на снимки, он вдруг осознал, что его собственные странные сны и поведение самоубийцы обусловлены одним и тем же. Они оба испытали нечто, связанное с Луной, и произошло это позапрошлым летом в одном и том же месте, где они оказались по роковому стечению обстоятельств. Ломак сошел с ума в результате стресса, вызванного искусственно подавленными воспоминаниями. Неужели и его, Доминика, ждет безумство? И еще одна мысль пришла ему в голову: а что, если Ломак покончил с собой, не отчаявшись избавиться от навязчивого увлечения Луной, а потому, что пришел в ужас, вспомнив наконец роковые события, свидетелем которых он невольно стал позапрошлым летом? В таком случае реальность должна быть гораздо страшнее окутывающей ее тайны. Значит, если правда выплывет наружу, кошмары и лунатизм покажутся пустяками по сравнению с ней. Вид бесчисленных лун все больше угнетал Доминика, ему уже не хватало воздуха в столовой. В окружающих его снимках таиласьсмертельная угроза. Доминик не выдержал и выбежал в коридор. У двери гостиной он споткнулся о кипу книг и упал. Некоторое время он лежал не двигаясь, потом его сознание прояснилось, и он увидел слово «Доминик», нацарапанное на одном из плакатов фломастером. Он не заметил эту надпись, когда входил сюда раньше со стороны кухни, но теперь она была у него перед глазами. По спине Доминика пробежал холодок. Надпись была сделана скорее всего рукой Ломака, и вряд ли это было случайным совпадением. Доминик поднялся с пола и, подойдя поближе к плакату, остановился в нескольких шагах от него. Осветив стену фонариком, он увидел рядом еще имена. Доминик, Джинджер, Фэй, Эрни. Эти три имени ничего ему не говорили. Вспомнилась сделанная «Поляроидом» фотография толстого священника. Не его ли зовут Эрни? А блондинка, привязанная ремнями к кровати? Может быть, это Джинджер? Или Фэй? Внезапно в нем шевельнулось какое-то смутное и страшное (даже мурашки побежали по коже) воспоминание, но тотчас же снова спряталось где-то в подсознании, словно тень огромного морского чудовища. — Почему я не могу вспомнить? — закричал он, и эхо гулко разнеслось по всему дому. Конечно же, Доминик знал ответ на свой вопрос: кто-то внедрился в его память и выскреб из нее нежелательные моменты. И все же он продолжал кричать голосом, полным ярости и страха: — Почему я не могу вспомнить? Я должен вспомнить! Он вытянул руку в направлении плаката, словно бы желая впитать воспоминания, под влиянием которых Ломак выводил, буква за буквой, его имя, и прорычал: — Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты, кто бы вы ни были! Я вспомню! Я обязательно вспомню! Я вспомню вас, сукины дети! Мерзавцы! Я вспомню! Внезапно, совершенно необъяснимым образом, плакат с его именем отделился от стены. Он был приклеен по углам четырьмя полосками липкой ленты, и эта лента вдруг отскочила с треском расстегиваемой «молнии», словно от порыва сильного ветра, а сам плакат, покачиваясь и шелестя, поплыл по воздуху прямо на него. Доминик попятился и чуть вновь не споткнулся о стопку книг. Дрожащий луч фонарика высветил на уровне глаз Доминика листок бумаги: то скручиваясь, то распрямляясь, плакат без постороннего воздействия завис в воздухе. «Галлюцинация», — с отчаянием подумал Доминик. Но это происходило на самом деле! У него перехватило дыхание, холодный воздух вдруг сгустился, словно сироп, и дышать им стало невозможно. Плакат подплыл ближе. Руки Доминика тряслись. Отраженный от глянцевой бумаги свет резал глаза. Время словно бы остановилось. И вдруг в мертвой тишине дома раздался треск десятков расстегиваемых «молний»: один за другим плакаты начали отклеиваться от стен и потолка, и вся армада лун со зловещим шелестом двинулась на остолбеневшего Доминика. Крик удивления и испуга вырвался из его груди, и он вновь обрел способность дышать. От стены отделился последний плакат, и пятьдесят листов плотной бумаги застыли неподвижно между полом и потолком, словно прилипнув к чему-то невидимому. В доме покойного картежника воцарилась глубокая, словно в опустевшем храме, тишина. Казалось, эта тишина наполняет каждую клеточку тела Доминика, стремясь вытеснить даже неслышное журчание крови в его жилах. Затем, словно это были пятьдесят деталей единого механизма, все плакаты вдруг разом зашевелились, захрустели и зашуршали. И, хотя Доминик не почувствовал ни малейшего дуновения ветра, они начали кружиться по комнате, словно лошадки карусели. В центре этой волшебной круговерти застыл Доминик, а вокруг него проносились ожившие изображения Луны. Они скручивались в трубочки и вновь раскручивались, сгибались и распрямлялись, то ускоряя, то замедляя свой полет, постоянно меняя облик, кружась все быстрее и быстрее, то опускаясь, то поднимаясь, пока не слились в один сплошной переливающийся круг, оживший, словно метлы в старинной сказке, по мановению волшебной палочки. Страх в сердце Доминика сменился удивлением. Ему даже стало казаться, что в этом явлении вообще нет ничего страшного. Его вдруг обуял дикий восторг. Он не искал объяснения тому, что видел, а просто восторженно созерцал непознанное, утешаясь тем, что стал свидетелем проявления доброй волшебной силы, и медленно поворачиваясь вместе с совершающими все новые и новые круги изображениями Луны, пока наконец истерически не расхохотался. Поведение плакатов тотчас же резко переменилось: с ужасающим шумом они набросились на Доминика, будто злобные летучие мыши. Они кружились вокруг его головы, колотили по спине, и он, прикрыв одной рукой лицо, начинал отбиваться от них фонариком. Однако плакаты не отступали, а с еще большим ожесточением нападали на него, сталкиваясь в воздухе и издавая громкий шелест. Доминик в панике заметался по комнате, пытаясь вырваться из нее, но никак не мог различить в мелькании сбесившихся плакатов ни окон, ни дверей. Он бросался из угла в угол, совершенно потеряв ориентацию. Шум усилился: в коридоре и в других комнатах от стен начали отделяться другие плакаты и фотографии, уже тысяча лун пришла в движение, за ней — вторая, все они зависли в воздухе и устремились в столовую, где окружили Доминика и с нарастающим ревом завертелись вокруг него. Глянцевые вырезки из журналов и вырванные из книг цветные иллюстрации сверкали и переливались, проносясь с треском и шуршанием сквозь луч фонарика по замкнутой орбите, создавая иллюзию огненного кольца, а черно-белые снимки сыпались с потолка, словно огромные хлопья сажи и пепла. Задыхаясь, Доминик хватал ртом холодный воздух, невольно втягивая в себя листы бумаги, и отчаянно выплевывал их, но вместо них лезли все новые и новые. Тысячи листов бумаги сгрудились вокруг него, слой за слоем, он отбрасывал их руками, но безуспешно. У него вдруг мелькнула мысль, что все происходящее не случайно, что вся эта невообразимая заваруха поднята кем-то или чем-то специально, чтобы помочь ему припомнить все то, что он напрочь забыл. Он не имел ни малейшего представления, какая сила лежит в основе этого феномена, но интуитивно чувствовал, какая преследуется цель. Если он позволит той лунной круговерти увлечь себя, то наконец поймет свои сны, их первопричину, узнает, что случилось с ним на шоссе восемнадцать месяцев назад. Но он был слишком напуган, чтобы позволить ввергнуть себя в транс мелькающим перед глазами лунам. Он жаждал откровения, но и боялся его, и поэтому закричал: — Нет! Нет! — Он зажмурился и зажал руками уши. — Нет! Довольно! — крикнул он изо всех сил. — Остановитесь! Стойте! И, словно по взмаху палочки невидимого дирижера, жуткая лунная какофония оборвалась, достигнув кульминации, и все стихло. Пораженный, Доминик открыл глаза и опустил руки. Плакаты и фотоснимки тихо порхали в воздухе. Дрожащей рукой Доминик взял одну из фотографий, внимательно осмотрел и ощупал ее, но ничего необычного не обнаружил. Тем не менее этот кусочек плотной глянцевой бумаги, как и тысячи ему подобных, непонятным образом зависал и кружился в воздухе. — Но как? — осевшим голосом спросил Доминик, словно бы фотографии обладали способностью еще и говорить. — Почему? Все луны разом, словно внезапно распались волшебные чары, упали на пол, образовав груды бумаги, лишенной какой-либо таинственной силы. Окончательно сбитый с толку, в полуобморочном состоянии, Доминик прошаркал к двери, ступая по лунам, как по жухлой листве, и вышел в коридор. Стены коридора были совершенно голыми, без всяких следов изображения лунной поверхности. Доминик вернулся в гостиную и, опустившись на колени, принялся ощупывать трясущимися руками фотографии, пытаясь осознать, что же он видел. Внутри его страх боролся с удивлением и благоговением. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного. Ему то хотелось просто глупо хихикать, то становилось жутко, так, что замирало сердце, то казалось, что он стал свидетелем проявления чудовищного зла, то вдруг охватывало ощущение несказанной чистоты и доброты. Зло? Добро? Возможно, и то и другое… или ни то, ни другое. Просто, скажем так, нечто. Нечто таинственное, не поддающееся описанию, нечто такое, что нельзя выразить словами. Он знал лишь одно: случившееся с ним позапрошлым летом было значительно загадочней всех его самых смелых предположений. Все еще ощупывая пальцами бумагу, он заметил на ладонях нечто необычное и, поднеся их поближе к лежащему на полу фонарику, увидел кольца. На каждой ладони краснело по кольцу, ровному, словно оттиск клейма. На его глазах стигматы поблекли и исчезли. Это был вторник, 7 января.6
Чикаго, ИллинойсВ своей спальне на втором этаже домика для священников при церкви Святой Бернадетты отец Стефан Вайцежик проснулся от стука барабана. Звук был глубоким и гулким. Казалось, стучало огромное сердце, хотя и в несколько необычном ритме: «ЛАБ-ДАБ-ДАБ… ЛАБ-ДАБ-ДАБ… ЛАБ-ДАБ-ДАБ…» Заинтригованный, отец Стефан включил лампу и, щурясь от света, посмотрел на будильник. Было семь минут третьего ночи, четверг, совсем не подходящее для парада время. ЛАБ-ДАБ-ДАБ-ЛАБ-ДАБ-ДАБ… Трехсекундная пауза после каждых трех ударов, и снова три удара, в том же ритме. Это уже смахивало не на стук барабана, а на работу огромного механизма. Отец Вайцежик выбрался из-под одеяла и босиком прошлепал к окну, выходящему на внутренний двор, разделявший домик и церковь. В отблеске лампы над дверью в ризницу он разглядел лишь снег и голые стволы деревьев. Удары становились все громче, а пауза между сериями сократилась до двух секунд. Отец Вайцежик взял со спинки стула подрясник и натянул его поверх пижамы. Стук уже не удивлял, а пугал его, в доме от него дрожали стекла и дверь. Отец Стефан торопливо вышел в коридор и, нащупав в темноте выключатель, включил верхний свет. В глубине коридора отворилась другая дверь, и из своей комнаты выскочил, на ходу натягивая подрясник, взлохмаченный отец Майкл Джеррано, второй помощник отца Вайцежика. — Что это? — испуганно спросил он. — Не знаю, — только и мог промолвить отец Стефан. Следующие три удара сотрясли весь дом — он задрожал, словно от удара огромной кувалдой, но не резкого, звонкого, а приглушенного, словно кувалду обернули войлоком. Лампочки замигали. Теперь между тремя ударами был интервал не более секунды, эхо от них не успевало стихнуть. Лампочки замигали вновь, грозя вообще погаснуть, а пол задрожал. Оба священника одновременно уловили источник звука: он шел из комнаты Брендана Кронина. Подкравшись к его двери, находившейся прямо напротив комнаты отца Джеррано, они заглянули внутрь. Невероятно, но Брендан крепко спал. Спал безмятежным сном, несмотря на громоподобный грохот, напомнивший отцу Вайцежику минометный обстрел во Вьетнаме. Мало того, в мигающем отблеске лампы было видно, что он улыбается во сне. Оконные стекла задрожали. Зазвенели крючки на карнизах штор. На туалетном столике подскочила щетка для волос и звякнули монетки, а требник Брендана скользнул сперва влево, а потом вправо. Распятие на стене качнулось, словно маятник, и едва не сорвалось с крючка. Отец Джеррано что-то крикнул, но настоятель не расслышал, что именно: грохот слился в сплошной глухой гул, напоминающий больше не стук гигантского барабана, а пульсацию огромной мощной машины, с таинственной целью спрятанной в стенах дома. Требник в конце концов соскользнул со столика на пол, а следом посыпалась мелочь. С вытаращенными глазами отец Джеррано попятился к выходу, готовый умчаться прочь. Но отец Стефан решительно подошел к кровати, на которой безмятежно спал молодой священник, и громко окликнул его. Не добившись успеха, он принялся трясти Брендана за плечо. Только тогда огненноволосый кюре открыл глаза. Стук тотчас же прекратился. Эта внезапная тишина потрясла отца Вайцежика не меньше, чем разбудивший его шум. Он отпустил плечо своего помощника и с подозрением оглядел комнату. — Я был уже совсем рядом, — мечтательно проговорил не проснувшийся окончательно Брендан. — Лучше бы вы не будили меня. Я был так близко! Отец Стефан отдернул одеяло, схватил руки своего помощника и повернул их ладонями вверх. На каждой ладони выступили ярко-красные кольца. Священник завороженно уставился на них, потому что видел стигматы впервые. «Что же все это значит?» — подумал он. Тяжело дыша, к кровати подошел отец Джеррано. — Что это такое? — спросил он, уставившись на кольца. Не обращая на него никакого внимания, отец Стефан спросил Брендана: — Что это был за звук? Откуда он исходил? — Он звал меня, — низким сонным голосом произнес Брендан и добавил с тихим восторгом: — Звал меня назад! — Что это было? — повторил свой вопрос отец Стефан. Брендан заморгал, сел в постели, прислонившись спиной к спинке кровати, и впервые взглянул на отца Вайцежика осмысленным взглядом. — А что случилось? Вы тоже это слышали? — Как ни странно, да, — сказал отец Стефан. — От этого грохота сотрясался весь дом. Удивительно! Что это было, Брендан? — Зов. Он звал меня, я шел на него. — Куда? — Я… я не знаю. Куда-то, где я уже был однажды… — Где ты был? — Там, где свет, — нахмурился Брендан. — Золотистый свет, как в том сне, о котором я вам рассказывал. — О чем вы говорите? — спросил отец Джеррано с дрожью в голосе. Для него все эти чудеса были еще внове. — Кто-нибудь объяснит мне наконец, в чем дело? Но коллеги продолжали игнорировать его. — Этот золотой свет, — обращаясь к Брендану, произнес вкрадчиво отец Стефан, — что это такое? Может быть, это Господь звал тебя назад в церковь? — Нет, — замотал головой Брендан. — Это было нечто другое. Может быть, в следующий раз я разгляжу получше. — Ты думаешь, это повторится? — присаживаясь на край кровати, спросил отец Вайцежик. — Думаешь, ты снова услышишь этот зов? — Да, — ответил Брендан. — Непременно. Это случилось в четверг, 9 января.
7
Лас-Вегас, НевадаВ пятницу после полудня Жоржа Монтанелла работала в казино. Там она и узнала, что ее бывший муж Алан Райкофф покончил с собой. Новость сообщила ей по телефону сожительница Алана Пеппер Каррафилд. Шум в зале мешал Жорже, и она зажала второе ухо ладонью: ее подозвали к аппарату на одном из карточных столиков, за которым вовсю кипели страсти. Когда Жоржа услышала, что Алан мертв, у нее закружилась голова, но сожаления она не почувствовала. Этот жестокий эгоист сделал все, чтобы она не испытывала его. — Он застрелился сегодня утром, — объяснила Пеппер, — два часа назад. Сейчас здесь полиция. Тебе нужно приехать. — Я нужна полиции? — удивилась Жоржа. — Зачем? — Нет-нет, — успокоила ее Пеппер. — Полиции ты не нужна. Ты должна приехать и забрать его вещи. Я не намерена их здесь сторожить. — Но мне не нужны его вещи! — Все равно ты должна это сделать, нужны они тебе или нет. — Мисс Каррафилд, я не испытываю ни малейшего желания… — начала было заводиться Жоржа, но Пеппер не дала ей закончить: — На прошлой неделе он написал завещание, теперь ты его душеприказчик, так что придется приехать. Я хочу, чтобы ты немедленно освободила от его барахла мою квартиру. Это твоя обязанность. Алан жил с Пеппер Каррафилд в высотном кооперативном доме на Фламинго-роуд, где эта «девушка по вызову» имела квартиру. Это был 15-этажный монолит из белого бетона с бронированными окнами. На фоне пустынных окрестностей башня казалась даже выше, чем была на самом деле, и, быть может, благодаря своему одиночеству странным образом напоминала некий монумент, самое большое в мире и самое одиозное надгробие. Газоны и цветочные клумбы, за которыми некому было следить, поросли чахлой растительностью и выглядели просто убого среди гор песка и мусора. Холодный и сырой ветер трепал на пустыре перекати-поле, тоскливым завыванием завершая унылую картину. Напротив здания стояли две полицейские и одна санитарная машины, но в подъезде полицейских не было: на кушетке напротив лифтов устроилась молодая дама, а за столом возле дверей сидел мужчина в серых слаксах и синем блейзере — охранник и консьерж. Мраморный пол, хрустальные люстры, восточный ковер, резная мебель, латунные двери лифта дополняли напыщенный декор, слишком вызывающий, чтобы называться изысканным, но претендующий на это. Едва Жоржа обратилась к консьержу с просьбой доложить о ее прибытии, как дама встала с кушетки и подошла к ней: — Миссис Райкофф, я — Пеппер Каррафилд. Э-э… Я полагаю, теперь ты снова взяла свою девичью фамилию? — Монтанелла, — сказала Жоржа. Подобно зданию, в котором она жила, Пеппер претендовала на уровень обитателей 5-й авеню, но ее потуги были еще менее удачны, чем фантазии дизайнеров, трудившихся над интерьером «высотки». Ее волосы были подстрижены в нарочито небрежном стиле, столь любимом блондинками легкого поведения, — возможно, это объясняется чисто профессиональными причинами: когда приходится скакать из постели в постель, довольно обременительно следить за прической. На Пеппер была фиолетовая блузка, вполне возможно, что и от Халстона, но впечатление смазывал непомерно большой бюст, выпирающий из-под расстегнутых пуговиц. Ее серые слаксы были хорошо скроены, но слишком плотно облегали бедра. Золотые часики с бриллиантами фирмы «Картье» на запястье смотрелись бы весьма элегантно, если бы не четыре кольца с бриллиантами на пальцах: для одной руки это было, согласитесь, многовато. — Я не смогла оставаться в квартире. — Пеппер взмахом руки пригласила Жоржу присаживаться на кушетку. — Пока они не вынесут труп, я не войду туда. — Она поежилась. — Мы можем побеседовать и здесь, если будем говорить тихо. — Она кивнула на консьержа. — Но, если ты намерена устроить сцену, я просто встану и уйду. Ты меня поняла? Здесь не знают, как я зарабатываю свой хлеб, и я не намерена разочаровывать их. Я работаю исключительно по вызову. Жоржа взглянула в ее пустые серо-зеленые глаза и сказала: — Если вы думаете, что перед вами униженная страдающая жена, то вы заблуждаетесь, мисс Каррафилд. Не волнуйтесь, Алан мне уже давно безразличен. Даже его смерть не тронула меня. Я не горжусь, конечно же, этим, я когда-то его любила, у нас замечательная дочка. Мне следовало бы хоть что-то чувствовать, но я, к сожалению, не чувствую ровным счетом ничего. И я не собираюсь устраивать никаких сцен. — Великолепно, — откликнулась Пеппер, явно довольная услышанным, но тотчас же забывшая ту семейную трагедию, о которой ей поведала Жоржа, поскольку была занята исключительно собой и собственными проблемами. — Здесь полно людей из высшего света, понимаешь? И когда они узнают, что мой любовник покончил с собой, они надолго позадирают носы. Такие люди не переносят скандалов. А если к тому же станет известно, как я зарабатываю свой хлеб… ну, тогда мне уже здесь не жить. Ты меня понимаешь? Придется переехать, а этого мне очень не хотелось бы. Совершенно не хотелось бы, моя милочка. Мне здесь оч-чень нравится. Жоржа посмотрела на обвешанные бриллиантами руки Пеппер, на ее вызывающе глубокий вырез, взглянула в ее алчные глаза и сказала: — А что, вы полагаете, они принимают вас за богатую наследницу? Не уловив сарказма, Пеппер от удивления раскрыла рот: — Да. А как ты догадалась? Я заплатила за квартиру стодолларовыми банкнотами, сразу всю сумму, пусть думают, что я из обеспеченной семьи. Жоржа не стала объяснять ей, что богатые наследницы не расплачиваются за квартиру пачками сотенных, а просто сказала: — Может быть, поговорим об Алане? Что произошло? У него были неприятности? Я никогда бы не подумала, что Алан способен наложить на себя руки. Бросив на консьержа настороженный взгляд и убедившись, что он не оставил свой пост и не может слышать их разговор, Пеппер затараторила: — Я тоже так не думала, милочка. Я никогда не считала его способным на такое. Это был настоящий самец. Поэтому-то я и хотела, чтобы он жил вместе со мной, заботился обо мне, был моим менеджером. Сильный, крепкий парень. Правда, несколько месяцев назад он начал вдруг странно себя вести, а в последнее время совсем опустился, так что я уже подумывала, не подыскать ли себе другого менеджера. Но я не ожидала, что он подложит мне такую свинью… Вот ведь как можно вляпаться, правда? — Некоторые люди не привыкли считаться с другими, — заметила Жоржа и, не дав проститутке и рта открыть, продолжала: — Должна ли я понимать вас так, что Алан был вашим сутенером? — Послушай, милочка, — нахмурилась Пеппер, — мне не требуется сутенер. Это дешевым шлюхам нужен сутенер, а я не дешевка. Шлюхи работают за пятьдесят долларов и пропускают по десять мужиков в день и потом полжизни залечивают триппер. Это не для меня, сестренка. Я оказываю эскорт-услуги джентльменам со средствами. Мой телефон есть в самых дорогих отелях, в прошлом году я намолотила двести тысяч зеленых. Что ты на это скажешь? У меня есть капиталовложения, а у дешевых потаскушек их не бывает. Алан не был моим сутенером, он был моим управляющим. Он занимался еще и делами двух моих приятельниц, я его с ними познакомила, когда он еще не задвинулся и был в форме. Несколько озадаченная таким очевидным ее заблуждением на собственный счет, Жоржа спросила: — Алан брал вознаграждение за свои услуги — с вас и тех двоих? Слегка смягчившись, Пеппер выпалила не без тщеславия: — Нет. Таков был наш уговор. Он ведь работал в казино, там он делал деньги. У него были связи, но за свои услуги он ничего не требовал, кроме бесплатной любви. Он был очень похотлив, по-моему, слегка задвинут на сексе. Ему всегда было мало. С тобой он тоже был таким, милочка? По правде говоря, в последние две недели он так меня достал, что я уже начала подумывать, не замочить ли его. Он доводил меня и себя до полного изнеможения, пока уже не способен был что-либо сделать. Тогда он начинал смотреть видеопорнуху. Жоржа вдруг разозлилась на Алана за то, что он, сделав ее своим душеприказчиком, вынудил выслушивать все эти мерзкие подробности. Она злилась еще и потому, что нужно было как-то объяснить его смерть дочери, а девочка и без того была на грани психического срыва. На Пеппер Каррафилд она тоже, в общем-то, скорее не рассердилась, а разозлилась, потому что даже такой человек, как Алан, заслуживал хоть какого-то уважения и сожаления со стороны той, с которой жил, но от этой акулы и этого трудно было ожидать: что ж, нельзя осуждать хищников за то, что они хищники. Двери одного из лифтов распахнулись, и из него вывалились полицейские и санитары, катившие тележку с трупом в мешке. Жоржа и Пеппер поднялись с кушетки. Тотчас же подъехал другой лифт, и из него вышли еще четверо полицейских, двое из них были в форме, а двое других — в штатском, видимо, детективы. Один из них подошел к Пеппер Каррафилд и стал задавать вопросы. Жоржу никто ни о чем не спросил. Она в полном оцепенении молча смотрела на пластиковый мешок, в котором лежал труп ее бывшего мужа. Тележку подкатили к дверям. Двое полицейских подержали створки, пропуская санитаров на улицу. Жоржа проводила тележку взглядом, и ей стало грустно и немного обидно оттого, что так все кончилось. А ведь могло быть и совсем иначе… Пеппер крикнула ей из лифта, держа дверь открытой: — Давай поднимемся ко мне! Все время, пока они понимались на лифте на 14-й этаж и даже в коридоре, но только слегка понизив голос, Пеппер продолжала описывать сексуальную неуемность Алана. В последние дни жизни он буквально помешался на сексе. Жорже было противно все это выслушивать, но заткнуть рот проститутке было просто невозможно, так что приходилось терпеть. В последние недели Алана ничего не интересовало, кроме любовных утех. Он целыми днями готов был не вылезать из постели, отпрашивался, сказавшись больным, на работе и проводил время в объятиях Пеппер или ее подружек, доводя их своими фантазиями до исступления. Пеппер взахлеб перечисляла ухищрения, к которым прибегал Алан: всевозможные штучки из секс-магазинов, наручники, туфли на шпильках, специальное белье, возбуждающие препараты… — Пожалуйста, прекратите! — взмолилась наконец Жоржа, у которой после созерцания мешка с трупом и без того дрожали коленки и кружилась голова. — Зачем все это теперь? Он мертв, слава богу! — Мне казалось, тебе будет интересно об этом узнать. Он тратил уйму денег на свои забавы. А поскольку ты распорядитель его наследства, тебе следовало бы это знать, моя милочка. Последняя воля и завещание Алана Райкоффа, оставленное им Пеппер на хранение, было написано на обычном бланке, который можно купить в любом магазине канцелярских принадлежностей. Жоржа села на модный кобальтово-синий стул за лакированным черным столиком и пробежала завещание. Самое удивительное в нем было не то, что Алан назначил Жоржу душеприказчиком, но то, что он оставлял все имущество Марси, хотя раньше и отказывался признать свое отцовство. Усевшись возле окна на черном лакированном стуле с белой спинкой, Пеппер заметила: — По моим расчетам, после него не так уж и много осталось. Он довольно свободно тратил деньги. Но есть машина, драгоценности. Жоржа обратила внимание на дату: нотариус заверил документ всего четыре дня назад. — Он, видимо, все заранее решил, — сказала она, поеживаясь, — иначе не стал бы этого делать. — Думаю, так, — снова передернула плечами Пеппер. — Неужели вы ровным счетом ничего не заметили? Никаких перемен в его настроении? — Я же говорила, что в последние два месяца он вообще был каким-то странным, милочка. — Да, но в последние-то дни должны же были в нем произойти какие-то резкие перемены! Вы не удивились, когда он отдал вам на хранение завещание? И ничего странного не заметили в его поведении, во взгляде, умонастроении? Пеппер нетерпеливо вскочила с места. — Я не психолог, милочка! Его барахло в спальне. Если хочешь отдать его одежду в благотворительный фонд, я позвоню туда. Другие вещи можешь забрать прямо сейчас. Пошли, я все тебе покажу. Жоржу тошнило от рассказов о моральном разложении Алана, но одновременно с этим она чувствовала себя отчасти виноватой в его смерти. Могла ли она как-то предотвратить трагедию? Предсмертный трогательный жест Алана свидетельствовал о том, что перед самоубийством он думал о них с Марси. Она попыталась припомнить, как звучал его голос, когда она с ним разговаривала по телефону перед Рождеством, как она с ним говорила. Тогда ей запомнился его холодный, вызывающий, эгоистичный тон, но, может быть, за этой показной жесткостью и бравадой скрывались иные, более тонкие чувства: смущение, одиночество, страх. Размышляя над этим, она вслед за Пеппер направилась в спальню. Как ни странно ей было рыться в вещах покойного, это нужно было сделать. Дойдя до половины коридора, Пеппер остановилась возле одной из дверей и, толкнув ее, воскликнула: — Проклятые фараоны! Ты только полюбуйся, в каком виде они оставили ванную! Только теперь, заглянув через ее плечо, Жоржа поняла, что это та самая ванная, в которой Алан убил себя. Бежевая кафельная плитка пола, стены, стеклянная дверь душевой, раковина, полотенца, унитаз и бачок для мусора — все было забрызгано кровью. — Он дважды выстрелил в себя. Сперва в промежность, потом в рот. Как это понимать? — спросила Пеппер, хотя Жоржа меньше всего хотела бы теперь слышать детали самоубийства, явственно ощущая тошнотворный запах засохшей крови. — Эти чертовы фараоны могли бы навести здесь порядок, — продолжала бубнить Пеппер, как будто полицейские должны быть вооружены не только пистолетами, но и щетками и мылом. — Моя горничная появится только в понедельник. И вряд ли ей захочется возиться с этой пакостью. Жоржа наконец оторвала застывший взгляд от окровавленной ванной и попятилась от двери. — Эй, — окликнула ее Пеппер. — Тебе плохо? Жоржа судорожно вздохнула и, стиснув зубы, быстро сделала несколько шагов по коридору и прислонилась спиной к косяку одной из дверей. — Эй, милочка, да ты все еще сохнешь по нему, верно? Надеялась, что он вернется? — Нет, — тихо промолвила Жоржа. Пеппер подошла к ней и положила руку ей на плечо, отчего Жоржа невольно поежилась. — Меня не проведешь! Извини, ради бога! — Пеппер сделала сочувственную мину. «Интересно, она вообще способна на какие-то искренние чувства? Просто так, без всякой корысти?» — подумала Жоржа, едва сдерживаясь, чтобы не закричать: «Ты, тупая стерва, пойми же наконец, что он был человеком! Как можно быть такой бессердечной? Ну почему ты такая?» Но вместо этого она сказала: — Со мной все в порядке. Все в порядке. Где его вещи? Я хочу разобрать их и поскорее уйти отсюда. Пеппер провела ее в спальню — та оказалась как раз за дверью, к которой прислонилась Жоржа, и выдвинула нижний ящик гардероба. Сердце Жоржи бешено заколотилось. Двигаясь словно во сне, она обошла кровать и взглянула завороженно на книги Алана: на корешке двух из полудюжины лежавших на ночном столике книг она прочла слово «Луна». Дрожащими руками она пролистала остальные книги и, к своему изумлению, убедилась, что все они посвящены той же теме. — Что-нибудь не так? — спросила Пеппер. Жоржа подошла к туалетному столику, взяла в руки глобус размером с баскетбольный мяч, с тянущимся от него к розетке шнуром, и щелкнула выключателем — шар засветился ровным матовым светом. Это был не земной, а лунный глобус, с контурами и названиями кратеров, долин и горных хребтов. Жоржа поставила глобус на место и крутанула его. Затем взгляд ее упал на лежащий на стуле возле столика телескоп. Это был самый обыкновенный любительский телескоп, но ей он показался каким-то зловещим и опасным орудием. — Это все вещи Алана, — пояснила Пеппер. — Он увлекался астрономией? — спросила Жоржа. — Как давно? — Последние два месяца. Это совпадение интересов и состояний дочери и бывшего мужа насторожило Жоржу. Марси вдруг стала панически бояться врачей. Алан задвинулся в сексе. В обоих случаях, несмотря на существенные различия, просматривался общий момент — одержимость. Возможно, Марси и вылечилась от невроза страха. Алану не повезло, ему некому было помочь, и он пустил себе пулю сперва в овладевшие его сознанием половые органы, а потом и в мозг. Жоржа содрогнулась: каким образом к этим странным напастям прибавилось еще и увлечение Луной? Алан не видел Марси уже полгода, последний раз они разговаривали по телефону в сентябре, задолго до того, как у них появился болезненный интерес к этой спутнице Земли, причем появился у каждого в одно и то же время, абсолютно спонтанно на первый взгляд. Но случайное ли это совпадение? — Вы не знаете, его мучили кошмары? Не снилась, к примеру, Луна? — Точно. А как ты догадалась? Ему действительно снилась Луна, но, проснувшись, он не мог вспомнить подробностей. Это началось… пожалуй, в конце октября. А почему ты спросила? — Это были очень страшные сны? — Не то чтобы страшные, — покачала головой Пеппер. — Я слышала, как он разговаривал во сне. Иногда его голос звучал испуганно, но случалось, что он улыбался. По спине Жоржи пробежал холодок. Она обернулась и посмотрела на светящуюся модель Луны. «Что за чертовщина происходит? — подумала она. — Разве бывает, что люди видят один и тот же сон? Что все это значит?» — С тобой все в порядке? — встревоженно спросила Пеппер. Что-то толкнуло Алана на самоубийство. А что может случиться с Марси?
8
Суббота, 11 января Бостон, МассачусетсПохороны Пабло Джексона состоялись в субботу 11 января, в одиннадцать утра, спустя пять дней после его убийства: коронер и судмедэксперт закончили работу только в четверг. После панихиды в часовне на кладбище пришедшие проститься с покойным перешли к могиле, где уже стоял гроб. Снег вокруг могилы расчистили, но места всем все равно не хватало, так что многим пришлось стоять, увязая по щиколотку в глубоком рыхлом снегу. Собралось не менее трехсот человек из самых различных слоев общества — богатых и бедных, знаменитых и неизвестных. Джинджер Вайс и Рита Ханнаби стояли в первом круге обступивших могилу. В последние дни Джинджер плохо спала и почти ничего не ела, она была бледной, выглядела издерганной и усталой. Рита и Джордж пытались отговорить ее от присутствия на похоронах, опасаясь нового нервного срыва, но полицейские попросили Джинджер непременно прийти, предполагая, что в толпе может оказаться убийца. По соображениям собственной безопасности она скрыла от полиции правду, представив все как обычное ограбление. А грабители, случается, приходят посмотреть на похороны своей жертвы. Но Джинджер знала, что убийца не был грабителем и не станет так глупо рисковать. Во время службы Джинджер плакала, но, выйдя из часовни, взяла себя в руки, хотя чувство собственной вины и сжимало ее сердце. Она была полна решимости достойно отдать последний долг Пабло и не устраивать цирковое представление. Кроме того, она надеялась встретиться на кладбище с Александром Кристофсоном — бывшим послом в Великобритании, бывшим сенатором США и бывшим директором ЦРУ, с которым ей необходимо было переговорить. Именно к нему Пабло обратился за советом, и именно он рассказал старому фокуснику о «Блокаде Азраила». Джинджер хотела задать Кристофсону всего лишь один, но очень важный вопрос, хотя возможный ответ и пугал ее. Она тотчас же узнала его, увидев в часовне: Кристофсона нередко показывали раньше по телевидению, его фотографии печатались в газете. Он обладал незаурядной внешностью, его трудно было с кем-то спутать: высокий худой седоволосый старик стоял теперь по другую сторону могилы, разделяющей их, еще не зная, что хрупкая блондинка напротив и есть невольная виновница гибели его давнего друга. Священник произнес короткую прощальную молитву, и люди начали расходиться, группами или поодиночке направляясь через лес надгробий к автостоянке. — Мне нужно поговорить вон с этим человеком, — торопливо пояснила Джинджер Рите. — Я скоро вернусь. И, не обернувшись на встревоженный оклик Риты, она решительно пошла следом за Кристофсоном. Догнав его возле громадного развесистого дуба, бросавшего на слепящий снег мрачную тень, Джинджер окликнула его по имени. Кристофсон обернулся, его проницательные серые глаза расширились, когда Джинджер представилась ему. — Ничем не могу вам помочь, — сухо сказал он, повернувшись, чтобы уйти, но она удержала его, уцепившись за рукав. — Прошу вас! Ели вы считаете, что я виновата в том, что случилось с Пабло… — А почему вас должно волновать, что я думаю, доктор? — вскинул брови Кристофсон. — Подождите, — сжала она его руку, — ради бога умоляю… Кристофсон метнул взгляд на медленно расползающуюся толпу, и Джинджер поняла: он боится, как бы их не заметил кто-то совсем нежелательный и не подумал при этом, что он намерен помочь ей, как это делал Пабло. Его голова слегка вздрогнула, и она сперва решила, что он кивнул в подтверждение ее догадки, но быстро сообразила, что это было проявлением болезни Паркинсона. — Доктор Вайс, — произнес Кристофсон, — если вы хотите, чтобы я в некотором роде отпустил вам грехи, то вам следует знать, что Пабло понимал, что рискует, и сознательно пошел на этот риск. Он сам распорядился своей жизнью. — Он действительно отдавал себе отчет в том, что это опасно? — переспросила Джинджер. — Это очень важно для меня. — Я сам предупреждал его, — нахмурился Кристофсон. — Предупреждали — о чем? Или о ком? — Я не знаю, о чем или о ком конкретно, но, судя по тому, какие усилия были приложены, чтобы нейтрализовать вашу память, вы видели нечто чрезвычайно важное. Я предупреждал Пабло, что, кто бы ни промывал вам мозги, это были не любители. И, как профессионалы, эти люди сознавали, что вы с Пабло пытаетесь сломать «Блокаду Азраила», и не могли не принять соответствующие меры в отношении вас обоих. — Кристофсон посмотрел Джинджер прямо в глаза: — Ведь он рассказал вам о нашем разговоре, не так ли? — Он рассказал мне все, за исключением того, что вы предупредили Пабло о грозящей ему опасности. — На глаза Джинджер снова навернулись слезы. — Он ни словечком не обмолвился об этом. Кристофсон извлек из кармана дрожащую руку и ободряюще сжал плечо Джинджер: — Теперь, когда вы мне это сказали, доктор, я снимаю с вас всякие обвинения. — И все же это я во всем виновата, — тонким голоском вымолвила Джинджер и всхлипнула. — Нет. Вам не в чем себя винить. — Оглянувшись по сторонам, Кристофсон расстегнул две верхние пуговицы пальто, достал из нагрудного кармана платок и протянул Джинджер. — Прошу вас, перестаньте корить себя, доктор Вайс. Наш друг прожил долгую и счастливую жизнь. Его смерть была ужасной, но сравнительно быстрой, на его счастье. Промокнув слезы светло-голубым шелковым платочком, Джинджер сказала: — Это был редкий человек. Исключительный. — Да, это так, — согласился Кристофсон. — И я начинаю понимать, почему он пошел на такой риск, помогая вам. Он говорил мне, что вы — удивительная женщина, и я вижу, что он был, как всегда, точен в своей оценке. Джинджер наконец вытерла глаза досуха и начала успокаиваться. — Спасибо. А что дальше? Куда мне теперь идти? — спросила она, обращаясь не столько к собеседнику, сколько к самой себе. — Ничем не могу помочь, — пожал плечами Кристофсон. — Уже десять лет, как я отошел от разведки, и у меня не сохранилось там никаких связей. Я не имею ни малейшего представления о том, кто может стоять за блокадой вашей памяти и кому это понадобилось вообще. — Я и не собиралась просить вас о помощи! Хватит рисковать чужими жизнями! Я только подумала, что вы могли бы дать мне совет, как лучше поступить. — Обратитесь в полицию, это их забота, они обязаны вам помочь. — Нет, — покачала головой Джинджер. — Полиция слишком медлительна, перегружена работой, и просто бюрократов в мундирах там полным-полно. Моя же проблема не терпит отлагательств, а кроме того, я не верю полиции. Я теперь вообще не верю властям. Записи сеансов гипноза исчезли, так что я не сказала о них полицейским, прибывшим на место убийства Пабло. Я также ни словом не обмолвилась о своих приступах автоматизма и о том, что Пабло помогал мне. Я сказала, что мы были друзьями, что я зашла, чтобы поужинать с ним, и наткнулась на убийцу. Я представила все так, будто это было обычное ограбление. Я им не верю до сих пор. Так что полиция исключается. — Тогда найдите другого гипнотизера… — Нет. Я никого не хочу подставлять под удар, — повторила она. — Понимаю, — Кристофсон засунул обе руки в карманы пальто. — Весьма сожалею. — Не стоит извиняться, — слабо улыбнулась Джинджер. Он повернулся, чтобы уйти, но задержался и, обернувшись, со вздохом сказал: — Доктор, прошу меня понять. Я воевал и немало повидал, потом был послом, сенатором, директором ЦРУ. Мне приходилось принимать ответственные решения, нередко подвергая себя опасности. Я не пытался избежать риска. Но сейчас я старик, мне семьдесят шесть лет, а чувствую я себя гораздо старше. У меня болезнь Паркинсона, слабое сердце, высокое давление. Я люблю свою жену, и, случись что с мной, она останется одна, а я не знаю, сможет ли она вынести одиночество, доктор Вайс. — Не надо оправдываться, — воскликнула Джинджер, мысленно отметив, как быстро они поменялись ролями: сперва он ободрял и успокаивал ее, теперь она его. Ей вспомнились слова отца, который часто говорил, что способность к состраданию — одна из величайших человеческих добродетелей, делающая связь между людьми неразрывной. Сейчас Джинджер почувствовала, что между ней и Кристофсоном протянулась какая-то ниточка. Очевидно, и у него возникло такое же чувство, потому что он понизил голос и заговорил более тепло и мягко, каким-то доверительным, даже заговорщицким тоном: — Если быть до конца откровенным, доктор Вайс, я не хочу ввязываться в это дело не столько потому, что дорожу своей жизнью, сколько потому, что боюсь смерти. — Старик опустил руку во внутренний карман и достал из него записную книжку и ручку. — В своей жизни я совершил немало поступков, которыми не могу гордиться. — Он начал что-то записывать трясущейся рукой. — Правда, по большей части я грешил в силу служебной необходимости. Правительственная служба и шпионаж нужны, это всем ясно, но в них невозможно не запачкаться. В те дни я не верил ни в Бога, ни в загробную жизнь. Теперь же у меня появились сомнения… А сомневаясь, я, случается, испытываю страх. — Он вырвал листок из блокнота. — Страх перед тем, что меня может ожидать после смерти. Вот почему я хочу прожить как можно дольше, доктор. И вот почему я — прости Господи! — стал на старости лет трусом. Беря у Кристофсона листок бумаги, Джинджер сообразила, что он умудрился встать к оставшимся на кладбище людям спиной, прежде чем достать из кармана ручку и блокнот. — Это номер телефона антикварного магазина в Гринвиче, в штате Коннектикут. Магазин принадлежит моему младшему брату Филипу. Мой телефон могут прослушивать; я не возьму на себя риск каким-то образом связываться с вашими проблемами, доктор Вайс, и вообще открыто вступать с вами в контакт. Тем не менее вы можете столкнуться с чем-то для вас непонятным, попасть в трудное положение, и я, возможно, смогу вам помочь советом. Позвоните Филипу и оставьте ему номер вашего телефона. Он немедленно свяжется со мной и объяснит все условным кодом. Тогда я позвоню вам из уличной кабины. Все, что я могу вам предложить при нынешних обстоятельствах, доктор Вайс, это мой печальный опыт в подобного рода неблаговидных делах. — Это более чем достаточно, — от души произнесла Джинджер. — Вы ведь и не обязаны мне помогать. — Желаю удачи! — Он резко повернулся и пошел прочь, скрипя по снегу ботинками. Джинджер вернулась к могиле, где к этому времени остались только Рита, сотрудник похоронного бюро и двое кладбищенских рабочих. — Кто этот человек? О чем вы разговаривали? — озабоченно спросила Рита. — Я объясню все позже, — ответила Джинджер, бросая розу на крышкугроба. — Алав ха-шолем! Спи спокойно, и да будет этот сон для тебя предвестием лучшего мира! Барух ха-шем! Светлая тебе память! Они с Ритой побрели к автостоянке. За спиной у них рабочие начали забрасывать могилу землей.
* * *
Округ Элко, Невада В четверг доктор Фонтлейн с удовлетворением засвидетельствовал, что Эрни Блок вылечился от боязни темноты. — Вы, морские пехотинцы, должно быть, сделаны из особого теста, — констатировал он. — Быстрее вас у меня еще никто не выздоравливал. В субботу 11 января, пробыв в Милуоки четыре недели, Эрни и Фэй отправились в обратный путь. Вылетев в Рино самолетом компании «Юнайтед эйрлайнз», они успели на десятиместный самолет до Элко и в половине двенадцатого уже были на месте. Эрни не сразу узнал встречавшую их в аэропорту Сэнди Сарвер. Она стояла у терминала, щурясь на слепящее зимнее солнце, и махала им рукой. Сэнди совершенно не походила на бледнолицую мышку с опущенными плечами: Эрни впервые заметил, что она даже подкрасила губы и наложила на веки тени. Ногти тоже были не обкусаны, а в полном порядке, и даже волосы были аккуратно подстрижены. Она поправилась фунтов на десять и выглядела значительно моложе своих лет. Услышав от Эрни и Фэй кучу комплиментов, Сэнди покраснела, явно польщенная. Она изменилась не только внешне. Обычно робкая и застенчивая, она проявила живой интерес к их путешествию, расспрашивала, пока они шагали к машине и грузили вещи в красный пикап, о том, как поживают Люси, Фрэнк и внуки. О фобии Эрни она, естественно, вопросов не задавала, поскольку ничего о ней не знала: супруги держали язык за зубами, а задержку в Висконсине объяснили желанием подольше побыть с внуками. По дороге домой Сэнди, сидевшая за рулем, столь же оживленно рассказывала им о минувших рождественских праздниках и делах в гриль-баре «Спокойствие». Эрни не мог не заметить, как уверенно, легко и быстро ведет она машину. Фэй тоже многозначительно поглядывала на мужа, когда Сэнди прибавляла скорость или делала рискованный маневр, обгоняя попутные машины. Но затем случилась беда. Когда до мотеля оставалось менее мили, интерес Эрни к Сэнди неожиданно сменился странным ощущением, впервые испытанным им 10 декабря, когда он возвращался из Элко. Это было ощущение, что определенное место рядом с магистралью зовет его к себе, напоминая, что там с ним однажды что-то произошло. И, как и раньше, это было одновременно и совершенно нелепое, и очень сильное чувство, своего рода волшебные чары, перед которыми невозможно устоять. Эрни встревожился. Ведь, как он полагал, этот странный магнетизм того места самым непосредственным образом связан с психическим расстройством, вылившимся в паническую боязнь темноты. А раз он избавился от этой боязни, то был уверен, что исчезнут и симптомы временного психического заболевания. Вот почему этот настойчивый зов Эрни воспринял как дурной знак. Думать же о том, во что это смутное предчувствие может вылиться, ему вообще не хотелось. Фэй рассказывала Сэнди, как они провели с внуками рождественское утро, и та смеялась, но Эрни слышал все это словно сквозь вату: они все ближе приближались к роковому месту. Охваченный чувством грядущего чуда, ожиданием чего-то сверхъестественного, архиважного, Эрни украдкой начал всматриваться в окрестности. Когда они поравнялись с этим гипнотизирующим местом, Эрни заметил, что Сэнди снизила скорость до сорока миль в час, то есть почти наполовину. Но едва он об этом подумал, как автомобиль стал снова набирать скорость. Эрни покосился на Сэнди, она по-прежнему слушала Фэй и одновременно следила за дорогой, давя на педаль газа, но на ее лице появилось какое-то странное выражение, словно и она почувствовала то же самое, что и Эрни. — Хорошо снова оказаться дома, — вздохнула Фэй, когда Сэнди, включив сигнал правого поворота, повернула к мотелю. Эрни пристально смотрел на Сэнди, надеясь заметить следы страха на ее лице, но она улыбалась как ни в чем не бывало, и он решил, что ошибся и что она снизила скорость по какой-то иной причине. Его бил озноб, на лбу и ладонях выступил холодный пот. Он взглянул на часы: до захода солнца оставалось менее пяти часов. А что, если он боится не вообще всякой темноты, а какой-то особенной? Может быть, он излечился от страха перед темнотой в Милуоки лишь потому, что не очень-то и боялся тамошней ночи, а его настоящий страх, глубокий, жуткий, поджидает его здесь, на невадской равнине? Может быть, его болезнь проявляется только в одном конкретном месте? Он снова взглянул на часы. Сэнди поставила машину на площадку перед мотелем и, когда они выбрались из нее и подошли к багажнику, чтобы достать веши, обняла Эрни и Фэй за плечи: — Как я рада, что вы вернулись! Я так скучала без вас! Пойду помогу Неду на кухне, настало время ленча. Проводив Сэнди взглядом, Фэй спросила: — Что это с ней? — Сам не пойму, — пожал он плечами. — Сперва я подумала, что она ждет ребенка. Но сейчас я уже так не думаю: она бы поделилась с нами этой радостью еще в аэропорту. Видимо, тут что-то другое. Эрни вытащил из багажника две из четырех дорожные сумки и, ставя их на землю, украдкой бросил взгляд на часы: заход солнца приблизился на пять минут. — Как бы то ни было, я рада за нее, — вздохнула Фэй. — И я тоже, — поддержал ее Эрни, доставая из багажника оставшиеся вещи. — И я тоже! — передразнила его Фэй, поднимая две самые легкие сумки. — Не морочь мне голову, ты, добрый увалень. Я-то знаю, что ты переживаешь за нее, как за собственную дочь. Я заметила в аэропорту, как ты млел, глядя на преобразившуюся Сэнди. — Есть какой-нибудь медицинский термин для такого рода сердечных волнений? — таща за ней тяжелые сумки, поинтересовался Эрни. — Конечно: кардиорастворение, — рассмеялась Фэй. Эрни тоже расхохотался, забыв о снедающей его тревоге. Фэй умела рассмешить его именно тогда, когда он в этом нуждался. Как только они войдут в дом, он обнимет ее, расцелует и доставит прямиком наверх, в спальню — самое верное средство против засевшего в нем страха. Фэй поставила сумки возле двери в контору и достала из своей сумочки ключи. Когда стало ясно, что Эрни выздоравливает, Фэй решила остаться в Милуоки, так что все то время, пока они гостили у детей, мотель был закрыт. Теперь им предстояло открыть его, включить отопление и навести в доме порядок. «Да, дел хватает, — с улыбкой подумал Эрни, — но не помешает сперва слегка размяться в горизонтальном положении». Он стоял за спиной Фэй, пока та вставляла ключ в замок, и она, к счастью, не видела, как ее муж изменился в лице, когда небо затянуло тучами, и взглянул на часы, а потом на восток, откуда приближалась ночь. «Все будет хорошо, — подумал он. — Ведь я вылечился».* * *
На шоссе: из Рино в округ Элко После необыкновенного происшествия во вторник в доме Ломака, когда сонмище бумажных лун кружилось вокруг него, Доминик Корвейсис провел в Рино еще несколько дней. Во время своей предыдущей поездки из Портленда в Маунтин-Вью он задержался в этом городке, собирая материал для книги об азартных играх, и теперь, восстанавливая детали того путешествия, решил пробыть здесь до пятницы. Доминик бродил по казино, наблюдая за игроками. Среди них были молодые парочки и пенсионеры, милые девушки и пожилые женщины, ковбои с обветренными лицами и холеные богачи, секретарши и водители грузовиков, военные и врачи, отсидевшие срок уголовники и полицейские на отдыхе, живчики и сони, в общем, представители всех слоев общества, объединенные общей надеждой и жаждой испытать судьбу в самой демократической сфере бизнеса в мире. Как и в прошлый раз, Доминик играл лишь ради того, чтобы не выпадать из общей картины, потому что главной его задачей было наблюдение. После натиска бумажных лун у него появились основания полагать, что именно в Рино его жизнь переменилась раз и навсегда и именно здесь он отыщет ключ к запертым на замок воспоминаниям. Люди вокруг него смеялись, оживленно разговаривали, ворчали, сетуя на невезение, возбужденно кричали, бросая кости, а Доминик оставался хладнокровным и настороженным, не увлекаясь игрой и не поддаваясь ажиотажу, сосредоточившись на поиске ключа к разгадке таинственных событий в забытом прошлом. Однако поиски остались безрезультатными. Каждый вечер он звонил в Лагуна-Бич Паркеру Фейну, надеясь, что пришла весточка от неизвестного корреспондента. Но никаких новостей не было. Каждую ночь, засыпая, он думал о природе невероятного танца бумажных лун и пытался найти объяснение красным кругам на ладонях, которые заметил, стоя на коленях в гостиной Ломака. Однако ничего путного в голову не приходило. Его тяга к успокаивающим лекарствам постепенно проходила, зато Луна снилась все чаще. Каждую ночь он пытался во сне освободиться от веревки, которой привязывал себя к кровати. Не сомневаясь, что разгадка ночных кошмаров и лунатизма кроется в Рино, Доминик решил все же не менять своих планов и съездить в Маунтин-Вью, а потом, если и там его не посетит откровение, вернуться в Рино. Позапрошлым летом он отбыл из гостиницы 6 июля, в пятницу, в половине одиннадцатого, тотчас же после раннего ленча. И поэтому, следуя тому же расписанию, он в субботу 11 января тоже выехал в направлении невадской пустыни в десять сорок утра, держа путь на городок Уиннемака. Необъятные пустынные просторы мало изменились за минувшие тысячелетия. Магистраль и линия электропередачи — часто единственные признаки цивилизации — пролегли по маршруту, когда-то называемому Тропой Гумбольдта, среди бесплодной равнины и поросших кустарником холмов, окруженных неприветливым, но поразительно красивым диким миром полыни, песка, известняка, высохших озер, застывшей лавы и далеких гор. Отвесные утесы блестели жилками соли, кварца, буры и серы, отливая на солнце охрой, умброй и янтарем. К северу от впадины Губмольдта, где река Гумбольдт исчезает в земле, текли и другие реки и ручьи, но здесь, в этом сиротливом уголке природы, глаз радовали только редкие оазисы в долинах с их сочной травой, хлопчатником и ивами: жизнь теплилась там, где была вода. Как всегда, Доминик был покорен необъятными просторами Запада, но на этот раз ландшафт растревожил в нем что-то новое — предчувствие встречи с тайной, ощущение самого невероятного, выходящего за рамки воображения исхода путешествия. В этой забытой богом пустыне нетрудно было поверить в то, что именно здесь с ним и случилось нечто ужасное. Без четверти три он заехал заправиться и перекусить в городок Уиннемака. Со своими пятью тысячами жителей он был самым крупным населенным пунктом в округе общей площадью 16 тысяч квадратных миль. Отсюда федеральное шоссе № 80 поворачивало на восток, постепенно поднимаясь все выше и выше в горы. На закате Доминик свернул с магистрали к мотелю «Спокойствие», припарковал машину, вылез из нее и был неприятно поражен холодным, пронизывающим ветром. Проделав столь долгий путь через пустыню, он был психологически подготовлен к жаре, хотя и знал, что в горных долинах сейчас в разгаре зима. Он вернулся к автомобилю, взял куртку на шерстяной подкладке и, надев ее, направился уже было к мотелю… но замер, охваченный тревожным предчувствием. Это было именно то место. Именно здесь с ним и случилось нечто сверхъестественное. Он останавливался здесь вечером в пятницу, 6 июля, позапрошлым летом: тогда уединенность этого мотеля и зачаровывающая красота окрестностей показались ему чрезвычайно заманчивыми и воодушевляющими. Ему так понравилось здесь, что он даже решил задержаться на пару деньков, чтобы привыкнуть к обстановке и подумать над сюжетом для рассказа, события которого разворачиваются в таком же тихом уголке. Он выехал в Маунтин-Вью лишь утром во вторник, 10 июля. Сейчас он в надежде расшевелить память медленно огляделся, наблюдая быструю смену света и тьмы, и окончательно решил, что случившееся с ним здесь важнее любых других событий в его прошедшей и оставшейся жизни. Гриль-бар, который Доминик узнал по большим окнам и голубой неоновой вывеске, располагался в западной части комплекса, несколько в стороне, окруженный площадками для парковки машин, три из которых теперь были заняты. Одноэтажное белое здание мотеля с прогулочной площадкой на крыше как бы разделялось на два крыла двухэтажной секцией, на первом этаже которой помещалась контора, а на втором квартира владельца. Каждое крыло имело форму буквы Г, в них было по десять комнат — шесть в длинной и четыре в короткой части. Прогулочная площадка была надежно защищена от ветра алюминиевым козырьком, выкрашенным в густой зеленый цвет. Небо на востоке уже потемнело, равно как и окрестности, на юге бескрайняя пустыня окрасилась в серый цвет, и лишь на западе вершины гор пылали пурпуром заката. Тревога в сердце Доминика нарастала и достигла наивысшей степени, когда он вновь посмотрел на гриль-бар. Словно во сне, он направился прямо к нему, но, когда подошел к входной двери, ему вдруг захотелось убежать отсюда как можно дальше. Усилием воли он заставил себя открыть дверь. Внутри было чисто, светло, уютно и тепло, воздух насыщен ароматами жареного картофеля, лука и шипящей на решетке ветчины. Доминик подошел к свободному столику и взял с подставки для приправ солонку, сам не зная, зачем он это делает и почему его рука протянулась именно к солонке, а не к бутылочке с кетчупом, тюбику с горчицей, сахарнице или перечнице. Потом он вспомнил, что сидел именно за этим столом в свой первый вечер в этом мотеле позапрошлым летом и, случайно рассыпав соль, по привычке бросил щепотку через плечо, угодив солью в лицо проходившей мимо молодой женщине. Он чувствовал, что нащупал нечто важное, но не мог дать этому объяснение. Может быть, дело в этой женщине? Кто она? Незнакомка. Как она выглядела? Он попытался вспомнить ее лицо, но не смог. Его сердце вдруг забилось чаще: он почувствовал, что вплотную подошел к потрясающему открытию. Он напряг память, пытаясь вспомнить детали, но они ускользали. Солонку он поставил на место и, двигаясь по-прежнему словно во сне и дрожа от неясного возбуждения, подошел к столику в углу возле окна. Он оказался занятым, но Доминик все равно был уверен, что женщина, на лицо которой попала соль, сидела именно здесь в ту роковую ночь. — Могу я вам чем-нибудь помочь? Официантка в желтом свитере улыбаясь смотрела на него, но он словно лишился дара речи, парализованный нахлынувшими воспоминаниями. Они еще не обрели четкости, но все наплывали и наплывали: та женщина из прошлого, лицо которой он не мог вспомнить, сидела на этом самом месте, слепяще-прекрасная в оранжевом отсвете заката… — Мистер? Что-нибудь случилось? Та женщина только еще заказала ужин, а Доминик уже доедал свое мясо, а закат угасал, сменяясь тьмой ночи… Воспоминания, всплыв из глубин памяти, почти прорвались сквозь темную толщу к свету, из подсознания к сознанию, но в последний момент он отшатнулся от них, словно от ужасного чудовища. Вдруг расхотев вспоминать, Доминик с воплем отступил назад, повернулся спиной к изумленной официантке и побежал. Он понимал, что на него с удивлением смотрят люди, понимал, что выглядит ужасно, но ему на все это было наплевать. Он хотел одного: побыстрее выбраться из этого места. Толкнув дверь, он настежь распахнул ее и выскочил наружу, под послезакатное черно-багровое небо. Ему было страшно. Страшно перед прошлым. Страшно перед будущим. Страшно потому, что он не понимал, почему ему так страшно.* * *
Чикаго, Иллинойс Брендан Кронин решил подождать со своим сообщением до конца обеда, когда отец Вайцежик будет пребывать в наилучшем расположении духа. А пока он вместе с отцами Вайцежиком и Джеррано вкушал обильную трапезу — двойную порцию ветчины с картофелем и фасолью, заедая его доброй третью буханки домашнего хлеба. Хотя Брендан и обрел вновь аппетит, вера в Бога к нему так и не вернулась. Когда она рухнула, вместо нее остались ужасная темная пустота и отчаяние, но теперь отчаяние ушло, а пустота понемногу заполнялась. Он чувствовал, что однажды начнет новую жизнь, ничего общего не имеющую с церковью. Для Брендана, которому никакие мирские удовольствия не могли заменить духовного наслаждения от мессы, сам факт принятия будущей светской жизни явился поворотным событием. Возможно, он воспрянул духом и потому, что после Рождества совершил переход от атеизма к своего рода агностицизму. Недавние события убедили его, что существует Высшая Сила, стоящая над природой, и эта Сила вовсе не обязательно Бог. После обеда отец Джеррано поднялся к себе в комнату почитать часок-другой роман Джеймса Блейлока, писателя, чьи фантастические произведения Брендану тоже нравились; в то же время его красочные истории о странных вымышленных созданиях и еще более причудливых мыслящих существах были слишком трудны для восприятия столь непрошибаемого реалиста, как отец Вайцежик. Он сказал Брендану: — Читать его интересно, но потом возникает непонятное ощущение, будто все вокруг на самом деле не такое, каким оно нам кажется. А мне такое ощущение не по душе. — А может быть, все и на самом деле не такое, каким нам кажется, — заметил Брендан. Отец Вайцежик покачал головой. Его седые волосы, освещенные криптоновой лампой, походили на стальную проволоку. — Нет, я предпочитаю толстые романы о реальной жизни. — Если есть жизнь на небесах, отец мой, — с широкой улыбкой проговорил Брендан, — и нам доведется там с вами встретиться, я сведу вас с Уолтом Диснеем. Попробуйте убедить его, что ему нужно было делать мультфильмы не о приключениях Микки-Мауса, а по романам Достоевского. Отец Вайцежик расхохотался и, наполнив бокал падшего священника, предложил ему сесть в кресло. Решив, что сейчас самый подходящий момент, Брендан начал: — Если вы не будете возражать, я ненадолго уеду, отец. Я бы хотел сделать это в понедельник. Мне нужно в Неваду. — В Неваду? — переспросил отец Вайцежик таким тоном, словно его помощник намеревался вылететь в Бангкок или в Тимбукту. — Почему в Неваду? Сделав глоток мятной водки с тоником, Брендан причмокнул языком и, выждав, пока тепло разольется по телу, ответил: — Именно туда меня призывают. Прошлой ночью, во сне, видя один лишь лучезарный свет, я вдруг осознал, что нахожусь как бы в Неваде, в округе Элко. Именно там я найду объяснение чудесного исцеления Эмми и Уинтона. — Именно там? Почему вы так думаете? Вы там уже бывали раньше? — Позапрошлым летом. Как раз перед тем, как приехать сюда. Брендан прилетел в Сан-Франциско прямо из Рима, выполняя поручение своего ватиканского наставника монсеньора Орбеллы, и две недели пробыл в резиденции его старого друга епископа Джона Сантефьоре: тот писал книгу по истории папства, и Брендан привез ему для его работы материалы, подобранные в Риме. В его задачу входило также и разъяснение этих материалов епископу. Джон Сантефьоре оказался обаятельным человеком с живым умом и мягким юмором, так что время пролетело незаметно. Выполнив свою миссию, Брендан получил в свое распоряжение две недели и решил провести их, путешествуя по стране на автомобиле. — Помните, вы гостили у епископа Сантефьоре, — сказал отец Вайцежик, подаваясь всем корпусом вперед в своем кресле. — Вы проезжали через округ Элко штата Невада? — Я останавливался там в мотеле «Спокойствие». Я хотел только переночевать, но там было действительно так спокойно, так приятно, что я задержался на несколько дней. Теперь я должен туда вернуться. — Почему? Что там с вами произошло? — Ничего особенного. Я отдыхал. Дремал, прочел пару книг, смотрел телевизор. Там хороший прием сигнала, потому что на крыше установлена спутниковая антенна… — Что с вами? — насторожился отец Вайцежик. — Почему вы заговорили каким-то деревянным голосом? Словно рассказываете что-то заученное. — Я просто рассказываю, как там было. — Если там с вами ничего не произошло, почему вы так туда стремитесь? Что вы надеетесь там найти? Чего ожидаете? — Точно не знаю. Но что-то должно случиться… Нечто невероятное. — Может быть, вас призывает Господь? — спросил отец Вайцежик, немного придя в себя. — Я не думаю. Но все возможно. Во всяком случае, я этого тоже не исключаю. Я прошу вашего разрешения на эту поездку. Но даже если вы не благословите меня, я все равно туда поеду. Отец Вайцежик сделал большой глоток. — Мне думается, вам следует туда ехать, но не одному, — задумчиво произнес он. — Вы хотите сопровождать меня? — удивленно воскликнул Брендан. — К сожалению, я не смогу: кому-то ведь нужно служить мессу. Но вам непременно нужен опытный сопровождающий, священник, который разбирался бы в чудесах или чудесных видениях. Он засвидетельствует… — Отец Вайцежик замялся, подбирая слово. — Вы имеете в виду кого-то из священнослужителей, уполномоченных кардиналом расследовать всякого рода истерические докладные о плачущих статуях Девы Марии, кровоточащих распятиях и прочих божественных проявлениях? — пришел ему на выручку Брендан. — Именно так, — кивнул в знак согласия отец Вайцежик. — Вам нужен кто-то, знакомый с процедурой засвидетельствования. Например, монсеньор Джанни из епархиального отдела публикаций. Это опытный человек. — Это никоим образом не связано с христианством, так что нет нужды беспокоить монсеньора Джанни, — перебил его Брендан. — А кто сказал, что Господь не может проявить себя завуалированно? — спросил отец Вайцежик, уверенный, что приводит несокрушимый довод, и победно улыбнулся. — Но все это может вполне быть просто психическим явлением, — заметил Брендан. — Ба! Громкие слова! Это избитый прием: обычно неверующие пытаются именно так объяснить божественные деяния. Взгляните на эти события повнимательнее, Брендан, откройте свое сердце пониманию их подлинного смысла, и вам раскроется истина. Господь призывает вас назад в свое лоно, и я уверен, что в этом смысл этих божественных видений и проявлений. — В таком случае зачем Он зовет меня в Неваду? Почему чудо должно свершиться в пустыне, а не прямо здесь? — Может быть, это проверка вашей покорности воле Господа, проверка вашего неосознанного желания снова поверить в Него. И, если это желание достаточно сильное, вы предпримете это утомительное путешествие, а в награду увидите нечто, что вернет вам веру. — Но почему именно в Неваде? Почему не во Флориде, Техасе или Стамбуле? — Это одному Богу известно. — А зачем все это нужно Богу? Что для него сердце заблудшего священника? Зачем ему так утруждаться? — Для Него, сотворившего землю и звезды, это не составляет никакого труда. А одно сердце столь же важно, как и миллионы сердец. — В таком случае почему Он позволил мне утратить веру? — Возможно, Господь подверг вас испытанию, чтобы закалить и упрочить ее. Брендан улыбнулся и покачал головой в знак своего восхищения: — Вас невозможно загнать в тупик, святой отец. Вы знаете ответы на все вопросы. — Это Господь наделил меня острым умом, — с довольным видом откинулся в кресле отец Вайцежик. Брендан знал, что отец Стефан слывет спасителем оступившихся священников и легко не сдастся. Но лететь в Неваду с монсеньором Джанни он был не намерен. Удобно устроившись в своем кресле, отец Вайцежик внимательно наблюдал за собеседником, ожидая новых аргументов, чтобы легко опровергнуть их, нового выпада, который он парирует с неизменной иезуитской изворотливостью. Брендан тяжело вздохнул: предстоял долгий и нелегкий вечер.* * *
Округ Элко, Невада Выбежав в страхе и смущении из гриль-бара «Спокойствие», Доминик Корвейсис в потемках направился прямо к конторе мотеля. Там он стал свидетелем сцены, сперва показавшейся ему семейной ссорой, но потом быстро смекнул, что дело тут совсем в другом. Крепко сложенный мужчина в рыжей дубленке и коричневом свитере стоял посередине комнаты недалеко от стойки. Он был лишь дюйма на два выше ростом, чем Доминик, но значительно крупнее, словно вырублен из дубовой колоды. Седина на его подстриженных под бобрик волосах и глубокие морщины на лице свидетельствовали, что ему за пятьдесят, хотя телом он был еще молод и силен. Этот крупный мужчина трясся, словно от переполняющей его ярости, а стоящая рядом женщина испуганно и растерянно смотрела на него, видимо, не зная, чем ему помочь. Это была блондинка с живыми голубыми глазами, явно моложе мужчины, хотя определить ее возраст было довольно затруднительно. Бледное лицо мужчины блестело от пота. Едва Доминик переступил порог, он понял, что его первое впечатление было ошибочным: человек в рыжей дубленке трясся не от ярости, а от страха. — Успокойся, — говорила женщина, — дыши глубже и ровнее. Опустив голову, мужчина судорожно хватал ртом воздух. — Дыши медленно и глубоко, — успокаивала его женщина. — Помни, чему тебя учил доктор Фонтлейн. Успокоишься, и пойдем на прогулку. — Нет! — тряс головой крепыш. — Нет! — Да-да, мы обязательно пойдем, — повторила женщина, сжимая его плечо. — Мы пойдем гулять, Эрни, и ты убедишься, что здешняя темнота ничем не отличается от темноты в Милуоки. Эрни! Оглушенный этим именем Доминик тотчас же вспомнил четыре плаката в доме Зебедии Ломака, на одном из которых было написано фломастером именно оно. — Мне нужна комната, — сказал Доминик, поймав на себе вопросительный взгляд женщины. — Свободных номеров нет, — ответила она. — Но табло над дверью горит, — возразил Доминик. — Значит, номера есть. — Ладно, — устало согласилась женщина. — Хорошо, но только не теперь. Пожалуйста, сходите пока в гриль-бар или погуляйте. Возвращайтесь через полчаса. Прошу вас! Эрни, до этого словно не замечавший гостя, поднял голову и со страхом и отчаянием простонал: — Дверь! Закройте дверь, пока сюда не ворвалась тьма! — Нет, нет, нет! — твердо воскликнула женщина. — Темнота не проникнет сюда, Эрни. Она не сделает тебе больно. — Но она уже пробирается в дом, — плаксиво возразил он. Доминик только сейчас сообразил, что помещение необычайно ярко освещено. Горели настольные лампы, торшер, бра, светильник над стойкой и люстры на потолке. — Ради бога, закройте дверь, — обернулась к Доминику женщина. Доминик захлопнул дверь, оставшись в помещении конторы, и женщина не без раздражения заметила: — Я имела в виду — закройте дверь за собой с той стороны. На лице Эрни застыло выражение ужаса и беспомощности. Он перевел взгляд с Доминика на окно, на темноту, которая давила на стекло все сильнее и сильнее, и прошептал: — Она там, за окном. Она ломится внутрь… Он посмотрел безумными глазами на Доминика, уронил голову и зажмурился. Доминик словно прирос к полу: неестественный страх, испытываемый Эрни, был так похож на ужас, толкавший его самого на блуждание во сне по дому и загонявший в чуланы и стенные шкафы. — Ну что же вы стоите? — закричала женщина, едва не плача. — У него боязнь темноты, и, когда у него случается такой приступ, я должна помочь ему справиться с ним. Уйдите, прошу вас! Доминик вспомнил женские имена, нацарапанные на фотографиях Луны в гостиной Ломака — Джинджер, Фэй, — и инстинктивно остановился на последнем. — Все в порядке, Фэй, — сказал он. — Мне кажется, я понимаю, что вы переживаете. — Мы знакомы? — удивленно заморгала Фэй. — Меня зовут Доминик Корвейсис. Вам это имя что-нибудь говорит? — Ровным счетом ничего. — Она с беспокойством покосилась на мужа, который повернулся и с закрытыми глазами направился шаркающей походкой в сторону стойки. Опершись на нее, Эрни пробормотал: — Мне нужно скорее наверх, задернуть там шторы, чтобы не просочилась тьма. — Нет, Эрни, — возразила Фэй, — подожди. Не убегай от нее. Доминик подошел к нему и, придерживая рукой за плечо, сказал: — Вас мучают кошмары, но когда вы просыпаетесь, то не можете вспомнить ничего из того, что видели во сне кроме того, что это как-то связано с Луной. Фэй от удивления разинула рот. Эрни открыл глаза: — Откуда вы знаете? — Меня самого почти месяц мучили такие же кошмары, — объяснил Доминик. — Каждую ночь. И я знаю человека, который не выдержал этих кошмаров и застрелился. Супруги изумленно уставились на него. — В октябре, — продолжал Доминик, — я начал во сне ходить по дому. Я вылезал из постели и прятался в чуланах, я собирал в спальню оружие, чтобы защитить себя неизвестно от кого. Однажды я пытался даже заколотить гвоздями окно. Как видите, Эрни, меня тоже пугает темнота. И готов поспорить, что и вы боитесь не самой темноты, а чего-то другого, связанного с ней, чего-то особенного, необычного, того, что уже однажды случилось с вами, — Доминик кивнул на окна, — случилось именно там, в темноте, в тот самый уик-энд позапрошлым летом. Все еще не придя в себя после столь стремительного поворота событий, Эрни бросил взгляд на чернеющую за окном ночь, отвел его в сторону и пробормотал растерянно: — Ничего не понимаю. — Давайте поднимемся наверх, — предложил Доминик, — вы задернете шторы на окнах, и я расскажу вам то, что знаю. Главное, что не вы одни страдаете от этого. С этого момента вы не одиноки. И, слава богу, я тоже.* * *
Округ Нью-Хейвен, Коннектикут С точностью до секунды. Джек Твист всегда разрабатывал свои операции с точностью до секунды, и нападение на бронированный автофургон не было исключением. Ночь выдалась темной, беззвездной и безлунной. Тучами затянуло почти все небо. Снега не было, но дул сильный юго-западный ветер. Бронированный «Гардмастер» катил в направлении холма, с которого Джек наблюдал за ним в сочельник. Его фары тускло желтели в густом тумане на шоссе, черной ниткой продернутом сквозь снежное покрывало полей. Одетый в белый лыжный костюм с капюшоном, Джек лежал, наполовину зарывшись в снег, с южной стороны дороги. На другой стороне, у подножия холма, залег другой участник ограбления, Чад Зепп, тоже в белом маскировочном костюме. Еще один их сообщник, Бренч Поллард, засел на склоне холма с боевой винтовкой «хеклер и кох» ХК-91. Фургон был еще на расстоянии двухсот ярдов, когда на холме сверкнул огонь и, перекрывая гул мотора, прогремел выстрел. Пуля, выпущенная из винтовки ХК-91 калибра 7,62, пробивает ствол дерева или бетонную стену, сохраняя убойную силу, но сегодня она не предназначалась человеку. Благодаря прицелу ночного видения Поллард выпустил пулю точно туда, куда и хотел: в правую переднюю шину бронированного «Гардмастера». Машину занесло и потащило юзом вдоль обочины. Джек вскочил и, перепрыгнув через канавы, вылетел на шоссе прямо перед фургоном, водитель которого в последний момент резко затормозил на краю кювета. Джек увидел, как один из находившихся в «Гардмастере» что-то возбужденно говорит в микрофон. Но его призыв о помощи не суждено было никому услышать: как только с холма прогремел выстрел, Чад Зепп тотчас же включил «глушилку», забив частоту рации бронефургона помехами. Стоя на середине шоссе в клочьях тумана, Джек не торопясь прицеливался из газовой винтовки в решетку радиатора фургона. Эта новая английская винтовка, купленная им из-под полы в Майами, имела калибр два дюйма и стреляла газовыми снарядами со стальной оболочкой, пробивающими любую преграду. Пробив решетку и взорвавшись в двигателе бронированной машины, снаряд наполнил кабину едким желтым газом, заставив охранников открыть двери и вывалиться на шоссе, задыхаясь и кашляя. Водитель все же успел выхватить револьвер и, упав на колени, приготовился стрелять. Джек выбил оружие у него из рук, подтащил за воротник к бамперу и пристегнул к нему наручниками. Оба охранника отчаянно моргали, пытаясь разглядеть лица налетчиков, но старались они напрасно, поскольку грабители предусмотрительно надели маски. Не теряя времени, Джек и Поллард побежали к задним дверям фургона. Они торопились, но не потому, что опасались случайной встречи на пустынном шоссе с неожиданными свидетелями: двое их сообщников, Харт и Додд, уже перекрыли с обеих сторон дорогу угнанными грузовиками, на свежевыкрашенных боках которых была сделана надпись: «Департамент дорог», а на крышах кабин установлены мигалки. Кроме того, они установили на шоссе треножники с предупредительными огнями и теперь прогуливались вдоль барьеров, готовые «завернуть» любой транспорт, объяснив свои действия аварией бензовоза. Все было продумано до мелочей. Когда Джек и Поллард подбежали к задним дверям захваченной машины, Чад Зепп уже был там. Повесив на кузов электрический фонарь, Зепп откручивал защитную панель с запорного устройства грузового отделения. Они запаслись и взрывными устройствами, но, когда вскрываешь бронированный фургон типа «Гардмастер», есть риск, что взрывом заклинит замок, и тогда до денег вообще не добраться. Нужно было попытаться вскрыть сейф, оставив взрывчатку на крайний случай. Старые бронированные автомобили были оборудованы замками с одним-двумя ключами или наборными кодами, но в этой последней модели стояло совершенно оригинальное запорное устройство — последнее слово техники подобного рода. Этот замок закрывался и открывался нажатием клавиш на приборной панели, напоминающей кнопочный телефон. Чтобы запереть замок, охранник закрыл двери и просто нажал среднюю цифру трехзначного кода. Открыть же его можно было, только зная весь код целиком, а он каждое утро менялся, и только водителю были известны все три цифры. Используя эти десять кнопок, можно было составить тысячу вариантов трехзначных кодовых комбинаций. Если учесть, что для набора каждой их них нужно четыре-пять секунд плюс какое-то время на ожидание результата, на всю работу потребовалось бы не менее часа с четвертью, а это уже было слишком рискованно. Чад Зепп наконец открутил крышку с замка, и теперь стала видна часть механизма. На плече у Зеппа висел на ремне портативный компьютер, смонтированный в небольшом чемоданчике, с его помощью можно было определить и контролировать всю схему электронных запоров и сигналов. Это строго секретное устройство предназначалось исключительно для сотрудников разведки, имеющих специальный допуск. Джек заплатил за него в Мехико торговцу оружием 25 тысяч долларов — у этого дельца имелись связи в фирме, изготовляющей такое оборудование. Зепп раскрыл чемоданчик-компьютер, а Джек вынул из ячейки стальной термометр с медным наконечником и вставил этот гибкий щуп между кнопками «1» и «2», коснувшись основания первой кнопки. Экран остался темным. Джек тронул основание кнопки «2», потом «3». Безрезультатно. Но едва он дотронулся пробником до номера «4», как на экране высветилось слово «ТОК»: это означало, что именно четвертую кнопку и нажал водитель, загрузив мешки с деньгами и чеками в сейф. Установив одну из цифр кода, Джек сократил число комбинаций с тысячи до ста. Не обращая внимания на завывающий ветер, Джек извлек из чемоданчика другой щуп, на этот раз — с тоненьким, с волосок, наконечником, и, вставив его в основание первой кнопки, с надеждой взглянул на дисплей. Безрезультатно. Лишь после нескольких пробных тычков экран дисплея замигал, и на нем высветилась часть схемы. Тонкий, но прочный эластичный проводок, который Джек вставлял в механизм, был датчиком оптического лазера, сходного с используемым в супермаркетах устройством для считывания товарных кодов. Джек трижды прикладывал щуп в разных точках, прежде чем компьютер выдал диаграмму всей схемы запорного устройства, составив ее из различных контуров. На миниатюрном экране она светилась в виде ярко-зеленых линий и символов. После трехсекундной паузы компьютер выделил две части диаграммы квадратиками, указывая слабые точки, к которым лучше подсоединить отвод, и наложил на диаграмму изображение десятиклавишной панели; это облегчило Джеку поиск точек на видимой части запорного устройства. — Можно подсоединиться к номеру «4», — отметил Джек. — Нужно сверлить? — спросил Поллард. — Не думаю. Джек положил на место лазерный щуп и взял из гнезда третий инструмент, с мягким губкообразным наконечником из непонятного материала. Эту «волшебную палочку» он просунул в зазор у основания четвертой кнопки и принялся медленно водить ею вверх и вниз, вправо и влево до тех пор, пока компьютер не пискнул и не выдал на дисплее мигающую надпись «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Не дожидаясь, пока Джек положит «волшебную палочку» назад в ячейку, Поллард быстро задал компьютеру новое задание. Слово «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» исчезло, а на экране появилась надпись: «СИСТЕМА ПОД КОНТРОЛЕМ». Это означало, что теперь компьютер мог подавать команды непосредственно на микросхему управления запорным устройством. Поллард нажал еще две кнопки, и прибор начал посылать в микросхему комбинации из трех цифр со скоростью одна комбинация в шестисотую долю секунды, причем в каждой комбинации, естественно, фигурировала в середине четверка. Через девять секунд верные три цифры — «646» — были найдены. Издав глухой щелчок, замок открылся. Джек выключил компьютер и взглянул на часы: с начала операции прошло всего четыре минуты. Четкая работа. Поллард распахнул задние двери автофургона: можно было забирать деньги. Зепп радостно рассмеялся. Поллард облегченно вздохнул и полез в кузов выгружать брезентовые мешки. Джек не ощущал ничего, кроме холодной пустоты в груди. В воздухе закружились снежинки. Необъяснимая перемена, случившаяся с Джеком несколько недель назад, получила наконец логическое завершение: жизнь потеряла для него всякий смысл, он чувствовал себя в ней снежинкой, случайно принесенной порывом ветра.* * *
Округ Элко, Невада Фэй Блок на всякий случай включила на табло надпись «МЕСТ НЕТ». Усевшись за круглым столиком в кухне на втором этаже, супруги Блок затаив дыхание слушали рассказ Доминика, поглядывая на плотно зашторенные окна и позабыв об остывшем кофе. Некоторое недоверие он прочел на их лицах, лишь когда дошел до совершенно невозможного танца бумажных лун в доме Зебедии Ломака в Рино. Но Доминик описывал этот эпизод в таких завораживающих подробностях, что у него самого поползли по коже мурашки, а уж о том, что при этом испытали Фэй и Эрни, и говорить не приходится. Но больше всего их потрясли сделанные «Поляроидом» фотографии, пришедшие вместе с остальной почтой за два дня до вылета Доминика из Портленда: священник с лицом зомби сидел за письменным столом, а незнакомая блондинка с подключенной капельницей лежала на кровати. Стол супруги тотчас же опознали, он стоял в одном из номеров мотеля, а на снимке с блондинкой узнали цветастое покрывало: такими они пользовались в позапрошлом году. К удивлению писателя, Блоки тоже получили подобную фотографию. Эрни вспомнил, что такой же, как и Доминику, обычный конверт пришел 10 декабря, за пять дней до их отлета в Милуоки. Фэй тут же достала его из ящика письменного стола, стоящего в конторе. На снимке были запечатлены трое людей, стоящих у двери девятого номера, — мужчина, женщина и девочка, одетые по-летнему. — Вы их узнаете? — спросил Доминик. — Нет, — покачала головой Фэй. — А мне кажется, что я должен их помнить, — сказал Эрни. — Смотрите, яркое солнце, легкие рубашки, сандалии — все это позволяет отнести снимок к позапрошлому лету, а еще точнее — к периоду между пятницей шестого июля и следующим вторником. Эти трое участвовали в том, что здесь происходило в это время. Не исключено, что они такие же невинные жертвы, как и мы. И наш неизвестный корреспондент хочет, чтобы мы их вспомнили. — Кто бы ни послал нам эти снимки, этот человек — один из тех, кто лишил нас памяти о тех загадочных событиях, — предположил Эрни. — Непонятно, зачем ему бередить нашу память после того, как было затрачено столько усилий, чтобы стереть ее? — Вероятно, он был против того, что с нами сделали. Может быть, он вынужден был подчиниться приказу, а теперь его мучает совесть. Но он явно боится обращаться к нам напрямую, поэтому действует анонимно, направляя эти странные послания. Фэй вдруг резко отодвинулась от стола: — Ведь за пять недель нашего отсутствия накопилась целая гора почты! Может, там есть еще что-нибудь подобное? Под звук ее быстрых шагов по лестнице Энри пояснил: — Сэнди, наша официантка из гриль-бара, отбирала из почты счета и оплачивала их по мере поступления. Но все остальное она складывала в бумажный мешок. Мы еще просто не успели заглянуть в него. Фэй вернулась с двумя белыми конвертами. В крайнем возбуждении она вскрыла первый, обнаружив в нем фотографию мужчины, лежащего на кровати с иглой капельницы, введенной в вену вытянутой руки. Ему было за пятьдесят. Брюнет с залысинами, этот, возможно, веселый в обычной жизни человек, смотрел в объектив отсутствующим взглядом… — Боже мой, ведь это Кэлвин! — воскликнула Фэй. — Точно, — подтвердил Эрни, — Кэлвин Шаркл, водитель из Чикаго. — Он почти всякий раз останавливается у нас. Бывает, даже на ночь остается, если очень устал. Кэлвин такой славный человек! — На какую компанию он работает? — поинтересовался Доминик. — У него собственный грузовик, он работает сам по себе, — пояснил Эрни. — Вы сможете с ним связаться? — Нужно посмотреть записи в регистрационной книге, — наморщил лоб Эрни. — Я думаю, он живет где-нибудь близ Чикаго… — Это мы уточним позже, — вмешалась Фэй. — Давайте-ка вскроем второй конверт! Она надорвала конверт и достала оттуда еще один снимок, сделанный «Поляроидом». На этот раз они увидели на нем другого мужчину, лежащего на одной из кроватей мотеля «Спокойствие» с подведенной к руке трубкой капельницы. Как и у остальных, на его лице отсутствовало какое-либо выражение, а бездушные глаза напомнили Доминику фильмы ужасов об оживших мертвецах. Однако на этот раз все трое сразу узнали человека на фотографии: это был Доминик.* * *
Лас-Вегас, Невада Заглянув вечером в спальню дочери, чтобы уложить ее в постель, Жоржа застала Марси замаленьким письменным столиком в углу комнаты, занятую своей коллекцией лун. Остановившись в дверях, Жоржа молча наблюдала за девочкой. Та была настолько увлечена своим занятием, что не заметила мать. Рядом с альбомом с фотографиями Луны лежала коробка цветных карандашей. Марси склонилась над одним из снимков, тщательно разрисовывая лунный лик. Это было что-то новое. Марси заполнила альбом фотографиями всего за одну неделю. Она также вырезала снимки из журналов и рисовала Луну сама, чтобы внести в коллекцию некоторое разнообразие. Она обводила монетки, донышки ваз, кастрюль, стаканов и бокалов, консервные банки и даже наперстки, рисуя Луну на конвертах, газетах и обрывках упаковочной бумаги. Каждый день она уделяла этому занятию больше времени, чем накануне. Лечивший Марси психиатр Тед Каверли считал, что беспокойство, обусловившее иррациональный страх девочки перед врачами, еще не прошло, но проявлялось через ее странное увлечение Луной. Но когда Жоржа возразила, что, как ей кажется, Марси не особенно-то и боится Луны, доктор Каверли сказал: — Видите ли, ее возбужденность не обязательно должна вылиться в фобию другого типа. Она может проявляться и в иной форме, например, такой, как одержимость… Не волнуйтесь, миссис, я ее вылечу, — успокоил он Жоржу. Но Жоржа все равно очень беспокоилась. Она волновалась, потому что только вчера Алан покончил с собой. Жоржа еще не говорила об этом Марси. После встречи с Пеппер Каррафилд она тотчас же связалась с доктором Каверли. Он был поражен, узнав, что и Алану снилась Луна. Еще более его удивило его неожиданное и непонятное увлечение этим небесным телом. Над этим стоило поразмышлять. А пока психиатр рекомендовал повременить с плохим известием до понедельника: — Мы скажем ей это вдвоем, вместе с вами, когда вы приведете ее ко мне на следующий сеанс психотерапии. Жоржа боялась, что Марси будет потрясена, когда узнает о смерти отца, хотя тот и не уделял ей ни малейшего внимания. Сейчас, наблюдая, как дочь увлеченно раскрашивает Луну, Жоржа внезапно обратила внимание, какая она худенькая. Хотя Марси уже исполнилось семь лет и она училась во втором классе, она едва доставала носками тапочек до пола. Казалось, в ней едва теплится жизнь. Жорже вдруг пришло в голову, что эта крошка в любой момент может навсегда покинуть ее, и ее материнское сердце сжалось от любви и боли. — Дочка, тебе пора надеть свою пижамку и почистить зубки, — с дрожью в голосе вымолвила наконец Жоржа. Девочка оглянулась и посмотрела на мать растерянным взглядом, словно не узнавая. Потом глаза ее просветлели, и она тоненьким голосочком пропищала: — Привет, мамочка! А я раскрашиваю Луну! — Хорошо, но теперь тебе уже пора в постельку, — в тон ей произнесла Жоржа. — Можно, я еще порисую? — Жоржа обратила внимание, что пальцы девочки побелели от напряжения. — Я хочу еще немного пораскрашивать Луну. Жоржа была готова разорвать и выкинуть ненавистный альбом. Но доктор Каверли предупредил, что спорить с девочкой о Луне и запрещать ей коллекционировать фотографии опасно, это лишь укрепит ее неестественное увлечение. И, хотя Жоржа не была уверена, что врач прав, она не решилась уничтожить альбом. — У тебя будет достаточно времени заняться этим завтра, моя сладенькая, — мягко заметила она. Марси неохотно закрыла альбом, отложила в сторону карандаши и побрела в ванную чистить зубы. Стоя у стола, Жоржа вдруг ощутила неимоверную усталость. Отработав целую смену, она потом занималась похоронами Алана, заказывала цветы и договаривалась с владельцем похоронного бюро. Похороны были намечены на понедельник, она уже позвонила отцу Алана в Майами. Силы ее иссякли. Совершенно механически она открыла альбом. Все фотографии и рисунки Луны были выкрашены в красный цвет. Девочка покрасила уже более пятидесяти изображений Луны. Тщательность, с которой она выполняла эту работу, красноречиво говорила о ее одержимости, причем каждый новый снимок или рисунок был выкрашен более толстым слоем, чем предыдущий. Но почему именно красный цвет? Это не на шутку обеспокоило Жоржу. Казалось, Марси запечатлела свое предчувствие надвигающегося ужаса, ощущение предстоящего кровавого кошмара.* * *
Округ Элко, Невада Фэй Блок спустилась вниз, в контору, и взяла из картотеки регистрационную книгу за лето позапрошлого года. Вернувшись на кухню, она положила книгу на стол перед Домиником и раскрыла ее на страницах за пятницу и субботу, 6 и 7 июля. — Вот, смотрите! В ту пятницу, мы с Эрни это прекрасно помним, военные перекрыли федеральное шоссе: произошел выброс токсичных веществ, перевернулся грузовик с опасными химическими веществами, направлявшийся в Шенкфилд, на военный объект, что в восемнадцати милях к юго-западу отсюда. Нам пришлось закрыть мотель до вторника, пока они не взяли ситуацию под контроль. — В Шенкфилде закрытый полигон для испытания химического и биологического оружия, так что можно себе представить, какую дрянь перевозил этот грузовик, — добавил Эрни. — Они поставили на шоссе барьеры и приказали нам покинуть опасную зону, — продолжала Фэй, заговорив вдруг словно по заученному тексту, каким-то деревянным голосом. — Наши гости разъехались на своих автомобилях. Неду и Сэнди Сарвер разрешили поехать в Биовейв в их трейлере, поскольку это уже за карантинной зоной. — Это невозможно! — воскликнул Доминик. — Невозможно! Я не помню никакой эвакуации. Я был здесь. Я помню, что подбирал материал по географии для своей будущей книги. Но помню это настолько туманно, что, подозреваю, эти воспоминания вообще не подлинные… И все же я был именно здесь и нигде еще, и здесь со мной что-то сделали. — Он кивнул на фотографию и добавил: — И вот тому доказательство. — Пока не сняли карантин, — продолжала монотонно рассказывать Фэй, глядя прямо перед собой остекленелыми глазами, — мы с Эрни жили у своих друзей на горном ранчо в десяти милях к северо-востоку отсюда. С этим загрязнением военным пришлось повозиться. Нам разрешили вернуться домой только во вторник утром. — Что с вами, Фэй? — спросил Доминик. — А? Что? Что вы хотите сказать? — заморгала она. — Вы говорили таким странным голосом… как будто вам вдолбили эту маленькую речь. — Не пойму, о чем это вы! — вспыхнула Фэй. — Фэй, ты говорила слишком монотонно, — нахмурившись, пояснил Эрни. — Я просто пыталась объяснить, что произошло. — Наклонившись над столом, она ткнула пальцем в регистрационную книгу. — Видите? Мы сдали в тот вечер одиннадцать комнат. Но никто не заплатил, потому что все гости разъехались. Их эвакуировали. — И вы в этом списке седьмой по счету, — сказал Эрни. Доминик недоуменно уставился на свою подпись и указанный рядом адрес — Маунтин-Вью, Юта, по которому он в тот же вечер якобы отбыл в соответствии с приказом об эвакуации. Как он регистрировался в мотеле, он хорошо помнил, но что касается дальнейшего… тут он сомневался. — Вы лично видели, как перевернулся грузовик с химикатами? — спросил он супругов Блок. — Нет, — покачал головой Эрни. — Авария произошла в двух милях отсюда, и военные специалисты опасались, что отравляющие вещества разнесет ветром по округе, поэтому-то и закрыли большой район. — Сказано это было таким же механическим голосом, каким только что говорила Фэй. У Доминика даже мурашки пробежали по коже. Он покосился на Фэй, она тоже заметила в голосе мужа нечто странное. — Вот так же говорили и вы сами, — вздохнул Доминик. — Вас обоих запрограммировали на один и тот же текст. — Вы хотите сказать, что аварии вообще не было? — удивилась Фэй. — Авария была, — уверенно заявил Эрни, — у нас даже хранилась подборка вырезок из местной прессы по этому поводу. Жаль, что мы ее потом выбросили. Как бы то ни было, все в округе до сих пор гадают, как могло бы повернуться дело, если бы в тот день подул сильный ветер, а мы бы не успели эвакуироваться. Нет, все это нам с Фэй не кажется, что-то было. — Можете спросить супругов Джемисон, — поддержала мужа Фэй. — Они тоже были у нас в тот вечер. Когда сказали, что всем нужно эвакуироваться, они пригласили нас погостить у них. — Я бы не стал доверять их воспоминаниям, — криво усмехнулся Доминик. — Если они тоже находились здесь, то видели то же, что и все остальные, так что все это потом наверняка стерли у них из памяти. Да, они подтвердят, что отвезли вас к себе. Они так считают, потому что им это внушили. На самом же деле они, вероятнее всего, остались здесь и вместе со всеми подверглись промыванию мозгов. — У меня голова идет кругом, — вздохнула Фэй. — Прямо как в фильме ужасов. — Да нет же, черт подери! — воскликнул Эрни. — Была утечка химических веществ, об этом писали газеты! Тут в голову Доминику вдруг пришла мысль, от которой у него зашевелились волосы. — А что, если все, кто был в тот вечер в мотеле, были заражены секретным отравляющим веществом, которое должны были доставить в Шенкфилд? А правительство и военные просто умалчивают об этом, чтобы избежать огласки и выплаты миллионов долларов потерпевшим за нанесенный им вред? Если они боятся, что газеты поднимут шум, что просочится сверхсекретная информация? Может, они потому и объявили о перекрытом шоссе и эвакуации всех из опасной зоны, что на самом-то деле не успели это вовремя сделать? Если все именно так, тогда, видимо, они изолировали всех в мотеле, подвергли в какой-то мере очистке и для верности промыли мозги, заложив в память ложную информацию, чтобы мы так никогда и не узнали, что же на самом деле с нами произошло. Какое-то время все трое смотрели друг на друга, не произнося ни слова, потрясенные этой версией. И не потому, что она показалась им правдоподобной, просто это была первая высказанная вслух мысль, объясняющая их психические расстройства и состояние запечатленных на фотографиях людей. Затем Эрни и Фэй начали приводить свои доводы. — В таком случае, — первым нарушил молчание Эрни, — было бы логично с их стороны увязать внушенные нам воспоминания с этой аварией и эвакуацией. Ведь именно так они и поступили с нами, семьей Джемисон, Недом и Сэнди Сарвер. Почему же они не внушили то же самое и вам? Почему они заложили вам в память другую программу, ничего общего не имеющую с эвакуацией? Это неразумно и рискованно. Я хочу сказать, что различие в заложенных нам в головы программах может послужить доказательством того, что нам промыли мозги. — Я не знаю, — пожал плечами Доминик. — Это еще одна загадка, которую нам предстоит разгадать. — У этой гипотезы имеется и другое слабое место, — продолжал Эрни. — Если бы мы подверглись заражению биологическим оружием, они бы не отпустили нас спустя три дня. Они бы боялись распространения инфекции, эпидемии. — Допустим, вы правы, — сказал Доминик. — Значит, это было химическое вещество, а не вирус или бактерии. Нечто такое, что они могли смыть или вывести из организма. — Это тоже не звучит убедительно, — продолжал сомневаться Эрни. — В Шенкфилде испытывается смертоносное оружие: ядовитые и нервно-паралитические газы, другие страшные отравляющие вещества. Да попади мы в такое облако, мы бы погибли на месте или сошли с ума. — Может быть, это было вещество медленного действия, — возразил Доминик. — Нечто, вызывающее злокачественную опухоль мозга, лейкемию, какие-то другие заболевания, проявляющиеся спустя несколько лет после заражения. Новая гипотеза вновь повергла всех в шок. Было слышно, как тикают в кухне часы, а за окном завывает ветер. Наконец Эрни произнес: — Может, нас и заразили и мы потихоньку уже гнием изнутри, но лично я так не думаю. В конце концов, в Шенкфилде испытывают оружие. А какой прок от оружия, которое годами не убивает врага? — Действительно, никакого проку в этом нет, — согласился Доминик. — Более того, — развивал свою мысль Эрни, — как с позиции химического заражения объяснить то, что случилось с вами в Рино, в доме Ломака? — Понятия не имею, — обреченно вздохнул Доминик. — Но теперь, когда мы знаем, что был оцеплен огромный район, пусть даже под надуманным предлогом утечки химического вещества, мое предположение относительно промывания нам мозгов выглядит весьма убедительно. Видите ли, до сих пор я не мог найти объяснения тому, как нас могли где-то задержать, чтобы проделать всю эту процедуру. А вот карантин как раз и давал им такую возможность, заодно и уберегая от посторонних глаз. Таким образом, у нас теперь есть хотя бы представление, с кем мы имеем дело: это армия США, возможно, действующая рука об руку с правительством, но не исключаю, что и на свой страх и риск. Именно военные пытаются скрыть нечто чрезвычайное, случившееся здесь, нечто такое, чего не должно было случиться. Не знаю, как вы, но лично я испытываю перед лицом такого мощного и грозного противника жуткий страх. — Старому морскому пехотинцу не пристало бояться армии, — ухмыльнулся Эрни. — В конце концов, они не дьяволы из преисподней. Не стоит думать, что мы несчастные жертвы какого-то заговора крайне реакционных сил. Эта дурацкая идея используется только жаждущими миллионных гонораров писателями и Голливудом, а в реальной жизни зло гораздо коварнее, его не так-то легко распознать. Если во всех наших бедах повинны армия и правительство, это еще не значит, что их действия были негуманными или, тем более, аморальными. Может быть, они считают, что в сложившейся ситуации поступили единственным разумным образом. — Разумно это или нет, — перебила мужа Фэй, — нам следует все же самим докопаться до истины. Если мы этого не сделаем, болезнь Эрни будет прогрессировать. И ваш сомнамбулизм тоже, Доминик. И что потом? Они все понимали, «что потом». Потом — ружейный ствол в рот, путь к спокойствию, проторенный Зебедией Ломаком. Взгляд Доминика упал на книгу регистрации гостей мотеля. Четырьмя графами выше своей фамилии он увидел запись, пронзившую его, словно удар тока. Доктор Джинджер Вайс, отбыла в Бостон. — Джинджер! — воскликнул он. — Четвертое имя на плакате! Над фамилией Джинджер был записан Кэлвин Шаркл, водитель из Чикаго, тот самый, что был запечатлен на фотографии с застывшим, как у зомби, взглядом. А первыми в тот день прибыли супруги Райкофф из Лас-Вегаса с дочерью. Доминик готов был поспорить, что именно они были на семейном фото на фоне двери девятого номера. Зебедия Ломак в книге регистрации не значился, ему, видимо, не довелось поужинать в тот вечер в гриль-баре на шоссе между Рино и Элко. Одно из двух имен должно было принадлежать молодому священнику, тоже снятому «Поляроидом», но он не указал рода своих занятий. — Нам придется поговорить со всеми этими людьми, — взволнованно произнес Доминик. — Завтра же первым делом начнем обзванивать их. Послушаем, что они вспомнят о тех июльских деньках.* * *
Чикаго, Иллинойс Проявив непоколебимую твердость характера и решительность, Брендан добился-таки разрешения отца Вайцежика на поездку в Неваду без монсеньора Джанни в качестве свидетеля грядущего чуда. В десять часов он уже лежал на боку в постели в полной темноте и глядел в окно, подернутое морозным узором. Окно выходило во внутренний двор, на котором в этот час не зажигали огней, так что бледный свет, который он видел в окне, мог быть лишь отражением лунного сияния. Но Луна никак не могла быть теперь над двориком, потому что он наблюдал ее ранее из окон кабинета отца Вайцежика, находившегося на другой половине дома: не могла же она вдруг повернуть на девяносто градусов и изменить свой маршрут по небосводу! Значит, в морозных узорах играл отраженный от снега свет, потому-то он и казался таким мягким. Трудно было оторвать взгляд от серебристых лучей, вспыхивающих в переплетениях белых ледяных кружев и разбегающихся по их тончайшим нитям. — Луна! — прошептал он и сам удивился своему голосу. — Луна! Постепенно Брендан осознал, что происходит нечто невозможное. Поначалу он просто наслаждался гармонией морозных узоров и лунного сияния, но вскоре почувствовал, что не в силах оторвать от окна взгляд: что-то притягивало его, словно песня сирены моряка, и рука вдруг сама потянулась к окну, хотя оно и находилось на расстоянии десяти футов от кровати. Черный контур вытянутой с растопыренными пальцами руки отчетливо вырисовывался в темноте на фоне нежно светящегося заиндевелого стекла, подчеркивая тщетность этого неосознанного устремления. Брендану хотелось раствориться в свете, но не в этом, мерцающем в сплетении морозных кружев, а в каком-то ином, золотистом свете своих грез. — Луна! — вновь прошептал он, сам того не желая. Сердце вдруг затрепетало в груди, его всего затрясло. Сахарно-белый узор на оконном стекле неожиданно претерпел необъяснимую перемену. На глазах у Брендана он начал таять по краям, сжимаясь к центру стекла, и за несколько секунд на нем образовался абсолютно ровный круг льда, около десяти дюймов в диаметре, испускающий жутковатое сияние. Луна. Брендан понял, что это — знак, хотя и не знал, не мог понять, кем или чем он послан. В рождественскую ночь, когда он гостил у родителей в Бриджпорте, Брендан, очевидно, тоже видел во сне Луну, потому что мать и отец даже проснулись от его громких испуганных криков. Но тот сон начисто испарился из его памяти, и с тех пор Луна ему не снилась, насколько он помнил. Зато снился манящий золотистый свет, сулящий невероятное открытие. Рука его продолжала тянуться к окну, и бледно-серебристый круг вдруг начал светиться все ярче, словно в кристаллах льда пошла какая-то химическая реакция. Из молочного он превратился в ярко-белый, как сверкающий под солнцем снег, затем стал еще более ярким и наконец превратился в ослепительно искрящийся круг серебра. С бешено колотящимся в груди сердцем и ощущением надвигающегося чуда Брендан продолжал тянуть руку к окну, как вдруг луч света, вспыхнув в серебристом круге, упал на его кровать. Он напоминал солнечный зайчик и был таким же слепящим. Пока Брендан всматривался в него, пытаясь сообразить, как обычный иней на стекле может испускать столь яркое свечение, луч начал розоветь, потом покраснел, стал малиновым и наконец пурпурным. Измятые простыни окрасились в цвет расплавленной стали, а вытянутая рука с растопыренными пальцами казалась окровавленной. У Брендана возникло острое ощущение, что он однажды уже стоял под кровавой Луной, в таком же зловещем багрянце. И, хотя у него еще не пропало желание понять, какое отношение имеет этот странный красный свет к чудесному золотистому свету его грез, хотя он по-прежнему ощущал зов чего-то неведомого, исходящий из этого сияния, ему вдруг стало страшно. И чем ярче были пурпурные лучи, чем резче выделялись в сумраке комнаты багровые тени, тем сильнее сжимал его сердце страх, перерастая в ужас, от которого бросало в дрожь и пот. Он опустил руку, и багровый свет быстро поблек до серебристого, который тоже потускнел, и круг изморози на стекле засветился прежним ровным лунным отблеском. Комнату вновь наполнил мрак, и Брендан сел на кровати и торопливо включил лампу. Мокрый от пота, все еще не стряхнув с себя остатки наваждения, он подошел к окну, дрожа, словно мальчик, напуганный жутким привидением. Ледяной круг был на прежнем месте, в центре чистого от инея стекла. Он подумал, что все это ему могло и померещиться. Брендану даже хотелось, чтобы это было именно так. Но маленькая ледяная луна свидетельствовала, что это не было галлюцинацией, что все было наяву. Он осторожно прикоснулся к стеклу, но не почувствовал ничего необычного. Нормальный зимний ветер рвался в окно с другой стороны холодного на ощупь стекла. Только сейчас он осознал, что ощущает на ладонях набухшие красные кольца. Он посмотрел на ладони, и стигматы начали блекнуть. Он снова лег в постель, но еще долго лежал с открытыми глазами, не решаясь погасить лампу и погрузиться в темноту.* * *
Округ Элко, Невада Эрни стоял возле ванны и пытался вспомнить точно, о чем он думал и что чувствовал в то раннее утро в субботу, 14 декабря, когда ему вдруг захотелось открыть окно, за которым ему померещился человек в мотоциклетном шлеме. Писатель Доминик Корвейсис стоял возле раковины, а Фэй наблюдала за мужем из-за двери. Отблески света от ламп на потолке и над зеркалом играли на хромированных кранах и штанге душа, мягко отражаясь от клеенчатой занавески и как бы согревая керамическую плитку пола. — Свет! — наконец осенило Эрни. — Я пришел сюда за светом. Меня замучил страх темноты, но я скрывал его от Фэй. Я не мог уснуть и, выскользнув из комнаты, пришел сюда, прикрыл дверь и словно ожил при свете. — Он рассказал, как случайно взглянул на окно и вдруг почувствовал необъяснимую потребность бежать. — Это трудно объяснить… Какие-то дикие мысли ударили в голову, и меня охватила паника. Я подумал, что это единственный шанс спастись и нельзя его терять, что мне срочно нужно выбраться через это окно и бежать в горы, на ранчо, где мне непременно помогут. — Каким образом помогут? — попытался уточнить Доминик. — Почему вам была необходима помощь? Почему вы хотели бежать из дома? — Не имею ни малейшего представления, — нахмурился Эрни. — Ночь была такая мрачная, жуткая. Я открыл окно, высунулся наружу и увидел на крыше сарая человека. — Какого человека? — Я понимаю, это звучит глупо… Но на нем был мотоциклетный шлем, белый шлем с черным щитком на лице. И черные перчатки. Он протянул руку к окну, словно хотел схватить меня за горло, я попятился и упал в ванну. — Вот тогда-то я и услышала шум и прибежала сюда, — вставила Фэй. — Я поднялся, снова подошел к окну и взглянул на крышу, но там уже никого не было. Это были просто галлюцинации. — Это случается при тяжелых формах невроза страха, — авторитетным тоном подтвердила Фэй. Писатель уставился на подернутое изморозью окно над ванной, словно надеясь найти разгадку в хитросплетении молочных узоров. — Это не было галлюцинацией, Эрни, — наконец произнес он. — Мне кажется, это было мгновенное озарение, проблеск памяти. Памяти о позапрошлом лете, об утраченных днях. На какой-то миг ваша подавленная память пробилась на поверхность, высветив тот реальный момент, когда вы на самом деле пытались бежать, оказавшись узником в собственном доме, и тот парень помешал вам. — Но почему в мотоциклетном шлеме? И что ему нужно было на крыше сарая? — спросил Эрни. — Странно, не правда ли? — Он был в специальном защитном костюме и воздухонепроницаемом шлеме, — пояснил Доминик. — Ведь они обеззараживали пораженный участок. — В таком случае это на самом деле была утечка ядовитых веществ, — сказал Эрни. — Возможно, — кивнул Доминик. — Нам пока многое неизвестно. — Но послушайте, — снова вмешалась Фэй, — если все мы испытали одно и то же, почему только вы, Эрни и покойный Ломак страдали от последствий пережитого? Почему меня не мучают кошмары? — Не знаю, — отвел взгляд Доминик. — Это один из вопросов, на которые нам еще предстоит найти ответ. Если, конечно, мы выживем.* * *
Коннектикут — Нью-Йорк Когда деньги были извлечены из автофургона, Джек и его сообщники отогнали перегораживавшие дорогу грузовики в гараж, снятый по фальшивому удостоверению личности. Гараж стоял в длинном ряду подобных ему строений в глухом закоулке среди убогих домишек. Кругом были грязь, облезлые стены, разбитые фонари и наглые бездомные собаки. Вывалив содержимое брезентовых мешков на перепачканный маслом пол, грабители наскоро разложили деньги на пять пачек, примерно по триста пятьдесят тысяч долларов в затертых купюрах в каждой, и спустя пять минут разбежались. Чистая работа. Возвращаясь из Коннектикута к себе в Манхэттен. Джек почувствовал странную перемену настроения. Возможно, виной тому был вдруг поваливший снег. Но ощущение было действительно совершенно новое. Джек не удивился бы, если бы это был очередной приступ тоски или печали, потому что после смерти Дженни прошло всего семнадцать дней. Но чувство, с каждой минутой нараставшее в нем, было абсолютно иным. Это было чувство вины. Лежавшие в багажнике украденные деньги давили на его совесть, словно он совершил первую в жизни кражу. Ни разу за все восемь лет, насыщенных до мелочей продуманными и успешно осуществленными ограблениями, некоторые из которых были даже крупнее, чем нападение на бронефургон, не испытывал он ни малейшего угрызения совести. Он чувствовал себя справедливым мстителем. А сейчас вдруг впервые почувствовал себя преступником. Чем ближе он приближался к Манхэттену, тем острее ощущал свою вину. Это чувство обволакивало его, словно липкая бумажная лента, и, как он ни старался стряхнуть его, оно не уходило. Снег повалил гуще. Мысли в голове Джека закружились, словно снежинки, подхваченные ледяным ветром, и он вдруг осознал, что это чувство не случайно, оно накапливалось в нем давно, проявляясь первоначально как неудовлетворенность, преследовавшая его в последние месяцы. Разочарование впервые дало о себе знать в минувшем октябре после ограбления ювелирного магазина. Теперь он понимал, что именно тогда ему следовало бы обратить внимание на свои эмоции. Возможно, теперь он не мучился бы так сильно и не вынужден был бы разрывать завалы в памяти, пытаясь докопаться до корня проблемы. К своему немалому удивлению, Джек обнаружил, что последний раз получил удовольствие от работы позапрошлым летом, провернув дельце в округе Марин, к северу от Сан-Франциско. Обычно Джек работал только в восточных районах, чтобы быть поближе к Дженни, но его приятель Бренч Поллард, тот самый, с которым они только что взяли бронефургон, обосновался на некоторое время в Калифорнии, где однажды и вышел на Аврила Мак-Аллистера. Этот промышленник имел состояние в двести миллионов долларов и жил в своем имении за каменными стенами под охраной электронной системы безопасности и сторожевых псов. Из различных источников Бренчу удалось установить, что Мак-Аллистер собирает редкие марки и монеты, исключительно привлекательный для похищения товар, который легко сбыть. Кроме того, трижды в году Мак-Аллистер ездит играть в казино в Лас-Вегас, где обычно оставляет по четверти миллиона за поездку, но иногда и срывает крупный куш. Выигрыш он всегда получает наличными, чтобы не платить налога, и часть этих денег наверняка хранит в своем особняке. Бренч нуждался в Джеке как в опытном организаторе и специалисте по электронике, а Джеку хотелось чего-то новенького, и, взяв в сообщники еще одного человека, они провернули это дело. Проникнуть за стену усадьбы, а потом и в дом им, благодаря скрупулезному планированию операции, удалось довольно легко. У них с собой было электронное прослушивающее устройство, способное улавливать тихие щелчки механизма сейфа и облегчающее подбор цифр кодовой комбинации, а для подстраховки сообщники прихватили и полный комплект инструментов для взлома да еще и пластиковую взрывчатку в придачу. Но их ожидало разочарование: дело было в том, что у Аврила Мак-Аллистера в доме стоял не просто сейф, а настоящая банковская стальная камера, причем промышленник был настолько уверен в ее надежности, что даже не потрудился как-то замаскировать ее, а просто замуровал в стену огромной комнаты отдыха. Прослушивающее устройство Джека оказалось недостаточно чувствительным, чтобы уловить пощелкивание тумблеров сквозь нержавеющую сталь толщиной двадцать дюймов, а взрывчаткой такую махину было не взять, не говоря уже о наборе инструментов «медвежатника» — об этом смешно было даже подумать. Так что они остались без марок и монет, утешившись столовым серебром, несколькими редкими фолиантами и драгоценностями супруги фабриканта, легкомысленно не спрятанными в сейф, да еще всякой мелочью, на общую сумму в 60 тысяч долларов, что было гораздо меньше того, на что они рассчитывали, хотя не так уж и плохо. Несмотря на фиаско, Джек решил сделать перерыв в работе. Пару дней они с Бренчем вялились на калифорнийском солнце, посмеиваясь над своей неудачей, а потом Джек решил рискнуть своей долей в игорных заведениях Рино. Спустя сутки он уже имел в кармане 107 тысяч 455 долларов и в прекрасном расположении духа укатил в Нью-Йорк, на свидание с Дженни, снова взяв напрокат машину по фальшивому удостоверению. И теперь, возвращаясь спустя восемнадцать месяцев в Манхэттен из Коннектикута, Джек понял, что, как ни парадоксально, но та неудачная попытка поживиться в особняке Мак-Аллистера была последним делом, доставившим ему удовлетворение. С этого момента и началось его перевоплощение из законченного злодея в кающегося грешника. Но почему? Что обусловило эту метаморфозу? Что питает это новое чувство? Ответа на эти вопросы Джек не знал. Он знал только, что больше не способен думать о себе как о сентиментальном бандите-романтике, мстящем за несправедливое отношение общества к нему самому и его любимой жене. Теперь он был обычным вором, который восемь лет обманывал сам себя, живя без всякой цели, никому не нужный. От этой мысли Джеку стало муторно. Возвращаться в пустую квартиру не хотелось, и он кружил по улочкам Манхэттена, пока не очутился на 5-й авеню, возле собора Святого Патрика. Здесь он импульсивно прижался к тротуару, остановился в неположенном месте, вылез из машины, обошел ее, открыл багажник и взял из пластикового мешка для мусора шесть пачек двадцатидолларовых банкнотов. Оставлять машину в запрещенном для стоянки месте, да еще с кучей украденных денег, оборудованием для взлома сейфов и оружием в багажнике было непростительной глупостью. Если бы сейчас полицейский, решивший его оштрафовать, заподозрил неладное и осмотрел автомобиль, Джеку настал бы конец. Но ему было на все наплевать. Он был как бы мертвецом, чудом передвигающим ноги, как Дженни, мертвая женщина, которая все же дышала. Хотя Джек и не был католиком, он потянул на себя одну из окованных бронзой дверей собора, вошел внутрь, в неф[72], где в этот поздний час несколько человек в первых рядах склонились в молитве и какой-то старик зажигал свечу за упокой чьей-то души, постоял немного, глядя на изящный балдахин над алтарем, потом достал из кармана пачки денег, разорвал на них упаковку и засунул деньги в ящик для пожертвований — столь же спокойно, как если бы он выбрасывал мусор в контейнер. Выйдя вновь на улицу, он вдруг остановился на гранитных ступенях лестницы и с удивлением огляделся вокруг: что-то изменилось в ночной 5-й авеню. Все так же лениво кружились в морозном воздухе крупные снежинки, высвечиваемые сиянием фонарей и фарами машин на проезжей части, но город внезапно обрел тот ореол таинственности, шарма и блеска, который Джек всегда ощущал в нем до того, как очутился в Центральной Америке, и почему-то перестал замечать, вернувшись оттуда. Город сейчас казался ему чище, чем в последние годы, а воздух свежее. Изумленно озираясь по сторонам, Джек постепенно понял, что никакой стремительной метаморфозы с городом за прошедшие пять минут не произошло. Он остался таким же, каким был и час назад, и вечер. Но сам он вернулся из Центральной Америки другим человеком, уже не прежним Джеком, и потому и город, и все общество стали ему ненавистны. Многое из того, что казалось ему в Большом Яблоке[73] мрачным и неизменным, на самом деле было лишь отражением его собственного разрушенного и выжженного, искаженного внутреннего мира. Джек снова сел за руль «Камаро» и поехал на запад, в сторону 6-й авеню, к северу от Центрального парка, свернул направо, еще раз направо, вновь выехав на 5-ю авеню, и двигался по ней на юг, пока не показалось здание пресвитерианской церкви, возле которого он вновь остановился, нарушив правила, взял из багажника деньги и вошел в храм. Здесь не было ящика для пожертвований, как в соборе Святого Патрика, но Джек разыскал молодого священника, уже запирающего помещение на ночь, и сунул ему в дрожащую от удивления руку несколько пачек десяти- и двадцатидолларовых банкнотов, пробормотав что-то о выигрыше в казино в Атлантик-Сити. Таким образом он избавился уже от 30 тысяч долларов. Но это составляло все равно менее десятой части того, что он привез из Коннектикута, и не успокаивало его совесть. Напротив, он стал еще острее ощущать стыд, деньги в багажнике, казалось, укоряли его, как говорящее сердце невинной жертвы укоряло убийцу в рассказе Эдгара По. В пластиковом мешке оставалось еще 330 тысяч долларов. Для некоторых ньюйоркцев Рождество, похоже, еще только наступало, две с половиной недели спустя.* * *
Округ Элко, Невада Позапрошлым летом Доминик жил в мотеле в двадцатом номере. Он хорошо это помнил, потому что эта комната была крайней в «аппендиксе» восточного крыла. Любопытство Эрни Блока взяло верх над его боязнью темноты, и он решил сопровождать Фэй и Доминика в эту комнату, где, как они надеялись, обстановка поможет писателю вспомнить события тех июльских дней. Эрни шел между Фэй и Домиником, которые держали его за руки. Поеживаясь на холодном ночном ветру, Доминик радовался, что догадался прихватить с собой куртку на шерстяной подкладке. Эрни больше досаждала темнота: позабыв о холоде, он думал только о том, как бы не споткнуться, ибо шел с закрытыми глазами. Первой вошла в комнату Фэй и сразу же зажгла свет и задернула шторы. За ней, ведя за руку Эрни, перешагнул порог Доминик. Эрни решился открыть глаза только после того, как Фэй захлопнула дверь. Едва оказавшись в номере, Доминик направился к кровати, на которой лежал после инъекции наркотика. — Покрывало, конечно же, новое, — сказала Фэй. На фотографии был виден край покрывала с цветами. То, что он видел сейчас, было модной, в коричнево-голубую полоску, расцветки, не навевающей никаких воспоминаний. — Кровать та же, что и тогда, и вся обстановка тоже, — добавил Эрни. Мягкая передняя спинка кровати была обшита грубым коричневым сукном, слегка лоснящимся и потертым. На двух тумбочках, облицованных ореховым шпоном, стояли вычурные настольные лампы на черных металлических подставках, с двумя желтыми дымчатыми стеклами по бокам; колпаки у ламп тоже были желтоватого оттенка. В каждом светильнике было по две лампочки — основная, под абажуром, и дополнительная, в подставке, — эта была выполнена в форме пламени свечи и испускала тусклый мерцающий свет, имитирующий настоящее пламя, по-видимому, ради усиления декоративного эффекта. Теперь Доминик вспомнил все до мелочей, и ему казалось, что комната наполняется призраками. — Вспомнили что-нибудь? — спросил Эрни. — Я хотел бы взглянуть на туалетную комнату. Она была маленькой и строго функциональной: с душем, но без ванны, крапчатой плиткой на полу и унитазом с крышкой из темной пластмассы. Но Доминика интересовал умывальник, потому что он был точно таким, каким виделся ему в кошмарном сне. Но когда Доминик заглянул в раковину, то, к своему удивлению, увидел там механическую пробку. Аварийный сток, на случай перелива, тоже был совершенно другой конструкции, с тремя круглыми отверстиями чуть ниже края раковины вместо шести ромбовидных отверстий, которые ему снились. — Та раковина была старой, с резиновой затычкой на шариковой цепочке, прикрепленной к крану холодной воды, — наморщил он лоб. — Мы постоянно обновляем оборудование, — ответил Эрни из дверного прохода. — Раковину мы поменяли около девяти месяцев назад, — сказала Фэй, — тогда же, когда поставили новый стульчак — того же цвета, что и прежний. Доминик был разочарован, потому что не сомневался, что, дотронувшись до умывальника, он вспомнит какие-то подробности тех выпавших из памяти дней. Ведь самое страшное случилось с ним, если судить по его снам, именно на этом самом месте, и вид умывальника мог пробудить дремлющие в подсознании воспоминания. Он положил руки на новый умывальник, но не почувствовал ничего, кроме холода фаянса. — Ну как, вспоминается? — снова спросил Эрни. — Нет, — покачал головой Доминик. — Ровным счетом ничего… Так, смутные предчувствия. Мне кажется, если я поживу в этом номере, я что-нибудь вспомню. Вы не возражаете, если я останусь здесь на ночь? — Никаких проблем, — сразу согласился Эрни. — Комната ваша. — Сдается мне, что сегодняшний кошмар будет страшнее всех предыдущих, — сказал Доминик.* * *
Лагуна-Бич, Калифорния Хотя Паркер Фейн и являлся одним из самых почитаемых художников Америки и его полотна покупали все крупные музеи, хотя его работами интересовались сам президент Соединенных Штатов и другие выдающиеся личности, он был не настолько стар и не настолько высокомерен и избалован славой, чтобы отказать себе в удовольствии немного пощекотать нервы, распутывая интригу, затеянную против его друга Доминика Корвейсиса. Чтобы стать известным, художнику необходимы зрелость, чутье, мастерство и глубокое восприятие мира. Но в равной мере ему не обойтись и без детского любопытства, любознательности, наивности и умения радоваться жизни. Паркер обладал этими качествами в полной мере и ценил их значительно выше, чем другие художники, и потому играл свою роль в планах Доминика с воодушевлением подлинного искателя приключений. Ежедневно забирая почту Доминика, Паркер делал вид, что ни сном ни духом не подозревает за собой слежку, а на самом деле все время выискивал в толпе наблюдателей — шпионов, полицейских, кого угодно, кто мог бы этим заниматься, но ни разу не заметил за собой хвоста. И каждый вечер, выходя из дома, чтобы дождаться в условленном месте звонка от Доминика, он долго кружил по городу, отрываясь от предполагаемых преследователей, пока не убеждался, что таковых нет. В субботу вечером, за несколько минут до девяти часов, он, как обычно, запутав следы, подъехал к телефонной будке, о которой заранее условился с Корвейсисом. Проливной дождь, хлеставший по плексигласовым стенкам будки, надежно защищал Паркера от любопытных глаз. В защитного цвета полупальто и шляпе с опущенными полями он чувствовал себя героем романа Джона Ле Карре, и ему это чертовски нравилось. Звонок раздался ровно в девять. Это был Доминик. — Действую точно по плану, нахожусь в мотеле «Спокойствие». Это именно то место, Паркер. У Доминика накопилось много новостей: настораживающий случай, происшедший с ним в гриль-баре при мотеле, страх перед темнотой Эрни Блока, странные фотографии, сделанные «Поляроидом», — о них он сообщил лишь намеком, но Паркер догадался, о чем идет речь. Предосторожность была просто необходима. Если мотель «Спокойствие» на самом деле был центром забытых событий позапрошлого лета, телефоны Блоков могли прослушивать. А если те, кто это делает, услышат о фотографиях, они узнают, что среди них изменник, и обнаружат его, и тогда уже не будет ни писем, ни снимков. — У меня тоже есть новости, — обрадовал друга Паркер. — Мисс Вайкомб, твой редактор, оставила на твоем автоответчике сообщение: «Сумерки в Вавилоне» еще раз переизданы, и теперь в магазинах уже сто тысяч экземпляров. — Боже мой, я ведь совершенно забыл о книге! После посещения дома Ломака я не мог ни о чем думать, кроме как об этой чертовщине, творящейся вокруг. — Мисс Вайкомб просила ей позвонить, как только у тебя появится такая возможность. Она хочет тебе еще что-то сказать. — Непременно позвоню. Кстати, ты видел какие-нибудь любопытные картины? — спросил Доминик, подразумевая новые снимки, сделанные «Поляроидом». — Нет. И не читал никаких забавных заметок, — ответил в том же духе Паркер, косясь на проезжающие мимо автомобили, свет фар которых на мгновение вспыхивал в каплях дождя на стенах будки мириадами мерцающих огоньков. — Но у меня есть для тебя одна сногсшибательная новость, дружище. Ты уже определил, кому принадлежат три из четырех имен на плакатах в доме Ломака. Не угодно ли узнать, кто четвертый? — Джинджер? Забыл тебе сказать. Я думаю, что это ее имя записано в регистрационной книге мотеля. Доктор Джинджер Вайс из Бостона. Я собираюсь завтра ей позвонить. — Ты украл у меня сенсацию! Но тебя, видимо, удивит, что сегодня от нее пришло письмо. Она послала его на адрес издательства еще 26 декабря, но письмо где-то завалялось. Короче говоря, она близка к разгадке, понимаешь? А когда она прочла «Сумерки» и увидела твою фотографию, то поняла, что вы уже встречались с ней раньше и что ты тоже причастен к происходящему с ней. — Письмо у тебя с собой? — взволнованно спросил Доминик. Паркер ждал этого вопроса, держа письмо наготове. Он зачитал его, беспокойно оглядываясь по сторонам. — Мне нужно ей немедленно позвонить, — заявил Доминик, прослушав текст до конца. — Это нельзя откладывать. Я свяжусь с тобой завтра вечером в девять. — Если будешь звонить из мотеля, где телефоны могут прослушиваться, то мне незачем бегать к этой будке. — Ты прав. Я позвоню тебе домой. Будь осторожен, — сказал Доминик. — И ты тоже, — ответил Паркер и повесил трубку. Хлопотным вечерним прогулкам, кажется, настал конец. Но покой означал и конец интригам. Паркер вышел из будки под дождь и был едва ли не разочарован тем, что в него никто не выстрелил.* * *
Бостон, Массачусетс Пабло Джексона похоронили утром, но образ его, словно привидение, стоял перед мысленным взором Джинджер Вайс и днем, и вечером. Пабло с его мягкой и чуточку грустной улыбкой… Уединившись в отведенной ей комнате для гостей в особняке Ханнаби, она пыталась читать, но не смогла сосредоточиться, снедаемая то воспоминаниями о старом фокуснике, то тревожным предчувствием. В четверть первого ночи она легла спать и уже тянулась к выключателю светильника, когда в комнату неожиданно вошла Рита Ханнаби с известием, что ей звонит Доминик Корвейсис, с которым она может поговорить из кабинета Джорджа на первом этаже. Взволнованная и встревоженная, Джинджер накинула поверх пижамы халат и спустилась вниз. Кабинет, примыкавший к спальне супругов Ханнаби, был обит мореным дубом. Толстый китайский ковер, окрашенный в бежевый и густо-зеленый цвета, лампа из цветного стекла от «Тиффани» придавали ему тепло и уют. Заспанные глаза Джорджа не оставляли сомнений в том, что телефонный звонокподнял его с постели: он рано приступал к операциям и обычно уже в половине десятого ложился спать. — Извините, — виновато произнесла Джинджер. — Не стоит извиняться, — отмахнулся Джордж. — Это не то, чего мы ждали? — Может быть, — ответила Джинджер уклончиво, боясь растревожить свои почти угаснувшие надежды. — Мы, пожалуй, выйдем, чтобы не мешать вам, — сказала Рита. — Не нужно, — попросила Джинджер, — лучше останьтесь. — Она села за письменный стол и взяла радиотелефон. — Алло? Мистер Корвейсис? — Доктор Вайс? — Голос был сильным, но приятного тембра. — Это просто замечательно, что вы решили послать мне письмо. Я не думаю, что у вас поехала крыша. Дело в том, что не только вы столкнулись с этой проблемой, есть и другие, испытывающие нечто похожее. Джинджер прочистила горло. — Простите, мне сейчас трудно говорить… — И не пытайтесь пока, давайте лучше я расскажу вам о том, с чем сам столкнулся, — перебил ее Корвейсис. — Я брожу по ночам во сне. И снится мне Луна. По телу Джинджер пробежала дрожь. — Да, пожалуй, Луна, — согласилась она. — Я не запоминаю снов, но, похоже, вижу в них именно Луну, потому что я просыпаюсь от собственного крика и кричу именно о ней. Он рассказал ей о человеке по имени Ломак из Рино, который покончил с собой, не выдержав лунного наваждения. — Нам всем промыли мозги, — выпалила Джинджер. — Все наши мучения — результат пробуждения подавленной памяти. Корвейсис ответил не сразу. — Я предполагал это, — наконец нарушил молчание он, — но вы говорите это вполне уверенно. Видимо, у вас есть на то основания. — Да, есть. Я прошла курс восстановительной гипнотерапии, и в результате мы получили доказательства целенаправленного подавления памяти. — Что-то случилось с нами позапрошлым летом, — произнес Доминик. — Да! Именно тогда, в мотеле «Спокойствие» в Неваде. — Оттуда я вам сейчас и звоню. — Как? — ахнула она. — Вы сейчас там? — Да. И, если сможете, приезжайте. Нам нужно о многом поговорить, но не по телефону. — Кто эти люди? — в совершенном отчаянии воскликнула она. — Что они хотят скрыть? — У нас больше шансов все выяснить, если мы станем действовать сообща. — Я прилечу. Завтра же, если мне удастся заказать билет. Джордж нахмурился, Рита протестующе замахала руками. — Я дам вам знать, когда буду на месте, — закончила разговор Джинджер и положила аппарат на стол. — Вам лучше пока воздержаться от такого путешествия, — посоветовал озабоченный Джордж. — Что, если у тебя начнется припадок в самолете? — спросила, в свою очередь, Рита. — Все будет хорошо, — успокоила их Джинджер. — Дорогая, у тебя было три приступа в прошлый понедельник! Джинджер глубоко вздохнула и откинулась на спинку зеленого кожаного кресла. — Рита, Джордж! Вы были очень добры ко мне, я не знаю, как я смогу вас отблагодарить. Я люблю вас, поверьте. Но я прожила у вас уже пять недель и за это время превратилась в беспомощного ребенка. Дальше так продолжаться не может. Я должна быть в Неваде. У меня нет иного выбора. Я должна там быть.* * *
Нью-Йорк Отъехав на два квартала от пресвитерианской церкви на 5-й авеню, Джек снова остановился, на этот раз у епископальной церкви Святого Фомы. Войдя в неф, он в изумлении уставился на громадные мраморные завесы за алтарем, обвел взглядом статуи святых, апостолов, Девы Марии, Христа, многозначительно взирающие на него из сумрака ниш вдоль стен, и понял, что главная цель религии — искупление вины, прощение людей за их слабость и несовершенство. Человеческий род оказался неспособен подняться до уровня своих возможностей, и чувство собственной вины довело бы многих до безумия, если бы они не уверовали, что Бог — будь то Иисус, Иегова, Магомет или Маркс — в отличие от них самих взирает на них благосклонно. Но Джек не нашел в этом храме умиротворения, и на душе у него не полегчало даже тогда, когда он опустил в ящик для пожертвований 20 тысяч. Снова сев в автомобиль, он твердо решил избавиться от всех денег в багажнике, но не потому, что надеялся таким образом в какой-то мере искупить свою вину, — простое перераспределение ценностей еще не является моральным эквивалентом искупления. У него было слишком много грехов, чтобы замолить их за одну ночь. Джеку просто больше не нужны были деньги, но выбросить их в мусорный ящик он не мог, так что оставался лишь один способ избавиться от этого проклятого дерьма — раздать людям. Он зашел еще в несколько храмов и везде, где двери были открыты, оставил деньги. Потом он подъехал к бюро Армии спасения и всучил 40 тысяч долларов опешившему ночному сторожу. В китайском квартале на Бейерд-стрит Джек заметил в окне второго этажа вывеску, на которой по-английски и по-китайски было написано: «СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА КИТАЙСКИХ МЕНЬШИНСТВ». На первом этаже, прямо под помещением Союза, находилась аптека, где продавались лекарства, изготовленные по рецептам традиционной китайской медицины, травы и коренья. Аптека была закрыта, но в офисе Союза горел свет. Джек нажал на кнопку звонка над дверью в аптеку и не отпускал ее до тех пор, пока по лестнице к двери не спустился сморщенный старичок китаец. Удостоверившись, что Союз главной своей задачей считает помощь китайским беженцам из Вьетнама и их нуждающимся родственникам, оставшимся в этой стране, он просунул сквозь дверную решетку пачку денег — 20 тысяч долларов. От изумления китаец перешел на родной язык и, открыв дверь, вышел на улицу, чтобы пожать Джеку руку. — Друг, — сказал престарелый мандарин. — Ты не представляешь, какие страдания облегчит этот дар! — Друг, — повторил Джек за стариком, пожимая его теплую мозолистую ладонь. В одном этом слове, в сердечном рукопожатии он обрел то, что, как ему казалось, безвозвратно утратил: чувство сопричастности, товарищества, принадлежности обществу. Он доехал до Мотт-стрит, свернул направо и прижался к тротуару, вынужденный остановиться: из глаз его хлынули слезы. Ни разу в жизни он не был так смущен, в таком смятении, как сейчас. Отчасти он плакал потому, что на мгновение ему подумалось: позорное пятно никогда не исчезнет с его души и он всегда будет чувствовать себя виноватым. Но к слезам горечи примешивались и слезы радости от нового ощущения братства. Почти все минувшие десять лет он был вне общества, отстранившись от него и помыслами, и духом, и едва ли не телом. Но теперь, впервые после возвращения из Центральной Америки, у Джека Твиста появилось стремление, желание и, главное, умение находить друзей и участвовать в жизни общества. Озлобление завело его в тупик. Выпестованная им в собственном сердце ненависть больнее всего ударила его самого. Плодом отчуждения стало одиночество. Последние годы он часто оплакивал Дженни, а потом и самого себя. Но сейчас он рыдал совсем по другой причине: по щекам его струились слезы очищения, умиротворения, он как бы изливал в них, выплакивал всю свою злость и ярость. Все еще не понимая, чем вызвана эта стремительная перемена в нем, Джек чувствовал, что его обновление и очищение не закончились и ему предстоит еще пройти долгий и тернистый путь, прежде чем он из преступника и отщепенца станет законопослушным гражданином. Что ждет его в конце этого пути? Какие сюрпризы готовит ему судьба? В эту холодную зимнюю ночь в китайском квартале Джек Твист вновь обрел надежду.* * *
Округ Элко, Невада Нед и Сэнди Сарвер умудрялись управляться в гриль-баре вдвоем, потому что, во-первых, были трудолюбивы по натуре, во-вторых, готовили всего несколько самых простых, но сытных и вкусных блюд, а в-третьих, Нед поднаторел в поварском деле во время службы в армии и знал множество хитростей, помогавших поддерживать марку гриль-бара на должном уровне. Тем не менее к концу дня Сэнди уставала и радовалась тому, что на следующий день не нужно открывать заведение раньше полудня, поскольку Эрни и Фэй сами обеспечивают гостей бесплатными легкими завтраками. В субботу вечером, поджаривая на гриле гамбургеры и гренки и подавая сосиски с острым соусом, Нед то и дело посматривал на Сэнди. Он все еще не мог привыкнуть к произошедшим в ней переменам. Она похорошела и поправилась на десять футов, обрела привлекательную округлость и женственность, не шаркала, ссутулившись, по бару, а грациозно порхала между столиками, мило улыбаясь гостям. Не он один обратил внимание на перемены в Сэнди, многие водители провожали маслеными взглядами ее ладную фигурку, когда она проходила мимо с подносом, уставленным едой и холодным пивом. До последнего времени Сэнди не особенно болтала с клиентами, хотя и была с ними безукоризненно вежлива. Но теперь, все еще смущаясь, она отвечала шутками на заигрывания шоферов и даже сама порой поддразнивала их. Впервые за восемь лет супружества Нед Сарвер боялся потерять Сэнди. Он знал, что она любит его, и пытался убедить себя, что перемены в ее поведении и внешности не повлекут за собой изменений их отношений. Но происходило именно то, чего он боялся. Утром, когда Сэнди укатила в Элко встречать в аэропорту Эрни и Фэй, Нед опасался, что она уже не вернется. Уедет в другой город, найдет себе мужчину посимпатичней, поумней и побогаче, чем он, а его забудет. Он понимал, что нечестно подозревать в подобных намерениях Сэнди, неспособную на измену, и оправдывался перед самим собой тем, что раньше всегда думал: Сэнди достойна лучшего мужа, чем он, Нед Сарвер. В половине десятого, когда почти все гости поужинали и в баре оставалось только семь человек, Фэй и Эрни вдруг появились с тем самым смуглым и симпатичным парнем, который раньше устроил в баре целое представление, сперва войдя в зал с полусонным видом, а потом неожиданно бросившись бежать очертя голову, словно за ним гнались собаки. Неду стало любопытно, что это за человек и откуда он знает Эрни и Фэй, и известно ли им, что их друг немного чокнутый. Эрни был странно бледен и шел как-то не очень уверенно, почему-то норовя все время быть спиной к окнам. Когда он в знак приветствия помахал Неду рукой, было заметно, что она дрожит. Фэй и незнакомец сели напротив друг друга, и по их лицам Нед догадался, что они озабочены состоянием Эрни. Да и сами они выглядели неважно. Заинтригованный Нед тотчас же и думать позабыл, что Сэнди может его бросить. Но, когда Сэнди подошла к их столику, чтобы принять заказ, и подозрительно долго возле него задержалась, Нед снова заволновался. Разговора он не слышал, мешало расстояние и шипение яичницы на сковороде, но незнакомец, несомненно, проявлял к Сэнди необычный интерес, и она к нему, похоже было, тоже. Все это, естественно, только казалось ему, в нем говорила ревность, но приезжий парень все-таки был смазливый и гораздо моложе его, Неда, примерно одного возраста с Сэнди и явно преуспевающий. Как раз с таким-то она и могла от него убежать. Нед Сарвер был не очень высокого мнения о себе. Он не был уродом, но и красавцем тоже. Его каштановые волосы были стянуты со лба на затылок и заплетены в косу — такую прическу вряд ли назовешь сексуальной, если вы, конечно, не Джек Николсон. Его водянистые глаза, быть может, и лучились привлекательным опаловым светом в молодые годы, но теперь погасли и выцвели. Он не только не был богат, но даже и не стремился к богатству в свои 42 года. Все эти самоуничижительные мысли крутились у Неда в голове, пока Сэнди наконец не отошла от столика, за которым сидел незнакомец, и подошла к стойке. — Когда мы сегодня закрываемся? — озабоченно поинтересовалась она. — В десять или в десять тридцать? — В десять, — буркнул Нед. — Сегодня нет смысла задерживаться, бар почти пуст. Сэнди кивнула и пошла назад к Фэй, Эрни и незнакомцу. По его мнению, он обладал только тремя качествами, привлекательными для Сэнди. Во-первых, он мог обеспечить ей сносную жизнь, потому что был приличным поваром. Во-вторых, он обладал даром все чинить. Это относилось как к неодушевленным предметам, так и к живым существам. Если ломался тостер, миксер или радиоприемник, Нед брал в руки инструмент, и вскоре прибор снова работал. И точно так же, если он находил птичку со сломанным крылом, он гладил ее, пока она не успокаивалась, а потом приносил домой, лечил и отпускал на волю. Умение приводить вещи в порядок Нед считал очень важным качеством и гордился, что обладает им. И наконец, в-третьих, он любил Сэнди — душой и телом — и не представлял без нее своей жизни. Готовя заказанные блюда, Нед то и дело поглядывал на Сэнди и был немало удивлен, когда она и Фэй начали опускать на окнах жалюзи. Происходило нечто необычное. Вернувшись за столик, Сэнди вновь вступила с незнакомцем в серьезный разговор. Как это ни смешно, но именно благодаря таланту Неда приводить все в порядок Сэнди и превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Когда они только познакомились в Таксоне, где вместе работали в кафе, Сэнди была забитой, пугливой дурнушкой. Работала она, правда, старательно и всегда была готова помочь другой официантке, не успевающей выполнить заказы. Но в личной жизни она была стеснительной и замкнутой. Бледненькая, похожая в свои 23 года больше на девочку, чем на женщину, она чуждалась друзей, боясь довериться кому-то и быть коварно обманутой. Она была так унижена и истерзана жизнью, что Нед не мог не помочь девушке наладить ее, но делал это исподволь, ненавязчиво, так что она даже и не догадывалась, что он заинтересовался ею. Спустя девять месяцев они поженились, хотя до завершения его работы над преображением Сэнди было еще очень далеко: это было, пожалуй, самое искалеченное из всех несчастных созданий, которых он исцелял, и были даже периоды, когда у него опускались от отчаяния руки, а в голову закрадывалась мыслишка, что даже при всем его таланте он не сможет изменить ее до конца дней, просто-напросто зря промучается. Тем не менее в первые шесть лет их совместной жизни он все же замечал в ней признаки медленного исцеления. Обладая, бесспорно, живым умом, Сэнди была малоэмоциональна, скупа на проявление и восприятие чувств, хотя и старательно училась этому, с упорством тупоумного ребенка постигая азы нормальных человеческих взаимоотношений. Первым признаком существенных перемен в Сэнди стало для Неда ее новое отношение к сексу: у нее вдруг проявился к нему интерес, и случилось это в конце августа позапрошлого года. Сэнди не была стеснительна в любви, напротив, она проявляла в плотских утехах обширные познания и навыки, но предавалась им скорее как машина, не проявляя никакой страсти. Он не встречал женщины более молчаливой в постели, чем Сэнди. Видимо, что-то надломило ее в юности — то же самое, что задержало и ее духовное развитие. Он пытался поговорить с женой откровенно, но натолкнулся на глухую стену молчания, намертво замуровавшую прошлое, и отказался от попыток проникнуть в него, боясь, что Сэнди уйдет от него, если он станет упорствовать. Но, надо сказать, отказался не без сожаления, потому что, согласитесь, трудно что-либо починить в целом, если не можешь добраться до поломанной части. Так вот, в конце позапрошлого лета Сэнди начала вести себя в супружеской постели заметно иначе. Вернее, поначалу она все еще молчала, только стала раскованной, иногда даже улыбалась или бормотала что-то, когда он ласкал ее. Постепенно, день ото дня, она расцветала и к Рождеству уже не лежала в постели словно бревно, а подлаживалась под амплитуду его движений, шепча его имя и явно стремясь к кульминации, но все еще не достигая ее. Шаг за шагом Сэнди освобождалась от скованности, пока наконец 7 апреля прошлого года, в ночь, которую Нед никогда не забудет, она впервые испытала оргазм. Это была каденция такой потрясающей мощи, что Нед сперва даже испугался; потом она рыдала от счастья и прижималась к нему, исполненная благодарности, любви и веры, и он тоже плакал. Нед подумал, что долгожданный прорыв дремавших в ней чувств облегчит их разговор по душам, но она решительно воспротивилась его попытке возобновить его: «Прошлое пусть остается в прошлом, Нед. Не надо его будоражить. Иначе оно снова затянет меня в свою трясину…» В течение минувшей весны, лета и осени Сэнди все чаще получала удовлетворение, пока наконец в сентябре не стала достигать оргазма почти каждый раз. А три недели назад, на Рождество, стало ясно, что она не только созрела сексуально, но и в корне пересмотрела отношение к самой себе. Сэнди начала проявлять интерес и к вождению автомобиля, занятию, еще недавно для нее даже более нудному, чем любовь. Поначалу она выразила желание вести машину по пути на работу, а потом пристрастилась и к сольным автомобильным прогулкам. Стоя у окна и наблюдая, как выпущенная им из клетки птичка улетает, Нед всякий раз вместе с радостью испытывал и смутное беспокойство, которому не находил объяснения. И только под Новый год, когда это томление уже переродилось в тревогу, он наконец понял, что просто боится, как бы Сэнди навсегда не упорхнула от него. И не исключено, что именно с этим незнакомцем, с которым она так увлеченно теперь болтала. «Видимо, я сгущаю краски, — думал Нед, выкладывая гамбургеры на сковородку. — Да нет же, все это ерунда, банальная ревность». Но тем не менее продолжал нервничать. Когда гамбургеры были готовы для Блоков и их гостя, все другие посетители уже покинули гриль-бар. Пока Сэнди подавала на стол аппетитное кушанье, Фэй заперла дверь и включила на табло надпись «ЗАКРЫТО», хотя не было еще и десяти часов. Нед тоже подсел к ним за стол, чтобы получше разглядеть незнакомца и не дать ему ухлестывать за Сэнди. К своему изумлению, он увидел перед собой две открытые бутылки пива, хотя он почти не пил, да и Сэнди тоже. — Глоток-другой тебе не повредит, — многозначительно сказала Сэнди. — А может статься, и пара бутылок. Как выяснилось, незнакомца звали Доминик Корвейсис. Он рассказывал такие потрясающие вещи, что у Неда пропали все подозрения насчет предполагаемой неверности жены. А когда после Корвейсиса своими переживаниями поделились Эрни и Фэй, Нед не выдержал и вмешался в разговор: — Но я точно помню, что нас эвакуировали! Мы тогда еще устроили себе в вагончике нечто вроде отпуска: три дня смотрели телевизор, читали книги… — Вам это просто внушили, — улыбнулся Корвейсис. — Кто еще может подтвердить, что вас не было в мотеле? К вам заходили соседи? — Да у нас, в общем-то, и нет никаких соседей, — растерялся Нед. — Мы живем на окраине поселка. — Нед, — перебила мужа Сэнди, — им интересно знать, не случилось ли с нами за это время что-либо не совсем обычное. Нед лишь посмотрел ей в глаза, и она без всяких слов поняла, что ей нужно самой решить, рассказывать о случившемся или нет. — В ту ночь вы оба были в мотеле, — сказал Корвейсис. — Я ужинал в баре, и как раз тогда-то все и началось, и вы участвовали во всех этих событиях. Только потом у вас, как и у других, украли память. При мысли о том, что кто-то манипулировал с его памятью, Нед поежился и, чтобы как-то отвлечься, начал рассматривать лежащие на столе цветные снимки, сделанные «Полариодом», особенно тот, где был Корвейсис с остекленелым взглядом. — Послушай, милочка, — обратилась Фэй к Сэнди, — мы с Эрни не слепые. Не хочу тебя смущать или принуждать, но если перемены, случившиеся с тобой, каким-то образом связаны со всей этой чертовщиной, ты должна нам все рассказать. Сэнди сжала ладонь Неда, и ему стало стыдно за свою ревность и глупые подозрения. Не поднимая глаз от бутылки с пивом, она сказала: — Почти всю жизнь я была о себе крайне низкого мнения, и я сейчас объясню вам, почему так случилось. Вы должны знать, как тяжело мне жилось в детстве и сколько сделал для меня Нед, чтобы я наконец поверила в себя, и какое это чудо, что я начала себя уважать. — Выпалив все это, она перевела дух, еще крепче сжала руку мужа и продолжала: — Он начал ухаживать за мной почти девять лет назад — первый мужчина, который вел себя со мной как с дамой. Он женился на мне, зная, что внутри я вся скована, исковеркана и стянута мертвыми узлами, и восемь лет лечил и пестовал мою душу. Он думал, я ничего не вижу и не понимаю, но я… Ее голос сел, и она отхлебнула пива, чтобы успокоиться. Нед от потрясения онемел. — Дело в том, — продолжала исповедоваться Сэнди, — дело в том, что случившееся позапрошлым летом на самом деле каким-то образом воздействовало на меня. Но, если бы Нед не заботился обо мне все эти годы, у меня никогда не появился бы шанс перемениться. У Неда перехватило дыхание и заколотилось сердце от этих слов, исполненных любви и признательности. Бросив на него взгляд, Сэнди вновь уставилась на пивную бутылку и начала рассказывать о своем кошмарном детстве. Подробности издевательств, чинимых ее папашей, она опустила, но поведала, не без смущения, о том, что испытала в Лас-Вегасе, куда он отвозил ее время от времени в распоряжение мерзкого сводника. Все были потрясены услышанным, а Нед обнял и прижал Сэнди к груди, когда она закончила свой драматический рассказ. Он был поражен силой ее воли и отныне полюбил жену еще сильнее. Всем требовалось еще пиво. Нед сходил и принес из холодильника пять бутылок «Дос Эквиса». — Но это переворачивает все с ног на голову, — недоуменно покачал головой Корвейсис. — Если исходить, конечно, из того, что на всех нас случившееся произвело совершенно иной эффект. Я в некотором роде тоже извлек из этого выгоду, потому что выбрался из своей скорлупы. Но Эрни, доктор Вайс, Ломак — ведь все они испытывали ужас, их мучили кошмары. Как же объяснить положительное воздействие этого происшествия на Сэнди? Вы на самом деле не испытываете никакого страха, Сэнди? — Никакого, — подтвердила она. Все это время Эрни сидел ссутулившись и опустив голову, словно бы ожидая внезапного нападения сзади. Теперь же, сжав рукой бутылку пива, он распрямил спину и слегка расслабился. — Верно, — откликнулся он. — Я начал бояться темноты именно после того загадочного происшествия. Но помните, я говорил вам о том месте, что неподалеку отсюда, всего в четверти мили? Не сомневаюсь, что там произошло что-то жуткое и, видимо, имеющее прямое отношение к промыванию мозгов. Когда я оказываюсь рядом с тем местом, я испытываю нечто большее, чем страх. У меня колотится сердце, я сразу возбуждаюсь, но это какое-то странное возбуждение, к чувству страха примешиваются и другие эмоции. — Мне кажется, это то же самое место, куда меня невольно тянет, когда я выезжаю покататься на машине, — сказала Сэнди. — Я так и знал! — обрадовался Эрни. — Когда мы утром возвращались из аэропорта, я подумал: «Сэнди тоже чувствует это проклятое место!» Ты еще снизила там скорость, верно? — А что именно ты ощущаешь, проезжая мимо этого заколдованного места, Сэнди? — спросила Фэй. — Покой, — с теплой улыбкой произнесла Сэнди. — Мне там очень спокойно. Это трудно объяснить. Понимаете, мне кажется, что от камней и деревьев там исходит спокойствие, все дышит гармонией… — А мне там совсем не спокойно, — передернул плечами Эрни. — Я испытываю страх и лихорадочное возбуждение, какое-то неестественное предчувствие потрясающего открытия. Оно и влечет меня к себе, и до смерти пугает. — Ничего похожего я не испытываю, — ответила Сэнди. — Нужно съездить туда, — предложил Нед. — Проверить, какие эмоции пробуждает это место в остальных. — Утром, — сказал Корвейсис, — когда будет светло. — Мне кажется, это место может воздействовать на каждого из нас по-разному, — заметила Фэй. — Но вот о чем я думаю: почему ни у меня, ни у Неда нет никаких странных ощущений? Почему то, что довело до самоубийства Ломака и столь трагически воздействовало на доктора Вайс из Бостона, изменило жизнь Доминика и Сэнди, напугало Эрни, почему это никак не затронуло нас? — Может быть, вам с Недом поосновательней промыли мозги? — предположил Доминик. От этой гипотезы Нед вновь покрылся гусиной кожей. Некоторое время они еще обсуждали ситуацию, потом Нед предложил, чтобы Корвейсис попытался восстановить ход событий той самой пятницы, 6 июля, с того момента, когда наступает провал в памяти. — Вы ведь помните первую половину вечера лучше остальных, — сказал он. — И, насколько я понял, сегодня чуть не вспомнили нечто важное, когда зашли сюда в первый раз. — Верно, — согласился Корвейсис, — но в последний момент, когда я что-то уже начал припоминать, ноги вдруг сами понесли меня к выходу из бара. Представляю, как нелепо я выглядел. Я совершенно не отдавал себе отчета в том, что делал. Боюсь, это может повториться, если попытаться еще раз восстановить те далекие события. — Все равно нужно попробовать, — настаивал Нед. — Теперь вам будет легче, ведь мы рядом, — добавила Фэй. Корвейсис отхлебнул пива, встал из-за стола, не выпуская из руки бокала, и направился к двери. Встав к ней спиной, он сделал еще один глоток, оглядел помещение, словно всматриваясь в лица сидевших здесь в тот вечер людей, и сказал: — Трое или четверо мужчин сидели за стойкой. Там еще были люди, но их лиц я не помню. — Он медленно двинулся по проходу мимо Неда и остальных, подошел к соседнему столику, выдвинул стул и сел. — Вот здесь я тогда расположился. Сэнди принесла меню, я заказал ужин и бутылку пива. Когда я солил жареную картошку, солонка выскользнула и соль просыпалась на стол. Я бросил щепотку через плечо — глупость, конечно, к тому же я угодил солью в лицо мисс Вайс, которая как раз шла по проходу. Теперь я словно наяву вижу ее лицо — это та самая блондинка с фотографии. Фэй ткнула пальцем в лежащий на столе напротив Неда снимок. Корвейсис продолжал: — Очень красивая женщина, я не мог оторвать от нее глаз. Нед подумал, что в нормальной обстановке эта женщина с бледным лицом и пустыми мертвыми глазами, возможно, действительно недурна. Между тем Корвейсис продолжал говорить все тем же неестественным голосом, словно бы перенесясь в прошлое: — Она села за дальний столик, у окна. Солнце зависло над горизонтом, комната залита золотистым светом. Я заказал еще пива, мне не хочется уходить… — Он отхлебнул из бокала. — Равнины стали багровыми, потом черными. Наступила ночь… Завороженный отчаянной попыткой Доминика оживить свою память, Нед тоже попытался припомнить тот вечер, и не безуспешно: ему вспомнился молодой священник, запечатленный на одном из лежавших на столе снимков, потом — супружеская пара с дочерью. Корвейсис встревоженно огляделся по сторонам и приложил правую ладонь к уху: — Какой-то необычный гул. Вот он нарастает, приближается… Дальше ничего не помню, темный провал… Когда писатель упомянул нарастающий гул, Неду Сарверу почудилось, что он тоже слышит этот звук. Он чувствовал, что стоит на краю черного провала, в который и хочется, и боязно заглянуть, но понимает, что обязан одолеть страх. С замирающим сердцем он произнес: — Постарайтесь припомнить этот рокот, напрягите свою память, может быть, тогда вспомнится и все остальное. Неожиданно Нед услышал этот звук, но он возник не из прошлого, а наяву, глухой раскат отдаленного грома. Но это была не серия раскатов, а сплошной и все усиливающийся грохот. Нед окинул взглядом присутствующих: все тоже слышали тот же звук. Он становился все громче и громче, Нед уже чувствовал, как дрожит все его тело. Он не мог вспомнить, что произошло в тот проклятый вечер, но был уверен, что именно с такого же звука все и началось. В жутком волнении Нед вскочил со стула, готовый бежать куда глаза глядят, лишь бы не слышать этого гула. Сэнди тоже встала, несомненно, испуганная, и сжала плечо мужа. Эрни и Фэй встревоженно оглядывали помещение, ища источник звука. Они не выглядели испуганными: вероятно, они не помнили грохота в тот вечер и не связывали его с сегодняшним. К раскату грома прибавился еще один странный звук, похожий на резкий сигнал сирены. Он тоже был знаком Неду. Все повторялось. События 18-месячной давности невероятным образом повторялись! Боже, как такое возможно? — Нет, нет. Нет! — завопил Нед и вздрогнул от собственного истошного крика. Слегка попятившись от стола, за которым когда-то сидел, Корвейсис с испугом взглянул на Неда. Лицо его побледнело. От грохота уже дрожали оконные стекла за жалюзи, к ним вскоре присоединились и сами металлические створки, издававшие жалобное бряцанье. Сэнди намертво вцепилась в плечо Неда. Эрни и Фэй тоже вскочили с мест, и вид у них был испуганный, как и у всех остальных в баре. Истошные звуки сирены становились все громче, переходя в резкий, пронзительный вой. — Что это? — закричала Сэнди. От жуткого грохота и визга уже тряслись стены. Стакан на столе, за которым сидел Корвейсис, со звоном скатился на пол и разбился, осколки стекла и брызги пива веером разлетелись в разные стороны. Соусница, перечница, солонка и вся посуда прыгали по столу, один за другим падали на пол бокалы, звенели, сталкиваясь, бутылки. Вот уже по всему залу все посыпалось со столов на пол, а со стены сорвались и разбились часы. «То же самое творилось в баре и в тот июльский вечер! — вдруг вспомнил Нед. — Но что было потом?» — Прекратить! — командным басом рявкнул Эрни, но это не произвело никакого эффекта. «Землетрясение?» — подумал Нед, но усомнился: откуда в таком случае взялся этот совершенно неестественный визг? Между тем в баре уже подпрыгивали стулья, один из них ударил писателя, и тот от неожиданности тоже подскочил на месте. Под ногами у Неда заходил ходуном пол. Громоподобный грохот и электронный визг, похожий на завывание сирены, достиг пика, у всех заложило уши. Раздался оглушительный треск: из окон посыпались лопнувшие от вибрации стекла. Фэй вскрикнула, закрыв ладонями лицо, а Эрни зашатался и едва не перелетел через стул. Сэнди уткнулась лицом в грудь Неда. Если бы не жалюзи, их наверняка исполосовало бы осколками. Но сила хлопка была такова, что жалюзи самопроизвольно взлетели вверх, и осколки посыпались на столики, стулья и пол. Тишина. Вслед за звоном лопнувших оконных стекол вдруг наступила тишина, нарушаемая лишь слабым позвякиванием отдельных осколков, выпадающих из фрамуг. В ту июльскую ночь позапрошлого лета дело этим не ограничилось, но Нед так и не вспомнил, что же было дальше. На сегодня же загадочный спектакль, похоже, окончен. Из легкого пореза на щеке Доминика сочилась кровь. Мелкими стекляшками Эрни поранило лоб и правую ладонь. Убедившись, что Сэнди цела и невредима, Нед побежал к двери. Выскочив наружу в темноту ночи, он огляделся вокруг, надеясь установить причину случившегося, но ничего, кроме тишины и темноты, не обнаружил. У подножия холма, на котором стояли мотель и гриль-бар «Спокойствие», мерцали огоньки автомобильных фар. Из мотеля вышло несколько гостей, растревоженных непонятным шумом. Небо было усыпано яркими звездами. Легкий холодный ветерок походил на дыхание Смерти. Не было видно ничего такого, что могло бы вызвать гром, сотрясение земли или взрывную волну. Из гриль-бара выскочил взволнованный Доминик. — Что за чертовщина? — воскликнул он. — Я думал, вам лучше знать, — отозвался Нед. — То же самое случилось позапрошлым летом. — Я знаю. — Но это было всего лишь началом. Что же, черт возьми, было потом? — Я тоже ничего не помню. Корвейсис повернул руки ладонями вверх и поднес их к глазам. В голубом свете неоновых ламп на крыше гриль-бара он увидел на своих ладонях распухшие красные круги. — Что все это значит? — воскликнул он. Из дверей гриль-бара вышла Сэнди. Нед подошел и обнял ее: по телу Сэнди пробегала крупная дрожь. — Ты трясешься как осиновый лист, — шепнула ему Сэнди. Только теперь Нед осознал, насколько сильно он сам испугался. С живостью ясновидца он представил себе, какая громадная, неописуемая угроза нависла над всеми ними, угроза, с которой справиться ему было не под силу. Неду стало жутко при одной мысли о том, что Сэнди может погибнуть, и впервые после их знакомства он почувствовал, что не может защитить свою жену. Над горизонтом всплывала бледная Луна.Глава 5 12 января — 14 января
1
Суббота, 12 январяВоздух был густым, как расплавленный металл. Во сне Доминик никак не мог вдохнуть, придавленный огромной тяжестью. Он задыхался, он умирал. Перед глазами все словно заволокло туманом. Двое незнакомцев приблизились к нему, оба в белых синтетических защитных костюмах и шлемах с темными щитками, как у астронавтов. Один встал справа от Доминика и принялся лихорадочно отсоединять капельницу, извлекая иглу из его вены. Другой, слева, следил за показаниями электрокардиографа, явно ими недовольный. Они расстегнули ремни, которыми Доминик был привязан, приподняли и прислонили его к спинке кровати, отсоединив от тела электроды, затем поднесли к его губам стакан, но он не мог пить, поэтому они задрали ему голову и насильно влили в рот какую-то противную жидкость. Мужчины разговаривали между собой по встроенному в шлемы радио, но они так близко наклонились над Домиником, что он слышал их голоса даже сквозь темный плексиглас щитков. — Сколько задержанных отравили? — спросил один из них. — Трудно точно сказать, — ответил другой. — Это все полковник Фалькирк. Проклятый полковник Фалькирк! — Но нам никогда не доказать это, никогда не зацепить его! Новый кадр. Ванная в мотеле. Удерживая Доминика на ногах, неизвестные тычут его лицом в раковину. Он слышит, что они ему говорят: они настаивают, чтобы он сблевал. Проклятый полковник Фалькирк каким-то образом отравил его, и эти ребята влили в него рвотное и теперь хотят, чтобы он побыстрее очистил свое отравленное нутро. Доминик тужится, но у него ничего не выходит. Его кишки судорожно сжимаются, вот-вот полезут изо рта, но рвоты нет. С него струится пот, словно жир с поджариваемого на вертеле цыпленка, но все его усилия опустошить желудок напрасны, яд продолжает разъедать его. — Нам нужен желудочный зонд, — произносит один из парней. — У нас нет желудочного зонда, — отвечает второй. Они сильнее нагибают голову Доминика над раковиной умывальника. Доминик едва дышит, обливаясь потом, изо рта капает слизь, он напрягается из последних сил и наконец извергает вонючую струю. Новый кадр. Он снова в постели. Слабый, мокрый, едва живой. Но может наконец дышать, слава богу! Люди в непроницаемых костюмах делают ему укол, нейтрализующий действие яда, который ему вводили с помощью капельницы. Доминик почти теряет сознание. — Фалькирк идиот, — говорит один из его спасителей. — Мы вполне могли бы держать их под колпаком. — Он боится, что блокада памяти постепенно ослабнет, — возражает его напарник, — и один из них все вспомнит. — Может быть, он и прав. Но если всех отравить, куда девать трупы? Налетят, как шакалы, вездесущие репортеры, и все раскроется. Нет, достаточно просто хорошенько промыть им мозги, и все будет шито-крыто. — Не надо убеждать меня, попробуй убедить Фалькирка. Фигуры мужчин растаяли, как и голоса, и Доминик переместился в иное царство кошмаров. Он больше не чувствовал себя слабым, его уже не тошнило, зато страх перерос в пронзительный ужас, и он помчался, охваченный паникой, не понимая, от кого и почему хочет скрыться, лишь чувствуя за спиной погоню: нечто страшное, не относящееся к роду человеческому, настигло его, наступило на пятки, пока он не понял, что не в силах убежать и должен обернуться, и остановился, задыхаясь, вскинул голову и, пораженный увиденным, закричал: — Луна! Доминика разбудил его собственный крик. Он был в двадцатой комнате, на полу рядом с кроватью, измученный ночной борьбой с неведомым преследователем. Он поднялся с пола и плюхнулся на кровать. Будильник показывал 3 часа 7 минут утра. Мелко дрожа, он обтер влажные ладони о простыню. Двадцатая комната оказала на него ожидаемый эффект. Память, растревоженная жуткой вибрацией в гриль-баре, ночью расщедрилась на новые красочные подробности уже знакомых кошмаров. Собственно, это были и не сны в обычном понимании этого слова, не игра больного воображения, а мимолетные картины реального прошлого, отраженные в кривом зеркале. Это были сны-воспоминания, всплывшие вдруг из темных глубин его подсознания, в котором они были утоплены, словно трупы, замурованные в бетонные блоки и сброшенные с моста в воду. Он действительно подвергся в этом номере промыванию мозгов, а до этого некий полковник Фалькирк вообще пытался отравить его, чтобы он не смог рассказать о том, что видел. «Этот чертов Фалькирк прав, — подумал Доминик. — В конце концов мы одолеем блокаду памяти и вспомним всю правду. Ему следовало бы нас всех уничтожить».
* * *
Утром в воскресенье Эрни купил у знакомого в Элко несколько листов фанеры, распилил их по размеру разбившихся оконных стекол и с помощью Неда и Доминика еще до полудня вставил в рамы. Он не хотел вызывать стекольщика, опасаясь, что все может повториться. До выяснения причины странного явления было бы глупо вставлять новые стекла. Гриль-бар временно закрыли. Так же решено было поступить и с мотелем «Спокойствие», чтобы вплотную заняться таинственной историей с «токсичным выбросом». После отъезда оставшихся гостей все жертвы таинственного происшествия, если они того пожелают, смогут поселиться в свободных номерах и принять участие в расследовании. Таким образом, мотель превращался в казарму, где до завершения войны с неизвестным противником будут расквартированы войска.* * *
Когда разбитые окна были заколочены, все забрались в микроавтобус и отправились к тому загадочному месту около федерального шоссе, которое так влекло к себе Эрни и Сэнди. Стоя возле оградительного рельса, все пятеро устремили взгляды на юг, надеясь разглядеть в суровом ландшафте какую-то зацепку, которая поможет разгадать таинственное прошлое. Схваченные январским морозцем равнины, поросшие травой и кустарником, изрезанные холмы, валуны и скалы не баловали взор многоцветьем красок: их темные — коричневые, серые и багровые — тона лишь местами оживляли белые пятна песка и снега. Зрелище это нагнетало тоску и уныние, усугубляемые затянувшими небо тучами, но при этом сохраняло, бесспорно, суровое величие. Фэй очень хотелось ощутить нечто особенное в этом месте, ибо в противном случае, если она абсолютно ничего не почувствует, ей придется смириться с мыслью о том, что люди, промывшие ей мозги, полностью взяли ее под свой контроль. Она и мысли не допускала о безусловном подчинении чужой воле, готовая отстоять свои принципы и достоинство. Но эта гордая и одаренная женщина не чувствовала ровным счетом ничего, кроме холода зимнего ветра. На Неда и Доминика, кажется, эта местность действовала острее, чем на Фэй, но внимание ее было обращено на Сэнди и Эрни: эти двое явно воспринимали здешний пейзаж как-то иначе, словно получали от него какое-то зашифрованное послание. При этом Сэнди очаровательно улыбалась, а Эрни все больше бледнел и болезненно морщился, испуганно озираясь вокруг. — Давайте подойдем поближе, — сказала Сэнди. — Вон туда. Все пятеро перелезли через заграждение и спустились по склону насыпи на поросшую дикими грушами, лебедой и кустарником равнину. Пройдя шагов сто, они очутились на местности, покрытой, словно ковром, густой шелковистой бурой травой, что, впрочем, было вполне естественно для границы южной полупустыни и северных горных пастбищ. Отойдя от шоссе на двести ярдов, они остановились на участке, внешне ничем не отличавшемся от окрестного ландшафта. — Это здесь, — с содроганием произнес Эрни, пряча руки в карманы и втягивая голову в поднятый воротник дубленки. — Да, здесь, — с улыбкой подтвердила Сэнди. Они разбрелись по участку, местами запорошенному снегом, сквозь который пробивались к солнцу осенние цветы, — эти следы зимы да отсутствие зеленой травы было единственным, что отличало этот дикий ландшафт от того, каким он был позапрошлым летом. Через минуту Нед объявил, что ощущает необъяснимую связь с этой землей, хотя и не чувствует умиротворения, как Сэнди. Напротив, его вдруг обуял столь сильный страх, что он поспешил покинуть это место. Доминик тоже почувствовал нечто необычное, но не страх, а скорее благоговейный трепет, предчувствие чуда. И только Фэй осталась ко всему абсолютно равнодушна. — Так что же, в конце концов, здесь приключилось? — обращаясь ко всем, спросил Доминик. Небо стало свинцовым от сгустившихся туч. Ветер усилился, и Фэй зябко поежилась. Ей хотелось увидеть людей, бесцеремонно вторгшихся в ее разум, взглянуть им в глаза и спросить, как они смеют так неуважительно относиться к личности. Теперь, когда она знала, что стала жертвой чьих-то манипуляций, она уже не чувствовала себя в безопасности. Сухая полынь зловеще шуршала и скрипела на порывистом ветру. Заиндевелые стебли своим негромким стуком друг о друга навели Фэй на мысль, что это вовсе и не растения, а скелеты маленьких доисторических животных, чудесным образом оживших в этой пустыне.* * *
Вернувшись в мотель, Эрни, Сэнди и Нед уселись за кухонным столом в ожидании, пока Фэй приготовит кофе и горячий шоколад, а Доминик — на стул возле телефона на стене: положив перед собой регистрационную книгу за позапрошлый год, он раскрыл ее на странице с записями за пятницу 6 июля и начал обзванивать всех, кто в тот далекий летний вечер тоже пережил таинственные перипетии. Помимо него самого и Джинджер Вайс, в книге в тот день записалось еще восемь человек. Один из них, Джеральд Салко из Монтерея, штат Калифорния, снял для себя, жены и двух дочерей два номера, но оставил только адрес, не указав номера телефона. Узнать же номер на станции Доминику не удалось. Разочарованный, он попытался связаться с Кэлвином Шарклом, водителем из Эванстона, пригорода Чикаго, но и на этот раз потерпел неудачу: указанный в книге номер оказался отключенным. — Давайте посмотрим более поздние записи, — предложил Эрни. — Вдруг он перебрался в другой город? Может быть, у нас записан его новый адрес. Фэй принесла Доминику кофе иприсоединилась к сидевшим за столом. Доминик пока решил попытаться дозвониться по третьему телефону, и на этот раз ему повезло: трубку взяла женщина. — Миссис Райкофф? — спросил Доминик. — Бывшая миссис Райкофф, — неуверенно ответила женщина. — Теперь моя фамилия Монтанелла, мы с мужем развелись. — Понимаю. Видите ли, меня зовут Доминик Корвейсис. Я звоню вам из мотеля «Спокойствие», что в округе Элко. Вы с вашим бывшим мужем и дочерью останавливались здесь на несколько дней летом позапрошлого года, в июле, не так ли? — Да, верно. — Скажите, не испытывает ли кто-либо из членов вашей семьи каких-то затруднений вроде страхов или других необычных ощущений? — Это что? — В голосе женщины к неуверенности прибавилось негодование. — Оригинальная шутка? Вы ведь знаете, что случилось с Аланом. — Прошу вас, миссис, поверьте мне: я понятия не имею, что случилось с вашим бывшим супругом. Но я наверняка знаю, что кто-то из вас, он, вы сами или ваша дочь, страдает необъяснимым психическим расстройством, его постоянно мучают кошмары, которые он не может утром вспомнить, но в которых непременно фигурирует Луна. Его собеседница тихо охнула и надолго замолчала. Сообразив, что она расплакалась, Доминик поспешно добавил, боясь, что она положит трубку: — Послушайте, я не знаю, что с вами стряслось, но худшее позади. Поверьте, худшее позади, поскольку теперь, что бы ни случилось, вы будете по крайней мере не одиноки. А более чем за 24 сотни миль к востоку от округа Элко, в Манхэттене, Джек Твист в этот воскресный полдень раздавал деньги. После ограбления бронефургона в Коннектикуте он объехал в поисках страждущих весь город, но так и не избавился от всех наличных денег до пяти утра. Уставший и измученный, он вынужден был наконец вернуться в свою квартиру на 5-й авеню, где немедленно завалился на кровать и заснул. Ему опять приснились пустынное шоссе на фоне залитого лунным светом ландшафта и незнакомец в странном шлеме с темным забралом, который его преследовал. Когда Луна вдруг стала кроваво-красной, он от ужаса проснулся. Часы показывали ровно час дня. «Что означала эта кровавая Луна? — подумал он. — И означает она что-либо вообще?» Джек побрился, оделся и наскоро позавтракал апельсином и черствым рогаликом. Затем он забрался в большой стенной шкаф в спальне, снял ложную панель и принялся осматривать содержимое тайника. Драгоценности из ограбленного в октябре ювелирного магазина были удачно проданы скупщику краденого, а большая часть денег, захваченных у мафии на товарном складе в начале декабря, переведена в чеки и отправлена по почте на счета Джека в швейцарские банки. Оставалось только 125 тысяч, его неприкосновенный фонд на чрезвычайный случай. Он переложил почти все наличные деньги в портфель: девять пачек в банковской упаковке по сто стодолларовых банкнотов в каждой, оставив в тайнике более 25 тысяч, сумму, вполне достаточную для крайнего случая, потому что отныне он не намеревался больше заниматься преступной деятельностью и, соответственно, не мог оказаться в ситуации, когда необходимо срочно скрыться из штата или из страны. Хотя Джек и намеревался избавиться от значительной части незаконно добытого богатства, он, конечно же, не думал раздать все и остаться нищим: это, возможно, и помогло бы ему спасти свою душу, но существенно затруднило бы дальнейшую жизнь, не говоря уже о том, что было бы просто глупо. У него имелись депозитные сейфы в одиннадцати столичных банках, где хранились наличные, отложенные на тот случай, если он лишился бы возможности забрать деньги из тайника в спальне. В этих хранилищах лежало ни много ни мало четверть миллиона долларов. На счетах в швейцарских банках у него скопилось четыре миллиона долларов, гораздо больше, чем ему было нужно, так что в течение двух ближайших недель он намеревался расстаться с половиной этих денег, а потом подумать, как жить дальше. В половине четвертого Джек вышел из дому с набитым деньгами портфелем. Лица прохожих, на протяжении последних восьми лет казавшиеся ему угрюмыми и враждебными, сегодня выглядели радушными и многообещающими — все до одного!* * *
На кухне у Блоков пахло кофе, шоколадом, корицей и пирожными. Фэй достала из холодильника гренки и сунула их в духовку. Все остальные сидели за столом и слушали, как Доминик обзванивает людей, гостивших в мотеле в ту особенную июльскую ночь с пятницы на субботу. Ему удалось дозвониться до Джима Гестрона, фотографа из Лос-Анджелеса. В то лето Гестрон путешествовал по Западу, делая серию снимков по заказу ряда иллюстрированных журналов. Сперва он слушал довольно спокойно, даже дружелюбно, но потом явно охладел к взволнованному рассказу Доминика: видимо, ему промыли мозги так же основательно, как и Фэй. Его не мучили кошмары и не обуревали странные увлечения и идеи. Выслушав монолог Доминика о промывании мозгов, маниакальном увлечении Луной, самоубийствах и паранормальных явлениях, он заявил, что все это безумный бред, и положил трубку. Гарриетта Беллот из Сакраменто заинтересовалась сообщением Доминика не более, чем Гестрон. Тем не менее она рассказала, что ей пятьдесят лет, что она не замужем, работает в школе учительницей и каждое лето путешествует по местам былых сражений с индейцами, ночуя в палатке или в мотелях. Голос ее звучал твердо и уверенно, как и положено хорошо поставленному голосу строгого педагога, не терпящего никаких глупостей со стороны учеников. Стоило Доминику начать распространяться о такой ерунде, как полтергейст, она тотчас же прервала разговор. — Ну как, Фэй, тебе не стало немного легче? — спросил Эрни. — Как видишь, не у тебя одной так тщательно стерли память. — Мне от этого совсем не легче, — ответила Фэй. — Уж лучше мучиться, как ты и Доминик, чем вообще ничего не испытывать. Мне кажется, что от меня что-то отрезали и выбросили на помойку, даже не поставив меня об этом в известность. Доминик подумал, что Фэй, видимо, права. Все эти ночные кошмары, страхи и ужасы все-таки лучше, чем полная пустота в груди — темная, холодная, словно кусочек самой смерти, от которого уже никогда не избавиться.* * *
Отец Вайцежик обсуждал в своем кабинете с представителями общества «Рыцари Колумба» план подготовки к ежегодному весеннему чествованию святой Бернадетты, когда в 4 часа 26 минут пополудни на кухне раздался телефонный звонок: писатель Доминик Корвейсис разыскивал Брендана Кронина. В половине пятого беседу служителей церкви прервал взволнованный отец Майкл Джеррано: он сообщил, что отца Вайцежика срочно просит подойти к телефону «племянник» из Невады. Брендан Кронин вылетел рейсом компаний «Юнайтед» в Рино всего лишь несколько часов назад, на день раньше, чем планировал, воспользовавшись тем, что кто-то отказался от полета, и намеревался добраться до Элко самолетом местной авиалинии только в понедельник. В этот момент он все еще был в воздухе и никак не мог звонить по телефону, поэтому отец Вайцежик поспешно извинился перед коллегами, мысленно поблагодарив помощника за сообразительность, и побежал на кухню, весьма заинтригованный этим неожиданным звонком. В лице отца Стефана, с его благоговейным отношением ко всему таинственному и мистическому, писатель-фантаст Доминик Корвейсис нашел самого благодарного слушателя и горячего собеседника. В обмен на сведения о пережитых Бренданом злоключениях и загадочных происшествиях отец Вайцежик получил информацию о полтергейсте, сомнамбулизме, никрофобии, луномании и самоубийствах. — Мистер Корвейсис, — не выдержал под конец разговора священник, — вы допускаете, что происходящее с Бренданом имеет все-таки божественную природу? Лично я, как закоснелый церковник, смею на это надеяться. — Скажу вам откровенно, святой отец: я не усматриваю здесь деяний Господа. Как ни удивительны эти случаи чудесного исцеления полицейского и девочки, о которых вы упомянули, слишком многое говорит о скрытом присутствии чисто человеческих факторов. — Возможно, вы и правы, — вздохнул отец Стефан. — Но я все равно не теряю надежды на то, что Брендан призван свыше засвидетельствовать в Неваде нечто такое, что вернет ему веру. Я буду стоять на своем до конца. Писатель тихо рассмеялся. — Из того, что мне удалось о вас узнать из нашего разговора, святой отец, у меня сложилось впечатление, что вы ни при каких обстоятельствах не упустите возможность вернуть заблудшую душу в лоно церкви. Мне кажется, вы спасаете души не так, как другие священники, — убеждая, утешая и ободряя, но скорее как кузнец, выковывающий для других спасение в поте лица и не жалея сил. Прошу вас не обижаться, это комплимент. — Я так и понял, — рассмеялся в ответ отец Стефан. — Я твердо придерживаюсь мнения, что ради серьезной цели нужно потрудиться, а на пустяки не стоит и размениваться. Мне нравится этот образ — кузнеца, склонившегося над пылающим горном. — С нетерпением жду завтрашней встречи с отцом Кронином. Если он похож на вас, святой отец, мы будем рады иметь такого союзника. — Я тоже на вашей стороне, — сказал отец Вайцежик. — Звоните, если понадобится моя помощь. И, если окажется, что эти события все-таки свидетельствуют о Божественном Провидении, я не намерен оставаться в стороне и упустить самое интересное.* * *
Следующими в книге гостей значились Брюс и Жанет Кейбл из Филадельфии. Они не испытывали никаких неприятных ощущений и не мучились, как Доминик, Эрни и другие. Рассказ Доминика заинтересовал супругов, но под конец и они охладели к нему. Последним в тот вечер записался Торнтон Уэйнрайт — он оставил свой нью-йоркский адрес и телефон. Однако, когда Доминик набрал указанный номер, на другом конце трубку сняла миссис Нейл Карполи, которая заявила, что вот уже четырнадцать лет, как она живет здесь и никакого Уэйнрайта не знает. Мало того, неверным оказался и сам адрес. — Ложный адрес и номер телефона? — изумилась, услышав эту новость, Сэнди. — Был ли это обычный гость? Может быть, кто-то нарочно вписал это имя, чтобы запутать нас? Ничего не понимаю.* * *
У Джека Твиста имелось восемь полных комплектов фальшивых документов: водительских прав, свидетельств о рождении, карточек социального страхования, кредитных карточек, даже читательских билетов библиотек, в том числе и на имя Торнтона Бейнса Уэйнрайта: подготавливая и осуществляя очередное ограбление, он никогда не действовал под собственным именем. Но в это воскресенье, раздавая очередную сотню тысяч долларов по всему Манхэттену, он вообще никак не представлялся изумленным счастливчикам. Самый крупный подарок достался молодому моряку и его невесте, с удрученным видом стоявшим возле своего сломавшегося «Плимута», и без того изрядно помятого, возле памятника Симону Боливару. «Купите себе новый автомобиль! — приговаривал Джек, суя им пачки денег в руки и под матросскую бескозырку жениха. — И, если голова у вас на месте, вы не станете трезвонить об этом по всему свету, особенно газетчикам. И моего имени вам знать не нужно, и благодарить тоже. Просто любите друг друга, договорились? Всегда будьте внимательны друг к другу, потому что никто не знает, сколько времени ему отпущено в этом мире». Не прошло и часа, как Джек раздал все 100 тысяч долларов, взятые из тайника в чулане спальни, после чего купил букет красных роз и поехал в Вестчестерский округ к могиле Дженни. Джек не захотел хоронить ее на городском кладбище, для Дженни это не подходило. Он решил подобрать ей для вечного сна местечко где-нибудь за городом, среди поросших травой холмов и тенистых деревьев, вдали от нью-йоркской суеты, там, где и летом и зимой все дышит покоем. Он приехал на кладбище незадолго до наступления сумерек и уверенно направился по дорожке прямо к участку Дженни. Ненастный день незаметно перешел в унылый вечер, кругом царила бесцветная тишина, скрашиваемая лишь яркими розами. Джек уселся прямо в снег, холодный и мокрый, и заговорил с Дженни так, как разговаривал с ней, пока она была в коме. Он рассказал ей о нападении на бронефургон минувшей ночью, о том, что раздал все деньги, которые захватил в результате ограбления, не замечая, что стало уже совсем темно и пора уходить с кладбища. Но об этом ему напомнил ночной сторож, выпроваживавший запоздалых посетителей, и Джеку волей-неволей пришлось встать. Он в последний раз взглянул на надгробие с высеченным бронзовыми буквами именем Дженни, тускло мерцающими в голубоватом свете фонарей, и прошептал: — Я меняюсь, Дженни, хотя и не знаю почему. Но, кажется, меняюсь в лучшую, правильную сторону. Все это так странно… — Слова, которые он потом произнес, удивили его самого: — Что-то значительное должно случиться очень скоро, Дженни. Я не знаю, что именно, но со мной произойдет что-то совершенно грандиозное. — Он вдруг почувствовал, что и внезапное ощущение вины, и примирение с обществом всего лишь начало большого путешествия, которое приведет его в самые невообразимые места. — Грядут большие события, — повторил он. — Как жаль, что тебя нет рядом со мной, Дженни.* * *
Голубое небо Невады, начав облачаться в темные доспехи из штормовых туч еще несколько часов назад, когда Эрни, Нед и Доминик заколачивали выбитые окна фанерой, к вечеру совершенно помрачнело, и по дороге в аэропорт весь окружающий мир казался Доминику задрапированным в серое солдатское сукно. Предстоящая встреча с Джинджер Вайс лишила Доминика покоя: не в силах томиться в зале ожидания, он вышел на гудронированное взлетно-посадочное поле, пронизываемое ветром, и, переминаясь с ноги на ногу и кутаясь в поднятый воротник теплой куртки, стал прислушиваться к рокоту моторов десятиместного самолета, который с минуты на минуту должен был вырваться из-за низких облаков. Рев двигателей усиливал ощущение надвигающейся войны, и Доминик с тревогой подумал, что они действительно готовятся к бою с неведомым противником, собирая из добровольцев свою армию. Самолет остановился на площадке в восьмидесяти шагах от здания аэропорта. Доктор Вайс спустилась на поле четвертой. Даже в мешковатой малосимпатичной куртке она выглядела изящной и привлекательной. Ветер превратил ее шелковистые серебристые волосы в развевающееся знамя. Доминик поспешил ей навстречу. Она остановилась и поставила сумки. Оба замерли на мгновение в нерешительности, молча уставившись друг на друга полными удивления, волнения, радости и ожидания глазами. Потом они вдруг бросились друг другу в объятия, словно давнишние друзья после долгой разлуки, и прижались один к другому так крепко, что было слышно, как громко стучат их сердца. «Что происходит, черт возьми?» — мелькнуло в голове у Доминика. Но он был слишком возбужден, чтобы разобраться в этом. Сейчас он больше чувствовал, чем думал. Разжав наконец объятия, они обнаружили, что не могут произнести ни слова. Джинджер пыталась что-то сказать, но от волнения голос ее сел, и у Доминика тоже. Поэтому она молча подхватила одну из сумок, он взял вторую, и они пошли на стоянку автомобилей. — Что это было? — уже немного отогревшись в теплом салоне машины, спросила Джинджер. Все еще мелко дрожа, но почему-то абсолютно не стыдясь своего поступка в аэропорту, Доминик прокашлялся. — Честно говоря, я и сам не знаю. Может быть, мы оба прошли через испытание, сблизившее нас настолько, что между нами возникла устойчивая связь, о которой мы и сами не подозревали, пока воочию не увидели друг друга. — Когда я увидела вашу фотографию на обложке книги, я тоже почувствовала нечто особенное, но совсем не то, что теперь. А выйдя из самолета и увидев вас на площадке, я испытала такое чувство, что мы знакомы целую вечность. Вернее, мне показалось, что мы знаем друг друга даже лучше, чем своих давних знакомых. Словно мы посвящены в некую неизвестную остальному миру тайну. Это похоже на бред сумасшедшего, не правда ли? — Нет. Абсолютно, — покачал он головой. — Вы совершенно точно выразили словами то, что чувствовал и я сам, только мне казалось, что у меня не найдется нужных слов, чтобы выразить это. — Вы уже виделись кое с кем из других, — сказала Джинджер. — При встрече с ними вы испытали то же самое? — Нет. Я сразу почувствовал, что нас что-то объединяет. Это было доброе, теплое чувство, но далеко не столь же сильное, как то, что я ощутил, когда вы спускались по трапу. Видимо, мы все прошли через нечто необычное, и это сплотило нас и наши судьбы, но мы с вами, несомненно, испытали что-то еще более странное и потрясающее, чем все остальные. Вот ведь какая чертовщина! Кажется, загадкам не будет конца. Примерно еще с полчаса они сидели в машине на стоянке возле терминала и разговаривали, не обращая внимания на снующие вокруг автомобили и завывающий за окнами «Шевроле» январский ветер. Она рассказала ему о приступах автоматизма, сеансах гипноза у Пабло Джексона и «Блокаде Азраила», об убийстве гипнотизера и своем чудесном спасении. И, хотя она и не искала сочувствия или похвалы за находчивость, проявленную в критическую минуту, Доминик проникся к ней уважением и симпатией: эта хрупкая женщина казалась ему сейчас более мужественной, чем иной представитель сильного пола. В свою очередь Доминик поведал Джинджер о событиях минувших суток. Особенно впечатлили ее новые подробности его навязчивого сна, свидетельствующие о правильности теории Пабло Джексона: ее внезапные приступы автоматизма были вызваны не нарушением мозговой деятельности, а случайной встречей с предметами, похожими на те, что она видела во время своего заточения в мотеле позапрошлым летом. Так, черные перчатки и шлем с затемненным щитком напугали ее именно потому, что самым непосредственным образом были связаны с ее подавленными воспоминаниями о людях в защитных костюмах, промывавших ей мозги. А отверстие для стока воды в раковине умывальника в больнице ввергло ее в панику, поскольку она была одной из отравленных полковником Фалькирком и ее, как и Доминика, принуждали очистить желудок от яда. К кровати же ее привязали, видимо, для того, чтобы определить степень отравления, и при этом пользовались офтальмоскопом — этот инструмент тоже стал впоследствии раздражителем неадекватной реакции. Доминик усмотрел в этом неоспоримое свидетельство ее здравомыслия, поскольку бегство от внушающих страх предметов вполне нормальный, хотя и крайний способ избежать неприятностей, в данном конкретном случае — тягостных воспоминаний, связанных с происшествием в мотеле. — А как объяснить страх перед пуговицами на куртке убийцы Пабло и шинели полицейского? — спросила Джинджер. — Почему я бросилась бежать от них? — Нам известно, что в этой операции участвовали военные, — ответил Доминик, поворачивая вверх решетку печки, чтобы теплый воздух отогрел ветровое стекло, — а на военной форме похожие латунные пуговицы, правда, не со львом, а с орлом. В том-то, думаю, и разгадка. — Пусть так, но ведь военные были в специальных костюмах, — возразила Джинджер. — Возможно, они сняли их спустя какое-то время, ведь в мотеле они находились целых три дня. — Скорее всего так оно и было, — кивнула в знак согласия Джинджер. — Видимо, в какой-то момент они успокоились. Остается выяснить одно: почему я так испугалась фонарей с желтыми стеклами возле дома Пабло. В них не было ничего особенного, однако, увидев эти фонари, я впала в панику. — Полагаю, что эти фонари напомнили вам светильники в мотеле «Спокойствие». Они тоже с желтыми стеклышками, — с улыбкой пояснил Доминик. — Проклятие! — воскликнула Джинджер. — Выходит, каждый мой приступ неосознанного панического бегства был вызван каким-то предметом, напоминающим мне о тех днях, когда мне промывали мозги! Доминик достал из кармана фотографию и протянул ей. — Конец света! — прошептала Джинджер, взглянув на снимок, и отвернулась, заметно побледнев. Доминик молчал, давая ей время успокоиться. В сумерках машины на стоянке походили на затаившихся хищников. Ветер сметал с асфальта мусор и мертвые листья. — Это какое-то безумие! — наконец произнесла Джинджер, вновь уставившись на фото. — Что же вынудило их пойти на такой рискованный шаг? Что могли мы увидеть такого уж дьявольски важного? — Мы это выясним, — заверил ее писатель. — Вы уверены? Думаете, они нам позволят? Они застрелили Пабло. Они ни перед чем не остановятся, чтобы заставить нас молчать. — Мне думается, что среди них нет единства мнений. Есть упрямые служаки типа полковника Фалькирка и его людей, но есть и такие, которые придерживаются иной позиции: это те двое, которые откачивали нас после отравления, и неизвестный доброжелатель, рассылающий фотографии и предупреждения. Твердолобые хотели нас всех убить, не полагаясь на эффективность блокады памяти и промывки мозгов. А ребята подобрее решили ограничиться стиранием воспоминаний и контролем за деятельностью мозга. — Убийца Пабло, видимо, из компании твердолобых. — Да, это человек Фалькирка. Полковник, очевидно, твердо намерен уничтожить каждого, кто будет угрожать прикрытию, из чего следует, что мы все в опасности. Нам остается лишь уповать на добрую волю противников Фалькирка. В любом случае нам некуда отступать. Мы не можем разъехаться по домам и жить, словно ничего не произошло, только потому, что перед нами слишком грозный враг. — Верно, — согласилась Джинджер, — мы не можем так поступить. Пока не узнаем, что с нами случилось, мы вообще как бы и не живые люди, у нас отняли наши жизни. Ветер хлестал жухлой листвой по ветровому стеклу и крыше. Джинджер огляделась вокруг. — Они наверняка знают, что мы собираемся все вместе в мотеле, что их план рушится. Как вы думаете, за нами наблюдают? — Скорее всего они взяли под наблюдение мотель. По дороге в аэропорт я не заметил слежки. — Им и не нужно следить за вами, — мрачно заметила Джинджер. — Они знают, куда вы едете и за кем. — Значит, мы всего лишь букашки на лапе великана и он в любую минуту может нас прихлопнуть? — Возможно, — откликнулась Джинджер Вайс. — Но клянусь, мы по крайней мере можем пару раз укусить эту лапу, прежде чем нас прихлопнут. Эти слова были произнесены с такой яростной решимостью, что Доминик не выдержал и рассмеялся, представив себя злой букашкой, кусающей лапу великана. Джинджер удивленно заморгала, а затем тоже рассмеялась: — Думаете, я слишком много на себя беру? Да пусть этот исполин и прихлопнет меня, но я все равно его разок пребольно цапну! — Вы отчаянный человек, доктор Вайс, — заходясь от хохота, воскликнул Доминик. — Можно я буду вас отныне называть мисс Храбрячкой? Сейчас Джинджер казалась ему еще красивей. Даже если бы их жизненные пути никогда не пересеклись, он все равно бы обратил на нее внимание при случайной встрече: она была не такая, как другие привлекательные женщины, в ней была изюминка. — Вы хотите познакомиться с остальными товарищами по несчастью? — глубоко вздохнув, спросил он ее. — Да, конечно, — сказала она, вытирая подушечками тонких пальцев слезы, выступившие от смеха в уголках глаз. — Я очень хочу с ними познакомиться — со всеми остальными букашками на лапе великана.* * *
За полчаса до сумерек на равнины предгорья легли длинные тени. В вечернем полусвете заросли полыни, кустарника и даже камни обрели некую таинственность. Прежде чем отвезти Джинджер в мотель, Доминик показал ей так называемое «особое место» — участок земли в двух сотнях ярдов к югу от федерального шоссе № 80. Ветер зловеще шуршал едва различимой во мгле растительностью, покрытой блестящей изморозью. Засунув руки в карманы куртки, Доминик молча встал поодаль, чтобы не смазать ей первое впечатление от загадочного места. Джинджер не спеша прогулялась по площадке, чувствуя себя сперва довольно глупо, — словно была участницей сомнительного научного эксперимента. Но это ощущение прошло, когда она и в самом деле ощутила какие-то импульсы, от которых ее вдруг затрясло. Странное беспокойство нарастало, в зловещих тенях мерещилась угроза, появилось смутное желание бежать от них. Беспокойство переросло в страх, дыхание ее участилось, сильнее забилось сердце, и чей-то знакомый голос вдруг произнес: — Это внутри меня. Это внутри меня. Джинджер резко обернулась, но за спиной у нее никого не было, только сухая полынь да тени на мерцающем в серых сумерках насте. — В чем дело? — спросил Доминик, шагнув ей навстречу из полумрака. Джинджер вздрогнула: голос, который она только что слышала, явно принадлежал Доминику, но только слова эти были им произнесены не теперь, а когда-то раньше, возможно, на этом же самом месте. Это было эхо прошлого, отголосок памяти о событиях 6 июля позапрошлого года, просочившийся сквозь трещину в «Блокаде Азраила». Всего три слова, произнесенные дважды: «Это внутри меня. Это внутри меня». Внезапно все вокруг наполнилось чудовищными призраками. Страх пронзил каждую клеточку ее тела. Джинджер резко повернулась и быстро пошла в сторону шоссе, не отвечая на тревожные оклики Доминика. От страха У нее перехватило горло и онемел язык. Она не выдержала и побежала… Только в машине, отдышавшись и отогревшись, она смогла объяснить, что произошло. — Это внутри меня, — задумчиво повторил Доминик, внимательно выслушав ее сбивчивый рассказ о внезапно охватившем ее ужасе при виде самых обычных предметов и явственно прозвучавших в ее голове словах. — Вы уверены, что именно это я сказал вам в ту ночь? — Да, — с дрожью в голосе подтвердила Джинджер. — Это внутри меня. Странно. Что я хотел этим сказать? — Не знаю, — пожала плечами Джинджер. — Но у меня от этих слов мурашки бегут по коже. — И у меня тоже, — помолчав, ответил Доминик.* * *
В тот вечер в мотеле Джинджер чувствовала себя так, словно оказалась на семейной вечеринке в честь Дня Благодарения. Несмотря на свалившиеся на них напасти, все собравшиеся в мотеле «Спокойствие» не падали духом, сплотившись, как одна семья. Все шестеро суетились на кухне и общими усилиями готовили ужин. Эти домашние хлопоты помогли Джинджер освоиться и ощутить себя полноправным членом этого необычного сообщества. Мобилизовав весь свой опыт профессионального повара, Нед Сарвер готовил главное блюдо — цыплячьи грудки в пикантном соусе из мексиканских томатов и сметаны. Первое впечатление о Неде было у Джинджер не самым лучшим, он показался ей мрачным и нелюдимым, но очень скоро она изменила свое мнение. Скрытность и неразговорчивость иногда бывают признаками здорового эгоизма, свойственного цельным натурам, не нуждающимся в посторонней поддержке или похвале, а именно таким человеком и был Нед Сарвер. К тому же Джинджер понравилось, что он так сильно любит свою жену, что проявлялось в каждом его взгляде, слове и жесте. Сэнди — единственная из всей компании, на ком таинственное происшествие сказалось сугубо положительно, — была так рада случившимся с ней разительным переменам, что вся светилась от счастья, и общаться с ней было одно удовольствие. Они состряпали винегрет и овощной салат, успев за это время проникнуться одна к другой почти сестринским чувством. Десерт приготовила Фэй Блок: торт с шоколадной глазурью и банановым кремом. Эта женщина тоже понравилась Джинджер, она чем-то напоминала ей Риту Ханнаби — принадлежа к разным слоям общества, обе они были энергичными, деятельными и практичными и при всем при том обладали отзывчивым сердцем. Эрни и Доминик раздвинули стол, так что теперь за него можно было усесться вшестером. Хозяин мотеля сперва произвел на Джинджер впечатление грубого мужлана, но за суровой оболочкой она скоро разглядела добрый характер и даже прониклась сочувствием к этому сильному немолодому человеку, боящемуся, словно мальчишка, темноты. И лишь один Доминик Корвейсис разбередил в душе Джинджер Вайс особые, не до конца ей понятные чувства. К нормальному дружественному расположению и ощущению особой связи между ними, основанной на чем-то забытом, но пережитом ими вместе, примешивалось половое влечение. Последнее обстоятельство весьма озадачило ее, поскольку подобные эмоции по отношению к малознакомому мужчине ей были несвойственны. Зная за собой склонность к романтическим фантазиям, она держала себя в узде, убеждая в том, что Доминик не испытывает к ней аналогичного влечения, хотя это и было далеко не так. За ужином все оживленно обсуждали сложившуюся ситуацию и возможные пути выхода из нее. Как и Доминик, Джинджер ничего не могла припомнить об утечке отравляющих веществ, хотя Блоки твердо стояли на своем. Магистраль № 80 действительно была перекрыта в связи с аварией, в этом никто не сомневался. Накануне Доминик пытался убедить Блоков, что их воспоминания об эвакуации на горное ранчо были ложными, а на самом-то деле они и якобы пригласившие их к себе супруги Джемисон находились в мотеле. Судя по рассказам Эрни и Фэй, их друзья не жаловались ни на какие странные явления и не мучились кошмарами, что свидетельствовало о том, что их память была заблокирована достаточно эффективно. Доминик решил, однако, все равно поговорить с ними, только несколько позже. Нед и Сэнди в конце концов согласились, что тоже были в это время в мотеле, а не у себя в трейлере и не наслаждались неожиданным отпуском, а подвергались довольно гнусной процедуре промывания мозгов, как и все остальные, запечатленные «Полариодом». — Однако, — заметила Фэй, — отчего же нам не вложили в память одинаковые данные? — Возможно, всем местным жителям внушили мысль об утечке опасных химикатов, чтобы они знали, о чем идет речь, если потом кто-нибудь из их знакомых случайно спросит, что они делали, когда объявили карантин. Мы же с Домиником попали сюда случайно, и вероятность встречи с кем-то еще, оказавшимся в закрытом районе, была минимальной. Поэтому эту версию решено было не включать в программу ложных воспоминаний, — предположила Джинджер. Сэнди не донесла вилку с курятиной до рта. — Но разве не надежнее было бы и вам внушить мысль о карантине? — спросила она. — Насколько я поняла из прочитанной специальной литературы, заложить в мозг абсолютно ложные воспоминания гораздо легче, чем увязывать вымысел с элементами правды. Скорее всего у них на это просто не было времени, так что качественную промывку мозгов они сделали только жителям этого района, — сказала Джинджер. — Это похоже на правду, — поддержал ее Эрни, и все с ним согласились. — Интересно, имел ли место выброс токсинов на самом деле или же все это только легенда, выдуманная для того, чтобы как-то объяснить закрытие шоссе и все остальное, связанное с таинственным происшествием, случайными свидетелями которого мы стали? — спросила Фэй. — Я подозреваю, что какое-то заражение местности все-таки было, — ответила Джинджер. — Недаром же Доминику так упорно снятся люди в защитных костюмах. Хотя не исключено, что они надели их только ради прессы или других случайных очевидцев, а потом сняли, поскольку в них не было необходимости. Опасливо поглядывая на зашторенные окна, Эрни прочистил горло и произнес: — Так что же это было за отравляющее вещество? Ведь вы врач и лучше остальных разбираетесь в подобных вещах. На что это больше похоже — на химическое или на биологическое отравление? Официально было объявлено, что потерпел аварию грузовик, доставляющий специальный материал для секретных опытов в научно-исследовательский центр в Шенкфилде. Джинджер вопрос Эрни не застал врасплох: она сама уже задумывалась над этим. Биологическое или химическое заражение? Ответ, к которому она пришла, был не из утешительных. — Вообще-то защитные костюмы для обеззараживания объектов, подвергшихся химическому загрязнению, не обязательно должны быть воздухонепроницаемыми. Достаточно, если они защищают работника с головы до ног от воздействия едких или токсичных веществ. Необходимы также маска или респиратор наподобие тех, которыми пользуются аквалангисты, чтобы не надышаться вредными газами или испарениями. Как правило, для таких защитных костюмов используются легкие плотные ткани, а на голову надевают обычные противогазы. Доминик же видел в своих снах-воспоминаниях тяжелые, громоздкие скафандры из толстого винила, с перчатками, вшитыми в рукава, и прочными шлемами с герметичными воротниками. Такой костюм, несомненно, предназначается для работы с микробами или вирусами. Некоторое время все молчали, осмысливая услышанное. Нед отхлебнул для храбрости пива и заявил: — Значит, нас чем-то заразили. — Каким-то особым вирусом, разработанным для биологической войны, — добавила Фэй. — Если уж эту пакость везли в Шенкфилд, она должна быть смертельной, — заметил Эрни. — Но мы же не умерли, — возразила Сэнди. — Потому что нас немедленно изолировали и подвергли необходимому лечению, — снова взяла слово Джинджер. — Они, несомненно, не рискнули бы испытать искусственно выращенный генетиками вирус или смертоносный микроб, не разработав одновременно эффективного лечения или нейтрализующего препарата. Так что на случай непредвиденного заражения у них имеется новый антибиотик или сыворотка. Они нас заразили, они нас и вылечили. — Звучит, по-моему, убедительно, — почесал затылок Эрни. — Кажется, общая картина начинает вырисовываться. — Но это не объясняет, что именно произошло вечером в ту роковую пятницу, что мы видели и слышали и почему они так этого испугались, — возразил Доминик. — Неясно, почему трясся весь дом и повылетали стекла, как тогда, так и вчера вечером. — И вот еще что остается непонятным, — сказала Фэй. — Как можно объяснить летающие луны в доме Ломака? Или чудеса, сотворенные помощником отца Вайцежика? Все недоуменно уставились друг на друга, ожидая, что кто-то из них найдет объяснение и этим загадочным феноменам и увяжет их с бактериологическим заражением. Но такового не нашлось.* * *
А в это время в другом мотеле, в Рино, то есть менее чем в трехстах милях от «Спокойствия», отец Брендан Кронин уже лег в постель и выключил свет. Хотя было только начало десятого, он все еще жил по чикагскому времени, так что для него был уже двенадцатый час ночи. Однако ему не спалось. Зарегистрировавшись в офисе мотеля и поужинав в ближайшей закусочной, он позвонил отцу Вайцежику и от него узнал, что его ищет Доминик Корвейсис. Это известие так разволновало Брендана, что он едва тотчас же не позвонил в мотель «Спокойствие», но, подумав, решил отложить разговор с писателем до утра. Мысли о предстоящей встрече и не давали ему уснуть. Он пролежал в постели без сна около часа, когда вдруг заметил, что вновь повторяется тот же феномен, который имел место две ночи тому назад в его спальне в доме для священников при церкви Святой Бернадетты. Только на этот раз не было никакого видимого источника света, даже столь неправдоподобного, как маленькая замерзшая луна на оконном стекле, излучавшая волшебный свет в минувшую пятницу. На сей раз свечение появилось из темноты прямо вокруг самого Брендана, буквально из воздуха. Оно было сперва совсем бледным, молочного оттенка, но постепенно становилось все ярче и ярче, пока Брендану не начало казаться, что он лежит где-то в открытом поле, залитом ярким светом полной Луны. Этот свет был не таким, как тот спокойный золотистый, который он видел во сне, и, как две ночи тому назад, он вселил в него противоречивые чувства — ужас и восторг, страх и дикий экстаз. И, как и в первый раз, свет из молочного стал алым. У Брендана возникло ощущение, что он завис в светящемся кровяном пузыре. «Это внутри меня», — подумалось вдруг ему ни с того ни с сего, и он похолодел от страха. Казалось, сердце вот-вот лопнет в груди. На ладонях выступили и стали набухать пульсирующие красные кольца.2
Понедельник, 13 январяКогда на следующее утро все собрались на завтрак на кухне у Блоков, Доминик был потрясен рассказами товарищей по несчастью об их сновидениях минувшей ночью: для большинства из них она была далеко не легкой. — Собравшись здесь и восстановив ту же группу, которая была в мотеле в тот вечер, мы обязательно узнаем всю правду, — возбужденно говорил он, вдохновленный новыми свидетельствами правильности выбранного пути. — Действуя сообща, мы активизируем нашу память и усиливаем давление на ее блокаду. Как я и предполагал, с каждым днем в ней появляются все новые и новые трещины. Ночью Доминик, Джинджер, Эрни и Нед видели совершенно схожие кошмары, что не оставляло никаких сомнений: это были фрагменты подавленных воспоминаний. Во всех случаях в них фигурировали люди в защитных костюмах, склонившиеся над привязанными к кроватям жертвами. Сэнди приснился приятный сон, но какой-то смазанный, лишенный четких, как у других, деталей. И только Фэй вообще не видела ничего во сне. Нед настолько серьезно был обеспокоен всем этим, что заявил о своем твердом намерении перебраться жить в мотель. — Проснувшись ночью от ужаса, я больше не смог уснуть, — жаловался он. — И мне в голову стали лезть тревожные мысли. Я подумал, что этот полковник Фалькирк вполне может решить убить нас в нашем трейлере и некому будет помочь нам в этой пустыне. Доминик сочувствовал Неду, для которого эти страшные видения были пока внове. Сам он, как и Джинджер, и Эрни, уже выработал определенные навыки поведения во время таких кошмаров, Нед же был беззащитен против них и страшно этим потрясен. И, несомненно, Нед высказал верную мысль: полковника Фалькирка следовало опасаться. Чем ближе они приближались к разгадке тайны, тем больше была вероятность стать мишенью для тех, кто скрывал ее. Доминик считал, что Фалькирк не станет предпринимать никаких решительных мер до тех пор, пока в мотеле не соберутся все его жертвы, включая Брендана Кронина, Жоржу Монтанеллу и остальных, пока еще неизвестных писателю. Но, как только все прибудут на место, следует ожидать беды. Рассказывая о своем сне, Нед вяло ковырял вилкой в тарелке, жуя без всякого аппетита, весь еще во власти ночных кошмаров. Сперва ему привиделось, что он схвачен людьми в защитных костюмах, потом они сняли костюмы, и он понял, что угроза бактериологического заражения миновала. Один из этих людей в военных мундирах был полковник Фалькирк. Нед подробно описал его: седеющий 50-летний брюнет с тонкими губами, хищным клювообразным носом и стальными глазами. Эрни, которому тоже приснился полковник, подтвердил описание Неда. Удивительное совпадение приснившихся обоим образов не оставляло сомнений в точности портрета. — Я видел во сне и другого армейского офицера, и он обращался к полковнику по имени. Он называл его Леландом. — Полковник Леланд Фалькирк, — задумчиво повторила Джинджер. — Вероятно, он постоянно находится в Шенкфилде. — Мы постараемся это выяснить, — произнес Доминик. Блокада памяти определенно разваливалась, и это воодушевляло Доминика. Он давно не был в таком приподнятом настроении. Джинджер рассказала, что во сне она видела в своей комнате еще одного человека, привязанного ремнями к кровати и с капельницей и электрокардиографом, подключенным к полу. Это была женщина лет сорока, с пустым взглядом на незнакомом Джинджер лице и рыжими волосами. Доминику же приснилось, что в его номере находился еще один пленник, и тоже на кровати на колесиках и с той же медицинской аппаратурой, — молодой человек лет двадцати, с бледным лицом, пушистыми усами и глазами зомби. — Как это понимать? — спросил Эрни Блок. — Неужели У них было столько объектов для промывания мозгов, что для них не хватило двадцати комнат? — Но в регистрационной книге записано, что в тот день были сняты только одиннадцать номеров, — уточнила Сэнди. — Вероятно, свидетелями того же происшествия стали многие случайные люди, проезжавшие в тот момент по шоссе. Военные задержали их и доставили в мотель. Естественно, они их не регистрировали, — заметила Джинджер. — Сколько же их всего было? — изумленно воскликнула Фэй. — Скорее всего мы этого никогда не узнаем, — сказал Доминик. — Ведь мы не были знакомы, и лишь случай свел нас в этом мотеле. Возможно, мы вспомним лица, но не узнаем ни имен, ни адресов этих несчастных. Все это, безусловно, было весьма печально. Но Доминик не падал духом: запрограммированные ложные воспоминания разрушались, обнажая истину, а это уже было немало. Со временем они узнают всю правду, если только до этого не явится с тяжелой артиллерией полковник Фалькирк.
* * *
В то время как группа в мотеле «Спокойствие» заканчивала утром в понедельник завтрак, Джек Твист в сопровождении служащей отделения «Сити-банка» на 5-й авеню направлялся к своему сейфу. Служащая банка, привлекательная молодая женщина, называла Джека Твиста «господином Фарнхамом», потому что именно под этим именем он по поддельному удостоверению личности абонировал сейф. Оставшись в бронированной комнате один, Джек открыл сейф и в полнейшем недоумении уставился на содержимое. В сейфе лежало нечто такое, чего он там не оставлял. Как это туда попало? Чушь какая-то. Только он один знал об этом сейфе и имел от него ключ. В сейфе должно было храниться пять белых конвертов, в каждом из которых лежало пять тысяч долларов в стодолларовых банкнотах. Деньги были в целости и сохранности. Это был один из его неприкосновенных запасников на черный день, всего же таких сейфов у Джека было в разных банках одиннадцать. Сегодня утром он решил взять из каждого по 15 тысяч долларов, чтобы раздать людям. Дрожащими руками он открыл один за другим пять конвертов и пересчитал деньги. Ни один банкнот не пропал. Однако от этого Джеку не стало легче. Хотя деньги и были на месте, наличие постороннего предмета свидетельствовало о том, что он был рассекречен, а следовательно, у кого-то «под колпаком». Кому-то было известно, кто скрывался под именем Грегори Фарнхама, и доказательство тому было демонстративно помещено в сейф. Доказательством грубого вмешательства в его частную жизнь являлась почтовая открытка. На ней ничего не было написано, она сама по себе была посланием: на лицевой стороне открытки была фотография мотеля«Спокойствие». Позапрошлым летом, после ограбления особняка Аврила Мак-Аллистера в округе Марин к северу от Сан-Франциско, которое Джек совершил совместно с Бренчем Поллардом и еще одним типом, он взял напрокат машину и поехал на восток, довольный выигрышем в казино в Рино, а по пути остановился переночевать в мотеле «Спокойствие» возле федерального шоссе № 80. С тех пор он никогда даже и не думал об этом месте, но, взглянув на фотографию, тотчас же, конечно, вспомнил его. Кто мог об этом знать? Бренч Поллард не мог наверняка, он ему ничего не рассказывал ни о выигрыше в Рино, ни о своем намерении вернуться в Нью-Йорк. Их подельник тоже ничего не знал: Сэл Финроу укатил в свой Лос-Анджелес, и Джек с тех пор ничего о нем не слышал. Тут Джек сообразил, что засвечены по крайней мере три его фальшивых удостоверения личности. Он абонировал в этом банке сейф под именем Фарнхама, но в мотеле «Спокойствие» жил под именем Торнтона Уэйнрайта. Теперь все документы на эти имена можно было выбрасывать вместе с удостоверением личности Филипа Делона, по которому он жил в квартире на 5-й авеню. О боже! Несмотря на потрясение, голова Джека оставалась трезвой и лихорадочно работала, вычисляя возможного противника. Все официальные инстанции он сразу же отмел, поскольку сотрудники полиции или ФБР не стали бы уведомлять его, а попросту арестовали бы. Исключил Джек и своих партнеров, потому что тщательно скрывал от них свою личную жизнь. Никто не знал, где он живет, а связаться с ним они могли, только отправив условные сообщения по почте или же позвонив по специальному номеру телефона с автоответчиком. Джек был уверен в надежности отлаженной системы связи, которая никогда его не подводила. Он всегда предпочитал перестраховаться. Кроме того, если бы в его сейф проник кто-то из его бывших партнеров, он наверняка взял бы деньги, все до последнего доллара. Тогда кто же вышел на него? Мафия? У ребяток, которых они с Мортом и Томми грабанули 3 декабря, возможностей и связей не меньше, чем у ФБР, не говоря уже о полиции. Эти могли и не тронуть деньги, намекая на то, что желают получить обратно все, что потеряли. И оставлять сувениры с намеком тоже было в стиле мафии, братишки обожали поиздеваться над своей жертвой, заставить ее хорошенько пропотеть, прежде чем нажать на спусковой крючок. С другой стороны, если мафиози выследили его, они наверняка навели справки о его прошлых делах и вряд ли бы после этого стали пытаться нагнать на него страху открыткой. Они скорее положили бы в сейф фотографию склада, который он ограбил. Значит, это и не мафия. Но тогда кто? Кто, черт подери?! Джеку стало душно в бронированной комнате, захотелось выбраться отсюда. В банке негде было спрятаться, из него не убежать. Он поспешно распихал конверты по карманам куртки, уже не собираясь никому отдавать свои деньги: они неожиданно стали тем, для чего и предназначались, — деньгами для побега в случае непредвиденных обстоятельств. Открытку он сунул в бумажник, запер опустевший сейф и нажал кнопку вызова банковского служащего. Спустя две минуты он был на улице, жадно вдыхая морозный январский воздух и скользя внимательным взглядом по лицам прохожих. Ничего подозрительного он не заметил. Некоторое время он стоял, словно утес в потоке людей на 5-й авеню, размышляя, как поскорее выбраться из города и вообще из штата, чтобы залечь где-нибудь на дно и затаиться, спрятаться от преследователей, кем бы они ни были. Однако он не был уверен, что побег необходим: в спецвойсках их учили не предпринимать никаких действий до тех пор, пока не будет ясна побуждающая причина и конечная цель. К тому же страх перед безликим противником был меньше, чем любопытство, Джек ощущал настоятельную потребность выяснить, с кем он имеет дело, как его вычислили и что от него хотят. Джек остановил такси и доехал на нем до угла Уолл-стрит и Уилльям-стрит, где в самом центре района финансистов, в шести банках он абонировал депозитные ящики. Он обошел пять из них и взял в каждом по 25 тысяч долларов и по открытке, точно такой же, как и в первом банке. В шестой банк он решил не ходить, потому что его карманы были набиты пачками денег на довольно опасную для хранения при себе сумму — 150 тысяч долларов. К тому же он уже не сомневался, что и в шестом ящике он найдет такую же открытку с фотографией мотеля «Спокойствие». На первое время имеющихся денег было достаточно, а относительно оставшихся в других местах 150 тысяч долларов он не волновался, поскольку, во-первых, у него еще имелись вклады в швейцарских банках, а во-вторых, если бы тот, кто оставил ему весточку, захотел, он бы сразу забрал все деньги. Он уже успел хорошенько подумать о времени, проведенном в невадском мотеле, и пришел к выводу, что здесь что-то не сходится. Вроде бы он пробыл там три дня, отдыхая и наслаждаясь уединением и красотой дикой природы. Но сейчас он впервые вдруг подумал, что никогда бы так не поступил: с таким количеством денег в багажнике и не видя две недели Дженни, он наверняка прямо из Рино поехал бы в Нью-Йорк. Так что три дня, проведенные в «Спокойствии», казались теперь ему полной нелепостью. Он снова взял такси и доехал на нем до своей квартиры на 5-й авеню. Было уже без нескольких минут одиннадцать. Войдя в квартиру, Джек тотчас же позвонил в частную авиакомпанию и заказал маленький реактивный самолет. Затем он взял 25 тысяч долларов из тайника в спальне, быстро засунул самые необходимые вещи в три чемодана и стал укладывать туда же более важные предметы, а именно: пистолеты «смит-вессон» и «беретта» с глушителем, автомат «узи», патроны, компьютер для определения кодов секретных замков, специальное устройство для вскрытия замков любого типа и прибор ночного видения. Вновь обретенное им чувство вины существенно изменило Джека за прошедшие двое суток, однако не настолько, чтобы лишить его способности яростно защищаться от тех, кто мог на него вероломно напасть. Его намерение стать честным и законопослушным гражданином не уничтожило его инстинкта самосохранения. А уж он, Джек Твист, мог и умел постоять за себя. Кроме того, теперь, когда после восьми лет одиночества он наконец-то начал возвращаться к нормальной человеческой жизни, он не мог допустить, чтобы кто-то встал на его пути к счастью, не мог позволить отобрать у него последний шанс. Хотя он и разложил груз по трем чемоданам, они оказались в конце концов довольно тяжелыми. Но, имея дело с частной авиакомпанией, не нужно было беспокоиться о нежелательной проверке багажа: фирма дорожила своими клиентами. Из квартиры он на такси поехал прямо в аэропорт Ла-Гуардия. Поджидавший его самолет должен был доставить его в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, ближайший крупный аэропорт от Элко, откуда можно было значительно быстрее попасть в Элко, чем из международного аэропорта в Рино, с учетом того, что в Рино все равно нужно было пересаживаться на местный рейс до Элко. В авиакомпании «Элитарные полеты» Джеку сказали, что в Рино ожидается сильная снежная буря, в связи с чем аэропорт могут после обеда закрыть, как и две другие посадочные площадки в Южном Айдахо, пригодные для реактивных самолетов типа «лир», на котором летел Джек. Но для Солт-Лейк-Сити прогноз погоды был на весь день хороший. По просьбе Джека компания уже заказала для своего клиента у коллег в Юте специальный самолет, чтобы доставить его оттуда в маленький аэропорт в Элко. Это давало Джеку три часа выигрыша во времени, хотя он и не рассчитывал добраться до Элко раньше наступления сумерек. Но сумерки были ему даже на руку. Для осуществления задуманного Джеку нужна была темнота. Подложенные анонимным насмешником открытки указывали на то, что в Неваде кое-кто в курсе всех его преступных дел. Они намекали, что абонент депозитных ящиков в банках может выйти на осведомленных о его преступной деятельности людей через мотель «Спокойствие» либо встретиться там с ними. Открытки являлись приглашением или повесткой. В любом случае игнорировать их было опасно. Джека не волновало, следят ли за ним по дороге в аэропорт Ла-Гуардия, он и не пытался засечь «хвост»: если его телефон прослушивался, его намерения стали известны, когда он позвонил в авиакомпанию. Он хотел продемонстрировать, что не намерен скрываться, чтобы усыпить бдительность противника и в Элко внезапно исчезнуть из его поля зрения, уйдя на нелегальное положение.* * *
В понедельник Доминик и Джинджер после завтрака отправились в Элко, в редакцию единственной окружной газеты «Сентинел», занимавшую одноэтажный блочный дом на одной из тихих улочек этого городка с населением, едва ли насчитывающим 10 тысяч жителей. Как и большинство других изданий, «Сентинел» допускала, при наличии юридически оформленных на то оснований, к своим архивам лиц, занимающихся законными исследованиями, и Доминик надеялся, что как писатель будет допущен в святая святых газеты, хотя в душе и не считал себя, несмотря на успех своего первого романа, достаточно известным человеком. Встретившая их в приемной сотрудница «Сентинел» Бренда Хеннерлинг никак не отреагировала на его имя, но стоило лишь писателю упомянуть название своей книги, только что появившейся на прилавках магазинов, как она воскликнула: — Так это вы ее автор? В самом деле? Эта книга вошла в число самых лучших романов этого месяца! Бренда Хеннерлинг рассказала, что заказала «Сумерки» в Литературной гильдии еще месяц назад, но получила ее только со вчерашней почтой, и для нее, как для книгочея, встреча с живым писателем — настоящее событие. После такого бурного излияния восторга Доминик еще больше оробел и почему-то вспомнил слова Роберта Льюиса Стивенсона: «Самое главное — занимательная история, а не тот, кто ее рассказывает». Архив газеты хранился в тесном, без окон, помещении, заставленном двумя письменными столами с пишущими машинками, устройством для просмотра микрофильмов и шестью стеллажами с еще не переснятыми материалами. Голые бетонные стены были выкрашены бледной серой краской, люминесцентные лампы на сером потолке наполняли комнату холодным светом. У Доминика возникло ощущение, что он очутился в подводной лодке где-то в глубине океана. Когда Бренда Хеннерлинг, объяснив, как пользоваться архивом, оставила посетителей одних, Джинджер воскликнула: — А ведь я совершенно забыла, что вы известный писатель! Эти напасти окончательно заморочили мне голову. — И мне тоже, — усмехнулся Доминик, скользя взглядом по ярлыкам на выдвижных ящичках стеллажей, забитых старыми газетами. — Но я, конечно же, не отношусь к известным писателям. — Вы скоро им станете. Какой позор! Из-за всех этих злоключений у вас даже не остается времени отпраздновать выход в свет первой книги! — Нам обоим сейчас не до торжеств, — пожал плечами Доминик. — Ведь и вы поставили на карту вашу дальнейшую карьеру. — Да, но теперь я знаю, что смогу вернуться к медицине, как только мы покончим с этой историей, — уверенно сказала Джинджер, словно ни капельки не сомневалась в победе над врагом. Доминик уже успел заметить, что решительность и целеустремленность являются такой же органичной ее чертой, как и голубизна глаз. — Но все же — это ваша первая книга! — настойчиво повторила Джинджер. Еще не оправившись от смущения после польстившего ему восторга секретарши, Доминик густо покраснел, но на этот раз уже от удовольствия: он впервые слышал столь приятный комплимент от женщины, к которой был неравнодушен. Они просмотрели подшивки старых номеров «Сентинел» за последние два года и отложили все выпуски за неделю, начиная с субботы 7 июля позапрошлого года, на один из письменных столов, придвинув к нему стулья. Хотя и забытое ими событие, свидетелями которого они стали, и возможное заражение местности, и карантин в районе федерального шоссе № 80 имели место в пятницу 6-го, в субботнем номере газеты об этом не было ни строчки. «Сентинел» являлась в первую голову источником местных и штатских новостей и, хотя и предлагала своим читателям некоторые материалы по общегосударственным и международным проблемам, не была заинтересована в сенсациях. В коридорах этой редакции никогда не разносился крик: «Остановите печатный станок!», и не заменялась в последний момент первая полоса. Жизнь в округе Элко текла по законам провинции — неспешно и рассудительно, и никого не обуревало острое желание быть в курсе всех последних событий. «Сентинел» печатали ночью и распространяли утром, по воскресеньям газета не выходила, так что сообщения об опасной аварии на шоссе № 80 и закрытии его в связи с этим появились только в понедельник, 9 июля, и во вторник. Заголовки статей, однако, были весьма тревожными: «Армия объявляет шоссе № 80 карантинной зоной. Утечка нервно-паралитического газа?», «Армия утверждает, что из опасной зоны все эвакуированы. Где же эти люди?», «Что происходит на полигоне в Шенкфилде?», «Карантин на шоссе № 80 снят, очистные работы закончены». Доминик и Джинджер не верили собственным глазам, читая сообщения о событиях, свидетелями которых стали, но о которых ровным счетом не помнили, кроме того, что отдыхали в это время в мотеле «Спокойствие». Доминик все более утверждался во мнении, что Джинджер права: у военных специалистов по контролю за памятью просто не было времени на сложную программу ложных воспоминаний, универсальную как для местных жителей, так и для людей, случайно оказавшихся в этом районе. Армия не могла долго удерживать магистральное шоссе закрытым. В номере за среду, 11 июля, печаталось продолжение саги: «Слухи о долговременном заражении не подтвердились!», «Эвакуированные ничего не видели!» Объем городской газеты колебался между шестнадцатью и тридцатью двумя страницами. В дни чрезвычайного происшествия на дороге львиную долю новостей составляла информация об утечке отравляющих веществ, поскольку это событие привлекло репортеров со всей страны, и второстепенная газетенка оказалась в центре сенсационной истории. Покопавшись в этом богатом материале, Доминик и Джинджер почерпнули для себя много полезного. Теперь они получили возможность планировать свои дальнейшие шаги, опираясь на ранее неизвестные им факты. По мерам, предпринятым армейской службой безопасности, можно было судить, насколько далеко военные зайдут в своем стремлении удержать информацию о происшествии под завесой секретности. Решительные действия армии, выходящие за рамки ее полномочий, не могли не настораживать: военные перекрыли участок дороги протяженностью десять миль сразу же после аварии, даже не проинформировав об этом шерифа округа Элко и полицию штата Невада, после чего вообще объявили весь район закрытым на карантин. От шерифа и сотрудников полиции поступали жалобы в связи с ограничением их служебной деятельности армейскими чинами. Так, никто из полицейских не был допущен в закрытую зону, с ними даже не посоветовались относительно ее границ и размеров. Очевидно, армия доверяла исключительно своим людям, действовавшим в этом районе. «Это мой округ, — жаловался корреспонденту «Сентинел» шериф Фостер Ханкс, доведенный бесцеремонностью военных до отчаяния. — Люди доверили мне следить здесь за порядком. У нас в стране пока еще правит не военная хунта. Если армия и дальше будет отказываться сотрудничать со мной, я завтра же пойду к судье и потребую, чтобы их в судебном порядке заставили уважать мои полномочия». Газета сообщала, что шериф выполнил свою угрозу, но, прежде чем судья дал делу ход, карантин на шоссе был снят, и вопрос о нарушении полномочий отпал как бы сам собой. — Значит, не все власти действуют против нас, — оживилась Джинджер, прочитав заметку. — Полиция в этом не участвует. Так что наш единственный противник… — Армия Соединенных Штатов, — договорил за нее Доминик и от души рассмеялся ее могильному юмору в оценке противостоящих им сил. — Вряд ли такую расстановку сил можно назвать честной, — криво улыбнулась Джинджер. — Даже для одного такого противника силенок у нас маловато. Судя по сообщениям «Сентинел», армия взяла под свой жесткий контроль не только шоссе № 80 — единственную транспортную артерию на объявленной опасной территории, связывающую восток и запад страны, но и восьмимильный отрезок окружной дороги, соединяющий север и юг. Были также ограничены полеты самолетов гражданских авиакомпаний над зараженным районом и изменены их маршруты: все это под предлогом необходимости патрулировать опасную территорию вертолетами. Очевидно, для выполнения этой задачи были задействованы и значительные людские ресурсы. Но, несмотря ни на какие трудности и затраты, армия со всей решимостью пресекла любые попытки проникновения в запретную зону общей площадью 80 квадратных миль — как пешеходов, так и людей, передвигающихся верхом на лошади или в автомобиле. Стальные стрекозы кружили над зоной и днем и ночью, ощупывая местность прожекторами. Не дремали, по слухам, и патрули, снаряженные приборами ночного видения. — Нервно-паралитические газы входят в число наиболее опасных для человека веществ, — переворачивая страницу, заметила Джинджер. — Но все равно подобные меры предосторожности кажутся излишними. Я не специалист в этом вопросе, но не уверена, что единичный источник утечки какого бы то ни было газа может представлять серьезную угрозу для такой большой территории Ведь армейские представители утверждают, что был поврежден только один баллон, а не весь секретный груз, который перевозил грузовик, во всяком случае, не цистерна, как рассказывали Эрни и Фэй. Газ имеет свойство быстро распространяться, и на большой площади его концентрация была бы ничтожна и неопасна для жизни. — Это лишний раз говорит в пользу вашей гипотезы о бактериологическом оружии, — подсказал Доминик. — Возможно, — согласилась Джинджер. — Но сейчас мы не можем этого утверждать. Ясно лишь, что мы имеем дело с чем-то гораздо более серьезным, чем выдвинутая ими версия о нервно-паралитическом газе. В субботу 7 июля, спустя всего лишь день после закрытия федерального шоссе, один из дотошных репортеров заметил, что мундиры многих солдат в карантинной зоне имеют дополнительный отличительный знак — черный круг с изумрудно-зеленой звездой в середине. Военные с шенкфилдского полигона такой нашивки не носили. Более того, все имевшие такие знаки были офицерами высоких рангов. В ответ на вопрос журналиста один из военных сказал, что люди с зелеными звездами входят в состав малоизвестного подразделения специальных войск, считающегося суперотборным, так называемой ОРВЭС — Организации реагирования на внутренние экстремальные ситуации. «Парни из ОРВЭС великолепно подготовлены, и за плечами у них богатый опыт боевых операций. Кроме того, они все имеют допуск к сверхсекретным видам оружия и объектам, что в данной ситуации просто необходимо», — говорилось далее в газете. Ко всему вышесказанному Доминик от себя мысленно добавил, что парни из ОРВЭС умеют держать язык за зубами. «Это сливки элитарных войск. Они отобраны из лучших военнослужащих, имеющих звание не ниже сержанта. В задачу этого подразделения входит преодоление чрезвычайных ситуаций, таких, как нападения террористов на внутренние военные объекты, аварии и чрезвычайные происшествия на базах хранения ядерного оружия и тому подобных случаев. В нынешней ситуации речь не идет ни о терроризме, ни об утечке радиоактивных веществ. Но, учитывая опасность нервно-паралитических газов для гражданского населения, командование шенкфилдского гарнизона сочло необходимым привлечь все лучшие силы для обеспечения общественной безопасности», — подчеркнул в своем интервью представитель военного руководства. Однако он отказался сообщить, где расквартированы спецвойска ОРВЭС, были ли они специально переброшены в этот район и какова их численность, сославшись на секретность подобной информации. «Никто из ОРВЭС вообще не стал бы разговаривать с прессой», — добавил при этом он. — Шмонтце! — ухмыльнулась Джинджер. — Что? — удивленно вскинул брови Доминик. — Вся их болтовня. — Она откинулась на спинку стула и негодующе покачала из стороны в сторону головой. — Просто чушь. — Что такое «шмонтце»! — спросил Доминик. — Ах, извините! — смутилась Джинджер. — Это одно из любимых словечек моего папы. «Шмонтце» на идише означает «глупость», вообще всякую ерунду, абсурд, пустую болтовню типа той, что записал со слов армейского офицера этот репортер, — она ткнула пальцем в газету. — Ну кто поверит, что эти ребята из ОРВЭС очутились здесь как бы случайно? Все это слишком гладко. — Но, Джинджер, в газетах ведь говорится, что спецвойска прибыли спустя час после объявления карантина в районе шоссе № 80, — нахмурился Доминик. — Следовательно, либо они расквартированы где-то рядом, либо были подняты по тревоге еще до того, как произошел несчастный случай, и переброшены в этот район по воздуху. — Вот именно! — Вы хотите сказать, что они заранее знали, что будет утечка отравляющего вещества?! — Я готова допустить, что подразделение ОРВЭС находилось на одной из близлежащих военных баз, — со вздохом проговорила Джинджер. — Может быть, где-то в западной части Юты или в Южном Айдахо. Но и этого мало, чтобы сценарий, придуманный армией, выглядел правдоподобным. Даже если они в срочном порядке вылетели сюда, как только узнали об аварии, за час они не смогли бы распределить весь личный состав по контрольным пунктам. Это невозможно. Вот почему мне кажется, что у них в запасе было какое-то время, ну, не день и не два, конечно, а, скажем, пара часов. — Следовательно, утечка отравляющего вещества не была случайностью, — заключил Доминик. — А скорее всего никакой утечки вообще не было. Так какого же черта они напялили эти специальные защитные костюмы? Доминик был совершенно обескуражен хитросплетениями таинственного происшествия, не поддающегося никаким объяснениям с позиций здравого смысла. Чем глубже он проникал в лабиринт этой загадочной истории, тем дальше удалялся от ее разгадки, а стоило ему лишь нащупать подоплеку событий, как она выскальзывала у него из рук и выворачивалась наизнанку, оставляя его в тупике. Ему хотелось разорвать газеты на клочки, словно это была сама ложь, сотканная хитроумными военными, и, расправившись с ней, он если и не докопался бы до краешка истины, то по крайней мере превратил бы ложь в конфетти. — Армия могла пригласить ОРВЭС для охраны зоны только по одной причине: чрезвычайной секретности охраняемого объекта, — с отчаянием в голосе произнесла Джинджер. — Они не доверяют своим солдатам, не имеющим допуска. Других причин я не вижу. — Во всяком случае, эти парни из ОРВЭС будут держать рот на замке, — согласился Доминик. — Вот именно. Они бы вообще не понадобились, если бы дело заключалось только в утечке отравляющего вещества. На что там смотреть? На перевернутый грузовик и помятый баллон? Вновь вернувшись к старым подшивкам газет, Доминик и Джинджер обнаружили в них дополнительные доказательства того, что армия заранее знала о происшествии, которое должно было случиться в ту июльскую ночь. Оба они четко помнили, что приблизительно через полчаса после наступления темноты гриль-бар «Спокойствие» вдруг наполнился каким-то странным звуком и затрясся, как от землетрясения. Это произошло где-то в начале десятого. Именно с этого момента срабатывала у них обоих блокада памяти. Дальше был провал. А в одной из заметок в «Сентинел» Доминик обнаружил строчку, где говорилось, что дороги в тот вечер были перекрыты уже в восемь вечера. — Выходит, военные объявили карантин на десять минут раньше, чем произошла авария? — Да, — кивнул Доминик. — Если только мы не допустили ошибки при определении времени захода солнца. Однако прогноз погоды, помешенный в номере за шестое июля, в точности подтвердил их расчеты. В тот роковой день газета предрекала температуру до 90 градусов, а ночью — около 64[74], влажность — 20–25 процентов, чистое небо, ветер слабый, временами порывистый, закат в половине восьмого. — Здесь быстро темнеет, — сказал Доминик. — Самое большее — за пятнадцать минут. Так что без четверти восемь было совершенно темно. Значит, мы все вычислили правильно, военные перекрыли шоссе до происшествия. — Значит, они о нем знали заранее. — Но не могли предотвратить. — Что означает, что процесс, начатый ими же, вышел из-под контроля, — сделала вывод Джинджер. — Вероятно, — кивнул Доминик. — А возможно, все было и не так. А вдруг в этом не было их вины? Мы можем сейчас пока лишь делать предположения. Джинджер раскрыла газету за 11 июля и ахнула от удивления. Взглянув на страницу, Доминик увидел фотографию человека в мундире полковника, в котором он по описаниям Неда и Эрни тотчас же узнал Леланда Фалькирка: темные, с сединой на висках, волосы, пронзительный взгляд, орлиный нос, тонкие губы, решительное, волевое лицо. «Полковник Леланд Фалькирк, командир подразделения ОРВЭС, осуществляющего контроль в зоне карантина, пришел в ярость, заметив, что его фотографируют, и категорически отказался отвечать на вопросы», — гласила подпись под портретом. Теперь Доминик тоже вспомнил, что видел этого человека позапрошлым летом, и содрогнулся при мысли о том, что его судьба зависит от этого бессердечного эгоиста. — Каин айнхорех! — воскликнула Джинджер и пояснила: — Это тоже идиш. Так говорят, когда боятся сглаза. У него тяжелый взгляд, так что это выражение весьма уместно. Словно завороженный, Доминик уставился на фотографию. — Вы правы, — наконец произнес он. — Весьма уместно. Холодные серые глаза полковника Фалькирка пронзали его, словно живые.* * *
Пока Доминик и Джинджер изучали газеты в редакции «Сентинел», Эрни и Фэй Блок пытались связаться с людьми, находившимися 6 июля позапрошлого года в мотеле, до которых Доминику не удалось дозвониться. Усевшись напротив друг друга за столом в конторе, они день за днем просматривали записи в старой регистрационной книге и составляли телеграммы. На электроплитке бурчал кофейник. Дописывая текст телеграммы Джеральду Салко, снимавшему для своей семьи два номера 6 июля, но не указавшему номер своего телефона в Монтерее, штат Калифорния, Эрни вдруг подумал, как часто они с женой сиживали вот так же, как и теперь, за этим дубовым столом или на кухне в течение многих лет супружеской жизни. Куда бы ни забрасывала их судьба, долгими вечерами сидели они напротив друг друга за кухонным столом, работая, мечтая, обсуждая насущные заботы, делясь радостями и тревогами, порой засиживаясь далеко за полночь. У Эрни даже защемило сердце при мысли о том, как ему повезло с женитьбой. Их жизни переплелись так тесно, что они теперь составляли как бы одно целое. И, если бы с Фэй что-то случилось, Эрни предпочел бы умереть вместе с ней. Фэй обнаружила в регистрационной книге пять записей за прошлый год, в которых напротив имени и фамилии водителя-дальнобойщика из Эванстона, штат Иллинойс, стоял тот же самый адрес и телефон, что и за предыдущий год. Видимо, он так никуда и не переехал. Однако, когда они попытались до него дозвониться, выяснилось, что телефон отключен, а нового номера, принадлежащего Кэлвину, в справочнике нет. На случай, если Кэлвин все-таки перебрался в Чикаго, Фэй позвонила в справочное бюро и спросила, нет ли у них номера телефона мистера Кэлвина Шаркла. Ей сказали, что такого номера у них нет. Безрезультатными остались и все ее звонки в справочные бюро в пригородах Чикаго: либо Кэлвин Шаркл оттуда выехал, либо его вообще больше не было на белом свете.* * *
Тем временем Нед и Сэнди Сарвер готовили в кухне наверху ужин для всех. Вечером за обеденным столом должны были собраться уже девять человек, и Нед не хотел откладывать приготовление ужина на последнюю минуту. Ему хотелось порадовать своих новых друзей чем-то особенным, устроить настоящий праздничный пир, как на День Благодарения: ведь впереди у них у всех была нелегкая борьба. Вот почему они сейчас жарили 16-фунтовую индейку с картофелем и кукурузой, тушили морковь и перец и пекли тыквенный пирог. Шинкуя лук и сельдерей, Нед невольно подумал, что этот обильный ужин может оказаться одновременно и последней трапезой приговоренных к смерти. Он покосился на жену, и мрачные мысли тотчас же улетучились: с губ Сэнди не сходила улыбка, а временами она что-то негромко напевала. «Нет, — подумал, глядя на нее, Нед, — все будет хорошо. Все будет просто замечательно».* * *
Перекусив после визита в редакцию в ресторане на Айдахо-стрит, Доминик и Джинджер в половине третьего возвратились в «Спокойствие». Фэй и Эрни все еще были в конторе, наполнившейся к этому времени аппетитными ароматами тыквенного пирога, корицы, слегка обжаренного в сливочном масле лука и мускатного ореха. — Нед сказал, что ужин будет готов в восемь, — сообщил им Эрни. — Боюсь, что мы не вытерпим этих дразнящих запахов и возьмем кухню штурмом. — Узнали что-нибудь интересное в редакции? — спросила Фэй. Но прежде чем Джинджер успела раскрыть рот, входная дверь в мотель распахнулась и в комнату ввалился, тяжело дыша, голубоглазый полный мужчина. Он так торопился добежать от машины до конторы, что даже не накинул на плечи пальто. Но, хотя одет он был в серые слаксы, синий блейзер и голубой свитер, все находившиеся в приемной тотчас же узнали в нем круглолицего рыжеволосого молодого священника с фотографии: это был, несомненно, отец Брендан Кронин. — Добро пожаловать, мистер Кронин, — приветствовала его Джинджер. Она тотчас же прониклась к нему тем же родственным чувством, что и к Доминику Корвейсису, словно бы их объединяло нечто такое, чего не испытали ни супруги Блок, ни чета Сарвер. Помимо общих испытаний, выпавших на долю всех присутствующих в ту далекую кошмарную ночь, было и другое, известное только некоторым из них, однако потом прочно забытое, как и все остальное, и дававшее о себе знать лишь посредством какого-то особенного волнения и ощущения близости. Не в силах совладать с волной захлестнувшего ее необъяснимого чувства, Джинджер, забыв о правилах приличия, бросилась к отцу Кронину и обняла его. Но никаких извинений не требовалось, потому что Брендан в эту секунду испытал нечто подобное. Без тени сомнения он обнял ее, и они слились в объятиях, как брат и сестра после долгой разлуки. — Отец Кронин! — взволнованно произнес следом за Джинджер Доминик и тоже обнял Брендана. — Не надо так официально, — смущенно пробормотал тот. — Называйте меня просто Бренданом. Эрни позвал сверху Неда и Сэнди и вместе с Фэй вышел из-за стойки, чтобы пожать Брендану руку. — У меня такое чувство, что я в кругу семьи, — с сияющим лицом воскликнул он. — И у вас, наверное, тоже… Словно бы все мы прошли через какое-то важное испытание и теперь уже не такие, как все другие люди. Теперь, оказавшись среди вас, я убедился, что принял правильное решение. Я должен был приехать сюда. Что-то непременно произойдет здесь со всеми нами, и мы как бы заново родимся, начнем иную жизнь. Вы чувствуете это? Скажите, вы чувствуете? Он говорил это тихим, проникновенным голосом, и теплая улыбка не сходила с его полного лица. Глядя на него, Джинджер ощутила приятное волнение, предчувствие грядущего чудесного проникновения в тайны бытия, сходного с тем, которое она испытала, впервые войдя студенткой в операционную, где лежал больной со вскрытой грудной клеткой. — Мы призваны, — сказал Брендан, и это тихо произнесенное им слово разнеслось по всему помещению, — все мы призваны вернуться сюда. — Взгляните! — вскрикнул Доминик и, вытянув вперед руки, показал всем свои ладони: на них набухали красные круги. Пораженный, Брендан тоже взглянул на свои ладони и показал их остальным. На них все увидели точно такие же стигматы. Доминик и Брендан повернулись лицом друг к другу, и воздух комнаты как бы сгустился, насыщенный непонятной энергией. Еще вчера отец Вайцежик рассказал Доминику во время их телефонного разговора, что Брендан не считает все происшедшее с ним за последнее время свидетельством вмешательства божественной силы. Однако сейчас, как показалось Джинджер, помещение конторы мотеля наполнилось явно сверхъестественной энергией, превышающей возможности любого человеческого существа. — Мы призваны, — снова повторил Брендан. У Джинджер перехватило дыхание. Она вопросительно взглянула на Эрни, стоявшего за спиной жены, на Неда и Сэнди, замерших возле стенда с открытками, и по выражению их лиц догадалась, что все они потрясены и ожидают чуда. У Джинджер по спине пробежали мурашки. «Что-то должно случиться!» — подумала она, и в следующий момент на самом деле случилось нечто фантастическое. Все вдруг осветилось волшебным молочно-белым светом, по сравнению с которым поблекли даже лампы и светильники. Этот свет исходил из самого воздуха, главным образом — откуда-то сверху, с потолка, где он обрел серебристый оттенок. Джинджер вспомнила, что именно такой свет видела во сне. Она огляделась вокруг, надеясь припомнить и другие подробности своих странных забытых снов, и в конце концов события той далекой летней ночи, ставшей первопричиной этих снов. Сэнди вытянула руку, словно желала зачерпнуть пригоршню этого сказочного света. Нед робко улыбался, Фэй тоже улыбалась, а Эрни по-детски вытаращил глаза и раскрыл рот. — Луна! — проговорил он. — Луна! — повторил за ним Доминик, не опуская растопыренных ладоней, на которых горели огненные круги. На мгновение Джинджер показалось, что она на грани открытия. Черная завеса, окутавшая ее память, задрожала под напором рвущейся наружу истины и готова была лопнуть, обнажив тайну, скрытую под ней. Но в следующий миг волшебный свет изменил оттенок, из молочно-белого став кроваво-красным, и вместе с этим их изумление и растущее блаженство сменились страхом. Джинджер уже не жаждала откровения, а страшилась его, желание понять все до конца уступило место потребности панически бежать и спрятаться от надвигающегося кошмара. Джинджер попятилась назад и уперлась спиной во входную дверь. В другом конце комнаты Сэнди Сарвер опустила руку и вцепилась в Неда, на лице которого улыбка обернулась злобным оскалом. Фэй и Эрни прижались к стойке. Оглушительный трехкратный удар сотряс зависшую в комнате пурпурную тишину, и Джинджер даже подпрыгнула от удивления, когда он вскоре повторился. Звук явственно напоминал биение огромного сердца, с той только разницей, что к двум обычным ударам прибавлялся третий, послабее: «ЛАБ-ДАБ-ДАБ, ЛАБ-ДАБ-ДАБ, ЛАБ-ДАБ-ДАБ…» Она тотчас же догадалась, что именно о таком странном звуке говорил отец Вайцежик, когда рассказывал Доминику о необычайном происшествии в доме для священнослужителей при церкви Святой Бернадетты. Но это было еще не все: Джинджер почувствовала, что уже слышала где-то этот же странный стук раньше, тогда же, когда впервые увидела такой же неземный свет, сперва серебристо-лунный, а затем кроваво-красный… ЛАБ-ДАБ-ДАБ… ЛАБ-ДАБ-ДАБ… Задрожали оконные рамы. Затряслись стены. Кровавое сияние и свет ламп замигали в такт сотрясавшим весь дом ударам. ЛАБ-ДАБ-ДАБ… ЛАБ-ДАБ-ДАБ… И снова Джинджер почувствовала, что приближается к потрясающей разгадке. С каждым новым ударом и мерцанием света глубоко похороненные воспоминания все сильнее давили на «Блокаду Азраила». И программа блокады заработала: Джинджер начал обволакивать черный страх. У нее перехватило горло и подкосились ноги, все поблекло перед глазами, и она стала быстро погружаться в густую черноту. Бежать или погибнуть. Джинджер ухватилась обеими руками за дверные косяки, отчаянно пытаясь сохранить сознание и не поддаться засасывающей ее в темный омут стремнине страха. В отчаянии она бросила взгляд в окно, на бескрайнюю невадскую равнину, пасмурное зимнее небо, надеясь как-то отвлечься от вызвавшего приступ паники звука и магического свечения. Ужас и безумная паника стали настолько невыносимыми, что побег от них казался единственным спасением. Но она все-таки держалась за дверь, держалась крепко, из последних сил, дрожа и задыхаясь, но не столько от ужаса перед странными явлениями, свидетельницей которых она стала теперь, сколько боясь даже вспомнить о тех отдаленных событиях, которые стали причиной всех последовавших затем напастей. Она держалась, держалась, держалась, пока наконец удивительный стук не затих и не исчез красный свет, сменившись нормальным светом от рекламных щитов за окном и светильников в комнате, где воцарилась полная тишина. Все сразу пришло в норму. Она избежала приступа автоматизма, впервые одержав над ним победу. Может быть, ее закалили выпавшие на ее долю за последние месяцы испытания. Может быть, ей помогли стены этого дома, где она обрела поддержку друзей и единомышленников. Но, как бы то ни было, теперь она уже не сомневалась, что сможет одолеть этот загадочный недуг. Сковавшая ее память блокада давала все новые трещины. А страх перед встречей с правдой о событиях 6 июля уступил место боязни остаться в неведении. Все еще дрожа, Джинджер повернулась лицом к друзьям. Брендан Кронин, шатаясь, подошел к дивану и плюхнулся на него, тоже не в силах унять дрожь во всем теле. Красные круги с его ладоней исчезли, как и у Доминика Корвейсиса. — Правильно ли я понял, что именно такой свет по ночам наполняет вашу спальню? — спросил Брендана Эрик Блок. — Да, — подтвердил Брендан. — Такое случалось уже дважды. — Но вы сказали нам, что это был прекрасный свет, — всхлипнула Фэй. — Верно, — подтвердил Нед, — вы говорили, что это был удивительный свет. — Именно так, — кивнул Брендан. — Но лишь отчасти… А как только он начинал краснеть, мне становилось жутко. Но поначалу мне всегда было легко и радостно. Зловещий багровый свет и странный стук нагнали на Джинджер такой ужас, что она совершенно забыла о живительном лунном свечении, которое наполнило ее трепетным предчувствием чуда. Доминик обтер о рубашку руки и сказал: — Той ночью случилось и хорошее, и дурное. Мы жаждемправды о том, что произошло тогда с нами. Но вместе с тем мы со страху готовы… готовы со страху… — Наложить в штаны, — мрачно договорил за него Эрни. Джинджер заметила, что даже Сэнди Сарвер при этих ловах нахмурилась.* * *
Жоржа Монтанелла похоронила бывшего мужа, Алана Райкоффа, в понедельник, в одиннадцать утра. Сквозь тяжелые серые тучи, зависшие над Лас-Вегасом, наконец пробилось солнце, и сотни золотистых солнечных зайчиков заиграли в окнах домов, запрыгали по лужам на асфальте кладбища, радуясь своей недолгой свободе и дразня набегающие с запада облака. Прощальные слова были произнесены, гроб опущен в могилу и засыпан землей, и пришедшие проститься с покойным начали расходиться, щурясь от неожиданно ярких лучей солнца. Помимо Жоржи и Пола Райкоффа, отца Алана, прилетевшего из Флориды, на кладбище было только пять человек. Не пришли даже родители Жоржи. Своим поведением Алан обеспечил себе тихий уход из жизни. Очень похожий в некоторых отношениях на сына, Пол Райкофф во всем винил Жоржу, держался отчужденно и с каменным лицом отвернулся от нее, едва траурная церемония закончилась. Отъехав от кладбища не более чем на милю, Жоржа прижалась к обочине и, заглушив мотор, разрыдалась. Она плакала не из-за утраты Алана или его страданий, но исключительно из-за окончательного крушения всех надежд, с которыми она связывала их отношения, сгоревшей любви, несостоявшейся семьи, рухнувшей дружбы, потерянных лет и недостигнутых целей. Она не желала смерти Алана. Но теперь, когда он умер, поняла, что ей будет легче начать все сначала, жить так, как она сама этого хочет. И, осознав это, она не пришла в ярость и не почувствовала угрызений совести, ей просто стало грустно. Накануне вечером она сказала Марси, что ее отец умер, умолчав, однако, о самоубийстве. Вообще-то Жоржа намеревалась поговорить с ней в присутствии психолога, доктора Каверли, но визит к нему пришлось отложить, поскольку Жоржа решила вместе с дочерью вылететь сегодня же в Элко. Марси восприняла новость на удивление спокойно, поплакала, но недолго: в семь лет она уже понимала, что такое смерть, но еще не осознавала ее суровую безвозвратность. К тому же для девочки отец умер еще год назад, когда ушел из семьи, так что она не испытывала особой печали. Был и еще один момент, облегчивший Марси ее горе: целиком завладевшее ею увлечение фотографиями Луны. Не прошло и часа, как девочка услышала о смерти своего папы, а она уже снова сидела за обеденным столом в гостиной с сухими глазами, прикусив от сосредоточенности розовый кончик язычка, и водила фломастером по бумаге, раскрашивая свою коллекцию. Фанатичное увлечение дочери встревожило бы Жоржу, даже если бы она и не знала, что ему подвержены и другие люди, двое из которых уже наложили на себя руки. Девочка еще не достигла такой стадии, чтобы просыпаться и засыпать с мыслью о Луне. Но нетрудно было себе представить, что рано или поздно это ненормальное увлечение сведет малышку с ума. Жоржа вытерла слезы и поехала к дому родителей, где ее ждала дочь. Она нашла девочку за кухонным столом, наклеивающей в заветный альбом новые картинки. Хитро взглянув на вошедшую мать, она вяло улыбнулась ей и вновь вернулась к своему занятию. Пит, отец Жоржи, тоже сидевший за столом, хмуро наблюдал за внучкой. Все его робкие попытки отвлечь ее внимание от этого бессмысленного времяпрепровождения закончились неудачей, и теперь он ломал голову, придумывая, что же еще можно предпринять. Переодевшись в спальне родителей в джинсы и свитер для поездки на север, Жоржа неохотно позволила матери втянуть себя в бессмысленный спор. — Когда ты отберешь у нее этот дурацкий альбом? — негодовала мать. — Или мне самой это сделать? — Я ведь уже говорила тебе, мама! Доктор Каверли не рекомендует сейчас отбирать у нее альбом! От этого будет лишь хуже. — Это мне ни о чем не говорит, — возмущалась мать. — Все это просто блажь! — Доктор Каверли сказал, что если мы заострим внимание девочки на альбоме, то только усугубим его важность и… — Ерунда! У этого доктора естьдети? — Я не знаю, мама. — А я уверена, что своих детей у него нет. Если бы они у него были, он бы не давал тебе таких глупых советов! Жорже вспомнилось, как в свое время мать вот так же горячо возмущалась по поводу ее свиданий с мальчиками, которые ей почему-то не нравились. Ни один из знакомых Жоржи не отвечал ее требованиям. Честно говоря, Жоржа и вышла-то замуж за Алана, чтобы насолить матери. Глупо, конечно, но она сделала это и жестоко поплатилась за свой поступок. Мэри своей властной материнской любовью, не знающей компромиссов, сама толкнула ее на отчаянный шаг. — Она даже не говорит, почему собирает эти дурацкие картинки, — продолжала кипеть от негодования Мэри. — Да она сама этого не понимает, мама! Это порыв, неосознанное увлечение, не имеющее никакой причины. То есть причина есть, но она где-то глубоко в ее подсознании, там, куда даже ей самой не добраться. — Нужно отобрать у нее этот альбом, — настаивала Мэри. — Не сразу. Отучим девочку от него постепенно. — Будь моя воля, я бы сделала это прямо сейчас! Спор продолжился по дороге в аэропорт. Машину вел Пит, и Мэри воспользовалась случаем, чтобы еще немного потрепать Жорже нервы. Марси, сидевшая на заднем сиденье рядом с матерью, перелистывала страницы альбома. Разговор теперь шел уже не об увлечении внучки, а о предстоящем полете в Элко. У Мэри были большие сомнения на этот счет, и она не преминула их высказать. Ее беспокоило, что придется лететь на двенадцатиместном самолете сомнительной авиакомпании, у которой, вполне может статься, нет денег на профилактику и ремонт машины. Ей вообще было непонятно, зачем нужно было лететь в Элко и каким образом общие проблемы собравшихся там людей связаны с мотелем. — Меня беспокоит этот Корвейсис, — бросил Пит, остановившись на красный свет у перекрестка. — Мне не нравится, что ты связываешься с этим типом. — Что ты хочешь этим сказать? — изумилась Жоржа. — Ведь ты его совсем не знаешь! — Вполне достаточно того, что я знаю, — хмыкнул отец. — Он писатель, а ты сама знаешь, какие они, эти писатели. Я читал, что Норман Мейлер однажды чуть не выбросил жену из окна; он заставил ее висеть головой вниз, держа за щиколотки. А этот Хемингуэй, разве он не ввязывался постоянно в драки? Все они пьяницы и наркоманы, эти писатели. — Ты совершаешь очередную большую ошибку, — сухо заметила Мэри. И так до самого аэропорта. Уже прощаясь, родители сказали Жорже, что любят ее, и она расцеловала их, и, что самое странное, все это было от чистого сердца. Хотя они постоянно изводили дочь и она страдала от этого, они любили друг друга. Если бы это было не так, они давно уже перестали бы разговаривать. Их взаимоотношения в некотором смысле были не менее загадочными, чем происшествие в мотеле «Спокойствие», случившееся полтора года назад. Войдя в салон самолета, Жоржа была приятно удивлена его комфортабельностью: кресла — по шесть с каждой стороны от прохода — оказались достаточно удобными и мягкими, к тому же снабженными наушниками, а пилот управлял самолетом столь же аккуратно, как молодая мать пестует своего ребенка. Спустя полчаса после взлета Жоржа заметила, что Марси отложила свой альбом и заснула, убаюканная ровным гулом моторов. Жоржа задумалась о будущем — полном забот и одиноком. Ей нужен был мужчина. И не только в сексуальном плане, хотя секс был для нее далеко не на последнем месте. Ей в первую очередь был нужен друг, способный разделить с ней ее мечты и планы, успехи и неудачи. Человек не создан для одиночества, для жизни ему необходим спутник, и Жоржа остро ощущала это. Музыка в наушниках навевала легкомысленные фантазии. Быть может, в «Спокойствии» она встретится с человеком своей мечты, настоящим другом, и они вместе начнут новую жизнь. Ей вспомнился мягкий, но уверенный голос Доминика Корвейсиса, и она представила себе, что скажет отец, когда узнает, что его дочь выходит замуж за одного из этих драчливых и вечно пьяных писателей, которые имеют привычку подвешивать жен из окна головой вниз, держа их за лодыжки. Но ее фантазии рассеялись, едва она вышла из самолета, потому что ей сразу стало ясно, что сердце Корвейсиса уже принадлежит другой. В половине пятого, когда они приземлились, небо над Элко было затянуто темными тучами, а горы на горизонте окрашены в багровые и черные тона. Пронзительный холодный ветер не оставлял сомнений в том, что они находятся на расстоянии четырехсот миль к северу от Лас-Вегаса. Корвейсис и доктор Джинджер Вайс ожидали ее возле небольшого терминала, и Жорже достаточно было одного взгляда на них, чтобы почувствовать себя, как среди родных людей. Даже Марси, укутанная в теплое пальто и шарф, с альбомом, прижатым к груди, и слегка припухшими от сна в самолете глазами, заметно оживилась, увидев встречающих. Она улыбалась и охотно отвечала на их вопросы, предложила им посмотреть альбом и позволила Корвейсису на руках отнести себя в машину. «Мы правильно сделали, что прилетели, — подумала Жоржа. — Слава богу!» — Вы, может быть, не помните, — сказала Жоржа, когда они направлялись на стоянку автомобилей с чемоданами в руках, — но вы оказали Марси срочную медицинскую помощь в ту пятницу в июле позапрошлого года, еще до того, как мы поселились в мотеле. — Я и в самом деле не помню этого, — удивленно заморгала Джинджер. — Так это были вы с мужем? И Марси я сразу не узнала! — Мы остановились на шоссе в пяти милях от мотеля, — продолжала вспоминать Жоржа, — там был такой красивый вид, что нам захотелось сфотографироваться на память. — А я как раз проезжала мимо, — обрадованно закивала Джинджер. — Я видела, как вы наводите объектив на резкость, а ваш муж и Марси стояли возле ограждения. — Я не хотела, чтобы они стояли так близко к обрыву, но Алан настаивал, что там самое подходящее для снимка место, а уж если Алан на чем-либо настаивает, его не переубедишь. И вот в тот самый момент, когда Жоржа готова была щелкнуть затвором, Марси оступилась и, перелетев через низкое ограждение, свалилась с тридцати- или сорокафутовой высоты вниз. «Марси!» — вскрикнула Жоржа и чуть не кубарем кинулась следом за дочерью. Но как она ни спешила, добралась до нее не раньше, чем раздался строгий окрик: «Не трогайте ее! Я врач!» Это была Джинджер Вайс, и она слетела по склону так быстро, что оказалась возле девочки одновременно с Аланом, который начал спускаться раньше ее. Марси лежала неподвижно, хотя и не теряла сознания. Джинджер определила, что она не ударилась головой, но заподозрила, как и Жоржа, перелом левой ноги: уж слишком неестественно она была подвернута. К счастью, малышка отделалась только испугом и несколькими ссадинами. — Вы произвели на меня сильное впечатление. — Я? — искренне удивилась Джинджер. Она выждала, пока стихнет гул пролетающего над головой одномоторного самолета, и ответила: — Но я ничего особенного не сделала, только осмотрела Марси. Она ведь и не нуждалась в серьезной врачебной помощи, все, к счастью, обошлось примочками и йодом. Укладывая чемоданы в багажник автомобиля, Жоржа продолжала: — Все равно, вы произвели на меня впечатление. Вы были молоды, красивы, женственны, и при всем при том еще и врач, опытный, решительный. Я же никогда не мечтала ни о чем, кроме как разносить коктейли в казино, это был мой предел. Но после встречи с вами я переменилась, и, когда Алан бросил нас с Марси, я не пала духом, я решила чего-то добиться. Можно сказать, что встреча с вами изменила всю мою жизнь. — Я тронута, Жоржа, — запирая багажник и передавая ключи Доминику, призналась Джинджер. — Но вы явно переоцениваете меня, свою жизнь вы изменили сами, в этом нет моей заслуги. — Дело не в том, что вы сделали для Марси в тот день, — возразила Жоржа. — Дело в том, какая вы сама по себе. Мне нужен был именно такой наглядный пример. — Боже мой! — воскликнула вконец смущенная Джинджер. — Никто еще не называл меня живым примером. Дорогая, у вас явно слишком впечатлительная натура. — Не обращайте на нее внимания, — сказал Доминик. — Она говорит чистой воды шмонтце. — Шмонтце? — рассмеялась, оборачиваясь к нему, Джинджер. — Я писатель, у меня такая работа — слушать и впитывать. Я услышал интересное словечко и использую его, и за это на меня нельзя обижаться. — Так, значит, шмонтце? — повторила с деланой сердитостью Джинджер. — Если идиш уместен, надо использовать его, — улыбнулся Доминик. Именно в этот момент Жоржа поняла, что ей лучше исключить Доминика из своих романтических фантазий: слишком о многом говорили влюбленные взгляды Доминика и Джинджер, когда они смотрели друг на друга, — сами того еще до конца не осознавая, как это ни странно. По дороге в мотель, до которого от Элко было не менее тридцати миль, Доминик и Джинджер рассказали Жорже, что здесь произошло за последние дни. Настроение у Жоржи резко упало. Оглядываясь по сторонам, она с тревогой думала, что готовит ей судьба в этом мрачном пустынном месте: начало новой жизни или могилу.* * *
В Солт-Лейк-Сити Джек Твист пересел с реактивного «лира» на турбовинтовую «Сессну», и вежливый, но молчаливый пилот с гусарскими усами ровно в 4 часа 53 минуты пополудни доставил его в Элко. Джек на такси домчался до местного отделения торговой фирмы «Джип», успев до закрытия, и приобрел там за наличные вездеход джип «Чероки» с четырьмя ведущими колесами. До этого момента Джек не предпринимал никаких специальных шагов, чтобы избавиться от «хвоста», и даже не пытался установить, следят ли за ним на самом деле. Его противники, несомненно, обладали достаточными возможностями, чтобы держать его в маленьком городишке под контролем, если он стал бы передвигаться пешком или на такси. Теперь же, сев за руль собственного джипа, он решил проверить, не тащит ли за собой «хвост», и время от времени поглядывал в зеркало. Не заметив ничего подозрительного, он поехал на местный базар, привлекший своими огнями его внимание еще по дороге из аэропорта. Джек припарковал машину в тени, не доехав сотни ярдов до входа в крытый рынок, вылез из нее и внимательно огляделся по сторонам. Но и на этот раз он не заметил слежки, хотя это еще не означало, что ее нет вообще. Щурясь на сверкающие в ярком свете люминесцентных ламп хромированные прилавки, Джек с грустью вспомнил добрые старые времена, когда в скромной лавочке иммигрантов, говорящих с подкупающим акцентом, можно было купить горячую хрустящую булочку или аппетитный бутерброд с каким-нибудь деликатесом. Сейчас же на рынке пахло только дезинфекцией и озоном, исходившим от холодильных установок. Джек купил карту округа, фонарик, пакет молока, два пакетика сушеного мяса, кулек пончиков и упаковку со странным названием «ветчинная паста». Как явствовало из аннотации, под этим названием предлагался продукт, представляющий собой «изумительный цельный сандвич из измельченной, купажированной и повторно формованной ветчинной пасты, хлеба и специй». Особенно рекомендовалось данное кушанье туристам и спортсменам. На обратной стороне пластиковой упаковки крупными буквами было напечатано: «НАТУРАЛЬНОЕ МЯСО». Джек расхохотался. Производитель не поленился лишний раз подчеркнуть, что предлагает покупателю «натуральное мясо», дабы у него не возникло на сей счет никаких сомнений. Да, сэр, можете быть уверены, сэр, это настоящий мясной продукт, а не суррогат из полиэфира. Вот за что он воевал в Центральной Америке. Выйдя с базара, он еще раз огляделся по сторонам, однако и на сей раз вокруг все было спокойно. Джек вернулся к «Чероки». Он еще раз оглянулся по сторонам, открыл один из чемоданов и достал из него пустой рюкзак, «беретту», полную обойму, коробку патронов 32-го калибра и глушитель. Потом он переложил покупки из бумажного пакета в рюкзак, навинтил на пистолет глушитель, загнал обойму в рукоятку, рассовал по карманам патроны и захлопнул дверцу. Снова сев за руль джипа, Джек положил на соседнее сиденье пистолет, поставил на него рюкзак и стал при свете фонарика изучать карту округа Элко. Когда он наконец выключил фонарик и убрал карту, то был готов к схватке с противником. Покружив минут пять по городу и не заметив за собой наблюдения, он остановился в глубине тупика и достал из одного из чемоданов радиоприемник. Размером не больше двух сигаретных пачек, этот прибор с короткой гибкой антенной улавливал любые сигналы передающих устройств, и, если в отсутствие Джека миниатюрный передатчик прикрепили бы к его машине, его приемник непременно уловил бы сигнал. Направив антенну на джип, Джек медленно обошел его, но приемник безмолвствовал. Джек снова сел за руль и задумался. Ни визуальное, ни электронное наблюдение за ним не велось. Что из этого следовало? Кладя в его сейфы открытки с изображением мотеля «Спокойствие», его противники наверняка понимали, что он немедленно отправится в Неваду. Они также не могли знать, что он потенциально опасный человек, и вряд ли позволили бы ему нанести внезапный упреждающий удар, оставив без наблюдения. Тем не менее именно так они пока и поступали. Джек нахмурился и повернул ключ в замке зажигания. Мотор взревел. Обдумывая во время полета ситуацию, Джек выработал несколько возможных версий, объясняющих намерения его противников. Теперь же у него сложилось впечатление, что все его догадки весьма далеки от действительного положения вещей. За ним не следили, и это пугало его. Все, что не поддавалось объяснению, всегда его настораживало, потому что в неясной ситуации легко упустить что-то очень важное. А если упустить это важное, можешь получить в самый неожиданный момент удар в спину. Мысленно приготовившись к любым неожиданностям, Джек Твист поехал на север от Элко по федеральному шоссе № 51, но через некоторое время свернул на запад, пристроившись в хвост к колонне грузовиков с гравием. Он не спешил выехать на шоссе № 80, предпочитая подъехать к «Спокойствию» незаметно. Наконец он увидел впереди огни мотеля, замершего среди зловещей тишины бескрайней равнины на расстоянии полутора миль к югу-западу от него. Судя по слабому освещению, мотель не работал. Джеку не хотелось предупреждать находившихся в нем о своем прибытии, и он решил идти пешком. Пистолет он оставил в машине, прихватив вместо него автомат «узи». Пока еще он не ожидал неприятностей: ведь не вызвали же его сюда затем, чтобы сразу же прикончить. Это можно было бы сделать и в Нью-Йорке. Тем не менее он готов дать отпор. Помимо «узи» и запасного магазина к нему, Джек взял с собой рюкзак с продуктами, микрофон направленного действия на батарейках, прибор ночного видения, а также перчатки и спортивную шапочку, которые сразу надел на себя, едва вышел из машины и запер дверь: ночь выдалась холодной, и ветер усиливался. В остальном же он был одет вполне по погоде, поскольку подготовился к пешей прогулке еще в Нью-Йорке: на нем были альпинистские ботинки на твердой резиновой подошве и с толстым рантом, гетры и джинсы, свитер и кожаная куртка на теплой подкладке. Экипаж самолета был немало удивлен такой экипировкой пассажира, но это никоим образом не сказалось на отношении к нему: даже косоглазый субъект, одетый как обыкновенный работяга, заслуживал обслуживания по высшему разряду, если смог позволить себе лететь не коммерческим рейсом, а в персональном реактивном самолете. Теперь Джек Твист шел пешком. Пробивавшаяся сквозь тучи луна серебрила сугробы, белеющие, словно кучи обглоданных костей, на черных холмах, и заливала молочной глазурью каменистую равнину, поросшую местами полынью и травой. Но стоило ей скрыться за облаками, как все погружалось в густую тьму. Наконец он облюбовал на южном склоне холма подходящее для наблюдения место и сел, положив на стылую землю автомат и рюкзак. Прибор ночного видения «Стар трон» улавливал любой падающий на него свет — от звезд, луны, снега, светящихся насекомых — и усиливал его в 85 тысяч раз, обеспечивая видимость не хуже, чем в пасмурный день, а то и лучше. Он взял прибор обеими руками, упершись локтями в колени, и навел его на мотель, до которого было не более четверти мили. Никаких постов возле здания не было, все окна выходили на шоссе, так что с другой стороны можно было подкрасться к нему незаметно. В центральной, двухэтажной части мотеля почти во всех окнах горел свет, по-видимому, в квартире владельца, но шторы и жалюзи не позволяли разглядеть, что там происходит. Джек убрал «Стар трон» в рюкзак и взял из него портативный микрофон направленного действия, внешним видом напоминающий ружье с картины футуриста. Всего лишь несколько лет назад такое устройство позволяло подслушивать разговор на расстоянии не более двухсот ярдов, но благодаря мощному усилителю звука эффективность его действия возросла до четверти мили. Джек надел наушники, нацелил «ружье» на одно из окон и досадливо поморщился: шторы и порывистый ветер не давали прослушать весь оживленный разговор целиком, слышны были лишь обрывки фраз. С величайшей осторожностью подхватив с земли «узи» и рюкзак, он подкрался поближе к зданию, так, что до него оставалось теперь менее сотни ярдов. На этот раз слышимость значительно улучшилась, даже шторы не мешали отчетливо различать каждое слово. Разговаривали человек шесть, если не больше. Все они ужинали и нахваливали повара по имени Нед и его помощницу Сэнди за индейку и другие вкусности. «Да они там не просто ужинают, — с завистью подумал Джек, — они пируют». На борту самолета он съел легкий завтрак, но с тех пор у него не было ни крошки во рту. Сидеть же здесь голодным бог знает сколько времени Джек был не в силах, а поэтому положил микрофон на камни, сорвал с ветчинной пасты упаковку и впился зубами в «измельченную, купажированную и повторно формованную» массу. На вкус это были опилки, пропитанные прогорклым свиным жиром. Он выплюнул клейкое месиво и принялся за сушеное мясо и пончики, что было бы еще терпимо, если бы не реплики незнакомцев, смакующих аппетитнейшие яства. Джеку не потребовалось много времени, чтобы сообразить, что эти люди ему вовсе не враги. Все они странным образом были вызваны — или призваны — сюда, как и он сам, и, прислушиваясь к их разговору, он постепенно утверждался в мысли, что их голоса ему знакомы, да и сам он тоже из этой компании, дружной, как крепкая семья. Женщина по имени Джинджер и мужчина по имени Доминик рассказывали остальным о своих изысканиях в редакции местной газеты «Сентинел». Слушая их разговор об утечке отравляющего вещества, карантине на шоссе и элитарных подразделениях ОРВЭС, Джек сразу потерял аппетит: он был наслышан об этих парнях, хотя такие части стали формировать уже после того, как он ушел из армии. Эти головорезы с радостью полезли бы в пещеру к гризли и сделали бы из медведя колбасу. Простому человеку лучше застрелиться, чем оказаться один на один с любым из них: по сравнению с ними бандиты были просто шалунами. Джеку стало ясно, что люди, разговор которых он подслушивал, собрались в мотеле не случайно. Их свело вместе какое-то трагическое происшествие, случившееся здесь позапрошлым летом, то есть тогда же, когда и сам он был среди них. Им удалось довольно далеко продвинуться в своем расследовании, только зря они его так открыто обсуждают, ведь запертая дверь и зашторенное окно еще не защита от чужих ушей. Джека так и подмывало закричать: «Да замолчите же вы, ради бога! Если я слышу вас, то слышат и враги!» ОРВЭС! Это была пакость похлеще ветчинной пасты. Между тем заговорщики продолжали непринужденно обсуждать свои планы борьбы с грозным противником. Послушав их еще немного, Джек сорвал с головы наушники и, подхватив автомат и прочее снаряжение, решительно направился к мотелю.* * *
Столовой в квартире Блоков не было, а на кухне стало уже тесновато, поэтому пришлось перенести стол в жилую комнату и, придвинув мебель к стене, раздвинуть его на максимальную длину, чтобы усесться всем вместе, вдевятером. Под звон приборов Доминик и Джинджер делились с товарищами результатами свой экспедиции в редакцию. Больше всего собравшихся удивило, что армия перекрыла федеральное шоссе № 80 еще до того, как произошла утечка отравляющего вещества, поскольку из этого следовало лишь одно: солдат перебросили вертолетами из Шенкфилда по крайней мере за полчаса до происшествия. — Но почему они не предотвратили аварию? — спросила Жоржа Монтанелла, нарезая для дочери индейку на мелкие кусочки. — Очевидно, они просто не могли этого сделать, — произнес Доминик, разламывая рогалик. — Возможно, на грузовик напали террористы, и армейская разведка успела сообщить об этом в штаб лишь в последний момент, — предположил Эрни. — Вполне возможно, — не без ноток сомнения согласился Доминик. — Но такое происшествие не стали бы скрывать от общественности. Нет, здесь что-то иное, связанное со сверхсекретными данными, сохранность которых можно было поручить только ОРВЭС. Брендан Кронин наконец перестал жевать и, проглотив печеную кукурузу, сказал: — Теперь ясно, почему на шоссе было так мало машин, когда все это случилось. Армия заранее перекрыла магистраль! — А тем, кто случайно увидел то, что им видеть было не положено, промыли мозги и заложили в них ложную информацию, — добавил Доминик. После непродолжительной оживленной дискуссии на эту тему Доминик поведал всем об их с Джинджер неожиданном открытии, которое они сделали, листая газеты, вышедшие уже после аварии на дороге. Джинджер пришло в голову попробовать поискать нить к разгадке происшествия в других новостях, не относящихся непосредственно к аварии, но содержащих сведения, которые могут пролить на нее свет. И действительно, порывшись в архиве, они вскоре напали на любопытную заметку, некоторым образом относящуюся к закрытию шоссе № 80. — Скала Громов, — с заговорщицким видом произнес Доминик. — Мы предполагаем, что именно оттуда пришли наши напасти. А Шенкфилд — хитроумная выдумка для отвода глаз от подлинного источника кризиса. Скала Громов, — повторил он многозначительно. — Скала Громов находится всего лишь в двенадцати милях к северо-востоку отсюда, в горах. Там расположены секретные военные хранилища, как говорят, важных документов, на случай катастрофы, например ядерной войны, — поспешила пояснить Фэй. — Да, там очень глубокие известняковые пещеры, — подтвердил Эрни. — Военные обосновались в них еще до нашего переезда в эти края, лет двадцать или даже больше тому назад. Я слышал, что там хранятся не только секретные архивы, но и кое-что посущественней вроде запасов продуктов, медикаментов, оружия, боеприпасов. И это похоже на правду. Ведь в случае атомной войны первый удар придется по военным базам, так что подстраховаться не помешает. Мне кажется, Скала Громов — одно из таких стратегических хранилищ. — Значит, там может быть что угодно, — заметила Жоржа Монтанелла. — Вот именно, — согласился с ней Нед Сарвер. — Возможно ли, что это не только хранилище? — спросила Сэнди. — Не могут ли они проводить там и какие-то эксперименты? — Какие эксперименты? — спросил Брендан, высовываясь из-за сидевшего рядом с ним Неда. — Любые, — пожала плечами Сэнди. — Это вполне возможно, — сказал Доминик, ему и самому приходила в голову эта мысль. — Но если авария случилась не на шоссе, а в десяти милях отсюда, на Скале Громов, как это могло повлиять на нее? — спросила Джинджер. На этот вопрос ни у кого не было ответа. Марси, занятая до этого времени своей коллекцией и не проронившая за весь вечер ни слова, отложила в сторону вилку и задала свой вопрос: — А почему это место называется Скалой Громов? — Сладенькая моя, — улыбнулась ей Фэй, — я знаю почему. На самом деле это одна из четырех горных долин, окруженных высокими скалами. И во время бури это место служит как бы вместилищем звуков. Индейцы прозвали его Скалой Громов еще много веков тому назад, потому что когда эхо грома, отражаясь от скал, прокатывается по этой долине, возникает ощущение, что гром гремит не на небе, а где-то под землей, прямо под ногами. — Ух ты! — тихо воскликнула Марси. — По-моему, я бы от страха описалась. — Марси! — строго посмотрела на нее Жоржа под общий хохот. — Ну правда же, мама, — повторила Марси. — Помнишь, как один раз дедушка с бабушкой пришли к нам на обед, а в это время как раз случилась буря, настоящая гроза, и молния попала в дерево в нашем дворе, и раздалось такое громкое «бум!», что я написала прямо в штаны. Ну помнишь? Мне было та-ак страшно! — добавила она, оглядывая сидящих за столом. Все снова рассмеялись, а Жоржа сказала: — Это было почти два года назад. Теперь ты уже большая девочка. — Но вы так и не объяснили нам, почему Скала Громов вызвала у вас такое подозрение, — обратился к Доминику Эрни. — Что вы обнаружили в той заметке? В номере «Сентинел» за пятницу, 13 июля, то есть ровно через неделю после закрытия федерального шоссе № 80 и спустя три дня после снятия карантина, было помещено сообщение о конфликте между двумя местными скотоводами — Норвилом Брустом и Джейком Дэрксоном — и Федеральным бюро по землепользованию. Разногласия между двумя сторонами возникли по не совсем обычной причине, а именно: из-за отторжения значительной части высокогорных пастбищ армией. Правительству и без того принадлежала добрая половина территории штата Невада, причем не только пустынные районы, но и львиная доля прекрасных лугов, часть которых сдавалась в аренду скотоводам. Арендная плата, по мнению скотоводов, была безбожно высока, да и вообще слишком много плодородной земли, как они считали, пустовало зря и давно уже следовало продать ее деловым людям. На этот же раз Бруст и Дэрксон подали в суд новую жалобу — на командование гарнизона Скалы Громов. Многие годы скотоводы арендовали прилегающие к территории базы пастбища, в том числе Бруст — 800 акров к югу и западу, а Дэрксон — 700 акров к востоку от Скалы Громов. И вдруг утром, в субботу, 7 июля, вопреки существующему договору, ФБЗ отобрало 500 акров у Бруста и 300 акров у Дэрксона, присоединив их по просьбе армии к территории хранилища на Скале Громов. — Как раз на следующее утро после утечки отравляющего вещества и закрытия магистрального шоссе, — заметила Фэй. — Бруст и Дэрксон выехали в субботу утром осматривать свои стада, — продолжал Доминик, — и оба обнаружили, что их скотину согнали с арендованных ими пастбищ, а вдоль новой границы территории военной базы протянута колючая проволока. Джинджер отодвинула от себя тарелку, доев свой ужин, и сказала: — ФБЗ просто уведомило скотоводов, что в одностороннем порядке расторгает договор об аренде земель, притом без какой-либо компенсации. Но самое странное, что они не получили письменного уведомления вплоть до следующей среды, хотя по закону оно должно быть вручено адресату за два месяца. — Разве такие действия законны? — спросил Брендан Кронин. — Вот здесь-то и зарыта собака! — пробурчал Эрни. — Когда имеешь дело с правительством, не приходится уповать на закон. Ведь эти люди сами решают, что законно, а что незаконно. Это все равно что играть в покер с самим Господом Богом. — По этой части с бюрократами из Федерального бюро по землепользованию никто не сравнится, — заметила Фэй. — У них колоссальные связи в верхах. — Все это мы узнали из «Сентинел», — подытожил Доминик. — И, возможно, мы и сочли бы это простым совпадением, если бы не странное поведение правительства. Когда скотоводы наняли адвокатов и пресса подняла вокруг этого дела шум, бюро вдруг пошло на попятный и предложило им компенсацию. Каково? — Это не похоже на ФБЗ! — воскликнул Эрни. — Они обычно специально провоцируют недовольных на судебную тяжбу, уповая на то, что истец не вынесет волокиты и сдастся. — И сколько же они предложили Брусту и Дэрксону в качестве отступного? — поинтересовалась Фэй. — Сумма не раскрывалась, — пожал плечами Доминик, — но, судя по тому, что оба истца согласились на нее в тот же день, она была приличной. — Выходит, правительство купило их молчание, — подытожила Жоржа. — Мне думается, здесь негласно действовала армия, — произнес Доминик. — Военные поняли, что раздувать скандал не в их интересах, и во избежание осложнений замяли это дело, пока какой-нибудь дотошный умник не связал аварию на шоссе с отторжением прилегающих к нему земель. Зачем вдруг они понадобились армии? — Меня удивляет, что никому, кроме вас, не пришло это в голову, — сказала Жоржа. — Во-первых, мы знали гораздо больше, чем другие, — вмешалась в разговор Джинджер, — и специально выискивали следы таинственного происшествия в других событиях того времени. А во-вторых, в тяжбе скотоводов из-за земельных участков нет ничего особенного, так что никому и в голову не пришло увязывать столь ординарный случай с карантином на шоссе. Ведь военные замалчивали, что все это произошло возле Скалы Громов. Газета же пела дифирамбы правительству и предсказывала наступление эры справедливости и здравого смысла. — Но из того, что вы нам рассказали, — обратился Доминик к Фэй и Эрни, — и того, что мы прочитали, можно понять, это был первый и последний случай справедливого отношения Федерального бюро по землепользованию к арендаторам. Так что никакая это не новая политика, а просто исключение из правил, и выглядит оно на фоне чрезвычайного происшествия в районе Скалы Громов весьма и весьма подозрительно. Между двумя этими событиями явно просматривается определенная связь. — Кроме того, — добавила Джинджер, — заподозрив неладное, мы пришли к выводу, что, если бы случившееся в тот вечер имело отношение к Шенкфилду, военным не было никакой нужды привлекать для обеспечения безопасности подразделение ОРВЭС: ведь солдаты, проходящие службу на этом полигоне, имеют допуск ко всем его секретным объектам, так что скрывать от них последствия аварии бессмысленно. Единственная возможная причина участия в операции ОРВЭС — это полная обособленность чрезвычайного происшествия и отсутствие допуска к ней у солдат из шенкфилдского гарнизона. — Итак, если существуют ответы на возникшие у нас вопросы, — откликнулся Брендан, — мы можем найти их только на Скале Громов. — Мы подозревали, что в этой истории об аварии грузовика с отравляющими веществами нет и половины правды, — сказал Доминик. — Я не исключаю, что она насквозь выдуманная. Возможно, это чрезвычайное происшествие вообще не имеет ничего общего с Шенкфилдом. Если подлинный источник его находится на Скале Громов, то остальное — всего лишь дымовая завеса для публики. — Похоже, что так оно и есть, — согласился с ним Эрни. Он тоже закончил ужин, о чем свидетельствовала чистая тарелка и аккуратно сложенные на ней приборы: Эрни оставался верен армейской привычке к педантичности и дисциплине. — Видите ли, — продолжал он, откинувшись на спинку стула, — некоторое время я служил в разведке морской пехоты и тоже имею основания предполагать, что Шенкфилд вряд ли здесь замешан. Скорее всего он служит прикрытием для чего-то более серьезного. Нед тряхнул своим хвостиком волос на макушке и сказал: — Я вот чего никак не могу понять. Если что-то страшное случилось на Скале Громов, почему они не объявили закрытой всю территорию между хранилищем и мотелем? Ведь не могла же эта напасть перепрыгнуть на наши головы через открытые участки, не причинив по пути никому никакого вреда. — Вам не откажешь в прозорливости, — усмехнулся Доминик. — Я тоже задаюсь этим вопросом. — И вот еще что, — нахмурив лоб, продолжал рассуждать Нед. — Для хранилища ведь не требуется большой территории, не так ли? Насколько я понял, оно находится под землей. У них там наверняка парочка ворот в склоне холма, подъездная дорога, возможно, контрольный пост — и все. Так для чего же им было устраивать земельную тяжбу? Для зоны безопасности хватило бы и трех акров. — Это тоже остается для меня загадкой, — пожат плечами Доминик. — Но что бы ни стряслось шестого июля, это вызвало со стороны армии две чрезвычайные ответные реакции: во-первых, был объявлен временный карантин на магистральном шоссе, за десять-двенадцать миль от хранилища, чтобы нейтрализовать очевидцев, а во-вторых, срочно была расширена зона безопасности вокруг секретного объекта в горах. Плюс приняты меры, чтобы все лишние свидетели прочно забыли то, что видели. У меня такое подспудное чувство, что нам не решить наши проблемы, пока мы не узнаем, чем они занимаются на Скале Громов. Наступила гнетущая тишина. Десерта никому уже не хотелось. Марси выводила ложкой в подливке круги, пытаясь придать им сходство с Луной. О грязной посуде все забыли, мучаясь лишь одним вопросом: как одолеть такого грозного противника, как правительство и армия США? Как проникнуть за железный занавес секретности, опущенный именем закона в целях обеспечения национальной безопасности? — У нас уже достаточно фактов, чтобы действовать открыто, — решительно произнесла Жоржа Монтанелла. — Убийство Пабло Джексона, самоубийство Зебедии Ломака и Алана, одинаковые кошмары, которые снятся многим из нас по ночам, фотографии, присланные неизвестным доброжелателем, — разве это не сенсационный материал для прессы? Если мы предадим его гласности, общественное мнение и журналисты будут на нашей стороне. Мы не будем одиноки. — Это не годится, — возразил Эрни. — Действуя подобным бесцеремонным образом, мы только разозлим военных. Они выдумают еще одну легенду. На общественное мнение они не реагируют столь остро, как политические деятели. С другой стороны, пока мы будем действовать на свой страх и риск, они будут уверены, что им ничто не угрожает, а это даст нам возможность прощупать их слабые места. — И не забывайте, — предупредила Джинджер, — что полковник Фалькирк хотел нас всех уничтожить. Вряд ли он подобрел за это время. Если мы попытаемся действовать открыто, он может убедить свое начальство раз и навсегда покончить с нами. — И все же, как это ни опасно, мне кажется, нам нужно действовать открыто, — высказалась Сэнди. — Возможно, Жоржа права. Ведь иначе нам не пробиться в бункер на Скале Громов, у них там наверняка все нашпиговано электроникой, так что и не подберешься, а толстенные стальные ворота способны выдержать ядерный взрыв. — Нужно, как верно сказал Эрни, постараться нащупать их слабые места, — заметил Доминик. — Похоже, их просто нет, — усмехнулась Сэнди. — Однако же все принятые ими меры теряют эффективность, — возразила Джинджер. — С каждой новой всплывшей в нашей памяти подробностью происшествия их система безопасности дает новую трещину. — Верно, — поддержал ее Нед. — Но только им легче замазывать трещины, чем нам делать новые. — Послушайте, хватит нагнетать тоску и панику, — проворчал Эрни. — Он прав, — произнес с очаровательной улыбкой Брендан Кронин. — Не нужно паниковать, потому что нам суждено победить! — В его голосе снова появился оттенок отрешенной безмятежности и уверенности, обусловленной его непоколебимой верой в неизбежность грядущего откровения. В такие минуты, однако, Доминику почему-то вдруг становилось страшно, он приходил в необычайное волнение. — А сколько человек постоянно находится на Скале Громов? — спросила Жоржа. Но, прежде чем Доминик и Джинджер успели поделиться с ней информацией, почерпнутой в редакции газеты «Сентинел», на площадке лестницы, ведущей из офиса в квартиру Блоков, возник незнакомец. Это был сухощавый и крепкий мужчина лет сорока, с темными волосами и смуглым волевым лицом, левый глаз его слегка косил. Все на мгновение замерли, пораженные его бесшумным проникновением в запертый дом, — казалось, незнакомец возник прямо из воздуха, как привидение. — Ради бога, заткнитесь! — совершенно явственно воскликнуло привидение. — Вы напрасно думаете, что можете здесь спокойно плести интриги.* * *
Все помещения шенкфилдского армейского испытательного полигона, находящегося на расстоянии восемнадцати миль к юго-западу от мотеля «Спокойствие», все его лаборатории, офисы, штабные кабинеты, кафетерий, спортивный зал и комнаты отдыха были спрятаны глубоко под землю: там легче было поддерживать нормальную температуру и влажность в суровых условиях негостеприимной невадской пустыни с ее невыносимой летней жарой и суровой зимней стужей, чем в обычных наземных строениях. Но еще более важны соображения безопасности при частых испытаниях химического и бактериологического оружия, цель которых — изучить влияние солнечного света, ветра и других природных факторов на структуру и эффективность смертоносных веществ. Если бы комплекс был построен на поверхности земли, малейшее внезапное изменение направления ветра поставило бы под угрозу здоровье и жизнь персонала полигона, превратив людей в подопытных морских свинок. Отсутствие окон и постоянный гул вентиляторов ни на минуту не позволяли обслуживающему персоналу подземного городка забыть о том, что они находятся в толще земли. «Боже, как я ненавижу эту преисподнюю!» — подумал полковник Леланд Фалькирк, сидя в одиночестве за металлическим столом в своем временном офисе в ожидании телефонного звонка. Бесконечное жужжание и шипение системы воздухоснабжения вызывало у полковника головную боль. Вот уже который день он жевал аспирин, как конфеты. Сейчас он вновь достал из пузырька две пилюли, налил в стакан ледяной воды из стоящего на столе металлического сифона, но, вместо того чтобы проглотить и запить водой таблетки, принялся их медленно разжевывать. От горечи во рту его едва не стошнило. Но рука полковника не потянулась к стакану с водой. Он также и не выплюнул аспирин. Он терпел. Одинокое несчастное детство и последовавшая за ним еще более убогая юность научили Леланда Фалькирка тому, что жизнь тяжела и несправедлива и только дураки верят в надежду и спасение души, выживают лишь терпеливые и упорные. С ранних лет он принуждал себя стойко переносить боль, страдания и лишения, решив, что таким образом закалит свое тело и волю. Он умышленно проверял свою неуязвимость, прыгая с парашютом в джунгли без всяких припасов, компаса и спичек, без оружия, с единственной целью выбраться живым. Таким образом он проводил почти каждый свой отпуск и находил такое времяпрепровождение очень полезным, потому что возвращался к месту службы еще более закаленным и уверенным в себе. Сейчас он грыз аспирин, сперва перемалывая его зубами в порошок, а потом слюной превращал в едкую кашицу. — Звони же, черт бы тебя побрал! — рявкнул он на телефонный аппарат на столе. Полковник ждал сообщения, которое позволило бы ему выбраться из этой норы на белый свет. В ОРВЭС — Организации реагирования на внутренние экстремальные ситуации — он чувствовал себя боевым офицером более, чем в любом другом подразделении армии США. Полковник не выносил штабной работы и старался поменьше бывать в офисе даже на основной своей базе в Колорадо, так что эти крохотные, лишенные окон каморки в Шенкфилде навевали на него смертельную тоску. Если бы не особый характер его теперешней миссии, он организовал бы командный пункт в хранилище на Скале Громов: там, во всяком случае, помещения были попросторнее, с высокими потолками, не то что эти напоминающие склеп кельи. Но в сложившейся ситуации он вынужден был держать своих парней подальше от Скалы Громов, на что были две причины. Во-первых, он не хотел вообще привлекать внимание к хранилищу, поскольку оно было секретным. Живущие вокруг Скалы Громов скотоводы наверняка задумались бы, заметив направляющуюся в закрытую зону роту ОРВЭС в полной экипировке, а это было нежелательно. Позапрошлым летом он сумел ввести общественность в заблуждение, использовав Шенкфилд как приманку для пронырливых журналистов, и теперь, на пороге нового кризиса, он намеревался повторить тот же маневр. Вторая причина того, что полковник предпочел обосноваться на полигоне в Шенкфилде, была гораздо серьезнее: дело было в том, что Леланд Фалькирк сомневался в надежности персонала хранилища. Он не верил никому из работавших там людей, не чувствовал себя там спокойно, потому что не исключал, что их всех могли… подменить. Аспириновая кашица уже так долго была у него во рту, что он перестал ощущать ее горький вкус. Его больше не подташнивало и ему не нужно было бороться с рвотными позывами, поэтому теперь он мог выпить воду, что и сделал, осушив стакан в четыре глотка. Ему вдруг пришло в голову, что он уже давно переступил грань между творческим использованием боли и наслаждением от нее. Еще задаваясь этим вопросом, он уже знал на него ответ: да, в определенной степени он стал мазохистом, и произошло это не вчера. Конечно, он был дисциплинированным мазохистом, он не позволял боли овладеть собой, но сам контролировал ее, однако при всем при том он все-таки был мазохистом. Вначале он обрекал себя на боль, чтобы закалить себя, но постепенно стал получать от этого удовольствие. Этот самоанализ так увлек его, что он очень удивился, обнаружив, что стакан пуст. Ему вдруг представилось, как лет эдак через десять он заколачивает себе по утрам под ногти бамбуковые побеги, чтобы немного встряхнуться и дать сердцу толчок. Эта абсурдная картинка была столь же мрачной, сколь и забавной, и полковник расхохотался. Еще год назад Леланд не стал бы подвергать себя столь критическому самоанализу, как не стал бы и смеяться. Но в последнее время он начал замечать в своем характере новые и порой весьма приятные качества, что одновременно и радовало, и настораживало его, хотя и не удивляло: после всего увиденного и пережитого позапрошлым летом, всего того, что происходило в настоящий момент на Скале Громов, он уже не мог оставаться прежним полковником Фалькирком и не пересмотреть свой взгляд на жизнь и некоторые привычки. Наконец зазвонил телефон. Полковник схватил трубку, надеясь, что это звонят из Чикаго. Но звонил Хендерсон из Монтерея, штат Калифорния: доложить, что операция в доме семьи Салко пока проходит гладко. Позапрошлым летом Джеральд Салко с супругой и двумя дочерьми снял в мотеле «Спокойствие» два номера, но ему не повезло: он оказался там в неудачное время. И вот теперь у всех Салко отмечалось резкое ослабление блокады памяти. Число объектов,чье состояние претерпевало быстрые изменения, постоянно росло, что беспокоило специалистов по промыванию мозгов из ЦРУ, обещавших в позапрошлом июле, что осечки не будет: гарантией служил их богатый опыт аналогичных операций за рубежом. Но, как показало время, пережитое потрясение было слишком глубоко, чтобы люди его напрочь забыли: вытесненные воспоминания безжалостно разрушали «Блокаду Азраила». Однако специалисты по контролю памяти не сдавались, утверждая, что повторная трехдневная процедура обеспечит безусловное молчание всех объектов. ФБР и ЦРУ незаконно подвергли семью Салко еще одной промывке мозгов, о чем и докладывал в данный момент полковнику по телефону агент ФБР Кори Хендерсон, пытаясь заверить его, что все идет хорошо. Однако Леланд не верил ему, убежденный, что этот путь изначально был обречен на провал, по той простой причине, что секрет, который они столь усердно пытаются скрыть, относится к тайнам, сохранить которые невозможно. Кроме того, в этой акции было задействовано слишком много подразделений — ФБР, ЦРУ, ОРВЭС и ряд других, так что выходило чересчур много вождей и мало индейцев. Но Леланд был хорошим солдатом. Неся ответственность за военную часть операции, он намеревался выполнить свою задачу до конца, даже если она и обречена на неудачу. — Когда вы возьметесь за остальных свидетелей в мотеле? — спросил Хендерсон, называя словом «свидетели» всех тех, кто подвергся промыванию мозгов. Леланд находил это слово весьма удачным, поскольку, помимо своего очевидного значения, оно имело некий мистическо-религиозный оттенок: увиденному «свидетелями» из мотеля наверняка позавидовали бы сектанты-пятидесятники, мечтающие увидеть лик Божий, — настолько парализующим, удивительным, обескураживающим и устрашающим было это зрелище. — У нас все готово, — заверил Леланд Хендерсона. — Мы можем блокировать мотель в течение получаса. Но я не отдам приказа, пока не выясню, что там в Чикаго с этим Кэлвином Шарклом, черт побери! — Какая досадная оплошность! — воскликнул Хендерсон на другом конце провода. — Почему этого Шаркла выпустили из-под контроля? Нужно было схватить его за шиворот и хорошенько промыть ему еще разок мозги, как мы это сделали с Салко. — Это не моя оплошность, — буркнул Леланд, — за нейтрализацию свидетелей отвечает ФБР, я только подтираю за вами. — Я не перекладываю вину на ваших парней, полковник, — тяжело вздохнул Хендерсон. — Но, черт возьми, и нас вы не должны обвинять! У нас не хватает людей, чтобы следить за всеми и прослушивать их разговоры. И это при том, что только троим из наших двадцати агентов известно, ради чего затеяна эта суета. Агенты не любят, когда им что-то недоговаривают, им кажется, что им не доверяют, и они раскисают. Вот так оно и обернулось с этим Шарклом: у него стала восстанавливаться память, а никто вовремя не спохватился. Почему мы вообще решили, что сможем бесконечно поддерживать такую сложную легенду? Блеф! Я вам скажу, где мы промахнулись: мы поверили этим чистильщикам мозгов из ЦРУ. Мы поверили этим сукиным детям на слово, вот в чем была наша ошибка, полковник! — Я всегда говорил, что вопрос можно решить проще, — напомнил Леланд. — Убить их всех? Убить тридцать одного нашего гражданина лишь за то, что они оказались в неудачном месте в неудачное время? — Я ведь не предлагал этого всерьез. Я подразумевал, что без варварских методов нам не стоит даже пытаться сохранить это дело в тайне. Молчание Хендерсона красноречиво свидетельствовало, что он не верит Леланду. — Так вы займетесь сегодня ночью мотелем? — спросил он наконец. — Если обстановка в Чикаго прояснится и мне станет понятно, что там происходит, мы начнем действовать сегодня же. Но возникли некоторые вопросы… Я имею в виду эти непонятные физические явления. Что это такое? Признаюсь, мне становится от них жутковато. Нет, сэр, пока я не разберусь в ситуации, я не стану рисковать своими людьми. Леланд положил трубку. Скала Громов. Полковнику хотелось верить, что происходящее в горах приведет человечество к лучшему будущему, чем оно того заслуживает. Но в глубине души он опасался, что вместо этого наступит конец света.* * *
Когда Джек Твист появился в жилой комнате Блоков, превращенной временно в столовую, и обратился к собравшимся, многие из них вскочили от изумления с мест, едва не перевернув при этом стол и не переколотив посуду, а кое-кто, наоборот, просто прирос к стулу, парализованный страхом, хотя Джек, предвидя такой поворот, предусмотрительно оставил автомат внизу. «Ничего, — подумал он, — им эта встряска только на пользу». И лишь одна маленькая девочка продолжала рисовать что-то ложкой на перепачканной подливкой тарелке, не обращая на него никакого внимания. — Ладно, все нормально, успокойтесь. Сядьте, пожалуйста, — неторопливо взмахнул рукой незваный гость. — Я один из вас. В ту ночь я зарегистрировался в мотеле под именем Торнтона Уэйнрайта, но это не настоящее мое имя. Мы еще вернемся к этому позже, а теперь… — Но откуда вы… Как вам удалось… Вы так нас напугали! — посыпалось на него со всех сторон. — Это не то место, чтобы обсуждать подобные вещи! — повысил голос Джек. — Здесь вас могут подслушивать, поймите же вы наконец! Я сам слушал вас примерно с час, следовательно, это могут сделать и те, с кем вы намерены воевать. Все изумленно уставились на него, пораженные тем, что их конспирация — всего лишь иллюзия. Первым опомнился крупный и крепкий мужчина с седеющими волосами, подстриженными ежиком. — Вы утверждаете, что у нас в квартире микрофоны? Но я лично проверял и ничего не обнаружил. А у меня есть опыт в подобных делах. — Вы, вероятно, Эрни, — произнес Джек тем же резким и бесстрастным тоном, который взял с самого начала специально, чтобы вывести всех из благодушного настроения и вынудить поверить в то, что отныне следует постоянно быть начеку и помнить: их разговоры могут подслушиваться. — Вы говорили, что служили в разведке морской пехоты. Но когда это было? Лет десять назад? С тех пор многое изменилось, Эрни. Разве вы не слышали о революции в области высоких технологий? Нет никакой надобности устанавливать здесь микрофоны, когда есть специальные звукоуловители и трансмиттеры, позволяющие прослушивать разговор через установленный в помещении телефон. Для этого достаточно набрать ваш номер, но звонка вы не услышите: осциллятор электросигнала дезактивирует звонок и одновременно включит микрофон в вашем аппарате. — Он взял со стола телефон и потряс им в воздухе. — Вот с помощью чего вас подслушивают! Вы сами установили для них «жучок». Можете быть уверены, что они прослушали всю вашу болтовню за ужином. Чем продолжать действовать в том же духе, не лучше ли самим перерезать себе глотку и избавить других от хлопот? Слова Джека возымели действие: все замолчали, словно набрав в рот воды. — Вот что, — продолжал он с победным видом, — здесь есть комната без окон, где можно провести военный совет? Не важно, есть ли в ней телефонный аппарат или нет, — мы его отключим. Миловидная женщина средних лет, очевидно, жена Эрни, подумала и неуверенно произнесла: — Неподалеку отсюда есть гриль-бар… — И в нем нет окон? — удивился Джек. — Окна… разбились, — сказал Эрни. — Сейчас они заколочены фанерными щитами. — Пошли туда. Разработаем нашу стратегию, а потом вернемся доедать ваш знаменитый тыквенный пирог. Вы так восторженно о нем отзывались, обжираясь здесь до бесчувствия. А я, между прочим, едва перекусил какой-то дрянью и голоден как волк. С этими словами Джек направился к лестнице, не сомневаясь, что остальные последуют за ним.* * *
Первые пять минут Эрни готов был убить эту продувную бестию с косым глазом. Но постепенно ненависть сменилась невольным уважением. Во-первых, нельзя было не оценить осторожность и предусмотрительность, с которой этот парень появился в мотеле: ведь он не только пробрался в него совершенно незаметно, но и прихватил с собой автомат. Однако, глядя, как этот липовый Торнтон Уэйнрайт, перекинув ремень «узи» через плечо, направляется к выходу из конторы, Эрни не смог унять кипящую в груди ярость и, даже не взяв с вешалки куртку, побежал догонять нахала, чтобы по пути к гриль-бару высказать ему все, что о нем думает. — Послушай, зачем ты хочешь казаться умнее других? Нельзя ли обойтись без бахвальства? — поравнявшись с наглецом, спросил он. — Можно, но боюсь, что тогда до вас сразу все бы не дошло, — ответил тот. Эрни раскрыл было рот, чтобы продолжить выяснение отношений, но внезапно сообразил, что уже вышел из дома и вокруг темная ночь, а до гриль-бара еще далеко. У него перехватило дыхание, он покачнулся и жалобно застонал. К его удивлению, новичок сжал его локоть и самым дружелюбным тоном произнес: — Крепись, Эрни, мы на полпути к цели. Держись за меня, и все будет в порядке. Униженный этим жестом новоявленного доброго самаритянина, Эрни вырвал руку, проклиная свой детский страх, но новичок охладил его пыл. — Послушай, Эрни, — сказал он, — я знаю, какая у тебя проблема. Я тебя не жалею и не злорадствую, ты меня понял? В том, что ты боишься темноты, виноваты мерзавцы, что-то сотворившие с нашими мозгами, и если мы хотим их одолеть, то должны действовать сообща. Так что держись за меня, и вместе мы дойдем до гриль-бара, а там включим свет. Держись крепче! Когда новичок только начал говорить, Эрни едва дышал, но теперь, когда он замолчал, у него возникла иная проблема: он вдруг задышал слишком глубоко и, словно притянутый какой-то силой, повернулся спиной к гриль-бару и посмотрел на юго-восток, туда, где в ужасной и необъятной темноте раскинулась бескрайняя каменистая пустыня. И неожиданно Эрни понял, что боится не самой темноты, а того, что было там ночью 6 июля того скверного лета. Он смотрел в направлении того самого особенного места неподалеку от шоссе, куда они вчера ездили в поисках разгадки свалившихся на них таинственных напастей. Подоспевшая Фэй взяла его под руку. Но, когда косоглазый вновь попытался навязать свою помощь, Эрни, все еще не успокоившись, отверг ее. — Хорошо, хорошо, — отмахнулся парень. — Будь по-твоему, твердолобый морской пехотинец. Можешь и дальше не меня дуться, если тебе от этого легче. Ведь не разозлись ты хорошенько, ты и шагу бы не сделал из дома, верно? И твоя военная закалка тебе бы не помогла! Ты просто закусил удила, как взбесившийся упрямый мул, вот и все! Так что позлись еще немного, может, и дойдешь до гриль-бара. Эрни понимал, что косоглазый нарочно поддразнивает его, чтобы увлечь за собой в неприятное путешествие в темноте. Разозлись на меня хорошенько, как бы приглашал он, и ты меньше будешь бояться темноты. Сосредоточься на мне, Эрни, и ступай себе потихоньку. Это, в общем-то, мало отличалось от руки, которую он великодушно предложил, и, не будь Эрни до полусмерти напуган подступающей к нему со всех сторон темнотой, ему такой буксир даже понравился бы. Но он все еще пылал гневом и воспользовался этим пламенем, чтобы поскорее добраться до гриль-бара. Он вошел в него следом за новичком и вздохнул с облегчением, когда тот включил свет. — Здесь как в холодильнике, — передернула плечами Фэй и пошла включать отопление. Усевшись в кресло спиной к двери, Эрни постепенно приходил в чувства после пережитой встряски, искоса поглядывая на косоглазого умника, который тем временем переходил от окна к окну, проверяя заменявшие стекла фанерные щиты. И тут Эрни почувствовал, что уже не испытывает к новичку никакой неприязни и почти симпатизирует ему. А тот осмотрел висевший возле двери платный телефон, оторвал от него трубку и отшвырнул ее в сторону. — За стойкой есть еще один аппарат, — сказал Нед. Новичок велел ему отключить его, что Нед и сделал. Затем он попросил Брендана и Джинджер сдвинуть вместе три стола и подтащить к ним для всех стулья, что тоже было выполнено. Эрни с нарастающим интересом наблюдал за действиями косоглазого. Между тем тот заинтересовался входной дверью, стекло из которой не вылетело во время таинственного феномена в субботу вечером лишь потому, что было толще оконного. Дверь не была заколочена фанерой, следовательно, являлась уязвимым местом для направленного микрофона. Новичок поинтересовался, осталась ли еще фанера, Доминик ответил, что осталась, и тотчас же вместе с Недом был послан за ней в сарай. Вскоре они вернулись со щитом, которым новичок и закрыл дверь, подперев столом. — Пожалуй, сойдет, — полюбовавшись на творение своих рук, произнес он и пошел осматривать кладовые, по пути велев Сэнди включить музыкальный автомат. — Шумовой фон затрудняет прослушивание, — пояснил он, и Сэнди тотчас же вскочила, чтобы выполнить указание. Внезапно Эрни понял, что в этом косоглазом парне ему нравится: он напоминал ему его самого! Это был профессиональный военный, офицер, быстро мыслящий и расчетливо действующий, умеющий командовать людьми и владеть собой, отличный психолог. Да, они и в самом деле очень схожи. Эрни тихо рассмеялся. «Какой же я порой бываю болван!» — подумал он. Косоглазый вернулся из кладовки и удовлетворенно улыбнулся, увидев, что все уже собрались за столами. — Больше ничего не беспокоит? — подойдя к Эрни, спросил он. — Нет, черт возьми, — буркнул тот. — Большое тебе спасибо. Новичок подошел к свободному стулу за столом и под монотонное пение Кенни Роджерса произнес: — Меня зовут Джек Твист, и я меньше, чем кто-либо из вас, понимаю, что за чертовщина здесь происходит. Все это довольно паршивая история, однако должен вам сказать, что впервые за последние восемь лет я почувствовал, что делаю правое дело, впервые ощутил себя одним из хороших людей, и одному лишь Господу Богу на небесах известно, как это для меня важно!* * *
У лейтенанта Тома Хорнера, адъютанта полковника Фалькирка, были огромные руки. Крохотный магнитофон был совершенно незаметен в его правой ладони, когда лейтенант вошел с ним в лишенную окон комнатушку, где сидел полковник. Пальцы адъютанта были столь велики, что оставалось только удивляться, как он умудряется нажимать ими на кнопки. Однако при всей своей внешней неуклюжести Том Хорнер был необычайно ловок. Он положил магнитофон на стол и включил его. Запись была сделана со студийного катушечного магнитофона, на который записывались все прослушиваемые разговоры. В данном случае это была часть беседы нескольких человек в мотеле «Спокойствие», состоявшейся всего четверть часа назад. Речь шла об открытии свидетелями подлинного источника своих затруднений — Скалы Громов. Полковник Фалькирк слушал с напряженным вниманием. Он не ожидал, что предпринятое этими людьми расследование столь быстро выведет их на верное направление, такая смекалистость его тревожила и злила. «Ради бога, заткнитесь! Вы напрасно думаете, что можете здесь спокойно плести интриги», — произнес вдруг посторонний голос на пленке, и лейтенант Хорнер пояснил: — Это Твист. — Он владел голосом так же, как и своими ручищами. Лейтенант остановил пленку и зарокотал дальше: — Мы знали, что он направляется сюда, знали и то, что он опасен. Мы предвидели, что он предпримет меры предосторожности, но никак не ожидали такой прыти. Насколько им было известно, блокада памяти Джека Твиста не претерпела серьезных изменений. Его не донимали приступы паники, ни сомнамбулизм, ни страхи или навязчивые увлечения, из чего следовало, что единственной причиной его стремительного бегства из Нью-Йорка и перелета в округ Элко может быть лишь предупреждение, полученное от того же предателя, который разослал свидетелям фотоснимки, сделанные «Поляроидом». Леланд Фалькирк метал гром и молнии, узнав, что кто-то из участников секретнейшей операции, возможно даже, один из тех, кто находился на Скале Громов, поставил под угрозу срыва весь план. Он обнаружил это лишь в минувшую субботу, прослушав запись вечернего разговора Доминика Корвейсиса с хозяевами мотеля, в котором, собственно, и были впервые упомянуты эти мгновенные снимки. Леланд распорядился немедленно начать расследование и тщательнейшую проверку всех работающих в хранилище, но дело продвигалось медленнее, чем ему хотелось. — Есть кое-что и похуже, — невозмутимо пробасил Хорнер, снова включая магнитофон. Леланд с хмурым видом молча прослушал, как Твист объяснял остальным, что их могут подслушивать, и как потом все договорились перейти в гриль-бар, чтобы разработать дальнейшую стратегию расследования. — Сейчас они там, — сказал Хорнер, выключая магнитофон. — Оборвали телефонные провода. Я разговаривал по рации с наблюдателями, находящимися к югу от шоссе № 80. Они видели, как свидетели переходили в гриль-бар. Прослушать же дальнейшие разговоры с помощью микрофона-ружья не удалось. — И не удастся, — мрачно бросил Леланд. — Твист знает, что делает. — Теперь, когда им известно о Скале Громов, мы должны действовать как можно решительнее, — сказал лейтенант. — Я жду звонка из Чикаго. — Шаркл все еще держит оборону в своем доме? — Судя по последнему сообщению — да, — ответил Леланд. — Я должен знать, не развалилась ли его блокада памяти окончательно. Если это случилось и если он получит возможность рассказать кому-то, что видел в то лето, тогда все полетит к чертям, и будет ошибкой применять силу против остальных свидетелей. Нам нужно разработать новый план действий.* * *
В полутемном гриль-баре, согревшись на коленях у матери, Марси задремала, едва Джек Твист представился. Хотя она и поспала немного в самолете, вид у девочки был измученный: под глазами чернели круги, а под бледной кожей проступали синие вены. Жоржа тоже устала, но неожиданное появление Твиста моментально развеяло напавшую на нее после обильного обеда сонливость. Сейчас она чувствовала себя необыкновенно бодрой и была готова слушать рассказ о жизни Джека с ее перипетиями. Он начал с упоминания об аресте и тюремном заключении в Центральной Америке, оборвавшем его военную карьеру. Повествование это было скорее грустным, чем страшным, но Жоржа почувствовала, что ему пришлось пережить жуткие испытания. По его бесстрастному тону она поняла, что этот человек настолько уверен в своих силах и возможностях, что не нуждается в бахвальстве или похвале. Когда он рассказал о своей жене Дженни, в его голосе Жоржа уловила глубокую печаль и тоску по утраченной любви. Только необыкновенная взаимная привязанность и полное слияние духа и чувств могли подвигнуть мужчину на самоотверженную преданность впавшей в смертельный сон женщине. Жоржа попыталась представить, как эти двое жили в браке, но потом поняла, что, какой бы сказочной ни была их совместная жизнь, Джек не посвятил бы себя целиком обреченной жене, если бы не был таким, каков он есть. Это были необычные отношения, но еще более необычным был и сам этот человек. Придя к такому выводу, Жоржа прониклась к Твисту и его жизненной истории удвоенным интересом. Джек поведал слушателям о своих рискованных предприятиях во имя поддержания жизни Дженни весьма туманно, не углубляясь в подробности, хотя и не скрывая, что они были незаконными и не делают ему чести и что с преступным прошлым он навсегда покончил. — По крайней мере я не убил ни одного невиновного, случайно оказавшегося рядом, слава богу, — сказал он. — А прочих деталей вам лучше и не знать, для вашей же пользы. Выходило, что совместно пережитое испытание не обошлось для Джека Твиста без последствий. Но, как и в случае с Сэнди, события той июльской ночи оказали на него только благотворное влияние. — Из всего, что ты нам сейчас полунамеками рассказал, — заметил Эрни Блок, — я понял, что ты профессиональный вор. Джек Твист промолчал, и Эрни продолжал: — И сдается мне, что тебе поневоле пришлось признаться в содеянном тем, кто промывал нам мозги. Мне думается, что начиная с июля позапрошлого года и армии, и правительству было все известно о твоей противоправной деятельности: ведь ты продолжал пользоваться старыми документами, по которым абонировал в банках депозитные сейфы, в которых позже и обнаружил открытки. Джек вновь промолчал, и теперь уже всем стало окончательно ясно, что он был преступником. Выждав паузу, Эрни продолжал: — Однако, заблокировав твою память о подлинных событиях рокового лета, они вдруг предоставляют тебе полную свободу действий и позволяют заниматься прежней деятельностью. Спрашивается, какого дьявола они так поступили? Я еще могу понять нарушения закона во имя национальной безопасности, как это имеет место в этой заварухе вокруг событий на Скале Громов. Но в других случаях армия и правительство обязаны охранять законность в стране, не так ли? Тогда почему же они хотя бы анонимно не проинформировали полицию Нью-Йорка или не устроили тебе западню на месте преступления? — Да просто потому, что с самого начала они не были уверены в надежности этой блокады, — высказала свое мнение Жоржа. — Они нас наверняка подслушивали время от времени, чтобы убедиться, что пока все нормально и повторное промывание мозгов не требуется. И происшествия с Джинджер и Пабло Джексоном это подтверждают. Так что для них выгоднее иметь Джека или любого другого из нас под рукой, чтобы в случае необходимости подвергнуть повторной принудительной процедуре без особых хлопот. Из квартиры или из автомобиля человека похитить легче, чем из тюремной камеры, как мне кажется. — Я думаю, так оно и есть, — улыбнулся Жорже Джек. — Вы попали в самое яблочко. Сейчас его улыбка уже не заставила ее похолодеть, как в первый раз, она была гораздо теплее, чем прежде. Марси что-то пробормотала во сне, и Жоржа смущенно опустила глаза. — Ради сохранения столь важного для них секрета они пошли на то, чтобы позволить мне и дальше действовать по собственному усмотрению, — решил Джек. — А может быть, и нет. Может быть, они специально внушили вам это чувство вины. Заронили, так сказать, зерно, и оно дало всходы: вы переменились, — предположила Джинджер. — Нет, — сказал Джек. — Раз у них не было времени, чтобы ввести каждому в память отдельную программу, у них не было его и на то, чтобы попытаться направить меня на истинную стезю. А кроме того… мне трудно это выразить… но, вернувшись сегодня сюда, я почувствовал, что ощущение стыда за содеянное и потребность в общении с другими людьми пришли ко мне именно потому, что два года назад с нами случилось нечто такое… нечто затмившее все мои личные страдания и позволившее мне понять: они не стоят того, чтобы корежить из-за них всю оставшуюся жизнь. — Да! — радостно подхватила Сэнди. — Я чувствую то же самое. Весь этот ад, через который я прошла в детстве, он как бы потускнел после того, что произошло в июле. Все смолкли, пытаясь представить себе, что же им пришлось испытать тогда, но ничего сверхъестественного в голову никому из них не приходило. Джек нажал на панели музыкального автомата еще несколько клавиш и начал под грохот музыки расспрашивать каждого, что тот испытал в тот вечер и в последующее время, пытаясь составить из разрозненных деталей цельную картину, после чего перешел к обсуждению мероприятий на следующий день. Жоржа вдруг поймала себя на мысли, что он очаровал ее во многом в силу тех же причин, что и Джинджер Вайс: это был тот тип личности, к которому она сама стремилась после развода, такой мужчина, каким никогда не был Алан. Не оказывая никакого видимого нажима, Джек склонил всех к предложенному им же плану, с самого начала пленив всю группу твердостью характера и талантом лидера. Главной проблемой стала угроза внезапного нападения людей Фалькирка: блокада памяти рассыпалась у них на глазах, и они не могли не отреагировать. Чтобы не стать для противника легкой добычей, было решено утром рассредоточиться для выполнения индивидуальных заданий, а ночью не спать всем в мотеле, а отправить часть людей на автомобиле в город, причем в два приема, с интервалом в несколько часов. — Я готов быть первым, — вызвался Джек. — Мне все равно нужно забрать машину с холма, где я ее оставил. Кто со мной? — Я! — не задумываясь выпалила Жоржа. — Нужно только уложить куда-то Марси… — Это мы устроим, — успокоил ее Эрни. — Мы с Фэй возьмем ее к себе в спальню. Третьим вызвался ехать с первой группой добровольцев Брендан Кронин — при этом у Жоржи почему-то тоскливо защемило сердце, но лишь много позже она поняла, что это чувство разочарования. Во вторую группу, которая должна была сменить под утро первую, включили только Неда и Сэнди. Встреча с ними должна была состояться на городском базаре. — Если прибудете туда первыми, — предупредил Джек, — не вздумайте покупать ветчинную пасту. Ну, кажется, все. Начнем действовать. — Минуточку! — остановила его Джинджер. Сцепив пальцы, она некоторое время собиралась с мыслями. — После приезда Брендана, после появления у него и Доминика на ладонях загадочных красных колец, после странного шума и света в конторе мотеля меня не покидала мысль о природе этого сверхъестественного явления. И мне кажется, что я нащупала нить к разгадке… Все немедленно выразили горячее желание ее выслушать. — При всем многообразии наших снов в них имеется одно связующее звено, Луна. Далее. Часть наших снов, как выяснилось, основывается на подлинных событиях: я имею в виду защитные костюмы, шлемы, ремни, которыми нас привязывали к кроватям, капельницы и другие детали, которые мы позже видели на фотографиях. Исходя из этого, резонно предположить, что и Луна снится нам не случайно, она является частью тех событий, воспоминания о которых закрыты блокадой. Вы согласны? — Согласны, — первым ответил Доминик, и все закивали головами. — Мы знаем, что увлечение Марси Луной постепенно переросло в любование именно алой Луной, — продолжала Джинджер. — И Джек рассказал нам, что во сне ему недавно приснилась красная Луна. Пока еще никому из нас она больше не снилась, но я уверена, что вечером шестого июля мы наблюдали нечто, окрасившее Луну в красный цвет. И призрачный свет, наполняющий время от времени спальню Брендана, своего рода подтверждение того, что случилось с настоящей Луной в ту ночь, напоминание о тех странных событиях, которые нас заставили забыть. — Напоминание, — произнес задумчиво Джек. — Но кто посылает это напоминание? Откуда исходит свет? Где его источник? — У меня есть на этот счет одна идея, — ответила Джинджер. — Но позвольте мне пока не раскрывать ее. Сначала давайте подумаем, почему Луна вдруг окрасилась в кровавый цвет. Она встала со стула и принялась расхаживать взад и вперед по залу, приводя один за другим головокружительные доводы. И чем дольше слушала ее Жоржа, тем больше ей становилось не по себе. И не только ей одной.* * *
Джинджер Вайс искренне исповедовала научное мировоззрение. Она признавала исключительно законы логики и разума, будучи уверена, что в мире нет такой тайны, которую невозможно объяснить с позиции здравого смысла. Но в отличие от некоторых ученых и врачей она не считала живое воображение помехой здравомыслию. В противном случае ей вряд ли пришла бы в голову теория, которой она решила поделиться со своими друзьями в мотеле «Спокойствие». Теория эта была весьма необычной, и Джинджер слегка нервничала, излагая ее своим слушателям, поскольку не знала, как они ее воспримут, и потому беспрерывно расхаживала между столом, стойкой и музыкальным автоматом. — Люди, занимавшиеся нами в первые два дня, были одеты в специальные костюмы, рассчитанные на защиту от бактериологического оружия, — говорила она. — Они, видимо, опасались, что мы заражены, так что, вполне возможно, мы наблюдали красное облако отравляющего вещества. И, когда оно проплывало у нас над головами, Луна тоже стала красной. — И все мы заразились одной и той же неизвестной болезнью, — вставила Жоржа. — Вот почему, как мне вспомнилось вчера на том особенном месте возле дороги, Доминик и кричал тогда: «Это внутри меня! Это внутри меня!» Если представить, что он в ту ночь оказался в красном облаке, то становится понятным, почему он это кричал: он вдыхал это отравляющее вещество. Брендан же рассказал нам, что те же слова сами собой сорвались с его губ, когда его комната в Рино наполнилась неестественным красным свечением. — Бактерии? Заболевание? Но почему мы не заболели? — спросил Брендан. — Потому что нас немедленно вылечили, — ответил Доминик. — Мы уже прорабатывали эту версию, Брендан, до вашего приезда. Однако, Джинджер, свет, наполнивший контору сегодня днем, был слишком ярким для лунного — тем более если он тогда падал сквозь облако. — Я знаю, — отреагировала Джинджер, продолжая расхаживать по залу. — Моя гипотеза, конечно, далеко не совершенна, однако с ее помощью кое-что можно объяснить. — Например? — поинтересовался Нед. — Например, чудесные исцеления Бренданом двух человек в Чикаго. Летающие бумажные луны в доме Зебедии Ломака. И наконец, то, что случилось здесь, в гриль-баре, в субботу вечером, когда Доминик пытался вспомнить события позапрошлого лета. Музыкальный ящик замолк, но никто не сдвинулся с места, чтобы запустить новую серию мелодий. Затаив дыхание они ждали объяснения необъяснимого красного свечения. — До сих пор объяснения были вполне реальными: красное облако отравляющего вещества, — продолжала Джинджер. — С этим легко согласиться. Но теперь… я попрошу вас напрячь свое воображение. Мы допускаем, что чудесное исцеление и явления полтергейста обусловлены каким-то таинственным внешним фактором. Отец Вайцежик считает, что этим является Бог. Другие не разделяют его точку зрения. Мы не знаем, что это за чертовщина, но признаем, что тут замешана какая-то внешняя сила, неизвестно откуда посылающая нам сигналы или запугивающая нас. Но что, если эти чудеса обусловлены не внешним, а внутренним источником? Вдруг Брендан и Доминик на самом деле обладают какой-то энергией, которую обрели в результате случившегося в ночь, когда взошла красная Луна? Представьте себе, что они владеют телекинезом — способностью перемещать предметы, не прикасаясь к ним? Тогда становится понятным, почему летали фотографии Луны и дрожали стены ресторана. Все удивленно посмотрели на Брендана и Доминика, хотя больше всех были потрясены услышанным они сами. — Но это невозможно! — воскликнул Доминик. — Я не медиум и не колдун! — И я тоже! — отозвался Брендан. — Вы это не осознаете! — возразила Джинджер. — Я хочу сказать, что, может быть, вы обладаете такой силой, но сами об этом даже не догадываетесь. Подумайте хорошенько. Впервые кольца появились на ладонях Брендана, когда он расчесывал в больнице волосы маленькой девочки. Он сказал, что ему было до глубины души жалко эту малышку и он очень сожалел, что не в силах ей помочь. Возможно, это глубокое чувство жалости и даже злости на себя и разбудило в нем энергию, о которой он не подозревал. А подозревать он не мог, потому что обрел ее при обстоятельствах, которые его заставили забыть. Теперь возьмем второй случай, с раненым полицейским. Брендан оказался в экстремальной ситуации, и она тоже вполне могла освободить дремлющую в нем чудесную силу. — Джинджер прибавила шагу и заговорила еще быстрее, боясь, что ей не дадут закончить мысль: — А теперь задумайтесь над тем, что довелось испытать Доминику. Первый раз — в доме Ломака… Как он нам рассказывал, он тогда задумался над загадочным происшествием и так расстроился, что готов был сорвать все фотографии Луны со стены. И стоило ему подумать так, как его желание осуществилось: фотографии сами отклеились, он даже не прикоснулся к ним руками. А когда он закричал: «Прекратите!» — они тотчас же упали на пол. И не потому, что кто-то посторонний, управляющий ими, подчинился ему, а потому, что он сам захотел этого. Судя по скептическим выражениям лиц Брендана и Доминика, они ей все еще не верили. Однако Сэнди эта мысль пришлась по вкусу. — В этом что-то есть! — воскликнула она. — Вы только вспомните, как все случилось в субботу вечером, в этом же зале! Доминик пытался мысленно вернуться к моменту, после которого наступал провал в его памяти, и, пока он собирался с мыслями, раздался этот странный шум, потом гром, потом задрожали стены и стекла. Возможно, он подсознательно использовал свою особую энергию, чтобы вспомнить, что последовало за тем, что здесь тогда случилось. — Правильно! — похвалила ее Джинджер. — Понимаете? Чем больше мы размышляем над этим, тем яснее становится картина. — А как же объяснить этот странный свет? — спросил Доминик. — Вы думаете, мы с Бренданом сами его излучаем? — Вполне возможно, — сказала Джинджер. — Это пирокинез, способность вырабатывать одной лишь энергией мысли тепло или огонь. — Но это был не огонь, — возразил ей Доминик. — Это был свет. — Хорошо, пусть будет фотокинез, — не стала спорить Джинджер. — Но мне кажется, что, когда вы с Бренданом встретились, вы подсознательно почувствовали друг в друге эту силу. У вас возникли смутные воспоминания о том, что произошло в ту июльскую ночь, и вам обоим страстно хотелось вспомнить все досконально. И, сами того не желая, вы стали источником этого сверхъестественного света, который в точности повторил метаморфозы Луны шестого июля. Таким образом ваше подсознание пыталось пробить брешь в блокаде памяти. Джинджер видела, что от этих заумных гипотез у всех голова уже идет кругом, но не торопилась с дальнейшими разъяснениями, давая им время на размышление. — Минуточку! — воскликнул Эрни Блок. — Я что-то перестаю вас понимать. Сперва вы утверждаете, что Луну окрасило в красный цвет облако отравляющего вещества, потом переворачиваете все с ног на голову и начинаете говорить, каким образом случившееся с нами повлияло на Доминика и Брендана. Я не вижу логики! Где связь между отравляющим веществом и вселившейся в них чудодейственной силой? В первом случае мы имеем дело с бактериями, во втором же — с чисто физическим явлением. Прежде чем ответить на этот сакраментальный вопрос, затрагивающий краеугольный камень всего ее логического построения, Джинджер перевела дух и лишь после этого сказала: — А что, если… что, если нас поразил такой вирус, который вызывает, помимо всего прочего, глубинные генетические или гормональные изменения в индивидууме, изменяет его мозг? И, как побочный эффект, наделяет хозяина чем-то вроде физической энергии, пусть даже в качестве остаточного явления? На лицах слушателей после этой триады угадывались самые разные мысли и чувства, но нельзя было сказать, что кто-то посчитал ее безумной или отчаянной фантазеркой. Нет, скорее все были поражены хитроумным сплетением приведенных доводов, мастерски связанных в единую логическую цепь последним неопровержимым аргументом. — Святый Боже! — изумился Доминик. — Не уверен, что все обстоит именно так, но сама идея превзошла все мои ожидания! Можно писать роман! Подумать только, искусственный вирус, вызывающий в качестве побочного эффекта в человеческом мозге способность вырабатывать физическую энергию! Меня просто подмывает немедленно усесться за пишущую машинку! Давненько не испытывал я такого творческого подъема. Джинджер, если мы останемся живы, мне придется выплатить вам часть моего гонорара. Гениальная идея для романа! — Но почему вы воспринимаете эту мысль только как гениальную основу романа? — спросила Жоржа Монтанелла, осторожно усаживая получше сползающую с ее колен Марси. — Может быть, это и есть правильный ответ на вопрос? — Во-первых, если бы мы все заразились этим вирусом, мы все вырабатывали бы такую энергию, — заметил Джек Твист. — Ну, — наморщила лоб Джинджер, — еще неизвестно, все ли мы заразились. Либо заразились, либо вирус не у всех прижился. — Или не у каждого из нас в организме возникает этот побочный эффект, — сказала Фэй. — Неплохая мысль, — оживилась Джинджер. Она снова начала ходить от стола к стойке и обратно, на этот раз от перевозбуждения. Нед Сарвер почесал в затылке и сказал: — Вы хотите сказать, что военные знали об этом побочном эффекте вируса? Знали, что он может вызвать в организме изменения? — Этого я не могу утверждать, — ответила Джинджер. — Возможно, что они и знали. А может быть, и нет. — Я думаю, что нет, — подал голос Эрни. — Уверен, что не знали. Из того, что вы откопали в редакции газеты, нам известно, что шоссе было перекрыто лишь незадолго до мнимой аварии, из чего следует, что никакой аварии не было вообще. Поэтому мне трудно поверить, что наши военные умышленно заразили нас микроорганизмом, предназначенным для поражения противника, лишь только для того, чтобы испытать его, — это слишком легкомысленно. Но, даже если допустить такую нелепость, представляется совершенно невероятным, что они рискнули испытать на нас вирус, способный вызывать такие побочные эффекты. Люди с необыкновенными психическими способностями образовали бы особую, высшую касту, использующую свои необыкновенные возможности для обретения военной, экономической и политической власти над человечеством. Образовалась бы новая порода людей, и, предвидя это, правительство никогда не допустило бы, чтобы ее формировали простые граждане. Такого блага удостоились бы исключительно сильные мира сего, те, кто уже у власти, элита! Я согласен с Домиником: гипотеза о красном облаке какого-то биологического оружия выглядит заманчиво, но неправдоподобно. Однако если мы все-таки подверглись такому заражению, о его побочном эффекте правительство не знало. После таких слов все смотрели на Брендана и Доминика уже другими глазами, с трепетом, волнением, удивлением, уважением и даже страхом. Джинджер заметила, что оба они, и священник и писатель, сильно смущены открывшимися в них сверхчеловеческими возможностями и никак не могут свыкнуться с мыслью, что отныне они уже не такие, как все. — Нет! — воскликнул Доминик и даже привстал со стула, протестуя, но тотчас же вновь сел, словно бы не доверяя своим ногам. — Нет-нет, Джинджер, вы не правы. Я не супермен, и не волшебник, и никакой не… выродок. Если бы все обстояло так, как вы говорите, я бы это почувствовал. Я бы знал это, Джинджер. — Я предполагал, что являюсь чем-то вроде проводника целительной силы для Эмми и Уинтона, — пробормотал Брендан Кронин, потрясенный не менее, чем Доминик. — Я думал, что некто или нечто, но не Бог, а что-то другое, использует меня как посредника. Но я никогда не думал, что сам являюсь целителем. Послушайте, я был уверен, что вся эта история с утечкой отравляющего вещества просто блеф, ширма и все случившееся с нами вообще не связано ни с какой аварией, а нечто абсолютно иное. Джек, Жоржа, Фэй и Нед вдруг заговорили все разом. От шума едва не проснулась Марси, и Джинджер снова взяла инициативу в свои руки: — Подождите, подождите! Подождите минуточку! Спорить не имеет смысла, потому что никаких доказательств наличия или отсутствия подобного вируса у нас нет. Пока еще нет. Но мы можем попытаться доказать вторую часть гипотезы. — Что вы имеете в виду? — спросила Сэнди Сарвер. — Может быть, нам удастся доказать, что Доминик и Брендан обладают необыкновенными способностями, — сказал Джинджер. — Но как мы это сделаем? — изумился Доминик. — Мы проведем эксперимент, — заявила Джинджер.* * *
Доминик был абсолютно уверен, что ничего не выйдет, что они попусту теряют время и вообще все идея абсурдна. Но при этом он в глубине души опасался, что все подтвердится и тогда он на всю жизнь останется изгоем и будет лишен нормального человеческого общения. Если он обладает божественной силой, он будет вызывать у людей страх, и это особое отношение окружающих будет отравлять каждую минуту его жизни, лишая покоя и отдыха в кругу друзей. Остальные же просто будут ему завидовать или вообще возненавидят. Такой несправедливый удар судьбы приводил его в ярость. До тридцати пяти лет он оставался робким и стеснительным неудачником, обреченным влачить жалкое существование. Потом он внезапно изменился и вплоть до октября прошлого года, когда его начал одолевать сомнамбулизм, стремительно шел в гору. И вот теперь этот короткий удивительный этап нормальной жизни мог внезапно закончиться. Если предложенный Джинджер эксперимент докажет, что он действительно наделен какой-то особой психической энергией, он снова окажется в изоляции, но не из-за своей застенчивости, переросшей в чувство неполноценности, а, наоборот, благодаря превосходству над простыми смертными. Эксперимент. Доминик молил Бога, чтобы он провалился. Его и Брендана Кронина усадили напротив друг друга по разные стороны стола. Жоржа Монтанелла уложила Марси на диванчик, но та этого даже не почувствовала. Все шестеро остальных взрослых членов группы, включая Жоржу, встали полукругом у стола, отойдя от него на пару шагов, чтобы не мешать испытуемым сосредоточиваться. Напротив Доминика на стол поставили флакончик с солью. По условиям эксперимента, предложенным Джинджер, он должен был сконцентрировать свою энергию на солонке и сдвинуть ее с места, не прикасаясь к ней. — Хотя бы на дюйм, — сказала Джинджер, — этого будет достаточно, чтобы мы убедились в том, что в тебе есть эта энергия. На противоположном конце стола, вернее, трех сдвинутых вместе столов напротив Брендана Кронина поставили перечницу, и оба испытуемых, писатель и священник, мрачно уставились на флакончики. На веснушчатом круглом лице своего визави Доминик без труда прочел тайную надежду, что, вопреки его неверию в участие Бога в чудесном исцелении и призрачном свечении, сейчас все-таки подтвердится божественное присутствие. Брендан хотел вновь обрести веру в Бога и вернуться в лоно церкви. Если окажется, что эти чудеса творил не Бог, а он сам благодаря неизвестной психической энергии, полученной им от какого-то жалкого микроба, как вытекало из сумасшедшей, но вполне возможной теории Джинджер, тогда конец его грезам о духовном возвышении и божественном провидении. Солонка. Доминик вперил в нее взор и попытался прогнать из головы все мысли, кроме одной: о том, что ему нужно сдвинуть солонку с места. Ему хотелось в конце концов выяснить, есть лиу него эти необыкновенные способности. Ему хотелось знать правду о себе. Если он обладал такой энергией, то следовало научиться ею управлять. Пока же никто из них понятия не имел, как это делается, хотя Джинджер и предположила, что, раз она проявляется сама по себе в стрессовых ситуациях, со временем можно научиться вызывать ее и контролировать по собственному усмотрению, подобно тому, как музыкант использует свой талант в любое угодное ему время. Или писатель, облачающий свои писательские способности в буквы и строки на чистом листе бумаги. Но ничего не получалось: солонка оставалась на месте. Доминик изо всех сил старался сосредоточить все свое внимание исключительно на этом хрупком стеклянном флаконе с дырочками в колпачке из нержавеющей стали и размельченным белым порошком внутри. Весь остальной мир для него перестал существовать. Он сконцентрировал на этом предмете все мысли, всю волю, пытаясь сдвинуть его с места, он напрягся так, что даже заскрипел зубами и стиснул до боли кулаки. Безрезультатно. Тогда он изменил тактику. Вместо того чтобы мысленно бомбардировать солонку приказами сдвинуться с места, словно это была не хрупкая посудина, а неприступная крепость с толстыми стенами, он расслабился и стал разглядывать стоящий перед ним предмет, пытаясь проникнуться ощущением его размера, формы и текстуры. Кто знает, может быть, именно в органическом слиянии их настроений и лежал ключ к успеху. Слово «настроение» вроде бы не подходило для неодушевленного предмета, но казалось Доминику правильным. Нужно не нападать на этот предмет, а попробовать настроиться с ним на одну волну и каким-то образом склонить к сотрудничеству в этом недолгом телекинетическом путешествии, индуктировать ему свое желание. Доминик наклонился вперед, чтобы получше разглядеть, как устроен этот незатейливый столовый прибор: пять скошенных граней, чтобы удобнее было его брать и держать; толстое стеклянное дно для большей устойчивости и придания ощущения определенной тяжести при встряхивании; блестящий металлический колпачок… Безрезультатно. Невозмутимо покоясь перед ним на столе, солонка, казалось, приросла к этому месту на вечные времена, и никакая сила уже не могла сдвинуть ее даже на миллиметр. Конечно, как и любая форма материи во Вселенной, солонка не была застывшей, в определенном смысле она постоянно находилась в движении, поскольку состояла из миллиардов непрестанно движущихся атомов, внешние частицы которых, подобно планетам Солнечной системы, двигались по орбитам вокруг ядра. Солонка участвовала в непрерывном процессе движения на уровне мельчайших частиц, неистово движущихся в пределах ее структуры, следовательно, не так уж и трудно побудить ее сделать еще одно, дополнительное движение, маленький скачок на макрокосмическом уровне человеческого восприятия, всего лишь едва заметный прыжок… Внезапно Доминик ощутил прилив внутренней энергии, словно его самого должна была увлечь куда-то таинственная сила, но вместо этого с места наконец-то сдвинулась солонка. Доминик настолько увлекся этим предметом домашнего обихода, что позабыл и о Джинджер, и обо всех остальных, — об их присутствии ему напоминал только общий восторженный вздох. Солонка не просто продвинулась на один дюйм по поверхности стола, она вообще поднялась в воздух, как будто для нее не существовало земного притяжения. Она взлетела вверх, подобно воздушному шару, и стала подниматься все выше и выше, на один фут, на два, на три фута, пока наконец не зависла в четырех футах над тем самым местом, где еще несколько мгновений назад стояла словно влитая. Она висела в воздухе чуть выше уровня глаз стоящих вокруг стола, и они не в силах были оторвать от нее своих изумленных взглядов. В это же время на другом конце стола в воздух поднялась перечница Брендана Кронина. Раскрыв рот и вытаращив глаза, он остолбенело уставился на парящий сосуд. Лишь когда он замер примерно на той же высоте, что и солонка, священник дерзнул отвести взгляд и посмотрел на Доминика, потом снова на перечницу, словно опасаясь, что она упадет, как только он перестанет на нее таращиться, затем снова на Доминика, видимо, сообразив, что визуальный контакт с парящим объектом не нужен. В его глазах читались различные чувства: удивление, любопытство, недоумение, страх и ощущение глубинной внутренней связи между ним и Домиником, проистекающей из их общих необычайных способностей. Доминик был удивлен, что для удержания флакона в подвешенном состоянии не требуется никаких его усилий. Ему, признаться, все еще с трудом верилось, что это чудо сотворил он. Он не чувствовал, что обладает властью над этим предметом. Его телекинетические способности проявлялись как бы помимо его воли, непроизвольно, как дыхание или сердцебиение. Брендан посмотрел на руки: на ладонях выступили алые круги. Доминик взглянул на свои ладони и увидел на них такие же ярко-красные кольца. Что они означали? Зависшие в воздухе солонка и перечница подогревали любопытство Доминика даже сильнее, чем в начале эксперимента, когда они еще неподвижно стояли на столе. По-видимому, остальные чувствовали то же самое, потому что они начали упрашивать Доминика и Брендана сотворить еще какое-нибудь волшебство. — Невероятно! — прошептала Джинджер. — Вы продемонстрировали нам левитацию, непроизвольное движение по вертикали. А вы можете заставить их двигаться по горизонтали? — А поднять в воздух что-нибудь потяжелее? — спросила Сэнди Сарвер. — Свет! — воскликнул Эрни. — Вы можете генерировать свет? Доминик подумал, что сперва стоит попробовать сделать чудо полегче, например заставить солонку вращаться вокруг своей оси, и она тотчас же выполнила его пожелание, вызвав очередной вздох удивления у наблюдателей. Спустя секунду начала вращаться и перечница Брендана. Оба флакона сверкали и переливались в свете ламп, словно гирлянды на новогодней елке. Внезапно оба сосуда начали сближаться по горизонтали, словно выполняя заказ Джинджер, хотя Доминик и не посылал им мысленного приказа, и он решил, что это сработало его подсознание. Получалась забавная ситуация: он вроде бы и контролировал действия солонки, но при этом не понимал, как это у него получается. Не долетев друг до друга дюймов десять, солонка и перечница застыли где-то над серединой стола и закружились еще быстрее, разбрасывая снопы отраженного света. Потом они начали вращаться одна вокруг другой, а затем завертелись вокруг собственных осей с еще большей скоростью и с идеально круглых орбит перешли на параболические. Зрители рассмеялись и зааплодировали от восторга. Доминик взглянул на Джинджер. Ее лицо светилось вдохновением и казалось необычайно прекрасным. Она тоже посмотрела на Доминика и улыбнулась ему, показав вытянутый вверх большой палец. У Эрни Блока и Джека Твиста от изумления отвисли нижние челюсти, сейчас они были похожи не на бывалых солдат, а на восхищенных мальчишек. Фэй потянулась рукой к солонке, словно желая пощупать рукой чудесное энергетическое поле, в котором та летала. Нед Сарвер тихо заливался счастливым смехом, а Сэнди почему-то плакала, чем сперва напугала Доминика, но потом он заметил, что она улыбается, и догадался, что она плачет от радости. — Это замечательно, не правда ли? — оборачиваясь к нему, воскликнула она. — Что бы за этим ни скрывалось, это просто замечательно! Свобода! Свобода от всяческих оков, свобода полета! Ее слова звучали сбивчиво, но Доминик понимал, что она хотела сказать, потому что чувствовал то же самое. На мгновение он даже забыл о печальных для него последствиях этого нового дара, преисполнившись чувством трансцендентности и мечтами о грядущем гигантском скачке в эволюции человечества, освобожденного от всяких ограничений. В этот вечер в гриль-баре «Спокойствие» царило ощущение грандиозного свершения, изменившего ход истории цивилизации. — Сделайте что-нибудь еще! — попросила Джинджер. — Да! — поддержала ее Сэнди. — Покажите нам что-нибудь еще! И едва она произнесла эти слова, как с других столов в воздух взлетели остальные солонки — шесть, восемь, десять солонок. Они на мгновение зависли в воздухе, но потом начали вертеться, как их предшественница. Для Доминика все еще оставалось загадкой, как он все это делал. Ему достаточно было лишь подумать, как желание осуществлялось. Похоже было, что Брендан тоже был обескуражен происходящим. Музыкальный автомат, все это время безмолвствовавший, неожиданно заиграл мелодию Долли Партон, хотя никто и не прикасался к его клавишам. «Любопытно, кто заказал музыку?» — подумал Доминик. — Я, кажется, сейчас просто лопну от восторга! — воскликнула Джинджер, и Доминик рассмеялся. Теперь уже вертелись все солонки и перечницы, описывая при этом в воздухе круги. Затем все одиннадцать пар приборов вытянулись в одну цепочку и понеслись друг за другом по залу, набирая скорость и рассыпая искры света. Внезапно от пола оторвались все кресла, но не медленно и плавно, как перечницы и солонки, а рывком, ударившись при этом о потолок. Один из светильников с треском разбился, осколки плафона посыпались на пол, а в помещении стало темнее. Кресла зависли под потолком, словно огромные летучие мыши. Солонки и перечницы, со свистом разрезая воздух, словно пули, носились вдоль стен, хотя некоторые из них и попадали на пол, сбитые креслами. Некоторые же вдруг сами начали сходить с орбиты и падать на пол, одна из солонок даже ударила Эрни по плечу, и он вскрикнул от неожиданности и боли. Доминик и Брендан потеряли контроль над происходящим. А поскольку они не знали, как вообще им удавалось его осуществлять, они не знали и как его восстановить. Радостное настроение мгновенно изменилось на паническое. Все полезли под столы, прячась от кресел и ошалевших солонок и перечниц. От шума проснулась и заплакала, зовя маму, Марси. Жоржа схватила девочку в охапку и залезла вместе с ней под стол. На линии огня теперь остались только Брендан и Доминик. Доминик чувствовал себя так, словно к его руке привязали гранату. Еще три или четыре перечницы сорвались с орбиты и со страшной силой ударились об пол, разлетевшись на мельчайшие осколки. Кресла вели себя с каждой секундой все агрессивнее: они стучались в потолок с нарастающей настойчивостью, на головы Доминика и Брендана сыпались кусочки дерева и обивки. Рядом с Домиником в стол врезалась солонка, и он едва успел отшатнуться от облака соли и железного колпачка. Вспомнив бумажную карусель в бунгало Ломака, напугавшего его до смерти шесть дней назад, Доминик простер обе руки в направлении беснующихся кресел и перечниц с солонками и, сжав кулаки, закричал: — Прекратите! Прекратите немедленно! Довольно! Кресла над его головой перестали дрожать и биться о потолок, а солонки и перечницы застыли в воздухе. В зале воцарилась тишина. Но длилась она недолго: кресла и приборы попадали вниз, сшибая столы и стулья, которые не взлетали, и усыпая все вокруг щепками, перцем и солью. Доминик и Брендан молча уставились один на другого, нервно моргая и едва дыша. Из-под столов тоже не слышно было ни звука, все притихли, как мыши. Наконец громко заплакала Марси и раздался торопливый шепот успокаивающей ее Жоржи, и все начали выползать из убежища, озираясь по сторонам. Эрни потирал ушибленное плечо, остальные были целы и невредимы, хотя и потрясены. Теперь они смотрели на Доминика и Брендана уже не с восторгом, а настороженно, так, как он того и ожидал. Проклятие! Джинджер была, пожалуй, единственной, кто не изменился по отношению к нему после всего случившегося. Она обняла Доминика и ободряюще сказала: — Главное, что вы обладаете этой силой. Со временем вы непременно научитесь ею управлять, и это прекрасно. — Я не уверен, — глядя на поломанные столы и кресла, произнес Доминик. Джек Твист смахивал с себя соль и перец. Жоржа успокаивала Марси. Фэй и Сэнди вытаскивали из волос щепки и кусочки штукатурки, а Нед с опаской посматривал на обрывки проводов от светильника на потолке. — Вы знаете, Джинджер, я так и не понял, как управлял своей энергией. А потом, когда началась эта неразбериха, я вообще не знал, что делать… — Но вы же положили ей конец! Вы все это прекратили, — повторила она, пожимая ему руку. — А вдруг в следующий раз мне не удастся это сделать? — Только теперь Доминик осознал, что его трясет. — Посмотрите, во что превратился бар. Ведь кто-нибудь мог серьезно пострадать. — Но все обошлось! — Но ведь кого-нибудь вообще могло убить! В следующий раз… — В следующий раз получится лучше! Брендан Кронин вышел из-за стола. — Он изменит свое мнение, Джинджер, вот увидите. Во всяком случае, лично я намерен повторить эксперимент. Но только в одиночку. Через пару дней, когда я соберусь с мыслями, я выйду куда-нибудь в чистое поле, подальше от людей, где никому ничего, кроме меня самого, не будет угрожать, и попробую еще раз. Мне кажется, будет нелегко научиться контролировать энергию. На это потребуется много времени, быть может, годы, но я буду изучать это явление, практиковаться, и Доминик тоже. Я думаю, он со мной согласится, ему просто необходимо успокоиться, вот и все. — Нет, — затряс головой Доминик. — Я этого не хочу! Я не хочу быть не таким, как остальные люди. — Но вы уже не такой, как все. Мы оба совсем другие. — Это ужасно! За что мне такая судьба? — Послушайте, Доминик, — улыбнулся Брендан. — Хотя я и переживаю кризис веры, я все еще священнослужитель, и я верю в предопределение, верю в судьбу. Но мы, священники, ребята смекалистые, так что можем быть фаталистами и одновременно исповедовать свободу выбора! И то и другое — часть веры. Он воспринял случившееся совершенно иначе, чем Доминик, и во время этой своей речи то и дело приподнимался на носках, будто готовясь взлететь. Но Доминику теперь было не до юмора: все еще не избавившись от страха, он решил изменить тему разговора: — Знаете, Джинджер, а ведь мы не только подтвердили часть вашей теории, но и отчасти опровергли. — Что вы хотите этим сказать? — нахмурилась Джинджер. — В разгар этого… переполоха, — выразительно закатил глаза к потолку Доминик, — я снова заметил на ладони крути. И мне пришло в голову, что эта психическая энергия вовсе не побочный эффект проникновения в организм вируса. Это что-то другое, даже еще более непонятное, такое, что я пока даже и не могу себе представить. — Так вы так просто сами решили или знаете наверняка? У вас есть какие-то веские аргументы? — Я просто знаю, — покачал головой Доминик. — Я в этом уверен. — И я тоже! — с блаженной улыбкой на лице воскликнул отец Брендан. — Вы абсолютно верно угадали, что мы с Домиником обладаем какой-то необъяснимой силой. Она вселилась в нас в ту июльскую ночь. Но вы заблуждаетесь относительно способа проникновения в нас этой силы. Как и Доминик, в самый кульминационный момент творившегося здесь хаоса я тоже почувствовал, что ваша версия не подходит. Не могу объяснить почему, но я не сомневаюсь, что мы можем ее смело отбросить. Теперь Доминику стало ясно, почему у Брендана было такое хорошее настроение после всего этого кошмара, в котором они оба участвовали. Тяжкое сомнение, томившее его душу, рассеялось, он вновь обрел надежду, что чудесные исцеления и внезапно возникающий свет — все-таки явления божественного происхождения, а не результат экзотической инфекции. И, хотя он и заявлял, что не усматривает никакой связи между этими событиями и религией, в глубине души он отказывался верить в то, что чудесный дар получен им не от Бога, а как побочный эффект жизнедеятельности неразумного вируса, сотворенного человеком. И, отбросив такую возможность, он вздохнул с облегчением, вновь обретя способность радоваться жизни, шутить, несмотря ни на какие разрушения в гриль-баре, и втайне лелеять надежду, что Бог существует и творит чудеса. Доминику оставалось лишь завидовать, что ему не дано черпать мужество и силы из упования на Божий промысел. В данную минуту он был снедаем страхом перед опасностью и смертью, остальные его чувства притупились. Обнаружив сегодня вечером в себе эту нежелательную силу, он вынужден был пересмотреть свой взгляд на мир и свое место в нем, почти физически ошущая внутри своего организма всесильного паразита. Со временем он сожрет все, что составляло до сих пор суть Доминика Корвейсиса, и, заполнив собой опустевшую оболочку, станет жить под личиной человека по собственному усмотрению. Он посмотрел на окружающих его людей. Фэй и Сэнди поспешно отвели взгляд, как при встрече с опасным человеком, Джек Твист, Эрни и Жоржа смотрели ему прямо в глаза, но не могли скрыть тревоги и даже страха, возникших теперь у них, и только Джинджер и Брендан, похоже, питали к нему прежние симпатии. — Похоже, наступила ночь, — нарушил тишину Джек. — Завтра нас ожидает масса дел. — Завтра, — сказала Джинджер, — мы узнаем больше, чем нам удалось узнать сегодня. Каждый день будет приносить нам новые открытия. — Завтра, — счастливым и тихим голосом проговорил Брендан, — нас ждет величайшее откровение. Я это предчувствую. «Завтра, — подумал Доминик, — все мы можем погибнуть либо пожалеть, что живы».* * *
Полковника Леланда Фалькирка все еще терзала мигрень. Его новый дар — способность к самоанализу, обретенная им после потрясших его как эмоционально, так и психически событий полуторалетней давности, — подсказывал ему, что неэффективность аспирина в некотором смысле даже радует его: культивируя в себе головную боль, он, как и из всякой боли вообще, черпал из нее силу и энергию. Лейтенант Хорнер ушел, оставив Леланда в его временном офисе одного, но полковник уже не ждал звонка из Чикаго, проклиная эту каморку под испытательным полигоном: ему позвонили вскоре после ухода Хорнера, и все до одной новости были плохие. Начавшаяся утром осада дома Кэлвина Шаркла в Эванстоне продолжалась, и было непохоже, что непредсказуемая ситуация прояснится в ближайшие сутки. А до тех пор пока сохранялась опасность, что прозревший Шаркл сделает заявление для прессы или местных властей, полковник не хотел подставлять под удар своих людей, приказывая им снова перекрыть федеральное шоссе № 80 и захватить укрывшихся в мотеле «Спокойствие» свидетелей. Затяжка конфликта нервировала Леланда, и без того встревоженного поведением своих подопечных, которые не только раскрыли тайну Скалы Громов, но и явно замышляли какие-то ответные шаги, укрывшись в недоступном для микрофонов гриль-баре. По расчетам полковника, у него в запасе оставался только день, не более, и, если опасное противостояние в Иллинойсе до завтрашнего вечера не прекратится, ему не останется ничего другого, кроме как дать команду штурмовать мотель, невзирая ни на какой риск. Еще хуже была другая новость, полученная от оперативников, проводивших скрытое расследование обстоятельств излечения Эммилин Халбург и Уинтона Толка: они пришли к заключению, что полученные данные не позволяют объяснить их исцеление с точки зрения современных медицинских знаний. Мало того, анализ действий отца Стефана Вайцежика на Рождество, включая его визиты в больницы и полицейскую лабораторию, где он разговаривал с больными, врачами и экспертом по баллистике, не оставлял сомнений в том, что священник уверен в самом непосредственном отношении своего помощника Брендана Кронина к этим чудесным исцелениям. Леланд узнал о целительных способностях Кронина только накануне, в воскресенье, прослушивая его разговоры по телефону с Домиником Корвейсисом и отцом Вайцежиком. И если бы не предшествующие этим разговорам необыкновенные события, случившиеся в субботу вечером, Леланд наверняка был бы шокирован услышанным. В субботу вечером, после того как Корвейсис прибыл в «Спокойствие», Фалькирк и его специалисты по наблюдению прослушивали запись разговора четы Блок с писателем с нарастающим недоверием. Несусветная чепуха об оживших в доме Ломака фотографиях Луны наводила на мысль о серьезном психическом расстройстве и не могла, казалось, быть расценена иначе, как плод фантазии воспаленного ума, не способного отделить вымысел от реальности. Тем не менее несколько позже, во время обеда хозяев мотеля и их гостя в гриль-баре «Спокойствие», писатель предпринял попытку воссоздать события, предшествующие трагическому происшествию 6 июля. Результат ошеломил не только участников этого эксперимента, но и людей полковника, скрыто следивших за ними как визуально, с наблюдательного поста к югу от шоссе, так и акустически, с помощью специального преобразователя звукового сигнала, поступавшего на микрофон телефона-автомата. В гриль-баре все вдруг затряслось, помещение наполнилось странным грохотом, потом совершенно жутким электронным улюлюканьем, и наконец из окон повылетали стекла. Этот феномен явился полным и пренеприятнейшим сюрпризом для Леланда и всех остальных участников операции прикрытия, особенно для ученых, которые пришли в жуткое волнение. Открытие на следующий день у Кронина способности к исцелению еще более наэлектризовало ситуацию. Поначалу события казались необъяснимыми. Но, пораскинув мозгами, Леланд пришел к выводу, от которого кровь стыла в жилах. К аналогичному заключению пришли и эксперты, некоторые из которых перепугались не меньше полковника. Теперь никто не отваживался что-то предсказывать. Могло случиться все, что угодно. Обуреваемый тягостными предчувствиями, Фалькирк уже подумывал, что ситуация, казавшаяся нейтрализованной полтора года назад, вообще не могла быть взята ими под контроль, потому что вышла из-под него задолго до их появления на сцене. Утешало только то, что из всех свидетелей, собравшихся в мотеле, заразились только двое — Корвейсис и священник. Хотя слово «зараза» здесь вряд ли было уместно. Может быть, больше подошло бы слово «одержимость», а может, случившееся с ними вообще невозможно описать словами, потому что такого еще никогда ни с кем не случалось за всю человеческую историю, и, следовательно, потребность в подходящем слове не возникала. Даже если бы осада дома Шаркла завтра была снята, даже если бы отпала угроза утечки информации и ее огласки прессой, Леланд не мог бы со спокойной душой отдать приказ штурмовать мотель, потому что задержать и изолировать Корвейсиса и Кронина, а может быть, и остальных теперь, полтора года спустя, было гораздо сложнее. А если Корвейсис и Кронин вообще уже были, по сути, никакие не Корвейсис и Кронин, а кто-то или что-то еще, тогда совладать с ними вообще уже было невозможно. У Леланда еще сильнее разболелась голова. «Извлеки из этого пользу! — приказал он себе, поднимаясь из-за стола. — Извлеки из боли пользу, как ты это делал на протяжении многих лет, тупица, чтобы продержаться еще день-два, пока не покончишь с этой морокой или не сдохнешь, одно из двух». Он вышел из каморки в приемную, прошел по глухому коридору и очутился в также лишенном окон центре связи, в углу которого за столом сидели лейтенант Хорнер и сержант Фикс. — Командуйте отбой, — приказал Леланд. — На сегодня все отменяется. Подождем еще денек, пока не прояснится ситуация с Шарклом. — Я как раз собирался к вам идти, — доложил Хорнер. — В мотеле события развиваются. Они ушли из гриль-бара. Твист пригнал свой джип и вместе с Жоржей Монтанелла и священником укатил на нем в направлении Элко. — Какого дьявола их туда понесло на ночь глядя? — спросил полковник, с раздражением думая, что эта троица вполне могла бы проскользнуть у него между пальцев, прикажи он сегодня же штурмовать мотель: ведь он был уверен, что свидетели останутся там ночевать. Хорнер кивнул на Фикса, сидящего в наушниках и слушающего мотель. — Из их разговоров мы поняли, что остальные укладываются спать. Твист, Монтанелла и Кронин уехали, чтобы мы не накрыли их всех разом. Это наверняка идея Твиста. — Чтоб ему провалиться! — выругался Леланд, потирая пальцами виски. — Ладно. Сегодня мы все равно не станем садиться им на хвост. — А как насчет завтра? Что, если они и завтра выкинут подобный номер? — Утром, — отрезал Леланд, — мы за всеми установим наблюдение. Раньше он не видел необходимости в постоянной слежке за каждым свидетелем, поскольку знал, что в конце концов все соберутся в мотеле, чем и облегчат его задачу. Но теперь, когда в любой момент могла возникнуть необходимость взять их под стражу, он должен был знать, где каждый из них находится. — Они могут заметить за собой «хвост», — заметил Хорнер. — Ведь здесь все как на ладони, спрятаться «наружке» трудно. — Я знаю, — скривил рот Леланд. — Пусть видят. Теперь нам уже не нужно прятаться, дело идет к развязке. Вдруг это выведет их из равновесия и они с перепугу вновь собьются в стадо. Тогда нам будет легче загнать их в хлев. — Нам будет нелегко взять их в городе, — озабоченно произнес Хорнер. — Если их нельзя будет взять, их следует уничтожить, — сказал Леланд, садясь на стул. — Давайте продумаем план наблюдения и заранее распределим «хвосты».3
Вторник, 14 январяВ половине восьмого утра во вторник отец Стефан Вайцежик, верный обещанию, данному накануне ночью Брендану Кронину во время их телефонного разговора, готовился выехать в Эванстон, по последнему известному адресу Кэлвина Шаркла, водителя-дальнобойщика, бывшего в то лето в мотеле «Спокойствие», но теперь почему-то вдруг отключившего свой телефон. В свете вчерашних жутких событий в Неваде было решено во что бы то ни стало связаться с остальными пострадавшими. Стоя в теплой кухне домика для священников, отец Стефан застегивал пуговицы пальто и поправлял свою круглую шапочку. Отец Майкл Джеррано только что отслужил утреннюю мессу и сейчас намеревался позавтракать овсяной кашей и гренками. Но поспешные сборы настоятеля портили ему аппетит. — Может быть, вы введете меня в курс дела, отец Стефан? — наконец не выдержал он. — Что творится с Бренданом? Ведь должен же я знать, хотя бы на случай… ну, на случай, если с вами что-нибудь случится. — Со мной ничего не случится, — уверенно произнес отец Вайцежик. — Господь не для того сподобил меня пятьдесят лет учиться жизни, чтобы меня убили как раз тогда, когда я могу сделать для церкви самое полезное дело из всех, что я делал. — Вы всегда так… — покачал головой Майкл. — Всегда так непоколебим в своей вере? — улыбнулся отец Вайцежик. — Безусловно. Полагайся на Бога, Майкл, и он не подведет тебя. — Честно говоря, — рассмеялся Майкл, — я хотел сказать, что вы всегда упрямы, как баран. — Какая дерзость! Каково же мне выслушивать такое от собственного помощника! — воскликнул отец Стефан, обматывая толстым белым шарфом шею. — Следите за собой, святой отец! Скромность, покорность, трудолюбие, как у мула, и выносливость рабочей лошади — вот что требуется от младшего священника! Я уже и не говорю о безусловном трепетном почтении к своему настоятелю! — Именно так, если настоятель — старый богобоязненный пень, избалованный лестью прихожан… — ухмыльнулся Майкл, но телефонный звонок помешал ему закончить тираду. — Если спросят меня, то я ушел, — подсказал отец Стефан. Он натянул перчатки и направился было к двери, но Майкл окликнул его, протягивая трубку: — Это Уинтон Толк, — пояснил он, — тот самый полицейский, которому Брендан спас жизнь. Похоже, с ним едва ли не истерика. Он хочет говорить с Бренданом. Стефан взял трубку и представился. — Я непременно должен поговорить с Бренданом Кронином, — кричал Уинтон Толк. — Дело крайне срочное! — К сожалению, он в отъезде, — объяснил отец Стефан. — Сейчас он в другом конце страны. А в чем дело? Я могу чем-то помочь? — Кронин, — с дрожью в голосе повторил Толк, — понимаете, происходит нечто странное. Он что-то сделал такое, чего я не могу объяснить! Боже, я сойду с ума! Мне нужен Брендан, срочно! — Я уверен, что смогу быть вам полезен, — сказал отец Стефан. — Где вы находитесь, Уинтон? — На дежурстве, скоро заканчиваю. Ну и ночка сегодня выдалась: поножовщина, стрельба. Ужас! А потом… Послушайте, я хочу, чтобы сюда приехал Кронин, он должен все это объяснить, немедленно! Отец Вайцежик с трудом выяснил адрес и бегом кинулся к машине. Спустя полчаса он уже был возле убогого шестиэтажного здания в одном из бедных кварталов города. Остановив машину на углу дома, он прошел мимо забивших весь город полицейских автомобилей и спецфургона, из которого доносились обрывки переговоров с диспетчерской, и, выяснив у двух следивших за порядком полицейских, где произошло несчастье, толкнул дверь с заклеенным изоляционной лентой треснутым стеклом. Стены мрачного подъезда облупились и давно нуждались в ремонте. Поднявшись по грязной лестнице на третий этаж, отец Вайцежик очутился перед распахнутой дверью в квартиру семьи Мендоза и замер на пороге: внутри все было забрызгано кровью. Пятна и брызги крови были на полу, на бежевом диване, на кофейном столике, на абажуре лампы и на ковре. В стене чернели четыре дырки от пуль. Зрелище казалось ужасным еще и потому, что не залитая кровью часть жилища Мендоза просто поражала своей аккуратностью и чистотой. Несмотря на скромный достаток, вынуждавший семью снимать квартиру в квартале бедных, здесь царили уют и порядок. Все блестело и сияло, словно бросая вызов оставшимся за порогом замусоренным улицам, загаженным парадным и заплеванным лестничным клеткам. Отец Стефан снял шапочку и вошел в общую комнату, перегороженную на две половины сервировочной стойкой. Помещение было переполнено полицейскими в форме и в штатском и экспертами, всего их было не менее дюжины. Священника удивило странное поведение людей: несмотря на то что многие уже явно завершили свою работу, никто не спешил уйти. Разговаривали все почему-то шепотом, и вид у всех был таинственный. Практически работал лишь один детектив: сидя за обеденным столиком рядом с женщиной лет сорока с лицом мадонны, он задавал ей вопросы, записывая ответы в протокол. Женщина, по всей видимости, миссис Мендоза, пыталась отвечать более-менее связно, но ей это плохо удавалось, она то и дело поглядывала на мужчину, приблизительно ее возраста, скорее всего супруга, отрешенно расхаживающего взад и вперед по комнате с ребенком на руках. Это был миловидный мальчик лет шести с густыми черными волосами, которые отец постоянно поглаживал, успокаивая сына и убеждаясь сам, что тот жив и самое страшное не случилось. Видно было, что оба они только что пережили сильнейшее потрясение. — Отец Вайцежик? — спросил один из одетых в патрульную форму полицейских, и все его коллеги тотчас же замолчали. Отцу Стефану никогда раньше не доводилось видеть такое выражение на лицах устремивших на него свои взоры людей: казалось, они ждали от него какой-то волшебной фразы, которая пролила бы свет на тайны бытия и загадку смысла жизни. «Что здесь происходит?» — с тревогой подумал отец Стефан. — Прошу вас пройти со мной, — сказал полицейский. Стягивая на ходу с рук перчатки, отец Вайцежик прошел следом за ним в уютную спальню, где увидел сидящих на кровати Уинтона Толка и его напарника по дежурству. Затем провожатый вернулся в жилую комнату, притворив за собой дверь. Толк сидел, упершись локтями в колени и спрятав лицо в ладонях. При появлении отца Вайцежика он даже не поднял голову, чтобы поздороваться. Второй полицейский вскочил с кровати и назвал свое имя: Пол Армс. Как и предполагал отец Стефан, это был напарник Уинтона. — Мне думается, Уинтон вам все сам расскажет, — растерянно пробормотал он. — Не буду вам мешать. — И он тоже вышел из спальни. Спальня была совсем крохотной, в ней едва помещались кровать, тумбочка, трюмо и стул. Отец Вайцежик развернул стул и сел лицом к Уинтону, почти касаясь его коленей своими. — Что случилось, Уинтон? — спросил он, разматывая шарф. Толк поднял голову, и отец Вайцежик вздрогнул, увидев выражение его лица. Он ожидал прочитать на нем усталость, следы пережитого потрясения, смятение, но ничего этого не было и в помине! Это было лицо веселого и едва ли не опьяненного восторгом человека, но одновременно и слегка обескураженного и напуганного чем-то, что мешало ему целиком предаться веселью. — Скажите, святой отец, кто такой Брендан Кронин? — со странной дрожью в голосе произнес Уинтон. — Что он такое? Отец Стефан немного поколебался, но потом все-таки уверенно ответил: — Священник. — А нам сказали совсем другое, — покачал головой Уинтон. Тяжело вздохнув, отец Стефан кивнул в знак согласия, после чего рассказал, как Брендан вдруг перестал верить в Бога и ему назначали не совсем обычное лечение, сперва в виде работы санитаром в больнице, а потом сопровождающим полицейских патрулей. — Вам с напарником специально не сказали, что он священник, чтобы вы не относились к нему иначе, чем к простому человеку, — пояснил отец Вайцежик. — А кроме того, я сам не хотел ставить его в неловкое положение. — Падший священник, — растерянно пробормотал Уинтон. — Не падший, — уверенно поправил его отец Стефан. — Заблуждающийся. Со временем он вновь обретет веру. — Но как он исцелил меня, когда меня продырявили? — сверля отца Вайцежика глазами, спросил чернокожий полицейский. — Как он совершил это чудо? Как? — Почему вы считаете это чудом? — насторожился отец Стефан. — В меня дважды выстрелили в упор, прямо в грудь. А через три дня я вышел из больницы. Три дня! Спустя десять дней я готов был выйти на работу, но мне дали еще две недели побыть дома. Врачи болтали что-то насчет моего крепкого здоровья, особых свойств закаленного организма, но похоже было, что они хотят убедить в этом не столько меня, сколько самих себя. Сам-то я, честно говоря, думал, что мне просто крепко повезло. Неделю назад я приступил к работе, и вот… теперь случилось кое-что еще. Взгляните! — Уинтон расстегнул рубашку, снял ее и задрал майку, обнажив грудь. — Куда подевались шрамы? Отец Вайцежик вздрогнул и даже подался вперед от изумления, чтобы получше рассмотреть то место, где должны были быть следы ранения. Грудь Уинтона Толка была совершенно гладкой. Точнее, на месте входных отверстий остались лишь два маленьких, величиной с монетку, пятнышка. Следы от швов можно было разглядеть только при очень тщательном осмотре. Ни припухлости, обычной при тяжелых ранениях, ни ярких рубцов тоже не было видно, остался лишь тонкий светло-розовый шрам, заметный исключительно благодаря темно-шоколадному цвету кожи. — Я видел у других ребят следы от старых пулевых ранений, — сказал Уинтон Толк с едва заметной дрожью в голосе. — Это были грубые, толстые, жуткие шрамы. Невозможно получить две пули 38-го калибра в грудь, перенести хирургическую операцию и спустя всего три недели выглядеть так, как я. Такое вообще невозможно! — Когда вы в последний раз показывались врачу? Уинтон дрожащими руками начал застегивать рубашку. — Я был у доктора Зоннефорда на прошлой неделе. Тогда он еще не вынимал нитки, и грудь была сплошное месиво. Шрамы рассосались четыре дня назад. Клянусь, святой отец, если подольше постоять перед зеркалом, можно увидеть, как они исчезают прямо на глазах! Я много думал о нашем разговоре в больнице на Рождество, — судорожно вздохнул Уинтон, справившись наконец с пуговицами. — И чем больше я думал, тем больше обнаруживал странностей в вашем поведении. Вы говорили не совсем понятные вещи, задавали необычные вопросы, и все это навело меня на удивительные мысли… Вот что мне важно знать в первую очередь: Брендан Кронин когда-нибудь исцелял кого-нибудь еще? — Да, — ответил отец Вайцежик. — Это был не такой тяжелый случай, как у вас, но он имел место. Я не могу, к сожалению, углубляться в подробности. Но ведь вы не только из-за этого позвонили мне, Уинтон. У вас был такой взволнованный голос. И все эти полицейские в этом доме… Что здесь произошло? Широкое лицо Уинтона на мгновение озарилось улыбкой, тотчас же сменившейся столь же мимолетной гримасой мистического ужаса. Сильное душевное волнение чувствовалось и в его голосе. — Мы были на маршруте, я и Пол. Нас направили вот по этому адресу. Приезжаем сюда и обнаруживаем обезумевшего от наркотиков парня. Совсем еще сопляк, шестнадцать лет, а уже сел на иглу. От этой дряни у него совсем поехала крыша. Выясняем, что его зовут Эрнесто, он племянник миссис Мендоза, сын ее сестры. Приехал пожить у них всего неделю назад, потому что родная мать с ним больше не справляется. Мендоза — славные люди. Вы заметили, какой у них в квартире порядок? Отец Вайцежик кивнул. — Они пытались взять парня в твердые руки, помочь ему стать нормальным человеком. Но такого трудно переделать, святой отец. Его уже ничем не проймешь. Этот Эрнесто уже имел шесть приводов, он был на учете в полиции. Короче, мы приезжаем по вызову сюда, и что мы видим? Парень совершенно голый, орет как ненормальный, глаза вылезли на лоб. Представляете? Уинтон тяжело вздохнул, живо представив себе весь этот ужас, и продолжал: — В общем, Эрнесто схватил Гектора, этого мальчугана, которого вы, наверное, видели, когда входили, повалил его на диван и приставил ему к горлу шестидюймовый нож. Мистер Мендоза совершенно потерял рассудок, заметался, не зная, то ли пытаться отнять у Эрнесто нож, то ли нет. Эрнесто визжит, втолковать ему что-либо невозможно, мы держим его на прицеле, потому что с наркоманом, у которого в руках нож, шутки плохи, но не стреляем, пробуем его урезонить или отвлечь от ребенка. И нам это почти удается, но внезапно Эрнесто делает резкое движение и одним взмахом перерезает Гектору горло! Кровь брызжет фонтаном во все стороны, разрез глубочайший, от уха до уха, страшно глядеть. Эрнесто заносит нож над головой Гектора — и мы стреляем, уже не помню сколько раз, он падает на мальчика, мы его оттаскиваем в сторону, он мертв, Гектор едва дышит, хрипит, пытается зажать ручонкой рану, у него закатываются глазки… Уинтон перевел дух, зябко передернув плечами, и уставился в окно. Сердце отца Вайцежика учащенно забилось, но уже не из-за описанного Уинтоном кошмара, а в предчувствии его чудесной, как уже догадался священник, развязки. Глядя в окно, Уинтон продолжал рассказывать дрожащим от волнения голосом: — При таких ранениях никакую первую помощь оказать нельзя, святой отец. Перерезаны артерии, вены, кровь остановить невозможно, на шею жгут не наложишь. Короче, дело дрянь. Я стою перед мальчиком на коленях и вижу, что он умирает, с такой раной больше двух минут не живут. Я знаю, что помочь ему не смогу, но он такой маленький, мне его так жалко, что я невольно зажал руками эту ужасную рану на горле, чтобы хоть как-то остановить кровь, оттянуть смерть. Я был разъярен творящейся несправедливостью, я не хотел, чтобы этот ребенок умер вот так нелепо, чтобы он вообще умирал, и тогда… — И тогда он неожиданно исцелился, — тихо сказал отец Вайцежик. Взгляды полицейского и священника встретились. — Да, святой отец. Он исцелился. Он захлебывался собственной кровью, секунды отделяли его от смерти, но он исцелился. Я даже не понял, что происходит, ничего особенного не почувствовал, просто держал на его горле руки. Разве не странно, что я ничего не почувствовал? И только когда кровь вдруг перестала сочиться сквозь мои пальцы и мальчик закрыл глаза, я закричал, подумав, что он умер: «Нет! О Боже, нет!» — и убрал от горла Гектора ладони. И в этот момент я увидел, что рана… рана закрылась. Она все еще выглядела ужасно, на месте разреза алел страшный рубец, но это был рубец! Края раны сами собой стянулись! На глаза Уинтона навернулись слезы. Он не мог говорить. Но это были слезы радости, чистой, дикой, безграничной радости. Уинтон не выдержал этого прилива счастья и разрыдался. Со слезами на глазах отец Вайцежик протянул ему руки. Уинтон крепко сжал их и, не выпуская из своих ладоней, продолжал: — Пол, мой напарник, увидел, что происходит. Увидели и супруги Мендоза. К нам на помощь прибежали еще двое патрульных, они тоже все видели. Тогда я снова положил руки на горло Гектора, на этот жуткий рубец, и пожелал, чтобы он ожил, как ожил я в кафетерии, когда надо мной, фактически уже мертвым, вот так же склонился Брендан. Я представил себе, как в последние дни заживали шрамы на моей груди, и понял, что между моим исцелением и тем, что теперь происходит, есть какая-то связь. Спустя минуту мальчик открыл глаза и улыбнулся мне! Видели бы вы эту улыбку, святой отец! Я отнял руки, рубец был на месте, но он посветлел. Мальчик сел и позвал маму, и тут я не выдержал. — Уинтон умолк, судорожно глотая воздух. — Миссис Мендоза отнесла Гектора в ванную комнату, сняла с него окровавленную одежду, выкупала его, а в это время в квартиру подъезжали все новые и новые люди из нашего управления. Все хотели собственными глазами увидеть чудо. Слава богу, что пока еще о нем не пронюхали репортеры! Некоторое время оба молча смотрели друг на друга, потом отец Стефан спросил: — Вы не пытались вернуть к жизни Эрнесто? — Пытался, — сказал Уинтон. — Я приложил руку к его ранам, но это не помогло, святой отец, он уже был мертв. Гектор все-таки еще был жив, а Эрнесто умер сразу. — Вы не заметили на ладонях каких-нибудь странных знаков? Красных колец или припухлости? — Нет, ничего подобного я не заметил. А что это за кольца? — Я не знаю, — ответил отец Вайцежик. — Но они появлялись на ладонях Брендана, когда… когда происходили подобные вещи. Они снова помолчали, затем Уинтон спросил: — Брендан… то есть отец Кронин — святой? — Он просто хороший человек, — улыбнулся отец Вайцежик. — Но он не святой. — Тогда как же он исцелил меня? — Этого я тоже точно не знаю. Но, несомненно, это проявление божественной силы. — Но как Брендан передал мне свою способность исцелять людей? — Не знаю, Уинтон. Возможно, что он вообще не передавал ее. Может быть, это Господь Бог действует через тебя; сначала через Брендана, а теперь вот через тебя. Он почему-то сделал вас своими избранниками. Уинтон наконец отпустил руки отца Стефана. Он поднес к глазам ладони и взглянул на них: — Нет, эта сила все еще во мне, я это чувствую. И это не только целительная сила… Этонечто большее. — Нечто большее? Что вы хотите сказать? — изумился отец Стефан. Уинтон наморщил лоб. — Я и сам пока не знаю. Все это так непривычно, так странно. Но я чувствую, что со временем эти новые способности проявятся во мне. Отец Кронин что-то сделал со мной, я стал другим! — Уинтон, не думайте, что в этом есть что-то дьявольское или опасное. Это исключительно доброе явление. Подумайте, ведь вы спасли жизнь Гектору. Вспомните, что вы чувствовали, когда на ваших глазах к нему возвращалась жизнь. Мы участвуем в божественном таинстве, Уинтон, и нам не надо познать его, пока Господь не позволит это нам. Я хотел бы взглянуть на Гектора, проводите меня к нему, Уинтон. — Святой отец, я пока еще не готов выйти к людям, хотя и хорошо знаю их всех. Я хотел бы побыть еще немножко здесь. Вы вернетесь? — У меня есть еще одно неотложное дело, Уинтон, мне нужно ехать. Но я найду вас непременно, в ближайшее же время. Вы можете не сомневаться. А если я вам понадоблюсь, позвоните мне в церковь. Когда отец Стефан вышел из спальни в общую комнату, там снова воцарилась тишина. Полицейские и технические эксперты уступали ему дорогу, пока он шел к столу, за которым на коленях у матери сидел маленький Гектор, с довольным видом откусывая от плитки шоколада с миндалем. Мальчик был совсем маленький, хрупкий не по возрасту, но по его блестящим умненьким глазкам отец Вайцежик понял, что потрясение и потеря крови не сказались на его мозге. Самое же удивительное было то, что потерянная кровь была каким-то чудесным образом восполнена, что делало его исцеление даже более загадочным, чем в случае с самим Уинтоном Толком. Получалось, что полицейский обладал даже большей силой, чем Брендан. — Как ты себя чувствуешь, Гектор? — наклонившись к мальчику, спросил священник. — Нормально, — застенчиво ответил тот. — Ты помнишь, что с тобой случилось? Гектор облизнул перепачканные шоколадом губы и сказал: — Нет! — Тебе нравится шоколадка? В ответ мальчик кивнул головой и предложил отцу Вайцежику откусить кусочек. — Спасибо, Гектор, но это все для тебя, — улыбнулся тот. — Мама может и тебе дать шоколадку, только ты не роняй на пол, это очень плохо! — сказал мальчик. — Он действительно ничего не помнит? — спросил Стефан миссис Мендозу. — Да, святой отец, — перекрестившись, ответила она. — Вы звонили отцу Найло, настоятелю вашей церкви? — спросил отец Вайцежик. — Нет, святой отец, я не знала, стоит ли это делать… Отец Вайцежик взглянул на стоявшего рядом с женой мистера Мендозу: — Непременно позвоните отцу Найло, расскажите, что здесь произошло, и попросите его срочно приехать. Скажите ему, что я не смогу его дождаться, но обязательно поговорю с ним позже. Скажите ему, у меня есть что ему рассказать… Мистер Мендоза поспешил к телефону. Отец Стефан взглянул на одного из детективов и спросил: — Вы сфотографировали рану на горле у ребенка? — Да, сэр, — кивнул детектив, — это стандартная процедура. — Он нервно рассмеялся и добавил: — Хотя, впрочем, на этот раз случай сам по себе явно нестандартный. — Значит, у вас будут фотографии, чтобы подтвердить это, — сказал отец Вайцежик. — Мне кажется, это потребуется, потому что шрама скорее всего вообще не останется. — Он вновь обернулся к мальчику: — А сейчас, Гектор, если не возражаешь, я хотел бы потрогать твое горлышко. Мальчик опустил руку с шоколадкой. Дрожащей рукой отец Вайцежик осторожно провел по огненному рубцу на шее у ребенка. Когда пальцы священника нащупали четкий пульс, сердце его дрогнуло: он был свидетелем торжества жизни над смертью, удостоившись чести убедиться в истинности символа веры и церкви: «Смерти не будет, ибо дарована будет вам жизнь вечная». На глазах священника выступили слезы. Когда он наконец отнял руку от шеи мальчика и распрямился, один из полицейских спросил его: — Что все это значит, святой отец? Что происходит? Стефан обвел взглядом собравшихся: теперь их уже было не менее двадцати человек. На их лицах он увидел горячее желание уверовать, но не в постулаты какой-либо церкви, а в нечто, превосходящее по величию и чистоте человечество, тягу к духовному перевоплощению. — Что все это значит? — снова спросил один из них. — Что-то происходит, — ответил отец Вайцежик. — Здесь, где-то в другом месте. Происходит нечто великое и удивительное, и то, что случилось с этим ребенком, — часть происходящего. Я не стану утверждать, что знаю, как объяснить все это, или свидетельствовать, что мы с вами видели деяние рук Божьих, хотя в глубине души и верю, что именно так оно и есть. Взгляните лучше на Гектора, сидящего на коленях у своей матери и жующего шоколад, и вспомните, что предвещал Господь: «И смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И я всем сердцем верю, что все прежнее обязательно пройдет. А сейчас мне нужно идти, меня ждет неотложное дело. К удивлению отца Вайцежика, все расступились, давая ему дорогу и больше не задавая вопросов, — быть может, потому, что в отличие от его объяснений исцеление Гектора не вызывало у них сомнений, а было совершенно очевидным и само по себе говорило о многом, пожалуй, даже и о том, чего они еще не могли понять. Некоторые пожимали ему на прощание руку или плечо, переполненные не столько религиозным восторгом, сколько чувством общности духа. Стефан не мог не ответить им тем же, испытывая глубочайшее ощущение единства человечества, чувствуя потребность передать им свою уверенность в их великом предназначении.
* * *
В Бостоне в десять часов утра Александр Кристофсон, бывший сенатор США и посол в Великобритании, бывший директор ЦРУ, а ныне пенсионер, читал утреннюю газету, когда ему позвонил его брат Филип, антиквар из Гринвича, что в штате Коннектикут. Разговор между братьями продолжался не более пяти минут и не касался, казалось бы, никаких важных проблем, но имел секретный подтекст. Заканчивая его, Филип будто невзначай бросил: — Да, кстати, утром я разговаривал с Дианой. Ты ее помнишь? — Конечно! — откликнулся Александр. — Как у нее дела? — У нее все те же проблемы. Тебе они могут показаться, однако, слишком скучными. Но она передает тебе привет. — Затем он порекомендовал брату две новые книги, которые ему могли бы понравиться, и пожелал всего хорошего. «Диана» было условное слово, которое означало, что Филипу звонила Джинджер Вайс и что ей нужно переговорить с Александром. После их встречи на похоронах Пабло эта блондинка с ее необыкновенными серебристыми волосами почему-то ассоциировалась у Александра Кристофсона именно с Дианой, богиней Луны. Попрощавшись с Филипом, Александр сказал своей жене Елене, что хочет прогуляться и заодно купить пару новых романов, которые ему порекомендовал брат. Он и в самом деле отправился на прогулку, но, прежде чем купить книги, зашел в телефонную будку и перезвонил в Гринвич, чтобы узнать номер телефона, который оставила Джинджер Вайс. — Она сказала, что это телефон-автомат в Элко, в Неваде, — пояснил Филип, продиктовав номер. Когда Александр позвонил по указанному номеру, Джинджер Вайс ответила не сразу — в трубке раздалось пять гудков, прежде чем он услышал ее голос. — Извините, — произнесла она в свое оправдание, — я была в машине. Здесь очень холодно. — Что вы делаете в Неваде? — Если я вас правильно поняла на похоронах Пабло, вы не хотели, чтобы я отвечала на подобные вопросы по телефону. — Верно. Чем меньше я буду знать, тем лучше. Что вы хотели спросить? Она объяснила, в самых общих чертах, что вышла на других людей, имеющих такие же проблемы с памятью, что и она, и попросила его, как специалиста по промыванию мозгов, уточнить, действительно ли ввести в память комбинированную легенду гораздо сложнее, чем полностью выдуманную, без всяких элементов реальности. Он заверил ее, что именно так оно и есть. — Мы тоже так решили, — с облегчением вздохнула Джинджер. — Но для меня было важно знать ваше мнение. Значит, мы на верном пути. Теперь вот еще что: я хотела бы попросить вас раздобыть для нас важную информацию. Нам нужно знать все о полковнике Леланде Фалькирке, офицере из элитарного подразделения ОРВЭС. Кроме того, мне… — Минуточку, Джинджер! — перебил ее Александр, нервно озираясь по сторонам на прохожих, словно он уже попал под наблюдение или даже намечен к ликвидации. — Если вы помните, я сказал на кладбище, что обещаю вам только совет или, на крайний случай, общую информацию о технике контроля над сознанием. Однако я предупредил, что не стану ввязываться ни в какие опасные дела. Ведь я же четко объяснил свое положение. — Но ведь у вас наверняка остались влиятельные друзья… — Вы, наверное, не расслышали, Джинджер. Я не намерен активно содействовать разрешению ваших проблем. Я просто не могу себе этого позволить, это для меня слишком рискованно. — Послушайте, я ведь не прошу вас раскопать для меня сверхсекретную информацию. Мы на это и не рассчитываем, — продолжала она, словно бы не понимая его. — Мне нужны голые факты о полковнике Фалькирке, обычные сведения из его послужного списка. Это необходимо, чтобы составить о нем какое-то представление, знать, чего от него следует ожидать… — Прошу вас, Джинджер, я… — Мне еще нужна информация о специальном хранилище «Скала Громов», находящемся в округе Элко. — Нет! — отрезал Кристофсон. — Оно считается самым обычным подземным хранилищем, — гнула свою линию Джинджер, — и вполне возможно, что оно и являлось таковым долгое время, но у меня возникли подозрения… — Доктор, я не смогу вам ничем помочь. — Полковник Леланд Фалькирк и специальное хранилище «Скала Громов». Много нам и не требуется, только самые общие сведения. Поговорите со своими старыми друзьями, со мной можете связаться либо через доктора Джорджа Ханнаби из Бостона, либо через отца Стефана Вайцежика, священника из Чикаго. Запишите номера их телефонов. Они в курсе всех дел. — Доктор, — еле сдерживался Кристофсон, пытаясь унять дрожь в руках. — Я уже жалею, что вызвался оказать вам даже самую скромную помощь. Я старый человек, который боится умереть раньше времени. — Помнится, вас также тревожили и грехи, совершенные вами во имя служебного долга, — напомнила она ему его же слова. — Вот я и подумала, что вы можете захотеть как-то загладить их. Помощь нам будет своего рода искуплением ваших прошлых реальных и воображаемых грехов, мистер Кристофсон. Так вы записали номера телефонов? — Нет. Если вас будут спрашивать, запомните, что я сказал вам «нет», решительное «нет». — Да, кстати, была бы вам весьма признательна, если бы вы смогли что-нибудь сообщить мне уже в ближайшие шесть-восемь часов. Я понимаю, что это совсем не просто, но ведь мне нужна всего лишь общая, а не секретная информация, — как ни в чем не бывало добавила Джинджер. — До свидания, доктор, — решительно отрезал он. — С нетерпением жду вашего звонка, — сказала она. — Вы его не дождетесь. — Привет, — бросила она и повесила трубку. — О боже! — воскликнул Кристофсон, яростно швыряя трубку на рычаг. Она, конечно, привлекательная, умная и сильная женщина, подумал Александр, но эта ее абсолютная уверенность, что она непременно добьется своего, — совершенно не та черта, которая украшает женщину. Во всяком случае, ему это в слабом поле никогда не нравилось. Что ж, на этот раз ее ждет разочарование: она не получит того, чего хочет. И все же на всякий случай записал своей ручкой фирмы «Кросс» телефоны Ханнаби и Вайцежика.* * *
Во вторник рано утром Доминик и Эрни отправились на «Чероки» Джека Твиста осматривать окрестности хранилища на Скале Громов. Сам Джек в это время спал в мотеле, вернувшись всего несколько часов тому назад из Элко, по которому он всю ночь колесил в компании Брендана Кронина и Жоржи Монтанелла. Эрни выбрал джип, потому что считал его надежнее и маневреннее «Доджа», хотя обе машины и имеют привод на все четыре колеса. Дорога в горах могла оказаться местами скользкой, а так как днем ожидался обильный снегопад, то лучше было перестраховаться. Доминик с тревогой посматривал на небо: ему не нравились нависшие над предгорьем тяжелые тучи, почти закрывшие собой вершины гор. Прогноз погоды беспокоил его, но пока еще на землю не упало ни единой снежинки. Однако отголоски грозной поступи зимы не омрачали настроение Доминика и Эрни: предстоящая поездка вселяла в них бодрость духа, поскольку была их первой настоящей боевой операцией, упреждающей действия противника. Они чувствовали себя так, словно отправлялись на рыбалку или увеселительную прогулку, сулящую забавные приключения. Уверенности в успехе и спокойствия им в значительной мере прибавляло и то обстоятельство, что минувшая ночь не была тревожной. Впервые за многие недели Доминика не донимали ни кошмары, ни сомнамбулизм. Ему снилась какая-то просторная комната, залитая золотистым светом, очевидно, та же самая, что и Брендану. К тому же его совершенно не мучила бессонница, и он моментально заснул. Все остальные тоже говорили, что отлично выспались. Утром за чашкой кофе Джинджер объяснила столь необычно спокойный сон тем, что их кошмары были связаны не с самими таинственными событиями ночи 6 июля, а с последующим промыванием мозгов. Теперь же, утверждала она, когда им стало понятно, что сделали с ними специалисты по контролю за разумом, тяготившие их подсознание неприятные воспоминания исчезли, и сон нормализовался. У Доминика была и собственная причина для хорошего настроения в это утро: за завтраком никто не смотрел на него с опаской, никто не изменил своего дружеского отношения к нему в связи с открывшимися в нем телекинетическими способностями. Поначалу столь быстрое примирение с его новым статусом несколько смущало Доминика, но потом он понял, что его новым друзьям просто требуется время для осмысления случившегося. Поскольку они прошли позапрошлым летом через те же самые испытания, было логично предположить, что рано или поздно у них тоже проявятся те же способности, в противном случае между ним и остальными свидетелями загадочного происшествия возник бы эмоциональный, интеллектуальный и психологический барьер и он оказался бы в изоляции, как того и опасался. Однако пока этого не произошло, все вели себя нормально, словно их ничто и не разделяло, и Доминик был им за это признателен. Тихонько мурлыча что-то себе под нос, Эрни вел машину в северном направлении по двухполосному окружному шоссе, вверх по склонам тех же каменистых холмов, расположенных за мотелем и федеральным шоссе, по которым пробирался накануне Джек Твист. Доминик с интересом разглядывал незнакомую местность. Чем выше поднимались они в горы, тем более пологим казался ландшафт, похожий скорее на громадный окаменелый скелет, чем на тучную плоть: повсюду выпирали ключицы, грудины и лопатки известняка, сланцевые берцовые и бедренные кости, торчали хребты ребристых глыб гранита. Словно бы памятуя о злых студеных ветрах в здешних высотах, земля норовила укутаться потеплее в толстую юбку из густой травы, опушенную полынью и непролазным кустарником, и шаль из можжевельника, туи, кедра, пихты, сосен и елей. Через три мили началась зона залегания снега: сперва он лишь тонким слоем окаймлял дорогу, потом, мили через две, пошел уже толстый, местами до восьми дюймов, сплошной белый покров — память о недавних первых снегопадах, предвестниках неминуемых грядущих вьюг и метелей, налетающих на эти края в начале декабря, чтобы прогнать суховей, царствующий здесь с сентября, и похоронить под сугробами сердито ощетинившиеся на морозе кустики вечнозеленых растений. Само же окружное шоссе было на удивление чистым, лишь местами под колесами хрустел тонкий лед. — Дорога до Скалы Громов круглый год содержится в полном порядке, — пояснил Эрни, — даже в самую скверную погоду. А вот после хранилища такого порядка на шоссе нет, там чистят лишь время от времени. Десять миль они проехали на удивление быстро, все время вдоль вздымающихся на западе гор и гребня долины на востоке. Миновав несколько щебеночных и гравийных ответвлений дороги, ведущих к одиноким домам и ранчо, которые можно было разглядеть вдалеке на восточном склоне справа от шоссе, они наконец достигли поворота на охраняемый подъезд к подземному хранилищу, расположенному тоже по правую руку. — Давненько я не бывал здесь, — сбавляя скорость, заметил Эрни. — Раньше все тут выглядело поскромнее, не так грозно, как теперь. По обе стороны узкой асфальтированной дорожки, начинающейся от предупредительного щита, упирались вершинами в мглистое небо темно-зеленые, почти черные, сосны. В пятнадцати футах от поворота проезд блокировали длинные металлические шипы, торчащие как раз под таким углом, чтобы проткнуть шины любому автомобилю, который рискнул бы проехать дальше. Футов через двадцать от выдвижных шипов виднелись массивные стальные ворота, увенчанные выкрашенными красной краской пиками. Бетонный контрольный пост размером двадцать на десять футов с черной бронированной дверью, способной выдержать обстрел из гранатомета, напоминал неприступную крепость. Прижавшись к обочине, Эрни сбросил скорость почти до нуля и указал на квадратный металлический блокпост возле кромки шипов: — Похоже, у них там не только видеомонитор, позволяющий разглядеть сидящих в машине, но и пулеметы с дистанционным управлением на случай, если часовой почует какой-то подвох, уже опустив шипы и открыв ворота. Подобная система применяется для охраны банковских хранилищ. Не успеешь и глазом моргнуть, как машину разнесет в пух и прах. Доминик тяжело вздохнул. По обе стороны от ворот тянулась, теряясь за деревьями, металлическая сетка высотой восемь футов с протянутой по верхней кромке колючей проволокой и белой предупредительной табличкой, на которой красными буквами было написано: «НЕ ПРИКАСАТЬСЯ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!» И, хотя изгородь и уходила в лес, по обе стороны вдоль нее была вырублена контрольная просека шириной двадцать футов. Настроение у Доминика испортилось. Он не думал, что подходы к хранилищу так бдительно охраняются. В конце концов, сам вход в подземелье наверняка и без того закрыт бронированными дверями, так к чему эти излишние меры предосторожности? Тем не менее они были приняты, что говорило лишь об исключительной важности охраняемого объекта, скрытого за воротами повышенной прочности в толще известняка. — Шипы на дороге появились недавно, — отметил Эрни, — да и ворота они поменяли, старые были послабее. Изгородь с колючей проволокой была, но не под током. — Не стоит и мечтать пробраться внутрь, — заключил Доминик, имея в виду, конечно же, не подземный склад, а прилегающую к нему территорию, в особенности земли, отнятые у скотоводов Бруста и Дэрксона, где они надеялись наткнуться на случайно сохранившиеся следы интересующего их таинственного происшествия. Проникнуть же за ворота самого хранилища нечего было и думать, это абсолютно неосуществимо, фантазии же заговорщиков, строивших свои грандиозные планы в уютном мотеле, ограничивались лишь реальной, на их взгляд, задачей. Но теперь стало ясно, что и она им не под силу. Мимолетную мысль применить свои телекинетические способности Доминик тотчас же прогнал, вспомнив, что не умеет ими управлять, а потеряв контроль над этой необъяснимой силой, можно стать виновником колоссальных разрушений и даже гибели людей. — Не стоит отчаиваться, — сказал Эрни, словно прочитав его мысли, — лучше попробуем отыскать лазейку где-нибудь в ограде. Мы ведь и не собирались ломиться в ворота. Между прочим, за нами «хвост», — добавил он, нажимая на газ. Вздрогнув от удивления, Доминик обернулся и взглянул сквозь заднее стекло «Чероки»: в ста ярдах от них катил на специальных, вдвое шире и выше обыкновенных, шинах грузовой пикап со снегоуборочным щитом, приподнятым на шоссе, и потушенной мигалкой на крыше. Лица сидевших в кабине скрывали тонированные стекла. — Вы уверены, что они едут именно за нами? — встревоженно спросил Доминик. — Когда они появились? — Вскоре после того, как мы выехали из мотеля. Они все время следовали за нами: мы притормаживали, и они замедляли скорость, мы ехали быстрее — и они старались не отставать. — Полагаете, могут возникнуть неприятности? — Неприятности скорее возникнут у них, если станут напрашиваться, — ухмыльнулся Эрни. — Не обращайте внимания на этих армейских щенков. — Эрни, умоляю, не затевайте войну лишь для того, чтобы доказать превосходство морских пехотинцев над солдатами! Я готов поверить вам на слово, — рассмеялся Доминик. Дорога становилась все круче, серое небо спускалось все ниже, темные деревья все ближе подступали к шоссе с обеих сторон. Пикап не отставал.* * *
Миссис Халбург, мать Эмми, распахнула входную дверь, выпустив на озябшую чикагскую улицу волну теплого воздуха. — Прошу меня простить за внезапный визит, — сказал отец Вайцежик, — но сегодня с самого утра происходит нечто невероятное, и мне захотелось узнать, как обстоят дела у Эмми… Отец Вайцежик запнулся, заметив, что миссис Халбург крайне удручена и смотрит на него с каким-то мистическим страхом, явно не понимая, что он ей пытается объяснить. Но, прежде чем он успел спросить ее, что же стряслось, она обрадованно воскликнула: — Боже мой! Это вы, святой отец! Я прекрасно вас помню, вы навещали Эмми в больнице. Но как вы догадались прийти? Мы же никому еще не звонили! Как же это вы сами догадались? — Да в чем дело, объясните же мне, ради бога! Вместо ответа миссис Халбург схватила отца Вайцежика за руку и, оглянувшись испуганно по сторонам, втянула его в дом и потащила за собой по лестнице наверх. — Идите сюда, скорее! После увиденного в квартире семейства Мендоза отец Вайцежик предчувствовал, что и у Халбургов его ждет какой-нибудь диковинный сюрприз, но никак не ожидал найти их в таком смятении. В коридоре второго этажа Стефан увидел отца Эмми и ее старшую сестру: они стояли возле открытой двери одной из комнат и, словно завороженные, смотрели внутрь, с выражением одновременно и удивления, и ужаса на лицах. Из комнаты слышались какие-то странные звуки: глухие тяжелые удары, грохот, снова удары и взрывы звонкого девичьего смеха. Мистер Халбург, с бледным, искаженным смертельным ужасом лицом, обернулся на отца Стефана и, заморгав от изумления, воскликнул: — Слава богу, святой отец, что вы пришли! Мы не знали, что нам делать! Мы боялись оказаться в дурацком положении, если позовем на помощь и потом это не повторится. Но, раз уже вы здесь, дело сделано, и я наконец вздохну спокойно. Отец Стефан осторожно заглянул в комнату и увидел там набор предметов, обычный для спальни девочки переходного возраста, почти простившейся с детством и вступающей в пору юности, как-то: полдюжины плюшевых медведей, плакаты с портретов современных молодежных кумиров, совершенно неизвестных отцу Стефану, деревянную вешалку для шляпок, увешанную коллекцией головных уборов неимоверных расцветок и фасонов, роликовые коньки, магнитолу, флейту в раскрытом футляре. Еще одна сестра Эмми, одетая в белый свитер, юбку-шотландку и гольфы, замерла в глубине комнаты, бледная и едва живая от страха. Сама же Эмми стояла в пижаме на кровати и выглядела даже лучше, чем на Рождество. Прижимая к груди подушку, она с улыбкой наблюдала то же поразительное действо — явление полтергейста, которое парализовало ее сестру и напугало остальных родственников. Сейчас ее внимание было приковано к двум игрушечным медведям, выделывающим забавные па в воздухе: их пляска почти в точности повторяла движения настоящих танцоров. Но не только медведи внезапно обрели волшебную жизнь. Ролики тоже не желали стоять безучастно в углу, они ездили по комнате из угла в угол в разных направлениях, то от ножки кровати к двери стенного шкафа, то от стола к окну, то медленно, то быстро. Шляпы весело раскачивались на вешалке, а большой плюшевый медвежонок подпрыгивал на книжной полке. Стефан подошел к кровати, осторожно обойдя роликовые коньки, и посмотрел на девочку. — Эмми! — позвал он. — Друг Толстяка! — обрадовалась девочка. — Привет, святой отец! Правда здорово? Вот класс! — Эмми, это твои фокусы? — кивнул на неистовствующие предметы отец Вайцежик. — А при чем здесь я? — искренне удивилась Эмми. — Нет, я тут совершенно ни при чем. Однако он успел заметить, что танцующие в воздухе медведи сбились с такта, когда девочка обернулась к нему. Они не упали на пол, но кувыркнулись и столкнулись спинами, причем совершенно нелепо и без всякой прежней грациозности. Он также заметил, что расшалившийся полтергейст вел себя отнюдь не безобидно: на полу валялись осколки керамической лампы, один из плакатов был надорван, а зеркало трюмо треснуло. — Сперва мне было страшно, — перехватив его взгляд, сказала Эмми. — Но потом все успокоилось, и вот теперь стало просто забавным. Ведь это забавно, правда? Едва она произнесла эти слова, как флейта поднялась над раскрытым футляром до высоты не менее семи футов и замерла рядом с левым из танцующих медведей. Боковым зрением девочка заметила это и повернулась лицом к инструменту. В то же мгновение из флейты заструилась чудесная мелодия, причем не примитивная, а звучная, в изысканном исполнении. — Это «Песенка Энни»! — запрыгала от восторга на кровати Эмми. — Я ее часто играла! — Ты и сейчас играешь ее, — поправил девочку отец Стефан. — О нет! — не отрывая взгляда от флейты, возразила она. — У меня распухли суставы, и мне пришлось в прошлом году забросить флейту. Теперь я выздоровела, но пальцы меня все еще не слушаются. — Но ведь ты сейчас играешь не руками, Эмми. До девочки наконец-то, похоже, дошел смысл его слов. — Я? Играю? — недоверчиво посмотрела она на священника. Лишившись ее сфокусированного внимания, флейта издала несколько писклявых жалобных звуков и смолкла. Она продолжала висеть в воздухе, слегка кружась и покачиваясь. Но стоило лишь Эмми вновь приковать к ней свой взгляд, как флейта замерла и вновь заиграла. — И вправду это я, — удивилась девочка. — Это я! — обернулась она к застывшей от изумления и ужаса сестре. — Я! — повторила Эмми, взглянув на стоящих в дверях родителей. У отца Стефана подкатил от волнения ком к горлу: столь близки и понятны были ему чувства девочки, обнаружившей в себе волшебный дар. Всего лишь месяц назад она не могла самостоятельно даже одеваться, и впереди у нее были лишь боль и смерть. А теперь она не только исцелилась, но обрела необыкновенные способности. Отцу Вайцежику хотелось сказать ей, что эти способности чудесным образом перешли к ней от Брендана Кронина, ее любимого Толстяка, но тогда ему пришлось бы объяснять, где он обрел этот дар, а этого сделать отец Стефан не мог. К тому же у него не было времени даже сообщить хотя бы то, что ему было известно, потому что он опаздывал в Эванстон. Во что бы то ни стало ему нужно было как можно скорее вылететь в Неваду, ибо события в округе Элко сулили нечто гораздо более чудесное и невероятное, чем то, что происходило здесь, и он был полон решимости участвовать в этом. Эмми перевела взгляд с флейты на пляшущих медведей, и те снова закружились в танце. Эмми хихикнула. Отцу Стефану вспомнились слова Уинтона Толка, сказанные им в квартире семьи Мендоза: «Эта сила все еще во мне. Я уверен в этом, я ее чувствую. И не только целительная сила. Она способна на большее…» На что именно была способна сила, которой обладал Уинтон, для отца Стефана тоже оставалось загадкой, но у него не возникло подозрение, что и полицейский пережил несколько курьезных моментов, сходных с явлениями, всполошившими семейство Халбург. — Святой отец, — обратился к священнику мистер Халбург, — вы сами сделаете это? — Его голос дрожал от волнения. — Пожалуйста, приступайте немедленно! — сказала миссис Халбург. — Прошу вас! — Извините, но я… — растерянно пробормотал Стефан. — Я не совсем понимаю, чего вы от меня хотите. — Мы хотим, чтобы вы изгнали из нее дьявола! — воскликнул не менее удивленный его несообразительностью мистер Халбург. Пораженный услышанным, отец Вайцежик уставился на него, лишь сейчас начиная понимать, почему эти люди были столь подавленны, когда он появился, и так обрадовались его приходу. — Уверяю вас, в этом нет никакой нужды, — рассмеялся он. — Это не дьявольские козни. Ни в коем случае! Клянусь Богом! Боковым зрением отец Стефан уловил на полу какое-то движение, посмотрел под ноги и увидел, что мимо него шагает на негнущихся лапах большой плюшевый медведь. Уинтон Толк говорил, что ему, по-видимому, потребуется немало времени, чтобы научиться управлять своими способностями. Либо он заблуждался, либо Эмми справилась с этой задачей раньше. Дети все впитывают быстрее взрослых. По лицам родственников Эмми он понял, что они не до конца поверили ему. Отец Стефан понимал причину их сомнений. Пока все выглядело нормально, таинственная сила не выходила из подчинения. Но сама ситуация была столь загадочной и пугающей, столь непостижимой для заурядного ума, что даже такой непоколебимый оптимист, как Стефан Вайцежик, слегка побаивался ее.* * *
Поговорив по телефону-автомату на бензозаправочной станции компании «Шелл» в Элко с Александром Кристофсоном, Джинджер вместе с Фэй Блок отправилась в Лемой-Вэлли на ранчо супругов Джемисон — от Элко до него было миль двадцать. Элрой и Нэнси Джемисон, друзья Блоков, приезжавшие к ним 6 июля позапрошлого года, безусловно, тоже стали свидетелями таинственных событий той ночи и поэтому были, как и другие, задержаны в мотеле и подвергнуты промыванию мозгов, хотя сами об этом и не подозревали, поскольку им внушили совершенно иное, а именно: будто бы они вернулись целы и невредимы на свое маленькое ранчо, где и провели несколько дней вместе с Блоками. В том же самом до последнего времени были уверены и сами Фэй и Эрни. Джинджер и Фэй направлялись к супругам Джемисон не для того, чтобы сообщить им, что случилось в ту ужасную ночь. На самом деле они хотели попытаться узнать, по возможности ненавязчиво, не мучаются ли они теми же проблемами, что и Джинджер, Эрни, Доминик и некоторые другие пострадавшие. Если бы выяснилось, что это так, их привезли бы в мотель и, как членов единой семьи, подключили к поискам разгадки случившегося. Однако если бы оказалось, что промывание мозгов было эффективным, Джемисонам ничего бы не сказали, дабы не подвергать их опасности. Кроме того, если Джемисоны не испытывали никаких неприятных ощущений, просто не стоило тратить на объяснения драгоценное время. Нельзя было терять ни минуты, с каждым часом обстановка становилась все тревожнее. Джек Твист, например, был уверен, что противник вскоре перейдет в наступление, и Джинджер придерживалась того же мнения. Поездка на ранчо на автомобиле Блоков была быстрой и полной новых впечатлений. Живописная долина Лемой-Вэлли — пятнадцать миль длиной и четыре мили шириной — начиналась у подножия горы Руби-Маунтинс. Здесь выращивали пшеницу, ячмень и помидоры, но сейчас поля были покрыты снегом. Долина была богата и сочными травами, произраставшими у подножия холмов и на их пологих склонах. На одном из этих пастбищ и располагалось ранчо Джемисонов. Было время, когда они владели сотнями акров лугов, на которых выгуливали свой скот, но обстоятельства вынудили их продать большую часть земли и оставить свое занятие. Теперь, когда оба они уже перешагнули шестидесятилетний рубеж, супруги владели только пятьюдесятью акрами, не нанимали себе помощников и имели только трех лошадей и несколько кур. Сворачивая с большака на проселок, ведущий в горы, Фэй констатировала: — Кажется, за нами следят. Джинджер взглянула в боковое зеркало и увидела позади, на расстоянии примерно ста футов, седан неизвестной ей марки. — Почему ты решила, что за нами? — спросила она Фэй. — Они пристроились уже давно. — Может быть, это случайное совпадение, — возразила Джинджер. Свернув на дорогу, ведущую к ранчо Джемисонов, Фэй сбавила скорость, желая посмотреть, как поведет себя преследующая их автомашина. Вместо того чтобы проехать мимо и выше в горы, та развернулась и встала точно напротив поворота. На этот раз Джинджер удалось определить, что это одна из последних моделей «Плимута» отвратительного зеленовато-коричневого цвета. — Тачка явно государственная, — сказала Фэй. — Похоже, они не стесняются, — заметила Джинджер. — Если они слушали нас через наши телефоны, как говорил Джек, они скорее всего решили действовать теперь в открытую. — Фэй отпустила педаль тормоза и нажала на газ. — А может быть, они готовятся нас арестовать, — предположила Джинджер, все еще глядя в зеркало. — Может быть, они всем повесили «хвосты» и теперь лишь ждут приказа, чтобы взять нас всех одновременно. На обсаженной разросшимися соснами подъездной дорожке стало совсем темно.* * *
Армейский вездеход мчал полковника Фалькирка по двухполосному шоссе через запорошенную снегом равнину к бронированным воротам хранилища. Угрюмо глядя в окно кабины, полковник размышлял о катастрофических последствиях огласки тайны Скалы Громов. В политическом плане это сулило скандал, по сравнению с которым уотергейтское дело выглядело бы безобидным дружеским чаепитием. В операции прикрытия участвовало беспрецедентное количество конкурирующих государственных учреждений, обычно ревниво оберегающих свои тайны: ФБР, ЦРУ, АНБ, армия США, ВВС и многие другие организации. Лишь колоссальная угроза национальной безопасности заставила их объединить свои усилия и действовать заодно на протяжении восемнадцати месяцев, не допуская утечки информации и сбоев в работе. Провал операции грозил не только сотрясти правительство, но и существенно подорвать веру американского народа в своих лидеров. Конечно, только нескольким сотрудникам этих организаций — шестерым из ФБР и двоим-троим из ЦРУ — было известно, что случилось на самом деле, остальные же вообще не знали, чтд они, собственно, прикрывают. В этом-то и заключался залог успеха. Но руководители всех ведомств — директор ФБР, директор ЦРУ, начальник штаба армии — были полностью осведомлены, как и, безусловно, председатель Объединенного комитета начальников штабов, президент, вице-президент и их советники. Скандал неминуемо запятнал бы репутацию многих высокопоставленных лиц, поэтому-то и нужно было держать это дело под надежным замком. Но одним лишь сотрясением и разрушением политической верхушки ущерб от разглашения секрета не ограничился бы, последствия были бы куда более серьезными. Ученые Центра стратегических исследований в области национальной безопасности — выдающиеся физики, биологи, антропологи, социологи, теологи, экономисты, педагоги — начали анализировать этот кризис самым тщательнейшим образом задолго до того, как он разразился в Неваде, и даже составили совершенно секретный доклад объемом 1220 страниц о своих выводах. Документ этот не мог не настораживать, и Леланд выучил его наизусть, потому что участвовал в его подготовке как представитель армии. Исследователи пришли к единодушному мнению, что, если такое событие произойдет, человечество ждут коренные перемены. Радикальным образом изменятся все без исключения общества и культуры, а количество погибших будет уже в первые два года исчисляться миллионами. Лейтенант Хорнер, сидевший за рулем вездехода, затормозил машину в двадцати футах перед гигантскими бронированными воротами подземелья и повернул направо, в ангар, где почти бок о бок стояли три микроавтобуса, четыре грузовых джипа, «Лендровер» и еще несколько автомобилей. Двойные бронированные двери, тридцать футов в высоту и двадцать футов в ширину, были настолько толстыми, что открывались крайне медленно, издавая ужасный скрежет и грохот, слышный за милю отсюда и еще за полмили ощущаемый по колебаниям земли и воздуха. Чтобы створки ворот раздвинулись, требовалось не менее пяти минут, поэтому через них пропускали только грузовики с оружием, боеприпасами или с другим грузом, а для персонала была сделана справа, футах в тридцати, отдельная, столь же прочная дверь, проем которой был чуть выше человеческого роста. Лучшего места для сокрытия секрета 6 июля, чем Скала Громов, невозможно было придумать. Это была неприступная цитадель. Поеживаясь от холодного ветра, Леланд и Хорнер побежали к боковому входу. Маленькая дверь приводилась в движение и откатывалась в сторону при помощи электронного запора с цифровым кодом. Код менялся каждые две недели, и доверенным лицам рекомендовалось его запоминать, а не записывать. Полковник набрал четырехзначную комбинацию на панели, и 14-дюймовая стальная дверь со свинцовой сердцевиной мягко утонула в стене. Они вошли в бетонный тоннель, около девяти футов в диаметре и двенадцати в длину, уходящий влево и ярко освещенный, и очутились перед второй дверью, которую нельзя было отрыть, прежде чем закроется первая. Леланд коснулся теплочувствительного прерывателя в стене, и внешняя дверь захлопнулась. В ту же секунду автоматически включились установленные под потолком видеокамеры, нацелившись объективами на стоящих в тоннеле. Но следил за лейтенантом Хорнером и полковником Фалькирком не дежурный офицер-оператор, а сверхсекретный компьютер — еще одна мера предосторожности против возможного изменника во внутренней охране хранилища, который мог бы впустить в катакомбы врага. Этот компьютер был неуязвим для диверсантов, поскольку к нему нельзя было подключиться с помощью модема или иного электронного устройства. Внешняя охрана заранее уведомила компьютер о предстоящем прибытии полковника Леланда Фалькирка и лейтенанта Томаса Хорнера, и сейчас, когда они приближались ко второй двери, умная машина сравнивала голографические изображения с оригиналами, быстро фиксируя каждую из сорока двух контрольных точек внешнего сходства. Обман с помощью грима или подмены похожим человеком исключался: чуткий прибор тотчас же засекал любой подлог и включал сигнал тревоги, одновременно наполняя входной тоннель расслабляющим газом. Запорное устройство внутренней двери не имело клавишной панели для набора кодовой комбинации, вместо нее в стену была вмонтирована сенсорная пластина размером один квадратный фут, к которой полковник приложил сперва правую, а потом и левую ладонь. Матовая стеклянная пластина осветилась изнутри, послышалось легкое жужжание, и дверь отскочила в сторону. — Прямо как в чистилище, — заметил лейтенант Хорнер, натянуто улыбаясь. — В рай попасть легче, — угрюмо пробурчал Леланд. Переступив порог, офицеры очутились в просторном естественном тоннеле, усовершенствованном руками человека. Каменный свод над головой терялся в темноте, не видный из-за подвешенных к черным металлическим лесам ламп, создающих иллюзию второго, более низкого потолка. В некоторых местах тоннель был расширен с помощью взрывных работ или пневмомолотков, с тем чтобы свободно могли пройти грузовые машины. Доставленный ими груз опускался в нижние этажи хранилища в специальных лифтах. За столом рядом с дверью, в которую только что вошли Леланд и Хорнер, сидел охранник — он показался полковнику совершенно лишним при всей хитроумной системе защиты и контроля этого труднодоступного объекта. Очевидно, сам часовой был того же мнения, насколько можно было судить по его внешнему виду и поведению: кобура была застегнута, он что-то жевал и довольно-таки неохотно оторвался от лежавшего перед ним на столе старого романа Джека Финни. На часовом была шинель, так как в хранилище отапливались только рабочие и жилые помещения: мощностей маленькой гидроэлектростанции, построенной на подземной реке, и дизельных генераторов не хватало, чтобы обеспечить теплом все пещеры. Однако температура в них держалась на уровне 55 градусов[75], и, тепло одевшись, вынести ее было вполне возможно. — Полковник Фалькирк, лейтенант Хорнер, — приветствовал вошедших часовой, — вы допущены к доктору Беннеллу. Вы, конечно же, знаете, как к нему пройти? — Безусловно, — бросил Фалькирк. Слева, на расстоянии десяти футов, мерцали освещенные неоновым светом бронированные ворота, гладкие, как поверхность огромной ледяной глыбы. Но Леланд и лейтенант Хорнер повернули направо и пошли в глубь пещеры, к лифтам. Хранилище «Скала Громов» было оснащено гидравлическими подъемниками трех видов. Самый крупный из них мог бы соперничать с теми, что установлены на авианосцах для доставки самолета из трюма на взлетную палубу, а в недрах Скалы Громов, помимо всего прочего, имелись и самолеты и вертолеты. В просторных складских помещениях хранилась масса припасов и оборудования на общую сумму 2 миллиарда 400 миллионов долларов: замороженные и обезвоженные продукты питания, медикаменты, тенты для полевых госпиталей, простыни, одеяла, пистолеты, винтовки, гранатометы, минометы, боеприпасы, легкие вездеходы и БМП и даже двадцать ядерных бомб. Самолетов же и вертолетов было множество, и самых разнообразных: тридцать противотанковых вертолетов типа «Сикорский-67» модели «блэкхоук», двадцать «королевских кобр» компании «Белл», восемь англо-французских «пум» и три больших боевых вертолета «мидивак». Имелось также двенадцать самолетов «харриер», изготовленных в Англии, которые благодаря своей способности вертикально взлетать и садиться могли оказаться чрезвычайно полезными в случае ядерной атаки или высадки вражеского десанта: вместе с боевыми вертолетами их достаточно было поднять на верхний этаж и выкатить за стальные ворота. Теперешний кризис, однако, не был обусловлен какими-то военными действиями и не требовал срочного применения авиации, поэтому Леланд и лейтенант миновали грузовые подъемники и вошли в один из маленьких — размером с обычный гостиничный лифт, который должен был опустить их в чрево Скалы Громов. Все медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания и боеприпасы хранились на самом последнем уровнекомплекса, в специально обустроенных помещениях. На среднем этаже находились автомобили и авиационная техника, там же работал и жил обслуживающий персонал. Леланд и лейтенант Хорнер вышли из кабины лифта именно здесь, на втором этаже, очутившись в ярко освещенном круглом зале диаметром триста футов. Отсюда можно было пройти в четыре другие большие пещеры, в свою очередь, соединяющиеся с множеством пещер поменьше. В больших пещерах хранились самолеты, вертолеты, джипы, БМП и прочая военная техника. В три из них можно было пройти свободно по коридорам, потому что на этом уровне серьезной опасности пожара или взрыва не было. Вход в четвертую пещеру закрывала дверь: за ней хранился «секрет 6 июля», который Леланд и многие другие были твердо намерены держать в глубокой тайне. Сейчас, выйдя из лифта на середину громадной «втулки», как между собой называли этот зал сотрудники хранилища, полковник остановился в задумчивости перед огромными створками деревянной двери размером двадцать шесть на двадцать четыре фута, связанной на скорую руку скобами из бруса толщиной два на четыре дюйма, поскольку заказывать стальную дверь в той чрезвычайной ситуации просто не было времени. Эти массивные створки напомнили ему огромные деревянные ворота в частоколе, защищавшем до смерти перепуганных туземцев от обитавшего на другой половине их острова Кинг-Конга. Впрочем, по сравнению с тем, что скрывалось за этой дверью, чудовище из фильма ужасов казалось детской забавой, а сама дверь и вовсе не внушала никакого доверия. Полковника охватил озноб. — Никак не можете привыкнуть? — заметив, как его передернуло, ухмыльнулся Хорнер. — А вы вполне сжились с этим? — вскинул брови полковник. — Черта с два, сэр! Черта с два! — враз изменился в лице лейтенант. В нижней части одной из створок была сделана дополнительная маленькая дверь для прохода имеющих спецдопуск сотрудников, а за ней установлен пост. Вооруженный часовой пропускал в запретную пещеру лишь ограниченный контингент специалистов, составляющий не более десяти процентов всего персонала. Девяносто же процентов людей, работающих в подземелье, не только не могли попасть в секретное отделение, но и вообще не знали, что там находится. В пространствах между проходами в пещеры вдоль каменных стен «втулки» еще в начале 60-х годов были сооружены различные постройки. Первоначально они служили рабочими помещениями для инженеров, менеджеров и военных, занятых в строительстве и обустройстве хранилища. Со временем в пещерах вырос целый подземный городок с жилыми кварталами, кафетериями, спортивными и оздоровительными залами, лабораториями, магазинами, станциями технического обслуживания, компьютерным центром. В служившие когда-то офисами постройки вселились военные и гражданские служащие, на год или два откомандированные в «Скалу Громов», в связи с чем сюда провели телефонную связь, наладили отопление и водоснабжение, улучшили освещение, оборудовали кухни и ванные, в общем, создали максимальный уют. Эти домики были собраны из металлических щитов, покрытых серой, голубой или белой эмалью, и имели маленькие оконца и узенькие двери. И, хотя стояли эти домики не на колесах, они чем-то напоминали жилые вагончики или трейлеры, а весь этот подземный городок был похож на цыганский табор, укрывшийся от снега в пещерном раю на глубине двести сорок футов. Леланд наконец повернулся к запертому залу за деревянной дверью спиной и направился через «втулку» к белому строению из металла — офису доктора Майлса Беннелла. Лейтенант Хорнер последовал за ним. Позапрошлым летом ненавистный полковнику Майлс Беннелл перебрался в «Скалу Громов», чтобы возглавить научное расследование событий той роковой июльской ночи. С тех пор он выбирался из хранилища по разным поводам всего трижды, но ни разу дольше чем на две недели. Он был целиком захвачен своей работой, а может быть, даже хуже чем захвачен. Около дюжины офицеров, сержантов и гражданских специалистов сновали взад и вперед по «втулке», переходя из одной пещеры в другую или беседуя друг с другом. Леланд окинул их раздраженным взглядом, не в силах понять, что может заставить нормального человека по собственной воле безвылазно торчать месяцами под землей. Правда, за это выплачивалась 35-процентная надбавка, но Леланду такая компенсация казалась несоразмерной Хранилище действовало на него не столь угнетающе, как его кабинет без окон в Шенкфилде, но на душе все равно сразу становилось муторно. Леланд подозревал у себя клаустрофобию: в подземелье он чувствовал себя заживо погребенным. Как мазохист, он вроде бы должен был получать наслаждение от этого дискомфорта, но от такого рода неприятного ощущения он не испытывал радости. Вид у доктора Майлса Беннелла был нездоровый. От длительного пребывания в «Скале Громов» у него поблекло лицо, а черные курчавые волосы на голове и борода лишь оттеняли эту болезненную белизну. При свете люминесцентных ламп он походил на призрак. Сухо поздоровавшись с Леландом и лейтенантом Хорнером, он даже не протянул никому из них руку. Это вполне устраивало полковника. Беннелл не был его другом, и рукопожатие было бы обычным лицемерием с его стороны. К тому же Фалькирк подозревал, что ученый уже давно вовсе и не тот, кем внешне кажется, точнее, что он уже не совсем человек. И, если это его безумное, параноидальное подозрение было правдой, ему не хотелось бы иметь с Беннеллом вообще никаких физических контактов, даже пожимать ему руку. — Доктор Беннелл, — холодно произнес Леланд, с места переходя на суровый и не терпящий возражений тон, — вы либо опасный глупец, позволяющий себе преступное пренебрежение режимом секретности, либо изменник, которого мы ищем. Слушайте меня внимательно: на этот раз мы твердо намерены найти мерзавца, пославшего эти моментальные фотографии, и на сей раз ему от нас не отвертеться. Мы выясним, кто надоумил Джека Твиста вернуться в мотель, и приложим все усилия, чтобы этот подлый предатель пожалел, что появился на свет человеком, а не навозной мухой, преспокойненько сосущей весь свой век лошадиное дерьмо в конюшне. — Полковник, — улыбнулся Майлс Беннелл, — я ценю ваш актерский талант, но в данном случае вы напрасно стараетесь: я не менее вас заинтересован в том, чтобы найти и уничтожить источник утечки информации. Леланда так и подмывало ударить этого сукина сына. Именно поэтому-то он и ненавидел Майлса Беннелла: его нельзя было запугать.* * *
Отцу Вайцежику пришлось дважды останавливаться на станциях техобслуживания и уточнять маршрут, прежде чем он разыскал дом Шаркла в одном из закоулков милого и тихого района Эванстона, населенного людьми среднего достатка. Когда же до нужного ему адреса оставалось всего два квартала, его развернули полицейские, перегородившие проезд двумя автомобилями с мигалками и каретой «Скорой помощи». Возле этой баррикады сновали с камерами репортеры. Отец Вайцежик сразу догадался, что это не простое совпадение: что-то стряслось в доме Шаркла. Несмотря на холод и пронизывающий ветер, на тротуаре и на газонах собралась большая толпа. Зеваки стягивались к дому Шаркла со всех переулков, так что отцу Стефану пришлось потратить немало времени, чтобы припарковать свою машину. Когда же он наконец вернулся к баррикаде и смешался с возбужденной толпой, надеясь выяснить подробности происшествия, то обнаружил, что в ней царит не только любопытство и странная нервозность, но и страх. На первый взгляд в поведении людей не было ничего сверхъестественного, они держались довольно дружелюбно, но при этом не могло не броситься в глаза, с каким увлечением они следили за разыгрывающейся на глазах трагедией, словно это было обыкновенное щекочущее нервы зрелище, как, например, футбольный матч. Но это была вовсе не потеха, а настоящая драма, и такая жуткая, что отцу Вайцежику стало совершенно ясно уже через минуту. Какой-то краснолицый усатый мужчина в клетчатой охотничьей куртке и кепке с длинным козырьком спросил: — Послушай, приятель, ты видел, что показали по этому чертову ящику? — Он не чувствовал ни малейшего смущения, потому что не догадывался, что обращается к священнику: длинное пальто и шарф Стефана надежно скрывали свидетельство его принадлежности к духовному сословию. — Там этот опасный маньяк Шаркл по прозвищу Акула! Этот тип, оказывается, законченный лунатик. Он совсем свихнулся, можешь себе представить? Со вчерашнего дня засел в своей берлоге и палит по всем без разбору. Говорят, что он уже подстрелил двух своих соседей и одного полицейского. У него там двое заложников, и готов поспорить, что у этих бедолаг не больше шансов выжить, чем у драной кошки столковаться с доберманом.* * *
Во вторник утром рейсом «Пасифик саутвест эйрлайнс» Паркер Фейн вылетел из округа Ориндж в Сан-Франциско, где пересел на самолет на Монтерей. На перелет до калифорнийского побережья у него ушел ровно час, еще час потребовался на пересадку в Сан-Франциско, и всего тридцать пять минут продолжался полет до Монтерея. Путешествие показалось ему еще короче благодаря одной хорошенькой молодой пассажирке, которая не только оказалась поклонницей его таланта, но и вполне благосклонно приняла его неуклюжее ухаживание. В аэропорту, воспользовавшись услугами маленького транспортного агентства, он взял напрокат «Форд-Темпо» рвотно-зеленой окраски, оскорбляющей его тонкое чувство цвета. На ровной дороге этот «Темпо» еще мог двигаться в темпе аллегро, но на подъемах сбивался на адажио. Так или иначе, но менее чем за полчаса Паркер все-таки нашел адрес, который ему сообщил по телефону Доминик, — дом Джеральда Салко, человека, останавливавшегося в мотеле «Спокойствие» вечером 6 июля вместе с женой и двумя дочерьми, но не оставившего номера телефона. Это был особняк в южном колониальном стиле, настоящий помещичий дом, совершенно не вписывающийся в общую картину калифорнийского побережья, возвышающийся в глубине тенистой сосновой аллеи и окруженный ухоженным кустарником и клумбами с ярко-красными цветами. Окинув оценивающим взглядом это поместье величиной в добрые пол-акра, Паркер пришел к заключению, что здесь не обойтись без помощи садовника, приходящего на целый день хотя бы раз в неделю. Заложив «темпо» в вираж по кругообразной подъездной дорожке, Паркер затормозил напротив широченной, окаймленной цветами лестницы, восходящей к украшенной колоннами глубокой веранде. В тени деревьев на ней должно было бы быть мрачновато без света, однако в окнах не было видно ни одного огонька, а задернутые портьеры создавали впечатление, что особняк пуст. Паркер вылез из машины, взбежал по ступеням и, дрожа от холода, пересек веранду. Обычный для этих мест густой утренний туман, уже рассеявшийся над аэропортом, давая самолетам возможность совершать посадку, все еще держался над этой частью полуострова, цепляясь за сосны и кусты и зависая на их ветвях. Зима в Северной Калифорнии вообще холоднее, чем в Лагуна-Бич, для нее характерны частые сырые туманы, которых Паркер не переносил, а потому и оделся соответствующим образом: в плотные вельветовые слаксы, клетчатую зеленую фланелевую рубашку, зеленый пуловер с глуповатым броненосцем вместо крокодила на груди и морской бушлат с сержантскими нашивками на рукаве. Завершали этот маскарадный костюм оранжевые кроссовки. Нажимая на кнопку звонка возле двери, Паркер скользнул по своей одежде саркастическим взглядом и решил, что иногда он выглядит слишком эксцентрично даже для художника. Он позвонил шесть раз, выжидая по полминуты после каждого долгого-долгого звонка, но никто ему не открыл. Прошлой ночью его оторвал от его новой картины, над которой Паркер работал с трех часов дня, неожиданный телефонный звонок из Элко. Звонивший — некий Джек Твист — сообщил, что говорит от имени их общего знакомого Доминика, и попросил его быть через двадцать минут в условленной телефонной будке в Лагуна-Бич, куда он ему перезвонит. В 11 часов 20 минут Паркер, бросив захватившую его работу, уже был в будке и, выслушав Джека Твиста, не колеблясь согласился слетать в Монтерей. Честно говоря, он взялся за новое полотно лишь для того, чтобы не думать о том, что происходит с Домиником в округе Элко, где и сам хотел бы очутиться, заинтригованный всей этой таинственной историей. Когда же Джек Твист рассказал ему о летающих солонках и перечницах и парящих в воздухе креслах, удержать Паркера от путешествия в Монтерей могла бы разве что Третья мировая война. И поэтому теперь он не собирался пасовать, оказавшись у дверей пустого дома Салко. Где бы они ни были, он был полон решимости их найти, а начать поиски решил с соседей. Пробраться до соседнего дома через заросший кустарником участок было довольно трудновато, поэтому Паркер вернулся к машине. Садясь за руль, он еще разок взглянул на притихший особняк, и ему показалось, что в одном из окон нижнего этажа что-то мелькнуло: вроде бы опустилась на место приподнятая кем-то невидимым портьера. С минуту он сидел, разглядывая окно, но потом все-таки тронулся с места, решив, что ему просто померещилось: в полумраке густой туман вполне мог сыграть с ним злую шутку. Паркер с наслаждением вновь заложил машину в вираж, по-детски радуясь, что снова играет в шпионов.* * *
Эрни и Доминик припарковали джип «Чероки» в конце окружной дороги, и грузовик с темным ветровым стеклом остановился в двухстах ярдах позади них. Сейчас он был похож, как казалось Доминику, на гигантское насекомое, выползшее на огромных колесах-ножках на тропинку, настороженно оглядывающееся вокруг глазами-мигалками и готовое при первой же опасности нырнуть в спасительную норку. Из кабины странного автомобиля никто не вышел, как будто в ней вообще не было ни водителя, ни пассажиров. — Думаешь, будут все-таки какие-то неприятности? — спросил Доминик Эрни, вылезая следом за ним на обочину. — Если бы они хотели устроить нам неприятности, они их давно уже устроили бы, — сказал Эрни, выпуская изо рта в холодный воздух облачко пара. — Если они намерены только следить за нами, пусть себе следят на здоровье, меня это мало волнует. Однако на всякий случай они достали из багажника две охотничьи винтовки — крупнокалиберный карабин «винчестер» и «спрингфилд»: вид оружия должен был остудить пыл преследователей. С западной стороны шоссе все еще вздымались горные вершины, обрамленные густым лесом, но на востоке простиралось чистое поле. Ветер усиливался, напоминая об обещанном снегопаде, и Доминик мысленно еще раз порадовался, что обзавелся в Рино зимней одеждой, правда, не совсем подходящей: лучше было бы купить водонепроницаемый лыжный костюм, как на Эрни, и пару высоких ботинок со шнуровкой и на толстой ребристой подошве, а не переминаться с ноги на ногу в хлипких башмаках на «молнии». Правда, Джинджер и Фэй специально заедут в магазин спортивных товаров в Элко с целым списком вещей, необходимых для намеченной на вечер операции, в том числе и соответствующей одежды для Доминика и всех остальных, нуждающихся в ней. Но пока, однако, Доминик зябко поеживался от назойливого ветра, проникающего за воротник и в широкие рукава его куртки. Оставив машину на шоссе, они прошли немного вперед и спустились по склону на поле, намереваясь осмотреть ограду и, по возможности, обозримую часть территории Скалы Громов. Высокая сетчатая металлическая изгородь под током и с колючей проволокой тянулась здесь по открытой местности, оставив лес далеко позади и устремляясь сперва на север, вдоль шоссе, а затем, словно бы устав от бесполезной гонки, резко на восток, вниз, к впадине между холмами. Утопая в глубоком снегу, они прошли ярдов двести вдоль ограды и остановились, увидев вдалеке огромные массивные стальные ворота, закрывающие вход в толщу горы. На снегу по другую сторону ограды Доминик не заметил никаких следов — ни человеческих, ни собачьих. — Если нет следов, — перехватывая его многозначительный взгляд, сказал Эрни, — значит, вполне достаточно электронной охраны. Здесь тоже не пробраться, у них все предусмотрено. Доминик взглянул в сторону шоссе, желая убедиться, что с их «Чероки» все в порядке, и вздрогнул: со склона на него пристально смотрел человек в черной одежде. Эрни тоже заметил его и, сунув «винчестер» под мышку, левой рукой поднес к глазам бинокль. — Судя по одежде, это армейский парень, — наконец произнес он. — Он просто наблюдает за нами. — Мне казалось, что они стараются делать это незаметно, — удивился Доминик. — На открытой местности трудно остаться незамеченным. Похоже, однако, что они к этому и не стремятся. К тому же этот парень явно хочет нам продемонстрировать: у него имеется при себе кое-что и ему наплевать на наши ружья. — Что вы хотите этим сказать? — спросил Доминик. — Что у него с собой? — Бельгийский пистолет-автомат. Чертовски замечательная штука! Стреляет со скоростью шестьсот выстрелов в минуту!* * *
Если бы отец Вайцежик следил за программой теленовостей, он бы услышал о Кэлвине Шаркле еще накануне вечером, потому что этот человек был в центре внимания вот уже сутки. Однако священник перестал смотреть эти выпуски уже много лет назад, решив, что они слишком упрощают и обесцвечивают события, лишая их эмоциональных оттенков и представляя жизнь лишь в черном или белом цвете, что свидетельствует об их интеллектуальной порочности, и к тому же они нарочито упиваются смакованием насилия, секса, упадничества и отчаяния, что не может не вызывать отвращения с точки зрения морали. Он также мог бы прочитать о трагедии в доме Шаркла в утреннем номере «Трибюн» или «Санди таймс», но так торопился, что не успел даже просмотреть газеты. Теперь ему приходилось составлять общую картину происшествия из обрывочных сведений, почерпнутых в толпе перед устроенной полицейскими баррикадой. Выходило, что вот уже на протяжении нескольких месяцев Кэлвин Шаркл вел себя довольно странно. Обычно веселый и приятный в общении, этот холостяк, пользовавшийся уважением всего квартала, превратился вдруг в мрачную, задумчивую и даже зловещую личность. Он заявил соседям, что у него «плохие предчувствия» и что он уверен: «приближается нечто значительное и ужасное». Он также увлекся книгами по выживанию и начал рассуждать об Армагеддоне[76]. По ночам его преследовали жуткие кошмары. 1 декабря он продал свою машину, после чего заявил родственникам и соседям, что надвигается конец света, в связи с чем он хотел бы продать свой дом и купить хижину где-нибудь в горах, укрепив ее в соответствии с инструкциями пособий по выживанию. «Но времени уже нет, — сказал он своей сестре Нэн Джилкрайст. — Поэтому я приготовлюсь к осаде в этом доме». Что именно должно случиться и чем вызваны его опасения, он не знал, хотя и был уверен: это не ядерная война, не вторжение русских и не экономическая катастрофа. «Я не знаю, что это будет, — говорил он, — но это будет нечто доселе не виданное и ужасное». Миссис Джилкрайст заставила его показаться врачу, но тот не обнаружил у него ничего, кроме небольшого переутомления. Однако после Рождества Кэлвин вдруг перестал досаждать всем своими навязчивыми идеями и замкнулся в себе, одновременно став очень подозрительным к окружающим. Он отключил телефон, обронив в связи с этим загадочную фразу: «Кто знает, как они нападут на нас, когда придут? Может быть, они могут это сделать по телефону…» Объяснить, кто эти таинственные «они», он либо не мог, либо не хотел. Но, несмотря на все эти неожиданные причуды, никто из знакомых Кэлвина не считал его опасным. Ведь он всегда был миролюбивым и добрым человеком, и от него не ожидали никаких диких и жестоких поступков. И вот вчера утром, в половине девятого, Кэлвин зашел к Уилкерсонам, живущим через дорогу, и наговорил им уйму странностей. Вот что рассказал об этом репортеру Эдвард Уилкерсон. «Слушайте, — заявил Кэлвин, — в таком деле я не могу быть эгоистом. Я совершенно готов, а вы беззащитны. И, когда они за нами придут, было бы лучше, если бы все вы спрятались в моем доме». На просьбу Эдварда уточнить, кого он имеет в виду под словом «они», Кэлвин ответил: «Понимаете, я не знаю, как они выглядят и как они себя называют, но точно знаю, что они собираются причинить нам зло, может быть, превратить всех нас в зомби». Кэлвин Шаркл заверил Уилкерсона, что у него припасено достаточно оружия и патронов и что он превратил свой дом в крепость. Встревоженный разговорами об оружии, Уилкерсон отшутился, в мягкой форме отказавшись от предложения Кэлвина, а едва тот ушел, расстроенный, тотчас же позвонил его сестре. Нэн Джилкрайст приехала в половине одиннадцатого вместе с мужем и заверила перепуганного Уилкерсона, что сама все уладит с братом и убедит его лечь на обследование. Но, когда она с мужем пошла к Кэлвину, Эдвард Уилкерсон подумал, что им может понадобиться помощь, и вместе с соседом Фрэнком Кэлки пошел убедиться, что в доме Кэлвина все в порядке. Он ожидал, что на звонок дверь откроет сестра Кэлвина, но ее распахнул перед ним сам хозяин. Он был возбужден, можно сказать, взвинчен до предела и вооружен 20-зарядным полуавтоматическим ружьем. Он заявил, что Эдвард и Фрэнк уже не люди, а зомби. «Вас подменили! — кричал он на них. — Боже, как же я сразу не догадался! Ведь я должен был догадаться! Когда же это случилось, когда вы перестали быть людьми? Боже, да вы хотите нас всех здесь разом захватить!» И с яростным воплем он принялся палить по соседям из ружья. Первым же выстрелом Кэлки снесло голову, а Уилкерсон бросился бежать, но был ранен в ногу, упал, перевернулся и прикинулся мертвым, чем и сохранил себе жизнь. Теперь Кэлки лежал в морге, а Уилкерсон в больнице, и даже давал интервью репортерам. А святой отец Стефан Вайцежик стоял в охваченной волнением толпе в начале переулка О'Беннон-лейн и пытался понять, что говорит ему молодой человек по имени Роджер Хастеруик, который представился ему как «временно неработающий специалист по приготовлению коктейлей», что означало, как подозревал отец Стефан, просто «безработный буфетчик». Глаза Роджера блестели тревожным блеском, что могло в равной мере быть признаком опьянения, употребления наркотика, недосыпания, психопатии или всего этого одновременно, но рассказывал он о случившемся довольно подробно и точно, хотя и многословно: — Так вот, значит, полиция закрыла квартал, эвакуировала всех людей из их домов и попыталась вступить с Акулой Шарклом в переговоры. Но тот отключил телефон, и тогда они начали кричать в мегафон, но он не реагировал. Полицейские боятся штурмовать дом, потому что там заложники — сестра Шаркла и ее муж. — Это разумно, — дрожа от холода и волнения, согласился отец Вайцежик. — Разумно! Ясное дело, что разумно, — не без раздражения воскликнул Роджер Хастеруик, недовольный тем, что его перебивают. — Но слушайте, что было дальше. Значит, так: полицейские смекнули, что попусту теряют время, и решили вызвать на подмогу ребят из подразделения по борьбе с терроризмом, чтобы те хотя бы спасли заложников. Так вот, они обкурили дом газом, эти лихие парни из спецкоманды бросились штурмовать дом, но не тут-то было! Шаркл — малый не промах, потрудился на славу: понаставил повсюду ловушек, видно, работал не один день. Фараоны стали цепляться за проволочки, которые он везде натянул, и порасшибали себе лбы. А потом Шаркл открыл по ним огонь, потому что у него была точно такая же защитная маска, как у них. Этот чокнутый, оказывается, все предвидел и хорошенько подготовился. Как вам это нравится? Так вот, он укладывает одного, ранит другого, потом спускается в подвал и запирается там, и уже ничего с ним невозможно сделать, потому что дверь в подвал не обыкновенная, а стальная, и дверь со двора тоже стальная, вот ведь какая штука! И на окнах изнутри металлические ставни, и выходит натуральный пат, и ничего тут уже не придумаешь! Вы меня поняли? Отец Стефан понял, что дело и в самом деле дрянь: два человека погибли, трое ранены. — Тогда фараоны пошевелили мозгами и решили взять его на измор. Утром Шаркл не вытерпел, приоткрыл одну из металлических ставень и стал орать какую-то околесицу, совершенную чушь и несусветный бред, так что фараонам стало ясно, что он вот-вот выкинет еще какой-нибудь фортель, но тут он запирает снова окно — и после этого уже не высовывается. Я уверен, что он вскоре что-нибудь предпримет, потому что, во-первых, холодает, а во-вторых, мне становится скучно. — Но что именно он кричал? — Что? — переспросил Хастеруик. — Я говорю, что за ерунду он нес сегодня утром, приоткрыв ставни? — повторил свой вопрос отец Вайцежик. — А, вы все про это! Да так, понимаете, орал, что… — Но в этот момент Роджер заметил, что люди вокруг него поспешно разбегаются, видимо, услышав что-то, что он пропустил, заболтавшись с бестолковым незнакомцем. Бросив отца Стефана, он вцепился в локоть прыщавого субъекта в охотничьей шляпе с опущенными полями. — Что случилось? Что происходит? — Да тут у одного парня в тачке приемник берет полицейскую волну, — пытаясь высвободить руку, отвечал человек в шляпе, — и он сказал, что эта спецкоманда вроде бы намерена покончить с этим Шарклом. — Он наконец вырвал из цепких пальцев Роджера свою руку и попытался скрыться в толпе, но Хастеруик устремился за ним, не желая упускать самый интересный момент. Отец Вайцежик тоже в растерянности огляделся по сторонам: толпа на глазах редела, оставались лишь самые стойкие любители острых ощущений и полицейские, следившие за тем, чтобы никто из посторонних не приближался к окруженному дому. В воздухе пахло смертью. Отец Вайцежик чувствовал ее приближение. Он не мог оставаться равнодушным наблюдателем. Нужно было как-то предотвратить убийство, но ничего не приходило ему в голову. Его парализовал ужас. До этого момента он видел лишь положительные последствия разворачивающегося чуда. Чудесные исцеления и другие феномены вызывали у него лишь радость и ожидание новых проявлений божественной силы. Но теперь он наблюдал темную сторону этого таинственного явления и был до глубины души потрясен увиденным. Наконец отец Стефан стряхнул оцепенение и бросился следом за Роджером Хастеруиком, расталкивая кровожадных зевак, столпившихся вокруг прогулочного автобуса — голубого «Шевроле» с надписью «Калифорнийское побережье» на боку. Владелец — здоровенный бородатый парень, сидевший за рулем, — открыл обе двери и включил на полную громкость приемник, настроенный на полицейскую волну, чтобы всем было слышно. Через минуту план полиции в общих чертах стал ясен: бойцы из специального подразделения по борьбе с террористами уже подбирались к дому, обойдя его с другой стороны, намереваясь с помощью пластиковых зарядов сорвать стальную дверь с петель. Одновременно вторая группа должна была подорвать другую дверь в погреб и вместе с первой ворваться внутрь, захватив Кэлвина Шаркла врасплох. Этот замысел был чрезвычайно опасен как для штурмующих, так и для заложников, но власти решили, что дальнейшее промедление чревато еще большей опасностью. Прислушиваясь к голосам переговаривающихся по рации полицейских, отец Вайцежик вдруг понял, что обязан предотвратить штурм, потому что он мог вылиться в трудновообразимую бойню. Он должен добиться, чтобы его пропустили в дом, и поговорить с Кэлвином Шарклом, и сделать это сейчас же, немедленно. Да-да, немедленно! Он отвернулся от «Шевроле» и быстро пошел назад к дому Шаркла, от которого удалился уже приблизительно на квартал, оттесненный разгоряченной толпой. Отец Вайцежик еще не знал, что скажет Шарклу, может быть, нечто вроде «ты не одинок, Кэлвин», — в общем, он что-нибудь придумает. Его резкий маневр не остался незамеченным обступившей «Шевроле» толпой: все решили, что он что-то услышал или увидел возле баррикады, и побежали за ним, создавая на подступах к переулку О'Беннон-лейн еще большую сумятицу. Особенно усердствовала молодежь: крича и пихаясь, молодые зеваки выбегали с тротуара на улицу, мешая проезду транспорта и пугая водителей своим непредсказуемым поведением. Те, в свою очередь, жали на тормоза и клаксоны, машины начали сталкиваться, ударяясь бамперами, кто-то больно толкнул священника в спину, он упал и расшиб себе колени и ладони об асфальт. Никто не нагнулся над ним и не протянул руку, он сам вскочил и побежал дальше, хватая широко раскрытым ртом холодный воздух, насыщенный животным безумием и жаждой крови. Отцу Стефану стало страшно при виде этой потерявшей всякое человеческое достоинство толпы сограждан, сердце его готово было выскочить из груди, и он подумал, что все происходящее очень похоже на изощренное адское наказание — это бегство в обезумевшей толпе куда-то в неизвестность. Когда ему наконец удалось пробиться к баррикаде, там уже было полно народу. Они жались к барьерам и полицейским машинам, изо всех сил стараясь увидеть, что происходит возле дома Шаркла, к которому их не пропускали. Со всех сторон отца Стефана толкали и пинали, мешая пробраться к полицейским и добиться, чтобы его пропустили как священника. Он пытался взывать к совести и разуму сдавивших его людей, но его никто не слушал, кто-то сшиб с его головы шапочку, но и это не остановило его, он упорно проталкивался вперед, пока наконец не очутился возле металлического барьера. Полицейские сердито приказывали толпе отступить назад, грозили арестом, размахивали дубинками и выразительно опускали щитки своих касок. Отец Вайцежик готов уже был пойти на любую ложь, лишь бы уговорить полицию повременить с атакой, убедить, что он не просто священник, а духовник Шаркла и знает, как уговорить его сдаться властям. Он, конечно же, на самом деле не знал, как это сделать, но надеялся выиграть время и что-нибудь придумать. Наконец ему удалось привлечь к себе внимание одного из офицеров, и тот строго приказал ему сделать шаг назад. Отец Стефан сказал, что он священник, но полицейский его не слушал, и тогда он распахнул на себе пальто и стянул с себя шарф, показывая свой твердый круглый воротничок. — Я священник! — повторил он, но толпа внезапно подалась вперед, прижав отца Стефана к барьеру, барьер упал, и полицейский стал сердито отпихивать напирающих назад, не желая ни с кем вступать в разговоры. В следующее мгновение воздух сотрясли два приглушенных взрыва, один следом за другим, и вся толпа разом ахнула: все поняли, что начался штурм дома. И тотчас же последовал третий взрыв, сильный и разрушительный, от которого задрожал тротуар, затряслись ноги, застучали зубы и заложило уши. Дом Шаркла взлетел на воздух, рассыпавшись на кусочки, и все вокруг словно разлетелось, разбившись на мириады осколков, и день погас. Толпа вновь издала общий вздох изумления и в ужасе подалась назад, внезапно осознав, что смерть — не только забавное зрелище, но и вполне реальная угроза для каждого из них. — У него была бомба! — закричал кто-то из стоявших в оцеплении полицейских. — Боже мой! У Шаркла была там бомба! Бегите же скорее туда, — крикнул он двум сидящим в машине «Скорой помощи» врачам. — Чего вы ждете?! Скорее! Скорее же! Водитель включил красную сигнальную лампу на крыше и погнал машину в направлении дымящихся развалин. Дрожа от страха, отец Вайцежик попытался последовать за каретой «Скорой помощи», но его оттолкнули полицейские. — Эй ты, убирайся к черту отсюда! — Я священник, кому-то может понадобиться моя помощь, отпущение грехов… — Святой отец, будь вы хоть самим папой римским, я бы вас не пропустил. Мы не знаем наверняка, погиб ли этот Шаркл. Отец Вайцежик вынужден был повиноваться, хотя и был уверен, что после подобного взрыва Шаркл не мог уцелеть. Он был мертв, как были мертвы и двое его заложников, сестра и зять, и все, кто принимал участие в штурме погреба. Сколько всего их было? Пятеро? Шестеро? Может быть, десять покойников? Отец Вайцежик бесцельно побрел назад сквозь толпу, машинально запихивая под пальто шарф и застегивая пуговицы, плохо соображая и бормоча себе под нос «Отче наш». Внезапно он увидел Роджера Хастеруика, безработного буфетчика с подозрительным блеском в глазах, подошел и, положив руку ему на плечо, сказал: — Хастеруик, так что же он кричал полицейским сегодня утром? — А? Что? — испуганно заморгал тот. — Вы сказали мне, что Кэлвин Шаркл утром приоткрыл ставни и начал что-то кричать полицейским. Помните? И вы тогда подумали, что обязательно должно что-то случиться, но ничего не случилось. Вы можете мне сказать, что именно он кричал? Лицо Хастеруика расплылось в улыбке: он вспомнил! — Да-да, конечно! Он нес какую-то дикую чушь! Порол сущую ерунду! Погодите-ка… — наморщил он лоб, припоминая точные слова. — А! Вспомнил! — вновь просиял он и, вздохнув с облегчением, в точности повторил слова Кэлвина. Однако отец Стефан не только не посмеялся вместе с ним над «бредом этого безумца», но и проникся твердым убеждением, что Шаркл вовсе им не был. Он был смущен, обескуражен и напуган из-за колоссального стресса, вызванного промыванием мозгов и утратой памяти, сбит с толку, но он оставался в здравом уме. Роджеру Хастеруику и всем остальным, кто слышал его обвинения и предупреждения, казалось, что все это не более чем плод воспаленного воображения безумца, обуреваемого манией преследования: ведь не станет же нормальный человек превращать свой дом в неприступную крепость! Но у отца Вайцежика имелось существенное преимущество перед остальными: он оценивал заявления Кэлвина в свете событий в мотеле «Спокойствие», увязывая их с чудесными исцелениями и явлениями телекинеза, и в этом общем контексте утверждения и обвинения Шаркла, маленького напуганного человечка, взывающего к братьям-землянам из окна своего подвала, вовсе не представлялись совершенно неправдоподобными. От этих мыслей у святого отца даже зашевелились остатки волос на затылке, и он передернул плечами. — Да не принимайте это так близко к сердцу, — успокоил его Хастеруик, заметив его реакцию на свой рассказ. — Уж не приняли ли вы этот бред за чистую монету? Да ведь он рехнулся, этот несчастный малый! Вы же видели, что он подорвал сам себя, верно? Отец Вайцежик молча взглянул на него и зашагал к машине, оставленной на углу Скотт-авеню. С утра, еще до событий, свидетелем которых он позже стал, он лишь надеялся до вечера все-таки вылететь в Неваду. Но после всего того, что он увидел в квартире Мендоза и в доме Халбургов, в его душе разгорелся такой пожар любопытства и любознательности, что затушить его теперь можно было, лишь с головой окунувшись в деятельность собравшейся в мотеле «Спокойствие» группы. Рассказ Хастеруика подлил масла в огонь, тяга к путешествию в Неваду стала настоятельной необходимостью. Если хотя бы половина из того, что кричал из окна подвала Шаркл, было правдой, отец Стефан просто обязан был лететь в Неваду, и не только чтобы засвидетельствовать чудо, но и сделать все, что в его силах, чтобы защитить этих несчастных людей в мотеле. Всю свою жизнь он выручал попавших в беду священников, был пастырем, возвращающим заблудшие души в лоно церкви. Но на этот раз он был призван спасти не только их разум, но и жизнь. То, о чем говорил Кэлвин Шаркл, таило в себе угрозу как для души, так и для тела и мозга. Он включил скорость и поехал прямо в аэропорт, чтобы первым же самолетом, на который ему удастся купить билет, вылететь на Запад. Возвращаться за вещами уже не было времени. «Боже милостивый! — думал он. — Что же Ты ниспослал нам? Величайший дар, о котором мы могли только мечтать? Или чуму, в сравнении с которой блекнут все упомянутые в Библии напасти?» Отец Стефан Вайцежик до упора нажал на педаль газа и помчался в аэропорт О'Хара, словно… ну, скажем, словно нетопырь из преисподней.* * *
Джинджер и Фэй провели большую часть утра с супругами Джемисон, представив дело так, словно бы Джинджер, дочь одного старинного приятеля Фэй, собирается по причине слабого здоровья перебраться на Запад, в связи с чем и хочет узнать побольше об округе Элко. Элрой и Нэнси увлекались историей здешних мест и могли бесконечно говорить на эту тему, особенно о красотах долины Лемой-Вэлли. Джинджер и Фэй задались целью выявить у супругов Джемисон симптомы процесса разрушения блокады памяти. Однако им это не удалось: оба выглядели вполне счастливыми и спокойными, очевидно, промывание мозгов было выполнено весьма успешно, как и в случае с Фэй; внушенная же им легенда тоже казалась достаточно обоснованной и правдоподобной. В этих обстоятельствах предлагать им перебраться в мотель «Спокойствие» было не только нецелесообразно, но и опасно. Уже садясь в машину, Джинджер сказала Фэй, поглядывая на махавших им с крыльца супругов Джемисон: — Славные люди. Просто замечательные люди! — Да, — согласилась Фэй. — На них можно положиться. Хорошо было бы иметь таких помощников, но, с другой стороны, я рада, что мы не впутали их в это дело. Фэй тронула машину с места, и обе женщины на какое-то время замолчали, думая скорее всего об одном и том же: стоит ли правительственная машина напротив подъездной дорожки к дому Джемисонов и поедет ли она вновь следом за ними. В отличие от мужчин, прихвативших с собой в поездку по окрестностям хранилища в Скале Громов винтовки, женщины не были вооружены, поскольку не думали, что им угрожает какая-то серьезная опасность. Как и многие привлекательные одинокие женщины, живущие в большом городе, Джинджер умела обращаться с пистолетом, да и Фэй, будучи женой бывалого морского пехотинца, могла бы считаться в этом вопросе докой, но все их знания и навыки теперь, увы, были ни к чему. Проехав всего с четверть мили, Фэй притормозила машину. — Возможно, я слишком сгущаю краски, — заметила она, расстегивая пуговицы куртки и нащупывая что-то под свитером, — и это нам вряд ли поможет, если они приставят нам к голове пушки, но на всякий случай пусть будут под рукой. — С этими словами она достала из-под свитера два кухонных ножа и положила их на сиденье рядом с собой. — Откуда это у тебя? — удивилась Джинджер. — Прихватила, когда убирала после завтрака посуду, — улыбнулась Фэй. — Мне не хотелось зря беспокоить Нэнси, потом как-нибудь все объясню им, когда кончится этот кошмар. — Она повертела в руках один из ножей. — Конец заточен довольно остро, да и все лезвие тоже. Не защитит, конечно, от пистолета, но может пригодиться, если они попытаются затащить нас в свою машину. Главное, выждать момент и ударить наверняка. — Поняла, — сказала Джинджер, улыбаясь. — Когда-нибудь я познакомлю тебя с Ритой Ханнаби. — Своей подругой из Бостона? — Да. Вы с ней очень похожи. — Что у меня может быть общего с женщиной из высшего общества? — с сомнением покачала головой Фэй. — Даже не могу себе представить. — Ну, во-первых, вы обе всегда уверены в себе и не теряете самообладания, что бы ни случилось… — Когда ты замужем за военным, — вставила Фэй, кладя нож на место, — ты либо приспосабливаешься, либо сходишь с ума. — А во-вторых, — продолжала Джинджер, — у вас обеих при всей вашей внешней мягкости и женственности железный характер. — Милочка, — снова улыбнулась Фэй, — ты тоже не сахар. Они вновь тронулись с места и вскоре выехали с тенистой аллеи на окружное шоссе, придавленное свинцовым пасмурным небом. Буровато-зеленая машина, явно не принадлежащая частному лицу, стояла на прежнем месте. В ней сидели двое мужчин. Они бросили безразличный взгляд на Джинджер, и она невольно кивнула им, но ответного жеста не последовало. Фэй повела «Додж» вниз по склону, к подножию обрамляющих долину холмов. Машина с двумя незнакомцами двинулась следом.* * *
Плюхался ли Майлс Беннелл со скучающим видом в громоздкое кресло за серым металлическим столом, расхаживал ли по комнате, отвечая — то с иронией, то с подчеркнутым безразличием в голосе — на вопросы, он ни на секунду не давал волю своим эмоциям, не суетился, не заискивал, не впадал в ярость и не выказывал страха, демонстрируя редкое мужество и самообладание. Полковник Леланд Фалькирк все больше ненавидел его. Усевшись за исцарапанным столом в углу офиса, Леланд неторопливо просматривал личные дела персонала подземного хранилища, с особой тщательностью — гражданских научных работников, проводящих опыты и исследования в пещере за массивной деревянной дверью, где хранился секрет 6 июля. Он надеялся сузить круг вероятных предателей, установив, кто из мужчин и женщин мог быть в Нью-Йорке в то же время, когда были посланы две записки и моментальные фотографии Доминику Корвейсису в Лагуна-Бич. Он приказал военной контрразведке выполнить эту работу еще в воскресенье, однако проведенное тайное расследование, как ему было доложено, не принесло никаких результатов: источник утечки информации установить не удалось. Но полковник не доверял больше контрразведке, как не доверял он ни Беннеллу, ни другим ученым. Он решил взяться за дело сам. И вот теперь у Леланда возникли трудности. Во-первых, за минувшие полтора года в секреты было посвящено слишком много гражданских сотрудников: 37 человек, мужчин и женщин, специалистов в различных областях науки, имели допуск к программе исследований, разработанной Беннеллом. Значит, вместе с ним получалось 38 гражданских лиц. Да это просто чудо, что эти 38 яйцеголовых гениев смогли вообще сохранить до сих пор что-либо в тайне, не говоря уже об этом, самом главном секрете! Ведь они понятия не имеют ни о какой военной дисциплине. Более того, только Беннелл и еще семеро сотрудников были полностью заняты в этой программе и практически не вылезали из хранилища. У остальных тридцати были семьи, другая научная и преподавательская работа, и они не могли все это забросить на длительный срок, приезжали сюда всего на несколько дней или недель, редко — на несколько месяцев. Вот почему и было чрезвычайно трудно определить, когда тот или иной сотрудник — или сотрудница — находился в Нью-Йорке. Задача осложнялась еще и тем, что в декабре в Нью-Йорк выезжали трое членов постоянной группы, включая самого доктора Беннелла. Короче говоря, в список подозреваемых попадали в общей сложности по меньшей мере 33 научных сотрудника. А ведь был еще и обслуживающий персонал, охрана, да всех и не перечесть! Леланд также подозревал в измене и всю службу безопасности хранилища, хотяосведомлены о происходящем в запретной пещере были вроде бы только майор Фугата и лейтенант Хелмс — начальник этого подразделения и его заместитель. В воскресенье, вскоре после того как Фугата приступил к допросу находящихся в данный момент в «Скале Громов» научных сотрудников, вдруг обнаружилось, что полиграф — детектор лжи — неисправен и доверять его показаниям нельзя. А вчера, когда из Шенкфилда доставили новый аппарат, в нем тоже нашли неисправности. Фугата утверждал, что второй прибор поступил уже испорченным, но все это была явная чушь. Кто-то из допущенных к исследовательской программе видел секретные докладные записки о том, что блокада памяти у некоторых свидетелей дала трещину, и, решив воспользоваться этим обстоятельством, послал свидетелям письма и похищенные из досье фотоснимки. Когда же тучи начали сгущаться над головой этого мерзавца, он повредил детекторы лжи. Леланд оторвался от своего занятия и взглянул на стоящего у окошка Майлса Беннелла. — Доктор, поделитесь со мной своими соображениями об особенностях мышления ученых. Ведь вы так проницательны! — С удовольствием, полковник, — живо обернулся к нему Беннелл. — Все работающие с вами знают, какие ужасные последствия рассекречивания наших исследований предрекались в докладе специальной группы стратегических исследований еще семь лет тому назад. Так почему же среди них все-таки нашелся человек, столь безответственно нарушивший режим секретности? — Дело в том, полковник, что не все согласны с выводами специальной группы, — с искренней готовностью помочь, которая слышалась в голосе, пояснил Беннелл, однако от Леланда не укрылся и легкий оттенок превосходства. — Некоторые же вообще полагают, что предание результатов исследования огласке не вызовет никакой катастрофы, что доклад в принципе неверен. — Я так не считаю, — сухо заметил полковник Фалькирк. — А вы, лейтенант Хорнер? — обратился он к сидящему у двери помощнику. — Я полностью с вами согласен, полковник, — откликнулся Хорнер. — Если уж и предавать эти сведения огласке, то не сразу, нужно сперва подготовить общественное мнение, а на это потребуются годы, может быть, десятилетие. И даже в этом случае… Леланд одобрительно кивнул ему. — Я слишком хорошо знаю своих соотечественников, доктор, и, поверьте мне, большинству из них вряд ли удастся приспособиться к новым условиям жизни, которые неминуемо последуют после огласки открытий. Наступит хаос, рухнут все политические и социальные устои общества. Все будет именно так, как предсказывается в специальном докладе. — Вы имеете право на собственную точку зрения, — пожал плечами Беннелл, но в тоне его голоса полковнику слышалось: «Даже если это точка зрения невежды, глупца и самодура». — А вы сами, доктор Беннелл? — наваливаясь грудью на стол, спросил Фалькирк. — Вы разделяете выводы специальной группы? — Полковник, я не тот, кого вы ищете, — уклончиво ответил доктор Беннелл. — Я не посылал записок и фотографий Корвейсису и Блокам. — О'кей, доктор, в таком случае могу ли я рассчитывать на вашу помощь в допросе всех участников проекта с применением наркотических препаратов? Мне думается, пентотал натрия, не говоря уже о других веществах, известных вам, поможет нам больше, чем детектор лжи. — Мне кажется, многие станут категорически возражать, — нахмурился доктор Беннелл. — Это люди высочайшего интеллекта, полковник, их жизнь полностью подчинена их интеллектуальной деятельности, и они не станут рисковать своими умственными способностями: кто знает, как эти препараты могут на них сказаться? Ведь не исключены и побочные эффекты. — Эти препараты не вызывают никаких нежелательных последствий, они вполне надежны. — Возможно, что в большинстве случаев это и так, полковник. Но некоторые сотрудники могут отказаться от них по моральным соображениям. Все-таки это наркотики, не забывайте, полковник, и кое-кто считает, что их применение не может быть оправдано никакими, даже самыми благородными, намерениями. — Доктор, я буду настаивать на допросе с использованием специальных препаратов всех лиц, осведомленных о секретных сведениях или причастных к исследованиям. Я буду добиваться поддержки генерала Альварадо. — Альварадо являлся начальником хранилища «Скала Громов», и полковник Леланд любил его не больше, чем доктора Беннелла, потому что терпеть не мог штабных бюрократов, высиживающих карьеру крепкой задницей. — Если генерал одобрит применение наркотических веществ для расследования, — продолжал полковник, — и после этого кто-то из ваших людей осмелится возражать, я не стану с такими миндальничать. Это касается и вас. Надеюсь, вы поняли меня, доктор Беннелл? — Да, вполне! — без тени волнения на лице ответил тот. Полковник с отвращением отодвинул в сторону стопку папок. — Все затягивается, черт возьми! — воскликнул он. — А мне нужно срочно найти предателя, теперь, а не через месяц! Нужно отремонтировать детектор лжи, немедленно! — Он встал, намереваясь уйти, но тотчас же снова сел, словно бы ему вдруг пришла в голову какая-то мысль, хотя на самом-то деле именно эта мысль и привела его в офис Беннелла. — Скажите, доктор, у вас сложилось какое-то мнение о том, что происходит с Кронином и Корвейсисом? Что это, на ваш взгляд, за чудесные исцеления? Что за странные феномены? Доктор Беннелл наконец утратил контроль над своими чувствами: он опустил руки, сцепленные на затылке, и подался в кресле всем корпусом вперед. — Вас это чертовски пугает, полковник, — с откровенным злорадством произнес он. — Вы не допускаете даже мысли о том, что могут быть какие-то иные, не столь ужасающие объяснения всему происходящему. Вы зациклились на каком-то катаклизме и не испытываете ничего, кроме страха. Я же считаю, что это — величайший момент в человеческой истории. Но так или иначе нам необходимо побеседовать с Кронином и Корвейсисом. Нужно им все рассказать и привлечь их к сотрудничеству. Может быть, совместными усилиями нам удастся выяснить, как они обрели эти удивительные способности. Мы не можем просто уничтожить их или подвергнуть еще одному промыванию мозгов, не выслушав их ответов на все интересующие нас вопросы. — Если мы расскажем правду всем свидетелям из мотеля и не сотрем после этого снова их память, мы не сможем обеспечить секретность, — возразил полковник. — Возможно, что и так — согласился Беннелл. — И, если дело лишь в этом, тогда… нужно просто сделать эти открытия достоянием общества. Черт побери, полковник, сейчас нет ничего важнее, чем изучение феноменальных способностей Кронина и Корвейсиса! Необходимо не только изучить их, но и предоставить возможность развить свой непонятный талант. Когда вы намереваетесь взять их под стражу? — Сегодня же вечером, не позже. — Значит, мы можем надеяться, что ночью вы их к нам доставите? — Да. — Леланд снова встал со стула, взял шинель и подошел к двери, где его ждал лейтенант Хорнер. — Доктор, — обернувшись к Беннеллу, вдруг произнес он, — как вы определите, что Кронина и Корвейсиса не подменили? Вы полагаете, что ими не могли овладеть. А если вы заблуждаетесь? Если они уже не люди и не хотят, чтобы вы знали всю правду? Как вы это узнаете? Ведь им, очевидно, ничего не стоит обмануть детектор лжи и нейтрализовать специальные препараты. — Да, вы правы, над этим стоит призадуматься, — нахмурился доктор Беннелл, вставая с кресла и засовывая руки в карманы халата. — Ведь это настоящий вызов нам, черт возьми! Мы ломаем голову над этой проблемой уже с воскресенья, с тех пор, как вы нам доложили об их новых возможностях. Мы подходили к ней с разных сторон, взвешивали все «за» и «против» и в конце концов пришли к заключению, что можем решить эту проблему. Мы разработали новые медицинские и психологические тесты, весьма хитроумные, и надеемся с их помощью точно определить, заражены ли они каким-то неизвестным вирусом или нет, а также и… а также и люди они, в конце концов, или уже нет. Мне думается, что ваши опасения абсолютно беспочвенны. Сперва мы тоже полагали, что заражение, вернее, то, что вы называете овладением, представляет опасность, но вот уже год, как мы убедились, что это не так. Я считаю, что они могут оставаться людьми, но при этом иметь эти способности. Я не сомневаюсь, что они — полноценные представители человеческой расы. — Я с этим не согласен! Мои опасения вполне обоснованны. И если Корвейсиса, Кронина и остальных подменили, а вы тешитесь надеждой добиться от них правды, то вы просто обманываете самого себя. Если их подменили, они теперь настолько выше вас, что ввести вас в заблуждение для них сущие пустяки. — Но ведь вы даже не выслушали, что мы придумали! — И вот что еще я должен вам сказать, доктор Беннелл, — вновь перебил его полковник. — Возможно, вам это не приходило в голову, но я не могу этого не принимать во внимание. Быть может, это поможет вам понять мою позицию, с которой до сих пор вы не склонны были считаться. Неужели вы не осознаете, что я вынужден подозревать и опасаться не одних лишь свидетелей из «Спокойствия»? С тех пор как нам стало известно о последних событиях, об этих паранормальных способностях, я опасаюсь даже вас, доктор Беннелл. — Меня? — переспросил, вытаращив на полковника изумленные глаза, доктор Беннелл. — Доктор, вы уже давно здесь занимаетесь этим вопросом. Вы целыми днями не вылезаете из пещеры, проводите лабораторные анализы, исследуете всю эту чертовщину вот уже восемнадцать месяцев, изо дня в день, лишь три раза взяв за все это время короткий отпуск. Если Корвейсиса и Кронина подменили за несколько часов контакта, как же мне не подозревать вас, контактирующего с этим объектом уже полтора года? Беннелл какое-то время молча смотрел на полковника, не в силах что-либо сообразить после такого шокирующего заявления, но наконец пришел в себя: — Но ведь это совершенно разные вещи! Я приступил к исследованиям уже после того, как все произошло. По сути дела, я всего лишь… ну, что-то вроде пожарного, мне достались одни головешки. Возможность овладения или заражения, если она вообще была, существовала лишь в самом начале, в первые часы, но не позже. — Откуда мне знать? — холодно бросил Леланд. — Где гарантии? — Но мы приняли все меры предосторожности, вам это известно… — Мы имеем дело с неизвестным, доктор, и не можем предвидеть всех последствий, в этом суть проблемы. А предохраниться от неизвестного просто невозможно. — Нет, нет и нет! — яростно затряс головой Беннелл. — Только не это! — Если вам кажется, что я преувеличиваю свою озабоченность данной проблемой, — продолжал полковник, — если вы думаете, что я хочу просто позлить вас, поиграть на ваших нервах, то задайтесь вопросом, отчего лейтенант Хорнер на протяжении нашей милой беседы не спускал с вас глаз, сидя на стуле возле двери. Ведь, как вам известно, он специалист по детекторам лжи и мог бы давно уже заняться их ремонтом, чтобы не терять попусту время. Но я не хотел оставаться с вами в комнате наедине, доктор, ни при каких обстоятельствах. — Вы хотите сказать, что я мог каким-то образом… — оторопело заморгал Беннелл, но полковник вновь перебил его: — Да, доктор, вы могли бы попытаться изменить и меня. Я не знаю, как именно, но вы могли бы напасть на меня, заразить, выкачать из меня человеческий дух и вместо него поместить в мое тело нечто другое. — Леланда всего передернуло при одних этих словах. — Я не знаю, как это лучше объяснить, но мы с вами понимаем, о чем идет речь. — Более того, мы не были уверены, что справимся с вами даже вдвоем, — вставил лейтенант Хорнер, и металлические стены задрожали от его рокочущего баса. — Я не спускал с вас глаз, доктор, и все время держал пистолет в кармане наготове. От удивления Беннелл раскрыл рот. — Доктор, вы, наверное, думаете, что я просто подозрительный мерзавец, готовый в любой момент спустить курок, неисправимый человеконенавистник и законченный фашист. На самом же деле я просто выполняю свой долг, который заключается не только в том, чтобы сберечь секрет, но и в том, чтобы защитить общество от грозящей ему опасности. Я обязан предвидеть самое худшее и действовать соответствующим образом, учитывая все возможные трагические последствия, — отчеканил Леланд. — Боже милостивый! — воскликнул Беннелл. — Вы оба законченные параноики, вот вы кто! — Я знал, что вы именно так и отреагируете, — заключил Леланд. — Пошли, Хорнер. Нужно отремонтировать полиграф. Хорнер вышел из офиса, и Леланд уже было последовал за ним, но Беннелл отчаянно закричал: — Стойте, полковник, подождите! Прошу вас! Леланд с беспокойством обернулся на бледного, заросшего черной бородой человека. — Хорошо, полковник, все о'кей. Я, кажется, понял, почему вы столь подозрительны. Согласен, это входит в ваши обязанности, хотя все равно это какое-то безумие. Подумайте сами: ведь это совершенно невероятно, чтобы в меня или в моих коллег вселилось нечто потустороннее. Это исключено. Но вы готовы убить меня, если я покажусь вам не внушающим доверия, и вы с таким же успехом, видимо, способны разделаться и со всеми моими помощниками, если вам покажется, что их тоже подменили. Верно? — Именно так я и поступлю. Можете быть уверены. — Но если допустить, что меня и моих сотрудников подменили, что я совершенно исключаю, потому что этого просто не может быть, тогда почему бы и не предположить, что подменили вообще всех работающих здесь? И не только тех, кто работает непосредственно с объектом, но и всех остальных, как военных, так и гражданских специалистов, включая самого генерала Альварадо? — Я вполне допускаю и такое. — И вы всех их готовы будете уничтожить? — Да, всех до одного. — Бог мой! — Если вы задумали меня выдать, — предупредил Леланд, — то имейте в виду, что вам не удастся выйти из хранилища. Я все предусмотрел еще полтора года назад: еще тогда я ввел в компьютер новую специальную программу, код которой известен только мне одному. — Вы хотите сказать, что вы намерены заточить всех нас здесь?! — с негодованием воскликнул доктор Беннелл. — Да ведь вы и не рассказали бы мне этого, если бы уже не задействовали новую программу, — тихо добавил он. — Вы угадали, — улыбнулся Леланд. — Сегодня, входя сюда, я приложил к идентифицирующей пластине не только свою правую, но и левую ладонь. Это был условный сигнал для компьютера перейти на новую программу. Отныне никто не сможет выйти из хранилища, кроме меня и лейтенанта Хорнера, пока я не решу, что безопасности объекта ничто не угрожает. С этими словами Леланд Фалькирк покинул офис доктора Беннелла, весьма довольный собой: он наконец-то утер нос этому невыносимому зазнайке, пусть для этого и понадобилось полтора года. Он мог бы пойти еще дальше и вообще поставить ученого на колени, если бы открыл ему еще один свой секрет. Но полковник не сделал этого, чтобы не осложнять себе осуществление заветного плана. А план его заключался вот в чем: Фалькирк твердо решил уничтожить всех и вся в этом хранилище в случае, если ему станет ясно, что его персонал заражен и человеческим остался только один облик этих людей. При таком повороте дела он намеревался взорвать весь рассадник заразы, не оставив от него камня на камне. Правда, было одно «но»: при таком варианте решения проблемы он тоже должен был бы погибнуть. Тем не менее полковник Леланд Фалькирк был готов к этой жертве во спасение человечества.* * *
Поспав пять с половиной часов, Жоржа приняла душ, оделась и прошла в квартиру Блоков, где нашла Марси сидящей за кухонным столом рядом с Джеком Твистом. Жоржа замерла на пороге кухни и некоторое время наблюдала за ними, оставаясь незамеченной. Рано утром, около пяти часов, Жоржа, Джек и Брендан встретились на рынке в городе со второй группой выехавших из мотеля, после чего отправились отдыхать, и Джек лег на полу в жилой комнате у Блоков, чтобы девочка не испугалась, проснувшись одна в чужой квартире: Фэй и Эрни предстояло отправиться каждому по своим делам. Жоржа предлагала перенести девочку в свою комнату, но Джек заверил ее, что совсем не прочь побыть некоторое время няней. «Послушайте, — сказал он, — Мар-си спит в одной постели с Фэй и Эрни. Если мы станем сейчас переносить ее, мы их всех разбудим, а им необходимо выспаться». Жоржа попыталась возразить — в том духе, что Марси заснула раньше остальных и поэтому откроет глаза, когда Джек еще будет спать, и разбудит его. Но Джек стоял на своем: пусть уж лучше она разбудит его, чем он ее, потому что он вообще мало спит. На это Жоржа ответила: «Это очень мило с вашей стороны, Джек!», а он кокетливо воскликнул: «Да я просто святой!», а она вполне серьезно сказала, что он самый лучший из всех встречавшихся ей парней. Она укрепилась в этом мнении во время их ночной автомобильной прогулки по улочкам Элко, обнаружив, что Джек не только сообразителен, вежлив и эрудирован, но к тому же и умеет слушать других. Брендан уже в половине второго заявил, что силы его покинули, и тотчас же уснул, свернувшись калачиком на заднем сиденье. Вот когда Жоржа наконец-то и осознала, что ее внутренний протест против того, чтобы священник поехал вместе с ними, был вызван ее подспудным желанием остаться с Джеком Твистом наедине. Как только Брендан перестал ей мешать, она, поддавшись чарам Джека, излила ему свою душу, рассказав о себе больше, чем рассказывала кому-либо с тех пор, как разлучилась в шестнадцать лет со своим самым близким другом-ровесником. Она знала Джека менее полусуток, а обсудила с ним и узнала от него столько, сколько ей не удалось за семь лет совместной жизни с Аланом. И сейчас, затаившись перед дверью на кухню в квартире Блоков, Жоржа увидела еще одну хорошую сторону его натуры: умение непринужденно болтать с ребенком, не проявляя при этом ни толики снисходительности или скуки, что дано лишь немногим взрослым. Он шутил, расспрашивал Марси о ее любимых песенках, кушаньях, фильмах и даже помогал ей раскрасить одну из очередных лун в ее альбомчике. Но Марси впала в глубокий транс, она не отвечала Джеку, лишь изредка бросая на него отсутствующий или недоумевающий взгляд, что, однако, не обескураживало его, и Жоржа догадалась почему: ведь он восемь лет разговаривал со своей несчастной любимой женой, которая не могла ему ответить, так что у него выработался устойчивый навык общения подобного рода, требующий завидного терпения. Несколько минут Жоржа еще стояла за дверным косяком, наблюдая за Джеком и страдая от мучительного зрелища приступа аутизма у своей дочери, и наконец не выдержала и вошла в кухню. — Доброе утро! — приветствовал ее Джек, поднимая голову от альбома с алыми лунами. — Выспались? Давно уже здесь стоите? — Не очень, — смущенно ответила она. — Марси, пожелай доброго утра маме, — сказал Джек. Но Марси даже не взглянула на Жоржу, продолжая раскрашивать Луну. Жоржа подметила во взгляде Джека заботу и симпатию к ним обеим. — Собственно говоря, уже почти полдень, — ответила она и, подойдя к дочери, подняла ей голову, взяв за подбородок. Марси секунду смотрела ей прямо в глаза и тотчас же отвернулась. Ее пустой и страшный взгляд напугал Жоржу, она отпустила подбородок девочки, и та снова уткнулась в альбом, с еще большим рвением нажимая на свой красный фломастер. Джек встал, отодвинув свой стул от стола, и подошел к холодильнику. — Проголодались? — спросил он Жоржу. — Лично я просто умираю от голода. Марси уже поела, а я решил дождаться вас, чтобы вместе позавтракать. — Он потянул на себя дверцу. — Как насчет яичницы с ветчиной и гренок? Или омлета с сыром, луком и зеленым перцем? — Вы, оказывается, еще и неплохой повар! — Но мне никогда не занять первого места на кулинарном конкурсе, — рассмеялся Джек. — Хотя есть мою стряпню и можно, более того — можно даже угадать, что же за блюдо я ставлю перед вами на стол. — Он порылся в морозилке. — Я вижу тут замороженные вафли, подогреем-ка их к омлету. — Мне все равно, — пожала плечами Жоржа, с грустью следя за склонившейся над альбомом дочерью. Аппетит у нее уже почти пропал. Джек тем временем набрал из холодильника в охапку пакет молока, упаковку сыра, несколько яиц, луковицу, стручок зеленого перца и собрался все это резать и смешивать на доске рядом с раковиной. Когда он начал разбивать над миской яйца, Жоржа, покосившись на Марси, подошла к нему и тихо спросила: — Она в самом деле позавтракала? — Конечно, — шепотом ответил он. — Съела кашу, гренки с мармеладом и арахисовым маслом. Мне, правда, пришлось ей помочь, вот и все. Жоржа старалась не думать о том, что Доминик рассказал ей о Зебедии Ломаке, а тем более — об Алане, тоже увлекавшемся в последнее время Луной, но никак не могла отделаться от мысли, что ребенку справиться с этим наваждением, вызванным событиями 6 июля и последовавшим за ними промыванием мозгов, практически невозможно. Она невольно расплакалась. — Ну, ну же, не плачьте, — тихо сказал Джек. — Слезами горю не поможешь. С ней все будет хорошо, я вам обещаю. Вот послушайте: ведь только сегодня утром Доминик говорил, что он не видел во сне кошмаров и не ходил по комнате, а Эрни уже меньше боится темноты. И знаете почему? Да потому, что блокада памяти начала разрушаться, следовательно, уменьшилось и давление на психику. Ведь мы теперь — как одна семья. Так что пусть вас не пугает, что Марси стало немного хуже, она тоже поправится, я в этом не сомневаюсь. Он обнял ее за плечи — и она, ощущая исходящие от него уверенность и силу, прильнула к нему. Жоржа была довольно высокой для женщины, почти одного роста с Джеком, но рядом с ним она чувствовала себя надежно защищенной — как ребенок на руках у отца. Ей вдруг вспомнилось то, о чем она размышляла в самолете: люди, думалось ей тогда, не созданы для одиночества и единоборства с жизненными невзгодами, они по своей природе нуждаются в дружеской поддержке и участии, сострадании и любви. И сейчас она особенно остро желала обрести такую поддержку, а Джек, в свою очередь, испытывал потребность реализовать свой потенциал мужественности, и это совпадение стремлений вселяло в них обоих уверенность, придавало новый смысл их жизни. — Омлет с сыром, специями, поджаренным луком и кружочками зеленого перца, — шептал он ей на ухо, словно чувствуя, что силы вернулись к ней. — Как вам это нравится? — Это просто восхитительно, — тоже шепотом ответила Жоржа, неохотно отстраняясь от него. — И еще один ингредиент, — сказал он, — ведь я предупреждал, что никогда не получу приза за свое кулинарное искусство: я всегда роняю в омлет кусочек скорлупы, как бы я ни старался не допустить этого. — В этом-то и секрет хорошего омлета, — озорно улыбнулась Жоржа. — В дорогих ресторанах всегда добавляют в омлет чуточку скорлупы. — В самом деле? А косточку в рыбное филе? — И кусочек копыта в каждую порцию вырезки. — А кусочек рога в шоколадный мусс? — Непременно! И сапожный гвоздь в крюшон. — И черствую ватрушку в яблочный пудинг? — Так мы бог знает до чего договоримся, — расхохоталась Жоржа. — Верно, пошутили — и довольно! Итак, к столу! Не желаете ли кусочек сыра к омлету? — С удовольствием! Они принялись с аппетитом уплетать омлет, не обращая внимания на Марси, которая тем временем продолжала рисовать и раскрашивать все новые и новые луны, монотонно бормоча себе под нос только одно слово: «Луна, Луна, Луна…»* * *
А тем временем в Монтерее, штат Калифорния, Паркер Фейн едва не угодил в сети коварного паука-ктенизида и посчитал, что ему очень повезло, что он выбрался из хитроумной ловушки живым. Паук предстал перед ним в образе соседки Салко, дамы по имени Эсси Кро, в точности перенявшей повадки прожорливой паучихи этого вида, имеющей обыкновение поджидать жертву в норке или ямке, затянув отверстие тончайшей паутиной. Гнездышко Эсси Кро являло собой миленький особнячок в испанском стиле, с изящными арками, зеркальными стеклами в окнах и пышными цветами в терракотовых горшках на галерее. Взглянув на все это благолепие, Паркер смело нажал на кнопку дверного звонка, ожидая встречи с обаятельными и благородными хозяевами, но стоило ему увидеть Эсси Кро, распахнувшую перед ним дверь, как он тотчас же понял, что попал в беду. Узнав, что Фейн интересуется семьей Салко, она схватила его за рукав, втянула в прихожую и захлопнула дверь, всем своим видом выражая решимость не выпускать жертву, пока не высосет из нее всю имеющуюся у нее информацию, ибо, подобно коварной паучихе, питающейся беззаботными букашками, мушками и блошками, Эсси Кро насыщалась сплетнями. Внешне Эсси походила, однако, больше на птицу, чем на паучиху. Но не на тощую, тонкошеюю и плоскогрудую воробьиху, а скорее на упитанную морскую чайку. Она проворно передвигалась по дому и на птичий манер слегка склоняла вбок голову, сверля собеседника маленькими, птичьими же глазками. Проведя гостя в гостиную и усадив его в кресло, она предложила ему кофе и, несмотря на его упорное увиливание и отнекивание, принесла не только кофе, но и масляное печенье, причем так быстро, что Паркер заподозрил: угощение для доверчивых визитеров у нее всегда наготове, как и ловушка у пауков-ктенизидов. Эсси была явно разочарована, узнав, что Паркер ровным счетом ничего не знает о семье Салко. Но, поскольку он не был другом этого семейства, можно было смело использовать его уши, чтобы влить в них все накопившиеся у нее наблюдения, размышления, предположения и замыслы весьма невысокого толка. Паркеру даже не пришлось задавать вопросов, чтобы разузнать что-то об интересующих его людях. Оказалось, что Донна Салко, супруга Джеральда, слишком нахальна, крикливо-эффектна, притворно-любезна и вообще не натуральная, а крашеная блондинка. А худая она потому, что либо алкоголичка, либо неврастеничка, испытывающая отвращение не только к пище, но и к своему второму мужу, и то, что они уже восемнадцать лет как женаты, еще ни о чем не говорит, все равно они скоро разведутся. Что же касается их 16-летних девочек-двойняшек, так свет еще и не видывал более взбалмошных, необузданных, похотливых и распущенных девиц. После такой характеристики у Паркера невольно встали перед глазами стаи озабоченных молодых людей, рыщущих вокруг дома Салко, словно кобели, почуявшие течку у сук. Джеральду Салко, отцу этих двух перезревших невест, принадлежали в Кармеле две художественные галереи и антикварный магазин, что было довольно странно слышать в свете высказываний о нем Эсси как о запойном бездельнике и тупоголовом болване, лишенном деловой хватки. О каких доходах могла идти речь? Паркер едва пригубил кофе и не притронулся к печенью, сытый по горло жуткими сплетнями, выходящими за всякие рамки приличия, которые она выплескивала на него с энтузиазмом, граничащим с экзальтацией. Ему совершенно не хотелось ни изображать из себя благодарного слушателя, ни восторгаться ее кулинарными способностями. Тем не менее он почерпнул из этого мутного словесного потока немало полезного для себя. Салко ни с того ни с сего вдруг надумали отправиться на курорт на недельку и так торопились поскорее убежать от всех забот и предаться полному безделью, что даже не удосужились сообщить название гостиницы, где их в случае необходимости можно было бы разыскать. — Он позвонил мне в воскресенье, — трещала Эсси, — и сообщил, что они уезжают и не вернутся до понедельника, то есть до двадцатого числа, и попросил, как обычно, присмотреть за их домом, словно у меня нет других занятий, кроме как следить за жилищем бродяг и бездельников. У меня своя жизнь, и я не намерена тратить ее попусту, выслеживая жуликов и грабителей возле их хором. — Вы видели, как они уезжали? — на всякий случай уточнил Паркер. — Нет, хотя и выглядывала из окна пару раз… Скорее всего я пропустила момент отъезда, — пожала плечами Эсси. — А девочки тоже поехали с ними? — спросил Паркер. — Разве они не ходят в школу? — Вы знаете, они учатся в так называемой «прогрессивной» школе, чересчур прогрессивной, я бы сказала, и там у них принято рассматривать путешествия как дополнение к обязательной учебной программе. Вы слышали что-либо подобное? — А какой у мистера Салко был голос, когда он разговаривал с вами по телефону? — Обычный, как всегда. Что вы имеете в виду? — Он не показался вам слегка нервным, напряженным? Эсси поджала губки, вздернула голову и вперила в Паркера свои птичьи глазки, вспыхнувшие тревожным огнем в предвкушении назревающего скандала. — Знаете, мне кажется, что голос у него был действительно странный. Я сама как-то не придала этому значения, подумала, что он просто пьян. Он как-то запинался, заикался… Вы полагаете, он решил лечь подлечиться или же… Но Паркеру было вполне достаточно того, что он услышал. Не дав Эсси закончить мысль, он встал и с решительным видом направился к выходу, ловко увертываясь от преграждавшей ему дорогу к свободе хозяйки дома. В отчаянии та уже готова была потчевать неблагодарного гостя чаем вместо кофе, слоеным яблочным пирогом и даже миндальными марципанами. И лишь несгибаемая воля, сделавшая его великим художником, помогла Паркеру сперва добраться до парадной двери, потом проскользнуть в нее бочком и наконец очутиться на галерее. Хозяйка провожала его до машины, и взятая напрокат маленькая «Темпо» рвотно-зеленого цвета показалась ему в этот момент прекраснее «Роллс-Ройса», ибо она уносила его прочь от Эсси Кро. Нажимая на газ, Паркер продекламировал отрывок из стихотворения Колриджа[77], показавшийся ему как нельзя более уместным в данной ситуации:* * *
Нед и Сэнди Сарвер — вторая группа, выезжавшая на машине в Элко, — встретились с Джеком, Жоржей и Бренданом на рынке в четыре утра, после чего до половины восьмого кружили по городу и в восемь часов вернулись в мотель, чтобы перекусить и немного вздремнуть перед предстоящим трудным днем, который для некоторых из их товарищей уже наступил. Нед проснулся через два часа, но вылезать из теплой постели не торопился: лежа в полутемном номере, он наблюдал за спящей Сэнди. Любовь его к этой женщине была подобна величавой глубокой реке, способной унести их обоих далеко-далеко, в лучшие времена и места, недосягаемые для мирских тревог. Нед грустно вздохнул, подумав, что ему не дано выразить свои чувства словами. Если бы он умел говорить так же складно, как чинить веши! Всякий раз, когда он пытался облечь переполняющие его нежные чувства в словесную оболочку, у него либо отнимался язык, либо получалась какая-то невразумительная чушь, и тогда Нед готов был променять свой дар непревзойденного ремонтника на умение составлять доходчивые фразы. Нед наконец заметил, что Сэнди уже проснулась, и спросил: — И долго ты еще будешь притворяться? Сэнди открыла глаза и улыбнулась. — Ты так смотрел на меня, что я испугалась, как бы ты не проглотил меня живьем, и решила прикинуться спящей. — Выглядишь ты весьма аппетитно, это точно! Она откинула одеяло и, обнаженная, заключила мужа в свои объятия. Их обоих захлестнуло волной нежности и увлекло в стремнину пылкой страсти, в которой они уже вполне освоились за последний год их бурной супружеской жизни. Когда из пучины безумного экстаза их наконец вынесло на светлый берег неги, которой они предавались, взявшись за руки и лежа бок о бок, Сэнди вымолвила: — Нед, я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете! С тех пор как мы встретились в Аризоне и ты взял меня под свое крыло, ты все делал для этого. И сейчас, Нед, я настолько счастливая, что даже не боюсь смерти. — Не смей так говорить, — строго произнес Нед, приподнимаясь на локте. — Мне это не нравится. Я становлюсь суеверным. Ведь из-за всех этих свалившихся на нас напастей, вполне вероятно, кто-то из нас погибнет. И я не хочу, чтобы ты дразнила судьбу. Чтоб я больше не слышал таких слов! — Нед, вот уж чего не замечала за тобой, так это суеверия! — удивилась Сэнди. — Ну, видишь ли, теперь ведь и я изменился. И мне не нравится, что ты говоришь подобные глупости. Разве от счастья умирают? Ты меня поняла? Не смей даже думать об этом! Он снова обнял ее и привлек к себе, прижав к груди так крепко, что чувствовал биение ее сердца. Но вскоре он перестал ощущать эти сильные размеренные удары, потому что их сердца забились в одном ритме, как одно большое сердце.* * *
В особняке семьи Салко в Монтерее Паркер Фейн искал две вещи, которые помогли бы ему выполнить его обязательства перед Домиником. Во-первых, он надеялся найти доказательства того, что семья действительно отправилась на курорт в Напа-Соному: какой-нибудь рекламный проспект отеля или адресный справочник, чтобы позвонить и уточнить, благополучно ли они добрались до места и устроились. Он также не исключал, что обнаружит следы их насильственного захвата: перевернутую мебель, пятна крови на паркете или что-либо в этом же роде. Конечно, Доминик просил его всего-навсего поговорить с этими людьми, и его вряд ли обрадовали бы предпринятые Паркером в отсутствие хозяев дома незаконные шаги. Но Фейн привык доводить все дела до конца и сейчас получал удовольствие от того, что делал, хотя ему и было жутковато в пустынном доме. За гостиной располагалась библиотека, за ней — музыкальный салон с пианино, пюпитрами и стульями, двумя футлярами для кларнетов и балетной стенкой для упражнений: очевидно, девочки увлекались музыкой и танцами. Не обнаружив ничего необычного на первом этаже, Паркер стал медленно подниматься по ступенькам дубовой лестницы, устланной плюшевым ковром, наверх, где было уже темно. На площадке между этажами он замер и прислушался. Мертвая тишина. Его ладони вспотели. Он сам не знал, что его вдруг остановило. Возможно, инстинкт. Он много раз говорил себе, что следует прислушиваться к своим неосознанным чувствам. Но, с другой стороны, если кто-то хотел бы на него внезапно напасть, это можно было бы сделать и внизу, где были для этого все условия. Паркер перевел дух и стал подниматься дальше, и, когда он наконец достиг верхней ступени, он наконец услышал какой-то странный звук, нечто вроде слияния коротких сигналов «бип-бип», доносившихся с обоих концов длинного коридора. Паркер решил, что это охранная сигнализация, но тотчас же сообразил, что для сигнала тревоги это попискивание, пожалуй, слабовато. Между тем странный звук продолжал повторяться, каждый раз через одинаковый промежуток времени. Паркер нащупал на стене возле лестницы выключатель и включил свет в коридоре. Он напряженно прислушивался, надеясь уловить какие-то иные звуки, но ничего, кроме негромких сигналов, не услышал. В этих коротких «бип-бип» было что-то знакомое, но он не мог вспомнить, где уже слышал их. Снедавшее его любопытство было сильнее страха. Паркер вообще был страшно любопытным и, может быть, только благодаря этому и стал известным художником, поскольку любопытство лежит в основе творчества. Поэтому он огляделся по сторонам и осторожно двинулся направо, к одному из источников этих таинственных звуков. В конце коридора звук вновь расслоился надвое, хотя оба сигнала с едва слышным интервалом поступали из-за одной и той же чуть приоткрытой двери в темную комнату. Прижавшись спиной к стене, Паркер толкнул дверь, ожидая, что сейчас на него кто-то прыгнет из мрака, но этого не произошло, лишь загадочное попискивание стало громче. Когда глаза его привыкли к темноте, он обратил внимание, что сквозь плотно задернутые шторы, закрывающие большое окно или балконные двери, просачивается бледный свет. Кроме того, странный зеленый свет исходил откуда-то из глубины комнаты, как раз из того угла, который художнику из-за двери не был виден. Паркер вошел в комнату, щелкнул выключателем и увидел близнецов. Первой его мыслью было, что девочки мертвы. Они с открытыми глазами, не шевелясь, лежали на спине на огромной кровати, затянутые до подбородков одеялами. В следующий момент Фейн сообразил, что зеленый свет и странные сигналы исходили от подсоединенных к девочкам проводами с датчиками мониторов электроэнцефало- и электрокардиографов. К двойняшкам также были подключены капельницы. Сомнений не было: бедняжкам промывали мозги. Судя по обстановке комнаты, это была не детская, а одна из комнат, предназначенных для гостей, — видимо, девочек положили сюда вместе на одну кровать, чтобы легче было проводить процедуру. Но где же сами захватчики и мучители? Неужели эксперты по контролю над сознанием настолько уверены в эффективности применяемых ими наркотических средств, что могут позволить себе оставить семью в доме без присмотра, а сами отправиться обедать в «Макдональдс»? Неужели они не допускают даже мысли о побеге кого-нибудь из своих жертв? Паркер подошел к одной из девочек и склонился над ней. Несколько секунд ее широко открытые глаза оставались неподвижными, потом начали быстро моргать — десять, двадцать, тридцать раз подряд, затем вновь замерли. Девочка не видела Паркера. Он помахал перед ее лицом рукой, но реакции не последовало. На голове у девочки были надеты наушники, соединенные проводом с лежащим на подушке рядом с ней магнитофоном. Паркер наклонился еще ниже, слегка сдвинул один из наушников и услышал мягкий, мелодичный и проникновенный женский голос: «В понедельник утром я проснулась поздно. В этом мотеле замечательно спится, потому что обслуживающий персонал очень внимателен и предупредителен. Можно сказать, что это своего рода загородный клуб, здесь все не так, как в других гостиницах, где горничные уже с раннего утра начинают греметь ведрами и пылесосом в холле. Здесь просто великолепное местечко для отдыха. Как бы мне хотелось снова приехать когда-нибудь сюда! Так или иначе, когда мы наконец встали с постелей, Крисси и я отправились на прогулку, надеясь встретиться с приличными мальчиками, но нам не повезло на этот раз…» Завораживающий тембр женского голоса напугал Паркера, и он поспешно поправил наушники на голове девочки. Вероятно, кто-то из Салко вспомнил то, что пережил в мотеле «Спокойствие» позапрошлым летом, так что эти нежелательные воспоминания пришлось заново стирать и заменять возникший пробел ложными воспоминаниями, повторяя магнитофонную запись много раз. Доминик кое-что объяснил приятелю по телефону, но до сих пор он так до конца и не осознавал всю меру секретности этой тайной операции. Теперь же, услышав этот вкрадчивый шепот, вливающийся в уши девочки, Паркер понял все окончательно. Он обошел кровать и посмотрел на вторую девочку, тоже отчаянно моргавшую через определенныеинтервалы. Ему в голову пришла мысль отсоединить все эти проволочки и вынести девочек из дома, пока не вернулись их захватчики, потом найти телефон и позвонить в полицию… Внезапно он почувствовал, что за ним наблюдают, и резко обернулся, отскочив в сторону. Трое мужчин — двое из них в темных матерчатых брюках и белых рубашках с расстегнутыми воротниками и закатанными рукавами и один в очках, костюме и при галстуке — настороженно смотрели на него из дверного проема. Это явно были правительственные агенты. Один из них спросил: — Ты кто такой, черт бы тебя побрал? Без лишних слов Паркер в три прыжка пересек комнату и с разбега вышиб плечом застекленную дверь на балкон, на ходу моля Бога о том, чтобы шторы не оказались слишком широкими, а стекла — слишком узкими и он не запутался бы и не врезался в стену. Однако он прошел между половинками штор и распахнувшимися створками двери, словно локомотив, успев лишь услышать за спиной удивленный вопль да треск рамы и звон осколков, посыпавшихся следом за ним на балкон. Ему очень повезло, что двери были створчатые, а замок слабый. Оглядевшись, Паркер обнаружил, что лежит плашмя на стеклянном столике между двух шезлонгов из красного дерева на балконе второго этажа. Ухватившись за перила балкона, он перемахнул через них и полетел вниз, думая лишь о том, чтобы не упасть на острый сук или жесткий куст. Но и на этот раз художнику повезло — он приземлился на газон, больно ударившись спиной и плечом, но не переломав при этом костей. Фейн перекатился на другой бок, вскочил на ноги и побежал. Внезапно перед ним с легким шорохом разлетелась в стороны листва, и не успел он сообразить, что происходит, как от дерева отскочил кусочек коры, и он наконец понял, что по нему стреляют, причем из пистолета с глушителем, поскольку выстрелов не было слышно. Паркер резко дернулся влево, потом вправо, упал в цветочную клумбу, выбрался из нее, добежал до живой изгороди, перепрыгнул через нее и помчался дальше. Они были полны решимости убить его, чтобы не дать ему никому рассказать о том, что он видел в доме. Теперь они скорее всего поспешно перемещают куда-нибудь, а может, и убивают членов семьи Салко. Но на чьей стороне будет полиция, если убийцы работают на правительство? Есть ли смысл обращаться к властям за помощью? Кому они скорее поверят — взбалмошному и подозрительно одетому художнику с косматой бородой и растрепанными волосами или же трем аккуратным агентам ФБР, которые наверняка найдут благовидное объяснение своему появлению в доме Салко, а Паркера Фейна объявят преступником, которого они пытались задержать. Боже, да ведь они вполне могут и арестовать его прямо в полицейском участке! Паркер припустил еще быстрее. Но не к машине, а вниз по склону оврага и по каменистому руслу ручья, петляя между деревьями и кустами, вскарабкался по другому склону наверх, очутился на чьем-то заднем дворе, пересек, тяжело дыша, газон и побежал вдоль дома. Наконец он оказался на улице, свернул в переулок и пошел медленнее, чтобы не привлекать к себе внимание прохожих, все больше удаляясь от дома Салко. Он знал, что ему следует делать. После всего увиденного он со всей ясностью осознал нависшую над Домиником опасность, и если раньше Паркер представлял ее себе лишь умозрительно, то теперь, познакомившись с ней воочию, прочувствовав собственным нутром и едва не поплатившись за свое любопытство жизнью, он уже не сомневался, что ему нужно срочно лететь в округ Элко. Доминик Корвейсис был его другом, быть может, лучшим другом, а дружба обязывает помогать в беде, не бросать товарища в трудную минуту. Можно было бы поступить проще: плюнуть на все и вернуться к мольберту в уютном доме в Лагуна-Бич. Но тогда Паркер перестал бы быть самим собой, а этого он не смог бы перенести, потому что нравился самому себе таким, каким он был! Нужно было как-то добраться до аэропорта, взять билет на ближайший рейс на Сан-Франциско и оттуда улететь в Неваду. Паркера не беспокоило, что заставшие его в доме Салко агенты могут искать его в аэропорту: ведь они, судя по единственной произнесенной одним из них реплике, не знали, кто он такой, следовательно, скорее всего подумают, что он из местных. Ключи же от «Темпо» с биркой прокатной фирмы лежали у него в кармане, так что раньше чем через два часа установить владельца машины и фамилию человека, взявшего ее напрокат, этим ребятам вряд ли удастся, а к этому времени его уже не будет в городе. Паркер ускорил шаг и вскоре увидел молодого человека лет двадцати, тщательно отмывающего ободья колес желтого «Плимута» выпуска 1958 года — огромной махины с мощной решеткой радиатора и похожими на акулий плавник хвостовыми обтекателями. Паркер подошел к хозяину автомобиля и сказал: — Послушай, у меня сломалась машина, а мне срочно нужно попасть в аэропорт. Может, подвезешь меня туда за пятьдесят зеленых? Парень оказался лихим водителем. Только после третьего крутого виража Паркер решился перевести дух, убедившись, что руль старой махины в надежных и умелых руках. В аэропорту он купил билет на вылетавший через десять минут в Сан-Франциско самолет компании «Вест-Эйр», благополучно поднялся на борт лайнера и уже в воздухе начал думать о том, как бы поскорее добраться из Сан-Франциско в Рино.* * *
Джек Твист методично переходил от одного окна в квартире Блоков к другому, высматривая признаки наблюдательных постов противника. Он не сомневался, что за домом и гриль-баром наблюдают, и был уверен, что засечет наблюдающих, как бы умело они ни маскировались, потому что у него имелся для этого специальный прибор. Этот прибор Джек Твист захватил с собой из Нью-Йорка вместе с другими полезными приспособлениями, и назывался он «тепловой анализатор HS-101». Он походил на блестящий лучевой пистолет-бластер из фантастических фильмов, только вместо ствола у него был объектив диаметром два дюйма. Держа рукоятку в руке, с его помощью можно было видеть не только увеличенное изображение деталей ландшафта, но и контуры находящихся в поле зрения источников теплового излучения, однако не всех подряд, а только крупного размера. От чуткого ока этого хитроумного прибора шпионов не спасли бы даже изолирующие лыжные костюмы. Джек потратил немало времени на изучение северных окрестностей мотеля — той стороны, с которой он сам пришел накануне ночью, — прежде чем решил, что оттуда за «Спокойствием» не наблюдают, и перешел к окнам, выходящим на запад. Не обнаружив и там ничего подозрительного, он приступил к осмотру местности, видной из южной части квартиры. Марси докрасила последнюю Луну в альбоме и, заинтересовавшись прибором в его руках, встала с ним рядом. Быть может, она привязалась к нему, потому что он был к ней внимателен, все время терпеливо разговаривал с девочкой, хотя сама она и скупилась на ответы, или ей просто было рядом с ним спокойнее, только она не отходила от него ни на шаг. Жоржа тоже присоединилась к ним, и, хотя она и молчала, ее присутствие отвлекало его внимание гораздо сильнее, чем присутствие Марси, что объяснялось, во-первых, тем, что она была поразительно красивой женщиной, а во-вторых, тем, что Жоржа ему определенно нравилась. Как, впрочем, и он ей, хотя, конечно, не как мужчина, потому что в этом смысле ничего привлекательного в себе Джек не видел: явный уголовник, с лицом, похожим на истоптанный башмак, не говоря уже о косом глазе. Но ведь они могли же стать просто друзьями, и это было бы замечательно! Наконец, перейдя в гостиную, Джек засек то, что искал: на фоне заснеженного ландшафта высветились цифры, свидетельствующие о крупном источнике тепла. Переключив прибор на телескопическое наблюдение, он вскоре увидел в пятистах ярдах к югу от дома двух мужчин в маскировочных костюмах и удовлетворенно рассмеялся. Помня, что у стен имеются электронные уши, Жоржа не стала уточнять, что именно он разглядел. У одного из распластавшихся на холодной земле мужчин Джек заметил на груди бинокль, но как раз в этот момент шпиону не пришло в голову им воспользоваться, так что он и не подозревал, что Джек наблюдает за ним из окна. Джек переместился к окнам, выходящим на восток, но никого там не увидел. Следовательно, наблюдение велось исключительно с южной стороны: видимо, противник посчитал, что этого вполне достаточно, поскольку из одной точки можно было следить и за мотелем, и за единственной ведущей к нему дорогой. Люди полковника Леланда Фалькирка недооценили Джека Твиста. Они знали его прошлое, знали его возможности, но не до конца. В половине второго появились первые снежинки. Они медленно кружились в воздухе, плавно опускаясь на землю, и не обещали сильного снегопада. В два часа дня, когда из поездки по окрестностям хранилища в Скале Громов вернулись Доминик и Эрни, Джек сказал: — Знаешь, Эрни, когда повалит настоящий снег, кому-то из проезжающих по шоссе может прийти в голову переждать его в мотеле, поскольку напротив входа стоят машины. Лучше бы отогнать мой «Чероки» и грузовик Сарверов подальше за дом. Зачем нам здесь посторонние? Эрни сразу же смекнул, что на самом деле задумал Джек, и подыграл ему: вместе с Домиником они вышли к машинам и перегнали их к черному ходу. А план Джека, не предназначавшийся для ушей операторов полковника Фалькирка, был весьма прост: дождаться снегопада и незаметно скрыться всем вместе на автомобилях из осажденного мотеля. Тем временем Нед и Сэнди готовили на кухне на всех бутерброды в дорогу. Оставалось лишь дождаться Фэй и Джинджер. Снегопад усиливался. Быстро темнело. В половине третьего уже повалил густой снег и подул сильный ветер. Видимость резко ухудшилась, и наблюдатели на холме, вероятно, начали собирать аппаратуру, чтобы перебраться поближе к мотелю. Джек все чаще поглядывал на часы. Времени было в обрез. Но сказать наверняка, когда оно истечет, он при всем своем желании не мог.* * *
Пока лейтенант Хорнер ремонтировал у себя в офисе детектор лжи, Фалькирк читал нотацию начальнику службы безопасности хранилища майору Фугате и его заместителю лейтенанту Хелмсу, определенно давая им понять, что они в списке подозреваемых в измене. Полковник нажил себе двух врагов, но это не имело значения. Ему не нужно было, чтобы его любили, для него было важно, чтобы его боялись. Он еще не закончил выговаривать майору и лейтенанту, как к ним присоединился генерал Альварадо, мордастый коротышка с толстыми и короткими, как сардельки, пальцами, вислым задом и выпирающим брюхом. Он влетел в комнату с багровым от ярости лицом — прямо от доктора Беннелла. — Это правда, полковник? — закричал он, брызжа слюной. — Скажите мне, это правда, что вы взяли под свой единоличный контроль выход из хранилища и фактически превратили всех нас в заключенных? Строгим, но достаточно почтительным тоном Леланд проинформировал генерала Альварадо о том, что в его компетенцию входит контроль за программированием и эксплуатацией специального компьютера, обеспечивающего пропускной режим, равно как и использование особой программы, в случае необходимости, по собственному усмотрению. — Кто дал вам такие полномочия? — продолжал нажимать Альварадо. — Генерал Максуэлл Д. Ридденхауэр, начальник штаба армии и председатель Объединенного комитета начальников штабов, — сухо ответил Фалькирк. Генерал Альварадо на это раздраженно заметил, что ему прекрасно известно, кто такой Ридденхауэр, но не верится, что непосредственным начальником полковника в данном случае является сам начальник штаба армии. — А почему бы вам, сэр, не позвонить ему? — предложил полковник Фалькирк. Он достал из бумажника визитную карточку и вручил Альварадо: — Вот номер телефона генерала Ридденхауэра. — У меня имеется номер телефона штаба армии, — усмехнулся генерал Альварадо. — Сэр, это не служебный телефон. Это домашний телефон генерала Ридденхауэра, его нет в справочнике. В конце концов, можно его и побеспокоить, это чрезвычайно важный вопрос, сэр. Покраснев еще сильнее, Альварадо выбежал из комнаты, зажав карточку между большим и указательным пальцем и держа ее на вытянутой руке, словно это был какой-то опасный предмет. Спустя пятнадцать минут он вернулся, но уже не красный как рак, а бледный как смерть и пролепетал: — Хорошо, полковник, все в порядке, у вас действительно имеются такие полномочия. Поэтому мне кажется, что отныне командование объектом должно перейти к вам. — Никоим образом, — возразил Леланд. — Начальником хранилища являетесь по-прежнему вы. — Но если я заключенный… — Сэр, ваши приказы сохраняют силу до тех пор, пока они не будут непосредственно мешать мне обеспечивать главную задачу момента: исключить всякую возможность побега из объекта опасных лиц или других опасных существ, — перебил его полковник. Генерал Альварадо недоуменно покачал головой: — Майлс Беннелл сказал мне, что вы… будто бы вы, полковник, всех нас считаете монстрами или чем-то в этом роде, — генерал намеренно употребил это слово, но на лице Фалькирка не дрогнул ни один мускул. — Сэр, — отчеканил он, — как вам должно быть известно, кто-то из сотрудников данного объекта предпринял попытку склонить свидетелей к возвращению в мотель «Спокойствие», видимо, надеясь, что они вспомнят то, что их заставили забыть, и с помощью средств массовой информации вынудят нас раскрыть наш секрет. Я допускаю, что эти предатели действуют из благих намерений, просто будучи убежденными, что эти факты нужно сделать достоянием общественности, и это, вероятнее всего, помощники доктора Беннелла. Однако не исключено, что ими движут и другие, более темные побуждения или силы. — Монстры, — угрюмо повторил генерал Альварадо. Когда детектор лжи был наконец отремонтирован, Леланд дал задание майору Фугате и лейтенанту Хелмсу допросить всех, кто владел секретными сведениями о событиях полуторагодичной давности и их последствиях. — За результаты расследования вы ответите головой, — предупредил полковник. Он был полон решимости расценивать неудачу службы безопасности как еще одно доказательство стремительного распространения заразы среди персонала «Скалы Громов», и не просто падения дисциплины и нравственности, а чрезвычайной и чудовищной инфекции. Если и на этот раз майору и лейтенанту не удастся выявить изменника, пославшего свидетелям сделанные «Поляроидом» снимки, это будет стоить им жизни. Без четверти два Леланд и лейтенант Хорен вернулись в Шенкфилд, оставив весь персонал хранилища запертым в недрах земли. В кабинете без окон полковника ожидали новые неприятные известия, которые сообщил ему Фостер Полничев, шеф чикагского отделения ФБР. Первая новость — о гибели в Эванстоне Шаркла — могла бы быть расценена как хорошая, если бы этот парень не прихватил с собой на тот свет сестру, зятя, а также целое специальное подразделение полиции. Трагическая жестокая развязка этого происшествия стала известна всей стране. Жаждущие крови репортеры будут смаковать кошмарные подробности, пока публика не пресытится ими и не утратит к ним интерес. Мало того, дотошные и нахальные журналисты могут добраться до мотеля «Спокойствие» в Неваде, почуяв в бреде Шаркла толику правды, и даже до Скалы Громов. Но хуже всего было другое: Фостер Полничев сообщил, что «творится нечто неестественное». Резня и стрельба в квартире семьи Мендоза произвели подлинную сенсацию, и теперь дом буквально осаждают телевизионщики и газетчики. Стремясь взять интервью у полицейского Уинтона Толка, вырвавшего мальчика из когтей смерти, того самого Толка, которого недавно самого спас Брендан Кронин, репортеры окружили и его жилище. Как это ни удивительно, но Брендан Кронин, похоже, передал свой поразительный талант Уинтону Толку. Но что еще он ему передал? Только ли загадочные способности? А может быть, и кое-что иное, темное и опасное? Может быть, в полицейского вселилась некая потусторонняя, нечеловеческая сила? Итак, худшие опасения полковника начинали сбываться. Леланд с трудом сдерживал тошноту, слушая Полничева. Агент ФБР докладывал, что Толк не давал прессе никаких интервью. Он фактически не появляется на людях, но рано или поздно он согласится ответить на вопросы журналистов и упомянет Брендана Кронина, от которого ниточка потянется и к Эмми Халбург. Эмми Халбург была еще одним наваждением для полковника. Получив утром сообщение о неожиданно проявившихся у Толка целительных способностях, Полничев отправился к Халбургам, чтобы выяснить, не обрела ли Эмми после исцеления аналогичный дар. Картина, увиденная им в доме Халбургов, настолько потрясла его, что он немедленно изолировал всю семью от прессы и общественности. Теперь все пятеро Халбургов находились на конспиративной квартире ФБР под присмотром шести сотрудников, которым было сказано, что им следует быть при исполнении своих служебных обязанностей постоянно начеку и ни в коем случае не оставаться ни с кем из подопечных наедине. В случае же угроз или неординарных действий со стороны Халбургов их нужно немедленно уничтожать. — Но мне думается, все это уже бессмысленно, — высказал свое мнение Полничев, звонивший из Чикаго. — Я полагаю, ситуация вышла из-под нашего контроля. Мы не в силах удержать стремительное развитие событий и снова загнать джинна в бутылку. Поэтому операцию прикрытия можно смело прекращать и обнародовать все сведения. — Вы сошли с ума! — воскликнул Леланд. — Если дело дошло до того, что мы вынуждены убивать людей, многих людей — всех Халбургов, Толка и его жену, других свидетелей, — и все лишь ради того, чтобы сохранить тайну, цена этой тайны становится чертовски высокой. — Вы забываете, что поставлено на карту! — пришел в ярость Фалькирк. — Поймите же наконец, ради бога, что мы уже не просто пытаемся утаить от общественности информацию, это сейчас уже не имеет почти никакого значения! Мы сейчас пытаемся защитить человеческий род от уничтожения! Если мы станем действовать открыто и потом решим прибегнуть к силе, чтобы удержать заражение, нас заклюют все доброхоты, все политиканы, и мы сами не заметим, как проиграем войну! — Но судя по случившемуся здесь, — возразил Полничев, — опасность не так уж и велика. Я, конечно, приказал своим людям, охраняющим Халбургов, относиться к ним как к источнику повышенной опасности, но, честно говоря, мне не верится, что они опасны. Эта маленькая Эмми… она просто прелесть, а не чудовище. Я не знаю, как эта таинственная сила вселилась в Кронина и передалась от него девочке, но готов ручаться головой, что ничего темного в Эмми нет. Как и во всех остальных. Видели бы вы сами эту чудесную девочку, полковник! Все говорит о том, что свершилось нечто самое потрясающее за всю историю человечества! — Безусловно, — холодно произнес полковник Фалькирк, — именно в этом и хочет уверить нас противник. Если мы позволим убедить себя, что приспособленчество и капитулянтство — это благодеяние, мы будем побеждены без боя. — Но, полковник, если допустить, что Кронин, Корвейсис, Толк и Эмми Халбург заразились и перестали быть людьми или стали какими-то другими, не такими, как мы с вами, тогда зачем им популяризировать свои скрытые возможности, совершая чудесные исцеления или демонстрируя способность управлять на расстоянии различными предметами? В их интересах было бы держать свою силу в секрете и исподволь заражать все больше и больше людей. На Леланда этот аргумент не возымел никакого действия. — Механизм всей этой чертовщины нам пока не известен, — стоял он на своем. — Возможно, подвергшийся заражению не может сопротивляться проникшему в него паразиту и становится его рабом. А может быть, паразит и хозяин человеческой оболочки взаимодействуют, помогая один другому, при этом хозяин может и не подозревать, что в него кто-то вселился, — вот вам и ответ на ваш вопрос, почему Эмми Халбург и другие не знают, откуда взялись их удивительные способности. Но, так или иначе, подобный субъект уже не может считаться человеком в полном смысле слова. И, на мой взгляд, Полничев, ему больше нельзя доверять. И поэтому я прошу вас взять под стражу всю семью Толка. Ради бога, изолируйте ее немедленно! — Как я уже сказал вам, полковник, дом Толка окружен журналистами. Если я приеду туда со своими ребятами арестовывать Уинтона и его жену, вся наша операция будет провалена. И хотя я больше не верю в ее успех, я не стану срывать ее сам. Я знаю свои обязанности. — Надеюсь, ваши люди наблюдают за домом Толка? — Да. — А что насчет семьи Мендоза? Если инфекция передалась от Толка мальчику, как это ранее случилось с самим Уинтоном… — Мы наблюдаем за этой семьей. Но и там нам мешают репортеры… Не меньше хлопот было и с отцом Стефаном Вайцежиком. Священник побывал у Мендоза и Халбургов, прежде чем Фостеру Полничеву стало известно, что там происходит. Несколько позже агент ФБР видел святого отца напротив осажденного полицией и толпой зевак дома в Эванстоне, как раз тогда, когда Шаркл взорвал бомбу. Но после этого священник исчез, и вот уже шесть часов, как его никто не видел. Оставалось лишь предполагать, что он анализирует случившееся и пытается связать все странные происшествия в одну цепочку, что, по мнению Полничева, являлось лишним доводом в пользу его предложения рассекретить операцию, пока еще не поздно. Леланд Фалькирк вдруг почувствовал, что все расползается, выходит из-под контроля, и у него перехватило дыхание от одной только этой кощунственной мысли, ибо он посвятил всю свою жизнь философии и принципам осуществления контроля — безусловного, железного, над всем без исключения. Контроль являлся для него главенствующим делом, все остальное отодвигалось на второй план. В первую голову — самоконтроль. Необходимо научиться безошибочно управлять своими желаниями и порывами, в противном случае не избежать разрушения от всяческих соблазнов: алкоголя, наркотиков, секса и тому подобного. Во многом убеждения полковника сложились под влиянием его набожных родителей, которые начали вдалбливать в голову мальчика эти заповеди, еще когда он был несмышленышем. Крайне важно также контролировать процессы мышления; надо принуждать себя всегда полагаться исключительно на логику и здравый смысл, ибо человек по своей натуре склонен впадать в предрассудки, действовать по шаблонам, основанным на неразумном миропонимании. Этот урок он извлек уже вопреки, а не благодаря своим родителям, посещая молитвенные собрания секты пятидесятников и наблюдая, с ужасом и страхом, как они падают на пол, визжат и бьются в религиозном экстазе, якобы движимые некой силой, которую они называли «Святым Духом», а на самом деле просто доводя себя до истерического припадка. Нужно также контролировать свой страх, иначе можно легко сойти с ума. Он научился не бояться родителей, которые избивали и наказывали Леланда «ради его же собственной пользы», ибо были убеждены, что в мальчика вселился дьявол и нужно его изгнать. Одним из способов победить страх Леланд решил избрать намеренное причинение себе боли, надеясь таким образом развить в себе выносливость, привычку к ней и, соответственно, перестать бояться того, что может причинить боль. Леланд Фалькирк контролировал себя, свою жизнь, своих подчиненных, поручения, которые должен был исполнить, и так было всегда. И вот теперь он чувствовал, что теряет контроль над ситуацией, и впервые за сорок лет был на грани срыва. — Полничев, — сказал он. — Сейчас я положу трубку, но вы оставайтесь у телефона. Мой человек наладит специальную прямую селекторную связь между мной, вами, вашим директором, Ридденхауэром и нашим куратором в Белом доме. Мы должны выработать жесткую политику и наилучший способ ее осуществления. Я не допущу никакого слюнтяйства и мягкотелости, мы не выпустим ситуацию из рук, даже если для этого потребуется уничтожить зараженных людей, будь то славные девочки или святые отцы. И мы спасемся сами, клянусь вам!* * *
Буро-зеленая машина следовала за автомобилем Фэй и Джинджер до самого поворота с федерального шоссе к мотелю. Джинджер была почти уверена, что она заедет и на парковочную площадку, но машина остановилась в сотне метров от «Спокойствия» и осталась там мерзнуть под снегопадом. Фэй припарковала «Додж» напротив входа в контору. Вместе с Домиником и Эрни они перенесли в дом купленные в Элко лыжные костюмы, ботинки, перчатки, два полуавтоматических ружья, патроны, электрические фонарики, два компаса, газовую горелку с двумя баллонами и еще всякую полезную мелочь. Эрни обнял Фэй, а Доминик — Джинджер, и оба одновременно воскликнули: — Я очень волновался за тебя! И Джинджер невольно ответила следом за Фэй: — И я волновалась за тебя! Эрни и Фэй поцеловались. Доминик приблизил свое мокрое от снега лицо к лицу Джинджер, и они тоже поцеловались. Это был долгий и страстный поцелуй, и он получился таким же естественным, как и у супругов Блок, и нисколько не удивил и не смутил Джинджер. Когда вещи были перенесены, все десять членов семьи мотеля «Спокойствие» отправились в гриль-бар. Джек, Эрни, Доминик, Нед и Фэй взяли с собой оружие. Подтаскивая к столу стулья, Джинджер заметила, что Брендан поглядывает на оружие с опаской и неудовольствием и вообще выглядит несколько обескураженным. От вчерашнего оптимизма и приподнятого настроения не осталось и следа, эйфория после телекинетических опытов испарилась. — Мне больше ничего не снится, — с грустью посетовал он. — Ни золотистый свет, ни зовущий куда-то голос. Знаете, Джинджер, я все время говорил, что не верю, будто меня призвал сюда Господь Бог, но на самом деле именно на это я и надеялся. Отец Вайцежик был прав, когда говорил, что во мне не угасла вера. С некоторых пор я снова ощущаю настоятельную потребность в Боге. И вот теперь — ни снов, ни золотистого света, и мне кажется, что Бог отвернулся от меня. — Вы не правы, Брендан, — возразила Джинджер, сжимая его руки в своих ладонях. — Если вы верите в Бога, Он никогда не отвергнет вас. Только вы можете забыть Бога, но никогда — наоборот. Верно? Он всегда прощает и любит нас. Разве не то же самое вы говорите своим прихожанам? — Можно подумать, что вы закончили семинарию, — вяло улыбнулся Брендан. — Ваш сон был результатом попыток подавленных воспоминаний пробиться через блокаду, удерживающую их в подсознании. Но если вас сюда действительно призвал Господь, тогда… ну, в таком случае вам не снятся сны, потому что вы уже здесь. Вы выполнили Его волю, поэтому Ему не нужно больше посылать вам этот сон, вот и все. Вы меня понимаете? Лицо священника просияло. Все расселись по своим местам за столом. Джинджер с сожалением отметила, что Марси выглядит даже хуже, чем вчера: она сидела с опущенной головой, положив руки на колени, и не поднимала глаз. — Луна, Луна, Луна… — беспрерывно нашептывала она. Процесс высвобождения в ней воспоминаний шел крайне медленно и потому особенно мучительно, но необратимо. — Она выйдет из этого состояния, — уверенно сказала Джинджер Жорже. Ничего другого ей в этот момент в голову не приходило, но хотелось как-то ободрить мать девочки. — Да, — обрадованно встрепенулась Жоржа. — Она непременно выйдет из него. Непременно. Джек и Нед поставили перед дверью фанерный шит и подперли его столом, полагая, что таким образом обезопасят себя от посторонних ушей. Фэй и Джинджер поделились со всеми результатами визита к супругам Джемисон, не забыв, конечно, упомянуть и о соглядатаях на «Плимуте». Эрни и Доминик рассказали о своих впечатлениях. Джек заволновался. — Если они начали открыто наблюдать за нами, можно в любую минуту ожидать налета, — озабоченно произнес он. — Может быть, стоит взглянуть, не окружают ли нас, — предложил Нед Сарвер, и Джек согласился с ним, после чего Нед подошел к двери и припал глазом к щелке между фанерным листом и дверной рамой. По просьбе Джека Доминик и Эрни пояснили, что им удалось обнаружить во время осмотра ограды хранилища в Скале Громов. Джек слушал их очень внимательно, задавая множество вопросов, смысл которых Джинджер был не всегда понятен. Например, его интересовало, пропущены ли сквозь звенья изгороди какие-нибудь тонкие голые проводки, как выглядят сторожевые посты и ходят ли вдоль забора патрули и собаки. — Ни человеческих, ни собачьих следов по ту сторону заграждения мы не заметили, — отметил Доминик. — Видимо, там задействована надежная электронная система. Так что зря мы надеялись пробраться на территорию хранилища, это, как мы убедились, невозможно. — Мы проникнем не только на территорию, — сказал Джек, — но и внутрь хранилища. Правда, сделать это будет нелегко. Придется пошевелить мозгами, но уверен, что нам это удастся. — Пробраться внутрь? — недоверчиво переспросил Доминик. — Это невозможно, — отрезал Эрни. — Вся штука в том, что они переоценивают возможности электроники, — усмехнулся Джек. — Раз они доверили ей внешнюю ограду, то наверняка полагаются на электронного сторожа и на главном входе. Это обычная практика в наши дни. Все помешались на современной технике. У них, конечно, есть часовой на воротах, но он тоже наверняка обленился, надеясь на компьютеры, видеокамеру и прочую автоматику, так что нам представится возможность преподнести ему сюрприз. А вот уже очутившись внутри, мы рискуем оказаться на крючке раньше, чем проглотим наживку. — Но почему вы так уверены, что… — начала было Джинджер. — Не забывайте, — перебил ее Джек, — что я восемь лет только и занимался тем, что проникал туда, где меня не ждали. Правительство основательно поднатаскало меня в этом деле, так что все их фокусы и приемы мне хорошо известны. И у меня припасены свои, — добавил он, подмигнув косым глазом. — Но ведь это очень опасно! — встревоженно воскликнула Жоржа. — Это верно, — не стал спорить Джек. — Тогда зачем же туда лезть? — спросила Жоржа. В ответ на это Джек изложил разработанный им подробный план, который сперва поверг Джинджер в полное замешательство, но потом привел в восторг.* * *
Джек излагал подробности своего плана таким уверенным голосом, словно все остальные члены группы уже согласились выполнять его указания. Он умышленно избрал этот непререкаемый тон, потому что времени на обсуждение других возможных вариантов действий не оставалось. Его опыт, ум и инстинкт подсказывали ему, что следует дорожить каждой минутой. Поэтому он и объяснил своей новой семье следующее. В течение ближайшего часа все, за исключением Доминика, Неда и самого Джека, погрузятся в «Чероки» и окружным путем доберутся до Элко, где разделятся на группы. После этого Эрни, Фэй и Джинджер поедут на «Чероки» на север к Туин-Фолс, а потом в Покателло, откуда улетят в Бостон, где будут жить пока у друзей Джинджер, супругов Ханнаби. В Бостон им нужно добраться не позднее пятницы и тотчас же по прибытии рассказать все, что им известно, Ханнаби. Затем Джинджер должна будет обзвонить своих коллег в Бостонской мемориальной клинике, собрать их всех вместе и рассказать, что сделали полтора года тому назад с ни в чем не повинными людьми в Неваде. Тем временем Джордж и Рита Ханнаби свяжутся со своими высокопоставленными друзьями и организуют им встречу с Джинджер и Блоками. И лишь после этого можно будет сделать заявление для прессы. В полицию же следует обращаться в последнюю очередь, для начала дав показания, проливающие свет на убийство Пабло Джексона. — Главное, — пояснил Джек, — довести известные нам факты до сведения как можно большего числа влиятельных людей, которые смогли бы поднять шум, если с вами что-нибудь случится, и потребовать специального расследования. Сейчас для нас крайне важно привлечь к этой проблеме видных людей одного из крупнейших городов страны. Если Джинджер удастся увлечь их своей историей, у нас появятся мощные сторонники и защитники. Главное, действовать в Бостоне быстро, чтобы опередить противника и не дать ему помешать нам. Между тем ветер за окнами усиливался, обещая настоящую пургу. Это облегчало выполнение задуманного. — После того как Джинджер, Фэй и Эрни выедут на «Чероки» в Покателло, — продолжал излагать свой план Джек, давая понять, что обсуждению он не подлежит, — остальные четверо — Брендан, Сэнди, Жоржа и Марси — отправятся в местное агентство компании «Джип» и купят еще один автомобиль с четырьмя ведущими колесами за наличные деньги, которые я им вручу перед отъездом из мотеля. Оформив покупку, им надлежит немедленно покинуть Элко в восточном направлении и двигаться к Солт-Лейк-Сити, штат Юта, откуда постараться как можно скорее вылететь в Чикаго, чтобы быть там в четверг. — Джек обернулся к священнику: — Брендан, как только вы приземлитесь, немедленно свяжитесь с отцом Вайцежиком, о котором вы мне рассказывали. Пусть он организует срочную встречу с главой чикагской епархии. — Я не уверен, что отец Вайцежик сможет добиться немедленной аудиенции у Его Высокопреосвященства кардинала О'Каллагана, — смутился Брендан. — Придется постараться, — твердо сказал Джек. — Брендан, вам, как и Джинджер в Бостоне, нужно будет действовать быстро и решительно. Противник наверняка обнаружит вас, едва вы объявитесь в Чикаго. Как бы то ни было, объясните при встрече кардиналу О'Каллагану, что произошло в округе Элко, а Брендан пусть для большей убедительности продемонстрирует свои способности. Кардиналы носят под сутаной штаны? — Что? — изумленно заморгал Брендан. — Конечно же, они носят брюки. — Тогда снимите с кардинала О'Каллагана штаны, Брендан, пусть он поймет, что участвует в величайшем из событий, случившихся после того, как две тысячи лет назад сам собой сдвинулся камень, закрывавший вход в гробницу Христа. Я не богохульствую, Брендан, я действительно считаю это величайшим после воскресения Иисуса событием. — Я тоже, — сказал Брендан, светлея лицом: убедительные слова и уверенный тон Джека подействовали на него благотворно. Ветер сотрясал фанерные щиты в окнах, наполняя помещение гриль-бара тихим зловещим гулом. Эрни Блок настороженно прислушался и сказал: — При таком ветре следует ждать урагана. Джеку этот прогноз не понравился, потому что столь скорая перемена погоды могла спровоцировать противника на принятие решительных мер уже в ближайшее время. — О'кей, Брендан, — сказал Джек. — Убедите кардинала О'Каллагана и уговорите его организовать срочную встречу с мэром, членами городского совета, общественными деятелями, крупными предпринимателями, финансистами. Времени у вас в запасе максимум сутки. Чем большее число людей будет в курсе событий, тем меньше опасность для вашей жизни. Но в любом случае вам не следует терять время. Постарайтесь заручиться надежной защитой, прежде чем выступите перед прессой. Вы просто представьте: вы в окружении выдающихся людей города, журналисты гадают, что же, в конце концов, происходит, и тут вы демонстрируете всем свои телекинетические способности, поднимая в воздух кресло и заставляя его медленно парить над залом! Брендан широко улыбнулся: — После этого на всей своей операции они смело смогут поставить крест! — Надеюсь, что именно так оно и будет, — кивнул Джек. — Потому что, пока вы займетесь выполнением этого задания, Доминик, Нед и я будем внутри Скалы Громов, может быть, под арестом военных, и сможем выбраться оттуда живыми лишь в случае, если вы поднимете большой шум. — Мне эта часть плана совершенно не нравится, — вмешалась Жоржа. — Зачем вам туда соваться? Я задавала этот же вопрос пятнадцать минут назад, но до сих пор не услышала ответа. Если мы незаметно улизнем отсюда и с помощью знакомых Джинджер и Брендана оповестим общественность Чикаго и Бостона, для чего крутиться вокруг этого секретного хранилища? Как только заработает машина средств массовой информации, армия и правительство будут вынуждены раскрыть свой секрет. Им придется рассказать нам, что произошло в то лето и что они делают под Скалой Громов. — Извини, Жоржа, но это звучит наивно. Да, если мы все начнем повсюду рассказывать одну и ту же историю, пресса навалится на армию и правительство с требованием разъяснений. Но ведь военные начнут тянуть время, выдумывать собственные контр версии, и это будет продолжаться многие месяцы, а то и годы. А за это время они все хорошенько обдумают, всему найдут объяснение, но тайна так и останется за семью печатями. Единственный способ заставить их расколоться — действовать стремительно, чтобы они не смогли опомниться. И, чтобы ускорить события, вы должны иметь возможность сообщить всему миру, что троих ваших товарищей — Доминика, Неда и меня — удерживают против их воли в пещере под горой. Заложники! Вот что вынудит армию нарушить молчание не позже, чем через день-два после того, как всем станет известно об этом драматическом спектакле, где мы выступим в роли мучеников, а наше собственное правительство — в роли захвативших нас террористов. Слова Джека повергли всех в шок. Эрни и Фэй смотрели на него с изумлением и грустью, словно он был то ли уже мертвец, то ли безнадежный безумец. Лицо Жоржи омрачилось страхом. — Но ты не можешь! Нет, нет! Ты просто не можешь жертвовать собой… — воскликнула она. — Если все вы справитесь со своим заданием, — живо возразил Джек, — ни о какой жертвенности не будет и речи. Общественность потребует нашего освобождения. Вот почему так важно, чтобы каждый делал именно то, что ему поручено. — Но, — снова возразила Жоржа, — ведь может случиться так, что вы проникнете внутрь Скалы Громов, увидите там что-то такое, что может как-то объяснить случившееся позапрошлым летом, сфотографируете это и выберетесь оттуда целыми и невредимыми! И в этом случае вы, конечно же, попытаетесь скрыться. Ведь ты же не настаиваешь на безусловном осуществлении сценария с заложниками, верно? — Ну конечно же, нет! Но Джек покривил душой. Если и имелся шанс незаметно пробраться в хранилище, то выбраться из него, оставшись незамеченными, не было почти никакой надежды. Что же касается обнаружения каких-либо вещественных доказательств, проливающих свет на события позапрошлого лета, это было вообще утопией. Во-первых, они не имели ни малейшего представления о том, что именно следует искать. Они вполне могли пройти в двух шагах от того, что ищут, и даже не обратить на это никакого внимания. Более того, если в «Скале Громов» велись опасные эксперименты иодин из них вышел в тот июльский вечер из-под контроля исследователей, ответ на загадку наверняка спрятан в сейфе с секретными документами, а может, микрофильмирован и хранится среди массы других пленок или же в одной из папок с отчетами. А копаться в грудах бумаг у них не будет времени. Но ничего этого Джек ни Жорже, ни остальным не сказал. Он не мог допустить, чтобы собрание вылилось в спор о потенциальном риске и других возможных исходах этого опасного предприятия. За окнами завывал ветер. — И если уж ты так настаиваешь на проникновении в хранилище, — наступала Жоржа, — почему бы нам семерым не остаться где-нибудь к вам поближе, например в Элко? Мы могли бы отправиться в ту же газету «Сентинел» и проделать все, что ты предлагаешь, в редакции. Мы могли бы разоблачить заговор военных здесь, а не в Чикаго и в Бостоне. — Нет, — решительно возразил Джек, тронутый, но и расстроенный ее заботой о нем: дорога была каждая секунда! — Средства массовой информации вряд ли быстро откликнутся на заметку в газете провинциального городка о человеке с удивительными способностями и тайных операциях правительства. Скорее всего к ним отнесутся как к очередной «утке» из разряда сообщений об оригинальных фокусниках и НЛО. А тем временем противник обнаружит и уничтожит вас, а заодно и журналистов, разговаривавших с вами, и никто даже не станет вас искать. Нет, Жоржа, единственный выход из сложившейся ситуации — четко следовать моему плану. Больше нам надеяться не на что. Жоржа с удрученным видом откинулась на спинку кресла. — Доминик, — обратился Джек к писателю, — ты согласен со мной? — Согласен. — Иного ответа Джек и не ожидал. — Но скажи, пожалуйста, Джек, почему мне оказана честь сопровождать тебя в этом рискованном путешествии? — С радостью объясню, — усмехнулся Джек. — Эрни все еще не избавился от боязни темноты, поэтому с него довольно будет и ночной поездки в Покателло. К штурму хранилища он не готов, так что остаетесь только вы с Недом. К тому же нам не помешает хороший литератор, который потом опишет все наши приключения. Пресса обожает сенсации такого рода. Подумать только — известный писатель в качестве заложника военных на секретном объекте! Теперь настала очередь вмешаться в разговор Джинджер Вайс. — Ты великий стратег, Джек, но почему-то не уважаешь права женщин. Мне кажется, что я тоже не помешаю вам в «Скале Громов». — Но… — попытался возражать Джек. — И прошу меня не перебивать! — пресекла эту попытку она, вставая со стула и привлекая к себе общее внимание. — Нед может отправиться вместе с Сэнди в Чикаго, так что у Брендана будет достаточно взрослых свидетелей, способных подтвердить его рассказ. А Жоржа и Марси вместе с Фэй и Эрни вылетят в Бостон, я дам им записку для Ханнаби. Джордж и Рита отнесутся к ней серьезно и помогут собрать людей. Кроме того, Рита моментально подружится с Фэй, потому что у них много общего, так что мое присутствие вовсе не обязательно. Я больше нужна здесь. Во-первых, проникновение в хранилище сопряжено с опасностью, и может понадобиться врач. Мы ведь не уверены в том, что Доминик обладает такими же способностями исцелять людей, как Брендан, и даже если они у него есть, то он пока не научился управлять ими. Так что доктор не помешает, верно? Во-вторых, если уж речь зашла о том, что присутствие в группе заложников писателя прибавит этому делу сенсационности, тогда, черт побери, присутствие женщины сделает его просто скандальным! Я просто необходима вам, Джек! — Вы правы, — к ее немалому удивлению, быстро согласился Джек. Слова Джинджер были не лишены здравого смысла, а на споры не оставалось времени. — Нед, ты поедешь вместе с Сэнди и Бренданом в Чикаго. — Но я хотел бы отправиться вместе с тобой в хранилище, если ты считаешь, что так полезнее для дела. — Я знаю, — сказал Джек, — я действительно именнотак и думал, но теперь мне кажется, что будет лучше, если мы поступим иначе. Послушайте, если мы сейчас же отсюда не смоемся, весь наш план вообще потеряет смысл, потому что нас снова сцапают эти типы, которые уже однажды накачали нас до потери памяти наркотиками. Нед отодвинул стол от входной двери, Эрни убрал фанерный щит, и все увидели за стеклом белую стену пурги. — Потрясающе! — воскликнул Джек. — Великолепное прикрытие! Они вышли наружу, в снег и ветер, и первым делом Джек взглянул на автомобильную стоянку. Буро-зеленого «Плимута» там уже не было. Это не понравилось Джеку. Он предпочел бы, чтобы наблюдатели оставались на прежнем месте, там, где он сам мог бы их видеть.* * *
Селекторное совещание не ускорило дела, как того хотелось бы полковнику Фалькирку. Он надеялся получить «добро» на одновременное задержание всех свидетелей и препровождение их в «Скалу Громов». Леланд рассчитывал, что ему и генералу Ридденхауэру удастся убедить остальных в том, что угроза распространения заразы не только вполне реальна, но и весьма серьезна. Именно поэтому следует уничтожить всех свидетелей из мотеля «Спокойствие» и персонал хранилища, как только появятся доказательства подмены их человеческого естества чужеродной субстанцией, а такие доказательства он обязательно получил бы. Но стоило лишь начаться совещанию, как все полетело кувырком. Ситуация чертовски осложнялась. Директор ФБР Эмил Фоксуорт получил сообщение еще об одном досадном происшествии: группа специалистов, повторно промывавшая мозги семье Салко, докладывала, что у них объявился незваный гость — грузный, но весьма дерзкий бородач, ухитрившийся скрыться из-под самого носа агентов. Всех Салко в срочном порядке перевезли в санитарной карете на конспиративную квартиру, чтобы довести процедуру до конца. В то же время в результате срочных оперативных действий выяснилось, что брошенная бородачом машина взята напрокат в местной фирме не каким-то примитивным грабителем, а известным художником Паркером Фейном, другом Корвейсиса. ФБР установило, что художник вылетел в Сан-Франциско, где его следы оборвались. Исчезновение Паркера Фейна усилило позицию Фостера Полничева, предлагавшего рассекретить операцию: его поддержали директор ФБР и Джеймс Хертор, советник президента по вопросам национальной безопасности. Мало того, изворотливый Полничев убедительно доказывал, что все случившееся за последнее время — и чудесное исцеление Кронином Уинтона Толка и Эмми Халбург, и последующее спасение полицейским зарезанного мальчика, и удивительные телекинетические способности Корвейсиса и девочки — свидетельствует скорее о благотворных последствиях событий 6 июля, чем об их пагубности для человечества. При этом он ссылался на мнение группы ученых во главе с доктором Беннеллом, тоже уверенных в отсутствии какой-либо опасности, что подтверждалось их исследованиями. Полковник пытался объяснить им, что Беннелл и его сотрудники могли заразиться и верить им нельзя, как и вообще никому из персонала хранилища, но у Фалькирка это плохо получалось, потому что он был армейским командиром, а не краснобаем, и на фоне аргументов более опытного Фостера Полничева доводы его смахивали на бред параноика. Даже тот, на кого Леланд больше всего рассчитывал — генерал Максуэлл Ридденхауэр, — не оправдал его надежд. Председатель Объединенного комитета начальников штабов поначалу отмалчивался, внимательно выслушивая каждую из сторон, выполняя как бы посредническую миссию, поскольку по занимаемой должности являлся не только профессиональным военачальником высокого ранга, но и ключевой политической фигурой. Однако вскоре стало ясно, что он все же склонен встать на сторону Полничева, Фоксуорта и Хертора, а не Леланда Фалькирка. — Я понимаю ваши опасения относительно данной ситуации, полковник, и высоко ценю ваш огромный практический опыт и профессиональное чутье, — сказал генерал, — но мне думается, что проблема вышла за рамки вашей компетенции. Прежде чем принять кардинальные меры, следует привлечь к ней ученых — невропатологов, биологов, философов, других специалистов. Безусловно, если появятся бесспорные признаки серьезной угрозы, я тотчас же изменю свою точку зрения и поддержу ваши требования: изолировать всех свидетелей из мотеля, ввести на неопределенный срок карантин на объекте «Скала Громов» и сделать ряд других решительных шагов, на которых вы настаиваете. Но в настоящий момент, при отсутствии явной и значительной опасности, нам следует воздерживаться от резких маневров и пока оставить открытым вопрос о рассекречивании операции. — При всем моем уважении к вам, — с трудом сдерживая ярость, ответил Леланд, — я остаюсь при своем мнении, что опасность существует, и чрезвычайно серьезная. Поэтому у нас просто нет времени на привлечение невропатологов и философов, не говоря уже о пустых словопрениях бесхребетных политиканов. Эта откровенная оценка вызвала бурную ответную реакцию Фоксуорта и Хертора, этих низких интриганов от политики. Они подняли крик, полковник утратил свойственное ему самообладание и тоже повысил голос. Селекторное совещание превратилось в шумную перепалку, и Ридденхауэру пришлось вмешаться и прекратить спор. Он настоятельно рекомендовал как воздержаться от каких-либо действий против свидетелей, так и не торопиться с усилением либо ослаблением режима секретности. — Я постараюсь получить срочную аудиенцию у президента, — пообещал он, — и в течение суток, максимум двух, мы выработаем план, устраивающий всех. Услышав эти слова, Леланд с горечью подумал: это утопия. Отключив связь, он с минуту продолжал стоять, пытаясь унять яростную дрожь, прежде чем решился вызвать к себе в кабинет лейтенанта Хорнера. Ему не хотелось, чтобы тот догадался, что переговоры закончились не в его, Фалькирка, пользу и генерал Ридденхауэр не одобрил задуманную им операцию. Полковник четко осознавал свою задачу. Цель его была ужасной, страшной — но ясной. Он отдаст приказ перекрыть федеральную магистраль № 80 под предлогом утечки отравляющего вещества и таким образом изолирует мотель «Спокойствие», после чего арестует свидетелей и доставит их в хранилище «Скала Громов». Когда они вместе с доктором Майлсом Беннеллом и другими вызывающими подозрение сотрудниками будут заперты за бронированной дверью, Леланд всех уничтожит парочкой ядерных бомбочек, хранящихся среди прочих боеприпасов в катакомбах. Двух пятимегатонных бомб с лихвой хватит, чтобы превратить все и вся в подземелье в пыль и прах. Таким радикальным способом будет устранен главный очаг инфекции, гнездо врага. Безусловно, останутся другие источники заражения: семьи Толк и Халбург, не вернувшиеся в Неваду свидетели и так далее. Но Леланд не сомневался, что после его мужественного самопожертвования ради уничтожения основного очага заразы Ридденхауэру станет стыдно за свое малодушие и он найдет в себе силы довести дело до конца и раз и навсегда очистить Землю от опасной инфекции. Леланда Фалькирка трясло, но не от страха, а от гордости за себя. Он был несказанно горд тем, что ему выпала честь сражаться и победить в величайшей битве всех времен — во спасение не только нации, но и всей планеты от беспрецедентной угрозы. Он был уверен, что не дрогнет, принося себя в жертву. Он не испытывал страха. Полковник представил себе, что он почувствует в последнюю долю секунды свой жизни, и его обдало жаром при одной лишь мысли о той ни с чем не сравнимой боли, которую ему предстоит преодолеть. О, это будет чудовищная боль, но одновременно и столь непродолжительная, что он, несомненно, перенесет ее так же стойко, как и всякую другую, которой он себя подвергал. Теперь он был абсолютно спокоен. Умиротворен. Безмятежен. Леланд целиком отдался предчувствию своей последней адской боли, этой изумительно чистой и поразительно короткой атомной агонии — залога райского блаженства, путь к которому, как предрекали его родители-«пятидесятники», уверенные в том, что в их сына вселился дьявол, был ему заказан.* * *
Выйдя следом за Джинджер из мотеля «Спокойствие», Доминик Корвейсис окунулся в стонущий и завывающий снежный вихрь и вдруг увидел, услышал и ощутил нечто такое, чего в этом вихре на самом деле не было. Позади него лопались и со звоном разбивались вдребезги оконные стекла, выбитые взрывной волной; впереди, на черном фоне жаркой летней ночи, светились на парковочной площадке огни автомобилей, а воздух и земля сотрясались от громоподобного жуткого грохота; сердце готово было вырваться из груди; к горлу подкатил ком, он задыхался, но все же выбежал из гриль-бара, оглянулся по сторонам, задрал голову… — Что случилось? — спросила Джинджер. Доминик сообразил, что поскользнулся и едва не упал на заснеженный асфальт, выбитый из равновесия внезапно хлынувшими сквозь блокаду воспоминаниями. Он испуганно обернулся на вышедших следом за ним товарищей и, запинаясь, пояснил: — Мне померещилось, будто я снова там, в той июльской ночи… Два дня назад, когда он был на пороге озарения, он невольно воссоздал гром и землетрясение 6 июля. На этот раз ничего похожего не повторилось, возможно, потому, что его память освободилась от гнета блокады, пробив в ней брешь, в которую теперь и вырвались впечатления от событий той таинственной ночи. Не находя нужных слов, Доминик повернулся ко всем спиной и вновь уставился на пургу, и вот… От нарастающего рева у него заломило в ушах, от вибрации земли задрожали колени и застучали зубы, как в грозу порой дрожат стекла в оконных рамах; он сделал несколько неверных шагов вперед, глядя в небо, и вдруг из темноты прямо перед ним, всего в каких-нибудь сотнях футов над землей, вылетел реактивный самолет. Переливаясь красными и белыми сигнальными огнями, он с чудовищным ревом пронесся над его головой и скрылся во мраке, и тотчас же на его месте возник второй истребитель, похожий на сноп звездных осколков, мерцающих в черной вышине. Оконные стекла задрожали еще сильнее, почва, казалось, уходила у Доминика из-под ног, а он в ужасе обернулся на готовое развалиться от сотрясения здание гриль-бара, и в этот момент над ним пронесся третий самолет, да так низко, что Доминик даже разглядел серийный номер и американский флаг на одном из крыльев. Боже, самолет был так близко, что Доминик упал ничком на площадку перед автостоянкой, уверенный, что истребитель рухнет и его накроет обломками металла и брызгами пылающего топлива… — Доминик! Оказалось, что он лежит, уткнувшись лицом в снег и царапая ногтями мерзлый асфальт, скованный пережитым 6 июля позапрошлого года ужасом перед казавшейся ему тогда неминуемой авиакатастрофой. — Что с тобой, Доминик? — спросила его Сэнди Сарвер, склоняясь над ним и кладя руку ему на плечо. — С тобой все в порядке? — присев на корточках с другой стороны, допытывалась Джинджер. Они помогли ему встать на ноги. — Блокада памяти рассыпается, — произнес он, снова задирая голову к небу в надежде, что снежная завеса вдруг разверзнется и наступит темная летняя ночь и поток воспоминаний хлынет с новой, удвоенной силой. Но этого не случилось. Только ветер хлестал ему снегом по лицу, и все в изумлении наблюдали за ним. — Я вспомнил реактивные самолеты, — наконец объяснил Доминик. — Военные истребители-перехватчики — сначала два, летящих на высоте около ста футов, потом третий — этот чуть не снес крышу гриль-бара… — Самолеты! — воскликнула неожиданно для всех Марси. Все с удивлением обернулись на нее, даже Доминик, потому что это было первое произнесенное девочкой слово, кроме слова «Луна», которое она монотонно бормотала вот уже почти сутки. Марси тоже взглянула на небо, словно бы оттуда должен был появиться самолет. — Я не припоминаю никаких самолетов, — наморщил лоб Эрни, тоже глядя вверх. — Самолеты! Самолеты! — повторила Марси, указывая рукой на небо. Доминик поймал себя на том, что повторяет ее жест, только двумя руками, как бы стремясь раздвинуть пелену настоящего, из-за которой могла вновь возникнуть ускользающая от него картина той жаркой июльской ночи. Но прошлое упорно не желало возвращаться, как он ни старался. Другим припомнить что-либо из описанного тоже не удалось, и настроение у всех быстро упало. Снова понурив голову, Марси засунула в рот палец и принялась сосредоточенно сосать его. — Пошли, — приказал Джек. — Пора уносить отсюда ноги. Все побежали к мотелю, чтобы переодеться и приготовиться к предстоящим путешествиям и сражениям. Все еще ощущая запах июльской ночи и слыша рев истребителей, пронзивший его до мозга костей, Доминик Корвейсис неохотно последовал за остальными.Часть III. НОЧЬ НА СКАЛЕ ГРОМОВ
Мужество, любовь, дружба, Дар сострадания и сочувствия — Вот что возвышает нас над животными И отличает человека от зверя.Книга Печалей
Чужой рукой украшен твой сирый вечный дом; Чужие слезы падали на твой могильный холм.Александр Поп
Глава 6 14 января, вторник, ночь
1
СХВАТКА
Отец Стефан Вайцежик долетел до Чикаго до Солт-Лейк-Сити на самолете компании «Дельта» и оттуда рейсом местной авиалинии добрался до аэропорта Элко, успев приземлиться до того, как его закрыли из-за метели. В аэровокзале он первым делом отыскал телефон-автомат, нашел в справочнике номер телефона мотеля «Спокойствие» и набрал его, однако не услышал не только ответа, но даже гудка, линия безмолвствовала. Он повторил попытку, но вновь безуспешно. Оператор, к которому отец Вайцежик обратился за помощью, смог лишь извиниться за повреждение линии, объяснив неполадки плохой погодой. Однако отца Вайцежика такое объяснение не утешило и не успокоило, а лишь еще сильнее взволновало: снежная буря едва началась, и трудно было поверить, что именно она явилась причиной обрыва связи с мотелем. Скорее это было еще одним свидетельством вмешательства зловещих сил в стремительно разворачивающиеся таинственные события. Отец Вайцежик позвонил в Чикаго, и со второго звонка трубку поднял отец Джеррано. — Майкл! — обрадованно закричал отец Вайцежик! — Я добрался до Элко вполне благополучно, но не сумел дозвониться до Брендана! У них там не работает телефон! — Да. Я знаю. — Ты уже знаешь? Но откуда? — Минуту назад, — пояснил Майкл, — мне позвонил человек, отказавшийся себя назвать, но представившийся другом Джинджер Вайс, знакомой Брендана по мотелю. Он сказал, что Джинджер звонила ему сегодня утром и просила раздобыть кое-какую информацию. Он нашел необходимые ей сведения, но не смог дозвониться до мотеля «Спокойствие». Видимо, Джинджер предвидела такую ситуацию, потому что на всякий случай она дала ему номера телефонов своих друзей, в том числе и наш, и попросила сообщить нам все, что ему удастся разузнать, с тем чтобы мы потом передали это ей. — Он отказался назвать свое имя? — несколько озадаченно переспросил отец Вайцежик. — А она, как ты говоришь, просила его раздобыть для нее информацию? — Именно так. Ее интересовали два вопроса: все, что связано со Скалой Громов, и сведения о полковнике Леланде Фалькирке. Он просил передать, что хранилище в Скале Громов представляет собой специально оборудованный подземный военный склад. Это одно из восьми подобных сооружений, причем не самое крупное, построенных на случай ядерной войны. Что же касается полковника Леланда Фалькирка, то он… — И отец Джеррано принялся подробно излагать послужной список полковника, закончив, к облегчению отца Вайцежика, свою тираду словами: — Но мистеру Икс думается, что все это вряд ли имеет отношение к тому, что произошло с людьми в мотеле «Спокойствие». — Мистеру Икс? — переспросил отец Вайцежик. — А как еще его называть, если он не представился? — Ясно, — промолвил отец Вайцежик, — продолжай. — Так вот, мистер Икс полагает, что ключевым моментом здесь является то, что полковник Фалькирк был военным представителем в специальном правительственном комитете, в течение девяти лет ведущем секретные исследования в области национальной безопасности. Наводя справки об этом комитете, мистер Икс столкнулся с двумя странными фактами. Во-первых, многие из ученых, работавших там, внезапно взяли отпуск и словно сквозь землю провалились. Во-вторых, восьмого июля позапрошлого года всем документам, связанным с деятельностью специального комитета, был придан гриф особо секретных и допуск к ним был строго ограничен. А как вы помните, за два дня до этого и начались все эти напасти в Неваде. — Но чем занимался этот комитет? Что он исследовал? Майкл Джеррано объяснил. — Боже мой! — воскликнул отец Вайцежик. — Я так и думал! — В самом деле? Признаюсь, мне трудно поверить, что вы могли догадаться о причине странностей, случившихся с Бренданом. Уж не хотите ли вы сказать, что… что это и в самом деле произошло? — И не исключено, что еще не закончилось, — вздохнул отец Вайцежик. — Но должен признаться, что я пришел к такому выводу не только благодаря своему интеллекту. Дело в том, что именно об этом и кричал Кэлвин Шаркл полицейским сегодня утром, прежде чем взорвать свой дом. — Боже праведный! — прошептал Майкл. — Возможно, мы стоим на пороге совершенно нового мира, — задумчиво произнес отец Вайцежик. — Ты готов к нему, Майкл? — Я… я не знаю. А вы? — О да! — воскликнул отец Стефан. — Абсолютно готов. Но путь к нему чрезвычайно опасен.* * *
Джинджер видела, что с каждой минутой Джек Твист все больше нервничает, явно чувствуя, что отпущенное им время истекает, и потому то и дело поглядывает на двери и окна, словно бы ожидая в любую минуту увидеть за ними вражеские лица. Им потребовалось почти полчаса, чтобы как следует одеться, зарядить оружие, подготовить запасные обоймы и патроны и перенести все снаряжение в пикап Сарверов и «Чероки» Джека, стоящие за мотелем. При этом они болтали о всяких пустяках, чтобы нарочитым молчанием не вызвать подозрение у тех, кто их подслушивал. Наконец в десять минут пятого они включили на полную громкость радио, надеясь таким образом ввести на некоторое время противника в заблуждение, и через черный ход покинули дом. Последовали слова прощания, они желали друг другу удачи и доброго пути, уверяли, что все обойдется и враг будет повержен. Джинджер заметила, что Джек и Жоржа прощались друг с другом дольше, чем с другими, а Джек как-то совсем по-отечески расцеловал Марси и с заметной неохотой выпустил из своих объятий Жоржу. Покидавшие мотель, несомненно, чувствовали, что многим из них уже не придется увидеться вновь. — Ну все, — глотая слезы, сказала Джинджер, — довольно, пора убираться отсюда. Первой ушла машина с семеркой, которой позже предстояло разделиться на две группы и по отдельности добираться до Чикаго и Бостона. Чистый снег сыпал с неба столь быстро и густо, что отяжелевший «Чероки» скрылся из виду спустя считанные мгновения, растаяв, словно призрак, в плотной белой пелене. Однако он не направился прямо по шоссе к холмам, где, как с помощью своего теплоуловителя определил Джек, укрылись наблюдатели, а поехал по дну оврага, выходящего в ложбину, которая, в свою очередь, соединялась с лощиной, тянувшейся вдоль магистральной дороги. Вскоре унылый вой ветра заглушил и рокот мотора. Джинджер, Доминик и Джек забрались в кабину пикапа Сарверов и последовали за «Чероки», который, вырвавшись со старта вперед, уже пропал в белом месиве. У Джинджер, втиснувшейся между Домиником и Джеком, снова защемило в груди: за эти дни она успела полюбить всех, кто уехал на «Чероки», и сейчас ей стало страшно за них. Подскакивая то и дело на сиденье прыгающего по ухабам пикапа, она сосредоточенно всматривалась в пургу, надеясь хотя бы на мгновение увидеть за мелькающими перед глазами «дворниками» силуэт автомобиля, уносящего навстречу опасностям тех, кто был дорог ее сердцу. Нам небезразлична судьба других людей — в этом главное, что отличает нас от животных. Именно эти слова часто повторял Иаков Вайс. Разум, мужество, любовь, дружба, сострадание и сочувствие — каждое из этих качеств важно для человека не менее, чем все другие, говаривал он. Некоторые считают, что главное — иметь мозги, уметь быстро решать возникающие проблемы, приспосабливаться к обстановке, видеть свою выгоду и не упускать ее. Да, эти качества, как и многие другие, способствовали возвышению человечества, но одного лишь интеллекта для этого было бы мало: человеку необходимо обладать еще и силой воли, способностью любить, дружить, сочувствовать и сострадать. Другие люди не должны быть ему безразличны. В этом и заключается бремя и счастье рода человеческого. Сперва Паркер Фейн опасался, что пилоту десятиместного коммерческого самолета не удастся посадить машину из-за начинающейся снежной бури и тогда придется лететь до какого-нибудь другого аэропорта на юге Невады. Когда же самолет наконец приземлился, Паркер уже и не был рад этому, натерпевшись во время снижения немало страху: порывистый ветер и слепящий снег поневоле вселяли в пассажиров сомнение в исходе полета, хотя за штурвалом и сидел умудренный опытом «слепых» посадок пилот. Едва колеса самолета благополучно коснулись земли и все с облегчением вздохнули, как диспетчер аэропорта Элко объявил о его закрытии. Крытого трапа здесь не было, и, спустившись по ступенькам открытой лесенки, Паркер, прикрывая лицо рукой, почти бегом пересек заснеженную бетонную площадку, поеживаясь от уколов холодных и колючих снежных крупинок. В аэропорту Сан-Франциско он купил в киоске ножницы и электробритву и поспешно избавился в туалете от бороды, которую носил вот уже десять лет. Его новая внешность ему понравилась, и он даже подровнял свои космы. — Скрываешься от полиции, приятель? — пошутил парень, мывший над соседней раковиной руки. — Нет, от жены, — ответил художник. — Понимаю, — сочувственно кивнул незнакомец, — я тоже. Чтобы не оставлять следов, Паркер расплатился за билет до Рино наличными, а не кредитной карточкой и, совершив 45-минутный перелет над горами Сьерра-Невада, умудрился спустя двадцать минут уже занять место в крохотном самолете, вылетающем на Элко, снова расплатившись наличными и оставшись с 21 долларом в бумажнике. Немного утешил Фейна в двухчасовом полете над Большим Бассейном лишь легкий обед, насладиться которым мешали частые воздушные ямы и тревожные мысли о друге, попавшем в беду в горах Невады. После всего пережитого в Монтерее и утомительных перелетов Паркер, казалось бы, должен был чувствовать себя как выжатый лимон, но, как ни странно, он был полон сил и энергии, целеустремлен и решителен. Он ощущал себя быком, намеревающимся круто расправиться с пугающим его стадо волком. В маленьком зале аэропорта Элко оказалось только два телефона-автомата, из которых лишь один был исправен. Найдя в справочнике номер мотеля «Спокойствие», Паркер попытался связаться с Домиником, но телефоны в мотеле молчали. Это можно было бы объяснить непогодой, но у Паркера зародилось беспокойство и сомнение. Надо было как можно скорее добраться туда, где он был нужен. Уже спустя две минуты он выяснил, что машину напрокат здесь не дают, а ждать такси придется не менее полутора часов, потому что в единственной на весь город таксомоторной компании их всего три и все они в данный момент заняты. Паркеру ничего не оставалось, как с тоской оглянуться на парочку бродяг вроде него с того же рейса и нескольких бедолаг, прилетевших другим частным самолетом за минуту до закрытия аэропорта, в надежде, что у кого-то из них есть автомобиль на стоянке возле аэропорта. Разочарованно отворачиваясь от одного из не оправдавших его надежд, Паркер буквально столкнулся с седовласым джентльменом весьма почтенного вида, который был, однако, возбужден не менее его самого. От волнения незнакомец расстегнул пальто, и Паркер увидел белый воротничок католического священника. — Извините, пожалуйста, — обратился к Паркеру святой отец, — но дело в том, что мне необходимо срочно добраться до мотеля «Спокойствие». Это вопрос жизни и смерти. У вас есть машина? Прижавшись правым боком к дверце пикапа и ощущая левым плечом плечо Джинджер, Доминик Корвейсис напряженно вглядывался в бушующую впереди, за лобовым стеклом, метель, муслиновым завесам которой, казалось, не было конца. Выпрямив спину, он подался всем скованным ожиданием корпусом вперед, словно готовясь к встрече с невероятным открытием, затаившимся за очередным белоснежным вьюжным пологом, но всякий раз автомобиль проходил сквозь него, не встречая ни малейшего сопротивления, и все новые и новые тончайшие белые полотна возникали, трепеща, надуваясь и беззвучно лопаясь, у него на пути. Наконец Доминик понял, чего он так напряженно ждет: возвращения воспоминаний, озаривших его при выходе из гриль-бара. Реактивные самолеты. Что же произошло после того, как над крышей гриль-бара промчался третий истребитель? Тот самый, что поверг его на асфальт? Мириады снежинок сплетались в причудливые кружева, драпируя зимний день в белоснежные гобелены, но в лощине от этого не становилось светлее. Хотя до настоящих сумерек оставалось еще около часа, вокруг уже царила серая мгла, из которой внезапно выплывали, словно из первобытного тумана, причудливо изогнутые каменные глыбы и заснеженные кусты, напоминающие доисторических животных, готовых к прыжку. Однако Джек не решался включить фары, опасаясь, что отраженный снегом и льдом свет заметят с холмов. Они достигли места, где лощина расходилась на два рукава; след от колес «Чероки» уходил на восток, в овраг, огибающий шоссе. Джек не последовал за Недом Сарвером и остальными, а вместо этого, следуя разработанному плану, продолжал держать курс на север, время от времени поглядывая на сверяющегося с компасом Доминика. Лощина вскоре стала сужаться, начался довольно крутой подъем. Доминик уж было решил, что им придется вернуться назад к развилке и последовать за «Чероки», но Джек и не думал так легко сдаваться: энергично работая ручкой коробки передач и педалью газа, он уверенно повел пикап вверх по ухабистому уклону. Джинджер и Доминика то и дело швыряло друг на друга, что, однако, не вызывало у них неудовольствия. Несмотря на окружающую серую мглу, Джинджер выглядела ярче и эффектнее, чем когда-либо. На фоне ее отливающих серебром волос даже снег казался блеклым и тусклым. Наконец машина совершила последний отчаянный рывок, грузно ударившись днищем о колдобину, Доминика подбросило вверх, он стукнулся головой о крышу. Джек вдруг ударил по тормозам и вскрикнул: — Самолеты! Еще не придя в чувство после сотрясения, Доминик от удивления раскрыл рот и уставился в ревущую за лобовым стеклом метель, ожидая увидеть там летящий на них истребитель, но потом сообразил, что Джек имеет в виду самолеты из прошлого. Видимо, он вспомнил тот же эпизод, что и Доминик час тому назад. — Самолеты, — повторил Джек, вцепившись, как клещ, обеими руками в руль и уставившись на снег, но явно вглядываясь при этом мысленным взором в минувшее. — Один, потом второй, за ними — третий, прямо над крышей, и… четвертый… — Но я не помню четвертого! — возбужденно воскликнул Доминик. — Четвертый самолет появился, едва я выбежал из мотеля, — навалившись грудью на руль, сказал Джек. — Когда все вокруг вдруг затряслось со страшной силой и загромыхало, я выскочил из своей комнаты и увидел третий истребитель, по-моему, «F-16». Он возник прямо из темноты как раз над гриль-баром, на высоте не более сорока-пятидесяти футов, как ты верно подметил. И, пока я приходил в себя от этой неожиданной картины, откуда-то из-за мотеля появился четвертый самолет, и он летел еще ниже, может быть, футов на десять, — от рева его двигателей полопались стекла в окнах… — И что же случилось потом? — шепотом, словно боясь нарушить громким голосом ход воспоминаний Джека, спросила Джинджер. — Третий и четвертый перехватчики пронеслись в направлении федерального шоссе, едва не задев электрические провода, которые были видны в красном свечении сопел их двигателей, разделились над равниной за магистралью и стали разворачиваться, набирая высоту и заходя один с запада, а другой с востока… Я побежал к людям, стоящим возле гриль-бара, надеясь выяснить, что же, в конце концов, происходит… И это все, что я помню, — со вздохом проговорил Джек Твист. По ветровому стеклу барабанил снег. За плотно закрытыми окнами завывал холодный ветер. — Ничего, — сказала Джинджер, — ты все еще непременно вспомнишь. Блокада памяти разрушается. — Да, мы обязательно все вспомним, — подтвердил Доминик. Джек включил передачу и возобновил подъем, далеко не последний на их окольном пути к Скале Громов.* * *
Полковник Леланд Фалькирк и лейтенант Хорнер, захватив с собой двух вооруженных до зубов парней из ОРВЭС, отправились на одном из джипов, приписанных к шенкфилдскому полигону, на пост в западной оконечности запретной зоны. Ранее магистральное шоссе № 80 уже было перекрыто бронетранспортерами, а на обеих полосах дороги установлены на специальных козлах «тревожные» огни, возле которых дежурили солдаты из ОРВЭС, одетые в белые маскировочные костюмы. Трое из них теперь беседовали с водителями остановленных автомобилей, терпеливо разъясняя ситуацию. Леланд приказал своим спутникам подождать в машине, а сам вылез и подошел к заграждению, чтобы переговорить с сержантом Винсом Бидакяном, отвечающим за этот участок. — Как идут дела? — Пока все хорошо, сэр, — ответил Бидакян, пытаясь перекричать вой ветра. — Людей на дороге мало, большинство водителей благоразумно предпочли переждать непогоду в Батл-Маунтине или в Уиннемаке. Во всяком случае, дальнобойщики уж точно решили отсидеться до окончания бури. За час здесь скопится не более двухсот машин. Водителям говорили, что спустя час движение возобновится, так что имеет смысл подождать, а не возвращаться в Батл-Маунтин. Более длительный карантин на магистральном шоссе потребовал бы привлечения дополнительных сил, а связываться с шерифом округа и невадской полицией Леланду не хотелось, поскольку те наверняка созвонились бы с верховным армейским командованием и выяснили бы, что у полковника нет на эту операцию никаких полномочий. А Леланду требовалось не более часа, чтобы захватить в мотеле свидетелей и доставить их в катакомбы под Скалой Громов. — Сержант, — распорядился Леланд, — проверьте, достаточно ли у водителей бензина, и, если кому-то потребуется пополнить бак, возьмите галлонов десять из нашего запаса. — Слушаюсь, сэр. Я так и хотел поступить, сэр. — Полицейских или снегоуборочных машин не видно? — Никак нет, сэр, — отрапортовал Бидакян, бросив изучающий взгляд на два подъехавших только что автомобиля. — Но мы ожидаем тех или других минут через десять. — Вы знаете, что следует им говорить? — Так точно, сэр. Небольшая авария с грузовиком, который доставлял опасный груз в Шенкфилд. — Полковник! — услышал Леланд голос лейтенанта Хорнера и обернулся. — Срочное сообщение от сержанта Фикса из Шенкфилда! — подбежав к нему, доложил помощник. — Что-то случилось в мотеле. Вот уже пятнадцать минут, как там не слышно никаких голосов, только очень громко говорит радио. Похоже, там никого нет. — Они вернулись в этот проклятый гриль-бар? — Нет, сэр. Фикс полагает, что они сбежали, сэр. — Сбежали? Но куда? — воскликнул Леланд и, не рассчитывая услышать от лейтенанта Хорнера ответ на свой вопрос, побежал назад к вездеходу.* * *
Ее звали Талия Эрви, и она была похожа на Мэри Дресслер, снимавшуюся в замечательных старых фильмах вместе с Уоллесом Бири. Талия была даже крупнее Дресслер, которую, как известно, никак нельзя было назвать хрупкой: у нее была широкая кость, крупное лицо, большой рот и волевой подбородок. Но при этом она показалась Паркеру Фену самой прекрасной женщиной из всех встречавшихся ему за последние дни, потому что она не только вызвалась довезти их с отцом Вайцежиком до мотеля, но и отказалась взять за это деньги. — Я не возражаю, черт подери, — заявила она голосом, похожим на голос Мэри Дресслер. — Я все равно никуда особенно не собиралась, разве что домой, готовить себе ужин. Но повар из меня все равно никудышный, так что ужин подождет, мне это только на пользу. Пожалуй, именно я должна благодарить вас — за возможность поголодать немного. У Талии был огромный старый «Кадиллак» на колесах с шипованными шинами и вдобавок еще и с цепями. Хозяйка заверила своих новых знакомых, что ее «Красавчик», как она любовно называла этот дредноут на колесах, доставит их в любое место в любую погоду. Паркер сел рядом с ней на переднее сиденье, отец Вайцежик устроился на заднем. Они не проехали еще и мили, когда по радио объявили, что в связи с аварией грузовика, доставлявшего токсичный груз на военный объект, шоссе № 80 к западу от Элко перекрыто. Обозвав военных недотепами и идиотами, Талия сказала, перекрывая голосом звук радио: — Они возят опасный груз, с которым нужно обращаться нежно, как с ребенком, а выкидывают такой фортель вот уже второй раз за последние два года! Ни у Паркера, ни у отца Вайцежика не нашлось, что добавить к ее словам: оба со страхом думали, что сбываются их самые мрачные предчувствия. — Так что будем делать, джентльмены? — притормозив машину, обернулась к ним Талия Эрви. — Здесь есть фирма, выдающая автомобили напрокат? — спросил Паркер. — Нам нужен джип. — Здесь есть одно место, где торгуют джипами, — вспомнила Талия. — Вы можете нас туда отвезти? — спросил Паркер. — Я и мой «Красавчик» отвезем вас куда угодно, даже если с неба посыплются снежинки величиной с собаку! — последовал ответ. Торговец джипами Феликс Шелленхоф был куда менее красочной фигурой, чем Талия Эрви. На нем был серый костюм, серый галстук, бледно-серая сорочка, и говорил он бесцветным голосом. Нет, сказал он Паркеру, фирма пока не сдает в прокат автомобили. Да, у них имеются автомобили на продажу. Нет, покупку невозможно оформить за двадцать минут. Если господин намеревается заключить сделку, он сможет получить машину только завтра. — Ведь вы намерены выписать чек, не так ли? А нам потребуется время, чтобы проверить его, потому что вы не из нашего штата. — Я не намерен расплачиваться чеком, — произнес Паркер, и Шелленхоф вскинул серые брови, ожидая, что сейчас клиент выразит желание рассчитаться наличными. — Я расплачусь своей золотой карточкой «Америкэн экспресс». На лице Шелленхофа отобразилось вялое удовлетворение. — Мы принимаем карточки «Америкэн экспресс», — объяснил он, — но в уплату за запасные части и всевозможные дополнительные приспособления. У нас еще никто не покупал автомобиль по кредитным карточкам. — Эти карточки не лимитированы, — сказал Паркер. — Послушайте, я был в Париже, захотел купить там в одной галерее за тридцать тысяч долларов шикарную картину Дали, и они продали ее мне по моей золотой карточке. Шелленхоф начал весьма деликатно их выпроваживать. — Черт возьми! — прорычал отец Вайцежик, стукнув кулаком по столу Шелленхофа. — Пошевели своей задницей, приятель! — Он покраснел от воротничка до корней волос. — Для нас это вопрос жизни или смерти. Свяжись с «Америкэн экспресс». — Он вновь взмахнул правой рукой, и испуганные серые глаза продавца проводили ее затравленным взглядом. — Выясни, подтверждают ли они наличие денег на счете. Но только поживее, ради бога! — И священник еще раз треснул кулаком по столу. Ярость служителя церкви подействовала на продавца: он взял кредитную карточку Паркера и бегом выскочил из конторы в демонстрационный зал, в дальнем углу которого находился застекленный кабинет управляющего. — Клянусь, святой отец, будь вы протестантом, из вас вышел бы отличный проповедник! Публика рыдала бы от восторга! — В свое время я заставил раскаяться немало грешников, — заметил отец Вайцежик. — У них поджилки тряслись от страха. — Я в этом не сомневаюсь, — заверил его Паркер. «Америкэн экспресс» подтвердила платежеспособность предъявителя золотой карточки. Шелленхоф тотчас же достал пачку бланков и указал Паркеру, где поставить подпись. При этом он пытался изобразить на лице любезную улыбку. — Всего неделю назад, — рассказывал продавец, — в понедельник, к нам зашел какой-то парень и рассчитался за «Чероки» пачками двадцатидолларовых банкнотов. Наверное, сорвал неплохой куш в казино. И теперь вот вы… А неделя только началась! Что вы на это скажете? — Потрясающе! — оценил Паркер. Тем временем отец Вайцежик позвонил по стоявшему на столе телефону в Чикаго и рассказал Майклу Джеррано о Паркере и о закрытии шоссе № 80. Когда продавец в очередной раз выбежал с бумагами к управляющему, он произнес нечто такое, что удивило Паркера. — Майкл, — сказал отец Стефан, — с нами всякое здесь может случиться. Так что прошу тебя: как только я положу трубку, свяжись с Саймоном Зодерманом из «Трибюн» и все ему расскажи. Пусть это дело получит огласку. Расскажи, как Брендан исцелил Уинтона Толка и Эмми Халбург, расскажи о Кэлвине Шаркле, о том, что случилось здесь, в Неваде, полтора года назад, и о том, что они здесь видели. Если Саймон не поверит, скажи ему, что я в это верю. Он знает, как нелегко заставить меня поверить во что-либо. Когда отец Вайцежик закончил разговор, Паркер спросил его: — Правильно ли я понял?.. Вам известно, что случилось с ними в тот июльский вечер? — Можно сказать, что да, — ответил отец Стефан. В этот момент вернулся Шелленхоф, готовый помочь Паркеру выбрать автомобиль. — Вы должны мне все рассказать, — безапелляционным тоном сказал Паркер священнику. — Я все расскажу вам в машине, — пообещал отец Вайцежик.* * *
Нед осторожно вел «Чероки» Джека на восток меж заснеженных холмов. Сэнди и Фэй пристально вглядывались в непроторенную дорогу, предупреждая Неда об опасных препятствиях, таящихся в белой мгле. Эрни, сидящий на заднем сиденье вместе с Бренданом и Жоржей, на коленях у которой устроилась Марси, пытался внушить себе, что не поддастся панике, когда наступит полная темнота. Накануне ночью он волновался уже меньше, чем обычно, и это вселяло в него надежду. Обнадеживало его и то, что Доминику удалось вспомнить, как над крышей гриль-бара проносились реактивные самолеты: если вспомнил Доминик, то вспомнит и он, Эрни. А как только это случится, темнота уже не будет пугать его. — Впереди шоссе, — сказала Фэй, и «Чероки» остановился. Они действительно выбрались на шоссе, проходящее мимо мотеля «Спокойствие» невдалеке от дороги № 80. Мотель находился от них на расстоянии около двух миль к югу, а Скала Громов — в восьми милях к северу. Ведущая к хранилищу узкая полоска асфальта была, как всегда, очищена от снега. — Быстрее! — поторопила Неда Сэнди, опасаясь, что их могут заметить. Нед рванул машину с места, быстро пересек пустынное шоссе и выехал на открытое пространство у подножия холмов, за которыми, в шести милях к востоку, проходила еще одна дорога — Виста-Вэлли-роуд, соединяющая север с югом: на нее-то им и нужно было как можно скорее выбраться. Брендана и Жоржу несколько раз хорошенько тряхнуло на ухабах и бросило на сидящего между ними Эрни, но тот, похоже, даже не почувствовал этого, занятый тревожными размышлениями о сгущающейся вокруг темноте. Эрни неожиданно осознал, что до наступления ночи остается всего несколько минут. Беспросветная мгла уже обложила их со всех сторон, затаившись перед прыжком за снежными завесами, еще немного — и она набросится на него… Нет. Нельзя тратить энергию на бессмысленную истерику, когда существует немало других, вполне реальных угроз. Ведь даже имея компас, они вполне могут сбиться с пути в этой пурге, провалиться в яму или врезаться в скалу. Нед, похоже, опасался того же, потому что машина уже не неслась, а едва ползла по каменистому полю. Эрни подумал, что правильно сделал, переключившись со страха перед темнотой на реальные опасности, поджидающие их в пути. Фэй оглянулась на него, и он улыбнулся ей, давая понять, что с ним все в порядке. Но не успела она сложить в кольцо большой и указательный пальцы, чтобы этим жестом показать, что «все о'кей», как маленькая Марси пронзительно закричала.* * *
Доктор Майлс Беннелл сидел в темноте в своем маленьком офисе в недрах Скалы Громов и предавался невеселым размышлениям. Тусклый свет, проникавший в помещение через два крохотных оконца, выходящих на центральную пещеру второго этажа подземелья, был слишком слаб, чтобы при нем можно было что-то разглядеть в комнате. На письменном столе перед Беннеллом лежали шесть листов бумаги. За прошедшие месяцы он проштудировал их не менее тридцати раз, так что теперь не было нужды снова читать их слово за словом. Он и без того отлично помнил, что там напечатано. А именно: психологическая характеристика Леланда Фалькирка, незаконно добытая доктором Беннеллом из памяти компьютера ОРВЭС. Майлс Беннелл — доктор биологии и химии, неплохо разбирающийся в физике и антропологии, сносно играющий на гитаре и рояле, автор нескольких книг по самым различным проблемам, почитатель хороших вин и поклонник фильмов Клинта Иствуда — кроме всего прочего, знал толк в компьютерах. Он увлекся ими еще в студенческие годы, и его знания и навыки в этой области весьма пригодились ему, когда полтора года назад судьба свела его с Леландом Фалькирком. После непродолжительного, но интенсивного общения с полковником у доктора Беннелла сложилось мнение, что тот — человек с нарушенной психикой. Его наверняка признали бы негодным к военной службе, если бы не одно обстоятельство: он, очевидно, принадлежал к тому редчайшему типу параноиков, которые в совершенстве научились играть роль вполне нормальных людей. Но, сделав такое открытие, Майлс не удовлетворился им и пошел дальше, решив выяснить, какаявнутренняя пружина движет поступками Фалькирка и что может вывести его из равновесия. Ответ на эти вопросы можно было найти лишь в штабе ОРВЭС, и шестнадцать месяцев назад Майлс при помощи своего персонального терминала и модема подобрался к архивам в Вашингтоне. Когда доктор впервые прочитал психологическую характеристику полковника, он по-настоящему испугался, хотя и был внутренне готов продолжать свою нынешнюю работу, даже если бы был вынужден сотрудничать с таким опасным и жестоким человеком, как Леланд Фалькирк. Осмыслив ситуацию, Беннелл пришел к заключению, что с параноиком такого типа лучше соблюдать холодную почтительность, ибо малейшее проявление дружелюбия или панибратства насторожит его, и заронит в нем подозрение, что от него хотят что-то скрыть. Такого человека лучше вежливо держать на дистанции. И вот теперь Майлс оказался в полной зависимости от Фалькирка: запертым под землей и ожидающим суда и приговора, соответствующего извращенным воззрениям полковника на виновность и невиновность. Было от чего перепугаться до смерти. Армейский специалист, составивший психологический портрет Леланда Фалькирка, явно не обладал ни глубокими знаниями, ни проницательностью. И тем не менее от него не укрылись некоторые особенности личности этого человека, знакомясь с которым Майлс испытал сильное беспокойство, поскольку умел читать не только то, что написано на бумаге, но и между строк. Наряду с тем, что психолог признавал Леланда Фалькирка, безусловно, годным для службы в элитарных частях ОРВЭС, он отмечал следующее. Во-первых, Фалькирк с опаской и презрением относился к религии любого толка. Но, поскольку профессиональному военному, мечтающему о карьере, полагается любить Бога и отечество, он скрывал свою антипатию, уходящую корнями в его трудное детство в семье фанатиков веры. Эта черта его характера, как заключил Майлс Беннелл, была особенно опасна в сложившейся ситуации, когда полковник постоянно сталкивался при исполнении служебных обязанностей с мистическими феноменами, в той или иной степени сопряженными с религиозными идеями, что неминуемо должно было вызвать у него острую негативную реакцию. Во-вторых, Леланд Фалькирк был помешан на контроле. Ему было необходимо доминировать над всем и вся, и эта болезненная потребность контролировать окружающий мир наглядно свидетельствовала о его постоянной борьбе с собственными страстями и параноидальными страхами. При мысли о нечеловеческом напряжении, испытываемом полковником в связи с выполнением теперешней его миссии, доктор Беннелл содрогнулся. Ведь то, что было спрятано в недрах Скалы Громов, рано или поздно должно было выйти из-под контроля. Осознав это, полковник Фалькирк мог либо сломаться, либо прийти в неконтролируемую ярость, чреватую опасными последствиями. В-третьих, Леланд Фалькирк страдал боязнью закрытых помещений, причем это хроническое заболевание, протекающее в легкой форме в нормальных условиях, обострялось в подземелье. Это могло быть следствием, например, того, что в юные годы безжалостные родители запугивали его преисподней. Чувствуя себя в катакомбах не в своей тарелке, Фалькирк не мог не испытывать подозрения ко всем сотрудникам такого учреждения, как подземное хранилище «Скала Громов». Страшно подумать, но он подозревал каждого уже с первого дня работы над проектом! И наконец, четвертое, самое худшее обстоятельство: полковник Фалькирк был убежденным мазохистом. Он намеренно подвергал себя испытаниям на болеустойчивость и выносливость, считая это необходимым для поддержания высокого уровня боеготовности, как и требуется от офицера ОРВЭС. Его маленький грязный секрет, в котором он едва ли признавался даже самому себе, заключался в том, что ему нравилось испытывать страдания. Эта сторона натуры Фалькирка тревожила Майлса Беннелла больше всего. Если полковнику нравится боль, он с легким сердцем обречет себя и всех остальных сотрудников хранилища на любые страдания во имя очищения мира. Более того, он не остановится и перед тем, чтобы уничтожить всех ради исполнения этой параноидальной миссии. В своем темном кабинете Майлс Беннелл в отчаянии обхватил голову руками. Его пугало даже не то, что он и его коллеги погибнут. В ужас и отчаяние приводила его неминуемая гибель всего проекта, над осуществлением которого они так долго трудились. А если это случится, человечество лишится не только величайшей за всю историю вести, но и надежды на мир, бессмертие, полный достаток и вечное блаженство.* * *
Леланд Фалькирк стоял в кухне Блоков и смотрел на лежащий на столе альбом. Открыв его, он увидел фотографии и рисунки Луны, все выкрашенные в красный цвет. Снаружи доносились голоса десятка солдат ОРВЭС, методично обыскивающих мотель и прилегающие к нему постройки, отчаянно завывал ледяной ветер. Глубоко вдыхая и медленно выдыхая воздух, чувствуя себя с каждым новым вдохом и выдохом все спокойнее и собраннее, Леланд перевернул страницу и увидел новые алые луны — диковинную коллекцию ребенка. За окном кухни взревели автомобильные моторы: люди полковника перегоняли вездеходы к черному ходу, как сразу догадался Леланд по хорошо знакомому звуку. Полковник продолжал просматривать альбом, переворачивая страницу за страницей и не думая о преследующих его неудачах. Его ничто не могло выбить из седла, он всегда владел собой и ситуацией. На лестнице, ведущей из конторы в квартиру хозяев мотеля, загромыхали тяжелые ботинки лейтенанта Хорнера. Спустя минуту он и сам влетел из гостиной в кухню. — Сэр, проверены все номера. Никого нет. Они ушли через черный ход на двух машинах. Мы обнаружили отпечатки протекторов на снегу. Они не могли далеко уйти в такую погоду, я за это ручаюсь. — Вы послали своих людей в погоню? — Нет, сэр. Я только приказал на всякий случай перегнать к черному ходу машины. Люди готовы. — Отправляйте людей, — ровным негромким голосом распорядился Леланд. — Не беспокойтесь, сэр, мы их догоним. — Я в этом не сомневаюсь, — уверенно произнес полковник, всем своим видом подчеркивая, что держит операцию под контролем. — Как только отправите людей, ждите меня внизу с картой округа. Они наверняка попытаются выйти на федеральное или окружное шоссе — там-то мы их и перехватим. — Так точно, сэр! — откликнулся Хорнер. Оставшись один, Леланд спокойно перевернул еще одну страницу альбома. На него смотрели все те же красные луны. Хорнер с оглушительным шумом сбежал по ступеням лестницы и с такой силой захлопнул за собой дверь, что задрожали стены. Спокойно, очень спокойно Леланд переворачивал одну за другой страницы альбома. Было слышно, как Хорнер отдает солдатам команды. Леланд продолжал листать альбом. Под окнами взревели моторы. Восемь человек, разбившись на две группы по четыре человека, выехали на поиски исчезнувших свидетелей. Леланд хладнокровно перевернул еще две, три, шесть страниц альбома, на каждой из которых были все новые и новые красные луны, спокойно взял альбом со стола и швырнул его в угол комнаты. Альбом ударился о буфет, рикошетом задел холодильник и упал на пол. Рисунки и фотографии алых лун рассыпались по всей кухне. Леланд увидел на полке глиняный горшок с нарисованным на нем улыбающимся медведем, схватил его и с размаху треснул об пол, разбив вдребезги. Лежавшее в горшке шоколадное печенье разлетелось в разные стороны и упало на раскрашенные рисунки и фотографии Луны. Леланд схватил со стола радиоприемник и тоже шмякнул его об пол. За ним следом полетела сахарница. Потом он разбил о стену хлебницу и швырнул в плиту кофеваркой. Проделав все это, Леланд некоторое время стоял посреди учиненного им разгрома, глубоко и ровно дыша, потом повернулся и спокойно вышел из кухни, все так же невозмутимо спустился по лестнице в контору, чтобы не спеша изучить там вместе с лейтенантом Хорнером карту округа и трезво оценить ситуацию.* * *
— Луна! — закричала Марси. — Мама, смотри, Луна! Почему, мама, почему? Гляди же, там Луна! Внезапно девочка попыталась вырваться из объятий матери, извиваясь и отталкивая ее руки. Жоржа пыталась удержать ее, но ей это плохо удавалось. Нед остановил машину, испуганный криком и возней за спиной. Марси вновь пронзительно вскрикнула, вырвалась от Жоржи и попыталась перелезть через Эрни, явно без всякой очевидной цели и лишь только для того, чтобы убежать от нахлынувших вдруг на нее воспоминаний. Было ясно, что она не отдает себе отчета, что находится в «Чероки», а уверена, что очутилась в каком-то другом, очень опасном месте. Эрни прижал девочку к груди, крепко сжав сильными руками, и постарался успокоить. Постепенно Марси пришла в себя, перестала биться, обмякла и затихла у него на коленях, тихо бормоча дрожащим голоском: — Луна, Луна, Луна, Луна… Не отдавайте меня ей, не отдавайте меня ей… — Успокойся, Марси, — поглаживая ее по головке, утешал девочку Эрни. — Мы тебя никому не отдадим, не бойся. — Она что-то вспомнила, — сказал Брендан, и Нед снова тронул машину с места. — Ее озарило на мгновение. — Что ты видела, дочка? — спросила Жоржа. Но девочка крепко обняла Эрни и ничего не отвечала: она снова ушла в какой-то иной, мрачный мир, где ей было очень страшно, и поэтому она все теснее прижималась к Эрни, интуитивно чувствуя, что тот не даст ее в обиду. После многих месяцев страха перед темнотой Эрни был рад, что кто-то ищет у него защиты в эту мглистую ночь, которую ему легче было стараться не замечать, нашептывая ласковые слова еще более перепуганному и беззащитному существу.* * *
Джек наконец повернул на восток и вскоре выехал на окружную дорогу, ведущую к Скале Громов, приблизительно в миле к северу от того места, где шоссе пересек Нед на «Чероки». Джек свернул направо и повел пикап на хранилище, повторяя маршрут, проделанный утром Домиником и Эрни. Между тем метель с каждой минутой становилась все сильнее. Чем выше поднималась машина в горы, тем гуще валил снег. — До поворота на хранилище осталось не более мили, — заметил Доминик. Джек выключил фары и сбросил скорость. Пока его глаза не привыкли к темноте, мир казался ему сотканным из белых крупинок и мглы. Он не видел, по какой полосе ведет автомобиль, и в любой момент ожидал столкновения со встречной машиной. Видимо, Джинджер подумала о том же, потому что она вся съежилась, прижавшись к спинке сиденья, и нервно кусала губы. — Впереди огни хранилища, — сказал Доминик. По обеим сторонам ворот ярко сияли два ртутных фонаря. Узкие окошки проходной светились мягким янтарным светом. Джеку удалось разглядеть лишь неясные контуры приземистого строения по другую сторону ограды: густой снегопад смазывал все детали. Это вселяло в него уверенность, что с выключенными огнями пикап будет незаметен охране, если той вдруг взбредет в голову выглянуть в окно, так что можно попытаться проскочить по шоссе мимо поста, не обратив на себя внимания, поскольку шум двигателя заглушался неистовым воем ветра. Они медленно поднимались по скользкому подъему, все глубже погружаясь в черноту ночи, окутавшей горы. «Дворники» на лобовом стекле с трудом справлялись с липким снегом, отяжелев от ледяных наростов. Когда они миновали поворот на хранилище и проехали еще около мили, Джинджер робко спросила: — Может быть, уже можно включить подфарники? — Нет, — бросил Джек, вцепившись в руль и пристально всматриваясь в дорогу, — мы все время будем двигаться в темноте.* * *
В конторе мотеля Фалькирк и Хорнер развернули на регистрационной стойке карту округа и погрузились в ее скрупулезное изучение. Однако вскоре их занятие было прервано появлением солдат, вернувшихся из погони за исчезнувшими свидетелями. Поисковой группе удалось проследить отпечатки шин на дне оврага только на протяжении двухсот ярдов, а дальше следы терялись в сугробах. Тем не менее все же обнаружились некоторые признаки того, что по меньшей мере одна из машин потом ушла по другой ложбине на восток, а поскольку не было никаких оснований предполагать, что беглецы разделились на две группы, был сделан вывод, что в том же направлении скрылась и вторая машина. — Похоже, что так оно и есть, — разглядывая карту, задумчиво произнес полковник. — Им незачем идти на запад: до первого населенного пункта, Батл-Маунтина, около сорока миль, а до Уиннемаки еще пятьдесят. В этих городках трудно спрятаться, поэтому они скорее всего взяли курс на восток, на Элко. Лейтенант ткнул толстым, как сигара, пальцем в карту: — Эта дорога проходит мимо мотеля и ведет к Скале Громов. Они должны были уже пересечь ее и двигаться дальше на восток. — На какое следующее шоссе они могут выйти? — спросил Леланд. Лейтенант Хорнер нагнулся над картой, пытаясь разглядеть название дороги. — Виста-Вэлли — она в шести милях к востоку от шоссе на Скалу Громов, — наконец разобрал он мелкие буквы.* * *
Раздался стук в дверь, и Майлс Беннелл сказал: — Войдите! Начальник «Скалы Громов» генерал Роберт Альварадо рывком открыл дверь и вошел в темную комнату, впустив снаружи поток серебристого света, сразу же как бы покрывший инеем часть пола. — Затворничаете во мраке? — хмыкнул он. — Представляю, что подумал бы полковник Фалькирк! — Боб, он сумасшедший, — сказал Майлс Беннелл. — Недавно, — продолжал Альварадо, — я доказывал, что он неплохой офицер, только излишне педантичен и горяч. Но сегодня я согласен с тобой: он совсем сорвался с цепи. Он только что разговаривал со мной по телефону так, словно он здесь начальник. Он хочет, чтобы все сотрудники, и не только военнослужащие, но и гражданские лица, оставались на своих рабочих местах до особого распоряжения. Сейчас мой приказ об этом объявят по внутренней радиосети. — Зачем это ему? — спросил Майлс. Альварадо сел на стул возле открытой двери, наполовину посеребренный падающим на него светом, и пояснил: — Фалькирк собирается доставить сюда свидетелей, но не хочет, чтобы их видели посторонние, те, кто о них еще не знает. Во всяком случае, мне он это объяснил именно так. — Если пришло время подвергнуть их еще одной обработке, — удивленно заметил Майлс, — не целесообразнее ли сделать это в мотеле? И, насколько мне известно, он не вызывал специалистов по промыванию мозгов. — Верно, — кивнул Боб Альварадо, — он сказал, что дальше играть в кошки-мышки невозможно, и хочет, чтобы ты обследовал кое-кого из свидетелей, в особенности Кронина и Корвейсиса. Он подозревает, что они уже вовсе и не люди. Но при этом он добавил, что обдумывает вашу с ним беседу и не исключает, что ты прав, а он излишне мнителен. Он сказал: если окажется, что он не прав и они все же люди, только обладающие исключительными способностями, и если действительно в их организмах не обнаружат никаких признаков постороннего присутствия, тогда он согласится с тобой и сохранит им жизнь. Более того, он, возможно, даже будет рекомендовать рассекретить всю эту историю и предать ее огласке. Майлс какое-то время молчал, потом не совсем уверенно проговорил, вытягивая ноги: — Судя по этим словам, он еще не окончательно лишился рассудка. Но мне почему-то в это не верится. Ты-то ему веришь? Прежде чем ответить на этот вопрос, Альварадо встал и захлопнул дверь. Комната снова погрузилась во тьму. Чувствуя, что Майлс захочет включить лампу, он упредил его: — Лучше пусть останется так, как есть. В темноте легче откровенничать. — Он сел на стул и продолжал: — Скажи мне, Майлс, это ты послал фотографии Корвейсису и Блокам? Майлс не ответил. — Ведь мы же с тобой друзья, старина, — не дождавшись ответа, воскликнул генерал. — Во всяком случае, мне так всегда казалось. Мне еще никогда не попадался такой парень, с которым я смог бы сыграть и в шахматы, и в покер. Так что я признаюсь тебе: это я вызвал сюда Джека Твиста. — Как? Зачем? — изумленно спросил Майлс. — Видишь ли, мне тоже стало известно, что у некоторых свидетелей возникли психологические проблемы из-за трещин в блокаде памяти. Поэтому я решил привлечь их внимание к мотелю до того, как им снова обработают мозги. Я надеялся, что мне в конце концов удастся рассекретить операцию. — Но зачем тебе все это нужно? — повторил Майлс. — Затем, чтобы исправить допущенную ошибку! Я пришел к выводу, что вообще не следовало скрывать эту историю. — Но почему бы не пойти законным путем? Зачем действовать исподтишка? — Если бы я стал действовать открыто, мне пришлось бы распрощаться с карьерой, а может быть, и с пенсией. Кроме того, я боялся, что Фалькирк меня убьет. Майлс подумал, что и он опасался того же. — Я начал с Твиста, подумав, что его военный опыт и бунтарский характер — как раз те качества, которые необходимы, чтобы сплотить остальных свидетелей. Ознакомившись с информацией, полученной позапрошлым летом во время промывания ему мозгов, и узнав о его депозитных ящиках в банках, я выписал из его досье названия банков, ключевые слова-пароли, сделал копии с копий ключей от всех его сейфов (ими запасся Фалькирк на случай, если потребуются доказательства преступной деятельности Твиста, чтобы шантажировать его или упрятать в тюрьму). Потом взял в конце декабря отпуск на десять дней, слетал в Нью-Йорк, прихватив с собой пачку открыток с фотографией мотеля «Спокойствие», и оставил в каждом банке, где он хранил деньги, по открытке. Он навещал банки не слишком часто, всего несколько раз в году, и его там не могли запомнить среди сотен клиентов, так что у меня все прошло гладко. — Просто и без затей! — воскликнул Майлс, с восхищением разглядывая в полумраке своего грузного приятеля. — Твист не мог остаться равнодушным к этим открыткам, а Фалькирку не удалось бы по ним определить, чья это работа. — Тем более что я брал открытки только в перчатках, — добавил Альварадо. — На них не осталось отпечатков моих пальцев. Я рассчитывал, что еще успею позвонить из Элко другим свидетелям и дать им номер телефона Твиста, с тем чтобы они начали расспрашивать его о своих психических проблемах, что еще сильнее обострило бы ситуацию. Но кто-то опередил меня, послав записки и снимки Корвейсису и Блокам, возникли новые осложнения, и мне, как и Фалькирку, стало ясно, что следы ведут сюда, в хранилище. Ты собираешься признаваться или сегодня у меня одного покаянное настроение? Майлс колебался. Его взгляд упал на лежащую на столе перед ним папку с психологической характеристикой Фалькирка. Наконец он поежился и ответил: — Да, Боб, это я послал снимки. Великие умы мыслят одинаково, не так ли? — Я же объяснил, почему я остановил свой выбор на Твисте, — ответил из темного угла Альварадо. — И мне совершенно ясно, почему ты решил разбередить Блоков: они местные и как бы в центре всего случившегося. Но что привлекло тебя в Корвейсисе? Почему твой выбор пал именно на него? — Он писатель, следовательно, обладает живым воображением. Анонимные записки и непонятные фотографии должны были взбудоражить его быстрее, чем обычных людей. Кроме того, докопайся он до истины, после успеха его первого романа к его мнению наверняка прислушались бы репортеры. Других же свидетелей они вряд ли приняли бы всерьез. — Мы умная парочка. — К счастью для нас самих, — усмехнулся Майлс. — Похоже, однако, мы действовали недостаточно решительно. Нам следовало бы давно разгласить эту тайну, наплевав на наши обязательства и неприятные последствия. Помолчав, Альварадо спросил: — Как ты думаешь, Майлс, почему я решил открыться тебе? Зачем я пришел сюда? — Тебе нужен союзник в борьбе против полковника. Ты не веришь ни одному его слову, не считаешь, что он вдруг начал поступать разумно. Ты не уверен, что он намерен доставить в хранилище свидетелей, чтобы мы изучали их. — Я полагаю, что он собирается их убить, — твердо произнес Альварадо. — И нас тоже. Всех. — Потому что он считает, что нас всех подменили. Редкий идиот! Висевший на стене репродуктор внутренней трансляции крякнул и засвистел, затем последовало объявление: всем сотрудникам хранилища надлежало получить в арсенале личное оружие и после этого ждать на своих рабочих местах дальнейших указаний. Альварадо поднялся со стула. — Когда все будут на своих рабочих местах, — сказал он, — я скажу им, что задержать их здесь — идея Фалькирка, а вооружить — моя. Я предупрежу их о грозящей нам всем со стороны Фалькирка и ОРВЭС опасности, чтобы они были готовы дать отпор — в крайнем случае. Но я все же надеюсь, что нам удастся до этого нейтрализовать полковника. Я не дам убивать своих людей. — Мне тоже выдадут пистолет? — спросил Майлс. Альварадо остановился возле двери. — Тебе в первую очередь. Спрячь его под халатом, чтобы Фалькирк не заметил, что ты вооружен. Я тоже буду держать оружие наготове и, как только замечу, что он намеревается отдать приказ уничтожить нас, тотчас же застрелю его. Но сперва дам тебе об этом знать условным словом, чтобы ты успел застрелить Хорнера, иначе он убьет меня. А мне нужно остаться в живых, чтобы взять на себя командование подчиненными Фалькирка. Ты сможешь это сделать? Ты способен убить человека, Майлс? — Да. Я нажму на спусковой крючок, чтобы остановить Хорнера. Я сделаю это также и ради тебя, Боб, потому что считаю тебя хорошим другом. И не только потому, что с тобой можно сыграть как в шахматы, так и в покер. Я уважаю тебя и за то, что ты прочитал всего Томаса Стернза Элиота. — «Кажется мне, мы в крысиной норе, где мертвецы лишились костей…» — процитировал строки из поэмы «Бесплодная земля» Боб и, тихо рассмеявшись, потянул на себя дверь, снова впуская в комнату серебристый свет. — Парадоксально, но факт: когда-то давно мой папаша беспокоился, что любовь к поэзии сделает из меня женоподобного слюнтяя. Из меня получился генерал, и в трудный час именно поэзия убеждает тебя пойти ради меня на убийство. Так что, доктор Майлс, пошли получать пистолет? Майлс встал и последовал за генералом. Задержавшись возле двери, он сказал: — А ты отдаешь себе отчет, что Фалькирк практически действует от имени начальника штаба армии и других высших чинов? Убив его, ты вызовешь гнев генерала Ридденхауэра и даже, может быть, самого президента. — Плевать на Ридденхауэра, — шлепнул Майлса по плечу Боб Альварадо. — Плевать на всех политиков и их услужливых генералов. Пусть Фалькирк и унесет с собой на тот свет новые коды к компьютеру, мы все равно выберемся из этой норы спустя несколько дней, даже если нам для этого придется взорвать ворота. Но зато потом… Ты понимаешь, что потом, когда мы принесем миру это известие, мы станем самыми знаменитыми людьми на этой печальной планете? Может быть, самыми знаменитыми за всю историю человечества! Откровенно говоря, это будет самая выдающаяся весть после той, которую сообщила миру в пасхальное утро Мария Магдалина!* * *
Отец Стефан Вайцежик вызвался управлять «Чероки», потому что имел дело с подобными автомобилями, еще когда служил с отцом Биллом Надером во Вьетнаме. Там, конечно же, не было метелей, но опыт управления джипом в джунглях все равно пригодился: очень скоро святой отец понял, что вполне может справиться с машиной, имеющей привод на все четыре колеса, не только на болотистой местности, но и на скользком заснеженном шоссе, потому что она ведет себя и в тех и в других условиях примерно одинаково. Опыт, обретенный давным-давно под пулями и снарядами в далекой жаркой стране, вновь ожил в его памяти и сердце, придав уверенности и сноровки рукам, крепко державшим руль «Чероки». Отец Вайцежик с отчаянной лихостью гнал машину все дальше и дальше вперед, в беснующуюся ночную пургу, подальше от городских огней, туда, куда звали его долг священника и Господь и куда рвалась его беспокойная душа, жаждущая новых открытый и впечатлений. Федеральное шоссе № 80 было закрыто, и они поехали на север по шоссе № 51, свернув затем на ведущую на запад проселочную дорогу, местами посыпанную щебенкой или гравием, а по большей части песком, припорошенным снегом. Если бы не люминесцентные отражатели вдоль обочины, отец Вайцежик наверняка бы сбился с пути или угодил в канаву. Весьма пригодились и предусмотрительно купленные в магазине компас и карта округа. Так что, как ни петлист и ухабист был их маршрут, они неуклонно приближались к мотелю «Спокойствие». По дороге отец Стефан рассказал Паркеру о специальной группе исследования возможных последствий контакта с внеземными цивилизациями. Об этой научно-исследовательской группе ему стало известно от Майкла Джеррано, которому рассказал о ней знакомый Джинджер Вайс, условно названный мистером Икс. — Полковник Фалькирк — единственный военный в этом подразделении Комитета стратегических исследований, — пояснил Стефан. — На мой взгляд, все это пустая трата денег налогоплательщиков. В состав группы вошли биологи, физики, антропологи, врачи, социологи и психологи, и создавалась она, по сути, для оценки предполагаемой общественной проблемы, которая могла бы никогда и не возникнуть. Глядя на заснеженную дорогу, отец Стефан услышал, как художник тяжело задышал. — Не хотите ли вы этим сказать, что… — запинаясь, проговорил он, — что в некотором смысле она уже… — Да. — Вы хотите сказать, что… нечто уже посетило нас? — Впервые за все время их непродолжительного знакомства у Паркера Фейна отнялся язык. — Да, — подтвердил отец Стефан, понимая, что сейчас испытывает его спутник, и сам внутренне содрогаясь при одной лишь мысли об этом удивительном событии. — Той ночью что-то спустилось с неба на нашу планету. — Боже! — воскликнул Паркер. — Значит, все-таки что-то в этой святой галиматье есть… Извините, святой отец, я не хотел богохульствовать, черт побери! Продолжая внимательно следить за дорогой, отец Вайцежик пожал плечами: — Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не думаю, что Господь рассердится на вас за невыдержанность. Что же касается этой специальной группы, то ее главной задачей было предсказать реакцию людей на непосредственный контакт с пришельцами из космоса. — Да что тут долго ломать себе голову! — воскликнул Паркер. — Все ясно как божий день: любому приятно обнаружить, что мы не одиноки! Ведь мы с вами знаем, как люди реагируют на кинофильмы об иных мирах и цивилизациях! — Да, — согласился отец Стефан, — но в жизни все может быть совсем иначе, чем в кино. Многие ученые склоняются к выводу, что встреча с более развитой цивилизацией может повлечь за собой крушение традиционных институтов общества, стоящего на низшей ступени развития. Так считают социологи, психологи и антропологи. Пропадает вера в божества и верховную власть, разрушаются общественные и семейные устои. Вспомните, что стало с эскимосами, когда они столкнулись с западной цивилизацией: начали распадаться семьи, люди стали спиваться, кончать жизнь самоубийством… И дело тут вовсе не в том, что западная культура опасна или греховна, это не так. Просто она оказалась слишком сложна для эскимосов, и столкновение с ней привело к утрате ими их самобытности, а такая потеря невосполнима. Священнику пришлось прервать свои рассуждения по данному вопросу, потому что щебеночная дорога, по которой они двигались, кончилась и нужно было свериться с картой. — Три мили на запад прямиком через поле — и мы на шоссе, которое называется… — Паркер прищурился, вглядываясь при тусклом свете лампочки перчаточного отделения в карту, — называется Виста-Вэлли-роуд. Оттуда до мотеля, если ехать снова напрямик, не более девяти миль. — Следите, чтобы я не сбился с пути, — кивнув на компас, сказал отец Стефан и решительно вырулил на темную заснеженную долину. — Мне кажется, вы давно уже размышляете над этой проблемой, — вернулся к прерванному разговору Паркер Фейн. — Не мог же этот мистер Икс наговорить столько всего за один-единственный сеанс телефонной связи. Я имею в виду и эскимосов, и все подробности об исследовании специальной группы ученых. — Видите ли, — пояснил отец Вайцежик, — мне приходилось серьезно изучать как положительные, так и отрицательные последствия усилий церкви в деле распространения веры среди народов с отсталой культурой. Если проследить этот процесс на протяжении всей истории христианства, то складывается впечатление, что церковь причинила культуре немало вреда, даже способствуя прогрессу. Нам, священникам-иезуитам, приходится изучать и антропологию, так что мне понятна озабоченность ученых. — Мы отклонились на север, — заметил Паркер, взглянув на компас, — возьмите немного левее. Так вот, лично мне их озабоченность совершенно непонятна. Может быть, вы меня просветите? — Возьмем для примера американских индейцев, — продолжал излагать свою мысль отец Стефан. — Ведь их доконали не ружья бледнолицых, а чужая культура. Под натиском новых идей они вынуждены были переоценить свой относительно примитивный жизненный уклад и в результате утратили самобытность, разочаровались в своей культуре. Мистер Икс сказал отцу Джеррано, что, по мнению ученых из специальной исследовательской группы, встреча землян с более развитыми инопланетянами могла бы иметь те же последствия: крушение религиозных убеждений, потерю веры в правительства, утрату моральных ориентиров и принципов, волну самоубийств в результате ощущения своей неполноценности. Паркер Фейн проглотил подступивший к горлу ком и спросил: — Святой отец, а вы бы утратили свою веру? — Нет, — воскликнул отец Стефан. — Напротив, если бы в этой огромной Вселенной не было иной жизни, если бы ни на одной из триллионов звезд и миллиардов планет не обитали живые существа, вот тогда я бы скорее усомнился в существовании Бога и поверил, что человечество появилось благодаря счастливому стечению случайных обстоятельств. Ибо если Бог есть, Он любит и лелеет жизнь и живые создания и никогда бы не оставил мироздание таким пустым. — Многие люди, большинство людей подумали бы так же, — отозвался Паркер. — Я остался бы при своем мнении, даже если бы пришельцы обладали отвратительной — на наш взгляд — внешностью, — добавил отец Стефан. — Когда Господь сказал нам, что создал нас по образу своему, Он не имел в виду внешнее сходство. Он подразумевал наши души, разум, способность здраво мыслить и сострадать, любить и дружить. Именно эти человеческие качества соответствуют Его замыслу. И именно это я и хочу сказать Брендану. Мне представляется, что его кризис веры обусловлен воспоминаниями о встрече с резко отличающейся от нас расой, причем расой, наделенной столь значительным над нами превосходством, что подсознательно он решил: церковь лжет, когда учит нас тому, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Я хочу сказать ему, что это совершенно неважно, как они выглядят и насколько они более развиты, чем мы. Главное, что указывает на присутствие в них Божьего промысла, — это их способность любить, заботиться о других существах и использовать данный им Богом интеллект во имя торжества Его замысла над вызовом мироздания. — Что они и продемонстрировали, добравшись до нас! — Именно так! — подтвердил отец Вайцежик. — Я уверен, что Брендан в конце концов вспомнит все, что произошло с ним, и, поразмыслив над этим, придет к такому же заключению. Но я все равно хочу быть рядом с ним, чтобы помочь и направить в нужную минуту. — Вы его очень любите. Отец Вайцежик на мгновение умолк, пристально вглядываясь в вихри вьюги впереди и сбрасывая скорость, и негромко сказал: — Порой я сожалею, что стал священником. Видит Бог, это правда. Ведь я мог бы жениться, иметь детей, заботиться о них и ощущать их заботу. Мне очень не хватает семьи… В остальном же я доволен жизнью. Брендан… Он заменяет мне сына, которого у меня никогда не было и не будет. Я люблю его так, что даже не могу выразить этого словами. — Лично я думаю, что ученые сгущают краски. Первый контакт вряд ли сильно повлиял бы на нас, — после некоторого молчания произнес Паркер. — Я тоже так считаю, — поддержал эту мысль отец Стефан. — Все дело в том, что наша культура далеко не примитивна, мы тоже многого достигли, так что вполне подготовлены к контакту с высшей цивилизацией. Никакого шока общество не испытает, и нет нужды скрывать от него правду. Клянусь, мы готовы к встрече с пришельцами из других миров! — Да, мы готовы, — повторил за ним шепотом Паркер. Некоторое время они молча раздумывали над всем сказанным. Наконец Паркер сверился с компасом и, прочистив горло, отметил: — Мы идем правильным курсом. До Виста-Вэлли-роуд осталось не более мили. Кстати, вы говорили, что этот парень из Чикаго, Кэлвин Шаркл, что-то кричал полицейским сегодня утром. Интересно, что именно? — Он настойчиво уверял всех, что видел, как на землю высадились инопланетяне, настроенные к нам враждебно. Он опасался, что они вселятся в нас, кричал, что все его соседи уже практически не люди, что их подменили. Инопланетяне пытались и его подчинить своей воле, привязали к кровати и что-то вливали в вену. Сперва я даже подумал, что так оно и было там, в Неваде, и всем нам грозит страшная опасность. Но потом, обдумав все хорошенько по пути из Чикаго, я пришел к выводу, что Кэлвин просто все перепутал. Он видел посадку звездолета, а когда появились люди в защитных костюмах, принял их за пришельцев. А после того как они промыли ему мозги, в его голове все окончательно перемешалось. Пришельцы здесь ни при чем, во всех его бедах виноваты его соотечественники. — До Виста-Вэлли-роуд осталось менее полумили, — сообщил Паркер, сверившись с картой. Снежные вихри продолжали выделывать замысловатые па в желтом свете фар, по прихоти ветра то исчезая, то вновь возникая из темноты, словно призраки. Начался крутой подъем, и Паркер негромко сказал: — Значит, правительство заранее знало о приближении звездолета, раз задолго до его приземления перекрыло шоссе. Но ведь экипаж в любой момент мог бы изменить курс. Откуда же тогда возникла уверенность, что корабль сядет именно в этом месте? — Возможно, он терпел аварию, — предположил отец Вайцежик. — Его заметили еще в космосе и следили за ним достаточно продолжительное время, чтобы установить, что он спускается без управления либо в автоматическом режиме. Высчитать место приземления в этом случае совсем несложно. Возможно, корабль разбился. — Нет! — воскликнул художник. — Я не хочу даже думать об этом! — Я тоже. — Мне бы хотелось, чтобы инопланетяне добрались до нас живыми после такого долгого путешествия, — вздохнул Паркер. На половине подъема колеса забуксовали на льду, но вездеход все же преодолел скользкий участок и продолжал двигаться вперед. — Мне хочется верить, что Доминик и другие видели не только космический корабль, но и тех, кто был внутри. Страшно подумать! Нет, вы только представьте… — Что бы ни случилось там в ту июльскую ночь, это было необычайное событие, имевшее загадочные последствия, — сказал отец Вайцежик. — Вы имеете в виду удивительные способности, проявившиеся после него у Брендана и Доминика? — Да. Случилось нечто большее, чем контакт с инопланетянами. Джип выкарабкался на гребень холма и, перевалив через него, покатился вниз по противоположному склону. Сквозь зыбкую пелену снеговерти отец Стефан увидел на шоссе передние огни четырех автомобилей: издалека их пересекающиеся лучи походили на гигантские сверкающие сабли, которые рассекли тьму, истекающую слякотью. По мере приближения к машинам священник все сильнее ощущал тревогу, пока не понял, что беды уже не миновать. — У них автоматы! — крикнул Паркер. Стефан увидел, что двое из стоящих внизу мужчин действительно направили стволы автоматов на сбившихся в кучу людей — шестерых взрослых и одного ребенка, сгрудившихся возле «Чероки», отличающегося от того, что они купили, только цветом. Еще восемь или десять мужчин, одетых в белые маскировочные костюмы армейского образца, окружили их со всех сторон. Отец Стефан тотчас же сообразил, что именно эти люди и перекрыли сегодня, как и полтора года назад, федеральное шоссе № 80. Они с удивлением обернулись на катящийся прямо на них с холма автомобиль, явно недовольные неожиданным посторонним вмешательством. Пытаться развернуться и уйти на большой скорости было уже бессмысленно, за ними тотчас же бросились бы в погоню. Внезапно отец Стефан увидел знакомое ирландское лицо. — Это он, Паркер! — воскликнул святой отец. — Это Брендан! — Остальные пленники, видимо, тоже из мотеля. — Паркер в волнении подался вперед, вглядываясь в лица стоящих возле «Чероки» людей. — Но где же Доминик? Теперь, когда отец Вайцежик увидел Брендана, он уже не помышлял о бегстве от грозящей им опасности. Он не повернул бы назад, даже если бы Господь вдруг раздвинул холмы и открыл перед ним свободный проход вплоть до Канады, как Он раздвинул воды Красного моря для Моисея. С другой стороны, отец Стефан был без оружия, да и будь оно у него, пастырю Божьему от него было бы мало пользы. Так что ему ничего не оставалось, как медленно приближаться к вооруженным и весьма агрессивным солдатам, лихорадочно соображая, что делать дальше. Видимо, Паркер был озабочен тем же, потому что спросил: — Что же, черт возьми, нам делать? Что с нами будет? Ответ последовал уже в следующую секунду: к изумлению отца Стефана, один из солдат открыл по ним огонь из автомата.* * *
Доминик наблюдал, как Джек Твист шарит лучом карманного фонарика справа по металлической изгороди, а потом по колючей проволоке, пропущенной по ее верхней кромке. Особенно внимательно Джек осматривал ячейки, не забитые снегом. — Ток пропущен только по колючей проволоке, — перекрывая голосом вой ветра, прокричал Джек. — В ячейках дополнительных проводов нет, а сами они слишком крупные и неплотно прилегают одна к другой, так что о напряжении не может быть и речи. — Зачем же тогда предупредительные щиты? — спросила Джинджер. — Рассчитано на простаков, — пояснил Джек, направляя луч фонарика на колючую проволоку. — Но через верх мы не полезем, потому что вот там-то как раз и можно поджариться. Мы пролезем снизу. Доминик порылся в рюкзаке, достал газовый резак и передал его Джеку. Тот надел темные очки и начал проделывать ярким голубоватым пламенем дыру в сетке. Тысячи сверкающих, как бриллианты, искр с шипением разлетались в разные стороны и падали на снег. Главный пост остался за холмом, так что оттуда опасность не грозила. Но пламя могли заметить часовые на другом конце забора, в долине, или засечь видеомониторы, и тут оставалось надеяться лишь на счастливый случай и непогоду: объективы могли обледенеть, их могло забить снегом, а часовым в такую пургу вряд ли хотелось мерзнуть и вязнуть в рыхлом снегу под ледяным ветром. Впрочем, если бы их и задержал патруль, это было бы им на руку, потому что тогда их наверняка доставили бы в хранилище, а проникнуть туда и было их целью, чтобы потом поднять шум в прессе и привлечь к Скале Громов внимание общественности. Оружия ни у кого из троих с собой не было, все оно было отдано уехавшим на «Чероки», потому что от них зависел успех всей операции. Доминик надеялся, что оно им не понадобится и что вообще они уже благополучно добрались до Элко. Завороженный ослепительным пламенем, Доминик вдруг вновь перенесся мысленным взором в прошлое… Третий истребитель с ревом пронесся над крышей гриль-бара низко-низко; Доминик распластался на автостоянке, уверенный, что самолет рухнет прямо на него, но тот промчался дальше, оставив за собой волну горячего воздуха; Доминик начал было подниматься с асфальта, но в этот момент над мотелем пронесся четвертый перехватчик; вспоров темноту красно-белыми всполохами своих огней, он исчез во мраке над шоссе № 80, откуда уже возвращались с разных сторон два первых самолета; земля дрожала от грохота их двигателей, казалось, это один нескончаемый взрыв; он подумал, что летит целая эскадрилья истребителей-перехватчиков, вскочил на ноги и обернулся, ища источник странного пронзительного звука, похожего на улюлюканье сторожевой сирены, и увидел бегущих к нему из гриль-бара и мотеля людей — Джинджер Вайс, Жоржу, Марси, Джека, Эрни и Фэй, Неда и Сэнди; грохот напоминал рев Ниагарского водопада и звон тысяч бубенцов, от пронзительного электронного свиста голова готова была расколоться пополам; сверху струился какой-то потусторонний серебристый свет; Доминик задрал голову и, вытянув в направлении крыши гриль-бара руку, закричал: «Луна! Луна!» Остальные люди тоже посмотрели в том же направлении и тоже закричали: «Луна! Луна!» Доминику сделалось очень страшно, он в ужасе стал пятиться назад, кто-то закричал… — Луна! — вздохнул Доминик. Он лежал на снегу, а Джинджер наклонилась над ним и трясла его за плечи, спрашивая, все ли с ним в порядке. — Я вспомнил! — глухо произнес он, выдыхая клубы пара, которые ветер тотчас же рвал в клочья. — Что-то похожее на Луну… Но точно я так и не разобрал, что это было. Джек наконец проделал в кольчатой металлической ограде достаточно широкое отверстие и погасил газовый резак. Темнота тотчас же вновь сомкнула над ними свои крылья, словно громадная летучая мышь. — Вперед! — оборачиваясь к Доминику и Джинджер, скомандовал Джек. — Нужно торопиться. — Ты можешь идти? — спросила Джинджер Доминика. — Да, — ответил он, хотя и ощущал холод и тяжесть в груди. — Но мне почему-то стало очень страшно… — Нам всем страшно, — сказала Джинджер. — Я боюсь не того, что нас поймают, — пояснил Доминик. — Это что-то другое. То, что я едва не вспомнил… Боже, да меня всего трясет от страха как осиновый лист.* * *
Когда полковник Фалькирк приказал одному из своих солдат стрелять по приближающемуся джипу, у Брендана от изумления перехватило дух. Ведь этот безумец даже не знал, кто в машине. Солдат, получивший приказ, видимо, тоже подумал, что это уж чересчур, и медлил с его выполнением. Но Фалькирк с угрожающим видом шагнул к нему и закричал: — Я приказал вам стрелять, капрал! Это вопрос государственной безопасности! Кто бы ни находилсяв автомобиле, это враг нашей страны! Честные граждане не ездят в метель по бездорожью вблизи секретных объектов! Огонь! Уничтожьте их! Тот вынужден был подчиниться. Треск автомата перекрыл вой ветра. Пули прошили приближающийся со склона холма джип, покорежив металл и разбив фары и ветровое стекло, и машина, уже неуправляемая, резко набирая скорость, понеслась вниз, подпрыгивая на кочках и камнях, налетела на сугроб, едва не перевернувшись, пошла юзом влево, вправо, подскочила вверх и замерла, тяжело ударившись о землю в сорока футах от солдат и их застывших в ужасе пленников. То, что все их пистолеты, ружья и даже «узи» Джека совершенно бесполезны, беглецам стало ясно пять минут назад, когда они напоролись на засаду, устроенную полковником Фалькирком в полумиле от того места, где они пересекли шоссе Виста-Вэлли и, спустившись с холма, но с другой стороны, повернули на юг. Превосходство противника было очевидным: у Фалькирка оказалось слишком много людей, и все они были хорошо вооружены, так что о сопротивлении не могло быть и речи. Брендан был близок к отчаянию из-за того, что не решился прибегнуть к своим особым способностям, чтобы обеспечить себе и своим товарищам свободу. Он чувствовал, что должен был использовать свой телекинетический талант в сложившихся обстоятельствах, сосредоточиться и силой мысли вырвать оружие из рук солдат. Для этого у него хватило бы энергии, но он не знал, как воспользоваться ею, опасаясь повторения случившегося во время эксперимента в гриль-баре накануне вечером, когда никто из присутствующих лишь чудом не пострадал от очумевших солонок и перечниц и разбушевавшихся кресел. Попробуй он теперь вырвать автоматы у солдат, это могло и не получиться одновременно, и тогда кто-нибудь из них мог с перепугу открыть беглый огонь. Или же, того хуже, автоматы, зависнув по его, Брендана, приказу в воздухе, сами начали бы палить по всему, что было вокруг, и стреляли бы, пока не опустели магазины. Он, конечно, мог бы исцелить раненных шальными пулями, но ведь его тоже могло и ранить, и убить. Даже если бы оказалось, что он способен исцелить самого себя, то вряд ли бы он мог воскреснуть, как и оживить других убитых. Воистину Божья благодать не идет на пользу, если не знаешь, как ею воспользоваться! И вот теперь, видя, как рой пуль впивается в беззащитный джип и как тот мечется, словно обезумевший и ослепленный затравленный зверь, по склону холма, Брендан почувствовал, что в нем закипает ярость. Люди в джипе наверняка ранены и нуждаются в его помощи. Он может и обязан им помочь, не только как священник, но и как нормальный человек, и ради этого стоит рискнуть и использовать свой дар целителя. Брендан оттолкнул стоявшего перед ним солдата, воспользовавшись тем, что его внимание переключилось на джип на холме, и побежал к замершей в свете фар вездеходов машине. Позади раздались угрожающие окрики, Фалькирк вопил, что застрелит Брендана, если тот немедленно не остановится. Но Брендан продолжал бежать вперед, едва не упав на заснеженном скользком асфальте, но все же поскользнулся на обочине и рухнул лицом вниз с насыпи, затем снова вскочил на ноги, цепляясь за мерзлую землю голыми руками, и, не оборачиваясь, побежал дальше. За его спиной застучали по асфальту солдатские ботинки. Брендан подбежал к джипу со стороны сиденья для пассажира, рванул на себя дверцу и принял в свои объятия грузного мужчину лет пятидесяти. Тот был ранен, судя по крови на одежде, но в сознании, хотя и держался, как было видно по бессмысленному выражению его глаз, из последних сил. Брендан оттащил его подальше от машины и уложил в снег. Преследовавший Брендана солдат схватил его за плечи, но Брендан, обернувшись, отбил его руку и яростно закричал ему в лицо: — Отойди от меня, придурок! Я спасу его! Понимаешь, ты, сукин сын! Я его спасу! — И он сдобрил сказанное таким грязным и отборным ругательством, что даже сам удивился, как у него повернулся язык произнести подобную мерзость. Взбешенный солдат замахнулся было прикладом автомата размозжить обидчику голову, но подоспевший Фалькирк остановил его, крикнув: — Отставить! — Он шагнул вперед и схватил солдата за локоть, предотвращая удар, потом обернулся к Брендану и пронзил его изучающим взглядом. — Действуй. Я хочу это видеть. Я хочу видеть, как ты изобличишь себя на моих глазах! — Изобличу? Но я не преступник! Как вас прикажете понимать? — Начинай! — приказал полковник. Брендан опустился на колени возле раненого и приложил руки к его груди, в тех местах, где сквозь свитер сочилась кровь: под левой ключицей и чуть выше пояса с правой стороны. Раненый угасал у него на глазах, и в отчаянии Брендан задрал вверх его свитер и, разорвав рубашку, положил ладони прямо на рану на животе. Но что делать дальше? Этого Брендан не знал. Ему никак не удавалось вспомнить и вновь почувствовать то, что он испытывал, когда возвращал к жизни умирающего Уинтона и исцелял Эмми. Как заставить работать эту таинственную силу? Кровь незнакомца сочилась сквозь его пальцы, обостряя его отчаяние и мешая сосредоточиться на пробуждении дремлющих в нем способностей. Отчаяние, захлестывающее Брендана, вновь вскипело гневом, гнев превратился в ярость перед собственным бессилием и тупостью и этой нелепой, незаслуженной смертью, как и смертью как таковой вообще… Брендан ощутил покалывание в ладонях. Легкое жжение. Он понял, что на ладонях проступили красные круги, но не оторвал их от раны, чтобы убедиться в этом. «Умоляю Тебя, Господи! — мысленно взмолился он. — Пусть это свершится! Пусть он исцелится!» К своему собственному удивлению, Брендан впервые по-настоящему почувствовал, как таинственная энергия изливается из него прямо в пулевое отверстие в теле незнакомца, словно шелковая нить из шелкопряда, и эта связующая нить, по которой переливалась в раненого живительная волшебная сила, становилась с каждым мгновением все прочнее и эластичнее, и, казалось, ей не будет конца. Брендан ощущал себя ткацким станком и ткачом одновременно, ткущим из нитей божественной энергии ткань здоровья. Но, в отличие от аналогичных случаев с Эмми Халбург и Уинтоном Толком, когда он еще не догадывался, что исцеляет этих людей, сейчас он знал, что невидимой нитью зашивает рану на теле незнакомца. Более того, он почти физически чувствовал, как эта нить вырабатывается в нем и стежок за стежком ложится на нужное место, а челнок выдает все новую и новую живительную ткань, работая в едином четком ритме со всеми остальными деталями станка. Брендан не только ясно осознавал целительную магическую силу в себе, но и чувствовал, что она крепчает, что сейчас в нем ее в десятки раз больше, чем было, когда он спас Уинтона, а завтра будет уже вдвое больше, чем сегодня. Глаза незнакомца обрели осознанное выражение, он заморгал, и, когда Брендан отнял ладони от раны, у него вырвался вздох облегчения и ликования: кровотечение прекратилось. Мало того, движимая невидимой силой, пуля сама выскочила из раны, издав чмокающий звук, и скатилась, мокрая и тускло блестящая, вниз по животу раненого. Края раны тотчас же начали быстро стягиваться. Брендан дотронулся до простреленного плеча и сразу же нащупал вторую пулю, засевшую в мягких тканях не так глубоко, как первая. Брендан надавил на нее, и она буквально выпрыгнула ему на ладонь. Сладостная дрожь победы пробежала по телу Брендана. Ему захотелось откинуть назад голову и расхохотаться от радости, знаменуя своим смехом победу, одержанную в эту темную вьюжную ночь над мраком и холодом смерти. Раненый пристально взглянул на Брендана, и в его взгляде он прочел сперва изумление, потом узнавание и наконец ужас. — Стефан, — пробормотал он. — Отец Вайцежик. Знакомое любимое имя, сорвавшееся с губ незнакомца, наполнило Брендана невыразимым страхом за своего наставника. — Что? — вздрогнув, спросил он. — Что с отцом Вайцежиком? — Он нуждается в вашей помощи больше, чем я. Быстрее! Брендан сперва даже не понял, что этот человек ему говорит. Наконец, похолодев от ужаса, он осознал, кто сидит за рулем изрешеченного пулями джипа. Это было совершенно невероятно! Как он здесь оказался? Когда? Зачем? — Быстрее! — повторил незнакомец. Брендан вскочил, оглянулся на солдата и полковника Фалькирка и, вытянув вперед руки, протиснулся между ними к передку машины, возле которого поскользнулся, упал, ударившись о бампер головой, но тотчас же поднялся, ухватившись за левое переднее колесо, и что было сил рванул на себя ручку дверцы. Та не поддавалась: либо была заперта изнутри, либо ее заклинило. Брендан попытался открыть ее еще раз, но ему это снова не удалось. И тогда он приказал ей открыться, и дверь с лязгом и скрежетом распахнулась, и из нее вывалилось обмякшее тело священника. Брендан подхватил отца Вайцежика и уложил на снег. Даже в полумраке он разглядел, что глаза его наставника раскрыты, и непроизвольно воскликнул: — Боже, только не это! О Боже, нет! Настоятель церкви Святой Бернадетты смотрел в небо безжизненными, застывшими глазами, которым уже незачем было глядеть на окружающий мир. — Умоляю, только не это! — повторил Брендан, когда его взгляд упал на след от пули, тянущийся от угла правого глаза до уха. Эта рана не была смертельной, зато смертельной оказалась другая, в основании горла, — огромная дыра, в которой запеклась кровь. Брендан приложил дрожащие ладони к изуродованному горлу отца Вайцежика и снова ощутил, как хлынула из него целительная энергия, чтобы заполнить живительной тканью мертвое отверстие в теле дорогого ему человека и вселить в него жизнь. Но вскоре он понял, что для чудесного излечения необходима обратная связь между целителем и исцеляемым. Он заблуждался, полагая, что одновременно и вырабатывает жизненную силу, и передает ее пострадавшему. На самом же деле для исцеления необходим живой контакт между двумя организмами: лишь в этом случае волшебная энергия может вызвать нужный эффект. А в остывающем теле отца Стефана Вайцежика уже не было жизни, он умер, и воскресить его Брендану было не под силу. Стон отчаяния вырвался из его груди, но смириться с этой утратой он не мог. Исполненный решимости во что бы то ни стало свершить чудо, он начал молиться вслух, повторяя: — Пресвятая Богородица, Пречистая Дева Мария, помоги нам… Брендан не сомневался, что Богородица услышит его и откликнется на эту отчаянную просьбу и вместе они вернут отца Вайцежика к жизни. В это тяжкое мгновение он вновь обрел веру и теперь верил в Бога и умом, и сердцем. Если отец Вайцежик по какой-то нелепой ошибке покинул этот мир до отпущенного ему срока и если Пречистая Дева донесет эти слова до Спасителя, тогда разрушенная плоть отца Стефана восстановится и оживет и он вновь вернется в этот мир, чтобы завершить свою миссию. Стоя на коленях на снегу, с ладонями, прижатыми к окровавленному горлу убитого, Брендан вновь и вновь повторял слова молитвы, обращенные к Пречистой Богородице — Царице ангелов и апостолов, Заступнице мучеников. Но его обожаемый наставник не подавал признаков жизни, распластавшись на заиндевелой земле. Брендан взывал к милости Пречистой Девы, величая Ее то Волшебной розой, то Утренней звездой, то Исцелительницей страждущих и Утешительницей скорбящих, однако мертвые глаза отца Вайцежика, еще недавно излучавшие мудрое тепло и неподдельную любовь, по-прежнему были неподвижно уставлены в мглистое небо. — Зерцало Справедливости, попроси за нас, — повторял Брендан, — Источник нашей радости, помолись за нас… Наконец Брендан признал, что волею Господа отец Вайцежик покинул бренный мир. Он тихим голосом завершил молитву, отнял ладони от чудовищной раны и сжал ими холодные руки любимого человека, скорбно склонив голову, словно безутешное дитя. — Значит, ты не всесилен, — услышал он голос нагнувшегося над ним полковника Фалькирка. — Замечательно. Хорошая новость. Ладно, вставай и возвращайся к остальным. Брендан взглянул на его суровое лицо с каменным взглядом холодных глаз и не ощутил ни малейшего страха. — Он умер, не имея возможности исповедоваться, — спокойно ответил он. — Я священник и останусь здесь, пока не выполню свой пастырский долг. Вы можете помешать мне, только выстрелив мне в спину. — С этими словами он отвернулся от полковника и, набрав полную грудь воздуха, стал произносить положенные в таком случае латинские фразы. По его мокрому от тающего снега лицу струились слезы.* * *
Лаз, проделанный Джеком в металлической ограде, был невелик, но достаточно широк, чтобы все трое смогли протиснуться сквозь него на территорию хранилища, предварительно закинув туда свои рюкзаки. По команде Джека Доминик и Джинджер застыли на месте, ожидая, пока их вожак прощупает местность теплоуловителем и изучит ее с помощью прибора ночного видения. Джек высматривал, где установлены видеокамеры и электронные ловушки. Несмотря на сильную метель, затруднявшую его задачу, он засек две вышки с мониторами, под различными углами следящими за этим участком запретной зоны. Оставалось надеяться, что объективы камер забиты снегом. Никаких других охранных приборов он не обнаружил. Затем он извлек из кармана маленький, размером с бумажник, вольтметр, улавливающий электрический ток на расстоянии, и, встав к ограде спиной, начал медленно продвигаться вперед, держа прибор в вытянутой руке. Не прошел он и трех шагов, как детектор тихо запищал, предупреждая, что под снегом спрятаны сигнальные провода. Джек замер на месте и отошел на два шага назад, затем подозвал Доминика и Джинджер. — На глубине одного-двух дюймов зарыт сигнальный провод, реагирующий на колебания почвы. Я уверен, что он протянут вдоль всей ограды. Устроен он таким образом, что улавливает не всякое давление на почву, а лишь шаги объекта весом свыше пятидесяти фунтов. — Но даже я вешу больше пятидесяти фунтов, — заметила Джинджер. — И какой ширины, интересно, сигнальная полоса? — По меньшей мере восемь-десять футов, — сказал Джек. — Собственно говоря, там не один провод, а целая сеть проводков, так что перепрыгнуть через нее невозможно. — Лично я летать не умею, — нахмурилась Джинджер. — Я тоже, — откликнулся Доминик. — Я в этом не уверен, — усомнился Джек. — Если ты смог поднять в воздух стулья, то почему бы не подняться самому? Но сейчас у нас нет времени на эксперименты, так что придется нам довольствоваться тем, что мы имеем. — Чем именно? — поинтересовалась Джинджер. — Моей смекалкой, — улыбнулся Джек. — Вот что мы сделаем. Мы пойдем вдоль забора, не заступая за границу сигнализации, и попытаемся найти растущее в двадцати-тридцати шагах от провода дерево. — И что потом? — спросил Доминик. — Потом сами увидите. — А если мы не найдем никакого дерева? — не унималась Джинджер. — Послушайте, доктор, — начал терять терпение Джек. — Я считал вас оптимисткой. Если я говорю, что нам нужно найти дерево, то вам следовало бы выразить уверенность, что мы найдем целый лес. Дерево они обнаружили, пройдя всего триста ярдов вдоль спускающейся к подножию гор ограды. Это была высокая развесистая сосна, как раз такая, какая и требовалась Джеку для осуществления его плана. Она была высотой восемьдесят или даже больше футов и отстояла от забора футов на тридцать пять, то есть на вполне достаточное расстояние от сигнальной полосы. Осмотрев дерево с помощью своего универсального прибора, Джек наметил подходящую ветку на уровне верхней кромки забора, убрал «Стар трон» в рюкзак и достал из него «кошку» с привязанной к ней длинной и прочной нейлоновой веревкой. Проверив, хорошо ли завязан узел, он положил бухту между ног, наступив на свободный конец, чтобы веревка не улетела следом за «кошкой», посоветовал своим спутникам отойти на безопасное расстояние и, раскрутив «кошку» правой рукой, метнул ее, пропуская трос через левую руку. Но, несмотря на приличную массу и силу, с которой она была брошена, «кошка» немного не долетела до цели. Не без труда подтащив снаряд назад к своим ногам, Джек сложил кольцами веревку и повторил бросок. На этот раз ему сопутствовала удача: «кошка» прочно зацепилась за ветку. После этого Джек хорошенько привязал свободный конец веревки к столбу ограды и, натянув с помощью Доминика и Джинджер ее как можно крепче, еще раз закрепил на столбе. Веревочный мост был готов. Джек подпрыгнул, ухватился обеими руками за трос, раскачался и закинул на него ноги, скрестив затем лодыжки. Теперь он завис, как шаловливый медведь-коала, на ветке и мог, подтягиваясь руками, двигаться вперед, не касаясь земли. Продемонстрировав Доминику и Джинджер, как это следует делать, Джек опустился на землю возле ограды. Ухватиться за трос Доминику удалось с первой попытки, но понадобилось не менее минуты, чтобы закинуть на него еще и ноги. У Джинджер это получилось ловчее, хотя ей и пришлось помочь дотянуться до троса. — Вы в довольно приличной форме, — заметил Джек. — Да, верно, — спрыгивая на землю, согласилась она. — И все это благодаря тому, что каждый вторник я беру выходной и объедаюсь варениками, печеньем и блинами. Главное — правильно питаться, Джек! Тогда всегда будешь в хорошей форме. — О'кей, — сказал Джек, надевая на спину рюкзак. — Сперва я перетащу два самых тяжелых рюкзака, а потом полезете вы, захватив с собой по маленькому мешку. Джинджер, вы будете второй, Доминик — последним. Не волнуйтесь, если на середине пути трос провиснет, земли вы не коснетесь. Главное, крепче держите в «замке» ноги и не вздумайте разжать сразу обе руки, когда будете подтягиваться. Все время помните об этом! Имейте в виду, что уже на расстоянии десяти футов от сосны вы можете считать себя в безопасности, контрольная полоса там кончается. — Мы доберемся до дерева, — заверила его Джинджер. — Тут всего-то каких-нибудь тридцать футов. — Уже после десяти футов вам покажется, что у вас отрываются руки, — предупредил Джек, навешивая на грудь второй рюкзак. — А еще через пять у вас возникнет ощущение, что их оторвали.* * *
Что-то в поведении Брендана Кронина задело Фалькирка. Только человек мог с такой яростной решимостью отстаивать свое право исполнить последний долг в отношении покойного, только у настоящего человека могли так пылать от возмущения глаза и дрожать от горя голос. Страх перед возможным чужеродным захватом человеческих тел буквально снедал полковника, и на то были основания: после всего увиденного им в звездолете можно было вообще сойти с ума. Однако даже ему не верилось, что благородный гнев Кронина может быть наигранным. Тем не менее Кронин с его необъяснимыми способностями оставался одним из двух основных подозреваемых; вторым был Доминик Корвейсис. Откуда было еще взяться этому дару исцелять людей и перемешать, не прикасаясь к ним, предметы, как не от вселившегося в их тела инородного хозяина? Леланд был сбит с толку. Он отошел от стоящего на коленях священника и остановился в нескольких шагах от него, пытаясь собраться с мыслями. Взгляд его упал на сгрудившихся возле «Чероки» Джека Твиста остальных шестерых свидетелей. Охранявшие их солдаты явно испытывали противоречивые чувства: с одной стороны, они обязаны были выполнять приказы своего командира, а с другой — их тоже одолевали тяжкие сомнения. Неизвестный спутник отца Вайцежика, целый и невредимый, в волнении переминался с ноги на ногу, являя собой наглядное доказательство того, что таинственная энергия Брендана оказывает на человека благотворное, а не пагубное влияние. Но Леланд знал, что хранится в недрах Скалы Громов! И в мрачном свете его осведомленности все выглядело иначе. Ну конечно же, все эти исцеления — всего лишь ловкий трюк, обманный ход противника, цель которого — сбить его с толку и заставить поверить в выгодность сотрудничества, а не борьбы с ним. Человечеству предлагалось навсегда избавиться от боли, а возможно, и от смерти, за исключением разве что внезапной и скоропостижной. Но полковник твердо знал, что боль — это основа жизни и крайне опасно поддаваться иллюзиям, что можно избежать ее, ибо подобные заблуждения должны неминуемо разрушиться, и тогда боль станет гораздо мучительней, в том случае, если ты готов к ней. Леланд был уверен, что боль — физическая, психическая, эмоциональная — сердцевина нормального состояния человека и без нее невозможно сохранить здоровье и рассудок. Бесполезно мечтать об избавлении от боли или пытаться избежать ее. Нужно учиться наслаждаться болью, подчинять ее своим интересам, иначе она одержит верх. А всякий предлагающий нечто выходящее за рамки человеческого опыта и знаний заслуживает недоверия и презрения. Нет, Леланда никому не удастся сбить с толку.* * *
Большой армейский грузовик, предназначенный, как поняла Жоржа, для транспортировки личного состава, был оборудован металлическими скамейками вдоль обоих бортов и передней стенки кузова. Приклепанные к стенкам кожаные кольца должны были, очевидно, помогать сидящим удерживать равновесие при резких поворотах и на неровной дороге. Тело отца Вайцежика уложили на переднюю скамью и привязали к ней ремнями, пропустив их для большей надежности еще и сквозь кожаные кольца. Жоржа, Марси, Брендан, Эрни, Фэй, Сэнди, Нед и Паркер расселись по боковым скамейкам. Фалькирк лично запер двери кузова снаружи на засов, и скрежет железа, навеяв мысли о тюремной камере, наполнил сердце Жоржи отчаянием. Полковник также запретил водителю включать освещение в кузове, поэтому ехали в полной темноте. Хотя Эрни Блок и терпел до этого момента ночной мрак, все подумали, что теперь уж он точно сорвется. Но Эрни только тяжело вздыхал и время от времени сжимал руку Фэй. — Я начинаю припоминать самолеты, о которых говорил Доминик, — произнес он неожиданно для всех. — Их было не менее четырех, и все они летели низко, очень низко… А потом произошло еще что-то, чего я пока еще не вспомнил… Но я точно знаю, что я сел в нашу машину и помчался по федеральному шоссе к этому заколдованному месту, которое притягивает к себе и Сэнди. Вот и все, что мне удалось вспомнить. Но чем больше я вспоминаю, тем меньше пугает меня темнота. Посадить вместе с пленниками охранника Фалькирк не решился: похоже, он думал, что те, при всем своем вооружении, не будут там в безопасности. Жорже показалось, что он вообще хотел их всех расстрелять на месте, но полковник успокоился и велел им забираться в кузов, что, впрочем, само по себе еще не свидетельствовало о том, что он решил сохранить своим пленникам жизнь. Фалькирка очень интересовало, куда подевались Джинджер, Доминик и Джек. Сперва все отмалчивались, но, когда полковник пригрозил, что свернет девочке шею, Эрни закричал, что полковник позорит армейский мундир, и вынужден был сказать ему, что Джинджер, Доминик и Джек отправились в направлении Рино, через Батл-Маунтин и Уиннемаку. — Мы опасались, что дороги на Элко возьмут под наблюдение, — объяснил он, — и поэтому решили разделиться, чтобы уменьшить риск. Это была, конечно же, ложь, и Жоржа сперва чуть было не сорвалась, ей хотелось закричать, чтобы Эрни не смел врать и не подвергал опасности жизнь ее дочери. Но она вовремя смекнула, что Фалькирк не мог знать, как все было на самом деле. Полковник отнесся к словам Эрни с подозрением и потребовал подробностей, так что тому пришлось на ходу придумывать еще и детали маршрута группы беглецов во главе с Джеком. Правда, Фалькирк и на этом не успокоился и послал четверых солдат проверить слова Блока. Все это еще было свежо в памяти Жоржи, и она крепче прижимала к себе свободной рукой сидящую у нее на коленях Марси, вцепившись другой рукой в ременную петлю, чтобы не свалиться вместе с дочерью в темноте на пол грузовика, уносящего их в неизвестном направлении. Марси, полностью отключившись от реальности, инстинктивно жалась к матери, и это вселяло в Жоржу надежду, что девочка вскоре вырвется из царства мрачных и смутных воспоминаний. Охваченная тревогой за свою малышку, Жоржа сперва слушала рассказ Паркера Фейна об их с покойным отцом Вайцежиком злоключениях вполуха, но постепенно заинтересовалась и наконец пришла в такое волнение, что уже не думала ни о чем другом. Паркер говорил о потрясающих вещах: о том, что произошло с Кэлвином Шарклом, о том, как Брендан передал свою волшебную энергию Эмми Халбург и Уинтону Толку. А когда он поделился своим предположением, что, возможно, теперь этой энергией обладает и он сам, у Жоржи даже мурашки побежали по коже. Затем Паркер рассказал о результатах работы специальной исследовательской группы и произнес самую потрясающую фразу. — В ту далекую летнюю ночь, — заявил он, — в ту жаркую июльскую ночь что-то спустилось с неба на Землю. И это событие должно преобразить весь мир. Что-то спустилось с неба на Землю. Это удивительное сообщение вызвало у затаившихся в темноте слушателей бурный отклик: все заговорили разом, напрочь позабыв о нависшей над ними опасности. Сэнди тотчас же объявила: она не только верит, что все это на самом деле случилось, но и вспомнила некоторые эпизоды происходившего в ту ночь, в частности, как проносились над мотелем с чудовищным ревом самолеты, и как люди повыбегали из гриль-бара наружу, и как дрожала от грохота и вибрации воздуха земля под ногами. — Потом Доминик вдруг закричал: «Луна! Луна!», и мы все обернулись и увидели Луну. Она была ярче, чем обычно, и падала прямо на нас. Разве вы не помните? Вы не помните, как на нас с неба падала Луна? — Да, — тихо произнес Эрни. — Я помню. — И я помню, — откликнулся Брендан. Жорже показалось, что она тоже помнит, как падает на нее с неба ослепительно яркая Луна. — Люди закричали, начали разбегаться в разные стороны, все были до смерти напуганы, — продолжала делиться своими воспоминаниями Сэнди, — а грохот все нарастал, у всех уже дрожали поджилки от этого чудовищного воя и треска. Потом возник другой странный звук, напоминающий пронзительный переливчатый свист, и Луна внезапно вспыхнула ослепительным светом, осветив холодными яркими лучами автостоянку, и стала красной, кроваво-красной! И тогда мы поняли, что это вовсе и не Луна, а нечто другое! Перед мысленным взором Жоржи отчетливо возник этот лунообразный предмет, меняющий голубовато-белую окраску на багровую. Барьеры, воздвигнутые в ее памяти специалистами ЦРУ, рухнули, как песочный замок от удара волны, и ей самой вдруг стало странно, как это она раньше ничего не вспомнила, глядя на рисунки и фотографии Луны в альбоме Марси. Теперь же воспоминания хлынули столь бурным потоком, что ее всю затрясло от невероятного возбуждения. — Потом этот объект завис над гриль-баром, — с дрожью в голосе сказала Сэнди, словно и теперь видела тот странный аппарат, — и медленно, очень медленно проплыл над нашими головами, и тогда мы поняли, что это такое, потому что ничего подобного на земле сделано быть не могло… Теперь Жоржа вспомнила, как она стояла, держа Марси на руках, на площадке для парковки автомобилей и смотрела на звездолет, плывущий в темноте теплой июльской ночи у нее над головой. Он не был похож на те межпланетные корабли, которые она видела в кино и по телевизору, всякие там летающие тарелки и фантастические ракеты: никаких иллюминаторов или мигающих разноцветных огней, ярких выхлопов двигателей или орудий зловещей конфигурации. Сквозь багровое свечение — очевидно, энергетическое поле, удерживающее тяжелый корабль в воздухе и приводящее его в движение, — был отчетливо виден сам корпус — изрядно потрепанный сложными перипетиями полета цилиндр футов пятьдесят в длину и около пятнадцати футов в диаметре, похожий на два соединенных основаниями тюбика губной помады. Жоржа тогда еще мысленно отметила, что он, пожалуй, уступает размерами фюзеляжу старого самолета «ДС-3». Под рев заходящих с востока и запада перехватчиков звездолет проплыл над гриль-баром и растворился во мраке, окутавшем безлюдную равнину за федеральным шоссе № 80. И вновь, как тогда, в ту душную летнюю ночь, Жорже почудилось, что она стоит на пороге величайшего открытия, сжимая в руке дарованный ей судьбой ключ к тайне бытия. У нее даже перехватило дыхание и восторженно заколотилось сердце при одном воспоминании о пережитом событии. — Он совершил посадку как раз в том месте, к которому некоторых из нас потом влекла неведомая сила, — снова услышала она голос Сэнди. — И нас в тот момент ничто не могло удержать. Мы все помчались туда на машинах, не обращая внимания на эти ужасные самолеты… — Фэй и я поехали на нашем пикапе, — добавил Эрни, уже вполне нормальным, уверенным голосом и не задыхаясь от страха, — Доминик и Джинджер отправились вместе с нами. Да, и еще этот карточный шулер, Зебедия Ломак из Рино. Поэтому-то он и написал наши имена на плакатах, которыми, как рассказывал нам Доминик, был обклеен весь его дом. Видимо, воспоминания о той поездке к звездолету готовы были сломать блокаду его памяти. — А Жоржа с мужем и с Марси сели в нашу машину, — снова заговорила Сэнди. — И еще двое каких-то туристов. Брендан, Джек и остальные помчались туда на своих автомобилях. На шоссе было столпотворение, все сгрудились на обочине и смотрели на корабль, казавшийся уже не кровавым, а янтарным на фоне догорающей сухой полыни. Все притихли, не решаясь тронуться с места, словно перед нами разверзлась пропасть. Но ощущение было такое, что если прыгнуть с этого обрыва, то полетишь не вниз, а вверх. Я не могу точно выразить сейчас словами это странное чувство, но вы, надеюсь, меня понимаете. Жоржа поняла, что имела в виду Сэнди. Она и теперь была переполнена возникшим в тот момент ощущением, что человечество жило как бы в темном ящике, и вот наконец его крышка сорвана, и открылся путь в лучезарное будущее, и окружающий мрак уже не страшен. — И когда я смотрела на этот прекрасный, светящийся неземным светом корабль, — продолжала упоенно вспоминать Сэнди, — не зная, верить ли мне своим глазам или нет, то все, что случилось со мной в детстве и в юности, вдруг словно бы померкло и исчезло, перестало меня угнетать. Словно бы, — Сэнди прищелкнула пальцами в темноте, подбирая слова, — ну, в общем, словно бы мой папаша и не истязал меня, словно я никогда и не терпела боль, позор и унижение… — Ее голос сел от волнения. — Я хочу сказать, что, хотя я и не видела его уже много лет, я все эти годы боялась, что он вдруг объявится и снова куда-то увезет меня. Жизнь моя была наполнена этим жутким предчувствием, и я опасалась, что оно сбудется. Но в ту ночь на обочине шоссе я ощутила, что отец мне больше уже не страшен, потому что он ничтожество, крохотная песчинка на бескрайнем берегу океана новых возможностей, открывшихся перед человечеством. «Да! — с восторгом подумала Жоржа. — Все обстоит именно так. Этот корабль из иного мира знаменовал освобождение от всех мрачных предчувствий и страхов. И пусть у тех, кто прилетел в нем, и не нашлось бы ответов на все вопросы, волнующие сегодня людей, уже само существование этого посланца иной цивилизации является ключом ко многим тайнам». — И, глядя на этот чудесный корабль, — рассказывала, глотая слезы радости, Сэнди, — я внезапно почувствовала себя личностью. Всю свою жизнь я прожила, чувствуя себя ничтожеством, жалкой дрянью, не стоящей ни гроша, лишенной чувства собственного достоинства, и вдруг осознала, что мы все в равной степени малы на этой земле и что никто из нас существенно не отличается от других таких же песчинок, но и это еще не все… — Она отчаянно всхлипнула. — О, как же мне найти слова, чтобы выразить свои чувства! — У тебя все прекрасно получается, — спокойно произнесла Фэй. — Поверь мне, девочка, ты все верно говоришь. — Так вот, — слегка успокоилась Сэнди, — я хочу сказать, что, хотя все мы и песчинки, мы все же частицы человечества, которое однажды непременно пробьется сквозь мрак неизвестности туда, откуда пришли к нам эти космические посланцы, и это наполняет наше существование смыслом. Вы меня понимаете? Мы должны любить друг друга и продолжать жить, чтобы однажды, вместе со всеми, кто живет теперь и жил до нас, подняться над всяческим мраком и там соединиться с теми, кто придет после нас. Ради этого можно вытерпеть любые испытания. И все это я поняла за те считанные мгновения, пока смотрела на светящийся янтарным светом корабль, и потом вдруг начала смеяться и плакать одновременно… — Я вспомнил! — воскликнул Нед. — Боже мой, теперь я все вспомнил! Да-да, я вижу все как наяву. Мы все стояли вдоль обочины шоссе, и ты прижалась ко мне и впервые сказала мне, что любишь меня, хотя я это и знал. Ты тормошила меня и кричала, что любишь меня, и это было так странно слышать в тот момент, рядом с космическим кораблем из другого мира! Но самое интересное, что, когда ты стала говорить мне, что любишь меня, я позабыл об этом корабле, я позабыл обо всем на свете, потому что для меня самым главным были твои слова, слова, которых я так долго ждал. — Голос Неда задрожал от переполняющих его чувств, и Жоржа догадалась, что он обнимает в темноте Сэнди. — А эти проклятые мерзавцы отняли у меня этот счастливейший момент моей жизни, они напичкали меня своей дрянью и отшибли у меня память. Но теперь я снова все вспомнил, Сэнди, и им уже не удастся заставить меня это забыть. Им это больше не удастся! — А я так ничего и не вспомнила, — пожаловалась Фэй. — Но я тоже хочу вспомнить. Я тоже хочу в этом участвовать. Все приумолкли, и стало слышно, как сердито урчит мотор, вспарывая тягостную тишину вьюжной ночи. Жоржа чувствовала, что сейчас многие из них размышляют об одном и том же — о том, что, обретя подтверждение существования иного, высшего разума, человечество вынуждено будет отказаться от бессмысленных кровавых схваток за власть и безумных попыток возвысить одну философию над другой. Рухнут религии, нетерпимые к другим конфессиям, и лишь вероисповедания, проповедующие равенство всех землян, сохранят шанс на признание. Сердце подсказывало Жорже, что встреча с посланцами внеземной цивилизации способна подвигнуть человечество на объединение в одну большую семью, единую нацию жителей планеты Земля, где уже не будет места ни королям, ни правительствам. Что-то спустилось с небес на землю. И все человечество может вознестись на небеса. — Луна! — снова прошептала Марси на ухо матери. — Луна! Жорже хотелось успокоить дочь, сказать ей, что все уладится, они помогут ей вспомнить все, что ее так терзает, ибо знают, что это было, и, когда она все сама вспомнит, она поймет, что бояться ей нечего, и рассмеется от радости, потому что на самом деле все прекрасно. Но Жоржа ничего этого не сказала, поскольку не знала, что намеревается сделать с ними полковник Фалькирк. Пока они у него в плену, для радужных надежд нет оснований. — Я еще кое-что вспомнил, — вступил в разговор Брендан Кронин. — Я вспомнил, что мы спустились с шоссе и пошли к звездолету, мерцающему волшебным янтарным светом, словно кварцевая глыба. Над нашими головами с ревом проносились истребители, но мы продолжали шагать к кораблю — я, Фэй, Эрни, Доминик, Джинджер, еще какие-то люди. Но только Доминик и Джинджер дошли вместе со мной до него, и когда мы подступили к нему вплотную, мы обнаружили дверь — круглый люк. Он был открыт… Жоржа вспомнила, как стояла на шоссе, боясь приблизиться к кораблю и оправдываясь перед самой собой за свою трусость страхом за Марси. Ей хотелось и предостеречь от необдуманных шагов тех, кто решился отправиться к звездолету, и одновременно с этим поторопить их, и она с замиранием сердца наблюдала, как Брендан, Доминик и Джинджер подходят все ближе и ближе к золотистому аппарату. Когда смельчаки начали обходить корабль, Жоржа вместе со всеми сгрудившимися на обочине побежала по дороге, чтобы увидеть, что же будет дальше. И она увидела открытый лаз, ведущий в звездолет, круглое отверстие в мерцающей громадине, из которого исходил ослепительно яркий свет. — Мы ждали, что из люка что-нибудь появится, — тихо рассказывал Брендан под ровный гул мотора. — Но этого не случилось. Лишь волшебный золотистый свет струился изнутри, именно его я видел потом в своих снах. И, завороженные этим таинственным светом, мы сами не заметили, как вошли в звездолет. Может быть, мы просто боялись, что подоспеют солдаты и тогда уже мы упустим свой единственный шанс встретиться с неизведанным. И вот мы… — И вы вошли внутрь! — воскликнула Жоржа. — Да. — Я помню, — подтвердила Сэнди. — Именно так и было: вы вошли в корабль. Все трое. Все замолчали, потрясенные величием случившегося. Впервые в истории человечества его представители ступили на борт аппарата, созданного иной цивилизацией, существами из другого мира. С этого момента наступала новая эра, и они стояли на самом рубеже двух эпох, разделявшем историю на два периода — До и После этого события. Автофургон уносил их в неизвестном направлении. В его закрытом кузове царила полная темнота. Но все сидящие в ней необычайно остро ощущали свою сплоченность. — Но что же произошло дальше, Брендан? — первым нарушил тишину Паркер. — Что произошло, когда вы оказались внутри?* * *
Перебравшись по натянутому тросу через сигнальную полосу и преодолев с помощью различных хитроумных приборов Джека несколько других электронных ловушек для непрошеных гостей, бесстрашная троица очутилась наконец перед входом в подземное хранилище. Джинджер взглянула на огромные бронированные ворота. Снег и ветер покрыли гладкую сталь замысловатыми узорами, напоминающими тайнопись. От ведущей к воротам асфальтовой дорожки валил пар: видимо, она обогревалась изнутри. Извилистая черная лента уходила вниз, в долину, и исчезала в лесу, где мерцали огоньки пропускного пункта. Нельзя было терять ни минуты, их могли обнаружить в любой момент даже по следам, поэтому Джек немедленно извлек свой напичканный электроникой чемоданчик и принялся колдовать над замком. Джинджер не стала расспрашивать его, где он раздобыл этот диковинный прибор, предназначенный, как она догадывалась, исключительно для секретных служб. Работали молча. Джинджер наблюдала за подъездной дорогой и заснеженным пространством между хранилищем и оградой, откуда мог появиться пеший патруль, а Доминик держал фонарик, освещая панель цифрового замка, в то время как Джек лихорадочно зондировал ее щупами, пытаясь подобрать нужную кодовую комбинацию. Упираясь одним коленом в холодный снег и тревожно оглядываясь вокруг, Джинджер ощущала нарастающее беспокойство. Ветер хлестал ее по лицу крупинками снега, они таяли на ресницах и застилали глаза, мешая всматриваться в незнакомую ей враждебную местность. И как только ее занесло сюда, за сотни миль от Бостона! Это просто какое-то безумие, что ни в чем не повинный человек оказался в такой фантасмагорической ситуации! Да кто такой этот проклятый полковник Фалькирк? Что о себе возомнили все эти люди, отдающие ему приказы? Разве они американцы? Это какие-то выродки. Да она сразу же поняла, что ему нельзя верить, что он настоящий трефняк[78]! Тут Джинджер спохватилась, поймав себя на том, что мысленно начала уже ругаться на идише, и решила, что пора взять себя в руки и не поддаваться страху и гневу. В этот момент стальная дверь с шумом ушла в стену, и Джинджер, обернувшись, с изумлением увидела, что вход в хранилище открыт, а Джек с чемоданчиком в руках сидит на снегу и растерянно вертит головой. Джинджер помогла ему подняться, и он знаками объяснил ей: все случилось так неожиданно, что он даже не успел вытащить щуп из замка и его вырвало вместе с проводом из компьютера. Но дверь была открыта, и охранная сигнализация не сработала. Впереди был бетонный тоннель длиной двенадцать футов и около восьми или девяти футов в диаметре. Он освещался люминесцентными лампами и уходил под углом влево, упираясь в другую стальную дверь. — Стойте пока здесь, — распорядился Джек и шагнул в тоннель. Джинджер осталась рядом с Домиником, готовая при первой же опасности сорваться с места и без оглядки бежать отсюда прочь, хотя и знала, что по плану они должны сдаться в плен и стать заложниками. Почувствовав ее состояние, Доминик ободряюще обнял ее. Спустя минуту Джек вышел из тоннеля. — Там под потолком две видеокамеры, — сообщил он. — Тебя засекли? — спросил Доминик. — Не думаю. Скорее всего нет. Камеры не пришли в движение, и это наводит на мысль, что они включаются, когда закрывается первая дверь. И еще я заметил скрытые плафонами газовые распылители. Мне думается, что они срабатывают, если попавший в поле зрения камер объект вызывает подозрение. — Не хотелось бы задохнуться от этой пакости, — заметил Доминик. — Попробуем открыть внутреннюю дверь, не закрывая внешней, — сказал Джек, хитро подмигивая косым глазом. Засыпав ненужные им больше, по мнению Джека, рюкзаки с оборудованием снегом, они вошли в тоннель. Доминик, по указанию Джека, приподнял Джинджер, и та перерезала ножом провода видеокамер. Никаких сигналов тревоги опять не последовало. Внешняя же дверь по-прежнему оставалась открытой. Джек подвел своих спутников ко второй двери и сказал, указывая на сенсорную пластину в стене: — Здесь мой прибор не понадобился бы, так что мы правильно сделали, что избавились от лишнего груза. — Может быть, нам не следует разговаривать? — нервно спросила Джинджер. — Разве здесь нет микрофонов? — Наверняка есть, но пока внешняя дверь остается открытой, компьютер не работает, а часовому нас сквозь дверь не слышно. Так что смело можем даже кричать, — шепотом произнес Джек. — Но что делать с этим? — кивнул он на стеклянную пластину справа от двери. — Я не знаком с подобными системами, знаю лишь, что дверь открывается только после того, как компьютер подтвердит соответствие приложенной ладони ее рисунку, хранящемуся в его памяти. — Если нет? — спросил Доминик. — Тогда сработают газовые распылители. — Так как же нам открыть эту дверь? Вы можете это сделать? — Джинджер все больше нервничала. — Лично я — не могу. — Но ведь вы сказали, что… — раскрыла от изумления рот Джинджер. — Я сказал, что можно что-нибудь придумать, — отозвался Джек. — И вот что я придумал. — Он посмотрел наДоминика и улыбнулся. — Вот кто откроет дверь! — Я? Это шутка? Да что я понимаю в этих электронных замках? — опешил Доминик. — Согласен, ровным счетом ничего, — кивнул Джек. — Но ты способен оторвать от стен тысячи бумажных лун и заставить их водить вокруг тебя хороводы в воздухе! Ты можешь поднимать стулья и проделывать другие фокусы. Так что, я полагаю, ты вполне способен заставить эту дверь открыться перед нами. — Но как? Я даже представить себе этого не могу! — Вот и попытайся себе представить, как работает запорный механизм, сделай с ним то же, что сделал с солонками. — Я не умею управлять своей скрытой энергией! — отчаянно затряс головой Доминик. — А если она выйдет из-под контроля? Из-за меня вы можете пострадать, я могу невольно включить газовые распылители, и тогда нам всем конец. Нет-нет, все это слишком рискованно! — Если ты не попытаешься открыть вторую дверь, — помолчав, сказал Джек, — тогда мы сможем проникнуть внутрь лишь в качестве арестованных. Доминик подошел к первой двери и, не дойдя одного шага до проема, занес руку над кнопкой в стене. — Послушай меня, Доминик. Это теплочувствительный прерыватель. Если ты не попытаешься открыть внутреннюю дверь, я закрою внешнюю, и мы окажемся в ловушке. Включится компьютер, обнаружит, что видеокамеры не работают, и поднимет тревогу. Сбежится охрана. — Но мы же сами хотели, чтобы нас задержали, — возразил Доминик. — Да, но сначала мы хотели посмотреть, что здесь хранится, — поправил его Джек. Тяжело дыша, они уставились друг на друга, словно двое соперников перед схваткой, хотя на прочность и проверялась скорее сила воли, а не мускулов. У стоящей между мужчинами Джинджер не было сомнений в исходе этого поединка. Конечно, ей нравился Доминик Корвейсис, напоминающий ей чем-то и ее скромного и застенчивого отца, и решительную и целеустремленную мать. Он был добр и умен, в общем, она доверила бы ему свою жизнь. Но при этом она не сомневалась, что победит Джек Твист, потому что он привык побеждать, а Доминик, по его собственному признанию, испытал сладость победы лишь совсем недавно. — Учти, что охрана наверняка применит газ, а он может быть и усыпляющим, и отравляющим, — предупредил Джек. — Это блеф! — возмутился Доминик. — Ты не решишься убить нас. — Разве ты забыл, что имеешь дело с профессиональным преступником? — Ты больше не преступник. — Но сердце у меня по-прежнему черное, — ухмыльнулся Джек, и Джинджер не понравились маниакальный блеск его глаз и зловещий оскал. — Наша гибель не предусмотрена планом, — продолжал упорствовать Доминик. — Но и твой отказ помочь его осуществлению тоже. Ради бога, сделай что-нибудь, Дом! Доминик с сомнением покосился на Джинджер, тяжело вздохнул и неохотно произнес: — Отойдите как можно дальше от внутренней двери. Джинджер прижалась спиной к стене рядом с Джеком. — Доминик, если дверь откроется, сразу же проходи внутрь, — сказал Джек, держа руку возле кнопки прерывателя. — Там наверняка сидит охранник. Он будет весьма удивлен тем, что дверь открылась без команды компьютера, так что постарайся оглушить его, а уж я доведу дело до конца. Нам непременно нужно успеть проникнуть в хранилище до того, как нас схватят. Доминик кивнул и повернулся лицом к внутренней двери. Приложив ладонь к стальной поверхности, он принялся ощупывать ее, как ощупывает бывалый взломщик сейфов замок, подбирая нужную комбинацию цифр. Затем он обернулся и уставился на стеклянную панель, считывающую отпечатки ладоней и пальцев. Джек опустил руку и взглянул на темный проем, за которым бесновалась метель. — У меня такое чувство, что сейчас сюда войдет страшный великан и всех нас прихлопнет своей лапой, — прошептал он Джинджер. И в этот момент внутренняя дверь вдруг с шумом отошла в нишу. Доминик и сам этого явно не ожидал, поскольку отскочил на шаг назад, вместо того чтобы тотчас же устремиться внутрь и напасть на охранника. Но в следующее мгновение он уже осознал свою ошибку и решительно переступил порог разверзшейся перед ним преисподней. Джек нажал на кнопку прерывателя, закрывая внешнюю дверь, и побежал следом за писателем. Джинджер последовала за ним. Она ожидала услышать звуки борьбы или даже стрельбы, но этого не произошло. Она очутилась в новом большом тоннеле, проложенном в скальных породах и освещенном подвешенными к каменному потолку на кронштейнах светильниками. Этот проход был около сотни ярдов длиной и шестидесяти футов шириной и упирался в подъемные клети. В трех шагах от входа стоял столик дежурного, на котором лежали иллюстрированные издания и вахтенный журнал. Рядом стоял терминал компьютера. Однако самого охранника не было видно. Пустынный тоннель походил на мавзолей. Не было слышно ни звуков стекающих по сталактитам капель воды, ни шума крыльев летучих мышей. — Где же охрана? — удивленно пробормотал Джек, озираясь по сторонам. — Что будем делать? — дрожащим голосом спросил Доминик, потрясенный новым проявлением своих чудесных способностей. — Здесь что-то произошло, — нахмурился Джек. — Никакой охраны… Нет, дело нечисто… — Он откинул с головы капюшон лыжного костюма и слегка опустил «молнию» на груди. Остальные последовали его примеру. — Это всего лишь зона разгрузки грузовиков, — продолжал он, — само хранилище находится еще ниже. Мне не нравится эта зловещая пустота, но нам, по-моему, стоит спуститься вниз. — Тогда довольно болтать, — решительно бросила Джинджер. — Раз решили идти — вперед! — И с этими словами она первой направилась к лифтам. За ее спиной захлопнулась внутренняя дверь. Впереди были катакомбы Скалы Громов.2
СТРАХ
Они крались, как мыши мимо кошки, но звук их шагов все равно отдавался негромким эхом в каменном подземелье, и Джинджер казалось, что кто-то затаился в темных нишах вдоль прохода, готовый внезапно наброситься на них. Доминик тоже чувствовал себя неуютно. Они миновали два грузовых подъемника, способные поднимать и опускать самолеты-перехватчики, прошли мимо двух грузовых лифтов поменьше и наконец очутились перед обычными лифтами для людей. Едва Джек протянул руку к кнопке вызова лифта, как Доминика окатил новый шквал воспоминаний, настолько живых и ярких, что они моментально затмили все происходящее с ним в реальности. Ему вспомнился эпизод, связанный с посадкой звездолета: исходившее от него сияние, сперва белое, а потом ярко-красное, его простая цилиндрическая форма, почти земная, но вместе с тем остающаяся чужеродной и исполненной тайны иного, непознанного мира. — Что с тобой? — услышал он голос Джинджер и почувствовал на своем плече ее руку. — Я вспомнил кое-что еще, — ответил он, выпрямляясь и опуская руки, которыми упирался в закрытую дверь лифта. — Что именно? — спросил Джек. Доминик рассказал. Ему не пришлось убеждать их, что в ту летнюю ночь на Землю опустился инопланетный корабль, уже после первых же его слов они сами все вспомнили, и на их лицах Доминик прочитал одновременно и ужас, и радость, и восторг, и надежду. — Мы вошли внутрь, — сказала Джинджер. — Да! — воскликнул Джек. — Вы, Доминик и Брендан. — Но я не могу… — наморщила лоб Джинджер, — я не припоминаю, что произошло с нами потом. — И я тоже ничего не помню, — недоуменно произнес Доминик. — Дальше в памяти черный провал. Помню лишь, как мы вошли через люк внутрь, навстречу золотистому свету, — и все, а что было дальше… Доминик взглянул на Джинджер: лицо ее побелело как мел, и не только от страха, но и от сильного волнения. В эту минуту оба они наконец поняли, почему их так тянуло друг к другу: их навеки связало то, что произошло с ними на борту звездолета в ту летнюю ночь. — Я уверена, что корабль здесь, под Скалой Громов, — сказала Джинджер. — Поэтому-то правительство и отобрало землю у скотоводов, — предположил Доминик. — Они хотели понадежнее укрыть от посторонних глаз звездолет. — Им понадобилась здоровенная платформа, чтобы отбуксировать его сюда, — заметил Джек. — Как для космических кораблей многоразового использования. — Но зачем нужно было его скрывать? — спросил Джек. — К чему вообще вся эта таинственность? — Не знаю. — Доминик нажал кнопку вызова лифта. — Может быть, нам удастся это выяснить. Они опустились на второй подземный этаж, залегавший, судя по времени спуска, на приличной глубине в толще каменного монолита, и очутились в большой круглой пещере диаметром не менее трехсот футов. Откуда-то сверху струился холодный голубоватый свет. Вдоль стен притулились странные металлические строения, в двух из которых теплился желтый свет, который несколько смягчал и оживлял общую мрачную картину, чем-то напоминающую лагерь киносъемочной группы, выехавшей на натуру. От круглой пещеры ответвлялись проходы в четыре другие; один из них был перекрыт огромными деревянными дверями, совершенно нелепыми и неуместными в оборудованном современной техникой стратегическом хранилище. В трех других пещерах горел свет, и Доминик увидел там вездеходы, грузовики, вертолеты и даже самолеты. Вдоль стен стояли такие же, как и в круглой пещере, металлические домики с крохотными окошками, в которых мерцали огоньки. Доминик знал, что под Скалой Громов находится огромный арсенал и целый подземный городок, но не ожидал, что он настолько велик, и был потрясен увиденным. Но еще более поражало отсутствие сотрудников, охранников и каких-либо звуков. Конечно, люди могли после работы разойтись по своим домикам, но все равно звучала бы музыка, слышны были бы голоса, шум, смех. — Может, они все умерли? — едва слышно спросила Джинджер. — Я же сказал, что здесь что-то случилось, — отозвался Джек. Доминик впился взглядом в гигантские деревянные ворота, закрывавшие вход в четвертую пещеру, и осторожно приблизился к ним. Маленькая, в человеческий рост, дверь в одной из створок была приоткрыта, из-за нее на каменный пол падала полоска яркого света. Доминик протянул руку, чтобы распахнуть дверь, но замер, услышав приглушенные мужские голоса. Разобрать, о чем шла речь, было невозможно, говорили слишком тихо. Доминик хотел уже было отойти назад, но, подумав, решительно потянул ручку маленькой двери на себя и перешагнул порог. Звездолет был там.* * *
Джинджер застыла за спиной Доминика, прижав руку к груди, словно боялась, что из нее выскочит сердце. Огромная пещера с куполообразным сводом была не менее двухсот футов в длину и ста в ширину. Каменный пол был тщательно выровнен, а все щербины залиты бетоном. Судя по пятнам мазута и масла и утопленным в бетон рым-болтам, здесь когда-то складировали или ремонтировали машины. Справа от входа вдоль стены стояли все те же похожие на вагончики домики с маленькими оконцами и металлическими дверями, всего не менее десятка. Предназначенные первоначально под офисы или жилье, они позже были приспособлены для нужд научно-исследовательской группы, о чем свидетельствовали надписи от руки на листках бумаги, прикрепленных к дверям: «ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ», «БИОЛАБОРАТОРИЯ», «ФИЗИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» и так далее. Перед домиками громоздились в беспорядке рентгеновские аппараты, рабочие столы, спектрографы и всякое другое оборудование, назначение которого сразу даже трудно было определить. Постороннему наблюдателю могло показаться, что все это подготовлено для распродажи. Видимо, постоянно увеличивающийся фронт работ превысил возможности отведенного для исследований помещения, что было, впрочем, совсем неудивительно, принимая во внимание специфику исследуемого объекта. Корабль из иного мира стоял слева от входа. Выглядел он именно так, как и в воспоминаниях Джинджер, нахлынувших на нее минуту назад из глубин подсознания, долгое время закупоренных искусственной блокадой: закругленный с обоих концов цилиндр длиной около шестидесяти футов и пятнадцати футов в диаметре. Он покоился на стальных опорах в пяти футах над полом пещеры, слов но подводная лодка в ремонтном доке. Сейчас от него уже не исходило то жутковатое свечение, которое наблюдала Джинджер ночью 6 июля полтора года назад, сперва белой, потом алой и, наконец, янтарной окраски. На корпусе не было ни ракетных, ни иных двигателей, только непонятные вмятины величиной с кулак и выпуклости странной конфигурации и самого разного размера, придававшие ему еще большую загадочность. Большая часть поверхности звездолета была тем не менее гладкой и совершенно непримечательной, что, однако, не мешало ему быть самой поразительной вещью, когда-либо виденной Джинджер. Ей было и жутко, и радостно, сердце ее ликовало от восторга и трепетало от страха перед неизвестным. За столом возле стремянки, приставленной к открытому входному люку корабля, сидели двое мужчин. Самый импозантный из них, худощавый брюнет лет сорока, с черной кудрявой шевелюрой и бородкой, был одет в темные брюки, темную сорочку и белый халат. Второй грузноватый человек — лет на десять старше своего собеседника — был в армейской форме, китель его был расстегнут. Заметив троих вошедших, оба замолчали и встали, не выказывая, однако, признаков беспокойства или намерения позвать охрану. Они просто молча смотрели на Доминика, Джека и Джинджер, с видимым интересом наблюдая их реакцию на инопланетный корабль. «Они нас ждали», — подумалось Джинджер. Эта мысль, как ни странно, не испугала ее: сейчас ее интересовал только звездолет. В сопровождении Доминика и Джека она медленно приблизилась к кораблю и, остановившись в шаге от него, с благоговением стала его разглядывать. Округлые бока посланца неведомого мира то там, то здесь были покрыты оспинами, царапинами и вмятинами — следами космической пыли и иных, еще не известных человеку частиц. Зазубрины и щербины на его корпусе свидетельствовали о множестве выпавших на его долю столкновений с преградами и невзгодами, гораздо более опасными, чем те, что приходится преодолевать земным кораблям и самолетам на море и в небесной выси. Весь звездолет был изъеден мельчайшими пятнышками самых разных оттенков, словно его травили сотнями различных кислот и нещадно палили огнем. Поражало не только само соприкосновение с неизведанным, но и возникшее при этом ощущение его трудно вообразимой древности. Что-то подсказывало Джинджер, что перед ней именно древний, а не современный корабль для межпланетных полетов. И, когда ее пальцы коснулись прохладного металла, она еще больше укрепилась в этом мнении. Как же бесконечно долго они добирались сюда! Следом за ней Доминик и Джек тоже прикоснулись к кораблю. Вырвавшийся у Доминика восторженный вздох красноречивее любых слов говорил о том, что он испытал при этом. — Как я хотела бы, чтобы отец дожил до этого момента, — воскликнула Джинджер, вспоминая Иакова — мечтателя, который вечно витал в облаках, начитавшись историй об иных мирах и далеких временах. — А мне жаль, что Дженни не прожила немножечко подольше, еще бы совсем чуть-чуть… — сказал Джек. И Джинджер вдруг поняла, что они думают о совершенно разных вещах. Он жалеет не о том, что Дженни не довелось увидеть этот корабль. Нет, ему хотелось бы, чтобы она дожила до всех этих удивительных событий, потому что Брендан и Доминик могли бы вылечить ее. Если бы она не скончалась на Рождество, они бы восстановили ее поврежденный мозг, вывели бы из комы и вернули в объятия преданного ей супруга, при условии, конечно, если сами благополучно выбрались бы из-под Скалы Громов. Да, последствия этого невероятного события действительно нелегко в полной мере себе представить и оценить. Между тем человек в мундире и бородач в белом халате вышли из-за стола и тоже подошли к кораблю. — Он сделан из неизвестного нам сплава, — кладя руку на корпус, объяснил тот, что был в гражданской одежде. — И этот сплав прочнее любой стали, тверже алмаза, но при этом необычайно легок и гибок. Вы Доминик Корвейсис. — Да, — ответил Доминик, протягивая ладонь незнакомцу. Этот жест наверняка удивил бы Джинджер, не будь она уверена, что и ученый и военный им не враги: так подсказывало ей сердце. — Меня зовут Майлс Беннелл, я являюсь руководителем группы ученых, изучающих этот поразительный феномен. А это — генерал Альварадо, начальник хранилища. Я чрезвычайно опечален всем тем, что с вами произошло. На мой взгляд, это событие не должно было оставаться достоянием небольшой группы людей. Оно принадлежит всему человечеству. Если бы я мог, я бы оповестил о нем весь мир завтра же. Беннелл пожал руки Джеку и Джинджер. — У нас есть вопросы… — начала Джинджер. — И вы имеете право получить на них ответы, — сказал Беннелл. — Я расскажу все, что нам удалось узнать. Но, может быть, стоит подождать остальных? Где они? — Кого вы имеете в виду? — спросил Доминик. — Вероятно, всех тех, кто был в мотеле? — догадалась Джинджер. — Но их нет с нами. — Уж не хотите ли вы сказать, что им удалось ускользнуть от полковника Фалькирка? — удивленно заморгал Беннелл. — Так вы думаете, что это Фалькирк привел нас сюда? — спросил его Джек. — Если не он, тогда кто же? — ответил вопросом на вопрос Беннелл. — Мы пришли сами по себе. На лицах Беннелла и генерала Альварадо Джинджер прочла крайнее изумление. Они обменялись удивленными взглядами и облегченно вздохнули. — Уж не хотите ли вы сказать, что вам удалось самостоятельно проникнуть на совершенно секретный объект? — воскликнул Альварадо. — Но это невозможно! — Разве ты не знакомился с досье Джека? — спросил его Беннелл. — Вспомни, какая у него за плечами подготовка и чем он зарабатывал себе на хлеб в последние восемь лет! — Это не только моя заслуга! — затряс головой Джек. — Я проделал лишь часть работы, справился с ограждением, сигнальной полосой и первыми стальными воротами. Но самым главным мы обязаны Доминику. — Но что вам может быть известно об охранных системах? — с удивлением обернулся к писателю Беннелл. — Впрочем, конечно же, я понимаю: ведь вы обладаете этой поразительной силой! После приключений в доме Ломака и свечения, которое вы вызвали, когда Кронин появился в мотеле, вы не могли не догадаться, что это не какая-то внешняя сила. Вы должны были понять, что она находится внутри вас. Тут Джинджер смекнула, что все их разговоры в мотеле действительно прослушивались, а следовательно, планы, разработанные в гриль-баре, остались нераскрытыми. В противном случае Беннелл знал бы о втором, более впечатляющем эксперименте. — Да, — подтвердил Доминик. — Мы знаем, что эта чудесная сила в нас самих, во мне и в Брендане. Но как она возникает, доктор Беннелл? — А вы разве не знаете? — Я полагаю, это каким-то образом связано с тем, что случилось с нами, когда мы побывали на корабле. Но что именно там произошло, я не помню. Вы не могли бы мне сказать? — Нет, — развел руками Беннелл, — к глубочайшему сожалению. Нам было известно, что трое из вас заходили в корабль, но мы не знали, что именно там с вами произошло. Вы вышли оттуда как раз в тот момент, когда прилетели вертолеты с солдатами из войск быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и ученые, и всем казалось, что вы находились на борту звездолета не более минуты. Когда вас взяли под стражу, вы не сообщили ни о чем экстраординарном, сказали только, что вы просто осмотрели корабль. Вас немедленно доставили в мотель, где и подвергли промыванию мозгов. Так что и вы, и мы лишились возможности узнать, что же произошло на самом деле. Я протестовал против этой завесы секретности с самого начала, но меня не слушали. В результате мы потеряли источник уникальной информации. Какая тупость! — в отчаянии воскликнул ученый и принялся яростно теребить пятерней свою густую шевелюру. — Может быть, нам стоит еще раз войти внутрь? — предложила Джинджер, кивнув на открытый люк. — Вдруг мы что-нибудь вспомним? — Да, стоит попробовать, — согласился Беннелл. — Но как вы определили, что он сядет именно возле шоссе № 80? — поинтересовался Джек. — Вот именно, — подхватил Доминик. — И почему военные решили засекретить такое событие? — И кто находился внутри корабля? Что это за существа? — спросил Джек. — В самом деле, — сказала Джинджер, — где они? Что с ними случилось? — Вы получите ответы на все эти вопросы, потому что вполне заслужили это, — вмешался генерал Альварадо. — Но сперва есть одно более срочное дело. — Он обернулся к Доминику. — Я полагаю, что с вашими способностями вам не стоит особого труда надежно перекрыть доступ внутрь хранилища. Ведь умудрились же вы в него проникнуть! Что вы на это скажете? Попытайтесь удержать ворота и двери закрытыми до тех пор, пока мы не сделаем все необходимые приготовления. Доминик был явно смущен этим предложением. — Что ж, я попытаюсь, — пожал он плечами. — Но не уверен, что у меня получится. — Он с сомнением посмотрел на Джинджер. — Боб, — обратился к генералу доктор Беннелл, — если мы не впустим сюда Фалькирка, он просто взбесится. Он решит, что мы на самом деле поражены инфекцией. Ведь полковник уверен, что только он теперь контролирует систему безопасности хранилища. Мы многим рискуем! — О какой инфекции вы говорите? — спросила Джинджер. — Полковник считает, что все мы — вы, я, Майлс, короче говоря, все — каким-то образом захвачены чужеродными существами и, по сути, уже не люди, а марионетки, движимые чужой волей, — пояснил Альварадо. — Но это безумие! — воскликнул Джек. — Мы, безусловно, знаем, что ничем не заражены, — не без усилия произнесла Джинджер. — Но есть ли какие-то основания предполагать это? — У нас возникли подобные подозрения, — натянуто улыбнулся доктор Беннелл, — но наши опасения не подтвердились. Это на самом деле так. Теперь мы уверены, что это вообще было невозможно с самого начала. Это просто типичный случай проявления привычки видеть все в черном цвете, следствие не лучших свойств человеческой натуры. Но я объясню все это позже. Джинджер хотела уже было потребовать немедленных разъяснений, но генерал Альварадо опередил ее: — Прошу вас, повремените с вопросами. У нас мало времени. Мне думается, что с минуты на минуту здесь должен появиться полковник Фалькирк с вашими друзьями, арестованными им… — Нет, — перебил его Доминик. — Они уехали раньше нас. Они уже далеко. — Вы недооцениваете полковника, — возразил Альварадо. — Моя идея заключается в том, чтобы перекрыть ему доступ в хранилище, а самим попытаться тем временем предать эту историю огласке. Потому что, если он проникнет сюда… В общем, я боюсь, что дело кончится кровопролитием… В следующий момент Джинджер краем глаза заметила какое-то движение возле входа в пещеру и, обернувшись, охнула от удивления: один за другим из-за двери появлялись Брендан, Нед, Эрни и все остальные, кто был с ними. — Слишком поздно, — сказал Беннелл. — Слишком поздно.* * *
У входа в подземелье семерых свидетелей и Паркера Фейна высадили из автофургона и выстроили на снегу перед маленькой стальной дверью. Нацеленный на них автомат лейтенанта Хорнера не оставлял им надежды на бегство или сопротивление. Леланд приказал своим солдатам возвращаться в Шенкфилд, где им надлежало похоронить отца Стефана Вайцежика в безымянной могиле и ждать дальнейших указаний полковника. Но никаких приказов им от полковника уже не суждено было дождаться, поскольку ко времени их прибытия на базу их командира уже не было бы в живых. Фалькирк решил, что нет необходимости жертвовать всеми подчиненными, и оставил для выполнения намеченной задачи лишь одного из них — лейтенанта Хорнера: вдвоем они вполне могли справиться с ней. Заметив, что видеокамеры в тоннеле выведены из строя, полковник заволновался, но быстро успокоился, сообразив, что компьютер, контролирующий доступ на объект, работает по ему одному известной программе и откроет дверь, только когда он, Фалькирк, приложит к стеклянной пластине в стене свою левую ладонь. Все именно так и произошло: полковник приложил к сенсорной пластине руку, и стальная дверь тотчас же открылась. Они с Хорнером спустили восьмерых пленников на лифте на второй уровень и привели в пещеру, где их ждали Альварадо и Беннелл. Пропуская задержанных через маленькую дверь в больших деревянных воротах, Леланд увидел поверх их голов троих остальных свидетелей — Корвейсиса, Вайс и Твиста — и, хотя и был изумлен их проникновением в пещеру, пришел в полный восторг от мысли, что, вопреки его предположениям, теперь вся группа собралась именно там, где ей и надлежало по его первоначальному замыслу быть. Он приказал Хорнеру охранять арестованных и бегом вернулся к лифтам. Бедняга Том уже не мог рассчитывать на его безоговорочное доверие, поскольку в силу обстоятельств остался без контроля с глазу на глаз с людьми, которые могли быть заражены. Держа наготове свой пистолет-пулемет, Леланд спустился на маленьком лифте на третий подземный этаж. Он без колебаний убил бы на месте каждого, кто осмелился бы встать на его пути. А если бы стало ясно, что ему не одолеть противника, полковник бы тотчас же застрелился. Он был полон решимости не дать овладеть собой. Все его детские и юношеские годы родители Фалькирка только и делали, что пытались подчинить его своей воле и превратить в одного из себе подобных — в кликушествующего религиозного фанатика, самобичевателя и богобоязненного трясуна, бормочущего в трансе никому не понятные слова. Он не позволил изменить себя собственным родителям и не намерен был допустить этого теперь. Они преследовали его всю его жизнь, прибегая ко всяческим ухищрениям и меняя личину, но им ни за что не удастся разрушить его личность и лишить достоинства. Весь нижний подземный этаж был отведен под склад боеприпасов. Кроме охранников и нескольких рабочих, здесь редко кто бывал, персонал работал и жил на втором этаже. Выйдя из лифта, полковник с удовольствием отметил, что на складе нет ни единой живой души: генерал Альварадо выполнил распоряжение Леланда и отослал всех сотрудников по их домам в хранилище. Возможно, генерал думал, что, пойдя на сотрудничество с ним, он сумеет убедить полковника в том, что ни он, ни его подчиненные не заражены и остаются людьми. Но Леланд не был настолько наивен, чтобы попасться на такую уловку. Его родители тоже временами вели себя как обычные люди, улыбались, расточали медовые речи, клялись в любви и преданности, но стоило только расслабиться и поверить им, как они показывали свое подлинное лицо. Они хватались за ремень или ракетку для игры в настольный теннис и спускали с маленького Леланда три шкуры именем Господа Бога. Нет, Леланда Фалькирка было не так-то легко провести всеми этими разговорами о человеколюбии, потому что уже с юных лет он привык видеть под личиной обыденности бесчеловечное нутро. Подходя к массивной бронированной двери склада боеприпасов, Леланд нервно огляделся по сторонам, на темные ниши, куда не доставал свет фонарей: в детстве его нередко сажали за непослушание в глухой угольный погреб. Полковник приложил левую ладонь к стеклянной панели возле двери, и дверь откатилась в сторону. Тотчас же автоматически включилось освещение, и взору Леланда предстали штабеля ящиков и контейнеров с патронами, гранатами, снарядами, ракетами, минами и прочими средствами разрушения. В самом конце склада тускло поблескивала стальная махина размером в двадцать квадратных футов — специальный, особой прочности бронированный сейф, открыть который один человек не мог. Лишь восемь сотрудников хранилища имели к нему доступ, но дверь его открывалась лишь после того, как трое из них в течение минуты один за другим прикладывали к нему ладони. Однако Леланд все предусмотрел: после включения новой программы компьютера единственным хранителем арсенала тактического ядерного оружия стал он. Полковник приложил левую ладонь к прохладному стеклу, и спустя пятнадцать секунд многослойная стальная дверь с тихим жужжанием открылась, сдвинутая с места электромоторами. Справа от проема висели на крюках подвесные ядерные бомбы, слева в специальных контейнерах лежали в ожидании Армагеддона их двойные заряды, вдоль задней стенки хранились в выдвижных ящиках детонаторы. Леланд умел обращаться с ядерными устройствами, это предусматривалось программой обучения офицеров ОРВЭС. Он извлек компоненты из контейнеров, снял с крюков два корпуса и за восемь минут собрал обе бомбы, то и дело поглядывая на дверь. Фалькирк вздохнул с облегчением, лишь установив таймеры на пятнадцать минут и запустив часы. Затем он закинул свой пистолет-пулемет за спину и, повесив на каждое плечо на ремнях по бомбе в 69 фунтов, потащил их, скрючившись и кряхтя, из сейфа. Любой другой на его месте непременно передохнул бы раза два-три, пока тащил такую ношу через весь огромный склад. Любой другой человек волей-неволей остановился бы, положил бомбы на пол, отдышался и лишь после этого, поднапрягшись, пошел бы дальше. Любой другой — но только не Леланд Фалькирк. Он сгибался и прерывисто дышал под тяжестью смертельного груза, стонал и сопел от боли в плечах и пояснице, но с каждым шагом чувствовал себя все более счастливым. В зале он положил одну из бомб на пол напротив дверей лифтов и огляделся по сторонам, на гранитные стены и потолок. Лицо его исказила злорадная улыбка: более надежный саркофаг трудно было даже представить себе! Любое живое существо, даже инородное, обладающее огромными способностями к адаптации, было обречено на гибель в этих катакомбах — либо под обломками колоссальных каменных глыб, либо сгорев и превратившись в пар от удара тепловой волны при ядерном взрыве. Ядерная боль. Безусловно, он не останется в живых, но докажет, что способен был стойко перенести ее. Всего лишь доля секунды ослепительной агонии. Совсем неплохо, во всяком случае, лучше, чем терпеть изнурительные побои кожаным ремнем или теннисной ракеткой, в которой его папаша специально просверлил дырки, чтобы сделать удары более болезненными. Все еще сгибаясь под тяжестью второй бомбы, Леланд усмехнулся, взглянув на цифры, мелькающие на электронном табло спускового механизма первой бомбы, который неумолимо отсчитывал оставшиеся до рокового мига секунды. Самым замечательным в подвесных бомбах было то, что, запустив спусковой механизм взрывателя, его уже нельзя было остановить. Так что Леланду не нужно было беспокоиться, что кто-то помешает ему. Он вошел в кабину лифта и поднялся на второй этаж.* * *
Держа на руках Марси, Жоржа подошла к Джеку Твисту и встала с ним рядом. Благоговейный трепет, не уступающий по силе тому, что она испытала по дороге в хранилище в темном кузове грузовика, когда на нее обрушился шквал ярчайших воспоминаний, вновь потряс ее с головы до пят. Это был трепет, исполненный страха, восторга и изумления, переполнивших ее, едва она прикоснулась кончиками пальцев к корпусу многострадального звездолета. То ли подражая матери, то ли повинуясь собственному импульсивному желанию, Марси тоже дотронулась до обшивки корабля и сказала: — Луна! Луна! — Да, — немедленно отозвалась Жоржа, — да, моя сладенькая, это именно то, что ты видела тогда в небе. Вспомнила? Только это не Луна тогда опускалась, светясь сперва красным, а потом янтарным светом, а этот корабль. — Луна, — упрямо повторила девочка, поглаживая ладошкой бок звездолета, словно бы очищая прикипевшую к нему многовековую космическую пыль, а заодно и стирая пелену со своей памяти. — Луна упала вниз. — Не Луна, деточка, а корабль, — снова поправила ее мать. — Специальный корабль, такой, как в кино, сладенькая моя. Марси обернулась и вполне осмысленно взглянула на Жоржу. — Как у капитана Кирка и мистера Спока? Жоржа улыбнулась и крепче обняла ее. — Как у капитана Кирка и мистера Спока, дорогая. — Как у Люка-Неболаза, — уточнил Джек, поправляя локон волос на голове Марси, упавший ей на лоб. — Как у Люка, — сказала Марси восторженно. — И Хэна Соло, — добавил Джек. Глаза девочки снова затуманились, она вновь забралась в скорлупу своего внутреннего мира, чтобы осмыслить потрясающую новость. Джек улыбнулся Жорже: — Она непременно поправится. На это потребуется время, но она выздоровеет, потому что вся ее одержимость Луной была следствием неосознанных попыток вспомнить однажды увиденное. Теперь она уже кое-что припоминает, и процесс не будет таким мучительным. Как обычно, спокойная уверенность Джека подействовала на Жоржу ободряюще. — Она, конечно же, поправится, — согласилась она, — если только нам удастся выбраться отсюда целыми и невредимыми. — Как-нибудь выберемся. Непременно выберемся.* * *
При виде Паркера Доминик просиял и обнял художника. — Как ты очутился здесь, старина? — Это долго рассказывать, — махнул рукой Паркер с тоской в глазах. — Я не хотел втягивать тебя так глубоко во все эти неприятности, — вздохнул Доминик. — Я не простил бы себе, если бы упустил такой шанс, — сказал Паркер, глядя на звездолет. — А где твоя борода? — По такому случаю, — кивнул Паркер на корабль, — можно и побриться.* * *
Эрни в изумлении двигался вдоль звездолета, ощупывая его и пожирая глазами. Фэй, беспокоившаяся за Брендана, осталась рядом с ним. Несколько месяцев назад он пережил сильнейшее потрясение, утратив — или думая, что утратил, — веру. А сегодня ночью он потерял отца Вайцежика. Этот удар едва не доконал его: глаза обрели безжизненное выражение, его трясло. — Фэй, — произнес он, глядя на корабль, — не правда ли, это чудесно! — Да, — согласилась она. — Я никогда не верила историям об иных мирах, никогда не задумывалась над этим вопросом. Но это начало чего-то нового, нового и прекрасного. — Но это не Бог, — вымолвил Брендан. — Я чувствовал, что это нечто другое. — Помнишь, что сказал Паркер, когда нас везли сюда? Отец Вайцежик знал, что произошло тогда на самом деле, что опустилось на Землю в ту ночь, но воспринял случившееся как подтверждение божественного промысла и своей веры во всемогущего Господа Бога. — Для него все являлось подтверждением его веры, — вяло улыбнулся Брендан. — В таком случае пусть это послужит еще одним подтверждением и для тебя. Тебе просто нужно время, чтобы все осмыслить. И тогда ты взглянешь на вещи так же, как рассматривал их отец Вайцежик, потому что у вас с ним очень много общего, хотя сам ты и не догадываешься об этом. — Вы плохо знали его, — удивленно посмотрел на нее Брендан. — Я совершенно другой. Во мне нет и половины того, что было в этом человеке и священнике. Фэй улыбнулась и ласково потрепала его по щеке. — Брендан, мы сразу поняли, как ты любишь отца Стефана, когда ты рассказывал о нем. И уже спустя день нам стало ясно, что ты очень похож на него. Ты еще молод, Брендан. Тебе еще многое предстоит узнать. Но когда ты достигнешь возраста отца Вайцежика, ты непременно станешь таким же, каким был он, — достойным человеком и примерным пастырем. И каждый день твоей жизни будет олицетворением его заветов. Лицо молодого священника просветлело, губы его задрожали, и он спросил осевшим голосом: — Вы действительно так думаете? — Я в этом уверена. И они крепко обнялись. Нед и Сэнди стояли, обняв друг друга за талию, и смотрели на корабль. Оба молчали, потому что слова были не нужны. Во всяком случае, ему так казалось. Наконец Сэнди сказала то, что действительно нужно было сказать: — Нед, если мы выберемся отсюда живыми, я хочу сходить к врачу. Ну, ты понимаешь, о каком враче я говорю, — к специалисту по искусственному оплодотворению. Я во что бы то ни стало хочу иметь ребенка. — Но ты никогда раньше об этом не… — растерянно пробормотал Нед. — Раньше я так не любила этот мир, — тихо проговорила Сэнди. — Но теперь… Теперь я хочу, чтобы частичка нас тоже была среди тех, кто отправится сквозь всяческую тьму в иные миры, чтобы там встретиться с незнакомцами — чудесными незнакомцами, такими же, как те, что прилетели к нам на этом корабле. Я буду хорошей матерью, Нед. — Я знаю, Сэнди.* * *
Когда Майлс Беннелл увидел, что в пещеру вошел последний свидетель, а за ним еще и Паркер Фейн, он отказался от мысли использовать необыкновенные способности Доминика Корвейсиса, чтобы не допустить полковника Фалькирка в Скалу Громов. Теперь он был больше склонен полагаться на свой пистолет, засунутый за пояс. Пистолет, спрятанный под просторным белым халатом, давил на живот. Майлс думал, что Леланд приведет с собой по меньшей мере два десятка охранников, а может, и того больше. Поэтому он ожидал увидеть на пороге полковника, Хорнера и с полдюжины солдат. Но появился один только Хорнер, державший автомат на изготовку. Пока пленники рассматривали корабль, лейтенант подошел к доктору Беннеллу и генералу Альварадо и сообщил им, что полковник прибудет с минуты на минуту. — Как вы посмели войти сюда с автоматическим оружием? — набросился на него генерал. — Да вы отдаете себе отчет, что может случиться, нажми вы случайно на спусковой крючок?! Ведь оружие на боевом взводе! Пули могут рикошетом попасть в нас, да и в вас самого. — Я не допускаю случайностей, сэр, — с вызовом ответил Хорнер, словно готов был на деле доказать это. — Где Фалькирк? — сменил тему генерал. — У него важные дела, сэр, — сказал Хорнер. — Он просил принести вам его извинения за задержку. Он скоро присоединится к нам. — Что еще за дела? — спросил генерал Альварадо. — Полковник не советуется со мной относительно каждого своего шага, сэр, — пожал плечами Хорнер. Майлс был почти уверен, что Фалькирк со своими людьми уничтожит его подчиненных. Но время шло, а никаких выстрелов не было слышно, и он слегка успокоился. Чтобы отвлечься от мрачных предчувствий и окончательно взять себя в руки, Майлс решил пока поговорить со свидетелями и ответить на их вопросы. Многие из них, как он понял, уже слышали о специальной исследовательской группе, поэтому Майлс лишь в самых общих чертах подытожил результаты работы ученых и объяснил, почему был отдан приказ засекретить происшествие. Корабль, который они видели, был обнаружен военными спутниками, вращающимися вокруг Земли на расстоянии более 22 тысяч миль. Они заметили корабль, когда он проходил мимо Луны. Советские спутники засекли объект гораздо позже, но так и не определили точно, что он собой представляет. Первоначально инопланетный корабль приняли за большой метеорит или маленький астероид, который, судя по его курсу, должен был столкнуться с Землей. Если бы он был из мягкого, пористого вещества, он бы сгорел во время падения либо, в худшем случае, распался на куски и не принес бы особенного вреда. Опасность он мог представлять лишь в том случае, если бы состоял из твердого железисто-никелевого соединения. В этом случае, однако, сохранялась большая вероятность того, что объект упадет в воду, покрывающую семьдесят процентов земной поверхности. Наибольший урон мог быть, конечно, нанесен пришельцем из космоса в случае падения на густонаселенный район суши. — Представьте себе, что осталось бы от Манхэттена, если бы в него врезался со скоростью две тысячи миль в час кусок железисто-никелевого сплава величиной с автобус, — сказал Майлс. — Мы не могли не принять меры. Примерно за полгода до этого на земную орбиту были выведены секретные военные спутники, имеющие на борту особое вооружение на случай ядерной войны. Благодаря прозорливым конструкторам каждый такой спутник-перехватчик был способен применить свое оружие и против угрожающих Земле крупных космических осколков. Недавние научные исследования дали основание полагать, что динозавры погибли в результате столкновения Земли с кометой или астероидом, поэтому было решено использовать космический шит для отражения не только советских стратегических ракет, но и случайных объектов. Один из спутников был переведен на новую орбиту, чтобы уничтожить опасный метеорит еще на подходе к Земле, и все его противоракетные системы получили соответствующую команду. Мощность их боеголовок была достаточно велика, чтобы разнести угрожающий объект на мелкие безопасные кусочки. — Затем, — продолжал Майлс, — за несколько часов до предполагаемой атаки на фотографиях объекта мы обнаружили потрясающую симметричность его частей. Полученные со спутников данные спектрографического анализа подтверждали гипотезу, что объект не является метеоритом, а представляет собой нечто другое. — Майлс взволнованно прошелся вдоль борта корабля и погладил его бок рукой: чувствовалось, что даже спустя восемнадцать месяцев он не утратил благоговения перед этим детищем космического разума. — Каждые десять минут мы получали и изучали все новые и новые фотоснимки, пока вероятность того, что мы имеем дело с инопланетным кораблем, не возросла настолько, что никто уже не решился бы отдать приказ уничтожить его. Мы не стали оповещать о своем открытии русских, так как тем самым рассекретили бы свои спутники. Более того, мы создали помехи для советских радаров, прощупывающих высокие слои атмосферы, чтобы помешать им обнаружить снижающийся объект. Сперва мы решили, что он встанет на околоземную атмосферу на манер метеорита, хотя и несколько корректируя траекторию полета. Лишь за тридцать восемь минут до посадки компьютеры противовоздушной обороны определили, что корабль приземлится в округе Элко. — Этого было достаточно, чтобы успеть перекрыть федеральное шоссе № 80, — заметил Эрни Блок. — И вызвать полковника Фалькирка с его командой. — В этот момент они были на учебных маневрах в Айдахо, — сказал Майлс. — Совсем поблизости, к счастью или несчастью, в зависимости от вашей точки зрения. — Мне известна ваша точка зрения, доктор Беннелл, — раздался от двери голос полковника Фалькирка, и наконец появился он сам. Пистолет, упирающийся Майлсу Беннеллу в живот, внезапно показался ему не более полезным, чем заряженный горохом дробовик. Едва взглянув на Леланда Фалькирка, Джинджер поняла, насколько исказила его облик фотография вгазете. Он был гораздо симпатичнее и импозантнее — и значительно страшнее, чем на странице «Сентинел». Он не сжимал угрожающе свой пистолет-пулемет, а довольно небрежно держал его в опущенной руке. Но за этой напускной расслабленностью Джинджер почувствовала провокационный вызов, и чем ближе подходил Фалькирк к стоящим возле корабля, тем острее ощущала она исходящую от него ненависть, граничащую с безумием. — Где же ваши люди, полковник? — спросил доктор Беннелл. — Со мной один лейтенант Хорнер, — ответил Фалькирк нарочито мягким голосом. — Зачем демонстрировать силу? Я уверен, что, обсудив ситуацию трезво и спокойно, мы придем к взаимоприемлемому решению проблемы. Джинджер еще сильнее укрепилась во мнении, что полковник над ними насмехается. У него был вид ребенка, не только получающего удовольствие от того, что только ему одному известен какой-то важный секрет, но и испытывающего особое наслаждение от того, что другие его не знают. Доктор Беннелл тоже был смущен поведением Фалькирка и явно обеспокоен им. — Задавайте вопросы доктору Беннеллу, — произнес полковник, — не обращайте на меня внимания, я не стану вам мешать. И он посмотрел на часы. — У меня есть вопрос, — подняла руку Сэнди. — Скажите, доктор, где те существа, которые прилетели на корабле? — Они умерли, — ответил Беннелл. — Их было восемь, но все они умерли задолго до того, как их корабль опустился на нашу планету. Сердце Джинджер сжалось от сожаления, и по выражению лиц своих друзей она поняла, что все они тоже огорчены и разочарованы. У Паркера и Жоржи даже вырвался тяжелый вздох, словно им сообщили о смерти близкого человека. — Но что было причиной их смерти? — поинтересовался Нед. Беспокойно поглядывая на полковника Фалькирка, Беннелл сказал: — Сперва, мне кажется, вам следует немного побольше о них узнать. В первую очередь, конечно же, почему они прилетели сюда. В их корабле мы нашли нечто вроде энциклопедии их цивилизации — обзор их культуры, биологии, психологии, записанный на специальных пластинках, чем-то напоминающих наши видеодиски. Нам потребовалось около двух недель, чтобы распознать воспроизводящий информацию аппарат, и почти месяц, чтобы научиться им пользоваться. Но машина оказалась в рабочем состоянии, к нашему удивлению, особенно если принять во внимание… Впрочем, не стану забегать вперед, всему свое время. Скажу только, что мы все еще расшифровываем этот богатейший материал. Он наглядно объясняет многое вопреки языковому барьеру, одновременно помогая учить их язык. Многие из моих сотрудников, вместе со мной работающих над этим проектом, даже прониклись почти родственным чувством к тем, кто создал этот корабль. — Хороши родственнички, — ехидно рассмеялся полковник Фалькирк. Бросив на него испепеляющий взгляд, доктор Беннелл продолжал: — Мне потребовались бы недели, чтобы рассказать, что мы узнали о них. Вот лишь один пример: эти космические путешественники, которые сделали поиски живых существ смыслом своего существования, обнаружили еще пять разумных видов в других созвездиях. — Пять! — изумленно воскликнула Джинджер. — Но это невероятно, даже если допустить, что Галактика густо населена мыслящими существами. Вспомните, какие нужно преодолеть расстояния, какие обширные просторы исследовать. — Совершенно верно, — согласился доктор Беннелл, — но все дело в том, что, когда у них появились летательные аппараты для межзвездных полетов, они, очевидно, решили, что находить новые цивилизации — их святой долг. Они превратили свои поиски в своего рода религию. — Он покачал головой и глубоко вздохнул. — Я не берусь с полной уверенностью утверждать это, потому что даже их великолепная визуальная энциклопедия не объясняет в полной мере их философию. Гораздо легче с ее помощью понять некоторые физические явления их мира. Но нам кажется, что они считают себя слугами некой высшей силы, создавшей Вселенную… — Бога? — перебил его Брендан. — Вы хотите сказать, что они считают себя слугами Бога? — Да, кем-то вроде этого, — ответил Беннелл. — Тем не менее они не распространяют никаких религиозных посланий. Они просто считают, что их святой долг помогать разумным существам находить друг друга, связывать различные цивилизации, рассеянные по необъятному космосу. — Вот именно — связывать, — многозначительно хмыкнул Фалькирк и снова посмотрел на часы. Генерал Альварадо медленно обходил его справа, стараясь выйти из поля зрения полковника. Сейчас он сделал еще шажок. Скрытая враждебность Фалькирка к Беннеллу и Альварадо, причину которой Джинджер не до конца понимала, все сильнее тревожила ее. Она подошла поближе к Доминику и обняла его. — Они сделали нам еще один подарок, — сказал Беннелл, угрюмо поглядывая на полковника. — У существ их вида выработались определенные способности, которые мы рассматриваем как особенности их психики. Это способность исцелять. Способность силой мысли перемещать в пространстве предметы, воздействовать на них. Но и это еще не все: нам удалось узнать, что эти существа могут наделять такими же способностями и другие разумные особи. — Но каким образом? — спросил Доминик. — Механизм передачи нам пока не совсем понятен. Но сам факт не вызывает сомнения. Именно это и произошло с вами, и теперь вы сами можете вселить эту силу в других людей. — Вселить силу? — удивленно воскликнул Джек. — Вы хотите сказать, что Доминик и Брендан могут передать нам свои чудесные способности? — Я уже сделал это, — сказал Брендан. — Вы не знаете еще, что сообщил мне Паркер. Оказывается, отец Вайцежик стал свидетелем проявления тех же уникальных способностей у людей, которых я вылечил в Чикаго, — у Эмили и Уинтона. Теперь они тоже обладают этой энергией. — Новые источники заразы, — мрачно процедил Фалькирк. — И, поскольку Брендан исцелил меня, — подытожил Паркер, — рано или поздно я тоже обрету этот дар. — Лично я считаю, что он передается не только в процессе исцеления, — заметил Брендан, — но и при любом тесном контакте. Джинджер была потрясена услышанным. — Вы хотите сказать… Вы хотите сказать, что они прилетели, чтобы помочь нам подняться на качественно новый уровень развития? И что процесс этой эволюции человека уже начался? — Похоже, что так оно и есть, — констатировал Беннелл. Полковник Леланд взглянул на свои часы и резко заметил: — Прошу вас, прекратите этот маскарад! Это уже становится утомительным. — Какой маскарад? — спросила Фэй Блок. — О чем вы, полковник? Мы слышали, что вы принимаете нас всех за одержимых. Но ведь это какая-то нелепость! Откуда у вас эта безумная идея? — Избавьте меня от подобных шарад, — резко бросил полковник Фалькирк. — Не притворяйтесь несведущими, вы все знаете. Вы уже не люди. Все вы одержимые и не пытайтесь переубедить меня, вам все равно не будет пощады. Ваши фокусы не удались. Слишком поздно. — Что за чушь он несет об одержимости и заражении? — обернулась к доктору Беннеллу Джинджер. — Это заблуждение, — сказал Беннелл и подвинулся еще на несколько шагов влево. Джинджер догадалась, что он отвлекает внимание полковника от генерала Альварадо, чтобы тот мог полностью выйти из поля зрения Фалькирка. — Заблуждение, — повторил Беннелл, — или же яркий пример типичной для представителей человеческого рода ксенофобии — ненависти и подозрительности ко всему инородному, отличному от них самих. Впервые просматривая видеодиски, о которых я уже говорил, мы обнаружили показавшееся нам тогда странным стремление инопланетян передавать свои способности другим особям. Тогда мы истолковали это как стремление вселиться в чужое тело и овладеть его сознанием. Мне думается, это вполне объяснимый случай паранойи, обусловленный впечатлениями от романов и фильмов ужасов. Мы подумали, что столкнулись с представителями паразитирующей расы. Однако позже мы пересмотрели свою точку зрения, ознакомившись с видеоэнциклопедией жизни этих существ поподробнее. Теперь мы уже точно знаем, что ошибались тогда. — Лично я в этом не уверен, — отмахнулся Фалькирк. — Мне кажется, что все вы заражены и находитесь под контролем этих созданий, поэтому и приуменьшаете опасность. Или все эти видеодиски — ложь и пропаганда. — Нет! — возразил Беннелл. — Во-первых, я уверен, что эти существа не способны лгать. Во-вторых, если бы им так легко удавалось вселиться в нас, никакая пропаганда им была бы не нужна. И уж наверняка они не взяли бы с собой свою энциклопедию, из которой ясно, что они намереваются изменить нас. — Я понимаю, что религиозная метафора может показаться в данном случае неуместной, — взволнованно произнес Брендан Кронин, внимательно следивший за дискуссией, — но, если они прибыли к нам как слуги Господа, если они намеревались передать нам этот чудотворный дар, тогда вполне можно считать их ангелами, архангелами, дарующими особую благодать. — Да вы забавник, Кронин! — резко хохотнул Фалькирк. — Неужели вы всерьез думаете, что вам удастся купить меня на этот религиозный блеф? Меня? Да будь я даже таким же религиозным фанатиком, как мои покойные родители, давно превратившиеся в прах, я не клюнул бы на эту наживку. Вы хотите убедить меня, что эти существа — ангелы? Ангелы — с их-то лицами, похожими на клубок червей? — Червей? — вздрогнул Брендан. — Что он хочет этим сказать, доктор? — обернулся он к Беннеллу. — Эти существа не похожи на нас, — объяснил ученый. — У них тоже две задние конечности и две передние, но шесть пальцев вместо пяти. На этом внешнее сходство заканчивается. Сперва они показались нам отвратительными. Пожалуй, это даже мягко будет сказано. Однако со временем начинаешь понимать, что и они не лишены своеобразной красоты. — Своеобразной красоты, — с презрением передразнил его Фалькирк. — Да они просто чудовища, настоящие монстры, и только монстры могут считать их красавцами. Так что вы еще раз подтвердили, что я прав, Беннелл. Позабыв о том, что в руке у Фалькирка пистолет-пулемет, взбешенная его словами Джинджер шагнула ему навстречу. — Послушайте, вы, проклятый болван! — вскричала она. — Какая разница, как они выглядят? Главное, что они собой представляют! Ведь совершенно очевидно, что у этих существ есть чувство долга, благородные цели. И, как бы ни отличались внешне они от нас, все равно между нами много общего, и то, что нас объединяет, гораздо важнее всех различий. Мой отец всегда говорил, что наряду с разумом нас отличают от животных еще и такие качества, как мужество, любовь, дружба, сострадание и сочувствие. Да понимаете ли вы, какое нужно иметь мужество, чтобы отправиться бог знает куда, за тысячи миллионов миль, ради осуществления своей цели? Так что вот вам один яркий пример нашей общности: мужество. А любовь, дружба? Им эти качества, свойственные людям, тоже не чужды. В противном случае разве смогли бы они построить цивилизацию, способную достигать иных звезд и планет? Без дружбы и любви ничего не создашь и не построишь. А сострадание? Разве стали бы они, не имей они этого чувства, наделять чудесным целительным даром другие разумные существа? Разве задались бы они целью помочь им подняться на новую ступень развития? Безусловно, они способны сочувствовать и сострадать. Они сочувствуют нашему страху и одиночеству, ощущению своей ничтожности перед огромной бессмысленной Вселенной. Они даже обрекают себя на невероятные космические путешествия, движимые одной лишь надеждой, что случайно найдут нас и сообщат нам: мы не одиноки! Неожиданно Джинджер поняла, что ее гнев обращен не столько на Фалькирка, сколько на ужасающую слепоту человечества, периодически толкающую его на бессмысленное самоуничтожение. — Взгляните на меня, — сказала она полковнику. — Я — еврейка. И есть люди, считающие меня не такой же, как они, даже опасной для них. Находятся и такие, что верят всяким жутким историям о евреях, пьющих кровь младенцев. Так чем отличается этот мерзкий антисемитизм от вашего упрямого, вопреки всем фактам, доказывающим обратное, утверждения, что эти существа прилетели, чтобы пить нашу кровь? Не мешайте нам идти вперед, ради бога! Прекратите разжигать ненависть! Прекратите немедленно! Там, где нам предопределено быть, нет места для ненависти! — Браво! — едко воскликнул Фалькирк. — Прекрасная речь! — Он внезапно наставил свой пистолет-пулемет на генерала Альварадо. — Не надо, генерал! Оставьте в покое оружие. Я не допущу, чтобы меня застрелили. Я хочу погибнуть в чудесном огне! — Огне? — воскликнул Беннелл. — Так точно, доктор, — ухмыльнулся Фалькирк. — В чудесном огне, который поглотит нас всех и спасет мир от этой заразы. — О боже! — вздохнул Беннелл. — Так вот почему вы отпустили своих людей. Вы не хотели ненужных жертв! — Он обернулся к Альварадо. — Боб, этот сумасшедший мерзавец добрался до ядерных бомб. Лицо Альварадо посерело. — Две ядерные бомбочки, — сказал Фалькирк, — одна здесь, прямо за дверью, а вторая — внизу, возле арсенала. Осталось менее трех минут, и я готов поспорить, что за это время вам не удастся превратить меня в одного из себе подобных. Через три минуты все мы превратимся в пар! Внезапно пистолет-пулемет вырвался из рук полковника, словно живой, да еще с такой силой, что поранил ему пальцы. В тот же момент раздался вопль лейтенанта Хорнера, автомат которого тоже вырвался из его огромных лап и, пролетев по воздуху, упал на пол перед Эрни Блоком. Оружие Фалькирка поднял Джек Твист. Полковник и лейтенант тотчас же оказались под прицелом. — Твоя работа? — изумленно посмотрела Джинджер на Доминика. — Похоже, что моя, — ответил он, сам удивленный случившимся. — Я не знаю, как это у меня получилось. — Все это бессмысленно, — устало вымолвил доктор Беннелл. — Нам всем осталось жить три минуты. — Теперь уже две, — поправил его полковник, убаюкивая здоровой рукой свою пораненную руку и улыбаясь счастливой улыбкой. — Остановить запущенный взрывной механизм этих бомб невозможно, — мрачно сообщил генерал Альварадо. Но Доминик уже бежал к выходу, на ходу крича Брендану: — Займись той, что за дверью! Я спущусь вниз! — Бесполезно! — крикнул ему вслед генерал.* * *
Когда Брендан опустился на колени перед ядерной бомбой, до взрыва оставалось всего одна минута и тридцать три секунды. Он понятия не имел, что надо делать. Да, он исцелил троих людей и мог поднять в воздух перечницу, мог даже получать свет из ничего. Но при этом он помнил и о том, как утратил контроль над перечницами и креслами и как они попадали на пол. Допусти он теперь малейшее неверное движение, и его уже не спасла бы никакая сверхъестественная сила. Одна минута и двадцать шесть секунд до взрыва. Все, кто был в пещере возле звездолета, вышли и окружили его. Фалькирк и Хорнер хладнокровно стояли на месте, не пытаясь вновь овладеть оружием: они не сомневались в надежности бомб. Минута и одиннадцать секунд. — Если я раздроблю детонатор, — спросил Брендан Альварадо, — распылю его, как это… — Нет, — возразил генерал, — если взрывной механизм запущен, повреждение детонатора немедленно вызовет взрыв. Минута и три секунды. — Брендан, попытайся сделать так, чтобы детонатор выскочил из этой проклятой бомбы. На манер того, как Доминик вырвал оружие из рук этих негодяев. Брендан таращился на быстро меняющиеся цифры на часах взрывателя и добросовестно пытался представить себе, как детонатор выскакивает из гнезда, отделяясь от бомбы. Но ровным счетом ничего не происходило. Оставалось пятьдесят четыре секунды.* * *
Проклиная едва ползущий лифт, Доминик пулей вылетел из кабины, когда она наконец опустилась на третий подземный этаж, и вместе с Джинджер побежал к лежащей на полу бомбе. — Боже! — воскликнул он с замиранием сердца, едва взглянув на электронные часы. Пятьдесят секунд. — Ты можешь это сделать, — наклоняясь с другой стороны над ненавистной бомбой, сказала Джинджер. — Я люблю тебя! — Я люблю тебя, — повторил он, не меньше, чем она сама, удивленный этими словами. Сорок две секунды. Он протянул к бомбе руки и почувствовал, что на ладонях тотчас же выступили красные круги. Сорок секунд.* * *
Брендана пробил пот. Тридцать девять секунд. Он напрягался изо всех сил, пытаясь запустить дремлющую в нем чудодейственную энергию. Но, хотя стигматы и горели на его ладонях и он уже ощущал, как бродит в нем волшебная сила, ему никак не удавалось сфокусировать ее на стоящей перед ним задаче. Он продолжал думать о том, к каким непоправимым последствиям приведет любой его промах, о своей громадной ответственности за малейшую допущенную ошибку, и чем больше он думал, тем меньше он мог сосредоточиться на детонаторе. Тридцать четыре секунды. Оттолкнув сгрудившихся возле Брендана людей, Паркер Фейн опустился рядом с ним на корточки. — Послушайте, святой отец, — возбужденно воскликнул он, — может быть, вся загвоздка в том, что вы слишком много размышляете. Может быть, нужно быть решительней. Может быть, здесь требуется безоглядная смелость, даже наглость, если хотите, своего рода кураж, вдохновение! — Он протянул свои огромные ладони к детонатору и закричал: — Вылезай оттуда сейчас же, раздолбай! Раздался треск рвущихся проводов, и детонатор выпрыгнул из углубления в корпусе прямо в руки Паркера. Все бросились поздравлять Брендана и Паркера, но священник охладил всеобщий восторг, заметив: — А часы-то идут! Одиннадцать секунд. — Да, но ведь детонатор уже не соединен с бомбой, — ухмыльнулся Паркер. — Но в нем остался обычный заряд, — заметил Альварадо.* * *
Детонатор выскочил из бомбы в руки Доминика, он увидел, что часы по-прежнему отсчитывают секунды, и догадался, что их нужно остановить, хотя угроза ядерного взрыва и миновала. Он строго взглянул на часы и просто приказал им остановиться. Сменяющиеся на светящемся табло цифры замерли на 0:03.* * *
0:03. Паркер, еще не освоившийся в роли кудесника, утратил свой кураж перед лицом повторной опасности и, решив, что истощил волшебную силу, избрал иной, более соответствующий своему характеру выход. Издав яростный воинственный вопль, он обернулся и зашвырнул детонатор в дальний угол пещеры, словно гранату, уповая на то, что ему удастся забросить его достаточно далеко. Едва детонатор отделился от его руки, Паркер упал ничком на пол, как это уже сделали до него остальные.* * *
Когда раздался взрыв, Доминик и Джинджер разжали объятия и вскочили на ноги. На мгновение Доминик даже похолодел, подумав, что Брендану не удалось обезвредить вторую бомбу. Но уже в следующую секунду он сообразил, что ядерный взрыв обрушил бы на них каменный свод. — Детонатор, — догадалась Джинджер. — Пошли, — сказал он, — может быть, кого-то ранило. Кабина лифта поползла вверх. Когда они наконец добрались до второго этажа, в зал уже сбежались, с оружием в руках, все сотрудники хранилища, готовые дать отпор, если понадобится. Держа Джинджер за руку, Доминик пробрался сквозь толпу к тому месту, где он оставил Брендана наедине с ядерной бомбой. Брендан был цел и невредим, так же как и остальные — Фэй, Сэнди, Нед, Жоржа и Марси. Паркер вынырнул откуда-то справа от них и заключил их в свои медвежьи объятия. — Это стоило видеть, ребята, — говорил он. — Если бы было больше таких парней, как я, Вторая мировая война закончилась бы за шесть месяцев. — Я начинаю понимать, почему вас так обожает Доминик, — улыбнулась Джинджер. — Конечно же, моя дорогая! — вскинул брови Паркер. — Меня невозможно не любить! Внезапно раздался испуганный крик, и Доминик резко обернулся назад: Фалькирк, воспользовавшись сумятицей, сумел выхватить у одного из сотрудников хранилища револьвер. Все в ужасе отпрянули от него. — Ради бога! — закричал Джек. — Все кончено, полковник! Все кончено, черт тебя побери! Но Фалькирк не собирался заканчивать свою войну. Его серые водянистые глаза блестели безумием. — Да, — пробормотал он, — все кончено, но я не позволю овладеть собой. Вы не получите меня! — И с этими словами он вставил ствол револьвера в рот и спустил курок. Никто не успел ни выбить оружие у него из руки, ни послать револьверу мысленный приказ выскочить из нее, как грохнул выстрел. Джинджер вскрикнула и отвернулась от падающего тела. Доминик тоже отвел глаза в сторону, испытывая злость не столько из-за самой кровавой сцены, сколько от осознания бессмысленности этой жертвы теперь, когда человечество наконец обрело ключ к бессмертию.3
НА ПОРОГЕ НЕИЗВЕДАННОГО
Вместе со всеми сотрудниками хранилища, устремившимися к звездолету, Джинджер, Доминик и остальные свидетели его приземления тоже подошли к кораблю и следом за Майлсом Беннеллом вошли в него. Изнутри звездолет выглядел так же просто, как и снаружи: не было никакого сложного и мощного оборудования, которое можно было бы ожидать увидеть в аппарате, способном совершать такие путешествия. Как пояснил Майлс Беннелл, создатели корабля намного превзошли представления человечества о машиностроении и, возможно, о физических законах вообще. Кабина представляла собой невыразительное, даже убогое продолговатое помещение, лишенное каких-либо примечательных деталей. Теплый золотистый свет, наполнявший корабль ночью 6 июля, исчез, корабль освещала лишь гирлянда обычных лампочек, протянутая под потолком учеными, работавшими здесь. Но, несмотря на всю простоту и незатейливость кабины, Джинджер чувствовала себя здесь хорошо и уютно, как в простеньком кабинете своего отца, располагавшемся в глубине его первого ювелирного магазинчика в Бруклине, ставшего впоследствии головной конторой его фирмы. Стены кабинета, помнится, украшал всего лишь один календарь, мебель там стояла дешевая, старая, поцарапанная, но Джинджер эта комната казалась прекрасной и волшебной, потому что Иаков частенько читал ей там увлекательнейшие истории из книг, которые он украдкой приносил с собой: о гномах и ведьмах, об иных мирах, о гангстерах и шпионах. Когда Иаков читал эти книги, голос его становился звучным и завораживающим, и Джинджер уже не замечала серости маленького кабинета, готовая часами слушать отца и представлять себя то помощницей Шерлока Холмса, крадущейся рядом со знаменитым сыщиком по зыбкому торфяному болоту в сумрачном тумане, то участницей приключений героев Брэдбери. Кабинет Иакова никогда не был только тем, чем и должен был бы казаться на первый взгляд, — убогой конторой. И хотя между ним и кабиной звездолета не было никакого внешнего сходства, их роднил пропитавший их блеклые стены дух загадочности и таинственности. Вдоль стен располагались четыре похожих на гробы контейнера, наполненные полупрозрачным, напоминающим молочно-голубоватый кварц веществом. Это были, как объяснил доктор Беннелл, кровати путешественников, в которых они покоряли огромные расстояния, пребывая в анабиозе и старея за каждые земные пятьдесят лет только на один год. Корабль находился под постоянным контролем умных приборов и мчался сквозь вакуум, зондируя в ходе полета окружающее космическое пространство с помощью чувствительнейших датчиков и локаторов. От внимания Джинджер не укрылось, что на крышке каждого контейнера имелись выпуклые кольца, точно такого же размера, как и те, что выступали на ладонях Доминика и Брендана. — Вы сказали, что они все были мертвы, когда их корабль приземлился, — напомнил Беннеллу его слова Нед. — Но вы так и не ответили на мой вопрос: что явилось причиной их смерти? — Время, — сказал Беннелл. — Все системы корабля во время посадки функционировали нормально, но сами инопланетяне скончались от старости уже много лет назад. — Но вы сказали нам, что они старели очень медленно, — возразила Фэй. — Всего на один год за пятьдесят земных лет. — Верно, — согласился Беннелл, — по нашим стандартам, они долгожители. В среднем они живут пятьсот лет. — Значит, они провели в полете не менее двадцати пяти тысяч лет! — воскликнул Джек Твист, державший на руках Марси. — Больше! — отозвался Беннелл. — При всех их успехах в науке и технике им так и не удалось научиться опережать скорость света — 186 тысяч миль в секунду. Их корабль мог развить лишь скорость в 182 тысячи миль в секунду, что все равно маловато, если принять во внимание колоссальные расстояния. Диаметр нашей Галактики составляет 80 тысяч световых лет, или около 240 тысяч триллионов миль. С помощью трехмерной галактической диаграммы они постарались обозначить местонахождение своей планеты. Нам думается, что они прибыли из района, удаленного от нас на расстояние, превышающее 31 тысячу световых лет полета, то есть покинули свой дом почти 32 тысячи лет тому назад. Так что уже около 10 тысяч лет, как они умерли. Джинджер снова затрясло, как при первом взгляде, брошенном ею на этот древний корабль. Она прикоснулась рукой к молочно-голубоватому контейнеру, являвшему собой неоспоримое свидетельство не поддающегося человеческому разуму сочувствия и сострадания, воплощение самопожертвования, затмевающего разум и останавливающего сердце. Добровольно покинуть дом, родных и близких ради одной лишь надежды найти где-то за десятки тысяч световых лет разумные существа, нуждающиеся в помощи! Голос Беннелла звучал все тише и тише, словно бы он находился в храме. — Они погибли за 25 тысяч световых лет от дома. Они были уже мертвы, когда человечество еще обитало в пещерах и только постигало азы земледелия. Когда эти невероятные путешественники умерли, на земле обитало только около пяти миллионов человек, меньше, чем теперь живет в одном только Нью-Йорке. И в течение 10 тысяч минувших лет, пока мы пытались выбраться из грязи и надрывались, строя шаткую цивилизацию, в любой момент готовую превратиться в прах, эти восемь покорителей космоса упорно приближались к нам по самому краю просторов Галактики. Джинджер увидела, как Брендан дотронулся до другого угла полупрозрачного саркофага, на котором покоились ее ладони. В его глазах блеснули слезы. Она догадалась, о чем он думает. Как священник, он дал обет безбрачия и воздержания от мирских соблазнов, посвятив себя служению Богу. Он знал, что такое самопожертвование, но ни одна из его жертв не могла сравниться с той, что принесли эти существа во имя достижения своей цели. — Но, чтобы обнаружить пять видов разумных существ во Вселенной, — заметил Паркер, — они должны были снарядить много таких экспедиций. — Мы полагаем, что они отправляли сотни экипажей в год, возможно, и тысячи, причем на протяжении многих десятков тысяч лет еще до старта этого корабля. Как я уже говорил, это являлось одновременно и смыслом существования их расы, и религией. Те пять новых видов разумных существ, которые они обнаружили, находились на расстоянии 15 тысяч световых лет от их планеты. И при этом не следует забывать, что требовалось еще столько же лет, чтобы доставить сообщение о контакте назад домой. Вы понимаете всю грандиозность этого предприятия? — Наверное, большинство кораблей никогда не возвратилось домой и никогда ни с кем не встретилось. Они просто продолжали двигаться в бесконечном пространстве, в то время как находившиеся в нем бесстрашные существа погибали, как погибли члены экипажа этого корабля, — произнес Эрни. — Да, — подтвердил Беннелл. — И все же они продолжали свой путь, — сказал Доминик. — И все же они продолжали свой путь, — повторил доктор. — Возможно, нам никогда не доведется еще раз встретиться с ними, — вставил Нед. — Человечеству понадобится еще сто лет, чтобы научиться использовать все принесенные ими знания и технологии, — сказал Беннелл. — Потом нам потребуется еще по меньшей мере тысячелетие, чтобы созреть до принятия на себя аналогичных обязательств. И тогда будет запущен космический корабль, экипаж которого тоже будет находиться как бы в состоянии анабиоза. Может быть, нам удастся существенно замедлить процесс старения. Никому из нас, конечно же, не дожить до того времени, но оно непременно наступит. Я уверен, что так оно и будет. А потом… спустя еще 32 тысячи лет наши посланники ступят на их планету, возобновив своим ответным визитом связь, установленную этими существами, которым так и не довелось самим об этом узнать. Все замолчали, пытаясь осмыслить нарисованную Беннеллом величественную картину будущего. — Но ведь такой размах под силу одному только Богу! — вымолвил наконец Брендан. — Мы обсуждаем, думаем, планируем и действуем уже не по человеческим, а по Божьим меркам! Доминик положил руки на кольца, выступающие на крышке саркофага, вокруг которого все собрались. — Мне кажется, что только шестеро из экипажа были мертвы в ту ночь, когда мы вошли сюда, доктор Беннелл, — сказал он. — В двоих еще теплилась жизнь. Я начинаю припоминать, что произошло, когда мы очутились внутри корабля. Нас словно бы притягивало к этим двум контейнерам, в которых еще сохранялась жизнь. Вернее, угасала, но еще не угасла окончательно. — Да, — поддержал его со слезами на глазах Брендан. — Я теперь отчетливо припоминаю, что из этих двух ящиков струился золотистый свет. Он словно бы манил нас подойти поближе. И, повинуясь этому зову, я приблизился и положил ладони на эти круги. И, как только я это сделал, я почувствовал, что там, под крышкой, какое-то существо отчаянно цепляется за жизнь, но не ради самого себя, а лишь ради того, чтобы передать мне какой-то дар. И вот оно из последних сил прижало свои ладони изнутри к этим кольцам, являющимся проводниками энергии, и передало мне то, ради чего и прилетело сюда из другого конца Галактики. После этого оно наконец умерло. Тогда я точно еще не знал, что именно это было. Я подумал, что со временем все пойму и научусь использовать эту силу. Но, прежде чем мне представилась такая возможность, всех нас взяли под стражу. — Они еще были живы! — воскликнул Беннелл, совершенно потрясенный рассказом священника. — Что ж, как мне помнится, два тела практически превратились в прах, еще два сильно разложились, а четыре трупа были в весьма хорошем состоянии, особенно два из них, совершенно целые. Но мы даже не предполагали… — Да, — сказал Доминик, абсолютно четко вспомнив остальное. — Они угасали, но держались, чтобы передать нам свой дар. Я думал, у меня будет возможность рассказать о том, что со мной произошло в корабле. Но правительство сперва старалось уберечь общество от потрясения, потом испугалось результатов исследований. Так что мне так и не удалось рассказать об увиденном. — Скоро мы сможем сообщить об этом всему миру, — произнес доктор Беннелл. — И изменить мир, — добавил Брендан.* * *
Джинджер взглянула на лица членов своей новой семьи, на Паркера и Беннелла, и ощутила неразрывную связь с ними, ту связь, которая должна была очень скоро возникнуть между всеми людьми, мужчинами и женщинами, необыкновенную близость, которую они почувствуют, внезапно вознесясь на качественно новую ступень своей эволюции на пути к лучшему миру. Люди не будут больше чужаками друг для друга. Они не останутся просто незнакомцами. Вся предшествующая история человечества была окутана мраком, но сейчас люди стояли на пороге новой, светлой жизни. Джинджер посмотрела на свои маленькие руки, руки хирурга, и подумала о годах, отданных овладению искусством спасать людям жизнь. Отныне все ее знания и навыки ей, возможно, и не понадобятся. Но ей было все равно. Она радовалась мысли, что вскоре человечеству уже не нужны будут врачи. Доминик передаст свои способности ей, и она станет исцелять людей одним прикосновением рук. И, что еще важнее, исцеленные ею люди смогут исцелять других людей и самих себя. Продолжительность человеческой жизни резко возрастет, люди будут жить триста, четыреста и даже пятьсот лет. Смерть вынуждена будет отступить, за исключением несчастных случаев, когда предотвратить ее по каким-то причинам не удастся. Она не будет больше разлучать детей и родителей. И мужьям больше не придется оплакивать своих безвременно скончавшихся юных жен. Этого никогда больше не будет. Никогда, о Господи, да святится имя Твое! Никогда!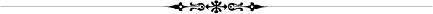
АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ (роман)
Из секретного исследовательского центра, занимающегося запрещенными генетическими экспериментами, убегают наделенные человеческим интеллектом собака и злобный монстр-убийца. В сплошной кошмар превращается в одночасье жизнь Тревиса Корнелла и Норы Девон, приютивших несчастного пса и пытающихся спасти его от преследования.
Часть I. СОКРУШАЯ ПРОШЛОЕ
Глава 1
В день своего тридцатишестилетия, 18 мая, Тревис Корнелл поднялся в пять утра, облачился в тяжелые походные ботинки, джинсы, ковбойку в голубую клетку, сел в красный пикап и поехал от своего дома в Санта-Барбаре в направлении каньона Сантьяго на востоке графства Ориндж, к югу от Лос-Анджелеса. С собой он взял только пакет печенья «Ореос», большую флягу апельсинового напитка «Кул-Эйд» и заряженный револьвер «смит-вессон» тридцать восьмого калибра, модели «Чиф-спешиал». В течение двухчасовой поездки он ни разу не включил радио, не свистел и не напевал, как это часто делают мужчины, оставшись в одиночестве. На одном из участков пути, по правой стороне, плескался Тихий океан, воды которого вдали, у горизонта, были цвета сланца, но ближе к берегу лучи утреннего солнца расцвечивали их яркими фиалковыми и розовыми красками. Но Тревис так и не удостоил взглядом сияющие под солнечными лучами воды. Это был худой жилистый мужчина, с глубоко посаженными темными глазами, такого же цвета, как и его волосы. У него было узкое лицо, профиль римского патриция, высокие скулы и слегка выступающий вперед подбородок. Его аскетическое лицо вполне подошло бы какому-нибудь члену монашеского ордена, склонному к самобичеванию и верующему в очищение души через страдание. Видит Бог, ему довелось страдать в жизни. Временами, однако, его лицо способно было принимать доброе, открытое выражение, которое располагало к нему людей. Когда-то женщины не могли устоять перед его улыбкой. Но давно уже улыбка не посещала это лицо. Печенье, фляга и револьвер находились в зеленом нейлоновом рюкзаке с черными лямками, лежащем на сиденье рядом с Тревисом. Время от времени он поглядывал туда и, казалось, видел револьвер сквозь плотную ткань рюкзака. С шоссе, ведущего в каньон Сантьяго, он свернул на узкую проселочную дорогу, губительную для автомобильных покрышек. Примерно в половине девятого Тревис остановил пикап на обочине под огромной раскидистой кроной трисовой ели. Выйдя из машины и вскинув на спину рюкзак, Тревис зашагал к подножию горной гряды Санта-Ана. В детстве он облазил здесь все склоны, долины, ущелья и хребты. У его отца была каменная хижина в верхнем каньоне Святого Джима — возможно, самом отдаленном из обитаемых каньонов, и Тревис потратил много недель и прошагал немало миль, изучая его окрестности. Ему нравились эти дикие места. Когда он был мальчиком, в лесах еще водились черные медведи — теперь их уже нет. Встречаются чернохвостые олени, но не в таком количестве, как двадцать лет назад. Что осталось в неприкосновенности, так это радующий взгляд ландшафт, обильная и разнообразная растительность. Вот и сейчас Тревис долго шел под сводами, образованными кронами вирджинских дубов и платанов. Время от времени ему попадались одиночные или стоящие кучно хижины. Немногочисленные их обитатели — своего рода отшельники — боялись приближающейся цивилизации, но не решались переселиться в места, еще более от нее отдаленные. Многие из них были обычными людьми, которым надоела суета современной жизни: они наслаждались своим отшельничеством, несмотря на отсутствие водопровода и электричества. При всей кажущейся отдаленности каньонов к ним неумолимо приближались пригородные стройки. В радиусе ста миль от этих мест, в примыкающих друг к другу поселениях графства Ориндж и округа Лос-Анджелес, обитало почти десять миллионов человек, и число жителей постоянно увеличивалось. Сейчас на эту дикую местность падал хрустальный всепроникающий свет, все вокруг казалось первозданно чистым и нетронутым. На безлесном хребте, где низкая трава, выросшая за короткий сезон дождей, уже высохла и приобрела бурую окраску, Тревис сел на плоский валун и снял с себя рюкзак. Полутораметровая гремучая змея грелась на солнышке на другом камне, метрах в пятнадцати от Тревиса. Подростком он убил множество гадов в этих горах. Сейчас Тревис достал револьвер из рюкзака, встал и сделал несколько шагов в сторону змеи. Она подняла голову и стала внимательно следить за ним. Тревис сделал еще шаг, затем еще один и, держа револьвер обеими руками, приготовился к выстрелу. Змея начала сворачиваться в кольца. Скоро она поймет, что находится слишком далеко от противника для нападения, и попытается скрыться. Хотя Тревис был уверен: выстрел прозвучал, но с удивлением обнаружил, что так и не нажал на спусковой крючок. Он приехал сюда, на эти склоны, не только за воспоминаниями о лучших днях, но и чтобы убивать гремучих змей, если те попадутся на его пути. В последнее время угнетенный и раздраженный бессмысленностью своей жизни Тревис чувствовал: его нервы натянуты как струна. Ему необходимо было разрядиться с помощью каких-то необузданных действий, и уничтожение нескольких тварей — невелика потеря — казалось ему прекрасным лекарством от хандры. Но вот сейчас, глядя на змею, Тревис вдруг понял, что ее существование не такое бессмысленное, как его собственное: она заполняет экологическую нишу и, кроме того, наверное, наслаждается жизнью куда больше, чем он сам. От этих мыслей Тревис вздрогнул, его рука отвела револьвер от цели. Он не смог заставить себя выстрелить. Палач из него не получился. Тревис опустил револьвер и вернулся к тому месту, где оставил рюкзак. Змея, по-видимому, пребывала в мирном настроении: она снова положила голову на камень и замерла. Посидев немного, Тревис вскрыл пакет с «Ореос» — в молодости это было его любимое лакомство. Он не ел его уже пятнадцать лет. Печенье было вкусное — почти как тогда. Тревис отпил «Кул-Эйд» из фляги, но напиток доставил ему меньшее удовольствие — оказался слишком сладким для взрослого человека. «Неискушенность, энтузиазм, радости и аппетиты юношеских лет можно вспомнить, но нельзя полностью восстановить», — подумал он. Оставив змею наслаждаться солнечным теплом, Тревис надел рюкзак и зашагал по южному склону в тень деревьев в начале каньона, где воздух был пропитан весенним ароматом вечнозеленых растений. Добравшись до дна каньона, он свернул на оленью тропу. Через несколько минут, пройдя между двумя большими калифорнийскими платанами, кроны которых смыкались, образуя зеленый свод, Тревис вышел на поляну, залитую солнечным светом. На другом ее конце оленья тропа уходила дальше в лес, где ели, лавры и платаны росли еще теснее. Стоя на границе солнечного света, он вглядывался в уходящую вниз тропу, но на расстоянии пятнадцати ярдов была уже кромешная тьма. Не успел Тревис шагнуть в тень деревьев, как справа из сухого кустарника выскочила собака и, тяжело дыша и фыркая, бросилась прямо на него. Это был чистопородный золотистый ретривер. На вид ему было чуть больше года: он уже приобрел стать взрослого пса, но еще не утратил щенячьей резвости. Его густая шерсть была влажной, грязной, спутанной, в ней виднелись травинки, листья, колючки. Собака остановилась перед Тревисом, присела на задние лапы, склонила голову набок и посмотрела на него с явным дружелюбием. Несмотря на свой замызганный вид, пес был очень симпатичный. Тревис нагнулся, потрепал его по голове и почесал за ухом. Он был почти уверен, что вслед за собакой из кустов вот-вот выскочит его хозяин, задыхающийся от бега и, возможно, сердитый на беглеца. Однако никто не появился. Тревис осмотрел пса, но не обнаружил ни ошейника, ни жетона. — Ты же не бродячий пес, а, малыш? Собака фыркнула. — Нет, конечно, для бродячего пса ты слишком дружелюбен. Ты что, потерялся? Собака ткнулась носом в его руку. Тревис заметил запекшуюся кровь на ухе пса. На передних лапах виднелась свежая кровь, как будто он так быстро и долго бежал по каменистой местности, что подушечки его лап стерлись. — Похоже, ты проделал нелегкий путь, малыш. Ретривер тихонько заскулил, как бы соглашаясь с человеком. Тревис продолжал гладить пса по спине и почесывать ему за ухом, но через пару минут осознал, что хочет получить от животного то, чего оно ему дать не может: смысл, цель жизни, надежду. — Ну, давай беги. Он слегка шлепнул собаку по боку и выпрямился. Та не двинулась с места. Тревис шагнул мимо нее на узкую тропу, уходящую в лесную тьму. Пес забежал вперед и загородил ему дорогу. — Иди своей дорогой, малыш! В ответ он оскалил зубы и злобно зарычал. Тревис нахмурился: — Давай иди. Ты же умный пес. Как только он сделал шаг, ретривер оскалился и стал хватать его за ноги. Тревис отпрянул. — Эй, что с тобой? Пес перестал рычать и сел, тяжело дыша. Тревис предпринял очередную попытку, но собака кинулась на него с еще большей яростью. Она не лаяла, но рычала все громче и щелкала зубами, стараясь схватить за ноги. Тревис постепенно отступал. Он сделал восемь или девять неуклюжих шагов по скользкому ковру из опавших сосновых и еловых иголок и, споткнувшись, со всего размаха сел на землю. Как только Тревис оказался на земле, пес отвернулся от него, засеменил поперек поляны к началу уходящей вниз тропы. — Чертов пес, — сказал Тревис. Собака не обернулась на звук его голоса. Стоя на границе света и тени, она напряженно вглядывалась в даль — туда, где оленья тропа исчезала во тьме. Хвост был опущен, поджат. Тревис подобрал полдюжины мелких камешков, встал и бросил один из них в пса. Камень угодил в цель, но, несмотря на очевидную боль, собака невзвизгнула, а только быстро повернулась к Тревису с выражением удивления на морде. «Ну вот, — подумал Тревис. — Теперь она схватит меня за горло». Но пес только взглянул на него осуждающе и остался на месте. Что-то в облике измученного животного — выражение его темных глаз или наклон большой угловатой головы — заставило Тревиса пожалеть о своем поступке. Этот чертов пес смотрел на него с таким разочарованием, что ему стало стыдно. — Эй, послушай, — сказал Тревис. — Ты же сам первый начал. Пес не сводил с него глаз. Тревис бросил на землю оставшиеся камни. Собака посмотрела на них, и, когда подняла глаза, Тревис готов был поклясться, что увидел в них одобрение. Тревис мог вернуться назад или найти выход из каньона. Однако он был охвачен необъяснимым желанием во что бы то ни стало идти туда, куда считает нужным. Сегодня, как и всегда, никто не мог стоять у него на пути, тем более эта упрямая собака. Тревис поднялся, надел рюкзак, глотнул пахнущего сосной воздуха и отважно двинулся через поляну. Пес опять начал рычать, негромко, но угрожающе. Зубы его оскалились. С каждым новым шагом Тревис чувствовал, что смелость его тает, и, не дойдя нескольких футов до ретривера, решил изменить тактику. Он остановился, осуждающе покачал головой и стал читать ему нотацию: — Нехороший пес. Ты плохо себя ведешь, знаешь ты или нет? Какая муха тебя укусила? А? Ты же незлой. На вид очень добрый пес. По мере того как Тревис говорил, собака перестала рычать. Раза два она даже вильнула хвостом. — Ну вот и молодец, — сказал он с хитрецой в голосе. — Так-то лучше. Мы же с тобой не ссорились, правда? Пес примирительно заскулил — звук, который издают все собаки, выражая естественное желание услышать ласковые слова в свой адрес. — Ну вот, это уже кое-что, — сказал Тревис и сделал шаг в направлении собаки, собираясь нагнуться и погладить ее. В то же мгновение пес бросился на Тревиса и погнал его обратно через поляну. Вцепившись зубами в штанину его джинсов, он яростно мотал головой из стороны в сторону. Тревис хотел лягнуть его свободной ногой, но промахнулся. Пока он пытался восстановить равновесие, собака схватила его за другую штанину и побежала по кругу, таща Тревиса. Он не смог удержаться на ногах и со всего размаха шлепнулся на землю. — Черт возьми, — сказал Тревис, чувствуя себя в чрезвычайно глупом положении. Между тем пес, вернувшись в дружеское расположение духа, заскулил и лизнул ему руку. — Ты шизофреник, вот ты кто, — сказал Тревис. Собака отбежала на противоположный край поляны. Она по-прежнему смотрела на оленью тропу, уходившую в прохладную тенистую глубь. Вдруг голова ее опустилась, спина выгнулась, и все тело напряглось, как перед отчаянным броском. — Ты что там увидела? — Тревис вдруг понял, что она разглядывает не тропу, а что-то находящееся на ней. — Там что, пума? — спросил он и поднялся с земли. В годы его юности пумы, или кугуары, водились в этих лесах, и, наверное, несколько особей живут здесь и сейчас. Пес заворчал, но не на Тревиса, а на что-то, привлекшее его внимание в лесной чаще. Ворчанье это было едва слышным, и Тревису показалось, что собака одновременно испытывает и злобу, и страх. Может, это койоты? Здесь, в предгорьях, их великое множество. Стая голодных хищников вполне может встревожить даже такое мощное животное, как этот золотистый ретривер. Вдруг, коротко тявкнув, пес сорвался с места и помчался мимо Тревиса через поляну. Тому уже подумалось, что через мгновение собака исчезнет в лесу. Однако она остановилась в тени двух платанов, мимо которых недавно проходил Тревис, и стала выжидательно смотреть в его сторону. Выражая всем видом тревогу и отчаяние, пес заспешил обратно, схватил Тревиса за штанину и, пятясь назад, попытался потащить его за собой. — Погоди, погоди, сейчас, — сказал Тревис. Собака разжала зубы и тявкнула. Совершенно очевидно, что она сознательно не позволяла Тревису ступить на темную оленью тропу, потому что там что-то было. Что-то опасное. Теперь же она хотела побыстрее увести его с этого места, поскольку это опасное «что-то» приближалось, двигалось на них. Но что? Тревис не испытывал страха, но его разбирало любопытство. Нетерпеливо скуля, пес опять стал хватать Тревиса за штанину. Поведение его было совершенно необъяснимо. Если он был напуган, почему не убегал? Тревис не был его хозяином — его не связывали с ним ни дружба, ни собачий инстинкт охраны человека. У бездомных собак нет чувства долга к незнакомым людям. Интересно, не воображает ли этот пес, что он добровольный последователь Лэсси?[79] — Хорошо, хорошо, — сказал Тревис, следуя за ней под своды платанов. Пес вырвался вперед по идущей вверх к входу в каньон оленьей тропе — туда, где лес был реже и было больше света. Дойдя до платанов, Тревис остановился. Нахмурившись, он оглянулся на залитую солнцем поляну, на дальнем краю которой в чаще леса чернотой зияла дыра, откуда начинался уходящий вниз по склону участок оленьей тропы. Что за опасность таилась там? Вдруг разом замолкли все цикады, будто невидимая рука сняла пластинку с проигрывателя. В лесу наступила небывалая тишина. И в этой тишине Тревис услышал, как по погруженной во тьму тропе на него что-то движется. Он уловил звук отлетавших в сторону камешков, еле слышное шуршание сухого кустарника. Существо, которое передвигалось там, по тропе, находилось не так близко от Тревиса, как ему казалось: в тоннеле, образованном кронами деревьев, звук обманчиво усиливался. Тем не менее было ясно: существо это перемещается быстро, очень быстро. Впервые за все это время Тревис почувствовал, что подвергается страшной опасности. Он знал: в лесу не водятся животные, достаточно большие или смелые для того, чтобы напасть на него, но инстинкт подсказывал ему другое. Сердце у Тревиса застучало. Ретривер, очевидно, почувствовал его нерешительность и возбужденно залаял. Случись это лет двадцать назад, Тревис подумал бы, что разъяренный черный медведь рыщет там, на оленьей тропе, изнывая от болезни или от боли. Однако местные жители и туристы, приезжающие в горы на выходные, давно вытеснили нескольких сохранившихся хищников далеко в глубь Санта-Аны. Судя по шуму, неизвестный зверь через несколько секунд должен был появиться на поляне, разделявшей нижнюю тропу и верхнюю. По спине Тревиса, как мелкий дождь по оконному стеклу, пробежали мурашки. Ему не терпелось узнать, кто же двигался там, в чаще, но одновременно он холодел от чисто животного страха. На верхней тропе ретривер заходился тревожным лаем. Тревис повернулся и побежал. Он был в отличной форме — ни одного фунта лишнего веса. Прижав локти к телу, Тревис мчался за рванувшим с места псом, изредка пригибаясь, чтобы не задеть низко растущие ветки. Шипованные подметки его ботинок были хорошо приспособлены для такой местности: он несколько раз поскользнулся на камнях и слежавшихся сосновых иглах, но не упал. Жизнь Тревиса Корнелла состояла из опасных и трагических эпизодов, но он никогда не отступал. Даже в самые тяжелые времена он спокойно встречал потери, боль и страх. Сейчас с ним произошло что-то из ряда вон выходящее. Он утратил контроль над собой. Впервые поддался панике. Страх вошел в него настолько глубоко, что затронул какой-то первобытный слой его сознания, о существовании которого он и не догадывался. Мчась изо всех сил, он весь покрылся гусиной кожей и холодным потом. Тревис не мог понять, почему неизвестное существо, преследующее его, вызывает такой небывалый ужас. Он не оглядывался и бежал, не сводя глаз с извивающейся между деревьями тропинки, боясь налететь на низко растущую ветку. Но по мере того как Тревис удалялся от поляны, панический страх в груди у него продолжал расти, и, преодолев ярдов двести, он не оглядывался уже потому, что боялся увидеть такое, при виде чего его сердце остановилось бы. Тревис понимал, что страх этот иррациональный. Мурашки по спине и ледяной холод в животе — симптомы суеверного ужаса. Но случилось так, что Тревис, человек цивилизованный и образованный, позволил одержать верх над собой тому первобытному началу, которое живет в каждом из нас, и никак не мог взять себя в руки, несмотря на очевидную абсурдность своего поведения. Сейчас им управлял грубый, первобытный инстинкт, и этот инстинкт приказывал ему бежать, не рассуждать, а просто бежать. Недалеко от входа в каньон тропа сворачивала влево и извилисто поднималась по крутому северному склону в направлении гребня. Тревис выбежал из-за скалы, увидел бревно, лежащее поперек тропы, прыгнул, но одной ногой зацепил трухлявое дерево. Он упал лицом вниз, ударившись грудью о землю. Оглушенный, Тревис не мог ни вздохнуть, ни двинуться с места. Он лежал и ждал: сейчас на него сзади навалится страшное существо и разорвет ему горло. Ретривер примчался назад и, перепрыгнув через распростертого на земле человека, стал яростно лаять на преследователя — более угрожающе, чем раньше, когда пытался прогнать Тревиса с поляны. Тревис перекатился на спину и сел, пытаясь восстановить дыхание. Тут до него дошло, что внимание ретривера обращено не в ту сторону, откуда они прибежали. Пес стоял поперек тропы, глядя в заросли лесного кустарника к востоку от места, где они находились. Разбрызгивая слюну, он лаял так громко, что у Тревиса заболели уши. В этом лае, однако, уже не было вызова — собака как бы предупреждала неизвестного противника, чтобы тот не приближался. — Тихо, малыш, — сказал Тревис. — Тихо. Ретривер замолк, не оглянувшись на Тревиса. Он продолжал напряженно вглядываться в заросли, время от времени оскаливая зубы и издавая грозное рычание. Все еще тяжело дыша, Тревис поднялся на ноги и стал смотреть в ту же сторону, что и пес. Хвойные деревья, платаны, редкие лиственницы. Тенистые участки были тут и там пронизаны золотыми булавками солнечного света. Кустарники. Заросли вереска. Вьюны. Несколько разрушенных, похожих на гнилые зубы скал. Ничего необычного. Как только он нагнулся и положил ладонь на голову ретривера, тот сразу перестал рычать, как будто понял, чего от него хотят. Тревис затаил дыхание и стал прислушиваться, стараясь уловить малейшее движение в зарослях. Цикады молчали. Птиц не было слышно. В лесу не раздавалось ни единого звука, как будто огромный часовой механизм природы остановился. Тревис был уверен, что не он причина этой внезапной тишины. Ведь его появление в каньоне не потревожило ни птиц, ни цикад. Там, в зарослях, находилось какое-то существо, к которому лесные обитатели отнеслись с явным неодобрением. Тревис опять затаил дыхание, пытаясь уловить хоть малейший звук. На этот раз он услышал шорох, треск ломающейся ветки, мягкий хруст сухой листвы и пугающе тяжелое прерывистое дыхание какого-то крупного существа. Судя по звукам, оно находилось футах в сорока от Тревиса. Рядом с ним ретривер весь напрягся и замер. Его лохматые уши приподнялись. Звук дыхания неизвестного врага был настолько страшен — вероятно, его усиливало эхо между лесом и каньоном, а может, он был страшен сам по себе, — что Тревис, не раздумывая, сбросил рюкзак, рванул на себя откидной клапан и выхватил свой «смит-вессон». Пес уставился на револьвер. У Тревиса было странное чувство: собака знает, что такое револьвер, и одобряет его появление. Тут Тревис подумал, что, возможно, в зарослях скрывается человек, и крикнул: — Эй, кто там? Выйдите оттуда, чтоб я мог вас видеть! За грубым дыханием в зарослях теперь улавливалось низкое, угрожающее рычание. Этот жуткий утробный рык парализовал Тревиса. В течение нескольких секунд, показавшихся ему вечностью, он не мог понять, почему этот звук наполнил его жилы таким сильным страхом. Затем он осознал: дело не в самом звуке, а в том двойственном впечатлении, которое он оставлял. Рычание явно исходило от какого-то животного, но в его тембре и интонации чудились звуки, похожие на ор разъяренного мужчины. Чем больше Тревис прислушивался, тем больше он приходил к выводу: звук этот был не животного и не человеческого происхождения. Но если так, то… черт побери, какого? Он увидел, как зашевелились кусты. Что-то двигалось прямо на Тревиса. — Стой! — крикнул он. — Ни с места! Существо не отреагировало. Ему оставалось пройти футов тридцать до того места, где стоял Тревис. Передвигалось оно, пожалуй, помедленнее, чем раньше. Более устало, что ли. Но расстояние между ними продолжало сокращаться. Ретривер опять угрожающе зарычал, делая очередное предупреждение противнику. Но теперь бока у собаки дрожали и голова подергивалась. Видимо, перспектива встретиться с ним вызывала у пса непреодолимый страх. От собаки страх передался Тревису. Ретриверы вообще знамениты своей храбростью. Их воспитывают как охотничьих псов и часто используют в опасных спасательных операциях. Что же могло вызвать такой ужас в этом сильном и гордом животном? Существо в зарослях продолжало двигаться, их разделяло не более двадцати ярдов. Хотя Тревис и не увидел до сих пор ничего необычного, в него вселился суеверный страх от присутствия рядом с ним чего-то неизвестного, но ужасного. Он старался внушить себе, что наткнулся на кугуара, который, возможно, боится Тревиса больше, чем тот его. Но ледяные мурашки, которые начали распространяться по его спине и добрались до головы, побежали быстрее. Его ладонь так вспотела, что он мог запросто выронить револьвер. Оставалось футов пятнадцать. Тревис поднял револьвер и произвел предупредительный выстрел. Грохот эхом прогремел в каньоне. Ретривер даже не вздрогнул, но существо в зарослях повернуло назад и побежало по склону на север, к краю каньона. Тревис не мог разглядеть, что именно там перемещалось, но ему было видно, как высокие, в пояс человека, заросли травы и кустарника шевелились и раздвигались под напором неизвестного существа. На короткий миг он испытал облегчение от мысли, что ему удалось отпугнуть своего преследователя. Вскоре, однако, он заметил, что отступление существа нельзя назвать бегством. Оно направлялось на северо-запад по дуге, которая должна была вывести его на верхнюю тропу. Тревис вдруг понял: таким маневром существо старается отсечь их и заставить выходить из каньона по нижней тропе, где у него будет гораздо больше возможностей для нападения. Тревис не знал, почему сделал такой вывод, но был уверен — все обстоит именно так. Проснувшийся в нем инстинкт пращуров заставил его действовать немедленно, не задумываясь о том, что именно он должен делать: все действия сейчас он производил как бы автоматически. Он не чувствовал в себе этого автоматизма с тех пор, как был в бою почти десять лет назад. Стараясь не потерять из поля зрения движение кустарника справа от себя, оставив на земле рюкзак и захватив с собой только револьвер, Тревис помчался по круто уходящей вверх тропе, и ретривер последовал за ним. Тревис бежал очень быстро, но не успевал за неизвестным противником. Когда он понял, что тот достигнет верхней тропы раньше его, Тревис сделал предупредительный выстрел, который на этот раз не отпугнул преследователя и не заставил его изменить направление. Тогда Тревис выстрелил еще дважды прямо в кустарник, туда, где, судя по движению веток, находилось существо, не думая о том, человек это или нет. Он не был уверен, что попал в преследователя, но на этот раз наконец отпугнул его и заставил повернуть прочь. Тревис продолжал бежать. Он хотел добраться до входа в каньон. Там, на гребне, деревья стояли редко, кустарник не был таким густым, как внизу, и яркий солнечный свет не оставлял места для предательской тени. Когда пару минут спустя Тревис достиг вершины своего восхождения, он почувствовал: силы на исходе. Мышцы ног обжигала боль. Сердце так сильно стучало в груди, что он не удивился бы, если бы услышал, как его сердцебиение разносится по всему каньону. Вот место, где он останавливался, чтобы перекусить. Гремучая змея, которая грелась здесь на камне, исчезла. Золотистый ретривер не отстал от Тревиса. Он был рядом, тяжело дышал и вглядывался в склон, по которому они только что поднялись. Чувствуя легкое головокружение и преодолевая желание сесть на землю и отдохнуть, Тревис устремил свой взор вниз на тропу и стал внимательно оглядывать кустарник, понимая, что неведомая опасность еще не миновала. Если их преследователь идет за ними, то он делает это скрытно, поскольку никакого шевеления в кустах Тревис не заметил. Ретривер заскулил и потянул Тревиса зубами за штанину. Затем он пересек узкий гребень и направился по склону, по которому они могли бы спуститься в другой каньон. Очевидно, пес понимал, что опасность где-то близко, и призывал Тревиса продолжать путь. Атавистический страх и инстинкт, разбуженный этим страхом, заставили Тревиса поспешить за собакой через гребень вниз, в соседний заросший деревьями каньон.* * *
Винсент Наско провел долгие часы ожидания в темном гараже. Весь его вид говорил о том, что он не приспособлен к такому времяпрепровождению, — крупный мужчина, больше двухсот фунтов весу, ростом шесть футов три дюйма, с хорошо развитой мускулатурой. Он всегда производил впечатление человека, готового взорваться от избытка накопившейся в нем энергии. Широкая физиономия Наско была равнодушной, как коровья морда, но его зеленые глаза светились жизненной силой и каким-то нервным выжиданием — выражение, которое можно увидеть в глазах дикого животного, например, лесной кошки. Несмотря на таящуюся в нем невероятную энергию, он был терпелив, как кошка: мог часами сидеть в засаде, поджидая жертву. В 9.40 утра во вторник, гораздо позже, чем ожидал Наско, замок в двери между прачечной комнатой дома и гаражом открылся с коротким тяжелым звяканьем. Дверь отворилась, и доктор Дэвис Вэтерби, включив свет в гараже, потянулся к кнопке, чтобы поднять большую секционную створку. — Стой, где стоишь, — сказал Наско, неожиданно возникший перед жемчужно-серым «Кадиллаком» доктора. Вэтерби удивленно заморгал. — Кто, черт побери, вы… Наско поднял «вальтер Р-38» с глушителем и выстрелил доктору прямо в лицо. Умолкнувший на середине фразы, Вэтерби рухнул на спину на пол прачечной, окрашенной в веселые желтые и белые тона. Падая, он стукнулся головой о сушильную машину и толкнул тележку для белья, которая покатилась и ударилась о стену. Произведенный при этом шум не встревожил Винса Наско, он знал: Вэтерби был холостяком и жил один. Винс наклонился над трупом, лежащим в дверном проеме, и мягким движением положил ладонь на лицо доктора. Пуля попала Вэтерби в лоб, примерно на дюйм выше переносицы, и застряла в голове. Кровотечение было слабое, поскольку смерть наступила мгновенно. Карие глаза Вэтерби остались широко раскрытыми. В них застыл испуг. Винс потрогал пальцами щеку и шею доктора. Он закрыл левый глаз мертвеца, затем правый, хотя и знал, что через пару минут они опять откроются под воздействием посмертной мышечной реакции. С глубокой благодарностью дрожащим голосом Винс сказал: — Спасибо, доктор. Спасибо. Затем он поцеловал закрытые глаза мертвеца. — Спасибо. Поеживаясь от удовольствия, Винс подобрал с пола ключи от автомобиля, которые уронил убитый, прошел в гараж и открыл багажник «Кадиллака», стараясь не оставлять отпечатков пальцев. Багажник был пуст. Отлично. Он вытащил труп из дома, положил его в багажник и закрыл замок. Винсу было сказано, что труп доктора не должен быть обнаружен раньше завтрашнего дня. Он не знал, зачем это было нужно, но любил во всем точность. Поэтому Винс вернулся в прачечную комнату, поставил тележку на место и осмотрелся. Убедившись в том, что все стоит как прежде, затворил дверь и запер замок одним из ключей на связке, которую выронил Вэтерби. Затем выключил свет в гараже, прошел через темное помещение и вышел наружу через боковую дверь. Он запер за собой дверь и пошел прочь от дома. Дэвис Вэтерби жил в Корона-дель-Мар с видом на Тихий океан. Винс оставил свой двухлетней давности микроавтобус марки «Форд» за два квартала от дома доктора. Шагая назад к своей машине, он испытывал наслаждение и прилив бодрости. Это было приятное местечко, славившееся разнообразием архитектурных стилей: дорогие испанские гасиенды соседствовали с красивыми островерхими коттеджами, да так гармонично — не опишешь. Растительность вокруг была пышной, хорошо ухоженной. Пальмы, фикусы и оливковые деревья затеняли тротуары. Красные, коралловые, желтые и оранжевые бугенвиллеи горели на солнце тысячами соцветий, цвели хвощи. Ветви джакаранд свисали вниз, как пурпурные кружевные ленты. Воздух был пропитан запахом жасмина. Винсент Наско чувствовал себя превосходно: таким бодрым, сильным, таким живым.* * *
Время от времени собака бежала впереди, иногда ее обгонял Тревис. Они преодолели вдвоем уже довольно значительное расстояние, прежде чем Тревис понял, что чувство отчаяния и одиночества, которое привело его к подножию гряды Санта-Ана, не владеет им более. Большой замызганный пес находился рядом с ним на всем пути назад к пикапу, который стоял у проселочной дороги под раскидистыми ветвями огромной ели. Остановившись у машины, ретривер начал смотреть в сторону, откуда они пришли. Черные птицы чертили безоблачное небо, как будто какой-то лесной колдун послал их на разведку. Деревья, росшие темной стеной, были похожи на бастионы сказочного зловещего замка. Дорога, на которую вышел Тревис, была ярко освещена солнцем, высушена до светло-коричневого цвета и покрыта слоем мягкой пыли. При каждом шаге Тревиса она облачком взлетала над его ботинками. Тревис с удивлением подумал о том, как такой яркий день может внезапно наполниться непреодолимым, почти осязаемым чувством страха. Не сводя глаз с леса, который им пришлось так поспешно покинуть, пес коротко залаял в первый раз за последние полчаса. — Что, он еще идет за нами? — спросил Тревис. Пес взглянул на него и заскулил. — Да, — сказал Тревис. — Я тоже его чувствую. Бред какой-то… но я чувствую, что оно там. Что, черт возьми, это такое, малыш? А? Что там такое, черт возьми? Собаку вдруг пробила сильная дрожь. Каждый раз, когда ретривер выказывал признаки страха, собственный страх Тревиса усиливался. Он откинул задний борт пикапа и сказал: — Влезай. Я тебя увезу отсюда. Пес прыгнул в грузовое отделение машины. Тревис захлопнул борт и стал обходить пикап, чтобы сесть за руль. В тот момент, когда он открывал дверцу, ему показалось, что в ближних кустах что-то шевельнулось, но не со стороны леса, откуда они пришли, а на противоположной стороне дороги. Там за ней было узкое поле, густо заросшее высокой, в пояс человека, коричневой травой, а также виднелись несколько мескитовых кустов и раскидистые олеандры, корни которых достаточно глубоко уходят в землю, чтобы питать их зеленую листву. Вперив взгляд в это поле, он не заметил, однако, никакого движения, хотя его не оставляло чувство, что несколько секунд назад зрение его не обмануло. Тревога вновь вернулась к Тревису. Он забрался в пикап и положил револьвер на сиденье рядом с собой. Затем погнал машину на предельно возможной для этой дороги скорости, помня, однако, о четвероногом пассажире в грузовом отделении. Двадцатью минутами позже, когда Тревис остановил машину у обочины шоссе «Сантьяго каньон», в мире асфальта и цивилизации, он все еще ощущал слабость и нервную дрожь. Страх, который в нем остался, отличался от того, что он испытал в лесу. Сердце у него больше не колотилось, а ладони и лоб уже не покрывал холодный пот. Сейчас тревогу Тревиса вызывало не какое-то неизвестное существо, а его собственное странное поведение. Оказавшись в безопасности, он уже не мог восстановить в памяти степень страха, охватившего его там, в лесу, и поэтому его собственные действия казались ему теперь иррациональными. Тревис поднял рукоятку ручного тормоза и выключил зажигание. Было одиннадцать часов, и утренний поток автомобилей уже схлынул — время от времени случайные машины проезжали мимо него по асфальтированному двухрядному шоссе. Тревис посидел минуту, стараясь убедить себя в том, что он только повиновался инстинктам — правильным, разумным и надежным. Тревис всегда гордился своим самообладанием и трезвым прагматизмом — качествами, которые ценил в себе выше прочих. Он выдержал бы даже пытку огнем. Тревис умел принимать решения в чрезвычайных ситуациях и отвечать за последствия. Тем не менее ему все труднее было поверить в то, что его пыталось преследовать какое-то страшное существо. Может быть, он неправильно понял поведение собаки, и все эти шевеления в кустах были плодом его воображения? Он вышел из машины и встал рядом с грузовым отделением, откуда на него глянула морда ретривера. Пес ткнулся в него своей лохматой головой и лизнул шею и подбородок. Хотя до этого собака лаяла на Тревиса и хватала его зубами, надо признать: она отличалась большим дружелюбием — и в первый раз за все это время ее замызганный вид заставил Тревиса улыбнуться. Он попытался оттолкнуть пса, но тот тянулся к нему, чуть не упав через борт пикапа, стараясь лизнуть его в лицо. Тревис засмеялся и потрепал его по спутанной шерсти. Веселый нрав ретривера и энергичное виляние хвостом оказали неожиданное воздействие на Тревиса. Долгое время в его сознании царил мрак, наполненный мыслями о смерти, — кульминацией этих настроений и явилась сегодняшняя поездка. Но сейчас почувствовал: во тьму, наполнившую его душу, проник лучик света. Он напомнил ему о том, что у жизни есть светлая сторона, о которой Тревис давно уже не вспоминал. — Что же там такое было? — спросил он. Ретривер перестал лизаться, вилять своим свалявшимся хвостом. Он смотрел на Тревиса очень серьезно, и этот взгляд влажных коричневых собачьих глаз парализовал его. Что-то необычное, проникающее было в этом взгляде. Тревис впал в какой-то полусон, и пес, казалось, также находится в загипнотизированном состоянии. Стоя на весеннем южном ветру, Тревис всматривался в собачьи глаза, стараясь отыскать в них разгадку их гипнотического воздействия, но не обнаружил ничего особенного. Разве что… ну, в общем, они казались более выразительными, умными и понимающими, чем у обычных собак. Животные вообще не любят долго смотреть в одну точку, поэтому долгий, неморгающий взгляд ретривера и показался ему странным. Шли секунды, но они продолжали смотреть друг другу в глаза, и Тревиса охватило странное чувство. Его пробила дрожь, но не от страха, а от странности происходящего, от предчувствия, что он находится на пороге какого-то ужасного открытия. Тут собака тряхнула головой, лизнула Тревису руку, и чары рассеялись. — Откуда ты взялся, малыш? Пес склонил голову влево. — Кто твой хозяин? Собака наклонила голову вправо. — И что мне с тобой делать? Как бы отвечая на последний вопрос, ретривер перепрыгнул через задний борт пикапа, побежал мимо Тревиса к водительской дверце и забрался в кабину. Заглянув внутрь, Тревис обнаружил, что собака сидит на сиденье рядом с водительским и смотрит прямо перед собой сквозь лобовое стекло. Затем она повернула голову к Тревису и слегка тявкнула, как бы осуждая его медлительность. Тревис сел за руль и засунул револьвер под сиденье. — Вряд ли я смогу тебя содержать, парень. Слишком много ответственности. И это вообще не входит в мои планы. Ты уж извини. Пес смотрел на него просительно. — Ты, наверное, голодный. Он тихонько тявкнул. — Ладно, тут я тебе помогу. По-моему, в отделении для перчаток лежит плитка «Херши»,[80] а недалеко отсюда есть «Макдональдс», где для тебя найдется пара бутербродов. Ну, а потом… либо я должен буду отпустить тебя, либо сдать собачникам. Тревис еще не закончил говорить, а пес уже поднял переднюю лапу и нажал на кнопку, отпирающую отделение для перчаток. Крышка откинулась. — Что за черт… Собака просунула морду в открытое углубление и вытащила шоколадку зубами, держа ее так нежно, что даже не порвала обертку. Тревис заморгал от удивления. Ретривер протянул ему шоколадку, как бы требуя, чтобы Тревис развернул лакомство. Пораженный, Тревис взял из пасти пса шоколадку и снял с нее обертку. Собака наблюдала за его действиями и облизывалась. Тревис начал отламывать от плитки маленькие кусочки и скармливать псу. Тот благодарно брал их у него из рук и ел почти изящно. Тревис со смятением наблюдал за ним, не зная, было ли происшедшее с ним чем-то экстраординарным или имело разумное объяснение. Неужели собака поняла его слова о том, что в отделении для перчаток лежит шоколадка? Или она просто учуяла запах шоколада? Определенно, последнее. Обращаясь к псу, он спросил: — Но как ты узнал, что надо нажать на кнопку, чтобы открылась крышка? Ретривер уставился на него, облизнулся и взял еще кусочек. Тревис сказал: — О'кей, о'кей, тебя, наверное, научили этому фокусу. Хотя обычно собак учат другим вещам, так ведь? Переворачиваться, притворяться мертвыми, подавать голос на еду, даже на задних лапах ходить… — всему такому прочему… но их не учат открывать замки и задвижки. Собака жадно смотрела на оставшийся кусочек шоколада, но Тревис убрал ладонь. По времени получалось странно. Через две секунды после того, как Тревис упомянул о шоколадке, пес полез ее доставать. — Ты понял мои слова? — спросил Тревис, чувствуя, что глупо подозревать в собаке лингвистические способности. — Ты понял? Ты понял, что я говорил? Нехотя ретривер перевел взгляд с кусочка шоколада на Тревиса. Их глаза встретились. И опять у Тревиса возникло ощущение необычности происходящего — его опять пробила дрожь, но уже не так неприятно, как в прошлый раз. Он немного помолчал, затем откашлялся и спросил: — М-м… ты не обидишься, если я съем последний кусочек? Пес взглянул на шоколадный квадратик на ладони у Тревиса. Он фыркнул как бы с сожалением и стал смотреть сквозь лобовое стекло. — Будь я проклят, — произнес Тревис. Собака зевнула. Стараясь не двигать рукой, чтобы не привлекать внимание пса к шоколаду, Тревис опять обратился к нему: — Может быть, конечно, тебе больше необходим шоколад, чем мне. Если хочешь, можешь съесть этот кусочек. Ретривер посмотрел на него. Все еще не двигая рукой, прижав ее к телу, сделав вид, что оставил шоколад для себя, он сказал: — Бери, если хочешь, или я просто выброшу его. Ретривер заерзал на сиденье, придвинулся к Тревису и аккуратно взял шоколад у него с ладони. — Будь я дважды проклят, — сказал Тревис. Пес встал на четыре лапы, чуть не доставая при этом головой до потолка. Он посмотрел сквозь заднее стекло кабины и тихо зарычал. Тревис взглянул в зеркало заднего обзора, затем в боковое, но не увидел позади машины ничего необычного. Шоссе, узкая насыпь и заросший сорняками склон с правой стороны. — Ты полагаешь, что нам пора ехать, так ведь? Пес взглянул на него, посмотрел сквозь заднее стекло, затем снова повернулся, сел, подогнув задние лапы, и снова стал смотреть вперед. Тревис включил зажигание, вырулил на шоссе «Сантьяго каньон» и поехал на север. Покосившись на своего пассажира, он сказал: — Ты на самом деле не тот, кем кажешься… или я просто рехнулся? А если ты не тот, кем кажешься… то кто ты такой, черт возьми? Не доезжая до города, Тревис свернул с восточной оконечности Чэпмен-авеню на запад — туда, где находился упомянутый им «Макдональдс». Он сказал: — Теперь я уже не могу ни прогнать тебя, ни отдать на живодерню. Через минуту Тревис снова заговорил. — Если бы тебя не стало, я бы умер от любопытства. Проехав еще около двух миль, Тревис припарковал пикап на стоянке у «Макдональдса». — Стало быть, теперь ты моя собака. Ретривер никак не отреагировал.Глава 2
Мастер из телеателье напугал Нору Девон. Несмотря на то, что на вид ему было около тридцати (ее ровесник), его отличала агрессивная наглость самоуверенного подростка. Когда она открыла дверь на его звонок, он нахально смерил ее взглядом и представился: «Арт Стрек, телеателье Вэдлоу» — а потом, встретившись с ней глазами, подмигнул. Высокий, худой и ухоженный, он был одет в униформу, состоящую из белых брюк и рубашки. Его лицо было чисто выбрито, а темно-русые волосы коротко подстрижены и аккуратно причесаны. Арт Стрек выглядел обычным парнем, совсем не похожим на насильника или психа, но Нора тем не менее сразу испугалась его — может быть, из-за его нахальных манер, которые не соответствовали его наружности. — Требуется обслуживание? — спросил мастер, видя, что она замешкалась в дверях. Хотя это был вполне невинный вопрос, Норе показалось, что ударение, которое тот сделал на слове «обслуживание», придало ему сексуально-угрожающий смысл. Она была почти уверена, что он сделал это намеренно. Как бы там ни было, Нора сама вызвала механика из ателье Вэдлоу и теперь не могла отправить назад Стрека просто так, без всяких объяснений. Ей не оставалось ничего другого, как впустить его в дом. Провожая его через просторный, прохладный холл к арке, ведущей в гостиную, Нора не могла избавиться от тяжелого чувства: вся эта его ухоженность и улыбчивость — всего лишь элементы притворства. У Стрека был пристальный, внимательный взгляд хищного животного, какая-то внутренняя собранность — и по мере того, как они удалялись от входной двери, ее беспокойство продолжало расти. Следуя за Норой на слишком близком расстоянии, почти наклонившись над ней, Арт Стрек сказал: — У вас очень красивый дом, миссис Девон. Очень красивый. Мне он очень нравится. — Спасибо, — сказала она сдержанно, не поправляя его ошибки в отношении ее семейного положения. — Любой мужчина был бы счастлив здесь. Да, мужчине было бы здесь очень хорошо. Дом был построен в архитектурном стиле, который иногда называли «Олд Санта-Барбара спэниш»:[81] два этажа, светлая штукатурка, красная черепичная крыша, несколько веранд, балконов и везде вместо углов — округлые линии. Пышные красные вьюны бугенвиллеи взбирались по северной стороне здания, свисая вниз гроздьями ярких соцветий. Дом был очень красивый. Нора ненавидела его. Она прожила в этом доме двадцать восемь лет, и только год из всех этих долгих лет она не находилась под железной пятой своей тетки Виолетты. Ни ее детство, ни вся ее жизнь в целом не были отмечены счастьем. Тетка умерла год назад. Но, по правде говоря, Нора все еще продолжала ощущать на себе ее гнет — память об этой ненавистной женщине буквально держала Нору за горло. В гостиной, положив свой чемоданчик рядом с телевизором марки «Магнавокс», Стрек не спеша огляделся. Убранство комнаты вызвало у него неподдельное удивление. Обои с цветочным рисунком были мрачные. Персидский ковер на полу — определенно непривлекательным. Сочетание цветов: серого, темно-бордового и синего — усугублялось редкими бледно-желтыми вкраплениями. Тяжелая английская мебель середины девятнадцатого века с вычурной резной окантовкой стояла на ножках в форме лап: массивные кресла, скамеечки для ног, шкафы, буфеты, каждый из которых на вид весил полтонны. Небольшие столики были накрыты тяжелыми вышитыми скатертями. Лампы двух видов — сделанные из темно-бордовой керамики и с бледно-серыми абажурами, крепящимися на литую оловянную основу, — не давали достаточно света. Шторы были такими тяжелыми, что казались отлитыми из свинца; между ними сквозь пожелтевшие от времени тюлевые занавески в комнату проникали рассеянные лучи солнечного света, окрашенные в горчичный цвет. Все убранство дома явно не соответствовало испанскому стилю его архитектуры. — Вы обставляли? — спросил Арт Стрек. — Нет. Моя тетка, — ответила Нора. Она стояла у мраморного камина, стараясь держаться от мастера как можно дальше. — Это ее дом. Я… мне он достался по наследству. — На вашем месте, — сказал Стрек, — я бы выкинул отсюда все это барахло. Можно сделать светлую, веселую комнату. Извините меня, но это не в вашем стиле. Это подходит для какой-нибудь старой девы… Ваша тетка ведь была старой девой? Ага, я так и думал. Высушенной старой деве это подходит, но такой симпатичной леди, как вы, — нет. Норе хотелось сказать, что это не его дело и ему лучше заткнуться и заняться ремонтом телевизора, но у нее не было опыта и умения постоять за себя. Тетя Виолетта воспитывала Нору тихой и почтительной. Стрек улыбнулся ей. Правый угол его рта противно оскалился. Лицо приняло почти насмешливое выражение. Она заставила себя сказать: — Мне здесь нравится. — Неужели? — Да. Он пожал плечами. — Что с телевизором? — Картинка все время бегает. И помехи вроде снега. Он отодвинул телевизор от стены, включил его и стал изучать изображение. Затем включил в сеть небольшую переносную лампу и прицепил ее к задней стенке телевизора. Большие часы в холле пробили четверть часа, и этот звон эхом прокатился по всему дому. — Вы много времени проводите у телевизора? — спросил он, отвинчивая заднюю крышку. — Нет. — Я люблю смотреть вечерние серии «Даллас», «Династия» и другие в этом роде. — Я это не смотрю. — Да? Ладно, чего уж там. Готов спорить, что смотрите. — Он хитро засмеялся. — Все смотрят, но не все хотят в этом признаться. Ведь нет ничего интереснее, чем истории об убийствах в спину, интригах, кражах, лжи… и супружеских изменах. Вы же понимаете. Люди сидят, смотрят и щелкают языком: «Какой ужас!», а сами при этом ловят кайф. Так уж устроен человек. — Я… у меня есть дела на кухне, — сказала Нора нервно. — Позовете меня, когда закончите ремонт. Она вышла из комнаты, прошла через холл и через вращающуюся дверь вошла в кухню. Ее била дрожь. Нора презирала себя за слабохарактерность, за легкость, с которой поддавалась страху, но оставалась тем, чем была, — мышью. Тетя Виолетта часто говорила: — Девочка моя, в мире существует два типа людей: кошки и мышки. Кошки гуляют сами по себе, делают то, что хотят, и берут, что хотят. По натуре кошки агрессивны и самостоятельны. В мышах, напротив, нет ни грамма агрессивности. По природе своей они уязвимые, нежные и тихие зверьки, и самое большое счастье для них — смириться и довольствоваться тем, что дает им жизнь. Ты — мышка, моя дорогая. Но в этом нет ничего плохого. Ты можешь быть совершенно счастливой. У мышки, возможно, не такая яркая и разнообразная жизнь, как у кошки, но если она не будет высовываться из своей норки и будет сидеть тихо, то проживет дольше кошки и испытает гораздо меньше потрясений в жизни. В данный момент там, в гостиной, представитель семейства кошачьих занимался ремонтом телевизора, а Нора отсиживалась в кухне, обуреваемая мышиным страхом. У нее не было здесь никаких дел. Минуту-другую Нора просто стояла у раковины, сцепив холодные ладони — они у нее всегда были ледяные, — стараясь придумать себе занятие на то время, пока Стрек чинит телевизор. Она решила испечь торт. Такой желтый торт с шоколадной глазурью. Это отвлечет ее и поможет не думать больше об агрессивном подмигивании Стрека. Она достала посуду, электрический миксер, пакетик с ингредиентами для торта и принялась за работу. Вскоре ее взвинченные нервы успокоились. Не успела Нора развалить тесто в две формы, как в кухню вошел Стрек и спросил: — Вы любите готовить? От удивления она чуть не выронила пустую миску из-под теста и лопаточку. Сумев все-таки удержать в руках эти предметы и выдав свой испуг легким звяканьем, она положила их в мойку. — Да. Я люблю готовить. — Это просто здорово! Я восхищаюсь женщинами, которые любят женскую работу. Вы, наверное, еще и шьете, вяжете крючком, вышиваете и так далее, да? — Плету кружева. — Это еще лучше. — Телевизор готов? — Почти. Нора собралась поставить торт в духовку, но ей не хотелось нести формы под наблюдением Стрека. Она опасалась, что руки у нее будут слишком сильно дрожать. Тогда он поймет: Нора боится его, и сделается еще нахальнее. Поэтому она поставила полные формы на стол. Стрек прошел в глубь просторной кухни, держа себя свободно и расслабленно, дружелюбно улыбаясь, но двигаясь при этом прямо на нее. — Можно мне стакан воды? Нора почувствовала некоторое облегчение, стараясь уверить себя, что жажда — единственное желание, приведшее его на кухню. — Да, конечно, — сказала она, достала стакан из шкафа и открыла кран с холодной водой. Когда Нора повернулась к Стреку со стаканом в руках, оказалось, что он по-кошачьи тихо успел подойти к ней вплотную. Она невольно вздрогнула, и вода плеснула на пол. — Вы… — Давайте, — сказал Стрек, забирая у нее стакан. — …напугали меня. — Я? — переспросил он, улыбаясь и не сводя с нее своих ледяных голубых глаз. — Я не хотел, извините. Я абсолютно безопасен, миссис Девон. Правда. Я всего лишь хотел пить. Вы же не думаете, что я хотел чего-то другого, а? Каков наглец. Невероятно нахальный, развязный и агрессивный тип. Ей хотелось ударить его по физиономии, но она боялась последствий. Дать ему пощечину — и тем самым признать его оскорбительные двусмысленности — означало поощрить его к еще более наглым действиям. Стрек смотрел на нее пугающим плотоядным взглядом. Его улыбка была улыбкой хищника. Инстинктивно Нора поняла, что лучший способ отделаться от Стрека — это притвориться непонимающей дурочкой, до которой якобы не доходят его противные сексуальные намеки. Короче говоря, необходимо было вести себя так, как ведет мышь, оказавшись в опасности. Притворись, что не видишь кошки, притворись, что ее просто здесь нет, и, возможно, она будет разочарована отсутствием реакции и начнет искать более пугливую жертву в другом месте. Чтобы избежать взгляда его требовательных глаз, Нора оторвала пару бумажных полотенец с крепления рядом с мойкой и начала вытирать расплескавшуюся на полу воду. Но в тот момент, когда она нагнулась перед Стреком, Нора почувствовала, что совершает ошибку. Он не сдвинулся с места, а продолжал стоять над ней, опустившейся перед ним на корточки. Вся эта сцена превратилась в своего рода эротический символ. Когда Нораосознала уязвимость своей позы, она вскочила и увидела, что Стрек улыбается еще шире, чем прежде. Покрасневшая и запыхавшаяся Нора швырнула мокрые полотенца в мусорное ведро под раковиной. Арт Стрек сказал: — Готовит, плетет кружева… да это просто замечательно. А что еще вы любите делать? — Боюсь, что это все, — сказала она. — У меня нет никаких необычных увлечений. Я не очень интересный человек. Так себе. Скучный даже. Проклиная себя за то, что не сумела выгнать этого ублюдка из дома, Нора скользнула мимо него к духовке, давая понять, что хочет проверить, нагрелась ли она, но на самом деле пытаясь оказаться вне досягаемости Стрека. Он опять приблизился к ней. — Когда я подъехал сюда, я увидел много цветов. Это вы ухаживаете за ними? Не сводя глаз с термометра духовки, Нора сказала: — Да, мне нравится работать в саду. — Я одобряю это, — продолжал Стрек с таким видом, будто она ждала именно этого одобрения. — Цветы… хорошее занятие для женщины. Готовка, кружева, цветы — у вас прямо целый набор чисто женских занятий и талантов. Готов спорить: вы все делаете хорошо, миссис Девон. Я имею в виду все, что должна делать женщина. По всем статьям вы наверняка первоклассная женщина. «Если он до меня дотронется, я закричу», — подумала Нора. Надо заметить, что стены старого дома были достаточно толсты, а соседи находились не так уж близко. Никто не услышит ее криков и не придет на помощь. «Я буду брыкаться, — подумала она. — Так просто ему не дамся». На самом деле Нора совсем не была уверена в том, что у нее хватит храбрости сопротивляться ему. Даже если она и попыталась бы защитить себя, Стрек все равно был намного выше и сильнее ее. — Да, готов спорить: вы — женщина первый сорт, по всем статьям, — повторил он уже с более провокационной интонацией. Повернувшись от духовки, Нора выдавила смешок: — Мой муж удивился бы, услышав такое. Я неплохо пеку торты, но корочки у моих пирогов не пропекаются, а жаркое получается сухим. Вяжу я неплохо, но очень медленно. Она проскользнула мимо него к кухонной стойке. Вскрывая пакет с порошком глазури, Нора болтала без умолку, к собственному удивлению. Отчаяние было причиной ее словоохотливости. — С цветами у меня хорошо получается, а вот хозяйка я неважная, и, если бы мой муж мне не помогал, этот дом превратился бы черт знает во что. «Все это звучит фальшиво», — подумала Нора. В своем голосе она расслышала истеричные нотки, на которые он наверняка тоже обратил внимание. Но упоминание о муже, по-видимому, заставило Арта Стрека задуматься, прежде чем атаковать с новой силой. Пока Нора высыпала порошок в миску и отмеряла нужный кусок масла, Стрек пил воду из стакана. Затем он поставил стакан в мойку с грязной посудой. На этот раз парень не приблизился к ней на непочтительно близкое расстояние. — Ну, мне пора вернуться к работе. Нора нарочно ответила ему рассеянной улыбкой, кивнула и стала напевать себе под нос, как будто ничего не случилось. Стрек прошел через кухню, но остановился, приоткрыв дверь. — Ваша тетя любила темные помещения, так ведь? Эта кухня смотрелась бы шикарно, если ее перекрасить повеселее. Прежде чем Нора успела отреагировать, он вышел и дверь за ним закрылась. Несмотря на непрошеный комментарий насчет кухни, Стрек все-таки поубавил свой пыл, и Нора была довольна собой. Прибегнув к невинной лжи по поводу несуществующего мужа, которую она произнесла с завидным хладнокровием, Нора сумела поставить Стрека на место. Конечно, кошки не так реагируют на противника, но такое поведение не было поведением запуганной насмерть мышки. Нора оглядела кухню с высоким потолком и решила, что на самом деле здесь мрачновато. Стены выкрашены в грязновато-синий цвет. Матовые шары светильников источали тусклый, зимний свет. Она стала думать о перекраске кухни и замене светильников. Сама мысль о том, чтобы произвести какие-либо крупные изменения в доме Виолетты Девон вызывала некоторое головокружение. С тех пор как умерла тетка, у Норы хватило духу переоборудовать только свою спальню. Сейчас же, когда перед ней встал вопрос о косметическом ремонте всего дома, она чувствовала, как ее охватывает необузданное, дикое чувство раба, восставшего против хозяина. Возможно, Нора решится на это. Возможно. Если ей удастся не подпустить к себе Стрека, у нее достанет мужества и для того, чтобы выйти из повиновения покойной тетке. Ее самодовольное настроение продержалось двадцать минут, в течение которых она поставила коржи в духовку, взбила глазурь и помыла посуду. В кухню вернулся Стрек, объявил, что телевизор в порядке, и подал счет. Когда парень уходил, казалось, он слегка успокоился, но сейчас к нему вернулась прежняя наглость. Стрек осматривал ее с ног до головы, как бы мысленно снимая с нее одежду, и когда их взгляды встретились, в его глазах было вызывающее выражение. Счет показался ей чрезмерным, но Нора не стала спорить, поскольку хотела отделаться от него побыстрее. Стрек прибегнул к уже испытанному приему: придвинулся вплотную к ней, стараясь запугать ее своей мужественностью и высоким ростом. Когда Нора встала из-за стола и протянула ему чек, Стреку удалось взять его таким образом, что она почувствовала его похотливое прикосновение. Пока они шли к выходу через холл, Нора была почти уверена: вот сейчас он поставит на пол свой чемоданчик и набросится на нее сзади. Однако, когда они подошли к двери, Стрек прошел мимо нее на веранду, сердце перестало колотиться. На выходе он замешкался. — А чем занимается ваш муж? Этот вопрос сбил Нору с толку. Стрек мог задать его еще тогда, на кухне, когда она упомянула о своем муже, но теперь такой вопрос показался ей несвоевременным. Норе надо было сказать ему, что это его не касается, но она все еще боялась Стрека. Нора чувствовала: Стрека сейчас легко разозлить. Накопившаяся в нем агрессивность может выйти наружу из-за какого-нибудь пустяка. Поэтому она решила соврать ему еще раз в надежде, что это охладит его пыл: — Он… полицейский. Стрек удивленно поднял брови. — В самом деле? Здесь, в Санта-Барбаре? — Совершенно верно. — Ничего себе домик у полицейского. — Простите? — Я не знал, что полицейские так хорошо зарабатывают. — А… но ведь я говорила вам — я унаследовала этот дом от своей тетки. — Ах да, конечно. Я вспомнил. Вы мне говорили. Точно. Стараясь подкрепить свою ложь, она сказала: — Мы снимали квартиру, а когда тетя умерла, переехали сюда. Вообще-то вы правы, если не это, такой дом был бы нам не по карману. — Ну, — сказал Стрек, — я рад за вас. Правда. Такая красивая леди, как вы, заслуживает, чтобы жить в таком красивом доме. Он прикоснулся кончиками пальцев к воображаемой шляпе, подмигнул и зашагал по дорожке в сторону улицы, где был припаркован его белый фургончик. Нора закрыла дверь и стала наблюдать за ним сквозь овальное витражное окошечко, устроенное в центре двери. Стрек обернулся, увидел Нору и помахал рукой. Она отпрянула от окошка в глубь полутемного холла, продолжая наблюдать за ним. Оттуда он уже не мог ее увидеть. Стрек ей не поверил — это ясно. Он знал: никакого мужа у нее нет. Господи, не надо было говорить, что она замужем за полицейским, ему сразу стало понятно: это же уловка с целью обескуражить его. Надо было сказать, что она замужем за слесарем или доктором, за кем угодно, только не за полицейским. Тем не менее Арт Стрек удалялся. Он уходил, хотя и знал, что Нора наврала ему. Она почувствовала себя в безопасности, только когда его фургончик исчез из виду. Вообще-то говоря, даже и тогда она продолжала бояться.* * *
После убийства доктора Дэвиса Вэтерби Винс Наско поехал в своем сером «Форде» к автостанции на шоссе «Пасифик Коаст». Там зашел в телефонную будку и набрал номер в Лос-Анджелесе, он уже давно прочно удерживал его в памяти. На звонок ответил мужской голос, повторив вслух номер, по которому звонил Винс. Это был один из трех голосов, обычно отвечающих по этому номеру, мягкий, низкого тембра. Чаще Винсу приходилось говорить с другим мужчиной. У того раздражающе резкий голос. Изредка к телефону подходила женщина с сексуальным голосом: гортанным и в то же время каким-то девичьим. Винс никогда не видел ее, но часто пытался представить себе, как она выглядит. Когда мягкий голос повторил номер, Винс сказал: — Дело сделано. Я признателен вам за это предложение, и, если у вас будет для меня еще работа, я всегда к вашим услугам. Он был уверен, что человек там, на другом конце провода, также узнал его. — Я очень рад слышать, что все прошло хорошо. Мы очень ценим вас как специалиста. Теперь постарайтесь запомнить следующее… — И он произнес семизначный номер. Винс удивленно повторил номер вслух. Человек сказал: — Это номер одного из общественных телефонов в Фенш-Айленде. Он находится в открытой галерее около универсального магазина Робинсон. Можете подъехать туда через пятнадцать минут? — Конечно, — ответил Винс. — Даже через десять. — Через пятнадцать минут я позвоню вам туда и сообщу подробности. Винс повесил трубку и, насвистывая, зашагал к своему микроавтобусу. Раз его посылают к другому телефону, чтобы «сообщить подробности», это может означать только одно: у них для него есть еще задание.* * *
После того как Нора испекла коржи и залила их глазурью, она ушла в спальню, которая располагалась в юго-западном крыле дома. Когда была жива Виолетта Девон, эта комната служила Норе убежищем, где она могла уединиться, несмотря на отсутствие замка в двери. Подобно остальным комнатам, спальня была заставлена громоздкой мебелью, как будто это было не жилое помещение, а склад. Да и в остальных отношениях это было мрачное местечко. Тем не менее закончив дела по хозяйству или освободившись от нескончаемых нравоучений тетки, Нора убегала в спальню и спасалась чтением или предавалась мечтам. Виолетта всегда проверяла, что делает ее племянница, тихонько подкрадывалась к двери ее спальни и врывалась туда в надежде застать Нору за каким-нибудь предосудительным занятием. Когда Нора была ребенком и подростком, эти внезапные инспекции происходили часто, потом они стали реже. Но до конца дней своих тетка контролировала Нору, хотя та была уже взрослой двадцатидевятилетней женщиной. Поскольку Виолетта любила одеваться во все темное, стягивала волосы в тугой пучок, а ее бледное старенькое личико никогда не знало косметики, она скорее походила не на женщину, а на мужчину — этакого сурового монаха в грубой рясе, который, крадучись, бродит по коридорам какого-то средневекового монастыря и следит за поведением своих собратьев. Если Виолетта заставала Нору спящей или мечтающей, она сурово отчитывала ее и тут же назначала ей наказание в виде самых неприятных дел по хозяйству. Тетка не любила лентяев. Книги дозволялись — конечно, предварительно требовалось одобрение со стороны Виолетты — хотя бы потому, что чтение способствует образованию. Кроме того, она часто приговаривала: — Простые домашние женщины, вроде тебя и меня, никогда не проживут яркую жизнь и никогда не побывают в экзотических местах. Поэтому книги имеют для нас особую ценность, читая их, мы можем многое испытать умозрительно. Это не так уж плохо. Жить в мире книг даже лучше, чем иметь друзей и… знать мужчин. При помощи сговорчивого семейного врача тетке удалось освободить Нору от занятий в общеобразовательной школе под предлогом слабого здоровья. Она получала образование дома, поэтому книги заменяли ей школу тоже. Помимо того, что к тридцати годам Нора успела прочесть тысячи книг, она самостоятельно освоила живопись маслом, акриловыми красками, акварелью, а также карандашный рисунок. Эти увлечения Виолетта одобряла. Искусство было единственным занятием, помогавшим Норе не думать о мире, оставшемся за пределами теткиного дома, и избегать контактов с людьми, которые обязательно отвергли бы, обидели и разочаровали ее. В одном из углов Нориной комнаты стояли чертежная доска, мольберт и шкафчик с рисовальными принадлежностями. Место для миниатюрной студии было найдено за счет сдвигания вместе находившейся в комнате мебели — именно сдвигания, а не выноса — поэтому эффект от этого получился клаустрофобический. Много раз за долгие годы, особенно по ночам, Норе начинало казаться, что пол в спальне вот-вот рухнет под тяжестью мебели и она провалится в комнату, под спальней и будет раздавлена насмерть своей собственной кроватью с балдахином. Временами этот страх становился непреодолимым, и тогда Нора убегала на лужайку за домом и сидела там под открытым небом, съежившись и дрожа. Ей исполнилось уже двадцать пять лет, когда она поняла, что эти приступы паники происходят не только из-за излишка мебели в ее комнате и мрачной обстановки в доме, но и из-за всеподавляющего присутствия Виолетты. В одно свободное утро четыре месяца назад (и восемь месяцев спустя после кончины тетки) Нору вдруг охватило нестерпимое желание перемены, и она поспешно переоборудовала свою спальню. Нора вытащила из нее все малогабаритные предметы обстановки и распределила их равномерно по другим пяти комнатам второго этажа. Более тяжелые вещи пришлось разбирать и вытаскивать по частям. В конце концов в спальне остались кровать с балдахином, ночной столик, кресло, чертежная доска, табурет, шкафчик и мольберт — все, что ей было нужно. Потом она ободрала обои со стен. Всю субботу и воскресенье у Норы было чувство: происходит какая-то революция и она никогда не вернется к прежней жизни. Однако к моменту, когда переоборудование спальни было закончено, мятежный дух в ней угас, и все остальные помещения в доме остались нетронутыми. Но по крайней мере эта комната стала светлой, даже веселой. Стены были окрашены в светло-желтый цвет. Тяжелые гардины заменены занавесками, подходящими по цвету к стенам. Нора убрала ужасный ковер и отполировала красивый дубовый паркет. Эта комната стала ее убежищем еще в большей степени, чем раньше. Когда Нора вошла туда и увидела плоды своих трудов, настроение у нее сразу поднялось и она даже забыла о недавних тревогах. Нора села за чертежную доску и начала делать карандашный эскиз для будущей картины, замысел которой вынашивала уже некоторое время. Поначалу руки у нее дрожали, но, по мере того как она продолжала рисовать, внутренний страх пропал. Нора уже подумала о Стреке и попыталась представить, как далеко он зашел бы в своих домогательствах, если бы ей не удалось выпроводить его из дома. В последнее время она все чаще спрашивала себя, насколько верным был пессимистический взгляд Виолетты Девон на внешний мир и других людей; и, хотя этот взгляд лежал в основе воспитания самой Норы, у нее росло подозрение, что это неправильное, даже нездоровое мировоззрение. Но вот на ее пути встретился Арт Стрек — наглое подтверждение тому, в чем уверяла ее тетка; слишком тесное соприкосновение с окружающим миром таит в себе опасность. Прошло много времени, и, закончив набросок, Нора начала думать о том, правильно ли она восприняла все, что делал и говорил Стрек. У него наверняка и не было сексуальных намерений по отношению к ней. Только не к ней. По правде говоря, в сексуальном плане она не представляла интереса. Обычная. Домашняя. Возможно, даже некрасивая. Это был факт, который тетя Виолетта довела до сведения Норы еще в раннем возрасте. Несмотря на множество недостатков, старуха имела некоторые достоинства, одним из которых была прямолинейность. Нора была непривлекательной женщиной, которая не могла рассчитывать на объятия, поцелуи и обожание. Хотя как личность Стрек внушил ей отвращение, внешне он был привлекательным мужчиной и, очевидно, не испытывал недостатка в хорошеньких подружках. Смешно даже думать о том, что его могло заинтересовать такое чучело, как она. Нора все еще носила одежду, купленную когда-то теткой: темные бесформенные платья, юбки и блузы, похожие на те, которые носила сама Виолетта. Более нарядные и яркие вещи только бы подчеркивали худобу нескладного тела девушки, заурядность и непривлекательность лица. Но почему тогда Стрек сказал, что она хорошенькая? Ну, это легко объяснимо. Он, наверное, подшучивал над ней. Или, что вероятнее, хотел быть учтивым. Чем больше Нора думала на эту тему, тем больше уверяла себя, что не поняла беднягу. В тридцать лет она уже превратилась в нервную старую деву, пугливую и одинокую. Эти мысли расстроили ее на какое-то время. Но Нора собралась, удвоила свои усилия и закончила набросок, после чего начала следующий, уже в другом ракурсе. Шло время, и она забылась, погрузившись в работу. Внизу большие часы пунктуально отбивали каждые час, полчаса и четверть. Солнце на западе приобретало все более золотистый оттенок, и к концу дня комната становилась светлее. Воздух мерцал золотыми блестками. За окном, выходящим на южную сторону, королевская пальма нежно подрагивала под порывами майского ветерка. К четырем часам Нора уже совершенно успокоилась и, мурлыкая себе под нос, продолжала работать. Зазвонил телефон, она вздрогнула. Отложив в сторону карандаш, сняла трубку. — Алло? — Интересно получается, — сказал мужской голос. — Простите? — Они никогда о нем не слышали. — Извините, — сказала она, — но боюсь, вы не туда попали. — Это вы, миссис Девон? Она узнала этот голос. Это был он. Стрек. На секунду у Норы отнялся язык. Стрек сказал: — Они никогда о нем не слышали. Я позвонил в полицейское управление Санта-Барбары и попросил к телефону полицейского Девона. Они ответили, что такой у них не числится. Странно, правда, миссис Девон? — Что вам нужно? — спросила она дрожащим голосом. — Я думаю: дело в компьютере, — сказал Стрек, посмеиваясь. — Наверняка из-за какой-нибудь ошибки в нем вашего мужа не оказалось среди личного состава полиции. Мне кажется, миссис Девон, вам лучше сказать ему об этом, как только он придет домой. Если об этом не позаботиться… то, черт возьми, в конце недели ему просто не начислят зарплату. На этих словах Стрек повесил трубку. Услышав гудки, Нора поняла: ей надо было первой прекратить этот разговор, просто хлопнуть трубку на рычаг, как только он сообщил, что звонил в полицию. Ей не следовало выслушивать всю эту болтовню. Нора прошла по дому и проверила запоры на окнах и дверях. Все они были надежно закрыты.* * *
В кафе «Макдональдс» на Ист Чэпмен-авеню Тревис Корнелл заказал пять гамбургеров для золотистого ретривера. Сидя на переднем сиденье пикапа, пес съел всю мясную начинку и две булочки. Попытался лизнуть Тревиса в лицо, выражая таким способом свою благодарность. — У тебя из пасти воняет, как от больного аллигатора, — запротестовал тот, отпихивая от себя собаку. Обратный путь в Санта-Барбару занял у них три с половиной часа, поскольку машин на дорогах стало уже гораздо больше, чем утром. Пока они ехали, Тревис поглядывал на своего четвероногого спутника и разговаривал с ним, надеясь обнаружить в нем признаки так изумившего его разумного начала. Но ожидания не оправдались. Ретривер вел себя обыкновенно, как любая собака в такой поездке. Время от времени он усаживался очень прямо и смотрел сквозь ветровое или боковое стекло на бегущий мимо пейзаж, может быть, с несколько большим для собаки интересом и вниманием. Но основную часть времени он лежал, свернувшись на сиденье, или спал, пофыркивая во сне, или скулил и зевал со скучающим выражением на морде. Когда запах псины стал невыносим, Тревис опустил стекла, чтобы проветрить кабину, и ретривер высунул голову из окна. Ветер трепал его мягкие уши и шерсть, и на морде у него появилось глупое и очаровательное бесхитростное выражение, которое бывает у всех собак, перевозимых таким способом. В Санта-Барбаре Тревис остановился у торгового центра и купил несколько банок «Алпо»,[82] коробку собачьих галет «Милк Боун», тяжелые пластмассовые миски для корма и воды, жестяную ванну, флакон шампуня для домашних животных с компонентами против блох и клещей, щетку для расчесывания шерсти, ошейник и поводок. Пока Тревис загружал покупки в кузов пикапа, пес наблюдал за ним через окно кабины, прижав влажный нос к стеклу. Садясь за руль, Тревис сказал: — Ты грязный и воняешь. Надеюсь, с мытьем у нас с тобой проблем не будет, а? Пес зевнул. К тому времени, как Тревис подъехал к арендуемому им бунгало на севере Санта-Барбары и заглушил мотор, он начал спрашивать себя, действительно ли поведение собаки было таким необычным, как ему показалось утром? — Если ты вскоре не покажешь мне свои фокусы, — обратился он к псу, вставляя ключ в дверной замок, — я начну думать, что мне все почудилось там, в лесу, что я рехнулся и все сам выдумал. Стоя рядом с ним на крыльце, пес вопросительно поднял голову. — Ты же не хочешь, чтобы я усомнился в том, что с головой у меня все в порядке, а? Яркая оранжево-черная бабочка порхнула перед мордой ретривера, напугав его. Пес тявкнул, соскочил с крыльца и помчался за ней по дорожке. Бегая туда-сюда по лужайке, прыгая и щелкая зубами, он старался схватить яркое насекомое, но чуть не налетел на покрытый рисунком ствол Канарской пальмы, затем едва избежал лобового столкновения с бетонной емкостью для воды и, наконец, неуклюже плюхнулся в клумбу с новогвинейскими недотрогами, над которой искала спасения бабочка. Перекатившись через спину, ретривер вскочил на лапы и выпрыгнул из клумбы. Поняв, что жертва ускользнула, он вернулся к Тревису и виновато посмотрел на него. — Ну и псина, — сказал Тревис. — Горе мое. Он открыл дверь, ретривер вбежал внутрь дома и сразу стал исследовать незнакомое помещение. — Только попробуй наделать мне на пол, — крикнул Тревис ему вслед. Он прошел на кухню, неся в руках ванну и пластиковый мешок с остальными покупками. Тревис оставил там собачью еду и посуду, остальное вынес во двор через заднюю дверь. Он поставил ванну рядом со свернутым кольцами шлангом, надетым на водопроводный кран. Зайдя обратно в дом, Тревис вытащил ведро из-под кухонной раковины, наполнил его горячей водой, вынес наружу и вылил воду в ванну. После того как Тревис принес четвертое ведро, появился ретривер и начал обследовать задний двор. К тому времени, как Тревис наполнил водой больше половины ванны, пес стал мочиться через каждые четыре фута вдоль побеленной бетонной стены, отмечая таким образом свою территорию. — Когда закончишь портить газон, — сказал Тревис, — давай купаться. Ты воняешь. Ретривер повернулся на звук его голоса, наклонил голову в сторону и стал слушать. Он, однако, совсем не походил на тех умных собак, которых снимают в кино. Было очевидно, что он не понимает человеческую речь. Он просто смотрел на Тревиса, и все. Как только Тревис замолчал, пес прошел немного вдоль стены и опять поднял заднюю ногу. Наблюдая, как пес справляет нужду, Тревис почувствовал: ему тоже пора последовать его примеру. Он зашел в туалет, а затем переоделся в старые джинсы и футболку с короткими рукавами, готовясь к предстоящей грязной работе. Выйдя наружу, Тревис увидел: ретривер стоит рядом с дымящейся ванной и держит в зубах шланг. Каким-то образом псу удалось повернуть кран. Из шланга в ванну текла вода. Открыть кран — трудное, почти невозможное дело для собаки. По степени сложности это можно сравнить с ситуацией, в которой Тревису пришлось бы открывать за спиной пузырек с аспирином, снабженный крышкой с подстраховкой от случайного вскрытия детьми, и при этом он должен был действовать одной рукой. — Слишком горячая вода для тебя? — удивленно просил он. Ретривер выпустил из зубов шланг, из которого на пол дворика продолжала литься вода, и почти изящно шагнул в ванну. Он сел в воду и посмотрел на Тревиса, как бы говоря: «Давай начинать, ты, недоумок». Тревис подошел к ванне и присел на корточки рядом. — Покажи мне, как ты закрываешь воду. Пес посмотрел на него с глупым выражением на морде. Собака фыркнула и устроилась поудобнее в теплой воде. — Если ты сумел включить воду, значит, ты должен уметь ее выключить. Как ты это проделал? Зубами? Наверное, зубами. Не лапами же, прости Господи. Но ведь тебе пришлось крутить кран, а это непросто. Ты мог сломать себе зубы об эту чугунную ручку. Пес вытянул шею и схватил зубами пакет, в котором находился шампунь. — Не будешь закрывать кран? — спросил Тревис. Пес непонимающе моргнул. Тревис вздохнул и завернул кран. — Ладно. О'кей, раз ты такой умник. Он вынул из пакета щетку и шампунь и протянул их псу. — Держи. Обойдешься без моей помощи. Уверен, что ты сам все сумеешь. Собака испустила долгий подвывающий звук, и у Тревиса появилось чувство, что она говорит ему: «Сам ты умник!» «Спокойно, — сказал Тревис себе. — Так недолго и умом тронуться. Конечно, это еще та собака, но она все-таки не понимает того, что я говорю, и, уж конечно, не может отвечать». Ретривер не выказывал никакого неудовольствия по поводу купания — напротив, псу нравилась эта процедура. Приказав ему выйти из ванны и сполоснув чистой водой, Тревис потратил около часа, расчесывая его мокрую шерсть. Он вытаскивал застрявшие там колючки, травинки и распутывал колтуны. За все это время пес ни разу не проявил нетерпения, и к шести часам он совершенно преобразился. Вымытый и расчесанный, он превратился в красивое животное. Его шерсть приобрела в основном среднезолотистый окрас, переходящий в более светлые подпалины на тыльных сторонах ног, живота и на нижней стороне хвоста. Подшерсток у него был густой и мягкий, хорошо сохранявший тепло и отталкивающий воду. Сама шерсть тоже была мягкая, хотя и не такая густая, и лежала волнами там, где волосы были длиннее. Хвост слегка закручивался кверху, придавая псу довольный, игривый вид — впечатление, которое еще усиливалось из-за постоянного виляния. Запекшаяся кровь на ухе была следствием небольшой ранки, которая уже заживала. Кровь на лапах появилась от долгого бега по каменистой местности. Тревис смазывал трещины раствором борной кислоты, обладающей антисептическим действием. Он был уверен, что, поскольку пес не хромает, через несколько дней все будет в порядке. Ретривер выглядел великолепно, в то время как Тревис был весь мокрый, потный и пропитался запахом собачьего шампуня. Ему не терпелось принять душ и переодеться. Кроме того, у него разыгрался аппетит. Оставалось только надеть на пса ошейник. Но когда он попытался это сделать, ретривер тихо зарычал и отпрянул назад. — Ну что еще такое? Это всего лишь ошейник, малыш. Пес уставился на кольцо из красной кожи в руке у Тревиса и снова зарычал. — У тебя с ошейником связаны неприятные воспоминания? Собака перестала рычать, но не сдвинулась с места. — С тобой плохо обращались? — спросил Тревис. — Вот в чем дело. Может, тебя душили, затягивали ошейник и душили, а может, держали на слишком короткой цепи? Что-нибудь в этом роде? Ретривер тявкнул и прошлепал в самый дальний угол дворика, поглядывая оттуда на ошейник. — Ты доверяешь мне? — спросил Тревис, все еще стоя на коленях в позе, свидетельствующей о его мирных намерениях. Пес отвел взгляд от ошейника и посмотрел в глаза Тревису. — Я никогда не буду тебя обижать, — торжественно сказал Тревис, уже не чувствуя себя по-дурацки от того, что так искренне и прямо разговаривает с собакой. — Ты должен был это понять. Я имею в виду, что ты хорошо разбираешься в таких вещах, не так ли? Положись на свои инстинкты, малыш, и доверься мне. Ретривер вышел из своего угла и подошел ближе. Он посмотрел на ошейник, а затем обратил свой жутковатый пристальный взгляд прямо в глаза Тревису. Как и раньше, Тревис ощутил, что между ним и псом существует невидимый контакт — прочный, странный и неописуемый. Он произнес: — Послушай, наверняка мне придется брать тебя с собой в такие места, где потребуется держать тебя на поводке, который прицепляется к ошейнику, так ведь? Это единственная причина, заставляющая меня надеть на тебя ошейник. Ты сможешь везде сопровождать меня. И еще — чтобы отпугивать от тебя блох. Но, если ты не хочешь надевать его, я не буду делать это насильно. Некоторое время они стояли друг перед другом молча, пока ретривер, казалось, обдумывает ситуацию. Тревис продолжал держать ошейник в руке таким образом, чтобы он выглядел как подарок, а не как угроза, а пес продолжал смотреть в глаза своего нового хозяина. Наконец ретривер встряхнулся, чихнул и медленно приблизился к Тревису. — Вот и молодец, — сказал тот одобряюще. Подойдя к нему, собака улеглась на живот, затем перевернулась на спину и задрала все четыре лапы, как бы сдаваясь на милость человека. В его взгляде Тревис увидел любовь, доверие и легкую настороженность. К своему удивлению, Тревис почувствовал, что к горлу у него подступает комок, а в уголках глаз скапливается влага. Он сглотнул и заморгал ресницами, чтобы прогнать слезы, и назвал себя сентиментальным рохлей. Но он понял, почему смиренная покорность пса подействовала на него так сильно. Впервые за последние три года Тревис Корнелл осознал, что он кому-то нужен, почувствовал глубокую связь между собой и другим живым существом. Впервые за эти три года его жизнь приобрела смысл. Он надел на пса ошейник и почесал ему брюхо. — Надо тебе придумать кличку, — сказал он. Пес встал на лапы, взглянул на него и напряг уши, как бы желая услышать свое новое имя. «Господи помилуй, — подумал Тревис, — я зря приписываю ему человеческие поступки. Он просто пес, хотя, возможно, и не такой, как все. Смотрит на меня, как будто хочет узнать, как его будут называть, хотя наверняка не понимает английскую речь». — Не могу придумать ни одного подходящего имени, — наконец сказал Тревис. — Ты не простой пес, мохнатая ты морда. Мне надо хорошенько подумать на эту тему. Тревис вылил грязную воду из ванны, сполоснул ее и оставил во дворе сушиться. Затем вместе с ретривером они вернулись в дом, который теперь был их общим домом.* * *
Доктор Элизабет Ярбек и ее муж Джонатан, адвокат по профессии, жили в районе Ньюпорт-Бич в приземистом одноэтажном доме, похожем на ранчо, с тесовой крышей, кремовыми оштукатуренными стенами и дорожкой из природного камня. Заходящее солнце зажигало золотистые и рубиновые огоньки, которые мерцали и вспыхивали на ограненных стеклах узких окошек со свинцовыми переплетами по обе стороны входной двери, придавая им вид огромных бриллиантов. На звонок Винса Наско дверь открыла Элизабет. Это была пятидесятилетняя подтянутая привлекательная женщина с копной светло-серебристых волос и голубыми глазами. Винс представился ей Джоном Паркером, сотрудником ФБР, и сказал, что ему нужно переговорить с ней и ее мужем по поводу дела, находящегося в данный момент в стадии расследования. — Дела? — спросила она. — Какого дела? — Речь идет о финансируемом правительством исследовательском проекте, вы в нем когда-то участвовали, — ответил Винс, повторив фразу, с которой, как его проинструктировали, он должен был начать разговор. Она внимательно изучила предъявленное им служебное удостоверение с фотографией. Винсу было на это наплевать. Фальшивое удостоверение он получил от тех же самых людей, которые наняли его десять месяцев назад, когда у него было задание в Сан-Франциско, и с тех пор он показывал его трижды и ни разу не прокололся. Хотя он знал: удостоверение не вызовет у нее подозрений, но не был уверен, что сам выдержит проверку. На нем был темно-синий костюм, белая сорочка, синий галстук и начищенные башмаки — обычное одеяние агента ФБР. Его габариты и бесстрастное выражение лица тоже соответствовали роли, которую ему было поручено сыграть. Однако убийство доктора Вэтерби и предстоящие в течение ближайших нескольких минут еще два убийства настолько возбуждали Винса, переполняли каким-то маниакальным ликованием, что он едва скрывал свои эмоции. Смех буквально душил его, а все попытки сдержаться с каждой минутой становились все безуспешнее. Еще когда Винс сидел за рулем неприметного зеленого «Форда», угнанного им минут сорок назад для выполнения этого задания, его начало сильно трясти, но не оттого, что он нервничал, а от чувства переполнявшего его предвкушения почти сексуального свойства. Ему даже пришлось остановиться у обочины и посидеть минут десять, чтобы отдышаться и успокоиться. Элизабет Ярбек подняла взгляд от фальшивого удостоверения на Винса, встретилась с ним глазами и нахмурилась. Он рискнул улыбнуться, хотя осознавал опасность того, что может непроизвольно расхохотаться и таким образом выдать себя. У него была мальчишеская улыбка, которая не соответствовала его внушительной внешности и могла оказывать обезоруживающее действие на собеседника. После минутного колебания доктор Ярбек улыбнулась в ответ. С удовлетворенным видом она вернула ему документы и пригласила войти. Мне нужно поговорить с вашим супругом тоже, — напомнил ей Винс, пока женщина закрывала входную дверь. — Он в гостиной, мистер Паркер. Сюда, пожалуйста. Гостиная была большая и светлая. Светло-кремовые стены и ковер. Светло-зеленые диваны. Через огромные, во всю стену, окна, затемненные снаружи зелеными матерчатыми козырьками, были видны тщательно ухоженные участки и дома на холмах внизу. Джонатан Ярбек засовывал пригоршни щепок между поленьев, которые он заложил в кирпичный камин, готовясь развести огонь. Он встал, отряхнул ладони, и его жена представила ему Винса: — Джон Паркер из ФБР. — ФБР? — переспросил Ярбек, недоуменно вскинув брови. — Мистер Ярбек, — сказал Винс, — если в доме находятся остальные члены вашей семьи, я бы хотел, чтобы они тоже присутствовали при нашем разговоре. Ярбек отрицательно покачал головой. — Дома только Лиз и я. Ребята сейчас в колледже. А в чем дело? Винс выхватил пистолет с глушителем из внутреннего кармана пиджака и выстрелил Джонатану Ярбеку в грудь. Адвоката отбросило назад к каминной полке, где он на мгновение замер, как пришпиленный, а затем упал на лежавшие на полу латунные принадлежности для камина. «Ссссснап». От удивления и ужаса Элизабет Ярбек остолбенела. Винс быстро подскочил к ней, схватил левую руку и сильно вывернул ее за спину. Когда женщина вскрикнула от боли, он приставил ей пистолет к виску и сказал: — Если не будешь молчать, мозги вышибу. Винс провел ее через комнату к телу мужа. Джонатан Ярбек лежал лицом вниз на совке для угля и кочерге с латунной ручкой. Он был мертв. Но Винс не хотел рисковать и выстрелил еще два раза с близкого расстояния ему в затылок. Лиз Ярбек испустила странный мяукающий звук и разразилась рыданиями. Винс был почти уверен, что даже ближайшие соседи не могут рассмотреть происходившего в гостиной из-за большого расстояния между домами и дымчатых стекол на окнах, но на всякий случай решил разделаться с женщиной в более укромном месте. Он повел ее в глубь дома через холл, пока, наконец, они не подошли к двери спальни. Там Винс сильно толкнул Элизабет, и она упала на пол. — Лежи смирно, — сказал он. Винс включил прикроватные лампы, затем подошел к раздвижным стеклянным дверям, выходящим на открытую террасу, и задернул шторы. В тот момент, когда он повернулся к Элизабет спиной, она вскочила на ноги и побежала к двери в холл. Винс догнал ее, ударил о стену, затем кулаком в живот и швырнул на пол. Приподняв голову женщины за волосы, он заставил ее посмотреть ему в глаза. — Послушайте, леди. Я не собираюсь застрелить вас. Я пришел сюда, чтобы убить вашего мужа. Только его одного. Но, если вы попытаетесь удрать, я буду вынужден сделать с вами то же самое, понятно? Это, конечно, было неправдой. Ему поручили убить именно ее, а мужа пришлось убить только потому, что он оказался дома. Однако Винс не соврал, сказав, что не застрелит Элизабет. Он просто хотел, чтобы она не сопротивлялась и не пыталась бежать, пока он не свяжет ее и не разделается с ней в более спокойной обстановке. Двух человек Винс застрелил, и это было приятно, но теперь он хотел продлить удовольствие, убить ее помедленнее. Иногда убийство можно смаковать, как хорошую еду или вино, или красивый закат. Задыхаясь и рыдая, Элизабет спросила: — Кто вы? — Тебя не касается. — Что вы хотите? — Заткнись и не дергайся, останешься живой. Она стала торопливо бормотать молитву, произнося слова слитно и иногда прерывая их короткими вздохами отчаяния. Убедившись, что шторы плотно задернуты, Винс вырвал телефон из розетки и швырнул его через всю комнату. Схватив женщину за руку, он заставил ее встать и потащил за собой в ванную комнату. Затем стал выдвигать ящики, пока не нашел то, что искал, — аптечку. Ему нужен был пластырь. Притащив Элизабет обратно в спальню, Винс заставил ее лечь на спину на кровать и с помощью пластыря связал ей щиколотки и запястья. Открыв ящики комода, он достал оттуда кружевные трусики, скомкал их и засунул ей в рот в виде кляпа и сверху заклеил пластырем. Женщину била сильная дрожь, и глаза ее часто моргали от разъедавших их слез и пота. Винс вышел из спальни в гостиную и опустился на колени рядом с трупом Джонатана Ярбека. Он перевернул тело лицом вверх. Одна из пуль, которая вошла в затылок Ярбека, пробила ему спереди горло прямо под подбородком. Его открытый рот был полон крови. Один глаз закатился, и виден был только белок. Винс посмотрел мертвецу в целый глаз. — Спасибо, — сказал он искренне и почтительно. — Благодарю вас, мистер Ярбек. Затем он закрыл мертвецу веки и поцеловал их. — Спасибо за то, что вы мне дали. После этого Винс прошел в гараж, где, порывшись в шкафах, нашел некоторые инструменты. Он выбрал молоток с удобной рукояткой в резиновой облицовке и головкой из полированной стали. Когда Винс вернулся в тихую спальню и положил молоток рядом со связанной женщиной, глаза ее смешно округлились. Она начала ерзать и ворочаться, стараясь освободить руки из липких пут, но тщетно. Винс стал снимать с себя одежду. Видя, что Элизабет смотрит на него с таким же ужасом, с каким она смотрела на молоток, он сказал: — Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор Ярбек. Я не собираюсь насиловать вас. Винс повесил пиджак и рубашку на спинку стула. — Я не испытываю к вам сексуального интереса. — Он снял ботинки, носки и брюки. — Это унижение вам не грозит. А одежду я снимаю просто для того, чтобы не запачкаться кровью. Раздевшись, он взял молоток и, размахнувшись, ударил по ее левой ноге, разбив вдребезги коленную чашечку. Винс произвел еще пятьдесят или шестьдесят ударов молотком, пока не наступил Момент. «Ссссснап». Он вдруг ощутил мощный прилив энергии. Чувства его резко обострились. Винс мог различить мельчайшую текстуру материала и тончайшие оттенки цвета вокруг себя. Его переполняло чувство такой невероятной силы, какое бывает, наверное, у Бога, принявшего человечье обличье. Он выпустил из рук молоток и упал на колени рядом с кроватью, уперся лбом в окровавленную простыню и несколько раз глубоко вздохнул, сотрясаясь от почти невыносимого наслаждения. Двумя минутами позже Винс пришел в себя и адаптировался к своему новому состоянию, он поднялся на ноги, нагнулся над Элизабет и поцеловал ее изуродованное лицо и кисти рук. — Спасибо. Винс так расчувствовался от жертвы, которую она принесла ему, что чуть не зарыдал. Но радость от собственной удачи оказалась сильнее, чем жалость к убитой, и слезы не потекли. Затем он быстро сполоснулся под душем. Пока струйки горячей воды смывали с него мыльную пену, Винс думал о том, как ему повезло, что он выбрал профессию наемного убийцы — ему платят за то, что он все равно делал бы бесплатно. Одевшись, Винс протер полотенцем все предметы в доме, до которых дотрагивался. Он всегда помнил каждое свое движение и не боялся оставить случайных отпечатков пальцев. Совершенная память была составной частью его Дара. Выскользнув наружу, Винс увидел, что наступила ночь.Глава 3
В начале вечера ретривер не выказывал ни малейших признаков какого-либо выдающегося поведения, которое до этого так поразило воображение Тревиса. Он все время наблюдал за собакой, иногда открыто, иногда боковым зрением, но не увидел ничего интересного. Он приготовил ужин. Бекон, салат из помидоров и сандвичи для себя. Открыл жестянку с «Алпо» для ретривера. «Алпо» пес ел с удовольствием, но было ясно, что он предпочитает меню, приготовленное Тревисом для себя. Собака сидела рядом со стулом Тревиса и глядела на него грустными глазами, пока тот ел свои бутерброды за столом, покрытым красным пластиком «Формика». Наконец Тревис сжалился и кинул ей две полоски бекона. В том, что пес клянчил еду, не было ничего необычного. Он не проделывал при этом никаких фокусов, а просто сидел и облизывался, скуля время от времени. На морде у него появлялись поочередно выражения, предназначенные для возбуждения жалости и сочувствия. Любая собака, выпрашивая подачку, делала бы то же самое. Позже, когда Тревис включил телевизор в гостиной, пес улегся на диване рядом с ним. Потом он положил голову Тревису на бедро, явно желая, чтобы его погладили и почесали за ухом, что Тревис и сделал. Время от времени собака поглядывала на экран телевизора, но не проявляла какого-либо интереса к передачам. Тревис смотрел на экран также без интереса. Его занимал пес. Ему хотелось получше узнать его повадки и увидеть побольше его фокусов. И хотя Тревис пытался придумать способы проверки удивительных умственных способностей ретривера, он так ни до чего не додумался. Кроме того, у Тревиса было опасение: собаке это не понравится. Ему казалось, что пес инстинктивно пытается скрывать свои способности. Тревис вспомнил, с каким глупым и комичным видом тот гонялся за бабочкой, а потом открыл водопроводный кран — действие, ничего общего не имеющее с глупостью и неуклюжестью. Создавалось впечатление, что в двух этих случаях действовали разные животные. Хотя Тревис и считал это абсурдом, он все же подозревал: ретривер не хотел привлекать внимание к себе и обнаруживал свои выдающиеся способности только вэкстремальной ситуации (например, в лесу), или когда был голоден (как это произошло с шоколадкой в машине), или когда думал, что за ним никто не наблюдает (как в случае с водопроводным краном). Это была слишком уж смелая мысль. Если думать так, то пес не только чрезвычайно умен, но и знает о своих необычайных способностях. Собаки — и вообще животные — не обладают той высокой степенью сознания, которая позволила бы им оценивать себя в сравнительных категориях. Сравнительный анализ — это человеческая способность. Даже если собака очень умна и знает множество всяких приемов, она все равно не в состоянии понять, что чем-то отличается от своих собратьев. Предположить же, что этот пес обладает таким качеством, означало бы признать в нем наличие не только редкого ума, но и способностей здраво рассуждать — вместо того чтобы просто повиноваться инстинктам, как остальные животные. — Ты загадка, завернутая в тайну, — сказал Тревис, гладя ретривера по голове. — Или я кандидат в психушку. Пес поднял голову на звук его голоса, посмотрел ему в глаза, зевнул и… вдруг резко задрал голову и стал смотреть на книжные полки, которые высились до потолка по обе стороны арки, разделявшей гостиную и столовую. Довольное выражение исчезло у него с морды, и на смену ему пришел пристальный интерес, который Тревис уже замечал раньше и который явно был сильнее, чем обычное собачье любопытство. Соскочив с дивана, ретривер бросился к стеллажам. Он начал бегать под ними из стороны в сторону, поглядывая на разноцветные корешки аккуратно расставленных томов. Дом, который снимал Тревис, достался ему уже с мебелью (дешевой и непритязательной); обивка рассчитана на длительное пользование (винил) или на способность делать незаметными невыводимые пятна (фактурная клетка). Местами был использован пластик «Формика» «под дерево», не боящийся сколов, царапин и прижиганий сигаретами. Единственными предметами в этом доме, говорящими о вкусах и интересах его хозяина, были книги — в мягких и твердых обложках, — которыми были забиты полки в гостиной. Пес проявил явный интерес, по крайней мере к некоторым из этих нескольких сотен книг. Вставая с дивана, Тревис спросил: — В чем дело, малыш? С чего это тебя так разбирает? Ретривер встал на задние лапы, положил передние на одну из полок и начал обнюхивать корешки книг. Он обернулся к Тревису, а затем вновь стал изучать библиотеку хозяина. Тревис подошел к полке и взял одну из книг, которую пес успел потрогать своим носом — «Остров сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона, и показал ему обложку. — Эта? Тебя она интересует? Пес изучил картинку, изображавшую одноногого Джона Сильвера на фоне пиратского корабля. Мельком взглянув на Тревиса, он снова обратил свой взор на Джона Сильвера. Секунду спустя собака опустилась на пол и помчалась к полкам по другую сторону арки, встала вертикально и начала обнюхивать книги. Тревис поставил «Остров сокровищ» на место и последовал за ретривером. Тот как раз тыкался своим влажным носом в собрание сочинений Диккенса. Тревис снял с полки «Повесть о двух городах» в мягкой обложке. Как и в предыдущий раз, пес внимательно рассматривал картинку на обложке, как бы пытаясь определить, о чем книга, и с выжиданием посмотрел на Тревиса. Полностью растерявшись, тот сказал: — Французская революция. Гильотины. Обезглавливание. Трагедия и героизм. Это о… ну, в общем, о приоритете личности над группами… о необходимости ценить жизнь конкретного человека больше, чем прогресс общества. Выслушав его, собака повернулась к стеллажу, продолжая обнюхивать книги. — Я совсем чокнулся, — сказал Тревис, ставя на место «Повесть о двух городах». — Пересказываю краткое содержание книги, и кому — собаке! Переставив передние лапы на соседнюю полку, ретривер заскулил и стал тыкаться носом в корешки книг. Увидев, что Тревис не собирается снимать их с полки, пес наклонил голову, нежно схватил зубами один том и попытался вытащить его. — Еще не хватало, — сказал Тревис, протягивая руку к книге. — Испортишь мне переплет, мохнатая ты морда. Это «Оливер Твист». Тоже Диккенс. Он там попадает к темным личностям, уголовникам, и они… Ретривер опустился на пол и потрусил к полкам на другой стороне арки, где опять начал обнюхивать тома, до которых мог дотянуться. Тревис готов был поклясться: пес с тоской поглядывал на книги, стоящие на верхних полках. Примерно в течение пяти минут, охваченный предчувствием чего-то очень важного, что вот-вот должно произойти, Тревис ходил за собакой, показывая ей обложки дюжины книг и в нескольких словах излагая их содержание. Он не мог сообразить, чего добивается от него этот пес-вундеркинд. Наверняка тот не понимает кратких пересказов Тревиса. С другой стороны, собака очень внимательно слушала все, что он говорил. Тревис был уверен: у него создается искаженное представление о поведении животного и он приписывает ему сложные намерения, не имеющие ничего общего с реальностью. В то же время по спине Тревиса пробежал холодок. По мере того как они продолжали свои изыскания, Тревис пребывал в ожидании какого-то пугающего откровения, которое может произойти в любой момент, и одновременно чувствовал себя одураченным. Библиотеку Тревис собирал бессистемно. Среди томов, которые он доставал с полок, были «Долгое прощание» Чендлера, «Почтальон всегда звонит дважды» Кейна и «И восходит солнце» Хемингуэя, произведения Рея Брэдбери, Ричарда Кондона, Энн Тайлер, Дороти Сэйерз и Элмора Леонарда. Наконец пес оставил книги в покое, вышел на середину комнаты и начал расхаживать взад и вперед с явно возбужденным видом. Затем остановился перед Тревисом и тявкнул три раза. — Что-нибудь не так, малыш? Ретривер заскулил, посмотрел на стеллажи, сделал круг по комнате и опять уставился на книги. Он, казалось, был расстроен. Глубоко расстроен. — Я не знаю, что еще сделать, малыш, — сказал Тревис. — Я не знаю, чего ты хочешь, и не понимаю то, что ты хочешь мне сказать. Собака фыркнула и встряхнулась. Опустив голову, как бы признавая свое поражение, она с отрешенным видом вернулась на диван и устроилась там на подушках. — Все на этом? — спросил Тревис. — Мы сдаемся? Пес смотрел на него влажным, грустным взглядом. Тревис медленно скользил глазами по стеллажам, как будто за информацией, содержащейся на страницах книг, скрывалось какое-то потустороннее послание, которое вдруг легко могло стать понятным ему, как будто их разноцветные корешки были незнакомыми рунами давно исчезнувшего языка и, будучи расшифрованными, могли бы пролить свет на чудесные тайны. Но расшифровать их было ему не под силу. Поверив поначалу, что он находится буквально на грани какого-то невероятного открытия, Тревис почувствовал огромное разочарование. Он был разочарован в гораздо большей степени, чем пес; не мог же Тревис просто улечься на диван, опустить голову и забыть обо всем, как это сделал ретривер. — Что все это значит, черт побери? — воскликнул он. Пес загадочно посмотрел на Тревиса. — Во всей этой возне с книгами был какой-то смысл? Собака не сводила с него глаз. — Ты ведь не обычный пес, так ведь? Или я уже совсем рехнулся? Ретривер лежал спокойно и совершенно неподвижно с таким видом, как будто глаза его вот-вот закроются и он уснет. — Попробуй только зевнуть — получишь по заднице. Пес зевнул. — Ублюдок. Он снова зевнул. — Послушай меня внимательно. Что все это значит? Ты специально зеваешь, назло мне? Или ты просто зеваешь? Как я должен это понимать? Как мне узнать, что ты делаешь специально, а что нет? Собака вздохнула. Тревис тоже вздохнул, подошел к окну и стал смотреть в ночь, где разлапистые ветви большой Канарской пальмы причудливо освещались странным желтоватым светом уличных фонарей. Он слышал, как за спиной у него пес соскочил с дивана и заспешил из комнаты, но решил не вмешиваться. Тревис просто не выдержал бы еще одного разочарования. Было слышно, как ретривер орудует на кухне. До Тревиса доносилось звяканье, затем легкое постукивание. Наверное, пьет воду из своей миски. Вскоре пес вернулся. Он подошел к Тревису и потерся о его ногу. Тревис посмотрел вниз и, к своему изумлению, увидел, что в зубах у собаки зажата жестянка с пивом марки «Коорз». Тревис взял банку и почувствовал: холодная. — Ты достал это из холодильника?! Пес, казалось, улыбнулся в ответ.* * *
Телефон зазвонил опять, когда Нора Девон на кухне готовила себе ужин. «Только не Стрек», — взмолилась она. Но это был он. — Я знаю, что вам нужно, — сказал Стрек. — Я знаю, что вам нужно. «Я ведь не хорошенькая, — хотелось сказать ей. — Я некрасивая старая дева, так что же вы хотите от меня? Ваши притязания меня не касаются, потому что я непривлекательная. Вы что, ослепли?» Однако вслух она ничего не произнесла. — Знаете, что вам нужно? — спросил Стрек. Обретя наконец голос, Нора сказала: — Оставьте меня в покое. — Я знаю, что вам нужно. Вы можете не знать этого, а я знаю. На этот раз Нора первой оборвала разговор, хлопнув трубку на рычаг с такой силой, что у него, наверное, заболело ухо. В 20.30 телефон зазвонил снова. Нора сидела в постели, читала «Большие ожидания» и ела мороженое. Звонок так напугал ее, что она выронила ложку и чуть не опрокинула десерт. Отложив в сторону блюдце и книгу, Нора с тревогой уставилась на телефон, стоявший на ночном столике. Десять звонков. Пятнадцать. Двадцать. Резкие звуки наполняли комнату, отражались от стен и мелкими буравчиками сверлили ей голову. В конце концов Нора поняла: она совершает большую ошибку, не отвечая на звонки. Стреку известно, что она дома, но боится снимать трубку, и это доставляет ему удовольствие. Превосходство — вот что он любит больше всего. А ее робость только воодушевляет его. Норе не приходилось конфликтовать с другими людьми, но она осознала: пора научиться постоять за себя, и не откладывая. Нора сняла трубку на тридцать первом по счету звонке. Стрек сказал: — Я не могу не думать о тебе. Она промолчала. Он продолжал: — У тебя красивые волосы. Такие темные. Почти черные. Густые и блестящие. Мне хочется перебирать их. Ей следовало ответить, чтобы поставить его на место, или положить трубку. Но Нора не смогла сделать ни того, ни другого. — Я никогда не видел таких глаз, как у тебя, — произнес Стрек, тяжело дыша. — Они у тебя серые, но не просто серые. Такие глубокие, теплые, сексуальные… Нора лишилась дара речи и сидела как парализованная. — Ты хорошенькая, Нора Девон. Очень хорошенькая. И я знаю, что тебе нужно. Правда. Я правда знаю, Нора. Я знаю, что тебе нужно, и собираюсь дать это тебе. Дрожь, охватившая Нору, вывела ее из оцепенения. Она опустила трубку на рычаг. Наклонившись вперед в кровати, Нора с трудом уняла дрожь. У нее не было оружия, и она чувствовала себя маленькой, уязвимой и очень одинокой. Нора начала подумывать о том, чтобы обратиться в полицию. Но что сказать полицейским? Что стала объектом сексуальных домогательств? Они воспримут это как шутку. Она? Объект домогательств? Старая дева, серая, как мышь, даже отдаленно не напоминающая тех женщин, которых мужчины провожают взглядом и которые вызывают у них эротические мечты. В полиции решат: либо Нора обманщица, либо истеричка. Или дадут понять, что она просто приняла обходительность Стрека за сексуальный интерес — а ведь на самом деле поначалу так и было. Нора натянула голубой халат поверх просторной мужской пижамы и завязала пояс. Босая, она поспешила вниз, в кухню, и, поколебавшись, достала тесак для рубки мяса с полки у плиты. Узкая полоска света, как ртуть, пробежала по его отточенному лезвию. Поворачивая сверкающее лезвие в руке, Нора видела отражение своих глаз в его полированной поверхности. Она вглядывалась в это отражение, думая о том, хватит ли у нее когда-либо духу ударить другого человека этим ужасным оружием, даже в целях самообороны. Хорошо бы ей никогда не пришлось об этом узнать. Вернувшись наверх, Нора положила тесак на ночной столик на расстоянии вытянутой руки. Затем она сняла халат и присела на край кровати, скорчившись и стараясь подавить дрожь. — Почему я? — спросила Нора вслух. — Почему Стрек пристает ко мне? Он сказал, что она хорошенькая, но Нора знала, что это неправда. Мать оставила ее, двухгодовалую, на тетю Виолетту и появилась только дважды за двадцать восемь лет, последний раз, когда Норе было шесть лет. Отца своего она не знала, а другие члены семьи Девон никогда не предлагали забрать ее к себе — нежелание, которое Виолетта открыто приписывала непривлекательной наружности девочки. Поэтому, хотя Стрек и назвал ее хорошенькой, вряд ли на самом деле Нора его интересует в этом смысле. Нет, ему нужно запугать и обидеть ее, испытать от этого удовольствие. Бывают такие люди. Она читала об этом в книгах и газетах. И тетя сто раз предупреждала Нору: если мужчина подходит к ней со всякими там улыбочками и разговорчиками, то только для того, чтобы поднять ее повыше, а потом сбросить вниз с этой новой высоты, сделав ей при этом еще больнее. Через некоторое время приступ охватившей ее дрожи почти прошел. Мороженое растаяло, поэтому она отставила блюдце на ночной столик. Взяв в руки роман Диккенса, Нора попыталась сосредоточиться на сюжете, но взгляд ее все время переходил с книги на телефон, потом на тесак и — через открытую дверь — на холл второго этажа, где она, как ей показалось, заметила какое-то движение.* * *
Тревис пошел на кухню, и пес последовал за ним. Он показал пальцем на холодильник и сказал: — Покажи мне. Проделай это еще раз. Достань мне банку пива. Покажи, как ты это сделал. Собака не двинулась с места. Тревис присел на корточки рядом с ней. — Послушай, морда мохнатая, кто вывез тебя из леса и спас от погони? Я. А кто купил тебе гамбургеры? Я. Я тебя искупал, накормил и приютил. Теперь твоя очередь. Кончай прикидываться. Если можешь открыть холодильник, то давай открывай! Ретривер подошел к старенькому холодильнику марки «Фриджидэр», уцепился зубами за нижний угол эмалевой дверцы и стал тянуть на себя, напрягаясь всем телом. Резиновая прокладка дверцы наконец поддалась с едва слышным чмокающим звуком. Дверца распахнулась, он быстро засунул голову в холодильник, поставил передние лапы на нижний поддон и уставился на вторую полку, где Тревис хранил банки с пивом, «Диет-Пепси» и витаминным овощным соком. Пес вытащил жестянку пива, опустился на пол и подошел с ней к Тревису в тот момент, когда дверца сама захлопнулась. Тревис взял у ретривера банку. Глядя на собаку, он сказал скорее самому себе, чем ей: — О'кей, кто-то научил тебя открывать дверцу холодильника. И этот «кто-то» мог научить тебя отличать жестянки с определенным сортом пива от других банок и приносить пиво хозяину. Но кое-что мне еще не ясно. Какова степень вероятности, что именно тот сорт пива, который ты умеешь распознавать, мог оказаться в моем холодильнике? Очень небольшая. Я же тебя ни о чем не просил. Я не просил принести мне пива. Ты сделал все по собственному разумению, как будто знал: пиво — это как раз то, что мне требовалось в тот момент. Между прочим, так оно и было. Тревис вытер жестянку о свою рубашку, выдернул кольцо и сделал несколько глотков. Его не смущало, что банка перед этим побывала в собачьей пасти. Он был слишком возбужден необычными способностями пса, чтобы волноваться насчет микробов. Кроме того, если уж говорить о гигиене, то тот хватался зубами только за низ банки. Ретривер смотрел, как пьет Тревис. Опустошив банку примерно на треть, тот сказал: — Как будто понимал: я нервничаю, расстроен, и пиво поможет мне расслабиться. Бред это или нет? Речь идет об аналитическом мышлении. О'кей, домашние животные почти всегда чувствуют настроение своих хозяев. Но сколько есть на свете домашних животных, знающих, что такое пиво, и сколько таких, которые понимают: от пива хозяин может подобреть? И потом, откуда тебе стало известно, что в холодильнике есть пиво? Наверное, ты подсмотрел, когда я до этого открывал холодильник, но все же… Руки у него дрожали. Он опять пригубил из банки, и она застучала о его зубы. Пес обошел вокруг покрытого красным пластиком стола и подошел к двойным дверцам шкафчика под мойкой. Он открыл одну из них, засунул голову в темноту, вытащил оттуда пакет с собачьими галетами «Милк Боун» и принес его Тревису. Тревис сказал со смехом: — Ну, если мне положено пиво, то ты тоже кое-что заслужил, а? — Он взял пакет и вскрыл его. — А ты подобреешь от нескольких галет, мохнатая морда? — Он положил печенье на пол. — Угощайся. Я надеюсь, ты не слопаешь все сразу, как обычная собака. — Он опять засмеялся: — Черт возьми, скоро я разрешу тебе водить мою машину! Ретривер аккуратно достал галету из пакета, уселся, распластав задние лапы, и со счастливым видом захрустел. Тревис сел за стол и сказал: — Ты даешь мне повод верить в чудеса. Знаешь, что я делал в лесу сегодня утром? Энергично работая челюстями, разгрызая печенье, собака, казалось, на мгновение потеряла всякий интерес к Тревису. — Я поехал в сентиментальное путешествие в надежде вспомнить то время, когда мальчишкой наслаждался предгорьями Санта-Аны… Когда еще все вокруг не стало таким мрачным. Я хотел убить нескольких змей, как тогда, в детстве, побродить и исследовать местность — в общем, ощутить себя снова молодым. Потому что долгие годы мне было все равно, буду ли я жить или умру. Пес перестал жевать, заглотнул и стал внимательно слушать Тревиса. — Последнее время моя депрессия вступила в самую мрачную стадию. Ты понимаешь, что такое депрессия, псина? Оставив галеты, пес поднялся и подошел к нему. Он посмотрел в глаза Тревису с той жутковатой прямотой и пристальностью, что и раньше. Встретившись с ним взглядом, Тревис сказал: — Тем не менее я не думал о самоубийстве. Во-первых, я получил католическое воспитание, и, хотя годами не бывал в церкви, я вроде как верующий. А самоубийство для католика — смертный грех. Как убийство. Кроме того, я слишком злой и упрямый, чтобы сдаться вот так, как бы плохо мне ни было. Ретривер моргнул, но продолжал смотреть ему прямо в глаза. — Там, в лесу, я искал счастье, которое познал когда-то. И наткнулся на тебя. — Гав, — произнес пес, как бы говоря: «Хорошо». Тревис взял его морду в ладони, наклонился и сказал: — Депрессия. Чувство бессмысленности собственного существования. Собакам это неведомо, не так ли? У вас нет никаких забот. Для собаки — каждый день — новая радость. Так неужели ты понимаешь то, о чем я говорю, малыш? Молю Бога, чтобы это было так. Может быть, я наделяю тебя слишком развитым умом и сообразительностью даже для такого чудесного пса, как ты? А? Конечно, ты можешь проделывать всякие удивительные штуки, но ведь это не то же самое, что понимать мои слова. Ретривер пошел к своему печенью. Он схватил пакет зубами и вытряхнул двадцать или тридцать галет на линолеум. — Ну вот здрасте, — сказал Тревис. — То ты ведешь себя как получеловек, то опять становишься собакой со своими собачьими замашками. Оказалось, однако, ретривер высыпал печенье не для того, чтобы его съесть. Черным кончиком носа он стал выталкивать галеты на середину кухни, аккуратно кладя их одна к другой. — Что, черт возьми, ты делаешь? Пес уложил пять галет в линию, которая слегка загибалась вправо. Затем он прибавил еще одну и усилил изгиб. Наблюдая за действиями собаки, Тревис поспешно допил одну банку пива и открыл вторую. У него было ощущение, что без пива ему не обойтись. Ретривер осмотрел свое творение, как бы сомневаясь, правильно ли он все сделал. Несколько раз он прошелся по кухне с неуверенным видом и добавил две галеты. Бросив взгляд на Тревиса, а потом на фигуру, которую складывал на полу, он придвинул к ней еще одно печенье. Тревис отхлебнул пива и стал ждать, что будет дальше. Тряхнув головой и расстроенно вздохнув, пес ушел в дальний конец кухни и, опустив голову, уткнулся мордой в угол. «Интересно, что с ним?» — подумал Тревис, но потом до него дошло: собака собирается с мыслями. Постояв немного в углу, она вернулась и придвинула еще две галеты к своей конструкции. Тревиса опять охватило чувство: вот-вот должно произойти что-то чрезвычайное. Руки его покрылись гусиной кожей. На этот раз Тревиса не постигло разочарование. С помощью девятнадцати галет ретривер изобразил грубый, но узнаваемый вопросительный знак на кухонном полу и теперь выразительно смотрел на Тревиса. Вопросительный знак. Вопрос: «Почему? Почему ты дошел до такого мрачного состояния? Почему ты считаешь, что жизнь бессмысленна и пуста?» Тревису стало ясно: собака поняла все, что он ей рассказал о себе. Ну ладно, хорошо — возможно, она не понимает языка, не улавливает отдельных слов, но каким-то образом ей удается ухватить смысл сказанного, по крайней мере в достаточной степени, чтобы проявить к этому интерес и любопытство. И если пес уразумел значение вопросительного знака, то, следовательно, у него есть способность к абстрактному мышлению! Боже правый! Само понятие простых обозначений, таких, как буква, цифра, вопросительный и восклицательный знаки, служащих для передачи сложных мыслей, требует способности к абстрактному мышлению. А таковым обладает лишь человек. Тем не менее совершенно очевидно, ретривер проявляет умственные способности, которых лишено любое другое животное. Тревис был ошеломлен. Вопросительный знак не был случайностью. Собака изобразила его довольно грубо, но осознанно. Наверное, ее научили понимать его значение. Специалисты по теоретической статистике говорят: бесконечное число обезьян, снабженных пишущими машинками, могут в принципе воссоздать всю английскую прозу — во всяком случае, теоретически. Вероятность того, что за две минуты этот пес мог сложить вопросительный знак чисто случайно, была в десять раз меньше того, что эти чертовы обезьяны напечатают пьесы Шекспира. Собака выжидательно смотрела на Тревиса. Поднявшись со стула, он обнаружил, что у него слегка дрожат колени. Тревис подошел к разложенным на полу галетам, раскидал их в стороны и вернулся на место. Ретривер обвел взглядом разбросанное печенье, понюхал его и всем своим видом изобразил удивление. Тревис сидел и ждал. В доме было неестественно тихо, как будто время на земле остановилось для всех живых существ и неодушевленных предметов, — кроме Тревиса и собаки. Наконец пес стал двигать носом разбросанные галеты, и через минуту-другую вопросительный знак был готов. Тревис ошеломленно глотнул пива. Сердце у него колотилось, а ладони вспотели. Его охватили одновременно изумление и трепет, радостное возбуждение и страх неизвестного, восторг и неверие собственным глазам. Тревису хотелось смеяться от того, что никогда раньше не приходилось видеть ничего подобного, и плакать, потому что только несколько часов назад жизнь представлялась ему тоскливой, мрачной и бессмысленной. Но теперь он понял: несмотря на удары судьбы, жизнь драгоценна. Ему начинало казаться, что сам Господь послал ему ретривера, чтобы пробудить в нем интерес к жизни и напомнить: в мире есть чему удивляться и отчаиваться не стоит. Тревис начал было смеяться, но его смех перемешивался с рыданиями. Когда же он разрыдался, его рыдания прозвучали как смех. Тревис пытался встать, но понял, что не удержится на ногах, ему ничего не оставалось, как плюхнуться обратно на стул и сделать большой глоток пива. Наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, пес наблюдал за ним, как бы соображая, не сошел ли с ума его хозяин. «Сошел, — признался себе Тревис. — Только это было давно. А сейчас мне намного лучше». Он поставил банку на стол и тыльной стороной ладони вытер набежавшие на глаза слезы. — Иди сюда, мохнатая морда. Поколебавшись, ретривер подошел к нему. Тревис потрепал его густую шерсть и почесал за ухом. — Ты удивляешь и пугаешь меня. Не могу понять, откуда ты взялся и почему ты такой умный, но появился ты в самый подходящий момент. Вопросительный знак, а? Господи Иисусе. Ладно. Хочешь узнать, почему жизнь потеряла для меня радость и смысл? Я расскажу. Клянусь Богом, буду сидеть вот здесь, пить пиво и рассказывать это собаке. Но сначала… я дам тебе имя. Пес выдохнул через ноздри, как бы говоря: «Давно пора». Держа ладонями его голову и глядя ему прямо в глаза, Тревис сказал: — Эйнштейн. Отныне, мохнатая морда, твоя кличка — Эйнштейн.* * *
В 21.1 °Cтрек позвонил опять. Не успел зазвонить телефон, как Нора резко схватила трубку, полная решимости сказать ему, чтобы он оставил ее в покое. Но почему-то она опять сжала трубку и потеряла дар речи. Отвратительно фамильярным голосом Стрек произнес: — Скучаешь, лапочка? А? Хочешь я приду к тебе и буду твоим мужчиной? Нора бросила трубку на рычаг. «Что со мной случилось? — спросила она себя. — Почему я не могу сказать, чтобы он не приставал ко мне?» Возможно, ее оцепенение происходит из-за тайного желания слушать, как голос, принадлежащий любому мужчине, даже такому отвратительному, как Стрек, называет ее хорошенькой? Хотя он явно не тот человек, который способен на нежность или настоящее чувство, но, возможно, слушая его, Нора представляет, как это бывает, когда достойный мужчина говорит нежные слова женщине. «Ну, уж хорошенькой тебя не назовешь, — сказала она сама себе, — и ты никогда ею не станешь, поэтому хватит распускать нюни. Когда он позвонит в следующий раз, пошли его подальше». Нора встала с постели и пошла через холл в ванную, где висело зеркало. По традиции, заведенной еще при Виолетте Девон, зеркала в доме были только в этих комнатах. Нора не любила смотреться в зеркало: то, что там отражалось, огорчало ее. В этот вечер, однако, ей захотелось взглянуть на себя. Лесть Стрека, грубая и неискренняя, разбудила в ней любопытство. Не то чтобы Нора надеялась увидеть в зеркале что-то такое, что раньше не замечала. Нет. Превратиться за ночь из гадкого утенка в прекрасного лебедя… это была безнадежная мечта. Скорее она хотела удостовериться в собственной непривлекательности. Непрошеные ухаживания Стрека взбудоражили Нору, привыкшую к домашней обстановке и одиночеству, и ей необходимо было убедить себя в том, что он просто дразнит ее и дальше слов не пойдет. Так Нора уговаривала себя, входя в ванную и зажигая свет. Узкое помещение комнаты было сплошь выложено бледно-голубым кафелем с белым бордюром. Огромная ванна на ножках-лапах. Белый фаянс и латунные краны. Большое зеркало слегка помутнело от времени. Нора посмотрела в зеркало на свои волосы, которые Стрек назвал красивыми, темными и блестящими. Они были ровного оттенка и не имели естественного блеска, разве что засалились немного, хотя она и мыла их сегодня утром. Быстрым взглядом Нора окинула брови, нос, подбородок, губы. Задумчиво проведя по лицу рукой, она не увидела ничего такого, что могло бы заинтересовать мужчину. Наконец, сделав над собой усилие, Нора посмотрела своему отражению в глаза, которые так расхваливал Стрек. Они имели отвратительный серый оттенок. Нора не могла выдерживать собственный взгляд более нескольких секунд. В глазах она увидела не свойственный ей гнев, вызванный ее поведением, гнев на саму себя. Злиться, конечно, не следовало: Нора была такая от природы, тут уж ничего не поделаешь. Отведя взгляд от покрытого пятнами зеркала, она ощутила приступ разочарования: изучение собственного отражения не принесло ей никаких приятных неожиданностей. В ту же секунду, однако, Нора ужаснулась этому чувству. Стоя в дверях ванной, она удивлялась той каше, которая была у нее в голове. Она что, хочет понравиться Стреку? Конечно, нет. Он подлый, опасный извращенец. Возможно, Нора не возражала бы, если бы на нее благосклонно взглянул другой мужчина, но только не Стрек. Она должна упасть на колени и благодарить Бога за то, что он создал ее именно такой. Если бы Нора была хоть чуточку привлекательной, Стрек уже выполнил бы свои угрозы. Он пришел бы сюда и изнасиловал ее… а может быть, и убил. От такого, как Стрек, всего можно ожидать. Кто знает, на что он способен? Мысль об убийстве пришла ей в голову не потому, что Нора была нервной старой девой, нет, просто сейчас ужас что творится — все газеты только и пишут об этом. Осознав свою беззащитность, она поспешила назад в спальню, где оставила тесак.* * *
Большинство людей полагают, что с помощью психоанализа можно стать счастливее. Они уверены в том, что смогут преодолеть все свои проблемы и обрести спокойное состояние духа, если поймут собственную психологию, причины плохого настроения и саморазрушительного поведения. Тревис, однако, знал: это не так. На протяжении многих лет он подвергал себя беспощадному самоанализу и давно уже понял, почему превратился в одиночку, неспособного завести друзей. Но несмотря на это понимание, Тревис так и не смог ничего в себе изменить. Сейчас, когда близилась полночь, он сидел на кухне, пил очередную банку пива и рассказывал Эйнштейну о своей добровольной изоляции. Собака неподвижно сидела рядом, не шевелясь и не зевая, как будто была поглощена его историей. — Я одинок с самого детства, хотя, конечно, у меня были приятели. Просто я всегда предпочитал свое собственное общество. Думаю, это у меня от природы. Я имею в виду, что, будучи мальчишкой, я еще не пришел к выводу о том, что дружба со мной представляет опасность для моих сверстников. Мать Тревиса умерла при родах, и он знал об этом с раннего возраста. Наступит время, и ее уход покажется предзнаменованием будущих событий, и тогда он поймет всю его важность, но это произойдет позже. Ребенком Тревис не испытывал чувства вины. Оно пришло к нему в десятилетнем возрасте. Когда погиб его брат Гарри. Он был на два года старше Тревиса. Одним июньским утром, в понедельник, Гарри уговорил Тревиса пойти за три квартала на пляж, хотя отец строго-настрого запретил им купаться без него. Это был небольшой, окруженный скалами участок моря, где не было спасательной станции и где, кроме них, никого не оказалось. — Гарри попал в подводное течение, — сказал Тревис Эйнштейну. — Мы плавали самое большое футах в десяти друг от друга, и проклятое течение зацепило его и затащило на глубину, а я остался цел. Я даже попытался спасти его — и уж, наверно, должен был попасть на то же самое место, но течение, видимо, изменило направление после того, как утащило Гарри. Он долго не сводил глаз с поверхности кухонного стола, но вместо красного пластика видел катящиеся зелено-голубые предательские морские волны. — Я любил своего старшего брата больше всех на свете. Эйнштейн тихо заскулил, как бы выражая соболезнование. — Никто не винил меня в гибели Гарри. Из нас двоих он был старший. Он должен был отвечать за меня. Но я… я думал тогда, что, раз течение утащило брата, оно должно было утащить и меня. Прилетевший с запада ночной ветер постучал в оконное стекло. Сделав глоток пива, Тревис сказал: — Однажды летом, когда мне исполнилось четырнадцать, я был одержим страстным желанием попасть в теннисный лагерь. Я тогда очень увлекался спортом. В общем, отец записал меня в один лагерь под Сан-Диего на интенсивный месячный курс. Он повез меня туда в воскресенье, но мы так и не доехали. К северу от Оушенсайда водитель грузовика заснул за рулем, выехал на осевую и снес нас с дороги начисто. Отец умер мгновенно. Перелом шеи, позвоночника, открытые травмы черепа, грудная клетка смята. Я сидел на переднем сиденье рядом с ним, но отделался несколькими порезами, ушибами и двумя сломанными пальцами. Пес внимательно смотрел на него. — История повторилась. Мы оба должны были погибнуть, но я остался цел. И мы вообще бы не поехали, если бы я не завелся с этим лагерем. На этот раз я почувствовал, что влип. Возможно, меня нельзя винить в кончине матери, умершей при родах, и, вероятно, я не был виноват в гибели Гарри, но это… В общем, становилось ясно: я приношу несчастье, и другим людям небезопасно иметь дело со мной. Все, кого я любил, по-настоящему любил, обязательно умирали. Только ребенок мог убедить себя в том, что именно он повинен во всех этих трагических событиях. Но Тревис ведь и был, в сущности, ребенком в свои четырнадцать лет, а кроме того, это было самое подходящее объяснение. Он был слишком юн, чтобы понять: за природой несчастий и злого рока не стоит какого-либо определенного умысла. Поэтому Тревис сказал себе, что он проклят и если будет заводить близких друзей, то тем самым приговорит их к преждевременной смерти. Будучи по характеру «самокопателем», Тревис без особых трудностей погрузился в себя и удовлетворился собственным обществом. К двадцати четырем годам, когда Тревис закончил колледж, он превратился в законопослушного одиночку, хотя, повзрослев, относился к смерти своих родных по-иному. Он уже не думал о себе как об источнике несчастий и не винил в случившемся. Но так и не завел близких друзей, отчасти из-за неумения создавать и поддерживать дружеские отношения, отчасти из-за того, что без близких друзей он становился неуязвим для переживаний и горя в случае их потери. — Привычка и самозащита стали основой моей эмоциональной изоляции, — сказал он Эйнштейну. Пес поднялся и приблизился к нему на те несколько футов, которые разделяли их. Он протиснулся между колен Тревиса и положил голову ему на бедро. Поглаживая собаку, Тревис продолжал: — После окончания колледжа я не знал, чем заняться. Тут подоспел набор в армию, и я пошел, прежде чем получил повестку. Специальные войска. Мне там нравилось. Может быть, оттого, что… ну, в общем, там было чувство братства, и я был вынужден обзавестись друзьями. Понимаешь, я делал вид, что не хочу ни с кем сближаться, но там просто некуда было деться. Потом я решил остаться в армии. Когда формировалась группа «Дельта» по борьбе с терроризмом, я подался туда. Ребята в «Дельте» были крутые, настоящие парни. Они прозвали меня Немой и Гарпо,[83] потому что я был молчун, но друзья у меня появились вопреки мне самому. Во время одиннадцатой по счету операции наш взвод вылетел в Афины для освобождения посольства США от захватившей его группы палестинских экстремистов. Они уже убили восьмерых работников посольства и продолжали расстреливать каждый час по одному заложнику. На переговоры палестинцы не шли. Мы атаковали их быстро, аккуратно… и неудачно. Они заминировали все здание. Девять парней из взвода погибли. Я был единственным, кто уцелел. С пулей в бедре. И с шрапнелью в заднице. Но уцелел. Эйнштейн поднял голову с бедра Тревиса. Ему показалось, что пес смотрит на него с сочувствием. Может быть, он увидел то, что ему хотелось увидеть. — Это было восемь лет назад, когда мне исполнилось двадцать восемь. Потом я демобилизовался. Вернулся домой в Калифорнию. Получил лицензию агента по торговле недвижимостью: не знал, чем заняться, и решил пойти по стопам отца. Мне это здорово удавалось, возможно, потому, что было наплевать, покупают ли дома, которые я показываю, или нет. Я вообще не вел себя как продавец. Но факт оставался фактом — я так преуспел, что стал брокером, открыл свою контору, нанял агентов… На этом поприще Тревис и встретился с Паулой. Она была высокой красивой блондинкой, умной и веселой. Паула умела так хорошо продавать недвижимость, что говорила в шутку, будто в прошлой жизни, наверное, была среди голландских колонистов, когда те покупали Манхэттен у индейцев в обмен на бусы и побрякушки. Она была без ума от Тревиса. Так ему и говорила: — Мистер Корнелл, сэр, я без ума от вас. Вы прекрасно справились со своей ролью без слов. Это лучшая имитация Клинта Иствуда,[84] которую мне когда-либо приходилось видеть. Тревис не сразу сошелся с Паулой. Нельзя сказать, что он боялся принести несчастье ей — тогда еще его детское суеверие не вернулось к нему с новой силой. Но Тревис не хотел подвергать себя риску испытать боль от очередной потери. Невзирая на все его сомнения, Паула не оставила Тревиса, и по прошествии некоторого времени он признался себе в том, что любит ее. Так сильно любит, что даже рассказал ей о своей игре со Смертью — о чем никогда и никому не рассказывал. — Послушай, — сказала Паула, — тебе не придется меня оплакивать. Я еще тебя переживу, потому что не привыкла сдерживать чувства. Свои собственные переживания я переношу на людей, которые меня окружают. Поэтому приготовься к тому, что я буду стоить тебе лет десять жизни. Они поженились без особой помпы четыре года назад, летом, сразу после того, как Тревис отметил свое тридцатидвухлетие. Он любил ее. Боже, как он любил ее! Обращаясь к Эйнштейну, Тревис сказал: — В день, когда мы поженились, Паула уже была больна раком. Но мы не знали об этом. Через десять месяцев она умерла. Пес опять положил морду ему на бедро. Какое-то время Тревис не мог заставить себя продолжать. Он выпил еще пива и погладил собаку по голове. Потом сказал: — После этого я попытался жить, как жил. Я всегда гордился тем, что ничто меня не может сломить, встречал трудности грудью — в общем, верил во все это дерьмо. Еще год управлял своей конторой по продаже недвижимости. Но бизнес потерял для меня всякий смысл. Два года назад я все продал и вырученные деньги положил в банк. Снял вот этот дом. Провел эти два года… в размышлениях. Стал пугливым. Ничего удивительного, а? Чертовски пугливым. Вернулся на круги своя, к тому, во что поверил еще мальчишкой. Будто это я опасен для всех, кто приближается ко мне. Но ты заставил меня измениться, Эйнштейн. Вывернул наизнанку. Клянусь, это так. Ты был послан для того, чтобы показать мне: жизнь полна таинственных, странных и чудесных вещей, и только дураки по своей воле отстраняются от этой жизни и смотрят, как она проходит мимо. Пес устремил на него полный внимания взгляд. Тревис взял банку, но она была пуста. Эйнштейн сбегал к холодильнику и принес еще одну. Беря жестянку из пасти собаки, Тревис спросил: — Теперь, когда ты слышал всю эту историю, что ты думаешь? Можно со мной иметь дело? Ты не боишься? Пес тявкнул. — Это что, означает «нет»? Эйнштейн улегся на спину, задрав лапы вверх, и подставил ему брюхо, как и в прошлый раз, когда согласился надеть ошейник. Отставив жестянку с пивом в сторону, Тревис встал из-за стола, опустился рядом с псом и погладил ему брюхо. — Ладно, — проговорил он, — ладно. Только не умирай. Не вздумай умирать, пока ты со мной.* * *
Телефон в доме Норы Девон зазвонил вновь в одиннадцать часов. Это был Стрек. — Ты в постели, лапочка? Она не ответила. — Хотела бы, чтобы я был рядом? Со времени предыдущего звонка Нора все размышляла о том, как с ним разговаривать, и придумала несколько угроз, которые, по ее разумению, могли подействовать на него. Она сказала: — Если вы не оставите меня в покое, я обращусь в полицию. — Нора, а ты спишь голая? Сидя в кровати, Нора выпрямилась и окаменела. — Я обращусь в полицию и скажу, что вы пытались… приставать ко мне. Клянусь, я так и сделаю. — Хотелось бы увидеть тебя голенькой, — сказал Стрек, не реагируя на ее угрозу. — Я солгу. Скажу, что подверглась из… изнасилованию. — Хочешь ощутить мои ладони у себя на груди, Нора? Тупые рези в животе заставили ее скорчиться. — Я попрошу телефонную компанию прослушать мой телефон, записать все разговоры и, таким образом, у меня будут доказательства. — Было бы здорово целовать тебя всю, Нора. Боли в животе усилились. Нору начинало трясти. Срывающимся голосом она выложила последнюю угрозу: — У меня есть револьвер. У меня есть револьвер. — Сегодня ты увидишь меня во сне, Нора, уверяю тебя. Тебе приснится, как я целую тебя повсюду, все твое красивое тело… Она с силой опустила трубку на рычаг. Улегшись на бок, Нора сжала плечи, подтянула колени и обхватила себя руками. Рези в животе были чисто эмоциональной реакцией, вызванной страхом, яростью и невероятной безысходностью. Постепенно боли утихли. Страх исчез, и осталась только злость. Нора была настолько отстранена от внешнего мира и присущих ему отношений, так не приспособлена к общению с другими людьми, что просто не могла существовать вне своего дома, который, как крепость, защищал ее. В социальном смысле она была неграмотной. Нора не умела поддерживать вежливую беседу даже с Гаррисоном Дилвортом, адвокатом тети Виолетты и теперь ее, Нориным, адвокатом, когда им несколько раз пришлось вместе обсуждать дела о наследстве. Она отвечала на его вопросы односложно и сидела, опустив глаза вниз, не находя места своим холодным рукам, ужасно стесняясь. Боялась собственного адвоката! Если Нора робела в присутствии Гаррисона Дилворта, как она могла противостоять Арту Стреку? В будущем Нора уже никогда больше не отважится вызвать техника, что бы ни сломалось в доме — пусть все лучше развалится и рухнет, ведь следующий мастер может оказаться очередным Стреком или того хуже. По традиции, установленной еще теткой, Нора заключила договор с ближайшим супермаркетом на доставку продуктов, поэтому ей не надо было ходить в магазин, но теперь она будет опасаться впускать в дом даже посыльного; за все это время он ни разу не вел себя агрессивно, двусмысленно или оскорбительно по отношению к ней, но в один прекрасный день он может почувствовать ее уязвимость, как это произошло со Стреком. Нора ненавидела Виолетту Девон. С другой стороны, тетка права: Нора — мышь. И, как всем мышам, судьбой ей предназначено бежать, прятаться и отсиживаться в темноте. Ее ярость утихла, как до этого утихли боли в животе. На смену гневу пришло одиночество, и Нора беззвучно зарыдала. Позже, облокотившись головой о спинку кровати, промокая покрасневшие от слез глаза салфетками «Клинекс» и сморкаясь, она храбро решила покончить со своим отшельничеством. Нора найдет в себе силы и мужество вступить в более тесный контакт с внешним миром. Будет встречаться с другими людьми. Перезнакомится с соседями, от которых в большей или меньшей степени отгородилась Виолетта. Заведет друзей. Видит Бог, так и сделает. И Нора не позволит Стреку запугивать ее. Крометого, она научится решать и новые проблемы, которые могут возникнуть перед ней, и со временем превратится в совершенно другую женщину. Она обещает, что так и будет. Клянется всеми святыми. Нора подумала, не отключить ли телефон и таким образом обезоружить Стрека, но остаться без телефона было страшно. Что, если она проснется, услышит, как кто-то забрался в дом, и не успеет включить телефон в розетку? Прежде чем погасить свет и укрыться одеялом, Нора затворила дверь спальни и забаррикадировала ее с помощью кресла, подпиравшего дверную ручку. Уже лежа в постели, она убедилась, что в случае необходимости может быстро схватить тесак с ночного столика. Нора лежала на спине с открытыми глазами. Бледно-янтарный свет уличных фонарей проникал сквозь ставни в комнату. На потолке образовался узор из перемежающихся темных и золотистых полос, как будто над ее кроватью в вечном прыжке распростерся огромный тигр. Теперь, наверное, ей всегда будет нелегко засыпать. Интересно, найдется ли когда-нибудь человек в том большом мире, куда она поклялась войти, способный заботиться о ней, полюбить ее? Разве нет на свете никого, кто смог бы полюбить мышку и нежно с ней обращаться? Где-то далеко за окном прозвучал гудок поезда на пустой, холодной и скорбной ноте.* * *
Винс Наско никогда не чувствовал себя таким занятым. Или таким довольным. Когда он позвонил по известному номеру в Лос-Анджелес, чтобы доложить об успешном выполнении задания в доме Ярбеков, ему приказали перейти в другую телефонную будку. Она находилась на Бальбоа-Айленд в бухте Ньюпорт, между магазинчиком, торговавшим замороженным йогуртом, и рыбным рестораном. Туда ему позвонила женщина с гортанным сексуальным и в то же время каким-то детским голосом. Она расспрашивала об убийстве обтекаемо, не называя вещи своими именами, а прибегая к эвфемизмам, которые в юридическом смысле нельзя использовать как доказательства. Женщина звонила из другого телефона, выбранного наугад, поэтому шансы на то, что разговор может быть прослушан, практически сводились к нулю. Но все-таки это был мир спецслужб и сыска, поэтому рисковать было нельзя. У женщины было для него задание. Глядя на автомобили, медленно ползущие мимо по узкой улице, Винс внимал женщине, которую никогда не видел и имени которой не знал. Она продиктовала ему адрес доктора Альберта Хадстона в Лагуна-Бич. Хадстон проживает там вместе с женой и шестнадцатилетним сыном. Ликвидации подлежат оба супруга, а судьбу подростка предстоит решить Винсу. Если удастся сделать так, чтобы тот остался в стороне, отлично. Но, если он заметит Винса или станет свидетелем происшедшего, его необходимо убрать. — На ваше усмотрение, — сказала женщина. Винс к этому моменту уже знал, что расправится с парнем, поскольку он извлекал тем больше пользы и энергии из преступления, чем моложе была жертва. Он уже давно не убивал по-настоящему молодого, и сейчас такая перспектива возбуждала его. — Хочу только подчеркнуть, — сказал голос в трубке, немного сбивая Винса с толку паузами между словами, — этот вариант необходимо осуществить достаточно быстро. Мы хотим, чтобы сегодня вечером все было сделано. Уже завтра конкурирующая фирма узнает о наших целях и попытается помешать нам. Винс понял, что под «конкурирующей фирмой» подразумевается полиция. Ему платили за ликвидацию трех докторов — никогда раньше он не убивал людей этой профессии, — и Винс догадывался, что между этими преступлениями существует связь, о которой, в свою очередь, догадается полиция, когда обнаружит труп Вэтерби в багажнике автомобиля и изуродованное тело Элизабет Ярбек в спальне. Винс не знал, что это за связь, потому что никогда ничего не знал о своих жертвах, да и никогда не интересовался. Так было безопаснее. Но полиция протянет ниточку от Вэтерби к Ярбек и от этих двоих к Хадстону, так что если Винс не прихлопнет Хадстона сегодня, то уже завтра полиция предоставит ему охрану. Винс сказал: — Можно спросить… Вы хотите, чтобы этот вариант был выполнен так же, как и предыдущие два? Вам нужен почерк? Он подумывал о том, не сжечь ли дом Хадстонов вместе с трупами, чтобы спрятать следы. — Почерк должен быть обязательно, — сказала женщина. — Один и тот же во всех вариантах. Нам необходимо, чтоб те, кто надо, знали: мы не сидим без дела. — Понятно. — Мы должны дернуть их за нос, — сказала она и негромко рассмеялась. — Посыпать соль на рану. Винс повесил трубку и отправился обедать в «Веселый Роджер». Винс заказал овощной суп, гамбургер, поджаренный картофель, лук, запеченный колечками в тесте, шинкованную капусту, кусок шоколадного торта с мороженым и после некоторого раздумья порцию яблочного пирога. Все это он запил пятью чашками кофе. Винс всегда обильно ел, но после удачно выполненного задания аппетит его усиливался многократно. Честно говоря, даже покончив с яблочным пирогом, он не почувствовал сытости. Понятное дело. Всего за один день Винс вобрал в себя жизненную энергию Дэвиса Вэтерби и четы Ярбек, и теперь ему требовалось топливо, как форсированному спортивному двигателю. Его метаболизм стоял на высшей передаче; ему понадобится еще топливо, пока организм не зарядит энергией биологические аккумуляторы для последующего использования. Способность поглощать жизненные силы людей, которых Винс убивал, и являлась Даром, отличавшим его от всех остальных людей. Благодаря этому Дару Винс всегда будет полон сил, бодрости и обладать хорошей реакцией. Он будет жить бесконечно. Винс никогда не открывал тайну своего необыкновенного Дара ни женщине с гортанным голосом, ни другим своим работодателям. На свете слишком мало людей, имеющих достаточно воображения для того, чтобы всерьез отнестись к такой поразительной способности. Винс держал свой секрет при себе: он боялся, что его сочтут ненормальным. Выйдя из ресторана, Винс немного постоял на тротуаре, с наслаждением вдыхая свежий морской воздух. Со стороны бухты дул прохладный ночной ветер, взметая обрывки бумажек и пурпурные лепестки джакаранд по мостовой. Винс чувствовал необыкновенный прилив сил. Он ощущал себя такой же составной частью природы, как море и ветер. Из Бальбоа-Айленд он поехал в Лагуна-Бич. В 23.20 он припарковал свой микроавтобус через улицу напротив дома Хадстонов. Одноэтажное строение стояло высоко на одном из холмов, откуда открывался прекрасный вид на океан. Два окна в доме светились. Винс пролез между передними сиденьями назад в глубину машины и стал ждать, когда Хадстоны улягутся спать. Покинув дом Ярбеков, он сменил синий костюм на серые слаксы, белую рубашку и темно-бордовый свитер, поверх которого он надел темно-синюю нейлоновую ветровку. Сидя в темной машине, Винс коротал время, доставая орудия своего ремесла из картонной коробки, где они были спрятаны под двумя батонами хлеба, упаковкой туалетной бумаги из четырех рулонов и другими предметами, создававшими впечатление, будто он только что вышел из магазина. Его «вальтер-38» был полностью заряжен. Закончив дело в доме Ярбеков, он навинтил на ствол новый глушитель — в два раза короче прежнего. Винс отложил пистолет в сторону. У него был нож с шестидюймовым выкидным лезвием. Его он засунул в боковой карман брюк. Свернув проволочную удавку в кольцо, Винс засунул ее в левый наружный карман куртки. В правый положил мешочек со свинцовой дробью. Вообще-то он собирался воспользоваться только пистолетом. Однако Винс любил быть готовым ко всяким неожиданностям. На некоторых заданиях он использовал пистолет «узи», который подпольно переделал для стрельбы очередями. Но сегодняшнее поручение не требовало тяжелого вооружения. У него был еще небольшой кожаный мешочек, размером в половину бритвенного набора, где он хранил отмычки. Винс не стал их осматривать. Возможно, они ему вообще не понадобятся, поскольку большинство людей удивительно беззаботно относятся к безопасности своих жилищ, оставляя на ночь незапертыми окна и двери, как будто живут в квакерской деревне девятнадцатого века. В 23.40 Винс просунул голову между спинками передних сидений и сквозь боковое стекло посмотрел на дом Хадстонов. Все огни были погашены. Они легли спать. Чтобы дать им время уснуть, Винс опять уселся на прежнее место и, грызя шоколадку, стал прикидывать, как распорядиться сегодняшним немалым заработком. Ему давно хотелось купить реактивные водные лыжи, на которых можно кататься без помощи катера. Он любил океан. В нем было что-то притягательное; Винс умел обращаться с волнами и чувствовал душевный подъем, когда превращался в одно целое с огромными, поднимающимися почти вертикально массами воды. Ему нравились подводное плавание, парусный спорт и серфинг. Еще подростком он проводил на берегу гораздо больше времени, чем в школе. Да и взрослым Винс часто плавал на доске при хорошей волне. Ему, правда, стукнуло уже двадцать восемь, и серфинг был для него пройденным этапом. Теперь он любил скорость. Винс мысленно представил себя, несущегося по темной, будто сланц, поверхности моря на реактивных лыжах, рассекая ветер и подпрыгивая на бесчисленных бурунах, усмиряя Тихий океан, как ковбой в родео усмиряет дикого мустанга… В 00.15 он вышел из машины, засунул пистолет за пояс и перешел через тихую, пустынную улицу, отделявшую его от дома Хадстонов. Через незапертую деревянную калитку Винс проник на открытую боковую веранду, освещенную лунным светом, пробивающимся через густую листву огромного кораллового дерева. Он остановился на минутку, чтобы надеть тонкие кожаные перчатки. Раздвижная стеклянная дверь вела с веранды в гостиную. Она была заперта. При свете карманного фонарика Винс увидел: на нижнем полозе двери лежит деревянный упор, для того чтобы створку нельзя было отодвинуть. Хадстоны оказались более осторожными людьми, чем можно было предполагать, но Винсу было все равно. Он приставил небольшую резиновую присоску к стеклу, алмазным резцом обвел ее по окружности и бесшумно вынул вырезанный стеклянный кружок около дверной ручки. Просунув руку в отверстие, открыл замок. Затем вырезал еще один кружок у порога и через него вытолкнул деревянный упор в комнату. Насчет собак Винс не беспокоился. Женщина с сексуальным голосом сказала ему, что Хадстоны не держат домашних животных. Это был один из тех моментов, которые нравились Винсу в его работодателях: их информация была подробной и аккуратной. Отодвинув дверь, он проскользнул через задернутые шторы в темную гостиную. Давая своим глазам привыкнуть к темноте, Винс постоял несколько мгновений, прислушиваясь. В доме было тихо, как в могиле. Сначала он нашел комнату сына. Ее освещал зеленый отсвет от электронных часов, вмонтированных в радиоприемник. Подросток спал на боку, слегка похрапывая. Шестнадцать лет. Молоденький. Винс любил, когда ему попадались молоденькие. Он обошел кровать и присел так, что оказался лицом к лицу со спящим. Зубами Винс стащил левую перчатку и, держа пистолет в правой руке, приставил дуло ему под подбородок. Парень мгновенно проснулся. Винс сильно ударил его левой рукой по лбу и одновременно нажал на курок. Пуля прошила мягкие ткани под подбородком и застряла в мозге. Смерть наступила мгновенно. «Ссссснап». Сгусток энергии вырвался из умирающего тела и был моментально поглощен Винсом. Это была такая чистая и живая энергия, что он даже застонал от удовольствия, чувствуя, как она наполняет его. На мгновение Винс задержался у кровати, не смея сдвинуться с места, опьянев и задыхаясь. Наконец он поцеловал мертвого подростка в губы и сказал: — Принимаю. Спасибо. Принимаю. Как кошка, быстро и бесшумно, он прокрался через дом и нашел супружескую спальню. Зеленое сияние от электронных часов и свет ночника, проникавший через открытую дверь ванной, достаточно хорошо освещали комнату. Супруги Хадстон спали. Винс убил первой жену. «Ссссснап». Муж так и не проснулся. Женщина спала голышом. Получив от нее жертву, он прислонил ухо к обнаженной груди, чтобы услышать, как перестало биться сердце. Затем поцеловал соски и прошептал: — Спасибо. Обойдя вокруг кровати, Винс включил лампу на ночном столике и разбудил доктора Хадстона. Сначала тот не мог понять, в чем дело. Пока не увидел мертвые глаза жены. Тогда Хадстон закричал и вцепился Винсу в плечо, и пришлось дважды ударить его рукояткой пистолета. Винс оттащил обнаженное тело Хадстона в ванную комнату. Как и раньше, он нашел пластырь и связал потерявшего сознание доктора по рукам и ногам. Наполнив ванну холодной водой, он перевалил в нее Хадстона. Доктор очнулся. Несмотря на наготу и путы, Хадстон попытался вскочить и навалиться на Винса. Тот ударил его пистолетом в лицо и толкнул обратно в воду. — Кто ты такой? Чего тебе надо? — произнес Хадстон, отплевываясь. — Я убил твою жену и сына и собираюсь убить тебя. Глаза Хадстона, казалось, еще глубже ушли в его худое, бледное лицо. — Джимми? Только не Джимми, нет… — Твой сын мертв, — сказал Винс. — Я ему вышиб мозги. Это известие совершенно подкосило Хадстона. Он не зарыдал, не стал вслух оплакивать сына — ничего такого драматического. Но его глаза помертвели в одно мгновение. Как будто повернули выключатель. Хадстон продолжал смотреть на Винса, но в его взгляде уже больше не было ни страха, ни гнева. Винс сказал: — У тебя есть выбор: умереть легко или помучиться. Если расскажешь мне о том, о чем я хочу знать, умрешь быстро и небольно. Если заупрямишься, я могу растянуть это удовольствие на пять-шесть часов. Доктор Хадстон молча глядел на него. За исключением следов свежей крови, его лицо было очень бледным, белым, как кожа какого-то глубоководного существа. «Надеюсь, он не припадочный», — подумал Винс. — Я хочу знать, какая связь существует между тобой, Дэвисом Вэтерби и Элизабет Ярбек. Хадстон заморгал, стараясь сосредоточиться на вопросе. — Дэвисом и Лиз? Что вы имеете в виду? — Знаешь их? Хадстон кивнул. — Откуда ты их знаешь? Вместе учились в школе? Или жили рядом? Покачав головой, Хадстон сказал: — Мы… мы вместе работали в Банодайне. — Что такое Банодайн? — Исследовательский комплекс. Лаборатория. — Где это? — Здесь, в графстве Ориндж, — уточнил Хадстон. Он назвал адрес в Ирвин-сити. — Чем вы там занимаетесь? — Исследованиями. Но я ушел оттуда месяцев десять назад. А Вэтерби и Ярбек еще работают там. — Что это за исследования? Хадстон заколебался. Винс повторил: — Быстро и без боли или долго и мучительно? Доктор рассказал ему об исследованиях, которыми он занимался в Банодайне. Проект «Франциск». Эксперименты. С собаками. То, о чем он поведал, было невероятно. Винс заставил Хадстона повторить некоторые подробности три или четыре раза, прежде чем убедился: это правда. Вытянув из Хадстона все, что тот знал, Винс выстрелил ему в лицо — быстрая смерть, как и обещал. «Ссссснап». Сидя за рулем микроавтобуса и двигаясь по ночным холмам Лагуна-Хилла, прочь от дома Хадстонов, Винс думал об опасном шаге, который он только что предпринял. Обычно Винс ничего не знал о жертвах. Так было безопаснее и для него самого, и для его работодателей. Он не хотел знать, чем провинились эти несчастные люди, что им приходится так дорого платить. Возможно, за такое знание пришлось бы расплачиваться и самому Винсу. Но сейчас ситуация была не совсем обычная. Ему поручили убить трех докторов — но не врачей, а ученых, как теперь выяснилось, — все трое уважаемые граждане, а также членов их семей, попадавшихся на пути. Что-то здесь не так. В завтрашних газетах не хватит места для сообщений о случившемся. Происходит что-то очень большое и важное, настолько важное, что если Винс это вычислит, то это принесет ему невиданную удачу и небывалые деньги. Деньги можно получить за запретную информацию, которую он выудил из Хадстона… если, конечно, он правильно вычислит потенциального покупателя. Сведения такого рода — опасный товар. Знание вообще опасно — вспомнить хотя бы Адама и Еву. Если его теперешние работодатели — леди с сексуальным голосом и другие в Лос-Анджелесе узнают, что он нарушил основную заповедь своей профессии: допрашивал одну из жертв, то они наймут другого человека, который начнет охоту за Винсом. Правда, мысль о смерти не очень беспокоила его. Он накопил в себе достаточно жизненной энергии других людей. Винс был раз в десять более живуч, чем кошка. Он собирался жить вечно. Был почти уверен в этом. Но… не знал точно, сколько жизней ему нужно взять у других людей, чтобы обеспечить себе бессмертие. Иногда ему казалось, что он уже близок к цели. Но были моменты, когда Винс ощущал свою уязвимость и, следовательно, необходимость накопить больше жизненной энергии, прежде чем на него снизойдет желанное состояние собственной бесконечности. Пока он не убедится в том, что наконец взошел на свой Олимп, ему нужно проявлять определенную осторожность. Банодайн. Проект «Франциск». Если все, о чем рассказал ему Хадстон, было правдой, то риск, которому подвергался Винс, окупится сторицей, когда найдется нужный покупатель для этой информации. Винс скоро станет богатым человеком.* * *
Вэс Далберг уже десять лет жил один в каменной хижине в верхней части каньона Святого Джима на восточной границе графства Ориндж. Единственным источником освещения в его доме были переносные лампы «Коулман», а воду он получал с помощью ручной помпы, установленной над кухонной раковиной. Туалетом служило деревянное сооружение во дворе, стоящее футах в ста позади хижины, на двери которого была вырезана щербатая луна. Вэсу исполнилось сорок два года, но выглядел он старше своих лет. У него было обветренное и продубленное солнцем лицо. Вэс носил аккуратно подстриженную бородку и большие седые бакенбарды. Несмотря на старообразную внешность, он был крепким, как двадцатилетний мужчина. Вэс верил в то, что его хорошее здоровье — следствие жизни на природе. Вечером во вторник 18 мая он сидел за кухонным столом при серебристом свете шипящей лампы «Коулман», потягивая самодельную сливянку, и читал роман Джона Д. Макдональда. Сам себя Вэс называл «антисоциальным элементом, родившимся не в том веке» и не видел пользы в современном обществе. Но любил читать о таком персонаже, как Мак Ги, поскольку тот обретался в этом самом вонючем и ужасном мире и плыл поперек его гибельного течения. Когда к часу ночи Вэс дочитал книгу, он вышел наружу, чтобы принести дров для очага. Качающиеся на ветру ветки сикомор отбрасывали причудливые тени, а гладкие поверхности шуршащих листьев тускло поблескивали в лунном свете. Вдалеке слышался вой койотов, которые, наверное, охотились на зайца или другого зверька. В ближних кустах звенел хор насекомых, а в верхушках деревьев пел холодный ветер. Вэс хранил дрова в сарае, пристроенном к северной стене хижины. Он вытащил колышек, которым запирались двойные двери сарая. Вэс настолько хорошо знал, где лежат поленья, что прекрасно ориентировался в темноте, наполняя ими прочный железный лоток. Держа его двумя руками, Вэс вышел наружу, поставил лоток на землю и повернулся, чтобы запереть двери. Тут до него дошло, что и койоты, и насекомые вдруг внезапно умолкли. Был слышен только шум ветра. Нахмурившись, он повернулся лицом к лесу, темной стеной окружавшему вырубку, где стояла его хижина. До него донеслось рычание. Вэс скосил глаза на лес, который, казалось, стал еще темнее, чем минуту назад. Рычание было низким и злобным. За те десять лет, которые он провел здесь в одиночестве, ему никогда не приходилось слышать ничего похожего. То, что ощутил Вэс, можно было назвать любопытством, озабоченностью, но никак не страхом. Он стоял не шевелясь и прислушивался. Прошла минута, но все было тихо. Вэс закрыл двери сарая, засунул колышек на место и подхватил лоток с дровами. В этот момент опять раздалось рычание. Потом снова все затихло. Затем послышался треск сухих веток и шорох опавшей листвы под чьими-то шагами. Судя по звуку, кто-то двигался там, в лесу, ярдах в тридцати от Вэса. К западу от туалета. Рычание возобновилось, на этот раз громче. И ближе. Теперь уже ярдах в двадцати. Он не мог рассмотреть источник этих звуков. Луна спряталась за узкую гряду облаков. Прислушиваясь к этому утробному, с подвыванием, ворчанию, Вэс почувствовал, что ему становится не по себе. Впервые за десять лет обитатель каньона Святого Джима осознал, что подвергается опасности. С лотком поленьев в руках он заспешил к кухонной двери с задней стороны хижины. Шуршание и треск в кустах усилились. Существо там, в лесу, двигалось быстрее, чем раньше. Да оно просто бежало на него. Вэс тоже побежал. Рычание перешло в мощный злобный рык: причудливое сочетание звуков, которые одновременно могли издавать собака, кабан, кугуар, человек и еще что-то неведомое, но страшное. Преследователь уже нагонял Вэса. Забежав за угол хижины, он раскачал лоток и запустил им туда, где, по его предположению, находилось животное. Ему было слышно, как поленья застучали о землю, как сверху на них упал металлический лоток, но рык становился все громче и ближе, и Вэс понял, что промахнулся. Перепрыгнув через три ступеньки заднего крыльца, Вэс распахнул кухонную дверь, заскочил внутрь и захлопнул дверь. Затем он поспешно задвинул щеколду — мера предосторожности, к которой он не прибегал уже девять лет, с тех пор как убедился, что жизнь в каньоне абсолютно безопасна. Подбежав к передней двери, Вэс тоже запер ее на щеколду. Удивительно, что он так сильно испугался. Даже если там, снаружи, находился какой-то хищник — например, спустившийся с гор бешеный медведь, — он не сможет открыть дверь и войти в хижину. Не было нужды запирать двери изнутри, но, задвинув щеколды, Вэс почувствовал облегчение. Он действовал так, как подсказывал ему инстинкт. Проведя столько времени в общении с живой природой, Вэс знал: инстинктам надо доверять, даже если их следствием является иррациональное поведение. О'кей, теперь он в безопасности. Ни одно животное не сможет открыть дверь. Даже такое мощное, как медведь, а похоже, что это именно он. По правде, медведь не издает таких звуков. Это и напугало Вэса Далберга: рычание, которое он слышал там, снаружи, не могло принадлежать ни одному животному из здешних лесов. Он ведь знал все о зверях, живущих с ним по соседству, и мог отличать их завывания, крики и другие издаваемые ими звуки. Хижина сейчас освещалась только огнем, пылавшим в камине, а в углах лежали глубокие тени. Отсветы пламени бросали причудливые блики на стены. Впервые за все эти годы Вэс пожалел, что в доме нет электричества. У него было ружье 12-го калибра марки «ремингтон», с его помощью он пополнял запасы продовольствия, охотясь на мелкую дичь. Оно хранилось на полке в кухне. Он подумал, что не мешало бы достать и зарядить его, но, почувствовав себя в безопасности за запертыми дверями, вдруг устыдился собственной паники. Как какой-нибудь салага, прости Господи. Как житель пригорода, визжащий при виде полевой мыши. Если бы Вэс закричал и захлопал в ладоши, то наверняка отпугнул бы то животное в кустах. Даже с поправкой на инстинкт реакция на случившееся не соответствовала его собственному представлению о себе как об эдаком прошедшем огонь и воду скваттере. Если Вэс возьмется за ружье сейчас, он потеряет большую часть самоуважения, представлявшего для него огромную важность, поскольку единственное мнение, которым Вэс Далберг дорожил, было его собственное. Ружье отменяется. Вэс рискнул подойти к большому окну в комнате. Лет двадцать назад бывший хозяин заменил узкое окошко с частым переплетом на большое со сплошным стеклом, чтобы, очевидно, наслаждаться видом, открывавшимся из него. Несколько посеребренных лунным светом облаков, казалось, фосфоресцировали на фоне черного, как бархат, ночного неба. Рассеянный лунный свет падал на двор перед домом, скользил по радиаторной решетке, капоту и ветровому стеклу принадлежащего Вэсу джипа «Чероки» и призрачно освещал силуэты подступавших к вырубке деревьев. Там, за окном, ничего не двигалось, если не считать колыхания веток на несильном ветру. Минуты две Вэс изучал пейзаж. Не увидев и не услышав ничего необычного, он решил, что неизвестный зверь ушел. С чувством значительного облегчения и стыда за свое поведение Вэс отвернулся было от окна, но тут обратил внимание на какое-то движение около джипа. Он скосил глаза, ничего не увидел и на всякий случай простоял у окна еще пару минут. В тот момент, когда Вэс решил, что это ему почудилось, он опять заметил, как что-то движется позади автомобиля и приближается к стеклу. Что-то мчалось через двор к дому, прижимаясь к земле. Вместо того чтобы осветить как следует животное, лунный свет делал его еще более таинственным и бесформенным. Существо неслось прямо на хижину. Внезапно — Господи Иисусе! — оно поднялось в воздух, и Вэс увидел что-то странное, летящее прямо на него из темноты, и вскрикнул от ужаса. Мгновением позже мерзкая тварь с оглушительным треском влетела через окно, и Вэс закричал, но тут же захлебнулся собственным криком.* * *
Поскольку Тревис пил редко, три банки пива были для него хорошим средством от бессонницы. Он заснул через несколько секунд, едва его голова коснулась подушки. Ему приснилось, что он дрессировщик в цирке, а все животные, выступающие с ним на манеже, умеют разговаривать и после каждого представления рассказывают ему какой-то свой удивительный секрет, о котором он успевает забыть, подойдя к следующей клетке. В четыре часа утра Тревис проснулся и увидел, что Эйнштейн стоит у окна, поставив передние лапы на подоконник, и внимательно смотрит в темноту. — Что случилось, малыш? — спросил Тревис. Собака взглянула на него, а затем вновь устремила взгляд в ночь за окном. — Там кто-то есть? — Тревис встал с постели и натянул джинсы. Пес опустился на четыре лапы и выбежал из спальни. Последовав за ним, Тревис обнаружил, что он смотрит уже в окно гостиной. Опустившись на корточки рядом с ретривером и положив руку на его широкую мохнатую спину, Тревис спросил: — В чем дело, а? Эйнштейн прижал нос к стеклу и нервно заскулил. Посмотрев в окно, Тревис не заметил ничего угрожающего ни на лужайке перед домом, ни на улице. Вдруг его осенило, и он спросил: — Ты разволновался из-за того существа, которое вчера гналось за тобой в лесу? Пес посмотрел на него серьезными глазами. — Что это было там, в лесу? — спросил Тревис. Собака заскулила и передернулась. Вспомнив сильный страх, охвативший ретривера и его самого в предгорьях Санта-Аны, пережитое им жуткое ощущение того, что их преследует что-то сверхъестественное, Тревис почувствовал: его тоже начинает бить дрожь. Он стал всматриваться в ночь за окном. Через острые листья пальм просвечивал бледно-желтый свет от ближайшего уличного фонаря. Порывистый ветер закручивал небольшие вихри из дорожной пыли, опавших листьев и мелкого мусора, тащил их по мостовой, опускал на землю и через несколько секунд поднимал вновь. Ночная бабочка мягко билась в стекло прямо напротив лица Тревиса, очевидно, принимая отражение луны или уличного фонаря за живой огонь. — Ты полагаешь, что это существо все еще идет за тобой? — спросил Тревис. Эйнштейн негромко тявкнул. — Знаешь, я так не думаю, — сказал Тревис. — Ты, наверное, не понимаешь, как далеко мы уехали от того места. Мы-то были на колесах, а ему пришлось бы передвигаться своим ходом — не уверен, что это возможно. Я не знаю, что это было, но оно осталось далеко позади, Эйнштейн, там, в графстве Ориндж, и уж, конечно, не знает, куда мы подевались. Пусть тебя это больше не волнует. Понимаешь? Пес ткнулся носом в руки Тревиса и лизнул их, как бы выражая благодарность за поддержку. Через секунду, однако, он опять взглянул в окно и тихо заскулил. Тревису пришлось уговаривать его вернуться в спальню. Там ретривер захотел лечь на кровать рядом со своим хозяином, и, желая успокоить животное, Тревис не стал протестовать. Под козырьком крыши бормотал и стонал ветер. Время от времени дом потрескивал, оседая. Тихо урча мотором и шелестя шинами, мимо дома проехал автомобиль. Уставший от эмоциональных и физических потрясений дня, Тревис вскоре уснул. Незадолго до рассвета он на мгновение проснулся и увидел, что Эйнштейн стоит на страже на том же месте у окна. Полусонным голосом Тревис позвал пса и похлопал ладонью рядом с собой, но тот не оставил своего поста, а Тревис опять погрузился в сон.Глава 4
На следующий день после встречи с Артом Стреком Нора Девон отправилась на прогулку, намереваясь осмотреть районы города, где ей еще не приходилось бывать. Когда была жива Виолетта, она совершала прогулки раз в неделю. С тех пор как старуха умерла, Нора делала вылазки из дома, но уже не так часто, и уж никогда не удалялась от него дальше чем на шесть-восемь кварталов. Сегодня она собиралась уйти гораздо дальше. Это станет первым маленьким шагом на длинном пути к свободе и самоуважению. Еще находясь дома, Нора подумала, что зайдет по дороге в какой-нибудь ресторан и съест легкий ленч. Она, правда, никогда не была в ресторане. Ей там придется разговаривать с официантом и сидеть за столом в компании незнакомых людей: такая перспектива напугала ее. Поэтому Нора взяла небольшой бумажный пакет и положила туда яблоко, апельсин и два овсяных кекса. Она поест в одиночестве, пристроившись где-нибудь в парке. Даже это будет революционным по значению шагом. Маленьким шагом к свободе. Погода стояла теплая, и небо было безоблачным. Покрытые весенней листвой деревья выглядели необычайно свежими; они слегка колыхались на слабом ветру, не позволяя жарким лучам иссушить их. Проходя мимо ухоженных домов, большинство из которых были построены в испанском стиле, она всматривалась в двери и окна, с неожиданно возникшим любопытством спрашивала себя: «Что за люди живут в этих домах? Счастливы ли они? Печальны? Любят ли они друг друга? Какая музыка и какие книги им нравятся? Что они едят? Хотят ли они провести отпуск в каком-нибудь экзотическом месте, пойти вечером в театр или ночной клуб?» Нора никогда раньше не проявляла интереса к этим людям, так как знала: их пути никогда не пересекутся. Интересоваться тем, как они живут, означало просто терять время. Но сейчас… Когда ей кто-нибудь попадался навстречу, она по старой привычке опускала голову и отворачивала лицо, но, погуляв немного, нашла в себе мужество смотреть прохожим в глаза. К ее удивлению, многие из них улыбались и здоровались с ней. Спустя некоторое время Нора с еще большим удивлением обнаружила, что отвечает им тем же. Около здания окружного суда она задержалась, чтобы полюбоваться желтыми цветами юкки и ярко-красными бугенвиллеями, взбирающимися по оштукатуренной стене и вплетающимися в узорчатую чугунную решетку на одном из высоких окон. Дойдя до миссионерской церкви Санта-Барбары, построенной в 1815 году, Нора остановилась у входных ступенек и осмотрела красивый фасад старинного храма. Затем походила по церковному двору, заглянула в Священный Сад и поднялась на колокольню. Постепенно Нора начала понимать, почему во многих из прочитанных ею книг Санта-Барбара называлась в числе самых красивых мест на земле. Она прожила здесь почти всю свою жизнь, но оттого, что сидела безвылазно в доме Виолетты Девон, а если и выходила, то смотрела только себе под ноги, Нора, как оказалось по-настоящему видела город в первый раз. Он очаровал и восхитил ее. В час дня Нора присела на скамье у пруда в парке Аламеда в тени трех огромных старых пальм. Ноги у нее ныли, но она не собиралась возвращаться домой. Нора открыла бумажный пакет и начала ленч с желтого яблока. Никогда не было так вкусно. Она очень проголодалась, быстро съела еще и апельсин, бросив кожуру обратно в бумажный мешок, и принялась было за кекс, как вдруг рядом с ней на скамейку сел Артур Стрек. — Привет, лапочка. На нем красовались синие шорты, кроссовки и толстые белые носки, которые носят спортсмены. Было очевидно, что он не бегал, так как совсем не вспотел. Это был мускулистый, с широкой грудной клеткой, загорелый самец. Он вырядился так специально, и Нора сразу отвела от него глаза. — Стесняешься? — спросил Стрек. Она не могла ответить ему, потому что не успела еще проглотить кусок кекса, который откусила перед его появлением. У нее во рту вдруг исчезла слюна. Нора хотела проглотить этот кусок, но испугалась, что подавится, выплюнуть постеснялась. — Моя сладкая, застенчивая Нора, — сказал Стрек. Опустив глаза, Нора увидела, как сильно дрожит правая рука. Кекс раскрошился у нее в пальцах, и крошки сыпались ей под ноги. Нора отправилась на эту прогулку, предполагая пробыть целый день в городе и, таким образом, сделать первый шаг на пути собственной независимости, но сейчас ей пришлось сознаться себе в том, что она хотела выбраться из дома еще по одной причине: надеялась избавиться от приставаний Стрека. Нора боялась оставаться дома, опасаясь, что Стрек будет без конца звонить ей. И вот теперь он нашел ее здесь, на улице, где ее не защищали запертые окна и закрытые на щеколду двери, и это было гораздо хуже, чем домогательства по телефону, гораздо хуже. — Посмотри на меня, Нора. — Нет. — Посмотри на меня. Последняя крошка кекса выпала из ее пальцев. Стрек взял ее левую ладонь в свою. Нора попыталась вырваться, но он сдавил ее руку, перебирая ее пальцы, и она сдалась. Стрек приложил ее ладонь к своему обнаженному бедру. Его плоть была твердой и горячей. В животе у нее появилось противное ощущение, сердце заколотилось, и Нора уже не могла понять, что произойдет раньше: ее стошнит или она упадет в обморок. Медленно двигая ее ладонь вдоль своего бедра, Стрек сказал: — Я тот человек, который тебе нужен, лапочка. Я позабочусь о тебе. Кекс во рту склеил ей челюсти. Голова ее была опущена, но Нора подняла глаза и взглянула исподлобья, надеясь увидеть кого-нибудь, к кому могла бы обратиться за помощью, — поблизости никого не оказалось. Две молодые дамы, гуляющие с маленькими детьми, были слишком далеко, чтобы помочь ей. Все еще сжимая Норину ладонь, Стрек переставил ее на свою обнаженную грудь. — Хорошо погуляла сегодня? Тебе понравилась миссионерская церковь, а? А какие прекрасные цветы юкки у окружного суда, не правда ли? Своим негромким наглым голосом он расспрашивал ее о впечатлениях от увиденных ею достопримечательностей, и Нора поняла, что все утро он следил за ней, пешком или из машины. Она его не видела, но Стрек, без сомнения, был где-то рядом, поскольку знал о всех ее передвижениях, с тех пор как Нора вышла из дома. Это напугало и разозлило ее больше, чем все остальные гадости, которые он успел до сих пор наделать. Нора дышала тяжело и часто, но ей все равно не хватало воздуха. В ушах у нее зазвенело, но она отчетливо слышала каждое его слово. Готовая ударить Стрека, вцепиться ему в глаза, Нора тем не менее пребывала в каком-то оцепенении, ярость наполняла ее силой, а страх эту силу отнимал. Ей хотелось кричать, но не о помощи, а от отчаяния. — Ну вот, — сказал Стрек, — теперь ты нагулялась, подкрепилась на природе и расслабилась. Знаешь, что было бы сейчас лучше всего? Чтобы день завершился как надо, лапочка? Как праздник? Надо сесть в мою машину, поехать к тебе домой, в твою желтую комнату, забраться в твою кровать с балдахином… Так Стрек был в ее спальне! Наверное, вчера, когда должен был в гостиной чинить телевизор, он прокрался наверх, ублюдок, в ее убежище и совал нос в ее вещи! — …в эту большую старинную кровать, где я сниму с тебя одежду, золотце, и трахну… Нора и потом не могла понять, что придало ей смелости: ужас от того, что он проник в ее единственное убежище, или от того, что он впервые за все это время произнес похабное слово, или то и другое вместе, но она вскинула голову, обожгла его взглядом и выплюнула содержимое своего рта ему в лицо. Крошки не до конца пережеванной пищи прилипли к его правой щеке, веку и боковой стороне носа. Мокрые крошки овсяного теста застряли в волосах и испещрили его лоб. Увидев, как ярость зажглась в глазах Стрека и исказила его лицо, Нора испугалась содеянного. Одновременно все внутри у нее пело от сознания того, что ей удалось стряхнуть с себя эмоциональный паралич, пусть даже ей придется за это поплатиться. Расплата последовала незамедлительно. Все еще продолжая держать Нору за руку, Стрек так сдавил ей ладонь, что у нее хрустнули пальцы. Ей было ужасно больно. Но она не желала плакать ему на потеху, поэтому сжала зубы и терпела. На лбу у Норы выступили капельки пота, и она чувствовала, что теряет сознание. Хуже боли, однако, был ледяной взгляд голубых глаз Стрека. Продолжая сдавливать ей пальцы, он удерживал ее не только рукой, но и взглядом — холодным и странным. Стрек пытался подавить и запугать ее, и у него это получалось, потому что в его глазах она увидела безумие, против которого была бессильна. Увидев ее отчаяние, явно доставлявшее ему большее удовольствие, чем боль, которую он ей причинял, Стрек перестал сдавливать ей пальцы, но не позволил выдернуть руку. Он сказал: — Ты заплатишь за это, за этот плевок. И тебе понравится за это платить. Нора неуверенно произнесла: — Я пожалуюсь вашему боссу, и вас выгонят с работы. Стрек только улыбнулся в ответ. «Почему он не смахнет крошки кекса с лица?» — подумала Нора, но ответ напрашивался сам собой: Стрек заставит ее сделать это. — Выгонят со службы? Да я уже уволился из Вэдлоу Телевижен. Вчера положил заявление на стол. Так что теперь у меня много свободного времени, и я могу посвятить его тебе, Нора. Она опустила глаза. Нора уже не могла скрывать своего страха — еще немного, и у нее застучали бы зубы. — Я подолгу не задерживаюсь ни на одной работе. Мужчинам вроде меня, в которых столько энергии, быстро наскучивает на одном месте. Я люблю быть в движении. Кроме того, жизнь слишком коротка, чтобы посвящать ее работе, как ты думаешь? Поэтому я нанимаюсь куда-нибудь, зарабатываю немного, а потом гуляю, пока хватит денег. Время от времени на моем пути попадается девушка вроде тебя, которой я просто необходим. Она просто умоляет побыть с ней, и я не отказываю. «Ударь его, вцепись в него зубами, выцарапай ему глаза», — говорил ее внутренний голос. Но Нора продолжала сидеть в оцепенении. Кисть руки у нее тупо ныла. Она не забыла, как было больно, когда Стрек сдавливал ей пальцы. Он заговорил более мягким и ободряющим голосом, но от этого ее страх только усилился: — Я не откажу и тебе, Нора. На время я поселюсь у тебя. Нам будет хорошо вместе. Конечно, ты меня немножко боишься, я это понимаю. Но поверь, детка, тебе просто нужно вывернуть твою жизнь наизнанку — это сейчас для тебя самое лучшее.* * *
Эйнштейну нравилось в парке. Когда Тревис отцепил поводок, ретривер поспешил к ближайшей клумбе, где крупные желтые календулы росли внутри бордюра из пурпурных первоцветов, и обошел вокруг, явно восхищенный увиденным. Затем он проследовал к клумбе с яркими поздноцветущими лютиками и к следующей — с недотрогами. Его хвост приходил в движение от каждого нового открытия. Говорят, что собаки видят все предметы в черно-белом изображении, но Тревис готов был спорить: Эйнштейн обладает цветным зрением. Пес обнюхивал все, что попадалось ему на пути: цветы, кусты, деревья, камни, урны для мусора, смятые бумажки, основание фонтанчика для питья, а также практически каждый фут земли под ногами — без сомнения, воссоздавая в своем воображении «портреты» людей и собак, прошедших здесь до него, картинки, которые для пса были такими, как для Тревиса — фотографии. В утренние и ранние дневные часы ретривер ничем не отличался. На его месте любая собака вела бы себя точно так же, и Тревис уже начал думать, что его почти человеческие способности находят на него приступами, как эпилепсия. Однако после вчерашнего необычайные качества Эйнштейна не подлежали сомнению. Когда они прогуливались вокруг пруда, пес вдруг замер, поднял голову, слегка приподнял свои мягкие уши и уставился на парочку, сидящую на скамейке футах в шестидесяти от них. На мужчине были спортивные шорты, а женщина была одета в мешковатое серое платье; он держал ее за руку, и, казалось, они были поглощены беседой друг с другом. Тревис начал поворачивать в сторону зеленого газона, чтобы не мешать им разговаривать. Но собака, издав короткий лай, помчалась прямо к парочке. — Эйнштейн! Назад! Ко мне! Пес проигнорировал его призыв, подбежал к скамейке и начал яростно облаивать сидящих на ней мужчину и женщину. К тому времени, когда Тревис приблизился к скамейке, мужчина в шортах уже стоял на ногах. Выставив вперед руки и сжав кулаки, он сделал осторожный шаг назад. — Эйнштейн! Ретривер перестал лаять, увернулся от Тревиса, не дав ему прицепить поводок к ошейнику, подошел к женщине, сидевшей на скамейке, и положил ей морду на колени. Такая перемена в поведении пса удивила всех троих. Тревис сказал: — Извините. Он вообще-то никогда… — Какого черта, — накинулся мужчина в шортах. — Нельзя отпускать такую злую собаку в парке без привязи. — Он не злой, — возразил Тревис. — Он… — Ерунда, — сказал мужчина, брызгая слюной. — Чертова тварь пыталась меня укусить. Вам что, нравится, когда на вас подают в суд? — Я не знаю, что взбрело ему в… — Давайте двигайте отсюда, — потребовал мужчина. Обескураженно кивнув, Тревис повернулся к Эйнштейну и увидел, что женщина уговорила его сесть с ней рядом на скамейку. Эйнштейн сидел, поставив передние лапы ей на колени, а она не просто гладила, а прижимала его к себе. В том, как женщина прижималась к собаке, усматривалось какое-то отчаяние. — Убирайтесь отсюда! — злобно сказал мужчина. Он был выше, шире в плечах и вообще намного здоровее Тревиса. Сделав несколько шагов вперед, глядя на Тревиса сверху вниз, он таким образом попытался его запугать. Видимо, привык добиваться своего с помощью вот такой агрессивности и угрожающего поведения. Тревис презирал таких людей. Эйнштейн повернул голову в сторону мужчины, обнажил зубы и издал низкое рычание. — Послушай, ты, придурок, — сказал тот злобно, обращаясь к Тревису, — ты что, оглох? Я же сказал: собаку надо держать на поводке. Поводок у тебя в руках. Чего же ты ждешь? До Тревиса начало доходить: что-то здесь не так. Справедливый гнев мужчины в шортах был уж слишком преувеличенным — как будто его застали за каким-то постыдным занятием, и теперь он пытается скрыть свою вину, нападая на случайного свидетеля. Женщина тоже вела себя подозрительно. Во-первых, она не вымолвила ни слова. Лицо ее было бледно, а руки дрожали. Судя по тому, как она обнимала пса, причиной ее страха был не Эйнштейн. Кроме того, Тревису показалось странным, что, собираясь погулять в парке, парочка вырядилась так по-разному: он в шортах для бега, а она в нескладном домашнем платье. Тревис заметил боязливые взгляды, которые женщина бросала на «бегуна», и вдруг понял: вместе эти двое оказались случайно, и уж, конечно, не по воле женщины, и мужчина на самом деле сделал что-то недостойное. — Мисс, — сказал Тревис, — вы в порядке? — Разумеется, нет, — сказал «бегун». — Твоя чертова собака напугала ее. — Мне так не кажется, по крайней мере в данную минуту, — произнес Тревис, пристально глядя на не знакомца. На его щеке Тревис увидел прилипшие крошки, по всей видимости, овсяного кекса. Он также заметил овсяный кекс, вывалившийся из бумажного пакета на скамейку, и еще один раскрошенный под ногами у женщины. Что, черт возьми, здесь произошло? «Бегун» посмотрел на Тревиса и начал было что-то говорить, но, бросив короткий взгляд на женщину и Эйнштейна, очевидно, понял, что его деланный гнев уже неуместен. — Вы… в общем, нужно следить за своей собакой. — Я не думаю, что сейчас в этом есть необходимость, — сказал Тревис, сворачивая поводок в кольцо. — На него просто нашло. Все еще злобно, но уже не так уверенно, мужчина обратился к съежившейся на скамейке женщине: — Нора? Она не ответила и продолжала гладить Эйнштейна. — Увидимся позже, — сказал ей «бегун». Не получив ответа, он, сузив глаза, посмотрел на Тревиса: — Если эта чертова тварь станет хватать меня запятки… — Не станет, — перебил Тревис. — Можете продолжать свою тренировку. Он больше не побеспокоит вас. Направляясь трусцой к ближайшему выходу из парка, мужчина несколько раз оглянулся на них. Потом исчез из виду. На скамейке Эйнштейн лег на брюхо и положил морду на колени женщины. — Вы ему понравились, — сказал Тревис. Не поднимая глаз и продолжая одной рукой гладить Эйнштейна, она произнесла: — Замечательный пес. — Он у меня только со вчерашнего дня. Она не ответила. Тревис присел на другой конец скамейки так, что Эйнштейн очутился между ними. — Меня зовут Тревис Корнелл. Наконец женщина подняла голову и посмотрела на него. — Нора Девон. — Рад познакомиться. Она нервно улыбнулась. Несмотря на ее прямые волосы и отсутствие косметики, Нора была довольно привлекательна. Волосы у нее были темные и блестящие, кожа безукоризненная, а в ее серых глазах на ярком майском солнце светились зеленые прожилки. Почувствовав его одобрительно-оценивающий взгляд и испугавшись, она сразу же отвела глаза в сторону и опустила голову. Тревис спросил: — Мисс Девон… что-нибудь случилось? Она не ответила. — Этот человек, он… приставал к вам? — Все в порядке, — сказала Нора. Склонив голову и сжав плечи, охваченная невероятным смущением, она выглядела настолько беззащитной, что Тревис не смог просто так встать и уйти, оставив ее наедине с проблемами. Он сказал: — Если этот человек приставал к вам, я думаю, надо найти полицейского и… — Не надо, — возразила Нора мягко, но настойчиво. Она встала со скамейки. Пес вскочил на землю и встал рядом, глядя на нее влюбленными глазами. Поднимаясь со скамейки, Тревис сказал: — Извините, я лезу не в свое дело. Нора заспешила прочь, но не по той дорожке, по которой удалился «бегун». Эйнштейн было рванулся за ней, но Тревис окликнул его, и он неохотно вернулся к своему хозяину. Тревис следил за Норой озадаченно, пока она не исчезла, загадочная и взволнованная чем-то женщина в сером платье, нескладном и бесформенном, как одеяние послушниц какой-нибудь секты, драпирующих свои фигуры, чтобы не вводить в искушение мужчин. Вместе с Эйнштейном они продолжили прогулку по парку. Потом пошли на пляж, где ретривера, казалось, поразил вид бескрайнего морского простора и волн, разбивающихся о песчаный берег. Он все время останавливался, чтобы посмотреть на океан, а потом со счастливым видом носился по мелководью. Вернувшись домой, Тревис попытался привлечь внимание Эйнштейна к книгам, которые так волновали его накануне вечером, надеясь выяснить, что пес хотел в них найти. Собака, однако, без всякого интереса обнюхала тома, принесенные ей Тревисом, и зевнула. В течение всего дня образ Норы Девон с поразительной частотой и яркостью вставал у Тревиса перед глазами. Для того чтобы вызвать к себе мужской интерес, ей не требовалась броская одежда. Достаточно было взглянуть ей в лицо, в ее серо-зеленые глаза.* * *
После нескольких часов глубокого сна Винсент Наско ранним утренним рейсом вылетел в Акапулько, в Мексику. Прибыв на место, он поселился в огромной, выходящей на залив гостинице — сверкающем, но бездушном небоскребе, сплошь состоящем из стекла, бетона и мозаики. Переодевшись в белые мягкие туфли, белые хлопчатобумажные брюки и бледно-голубую тенниску, он отправился на поиски доктора Лоутона Хейнса. Хейнс проводил свой отпуск в Акапулько. Это был тридцатидевятилетний мужчина, пяти футов одиннадцати дюймов ростом и ста шестидесяти фунтов весом, с непослушными каштановыми волосами. Он был бы похож на Аль Пачино, если бы не красное родимое пятно размером с полдоллара у него на лбу. Хейнс приезжал на курорт по крайней мере дважды в год, всегда останавливался в элегантном отеле «Лас Бризас», стоящем на мысе на восточном берегу залива, и был завсегдатаем ресторана рядом с гостиницей «Калета», который любил за подаваемый там коктейль «Маргарита» и вид, открывающийся оттуда на Плайя де Калета. В 12.30 Винсент сидел в плетеном кресле с удобными желтыми и зелеными подушками за столом у окна этого самого ресторана. Хейнса он увидел еще при входе в обеденный зал. Доктор тоже расположился у окна через три столика от Винса, частично скрытый от посторонних взоров стоящей рядом пальмой в кадке. Хейнс обедал вместе с потрясающей блондинкой. На ней были белые слаксы, ярко-полосатый топ, и добрая половина мужчин в ресторане не сводила с нее глаз. На взгляд Винса, Хейнс скорее напоминал Дастина Хофмана, чем Пачино. У него были такие же резкие черты лица. Но в целом он соответствовал описанию, которое получил Винс. На нем были розовые хлопчатобумажные брюки, бледно-желтая рубашка и белые сандалии — наряд, который, по мнению Винса, даже для тропиков был чересчур экзотичен. Винс съел ленч, состоявший из супа «Альбондиго», тортилий с начинкой из даров моря в зеленом соусе, безалкогольного коктейля «Маргарита», и заплатил по счету к тому времени, когда Хейнс с блондинкой собирались уходить. Женщина села за руль красного «Порше». Винс последовал за ними во взятом напрокат «Форде». На его счетчике было намотано черт знает сколько миль, он гремел, как ударные в мексиканском свадебном оркестре, а его пол был выстлан изъеденным плесенью ковром. У «Лас Бризас» блондинка высадила Хейнса на автомобильной стоянке, но, прежде чем расстаться, они еще минут пять простояли у машины, держа друг друга за задницы и целуясь взасос у всех на виду. Винс был в смятении. Он ожидал, что Хейнс соблюдает хоть какие-то приличия. Все-таки у него докторская степень. Если люди с таким образованием пренебрегают принятыми нормами поведения, то чего ожидать от других? Неужели пришло время, когда в университетах перестали учить хорошим манерам и правилам хорошего тона? Тогда неудивительно, что мир день ото дня делается все более грубым и жестоким. Женщина наконец уехала в своем «Порше», а Хейнс — в белом спортивном «Мерседесе-560SL». «Мерседес» уж точно не был взят напрокат, и Винсу стало интересно, откуда у доктора такая машина. Доехав до следующей гостиницы, Хейнс отдал ключи от зажигания подбежавшему служителю, и Винс сделал то же самое. Он последовал за доктором через вестибюль на пляж, где они сначала просто шли один за другим, пока Хейнс не остановился рядом с роскошной мексиканкой в бикини. Она была смуглая, прекрасно сложена и лет на пятнадцать моложе доктора. Девушка загорала в шезлонге, закрыв глаза. Хейнс поцеловал ее в шею, испугав при этом. Но, очевидно, они были знакомы, потому что она со смехом обняла его. Винс прошелся по пляжу, затем улегся на песок через два человека от Хейнса и девушки. Он не беспокоился о том, что доктор обратит на него внимание. По всей видимости, его интересовала исключительно женская анатомия. Кроме того, несмотря на свои габариты, Винс умел быть незаметным. В заливе какой-то турист парил на парашюте, прицепленном на тонком тросе к катеру. Солнечные лучи нескончаемым золотым дождем падали на песок и на море. Спустя минут двадцать Хейнс поцеловал девушку в губы и в не закрытую купальником верхнюю часть груди и зашагал прочь той же дорогой, которая привела его сюда. Она крикнула ему вслед: — Вечером в шесть! — Договорились, — ответил Хейнс. Затем доктор и Винс отправились на автомобильную прогулку. Сначала Винс думал, что Хейнс едет с какой-то конкретной целью, но, проехав некоторое расстояние, понял: тот просто так катается по побережью, глазея на пейзаж за окном. Они миновали пляж «Револькадеро» и двинулись дальше, Хейнс на белом «Мерседесе», а за ним, на почтительном расстоянии, Винс на «Форде». Наконец они добрались до одной из смотровых площадок, где Хейнс свернул с шоссе и припарковался рядом с автомобилем, из которого как раз выходили четверо франтовато одетых туристов. Винс тоже поставил свою машину и прошел к железному рельсу, ограждавшему край обрыва, откуда открывался великолепный вид на побережье и на волны, с грохотом разбивающиеся о скалы более чем в ста футах внизу. Туристы в попугайных рубашках и полосатых брюках, закончив громко восхищаться зрелищем, сделав снимки и напоследок намусорив, сели в машину и уехали, оставив Хейнса и Винса один на один на вершине утеса. Единственной машиной на шоссе был приближающийся к ним черный автомобиль компании «Транс-Америкэн». Винс ждал, пока он проедет мимо. После чего собирался сделать Хейнсу сюрприз. Но вместо этого «Транс-Америкэн» съехал на обочину и припарковался рядом с «Мерседесом» Хейнса. Из машины вышла ослепительной красоты девушка лет двадцати пяти и заспешила в сторону доктора. Она была мексиканкой с примесью китайской крови, очень экзотичная особа. На ней был белый корсаж и белые шорты, и у нее были самые красивые ноги из всех, что приходилось видеть Винсу. Хейнс и девушка отошли футов на сорок от Винса вдоль ограды, а затем вошли в такой клинч, который заставил Винса покраснеть. В течение нескольких минут он приближался к ним вдоль ограды, время от времени довольно рискованно свешиваясь вниз, где прибой поднимал брызги на двадцать футов в высоту, и приговаривая: «Вот это да!» — когда особенно большая волна разбивалась о каменную стену обрыва, стараясь вести себя так, чтобы его движение в их направлении выглядело случайным. Несмотря на то, что они стояли к нему спиной, ветер доносил до Винса обрывки их разговора. Женщина беспокоилась, что ее муж может узнать о приезде Хейнса в город, а доктор пытался договориться с ней на завтрашний вечер. «У этого парня нет ни стыда, ни совести», — подумал Винс. Шоссе опять опустело, и Винс решил: такой возможности ему может больше не представиться. Он одним прыжком преодолел несколько футов, отделявших его от девушки, схватил ее за шею и за пояс шорт, приподнял в воздух и перебросил через ограду. Визжа, она полетела вниз. Все произошло так быстро, что Хейнс не успел среагировать. Девушка еще находилась в воздухе, а Винс уже нанес два удара по лицу доктора, разбив губы и сломав нос. В момент, когда потерявший сознание Хейнс повалился на землю, девушка ударилась о скалы, и Винс, даже на таком расстоянии, получил от нее подарок: «Ссссснап». Ему хотелось перегнуться через ограду и посмотреть на ее изуродованное тело там, внизу, на скалах, но у него не оставалось на это времени. На шоссе могла появиться какая-нибудь машина. Он оттащил Хейнса к «Форду» и усадил на переднее сиденье, прислонив к боковому стеклу. Создавалось впечатление, что тот мирно спит. Затем он слегка откинул голову Хейнса назад, чтобы кровь из перебитого носа стекала ему в носоглотку. С прибрежного шоссе, которое изобиловало крутыми поворотами и местами имело плохое покрытие, Винс свернул на боковую дорогу. После того как дорога из гравия перешла в обычную проселочную колею, он остановил автомобиль на краю тропического леса, у сплошной стены из огромных деревьев и буйной растительности. Дважды за это время Хейнс начинал приходить в сознание, и Винс вынужден был его успокаивать, ударяя головой о передний щиток. Выйдя из машины, Винс стащил с пассажирского сиденья безжизненное тело доктора и поволок его сквозь заросли, пока не нашел небольшую поляну, покрытую густым мхом. Птичий гомон вокруг сразу прекратился, а находившиеся в кустах невидимые глазу животные бросились врассыпную. Крупные насекомые, включая жука размером с ладонь Винса, поспешили убраться с дороги, а ящерицы побежали вверх по стволам деревьев. Винс вернулся к «Форду», в багажнике которого находились кое-какие приспособления для допроса. Упаковка шприцов и две ампулы пентотала натрия. Кожаный мешочек, наполненный свинцовой дробью. Ручной «тазер»,[85] напоминающий пульт дистанционного управления для телевизора. А также штопор с деревянной ручкой. Когда Винс пришел обратно на поляну, Лоутон Хейнс все еще был без сознания. Кровь булькала в его сломанном носу. Хейнс вообще-то должен был умереть уже двадцать четыре часа назад. Люди, которые наняли Винса для выполнения предыдущих трех заданий, предполагали, что доктором займется другой наемник, живущий в Акапулько и «работающий» по всей Мексике. Но парень этот погиб накануне утром. В посылке, которую он с нетерпением ожидал от «Фортнум и Мейсон» из Лондона, вместо мармеладного ассорти оказалось два фунта пластиковой взрывчатки. Попав в отчаянное положение, «контора» в Лос-Анджелесе поручила это задание Винсу, хотя, принимая во внимание перегруженность Винса работой, это становилось уже опасно. Винс обрадовался заданию, поскольку был уверен: этот доктор также связан с лабораторией в Банодайне и сможет дать ему дополнительную информацию о проекте «Франциск». Пройдясь по краю поляны, на которой лежал Хейнс, Винс отыскал упавшее дерево и оторвал от него большой изогнутый кусок коры. Найдя затем заросший водорослями ручей, он набрал примерно полкварты воды в импровизированную емкость. Вода была тухлой. Можно себе представить, сколько в ней было разных бактерий. Но теперь Хейнсу уже все равно, заболеет он или нет. Сначала Винс плеснул водой доктору в лицо. Сходив еще раз в ручей, он заставил доктора напиться. Хейнс начал кашлять, давиться, потом его вырвало, но в результате сознание его прояснилось настолько, что он мог понимать и отвечать на задаваемые ему вопросы. Показав мешочек с дробью и штопор, Винс объяснил доктору, как он собирается их использовать, если тот заупрямится. Хейнс — специалист по физиологии и деятельности мозга — обнаружил, что разумное начало в нем преобладает над патриотическими чувствами, и охотно поведал Винсу обо всех деталях сверхсекретного оборонного проекта, в котором он участвовал в Банодайне. Когда Хейнс начал клясться, что рассказал все, что знает, Винс достал пентотал натрия. Набирая наркотик в шприц, он между прочим спросил: — Доктор, что у вас с женщинами? Хейнс, лежавший на спине, вытянув руки вдоль тела, как велел ему Винс, не сразу перестроился на другую тему и растерянно заморгал. — Я следил за вами с обеда и узнал, что у вас тут, в Акапулько, три женщины… — Четыре, — поправил его Хейнс. Несмотря на испытываемый им ужас, в его голосе прозвучала гордость. — Этот «Мерседес», на котором я езжу, принадлежит Гизелле, очаровательной крошке… — Так вы пользуетесь ее машиной для свидания с тремя другими женщинами? Хейнс кивнул и попытался улыбнуться, но вместо улыбки на его лице появилась гримаса боли от сломанного носа. — Я всегда… так веду себя с женщинами. — Господи помилуй! — Винс пришел в ужас. — Вы что, не понимаете: сейчас уже не шестидесятые и не семидесятые? Время свободной любви кончилось. Теперь за это надо платить. По крупному счету. Вы не слышали о венерических заболеваниях, о СПИДе, наконец? Вкалывая доктору наркотик, он добавил: — Вы наверняка носитель всех венерических болезней, известных человечеству. Хейнс глупо заморгал в недоумении, а затем быстро погрузился в наркотический сон. Под воздействием пентотала натрия он подтвердил все, что до этого рассказывал Винсу о Банодайне и о проекте «Франциск». Когда действие наркотика закончилось, Винс развлечения ради прибегнул к помощи «тазера», пока не вышли из строя батарейки. Доктор корчился и брыкался, как полураздавленный водяной жук, выгибая спину и взрывая мох руками и пятками. Отложив «тазер» в сторону, Винс избил Хейнса до потери сознания с помощью мешочка с дробью, а затем убил, воткнув штопор ему между ребер и направив острие прямо в сердце. «Ссссснап». Все это время в лесу стояла кладбищенская тишина, но Винс чувствовал, как тысячи глаз его обитателей следят за ним. Он был уверен: невидимые наблюдатели одобряют то, что он сделал с Хейнсом, поскольку стиль жизни доктора оскорблял естественный порядок вещей, которому подчинялись жители джунглей. Он сказал «спасибо» Хейнсу, но целовать не стал. Ни в губы, ни даже в лоб. Жизненная энергия доктора годилась, как и любая другая, а вот его тело и дух были нечисты.* * *
Из парка Нора поспешила домой. Ощущение свободы и дух приключений, которые окрашивали ее утреннюю прогулку, уже больше не возвращались к ней. Стрек испортил ей все настроение. Закрыв за собой входную дверь, она заперла обычный замок, щеколду и накинула латунную цепочку. Затем Нора прошлась по комнатам нижнего этажа, плотно задергивая шторы на всех окнах, чтобы Стрек, если он подкрадется снаружи, не мог заглянуть внутрь. Образовавшаяся темнота не понравилась ей, и Нора включила свет во всех комнатах. Придя на кухню, она закрыла ставни и проверила замок черного хода. Общение со Стреком вызвало в ней не только страх, но и чувство физического омерзения. Больше всего на свете ей хотелось долго стоять под горячим душем. Вдруг ноги у Норы задрожали и подкосились, и она почувствовала приступ головокружения. Ей пришлось ухватиться за край кухонного стола, чтобы не упасть. «Если я сейчас пойду к лестнице, то непременно упаду», — подумала Нора и села, опершись на стол сложенными руками, опустила на них голову и стала ждать, пока ей полегчает. Когда головокружение прекратилось, она вспомнила: в шкафу рядом с холодильником стоит бутылка бренди, и решила, что немножко спиртного придаст ей сил. Она купила бутылку «Реми Мартен» после смерти Виолетты, так как тетя с неодобрением отзывалась о любой выпивке, кроме домашнего сидра. В качестве акта неповиновения Нора налила себе рюмку бренди, вернувшись с похорон тетки. Напиток ей не понравился, и большую часть порции она вылила в раковину. Но сейчас Норе казалось, что глоток бренди поможет снять охватившую ее дрожь. Она подошла к раковине и несколько раз вымыла руки самой горячей водой, которую только могла стерпеть, сначала мылом, а потом жидкостью для посуды «Айвори», стараясь смыть прикосновения Стрека. Когда Нора выключила воду, руки у нее были красные, как ошпаренные кипятком. Затем она поставила на стол бутылку и стакан. В книгах она читала о персонажах, которые от отчаяния садились за выпивку, чтобы заглушить боль. Иногда это им удавалось. Возможно, это поможет и ей. Если бренди хотя бы чуть-чуть улучшит ее состояние, она готова выпить всю эту чертову бутылку. Однако по своей природе Нора не любила излишеств. Последующие два часа она провела за одной и той же порцией «Реми Мартен». Как только Нора перестала думать о Стреке, ее сейчас же начали мучить воспоминания о тете Виолетте, и наоборот, а когда она заставила себя не думать об этих двоих, ее мысли повернулись к Тревису Корнеллу, человеку, который познакомился с ней в парке, но его образ не привел ее в душевное равновесие. Тревис показался ей приятным: мягким, вежливым, заботливым — и, кроме того, это он прогнал Стрека. Но на самом деле Тревис, наверное, ничуть не лучше Стрека. Если бы Нора дала ему возможность, он, безусловно, повел бы себя по отношению к ней также, как и Стрек. Тетя Виолетта была, конечно, тираном, но Норе все чаще начинало казаться, что она была права, предупреждая ее об опасностях, которые таит в себе общение с другими людьми. Но ведь была еще собака. Это уже совсем другое дело. Нора не испугалась пса даже в тот момент, когда тот рванулся к скамейке, яростно лая. Каким-то образом Нора поняла: ретривер — Эйнштейн, как называл его хозяин, — лаял не на нее, а на Стрека. Прижимаясь к собаке, она ощутила себя в безопасности, под защитой, даже в присутствии Стрека. Может быть, ей стоит завести собственную собаку? Виолетта приходила в ужас от одной мысли о домашних животных. Но тетка умерла, умерла навсегда, и теперь никто не мог помешать Норе взять в дом собаку. Разве что… У Норы было странное чувство: никакая другая собака не даст ей такого глубокого ощущения безопасности. Им с Эйнштейном понравилось их короткое знакомство. Разумеется, оттого что пес избавил ее от Стрека, Нора, наверное, приписывает ему качества, которыми тот на самом деле не обладает. Она, естественно, приняла его за спасителя, за отважного защитника. Но, несмотря на все попытки уговорить себя, что Эйнштейн — обычный пес, Нора все равно чувствовала: он какой-то особенный, и никакая другая собака не сможет обеспечить ей такую защиту. Порция «Реми Мартен», растянутая на два часа, плюс мысли об Эйнштейне в конце концов улучшили ее настроение. Она настолько расхрабрилась, что подошла к стоявшему на кухне телефону, намереваясь позвонить Тревису Корнеллу с предложением купить у него ретривера. Ведь он сам сказал, что собака у него только со вчерашнего дня, поэтому Тревис не мог за такое короткое время сильно привязаться к нему. За хорошую цену он может уступить. Нора полистала справочник, нашла номер Корнелла и набрала его. Тревис ответил на второй гудок. — Алло! Услышав голос, Нора поняла: попытка купить у него собаку даст ему повод вмешаться в ее жизнь. Она забыла, что он может оказаться таким же опасным, как Стрек. — Алло? — повторил Тревис. Нора колебалась. — Алло? Вас не слышно! Она положила трубку, так и не произнеся ни слова. Прежде чем говорить с Корнеллом о собаке, ей нужно было обезопасить себя на случай, если Тревис окажется таким же, как Стрек.* * *
Когда без пяти пять зазвонил телефон, Тревис занимался тем, что опорожнял содержимое жестянки «Алпо» в миску Эйнштейна. Ретривер с интересом следил за его действиями и облизывался, но не совался в миску, терпеливо ожидая, когда Тревис выскребет всю банку дочиста. Тревис пошел к телефону, а Эйнштейн принялся за еду. Никто не ответил на приветствие Тревиса, он опять произнес «алло», и пес поднял морду от своей миски. Когда Тревису вновь не ответили, он сказал, что ничего не слышит, и тогда Эйнштейн подошел и с интересом взглянул на трубку в его руке. Тревис положил трубку, повернулся и увидел пристальный взгляд собаки, направленный на настенный телефон. — Наверное, не туда попали. Пес взглянул на него и опять уставился на аппарат. — Или какие-нибудь ребята балуются. Ретривер с несчастным видом заскулил. — Ну а тебя какая муха укусила? Он не сводил глаз с телефона. Со вздохом Тревис сказал: — Все. На сегодня с меня хватит твоих штучек. Если хочешь продолжать — давай без меня. Перед тем как приготовить ужин для себя, он решил посмотреть по телевизору новости, поэтому достал «Диет-Пепси» из холодильника и ушел в гостиную, оставив пса наедине с телефоном. Включив телевизор, Тревис услышал, что Эйнштейн что-то делает там, на кухне. — Эй, ты чем там занят? Послышалось звяканье, стук, поскребывание когтей по твердой поверхности. Потом что-то тяжелое упало. — Если что-нибудь разобьешь, будешь за это платить, — предупредил Тревис. — Интересно, как ты будешь зарабатывать баксы? Можешь поехать на Аляску и стать там упряжной собакой. Шум на кухне стих. Но только на минуту. Затем два раза что-то звякнуло, загремело и опять послышалось поскребывание. Тревиса разбирало любопытство. Нажав кнопку на пульте, он выключил звук телевизора. На кухне что-то с шумом бухнулось на пол. Тревис уже собрался пойти и посмотреть, что происходит, но в эту минуту в гостиной появился Эйнштейн. В зубах он нес телефонный справочник. Стало быть, пес долго прыгал, стараясь скинуть справочник со стола, пока ему это не удалось. Он пересек гостиную и положил книгу к ногам Тревиса. — Ну и что это значит? — спросил Тревис. Собака пододвинула справочник носом и выжидательно посмотрела на хозяина. — Хочешь, чтобы я кому-нибудь позвонил? — Тяв. — Кому? Эйнштейн опять ткнул носом в книгу. Тревис сказал: — Ну и кому же я должен позвонить? Лэсси, Рин Тин Тину или Старому Ворчуну? Ретривер посмотрел ему в глаза, стараясь передать взглядом то, что можно было выразить только словами. — Послушай, может быть, ты умеешь читать мои мысли, но я твои не умею. Заскулив от отчаяния, ретривер выбежал из комнаты и исчез за углом короткого коридора, куда выходили двери ванной и двух спален. Тревис хотел пойти за ним, но решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Меньше чем через минуту Эйнштейн вернулся, неся в зубах фотографию в позолоченной рамке, и положил ее рядом с книгой. Это был портрет Паулы, который Тревис держал на комоде в спальне. Снимок сделали в день их свадьбы, за десять месяцев до ее смерти. На нем Паула выглядела красивой и обманчиво здоровой. — Нет, малыш. Я не могу звонить мертвым. Пес тявкнул, как бы удивляясь несообразительности Тревиса. Он подошел к стойке с журналами в углу комнаты, столкнул ее набок и вернулся с номером «Тайм» в зубах, который положил рядом с портретом. Передними лапами ретривер стал перелистывать страницы, порвав при этом несколько из них. Сев на краешек кресла, Тревис с интересом наблюдал за собакой. Несколько раз она останавливалась и изучала страницы журнала, а затем начинала листать снова. Наконец она нашла рекламу автомобилей, которую сопровождала фотография красивой брюнетки. Пес посмотрел на Тревиса, затем на рекламу, потом опять на Тревиса и тявкнул. — Не понимаю, — сказал Тревис. Перебрав лапами несколько страниц, Эйнштейн нашел рекламу, где улыбающаяся блондинка держала в пальцах сигареты. Затем он фыркнул на Тревиса. — Автомобили и сигареты? Хочешь, чтобы я купил машину и пачку «Вирджиния слимз»? Эйнштейн опять отправился в угол комнаты и на этот раз вернулся с журналом по продаже недвижимости, который, несмотря на то, что Тревис уже два года, как бросил это дело, каждый месяц регулярно доставлялся ему на дом. Пес начал перелистывать страницы, пока не наткнулся на картинку, изображавшую женщину-агента по продаже недвижимости в куртке с надписью: «XXI век». Тревис перевел взгляд с фотографии Паулы на блондинку с сигаретой, на смазливую женщину в куртке и вспомнил первую рекламу, с брюнеткой на фоне автомобиля. — Женщина? Ты хочешь, чтобы я позвонил какой-нибудь женщине? Эйнштейн залаял. — Какой именно? Взяв Тревиса зубами за запястье, пес попытался вытащить его из кресла. — О'кей, о'кей. Отпусти меня. Я сам пойду. Но пес отпустил его только, когда дотащил до телефона на кухне. Там Тревис наконец смог выпрямиться. — Кому звонить? — опять спросил Тревис и вдруг понял. Они с Эйнштейном успели познакомиться только с одной женщиной. — Той леди, которую мы сегодня встретили в парке? Собака завиляла хвостом. — Ты думаешь, это она сейчас звонила? Хвост задвигался быстрее. — А откуда ты знаешь, кто звонил? Она же не сказала ни слова. И вообще, ты что, решил заняться сводничеством? Пес дважды тявкнул. — Ну, она, конечно, симпатичная, но не в моем вкусе, приятель. Немного странная, как ты думаешь? Эйнштейн залаял, подбежал к Тревису и опять залаял, затем обежал вокруг стола, не переставая лаять, и еще раз бросился к двери. Стало ясно, что его что-то сильно беспокоит. Эта женщина. В парке Тревису показалось, что с ней что-то не так. Он вспомнил того ублюдка в шортах. Тревис предложил ей помощь, но она отказалась. Но потом, видимо, передумала и позвонила несколько минут назад, но ей не хватило храбрости объяснить все ему. — Ты правда думаешь, что это она звонила? Хвост пришел в движение. — Ну, если это даже была она, по-моему, лучше остаться в стороне. Ретривер бросился к Тревису, схватил его за правую штанину и яростно замотал головой, чуть не повалив на пол. — Ну ладно, хватит! Я позвоню. Дай мне этот чертов справочник! Эйнштейн отпустил Тревиса и помчался, оскальзываясь на линолеуме. Через мгновение он вернулся со справочником в зубах. Только взяв книгу в руки, Тревис осознал, что он даже не задумался о том, поймет пес его просьбу или нет. Собака обладала такими способностями, что Тревис многое уже воспринимал как должное. Тут его осенило, что ретривер с самого начала не принес бы справочник ему в гостиную, если бы не знал его значения. — Клянусь Богом, псина, ты оправдываешь свою кличку.* * *
Хотя Нора не привыкла ужинать раньше семи, она почувствовала, что проголодалась. От утренней прогулки и выпитого бренди у нее разыгрался аппетит, который не могли испортить даже мысли о Стреке. Ей не хотелось готовить, поэтому она положила на тарелку свежих фруктов, немного сыра и подогрела себе в духовке сдобную булочку. Обычно Нора ужинала в своей кровати и во время еды читала журнал или книгу — так ей нравилось больше всего. Взяв в руки тарелку и приготовившись подняться наверх в спальню, она услышала телефонный звонок. Это Стрек. Кто же, кроме него? Ей вообще мало звонили. Нора замялась, слушая звонки. Даже после того как они прекратились, она все еще стояла, опираясь на кухонную стойку, чувствуя слабость и ожидая, что вот сейчас телефон зазвонит вновь.* * *
Когда Нора Девон не ответила на его звонок, Тревис собрался смотреть вечерние новости, но Эйнштейн не успокаивался. Он прыгал на кухонную стойку, стараясь достать справочник, затем он все-таки свалил его на пол, зажал в зубах и выбежал из кухни. Гадая о том, что последует дальше, Тревис пошел за ним и увидел: пес стоит у входной двери, все еще зажав книгу в зубах. — Ну теперь-то что? Эйнштейн уперся передней лапой в дверь. — Хочешь выйти? Ретривер заскулил, но книга у него в пасти заглушила звук. — Справочник-то тебе зачем? Хочешь закопать его, как кость? В чем дело? Хотя вопросы оставались без ответа, Тревис все-таки открыл дверь и выпустил собаку наружу, где все было залито золотистыми лучами клонившегося к закату солнца. Эйнштейн запрыгал у дверцы автомобиля, глядя при этом на Тревиса. — Хочешь, чтобы я узнал адрес мисс Девон по справочнику и поехал к ней домой? Так, что ли? — Тяв. — Извини, — сказал Тревис, — я знаю, что она тебе понравилась, но в данный момент мне не нужна подруга. Кроме того, она не в моем вкусе. Я же тебе говорил. И я не в ее вкусе. Я вообще думаю, что все мужчины не в ее вкусе. Пес залаял. — Нет, говорю тебе. Он опять схватил Тревиса за штанину. — Нет, — повторил Тревис, хватая Эйнштейна за ошейник. — Не надо жевать мою одежду. Я не еду. Эйнштейн вырвался, помчался к клумбе с ярко цветущими недотрогами и начал яростно рыть землю лапами, разбрасывая вырванные с корнем цветы по лужайке. — Господи помилуй, это еще что такое? Пес продолжал усердно работать, явно намереваясь полностью уничтожить всю клумбу. — Эй, перестань сейчас же! — Тревис заспешил к клумбе. Эйнштейн выбежал на газон и стал рыть яму. Тревис попытался его поймать, но ретривер убежал в другую сторону, где попортил еще кусок газона, затем вернулся к клумбе с недотрогами и стал уничтожать оставшиеся цветы. Отчаявшись поймать собаку, Тревис остановился, переводя дух, и крикнул: — Хватит! Эйнштейн поднял морду, с которой свисали стебли оранжево-красных недотрог. — Мы едем, — сказал Тревис. Пес стряхнул с морды цветы и осторожно вышел на газон. — Я говорю вполне серьезно, — сказал Тревис. — Если это так важно для тебя, мы поедем к этой женщине. Что я буду ей говорить, один Бог знает.* * *
Держа в одной руке тарелку с ужином, а в другой — бутылку минеральной воды «Эвиан», Нора шла по коридору первого этажа. Свет, горевший во всех комнатах, приносил ей успокоение. На площадке второго этажа она локтем нажала выключатель, и в холле вспыхнул свет. В следующий раз, когда ей придется посылать заказ в супермаркет, необходимо включить в него побольше электрических лампочек: в обозримом будущем Нора вообще не собиралась выключать свет ни днем, ни ночью. На такие расходы она денег не пожалеет. Находясь все еще под воздействием выпитого, Нора начала тихо напевать, направляясь к себе в спальню: «Лунная река шириною в милю…» Войдя в комнату, она увидела на кровати Стрека. Он ухмыльнулся и сказал: — Привет, детка! На миг ей показалось, что это галлюцинация, но, когда Стрек заговорил, она поняла: это не так. Нора закричала, тарелка выпала у нее из рук, фрукты и сыр рассыпались по полу. — О Боже, что же ты тут наделала, — сказал он, сев и опустив ноги на пол. На нем все еще были шорты для бега, спортивные носки и кроссовки. — Не надо сейчас ничего убирать. Есть дело поважнее. Я долго ждал, пока ты поднимешься сюда, наверх. Ждал и думал о тебе… готовился к этому моменту… — Стрек встал во весь рост. — И вот настал этот момент, когда я научу тебя тому, чего ты еще не умеешь. Нора оцепенела, и дыхание у нее перехватило. Наверное, Стрек пришел сюда прямо из парка, задолго до нее. Он забрался в дом, не оставив следов взлома, и ждал здесь на кровати все время, пока она пила бренди на кухне. В этом его ожидании было что-то страшное, страшнее, чем другие его действия: ждал и томился желанием, прислушиваясь к ее передвижениям и получая от этого удовольствие. Когда Стрек удовлетворит свою похоть, он, наверное, ее убьет. Нора повернулась и побежала по коридору. В тот момент, когда она ухватилась за поручень, чтобы ринуться вниз по лестнице, Нора услышала, что Стрек бросился за ней. Она помчалась вниз, прыгая через ступеньки и в ужасе от мысли, что может потерять равновесие и упасть; на площадке между этажами Нора чуть не вывихнула колено, споткнулась, но продолжала бежать. Перепрыгнув через несколько ступенек, она оказалась в холле первого этажа. Схватив Нору сзади за мешковатые плечи платья, Стрек с силой повернул ее лицом к себе.* * *
Когда пикап Тревиса остановился на обочине у дома Норы, Эйнштейн встал на сиденье, положил передние лапы на рукоятку и, навалившись всем своим весом, открыл дверцу. Еще один фокус. Тревис еще не успел потянуть рукоятку ручного тормоза и выключить зажигание, а пес уже мчался по дорожке к дому. Спустя несколько секунд Тревис поднялся по ступенькам веранды и увидел, что ретривер стоит на задних лапах у входной двери и нажимает передней лапой на кнопку звонка. Было слышно, как сработал звонок. Приблизившись к собаке, Тревис сказал: — Ну, теперь-то что? Пес еще раз нажал кнопку. — Подожди, сейчас она откроет. Когда Эйнштейн позвонил в третий раз, Тревис услышал, как внутри дома закричал от ярости и боли мужчина. Потом женский голос позвал на помощь. Разразившись таким же яростным лаем, как накануне в лесу, Эйнштейн стал скрести когтями дверь, как будто хотел проделать в ней дыру. Придвинувшись к двери, Тревис приложил лицо к маленькому окошечку. Внутри, в холле, ярко горел свет, и ему было хорошо видно, как в нескольких футах от него борются две человеческие фигуры. Собака лаяла как бешеная. Тревис толкнул дверь, но она была заперта. Локтем он пробил витражное окошечко, просунул внутрь руку, открыл замок, снял цепочку и вошел в дом в тот момент, когда мужчина в шортах отпихнул от себя женщину и бросился на него. Эйнштейн опередил Тревиса и ринулся прямо на «бегуна». Увидев пса, нападавший повел себя так, как в такой ситуации повели бы многие, — он побежал. Женщина попыталась помешать ему, «бегун» споткнулся, но не упал. В конце коридора он с грохотом скрылся за пружинной дверью. Эйнштейн промчался мимо Норы Девон и успел проскочить в дверь до того, как она захлопнулась. Из-за двери послышался лай, рычание и крики. Что-то с грохотом рухнуло, потом упало еще что-то более тяжелое, мужчина выкрикнул проклятие, Эйнштейн испустил звук, от которого Тревис похолодел, а затем сражение вступило в еще более громкую стадию. Тревис приблизился к Норе. Она стояла внизу лестницы, опершись на перила. Он спросил: — С вами все в порядке? — Он чуть не… — Но все-таки не… — подсказал Тревис. — Нет. Он дотронулся до ее кровоточащего подбородка. — Вы ранены. — Нет, — сказала она, глядя на испачканные кровью пальцы Тревиса. — Я укусила этого ублюдка. — Она взглянула на пружинную дверь, которая перестала качаться. — Он может ранить собаку. — Это вряд ли, — ответил Тревис. Когда он подошел к кухонной двери, шум внутри затих. Два стула лежали на полу, усеянном осколками большой керамической вазы, расписанной голубыми цветами. Лежавшие в ней овсяные кексы, раскрошившиеся и раздавленные, были разбросаны повсюду. «Бегун» сидел в углу, подогнув ноги и скрестив руки на груди. Он был обут только в одну кроссовку, и его правая рука кровоточила от укуса Норы. Кровь была видна и на его левой икре, но это была уже работа Эйнштейна. Пес, находясь на безопасном расстоянии, сторожил Стрека, готовый в любую минуту броситься на него, если бы тот имел глупость шевельнуться в своем углу. — Хорошая работа, — сказал Тревис. — Молодец. Эйнштейн слегка заскулил, соглашаясь с ним. В ту же минуту Стрек пошевельнулся, и пес, грозно зарычав, щелкнул зубами, заставив его забиться обратно в угол. — Все. Приехали, — сказал Тревис Стреку. — Он укусил меня! Они укусили меня! — произнес Стрек, заходясь от ярости и возмущенного удивления. — Укусили меня! Подобно многим хамам, привыкшим к вседозволенности, он был в шоке оттого, что ему самому могут причинить боль. Опыт научил Стрека: если давить на людей и при этом смотреть на них полубезумным взглядом, то можно легко запугать их. Он был уверен в безотказности этого метода. Сейчас же Стрек был бледен и выглядел подавленным. Тревис подошел к телефону и позвонил в полицию.Глава 5
Поздним утром 20 мая, вернувшись из однодневной командировки в Акапулько, Винсент Наско купил номер «Таймс» в международном аэропорту Лос-Анджелеса, прежде чем сесть в маршрутное такси, которое почему-то называлось лимузином, хотя представляло из себя обычный микроавтобус. Во время пути в свой городской дом в Гантингтон-Бич он просматривал газету и на третьей странице наткнулся на репортаж о пожаре в лаборатории Банодайн в Ирвин-сити. Он начался вскоре после шести утра накануне, когда Винс еще ехал в аэропорт, чтобы успеть на рейс Лос-Анджелес — Акапулько. Прежде чем пожарные ликвидировали огонь, пострадали два лабораторных корпуса. Те, кто нанял Винса для убийства Дэвиса Вэтерби, Лоутона Хейнса, четы Ярбеков и Хадстонов, наверняка наняли и специалиста по поджогам. Эти люди явно старались уничтожить всю информацию о проекте «Франциск», как ту, которая хранилась в картотеках Банодайна, так и ту, которая находилась в головах ученых, участвовавших в разработке и осуществлении проекта. Поскольку этот проект представлял собой государственную тайну, то в газете, конечно, о нем ничего не говорилось. Комплекс Банодайн характеризовался в статье как «лидер в генной инженерии, специализирующийся на разработке новых препаратов, основанных на исследованиях в области рекомбинации ДНК». На пожаре погиб ночной сторож. «Таймс» не давала никакого объяснения на этот счет. Винс сообразил, что его сначала убили, а потом бросили в огонь, чтобы замести следы. Маршрутное такси доставило Винса прямо до дверей его дома. В прохладных комнатах царил полумрак. На не покрытом ковром полу отчетливо раздавался каждый шаг, вызывая гулкое эхо. Винс купил этот дом два года назад, но еще не закончил его обустройство. В сущности, в столовой, гостиной и двух из трех спален не было ничего, кроме дешевых штор на окнах. Винс считал, что городской дом — это лишь перевалочный пункт, из которого в один прекрасный день он переедет в особняк на берегу океана в Ринконе, знаменитом прекрасными условиями для серфинга. Но не временный характер его городского жилища стал причиной отсутствия в нем какой-либо обстановки. Винсу просто нравились голые стены, чистые бетонные полы и пустые комнаты. Когда его мечта о покупке дома на побережье осуществится, Винс собирается отделать блестящим белым кафелем полы и стены во всех комнатах. Там не будет ни дерева, ни кирпича, ни камня — никаких материалов с текстурной поверхностью для создания «уюта», которые нравятся другим людям. Мебель ему сделают на заказ — белая эмаль и обивка из белого винила. Единственным отклонением от этого обилия белых поверхностей будут стекло и полированная нержавеющая сталь. Обустроившись таким образом, он впервые в жизни приобретет чувство душевного равновесия идомашнего очага. Распаковав чемодан, Винс отправился на кухню готовить ленч. Тунец. Три яйца вкрутую. Полдюжины ржаных крекеров. Два яблока и апельсин. Бутылка лимонада. В углу кухни стояли маленький столик и стул, но он выбрал местом своей трапезы скудно обставленную спальню наверху. Винс сел на стул у окна, выходившего на запад. Океан находился всего лишь в квартале от его дома, на другой стороне шоссе «Коаст Хайвей», за полоской общественного пляжа, и со второго этажа ему были видны катящиеся волны. Небо было частично затянуто облаками, и океан местами сверкал, как хромированный металл, а местами напоминал вздымающиеся массы темной крови. За окном было тепло, хотя пейзаж был не по-весеннему холодным. Глядя на океан, Винс всегда чувствовал, что ритм его кровообращения гармонично совпадает с ритмом прибоя. Покончив с едой, он посидел еще немного, мурлыкая себе под нос и глядя на свое еле заметное отражение в стекле, как бы всматриваясь в прозрачную стенку аквариума; у него было такое чувство, что он находится в океане, глубоко внизу под поверхностью, на которой бушуют волны, в бесконечном мире полной тишины. Днем Винс сел в свой микроавтобус и отправился в Ирвин-сити на поиски лабораторного комплекса Банодайн. Он находился у подножия горной гряды Санта-Ана и состоял из двух зданий и территории, выглядевшей непомерно большой для района, где земельные участки стоили так дорого. Один корпус представлял из себя двухэтажное здание в форме буквы L, а другой, одноэтажный, в форме буквы V, имел несколько узких окон, похожих на бойницы крепости. Оба здания были построены в современном стиле — комбинация из плоских поверхностей и чувственных изгибов — и красиво облицованы темно-зеленым и серым мрамором. На фоне стоянки для машин и огромной ухоженной территории с растущими тут и там пальмами и коралловыми деревьями здания казались меньше, чем были на самом деле. Пожар возник в V-образном корпусе, где размещались лаборатории. О случившемся свидетельствовали только несколько разбитых окон и следы сажи на мраморной облицовке над ними. Территория не была обнесена ни стеной, ни забором, так что Винс, если бы захотел, мог войти туда без помех, однако на ведущей к зданиям дороге были устроены ворота и будка для привратника. Учитывая то, что привратник был вооружен, а также впечатление «закрытости», которое производило все это заведение, Винс предположил, что на всех газонах установлена электронная охранная сигнализация и даже ночью привратник будет знать о любом нарушителе, прежде чем тот успеет сделать вывод: поджигатель, помимо своей основной специальности, должен был еще хорошо разбираться в системах сигнализации. Винс проехал мимо ворот туда и обратно. Тени от облаков медленно скользили по газонам и набегали на стены корпусов. Что-то зловещее было в облике этого заведения. И не только потому, что Винс знал, какие исследования там проводятся. Затем он вернулся домой в Гантингтон-Бич. Съездив в Банодайн в надежде понять, что делать дальше, Винс был разочарован. Он не мог сообразить, кому предложить информацию за цену, оправдывающую тот риск, на который он пошел. Конечно уж, не правительству Соединенных Штатов, поскольку именно ему принадлежала эта информация. И не Советам, то есть противоположной стороне, поскольку именно Советы наняли его для убийства Вэтерби, Ярбеков, Хадстона и Хейнса. Разумеется, он не располагал никакими доказательствами того, что работает на Советы. Они поступили очень умно, наняв его, одиночку, не связанного ни с одной организацией. Винс, однако, получал от них задания так же часто, как от мафии, и, сопоставляя различные факты, все-таки был склонен думать: это Советы. Время от времени ему приходилось общаться по телефону с другими заказчиками, помимо тех трех, в Лос-Анджелесе, их голоса ему были знакомы, и все они говорили с акцентом, возможно, русским. Кроме того, люди, которых он устранял по их заданиям, были связаны с политикой или — как в случае с Банодайном — с обороной. Важно и то, что предоставляемая ими информация об «объектах» была неизменно более подробной, точной и содержательной по сравнению с той, которую он получал от уголовных структур. Кто, кроме США и Советов, захочет заплатить за такие деликатные сведения оборонного характера? Какой-нибудь диктатор из «третьего мира», стремящийся противопоставить что-то ядерным сверхдержавам? Проект «Франциск» может дать какому-нибудь карманному Гитлеру такой шанс и поднять его на вершины мировой власти. И, конечно, он щедро вознаградит за такую возможность. Но кто захочет рисковать, связываясь с типами вроде Каддафи? Только не Винс. Кроме того, он, Винс, обладает сведениями только о факте проведения исследований в Банодайне, но ничего не знает о научной и практической стороне дела. Так что, оказывается, он может предложить потенциальному покупателю гораздо менее ценный товар, чем думал вначале. Со вчерашнего дня, однако, в мозгу у Винса засела одна идея. И сейчас, когда он раздумывал о потенциальном покупателе перехваченных им секретов, эта идея не давала ему покоя. Собака. Очутившись опять у себя дома, Винс сел у окна в спальне и стал смотреть на океан. Уже наступила темнота, и океана не было видно, а он все сидел и думал о собаке. Хадстон и Хейнс рассказали ему столько об этом ретривере, что Винс понял: несмотря на всю свою ценность и сенсационность, информация о проекте «Франциск» не стоила и одной тысячной доли цены этого пса. Ретривера можно использовать с выгодой, и для этого найдется много способов: эта собака представляет собой хвостатую машину для делания денег. В любом случае ее можно продать либо правительству Соединенных Штатов, либо русским за огромные деньги. Если Винс найдет этого пса, он сможет обеспечить себе финансовую независимость. Но где его искать? Наверняка гигантская операция по его поимке уже — незаметно или секретно — ведется по всей Южной Калифорнии. Министерство обороны, видимо, выделило огромное количество людей для ее осуществления, и если Винс наткнется на них, они пожелают знать, кто он такой. А Винс не хочет стать объектом внимания с их стороны. Далее. Если он проведет собственный поиск в предгорьях Санта-Аны, где почти наверняка скрываются беглецы из лаборатории, он может найти не того, кого ищет. Вместо золотого ретривера наткнется на Аутсайдера. А это опасно. Смертельно опасно. За окном покрытое тучами ночное небо и океан соединились во мраке, черном, как оборотная сторона Луны.* * *
В четверг, через день после того, как Эйнштейн загнал Арта Стрека в угол кухни в доме Норы Девон, тот был обвинён во взломе и проникновении в чужое жилище, нападении, применении физической силы и попытке изнасилования. Поскольку в прошлом Стрек уже был судим за изнасилование и пробыл в заключении два года из трехлетнего срока, он не мог оставаться на свободе, так как назначенная полицией сумма денежного залога была слишком высока для него. А поскольку у него не было поручителя, который доверял бы ему, Стрек должен был находиться под арестом до дня суда. Нора испытала огромное облегчение от этого известия. В пятницу они с Тревисом отправились обедать. Приняв его приглашение, Нора удивилась собственному поступку. Надо было признать: Тревис был искренне возмущен тем, чего ей пришлось натерпеться от Стрека, и именно Тревису она была обязана сохранением своего достоинства и чести, а возможно, жизни. Однако годы параноидального воздействия тети Виолетты невозможно было перечеркнуть за несколько дней, поэтому некоторая подозрительность и страх еще присутствовали в поведении Норы. Если бы Тревис вдруг стал навязывать ей свое общество, она пришла бы в состояние жуткого смущения и отчаяния, но приняла бы как должное. Воспитанная с раннего детства на аксиоме: от других людей надо ожидать только плохого, Нора могла удивиться лишь проявлению доброты и сочувствия. И тем не менее она согласилась пообедать с Тревисом. В первые минуты Нора не знала, почему это сделала. Ответ, однако, напрашивался сам собой: из-за собаки. Ей хотелось быть рядом с Эйнштейном, потому что он давал ей ощущение безопасности и еще потому, что никто не одаривал ее так щедро своей любовью, пусть даже собака. Кроме того, в глубине души Нора знала: Тревису Корнеллу можно полностью доверять, ведь ему доверял Эйнштейн, а собаку не так просто обмануть. Обедали они в открытом кафе, устроенном в мощенном кирпичом дворике, где покрытые скатертями столики стояли под полосатыми бело-голубыми зонтиками и где им позволили привязать пса к железной ножке столика. Эйнштейн вел себя примерно и большую часть времени спокойно лежал на полу. Иногда он поднимал голову и смотрел на них своими умными глазами. Они угощали его, но специально еду ретривер не выпрашивал. Нора плохо разбиралась в собаках, но ей казалось: пес очень умен и любопытен. Он часто менял позу, чтобы лучше разглядеть других посетителей, которые, по-видимому, вызывали у него интерес. Нору привлекало буквально все. Она впервые обедала в общественном месте и хотя во многих книгах читала о том, как люди обедают в ресторанах, ее удивляли и восхищали мельчайшие детали. Роза в молочно-белой вазе. Спички, на этикетке которых было напечатано название заведения. Масло, свернутое в бутоны и поданное в вазочке с колотым льдом. Ломтик лимона в ледяной воде. Особенно ее поразила охлажденная вилка для салата. — Посмотри вот на это, — сказала Нора Тревису после того, как официант принес им закуски. Он, нахмурившись, взглянул на ее тарелку. — Что-нибудь не так? — Нет-нет… Видишь эти овощи? — Маленькие морковки и кабачки. — Где они берут такие крошечные овощи? А посмотри, как красиво разрезан помидор. Все так красиво. Как они успевают все так красиво приготовить? Нора знала: то, чем она восхищается, для него — привычное дело; ее удивление говорит о неопытности и невежественности и делает ее похожей на ребенка… Нора часто краснела, иногда заикалась от стеснения, но тем не менее без удержу восторгалась всеми увиденными чудесами. Тревис почти беспрерывно улыбался ей, но не снисходительно — Боже упаси, нет — ему на самом деле нравились ее восторги по поводу открытий, которые она для себя делала. К тому времени, как они покончили с кофе и десертом — тартинка с киви для нее и клубника со сливками для Тревиса, а также шоколадный эклер, доставшийся целиком Эйнштейну, — Нора углубилась в самую длинную в своей жизни беседу. Они провели в разговорах два с половиной часа, не впадая в неловкое молчание, обсуждая в основном книги; учитывая отшельническую жизнь Норы, любовь к чтению была единственным общим для них предметом. И еще одиночество. Тревис проявлял искренний интерес к ее мнению о писателях, со своей стороны, высказывая интересные и смелые мысли о прочитанных книгах, которые до этого не приходили ей в голову. За весь предыдущий год Нора не смеялась столько, сколько в этот день. Напряжение, однако, оказалось так велико, что время от времени у нее начинала кружиться голова, а когда они наконец покинули кафе, она уже не могла вспомнить, о чем именно они говорили, — в голове у нее все перемешалось. Нора испытывала психическую перегрузку, которую мог бы испытать дикарь, если бы его вдруг высадили посередине Нью-Йорка, и ей нужно было время, чтобы успеть все это переварить. Тревис поставил свой пикап у ее дома, поэтому обратно они шли пешком, и всю дорогу Нора вела Эйнштейна на поводке. Пес ни разу не попытался вырваться и ни разу не запутал поводок у нее в ногах, а мирно шел впереди, оглядываясь на Нору так умиленно, что та заулыбалась. — Какой хороший пес, — сказала она. — Замечательный, — согласился Тревис. — Такой послушный. — Такое с ним тоже бывает. — И такой умный. — Не надо его захваливать. — Ты боишься, что он загордится? — Он уже загордился, — сказал Тревис. — Если он загордится еще больше, с ним невозможно будет жить. Пес оглянулся на Тревиса и презрительно чихнул. Нора засмеялась. — Иногда мне кажется, что он понимает каждое твое слово. — Иногда, — согласился Тревис. Когда они подошли к дому, Норе захотелось пригласить Тревиса зайти. Однако она не была уверена, правильно ли Тревис поймет ее приглашение. В ней заговорила пугливая старая дева, а вместе с тем Нора знала: она может и должна доверять ему. Но вдруг перед Норой встал образ тети Виолетты, делающей грозные предупреждения насчет мужчин, и она не смогла заставить себя сделать то, что считала нужным. Нора боялась, что, предприняв что-нибудь еще, испортит себе впечатление о великолепно проведенном дне, и поэтому просто поблагодарила Тревиса за обед и даже не осмелилась попрощаться с ним за руку. Напоследок все-таки Нора наклонилась и погладила пса. Эйнштейн ткнулся носом ей в шею, лизнул в подбородок, заставив ее хихикнуть. Она никогда раньше не хихикала. Нора могла бы еще долго обнимать и ласкать собаку, но на этом фоне ее опасения насчет Тревиса стали бы еще очевиднее. Стоя у распахнутой двери, она смотрела, как они сели в пикап и уехали. Тревис на прощание махнул ей рукой. Она помахала в ответ. Затем пикап доехал до угла, повернул направо, и, когда совсем исчез из виду, Нора пожалела о своей трусости и о том, что не пригласила Тревиса в гости. Она чуть не сорвалась с места и не крикнула Тревису, чтобы тот вернулся. Но было поздно, Нора опять оказалась в одиночестве. Нехотя она вошла в дом и закрыла за собой дверь, оставив за порогом весь этот яркий и сверкающий мир.* * *
Служебный вертолет «Белл Джет Рейнджер» пронесся над оврагами и лишенными растительности хребтами горной гряды Санта-Ана. Тень от него бежала впереди, поскольку пятница подходила к концу и солнце садилось на западе. На подлете к каньону Святого Джима Лемюэль Джонсон выглянул в иллюминатор и увидел внизу на узкой полоске голой земли четыре автомобиля из окружного отдела полиции. Рядом с каменной хижиной стояли еще несколько машин, включая «универсал» патологоанатома и джип «Чероки», вероятно, принадлежавший убитому. Вырубка была небольшой, и пилоту едва хватило места для посадки вертолета. Еще до того, как перестал трещать двигатель и остановились лопасти, бронзовые в лучах заходящего солнца, Лем выпрыгнул из вертолета и заспешил к хижине. В двух шагах за ним следовал Клифф Соамс — его правая рука. Уолт Гейнс, шериф округа, вышел из дома навстречу Лему. Гейнс был крупный мужчина, шести футов четырех дюймов ростом и весом сотни в две фунтов, с широченными плечами и крепкой грудью. Пшеничные волосы и васильковые глаза делали бы его похожим на киноидола, если бы черты лица не были такими грубыми. Ему было пятьдесят пять, а выглядел он на сорок. Прическа его была не намного длиннее той, которую Гейнс носил во время двадцатилетней службы в морской пехоте. Несмотря на различие: в цвете кожи — Лем Джонсон был черным, а Уолт белым; в облике — Лемюэль был на семь дюймов ниже и на шестьдесят фунтов легче Уолта; в происхождении — Джонсон вырос в зажиточной семье, в то время как родители Гейнса были бедняками из Кентукки; в возрасте, наконец, — Лем был на десять лет моложе шерифа, — они были друзьями. Больше чем друзьями. Почти братьями. Вместе играли в бридж, рыбачили и получали ни с чем не сравнимое удовольствие, сидя в шезлонгах на веранде друг у друга, потягивая пиво «Корона» и решая мировые проблемы. Даже их жены стали подругами — невероятный случай, по мнению Уолта, поскольку, как он сам говорил: «Моей старухе никто не нравился, с кем бы я ее ни знакомил за все эти тридцать два года». Для Лема дружба с Уолтом Гейнсом тоже была исключительным событием, так как он очень трудно сходился с людьми. Он отдавал всего себя работе, и ему не хватало времени для того, чтобы простое знакомство переросло в дружбу. С Уолтом, правда, все было проще — они сразу стали друзьями, без всяких церемоний, моментально углядев сходство взглядов и привычек. Уже через полгода со дня их знакомства у них было чувство, что они знают друг друга с детства. Лем ценил эту дружбу почти так же высоко, как свой брак с Кариной. Если бы у него не было возможности расслабиться в компании Уолта, то работа совсем бы доконала его. Когда лопасти вертолета перестали вращаться, Уолт Гейнс сказал: — Не могу понять, почему вы, федералы,[86] заинтересовались убийством какого-то немытого скваттера. — Ну и хорошо, — сказал Лем. — Тебе и не надо это понимать. — Во всяком случае, я не предполагал, что ты сам приедешь. Думал, пришлешь кого-нибудь из своих «шестерок». — Агенты УНБ[87] не любят, когда их называют «шестерками». Глядя на Клиффа Соамса, Уолт спросил: — Он ведь обращается с вами как с «шестерками», не так ли? — Он тиран, — подтвердил Клифф. Ему шел тридцать первый год. Рыжие волосы и веснушки. Больше похож на серьезного молодого проповедника, чем на агента Управления национальной безопасности. — Слушай, Клифф, — сказал Уолт Гейнс, — ты должен понимать, откуда произошел Лем. Его отец, забитый черный бизнесмен, который никогда не зарабатывал больше двухсот тысяч в год. Что поделаешь, бедность. Поэтому Лем считает правильным принуждать вас, белых мальчиков, прыгать сквозь обручи, получая таким образом моральную компенсацию за годы ужасных унижений. — Он заставляет меня называть его «маса»,[88] — сказал Клифф. — Я так и думал, — ответил Уолт. Лем сказал со вздохом: — Вы двое так же остроумны, как ранение в промежность. Где труп? — Сюда, маса, — сказал Уолт. Перед тем как шериф, Лем и Клифф вошли в хижину, верхушки деревьев закачались от порыва теплого дневного ветра и тишину каньона нарушил шелест листвы. Очутившись в первой из имевшихся в доме комнат, Лем сразу почувствовал, почему Уолт так много шутил при встрече. Его деланный юмор был реакцией на тот ужас, который пришлось испытать. Так можно смеяться ночью на кладбище, чтобы не бояться покойников. Два стула с остатками обивки лежали перевернутыми на полу. Диванные подушки продырявлены, и из них вылезал поролон. Книги в бумажных обложках были вытащены из шкафа в углу, разорваны в клочья и разбросаны по комнате. Осколки оконного стекла сверкали посреди этого разрушения, как бриллианты. Все, включая стены, было забрызгано кровью, а на полу засыхала огромная темно-бордовая лужа. Подобно паре ворон, высматривающих яркие нитки для украшения своего гнезда, двое экспертов из криминалистической лаборатории, одетые в темные костюмы, тщательно исследовали место преступления. Время от времени они испускали бессвязные возгласы, вытаскивали что-то из обломков пинцетами и помещали находки в пластиковые пакетики. Очевидно, труп уже осмотрели и сфотографировали, поскольку он был помещен в непрозрачный покойницкий мешок и лежал возле двери, откуда его должны были перенести в машину. Глядя на смутные очертания человеческого тела в молочно-белом мешке, Лем спросил: — Как его звали? — Вэс Далберг, — ответил Уолт. — Прожил здесь больше десяти лет. — Кто обнаружил труп? — Сосед. — Когда случилось убийство? — Дня три назад. Может быть, во вторник вечером. Надо подождать результатов экспертизы. Погода-то стоит теплая, поэтому разложение идет быстрее. Во вторник вечером… В предрассветные часы во вторник в Банодайне произошел побег. К вечеру того же дня Аутсайдер мог пройти такое расстояние… Лем содрогнулся. — Замерз? — саркастически спросил Уолт. Лем не ответил. Они с Уолтом были друзьями и представителями закона, один на местном, другой на федеральном уровне, но в данном случае их пути расходились. Уолту необходимо было установить истину и рассказать о ней общественности, а Лему накрыть это дело крышкой и прижать посильнее. — Ну и воняет же здесь, — сказал Клифф Соамс. — Представляешь, как тут благоухало, когда «жмурик» еще не был в мешке? — сказал Уолт. — Только держись. — Это не только… запах разложения, — сказал Клифф. — Не только. — Уолт показал на пятна рядом со следами крови. — Экскременты. — Жертвы? — Не думаю, — ответил Уолт. — Какие-нибудь предварительные анализы делали? — спросил Лем, стараясь не выдать своей обеспокоенности. — Хоть в микроскоп смотрели? — Нет. Образцы доставят в лабораторию. Мы полагаем, это следы того, кто проник сюда через окно. Взглянув на Уолта, Лем спросил: — Ты имеешь в виду человека, убившего Далберга? — Это был не человек, — сказал Уолт. — Я думаю, ты тоже об этом знаешь. — Не человек? — Ну… не такой, как ты и я. — Так что это было, по-твоему? — А черт его знает, — сказал Уолт, потирая шею своей огромной ручищей. — Судя по ранам на трупе, у убийцы были острые зубы, возможно, когти и плохое настроение. Ну как, похоже на то, что ты ищешь? Лем не поддался на эту удочку. Наступило короткое молчание. Сквозь разбитое окно ветер принес запах сосен, слегка перебивший ужасный смрад, стоявший в комнате. Один из экспертов сказал: «А!» — и подцепил что-то своим пинцетом. Лем устало вздохнул. Не нравилось ему все это. Конечно, они не смогут установить убийцу Далберга, но найдут достаточно вещественных доказательств для того, чтобы разжечь всеобщее любопытство. А дело это проходит по линии национальной безопасности, и гражданским лицам нечего совать в него нос. Лем собирался положить конец расследованию. Он надеялся сделать это, не приводя Уолта в ярость. Их дружба сейчас находилась перед лицом серьезного испытания. Вдруг, разглядывая мешок с трупом, Лем понял, что форма тела какая-то странная. — Головы не хватает, — произнес он. — Вас, федералов, не проведешь, — сказал Уолт. — Его обезглавили? — дрогнувшим голосом спросил Клифф. — Идите сюда, — позвал Уолт, шагнув в соседнюю комнату. Собственно, даже не в комнату, а большую кухню с ручным насосом для воды и старинной дровяной печкой. Кроме головы, там не было других следов убийства. Но и этого было более чем достаточно. Она помещалась в центре стола. На блюде. — Господи Иисусе, — прошептал Клифф. Когда они вошли на кухню, полицейский фотограф как раз делал снимки головы, фотографируя ее с разных сторон. Он еще не закончил, но отошел в сторону, чтобы им было лучше видно. Глаза убитого отсутствовали. Их вырвали. Пустые глазницы чернели, как колодцы. Клифф так побледнел, что веснушки загорелись на его белой коже, как искры. Лема затошнило, не только из-за увиденного, но и от понимания, что этим убийством дело не кончится. Он гордился своими способностями руководителя и следователя, сознавал: никто не сможет вести дело лучше его. В то же время Лем не мог позволить себе недооценить противника или вообразить, что скоро положит конец этому кошмару. Для того чтобы выследить убийцу, ему понадобится много времени, терпения и везения. А за этот период появятся еще трупы. Голова Далберга не была отрезана или отрублена. Ее или оторвали когтями, или отгрызли с помощью зубов. У Лема внезапно вспотели ладони. Странно… он не мог оторвать взгляда от пустых глазниц, как будто на него оттуда смотрели широко открытые неподвижные глаза. По спине у Лема скатилась холодная капелька пота. Он испытывал страх, которого раньше не знал, — но не хотел, чтобы по какой-либо причине его отстранили от расследования. Для безопасности государства и общественности чрезвычайно важно, чтобы оно велось как надо, а Лем Джонсон знал: никто лучше его с этим не справится. И дело тут не в самомнении. Его безоговорочно признавали самым толковым работником, и он знал, что это так. Лем гордился этим по праву, и здесь не было места ложной скромности. Это было его расследование, и он должен был довести его до конца. Родители воспитывали в Леме чувство долга и ответственности. «Чернокожему, — говорил отец, — необходимо выполнять свою работу в два раза лучше, чем белому, чтобы заслужить какое-либо доверие. И тут ничего такого нет. Ничего тут не возразишь. Это просто факт жизни. Можно с таким же успехом возражать зимой против холодной погоды. Вместо этого нужно просто посмотреть правде в глаза, работать с удвоенной энергией — и ты добьешься поставленной цели. А ты должен достичь успеха, потому что являешь собой пример для своих братьев». Следуя наставлениям отца, Лем без остатка отдавал все свои силы любимому занятию. Он очень боялся неудач, и они редко посещали его. Однако когда какое-нибудь дело не «вырисовывалось» неделями, Лем впадал в глубокую хандру. — Выйдем поговорим? — предложил ему Уолт, шагнув к открытой задней двери хижины. Лем кивнул. Клиффу он сказал: — Побудь здесь. Проследи, чтобы никто: ни патологи, ни фотограф, ни полицейские — ни один человек не уехал отсюда, не переговорив со мной. — Слушаю, сэр, — ответил Клифф. Он быстро вышел из хижины, чтобы выполнить поручение Лема и наконец избавиться от зрелища мертвой головы. Лем последовал за Уолтом Гейнсом на поляну позади хижины. Заметив валявшийся там металлический лоток и разбросанные поленья, он остановился, чтобы рассмотреть их. — Мы думаем, что все началось здесь, — сказал ему Уолт. — Предположительно, Далберг ходил за дровами в сарай, а что-то выскочило на него из-за деревьев, поэтому он бросил лоток и побежал в дом. Он стояли у края поляны в оранжево-кровавом свете заходящего солнца, вглядываясь в пурпурные тени и зеленые глубины леса, окружавшего их со всех сторон. Лем нервничал. Он думал о том, что беглец из лаборатории Вэтерби, возможно, притаился поблизости и наблюдает за ними. — Ну, давай выкладывай, — сказал Уолт. — Не имею права. — Национальная безопасность? — Так точно. Ели, сосны и сикоморы зашелестели на ветру, и Лему почудилось какое-то движение в кустарнике. Игра воображения. Тем не менее Лем был рад, что у него, как и у Уолта, в кобуре под мышкой находился пистолет. Уолт сказал: — Можешь, конечно, держать рот на замке, но ты ведь не думаешь, что я полный дурак? Кое-что я соображаю. — Никогда не считал тебя дураком. — Во вторник утром все полицейские участки в Ориндже и Сан-Бернардино получают срочное предписание из твоего управления быть готовыми для оказания помощи в поисковой операции. Мы все встаем на уши. Мы же знаем, за что вы там отвечаете: за охрану оборонных исследований, за то, чтобы не дать этим писающим водкой русским похитить наши секреты. А поскольку в Южной Калифорнии находится половина всех оборонных подрядчиков, здесь есть на что позариться. Устремив взгляд на лесную чащу, Лем хранил молчание. — Поэтому, — продолжал Уолт, — мы приходим к выводу: идет поиск русского агента, который что-то там такое у вас умыкнул, и радуемся возможности сделать что-то приятное для дяди Сэма. К полудню, однако, вместо того чтобы получить оперативку, мы получаем отбой. Никакой операции не будет. Ваша контора заявляет нам, что все уже под контролем. А тревога была ложной. — Правильно, — сказал Лем. — Ложная тревога. В управлении поняли: местную полицию невозможно будет плотно контролировать, и поэтому нельзя брать ее в помощники. Это задание можно было поручить только военным. — Ну да, конечно. Во второй половине дня мы узнаем, что вертолеты морской пехоты из Эль-Торо летают в предгорьях Санта-Аны. А в среду утром сто морских пехотинцев, оснащенных по последнему слову техники, переброшены из Кемп-Пендлтона для ведения наземных поисков. — Я слышал об этом, — сказал Лем, — но это делалось не по линии управления. Уолт упорно не смотрел в глаза Лему, а отвел взгляд в сторону леса. Конечно, он знал: Лем лжет ему; он знал также, что Лем вынужден лгать, и не хотел поставить его в неудобное положение, встретившись с ним глазами. Несмотря на кажущуюся внешнюю грубость и плохие манеры, Уолт Гейнс был необычайно тактичным человеком и обладал редким талантом в дружбе. Но, кроме всего прочего, он был еще и шерифом округа и считал своим долгом вести расследование даже вопреки упорному молчанию Лема. Уолт произнес: — Военные заявили, что у них там учения. — Мне тоже так сказали. — Вообще-то об учениях нам сообщают за десять дней. Лем не ответил. Ему показалось, что в глубине леса он заметил небольшое движение, какая-то темная масса шевельнулась в сосновом мраке. — Морские пехотинцы провели всю среду и половину четверга, рыская по горам. Когда об этих «учениях» узнали репортеры и прибыли на место вынюхивать, в чем дело, начальство дало отбой. Складывалось впечатление, будто они ищут что-то настолько неприятное и настолько секретное, что для них лучше вообще ничего не найти, чем найти на глазах у прессы. Скосив глаза, Лем вглядывался в сгущающуюся лесную тьму, стараясь уловить движение, которое, как ему показалось, он увидел там секунду назад. Уолт продолжал: — Вчера вечером УНБ просит предоставлять им отчеты о любых «необычных происшествиях, нападениях или убийствах, совершенных с особой жестокостью». Мы требуем разъяснений, но не получаем их. Вон там. Что-то шевельнулось в сумраке вечнозеленых ветвей. Футах в восьмидесяти от края леса. Что-то там движется, крадучись, стараясь не выходить из темноты. Лем просунул руку за отворот пиджака и нащупал рукоять пистолета в кобуре под мышкой. — Через день, — говорил Уолт, — мы находим этого бедного сукина сына Далберга, растерзанного на куски — происшествие необычное, и уж, конечно, «особая жестокость» налицо. И вот прибываете на вертолете вы, мистер Лемюэль Аса Джонсон, начальник южнокалифорнийского отдела УНБ, и мне становится ясно: вы прилетели сюда совсем не для того, чтобы узнать, какую закуску я предпочитаю за завтрашним вечерним бриджем. Подозрительное движение в зарослях было гораздо ближе, чем в восьмидесяти футах. Лема сбила с толку игра света и тени между деревьями. Существо находилось футах в сорока от того места, где они стояли, когда внезапно оно бросилось прямо на них, ломая кустарник. Лем вскрикнул, выхватил пистолет и, спотыкаясь, сделал несколько невольных шагов назад, прежде чем занял огневую позицию, широко расставив ноги и держа пистолет двумя руками. — Да это олень! — сказал Уолт Гейнс. И в самом деле, из зарослей выбежал олень, остановился в нескольких футах от них и с любопытством взглянул на людей своими большими коричневыми глазами. Голову он держал высоко, а уши у него стояли торчком. — Они так привыкли к людям в здешних местах, что стали почти ручными, — заметил Уолт. Лем засунул пистолет в кобуру, ощущая противный вкус во рту. Почувствовав неладное, олень повернулся и исчез в чаще. Уолт не сводил пристального взгляда с Лема. — А ты думал, это что? Лем не ответил. Он вытер вспотевшие ладони о пиджак. Подул холодный ветер, предвестник ночи. — Никогда не видел тебя таким испуганным, — сказал Уолт. — Это от кофе. Я сегодня выпил его слишком много. — Иди ты знаешь куда. Лем пожал плечами. — Очевидно, убийца Далберга — животное, у которого полно зубов и когтей, настоящий зверюга, — сказал Уолт. — Но объясни мне, какое животное сумеет положить мертвую голову так аккуратно на блюдо посередине кухонного стола? Ничего себе юмор. Но животные не склонны к юмору, даже такому. Убийца Далберга оставил нам голову в качестве издевки. Так скажи мне, ради Христа, с чем мы имеем дело? — Тебе не надо и не положено это знать, поскольку дело находится в моей юрисдикции. — Бред собачий. — Я здесь не командую, — сказал Лем. — Теперь расследование находится в ведении федеральных служб, Уолт. Я изымаю все доказательства, собранные твоими людьми, и все отчеты. Ни ты, ни твои люди не должны никому рассказывать об увиденном здесь. Ты заведешь папку на это дело, но в ней будет только один документ: служебная записка за моей подписью о том, что оно передается федеральным органам. Ты выходишь из игры, Уолт. Что бы ни случилось, никто не сможет тебя обвинить в этом. — Дерьмо. — Хорошо, пусть так. Уолт возвысил голос: — Я должен знать… — Теперь твое дело — сторона. — Подвергаются ли опасности люди в моем округе? Хоть это ты мне можешь сказать, черт тебя дери? — Да. — Подвергаются? — Да. — А если я буду бороться с тобой, чтобы заполучить это дело, смогу ли я как-то уменьшить эту опасность? — Нет. Ничего не сможешь, — сказал Лем искренне. — Тогда нет смысла бороться с тобой. — Никакого, — согласился Лем. Он зашагал к хижине, поскольку начинало быстро смеркаться, а ему не хотелось с приближением темноты оставаться слишком близко к лесу. На этот раз это был олень. А на следующий? — Погоди-ка, — сказал Уолт. — Послушай, что я тебе скажу. Можешь не говорить ни «да», ни «нет». Просто выслушай меня. — Валяй, — сказал Лем нетерпеливо. Тени от деревьев медленно ползли по сухой траве вырубки. Солнце повисло над горизонтом. Уолт вышел из тени на угасающий солнечный свет, засунув руки в карманы и глядя себе под ноги, как бы собираясь с мыслями. — Во вторник вечером кто-то вошел в частный дом в Ньюпорт-Бич и застрелил человека по имени Ярбек, а потом забил до смерти его жену. Ночью следующего дня кто-то убил семью Хадстонов в Лагуна-Бич: мужа, жену и сына-подростка. Полиция этих районов пользуется одной и той же криминалистической лабораторией, поэтому не составило труда определить, что и в том и в другом случае использовался один и тот же пистолет. На этом открытия, сделанные местной полицией, заканчиваются, поскольку в обоих этих случаях УНБ также взяло расследование под свою юрисдикцию. В интересах национальной безопасности. Лем не отвечал. Он уже пожалел, что согласился выслушать Уолта. Во всяком случае, Лем не руководил лично расследованием убийств ученых, которые, по его мнению, почти наверняка были организованы советской стороной. Он поручил это дело другим людям, чтобы высвободить себя для поисков собаки и Аутсайдера. Заходящее солнце окрашивало все вокруг в оранжевый цвет. Окна хижины вспыхивали в отблеске пылающего заката. Уолт сказал: — О'кей. Потом появляется сообщение о пропаже доктора Дэвиса Вэтерби из Корона-дель-Мар. Никто не видел его со вторника. Сегодня утром его брат находит труп доктора в багажнике машины. Не успевают прибыть туда местные патологоанатомы, а агенты УНБ уже тут как тут. Лема слегка обеспокоила быстрота, с которой шерифу удалось собрать и сопоставить информацию из разных районов, не входящих в состав его округа и, таким образом, не входящих в его компетенцию. Уолт усмехнулся, но глаза его были серьезны. — Не думал, что я сумею нарисовать такую схему, а? Все эти преступления совершены в районах, подчиненных разным полицейским управлениям, но для меня этот округ — один большой город с двумя миллионами жителей, поэтому я поддерживаю тесные контакты с местными управлениями. — Ну и к какому выводу ты пришел? — К такому, что удивительным образом в один день происходит убийство шести видных граждан. Это ведь графство Ориндж, не Лос-Анджелес. И еще более удивительным образом все шесть убийств имеют отношение к национальной безопасности. Любопытно, не так ли? Поэтому я сразу начинаю проверять всю подноготную этих людей в поисках того, что может их связывать… — Уолт, ради Бога! — И выясняю: все они работают или работали в заведении под названием Исследовательский комплекс Банодайн. Лем не разозлился. Он не мог злиться на Уолта — они были ближе чем братья, — но проницательность этого верзилы на мгновение взбесила его. — Послушай, ты не имеешь права проводить расследование. — Я вообще-то шериф, ты не забыл? — Ни одно из этих убийств — кроме Далберга здесь — не входит в твою юрисдикцию. Начнем с этого. А если бы даже они входили… когда в дело вступает УНБ, ты не имеешь права продолжать. Если уж говорить серьезно, это строжайше запрещено законом. Не обращая внимания на его слова, Уолт продолжал: — Я отправляюсь в Банодайн посмотреть, чем они там занимаются, и узнаю: генной инженерией, рекомбинацией ДНК… — Ты неисправим. — Конечно, нет прямых указаний на то, что в Банодайне работают на оборону, но ведь это ничего не значит. Это могут быть «слепые» контракты и проекты, настолько секретные, что их финансирование не проходит отдельной строкой в общественном бюджете. — Боже мой, — раздраженно произнес Лем. — Неужели ты не понимаешь: с нами лучше не связываться, тем более когда законы о национальной безопасности на нашей стороне? — Я просто рассуждаю. — Ты дорассуждаешься до тюремной камеры. — Послушай, Лемюэль, давай не доводить дело до расовых противоречий. — Нет, ты неисправим. — Ты повторяешься. Ну, в общем, я немного пошевелил мозгами и сообразил, что убийства сотрудников Банодайна каким-то образом связаны с поиском, который вели военные в среду и четверг. А также убийством Вэса Далберга. — Убийство Далберга не похоже на остальные. — Разумеется, нет. Исполнители — разные. Ярбеки, Хадстоны и Вэтерби были убиты профессионалом. А бедняга Далберг растерзан на куски. Но, видит Бог, тут все-таки существует связь. Иначе ты бы не приехал. И эта связь — Банодайн. Солнце скрывалось за горизонтом. Тени сгущались и набухали. Уолт сказал: — Вот что я думаю: там, в Банодайне, они создавали какую-то новую бациллу, ну, другими словами, генетически измененный микроб, который выполз из пробирки и заразил кого-то. Но этот кто-то не просто заболел, а получил поражение мозга и превратился в дикого маньяка… — Ну да, современный вариант доктора Джекилла, — саркастически перебил его Лем. — Потом он сбежал из лаборатории, прежде чем кто-то узнал о случившемся, дотопал до этих холмов, пришел сюда и напал на Далберга. — Ты что, насмотрелся фильмов ужасов? — Ярбеков и остальных, возможно, убили из-за того, что они знали о происходящем и так боялись последствий, что намеревались сделать публичное заявление. Вдали в сумерках каньона раздался надрывный протяжный вой. Наверное, койот. Лему хотелось поскорее убраться подальше от этого леса. Но сейчас ему надо было разобраться с Уолтом Гейнсом и каким-то образом отвлечь шерифа от той линии, которую он так упорно гнул. — Давай начистоту, Уолт. Ты хочешь сказать, что правительство Соединенных Штатов приказывает убивать своих ученых, чтобы заткнуть им рот? Уолт насупил брови, понимая: подобный сценарий маловероятен, если вообще возможен. Лем продолжал: — Неужели наша жизнь похожа на фильм ужасов? Убивать собственных граждан? Это что, месяц национальной паранойи, или что? Ты на самом деле веришь в такой бред? — Нет, — признался Уолт. — Ну как, по-твоему, убийцей Далберга мог оказаться научный сотрудник, у которого поражен мозг? Ты ведь сам сказал, что существо, расправившееся с Далбергом, было с когтями и острыми зубами. — О'кей, о'кей, в моей версии есть недостатки. Но в главном она верна. Я убежден, что все завязано вокруг Банодайна. Я ведь прав в принципе, а, Лем? — Нет, — отвечал Лем. — Ничего похожего. — Правда? — Правда. — Лем не привык лгать Уолту, но ничего другого не оставалось. — Я не имею права говорить тебе даже этого, но по старой дружбе признаюсь. К жутковатым завываниям в зарослях присоединились другие голоса, и теперь стало ясно, что это всего-навсего койоты, но Лему все равно было не по себе. Потирая бычью шею ладонью, Уолт сказал: — И что, Банодайн здесь совсем ни при чем? — Абсолютно. То, что Ярбеки и Вэтерби, а в прошлом и Хадстон, работали там, — чистое совпадение. Если хочешь, можешь дальше крутить свою версию, но предупреждаю: толку не будет. Солнце скрылось, и в небе, казалось, внезапно отворилась какая-то дверь, откуда в ночной мир подуло холодом. Все еще потирая шею, Уолт сказал: — Значит, Банодайн ни при чем, да? — Он вздохнул. — Я слишком хорошо тебя знаю, парень. С твоим чувством долга ты бы соврал собственной матери, если бы этого требовали интересы государства. Лем промолчал. — Ладно, — сказал Уолт. — Брошу это дело. Занимайся им ты. При условии, что больше не будет убийств в моем районе. Если нечто случится… тогда мне, наверное, придется вмешаться. Не могу тебе обещать ничего другого. У меня тоже есть чувство долга, к твоему сведению. — Знаю, — сказал Лем виновато, чувствуя себя полным негодяем. Вместе они зашагали по направлению к хижине. Небосвод — темный на востоке и испещренный полосками оранжевого, пурпурного и красного света на западе, — казалось, падал вниз, как крышка ящика. Завывали койоты. Их ход прерывал вой другого существа. «Кугуар», — подумал Лем, но понял, что лжет самому себе.* * *
В воскресенье, два дня спустя после их удачного свидания в кафе, Тревис и Нора поехали в Сольванг — деревню, выстроенную в датском стиле в долине Святой Инессы. Это было туристское местечко с сотнями магазинов и магазинчиков, где торговали всем — от изящного скандинавского хрусталя до пластиковых имитаций датских пивных кружек. Причудливая (не без умысла) архитектура и обсаженные деревьями улицы только усиливали удовольствие от рассматривания витрин. Несколько раз во время прогулки Тревису хотелось взять Нору за руку. Это казалось ему совершенно естественным. Тем не менее он чувствовал, что она может оказаться не готовой даже к такому безобидному прикосновению. На Норе было надето очередное платье-мешок на этот раз блеклого синего цвета. Практичные туфли. Ее густые темные волосы спадали вниз неаккуратными прядями, как в первый день их знакомства. Находиться рядом с ней было необычайно приятно. У нее был замечательный характер, отличавшийся тонкостью и доброжелательностью. Ее наивность производила освежающий эффект на Тревиса. Застенчивость и скромность, хотя и чрезмерные, нравились ему. Нора смотрела на все вокруг восторженными, широко раскрытыми глазами, и это было очаровательно. Тревис получал удовольствие от того, что удивлял ее простыми вещами, показывая ей магазинчик, торгующий часами с кукушкой, лавку, где продавались чучела животных, музыкальную шкатулку, в которой отворялась перламутровая дверца, открывая взору кукольную балерину, делающую пируэт. Тревис купил ей футболку скороткими рукавами, на груди которой в его присутствии — пока Нора ждала в сторонке — сделали надпись: «Нора любит Эйнштейна». Хотя девушка предупредила, что никогда не наденет футболку, поскольку это не в ее стиле, Тревис знал: она будет ее носить — ведь Нора так сильно любила собаку. Когда они вышли к псу из магазина и отвязали его от парковочного счетчика, Нора показала ему футболку, и Эйнштейн, внимательно осмотрев надпись, со счастливым видом полез к ней лизаться. Вряд ли Эйнштейн мог прочесть надпись, но, похоже, он все-таки понял ее смысл. За весь этот день у них был только один неприятный момент. Когда они повернули за угол и подошли к очередной витрине, Нора внезапно остановилась и оглядела толпы на тротуарах: людей, едящих мороженое в больших вафельных рожках и яблочные пирожные в кульках из вощеной бумаги; парней в украшенных перьями ковбойских шляпах, купленных в одной из лавок; хорошеньких девушек в коротеньких шортах и бюстье; жирную тетку в просторном гавайском платье; туристов, говорящих на английском, испанском, вьетнамском и многих других языках, которые можно услышать в любом курортном месте Южной Калифорнии; затем она перевела взгляд вдоль оживленной улицы на магазинчик сувениров, выстроенный в форме ветряной мельницы, и вдруг оцепенела, покачнулась. Тревису пришлось усадить ее на скамейку в ближайшем скверике. Ей потребовалось несколько минут, чтобы унять дрожь, прежде чем она смогла говорить. — Перебор, — произнесла она наконец нетвердым голосом. — Слишком много… впечатлений, звуков… всего сразу. Извини, пожалуйста. — Я понимаю, — сказал он растроганно. — Я привыкла к нескольким комнатам, к знакомым вещам. Люди смотрят на нас? — Да нет, никто не обратил внимания. На что тут смотреть? Нора сидела, вздернув плечи, опустив голову и сжав кулаки. И только когда Эйнштейн положил голову ей на колени, она постепенно начала приходить в себя. — Мне было так хорошо, — сказала Нора Тревису, не поднимая головы, — правда, очень хорошо, и я думала о том, как далеко я нахожусь от дома и как это чудесно. — Не так уж и далеко. Меньше часа на машине, — заметил Тревис. — И когда я осознала, как далеко я забралась и какая незнакомая здесь идет жизнь… я испугалась, чисто по-детски. — Хочешь, мы сейчас поедем назад, в Санта-Барбару? — Нет, — ответила Нора, встречаясь с ним глазами и отрицательно мотая головой. Осмелев, она взглянула на людей, гуляющих в сквере, и на магазин в виде мельницы. — Нет, я хочу побыть здесь еще. До конца дня. Я хочу поужинать в ресторане — в настоящем ресторане, а не в уличном кафе — как это делают другие люди, а затем, когда стемнеет, ты отвезешь меня домой. — Нора моргнула и мечтательным голосом повторила: — Когда стемнеет. — Хорошо. — Конечно, если ты не собирался вернуться домой пораньше… — Нет, нет, — сказал он. — Я так и планировал, что мы пробудем вместе целый день. — Это так мило с твоей стороны. Тревис поднял брови: — Что ты имеешь в виду? — Сам знаешь. — Боюсь, что нет. — Ты помогаешь мне войти в этот мир, — сказала Нора. — Жертвуешь своим временем, чтобы помочь… мне. Это очень щедрый подарок. Тревис был поражен. — Нора, уверяю тебя, я не занимаюсь здесь благотворительностью. — Я просто думаю, что такой мужчина, как ты, может гораздо интереснее провести воскресный день в мае. — Ну конечно, — сказал он иронически. — Я мог остаться дома и почистить все свои башмаки с помощью зубной щетки. А еще можно было сосчитать все макароны в кухне. Она не улыбнулась его шутке. — Клянусь Богом, ты на самом деле так думаешь, — сказал Тревис. — Ты полагаешь, что я нахожусь здесь с тобой из жалости? Закусив губу, Нора произнесла: — Оставим это. Мне все равно. — Но я здесь не из жалости, черт меня возьми! А потому, что мне нравится быть с тобой, потому что мне нравишься ты! Несмотря на то, что она еще ниже опустила голову, Тревис заметил: ее щеки заливаются краской. Наступила неловкая пауза. Эйнштейн умиленно смотрел на Нору, которая водила рукой по его шерсти, и время от времени поднимал глаза на Тревиса, как бы говоря: «Послушай, ты вовлек ее в эти отношения, так не сиди, как дурак, а скажи что-нибудь, действуй, постарайся завоевать ее сердце». Минуты две она сидела молча, почесывая и лаская ретривера, а затем сказала: — Со мной уже все в порядке. Они покинули скверик и опять пошли вдоль торговых рядов, делая вид, что не помнят ни ее минутной паники, ни его неуклюжего признания. У Тревиса было такое чувство, что он оказывает знаки внимания монашке. После некоторого размышления, однако, Тревис понял: ситуация еще сложнее. Со времени смерти жены три года назад он не вступал в связь ни с одной женщиной. Сама тема сексуальных отношений была для него как бы в новинку. Поэтому Тревис ощущал себя священником, ухаживающим за монашкой. Почти на каждом углу располагалась кондитерская, и от витрины к витрине выставленные в них лакомства казались все более аппетитными. Ароматы корицы, сахарной пудры, мускатного ореха, миндаля, яблок и шоколада пронизывали теплый весенний воздух. У каждой витрины Эйнштейн вставал на задние лапы и жадно смотрел сквозь стекло на искусно выставленные яства. Тем не менее он не входил внутрь и не лаял. Выпрашивая угощение, он тихонько скулил, чтобы не беспокоить окружающих. Получив конфету или яблочное пирожное, он успокаивался и переставал попрошайничать. Спустя некоторое время Эйнштейн продемонстрировал Норе свои выдающиеся способности. Разумеется, он и до этого вел себя как умная и примерная собака, а еще раньше проявил инициативу в поимке Арта Стрека, но тем не менее раскрыться в полной мере ему до сих пор не удавалось. Они проходили мимо аптеки, в которой, помимо всего прочего, продавались газеты и журналы, частично выставленные на наружном стенде около входа. К удивлению Норы, пес вдруг помчался туда, вырвав конец поводка у нее из рук. Прежде чем она и Тревис догнали его, он успел вытащить зубами журнал со стойки и положил к Нориным ногам. Журнал назывался «Модерн Брайд».[89] — Глупая псина, — сказала она. — Что это тебе взбрело в голову? Подобрав поводок, Тревис пробился сквозь толпу и поставил свой экземпляр на стенд. Он был уверен, что понял намек собаки, но промолчал, боясь обескуражить Нору, и они зашагали дальше. Эйнштейн смотрел по сторонам, с интересом обнюхивая прохожих, и, казалось, забыл о матримониальных изданиях. Однако, когда они отошли шагов на двадцать, ретривер резко повернулся и проскочил у Тревиса между ногами, вырвав у него из рук поводок и чуть не свалив его самого. Эйнштейн подбежал к аптеке, выхватил журнал со стойки и вернулся к ним. «Модерн Брайд». Нора все еще не понимала происходящего. Ее это забавляло, и она потрепала собаку по спине. — Это что, твой любимый журнал, глупая псина? Не пропускаешь ни одного номера? Могу поспорить, что так и есть. А ты, оказывается, романтик! Несколько туристов обратили внимание на игривое поведение ретривера, но еще меньше, чем Нора, осознали, какое серьезное намерение скрывается за этой игрой. Когда Тревис нагнулся за журналом, собираясь вернуть его на место, Эйнштейн опередил его, схватил журнал зубами и начал яростно мотать головой из стороны в сторону. — Нехороший пес, — сказала Нора, явно удивленная таким изменением в поведении собаки. Эйнштейн разжал зубы, и «Модерн Брайд», потрепанный, порванный и мокрый от слюны, упал на тротуар. — Похоже, придется за него заплатить, — сказал Тревис. Высунув язык, пес сел, склонил голову и посмотрел на Тревиса. Нора по-прежнему оставалась в неведении относительно всего происшедшего. Разумеется, у нее не было причин делать какие-либо сложные умозаключения по поводу поведения Эйнштейна. Она не могла оценить его способности и не ожидала от него сложного уровня общения. Строго поглядев на пса, Тревис сказал: — Ты прекращай это дело, псина. Чтобы я больше этого не видел. Понял? Эйнштейн зевнул. Заплатив за журнал и засунув его в пластиковый пакет, они продолжили прогулку по Сольвангу, но не успели дойти до конца квартала, как Эйнштейн решил осуществить свои намерения до конца. К удивлению и испугу Норы, он вдруг схватил ее зубами за руку, осторожно, но крепко, и потянул вдоль тротуара к картинной галерее, где молодая парочка любовалась выставленными в витрине пейзажами. Рядом с ними в прогулочной коляске сидел ребенок, и именно к нему старался Эйнштейн привлечь внимание Норы. Он не отпускал ее руки, пока не заставил дотронуться до пухлой ручки младенца, облаченного в розовый костюмчик. Нора произнесла недоуменно: — Он думает, что у вас замечательный ребенок, и это, конечно, так. Родители, поначалу встревоженные появлением собаки, убедились, что пес безопасен для их малыша. — Сколько вашей девочке? — спросила Нора. — Десять месяцев, — ответила мать. — А как ее зовут? — Лана. — Красивое имя. Наконец Эйнштейн успокоился. Когда Нора с Тревисом отошли в сторону и остановились полюбоваться антикварным магазином, который, казалось, по кирпичику и по досочке был перевезен сюда из Дании семнадцатого века, Тревис сел на корточки рядом с псом и, подняв рукой его лохматое ухо, проговорил: — Хватит. Если хочешь еще раз получить «Алпо», прекращай свои штучки. Нора недоумевала: — Что с ним? Эйнштейн зевнул, и Тревис понял: дело плохо. В течение следующих десяти минут Эйнштейн еще дважды брал Нору за руку и подводил к детишкам. «Модерн Брайд» и младенцы. Намек был теперь совершенно очевиден даже для Норы: «Ты и Тревис предназначены друг для друга. Женитесь. Создавайте семью. Заведите детей. Чего вы ждете?» Нора залилась краской и не смела взглянуть на Тревиса. Он тоже был не в своей тарелке. Почувствовав, что его намек ясен, Эйнштейн успокоился. Глядя на него, Тревис понял: у собак тоже бывает самодовольное выражение. Когда настало время ужина, было еще очень тепло, и Нора отказалась от мысли пойти в ресторан. Она выбрала одно местечко, где на открытом воздухе под огромным дубом стояли столики, затененные красными зонтами. Тревис знал, что Нора не боится идти в ресторан, а просто не хочет расставаться с Эйнштейном, которому бы не позволили войти внутрь. Много раз в течение ужина она то украдкой, то открыто следила за собакой внимательным взглядом. Тревис не упоминал в разговоре о происшедшем и сделал вид, что обо всем этом забыл. Но, когда Нора отвлекалась и смотрела по сторонам, он произносил шепотом угрозы в адрес пса: «Больше никаких пирожных. Посажу на цепь. Надену намордник. Отправлю на живодерню». Эйнштейн воспринимал их спокойно, скаля зубы, зевая и выдувая воздух из ноздрей.* * *
Рано вечером в воскресенье Винс Наско навестил Джонни Сантини по кличке Струна. Он получил ее по двум причинам, одной из них стала его внешность: Джонни был длинный, худой и жилистый, как сплетенный из струн. У него к тому же были медного цвета волосы. Вторая связана с небольшим дельцем, которое он предпринял в нежном пятнадцатилетнем возрасте. Чтобы заслужить внимание своего дяди, Релиджио Фастино, главы одного из пяти нью-йоркских мафиозных кланов, Джонни взялся ликвидировать одного самодеятельного торговца наркотиками, «работавшего» в Бронксе[90] без разрешения клана. Он задушил его рояльной струной. Такая демонстрация инициативы и верности принципам клана растрогала дона Релиджио, заставив его заплакать второй раз в жизни и пообещать племяннику вечное уважение и хорошо оплачиваемое место в семейном бизнесе. Сейчас Джонни Струна достиг тридцатипятилетнего возраста и жил в доме стоимостью в миллион долларов на побережье в Сан-Клементе. После покупки дома, состоявшего из десяти комнат и четырех ванных, Джонни нанял дизайнера, который превратил его новое жилище в этакий заповедник «Арт Деко». Преобладающими цветами в интерьере были оттенки черного, серебряного и темно-синего, с вкраплениями бирюзового и персикового тонов. Джонни говорил Винсу, что ему нравится арт деко. Этот стиль напоминал ему о «бурных двадцатых», а «двадцатые» он любил за то, что это была романтическая эпоха легендарных гангстеров. Для Джонни Струны преступление стало не просто средством для добывания денег, способом противопоставить себя ограничениям цивилизованного общества, не результатом дурной наследственности, а захватывающей дух романтической традицией. Он считал себя братом каждого одноглазого и однорукого пирата, который когда-либо плавал по морям с целью наживы и грабежа, каждого разбойника с большой дороги, когда-либо обиравшего почтовый дилижанс, каждого взломщика сейфов, похитителя детей и мошенника на протяжении всего времени существования криминального мира. Ему нравилось называть себя мистическим родственником Джесси Джеймса, Диллинджера, Аль Капоне и Дальтонов, Лаки Лючиано и других. Джонни ко всем испытывал любовь, ко всем этим легендарным братьям по уголовному миру. Приветствуя Винса у входной двери, он сказал: — Входи, входи, здоровяк. Рад тебя видеть. Они обнялись, хотя Винс не любил обниматься. Дело в том, что в прошлом, когда он жил в Нью-Йорке, ему приходилось работать на дядю Джонни, Релиджио, да и сейчас время от времени он брался за различные поручения клана Фастино, поэтому они с Джонни были вроде как приятели, и обняться нужно было обязательно. — Выглядишь хорошо, — сказал Джонни. — Следишь за собой. И, конечно, по-прежнему хитрый, как змея? — Как гремучая змея, — ответил Винс, досадуя, что ему приходится произносить всякие глупости, хотя знал: Джонни любит такие разговоры. — Давно тебя не видел, уж было подумал, что тебя взяли за задницу. — Я никогда не буду сидеть, — сказал Винс, уверенный: тюрьма никогда не станет частью его жизни. Джонни понял его слова в том смысле, что Винс будет отстреливаться до последнего, но не сдастся властям, поэтому ухмыльнулся и одобрительно кивнул. — Если загонят тебя в угол, положи столько этих тварей, сколько сможешь, прежде чем тебе наступит конец. Это единственный чистый выход. Джонни Струна был на удивление непривлекательный мужчина, и это в какой-то мере объясняло его тягу к романтическим уголовным традициям. Годами вращаясь среди преступного мира, Винс заметил: преступники с красивой внешностью никогда не хвастаются своими «подвигами». Они хладнокровно убивают, потому что это им нравится или вызвано необходимостью; либо крадут, обманывают и вымогают, так как любят «легкие» деньги, и точка. Никаких самовосхвалений и самооправдания. Так и должно быть. Но те, у кого, как кажется, морды грубо отлиты из бетона, те, кто похож на Квазимодо, вставшего не с той ноги, — не все, но многие из них, — стараются компенсировать свою неприглядную наружность, пытаясь походить на Джимми Кагни в «Возмутителе спокойствия». На Джонни было надето черное трико десантника и черные кроссовки. Он всегда носил черное, так как этот цвет придавал ему зловещий вид и скрадывал уродство. Из прихожей Винс последовал за Джонни в гостиную, где вся мебель имела черную обивку, а низкие столики были покрыты блестящим черным лаком. Винс увидел искусственную позолоту ламп Ранка, большие посеребренные вазы в стиле «деко» от Даума и пару антикварных стульев от Жака Рульманна. Винс знал предысторию этих вещей только потому, что во время его предыдущих визитов Джонни сбрасывал с себя маску «крутого парня», чтобы натрепать ему всякой чепухи о своих сокровищах. Привлекательная блондинка с журналом в руках полулежала в серебристо-черном шезлонге. Хотя на вид ей было не более двадцати лет, у нее были на удивление хорошо развитые формы. Ее чуть серебристые волосы были коротко острижены «под мальчика». На ней была красная пижама из китайского шелка, плотно облегавшая ее полную грудь, а когда она взглянула на Винса и надула губки, ему показалось, что она старается быть похожей на Джин Харлоу. — Это Саманта, — представил Джонни Струна. Обращаясь к девушке, он сказал: — Лапуля, перед тобой фартовый парень, всегда работающий в одиночку, человек-легенда. Винс чувствовал себя полным дураком. — Что такое «фартовый»? — спросила блондинка таким высоким голосом, который не оставлял сомнения в том, что она подражает кинозвезде прошлых лет Джуди Холидей. Стоя рядом с шезлонгом и взяв груди девушки в свои ладони, Джонни сказал: — Она не понимает, Винс. Она не принадлежит к fratellanza.[91] Она девчонка из долины, жизни не знает, наших порядков — тоже. — Он хочет сказать, что я не принадлежу к вонючим итальяшкам, — съязвила Саманта. Джонни влепил ей такую пощечину, что она чуть не слетела с шезлонга. — Думай, что говоришь, сучка. Приложив ладонь к лицу, с глазами, полными слез, Саманта произнесла детским голосом: — Прости меня, Джонни. — Глупая сучка, — пробормотал он. — Я не знаю, как это получилось, — сказала девушка. — Ты хорошо относишься ко мне, Джонни, и я ненавижу себя, когда веду себя вот так. Винсу показалось, что сцена отрепетирована. Она уже до этого многократно повторялась, как наедине, так и на людях. По тому, как заблестели глаза Саманты, Винс понял: ей нравится, когда ее бьют по морде; она специально надерзила Джонни, чтобы тот ей врезал. Было ясно и то, что Джонни обычно не отказывал себе в этом удовольствии. Винс почувствовал отвращение. Джонни Струна обозвал ее еще раз «сучкой», а затем повел Винса из гостиной в большой кабинет и закрыл за собой дверь. Он подмигнул ему и сказал: — Саманта любит взбрыкивать, но если бы ты знал, как она работает ртом! Ощущая подступившую тошноту от похотливости Джонни Сантини, Винс не дал втянуть себя в разговоры на эту тему. Он вынул из кармана конверт. — Мне нужна информация. Джонни взял у него конверт, небрежно провел большим пальцем по пачке стодолларовых банкнот, лежавшей внутри, и сказал: — Считай, что ты ее уже имеешь. Кабинет был единственной комнатой в доме, не тронутой стилем «деко». Здесь все было на высшем техническом уровне. Вдоль трех стен выстроились прочные металлические столы, на которых возвышались восемь компьютеров, все разных форм и моделей. Каждый компьютер имел собственный телефонный канал и модем, и все дисплеи светились. На некоторых из них были включены программы: бегали или медленно плыли сверху вниз данные. Окна были плотно зашторены, а на двух лампах, установленных на гибких кронштейнах, надеты бленды, чтобы свет не падал на мониторы, поэтому основным светом в кабинете был зеленый. От него у Винса складывалось впечатление, что он находится глубоко под поверхностью океана. Три лазерных принтера делали бумажные копии, производя при этом шелест, напоминавший звуки, издаваемые рыбами, скользящими между морскими водорослями. На счету у Джонни Струны были полдюжины убийств, финансовые махинации, ограбления банков и кражи драгоценностей. Кроме того, по линии семьи Фастино он участвовал в операциях, связанных с наркотиками и рэкетом, с похищениями, с коррупцией в профсоюзах, аудио- и видеопиратством, угоном грузовиков трансамериканских компаний, подкупом должностных лиц и детской порнографией. Все это он проделывал сам или помогал другим, и, хотя ему никогда не становилось скучно, вне зависимости от того, как долго и как часто он был задействован в тех или иных акциях, усталость все-таки накапливалась. В течение последних десяти лет, когда в уголовный мир пришли компьютеры, открыв новые, захватывающие возможности для совершения преступлений, Джонни ухватился за них. Оказалось, что у него к этому хорошие способности, и очень скоро организованная преступность возвела его в ранг компьютерного пирата № 1. При наличии времени и стимула он мог проникнуть через любую систему охраны компьютерных данных и получить доступ к самой деликатной информации, хранящейся в памяти машины частной корпорации или государственного учреждения. Если вам требовалось совершить мошенничество с кредитными карточками на миллионные суммы, Джонни мог подобрать подходящие фамилии и справки о доходах из файлов TRW, а к ним — соответствующие номера карточек из банка данных «Америкэн Экспресс», принадлежащих другим людям. Если вы были уголовным воротилой, ожидающим суда за тяжкие преступления, и опасались, что один из ваших сообщников выступит с показаниями против вас, Джонни мог проникнуть в хорошо охраняемые банки данных Министерства юстиции, выяснить новую фамилию, которую органы следствия дали стукачу в системе защиты свидетелей, и направить верных вам людей по нужному адресу. Джонни с присущей ему помпезностью называл себя Электронным магистром, хотя по-прежнему звали его Струной. Он стал настолько ценным кадром для всех преступных кланов страны, что те не возражали, когда Джонни решил уехать в сравнительно тихое местечко Сан-Клемент и вести там курортный образ жизни, лишь бы он продолжал работать на них. «В эпоху микросхем, — говорил Джонни, — весь мир превращается в маленький городишко. Ты можешь сидеть в Сан-Клементе или в Ошкоше и, не двигаясь с места, залезать кому-нибудь в карман в Нью-Йорк-сити». Джонни плюхнулся в черное кожаное кресло с высокой спинкой и на резиновых колесиках, на котором он мог кататься от одного компьютера к другому. — Итак, Винс, чем тебе может помочь Электронный магистр? — Ты можешь подключиться к полицейской компьютерной сети? — Запросто. — Меня интересуют дела о необычных убийствах, которые, возможно, были заведены со вторника в любом из полицейских управлений. — А жертвы кто? — Не знаю. Мне просто нужны сведения о необычных убийствах. — В каком смысле «необычных»? — Точно сказать не могу. Возможно… разорванное горло. Или растерзанный на куски труп. Как после нападения дикого животного. Джонни пристально посмотрел на него. — Да, действительно дело незаурядное. Но о таких вещах, как правило, сообщают в газетах. — Могут не сообщать, — произнес Винс, думая о целой армии сотрудников национальной безопасности, прилежно работающих, чтобы не просочилась в прессу информация о проекте «Франциск», и об опасном развитии событий в лаборатории Банодайн. — Об убийствах, наверное, станет известно, но полиция будет придерживать некрасивые подробности, чтобы все выглядело как обычное убийство. Поэтому из газет я не смогу узнать, являются ли жертвами интересующие меня люди. — Ладно. Сделаю. — Заодно проверь окружное управление по контролю над животными. У них могли появиться сведения о зверских нападениях со стороны койотов, кугуаров или других хищников и не только на людей, но также на всяких там коров, овец. Может быть, есть информация из какого-то района, скорее всего на востоке графства, где пропадали или были растерзаны домашние животные. Если наткнешься на что-либо подобное, отметь это для меня. Джонни усмехнулся и спросил: — Ты что, охотишься за оборотнем? Это была шутка, и он не ждал ответа. Джонни не спросил, зачем Винсу нужна информация, и никогда не спросит, поскольку в его бизнесе люди не задают лишних вопросов. Конечно, Джонни любопытен, но Винс знал: Струна никогда не даст волю своему любопытству. Винса сбил с толку не вопрос, а усмешка, с которой тот его задал. Зеленоватое мерцание дисплеев отражалось в глазах Джонни, на его влажных от слюны зубах, а также — хоть и в меньшей степени — в медных волосах. Он и так был безобразен, а это зеленое свечение делало его похожим на оживших мертвецов из фильма Ромеро. Винс сказал: — И еще одно. Я хочу знать, ведет ли хоть одно полицейское управление в округе поиск золотистого ретривера. — Это что, собака? — Ага. — Пропавшие собаки — не дело полиции. — Знаю. — У нее есть кличка? — Нет. — Я проверю. Что-нибудь еще? — Все. Когда будут результаты? — Я позвоню тебе утром. Рано. Винс кивнул: — В зависимости от того, что тебе удастся обнаружить, мне, возможно, потребуются твои услуги и дальше. Каждый день. — Детские игрушки, — сказал Джонни, повернувшись вокруг оси в своем вертящемся кресле и спрыгивая на пол с ухмылкой. — А теперь пойду трахну Саманту. Хочешь присоединиться? Такие два жеребца, как мы, из нее кисель сделаем, из этой сучки. Ну как? Винс был благодарен этому жуткому зеленому свечению за то, что оно сделало незаметным покрывшую его бледность. Сама мысль о возне с этой вонючей стервой, с этой заразной шлюхой вызвала у него тошноту. — У меня встреча, на которую я не могу опоздать. — Жаль, — сказал Джонни. Винс заставил себя выговорить: — Это было бы интересно. — Может быть, в другой раз. Винса охватило брезгливое чувство. Ему очень сильно захотелось встать под горячий душ.* * *
В воскресенье вечером, чувствуя приятную усталость от проведенного в Сольванге долгого дня, Тревис полагал, что уснет, как только его голова коснется подушки, но этого не произошло. Он не мог не думать о Норе Девон. Ее серых глазах с зелеными прожилками. Блеске черных волос. Изящной линии шеи. Музыкальном звуке голоса и ее улыбке. Эйнштейн лежал на полу в прямоугольнике серебристого света, падающего в темную комнату сквозь окно. Тревис целый час крутился в кровати, переворачиваясь с боку на бок, и пес наконец забрался к нему в постель и положил кудлатую голову и передние лапы ему на грудь. — Она такая замечательная, Эйнштейн. Одна из самых замечательных женщин, которых я когда-либо встречал. Собака хранила молчание. — И умная. У нее острый ум, она сама об этом знает. Нора понимает то, чего не понимаю я. Она умеет так рассказывать, что начинаешь смотреть на мир ее глазами и воспринимать его иначе. Несмотря на неподвижность и молчание, ретривер не спал. Он внимательно слушал. — Когда я думаю о том, что ее тяга к жизни, ум и чувства подавлялись на протяжении тридцати лет, мне плакать хочется. Тридцать лет в этом старом, мрачном доме. Боже правый! А когда я думаю, как она переносила все эти годы и не позволяла себе очерстветь душой, мне хочется обнять ее и сказать, какая она необыкновенная женщина — сильная, мужественная и замечательная. Эйнштейн слушал не шевелясь. На Тревиса вдруг нахлынул чистый аромат шампуня — он слышал этот запах, когда приблизился к Норе у витрины картинной галереи в Сольванге. Он глубоко вдохнул этот нахлынувший на него аромат, и сердце у него учащенно забилось. — Черт меня дери, — сказал он. — Знаком с ней всего несколько дней, но, по-моему, уже влюбился. Ретривер поднял голову и тявкнул, как бы подтверждая эту мысль и показывая, что это он стал причиной их знакомства и что теперь беспокоиться нечего, поскольку все пойдет само собой. Тревис еще целый час говорил о Норе, ее наружности и походке, мелодичности голоса, уникальном видении мира и способе мышления, а Эйнштейн слушал со вниманием и искренним интересом, как может слушать только настоящий преданный друг. Тревис чувствовал необыкновенный душевный подъем. Он было уже поверил в то, что никогда не сможет никого полюбить. Да еще так сильно. Еще неделю назад его одиночество казалось непоколебимым. Исчерпав свои физические и эмоциональные силы, Тревис в конце концов уснул. Посередине ночи он, однако, проснулся и сквозь полусон увидел: Эйнштейн стоит у окна, положив передние лапы на подоконник и упершись носом в стекло, внимательно вглядывается в темноту. Тревис понял, что пес испытывает беспокойство. Однако ему только что снилось, что он держит Нору за руку, и ему не хотелось до конца просыпаться, чтобы этот приятный сон не ушел от него.* * *
Утром в понедельник двадцать четвертого мая Лемюэль Джонсон и Клифф Соамс прибыли в небольшой зоопарк — это было несколько вольеров, где для развлечения детей содержали молодняк — в просторном Ирвин-парке, на восточной границе графства Ориндж. Ветра не было, и в кронах огромных неподвижных дубов с ветки на ветку с щебетаньем перескакивали птицы. Были убиты двенадцать животных. Они лежали, сваленные в кровавую кучу. Под покровом ночи кто-то перелез через изгородь и убил трех молодых коз, белохвостую олениху с олененком, двух павлинов, зайца, овечку и двух ягнят. Среди мертвых животных находился также пони, но на нем не было следов насилия. Очевидно, он умер от испуга и ударов об изгородь, о которую бился, пытаясь убежать, пока преступник расправлялся с другими животными. Пони лежал на боку, изогнув шею под неправдоподобным углом. Дикие кабанчики не пострадали. Они хрюкали в отдельной вольере, тыкаясь в пыльную землю вокруг кормушки, где вчера просыпался корм. В отличие от кабанчиков другие оставшиеся в живых животные вели себя скованно. Служащие парка были подавлены. Они собрались вокруг оранжевого грузовика, принадлежащего администрации округа, разговаривали с двумя представителями отдела по контролю за животными и с молодым бородатым биологом из Калифорнийского департамента живой природы. Присев на корточки около олененка, Лем осмотрел раны на его шее, но вскоре встал, не вынеся исходившего от него смрада. Запах был вызван не только начавшимся разложением, но и экскрементами и мочой, оставленными убийцей на телах жертв, — повторение того, что Лем уже видел в доме Далберга. Прижав носовой платок к лицу, чтобы не дышать этим зловонием, Лем подошел к мертвому павлину. У него была оторвана голова и нога. Оба подрезанных крыла были изломаны, а радужные перья потускнели и слиплись от крови. — Сэр, — позвал Клифф из соседнего загона. Лем оставил павлина, нашел калитку, ведущую в вольеру, и подошел к Клиффу, стоявшему рядом с трупом овцы. Его облепили, жадно жужжа, мухи, и Лем с Клиффом помахали руками, сгоняя насекомых. В лице Клиффа не было ни кровинки, но он не проявлял признаков шока или тошноты, как в пятницу в хижине Далберга. Возможно, оттого, что были убиты животные, а не люди. Вероятно, Клифф намеренно приучал себя к необычайной жестокости преступника. — Зайдите с моей стороны, — сказал он, сидя на корточках рядом с овцой. Лем обошел труп и присел рядом с Клиффом. Несмотря на то, что на голову животного падала тень от нависшей над загоном ветви дуба, Лем увидел: правый глаз был вырван из глазницы. Не говоря ни слова, Клифф с помощью палки приподнял голову овцы и обнаружил, что левый глаз тоже отсутствовал. Над трупом кружилась уже целая туча мух. — Похоже, здесь поработал наш беглец, — произнес Лем. Отнимая платок от лица, Клифф сказал: — Это не все. — Он подвел Лема еще к трем трупам: двух ягнят и одной из коз. У них тоже были вырваны глаза. — Сомнения нет. Чертов монстр прикончил Далберга в прошлый четверг, затем бродил по холмам и каньонам в течение пяти дней… — Занимаясь… чем? — Бог его знает. Но прошлой ночью он притопал сюда. Лем вытер платком пот, выступивший на его темнокожем лице. — От хижины Далберга нас отделяет всего несколько миль, если идти на юго-восток. Клифф кивнул. — Как ты думаешь, куда он двинет? Клифф пожал плечами. — Да, — сказал Лем, — это непредсказуемо. Мы не можем предупредить его действия, так как не знаем его намерений. Нужно только молить Бога, чтобы он остался здесь, в незаселенном районе графства. Я даже предположить боюсь, что произойдет, если он решит отправиться в самые восточные районы, такие, как Ориндж-парк-эйкрз и Вилла-парк. Выходя из зоосада, Лем заметил: мухи так сильно облепили зайца, что казалось, будто он покрыт куском темной материи, шевелящейся на легком ветру. Восемь часов спустя, в семь вечера в понедельник, Лем вышел на трибуну большого конференц-зала в помещении базы морской пехоты в Эль-Торо. Он придвинулся к микрофону, постучал по нему пальцем, чтобы убедиться в его исправности, и сказал: — Попрошу внимания. В зале на складных металлических стульях ему внимали сто человек. Это были как на подбор молодые, хорошо сложенные мужчины, поскольку все они принадлежали к элите морской пехоты — ее разведке. Пять взводов, состоящих из двух отделений каждый, были вызваны из Пендлота и других калифорнийских баз. Большинство этих парней на прошлой неделе участвовали в поисковой операции у подножия Санта-Аны. Поиск еще не закончился — военные только что вернулись, проведя целый день на холмах и в каньонах. Чтобы ввести в заблуждение репортеров и местные власти, они приехали к обозначенному на карте периметру поискового района на легковых машинах, пикапах и джипах. Там разбрелись на самостоятельные группы по три-четыре человека, одетые как обычные туристы: джинсы или брезентовые штаны, футболки или хлопчатобумажные рубахи, кепки с козырьками или ковбойские шляпы. Парни имели на вооружении крупнокалиберные пистолеты и револьверы, их можно было быстро спрятать в рюкзаках или под рубахами, если бы навстречу им попались настоящие туристы или представители властей. А в сумках-холодильниках из пенопласта «Стайрофом» хранились автоматы «узи», которые можно было привести в действие через несколько секунд в случае встречи с противником. Каждый участник операции дал расписку в том, что, если он сообщит о характере операции кому-либо, его ожидает длительное тюремное заключение. Все они знали, за каким существом охотятся, хотя, по мнению Лема, некоторые из них все еще с трудом верили в его существование. Некоторые испытывали страх. Другие же, особенно те, кому довелось служить в Ливане или Центральной Америке, были достаточно хорошо знакомы со смертью и всякими ужасами, чтобы не спасовать перед необычностью сегодняшнего задания. Среди этих людей находилось и несколько ветеранов, еще заставших последний год вьетнамской войны, и они отнеслись к операции как к загородной прогулке. Это были настоящие парни, которые испытывали уважительную осторожность к предмету своих поисков. Если Аутсайдера вообще можно найти, они были полны решимости это сделать. Сейчас же, когда Лем попросил их внимания, в зале мгновенно воцарилась тишина. — Генерал Хотчкисс сообщил мне, что еще один день прошел в бесплодных поисках, — произнес Лем. — И я знаю: от этого у вас такое же паршивое настроение, как и у меня. Вы проводите по многу часов в труднопроходимой местности вот уже в течение шести дней, вы устали и спрашиваете себя, сколько это еще будет продолжаться. Что вам сказать? Мы должны искать то, что мы ищем, пока не загоним Аутсайдера в угол и не покончим с ним. Другого способа остановить его нет. Парни ответили молчаливым согласием. — И не забывайте: мы ищем еще и собаку. Каждый из сидящих в зале, наверное, при этих словах испытал надежду, что именно он наткнется на собаку, а кто-то другой — на Аутсайдера. Лем сказал: — В среду сюда прибудут еще четыре подразделения морских пехотинцев из отдаленных баз вам на подмену, поэтому у вас будет пара выходных. Но завтра все выходят как один. Кроме того, изменился район поиска. Позади трибуны на стене была вывешена карта округа, и Лем стал водить по ней указкой. — Поиск перемещается на северо-запад в холмы и каньоны вокруг Ирвин-парка. Затем он рассказал об убийствах животных в детском зоосаде, подробно описав состояние трупов. Ему хотелось, чтобы они получше узнали о повадках того, с кем им придется иметь дело. — То, что произошло с животными в зоопарке, может случиться с любым из вас, если вы хоть на секунду потеряете бдительность. Сто мужчин выслушали его со всей серьезностью, и в их глазах он увидел сто отражений его собственного затаенного страха.* * *
Во вторник двадцать пятого мая Трейси Ли Кишан не могла уснуть. Она была настолько возбуждена, что все в ней ходило ходуном. Трейси могла бы сравнить себя с одуванчиком, белым пушистым шариком: достаточно малейшего дуновения — и легкие семена-парашютики полетят во все стороны, ее больше не станет, она исчезнет без остатка. Трейси исполнилось тринадцать лет, и она обладала необычайно развитым воображением. Лежа в кровати в темной спальне, девочка, даже не закрывая глаз, могла представить себя сидящей верхом на ее собственном гнедом жеребце по кличке Гудхарт,[92] а если точнее, мчащейся галопом по треку — мимо мелькает изгородь, другие лошади скачут позади, до финиша остается меньше ста ярдов, а с главной трибуны слышен восхищенный гул зрителей… В школе она постоянно получала хорошие отметки, но не из-за прилежания, а потому что учение давалось ей легко и не требовало от нее больших усилий. К занятиям Трейси относилась довольно безразлично. Она была стройной блондиночкой с глазами цвета чистого летнего неба и очень хорошенькой; мальчики крутились вокруг нее, но Трейси уделяла им не больше внимания, чем учебе, хотя все ее подружки были настолько заняты мальчишками, что подчас ей бывало невыразимо скучно. По-настоящему Трейси была увлечена — глубоко и страстно — только лошадьми и только чистокровными скакунами. Она собирала фотографии животных с пятилетнего возраста и посещала уроки верховой езды с семи лет, несмотря на то, что долгое время ее родители не могли позволить себе купить ей лошадь. Последние два года, однако, бизнес ее отца процветал, и вот два месяца назад семья переехала в новый дом на участке в два акра в Ориндж-парк-эйкрз. Здесь многие держали лошадей и было немало дорожек для верховой езды. В конце их владения находилась конюшня на шесть лошадей, но пока в ней было занято только одно стойло. Именно сегодняшний день, двадцать пятое мая, навсегда останется в сердце Трейси днем, который наглядно доказывал: Бог существует — сегодня ей подарили собственную лошадь — прекрасного и несравненного Гудхарта. Заснуть, разумеется, девочка не могла. Она ушла в спальню в десять, но и к полуночи сна у нее не было ни в одном глазу. К часу ночи Трейси больше не могла оставаться в постели. Ей было просто необходимо пойти в конюшню и посмотреть на Гудхарта. Убедиться, что с ним все в порядке. Что ему удобно в его новом пристанище. Убедиться, что он настоящий. Она откинула в сторону простыню и тонкое одеяло и выскользнула из постели. На ней были трусики и футболка с надписью «Скачки Санта-Анита», поэтому девочка просто натянула джинсы и сунула босые ноги в голубые кроссовки «Найк». Бесшумно повернув ручку двери, она тихо вышла в холл, оставив дверь в спальню открытой. В доме было темно и тихо. Ее родители и девятилетний брат Бобби спали. Трейси прошла через холл, гостиную и столовую, не зажигая света, полагаясь на лунное сияние, проникающее в дом через большие окна. Войдя в кухню, выдвинула ящик из углового шкафчика и достала фонарик. Затем, отперев заднюю дверь, вышла на открытую кухонную веранду, тихонько притворила за собой дверь, не включая фонарь. Весенняя ночь повеяла на нее прохладой. Несколько больших, посеребренных сверху лунным светом, но темных снизу облаков плыли, подобно парусным галеонам, по океану ночи, и Трейси полюбовалась ими несколько мгновений. Ей хотелось вобрать в себя мгновение, приближавшее ее к встрече с любимцем. Что ни говори, а сейчас впервые она сможет побыть со своим гордым и благородным конем наедине — постоять рядом и вместе помечтать о будущих совместных радостях. Трейси миновала веранду, обошла вокруг плавательного бассейна, в воде которого трепетало гофрированное отражение луны, и зашагала по идущему вниз газону. В освещенной лунным светом траве мириадами огоньков мерцали капельки ночной росы. Слева и справа участок был обнесен белой изгородью, слегка фосфоресцирующей в лунном сиянии. За изгородью простирались другие участки, площадью не меньше акра, а некоторые такие же большие, как владение Кишанов. На всем пространстве Ориндж-парк-эйкрз стояла ночная тишина, нарушаемая только несколькими цикадами и лягушками. Трейси медленно шла по направлению к конюшне на краю участка, размышляя о победах, которые ожидают их с Гудхартом. Он, правда, больше не будет участвовать в состязаниях. В недалеком прошлом жеребец брал призы на скачках в Санта-Анита, Дель-Мар, Голливуд-парке и других местах по всей Калифорнии, но получил травму, и возвращать его на трек было небезопасно. Тем не менее Гудхарта можно было использовать как племенного производителя, и Трейси не сомневалась, что его потомству уготовано блестящее будущее. Через неделю им обещали доставить двух хороших кобыл, и тогда сразу же отвезут их на племенную ферму, где Гудхарт их покроет. Потом все трое вернутся назад, и Трейси будет за ними ухаживать. На следующий год родятся два здоровеньких жеребеночка, и их отправят к тренеру, живущему поблизости, чтобы Трейси могла постоянно навещать малышей. Она будет помогать их растить и выезжать, научится всему, что нужно для воспитания настоящих чемпионов, а потом потомок Гудхарта впишет новые страницы в историю скачек — Трейси была абсолютно уверена, что именно так все и произойдет. Ее мечтания были прерваны, когда до конюшни оставалось пройти ярдов сорок: она наступила в какую-то кашу, поскользнулась и чуть не упала. Хотя запаха Трейси не услышала, она подумала, что это, наверное, помет, оставленный Гудхартом во время вчерашней прогулки. Чувствуя себя глупо и неуклюже, девочка включила фонарик и, посветив себе под ноги, вместо лошадиного навоза увидела ужасным образом растерзанное тело кошки. Трейси фыркнула от отвращения и тотчас выключила фонарик. Их район буквально кишел кошками, отчасти потому, что вокруг конюшен, как правило, водилось множество мышей. С ближайших холмов регулярно спускались койоты в поисках добычи. Иногда им удавалось схватить зазевавшуюся кошку, и поначалу Трейси подумала, что какой-нибудь койот подлез под изгородь или перепрыгнул через нее и подстерег эту несчастную кошку, которая вышла охотиться на грызунов. Койот, правда, съел бы кошку на месте, оставив от нее только кончик хвоста и кучу шерсти, поскольку эти хищники ужасно прожорливы. Или утащил бы жертву в другое место, где никто не помещал бы его трапезе. Эта же кошка не была съедена даже наполовину — ее просто разорвали на куски, как будто убийство в данном случае стало самоцелью. Трейси содрогнулась. И вспомнила слухи, ходившие про зоосад. В Ирвин-парке, всего в милях двух отсюда, два дня назад кто-то убил нескольких животных,находившихся в вольерах. Какие-нибудь наркоманы. Садисты. Никто не знал в точности, что произошло, но слухи об этом ходили очень упорные. Соседские ребята вчера ездили туда на велосипедах; изуродованных трупов, правда, они не видели, но заметили: животных в вольерах поубавилось. Шотландского пони точно на месте не оказалось. Они начали расспрашивать служащих парка, но те оказались неразговорчивыми. Предположение о том, что те же самые психи бродят по Ориндж-парк-эйкрз, убивая кошек и других домашних животных, привело Трейси в замешательство. Ей вдруг пришло в голову, что если у людей, убивающих кошек ради удовольствия, настолько не в порядке с головой, то они вполне могут переключиться и на лошадей. Мысль о Гудхарте, стоящем в конюшне в одиночестве, чуть не парализовала ее. На мгновение у девочки отнялись ноги. Странным образом ночные звуки вокруг нее стихли. Цикады умолкли. Не было слышно и лягушек. Облака-галеоны встали на якорь в ночном небе, как будто путь им преградили сияющие в лунном свете льды. В ближнем кустарнике что-то шевельнулось. Большая часть огромного участка отводилась под газон, по которому были искусно высажены живописные группы растений, состоявшие в основном из индийских лавров и джакаранд, нескольких коралловых деревьев, клумб с азалиями, кустов калифорнийской сирени и жимолости. Трейси ясно услышала, как зашуршали кусты — кто-то грубо и торопливо пробирался через них. Но когда она включила фонарик и обвела его лучом ближайшие заросли, то не увидела ничего подозрительного. Опять наступила непривычная тишина. Девочка подумала: может, лучше вернуться домой и, разбудив отца, попросить его пойти вместе с ней или же лечь спать и утром все проверить самой. А что, если там, в кустах, всего-навсего койот? В этом случае опасность ей не угрожает. Голодный койот, конечно, может напасть на младенца, но убежит от всякого ростом с Трейси. Кроме того, она была слишком встревожена за своего благородного Гудхарта, чтобы терять время попусту; ей необходимо было удостовериться, что с ним все в порядке. Направив луч фонаря себе под ноги, чтобы не наступить еще на что-нибудь неприятное, Трейси заспешила к конюшне. Сделав всего несколько шагов, она опять услышала шелест и, что еще хуже, жуткое рычание, не похожее на звуки, издаваемые известными ей животными. Девочка в нерешительности остановилась и хотела уже бежать домой, когда из конюшни до нее донеслось пронзительное ржание Гудхарта. Впечатление было такое, что от страха он бьет копытами о дощатую стенку стойла. В воображении Трейси моментально возникла картина: ухмыляющийся маньяк приближается к Гудхарту, держа в руках ужасные орудия пыток. Ее боязнь за себя уступила место страху за ее любимого жеребца, и она помчалась ему на помощь. Было слышно, как бедняга Гудхарт еще сильнее застучал копытами по стенам — в ночной тишине звук раздавался гулко, как гром. Когда от конюшни Трейси отделяли каких-нибудь пятнадцать ярдов, до нее вновь донеслось странное утробное рычание и она поняла: сзади на нее надвигается какое-то существо. На скользкой траве девочка с трудом прервала бег, обернулась и вскинула фонарик. На нее неслось существо, место которому было только в преисподней. Оно испустило безумный и злобный вопль. В свете фонарика Трейси не сумела как следует разглядеть нападавшего. Фонарик прыгнул у нее в руке, да и луна вдруг зашла за облако; кроме того, существо мчалось слишком быстро, а она слишком сильно напугалась, чтобы понять, что это на самом деле. Девочка заметила только большую уродливую голову, всю в асимметрических углублениях и желваках, огромные челюсти, полные острых зубов, и янтарные глаза, светящиеся в луче фонарика так же, как глаза кошек и собак отсвечивают в свете автомобильных фар. Трейси завизжала. Нападавший издал еще один вопль и кинулся на нее. Он ударился о девочку с такой силой, что чуть не вышиб из нее дух. Фонарик отлетел в сторону, она упала, существо навалилось на нее сверху, и они покатились в сторону конюшни. Трейси изо всех сил молотила кулачками по чудовищу, пока не ощутила, как острые когти впиваются ей в правый бок. Из раскрытой пасти ее обдало зловонным дыханием, в котором смешивался запах крови, гнилого мяса и еще чего-то более отвратительного; она почувствовала, что мерзкая тварь сейчас вцепится ей в горло — я сейчас умру, о Господи, оно меня сейчас убьет, как ту кошку! Разумеется, через несколько секунд это бы и случилось, если бы Гудхарт, обезумевший от страха, не выбил дверь конюшни и не выскочил прямо на них. Завидев девочку и чудовище, конь заржал и взвился на дыбы, как будто собираясь растоптать их. Существо испустило еще один леденящий душу вопль, но на этот раз не от ярости, а от страха. Оно освободило Трейси и метнулось в сторону, стараясь избежать удара копыт. Копыта Гудхарта опустились на землю в нескольких дюймах от головы девочки, затем конь опять встал на задние ноги, перебирая передними в воздухе и сопровождая это громким ржанием, и она поняла, что через несколько секунд он может в панике размозжить ей голову. Трейси перекатилась в сторону, противоположную той, куда метнулась желтоглазая тварь, к этому моменту исчезнувшая в темноте. Гудхарт продолжал подниматься на дыбы и ржать, Трейси визжала и звала на помощь, собаки во всей округе начали выть, и в доме вспыхнул свет, давая ей надежду на спасение. Вместе с тем она чувствовала: чудовище находится где-то рядом, возможно, старается обойти жеребца, чтобы наброситься на нее вновь. Ей стало ясно, что прежде чем она успеет добраться до дома, оно снова схватит ее, и поэтому решила искать спасения в одном из пустых стойл. На бегу Трейси приговаривала: «Господи, о, Господи, Господи, Господи, Господи…» Двустворчатая дверь конюшни, построенной на голландский манер, была крепко заперта на щеколду. Еще одна щеколда была на дверной раме. Трейси отперла эту щеколду, распахнула створки, прыгнула в пахнущую сеном темноту и, захлопнув за собой дверь, стала тянуть ее на себя что было сил. Мгновением позже чудовище ударило в дверь снаружи, стараясь выбить ее, но рама не позволила ему это сделать. Дверь открывалась только наружу, и Трейси надеялась, что у желтоглазой твари не хватит ума сообразить, что створки надо тянуть на себя. Но она ошиблась. (Боже праведный, почему эта бестия не настолько же глупа, насколько она уродлива?!) Ударившись о дверь два раза, чудовище потянуло ее в свою сторону, едва не вырвав створки из рук Трейси. Ей хотелось позвать на помощь, но нужно было экономить каждую унцию энергии для того, чтобы еще крепче упереться пятками в пол и тянуть дверь на себя. От усилий ее демонического противника дверь так и билась о косяк. К счастью, Гудхарт все еще громко ржал, а чудовище испускало вопли — поэтому, подумала она, отцу нетрудно будет определить, куда бежать на помощь. Дверь приоткрылась на несколько дюймов. Трейси вскрикнула и с усилием захлопнула ее. Через мгновение чудовищу удалось оттянуть створки на себя, удержать и открыть их еще шире. Девочка проигрывала. С каждой секундой щель становилась все шире. Она уже видела смутные очертания уродливой головы. Янтарные глаза уже не светились так ярко. Чудовище шипело и рычало на нее, а зловонное дыхание перебивало запах сена. Постанывая от ужаса и отчаяния, Трейси тянула на себя дверь изо всех сил. Но тщетно. Щель становилась все шире и шире. В висках у нее стучало так сильно, что она даже как следует не расслышала первый выстрел. Затем, когда в ночи прогремел второй, девочка поняла: отец спешит к ней на помощь, вооруженный своей двустволкой двенадцатого калибра. Дверь вдруг захлопнулась в руках у Трейси, поскольку нападавший, напуганный выстрелами, перестал тянуть на себя. Трейси изо всех сил продолжала удерживать ее. И тут она подумала, что в суматохе отец может решить, будто во всем виноват Гудхарт, что он взбесился или что-нибудь в этом роде. Поэтому девочка начала кричать: — Не стреляй в Гудхарта! Не стреляй в коня! Выстрелов больше не последовало, и Трейси стало стыдно за свои мысли. Отец был осторожным человеком, особенно когда дело касалось оружия, и, если он не знает, что происходит, то сделает только предупредительные выстрелы. Вот и сейчас скорее всего он разнес в клочья какой-нибудь куст. С Гудхартом наверняка все в порядке, а чудовище с янтарными глазами, по-видимому, уже мчится к холмам или каньонам, или туда, откуда оно пришло. (Кстати, что же это такое было?) Слава Богу, все уже позади. Трейси услышала топот, а затем голос ее отца, зовущего ее по имени. Она открыла дверь и увидела его, одетого в синие пижамные брюки, с двустволкой в руках, спешащего к ней. За ним бежала мама с фонариком в руках, в короткой желтой ночной рубашке. На пригорке, в конце загона, стоял Гудхарт, прародитель будущих чемпионов, в целости и сохранности. При виде коня, стоявшего перед ней без единой царапины, у Трейси из глаз брызнули слезы, и она, спотыкаясь, выбежала из конюшни, чтобы осмотреть его поближе. Не успела девочка сделать и трех шагов, как жгучая боль пронзила весь ее правый бок, и у нее вдруг закружилась голова. Трейси покачнулась, упала, приложила ладонь к боку, почувствовала что-то мокрое и поняла: она ранена. Тут девочка вспомнила, что чудовище впилось в нее когтями, как раз перед тем, как Гудхарт вырвался из стойла и спугнул его. Откуда-то издалека она услышала собственный голос: — Милая моя лошадка… какая хорошая лошадка… Отец опустился рядом с Трейси на колени. — Малышка, что случилось, что с тобой? Ее мама тоже была рядом. Отец увидел кровь. — Вызывай «скорую»! Мать, не подверженная панике или истерикам в трудные минуты, мгновенно помчалась в сторону дома. Трейси начала терять сознание. В ее глазах сгущалась темнота, но это не была ночная темнота. Этой темноты она уже не боялась. Это была хорошая, успокаивающая темнота. — Малышка, — проговорил отец, прикладывая ладонь к ее ранам. Слабым голосом, понимая, что находится в полубреду, и удивляясь собственным словам, Трейси произнесла: — Помнишь, когда я была маленькой… совсем маленькой… я думала… что у меня в шкафу живет кто-то страшный? Он обеспокоенно нахмурился. — Детка, тебе сейчас лучше полежать спокойно и помолчать. Окончательно теряя сознание, Трейси сказала с серьезностью, которая одновременно позабавила и напугала отца: — Ну так вот… привидение, которое жило в шкафу в нашем старом доме… оно было настоящее… и оно приходило за мной.* * *
В 4.20 утра в среду, несколько часов спустя после нападения в усадьбе Кишанов, Лемюэль Джонсон приехал в больницу Святого Иосифа в Ориндже, куда поместили Трейси. Несмотря на то, что Лем не терял времени, он обнаружил, что шериф Уолт Гейнс опередил его. Уолт стоял в коридоре, глядя сверху вниз на молодого доктора, облаченного в зеленый хирургический комбинезон и белый халат; они вполголоса о чем-то спорили. Бригада УНБ, занимающаяся происшествием в Банодайне, проверяла все полицейские управления в графстве, включая и управление в Ориндж-сити, в ведении которого оказалось дело Кишанов. Руководитель ночной смены бригады УНБ позвонил домой Лему и сообщил о происшествии, не без основания посчитав, что оно вписывается в цепочку связанных с Банодайном инцидентов. — Ты же отдал нам это дело, — напомнил Лем Уолту, подойдя к шерифу и доктору, стоящим у палаты, в которой лежала девочка. — Возможно, это что-то другое. — Ты же знаешь, что это не так. — Полной ясности еще нет. — Как же нет? В доме Кишанов я разговаривал с твоими людьми. — О'кей, я нахожусь здесь в роли наблюдателя. — Головная боль. — Что? — У меня сильная головная боль, и она называется Уолтер. — Как интересно! А у твоей зубной боли тоже есть имя? — Ее зовут точно так же. — Нет, так их можно перепутать. Назови ее Бертом, или Гарри, или еще как-нибудь. Лем сдержал улыбку. Он любил Уолта, но понимал: за этими шуточками скрывается стремление возобновить расследование. Поэтому Лем сделал каменное лицо, хотя Уолт, несомненно, видел, что ему хочется улыбнуться. Глупая игра, но ее надо было продолжать. Доктор Роджер Селбок был похож на молодого Рода Стайгера.[93] Когда Лем и Уолт громко заговорили, он нахмурился; подобно Роду Стайгеру, он внушал присутствующим определенное чувство почтения, и они сразу замолчали. Доктор сказал, что девочка была обследована, ее раны обработаны и ей было введено болеутоляющее. Она еще очень слабенькая. Селбок собирается ввести ей сильное успокоительное, чтобы Трейси заснула, и он против того, чтобы полицейские любого ранга задавали ей сейчас какие-либо вопросы. Утренние больничные звуки, разговоры вполголоса, запах дезинфицирующих средств и строгий вид одетой в белое монашки, прошествовавшей мимо, вызвали у Лема тяжелое чувство. Он вдруг испугался, что девочка находится в гораздо более тяжелом состоянии, чем ему говорили, и он поделился своей тревогой с Селбоком. — Нет, нет, она в неплохой форме, — сказал доктор. — Я отослал ее родителей домой — я бы не сделал этого, если бы самочувствие было плохое. У нее оцарапана левая сторона лица и синяк под глазом — это все ничего. Что касается раны на правом боку, мы наложили ей тридцать два шва — нужно будет позаботиться о том, чтобы шрам был не очень страшный. Но малышка вне опасности. Она сильно испугалась. Тем не менее Трейси умненькая и самостоятельная девочка, и я не думаю, что психическая травма останется надолго. В то же время я против того, чтобы сегодня подвергать ее допросу. — Не допросу, — заметил Лем. — Всего несколько вопросов. — Это займет пять минут, — сказал Уолт. — Даже меньше, — подтвердил Лем. Они вдвоем стали упрашивать Селбока, и наконец тот сдался. — Ну ладно… Вы ведь тоже на работе… только не переусердствуйте. — Я буду воплощением чуткости, — пообещал Лем. — Мы будем воплощением чуткости, — поправил его Уолт. Селбок сказал: — А можно мне спросить: что с ней произошло? — А она сама вам не говорила? — спросил Лем. — Трейси говорит, что на нее напал койот. Лем был удивлен и увидел удивление на лице Уолта. Может быть, все-таки этот случай не имеет ничего общего с делом Далберга и зоосадом Ирвин-парка? — Но, — сказал доктор, — на такую большую девочку не может напасть ни один койот. Они опасны для совсем маленьких детей. Кроме того, я не верю, что койот может нанести такие раны. Уолт спросил: — Мне сказали: ее отец отогнал нападавшего с помощью ружья. Он-то видел, что это было? — Нет, — ответил Селбок. — В темноте он ничего не разглядел и сделал два предупредительных выстрела. Он говорит, будто что-то побежало через двор и перепрыгнуло через забор, но не рассмотрел никаких подробностей. Трейси в бреду призналась ему, что это было привидение, которое когда-то жило у нее в шкафу. Мне она сказала, что это был койот. Вы… случайно не знаете, что тут вообще происходит? Может быть, вы сообщите мне что-нибудь, чтобы я знал, как правильно лечить мою пациентку? — Я — нет, — сказал Уолт. — Но вот мистер Джонсон знает все об этом деле. — Спасибо тебе, — сказал Лем. Уолт улыбнулся в ответ. Селбоку Лем сказал: — Извините, доктор, но я не уполномочен обсуждать это дело. Во всяком случае, что бы я ни сообщил вам, это не повлияет на методы лечения. Когда наконец Лем и Уолт оказались в палате, они увидели сильно израненную и бледную симпатичную девочку, лежащую под простыней на больничной койке. Несмотря на принятое болеутоляющее, она все еще нервничала, поэтому-то, очевидно, Селбок и хотел дать ей успокоительное. Хотя девочка явно старалась не показывать, что ей до сих пор страшно. — Ты бы лучше оставил нас вдвоем, — сказал Лем Уолту. — Лучше — это на ужин съесть филе-миньон, — сказал Уолт. — Привет, Трейси, я — шериф Уолт Гейнс, а это — Лемюэль Джонсон. Со мной-то можно иметь дело, а вот Лем — большой зануда, все об этом говорят, но я его приструню, так что не бойся. Перебивая друг друга, они постепенно заставили Трейси разговориться. Очень быстро выяснилось: она наврала Селбоку про койота, потому что, скажи она правду, ей никто бы не поверил: ни доктор, ни кто другой. — Я боялась, что меня сочтут ненормальной и продержат здесь слишком долго. Присев на краешек койки, Лем сказал: — Трейси, ты можешь быть уверена, я так не считаю. Я знаю, что ты видела сегодня ночью, и хочу только, чтобы ты подтвердила это. Девочка удивленно посмотрела на него. Уолт стоял в ногах кровати, похожий на большого плюшевого мишку, и улыбался. Он сказал: — Перед тем как потерять сознание, ты призналась своему отцу, что на тебя напало привидение, жившее в твоем шкафу. — Это была мерзкая тварь, — сказала она. — Но, конечно, не привидение. — Ну, рассказывай, — произнес Лем. Трейси взглянула на Уолта, затем на Лема и вздохнула. — Лучше вы сами скажите, что я должна была увидеть, и, если это совпадает с тем, что случилось, я расскажу вам все, что помню. Но сама я начинать не буду, потому что все это похоже на бред сумасшедшего. Лем с тоской взглянул на Уолта, подумав, что придется в его присутствии рассказывать некоторые подробности дела. Уолт усмехнулся. Обращаясь к девочке, Лем сказал: — Желтые глаза. Она охнула и напряглась. — Да! Значит, вы всё знаете? Вы знаете, что это было? — Трейси приподнялась, желая сесть, но швы ее напряглись, и она, поморщившись от боли, откинулась на подушку. — Скажите, что же это было? — Трейси, — сказал Лем, — я не имею права сказать тебе это. Я дал подписку. Если я ее нарушу, меня могут посадить в тюрьму, но что еще хуже, я потеряю уважение к самому себе. Она нахмурилась и кивнула. — Я понимаю. — Вот и хорошо. Теперь расскажи все, что помнишь, о существе, которое на тебя напало. Оказалось, что Трейси не так уж много удалось рассмотреть — ночь была темная, а фонариком она осветила Аутсайдера только на мгновение. — Довольно большого размера, наверное, с меня ростом. Желтые глаза. — Она содрогнулась. — И морда у него была какая-то странная. — Что значит странная? — Ну, вся в таких шишках, уродливая. Девочка побледнела еще больше, и на лбу у нее выступили мелкие капли пота. Облокотившись о спинку кровати, Уолт наклонился вперед, стараясь не пропустить ни одного слова. Порыв ветра, внезапно налетевший со стороны гряды Санта-Ана, напугал девочку. Она со страхом взглянула на застучавшее окно, как будто боялась, что сейчас что-то влетит в палату через стекло. «А ведь таким способом Аутсайдер напал на Вэса Далберга», — подумал Лем. Девочка сделала глотательное движение. — Пасть у него была огромная… а зубы… Ее начало трясти, и Лем положил руку ей на плечо. — Все позади, детка. Все кончилось хорошо. Выдержав паузу, чтобы успокоиться, но продолжая дрожать, Трейси сказала: — По-моему, оно было волосатое или обросшее шерстью… я не уверена, и очень сильное. — На какое животное оно было похоже? — спросил Лем. Она отрицательно покачала головой. — Ни на что не похоже. — Но, если бы тебе все-таки пришлось сравнивать его с животным, оно было похоже на кугуара или на что-то еще? — Нет. Не на кугуара. — На собаку? Трейси заколебалась. — Может быть… немного похоже на собаку. — И немного на медведя? — Нет. — На пантеру? — Нет. И ни на какую другую кошку. — На обезьяну? Она нахмурилась в раздумье. — Не знаю… может быть… немного. Только ни у собак, ни у обезьян не бывает таких зубов. Распахнулась дверь, и в палату вошел доктор Селбок. — Пять минут уже прошли. Уолт стал было выпроваживать доктора, но Лем сказал: — Нет, все в порядке. Мы закончили. Еще полминуты. — Счет пошел на секунды, — сказал Селбок, выходя в коридор. Лем обратился к Трейси: — На тебя можно положиться? — В смысле «держать язык за зубами»? Лем кивнул. Девочка сказала: — Да. Я никому не хочу сообщать об этом. Родители считают меня взрослой. Я имею в виду в умственном и эмоциональном отношении. Но если я начну рассказывать истории о всяких монстрах, они решат, что я еще маленькая, и изменят свои планы насчет лошадей. А этого я не могу допустить, мистер Джонсон. Нет, сэр. Моя версия — это был бешеный койот. Но… — Да? — Можете ли вы мне ответить: оно не вернется? — Думаю, что нет. Хотя на твоем месте я бы не ходил к конюшне по ночам. Договорились? — Договорились. «Судя по выражению ее лица, она теперь долго не станет выходить из дома по вечерам», — подумал Лем. Лем и Уолт вышли в коридор, поблагодарили доктора Селбока за содействие и двинулись к крытой больничной автостоянке. Еще не начало светать, и похожее на пещеру бетонное помещение было пустынно. Их шаги гулко раздавались в тишине. Их машины оказались припаркованными недалеко друг от друга, и Уолт проводил Лема до его неприметного служебного «Форда». Когда Лем вставил ключ в дверной замок, Уолт оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит, и произнес: — Расскажи. — Не могу. — Я все равно узнаю. — Ты отстранен от дела. — Тогда подай на меня в суд. — Это идея. — За подрыв национальной безопасности. — Справедливое обвинение. — Посади меня. — Не исключено, — сказал Лем, зная, что этого он не сделает. Парадоксально, нахальство, с которым Уолт пытался влезть в это расследование, одновременно раздражало и нравилось Лему. У него было немного друзей, и главным из них был Уолт; Лема тешила мысль, что малое количество друзей объясняется высокими требованиями, которые он предъявлял к ним. Если бы Уолт отступил, испугавшись федеральных властей, если бы он выключил свое любопытство так же легко, как гасят свет поворотом выключателя, его репутация была бы подпорчена в глазах друга. — Что́ одновременно похоже на собаку и обезьяну, да еще имеет желтые глаза? — спросил Уолт. — Кроме твоей тещи, конечно. — Оставь мою тещу в покое, трепло, — ответил Лем. Не в силах сдержать улыбку, он уселся за руль. Уолт уцепился за дверцу машины и, наклонившись, взглянул Лему в глаза. — Ради Христа, объясни мне, что там такое убежало из Банодайна? — Я повторяю: Банодайн здесь ни при чем. — Ну да, а пожар они сами себе устроили, чтобы замести следы. — Не будь дураком, — сказал Лем устало, вставляя ключ в замок зажигания. — Следы заметают более эффективными и менее радикальными методами. Если есть что заметать. А там ничего такого не было. Потому что Банодайн здесь ни при чем. Лем завел двигатель, но Уолт не отставал. Удерживая дверцу в открытом положении, он наклонился еще ниже и заговорил, перекрывая рев мотора: — Генная инженерия. Вот чем они занимаются там в Банодайне. Возятся с бактериями и вирусами и выводят новые микроорганизмы, способные на хорошие поступки вроде вырабатывания инсулина и поедания нефтяных пятен. Я думаю, они также экспериментируют с генами растений — выводят семена кукурузы, которая сможет расти на кислой почве, или пшеницы, которую надо поливать в два раза реже. Мы привыкли думать, что эксперименты с генами проводятся в малых масштабах: на растениях или бактериях. Но ведь можно экспериментировать и с генами животных, чтобы вывести необычное потомство — может быть, новые виды животных? Это — то, чем занимаются в Банодайне? То, что оттуда убежало? Лем отчаянно замотал головой. — Уолт, я не специалист по рекомбинации ДНК, но я не думаю, что наука достаточно продвинулась, чтобы делать такие вещи. И главное, зачем? Ну хорошо, предположим, можно произвести на свет какого-нибудь генетического ублюдка. Что с ним потом делать-то? На ярмарках показывать? Уолт сузил глаза. — Я не знаю. Я думал, что ты мне ответишь. — Послушай, денег на эксперименты выделяется мало, и за то, чтобы получить даже маленькое ассигнование, ведется конкурентная борьба. Поэтому никто не может себе позволить проводить опыты, результаты которых не будут иметь применения. Понимаешь? Просто потому, что я занимаюсь этим расследованием, ты решил, что оно имеет отношение к национальной безопасности. И отсюда ты делаешь вывод, что Банодайн попусту расходует денежки Пентагона, производя уродов для ярмарок. — Слова «попусту» и «Пентагон» иногда встречаются в одном и том же предложении, — сухо сказал Уолт. — Спустись на землю, Уолт. Одно дело, когда один из подрядчиков Пентагона тратит деньги на разработку новой системы вооружений. Но совсем другое — транжирить их на то, что не имеет никакого отношения к обороне. Наша государственная система иногда неэффективна, подвержена коррупции, но до такой откровенной глупости еще не дошла. Я тебе еще раз повторяю: весь этот разговор — пустая трата времени, потому что Банодайн здесь ни при чем. Уолт посмотрел на него долгим, пристальным взглядом и сказал: — У тебя все очень складно выходит, Лем. Я знаю, что ты обязан мне врать, но все равно тебе не поверил. — Я тебе правду говорю. — Нет, ты молодец, Лем, ей-Богу. Скажи мне… а что, убийца Вэтерби, Ярбеков и других уже найден? — Нет. Сотрудник, которому Лем поручил расследование этих преступлений, доложил ему, что, по его мнению, Советы наняли убийцу со стороны, и, возможно, им является человек, вообще не связанный с политикой. Но Уолту он сейчас об этом не сказал. Уолт было выпрямился и закрыл дверцу автомобиля, но затем вновь наклонился к Лему. — Еще один момент. Ты обратил внимание на то, что оно перемещается в определенном направлении? — О чем ты говоришь? — Ну, с тех пор как эта тварь смылась из Банодайна, она все время движется на северо-запад. — Из Банодайна никто не смывался, черт тебя дери. — Из Банодайна в каньон Святого Джима, затем в Ирвин-парк, а оттуда — к дому Кишанов, вчера ночью. Все время идет на север или северо-запад. Ты, конечно, знаешь ее конечный пункт, но я боюсь, что, если я спрошу тебя об этом, ты сгноишь меня в тюрьме. — Про Банодайн я сказал тебе все как есть. — Это ты́ так говоришь. — Ты невозможен, Уолт. — Это ты́ так говоришь. — Это все так говорят. Сейчас я возвращаюсь домой. Я устал как собака. Улыбаясь, Уолт захлопнул дверцу «Форда». Лем выехал на Мейн-стрит, затем на скоростную трассу и двинулся к себе домой в Пласентию. Он надеялся к рассвету уже залечь в постель. Ведя служебный автомобиль по пустынным, как океан, улицам, Лем думал о направлении, в котором перемещался Аутсайдер, — на север. Он и сам заметил это еще раньше, чем Уолт. И ему казалось, он знает, с какой целью стремится туда это чудовище, несмотря на то что точное местонахождение его неизвестно. И собака, и Аутсайдер обладают поразительной способностью чувствовать друг друга — даже тогда, когда они находятся на значительном расстоянии друг от друга. Доктор Вэтерби говорил — и кажется, вполне серьезно, — что между двумя этими существами есть своего рода телепатическая связь. Сейчас, похоже, Аутсайдер, пользуясь этим шестым чувством, идет за собакой. «Если это не так, то псу крупно повезло», — подумал Лем. Еще в лаборатории стало очевидно: ретривер боится Аутсайдера, и не без оснований. Оба животных были неотъемлемой частью проекта «Франциск» — без них вообще ничего не было бы. Аутсайдер символизировал собой ужас и зло. Ученые сделали так, чтобы он ненавидел пса со всей страстью, на которую был способен. Теперь, когда оба они оказались на свободе, Аутсайдер целенаправленно шел за собакой, желая только одного — разорвать ее на куски. Тут Лем заметил, что, разволновавшись, слишком сильно надавил на педаль газа. Машина стрелой летела по трассе. Он сбавил скорость. Где бы и с кем бы ни находилась собака, ей угрожает опасность. Смертельному риску подвергается тот, кто дал ей убежище.Глава 6
Всю последнюю неделю мая и первую неделю июня Нора, Тревис и Эйнштейн не расставались друг с другом ни на один день. Поначалу Нора побаивалась Тревиса, но не так, как Стрека; вскоре, однако, приступ паранойи у нее прошел. Теперь воспоминания о своей подозрительности вызывали у нее смех. Тревис был нежным и добрым — то есть таким, каким, по определению тетки Виолетты, не мог быть ни один мужчина на свете. Когда психологический барьер был преодолен, Нора начала думать, что жалость — единственная причина, заставляющая Тревиса общаться с ней. Будучи человеком сострадательным — а Тревис таковым, несомненно, являлся, — он не способен был отвернуться от того, кто попал в беду. На большинство людей, знакомившихся с Норой, она не производила впечатление человека, попавшего в беду, — может быть, казалась излишне застенчивой и странной, но не отчаявшейся. В то же время Нора никак не могла войти в мир, находящийся за стенами ее дома, боялась будущего и была ужасно одинока. Тревис, с его чуткостью и добротой, понял ее состояние и отозвался на него. Постепенно, спустя какое-то время, Нора осмелилась предположить, что он бывает с ней не из жалости, а потому что она ему нравится. Единственное, чего она не понимала, это что такой мужчина мог найти в такой женщине, как она. По ее мнению, ей нечего было ему предложить. Да, конечно, у Норы была проблема собственного имиджа. Возможно, она и не такая серая и скучная, как ей кажется. И все равно Тревис явно заслуживает — и, конечно, может позволить себе — лучшее женское общество, чем то, которое Нора может ему составить. Она решила не терзать себя, а расслабиться и получать удовольствие. Поскольку после смерти жены Тревис продал свою фирму по торговле недвижимостью и сидел без дела, Нора тоже не работала, у них было полно свободного времени, которое они посвящали друг другу. Они ходили в картинные галереи, рылись на полках в книжных магазинах, подолгу гуляли, ездили на машине в живописную долину Святой Инессы или вдоль Тихоокеанского побережья. Два раза, встав пораньше, Нора и Тревис отправлялись в Лос-Анджелес и провели там по целому дню. Нора поразилась масштабам города и пришла в восторг от того, как они провели там время: побывали на экскурсии по киностудии, в зоопарке и на утреннем представлении популярного мюзикла. В один прекрасный день Тревис уговорил Нору постричься и сделать прическу. Он отвез ее в салон красоты, куда раньше ходила его покойная жена. Нора так нервничала, что, разговаривая с Мелани, блондинкой-парикмахершей, начала заикаться. Когда жива была Виолетта, она стригла Нору дома, а после ее смерти девушка стриглась сама. Посещение парикмахерской для нее было так же волнующе, как впервые в жизни обедать в ресторане. Мелани, по ее словам, «подровняла» Норину прическу: состригла много волос, но при этом она не выглядела «обстриженной». В зеркало Норе разрешили посмотреть только когда волосы были высушены и уложены. Увидев свое отражение, она потеряла дар речи. — Ты выглядишь потрясающе, — сказал Тревис. — Совсем другая женщина, — заметила Мелани. — Потрясающе, — повторил Тревис. — У вас хорошенькое личико и великолепные пропорции, — сказала Мелани, — но прямые длинные волосы слишком его удлиняли. Теперь все стало как надо. Эйнштейну понравилась перемена в Нориной наружности. Когда они вышли из салона, пес, привязанный к парковочному счетчику, ждал их появления. Увидев девушку, он прыгнул на нее передними лапами, обнюхал лицо и волосы со счастливым выражением на морде, повизгивая и вовсю виляя хвостом. Самой Норе новый образ пришелся не по вкусу. Когда ее повернули к зеркалу, она увидела истеричную старую деву, старающуюся сойти за молоденькую хорошенькую девушку. Эта прическа была совершенно не для нее. Она только подчеркивала ее незамысловатую серую сущность. Ей никогда не суждено стать сексуальной, очаровательной женщиной «с изюминкой», несмотря на то, что претензии на это олицетворяла ее новая прическа. Это было все равно что привязать яркую метелку из перьев к заднице индюка и попробовать выдать его за павлина. Поскольку Норе не хотелось расстраивать Тревиса, она притворилась, что ей нравится произошедшая в ней перемена. Но вечером того же дня она вымыла голову и расчесывала волосы до тех пор, пока полностью не избавилась от так называемого «стиля». Из-за стрижки волосы уже не спадали длинными прядями, как раньше, но Нора постаралась сделать все возможное, чтобы вернуть себе прежний облик. На следующий день, заехав за ней, чтобы отвезти на ленч, Тревис был явно поражен увиденным. Он, однако, промолчал и не стал задавать никаких вопросов. Нора так переживала из-за обиды, которую невольно нанесла Тревису, что часа два вообще не могла взглянуть ему в глаза.Несмотря на отчаянные и упорные протесты Норы, Тревис настоял на покупке ей нового яркого летнего платья, в котором она могла бы сопровождать его в «Ток оф Таун» — шикарный ресторан на улице Вест Гутиэррез, где, по его словам, можно увидеть кинозвезд и киношников, живущих в этом районе, уступающем в этом смысле только району Бел-Эйр и Беверли-Хиллз. Итак, они отправились в дорогой магазин, где она перемерила множество нарядов, демонстрируя их Тревису, краснея и умирая от стыда. Продавщица искренне восхищалась тем, как каждое платье сидит на Норе, и уверяла ее, что у нее отличная фигура. Но она не могла избавиться от чувства, что над ней просто насмехаются. Платье, которое понравилось Тревису больше остальных, было из коллекции Дианы Фрайс. Норе и самой оно приглянулось: изысканное сочетание цветов с преобладанием красного и золотого, что вообще отличает дизайнерскую манеру Фрайс. Платье было необычайно женственным. Красивая женщина в нем выглядела бы совершенно неотразимо. Но ей оно не подходило, нет. Темные цвета, бесформенный покрой, простые ткани без рисунка — вот это ее стиль. Нора попыталась объяснить это Тревису, сказав, что никогда не сможет надеть такое платье, но он был непреклонен. — В нем ты смотришься просто шикарно, абсолютно сногсшибательно. Ей ничего не оставалось делать, как позволить ему заплатить за покупку. Нора знала: это ошибка, она никогда не наденет это платье. Когда покупку заворачивали, Нора спросила себя, почему все-таки она согласилась, и поняла: несмотря на страшное смущение, ей льстило, что мужчина покупает ей одежду. Ей такое раньше и в голову не могло прийти, и Нора была совершенно ошеломлена. Краска не сходила с ее лица, и сердце у нее колотилось. Она испытывала головокружение, но это было радостное чувство. Когда они вышли из магазина, выяснилось, что за платье заплачено пятьсот долларов. Пятьсот долларов! Если бы оно стоило пятьдесят долларов, она бы повесила его в шкаф и любовалась на него, теша себя приятными мечтаниями, но за пятьсот долларов ей волей-неволей придется его надевать, даже если при этом она будет ощущать себя уборщицей, нарядившейся принцессой. Вечером следующего дня, за два часа до того, как Тревис должен был заехать за ней и повезти в ресторан, Нора раз десять надевала и снимала платье. Затем она в отчаянии несколько раз перерыла содержимое своего шкафа, стараясь отыскать что-нибудь подходящее, что-нибудь более разумное, но так ничего и не нашла, так как у нее никогда не было выходного платья для ресторана. Стоя в ванной комнате и глядя на себя в зеркало, она с издевкой сказала своему отражению: — Ты похожа на Дастина Хофмана в «Тутси». Ее вдруг разобрал смех: Нора поняла, что слишком строга к себе. Ничего не поделаешь: она чувствовала себя мужчиной в женском платье. В таких случаях чувства берут верх над фактами, и смех ее быстро угас. Затем она совсем расстроилась, два раза принималась плакать и даже решила позвонить Тревису и отложить свидание. Ей, однако, очень хотелось его увидеть, пусть даже ценой унизительного вечера в ресторане. С помощью «Мюрайн» она избавилась от красноты в глазах, затем снова примерила — и сняла платье. В начале восьмого приехал Тревис. Он был очень красив в темном костюме. На Норе было надето бесформенное синее платье и темно-синие туфли. Он сказал: — Я подожду. — Подождешь? — Не делай вид, что не понимаешь. Иди и переоденься. Она сказала скороговоркой: — Тревис, извини, это ужасно, но я пролила кофе на новое платье. — Я буду ждать здесь, — сказал Тревис, проходя в гостиную. — Целый кофейник. — Поторопись. Столик заказан на семь тридцать. Внутренне готовясь к насмешливому шепоту или даже к откровенному смеху ресторанной публики и убеждая себя в том, что, кроме мнения Тревиса, ее ничего не интересует, Нора поднялась в спальню и надела на себя платье от Дианы Фрайс. Она пожалела, что испортила прическу, которую Мелани сделала ей пару дней назад. Может быть, с прической было бы лучше? Пожалуй, нет — было бы еще смешнее. Когда Нора спустилась в гостиную к Тревису, Тревис улыбнулся и сказал: — Какая ты красивая! Ей так и не довелось узнать, соответствует ли кухня знаменитого ресторана его репутации: она не притронулась к еде. Позднее Нора даже не могла как следует вспомнить внутреннее убранство заведения, хотя лица некоторых посетителей — включая актера Джина Хэкмана — она, казалось, запомнила на всю оставшуюся жизнь, так как была уверена, что они весь вечер смотрели на нее с удивлением и отвращением. В середине ужина, явно чувствуя ее неловкость, Тревис поставил на стол свою рюмку и, наклонившись к Норе, тихо сказал: — Ты действительно выглядишь замечательно, Нора, хоть ты и думаешь иначе. И если бы ты была поопытнее в таких делах, то заметила бы: большинство мужчин здесь, в зале, глядят на тебя с интересом. Но Нора знала правду и была готова смотреть ей в глаза. Если мужчины и обратили на нее внимание, то совсем не потому, что она им нравилась. Когда индюк с фальшивыми перьями на заднице выдает себя за павлина, это, конечно, привлекает всеобщее внимание. — Без всякой косметики, — заметил Тревис, — ты выглядишь лучше, чем любая из присутствующих женщин. Отсутствие косметики. Еще одна причина, почему они все смотрят на нее. Когда женщина надевает платье за пятьсот долларов и идет в дорогой ресторан, она использует все средства: губную помаду, карандаш для глаз, крем-пудру, румяна и Бог знает что еще для того, чтобы максимально улучшить свою внешность. А Нора даже и не подумала об этом. Шоколадный мусс, поданный на десерт, был, конечно, восхитителен, но во рту у Норы он имел вкус библиотечного клея и застревал в горле. Они с Тревисом в последние две недели много беседовали, и оказалось, что им на удивление легко говорить о самых сокровенных чувствах и мыслях. Она узнала, почему, несмотря на привлекательную внешность и относительный материальный достаток, он одинок, а он узнал, почему она о себе такого неважного мнения. Когда Нора уже начала окончательно давиться десертом и стала умолять Тревиса отвезти ее домой, он вполголоса сказал: — Если на свете есть справедливость, то Виолетте Девон должно быть сейчас особенно жарко в аду. Шокированная его словами, Нора произнесла: — Нет, что ты! Она была не такая уж плохая. Всю дорогу он молчал в задумчивости. Прощаясь с Норой у двери ее дома, Тревис взял с нее обещание: она встретится с Гаррисоном Дилвортом, который был адвокатом ее тетки, а теперь занимался делами Норы. — Из того, что ты рассказываешь мне, — сказал Тревис, — становится ясно: он знал твою тетку лучше, чем кто бы то ни было. И готов поспорить на что угодно: он может сообщить о ней кое-что, после чего она перестанет давить на тебя с того света. Нора сказала: — Я не думаю, что существуют какие-то мрачные тайны в отношении тети Виолетты. Она была тем, чем была, и не более того. На самом деле это была очень незамысловатая женщина. И грустная. — Грустная, как же, — сказал Тревис. Он заставил ее пообещать, что Нора договорится о встрече с Гаррисоном Дилвортом. Когда она поднялась в спальню, то вдруг поняла, что ей не хочется снимать платье. Весь вечер Нора мечтала сменить этот наряд, поскольку чувствовала себя одетой в карнавальный костюм. Но теперь, когда смущение и неловкость остались позади и проведенный вечер будил в ней теплые воспоминания, она хотела продлить их. В этот вечер, как сентиментальная школьница, Нора заснула в платье стоимостью в пятьсот долларов.
Контора Гаррисона Дилворта была отделана со всей тщательностью, для того чтобы вызывать у клиентов чувство респектабельности, стабильности и надежности. Прекрасные дубовые панели. Тяжелые темно-синие шторы, свисающие с латунных карнизов. Полки, набитые книгами по юриспруденции в кожаных переплетах. Массивный дубовый письменный стол. Сам адвокат представлял собой достойный удивления гибрид из Достоинства, Неподкупности и… Санта-Клауса. Высокий, плотный мужчина, с густой седой шевелюрой, миновавший семидесятилетний рубеж, но все еще работавший полную неделю, Гаррисон Дилворт имел слабость к костюмам-тройкам и галстукам приглушенных тонов. Несмотря на многолетнюю жизнь в Калифорнии, его чистое произношение и изысканная речь указывали на то, что он вырос и получил образование в высших слоях общества на Восточном побережье. В то же время глаза у него были веселые, а улыбка добрая, совсем как у Санта-Клауса. Он не стал отгораживаться от них шириной своего письменного стола, а сел рядом с Норой и Тревисом в удобные кресла вокруг кофейного столика, на котором находилась большая низкая ваза. — Я не знаю, что вы хотите от меня узнать. У меня нет никаких секретов про вашу тетю. Так что если вы ждете, что я открою вам мрачную тайну, которая перевернет вашу жизнь… — Я знаю столько же, сколько и вы, — сказала Нора. — Извините, что побеспокоили вас. — Подожди, — прервал ее Тревис. — Дай мистеру Дилворту договорить. Адвокат сказал: — Виолетта Девон была моей клиенткой, а адвокат обязан оберегать тайны своих клиентов даже после их кончины. По крайней мере я так думаю, хотя некоторые представители моей профессии придерживаются другого мнения. Однако, поскольку я имею дело с ближайшей родственницей Виолетты и ее наследницей, я полагаю, что мне нечего скрывать — еще и потому, что никаких секретов нет. Кроме того, я не вижу никаких моральных запретов против того, чтобы высказать вам свое собственное мнение овашей тете. Даже адвокатам, священникам и докторам позволяется иметь свое мнение о других людях. — Он глубоко вздохнул и нахмурился. — Я всегда не любил ее. Считал ее ограниченной, эгоистичной женщиной, к тому же душевно неуравновешенной. А методы воспитания, которые она применяла к вам, Нора, можно назвать преступными. Не в смысле уголовного права, а в чисто человеческом смысле. И жестокими. Сколько Нора себя помнила, внутри у нее, казалось, был завязан большой узел, сдавливающий все ее жизненно важные органы и сосуды, не дававший ей расслабиться, замедлявший кровообращение и подавляющий все ее чувства, заставлявший ее ощущать себя машиной, у которой не хватает мощности. После слов Дилворта узел этот внезапно развязался, и жизнь впервые свободно потекла по ее жилам. Она понимала, что сделала с ней Виолетта Девон, но это знание не помогало ей преодолеть свое прошлое. Ей нужно было услышать, чтобы обвинение в адрес ее тетки прозвучало из посторонних уст. Тревис уже ругал Виолетту в присутствии Норы, и это принесло ей некоторое облегчение. Но этого все равно было недостаточно, поскольку Тревис лично не знал Виолетту и говорил, что называется, «заочно». Гаррисон же хорошо знал ее, и его слова принесли Норе чувство освобождения. Ее била сильная дрожь, слезы катились по щекам, но Нора не замечала этого, пока Тревис не привстал со своего кресла и не положил руку ей на плечо. Она начала рыться в сумочке в поисках носового платка. — Извините. — Дорогая леди, — сказал Гаррисон, — не надо извиняться за то, что вы вырвались из железной скорлупы, в которой просидели всю свою жизнь. Впервые за все это время я вижу ваши эмоции, кроме, разумеется, обычного для вас крайнего стеснения, и это прекрасное зрелище. — Повернувшись к Тревису и давая Норе возможность вытереть слезы, он спросил: — Что еще вы хотели от меня услышать? — Есть вещи, которые Нора не знает, но ей следует знать, и упоминание о них вряд ли нарушит кодекс вашей профессиональной чести. — Какие именно? Тревис сказал: — Виолетта Девон нигде не работала, но жила весьма зажиточно и оставила достаточно денег, для того чтобы Норе хватило до конца жизни, по крайней мере, если та не покинет ее дома и будет вести одинокий образ жизни. Откуда у нее были такие средства? — Откуда? — удивленно переспросил Гаррисон. — Да Нора наверняка знает откуда. — Дело в том, что ей это неизвестно, — сказал Тревис. Нора поймала изумленный взгляд Гаррисона Дилворта. Он моргнул и сказал: — Супруг Виолетты неплохо зарабатывал. Он умер еще молодым, и она унаследовала все сбережения. Нора чуть не задохнулась от удивления. — Супруг? — Джордж Олмстед, — ответил адвокат. — Никогда не слыхала про такого. Гаррисон быстро заморгал, как будто в лицо ему бросили горсть песку. — Она никогда не упоминала о нем? — Никогда. — А соседи, они не… — Мы не общались с соседями, — объяснила Нора. — Виолетте они не нравились. — Вообще-то говоря, к тому времени, как вы стали жить вместе с Виолеттой, вокруг вас были уже новые соседи. Нора высморкалась и убрала платок. Она все еще дрожала. Внезапное освобождение из-под теткиного гнета вызвало в ней эмоциональный кризис, который постепенно уступал место любопытству. — Как дела? — спросил ее Тревис. Нора кивнула и пристально посмотрела на него. — Ты знал, так ведь? Я имею в виду о супруге. Поэтому ты и привел меня сюда. — Я подозревал, — сказал Тревис. — Если бы она получила наследство от родителей, то проговорилась бы. Сам факт, что Виолетта скрывала, откуда у нее деньги… ну, в общем, говорил о единственной возможности — о муже, и скорее всего о таком, с которым у нее не все было ладно. Это подтверждается ее отношением к другим людям, и мужчинам в частности. Адвокат был настолько возбужден, что не мог усидеть на месте. Он вскочил и начал ходить взад-вперед мимо лампы, сделанной в виде старинного глобуса. — Ну вы даете. Вы что, не понимали, почему она была такой желчной особой, почему думала о людях только плохое? — Нет, — ответила Нора. — Я просто об этом не думала. Я принимала ее такой, какой она была. Продолжая ходить взад-вперед, Гаррисон сказал: — Да. Правильно. Я тоже думаю, что даже в молодости она была почти параноиком. А когда обнаружила, что Джордж обманывает ее с другими женщинами, совершенно зациклилась. И пошло-поехало. Тревис сказал: — А почему Виолетта жила под своей девичьей фамилией — Девон, если ее мужа звали Олмстед? — Она более не желала носить его фамилию. Ненавидела мужа. Чуть не скалкой выгнала из дому! Подала на развод, но он внезапно умер, — сказал Гаррисон. — Я уже говорил, Виолетта узнала про его связи с другими женщинами и пришла в бешенство. Я бы так сказал… не могу полностью возложить вину на беднягу Джорджа, поскольку думаю, что дома ему было плохо. Он понял, что его женитьба — ошибка, уже через месяц после свадьбы. Гаррисон задержался у лампы-глобуса, положив руку на вершину мира, и задумался. Обычно он выглядел моложе своих лет. Сейчас, когда он погрузился в воспоминания давно минувших дней, складки на его лице углубились и глаза потеряли блеск. Через минуту адвокат тряхнул головой и продолжал: — Тогда были другие времена — женщина, обманутая мужем, становилась объектом жалости или насмешек. Но даже по тем меркам реакция Виолетты была чрезмерной. Она сожгла всю его одежду и поменяла все замки в доме… она ведь даже убила собаку, спаниеля, которого он любил. Отравила. И отправила труп ему по почте. — Боже правый, — сказал Тревис. Гаррисон продолжал: — Виолетта взяла снова свою девичью фамилию, ибо сама мысль о том, что ей придется всю жизнь носить фамилию Олмстед, вызывала у нее отвращение. Даже после его смерти. Она не умела прощать. — Да, — согласилась Нора. Лицо ее исказилось от нахлынувших воспоминаний, и Гаррисон сказал: — Когда Джордж погиб, Виолетта не скрывала своей радости. — Погиб? — Нора чуть не спросила, не от руки ли тетки. — В автокатастрофе, сорок лет назад, — сказал Гаррисон. — Потерял управление на шоссе «Коаст Хайвей» и полетел под откос. Тогда там не было ограждения. Машина свалилась с высоты шестидесяти-восьмидесяти футов и несколько раз перевернулась, прежде чем разбилась о скалы внизу. Виолетта получила наследство полностью, потому что, хотя и подала на развод, Джордж не успел переписать завещание. Тревис сказал: — Значит, Джордж Олмстед не только обманывал Виолетту при жизни, но и, умерев, лишил ее возможности вымещать на нем свою злобу. Поэтому она ополчилась на весь мир. — И на меня, в частности, — заметила Нора.
После обеда, в тот же день, Нора рассказала о своем увлечении живописью. До этого она не упоминала о своих художественных наклонностях, а поскольку Тревис не был допущен в ее спальню, то не видел ни мольберта, ни красок, ни рисовальной доски. Нора сама не знала, почему до сих пор скрывала от него эту часть своей жизни. Она упоминала о любви к искусству вообще — по этой причине они и посещали картинные галереи и музеи, — но не говорила ему о своих работах из боязни, что они не произведут на него никакого впечатления. А если он подумает, что она бездарность? Наряду с книгами живопись поддерживала Нору все эти годы, полные мрачного одиночества. Ей самой казалось, что у нее хорошо получается, очень хорошо, но она стеснялась кому-либо в этом признаться. Что, если она ошибается? Что, если у нее нет способностей и она просто теряет время? Творчество стало главным критерием Нориного существования. Это было единственное, что поддерживало ее хрупкий имидж, поэтому вера в собственный талант была ей просто необходима. Мнение Тревиса имело для нее решающее значение, и если он не одобрит ее картины, она этого не вынесет. После визита к Гаррисону Дилворту Нора поняла: настало время рискнуть. Правда о Виолетте Девон освободила ее от эмоциональной тюрьмы, в которой находилась Нора. Ей еще долго предстоит идти по тюремным коридорам к выходу во внешний мир, но назад пути уже не будет. Поэтому Норе предстояло испытать все, что испытывают люди, живущие в этом мире, и среди прочего горечь непризнания и разочарования. Не рискуя, нельзя ничего достичь. Когда они вернулись к ней домой, ей захотелось привести Тревиса к себе в спальню и показать ему полдюжины своих последних произведений. Но сама мысль о том, что в ее спальне может появиться мужчина — пусть с самыми невинными намерениями, — пугала Нору. Конечно, объяснения Гаррисона Дилворта освободили ее, но еще не в полной мере. Поэтому Нора усадила Тревиса и Эйнштейна на большой диван в гостиной, а сама решила сходить наверх за картинами. Она включила все светильники, раздвинула шторы на окнах и сказала: — Я сейчас вернусь. Поднявшись наверх, Нора стала лихорадочно перебирать десять полотен, находившихся в спальне, пытаясь выбрать два для показа. Наконец отобрала четыре штуки, хотя ей показалось неловким нести сразу так много картин. На полпути она остановилась и решила вернуться за остальными. Сделав несколько шагов, однако, поняла: можно целый день так выбирать. Напомнив себе, что без риска ничего на свете не дается, она глубоко вздохнула и быстро сошла вниз. Тревису работы понравились. Даже больше чем понравились. Он был в восторге. — Боже мой, Нора, это не любительская живопись. Это настоящее искусство. Она прислонила картины к четырем стульям, но Тревис не мог усидеть на диване и подошел поближе, рассматривая полотна одно за другим с более близкого расстояния. — Ты великолепный фотореалист, — сказал он. — Конечно, я не специалист, но техника у тебя не хуже, чем у Уайета. Вот эта… и здесь… От его комплиментов Нора ужасно покраснела и даже на мгновение потеряла голос. — Есть немного и сюрреализма. Среди картин, которые она принесла, были два пейзажа и натюрморты. Один пейзаж и натюрморт действительно были выполнены в фотореалистической манере. Два других полотна также представляли собой образцы фотореализма, но уже с явными элементами сюрреализма. Натюрморт, например, изображал несколько стаканов для воды, графин, несколько ложек и разрезанный лимон на столе, выписанный с микроскопической тщательностью; на первый взгляд композиция выглядела очень реалистической, но, присмотревшись, можно было заметить, что один из стаканов как бы «врастал» в поверхность стола, а один из ломтиков лимона «проникал» через стеклянную стенку стакана. — Очень талантливо, — произнес Тревис. — А еще есть? Что за вопрос! Нора еще дважды ходила наверх и принесла шесть работ. С появлением каждой новой восторги Тревиса усиливались. Его похвалы звучали совершенно искренне. Сначала ей показалось, что он ее разыгрывает, но вскоре поняла: он не скрывает своих настоящих чувств. Переходя от одной картины к другой, Тревис заметил: — У тебя прекрасное чувство цвета. Эйнштейн ходил за ним, тявканьем подтверждая суждения своего хозяина и восторженно виляя хвостом. — В этих полотнах передано определенное настроение, — сказал Тревис. — Тяв. — И с материалом ты работаешь прекрасно. Я не вижу ни единого мазка. Ощущение такое, что ты провела по холсту широкой кистью и изображение появилось само по себе. — Тяв. — С трудом верится, что ты нигде этому не училась. — Тяв. — Нора, эти картины можно продать. Любая галерея моментально приобретет их. — Тяв. — Можно не только обеспечить себя материально, но еще и прославиться. Из-за того, что Нора самой себе не смела признаться, насколько серьезно относится к творчеству, она часто писала свои картины на одном куске холста, одну поверх другой. В результате многие из ее работ были потеряны навсегда. Но на чердаке Нора сохранила более восьмидесяти самых лучших своих произведений. По настоянию Тревиса они снесли многие из них в гостиную, сорвали с них упаковочную бумагу и расставили по всей комнате, которая впервые на Нориной памяти стала веселой и яркой. — Любая галерея будет рада выставить их, — сказал Тревис. — Давай завтра погрузим их в пикап и покажем в нескольких галереях — послушаем, что нам скажут. — Нет, нет, что ты! — Обещаю тебе, Нора, ты не разочаруешься. Она вдруг занервничала. Хотя от мысли сделать карьеру в искусстве у нее захватило дух, Нора испугалась первого шага в этом направлении. Это было все равно как спрыгнуть с обрыва. Она сказала: — Нет, не сейчас. Через неделю… или через месяц… мы погрузим их в пикап и отвезем в галерею. Но не сейчас, Тревис. Я не могу… я не готова к этому. Он усмехнулся: — Опять перебор? Эйнштейн потерся о ее ногу, взглянув ей в глаза так умильно, что Нора не могла сдержать улыбки. Почесывая пса за ухом, она сказала: — Слишком много всего произошло за такое короткое время. Я не могу все это пропустить через себя. У меня все время кружится голова. Как на карусели, которая вращается все быстрее и быстрее. Сказанное ею было правдой, но не по этой причине ей хотелось отложить показ своих картин на публике. Нора желала растянуть это удовольствие. Если подстегивать события, то превращение одинокой старой девы в полноправную участницу жизни произошло бы слишком быстро. А она хотела продлить радость от такой метаморфозы. Как больная, обреченная с самого рождения лежать в зашторенной комнате, заставленной медицинской аппаратурой, и затем чудесным образом выздоровевшая, Нора Девон делала первые осторожные шаги, входя в этот новый для нее мир.
Не только Тревис вызволил Нору из ее одиночного заключения. Эйнштейн сыграл в этом далеко не последнюю роль. Ретривер, очевидно, решил, что Норе можно доверить секрет своих необычайных умственных способностей. После фокусов с «Модерн Брайд» и младенцем в Сольванге пес постепенно начал демонстрировать ей свой интеллект. С «благословения» Эйнштейна Тревис рассказал Норе о том, как они повстречались в лесу и как что-то страшное (и неведомое) бросилось за ними в погоню. Он перечислил ей все удивительные трюки, проделанные Эйнштейном с того момента. Тревис также поведал ей о приступах бдительности, которые испытывал ретривер по ночам, когда вставал у окна и смотрел в темноту, как будто ждал появления того неизвестного существа, преследовавшего их в лесу. Один раз, вечером, они несколько часов сидели у Норы в кухне, пили кофе с домашним апельсиновым пирогом и обсуждали необычные способности пса. Когда тот не был занят десертом, он с интересом слушал то, что они говорили о нем, как будто понимал смысл сказанного. Иногда ретривер повизгивал и начинал ходить взад-вперед, как бы расстраиваясь, что его голосовой аппарат не позволяет ему разговаривать. Нора и Тревис, однако, ни к какому выводу не пришли, поскольку основания для этого были очень туманные. — Я думаю, что пес сам может сообщить нам, откуда он взялся и почему так отличается от своих собратьев, — сказала Нора. При этих словах Эйнштейн завилял хвостом. — Я уверен в этом, — заметил Тревис. — У него сознание, как у человека. Он понимает, что не такой, как другие собаки, и, по-моему, знает почему. Я думаю, он рассказал бы нам об этом, если бы был способ это сделать. Ретривер пролаял один раз, пробежался по кухне, посмотрел на них отчаявшимся взглядом, а затем улегся на пол, положив морду на лапы и тихо скуля. Нору очень заинтересовал эпизод, когда Эйнштейн разволновался по поводу домашней библиотеки Тревиса. — Он понимает, что книги могут стать средством общения, — сказала она. — И, может быть, ему известно, что есть способ использовать книги для общения с нами. — Каким образом? — спросил Тревис, подцепляя вилкой очередной кусок пирога. Нора пожала плечами. — Не знаю. Может быть, проблема в том, что твои книги не подходят для этого. Романы, ты сказал? — Ну да. Художественная литература. — Вероятно, нужны книги с картинками, которые были бы понятны ему. Если собрать много книг и журналов с картинками, разложить их на полу и показать Эйнштейну, то можно найти способ общаться с ним. Ретривер вскочил и направился прямо к Норе. По выражению его морды и внимательному взгляду она поняла: это была хорошая идея. Завтра же Нора принесет десятки книг и журналов и осуществит свой замысел. — Понадобится немало терпения, — предупредил ее Тревис. — Терпения мне не занимать. — Это ты так думаешь, но, когда имеешь дело с Эйнштейном, это слово приобретает новое значение. Повернувшись к Тревису, пес фыркнул. Во время первых сеансов в среду и четверг их оптимизм слегка угас, но успех, казалось, был уже рядом. В пятницу, четвертого июня, произошло нечто такое, после чего их жизнь потекла уже по другому руслу.
* * *
«…Поступило сообщение о криках из района новостройки Бордо Ридж…» — прозвучало из динамика рации. В пятницу вечером четвертого июня, меньше чем за час до наступления темноты, солнце над графством Ориндж являло собой золотисто-медный шар. Второй день стояла ужасная жара, и мостовые и здания усиливали ее, отдавая накопленное за день тепло. Деревья, казалось, обессиленно опустили вниз свои ветви. В воздухе не было ни дуновения. На шоссе и улицах звуки автомобильного движения были приглушены густым, как пар, воздухом. «…Повторяю: Бордо Ридж, район новостройки на восточной границе…» На округлых холмах на северо-востоке графства, в местности, примыкающей к району Йорба Линда, куда только начинала доходить застройка Бордо Ридж, было мало движения. Иногда раздававшийся автомобильный сигнал или визг тормозов не только звучали приглушенно из-за жары, но и удивительным образом производили скорбное, меланхолическое впечатление. Офицеры полиции Тил Портер и Кен Даймс находились в патрульной машине — Тил за рулем, Кен рядом на переднем сиденье. Кондиционер не работал, вентиляционные отверстия вообще не пропускали воздух. Боковые стекла были опущены, но в автомобиле все равно было жарко, будто в духовке. — Ты воняешь, как дохлый кабан, — сказал Тил Портер своему напарнику. — Правда? — сказал Кен Даймс. — А ты не только воняешь, но и выглядишь, как дохлый кабан. — Да? Значит, ты хорошо разбираешься в дохлых кабанах. Несмотря на жару, Кен не смог сдержать улыбки. — Ах так? Твои женщины мне рассказывали, что из тебя любовник, как из дохлого кабана. Этот натянутый юмор взбодрил их. По рации им передали сообщение, не сулившее ничего интересного: скорее всего несчастный случай с детьми; они ведь любят играть на строительных площадках. Обоим полицейским было по тридцать два года, и оба в прошлом выступали за футбольные команды своих колледжей. Они работали вместе уже шесть лет и были близки друг другу, как братья. Тил свернул с шоссе на грунтовую дорогу, которая вела в район новой застройки Бордо Ридж. Здесь в разной стадии строительства находилось около сорока домов. Только некоторые из них были уже оштукатурены, а остальные представляли собой наполовину готовые каркасы. — Никак не укладывается у меня в голове, — сказал Кен. — Что это за название такое — Бордо Ридж — для загородного поселка в Южной Калифорнии? Не ужели всерьез хотят убедить будущих владельцев, что здесь в один прекрасный день зацветут виноградники? И почему, собственно, «Ридж»,[94] хотя это абсолютно плоская местность между двумя холмами. И обещанные тишина и покой — это пока. А что будет здесь, когда построят еще три тысячи домов в ближайшие пять лет? Тил сказал: — Ага, но меня еще убивает слово «мини-усадьба». Это же додуматься надо! Люди, находящиеся в здравом уме, не могут считать крохотный клочок земли у дома усадьбой — разве только русские, живущие по двенадцать человек в квартире. Это просто дачный поселок. На улицах будущего поселка Бордо Ридж уже были проложены бетонные тротуары и водосточные канавы, но сами улицы еще не были замощены. Тил вел машину аккуратно, стараясь не поднимать пыль. Они с Кеном глазели по сторонам на скелеты недостроенных домов, высматривая ребятишек, попавших в беду. На западе, у границы города Йорба Линда, прилегающего к новостройке, находился поселок, где уже жили люди. От них и поступило сообщение в полицию о криках, раздававшихся в Бордо Ридж. Поскольку этот район еще не вошел в состав города, то происшествие попадало под юрисдикцию окружной полиции. В конце улицы полицейские увидели белый пикап компании «Тулеманн Бразерз», которой принадлежал район Бордо. Он был поставлен около трех почти завершенных домов, служивших образцами для показа будущим владельцам. — Похоже, прораб еще здесь, — сказал Кен. — Или ночной сторож вышел на работу пораньше, — заметил Тил. Они припарковались позади пикапа, вышли из своей душной машины и с минуту постояли, прислушиваясь. Вокруг была полная тишина. Кен крикнул: — Эй, есть здесь кто-нибудь? Отозвалось только эхо. Кен спросил: — Ну что, посмотрим, что здесь такое? — Придется, — ответил Тил. Кен все еще не верил, что здесь что-то случилось. Пикап, наверное, просто оставили здесь на ночь. Все равно здесь без присмотра стояло много всякого оборудования. А что касается криков, то это скорее всего ребятишки играли. Из машины они взяли карманные фонарики, поскольку, хотя электричество в поселок провели, в домах еще света не было. Поправив висевшие на поясе револьверы, скорее по привычке, чем из предосторожности, Кен и Тил вошли в ближайший недостроенный дом. Они не искали ничего конкретного, просто осматривали место возможного происшествия, что обычно занимает половину времени полицейского. Подул слабый порывистый ветер, впервые за весь день, гоня облачка опилок из открытых боковин дома. Солнце быстро клонилось к закату, и каркасные балки отбрасывали на пол тени, похожие на тюремные решетки. Угасающий свет дня из золотого превращался в темно-красный и придавал воздуху оттенок, похожий на отсвет доменной печи. Бетонный пол был усыпан гвоздями, которые поблескивали в этом огненном свете и звенели под их башмаками. — За сто восемьдесят тысяч долларов, — сказал Тил, освещая темные углы фонарями, — могли бы комнаты сделать попросторнее. Вдыхая запах опилок, Кен сказал: — За такие деньги и комнаты должны быть, как залы ожидания в аэропорту. Они вышли на узкий двор позади дома и выключили фонарики. Местность вокруг домов еще не была обустроена: повсюду валялись щепки, куски застывшего бетона, смятые обрывки рубероида, проволока, погнутые гвозди, обрезки пластмассовых труб и досок с крыши, пластиковые стаканчики и коробки из-под биг-маков, пустые жестянки из-под кока-колы и еще много всякого мусора. Изгороди еще не были возведены, поэтому просматривались все двадцать задних дворов этого ряда домов. Уже сгущались пурпурные тени, но им было видно, что там никого нет. — Никаких следов кровопролития, — произнес Тил. — И симпатичных девушек, попавших в беду, — подтвердил Кен. — Давай хоть пройдемся здесь немного, — сказал Тил. — Поработаем на налогоплательщиков. У третьего по счету дома, в тридцатифутовом проходе между строениями, они нашли труп мужчины. — Черт, — сказал Тил. Мужчина лежал на спине, частично скрытый глубокой тенью, и поначалу Кен и Тил не рассмотрели, на какой ужас наткнулись. Опустившись на корточки рядом с трупом, Кен отшатнулся: у мужчины были вырваны все внутренности. — Господи Иисусе, его глаза, — произнес Тил. Кен перевел взгляд с изуродованного торса на глаза и увидел, что они вырваны из глазниц. Пятясь внутрь замусоренного двора, Тил вынул револьвер. Кен тоже попятился от обезображенного тела и достал револьвер из кобуры. Хотя целый день он потел в душной машине, но сейчас почувствовал, что его прошиб липкий, противный пот — признак сильного страха. «ПХФ, — подумал Кен. — Только какой-нибудь ублюдок, наширявшийся пентахлорфенолом, мог сделать такое». Над поселком Бордо Ридж стояла тишина. Двигались только тени, которые, казалось, увеличивались с каждой секундой. — Это дело рук какой-нибудь наркоты, — заметил Кен. — Я тоже так подумал, — сказал Тил. — Пойдем дальше? — Ну не вдвоем же. Давай вызывать подмогу. Они возвращались тем же путем, что пришли сюда, настороженно оглядываясь по сторонам. Пройдя небольшое расстояние, услышали шум. Треск. Звяканье металла. Звон разбитого стекла. У Кена не было сомнений в том, откуда доносятся звуки — из ближайшего к ним почти достроенного дома, предназначенного служить образцом для продажи. Не видя подозреваемого и не зная, где начинать его поиски, они могли бы со спокойной совестью вернуться к машине и вызвать по рации подмогу. Но сейчас, когда они услышали этот шум, интуиция и профессиональный долг заставили их действовать более решительно. Полицейские повернулись и пошли к задней стороне дома. Его внутренние помещения снаружи не просматривались; на обитые рубероидом доски была приколочена проволочная опалубка, и половина дома уже оштукатурена. Штукатурка была еще сырая — похоже, ее наложили только сегодня. Почти все окна застеклены, а оставшиеся проемы закрыты кусками непрозрачного пластика. Треск внутри строения повторился, теперь уже громче прежнего, а за ним последовал звон разбиваемого стекла. Кен Даймс толкнул раздвижную стеклянную дверь, соединявшую задний двор с гостиной. Она была не заперта. Стоя снаружи, Тил заглянул внутрь гостиной через стекло. Хотя кое-какой свет проникал туда через окна, в комнате царил полумрак. Насколько они могли рассмотреть, там никого не было, поэтому Тил протиснулся через полураскрытую дверь, держа в одной руке фонарь, а в другой сжимая «смит-вессон». — Иди к переднему входу, — прошептал Тил, — чтобы не дать ублюдку уйти с той стороны. Пригнувшись, чтобы его нельзя было увидеть через окна, Кен побежал вокруг дома к передней двери, каждую секунду ожидая, что кто-то прыгнет на него с крыши или через один из незастекленных проемов.Внутри гостиная была отделана гипсолитом и потолки оштукатурены. Гостиная соединялась с комнатой для завтраков, которая, в свою очередь, сообщалась с кухней — все это пространство было единым, без дверей и перегородок. На кухне были установлены шкафы, отделанные «под дуб», но кафельный пол еще не был положен. Пахло сырой штукатуркой и морилкой. Стоя в комнате для завтраков, Тил прислушивался. Стояла мертвая тишина. Если этот дом построен по типовому проекту, значит, слева, за кухней, располагается столовая, затем гостиная, прихожая и кабинет. Если он пойдет по коридору, который ведет из комнаты для завтраков, то попадет в прачечную, ванную первого этажа, чулан для верхней одежды и потом — в прихожую. Сообразив, что один маршрут ничем не лучше другого, Тил вышел в коридор и пошел в прачечную. В ней не было окон, и, посветив фонариком через полуотворенную дверь, он рассмотрел желтые шкафы и пустые места, куда впоследствии установят стиральную машину и сушильный барабан. Тил решил заглянуть за дверь, где, по его предположениям, должны были находиться раковина и рабочий стол. Он распахнул дверь и быстро вошел внутрь, посвечивая фонариком и держа револьвер наготове. Все, что Тил увидел там, была раковина из нержавейки и приделанный вплотную к стене стол. Полицейский уже давно не чувствовал себя так «на взводе». Перед глазами у него стоял образ мертвого мужчины с пустыми глазницами. «Я не просто на взводе, — подумал он. — Мне очень страшно».
Снаружи Кен перепрыгнул через узкую водосточную канаву и приблизился к двустворчатой входной двери. Она была закрыта. Посмотрев вокруг, он никого не заметил. В сгущающихся сумерках поселок Бордо Ридж выглядел скорее не как район новостройки, а как территория, недавно подвергшаяся бомбежке. В прачечной комнате Тил Портер повернулся, собираясь выйти в коридор, но в этот момент в одном из желтых шкафов — где обычно держат швабры — распахнулась дверца, и проклятая тварь выскочила на него, как чертик из шкатулки. На долю секунды ему показалось, что такого не может быть, просто это какой-то мальчишка в гуттаперчевой маске фантастического чудовища. Луч его фонарика был направлен в противоположную сторону от нападавшего, и поэтому Тил не смог как следует рассмотреть его, но все равно сразу понял: это не маска, а голова живого существа, потому что устремленные на него тускло светящиеся глаза явно были не из стекла или пластика. Он инстинктивно нажал на спусковой крючок своего револьвера, но, поскольку «смит-вессон» был направлен туда же, куда и фонарик, пуля прошила стену коридора; когда полицейский повернулся лицом к этому исчадию ада, оно зашипело, как змея, и навалилось на него. Пытаясь высвободиться из жутких объятий, Тил выстрелил еще раз, но теперь пуля ушла в пол — выстрел прозвучал оглушительно в тесном помещении. И тут он был прижат к раковине, а револьвер был вырван из руки. От толчка фонарь выпал и покатился в угол. Свободной рукой Тил ударил в темноту перед собой, но прежде чем кулак достиг цели, чудовищная боль пронизала живот, как будто в него вонзили сразу несколько кинжалов, и ему сразу стало ясно: дело плохо. Он закричал. В лицо ему глянула уродливая желтоглазая морда, Тил закричал опять, наугад колотя кулаками перед собой, но в эту же секунду новые кинжалы прошили насквозь мягкие ткани его горла.
Кен Даймс находился в четырех шагах от входной двери, когда услышал крики Тила. Крики, в которых перемешались удивление, страх и боль. — Черт! Перед ним была двустворчатая дверь. Правда, створка удерживалась вверху и внизу специальными щеколдами, а левая — которая, собственно, и служила дверью — была не заперта. Кен ворвался в дом, забыв об осторожности, и остановился в полутемной прихожей. К этому моменту крики прекратились. Кен включил фонарик. Справа — пустая гостиная, слева — пустой кабинет. Лестница на второй этаж. Никаких признаков чьего-либо присутствия. И тишина — как в вакууме. Сначала Кен поостерегся позвать Тила, чтобы убийца по голосу не определил его местонахождение. Затем сообразил, что все равно ему придется оставить фонарик включенным, и, если он подаст голос, это ничего не изменит. — Тил! По пустым комнатам прокатилось эхо. — Тил, где ты? Молчание. Тил, наверное, уже умер. Если бы он был жив, он бы ответил. Может быть, правда, он ранен или лежит без сознания и умирает. В этом случае лучше вернуться к патрульной машине и вызвать «скорую». Нет, нет. Если что-нибудь случилось, нужно найти его и оказать первую помощь. А то, пока он будет вызывать «скорую», Тил может скончаться. Нельзя так рисковать. Кроме того, остается еще и убийца. На смену дню приходила ночь, и теперь только дымно-красный свет проникал в дом сквозь окна. Кену, таким образом, приходилось полагаться только на свой фонарик, который, конечно, не был идеальным источником света, поскольку при движении его луча из темноты возникали искаженные очертания и силуэты. А они могут отвлечь его внимание от настоящего убийцы. Оставив входную дверь распахнутой, он, мягко ступая, двинулся по узкому коридору в направлении черного хода, стараясь держаться поближе к стене. Его башмаки скрипели при каждом шаге. Кен держал револьвер перед собой, а не вверх или вниз, как предписывала инструкция. Сейчас было не до инструкций. Справа он увидел открытую дверь. Пустой чулан. Запах его собственного пота, казалось, заглушал запахи извести и морилки. Слева от чулана был вход в дамскую комнату. Быстро осветив ее фонариком, он не заметил в ней ничего необычного, только испугался своего отражения в зеркале. Задняя часть дома, включавшая гостиную, комнату для завтраков и кухню, находилась прямо перед ним, а слева от него была распахнутая дверь. В свете фонарика, который вдруг запрыгал у него в руке, Кен рассмотрел тело Тила на полу прачечной комнаты, в такой огромной луже крови, которая не оставляла сомнений в том, что он мертв. После того как волна страха прокатилась по жилам Кена, он почувствовал горе, ярость, ненависть и непреодолимое желание отомстить убийце. Позади него раздался звук тяжелого удара. Кен вскрикнул и повернулся лицом к противнику. Ни в коридоре, ни в комнате для завтраков, однако, никого не было. Звук донесся из передней части дома и мог означать только одно — кто-то захлопнул входную дверь. За ним последовал другой звук, менее громкий, но еще более тревожный — лязг замка: кто-то запер входную дверь. Значит, убийца покинул дом и запер дверь снаружи на ключ? Но где он взял ключ? У убитого им прораба? И почему сделал паузу перед тем, как повернуть ключ в замке? Более вероятно, что убийца запер дверь не только для того, чтобы помешать Кену выйти из дома, но и чтобы продолжить свою дьявольскую охоту. Кен подумал: может быть, стоит выключить фонарик, не выдавать своего присутствия, но сумерки сгустились настолько, что без фонаря Кен вообще не смог бы ориентироваться. Черт возьми, а как же убийца так легко передвигается в сгущающейся темноте? У наркоманов после приема ПХФ десятикратно возрастает физическая сила. Возможно ли, что и их ночное зрение улучшается в такой же степени? В доме было тихо. Кен стоял, прислонившись спиной к стене коридора. До него доходил запах крови Тила — похожий на запах металла. Клац, клац, клац. Кен напряг слух, но больше ничего не услышал. Похоже на звук быстрых шагов по бетонному полу, производимый кем-то, обутым в сапоги на кожаной подошве или башмаки с подковками. Затем до него опять донеслось — клац, клац, клац, клац — на этот раз четыре шага, прозвучавших со стороны прихожей, — кто-то двигался на него по коридору. Кен моментально отпрянул от стены и, пригнувшись, повернулся в сторону идущего, держа перед собой фонарик и револьвер. В коридоре никого не оказалось. Выдыхая ртом, чтобы не заглушить шумом своего дыхания шаги противника, Кен пошел по коридору в сторону прихожей. Никого. Входная дверь была закрыта, как он и предполагал, но ни в гостиной, ни на лестнице, ни в кабинете никого не было. Клац, клац, клац, клац. Теперь звуки доносились совсем с другой стороны — из комнаты для завтраков. Значит, убийца тихо покинул прихожую, пересек гостиную и столовую и прошел туда через кухню, подбираясь к Кену сзади. В эту минуту ублюдок входил в коридор, из которого только что вышел Кен. И хотя убийца проскользнул через все комнаты незаметно, теперь он специально не скрывал своего присутствия, чтобы поддразнить Кена: «Вот он я, позади тебя, приготовься, я иду». Клац, клац, клац. Кен Даймс был хорошим полицейским и никогда не отступал перед опасностями. За семь лет службы он получил два поощрения за храбрость. Но этот чертов сукин сын, который крался в полной темноте по пустому дому, то замирая, то заявляя о своем присутствии, когда ему хотелось, внушал Кену непреодолимый страх. Кен, как и любой полицейский, не был трусом, но он не был и дураком — ведь только дурак пойдет навстречу неведомой опасности. Вместо того чтобы вернуться в коридор и встретиться лицом к лицу с убийцей, Кен подошел ко входной двери и нажал на латунную ручку, намереваясь выйти наружу. Тут он заметил, что дверь не просто заперта на щеколду. Обе ее створки поверх щеколды и ручки замка были связаны куском проволоки. Для того чтобы покинуть дом, ему придется распутать проволоку, что может занять полминуты. Клац, клац, клац. Не целясь, Кен выстрелил в сторону коридора и побежал в противоположном направлении через пустую гостиную. Ему было слышно, как убийца клацает позади него в полной темноте. Когда же Кен достиг столовой и был почти у дверного проема, ведущего в кухню, намереваясь выбежать наружу через черный ход, откуда входил в дом Тил, он услыхал клацанье теперь уже впереди себя. Кен был уверен: убийца шел за ним до гостиной, но оказалось, что тот повернул назад и теперь начал с противоположной стороны. С ума можно сойти. Судя по звукам, производимым убийцей, он только что вошел в комнату для завтраков — значит, их разделяет только кухня. Кен решил, что будет стоять на месте и, как только этот подонок появится в свете фонарика, вышибет ему мозги первым же выстрелом. В эту минуту убийца испустил вопль. Двигаясь в темноте прямо на Кена, он издал резкий, нечеловеческий крик, полный первобытной ярости и ненависти. Кен никогда не слышал ничего подобного — ни от нормального человека, ни от сумасшедшего. Полицейский дрогнул, бросил фонарик в кухню, чтобы сбить с толку нападавшего, и помчался что было духу, но не в глубину дома, где дьявольская игра в кошки-мышки могла быть продолжена, а прямиком к едва светившемуся в густых сумерках окну. Нагнув голову и выставив вперед локти, он с оглушительным треском и звоном вылетел наружу и покатился по заднему двору, усеянному строительным мусором. Обломки деревянных реек и куски застывшего бетона больно впились ему в тело. Поднявшись на ноги, Кен повернулся лицом к дому и разрядил револьвер в разбитое окно на случай, если убийца захотел бы последовать за ним. В призрачном мраке ночи он не увидел за собой погони. Не рассчитывая на то, что попал в цель, Кен не стал терять времени. Обежав вокруг дома, он выскочил на улицу. Ему необходимо было добежать до машины, где у него была рация и крупнокалиберная винтовка.
* * *
В среду и четверг, соответственно второго и третьего июня, Тревис, Нора и Эйнштейн прилежно искали способы общения между собой, и в процессе этих поисков и люди, и пес едва не начали грызть мебель от отчаяния. У Норы, однако, оказалось столько терпения и уверенности в успехе, что их хватило на всех троих. Когда в закатные часы в пятницу вечером их усилия увенчались успехом, она была удивлена этим меньше, чем Тревис и Эйнштейн. Они начали с того, что купили сорок журналов — «Тайм», «Лайф», «Мак Колл» и «Редбук», — а также пятьдесят книг по искусству и фотографии и принесли их к Тревису домой, где было достаточно места, чтобы разложить их на полу. Для удобства они положили рядом диванные подушки. Эйнштейн заинтересованно наблюдал за их приготовлениями. Сидя на полу, прислонившись к дивану, Нора взяла морду ретривера в ладони и, приблизив к нему лицо, произнесла: — Послушай то, что я скажу, Эйнштейн. Мы хотим узнать о тебе все: откуда ты появился, почему ты умнее остальных собак, чего ты испугался в лесу в тот день, когда Тревис нашел тебя, почему иногда по ночам ты смотришь в окно, как будто боишься чего-то. У нас еще много вопросов. Но разговаривать ты не умеешь, так ведь? Не умеешь. И насколько мы знаем, читать — тоже. И если ты даже умеешь читать, то не умеешь писать. Поэтому мы воспользуемся картинками. Сидя рядом с Норой, Тревис наблюдал за Эйнштейном и видел, что в течение всей тирады пес не сводил с Норы глаз. Хвост его висел без движения. Похоже, он не только понял, что она сказала, но и крайне заинтересовался предстоящим экспериментом. «А не слишком ли разыгралось у меня воображение насчет его умственных способностей?» — подумал Тревис. У людей существует привычка «очеловечивать» домашних животных, приписывать им способы восприятия действительности, которыми те не обладают. В случае с Эйнштейном, где на самом деле имели место выдающиеся способности, искушение видеть глубокий смысл в каждом незначительном действии пса было чрезвычайно велико. — Мы внимательно посмотрим все эти картинки и отберем те, которые заинтересуют тебя и которые дадут нам возможность узнать, откуда ты и кто ты такой. Если ты увидишь что-либо, что может помочь нам ответить на эти вопросы, ты должен каким-то образом сообщить об этом. Или залаять, или поставить лапу на картинку, либо завилять хвостом. — Сумасшедший дом, — сказал Тревис. — Ты понимаешь меня, Эйнштейн? — спросила Нора. Ретривер негромко тявкнул. — Ничего не получится, — сказал Тревис. — Нет, получится, — возразила Нора. — Он не умеет ни разговаривать, ни писать, но может показывать. Если Эйнштейн укажет нам на десяток картинок, мы попробуем понять, какой смысл он в это вкладывает или каким образом это связано с его происхождением. Со временем мы сумеем соотнести эти картинки друг с другом и узнать, что он хотел бы нам сказать. Пес, морда которого все еще была зажата между ладонями Норы, скосил глаза на Тревиса и снова тявкнул. — Мы готовы? — спросила Нора. Эйнштейн бросил на нее быстрый взгляд и завилял хвостом. — Хорошо, — сказала она, разжимая ладони. — Давай начинать. В течение многих часов в среду, четверг и пятницу они пролистали множество книг и журналов, показывая Эйнштейну картинки и фотографии, изображавшие самые различные предметы: людей, деревья, цветы, собак, других животных, станки, городские и деревенские улицы, автомобили, корабли, самолеты, еду, рекламу различных товаров — в надежде, что некоторые из них вызовут в нем интерес. Эйнштейн лаял, ставил лапу на картинки, тявкал, нюхал и вилял хвостом при виде, по крайней мере, ста из многих тысяч изображений, при этом выбор его был настолько непредсказуем, что Тревис вообще не находил между ними никакой связи. Эйнштейну очень понравилась реклама автомобиля, на которой тот сравнивался с мощным тигром и был помещен в железную клетку. Было непонятно, что именно заинтересовало его — автомобиль или тигр. Пес также заинтересовался несколькими картинками, рекламирующими компьютеры, собачий корм, стереофонический кассетный плейер, а также изображавшими книги, бабочек, попугая, унылого человека в тюремной камере, четверых молодых людей, играющих в полосатый пляжный мяч, Микки Мауса, скрипку, мужчину на тренажере «бегущая дорожка» и множество других сюжетов. Он пришел в восторг от фотографии золотистого ретривера, похожего на него самого, и коккер-спаниеля, но изображения собак других пород его почему-то оставили равнодушным. Самым странным и загадочным образом Эйнштейн отреагировал на фотографию, сопровождавшую журнальную статью о фильме, снимаемом на киностудии «XX век — Фокс». Картина была посвящена всяким сверхъестественным явлениям: призракам, полтергейсту, демонам, восставшим из преисподней, и так далее. На фотографии, приведшей его в страшное возбуждение, было запечатлено демонического вида существо с огромной челюстью, жуткими клыками и светящимися, как фонари, глазами. Существоэто было не страшнее других, изображенных рядом, но Эйнштейна поразило именно оно. Залаяв на картинку, ретривер отбежал за диван и стал выглядывать оттуда, как будто опасался, что существо может сойти со страницы журнала и наброситься на него. Прячась за диваном, он опять залаял, заскулил, и Норе пришлось уговаривать его подойти к журналу. Увидев изображение демона во второй раз, Эйнштейн злобно зарычал и стал неуклюже переворачивать страницы лапами, пока наконец не закрыл журнал. — Это что, какая-нибудь особенная картинка? — спросила Нора. Эйнштейн уставился на нее и задрожал. Нора терпеливо открыла журнал на той же странице. Эйнштейн опять закрыл его. Нора вновь нашла нужную страницу. Эйнштейн закрыл журнал в третий раз, схватил его зубами и понес из комнаты. Тревис и Нора последовали за ретривером на кухню, где он направился прямиком к мусорному ведру. Подняв с помощью педали крышку ведра, Эйнштейн опустил туда журнал и, сняв лапу с педали, захлопнул крышку. — Что происходит? — спросила Нора. — Я думаю, что он точно не пойдет на этот фильм. — Четвероногий кинокритик. Все это произошло в четверг днем. В пятницу вечером отчаяние и Тревиса, и пса достигло критической точки. Иногда Эйнштейн проявлял необычную сообразительность, а иногда вел себя как обычная собака, и эта амплитуда между собачьим гением и уровнем обычной дворняги могла сбить с толку любого, кто попытался бы понять природу его способностей. Тревис уже начал думать, что, может быть, лучше воспринимать ретривера таким, какой он есть: быть готовым к неожиданным проявлениям его умственных способностей, но не ждать их постоянно. Скорее всего эта тайна так и останется нераскрытой. Нора, однако, сохраняла спокойствие. Она не уставала повторять, что Рим не сразу строился и что любой успех требует усердия, настойчивости, терпения и времени. Когда Нора начинала читать им подобные нотации, Тревис устало вздыхал, а Эйнштейн начинал зевать. Однако она была непоколебима. После того как они просмотрели все картинки в книгах и журналах, Нора собрала те, на которые Эйнштейн так или иначе отреагировал, разложила их на полу и попыталась с его помощью выяснить, какая между ними существует связь. — На этих картинках изображены существа и предметы, которые играли важную роль в его прошлом, — сказала Нора. — С уверенностью утверждать нельзя, — ответил Тревис. — Ну вот давай его и спросим, — предложила Нора. — Он же сам выбрал эти картинки, потому что мы просили его об этом. — Ты уверена, что он понимает правила игры? — Да, — сказала она убежденно. Пес тявкнул. Нора взяла рукой лапу Эйнштейна и поставила ее на фотографию, изображавшую скрипку. — О'кей, псина. Ты выбрал скрипку, значит, этот инструмент каким-то образом присутствовал в твоей прошлой жизни. — Может, он выступал в концертном зале «Карнеги-Холл»? — Перестань. — Нора опять обратилась к ретриверу: — Хорошо, существует ли связь между изображением скрипки и другими картинками? Эйнштейн бросил на нее внимательный взгляд, как бы обдумывая ответ на вопрос. Затем он пересек комнату, аккуратно ступая между рядами разложенных на полу картинок, скашивая глаза направо и налево, и затем, поставив лапу на рекламу кассетного плейера «Сони», поднял глаза на Нору. — Связь очевидна, — сказал Тревис. — На скрипке играют, а на кассетнике воспроизводят музыку. Прекрасный пример ассоциативного мышления у собаки, но ведь это ни о чем не говорит. — А я уверена, что это не так, — сказала Нора. Обращаясь к Эйнштейну, она спросила: — Кто-то, кто был с тобой раньше, играл на скрипке? Пес молча смотрел на нее. Нора задала еще один вопрос: — А у твоего предыдущего хозяина был такой кассетный плейер? Собака не сводила с нее глаз. Нора сказала: — Может быть, тот, кто играл на скрипке, записывал свою игру на кассетник? Пес моргнул и заскулил. — Ладно, — сказала Нора. — Есть здесь другая картинка, которая ассоциируется со скрипкой и кассетником? На мгновение Эйнштейн остановил взгляд на фотографии кассетника, затем прошел два ряда картинок и остановился у рекламы «Блю Кросс», где доктор в белом халате стоял у кровати, на которой молодая мать держала на руках новорожденного. Доктор и женщина улыбались, а младенец был серьезен и невинен. Опустившись на четвереньки рядом с ретривером, Нора спросила: — Это похоже на семью, в которой ты жил? Пес уставился на нее. — И в этой семье были отец, мать и маленький ребенок? Собака продолжала смотреть на нее немигающим взглядом. Сидя на полу, прислонившись к дивану, Тревис сказал: — Ребята, мы тут, видимо, имеем дело со случаем реинкарнации. Наверное, старик Эйнштейн был кем-то из этих людей в прошлой жизни. Нора не посчитала нужным отвечать на эту остроту. — Ребенком, который играл на скрипке, — не унимался Тревис. Нора прервала его: — Ладно. Так у нас ничего не получается. Простое совмещение картинок ничего не дает. Надо придумать способ задавать ему вопросы о картинках и получать ответы. — Дай ему ручку и бумагу, — посоветовал Тревис. — Хватит острить, — сказала Нора, раздражаясь на него больше, чем на собаку. — Сам знаю, что хватит, но выходит-то сплошное идиотство. Нора задумчиво посмотрела в пол, затем внезапно подняла голову и обратилась к Эйнштейну: — Ты ведь умная псина. И хочешь это доказать. Приятно же постоянно видеть восхищение и уважение со стороны окружающих. В таком случае сделаем вот что: ты научишься отвечать на мои вопросы просто: «да» или «нет». Собака выжидательно смотрела на нее. — Если хочешь сказать «да», повиляй хвостом, — сказала Нора. — Но только когда хочешь ответить утвердительно. Постарайся не делать этого по привычке или от избытка чувств. А когда захочешь сказать «нет» — пролай один раз. Тревис сказал: — Два раза будет означать «Я лучше погоняюсь за кошками», а три раза — «Принесите мне пива». — Ты его не путай, — резко сказала Нора. — А ему меня путать можно, да? Но ретривер даже не взглянул на Тревиса. Он не сводил своих больших коричневых глаз с Норы, которая еще раз объяснила ему, как отвечать. — Ну хорошо, — сказала она. — Давай попробуем. Эйнштейн, ты все понял? Ретривер вильнул хвостом несколько раз. — Это он случайно, — заметил Тревис. — Без понятия. Нора задумалась на мгновение, формулируя вопрос, а потом обратилась к собаке: — Знаешь, как меня зовут? Хвост пришел в движение. — Меня зовут Элен? Пес тявкнул. Нет. — Мери? Нет. — Нона? Ретривер закатил кверху глаза, как бы упрекая ее в неверии в его понятливость. Тяв. — Меня зовут Нора? Эйнштейн быстро завилял хвостом. Засмеявшись от восторга, Нора села рядом с Эйнштейном и обняла его за шею. — Будь я проклят, — сказал Тревис, подползая к ним. Нора показала на фотографию, которую пес все еще придерживал лапой. — Ты выбрал эту картинку, потому что она напоминает тебе о твоих прежних хозяевах? Нет. Тревис спросил: — А ты вообще когда-нибудь жил в семье? Эйнштейн тявкнул. — Значит, твое внимание привлекла женщина? Нет. — Мужчина в белом халате? Хвост задвигался. Да, да, да. — Он жил у врача, — предложила Нора. — У ветеринара, наверное. — Или у ученого, — сказал Тревис, вдруг почувствовав, что нащупал правильную версию. При слове «ученый» Эйнштейн завилял хвостом. — Ученый из лаборатории, — сказал Тревис. Да, да, да. — Ты — лабораторная собака? — спросила Нора. Да. — Подопытное животное, — подсказал Тревис. Да. — И поэтому ты такой умный. Да. — Потому что над тобой делали опыты. Да. У Тревиса заколотилось сердце. Общение состоялось, и не на том весьма приблизительном уровне, на каком оно происходило в тот вечер, когда пес сложил вопросительный знак из галет. Сейчас они могли уже сообщать друг другу вполне конкретные вещи. Сейчас они почти разговаривали — втроем, — и вдруг Тревис понял, что это все меняет. Мир, в котором люди и животные обладают одинаковым интеллектом и живут наравне, имеют равные права, испытывают похожие надежды и видят похожие сны, уже не может оставаться прежним. Конечно, скорее всего это — преувеличение. Не всем животным дарованы человеческое сознание и умственные способности, а всего лишь одной собаке; экспериментальному животному, возможно, единственному в своем роде. Но… Господи! Господи! Тревис с благоговением смотрел на ретривера, и по спине у него побежал холодок — но не от страха, а от встречи с неведомым. Нора обратилась к псу, и в ее голосе послышалось такое же благоговение, которое на мгновение лишило Тревиса дара речи. — Тебя ведь не просто так выпустили? Тяв. Нет. — Ты убежал? Да. — В то утро, когда я встретил тебя в лесу? — спросил Тревис. — Ты тогда только что вырвался на свободу? Пес молча смотрел на него, не двигая хвостом. — За несколько дней до нашей встречи? Эйнштейн заскулил. — У него, вероятно, есть чувство времени, — сказала Нора, — поскольку почти все животные придерживаются естественного ритма «день — ночь». В них заложены биологические часы. Но понятие календарных дней ему скорее всего незнакомо. Он не знает, как делить время на дни, недели и месяцы, поэтому не может ответить на твой вопрос. — Тогда придется его этому научить, — сказал Тревис. Ретривер радостно завилял хвостом. — Убежал… — задумчиво сказала Нора. Тревис догадывался, о чем она думает. Обращаясь к собаке, он спросил: — Тебя ведь, наверное, ищут? Пес заскулил и вильнул хвостом, всем своим видом выражая беспокойство.* * *
Спустя час после заката Лем Джонсон и Клифф Соамс прибыли в Бордо Ридж, сопровождаемые восемью сотрудниками УНБ на двух машинах без опознавательных знаков. Главная дорога поселка была заставлена автомобилями, среди которых выделялись черно-белые машины окружного департамента полиции и микроавтобус патологоанатомической службы. Лем с раздражением отметил, что пресса уже прибыла. Газетные репортеры и телебригады с портативными видеокамерами толпились у протянутой через дорогу заградительной ленты за несколько десятков метров от места происшествия. Замяв подробности гибели Вэсли Далберга в каньоне Святого Джима и убийство ученых из Банодайна, а также начав кампанию дезинформации, УНБ не позволило прессе установить связь между всеми этими событиями. Сейчас Лем надеялся, что полицейские, охранявшие место происшествия, — доверенные люди Уолта Гейнса и встретят вопросы репортеров невозмутимым молчанием, а в это время он подготовит приемлемую легенду. Охранники сдвинули в сторону козлы для пилки досок, загораживавшие проход, и пропустили автомобили УНБ за заградительную ленту. Затем козлы были водружены на место. Лем припарковал машину в конце улицы, недалеко от места происшествия. Клифф остался инструктировать прибывших с ними сотрудников, а Лем зашагал к недостроенному дому, который сейчас находился в центре всеобщего внимания. Радиостанции патрульных машин наполняли горячий ночной воздух звуками шифрованных переговоров, полицейским жаргоном, шипением и треском помех — у Лема было такое впечатление, что весь мир поджаривается на огромной космической сковородке. Перед домом на треногах были расставлены переносные софиты для освещения места работы следственной бригады, и Лем почувствовал себя актером на огромной сцене. Ночные насекомые чертили воздух и трепетали вокруг ярких огней, отбрасывая увеличенные тени на пыльную землю. Наступая на свою гигантскую тень, Лем пересек двор и вошел в дом. Внутри, как и снаружи, все было залито яркими лучами софитов. Белые стены отражали ослепительный свет. Бледные и вспотевшие от невыносимой жары, в этом море света двигались двое молодых полицейских, люди из патологоанатомической службы и, как обычно, сосредоточенные сотрудники из научной службы. В глубине дома два раза подряд полыхнула вспышка фотоаппарата. В холле было полно народу, поэтому Лем через гостиную, столовую и кухню прошел в заднюю часть дома. В комнате для завтраков стоял Уолт Гейнс, едва различимый за сиянием софитов с надетыми блендами. Было видно, однако, что его душат одновременно ярость и горе. Известие о гибели сотрудника, очевидно, застало его дома, поскольку на нем были старые кроссовки, мятые, военного образца брюки и рубашка с короткими рукавами в красно-коричневую клетку. Несмотря на большие габариты, бычью шею и мускулистые руки, одеяние Уолта и его согбенная поза придавали ему вид брошенного ребенка. Из комнаты для завтраков Лем не мог рассмотреть, что находится в прачечной, поскольку обзор заслоняли сотрудники криминалистической лаборатории. Он произнес: — Мне очень жаль, Уолт. Очень жаль. — Его звали Тил Портер. Мы с его отцом, Редом Портером, дружим двадцать пять лет. Ред уволился только в прошлом году. Как я скажу ему об этом? Господи. Поскольку мы друзья, то это придется сообщать именно мне. Такое дело никому не перепоручишь. Лем знал, что Уолт всегда сам шел домой к семьям своих погибших сотрудников, сообщал им горестное известие и делил с ними первые, самые тяжелые минуты. — Могли погибнуть двое, — сказал Уолт. — Второй вряд ли оправится от потрясения. — А что… с Тилом? — Выпущены кишки, как у Далберга. Обезглавлен. «Аутсайдер, — подумал Лем. — Теперь уже сомневаться не приходится». Внутрь помещения налетели ночные мошки и бились о стекло прожектора, у которого стояли Лем и Уолт. Сдерживая ярость, Уолт сказал: — Голову… так и не нашли. Как я скажу его отцу об этом? Лем промолчал. Уолт гневно посмотрел на него. — Теперь ты не имеешь права отстранять меня от расследования. Теперь, когда один из моих людей мертв. — Уолт, наше управление работает в обстановке секретности. Черт возьми, но даже число платных агентов держится в секрете. Твое же ведомство находится в центре внимания прессы. Для того чтобы знать, что делать, твои сотрудники должны точно знать, что нужно искать. А это означает, что большая группа людей получит доступ к секретной информации. — Твои-то люди все знают. — Да, но мои сослуживцы давали подписку о неразглашении, прошли тщательную проверку и умеют держать язык за зубами. — Мои тоже не трепачи. — Я уверен в этом, — осторожно сказал Лем. — Я уверен, что они не болтают в неслужебной обстановке об обычных делах. Но это дело уникальное. По этому все должно оставаться в одних руках. Уолт сказал: — Мои люди тоже могут дать подписку. — А проверка? Нужно будет проверить всех, даже простых клерков. На это уйдут недели или даже месяцы. Бросив взгляд в сторону столовой, Уолт заметил Клиффа Соамса и агента УНБ, которые разговаривали с двумя полицейскими. — Ты начал расследование, как только прибыл сюда? Даже предварительно не переговорив со мной? — Ага. Мы должны быть уверены: твои люди понимают, что не имеют права ни с кем говорить об увиденном здесь сегодня, даже со своими женами. Мы каждому сотруднику объясняем соответствующие федеральные законы, предусматривающие наказание вплоть до тюремного заключения. — Опять мне тюрьмой грозишь? — сказал Уолт, но на этот раз без юмора, который присутствовал в их разговоре после посещения Трейси Кишан в больнице. Лем был расстроен не только гибелью полицейского, но и тем, что в их отношения с Уолтом теперь был вбит клин. — Я не хочу никого сажать. И поэтому хочу, чтобы все понимали, какие могут быть последствия. — Ну-ка, выйдем, — скривившись, сказал Уолт. Выйдя наружу, они подошли к патрульной машине, стоявшей перед домом. Уолт сел на водительское место, а Лем рядом с ним. — Подними стекла, чтобы можно было спокойно разговаривать. Лем было запротестовал, говоря, что они задохнутся, но, взглянув на Уолта, понял: достаточно небольшой искры, чтобы он взорвался. Поэтому не стал спорить и поднял стекло. — О'кей, — сказал Уолт. — Мы здесь одни. Не начальник управления УНБ и не шериф. Простые старые друзья. Приятели. Давай рассказывай. — Черт возьми, Уолт, я не имею права. — Скажи мне все, и я отстану. Больше не буду вмешиваться. — Ты все равно не можешь участвовать в этом деле. Тебе не положено. — Черта с два, — сердито сказал Уолт. — Я могу пойти прямиком вон к тем шакалам. — Он ткнул пальцем в пыльное ветровое стекло, через которое были видны столпившиеся за ограничительной лентой репортеры. — Я могу им сказать, что лабораторный комплекс Банодайн занимался каким-то оборонным проектом, который в один прекрасный день вышел из-под контроля, в результате чего оттуда, несмотря на все меры предосторожности, сбежало что-то странное, и теперь оно бродит по округе и убивает людей. — Давай, давай, — проговорил Лем. — Тебя не только посадят. Тогда ты — конченый человек. — Не думаю. В суде я заявлю, что мне пришлось выбирать между интересами государственной безопасности и интересами избирателей, благодаря которым я нахожусь на своем посту. И я скажу, что в критическую минуту я был вынужден поставить безопасность местного населения над интересами бюрократов из министерства обороны в Вашингтоне. Я уверен, что любой суд присяжных меня оправдает. Никуда меня не посадят, а вот на очередных выборах за меня проголосует еще больше народу, чем в прошлый раз. — Вот дерьмо, — произнес Лем, понимая, что Уолт прав. — Если ты мне расскажешь все сейчас, убедишь, что твои люди лучше справятся с этим расследованием, тогда я уйду с дороги. В противном случае я предам это дело всеобщей огласке. — Ты заставляешь меня нарушить секретность. Это все равно что самому сунуть голову в петлю. — Никто же не узнает о нашем разговоре. — Да? Ради Бога, Уолт, зачем тогда ставить меня в такое дурацкое положение? Только чтобы удовлетворить твое любопытство? Уолт с обидой посмотрел на него. — Не то ты говоришь, черт тебя возьми. Это не простое любопытство. — А что? — Один из моих людей мертв! Откинувшись на сиденье, Лем закрыл глаза и вздохнул. Уолт должен знать, почему он не может расследовать это дело и мстить за убийство одного из своих людей. Его профессиональный долг и честь не позволят ему отступить, если он не узнает все. Лем почувствовал себя в безвыходном положении. — Ну что, я пошел к репортерам? — спокойно спросил Уолт. Лем открыл глаза и ладонью вытер пот с лица. В машине было душно, и ему хотелось опустить стекло. Мимо них, однако, снаружи все время сновали люди, и он не мог допустить, чтобы кто-нибудь услышал то, что Лем собирался рассказать Уолту. — Ты был прав, ноги растут из Банодайна. В течение нескольких лет они занимаются там оборонными исследованиями. — Биологическая война? — спросил Уолт. — Разведение нехороших вирусов? — Возможно, и это тоже, — ответил Лем. — Но бактериологическое оружие не имеет ничего общего с этим делом, поэтому я буду говорить только о тех исследованиях, которые непосредственно относятся к нему. Стекла в машине начали запотевать, и Уолт включил двигатель. Кондиционера не было, но даже слабый теплый воздух, начавший поступать от вентилятора, приносил некоторое облегчение. Лем сказал: — Работа велась по нескольким исследовательским программам под общим названием «Проект «Франциск»». В честь святого Франциска Ассизского. Удивленно моргнув, Уолт спросил: — Они назвали военный проект именем святого? — С названием как раз все в порядке. Святой Франциск умел разговаривать с птицами и животными. А в Банодайне доктор Дэвис Вэтерби работал над проектом, цель которого — достигнуть определенного уровня общения между человеком и животными. — Изучение языка животных, что ли? — Нет. Идея заключалась в том, чтобы с помощью последних достижений генной инженерии создать животных с таким высоким уровнем интеллекта, который позволял бы им на равных общаться с людьми и думать на человеческом уровне. У Гейнса от удивления отвисла челюсть. Лем сказал: — Там было несколько исследовательских групп, которые проводили различные эксперименты по проекту «Франциск». Все они финансировались на протяжении по крайней мере последних пяти лет. Так, например, группа Дэвиса Вэтерби занималась собаками… Доктор Вэтерби работал со спермой и яйцеклеткой золотистых ретриверов, выбранных им для эксперимента, потому что эта порода имеет более чем столетнюю историю. Во-первых, в генетическом коде чистопородных животных ослаблено присутствие наследственных болезней, что давало Вэтерби здоровых и умных подопытных животных. Во-вторых, если в результате эксперимента рождались щенки с какими-нибудь отклонениями от нормы, Вэтерби было проще отличить естественные мутации от побочных эффектов его собственных манипуляций с наследственностью подопытных животных и, таким образом, учиться на собственных ошибках. На протяжении нескольких лет, стараясь увеличить интеллектуальные способности породы, не производя изменений в физическом облике животных, Вэтерби искусственно оплодотворял сотни генетически измененных яйцеклеток ретриверов, а затем помещал их в матку самок, которым предстояло вынашивать потомство. Самки вынашивали потомство в течение полного срока, а затем Вэтерби изучал новое поколение на предмет выявления повышенного интеллекта. — Было очень много неудачных экспериментов, — сказал Лем. — Рождались физические уроды, которых приходилось уничтожать. Рождались мертвые щенки. Щенки, которые внешне выглядели нормальными, но отставали в умственном развитии. Вэтерби занимался также генетическим скрещиванием различных видов животных, так что можешь себе вообразить, какие непривлекательные варианты возникали. Уолт смотрел прямо перед собой на ставшее совершенно непрозрачным лобовое стекло. — Генетическое скрещивание? Что ты имеешь в виду? — Видишь ли, он отделял генетические доминанты интеллекта в видах, которые по своей природе умнее ретриверов. — Обезьяны, что ли? Они ведь считаются умнее собак, так ведь? — Ну да… обезьяны… и люди. — Господи помилуй, — сказал Уолт. Лем направил отражатель вентилятора себе в лицо. — Вэтерби внедрял этот чужой генетический материал в генетический код ретриверов и одновременно убирал некоторые гены в самой собаке, которые, как он считал, ограничивают ее умственные способности. Уолт подскочил. — Но это невозможно! Этот, как ты говоришь, генетический материал невозможно внедрять от одного вида другому! — В природе это происходит постоянно, — сказал Лем. — Генетический материал переносится от одного вида к другому. И носителем в данном случае является вирус. Ну, скажем, в резус-мартышках живет какой-нибудь вирус. В организме обезьяны этот вирус набирается генетического материала из живых клеток. И эти обезьяньи гены становятся частью самого вируса. Позже, когда вирус поражает человеческий организм, он способен оставить в нем генетический материал обезьян. Возьмем, например, вирус СПИДа. Существует мнение, что некоторые обезьяны и люди годами были носителями этого вируса, но не заболевали самой болезнью; я хочу сказать, стали чистыми носителями. Но потом что-то случилось с обезьянами — какое-то негативное генетическое изменение, которое сделало их не только носителями, но и жертвами вируса СПИДа. Обезьяны начали умирать от самой болезни. Потом, когда вирус попал в человеческий организм, он привнес с собой новый генетический материал, способствующий заболеванию, и вскоре люди уже стали заражать друг друга. Примерно так обстоят дела в природе. А в лаборатории это можно воспроизвести еще более наглядно. Глядя на запотевшее боковое стекло, Уолт сказал: — Итак, Вэтерби удалось создать собаку с человеческим интеллектом? — Это был долгий, медленный процесс, но постепенно приходил успех. И вот меньше года назад родился щенок-вундеркинд. — Он думает так же, как человек? — Возможно, не так же, но то же. — И на вид это обычная собака? — Так этого требовал Пентагон. Что, я думаю, сильно затруднило работу Вэтерби. Ведь ясно: размер мозга имеет отношение к умственным способностям, и Вэтерби, конечно, намного раньше добился бы успеха, если бы создал ретривера с мозгом большего размера. Но это привело бы и к увеличению черепа, поэтому собака имела бы необычный вид. К этому моменту в машине запотели все стекла, но ни Уолт, ни Лем не пытались их протереть. Не видя того, что происходит за пределами теплого, влажного салона автомобиля, они чувствовали себя отрезанными от внешнего мира как во времени, так и в пространстве — в состоянии, странным образом настраивающем на размышления об удивительных и возмутительных вещах, на которые способна генная инженерия. Уолт сказал: — Пентагону была нужна собака, которая выглядела бы обычно, но могла думать, как человек. Зачем? — Представь, какие возможности открываются для шпионажа, — сказал Лем. — Во время войны она может спокойно разгуливать по вражеской территории, подсчитывая количество вооружений и личного состава. Эти умные животные, с которыми возможен контакт, возвращаются назад и рассказывают все, что они видели и слышали. — Рассказывают? Ты хочешь сказать, что собак можно научить разговаривать? Лем, ты шутишь! Лему стало жалко своего друга, который с трудом представлял себе такие возможности. Современная наука движется вперед быстрыми темпами и каждый год делает столько революционных открытий, что для непосвященных обывателей стирается грань между наукой и волшебством. Только немногим из них понятно, что мир сегодняшний отличается от того, каким он станет через двадцать лет, так же, как 80-е годы XVIII века отличаются от 80-х годов века XX. За этими изменениями невозможно уследить, и когда это на мгновение удается — как в случае с Уолтом, — то человека одновременно охватывает восхищение и страх. Лем сказал: — Наверное, можно на генетическом уровне сделать так, что собака сможет разговаривать. Может быть, это даже не очень трудно — я не знаю. Но ведь надо будет создать ей другой голосовой аппарат, изменить язык и губы — а значит, изменить наружность весьма радикальным образом, что не подходит для целей Пентагона. Поэтому таким собакам не суждено разговаривать. Но общение, разумеется, будет иметь место с помощью какой-нибудь сложной знаковой системы. — Ты так серьезно все это говоришь, — сказал Уолт. — Это же дурацкий розыгрыш, почему же ты не смеешься? — Ты только подумай, — сказал Лем терпеливо, — в мирное время… представь, что президент Соединенных Штатов дарит ретривера-однолетку советскому руководителю. Пес живет в его доме, сидит у него в офисе и присутствует при разговорах высших партийных чиновников. Время от времени, скажем, раз в несколько недель или месяцев, собака выскальзывает из дома ночью, встречается с американским агентом в Москве и докладывает. — Докладывает? Ты совсем рехнулся? — Уолт засмеялся, но смех его прозвучал довольно натужно, из чего Лем заключил, что скептицизм шерифа поколеблен, несмотря на внешнюю иронию. — Я говорю тебе, это возможно, такая собака на самом деле создана в лабораторных условиях путем оплодотворения генетически измененной яйцеклетки генетически измененной спермой и вынашивания плода неродной матерью-самкой. После года содержания в лаборатории Банодайна утром семнадцатого мая эта собака убежала, проделав ряд сложных действий, против которых оказалась бессильна даже система сигнализации и охраны. — И пес сейчас на свободе? — Да. — И он убивает… — Нет, — сказал Лем. — Собака — абсолютно безвредное, доброе и чудесное животное. Я бывал в лаборатории у Вэтерби, когда тот работал с ретривером, и даже общался с псом в определенном смысле. Честно тебе говорю, Уолт, когда видишь это животное в действии, начинаешь понимать: еще не все потеряно. Уолт недоуменно уставился на него. Лему не хватало слов для того, чтобы выразить свои чувства. От нахлынувших эмоций у него стало тесно в груди. — Ну, понимаешь… если мы, люди, можем делать такие поразительные вещи, создавать такие чудеса, значит, внутри нас есть что-то очень сокровенное и ценное, что бы там ни говорили разные пессимисты и пророки. Если мы создадим такое, значит, в нас присутствует божественное начало. Мы делаем не только смертоносное оружие, но еще и создаем жизнь. Если мы сможем поднять представителей какого-нибудь вида животных до нашего уровня, сумеем поделить мир с другими живыми существами… значит, изменятся и наша вера, и наша философия. Переродив ретривера, мы начали свое собственное перерождение. Подняв собаку на высший уровень сознания, мы поднимаемся сами. — Господи, Лем, ты вроде как проповедь мне читаешь. — Правда? Это потому, что у меня было больше времени подумать обо всем об этом, чем у тебя. Со временем и ты поймешь, о чем я здесь говорил. Ты ощутишь, что человечество движется в сторону добра — и оно этого заслуживает. Уолт Гейнс долго смотрел на запотевшее стекло, как будто читая написанные на нем невидимые строки. Затем он произнес: — Может быть, все это верно. Может быть, мы и стоим на пороге нового мира. Но пока мы еще живем в прежнем мире и должны еще кое в чем разобраться. Если не собака убила моего человека, то кто? — Той же ночью из Банодайна, кроме собаки, сбежало еще одно существо, — сказал Лем. Его эйфория угасла от необходимости признать обратную сторону проекта «Франциск». — Оно известно под кличкой Аутсайдер.* * *
Держа в руках журнал с рекламой, на которой автомобиль для сравнения с тигром был помещен в железную клетку, Нора сказала Эйнштейну: — Хорошо, посмотрим, что мы еще можем выяснить. Что ты скажешь вот на это? Что заинтересовало тебя на этой картинке? Машина? Эйнштейн коротко пролаял: Нет. — Может быть, тигр? — спросил Тревис. Нет. — Клетка? — спросила Нора. Собака завиляла хвостом: Да. — Ты выбрал эту картинку потому, что тебя держали в клетке? — спросила Нора. Да. — А заключенный на другой картинке напомнил тебе о том, что испытываешь, когда находишься под замком? Да. — Скрипка, — сказала Нора. — Кто-нибудь в лаборатории играл для тебя на скрипке? Да. — Интересно, зачем? — спросил Тревис. На этот вопрос пес не смог ответить. — Тебе нравилась игра на скрипке? — спросила Нора. Да. — А вообще музыка тебе нравится? Да. — Ты любишь джаз? Собака не залаяла и не завиляла хвостом. Тревис сказал: — Он не знает, что такое джаз. Я думаю, они не давали ему слушать джазовую музыку. — А рок-н-ролл тебе нравится? — спросила Нора. Эйнштейн тявкнул и одновременно завилял хвостом. — Что это должно означать? — спросила Нора. — Наверное, и «да» и «нет», — сказал Тревис. — Что-то нравится, а что-то — нет. Ретривер завилял хвостом, подтверждая предположение Тревиса. — А классика? — спросила Нора. Да. — Да этот пес просто сноб, — сказал Тревис. Да, да, да. Нора в восторге рассмеялась, потом засмеялся Тревис, а Эйнштейн со счастливым видом стал тыкаться в них носом и облизывать языком. Тревис выхватил еще одну картинку, изображавшую мужчину на тренажере «бегущая дорожка». — Тебя ведь из лаборатории не выпускали. Но ты должен был поддерживать физическую форму. И тебе пришлось пользоваться «бегущей дорожкой»? Да. Чувство открытия неведомого переполняло их. Тревис вряд ли был бы больше возбужден и потрясен, даже если бы ему вдруг пришлось столкнуться с внеземным разумом.* * *
«Я падаю в кроличью нору, прямо как Алиса», — подумал Уолт Гейнс, поеживаясь. Весь этот новый мир с его космическими полетами, бытовыми компьютерами, телефонной спутниковой связью, промышленными роботами и вот теперь — биологической инженерией, совершенно не совпадал с тем миром, в котором он родился и вырос. Да что там говорить — во время второй мировой войны, когда Уолт был ребенком, не существовало даже реактивных самолетов. Он прожил жизнь в гораздо более простом мире. В нем присутствовали похожие на корабли «Крайслеры» с «плавниками» сзади, телефоны с дисками вместо кнопок и часы со стрелками вместо цифровых дисплеев. Когда Гейнс родился, телевидения не было и в помине, а возможность ядерного Армагеддона тогда никто не мог даже предсказать. У него было такое чувство, будто он переступил через невидимый барьер в мир, который движется по скоростной трассе. Это новое царство высоких технологий и восхищало, и пугало его. Сама идея создания разумной собаки пробуждала в Уолте детские мечты, и ему захотелось улыбаться. Однако другое существо, Аутсайдер, убежавшее из лаборатории, внушало ему непреодолимый страх. — У собаки нет клички, — сказал Лем Джонсон, — и это в порядке вещей. Большинство ученых не дают кличек подопытным животным, поскольку как только между ними возникают личностные отношения, трудно сохранять объективность в исследованиях. Поэтому псу был присвоен номер. Но даже когда стало ясно, что эксперимент удался и ретривера не придется уничтожать, даже тогда ему не дали клички. Все просто называли его «собака», и этого было достаточно, поскольку у других животных был только номер. Ну вот, а в то же самое время доктор Ярбек работала по другой программе проекта «Франциск», и ее усилия также увенчались успехом. Ярбек стремилась создать животное с резко повышенным интеллектом. Оно должно было находиться рядом с людьми в районах боевых действий — как собаки сопровождают полицейских на опасные задания. По замыслу Ярбек, этот зверюга был бы не только умен, но и страшен. Безжалостный, действующий скрытно, хитрый, он наводил бы ужас на противника. Его с одинаковым успехом можно было бы использовать для ведения войны как в джунглях, так и в условиях городской местности. Ярбек понимала, конечно, что ее творение не может обладать человеческим интеллектом или быть столь же умным, как собака, созданная Вэтерби. Было бы безумием произвести живое оружие убийства с таким же уровнем интеллекта, каким обладают люди, которым предстоит использовать его и управлять им. Все читали «Франкенштейна» и видели старые фильмы Карлоффа, поэтому понимали опасность, таящуюся в эксперименте Ярбек. Выбрав в качестве подопытных животных приматов из-за их природной сообразительности и похожих на человеческие конечностей, Ярбек остановилась на бабуинах как на основном виде, наиболее пригодном для осуществления ее мрачных целей. Бабуины — самые умные среди сородичей — отличный исходный материал. От природы они злобные и бесстрашные бойцы с весьма длинными острыми когтями и зубами, способны стоять насмерть, защищая свою территорию, и нападают на всякого, кого считают врагом. — Первое, с чего начала Ярбек, — попыталась изменить размеры бабуина, для того чтобы он мог противостоять взрослому мужчине, — сказал Лем. — Она считала, что в нем должно быть по крайней мере пять футов росту и сто — сто десять фунтов весу. — Не такой уж и большой, — заметил Уолт. — Достаточно большой. — Человека такого роста я бы мог прихлопнуть как муху. — Человека — да. Но не такое существо. В нем — сплошные мускулы, ни грамма жира. И потрясающая реакция. Вспомни, что бычок весом в пятьдесят фунтов может сделать котлету из взрослого человека. А зверюга весом в сто десять фунтов — соображаешь, что это за боец? Покрытое серебристой испариной лобовое стекло автомобиля, казалось, превратилось в киноэкран, на котором перед Уолтом предстала череда изуродованных трупов: Вэс Далберг, Тил Портер… Он сомкнул веки, но покойники все еще стояли у него перед глазами. — О'кей, о'кей, согласен. Сто десять фунтов вполне достаточно для существа, предназначенного для убийств. — Ну вот, Ярбек и создала породу бабуинов, которые вырастают до больших размеров. Затем она стала работать над спермой и яйцеклеткой этих гигантских приматов, убирая некоторые гены и добавляя новые. Уолт сказал: — Тот же самый метод, как и в случае с умной собакой. — В принципе да. Но не совсем. Ярбек хотела, чтобы у ее творения была мощная, страшная челюсть, как у немецкой овчарки или у шакала, чтобы в его пасти помещалось как можно больше зубов. Сами зубы должны быть длиннее, острее и более изогнутыми по форме, что привело бы к изменению формы головы бабуина и ее лицевой части. Череп необходимо было увеличить в любом случае, чтобы туда поместился больший по размеру мозг. Ярбек, в отличие от Вэтерби, не была ограничена физическими рамками. Наоборот, чем страшнее, чем чужероднее получилось бы создаваемое ею существо, тем лучше, поскольку оно предназначалось не только для преследования и убийства, но и чтобы наводить ужас на противника. Несмотря на жару и духоту, царившие в салоне автомашины, Уолт Гейнс почувствовал холод внизу живота, как будто наглотался ледяных кубиков. — А Ярбек и другие — они никогда не задумывались об аморальности всего этого? Они читали когда-нибудь «Остров доктора Моро»? Лем, ты обязан предать это дело гласности. И я тоже. — Так вопрос не стоит, — сказал Лем. — Идея о том, что существуют добрые и злые знания… — это, строго говоря, религиозная точка зрения. Действия людей могут быть моральными и аморальными, а знания нельзя классифицировать таким способом. Для ученого, для любого образованного человека все знания морально нейтральны. — Все верно, но я, черт возьми, говорю о применении знаний. В случае с Ярбек оно не было нейтральным. Сидя на веранде по выходным и попивая пиво «Корона», они любили рассуждать на такие темы. Философы с заднего двора. Любители пива, наслаждающиеся собственной мудростью. Иногда моральные дилеммы, которые они обсуждали, вставали перед ними в полицейской практике, но такой явной связи между их спорами и работой, как сейчас, Уолт припомнить не мог. — Применение знаний — часть процесса познания, — сказал Лем. — Ученый должен внедрять свои открытия, чтобы знать, куда они его могут завести. Моральная ответственность лежит на тех, кто выводит технологию за пределы лабораторий и использует ее в аморальных целях. — И ты веришь в эту брехню? Лем помолчал с минуту. — Думаю, что верю. Мне кажется, если бы мы привлекали к ответственности ученых за последствия, к которым могут привести их исследования, они, во-первых, отказались бы работать, а, во-вторых, всякий прогресс вообще бы остановился. Мы так бы и жили в пещерах. Уолт достал чистый платок из кармана и промокнул лицо, давая себе минуту на размышление. Жара и духота уже не беспокоили его. Но от одной мысли о смертоносной твари, шныряющей сейчас по графству Ориндж, пот катился с него градом. Ему хотелось известить весь мир о том, что что-то невиданное и опасное бесконтрольно бродит по земле. Поступи он так, Уолт сыграл бы на руку новым луддитам, не замедлившим начать общественную истерию в попытке положить конец исследованиям подобного рода. Но ведь именно с помощью таких исследований создали сорта кукурузы и пшеницы, которые можно выращивать на бедных и засушливых почвах, и в результате на земле стало меньше голодных. А много лет назад был получен вирус, способный производить дешевый инсулин в виде побочного продукта. Если поведать миру об ужасном творении доктора Ярбек, можно наверняка спасти несколько жизней, но одновременно существует риск, что прекращение генетических исследований повлечет за собой гибель тысяч людей в дальней перспективе. — Черт бы все побрал, — сказал Уолт. — На белое и черное тут не разделишь. — Это и делает нашу жизнь интереснее, — заметил Лем. Уолт кисло улыбнулся: — Слишком уж она интересная стала в последнее время. О'кей, я согласен, что в этом расследовании нужно попридержать языки. Кроме того, если предать его гласности, то завтра в здешних местах будут бродить тысячи дураков-добровольцев, которые либо погибнут от зубов этой твари, либо по ошибке перестреляют друг друга. — Это точно. — Но мои сотрудники помогут держать это дело в секрете. Лем начал рассказывать ему о сотне морских пехотинцев, переодетых в гражданскую одежду, оснащенных самым современным снаряжением и в отдельных случаях сопровождаемых собаками-ищейками, которые продолжали прочесывать холмы. — Людей привлечено к расследованию больше, чем нужно. Делается все возможное. Ты не должен вмешиваться. Уолт нахмурился. — Хорошо. Но я хочу иметь полную информацию о ходе поисков. — Договорились, — кивнул Лем. — У меня есть еще вопросы. Например, почему его зовут Аутсайдер? — Видишь ли, собака первая из всех подопытных животных проявила необычные умственные способности. А эта тварь — уже потом. Эксперименты имели успех только в этих двух случаях. Сначала они звали его «Чужой», но потом им показалось, что «Аутсайдер» подходит ему больше, поскольку он не представлял собой усовершенствованный вариант ни одной Божьей твари, а является чем-то совершенно посторонним — существом со стороны. И оно знало о своем статусе аутсайдера, очень хорошо знало. — А почему они не назвали его просто бабуином? — Потому что… оно… он уже больше не похож на бабуина. Ты вообще ничего подобного не видел — разве что в ночном кошмаре. Уолту не понравилось выражение лица его темнокожего друга, и он решил не расспрашивать подробно о наружности Аутсайдера — возможно, ему не следовало это знать. Вместо этого Уолт поинтересовался: — А как насчет Хадстонов, Вэтерби и Ярбеков? Что стоит за всеми этими смертями? — Мы не знаем, кто конкретно нажимал на спусковой крючок, но утверждаем: преступник нанят Советами. Убит еще один человек из Банодайна, который находился на отдыхе в Акапулько. Уолт ощутил невидимый барьер, перейдя который он оказывался в еще более сложном мире. — Советы? Ты сказал «Советы»? А они-то как оказались втянутыми в это дело? — Пока нам неизвестно, какими именно сведениями о проекте «Франциск» они располагают, — сказал Лем. — Но, очевидно, информация у Советов есть. Ясно, что вБанодайне у них был агент, который сообщал им о том, как идут дела. Когда собака, а затем Аутсайдер убежали из лаборатории, Советы узнали об этом, решили воспользоваться неразберихой и причинить нам побольше неприятностей. Советы организовали убийства всех ведущих специалистов: Ярбек, Вэтерби, Хейнса и Хадстона, который, кстати, уже не работал в Банодайне. Мы считаем, они занимались этим по двум причинам: во-первых, чтобы остановить проект «Франциск», а во-вторых, затруднить нам поимку Аутсайдера. — А как ее можно затруднить? Тяжесть ответственности за это дело, казалось, вдавила Лема в сиденье машины. Он сказал: — Устранив Хадстона, Хейнса и особенно Вэтерби и Ярбек, Советы лишили нас возможности понять, каким образом думают Аутсайдер и собака. Только эти люди знали, куда могли направиться животные после побега и как их можно поймать. — А ты уверен, что это дело рук Советов? Лем вздохнул: — Не совсем. Я занимаюсь поимкой собаки и Аутсайдера. А поиск советских агентов, осуществивших убийства, поджог и перехват информации, возложен на другую команду. К сожалению, Советы, кажется, наняли людей, не принадлежащих к их агентурной сети, поэтому мы не представляем, откуда начинать поиск. Эта часть расследования практически стоит на месте. — А пожар в Банодайне? — Определенно поджог. В огне пропала вся бумажная и компьютерная документация по проекту «Франциск». Разумеется, существовали запасные диски в другом месте… но каким-то образом информация, записанная на них, оказалась стертой. — Опять Советы? — Наверное. Таким образом, уничтожены как руководители проекта, так и вся документация, и нам приходится только гадать, как работают мозги у собаки и Аутсайдера и как можно осуществить их поимку. Уолт замотал головой. — Никогда не думал, что окажусь на стороне русских, но мне по душе их идея остановить проект. — Не думай только, что они такие благородные. Я слышал, у них на Украине разрабатывается аналогичный проект. И у меня нет сомнения, что наши люди там делают то же самое, что их люди здесь. В любом случае, Советам хотелось бы, чтобы Аутсайдер оказался в каком-нибудь мирном пригороде и располосовал там несколько домохозяек и маленьких ребятишек. Когда такое случится пару-тройку раз, этот проект уже точно обернется против нас. Услышав про маленьких ребятишек, Уолт содрогнулся. — И такое может случиться? — Надеемся, что нет. Аутсайдер агрессивен, как сто чертей — его так запрограммировали — и испытывает особую ненависть к своим создателям; этого Ярбек не ожидала и предполагала исправить в последующих поколениях. Аутсайдер получает высшее наслаждение от уничтожения людей. Но он умен и знает, что каждое убийство приближает нас к его поимке. Поэтому зверюга попытается сдержать свою ярость. Большую часть времени он будет проводить вдали от людей, передвигаясь в основном по ночам. Иногда, правда, из любопытства он может забрести в жилые кварталы в восточном районе округа… — К Кишанам Аутсайдер уже забрел. — Ну да. Только я думаю, что он пришел туда не с целью убить кого-то. Простое любопытство. Чудовище не хочет, чтобы его поймали прежде, чем оно вы полнит свою главную задачу. — Какую? — Найти и убить собаку. Уолт удивился. — А что ему далась эта собака? — Мы точно не знаем, — ответил Лем. — Но в Банодайне он выказывал особую ненависть к ней, еще большую, чем к людям. Когда Ярбек общалась с Аутсайдером с помощью специально разработанной знаковой системы, он несколько раз выражал желание убить и изуродовать ретривера. Но не объяснял почему. — И ты думаешь, что сейчас Аутсайдер идет последу? — Да. Собака первой убежала из лаборатории — это установлено следствием, — и ее побег буквально взбесил Аутсайдера. Его держали в специальном помещении в лаборатории Ярбек, и все там внутри: спальные принадлежности, учебные пособия, игрушки — было разнесено в клочья. Сообразив, что ретривер может навсегда оказаться за пределами его досягаемости, Аутсайдер пошевелил мозгами и нашел способ убежать. — Но собаке, наверное, удалось оторваться… — Между Аутсайдером и псом существует необъяснимая связь. На психическом уровне. Мы не знаем, насколько она сильна, но предполагаем, что они инстинктивно чувствуют друг друга на значительном расстоянии. Это своего рода шестое чувство, явившееся побочным эффектом экспериментов, проведенных Вэтерби и Ярбек. Правда, это всего лишь предположение. Нельзя сказать наверняка. Нам так мало известно, что ощущаешь себя полным дерьмом! В течение нескольких мгновений собеседники хранили молчание. Душная теснота автомашины уже не была такой неприятной. Там, снаружи, подстерегало столько опасностей, что влажный салон казался безопасным и уютным местом, настоящим раем. Несмотря на боязнь ответов, которые он может получить на свои вопросы, Уолт тем не менее сказал: — В Банодайне — строгий режим секретности. Туда трудно проникнуть, но и выйти оттуда, вероятно непросто. Однако и собаке, и Аутсайдеру это удалось. — Да. — И, конечно, никто не мог подумать, что это окажется возможным. Значит, они в действительности умнее, чем предполагали их создатели. — Да. — В случае с собакой… Если она разумнее, это значит… Но собака не агрессивна. Лем встретился глазами с Уолтом. — А если Аутсайдер умнее… если его интеллект почти такой же, как у человека, тогда поймать его будет очень сложно. — Почти такой же или такой же. — Нет. Этого не может быть. — Или даже умнее, — сказал Уолт. — Нет. Невозможно. — Невозможно? — Нет. — Ты это точно знаешь? Лем вздохнул, устало потер глаза и промолчал. Он не собирался снова врать своему лучшему другу.* * *
Перебирая картинки одну за другой, Нора и Тревис узнавали об Эйнштейне все новые и новые подробности. Издавая короткий лай или виляя хвостом, пес отвечал на их вопросы. Например, он подтвердил, что выбрал картинку с рекламой компьютеров, так как она напомнила ему о компьютерах, увиденных им в лаборатории. Картинка, изображавшая четверых молодых людей, играющих в полосатый пляжный мяч, привлекла его внимание потому, что один из сотрудников лаборатории использовал мячи в тестах на умственные способности; эта процедура особенно нравилась Эйнштейну. Им не удалось выяснить, почему он выбрал изображения попугая, бабочек, Микки Мауса и еще целый ряд картинок. Они не сумели задать псу подходящие вопросы, на которые он мог бы ответить однозначно «да» или «нет». Но даже несмотря на то, что сотни их вопросов остались без ответа, сам процесс открытия возбуждал и радовал их — успех был налицо. Один только раз их радость омрачилась: когда они начали расспрашивать Эйнштейна об изображении демонического существа с рекламы нового фильма ужасов. Собака пришла в страшное возбуждение. Поджав хвост, она обнажила клыки и издала грозное рычание. Несколько раз ретривер пятился от картинки за диван или в соседнюю комнату и находился там несколько минут, затем неохотно возвращался, чтобы ответить на дополнительные вопросы. И все это время его почти непрерывно била дрожь. Потратив по крайней мере десять минут на выяснение причин такого поведения, Тревис ткнул пальцем в изображение зубастого чудища со светящимися глазами и сказал: — Ты, наверное, не понял, Эйнштейн. Это не изображение живого, настоящего существа. Это — бутафорский демон из кинофильма. Ты понимаешь это слово — бутафорский? Эйнштейн завилял хвостом: да. — Ну вот, это — бутафорский, ненастоящий монстр. Нет. — Да, — сказал Тревис. Нет. Эйнштейн попытался снова спрятаться за диваном, но Тревис ухватил его за ошейник. — Ты хочешь сказать, что видел такую тварь живьем? Пес поднял глаза на Тревиса, содрогнулся и заскулил. Держа его за ошейник, Тревис почувствовал эту дрожь, а страх в глазах Эйнштейна передался ему самому. Ощущая, как мурашки бегут по телу, Тревис подумал: «Господи, ведь он на самом деле видел такое существо». Заметив перемену в Тревисе, Нора спросила: — Что случилось? Вместо ответа Тревис повторил тот же вопрос: — Ты хочешь сказать, что видел такое существо наяву? Да. — И оно в точности такое? Да и нет. — Похоже на него? Да. Выпустив из рук ошейник, Тревис погладил пса по спине, стараясь успокоить его, но Эйнштейн продолжал дрожать. — И поэтому ты стоишь на страже у окна почти каждую ночь? Да. Обеспокоенная угнетенным состоянием собаки, Нора сказала: — Я думала, ты опасаешься, что люди из лаборатории обнаружат тебя. Эйнштейн коротко пролаял. — Тебя не пугает, что они тебя разыщут? Да и нет. Тревис сказал: — Ты боишься, что этот… это существо найдет тебя? Да, да, да. — Это то самое существо, которое гналось за нами там, в лесу, и это в него я стрелял? Да, да, да. Тревис бросил взгляд на Нору. Она нахмурилась. — Но ведь это только монстр из кинофильма. На самом деле ведь ничего такого не бывает. Собака прошлепала между разложенными на полу журнальными фотографиями и выбрала рекламу Голубого Креста, изображавшую врача и молодую мать с младенцем. Она взяла журнал и принесла его к их ногам. Затем Эйнштейн ткнулся носом в изображение доктора и взглянул на Нору, на Тревиса, потом опять стал тыкать носом в картинку и выжидательно поднял глаза. — Мы уже догадались, что доктор напоминает тебе одного из ученых, кто занимался с тобой в лаборатории, — сказала Нора. Да. Тревис спросил: — А сейчас ты хочешь сообщить, что этот ученый знает о существе, которое было там, в лесу? Да. Эйнштейн вновь принялся разглядывать картинки и на этот раз подобрал рекламу автомобиля, помещенного в клетку. Ткнувшись носом в изображение клетки, он, поколебавшись немного, дотронулся до картинки с демоном. — Ты хочешь сказать, что это существо должно быть посажено в клетку? — спросила Нора. Да. — Более того, — уточнил Тревис, — я думаю, он хочет сказать, что видел его в клетке. Да. — В той же самой лаборатории, где ты тоже сидел в клетке? Да, да, да. — Еще одно подопытное животное? — спросила Нора. Да. Тревис принялся изучать изображение демона: тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные глаза, уродливую пасть, густо усаженную зубами. Наконец он произнес: — Это был неудачный эксперимент? Да и нет, — ответил Эйнштейн. Придя в крайнее возбуждение, пес подбежал к окну, поставил передние лапы на подоконник и стал всматриваться в сумерки, опустившиеся на Санта-Барбару. Нора и Тревис сидели на полу, перебирали журналы и книги и радовались достигнутому успеху. На них вдруг навалилась усталость. Они озадаченно посмотрели друг на друга. — Как ты думаешь, Эйнштейн способен выдумывать всякие истории, как это делают дети? — спросила Нора тихо. — Не знаю. Умеют ли собаки врать или это чисто человеческие способности? — Тревис засмеялся над абсурдностью собственного вопроса. — Может ли лось баллотироваться в президенты? Можно ли научить корову петь? Нора засмеялась ему в тон: — Могут ли утки отбивать чечетку? Желая подурачиться после интеллектуальных и эмоциональных трудностей, испытанных во время общения с Эйнштейном, Тревис сказал: — Один раз я видел селезня, отбивающего чечетку. — Ну да? — Да. В Лас-Вегасе. Нора спросила со смехом: — И в каком отеле он давал представление? — В «Цезарь-Паласе». Кроме того, он еще и пел. — Селезень? — Ага. Знаешь, как его звали? — Как? — Сэмми Дэвис Дак Мл., — ответил Тревис, и они рассмеялись. — Он был такой большой звездой, что даже не посчитали нужным указать полностью его имя на афише. — Там было написано просто «Сэмми», да? — Нет. Просто «Мл.». Эйнштейн вернулся к ним и, склонив голову набок, пытался понять, что их так забавляет. Озадаченное выражение на морде ретривера еще больше развеселило Нору и Тревиса. Обессилев от смеха, они повалились друг на друга. Презрительно фыркнув, пес пошел назад к подоконнику. К моменту, когда затих смех, Тревис вдруг обнаружил, что обнимает Нору, а ее голова лежит у него на плече и впервые за время их знакомства между ними существует такой тесный физический контакт. Он вдыхал чистый, свежий запах ее волос и чувствовал жар ее тела. Внезапно им овладело сильное желание обладать ею, и Тревис понял: как только она поднимет голову с его плеча, он ее поцелует. Через мгновение Нора действительно подняла голову, и Тревис сделал то, что собирался, — поцеловал ее — и она поцеловала его. В течение первых нескольких секунд Нора как будто не понимала происходящего — в их поцелуе отразилась не страсть, а нечто гораздо более невинное: дружба и нежность друг к другу. Затем ее губы стали мягче, дыхание участилось, и, сжав его руку, она попыталась придвинуться поближе. Пробормотав что-то, Нора вдруг, казалось, очнулась от звука собственного голоса. Все тело ее напряглось, почувствовав в Тревисе мужчину, и ее красивые глаза широко раскрылись от удивления и страха перед тем, что едва не произошло. В тот же момент Тревис слегка отпрянул назад, инстинктивно понимая, что нужный момент еще не наступил. Когда в конце концов они займутся любовью, это произойдет без всяких колебаний и помех, поскольку на долгие годы у них должна остаться об этом радостная и ничем не омраченная память. И хотя все еще у них было впереди, Тревис не сомневался: они с Норой будут вместе до конца своих дней, — и эта возникшая в нем уверенность укреплялась с каждым часом. После секундной неловкости они выпустили друг друга из объятий и замолчали, не решаясь комментировать внезапную перемену в отношениях. Наконец Нора сказала: — Он все еще у окна. Прижав нос к стеклу, Эйнштейн вглядывался в ночь. — А может, пес прав? — спросила Нора. — Может, на самом деле из лаборатории убежало что-то такое страшное? — Если им удалось создать такую умную собаку, как он, значит, они способны вызывать к жизни другие существа. А ведь в тот день там что-то было в лесу. — Но вы так далеко уехали от того места, что вряд ли это существо сможет разыскать ретривера. — Вряд ли, — согласился Тревис. — Я думаю, Эйнштейн просто не понимает, как далеко мы находимся от леса, где я его обнаружил. В то же время мне кажется, что сотрудники лаборатории усиленно ищут его. И это меня беспокоит. Эйнштейн тоже встревожен. Поэтому на людях он притворяется обычным псом, а свои способности демонстрирует только нам с тобой. Он не хочет туда возвращаться. — Если они его найдут… — Не найдут. — А если найдут, что тогда? — Я его не отдам, — сказал Тревис. — Ни за что.* * *
К 23.00 обезглавленный труп полицейского Портера и обезображенное тело прораба были вывезены из Бордо Ридж людьми из коронерской службы. К этому часу уже была придумала легенда, которую и сообщили репортерам, столпившимся у заградительной линии. Похоже, пресса купилась на эту легенду — журналисты не задавали вопросов и ограничились тем, что отсняли несколько сотен фотографий и несколько тысяч футов видеопленки — в завтрашних новостях весь этот метраж будет сокращен и займет по времени не более полутора минут. (В наш век массовых уничтожений людей и терроризма убийство двух человек заслуживает около двух минут эфирного времени: десять секунд на вводную часть, секунд сто на сам репортаж и еще десять секунд на то, чтобы хорошо причесанные дикторы смогли изобразить на своих физиономиях приличествующие случаю печаль и огорчение. Затем можно сразу переходить к сообщению о конкурсе мини-бикини или к информации об НЛО.) Журналисты разъехались, как, впрочем, и все остальные. На месте происшествия остались только Уолт, Лем и Клифф Соамс. Месяц скрылся за облаками, и единственным источником освещения были фары автомобиля Уолта Гейнса. Он развернул его так, чтобы свет фар падал на машину Лема, припаркованную в конце улицы, и Лем с Клиффом могли идти, не спотыкаясь в темноте. За пределами этого светового коридора каркасы недостроенных домов возвышались, как гигантские скелеты доисторических рептилий. Шагая к своему автомобилю, Лем чувствовал себя довольным, насколько, конечно, это позволяли обстоятельства. Уолт согласился не чинить препятствий федеральным властям в этом расследовании. И хотя сам Лем нарушил дюжину всяких инструкций и подписку о неразглашении, рассказав другу подробности проекта «Франциск», он был уверен: дальше Уолта это не пойдет. Дело это по-прежнему находилось за завесой секретности — возможно, уже не такой плотной, как раньше, но все-таки достаточно плотной. Клифф Соамс, шедший впереди, открыл дверцу машины и сел на переднее сиденье справа. В тот момент, когда Лем открыл водительскую дверцу, Клифф вдруг произнес: — О Господи Иисусе, о Боже… Еще до того, как Лем успел взглянуть внутрь машины, Клифф уже выскочил наружу. Лем посмотрел на водительское сиденье. На нем лежала человеческая голова. Голова Тила Портера — сомнения не было. Она была обращена лицом к дверце, рот раскрыт в немом крике, а на месте глаз зияла пустота. Отпрянув от машины, Лем выхватил из-за пазухи револьвер. Уолт Гейнс также выскочил из своего автомобиля с револьвером в руке и подбежал к Лему. — Что происходит? Лем молча показал пальцем на сиденье. Заглянув внутрь машины, Уолт издал протяжный стон. К ним подошел Клифф, держа свой револьвер вверх стволом. — Чертова тварь все это время была здесь, пока мы находились в доме. — Возможно, она еще здесь, — заметил Лем, с тревогой вглядываясь в темноту, стеной окружающую освещенный пятачок, на котором стоял его автомобиль. Глядя на мрачные силуэты домов, Уолт сказал: — Можно вызвать сюда моих людей и начать поиск. — Бесполезно, — сказал Лем. — Эта тварь сразу сбежит, как только увидит, что они возвращаются. А может, уже сбежала. Они стояли на самом краю Бордо Ридж, сразу за которым начиналась открытая дикая местность, откуда Аутсайдер пришел и куда он, возможно, уже ушел. Все эти холмы, хребты и каньоны только угадывались в тусклом сиянии неполной луны. Где-то в конце неосвещенной улицы послышался громкий стук, как будто рассыпались сложенные в штабель доски. — Оно здесь, — произнес Уолт. — Может быть, — сказал Лем. — Но мы не пойдем туда, в темноту. А оно хочет, чтобы мы туда пошли. Они замолчали, прислушиваясь. Ничто больше не нарушило тишину. — Как только мы прибыли сюда, мы обыскали всю улицу, еще до вашего появления, — сообщил Уолт. Клифф сказал: — Оно, наверное, все время было на один шаг впереди вас — играло в прятки с вашими людьми. А потом, когда приехали мы, оно узнало Лема. — Действительно, я раза два посещал Банодайн, — согласился Лем. — По правде говоря… Аутсайдер, вероятно, ждал здесь меня. Он, наверное, догадывается о моей роли во всем этом, понимает, что именно я возглавляю поиски его и собаки. Поэтому подложил мертвую голову именно на мое сиденье. — В качестве издевки? — спросил Уолт. — В качестве издевки. Они помолчали еще некоторое время, с тревогой поглядывая в окружавшую их темноту. В горячем июньском воздухе не было ни малейшего движения. Единственное, что нарушало ночную тишину, был звук двигателя в машине шерифа. — Наблюдает за нами, — сказал Уолт. Снова — на этот раз ближе — послышался шум падающих строительных материалов. Трое мужчин замерли, встав спинами друг к другу, ожидая нападения с любой стороны. С минуту длилось молчание. Когда Лем собрался было заговорить, Аутсайдер испустил леденящий душу вопль. На этот раз они смогли определить, откуда пришел звук: из открытой местности за пределами Бордо Ридж. — Он уходит, — сказал Лем. — Понял, что нас в ловушку не заманить, и уходит, прежде чем мы вызовем подкрепление. Издалека донесся еще один вопль. Жуткий звук резанул Лема по сердцу. — Утром, — сказал он, — мы перебросим морских пехотинцев вон туда, на те предгорья. Мы его поймаем, черт бы меня взял. Поворачиваясь к машине Лема, явно оттягивая момент, когда нужно будет что-то делать с головой Тила Портера, Уолт спросил: — Почему глаза? Почему Аутсайдер всегда вырывает глаза у своих жертв? Лем ответил: — Ну, во-первых, потому что он — агрессивная и кровожадная тварь. Это у него в генах. А еще потому, что ему нравится внушать ужас. Я так думаю. А еще… — Что еще? — Не хотелось бы вспоминать… В одно из своих посещений Банодайна Лем присутствовал при разговоре — условном, конечно, — между доктором Ярбек и Аутсайдером. Ярбек и ее ассистенты обучили Аутсайдера объясняться с помощью специальных знаков, похожих на те, которые использовались в первых экспериментах с гориллами в середине 1970-х. Наибольший успех тогда был достигнут с самкой по имени Коко — она стала героиней многих репортажей, освоив словарный запас приблизительно в четыреста слов. Когда Лем видел Аутсайдера в последний раз, тот владел гораздо большим запасом слов, хотя, конечно, на довольно примитивном уровне. Находясь в лаборатории, Лем наблюдал, как это созданное человеком чудище обменивается сложными знаками с доктором Ярбек: перевод их на «человеческий язык» нашептывал Лему ассистент. Аутсайдер выказывал сильнейшую ненависть ко всему и ко всем, неоднократно прерывая диалог метанием по клетке, ударами по решетке и дикими воплями. Лему та сцена показалась пугающей и отвратительной, но одновременно его охватила жалость по отношению к Аутсайдеру: эта тварь обречена на сидение в клетке, на вечное одиночество, на которое не может быть обречено ни одно другое существо — даже собака Вэтерби. Увиденный им «разговор» настолько врезался Лему в память, что он и сейчас мог восстановить его в мельчайших подробностях. Так, например, Аутсайдер показал знаками: — Вырву ваши глаза. — Хочешь вырвать их у меня? — спросила знаками Ярбек. — У всех. — Зачем? — Чтобы никто меня не видел. — Почему ты не хочешь, чтобы тебя видели? — Я безобразен. — Ты считаешь себя безобразным? — Очень. — Откуда ты об этом узнал? — От людей. — Каких людей? — Всех, кто меня видел. — Как вот этот посетитель? — Ярбек показала на Лема. — Да. Все считают меня безобразным. Ненавидят меня. — Это не так. — Так. — Никто никогда не говорил тебе, что ты безобразен. Откуда ты знаешь, что о тебе так думают? — Знаю. — Откуда? — Знаю, знаю, знаю! — Аутсайдер забегал по клетке, сотрясая решетку и испуская дикие вопли. Затем вернулся на место. — Вырву себе глаза. — Чтобы не видеть себя? — Чтобы не видеть, как люди смотрят на меня, — показал он знаками, и Лем пожалел его тогда, хотя, конечно, страх не уступал место жалости. Сейчас, стоя в жаркой темноте июньской ночи, он рассказал обо всем этом Уолту Гейнсу, заставив его содрогнуться. — Господи помилуй, — произнес Клифф Соамс. — Аутсайдер испытывает отвращение к себе за то, что он не такой, как все, и поэтому ненавидит своих создателей еще больше. — Теперь, когда я узнал подробности, — сказал Уолт, — я удивляюсь, что никто из вас так и не понял, почему Аутсайдер исполнен такой ненависти к собаке. Этот урод и пес — детища проекта «Франциск». Собака — любимый ребенок, о котором родители готовы говорить без умолку, а Аутсайдер — дитя, которое лучше никому не показывать. Поэтому он в обиде на собаку и от этого чувства не может избавиться ни на минуту. — Все верно, — проговорил Лем. — Все верно. — И теперь становится ясно, почему он разбил зеркала в обеих ванных комнатах в доме, где погиб Тил Портер, — сказал Уолт. — Это существо не выносит вида собственного отражения. Откуда-то издалека до них донесся пронзительный вопль — звук, на который не способно ни одно из созданий Божьих.Глава 7
В последние дни июня Нора занималась живописью, проводила много времени вдвоем с Тревисом и пыталась научить Эйнштейна читать. Ни она сама, ни Тревис не были уверены, что у собаки, даже такой умной, хватит сообразительности научиться чтению, но решили попробовать. Раз пес понимает устную речь — а в этом сомнений у них не было, — значит, сможет разбирать и напечатанный на бумаге текст. Разумеется, могло оказаться, что Эйнштейн распознает не сами произнесенные вслух слова, а каким-то телепатическим образом считывает «картинки», возникающие в мозгу говорящего. — Я, правда, в это не очень верю, — сказал Тревис однажды, когда они с Норой сидели на веранде, попивая холодное вино и наблюдая, как Эйнштейн забавляется в струйках воды, бьющих из газонного разбрызгивателя. — Может быть, я просто не хочу в это верить. Трудно убедить себя в том, что пес обладает почти человеческим интеллектом, да еще и телепатическими способностями в придачу. Если это так, то мне надо надеть ошейник, а он пусть держит поводок! В отсутствии таких способностей у ретривера их убедит текст с испанским языком. Еще в колледже Тревис три года изучал испанский. Затем, когда поступил на службу в элитную группу «Дельта», начальство настояло на продолжении занятий языком, поскольку обострявшаяся обстановка в Центральной и Южной Америке указывала на то, что «Дельте» придется все чаще вести операции по борьбе с терроризмом в испаноязычных странах. Тревис много лет назад уволился в запас, но не пропускал случая поговорить на испанском с жителями Калифорнии, для которых этот язык был родным. Когда Тревис начал давать Эйнштейну команды и задавать вопросы на испанском, пес уставился на него с глупым видом, изумленно виляя хвостом. Когда же Тревис продолжил свои вопросы на непонятном языке, ретривер наклонил голову набок и тявкнул, как бы спрашивая, не шутка ли это. Если бы он мог считывать «образы», возникающие в сознании говорящего, ему было бы совершенно неважно, на каком языке к нему обращаются. — Он не умеет читать мысли, — сказал Тревис. — Слава Богу, все-таки есть пределы его возможностей! День за днем Нора проводила с Эйнштейном на полу гостиной или на веранде в доме Тревиса и объясняла ему алфавит. Иногда Тревис давал ей передохнуть и сам проводил уроки, но большую часть времени он все-таки сидел рядом и наблюдал, поскольку, по его словам, у него не хватало терпения быть учителем. Нора смастерила букварь из тетрадки с перекидными страницами. На левых страницах она приклеила вырезанные из журналов картинки, изображавшие различные предметы, а напротив — слова, их обозначающие: дерево, машина, дом, мужчина, женщина, стул… Сидя рядом с Эйнштейном и держа перед ним раскрытый букварь, она показывала пальцем на картинку, а затем на соответствующее слово и несколько раз медленно произносила его. В последний день июня Нора разложила на полу несколько картинок без подписи. — Сейчас у нас будет контрольная работа, — сказала она Эйнштейну. — Давай посмотрим, каких успехов мы добились по сравнению с понедельником. Эйнштейн сел очень прямо, выпятил грудь и высоко поднял голову, как бы не сомневаясь в своих способностях. Тревис расположился в кресле и наблюдал. Он сказал: — Если ты получишь двойку, мохнатая морда, я обменяю тебя на пуделя, который умеет переворачиваться, притворяться мертвым и служить на задних лапах. Нора с удовлетворением отметила, что Эйнштейн даже ухом не повел при этих словах. — Сейчас не время для шуток, — проговорила она строго. — Больше не буду, профессор, — сказал Тревис. Нора показала Эйнштейну карточку, где было напечатано слово «дерево». Ретривер подошел к разложенным на полу картинкам и безошибочно выбрал изображение сосны, дотронувшись до него носом. При виде карточки с надписью «машина» он поставил лапу на изображение автомобиля, а увидев слово «дом», он указал на фотографию особняка в колониальном стиле. Таким же образом они «прогнали» пятьдесят слов, и пес ни разу не ошибся. Нора пришла в восторг от столь хороших результатов, а пес беспрестанно вилял хвостом. Тревис сказал: — Слушай, Эйнштейн, тебе еще далеко до того, чтобы читать Пруста! Стараясь защитить своего любимца от подтрунивания, Нора сказала: — У него здорово получается! Он просто молодец! Нельзя же ждать, что за один день он начнет читать книги. Все равно Эйнштейн учится быстрее, чем любой ребенок. — Так ты считаешь? — Да, я так считаю! Намного быстрее. — Ну тогда он заслужил пару галет. В ту же минуту пес помчался на кухню, чтобы достать коробку с собачьими галетами «Милк-Боун».* * *
Шло время, и Тревис не переставал удивляться тому, как быстро Нора добилась успехов в обучении Эйнштейна чтению. К середине июля они прочитали составленный ею букварь и перешли к чтению детских книжек в картинках доктора Сеусса, Мориса Сендака, Фила Паркса, Сюзи Бодал, Сю Дример, Мерси Мэйер и других. Эйнштейну, казалось, все они доставляли огромное удовольствие, хотя он явно отдавал предпочтение книжкам Паркса и особенно — по совершенно непонятным для Норы и Тревиса причинам — очаровательной серии Арнольда Лобеля «Лягушонок и жаба». Они носили детские книжки из городской библиотеки большими стопками, а кроме того, многие покупали в магазине. Сначала Нора прочитывала их вслух, медленно водя пальцем под каждым словом, по мере того как она его произносила, а собака, наклонившись к книге, не отрываясь, следила за ним глазами. Позже Нора уже не читала вслух, а только держала книги открытыми и переворачивала страницы, когда Эйнштейн подавал ей знак — ворчанием или каким-либо другим способом, — что он осилил эту страницу и готов перейти к следующей. Готовность Эйнштейна часами просиживать над книгами сама по себе доказывала, что он в самом деле прочитывал их, а не просто разглядывал картинки. Тем не менее Нора решила проэкзаменовать его по содержанию некоторых книг, задав вопросы по тексту. Когда Эйнштейн прочитал «Один год из жизни лягушонка и жабы», Нора закрыла книгу и сказала: — Хорошо. А теперь ответь мне «да» или «нет» на мои вопросы. Они были на кухне, где Тревис готовил на обед картофельную запеканку с сыром. Нора с Эйнштейном сидели на стульях за кухонным столом. Тревис перестал готовить и стал следить за тем, как пес отвечает на вопросы. Нора спросила: — Когда однажды зимой лягушонок пришел в гости к жабе, жаба лежала в кровати и не хотела идти гулять. Правильно? Эйнштейн повернулся на бок на стуле, чтобы высвободить хвост, и помахал им. Да. Нора сказала: — Но в конце концов лягушонок и жаба пошли кататься на коньках. Пес пролаял один раз. Нет. — Они пошли кататься на санках? — спросила она. Да. — Очень хорошо. Позже, в том же году, на Рождество лягушонок подарил жабе подарок. Это был свитер? Нет. — Новые санки? Нет. — Каминные часы? Да, да, да. — Отлично! — сказала Нора. — Что теперь будем читать? Как насчет этой книжки «Удивительный мистер Фокс»? Эйнштейн энергично замахал хвостом. Тревису очень хотелось более активно участвовать в обучении ретривера, но он не мог не видеть, что такая напряженная работа с Эйнштейном очень благотворно влияет на Нору, и поэтому не вмешивался. Он даже иногда валял дурака, задавая вопросы о том, зачем вообще надо учить собаку читать, отпуская остроты по поводу успехов пса или его литературных пристрастий. Этого было достаточно, чтобы удвоить Норину решимость продолжать занятия, проводить еще больше времени с Эйнштейном и доказать Тревису, что он не прав. Собака никогда не реагировала на эти придирки, и Тревис подозревал: она проявляет такую снисходительность потому, что разгадала психологическую игру Тревиса «действовать от обратного». Было непонятно, почему Нора расцвела от своих педагогических занятий. Может быть, причина в том, что раньше она ни с кем так тесно не общалась — даже с Тревисом и теткой Виолеттой, — и само это общение с собакой побуждало ее все больше и больше выходить из своей раковины. Не исключено, что на нее оказывал благоприятное влияние тот факт, что она может передать псу часть своих знаний. По натуре Нора была широким человеком, ей доставляло удовольствие делиться с другими, но, вынужденная вести до этого жизнь затворницы, она не имела ни единой возможности проявить эту сторону своего характера. Теперь же у нее появился удобный случай раскрыть себя, и она щедро отдавала свое время и энергию, и эта щедрость доставляла ей самой огромную радость. Тревис также подозревал, что в отношении ретривера Нора обнаружила свой природный материнский талант. Ее огромное терпение было сродни терпению хорошей матери в обращении с ребенком, и она часто разговаривала с Эйнштейном так нежно и любовно, что казалось, беседует со своим горячо любимым отпрыском. Как бы там ни было, работая с Эйнштейном, Нора становилась все более свободной и открытой. Постепенно сменив свои бесформенные темные платья на летние белые хлопчатобумажные слаксы, яркие блузки, джинсы и майки, она помолодела лет на десять. Нора уложила свои роскошные черные волосы в парикмахерской и на этот раз не возвращалась к своей старой прическе. Она часто и заразительно смеялась. Разговаривая с Тревисом, Нора смотрела ему в лицо и редко робко отводила глаза в сторону, как делала это раньше. Часто дотрагивалась до него и обнимала рукой за талию. Ей нравилось, когда Тревис обнимал ее, и они теперь с легкостью целовались, хотя их поцелуи в большинстве своем по-прежнему оставались невинными, вроде тех, которыми обмениваются на первых порах подростки. Четырнадцатого июля Нора получила известие, очень ее обрадовавшее. Ей позвонили от окружного прокурора Санта-Барбары и сообщили, что ей не надо давать показания в суде против Артура Стрека. Учитывая преступное прошлое, Стрек не стал настаивать на своей невиновности и защищаться от предъявленных ему обвинений в попытке изнасилования, угрозе физическим насилием, взломе и проникновении в чужое жилище. Он поручил своему адвокату договориться с прокурором. В результате с него сняли все обвинения, кроме угрозы физического насилиями. Стрек был приговорен к трем годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение. Нора на радостях, празднуя это событие, впервые в жизни слегка напилась. В тот же день Тревис принес домой очередную кипу книг, и Эйнштейн обнаружил среди них книжки — картинки и комиксы с Микки Маусом, и это привело пса в такой же восторг, как и Нору сообщение о разрешении вопроса с Артуром Стреком. Увлеченность собаки Микки, Дональдом Даком и другими героями Диснея, хотя и казалась загадкой, была несомненна. Эйнштейн не переставая вилял хвостом и в знак благодарности облизал с ног до головы Тревиса. Все было бы прекрасно, если бы пес по-прежнему не бродил по ночам по дому от окна к окну, с явным страхом всматриваясь в темноту.* * *
Во вторник утром пятнадцатого июля, спустя почти шесть недель после убийств в Бордо Ридж и два месяца спустя после побега собаки и Аутсайдера из Банодайна Лемюэль Джонсон сидел в одиночестве в своем кабинете на верхнем этаже здания правительственных служб в Санта-Ане. Он глядел в окно на сильный туман, покрывший, как одеялом, западную часть округа и делавший стоградусную[95] жару еще более трудно переносимой. Мрачный день соответствовал настроению Лема. Его обязанности не ограничивались поисками беглецов из лаборатории, но и когда он занимался другими делами, это расследование постоянно мучило его. Даже ночью Лем не мог выбросить происшествие в Банодайне из головы и в последнее время спал не больше четырех-пяти часов. Он не хотел мириться с поражением. Нет, его чувства были даже острее: Лем был одержим навязчивой идеей о том, как выйти победителем. Его отец, начавший жизнь бедняком и впоследствии ставший преуспевающим бизнесменом, привил Лему почти религиозную веру в необходимость достигать во всем успеха, преуспевать и добиваться исполнения поставленных целей. «Независимо от того, чего ты добился в жизни, — часто говаривал его отец, — она всегда может выбить почву у тебя из-под ног, если ты перестанешь трудиться. Для чернокожего, Лем, это еще хуже. Для чернокожего успех подобен туго натянутому канату над Большим каньоном. Вот он наверху, и все прекрасно, но один неверный шаг — и он летит в бездну глубиной в милю. В бездну. Потому что падение означает бедность. А большинство людей даже в наш просвещенный век считают, что бедный, несчастный разорившийся негр — не человек, он просто черномазый». Это был единственный случай, когда его отец произносил это ненавистное слово. Лем вырос с сознанием, что, какого бы успеха он ни добился, это всего лишь очередная зацепка на скале жизни, всегда существует опасность, что его может сбросить с этой скалы неблагоприятными ветрами, поэтому он не смеет медлить и должен карабкаться быстрее на более широкий и безопасный уступ. Лем плохо спал, у него пропал аппетит. Когда он заставлял себя есть, это вызывало несварение желудка. Лем стал плохо играть в бридж, поскольку не мог сконцентрироваться на картах, и на еженедельных встречах с Уолтом и Одри Гейнс Джонсоны всегда оказывались в проигрыше. Он отдавал себе отчет в том, почему он так стремится к успешному завершению каждого дела, но это знание не помогало ему справиться со своим наваждением. «Мы есть то, что мы есть, — думал Лем, — и, может быть, мы только тогда можем измениться, когда жизнь подкидывает нам вот такой сюрприз, а это все равно что разбить зеркало бейсбольной битой и стряхнуть с себя прошлое». Так сидел Лем, смотрел в окно на жаркий июльский день и предавался своим беспокойным мыслям. Тогда, в мае, он допускал возможность, что ретривера кто-то взял домой. Это был красивый пес, если бы он выказал лишь малую толику своих умственных способностей, его привлекательность стала бы неотразимой и ретривер нашел бы себе пристанище. Поэтому Лем с самого начала полагал: разыскать собаку будет труднее, чем напасть на след Аутсайдера. «Неделя на обнаружение Аутсайдера, — думал он, — и, может быть, месяц на поиски ретривера». Лем разослал бюллетени по всем пунктам сбора бродячих животных и ветеринарам в Калифорнии, Неваде и Аризоне с просьбой оказать содействие в поисках золотистого ретривера. В бюллетенях говорилось: животное сбежало из медицинской исследовательской лаборатории, ведущей важнейшие изыскания в области рака. В них отмечалось: потеря собаки будет означать потерю миллиона долларов и бесчисленного количества времени, затраченных на эксперименты, и может серьезно помешать разработке методов лечения некоторых заболеваний. В листке также помещались фотография собаки и информация о том, что на внутренней поверхности левой ушной раковины у нее вытатуирован лабораторный знак: 33-9. В сопроводительном письме к бюллетеню говорилось не только о необходимости оказания всевозможной помощи, но и о соблюдении строгой конфиденциальности. Повторные бюллетени рассылались каждые семь дней со времени происшествия в Банодайне. Кроме того, десятки агентов УНБ занимались только тем, что обзванивали пункты сбора животных и ветеринаров во всех трех штатах, напоминая им о существовании бюллетеня и необходимости поиска ретривера с татуировкой. Между тем поиски Аутсайдера можно было с некоторой уверенностью ограничить безлюдными территориями, поскольку он не хочет, чтобы его видели. И потом, совершенно исключалась возможность, что его кто-нибудь приютит. Кроме того, Аутсайдер оставлял за собой кровавый след. После убийств в Бордо Ридж, к востоку от Йорба Линда, он переместился в незаселенный район Чино Хиллз. Оттуда Аутсайдер двинулся на север, через восточную оконечность округа Лос-Анджелес, где его присутствие было обнаружено девятого июня в окрестностях поселка Даэмонд Бар. В агентство по охране животных округа Лос-Анджелес стали поступать многочисленные — и истеричные — звонки от жителей этого поселка с жалобами на нападения диких животных на домашних питомцев. Звонили в полицию и те, кто полагал, что убийства животных — дело рук сумасшедшего. За две ночи в Даэмонд Бар были растерзаны в клочья более двух десятков домашних животных, и состояние трупов не оставляло у Лема сомнений в том, что потрошителем был Аутсайдер. Затем след потерялся более чем на неделю вплоть до утра восемнадцатого июня, когда двое молодых туристов сообщили, что у подножия пика Джонстона на южной границе обширного Анджелесского национального заповедника они встретили нечто «из другого мира». Они заперлись в своем фургоне, но существо неоднократно пыталось проникнуть к ним и даже разбило камнем боковое окно. К счастью, у молодых людей был пистолет 32-го калибра, один из них открыл огонь по нападавшему и этим отпугнул его. В прессе к туристам отнеслись как к парочке ненормальных, а в выпуске вечерних известий над ними здорово посмеялись. Лем верил молодой паре. На карте он отметил малонаселенный коридор, по которому Аутсайдер мог пройти из Даэмонд Бар на территорию южнее пика Джонстона: через горы Сан-Джоуз, через региональный парк Банелли, между Сан-Даймас и Глендорой, а затем в дикую местность. Он должен был пересечь или пройти под тремя расположенными здесь автострадами, но если Аутсайдер передвигался по ночам, когда движения почти нет, то мог остаться незамеченным. Лем перебросил в эту часть леса сто человек из морской разведки, и они, переодетые в гражданскую одежду, продолжали поиски группами из трех-четырех человек. Он очень надеялся, что туристы хотя бы одним выстрелом попали в Аутсайдера. Но на их лагерной стоянке не были обнаружены следы крови. Лем уже начал бояться, что Аутсайдера еще долго не удастся поймать. Простиравшийся к северу от Лос-Анджелеса национальный заповедник занимал огромную площадь. — Почти такую же, как весь штат Делавэр, — заметил Клифф Соамс, измерив территорию на карте, висевшей на доске в кабинете Лема, и переведя ее в квадратные мили. Клифф был родом из Делавэра. Он недавно приехал на Запад и все еще не переставал удивляться гигантским масштабам, присущим этой части материка. Он был молод, полонюношеского энтузиазма и оптимизма, который достигал опасных размеров. Воспитание Клиффа коренным образом отличалось от того, что получил Лем. Клифф вовсе не считал, что одной ошибкой, одним провалом можно разрушить свою жизнь. Иногда Лем завидовал ему. Он уставился на каракули с расчетами Клиффа. — Если Аутсайдер будет прятаться в горах Сан-Габриэля, питаться дикими животными и удовольствуется одиночеством, лишь изредка выходя оттуда, чтобы сорвать свою ярость на людях, живущих на окраинах… мы никогда его не отыщем. — Но не забывайте, — сказал Клифф, — что он не навидит собаку больше, чем людей. Он хочет найти ее и знает, как это сделать. — Это мы так думаем. — И разве Аутсайдер сможет вести такой дикий образ жизни? Я хочу сказать, он ведь только частично дикарь, он еще обладает и разумом. Возможно, этот разум не позволит ему довольствоваться унылым существованием в этой местности. — Может быть, — согласился Лем. — Военные скоро его обнаружат, или Аутсайдер сам сделает что-то, что наведет нас на след, — предсказал Клифф. Это было восемнадцатого июня. В последующие десять дней никаких следов Аутсайдера найдено не было, расходы на содержание сотни человек, ведущих его поиски, превысили допустимый предел. Двадцать девятого июня Лему пришлось отказаться от морских разведчиков, переданных в его распоряжение, и отправить их обратно на базы. С каждым днем Клифф все больше радовался отсутствию происшествий: ему хотелось верить, что с Аутсайдером что-то случилось, вероятно, мертв и они никогда о нем не услышат. День за днем Лем впадал все в большее уныние, уверенный, что ситуация вышла из-под его контроля и Аутсайдер вновь даст о себе знать самым драматическим образом, который вызовет публичную огласку его существования. Провал. Единственным светлым моментом во всем этом деле было то, что Аутсайдер находился сейчас на территории округа Лос-Анджелес, за пределами юрисдикции Уолта Гейнса. Если будут новые жертвы, Уолт, возможно, не узнает о них и Лему не придется вновь и вновь убеждать друга не вмешиваться. К четвергу пятнадцатого июля, ровно два месяца спустя после побега из Банодайна, почти месяц спустя после того, как туристов так напугало какое-то внеземное существо или младший брат Снежного человека, Лем был убежден, что ему следует подумать о смене профессии. Никто не винил его в том, как шло расследование. На него, конечно, оказывали давление, но не большее, чем при других крупных делах, некоторые вышестоящие начальники даже рассматривали такой поворот событий в том же благоприятном свете, что и Клифф Соамс. Но в самые черные минуты Лем видел себя пониженным до звания простого полицейского, в форме ночного сторожа, охраняющим какой-то склад. Сидя в своем кабинете и хмуро глядя в окно на желтый туман, окутавший яркий летний день, он громко произнес: — Черт возьми, меня ведь учили иметь дело с преступниками — людьми. Как, черт возьми, я могу перехитрить беглеца из какого-то кошмара? Раздался стук в дверь, и, пока Лем поворачивался в кресле, дверь распахнулась. В кабинет торопливо вошел Клифф, возбужденный и удрученный одновременно. — Аутсайдер, — проговорил он. — Мы напали наслед… но еще двое людей мертвы.Двадцать лет назад во Вьетнаме пилот вертолета УНБ, приписанного к Лему, выучил, что следует знать о взлете и посадке на пересеченной местности. И сейчас, находясь в постоянном радиоконтакте с помощниками шерифа округа Лос-Анджелес, уже прибывшими на место происшествия, он, используя естественные приметы, без труда визуально обнаружил район, где произошли убийства. В начале второго пилот опустил вертолет на широкую площадку безлесного хребта над каньоном Боулдер в Анджелесском национальном заповеднике, всего в сотне ярдов от того места, где были обнаружены трупы. Когда Лем с Клиффом вышли из вертолета и поспешили по гребню хребта к ожидавшим их помощникам шерифа и лесничим, им навстречу дул горячий ветер, несущий запах сухой листвы и сосновых веток. Только пучки дикой травы, сожженные и истонченные июльским солнцем, сумели пустить корни так высоко над землей. Низкая жесткая растительность вроде мескитовых деревьев обрамляла верхние участки стен каньона, а внизу на более низких склонах и дне каньона росли деревья и зеленое подлесье. Они находились менее чем в четырех милях к северу от города Санлэнд; в четырнадцати воздушных милях к северу от Голливуда и двадцати милях к северу от Лос-Анджелеса, а казалось, что они были на пустынном острове в тысячу миль шириной, в неприятном отдалении от цивилизации. Помощники шерифа припарковали автомобили на грунтовой дорожке в трех четвертях мили отсюда — при посадке вертолет Лема пролетал над этими машинами — и вместе с лесничими прошли туда, где были обнаружены трупы. Сейчас вокруг них собрались четверо полицейских, два человека из окружной криминалистической лаборатории и трое лесничих, и, казалось, у них тоже создалось впечатление, что они очутились в каком-то доисторическом месте. Когда прибыли Лем с Клиффом, представители шерифа только что поместили останки в специальные мешки. «Молнии» еще не были застегнуты, и Лем увидел, что одной жертвой был мужчина, а другой женщина. Они были молоды и одеты как туристы, путешествующие пешком. Раны были ужасны; у обоих были вырваны глаза. Число невинных жертв достигло пяти, и эти потери вновь заставили Лема ощутить свою вину за происходящее. В моменты, подобные сегодняшнему, он жалел, что отец не воспитал его вообще без всякого чувства ответственности. Помощник шерифа Хэл Бокнер, высокий загорелый человек с удивительно пронзительным голосом, ознакомил Лема с личностями убитых и состоянием трупов. — Судя по удостоверению личности, найденному у убитого, имя мужчины Сидней Трэнкен, возраст — двадцать восемь лет, проживал в Глендейле. На теле обнаружено множество следов укусов, еще больше следов когтей и ран. Горло, как видите, порвано. Глаза… — Вижу, — прервал его Лем, которому не хотелось останавливаться на этих ужасных подробностях. Люди из криминалистической лаборатории застегнули «молнии» на мешках. Раздался звук, прозвеневший в раскаленном июльском воздухе, как цепочка из льдинок. Помощник Бокнер сказал: — Сначала мы предполагали, что Трэнкен погиб от ножа маньяка. Время от времени появляется какой-нибудь маньяк-убийца, предпочитающий выслеживать жертв среди туристов здесь, в лесах, а не на улицах города. Мы так и подумали… сначала его зарезали, а уж потом, когда парень был мертв, все остальное сделали дикие животные, питающиеся падалью. Но теперь… мы не так в этом уверены. — Здесь на земле не видно крови, — удивленно сказал Клифф Соамс. — Судя по всему, ее должно быть очень много. — С ними расправились не здесь, — ответил Бокнер, а затем продолжил свой отчет: — Женщина, возраст — двадцать семь лет, зовут Руфь Казаварис, также из Глендейла. Ужасные следы укусов, раны. Ее горло… Вновь перебив его, Лем спросил: — Когда их убили? — Предположительно, до получения результатов лабораторных исследований, можно сказать, что это произошло вчера поздно вечером. По нашему мнению, их тела перенесли сюда, поскольку их легче найти на вершине хребта. Здесь проходит популярный туристский маршрут. Но обнаружил трупы обычный пожарный патрульный самолет. Пилот посмотрел вниз и заметил распростертые тела на голом хребте. Это высокогорье над каньоном Боулдер находилось более чем в тридцати воздушных милях к северу от пика Джонстона, где двадцать восемь дней назад, восемнадцатого июня, парочка молодых туристов спасалась в фургоне от Аутсайдера, а затем открыла по нему стрельбу из пистолета 32-го калибра. Аутсайдер, по-видимому, чисто инстинктивно направлялся на север, и ему приходилось часто делать крюки, выбираясь из боковых каньонов; поэтому, очевидно, он преодолел в общей сложности около шестидесяти-девяноста миль. Но это составляло самое большее три мили в день, и Лем недоумевал, чем же занимался Аутсайдер, когда не шел, не спал и не охотился. — Вы, конечно, осмотрите место, где были убиты эти двое, — сказал Бокнер. — Мы нашли его. И вам наверняка захочется увидеть и пещеру. — Пещеру? — Логово, — сказал один из лесничих. — Проклятое логово. С самого приезда Лема и Клиффа помощники шерифа, лесничие и криминалисты бросали на них подозрительные взгляды, но Лема это не удивляло. Местные власти всегда относились к нему с подозрением и любопытством, поскольку они не привыкли к вмешательству такого солидного федерального учреждения, каким было УНБ. Но сейчас он вдруг понял: их любопытство иного свойства и сильнее обычного, и в первый раз почувствовал, что они боятся. Они нашли что-то — логово, по их словам, — это дало им основания полагать, что это дело еще более необычное, чем то, которое могло вызвать появление представителей УНБ. Одежда Лема и Клиффа — костюмы, галстуки и начищенные до блеска ботинки — не была приспособлена для пешего путешествия вниз по каньону, но и тот и другой, не колеблясь, пошли за лесничими. Два помощника, криминалисты и один из трех лесничих остались рядом с трупами, и группа из шести человек стала спускаться. Они двинулись по неглубокой канаве, проложенной дождевыми стоками, затем вышли на оленью тропу. Спустившись на самое дно каньона, повернули на юго-восток и шли в этом направлении еще полмили. Скоро Лем покрылся потом и пылью, а его носки и брюки были все в колючках. — Вот тут их убили, — сказал Бокнер, выведя их на просеку, окруженную сосновой порослью, тополями и кустарником. На бледном песке и выгоревшей от солнца траве виднелись огромные темные пятна. Кровь. — А прямо за вами, — сказал один из лесничих, — мы нашли логово. Это была пещера в основании стены каньона глубиной, наверное, десять футов, шириной — двадцать футов и не далее чем в десятке шагов от небольшой просеки, где были убиты туристы. Вход в пещеру был в ширину примерно восемь футов, но довольно низкий, и Лему пришлось слегка пригнуться. Очутившись внутри, он смог распрямиться, поскольку до верха было высоко. В пещере стоял неприятный, затхлый запах. Свет проникал сюда через вход и дыру в потолке шириной в два фута, размытую водой, но все же там было сумрачно и на двадцать градусов холоднее, чем снаружи. Лема с Клиффом сопровождал один лишь Бокнер. Лем понял: остальные не вошли с ними не из боязни, что в логове будет слишком тесно, а из-за чувства тревоги, которое оно вызывало. У Бокнера с собой был фонарь. Он включил его и направил луч на те предметы, которые он хотел показать, разгоняя одни тени и заставляя другие перемещаться по пещере, наподобие летучих мышей, согнанных со своего насеста. В одном углу на песчаном полу из кучи сухой травы высотой шесть или восемь дюймов было сооружено некое подобие ложа. Рядом с ним стояло оцинкованное ведро с относительно свежей водой, очевидно, принесенной сюда из ближайшего ручья, чтобы, проснувшись среди ночи, существо могло утолить жажду. — Он был здесь, — тихо произнес Клифф. — Да, — согласился Лем. Интуитивно он чувствовал, что именно Аутсайдер соорудил себе эту постель; каким-то образом в пещере все еще ощущалось его чужеродное присутствие. Лем уставился на ведро, гадая, где Аутсайдер мог его раздобыть. Скорее всего по дороге из Банодайна он решил найти себе где-нибудь убежище и затаиться на время и понял, что ему понадобятся некоторые вещи, чтобы сделать свою жизнь в этих диких местах более комфортной. Возможно, Аутсайдер залез в конюшню, или сарай, или пустой дом и украл ведро и остальные предметы, которые Бокнер сейчас освещал фонарем. Клетчатое фланелевое одеяло, которое могло понадобиться, если похолодает. Лем обратил внимание на то, как аккуратно оно было свернуто и положено на узкий стенной выступ недалеко от входа. Фонарь. Он лежал рядом с одеялом. Аутсайдер обладал чрезвычайно хорошим ночным зрением. Это было одним из требований, над которым работала доктор Ярбек: хороший генетически созданный воин должен уметь видеть в темноте как кошка. Зачем же ему понадобился фонарь? Если только… может быть, даже такое создание тьмы иногда боится темноты? Эта мысль взволновала Лема, он неожиданно почувствовал жалость к этому зверю, как в тот день, когда он присутствовал при разговоре Аутсайдера с доктором Ярбек, когда тот грубыми жестами дал понять, что хочет вырвать свои глаза, чтобы больше никогда не видеть себя. Бокнер перевел луч фонаря на пару десятков конфетных оберток. Очевидно, Аутсайдер украл две упаковки у кого-то по дороге сюда. Странно, но обертки не были скомканы, а тщательно расправлены и положены на пол у задней стенки пещеры: десять — от конфет с арахисом и десять — от шоколадных плиток. Возможно, Аутсайдеру понравилась яркая расцветка оберток. А может быть, он сохранил их как напоминание о полученном удовольствии, поскольку в той его прежней жизни радости и удовольствий было немного. В дальнем от постели углу в темноте лежала кучка костей, принадлежащих небольшим животным. Съев конфеты, Аутсайдер принялся за охоту, чтобы прокормиться. А поскольку он не мог разжечь огонь, то питался сырым мясом. Вероятно, Аутсайдер держал кости в пещере из-за боязни, что они наведут на его след. То, что он хранил их в темноте, в самом дальнем углу своего убежища, говорило о его чистоплотности и любви к порядку, но Лему казалось, что тот прятал кости в темноте, поскольку стыдился собственной жестокости. Трогательное чувство оставляли предметы, сложенные в стенной нише над постелью. Нет, решил Лем, не просто сложенные. Все они были аккуратно уложены, как если бы это была ценная коллекция предметов искусства из стекла, керамики или гончарных изделий племени майя. Тут хранилась круглая побрякушка из цветного стекла вроде тех, что часто вешают в патио, чтобы они сверкали на солнце; диаметром она была около четырех дюймов, и на ней изображался голубой цветок на бледно-желтом фоне. Здесь был яркий медно-красный цветочный горшок, вероятно, прихваченный из того же — или другого — патио. Рядом с горшком лежали две вещицы, наверняка украденные Аутсайдером из какого-то дома, возможно, из того же, что и конфеты: изящная фарфоровая статуэтка, изображающая сидящую на ветке парочку кардиналов с ярким оперением, и хрустальное пресс-папье. По-видимому, даже этот монстр обладал определенным чувством прекрасного и желанием жить не как животное, а как разумное существо в окружении вещей, носящих отпечаток цивилизации. У Лема заныло сердце, он представил себе это одинокое, измученное, ненавидящее себя самого нечеловеческое и в то же время обладающее сознанием существо, вызванное к жизни доктором Ярбек. Последним предметом в нише над постелью была копилка в виде фигурки Микки Мауса высотой десять дюймов. Чувство жалости в Леме еще усилилось, потому что он знал, чем эта копилка привлекла Аутсайдера. В Банодайне проводились исследования с целью определить глубину и природу интеллекта собаки и Аутсайдера, выяснить, насколько их восприятие сродни человеческому. Один из экспериментов был направлен на выявление их способности разграничивать фантазию и реальность. Ретриверу и Аутсайдеру по отдельности ставили видеокассету со всевозможными фрагментами из фильмов: кусочки старых лент Джона Вэйна, отрывок из «Звездных войн» Джорджа Лукаса, новости, куски из документальных фильмов и мультипликационные фильмы с Микки Маусом. Реакции собаки и Аутсайдера фиксировались на пленку. Затем их изучали с точки зрения того, понимают ли они, что из увиденного — реальные события, а что — продукт воображения. Оба подопытных постепенно научились распознавать фантазию, когда с ней встречались; но в одну фантазию оба верили дольше всего и любили больше всего: это был Микки Маус. Они обожали приключения Микки и его друзей. После побега из Банодайна Аутсайдер каким-то образом наткнулся на эту копилку и страшно захотел ею владеть, поскольку она напоминала несчастному созданию о единственном удовольствии, которое он испытал, живя в лаборатории. Луч фонаря Бокнера упал на что-то блестящее и плоское, лежащее на полке. Оно находилось рядом с копилкой, и они чуть было не проглядели его. Клифф встал на травяную постель и взял в руки этот предмет: треугольный осколок зеркала размером три на четыре дюйма. «Здесь прятался Аутсайдер, — подумал Лем, — пытаясь черпать силу из своих скудных сокровищ, надеясь создать себе хоть какое-то подобие дома. Время от времени он брал этот осколок зеркала и смотрел на себя, возможно, стремясь найти в своем облике хоть что-нибудь, что не было безобразным, возможно, стараясь примириться с тем, кем он был. Но безрезультатно. Конечно же, безрезультатно». — Боже мой, — тихо произнес Клифф, в голове которого, очевидно, мелькнула та же мысль. — Бедный, несчастный ублюдок. У Аутсайдера была еще одна вещь: журнал «Пипл»[96] с Робертом Редфордом на обложке. Когтем, острым камнем или еще чем-нибудь он вырвал у Редфорда глаза. Журнал был измят и изорван, как если бы его листали сотни раз. Бокнер подал им «Пипл» и предложил полистать его. Лем последовал его совету и обнаружил, что у всех людей, изображенных на страницах журнала, были поцарапаны, порезаны или грубо вырваны глаза. От тщательности, с какой наносились эти символические увечья — не было пропущено ни одно изображение, — мороз шел по коже.
Да, Аутсайдер был жалок, ему можно было посочувствовать. Но в то же время его следовало бояться. Пять убитых, у одного выпущены кишки, у других оторваны головы. О невинных жертвах нельзя было забывать ни на минуту. Ни привязанность к Микки Маусу, ни любовь к красоте не могли служить оправданием таких зверств. Но Господи Иисусе… У Аутсайдера хватало интеллекта осознать важность и преимущества цивилизации и стремиться к тому, чтобы найти себе место в ней и оправдать свое существование. В то же время ему привили неистовую тягу к насилию, инстинкт убийцы, которому нет равных в природе, поскольку его создали для роли убийцы на длинном невидимом поводке, эдакую живую военную машину. Независимо от того, как долго Аутсайдер жил в мирном одиночестве этой пещеры, независимо от того, сколько дней или недель подавлял в себе желание убивать, он не мог изменить себя. Сопротивление внутри его будет расти до тех пор, пока Аутсайдер не прекратит сдерживаться, пока убийства небольших животных не перестанут приносить ему психологическое облегчение, и тогда он выйдет на поиски более крупной и более интересной жертвы. Аутсайдер может проклинать себя за кровожадность, может страстно желать преобразиться в существо, способное жить в гармонии с окружающим миром, но он бессилен изменить свою суть. Всего несколько часов назад Лем размышлял о том, как сложно пересмотреть свои принципы, привитые тебе еще отцом, как трудно любому человеку изменить свою жизнь, но это все же реально, если обладаешь решительностью, силой воли и временем. Для Аутсайдера, однако, это было невозможно: убийство в нем заложено генетически, накрепко заперто, так что он не мог надеяться на изменение или спасение. — Что, черт возьми, все это значит? — осведомился Бокнер, который больше не мог справляться со своим любопытством. — Поверьте мне, — ответил Лем, — вам лучше ничего не знать. — Но что же было в этой пещере? — спросил Бокнер. Лем только покачал головой. Ему крупно повезло, что убийство произошло в национальном заповеднике. Это была федеральная территория, а значит, УНБ будет гораздо проще взять на себя расследование. Клифф Соамс все еще вертел в руках осколок зеркала, задумчиво глядя на него. Бросив прощальный взгляд на мрачную пещеру, Лем Джонсон пообещал себе и своему опасному противнику: «Когда я найду тебя, я даже не подумаю брать тебя живым; никаких сетей и усыпляющих выстрелов, как того хотят ученые и военные; я тебя пристрелю». Это не просто самое безопасное решение. Это будет актом сострадания и милосердия.
* * *
К первому августа Нора распродала всю обстановку и другие вещи, принадлежавшие тете Виолетте. Она просто позвонила агенту по продаже антикварной и подержанной мебели, и он предложил скупить все ее вещи по одной цене, на что та с радостью согласилась. Себе Нора оставила только посуду и серебро, и за исключением ее спальни в доме были одни голые стены. Дом казался очищенным, продезинфицированным, как если бы из него изгнали духов. Теперь, когда злые чары рассеялись, она знала, что у нее есть силы все здесь переделать. Но Нора больше не хотела жить в этом доме, позвонила агенту по продаже недвижимости и попросила продать его. Она также избавилась от всей своей старой одежды, и теперь у нее был совершенно новый гардероб, состоящий из слаксов и юбок, блузок, джинсов и платьев, как у любой другой женщины. Изредка, правда, Нора по-прежнему чувствовала себя не в своей тарелке, когда надевала что-то яркое, но каждый раз подавляла в себе желание вырядиться во что-либо темное и бесформенное. У нее все еще не хватало смелости выставить свои картины на суд зрителей, чтобы узнать их истинную цену. Тревис изредка — и, как ему казалось, мягко напоминал ей об этом, но Нора не была готова положить на наковальню свое хрупкое «я» и дать другим возможность ударить по нему молотом. Скоро, но не сейчас. Иногда, смотря на себя в зеркало или замечая свое отражение в освещенной солнцем витрине, она сознавала, что действительно была симпатичной. Может быть, не красавицей, не такой великолепной, как какая-нибудь кинозвезда, но вполне симпатичной. Однако Нора никак не могла привыкнуть к новому восприятию собственной внешности и через несколько дней опять поражалась привлекательности своего лица, глядящего на нее из зеркала. Пятого августа в середине дня они с Тревисом сидели за кухонным столом и играли в «Скрэббл»,[97] и Нора ощущала себя хорошенькой. Несколько минут назад в ванной, глядя в зеркало, она вновь пережила это откровение, и собственная внешность понравилась ей даже больше обычного. Сейчас, сидя за «Скрэб-блом», Нора чувствовала себя более жизнерадостной и счастливой, чем когда-либо прежде, — и более озорной. Она стала выдумывать несуществующие слова и затем яростно их защищала, когда Тревис начинал сомневаться в них. — Дофнап? — нахмурился он. — Нет такого слова «дофнап». — Это треугольная шапка, которую носят лесорубы, — ответила Нора. — Лесорубы? — Как Поль Баниан. — Лесорубы носят вязаные шапочки, то, что мы называем тобганами, или круглые кожаные шапки с ушами. — Я говорю не о том, в чем они ходят на работе, в лесу, — терпеливо объяснила Нора. — Дофнап. Так называются шапочки, которые они надевают на ночь. Тревис рассмеялся и покачал головой. — Ты меня разыгрываешь? Нора смотрела на него абсолютно честными глазами. — Нет. Это правда. — Лесорубы спят в специальных шапочках? — Да. Это и есть дофнап. Сама мысль о том, что Нора может его разыгрывать, была ему в новинку, и он попался на удочку. — Дофнап? Почему она так называется? — Понятия не имею, — ответила Нора. Эйнштейн лежал на брюхе на полу и читал роман. Перейдя с удивительной быстротой от книжек-картинок к детской литературе вроде «Ветра среди ив», он посвящал чтению ежедневно по восемь-десять часов. Ему всегда не хватало книг. Пес стал настоящим библиоманом. Десять дней назад, когда увлеченность Эйнштейна чтением начала утомлять Нору, которой приходилось держать ему книги открытыми и переворачивать страницы, они постарались придумать что-то, чтобы Эйнштейн мог сам справляться с этим. В компании, поставляющей оборудование для больниц, Нора и Тревис нашли приспособление для пациентов с недействующими руками и ногами. Это была металлическая подставка, на которой закреплялась книга; механические руки с электроприводом, управляемые тремя кнопками, переворачивали страницы и удерживали книгу в открытом состоянии. Держа зубами ручку, человек мог управлять этим устройством; Эйнштейн тыкал в кнопку носом. Казалось, псу страшно понравилось приспособление. Сейчас он тихонько проворчал что-то по поводу прочитанного, нажал одну из кнопок и перевернул страницу. Тревис составил слово «злой» и набрал кучу очков, использовав квадрат, удваивающий очки, и Нора из своих букв тут же составила слово «виндейка», набрав еще больше очков. — Виндейка? — переспросил Тревис, в голосе которого звучало сомнение. — Это национальное югославское блюдо, — объяснила она. — Неужели? — Да. В его состав входят ветчина и индейка, поэтому оно и называется… Закончить Нора не смогла и расхохоталась. Тревис рот раскрыл от изумления. — Ты меня разыгрываешь. Ты меня разыгрываешь! Нора Девон, что с тобой происходит? Когда я познакомился с тобой, я сказал, что ты — чертовски мрачная и самая серьезная женщина из всех, кого я знаю. — И самая пугливая. — Нет, не пугливая. — Пугливая, — настаивала она. — Ты подумал, что я пугливая. — Ну хорошо, я подумал, что ты пуглива, как белка, и, наверное, у тебя дома весь чердак забит орехами. Усмехнувшись, Нора сказала: — Если бы мы с тетей Виолеттой жили на юге, мы были бы точь-в-точь герои Фолкнера, да? — Еще более странными, чем у Фолкнера. А сейчас, вы только посмотрите! Выдумывает разные глупые слова и шутки, заставляет меня в них верить, так как мне и в голову не приходит, что Нора Девон способна на такое. Да, ты действительно изменилась за эти месяцы. — Благодаря тебе, — заметила она. — Скорее благодаря Эйнштейну, а не мне. — Нет, больше всего благодаря тебе, — сказала Нора, и ее вновь вдруг охватила робость, которая так часто парализовала ее раньше. Она отвела от него взгляд и, уставившись на свой поднос с карточками, тихо проговорила: — Благодаря тебе. Я никогда бы не встретила Эйнштейна, если бы не познакомилась с тобой. А ты… заботился обо мне… беспокоился обо мне… разглядел во мне то, чего я сама не видела. Ты меня переделал. — Нет, — сказал Тревис. — Ты слишком много всего мне приписываешь. Тебя нечего переделывать. Эта Нора всегда была там, внутри старой Норы. Как цветок, свернутый и спрятанный в глубине бесцветного крохотного бутона. Тебе просто надо было помочь… вырасти и расцвести. Она не решалась поднять на него глаза. Ей казалось, что у нее на шее висит огромный камень и заставляет ее еще ниже опускать голову; Нора покраснела. Но все же нашла в себе смелость сказать: — Это так тяжело — расцвести… измениться. Даже когда хочешь измениться, хочешь больше всего на свете, одного желания недостаточно. И отчаяния тоже. Это нельзя сделать без… любви. — Она перешла на шепот: — Любовь — это как вода и солнце, благодаря которым прорастает семя. Тревис сказал: — Нора, посмотри на меня. Камень на ее шее весил, наверное, сто фунтов, нет, тысячу. — Нора? Он весил уже тонну. — Нора, я тебя тоже люблю. Каким-то чудом ей удалось поднять голову и посмотреть на Тревиса. Его карие глаза, такие темные, что казались почти черными, были теплыми, добрыми и красивыми. Она любила эти глаза. Любила высокую переносицу и узкую линию носа. Любила каждую черточку на худом и аскетическом лице. — Мне надо было первому признаться тебе в любви, потому что мне это легче сделать, чем тебе. Мне необходимо было сказать тебе много дней, много недель назад: «Нора, Боже мой, я люблю тебя». Но я не говорил этого из-за боязни. Каждый раз, когда я позволяю себе полюбить кого-то, я его теряю, но сейчас, я думаю, будет по-другому. Может быть, ты изменишь все для меня, как я помог все переменить для тебя, и, вероятно, на этот раз мне повезет. Ее сердце часто-часто забилось. Она с трудом дышала, но все же смогла выговорить: — Я тебя люблю. — Ты выйдешь за меня замуж? Нора была ошеломлена. Она ожидала чего угодно, но только не этого. Одно то, что Тревис признался ей в любви и она смогла открыть ему свое сердце, делало ее счастливой на многие недели, месяцы. Нора надеялась, что у нее будет время для изучения внешней стороны любви, как если бы это было какое-то огромное таинственное сооружение вроде пирамиды, которую предстоит узнать и рассматривать во всех деталях, прежде чем осмелиться заглянуть внутрь. — Ты выйдешь за меня замуж? — повторил Тревис вопрос. Это было слишком скоро, ужасно скоро, и, сидя на кухонном стуле, Нора почувствовала головокружение, как на карнавале, и ей стало страшно. Ей хотелось сказать, чтобы он так не торопился, объяснить, что у них много времени и надо все как следует обдумать, но, к своему удивлению, услышала: — Да. О да. Тревис потянулся к ней и взял ее руки в свои. Нора заплакала, но это были слезы радости. Эйнштейн, хотя и был поглощен своей книгой, все же заметил: что-то происходит. Он подошел к столу, потерся об их ноги, довольно ворча что-то. Тревис спросил: — На следующей неделе? — Поженимся? Но ведь нужно время, чтобы получить разрешение и все прочее. — Только не в Лас-Вегасе. Я позвоню в церковь в Вегасе и обо всем договорюсь. Мы можем поехать туда на будущей неделе и обвенчаться. Плача и смеясь одновременно, она сказала: — Хорошо. — Потрясающе, — проговорил улыбаясь Тревис. Эйнштейн яростно вилял хвостом: Да, да, да, да, да.* * *
В среду четвертого августа по заказу клана Тетранья из Сан-Франциско Винс Наско отправил на тот свет одного стукача по имени Лу Пантанджела. Этот человек выложил на следствии все, что знал, и должен был в сентябре давать показания в суде против членов организации Тетранья. Джонни Сантини Струна, выполняя поручение клана, проник в компьютерные файлы федеральных властей и выяснил, где обитает Пантанджела. Предатель проживал под защитой двух агентов в безопасном месте в Редондо-Бич, к югу от Лос-Анджелеса. После выступления в суде этой осенью он должен был получить новые документы и переехать в Коннектикут, но его собирались убрать гораздо раньше. Поскольку Винсу скорее всего пришлось бы ликвидировать одного или обоих агентов, чтобы добраться до Пантанджелы, и дело обещало быть жарким, Тетранья предложили ему очень высокое вознаграждение в шестьдесят тысяч долларов. Откуда ему было знать, что убийство нескольких человек для Винса подарок: это делало работу более — а не менее — привлекательной. Почти неделю он следил за Пантанджелой, каждый день меняя машины, чтобы его не засекли телохранители. Они нечасто позволяли Пантанджеле выходить из дома, но все же были более уверены в своем убежище, чем следовало бы, поскольку три или четыре раза в неделю разрешали ему позавтракать на людях, выбрав для этого небольшую тратторию в четырех кварталах от дома. Пантанджела насколько мог изменил свою внешность. Раньше у него были густые темные почти до плеч волосы. Сейчас они были коротко острижены и выкрашены в светло-каштановый цвет. Он носил усы, но теперь сбрил их. Весил на шестьдесят фунтов больше нормы, но за два месяца, проведенных под присмотром телохранителей, похудел почти на сорок фунтов. И все же Винс узнал его. В среду четвертого августа агенты, как обычно, в час дня привели Пантанджелу в тратторию. В десять минут второго туда же вошел Винс. В центре зала ресторана стояло восемь столиков, а вдоль боковых стен было по шесть кабинок. Траттория выглядела чистой, но, на вкус Винса, слишком уж итальянской: красно-белые клетчатые скатерти; кричащие стены с изображениями римских развалин; пустые винные бутылки в качестве подсвечников; тысяча пластмассовых виноградных гроздей, свисающих, Бог ты мой, с прикрепленной к потолку решетки и призванных создать атмосферу беседки. Поскольку калифорнийцы обедают рано, по крайней мере по восточным меркам, они и завтракают тоже рано, и к половине одиннадцатого пик посетителей уже схлынул. Вероятно, к двум часам дня единственными посетителями здесь будут Пантанджела, его два телохранителя и Винс, что делало это заведение подходящим местом для убийства. Ресторан был совсем небольшим, и в это время не работала распорядительница; специальная табличка предлагала посетителям самим занимать места. Винс прошел через зал мимо Пантанджелы с агентами и расположился в соседней кабинке. Винс тщательно продумал свой туалет. На нем были веревочные сандалии, красные хлопчатобумажные шорты и белая майка с изображением голубых волн, желтого солнца и надписью «Человек из Калифорнии», очки с зеркальным покрытием. В руках он нес открытую брезентовую пляжную сумку с надписью «Мое барахло». Проходя мимо и заглянув в сумку, можно было увидеть туго свернутое полотенце, флакон с лосьоном для загара, небольшой приемник и расческу, но никто бы не заметил спрятанной на дне автоматической винтовки «узи» с глушителем и магазином на сорок патронов. Темный загар помогал ему добиться нужного впечатления: очень крепкого, но стареющего любителя серфинга, свободного, бесхитростного и, возможно, бездумного малого, целые дни проводящего на пляже, из тех мужчин, которые в шестьдесят лет стараются казаться молодыми и пребывают в полном упоении от собственной персоны. Винс равнодушно скользнул глазами по Пантанджеле и его телохранителям, заметив, что они внимательно посмотрели на него и сочли незаслуживающим внимания и безобидным. Отлично. В кабинках были высокие обитые материей стенки, и со своего места ему было не видно Пантанджелу. Зато хорошо слышно, как он и его сотрапезники время от времени перебрасываются словами, в основном о бейсболе и женщинах. После недельной слежки Винс знал: Пантанджела никогда не уходит из траттории раньше половины третьего, обычно это бывало в три часа, очевидно, потому, что он настаивал на закуске, салате, основном блюде и десерте — полном наборе. Значит, у Винса оставалось время на салат и лингвини с соусом из моллюсков. Официантке исполнилось лет двадцать, она была яркой блондинкой, хорошенькой и такой же загорелой, как и Винс. У нее были внешность и голос пляжной девочки, и она, принимая заказ, сразу же начала заигрывать с Винсом. Он решил, что она принадлежит к числу тех пляжных нимф, мозги которых так же зажарились на солнце, как и их тело. Вероятно, все летние вечера девчонка проводила на пляже, балуясь всевозможными наркотиками и раздвигая ноги для каждого, кто ее заинтересует, — а таких, должно быть, большинство, — а это значило, что, несмотря на свой цветущий внешний вид, она поражена болезнью. Сама мысль о том, чтобы переспать с ней, вызывала у Винса тошноту, но ему надо было сыграть свою роль, и он начал с ней флиртовать, стараясь показать, что у него текут слюнки при одной мысли о ее обнаженном извивающемся под ним теле. В пять минут третьего Винс покончил с ленчем. Кроме него, в траттории остались только Пантанджела с двумя телохранителями. Одна из официанток ушла совсем, а две другие были на кухне. Лучше и не придумать. Пляжная сумка стояла на скамье рядом с Винсом. Он залез внутрь и вынул автомат. Пантанджела с агентами обсуждали шансы Доджерса попасть на чемпионат мира. Винс встал, подошел к их кабинке и уложил всех очередью из двадцати-тридцати выстрелов. Короткий, высокого класса глушитель сработал изумительно: выстрелы напоминали речь заикающегося человека, с трудом произносящего слово, начинающееся с шипящей. Все произошло так стремительно, что телохранители не успели достать оружие. Они даже не успели удивиться. «Сссснап». «Сссснап». «Сссснап». Пантанджела и его охранники испустили дух за три секунды. Винса передернуло от огромного удовольствия, его захлестнула жизненная энергия чрезвычайной мощи, которую он только что поглотил. Он не мог вымолвить ни слова. Затем дрожащим и трепетным голосом произнес: — Спасибо. Отвернувшись от кабинки, Винс увидел официантку, в шоке замершую в центре зала. Широко раскрытыми голубыми глазами она смотрела на убитых, затем медленно перевела взор на Винса. Прежде чем девушка успела закричать, Винс разрядил в нее оставшиеся в магазине пули — что-то около десяти, — и она упала, истекая кровью. «Сссснап». — Спасибо, — сказал он и еще раз повторил это, потому что она была молода и полна жизненной энергии, а следовательно, была ему еще полезнее. Опасаясь, как бы кто-нибудь не вышел из кухни или, проходя мимо траттории, не заглянул внутрь и не увидел распростертую на полу официантку, Винс быстро прошел в свою кабинку, схватил пляжную сумку и засунул винтовку под полотенце. Затем надел зеркальные очки и покинул ресторан. Его не заботили отпечатки пальцев. Винс покрыл подушечки пальцев эльмеровским клеем. Высохнув, он становился прочти прозрачным, и его можно было разглядеть, только если бы он повернул руки ладонями вверх и специально привлек к ним внимание. Слой клея был достаточно толстым и, заполняя все мельчайшие складочки кожи, оставлял абсолютно гладкие отпечатки. На улице Винс прошел до конца квартала, свернул за угол и сел в свой фургон. Насколько он мог судить, никто не обратил на него внимания. Винс двинулся в сторону океана, с удовольствием предвкушая отдых на солнце и купание. Поехать на Редондо-Бич в двух кварталах от того места, где он находился, показалось ему слишком рискованным, поэтому Винс повернул по «Коаст Хайвей» на юг к Болса-Чика, чуть севернее его дома в Гастингтон-Бич. По дороге он думал о собаке. Винс продолжал платить Джонни Струне за проверку пунктов сбора животных, полицейских участков и всех тех, кто может участвовать в поисках ретривера. Ему стало известно о бюллетене, распространенном Управлением национальной безопасности среди ветеринаров и агентств по охране животных в трех штатах, а также и то, что до сих пор у УНБ не было никакой информации. Возможно, пса сбила машина или его загрызло существо, которое Хадстон назвал Аутсайдером, или растерзала стая койотов там, в горах. Но Винсу не хотелось верить, что собака мертва. Это означало бы конец его мечте осуществить крупную финансовую сделку при помощи ретривера, потребовав за него выкуп у властей или продав какому-нибудь богачу из шоу-бизнеса, который придумает, как использовать скрытый в псе интеллект, чтобы извлекать надежный и хороший доход из ничего не подозревающих простаков. Винсу хотелось верить, что собаку кто-то нашел и взял к себе домой. Если он узнает, у кого она, то сможет купить ее — или просто убить хозяина и забрать ретривера. Но где, черт возьми, искать пса или его хозяина? Если их можно найти, УНБ, конечно, разыщет их первым. Скорее всего собакой легче будет завладеть, найдя сначала Аутсайдера, который выведет Винса на ретривера, как полагал доктор Хадстон. Но это тоже нелегко. Джонни Струна снабжал его информацией об особенно зверских убийствах людей и животных по всей Южной Калифорнии. Винсу было известно о бойне в зоосаде Ирвин-парка, убийстве Вэса Далберга и людей в Бордо Ридж. Джонни предоставил ему данные об изувеченных домашних животных в районе Даэмонд Бар, и Винс своими глазами видел по телевизору передачу о молодой паре, которая повстречалась с внеземным существом в диких местах южнее пика Джонстона. Три недели назад в Анджелесском национальном заповеднике были обнаружены страшно изуродованные трупы двух туристов, и, проникнув в компьютерные данные УНБ, Джонни подтвердил, что управление также взяло это дело под свою юрисдикцию, а это означало: убийства — дело рук Аутсайдера. С тех пор ничего не произошло. Но Винс не собирался сдаваться. Не так быстро. Он был терпеливым человеком. Это качество стало частью его профессии. Винс подождет, будет по-прежнему следить за всеми событиями и продолжать платить Джонни Струне за информацию и рано или поздно получит то, что ему нужно. В этом он был уверен. Винс решил, что собака, так же как и бессмертие, — часть его великой судьбы. На общественном пляже в Болса-Чика он постоял некоторое время, не отрывая глаз от огромных темных масс поднимающейся воды, волны бились о его ноги. Винс чувствовал себя таким же всемогущим, как океан. Его наполняло множество жизней. Он бы не удивился, если бы из кончиков его пальцев вдруг заструилось электричество, подобно тому, как у мифических богов из рук вырывались молнии. В конце концов Винс бросился в воду и поплыл наперерез мощным волнам. Он заплыл далеко вперед, затем повернулся и поплыл вдоль пляжа сначала на юг, а затем на север, пока наконец не обессилел и не позволил прибою вынести себя на берег. Винс подремал немного под жарким полуденным солнцем. Ему приснилась беременная женщина с большим круглым животом, и он ее задушил. Винс часто видел сны, в которых убивал детей или еще не появившихся на свет младенцев, потому что об этом мечтал в реальной жизни. Конечно, убийство детей было очень рискованным делом; ему приходилось отказывать себе в этом удовольствии, хотя жизненная энергия ребенка была бы самой богатой, самой чистой и самой стоящей из всех. Но это слишком опасно. Винс не мог заняться детоубийством, пока не был уверен, что достиг бессмертия, когда ему уже не надо будет бояться ни полиции, ни кого-либо другого. Однако сон, от которого Винс проснулся на пляже в Болса-Чика, показался ему значимее остальных. Он был… другим. Пророческим. Винс сидел, зевая, и смотрел на заходящее на западе солнце, притворяясь, что не замечает поглядывающих на него девушек в бикини, и говорил себе, что этот сон — предвестник будущего удовольствия. Однажды его руки действительно окажутся на шее беременной женщины, как это случилось в сегодняшнем сновидении, и Винс познает высшее блаженство, получит высший дар, не только ее жизненную энергию, но и чистую, незамутненную энергию еще не родившегося ребенка в ее чреве. Чувствуя себя так, как если бы он только что выиграл миллион, Винс вернулся к своему фургону и отправился домой. Там он принял душ и поехал обедать в ближайший ресторан «Стюарт Андерсон», где заказал себе филе миньон.* * *
Эйнштейн пронесся мимо Тревиса из кухни через небольшую столовую и скрылся в гостиной. Держа в руке поводок, Тревис пошел за ним. Пес прятался за диваном. Тревис сказал: — Послушай, это совсем не больно. Собака устало смотрела на него. — Нам надо это сделать до отъезда в Вегас. Ветеринар сделает тебе пару прививок против чумки и бешенства. Это нужно тебе же, и это действительно нестрашно. Правда. А потом мы оформим тебе свидетельство, которое нам давным-давно надо было оформить. Пес пролаял один раз. Нет. — Мы это сделаем. Нет. Согнувшись и держа в руке замок от поводка, который он собирался пристегнуть к ошейнику, Тревис шагнул к Эйнштейну. Ретривер отбежал от него к креслу, вскочил на него и с этой наблюдательной площадки внимательно смотрел на Тревиса. Медленно выходя из-за дивана, Тревис сказал: — Послушай, псина, я — твой хозяин. Эйнштейн пролаял один раз. Нахмурившись, Тревис повторил: — Да, да, я — твой хозяин. Ты, может быть, чертовски умный пес, но ты всего лишь пес, а я — человек, и говорю тебе, мы идем к ветеринару. Эйнштейн вновь пролаял один раз. Прислонившись к дверному косяку со скрещенными на груди руками, Нора проговорила: — Похоже, он старается тебе показать, как ведут себя дети, чтобы мы знали, на что идем, если когда-нибудь решим их иметь. Тревис бросился к собаке. Эйнштейн сорвался со своего места и пулей вылетел из комнаты; Тревис, не удержавшись на ногах, свалился на кресло. Нора рассмеялась. — Очень забавно. — Куда он мог удрать? — спросил Тревис. Она показала на холл, ведущий в две спальни и ванную комнату. Он нашел ретривера в большой спальне. Пес сидел на постели и смотрел на дверь. — Ничего у тебя не выйдет, — проговорил Тревис. — Это для твоей же пользы, черт возьми, и тебе сделают эти прививки независимо от того, нравится это тебе или нет. Эйнштейн поднял заднюю лапу и стал мочиться на постель. Тревис ошеломленно спросил: — Черт побери, что ты себе позволяешь? Пес перестал мочиться, вышел из лужи, растекавшейся по стеганому покрывалу, и вызывающе посмотрел на Тревиса. Тот слышал рассказы о домашних животных, которые таким вот образом выражали свое неудовольствие. В бытность его владельцем агентства по продаже недвижимости одна из служащих, уезжая на две недели в отпуск, оставила своего карликового колли в конуре. Когда она вернулась и выпустила собаку, та в отместку испортила ее любимое кресло и кровать. Но Эйнштейн — незаурядная собака. Принимая во внимание замечательные умственные способности пса, его поведение свидетельствовало о более сильной ярости, чем если бы он был обычной собакой. Тревис, рассердившись, двинулся вперед. — Этого я тебе не прощу. Эйнштейн стал сползать с кровати. Поняв, что он постарается выскользнуть из комнаты мимо него, Тревис отбежал назад и захлопнул дверь. Видя, что путь отрезан, пес круто переменил направление и рванулся в дальний конец спальни, где и остановился рядом с туалетным столиком. — Больше никаких глупостей, — жестко проговорил Тревис, размахивая поводком. Эйнштейн ретировался в угол. Нагнувшись и раздвинув в стороны руки, чтобы тот не мог проскользнуть мимо него, Тревис в конце концов схватил ретривера и пристегнул поводок. — Ха! С поверженным видом Эйнштейн забился в угол, опустил голову и начал трястись. Чувство триумфа в Тревисе мгновенно угасло. Эйнштейн от страха издавал тихие, почти неслышные жалобные завывания. Гладя пса и стараясь его успокоить, Тревис сказал: — Знаешь, это действительно необходимо для твоего же блага. Тебе ведь не нужны ни чумка, ни бешенство. И это совсем не больно, дружок. Клянусь тебе. Ретривер продолжал глядеть в сторону, уговоры Тревиса на него не действовали. Поглаживая Эйнштейна, Тревис чувствовал, как сильно он дрожит. Он внимательно смотрел на пса, размышляя обо всем этом, затем спросил: — Они что, там, в лаборатории… кололи тебя иголками? Они делали тебе больно? Поэтому ты боишься прививок? Эйнштейн только заскулил в ответ. Тревис вытянул сопротивляющегося пса из угла, высвободив его хвост, чтобы тот мог отвечать на вопросы. Отпустив поводок, он обхватил голову Эйнштейна руками и заставил его посмотреть ему прямо в глаза. — Они делали тебе больно иголками в этой лаборатории? Да. — И поэтому ты боишься ветеринара? Не переставая дрожать, пес пролаял один раз. Нет. — Тебе делали больно иголками, но ты их не боишься? Нет. — Тогда почему ты так себя ведешь? Собака просто смотрела на него и издавала эти ужасные отчаянные звуки. Нора приоткрыла дверь и заглянула в спальню. — Тебе удалось надеть на него поводок, Тревис? — Затем она проговорила: — Фу! Что здесь у вас происходит? Не выпуская из рук голову пса и глядя ему прямо в глаза, Тревис ответил: — Он явно выразил свое неудовольствие. — Явно, — согласилась она, подходя к кровати и сдергивая с нее испорченные покрывало, одеяло и простыни. Стараясь разгадать причину такого поведения ретривера, Тревис спросил: — Эйнштейн, если ты не боишься уколов, может, ты боишься ветеринара? Пес пролаял один раз. Нет. Тревис в отчаянии обдумывал следующий вопрос, пока Нора стаскивала с кровати матрац. Ретривер продолжал дрожать. Вдруг Тревиса осенило, почему пес так себя ведет и так боится. Он проклинал себя за собственную тупость. — Черт, ну конечно! Ты боишься не ветеринара — а тех, кому ветеринар может о тебе сообщить? Дрожь собаки несколько улеглась, и она вильнула хвостом. Да. — Если люди из лаборатории охотятся за тобой — а мы знаем наверняка, что они упорно разыскивают тебя, потому что ты, вероятно, самый важный подопытный пес в истории человечества, — они должны были связаться со всеми ветеринарными лечебницами штата, да? Со всеми ветеринарами, со всеми живодерами… и со всеми агентствами по регистрации собак. Пес вновь неистово замахал хвостом, и дрожь его начала стихать. Нора обошла вокруг кровати и встала рядом с Тревисом. — Но ведь золотистые ретриверы — одна из самых распространенных пород. Ветеринары и регистрирующие агентства постоянно имеют с ними дело. Если наш гениальный пес зароет свой талант в землю и разыграет из себя глупую собачонку… — А это у него прекрасно получается. — …Тогда они не узнают, что ищут именно его. Нет, узнают, — настаивал Эйнштейн. Тревис спросил у ретривера: — Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что они смогут каким-то образом тебя опознать? Да. — Как? — осведомилась Нора. Тревис спросил: — По какой-то отметине? Да. — Где-то под шерстью? — спросила Нора. Пес пролаял один раз. Нет. — Тогда где? — недоумевал Тревис. Высвободившись из рук Тревиса, Эйнштейн так яростно замотал головой, что его длинные уши издали хлопающий звук. — Возможно, на подушечках лап, — сказала Нора. — Нет, — одновременно с лаем ретривера проговорил Тревис. — Когда я нашел его, его лапы от долгого трудного путешествия были сбиты в кровь, и мне пришлось обработать их борной кислотой. Я бы заметил отметину на лапе. Эйнштейн снова яростно мотал головой, тряся ушами. Тревис сказал: — Возможно, на губе. Скаковых лошадей иногда помечают такой татуировкой, чтобы легче было распознавать и чтобы предотвратить их незаконное участие в состязаниях. Дай мне посмотреть твою губу, малыш. Эйнштейн пролаял один раз — Нет — и отчаянно замахал ушами. До Тревиса наконец дошло. Он заглянул в его правое ухо и ничего не обнаружил. Но в левом он кое-что заметил. Тревис подвел пса к окну, где было светлее, и на розовато-коричневой коже обнаружил татуировку, состоящую из двух чисел, черточки, третьего числа и сделанную красными чернилами: 33-9. Посмотрев через плечо Тревиса, Нора проговорила: — Вероятно, у них было много подопытных щенков из разных пометов, и их надо было как-то различать. — Господи Иисусе. Если бы я отвел его к ветеринару, который получил предупреждение о розыске ретривера с татуировкой… — Но ведь ему надо сделать прививки. — Возможно, их ему уже сделали, — с надеждой в голосе проговорил Тревис. — Нам нельзя на это полагаться. Он ведь был лабораторным животным и жил в строго контролируемой среде, где в прививках не было необходимости. Вероятно, прививки могли помешать их экспериментам. — Мы не вправе пойти на риск с ветеринаром. — Если даже они его найдут, — сказала Нора, — мы просто его им не отдадим. — Они могут нас заставить, — обеспокоенно проговорил Тревис. — Черта с два! — А что мы сможем сделать? Скорее всего эти исследования финансируются правительством, и нас легко раздавят. Нам нельзя рисковать. Больше всего на свете Эйнштейн боится вернуться в лабораторию. Да, да, да. — Но что, если он заразится бешенством или чумкой, или… — сказала Нора. — Мы сделаем ему прививки позже, — ответил Тревис. — Позже. Когда все немного успокоится. Сейчас слишком опасно. Ретривер повизгивал от счастья и в знак благодарности облизывал шею и лицо Тревиса. Нахмурившись, Нора сказала: — Эйнштейн — почти самое большое чудо двадцатого века. Ты действительно считаешь, что они когда-нибудь о нем забудут и прекратят розыск? — Возможно, они еще многие годы будут его искать, — признал Тревис, поглаживая пса. — Но со временем энтузиазма и веры у них поубавится. И ветеринары начнут забывать, что им надо заглядывать в уши каждого приведенного к ним ретривера. До тех пор ему придется обходиться без прививок, так я считаю. Это лучшее из того, что мы можем сделать. Это единственное, что мы можем сделать. Одной рукой потрепав Эйнштейна, Нора сказала: — Хотелось бы надеяться, что ты прав. — Я прав. — Надеюсь. — Я прав. Тревиса страшно потрясло, что его намерение едва не стоило Эйнштейну свободы, и в течение нескольких дней он размышлял о проклятии Корнелла. Возможно, все повторяется. Его жизнь круто изменилась и стала яркой благодаря любви, которую он испытывал к Норе, и этому невозможному чертову псу. А сейчас, вероятно, судьба, которая всегда вела себя враждебно по отношению к нему, хочет украсть у него и Нору, и пса. Тревис понимал: судьба — не более чем мифологическое понятие. Он не верил в существование пантеона злых богов, глядящих в замочную скважину и замышляющих новые трагедии для него, — и все же не мог удержаться от того, чтобы время от времени не поглядывать с тоской на небо. Тревис замечал: стоит ему сказать что-то оптимистичное о будущем, как он начинает стучать по дереву, чтобы противостоять злой судьбе. Опрокинув во время обеда солонку, Тревис тут же взял щепотку соли, чтобы бросить ее через плечо, но почувствовал себя дураком и стряхнул соль с рук. Сердце его, однако, сильно забилось, его переполняли смешные суеверные страхи, и он не успокоился, пока снова не взял щепотку соли и не бросил ее за спину. Нора, конечно, замечала такое эксцентричное поведение Тревиса, но у нее хватало такта ничего не говорить ему о его страхах. Каждая ее минута была заполнена любовью к нему, она с огромным удовольствием предвкушала их поездку в Вегас и пребывала в неизменно хорошем настроении. Нора ничего не знала о его кошмарах, потому что Тревис ничего ей о них не рассказывал. А ему вот уже две ночи подряд снился один и тот же кошмар. Как будто он бродил по каньонам у подножия Санта-Аны в графстве Ориндж в тех же местах, где впервые встретил Эйнштейна. Он снова был там, на этот раз с собакой и Норой, и потерял их обоих. В страхе Тревис спускался вниз по крутым склонам, карабкался вверх по горам, борясь с густым кустарником, и отчаянно звал Нору и пса. Иногда до него доносился Норин голос и лай Эйнштейна, и Тревис понимал: они попали в беду, он шел на их голоса, но с каждым разом они все удалялись от него и раздавались в новом месте. И как бы напряженно Тревис ни вслушивался и как быстро ни пробирался к ним через лес, он терял их, терял их… Он просыпался в холодном поту, сердце его часто колотилось, и беззвучный крик застревал в горле. В пятницу шестого августа выдался такой благословенно занятый день, что у Тревиса не оставалось времени на размышления о враждебной судьбе. Утром он первым делом позвонил в церковь и договорился о свадебной церемонии на среду, одиннадцатого августа, в одиннадцать часов. Охваченный романтической лихорадкой, Тревис сказал управляющему, что ему нужны двадцать дюжин красных роз, столько же белых гвоздик, хороший органист — никакой фонограммы! — который может сыграть традиционную мелодию, много свечей, чтобы обойтись без грубого электрического освещения, бутылка «Дом Периньон» для завершения церемонии и первоклассный фотограф, чтобы запечатлеть бракосочетание. Согласовав эти детали, Тревис позвонил в отель «Циркус-Циркус» в Лас-Вегасе, заведение семейного типа, расхваливающее свой лагерь для автотуристов, и заказал стоянку с вечера восьмого августа. Позвонив в Барстоу, находящийся на полпути к Вегасу, забронировал стоянку на субботний вечер. Затем посетил ювелирный магазин, пересмотрел все, что у них было, и в конце концов остановился на обручальном перстне с большим безукоризненным бриллиантом в три карата и обручальном кольце с двенадцатью бриллиантами в четверть карата. Спрятав драгоценности под сиденье, Тревис вместе с Эйнштейном заехали за Норой домой и отправились к ее поверенному Гаррисону Дилворту. — Вы собираетесь пожениться? Это просто замечательно! — проговорил тот, тряся руку Тревиса. Нору он поцеловал в щеку. Казалось, он искренне обрадовался. — Я навел о вас справки, Тревис. Тревис удивленно переспросил: — Да? — Ради Норы. От слов адвоката Нора покраснела и было запротестовала, но Тревису понравилось, что Гаррисон так беспокоится о ее благополучии. Оценивающе глядя на Тревиса, седовласый адвокат сказал: — Насколько я понял, у вас хорошо шли дела с недвижимостью, пока вы не продали свой бизнес. — Да, неплохо, — скромно подтвердил Тревис, чувствуя себя так, как если бы он разговаривал с Нориным отцом и старался произвести хорошее впечатление. — Очень хорошо, — заметил Гаррисон. — И я слышал, вы удачно поместили ваш капитал. — Я не нищий, — подтвердил Тревис. Улыбнувшись, Гаррисон продолжал: — Мне также сказали, что вы — хороший, надежный человек и к тому же очень добрый. Настала очередь Тревиса краснеть. Он пожал плечами. Обращаясь к Норе, Гаррисон сказал: — Дорогая, не могу выразить словами, как я рад затебя. — Спасибо. Нора бросила на Тревиса светящийся любовью взгляд, и впервые за весь день у него возникло желание постучать по дереву. Поскольку их свадебное путешествие должно было продлиться по меньшей мере неделю или дней десять, Нора опасалась, как бы им не пришлось спешно возвращаться в Санта-Барбару, если ее агент по продаже найдет покупателя на дом Виолетты Девон, она попросила Гаррисона Дилворта оформить на себя доверенность, чтобы в ее отсутствие он мог от ее имени решать все вопросы, связанные с продажей дома. Меньше чем через полчаса все было оформлено, подписано и засвидетельствовано. Последовал очередной раунд поздравлений и наилучших пожеланий, после чего они отправились за прицепом для автомобиля. Они собирались взять с собой Эйнштейна не только на бракосочетание в Вегас, но и в свадебное путешествие. Предвидя трудности, которые могли возникнуть при поиске хороших, чистых отелей, где не возбранялось проживание с собаками, они предусмотрительно решили приобрести домик на колесах. И потом, ни Нора, ни Тревис не смогли бы заниматься любовью в одной комнате с ретривером. «Это все равно что делать это в присутствии третьего человека», — говорила Нора, зардевшись как маков цвет. Если они будут останавливаться в мотелях, им придется брать два номера: один — для себя, а другой — для Эйнштейна, что тоже неудобно. К четырем часам они нашли то, что искали: среднего размера серебристый «Эйрстрим» с крошечной кухней, столовым отсеком, гостиной, спальней и ванной. Ложась спать, они смогут оставлять Эйнштейна снаружи и закрывать за собой дверь. Поскольку на пикапе Тревиса уже было надежное сцепление для трейлера, они прицепили «Эйрстрим» к заднему бамперу и увезли его с собой сразу же после оформления покупки. Сидя в машине между Тревисом и Норой, Эйнштейн все время оборачивался и поглядывал в заднее стекло на сверкающий полуцилиндрический трейлер, как бы поражаясь людской изобретательности. Они также купили занавески для трейлера, пластмассовые тарелки и стаканы, продукты и кучу других нужных для путешествия вещей. Вернувшись к Норе домой и приготовив обед, они еле передвигали ноги. В зевании собаки тоже не было никакого скрытого смысла, она просто устала. Ночью, когда Тревис спал глубоким сном в своей постели, ему привиделись древние окаменелые деревья и ископаемые динозавры. Кошмары двух предыдущих ночей не повторились.В субботу утром они выехали в Вегас навстречу семейной жизни. Решив, что с трейлером удобнее всего путешествовать по широким разделенным автострадам, они двинулись по Рут 101, сначала ведущей на юг, а затем поворачивающей на восток и переходящей в Рут 134, которая, в свою очередь, переходила в Интерстрит 210. К югу от этих трасс остались Лос-Анджелес и его окрестности, а на севере располагался обширный массив Анджелесского национального заповедника. Позже, когда они проезжали по огромной пустыне Моджейв, Нору привел в восторг бесплодный и в то же время неотразимо прекрасный пейзаж из песка, камня, перекати-поля, мескита, юкки и других кактусов. «Мир, — сказала она, — оказался гораздо больше, чем я себе представляла». Тревис наслаждался ее непосредственностью. В три часа дня они подъехали к Барстоу (Калифорния), островку, растянувшемуся посреди этой огромной пустыни. Их соседями по стоянке в автогородке были Фрэнк и Мэй Джордан, супружеская чета средних лет из Солт-Лейк-Сити, путешествующие вместе со своим любимцем, черным Лабрадором по кличке Джек. К удивлению Тревиса и Норы, Эйнштейн с восторгом играл с Джеком. Они гонялись друг за другом вокруг трейлеров, покусываясь, вертелись клубком, падали и вновь поднимались и носились друг за другом. Фрэнк Джордан бросал красный резиновый мячик, и собаки мчались за ним наперегонки. Они играли и по-иному: стараясь выхватить друг у друга мяч и как можно дольше удерживать его. Тревис даже притомился, наблюдая за ними. Вне всякого сомнения, Эйнштейн был самым умным в мире псом, феноменом, чудом, таким же восприимчивым, как человек, но он был и простой собакой. И каждый раз, когда Эйнштейн напоминал Тревису об этом, тот приходил в восторг. Позднее, поужинав вместе с Джорданами на открытом воздухе поджаренными на древесном угле гамбургерами, кукурузными початками и выпив пива, соседи пожелали друг другу доброй ночи, а Эйнштейн попрощался с Джеком. Очутившись в прицепе, Тревис потрепал ретривера по голове и сказал: — С твоей стороны это было очень мило. Пес поднял голову и посмотрел на Тревиса, как бы спрашивая у него, что, черт возьми, тот имеет в виду. Тревис сказал: — Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, мохнатая морда. — Я тоже знаю, — сказала Нора, обнимая Эйнштейна. — Когда ты играл с Джеком, то легко мог оставить его в дураках, если бы захотел, но ты иногда поддавался ему, да? Собака часто задышала и довольно оскалила зубы. Выпив еще глоток пива, Нора ушла в спальню, а Тревис расположился на диване в гостиной. Он подумывал о том, не лечь ли ему вместе с ней, а она, в свою очередь, возможно, тоже намеревалась пустить его к себе в постель. В конце концов, до свадьбы было меньше четырех дней. Один Бог знал, как Тревис желал ее. И хотя Нора, конечно, испытывала некоторый девичий страх, она тоже желала его; в этом он нисколько не сомневался. С каждым днем они все чаще дотрагивались друг до друга, их поцелуи становились более частыми, более интимными, а воздух вокруг них был наполнен эротической энергией. Но почему не сделать все, как положено, раз уж до этого дня оставалось так мало времени? Почему не лечь в супружескую постель девственниками, ей — девственной по отношению ко всем, а ему — по отношению к ней? Ночью Тревису приснилось, что Нора с Эйнштейном заблудились в этой огромной пустыне. Во сне у него не было ног, и ему приходилось мучительно долго ползти, чтобы найти их, и это было ужасно, потому что он знал: там, где они были, им угрожало… что-то.
Воскресенье, понедельник и вторник в Вегасе прошли в подготовке к свадьбе, наблюдении за восторженными играми Эйнштейна с другими собаками и походах к пику Чарльстон и озеру Мид. По вечерам Нора и Тревис оставляли Эйнштейна наедине с его книжками, а сами шли развлекаться. Тревису было не по себе оттого, что они бросают ретривера одного, но Эйнштейн всячески давал им понять: он не хочет, чтобы они проводили вечера здесь, в трейлере, только потому, что глупые и недальновидные владельцы отелей не пускают в казино и концертные залы воспитанных гениальных собак. В среду утром Тревис облачился в смокинг, а Нора надела простое, доходящее до середины икр белое платье со скромной кружевной отделкой на манжетах и вокруг ворота. Отсоединив «Эйрстрим» и оставив его на стоянке, они вместе с Эйнштейном отправились на пикапе на церемонию бракосочетания. Обслуживающая все конфессии коммерческая церковь была самой странной из виденных Тревисом: ее архитектура производила романтическое, торжественное впечатление и в то же время отдавала дурным вкусом. Норе она тоже показалась смешной, и им стоило большого труда не расхохотаться, когда они вошли внутрь. Храм был втиснут меж светящимися неоновыми вывесками сверкающих, уносящих в небо отелей на бульваре Лас-Вегас Саут. Это было одноэтажное здание, выкрашенное в бледно-розовый цвет, с белыми дверями, над которыми висела медная таблица с выгравированной надписью: «Идите рука об руку…» Вместо святых на витражах в окнах были представлены сцены из известных произведений о любви, среди них «Ромео и Джульетта», «Абеляр и Элоиза», «Окассин и Николетта», «Унесенные ветром», «Касабланка» и — что уж совсем невероятно — «Я люблю Люси» и «Оззи и Генриетта». Удивительно, но вся эта нелепица нисколько не повлияла на возвышенное настроение новобрачных. Ничто не могло принизить значительность этого дня. Даже эту возмутительную церковь следовало оценить, запомнить во всех ее безвкусных деталях, чтобы она осталась ярким воспоминанием на долгие годы, потому что это был их храм в их день. Обычно сюда не разрешалось входить с собаками. Но Тревис заранее заплатил всем служащим, чтобы Эйнштейну не просто разрешили войти внутрь, но чтобы он там чувствовал себя таким же желанным гостем, как и другие. Священник, преподобный Дан Дюпре — «Пожалуйста, зовите меня отцом Даном» — был мужчиной с багровым лицом и большим животом, улыбчивым и щедрым на рукопожатия, по виду — типичный продавец подержанных машин. По обе стороны от него стояли двое нанятых свидетелей — его жена и сестра, — надевшие ради такого случая яркие летние платья. Тревис занял место у алтаря. Женщина-органист заиграла «Свадебный марш». Нора выразила горячее желание пройти по проходу, а не просто начать церемонию у алтаря. Более того, ей хотелось, чтобы ее, как и других невест, сопровождал посаженый отец. В этом качестве мог бы выступить ее отец, но отца у нее не было. Как не было и подходящего близкого человека, и сначала они подумывали о том, что ей придется идти к алтарю одной или под руку с незнакомцем. Но в пикапе по дороге в церковь Нора вспомнила об Эйнштейне и решила, что пес лучше всех на свете годится на эту роль. Сейчас, когда органист заиграл марш, Нора вошла в дверь вместе с псом. Эйнштейн прекрасно сознавал, какой огромной чести удостоился, сопровождая ее к алтарю. С высоко поднятой головой он медленно шествовал в ногу с ней с гордым и торжественным видом. Казалось, никого не беспокоило и даже не удивляло, что в роли Нориного посаженого отца выступает собака. Это ведь был Лас-Вегас. — Она одна из самых красивых невест, которых я видела, — шепнула Тревису жена преподобного Дана, и Тревис знал: она говорит искренне, а не просто следует заведенному ритуалу. Вспышка фотографа мигала не переставая, но Тревис был слишком поглощен Норой, чтобы отвлекаться на такие мелочи. Воздух наполнялся ароматом роз и гвоздик, сотни свечей мягко мерцали в прозрачных стеклянных чашах и медных подсвечниках. К тому времени, как Нора подошла к Тревису, он уже забыл о нелепом убранстве храма. Его любовь стала архитектором, полностью перестроившим его, преобразовавшим в величественный собор. Церемония оказалась короткой и неожиданно полной достоинства. Тревис и Нора обменялись сначала клятвами, а затем кольцами. В ее глазах блестели слезы, в них отражался свет свечей, и с минуту Тревис недоумевал, каким образом ее слезы могут затуманивать его взгляд, но затем понял, что тоже едва не плачет. Под аккомпанемент торжественной органной музыки они обменялись своим первым супружеским поцелуем, и это был самый чудесный поцелуй в его жизни. Преподобный Дан откупорил шампанское и по просьбе Тревиса налил по бокалу всем, включая органистку. Для Эйнштейна нашлось блюдце. Громко чавкая, ретривер присоединился к тосту за здоровье, счастье и вечную любовь.
Остаток дня пес провел в передней части трейлера, в гостиной, за чтением. В это время Тревис и Нора находились в другом конце трейлера, в постели. Закрыв за собой дверь в спальню, Тревис положил в ведерко со льдом вторую бутылку «Дом Периньон» и поставил в компакт-диск-плейер четыре альбома нежной фортепианной музыки Джорджа Уинстона. Нора опустила штору на единственном имеющемся окне и включила небольшую лампу с абажуром из золотистой материи. Теплый янтарный свет придавал комнате некую нереальность. Какое-то время они лежали в кровати, болтая, смеясь, дотрагиваясь друг до друга, целуясь, затем разговоры стали реже, а поцелуи чаще. Тревис медленно раздел ее. Он никогда раньше не видел ее обнаженной, и она показалась ему еще красивее, чем он себе представлял. Ее тонкая шея, нежные плечи, полная грудь, вогнутый живот, округлые бедра и ягодицы, длинные гладкие ноги — каждая линия, складка, изгиб возбуждали его и одновременно наполняли огромной нежностью. Раздевшись, Тревис терпеливо и мягко начал посвящать ее в искусство любви. Испытывая страстное желание доставить ей удовольствие и полностью осознавая, что для нее все было ново, он показывал Норе — иногда нежно поддразнивая ее, — какие ощущения могут вызывать в ней его язык, пальцы и мужское естество. Он приготовился к нерешительности, смущению, даже страху с ее стороны, поскольку тридцать прожитых лет никак не подготовили ее к такой степени интимной близости. Но Нора не выказала и следа фригидности и была склонна принять участие в любом акте, который мог доставить удовольствие одному из них или обоим. Ее нежные крики и задыхающийся шепот приводили его в восторг. С каждым ее оргазмом Тревис возбуждался все сильнее, пока его желание не стало почти болезненным. Достигнув наконец оргазма, он прижался лицом к Нориной шее, выкрикивая ее имя, говорил ей снова и снова о своей любви, и это продолжалось так долго, что Тревис чуть было не решил: время остановилось, и он падает в какой-то бездонный колодец. После этого молодожены долго лежали обнявшись, молча. Они слушали музыку и только позже заговорили о том, что оба испытали как физически, так и эмоционально. Выпили немного шампанского, а через какое-то время опять любили друг друга. И опять. Несмотря на то, что призрак смерти постоянно омрачает каждый день, удовольствия и радости жизни могут быть так велики и так прекрасны, что сердце почти останавливается от восторга.
Из Вегаса по Рут 95 новобрачные и Эйнштейн направились на север через бескрайнюю Невадскую пустошь. Два дня спустя, в пятницу тринадцатого августа, они прибыли на озеро Тахо и подсоединили трейлер к системам электропитания и водоснабжения в автогородке с калифорнийской стороны границы. Теперь Нора уже не так легко, как раньше, поражалась каждому новому пейзажу и свежему ощущению. Но озеро Тахо оказалось таким потрясающе красивым, что ее вновь охватил детский восторг. Оно было двадцать две мили в длину и двенадцать — в ширину. С западной стороны граничило с горами Сьерра-Невада, а с восточной — с хребтом Карсон. Его называли чистейшим озером мира, сверкающим бриллиантом с сотней потрясающих переливчатых оттенков голубого и зеленого. Шесть дней Нора, Тревис и Эйнштейн бродили по лесам Эльдорадо, Тахо и Тоябскому национальному заповеднику — огромным первозданным сосновым, еловым и пихтовым массивам. Они катались на лодке по озеру, исследуя его райские бухточки и грациозные заливы. Загорали, купались, и Эйнштейн со свойственным всем псам энтузиазмом плескался в воде. Иногда по утрам, бывало и днем, а чаще ночью Нора и Тревис занимались любовью. Она поражалась собственной чувственности. Нора никак не могла насытиться Тревисом. — Я люблю тебя за твой ум и твое сердце, — говорила она ему, — но, Господи, помоги мне, я почти также люблю тебя за твое тело! Я что, развратная женщина? — Конечно, нет. Просто молодая здоровая женщина. А если учесть образ жизни, который ты вела, то эмоционально ты здоровее, чем могла бы быть. Ты не перестаешь поражать меня. — Сейчас мне хочется забраться на тебя верхом. — Может быть, ты действительно развратная женщина, — рассмеялся Тревис. В пятницу, двадцатого августа, ранним безоблачно-голубым утром они покинули озеро и направились дальше через штат к полуострову Монтерей. Там, где континентальный шельф встречается с морем, пейзаж был еще красивее, чем на Тахо, насколько это возможно. Тревис и Нора провели там четыре дня и в среду днем, двадцать пятого августа, двинулись домой. На протяжении всего путешествия счастье супружеской жизни настолько захватило их, что они не так много, как прежде, думали о чуде, которым являлся Эйнштейн. Но, когда они подъезжали к Санта-Барбаре, Эйнштейн напомнил им о своих удивительных способностях. Миль за сорок-пятьдесят от дома он вдруг заволновался. Пес без конца ерзал на сиденье между Норой и Тревисом, приподнимался ненадолго, затем клал голову Норе на колени и снова приподнимался. Когда оставалось миль десять, его начала бить дрожь. — Что с тобой, мохнатая морда? — спросила Нора. Глядя на нее выразительными коричневыми глазами, Эйнштейн отчаянно пытался сообщить ей что-то очень важное, но она не понимала его. За полчаса до наступления темноты, когда они въехали в город, Эйнштейн начал попеременно тихо скулить и рычать. — Что это с ним? — спросила Нора. Нахмурившись, Тревис ответил: — Не пойму. Когда пикап въехал на дорогу, ведущую к дому, который снимал Тревис, и остановился в тени финиковой пальмы, ретривер начал лаять. Он никогда не лаял в машине, ни разу за все долгое путешествие. В тесноте салона лай гулко отзывался у них в ушах, но пес не унимался. Когда Нора и Тревис вышли из автомобиля, Эйнштейн проскользнул между ними и, не переставая лаять, замер, преградив им дорогу. Нора двинулась было вперед по направлению к входной двери, но Эйнштейн, громко рыча, пулей ринулся к ней. Он схватил ее зубами за штанину джинсов и попытался сбить с ног. Норе удалось удержать равновесие, но собака отпустила ее только тогда, когда та отступила назад. — Что с ним происходит? — спросила она Тревиса. Задумчиво глядя на дом, Тревис сказал: — Он так вел себя в тот наш первый день в лесу… когда не давал мне пойти по темной тропинке. Нора постаралась успокоить ретривера, приласкав его. Но он не унимался. Когда Тревис, чтобы испытать его, попробовал двинуться к дому, Эйнштейн бросился на него и заставил вернуться на место. — Подожди здесь, — сказал Тревис Норе и пошел обратно к трейлеру. Эйнштейн бегал взад-вперед перед домом и, глядя на дверь и окна, рычал и скулил. Солнце закатилось на запад и скрылось за морем, улица казалась спокойной, мирной и во всех отношениях обычной — и все же Нора ощущала какую-то висящую в воздухе враждебность. Теплый ветер с Тихого океана, шелестя по пальмам, эвкалиптам и фикусо-вым деревьям, доносил звуки, которые в любой другой день были бы приятными, но сегодня казались зловещими. В длинных тенях, в последних оранжево-красных отблесках зари чувствовалась какая-то неясная угроза. Если бы не поведение пса, у Норы не было бы никаких причин полагать, что опасность где-то рядом, ее тревога шла не от разума, а была чисто интуитивного свойства. Тревис вышел из трейлера, держа в руках большой револьвер. Все свадебное путешествие он пролежал незаряженным в ящике в спальне. Сейчас Тревис закончил заряжать его и щелкнул барабаном. — Это необходимо? — обеспокоенно спросила Нора. — В тот день в лесу кто-то был, — ответил Тревис, — и хотя я так никого и не видел… у меня волосы шевелились от страха. Да, думаю, револьвер может пригодиться. Шелест деревьев и вечерние тени в какой-то степени позволяли ей понять, что пережил тогда в лесу Тревис, и ей пришлось согласиться, что присутствие револьвера ее несколько успокаивало. Эйнштейн перестал метаться и вновь занял сторожевую позицию на дороге, преграждая им путь в дом. Тревис обратился к ретриверу: — Внутри кто-то есть? Пес вильнул хвостом. Да. — Люди из лаборатории? Он пролаял один раз. Нет. — То, другое подопытное животное, о котором ты нам рассказывал? Да. — Существо, преследовавшее нас тогда в лесу? Да. — Хорошо. Я иду в дом. Нет. — Нет, пойду, — настаивал Тревис. — Это мой дом, и мы не собираемся отсюда удирать, что бы там ни было. Нора вспомнила фотографию в журнале, на которой был изображен монстр, вызвавший такую сильную реакцию собаки. Она не верила в реальность существа, даже отдаленно напоминающего это чудовище. Нора считала, что Эйнштейн преувеличивает или что они просто не сумели понять его рассказ об этой фотографии. Тем не менее Нора вдруг пожалела, что у них только револьвер и нет винтовки. — Это «магнум 357», — объяснил Тревис псу. — Один выстрел, все равно в руку или ногу, может уложить самого рослого и самого опасного человека. Он будет чувствовать себя, как если бы в него попало пушечное ядро. У меня отличная стрелковая подготовка, и я много лет поддерживаю себя в хорошей форме. Я правда знаю, что делаю, и смогу справиться. И потом мы ведь не можем вызвать полицию, не правда ли? У них глаза вылезут на лоб от удивления при виде того, что они найдут дома; они начнут задавать кучу вопросов и рано или поздно тебя отправят обратно в эту чертову лабораторию. Эйнштейну явно не нравилось решение Тревиса, но пес взобрался вверх по ступенькам и обернулся, как бы желая сказать: «Ладно, хорошо, но одного я тебя туда не пущу». Нора хотела пойти с ними, но Тревис был непреклонен, требуя, чтобы она осталась во дворе. Нора неохотно признала: поскольку у нее нет оружия, да и обращаться с ним она не умеет, помочь она ничем не может и будет только мешать. Держа револьвер наготове, Тревис поднялся на крыльцо к Эйнштейну и вставил ключ в замок.
* * *
Тревис отпер замок, положил ключ в карман и толкнул дверь, держа перед собой револьвер; затем осторожно перешагнул через порог. Эйнштейн не отставал. В доме было тихо, но в воздухе ощущался какой-то нехороший запах. Пес тихонько зарычал. В дом почти не проникали лучи быстро заходящего солнца — многие окна были частично или целиком зашторены. Но, несмотря на это, было достаточно светло, чтобы Тревис смог увидеть: диванная обивка изодрана. На полу валялись клочья материала. Деревянная журнальная полка разломана на куски: ее швырнули в стену, и она пробила дыры в пластике. Экран телевизора разбит брошенной в него напольной лампой, все еще воткнутой в сеть. Книги свалены с полок, разорваны и разбросаны по гостиной. Несмотря на сквозняк, зловоние усиливалось. Тревис включил свет. Зажглась только угловая лампа. От нее было немного света, но все же можно было разглядеть новые детали погрома. «Похоже, кто-то прошел здесь сначала с бензопилой, а затем с газонокосилкой», — подумал он. В доме по-прежнему было тихо. Оставив дверь за собой открытой, Тревис вошел в комнату; смятые страницы изорванных книг шуршали у него под ногами. На некоторых листах и на обивке цвета слоновой кости он заметил темные, ржавые пятна и резко остановился, поняв, что это кровь. Через мгновение глаза его наткнулись на труп. Это был крупный мужчина; он лежал на боку рядом с диваном, наполовину прикрытый перемазанными кровью книжными страницами, переплетами и суперобложками. Рычание Эйнштейна стало громче. Подойдя ближе к телу, распластавшемуся в нескольких дюймах от дверного проема, ведущего в столовую, Тревис увидел, что это его домовладелец Тед Хокни. Рядом с ним находился его ящик с инструментами. У Теда был ключ от дома, и Тревис разрешал ему заходить в любое время, когда надо было что-нибудь отремонтировать. Как раз сейчас в доме необходимо было кое-что привести в порядок вроде текущего крана и сломанной посудомоечной машины. Очевидно, Тед за этим и зашел. А сейчас он сам сломался, и починить его было невозможно. Из-за ужасного зловония Тревис подумал было, что тело пролежало здесь по меньшей мере неделю. Но внимательнее осмотрев труп — а он не раздулся от газов, сопровождающих разложение, и вообще не было никаких признаков разложения, — Тревис определил: со времени убийства не могло пройти много времени. Может, день, а может, и меньше. Ужасающая вонь объяснялась двумя причинами: во-первых, Теда распотрошили; а во-вторых, убийца оставил рядом с телом свои испражнения. У Теда Хокни были вырваны глаза. Тошнота подступила к горлу Тревиса, и не только потому, что ему нравился Тед. Он точно так же чувствовал бы себя, окажись жертвой этой невероятной жестокости любой другой. Подобная смерть начисто лишала жертву достоинства и принижала весь человеческий род. Тихое ворчание Эйнштейна перешло в громкое рычание, перемежающееся яростным лаем. Чувствуя, как его колотит нервная дрожь и гулко бьется сердце, Тревис отвернулся от трупа и увидел, что ретривер пристально вглядывается в соседнюю комнату. Там было темно, поскольку на обоих окнах были плотно задернуты шторы и только слабый серый свет проникал туда из кухни. «Уходи, немедленно уходи отсюда!» — приказал ему внутренний голос. Но Тревис не повернулся и не понесся прочь, потому что за всю свою жизнь ни разу не удирал от опасности. Ну, допустим, это было не совсем так: последние годы, поддавшись отчаянию, он ведь убегал от самой жизни. Его уход в одиночество был самой настоящей трусостью. Но это было раньше; сейчас Тревис — другой человек, Нора и Эйнштейн изменили его, и он не собирался снова пускаться в бегство, черт возьми. Эйнштейн стоял неподвижно, выгнув спину, наклонив и вытянув вперед голову, и яростно лаял, так что слюна текла из пасти. Тревис сделал шаг в сторону столовой. Ретривер не отставал и лаял еще злее. Держа револьвер перед собой и стараясь почерпнуть уверенность в этом мощном оружии, Тревис осторожно сделал еще один шаг среди предательского беспорядка. От дверного проема его отделяли каких-нибудь два-три шага. Он бросил беглый взгляд на унылую столовую. Эхо разносило лай Эйнштейна по всему дому, казалось, что в доме целая свора собак. Тревис сделал еще один шаг и заметил, как в темной столовой что-то шевельнулось. Он замер. Ничего. Никакого движения. Может быть, ему это только показалось? Тени по ту сторону дверного проема напоминали серый и черный креп. Тревис не был уверен, видел ли он какое-то шевеление или ему это только померещилось. «Иди обратно, уходи немедленно», — говорил внутренний голос. Не желая поддаваться ему, Тревис собрался было войти в дверь. Существо в столовой слегка задвигалось. На этот раз его присутствие не оставляло никакого сомнения: оно метнулось из дальнего угла комнаты, вскочило на стол и с криком, от которого кровь стыла в жилах, бросилось на Тревиса. В темноте он разглядел светящиеся глаза и фигуру почти человеческого роста, в которой — несмотря на плохое освещение — чувствовалось какое-то уродство. Эйнштейн бросился вперед ему наперерез, а Тревис попытался отступить на шаг назад, чтобы выиграть лишнюю секунду и выстрелить. Нажимая на курок, он поскользнулся на разбросанных на полу книгах и упал. Прогремел выстрел, но Тревис почувствовал, что промахнулся, попал в потолок. За мгновение, пока пес пробирался к своему противнику, Тревису удалось лучше разглядеть это существо с желтыми глазами, его лязгающие крокодильи челюсти и невероятно широко раскрытую пасть на бесформенной морде со зловещими кривыми клыками. — Назад, Эйнштейн! — закричал он, понимая, что любое столкновение кончится тем, что это дьявольское создание разорвет собаку на куски. Лежа на полу, Тревис снова дважды нажал на курок. Своим окриком и выстрелами он не только остановил Эйнштейна, но и вынудил врага к отступлению. Чудовище повернулось — быстро, гораздо быстрее кошки — и бросилось через неосвещенную столовую к двери, ведущей в кухню. На мгновение тусклый свет, проникающий из кухни, осветил его, и Тревис увидел нечто стоящее на двух ногах вопреки всему, с бесформенной головой, в два раза более крупной, чем следовало, сгорбленную спину и слишком длинные руки, оканчивающиеся когтями, напоминающими зубцы граблей. Он снова выстрелил, на этот раз ближе к цели. Пуля вырвала кусок из дверной рамы. Зверь с криком скрылся в кухне. Что, Боже мой, это было? Откуда оно взялось? Действительно сбежало из той же лаборатории, что и Эйнштейн? Но как они сотворили такое чудовище? И зачем? Зачем? Тревис был начитанным человеком: последние несколько лет он большую часть времени проводил за книгами, и ему в голову стали приходить возможные ответы. Среди них были и исследования в области рекомбинации ДНК. Эйнштейн стоял посредине столовой и громко лаял, не сводя глаз с двери, за которой скрылось существо. Поднявшись на ноги, Тревис подозвал пса, и тот быстро и охотно вернулся к нему. Он сделал псу знак молчать и прислушался. С улицы доносился отчаянный крик Норы: она звала его по имени — а в кухне было тихо. Чтобы успокоить Нору, Тревис крикнул: — Со мной все в порядке! Со мной все в порядке! Оставайся на месте. Собака дрожала. Тревис слышалгулкие удары своего сердца и почти слышал, как по его лицу и пояснице струится пот, но он не мог уловить ни единого звука, указывающего, где находится этот беглец из страшного кошмара. Тревис не думал, что тот выбежал через черный ход на задний двор. Во-первых, по его мнению, это существо хотело, чтобы его видело как можно меньше людей, и поэтому выходило только по ночам, передвигаясь исключительно в темноте, когда можно незаметно проскользнуть даже в такой достаточно большой город, как Санта-Барбара. А сейчас было еще слишком светло, чтобы покинуть дом. Более того, Тревис чувствовал: оно где-то рядом, подобно тому, как он ощущал, если ему смотрели в спину, как предугадывал приближение грозы в сырой день, когда на небе низко нависают тучи. Чудовище было здесь, это точно, затаилось в кухне, готовое напасть на него. Тревис осторожно подкрался к двери и вошел в полутемную столовую. Эйнштейн стоял рядом с ним, не ворчал, не рычал и не лаял. Казалось, пес понимает: Тревису нужна полная тишина, чтобы расслышать любой звук, издаваемый этой тварью. Тревис сделал еще два шага вперед. Через кухонную дверь ему были видны край стола, раковина, часть стойки и половина посудомоечной машины. Солнце садилось с другой стороны леса, и свет на кухне был тусклый, серый; их противник не сможет обнаружить себя тенью. Вероятно, он спрятался за дверью или забрался на одну из стоек, чтобы оттуда броситься на Тревиса, как только тот войдет в комнату. Стараясь перехитрить эту тварь и надеясь, что она не колеблясь отреагирует на любое движение, Тревис засунул револьвер за пояс, тихонько поднял один из стульев, подошел к кухне на расстояние шести футов и швырнул им в открытую дверь. Пока стул летел в кухню, он выхватил из-за пояса револьвер и приготовился к стрельбе. Стул ударился о покрытый пластиком стол, упал на пол и отскочил к посудомоечной машине. Враг с желтыми глазами не попался на удочку. Никакого движения. Когда стул перестал кувыркаться, в кухне вновь воцарилась настороженная тишина. Эйнштейн издавал какой-то странный дребезжащий звук, и через мгновение Тревис понял: это все из-за того, что пес не может сдержать дрожь. Сомнения не было: незваный гость был тем самым монстром, который более трех месяцев назад преследовал их в лесу. За прошедшие недели он перебрался на север, вероятно, передвигаясь преимущественно по диким местам к востоку от обжитой части штата, каким-то непонятным Тревису образом и по совершенно неясным ему причинам упорно идя по следу собаки. В ответ на брошенный стул за кухонной дверью на пол была сброшена белая эмалированная банка. Тревис от неожиданности отскочил назад и наугад выстрелил, прежде чем до него дошло: его дразнят. С банки слетела крышка, и по кафельному полу рассыпалась мука. Снова воцарилась тишина. Ответив на хитрость Тревиса своей уловкой, незваный гость обнаружил неожиданные умственные способности. Тревис вдруг понял, что, происходя из той же лаборатории, что и Эйнштейн, и будучи продуктом каких-то схожих экспериментов, это создание может быть таким же умным, как и ретривер. И это объясняло страх Эйнштейна перед ним. Если бы Тревис уже не свыкся с мыслью о том, что пес может обладать человеческим интеллектом, он не смог бы приписать этой твари нечто большее, чем просто животную хитрость; однако события нескольких последних месяцев подготовили его к тому, чтобы принять и быстро приспособиться к любым неожиданностям. Тишина. В револьвере остался только один патрон. Мертвая тишина. Тревис был так напуган падением банки, что даже не заметил, с какой стороны от дверного проема ее бросили, а она лежала так, что он не мог вычислить местонахождение пришельца. Тревис по-прежнему не знал, был ли тот справа или слева от двери. Он не был уверен в том, что хочет знать, где чудовище. Даже с револьвером в руках не стоило входить в кухню. Не стоило, если эта тварь так же умна, как человек. Черт возьми, это смахивало бы на сражение с «мыслящей» циркулярной пилой. Свет в выходящей на восток кухне быстро угасал, стало почти совсем темно. В столовой, где находились Тревис с Эйнштейном, тоже сгущались сумерки. Даже гостиная за ними, несмотря на открытую входную дверь, окно и угловую лампу, наполнялась тенями. С кухни донесся звук, напоминающий свист вытекающего газа, за которым последовало клик-клик-клик, возможно, от постукивания острых когтей на ногах или руках монстра по твердой поверхности. Тревис увидел, как дрожит Эйнштейн. Сам он чувствовал себя, как муха на краю паутины, обреченная попасть в ловушку. Ему припомнилось избитое, окровавленное лицо Теда Хокни с пустыми глазницами. Клик-клик. Во время подготовки в группе «Дельта» Тревиса учили незаметно подкрадываться к человеку, и у него это неплохо получалось. Но вся трудность заключалась в том, что этот желтоглазый дьявол, может, и был так же хитер, как человек, но полагаться на то, что он думает, как человек, было нельзя. Тревис не мог знать, что тот предпримет в следующую минуту, как отреагирует на его действие. Поэтому он не мог перехитрить его, и благодаря своей чуждой природе существо обладало постоянным смертельно опасным преимуществом внезапности. Клик. Тревис тихо сделал шаг назад от открытой кухонной двери, затем еще один, ступая с величайшей осторожностью. Он не хотел, чтобы эта тварь поняла, что Тревис отступает, поскольку одному Богу известно, как она отреагирует, узнав о его намерениях. Эйнштейн тихонько прошел в гостиную, не меньше Тревиса желая увеличить расстояние между собой и пришельцем. Дойдя до трупа Теда Хокни, Тревис отвел взгляд от столовой в поисках наименее грязного прохода к парадной двери — и заметил стоящую около кресла Нору. Испугавшись выстрелов, она взяла с кухни в трейлере разделочный нож и пришла узнать, не надо ли помочь. Увидев Нору здесь, при тусклом свете угловой лампы, Тревис одновременно поразился ее храбрости и ужаснулся. Ему вдруг почудилось, что те кошмарные сны, в которых он терял обоих — Нору и Эйнштейна, — вот-вот сбудутся, снова вступит в силу проклятие Корнелла, так как сейчас они оба были в доме, были оба уязвимы, оба, возможно, находились в нескольких шагах от опасной твари, затаившейся на кухне. Нора начала было что-то говорить. Тревис покачал головой и поднес палец к губам. Она замолчала, прикусила губу и перевела взгляд с него на лежащий на полу труп. Осторожно пробираясь среди обломков и мусора, Тревис вдруг представил себе, что незваный гость выскочил через черный ход из дома и, рискуя в сумерках быть замеченным соседями, обходит его кругом, направляясь к передней двери, чтобы неожиданно проникнуть в дом с тыла. Нора стояла между Тревисом и передней дверью, и, если чудовище войдет с той стороны, он не сможет выстрелить; черт, оно набросится на Нору через секунду после того, как откроет дверь. Стараясь держать себя в руках и не думать о пустых глазницах на лице Хокни, Тревис быстро пересек гостиную, рискуя наступить на что-нибудь на полу и надеясь, что эти негромкие звуки не донесутся до пришельца, если он все еще в кухне. Дойдя до Норы, он схватил ее за руку и потащил к входной двери на крыльцо и вниз по ступенькам, поглядывая по сторонам и ожидая нападения этого ожившего кошмара, но его нигде не было видно. Соседи по всей улице открыли двери, заслышав револьверные выстрелы и Норины крики. Некоторые вышли из дому. Наверняка кто-то уже вызвал полицию. А полиция была так же опасна для них, как и желтоглазая тварь, засевшая в доме. Втроем они забрались в пикап. Нора заперла свою дверь, а Тревис свою. Он завел мотор и подал автомобиль и «Эйрстрим» назад с подъездной дороги на улицу. Тревис видел глазеющих на них людей. Сумерки быстро сгущались, как это всегда бывает у океана. Небо на востоке было черным, над головой пурпурным и постепенно темнеющим багрово-красным на западе. Тревис был благодарен прикрытию ночи, хотя знал: желтоглазое чудовище радуется тому же. Он проехал мимо любопытствующих соседей, ни с кем из которых так и не познакомился за годы своего добровольного затворничества, и свернул за первый же угол. Нора крепко держала Эйнштейна, и Тревис вел машину на предельно допустимой скорости. Прицеп позади них раскачивался и трясся. — Что там случилось? — спросила Нора. — Оно убило Хокни сегодня утром или вчера… — Оно? — …И ждало, когда мы вернемся домой. — Оно? Эйнштейн заскулил. Тревис сказал: — Я тебе потом все объясню. Он не был уверен в этом. Ни одно описание пришельца не сможет все передать; у него не хватит слов, чтобы рассказать, до какой степени он был странен. Не проехали они и восьми кварталов, как услышали завывание сирен, доносящееся с того места, которое они только что покинули. Оставив позади еще четыре квартала, Тревис припарковался на пустой стоянке около какого-то учебного заведения. — А теперь что? — спросила Нора. — Мы бросим здесь пикап с трейлером, — ответил он. — Они будут их разыскивать. Тревис сунул револьвер в ее сумочку, а Нора настояла на том, чтобы положить туда же и тесак, который он хотел оставить в машине. Они вылезли из пикапа и в сгущающейся темноте прошли мимо здания школы, пересекли стадион, а затем через ворота в чугунной ограде вышли на фешенебельную улицу, вдоль которой росли высокие деревья. С наступлением ночи ветерок превратился в сильный ветер, теплый и сухой. Он бросил в них несколько опавших листьев и поднял вверх, вдоль тротуара, пыльные призраки. Тревис понимал, что даже без трейлера и пикапа они слишком заметны. Соседи расскажут полиции, что следует искать мужчину, женщину и золотистого ретривера — не слишком обычное трио. Их будут разыскивать, чтобы расспросить о смерти Теда Хокни, поэтому их поиск будет тщательным. Надо быстро скрыться из виду. У него не было друзей, у которых можно было бы спрятаться. После смерти Паулы он отошел от всех своих немногочисленных приятелей и не поддерживал отношений ни с кем из агентов по продаже недвижимости, работавших у него раньше. У Норы благодаря Виолетте Девон тоже не было друзей. В окнах большинства домов, мимо которых проходила троица, горел свет, и они, казалось, насмехались над ней недосягаемостью своих убежищ.* * *
Гаррисон Дилворт жил на границе между Санта-Барбарой и Монтесито в живописном местечке с пышной растительностью, где ему принадлежали пол-акра земли и величественный дом в стиле Тюдор, который не очень сочетался с калифорнийской флорой, но зато прекрасно подходил самому адвокату. Когда он открыл дверь, на нем были черные мокасины, серые слаксы, темно-синяя спортивная куртка, белая трикотажная рубашка, очки в черепаховой оправе, поверх которых он с удивлением, но, к счастью, без недовольства смотрел на незваных гостей. — Ну, привет, молодожены! — Вы одни? — спросил Тревис, когда он, Нора и Эйнштейн вошли в просторный холл с мраморным полом. — Один? Да. По дороге Нора рассказала Тревису, что жена адвоката умерла три года назад и сейчас за ним присматривает экономка по имени Глэдис Мерфи. — А миссис Мерфи? — спросил Тревис. — У нее сегодня выходной, — ответил адвокат, закрывая за ними дверь. — Вы неважно выглядите. Что случилось? — Нам нужна помощь, — сказала Нора. — Но, — предупредил Тревис, — каждый, кто помогает нам, рискует навлечь на себя неприятности. — Что вы натворили? Судя по вашему мрачному виду, я бы предположил, что вы похитили президента. — Мы не сделали ничего предосудительного, — уверила его Нора. — Нет, сделали, — не согласился с ней Тревис. — И продолжаем делать: мы прячем собаку. Гаррисон озадаченно посмотрел на ретривера. Эйнштейн заскулил, выглядя к случаю достаточно несчастным и очаровательным. — А кроме того, в моем доме находится труп, — сказал Тревис. — Труп? — Тревис его не убивал, — уточнила Нора. Гаррисон снова взглянул на пса. — Собака тоже не убивала, — сказал Тревис. — Но меня будут разыскивать в качестве свидетеля или что-то в этом роде, это уж точно. — Гм-м… — произнес адвокат. — Может быть, мы пройдем в мой кабинет и вы мне все расскажете? Он провел их через громадную и только наполовину освещенную гостиную, по короткому коридору в кабинет с роскошными панелями из тикового дерева и медно-красным потолком. Темно-бордовые кожаные кресла и диван, стоящие в кабинете, выглядели очень дорогими и удобными. Полированный письменный стол из тикового дерева был массивным, в углу его возвышалась модель пятимачтовой шхуны со всем парусным снаряжением. Стены кабинета были украшены различными корабельными принадлежностями: рулевое колесо, латунный секстант, резной бычий рог, наполненный жиром, в котором лежали парусные иглы, шесть видов корабельных ламп, колокольчик рулевого и морские карты. Тревис увидел фотографии мужчины и женщины на различных парусных шлюпках. В мужчине он узнал Гаррисона. На журнальном столике рядом с одним из кресел лежала раскрытая книга, рядом наполовину пустой стакан виски. Очевидно, Гаррисон отдыхал, когда раздался звонок в дверь. Он предложил им выпить, и оба они согласились, оставляя за хозяином право выбрать им напиток по своему усмотрению. Адвокат усадил Тревиса и Нору на диван, а Эйнштейн занял второе кресло. Он скорее сидел на нем, чем лежал, как бы готовясь принять участие в беседе. У углового бара Гаррисон налил в два стакана «Шивас Ригал» со льдом. Нора обычно не употребляла виски и очень удивила Тревиса, опорожнив свой стакан за два глотка и попросив еще. Он решил, что она права, и последовал ее примеру, а затем отнес пустой стакан к бару, где Гаррисон наполнил Норин стакан. — Я хотел бы рассказать вам все и попросить о помощи, — сказал Тревис, — но вы действительно должны понять, что можете оказаться по другую сторону закона. Закрывая бутылку, Гаррисон сказал: — Вы сейчас говорите как непрофессионал. Я адвокат, и, уверяю вас, закон — это не линия, выгравированная на мраморе, неподвижная и не меняющаяся веками. Скорее… закон похож на пружину, закрепленную с двух сторон, но с большой степенью свободы — она очень слабо натянута, — и вы можете растягивать ее и так и эдак, исправить ее дугу таким образом, что вы почти всегда — за исключением случаев очевидного воровства или хладнокровного убийства — будете в безопасности по эту сторону закона. В это трудно поверить, но это так. Я не боюсь узнать от вас нечто, что может привести меня в тюремную камеру, Тревис. Полчаса спустя Тревис и Нора уже рассказали ему все об Эйнштейне. Для человека, которому через пару месяцев должен был исполниться семьдесят один год, седовласый адвокат обладал быстрым и восприимчивым умом. Десятиминутной демонстрации сверхъестественных способностей собаки было достаточно, чтобы он отбросил все сомнения, уверовал в увиденное и изменил свое представление о том, что нормально и возможно в этом мире. Сидя в большом кожаном кресле, держа Эйнштейна на коленях и нежно почесывая его за ухом, Гаррисон сказал: — Если вы привлечете прессу, соберете прессконференцию и предадите это дело огласке, вероятно, удастся через суд добиться, чтобы собака осталась у вас. — Вы правда думаете, что это возможно? — спросила Нора. — В лучшем случае, — признался Гаррисон, — наши шансы составляют пятьдесят процентов. Тревис покачал головой: — Нет. Мы не пойдем на такой риск. — Что вы хотите предпринять? — спросил Гаррисон. — Бежать, — ответил Тревис. — Будем все время переезжать. — И что это даст? — Эйнштейн останется на свободе. Пес тявкнул в знак согласия. — На свободе, но на сколько? — поинтересовался Гаррисон. Тревис, слишком взволнованный, чтобы усидеть на месте, поднялся и принялся расхаживать взад-вперед по комнате. — Они не перестанут его искать, — признал он. — По крайней мере еще несколько лет. — Конечно, нет, — проговорил адвокат. — Хорошо, это будет нелегко, но это единственное, что мы можем сделать. Будь я проклят, если позволю им забрать его. Пес страшно боится лаборатории. Кроме того, он более или менее вернул меня к жизни… — А меня спас от Стрека, — сказала Нора. — Он свел нас вместе, — сказал Тревис. — Изменил наши жизни. — Радикальным образом изменил нас самих. Сейчас он неотъемлемая часть нашей жизни, как если бы он был нашим ребенком, — сказал Тревис. От избытка чувств у него комок застрял в горле, когда он встретился глазами с благодарным взглядом Эйнштейна. — Мы будем бороться за него так же, как он боролся бы за нас. Мы — семья. Мы будем жить вместе… или умрем вместе. Поглаживая ретривера, Гаррисон сказал: — Вас будут искать не только люди из лаборатории. И не только полиция. — То существо, — кивнул Тревис. Эйнштейн вздрогнул. — Ну, ну, спокойно, — проговорил Гаррисон, похлопывая собаку. Обращаясь к Тревису, он сказал: — Как вы думаете, что это за существо? Я помню ваше описание, но оно не многое объясняет. — Что бы это ни было, — сказал Тревис, — это не Божьих рук дело. Его создали люди. А значит, оно должно быть продуктом каких-то исследований в области рекомбинации ДНК. Бог его знает, чем руководствовались экспериментаторы, почему им понадобилось создать что-то вроде него. Но они его создали. — И, похоже, он обладает сверхъестественными способностями находить вас. — Находить Эйнштейна, — уточнила Нора. — Нам придется уехать, — проговорил Тревис. — Уехать далеко. — Вам понадобятся деньги, а банки откроются не раньше чем через двенадцать часов, — заметил Гаррисон. — Что-то подсказывает мне: если вы хотите бежать, то надо отправляться сегодня. — Здесь вы можете нам помочь, — сказал ему Тревис. Нора открыла сумочку и вынула две чековые книжки, свою и Тревиса. — Гаррисон, мы бы хотели выписать на ваше имя два чека, один — я, а другой — Тревис. У Тревиса на текущем счету только три тысячи, но в банке у него хранятся крупные сбережения, и часть денег переводится оттуда на текущий счет, чтобы не превышать кредит. Так же обстоит дело и с моими счетами. Если мы выпишем вам один чек со счета Тревиса на двадцать тысяч — завизированный задним числом, как бы до всех этих неприятностей — и один с моего счета тоже на двадцать тысяч, вы могли бы зачислить общую сумму на свой счет. Когда все будет сделано, вы купите восемь банковских чеков на пять тысяч каждый и пришлете их нам. Тревис сказал: — Полиция начнет разыскивать меня для дачи показаний, но им будет известно, что я не убивал Теда Хокни, ибо ни один человек не смог бы так его распотрошить. Поэтому вряд ли арестуют мои счета. — Если за исследованиями, в результате которых появились Эйнштейн и это существо, стоит ФБР, — сказал Гаррисон, — они попытаются во что бы то ни стало найти вас, и они могут заморозить ваши счета. — Вероятно. Но скорее всего не сразу. Вы живете в том же городе, и ваш банк не позднее понедельника переведет деньги с моего счета на ваш. — И как вы будете обходиться без денег, пока я не перешлю ваши сорок тысяч? — У нас есть немного наличными, а также дорожные чеки, которые остались с медового месяца, — ответила Нора. — И у меня еще есть кредитные карточки, — добавил Тревис. — Они могут выследить вас по вашим кредитным карточкам и дорожным чекам. — Я знаю, — сказал Тревис. — Поэтому буду пользоваться ими только в тех местах, где мы не собираемся задерживаться, и удирать оттуда как можно скорее. — Когда у меня на руках будут банковские чеки на сорок тысяч, куда мне их вам переслать? — Мы вам позвоним, — сказал Тревис, возвращаясь к дивану и усаживаясь рядом с Норой. — Мы что-нибудь придумаем. — А как быть с остальными вкладами: вашими и Норы? — С теми решим позже, — ответила она. Гаррисон нахмурился. — Прежде чем уйти, Тревис, вам необходимо подписать письмо, где вы даете мне право представлять вас в любых вопросах, которые могут возникнуть. Если кто-нибудь попытается заморозить ваши счета или Норины, я, по возможности, постараюсь это оспорить, хотя до тех пор, пока полицейские не выйдут на меня, не буду высовываться. — Вероятно, Норины вклады пока в безопасности. Ни она, ни я никому, кроме вас, не говорили о нашей женитьбе. Соседи сообщат полиции, что я уехал вместе с какой-то женщиной, но им неизвестно, кто она такая. Вы кому-нибудь о нас рассказывали? — Только моей секретарше миссис Эшкрофт. Но она не из болтливых. — Тогда все в порядке, — сказал Тревис. — Не думаю, что власти что-нибудь разузнают о нашей женитьбе, и пройдет немало времени, прежде чем они доберутся до Норы. Но, когда это произойдет, они выяснят, что вы ее адвокат. Если они проверят мои вклады и счета в надежде уточнить, куда я подевался, им станет известно о двадцати тысячах, которые я вам заплатил, и тогда они выйдут на вас. — Это меня совершенно не смущает, — проговорил Гаррисон. — Возможно, и нет, — сказал Тревис. — Но, как только установят существование связи между мной и Норой и между нами двумя и вами, они начнут за вами следить. Когда это случится… если мы вам позвоним, вы должны будете сразу же сообщить нам об этом, чтобы мы немедленно прекратили разговор и прервали с вами всякие отношения. — Это я отлично понимаю, — заметил поверенный. — Гаррисон, — сказала Нора, — вам вовсе не обязательно ввязываться во все это. Мы от вас слишком много требуем. — Дорогая моя, мне скоро исполнится семьдесят один год. Мне пока еще доставляет удовольствие моя практика, и я пока еще продолжаю плавать… но, по правде говоря, жизнь в последнее время кажется мне несколько скучноватой. Это дело — как раз то, что мне нужно, чтобы заставить кровь в жилах бежать чуть побыстрее. И главное, я считаю, вы обязаны помочь Эйнштейну остаться на свободе, и не только из-за того, что рассказали мне, но еще потому, что… у человечества нет никакого права использовать накопленный гений для создания другого разумного вида и затем обращаться с ним как со своей собственностью. Если мы достигли такого уровня, что можем творить, как Господь Бог, то должны научиться и поступать, как он: справедливо и милосердно. А в этом деле справедливость и милосердие требуют, чтобы Эйнштейн был свободным. Пес поднял голову с колен Гаррисона, с любовью взглянул на него и ткнулся своим холодным носом ему в подбородок.В гараже Гаррисона, рассчитанном на три машины, находились новый черный «Мерседес-560 SEL», белый «Мерседес-500 SEL» с голубым салоном и зеленый джип, которым он пользовался в основном для поездок к месту стоянки своей яхты. — Белый раньше принадлежал Франсине, моей жене, — пояснил адвокат, подводя их к машине. — Сейчас я им почти не пользуюсь, но он на ходу. Я иногда езжу на нем, чтобы покрышки не застаивались. После смерти Фрэнни мне нужно было бы избавиться от него. Это все-таки была ее машина. Но… она так любила свой шикарный белый «Мерседес»… я помню, как она выглядела за рулем… мне хотелось бы, чтобы вы им воспользовались. — Бежать на машине стоимостью в шестьдесят тысяч долларов? — сказал Тревис, проводя ладонью по полированной поверхности капота. — Это пижонство. — Никто не будет искать эту машину, — сказал Гаррисон. — Даже если в конце концов обнаружится связь между мной и вами, никто не догадается, что я дал вам один из своих «Мерседесов». — Это слишком дорогой автомобиль, мы не можем его принять, — сказала Нора. — Тогда возьмите его напрокат, — предложил Гаррисон. — Когда у вас появится своя машина, оставьте мою где-нибудь: на автобусной станции или в аэропорту — и сообщите мне, где она находится. Я пришлю за ней кого-нибудь. Эйнштейн поставил лапы на переднюю дверцу «Мерседеса», заглянул внутрь автомобиля сквозь боковое стекло и, оглянувшись на Тревиса и Нору, тявкнул, как бы говоря, что они будут дураками, если откажутся от такого предложения.
* * *
В пятнадцать минут одиннадцатого в среду вечером они выехали на белом «Мерседесе» из дома Гаррисона на Рут № 101, ведущую в северном направлении. К половине первого они миновали Сан-Луис-Обиспо, в час ночи — Пасо Роблес. В два часа они притормозили на заправочной станции самообслуживания. До Салинаса оставался час езды. Нору угнетало чувство собственной бесполезности. Она даже не могла сменить Тревиса за рулем, поскольку не умела водить машину. В какой-то мере в этом была скорее виновата Виолетта Девон, а не сама Нора — еще одно следствие жизни, проведенной взаперти; тем не менее она ощущала свою никчемность, и это расстраивало ее. Но Нора не собирается оставаться такой беспомощной — нет! Она будет водить машину и сможет обращаться с оружием. Тревис обучит ее и тому и другому. У него достаточно опыта, чтобы научить ее также боевым искусствам рукопашного боя, таким, как дзюдо или карате. Он хороший педагог. Тревис ведь так хорошо обучил ее искусству любви. От этой мысли Нора улыбнулась, и вскоре дурное настроение покинуло ее. На протяжении следующих двух с половиной часов, за которые они миновали Салинас и выехали на трассу, ведущую на север к Сан-Хосе, Нора временами засыпала. В те минуты, когда бодрствовала, она с удовлетворением считала мили, остающиеся позади. По обеим сторонам шоссе в бледном свете луны простирались нескончаемые пашни. Когда луна скрывалась, им приходилось проезжать длинные участки погруженной во тьму трассы, прежде чем попадалось освещенное окно одинокой фермы или сгрудившиеся у обочины строения придорожных служб. Желтоглазая тварь, которая шла по следу Эйнштейна с предгорья Санта-Аны в графсте Ориндж в Санта-Барбару, за три месяца преодолела расстояние, составлявшее по прямой сто двадцать пять миль, что примерно равнялось тремстам милям пешим ходом по дикой местности. Не так уж быстро. Значит, когда они удалятся на триста миль по прямой от Санта-Барбары и найдут себе убежище в районе залива Сан-Франциско, вероятно, их преследователь нагонит их только через семь-восемь месяцев. А возможно, он вообще не найдет их. Сможет ли он определить местонахождение Эйнштейна на таком расстоянии? Наверняка есть предел его способности чуять собаку. Наверняка.* * *
В одиннадцать часов утра в четверг Лемюэль Джонсон стоял в спальне дома Тревиса в Санта-Барбаре. Зеркало над туалетным столиком было разбито вдребезги. Все остальные вещи в комнате были также перебиты и перевернуты: создавалось впечатление, что Аутсайдер пришел в невероятную ярость, видя, что пес живет в комфортной домашней обстановке, в то время как он сам вынужден бродить по дикой местности и жить в довольно суровых условиях. Среди обломков, покрывавших пол, Лем нашел четыре фотографии в серебристых рамках, которые до этого, вероятно, стояли на туалетном столике или на прикроватных тумбочках. На первой, цветной, фотографии был изображен Корнелл в обществе привлекательной блондинки. Лем уже достаточно много знал о Тревисе и сразу определил, что это его покойная жена Паула. На второй, черно-белой, фотографии была запечатлена пожилая чета — родители Корнелла, — предположил Лем. На третьей, тоже довольно старой, был мальчик лет одиннадцати-двенадцати. Возможно, сам Тревис Корнелл, а скорее всего — его погибший брат. С последней фотографии на Лема смотрела группа улыбающихся солдат, разместившихся на деревянных ступеньках казармы. Одним из них был Тревис Корнелл. На униформе некоторых ребят были нашивки группы «Дельта» — элитного подразделения по борьбе с терроризмом. В задумчивости поставив последнюю фотографию на туалетный столик, Лем направился в гостиную, где Клифф продолжал копаться в забрызганных кровью обломках. Он искал то, что не представит интереса для полиции, но может много поведать сотруднику службы безопасности. УНБ не сразу начало заниматься делом об убийстве в Санта-Барбаре — Лем, например, вообще ничего не знал до шести утра. В результате пресса уже успела растрезвонить все мрачные подробности убийства Теда Хокни. Репортеры с энтузиазмом распространяли различные версии о причинах гибели Хокни, придерживаясь в основном мысли о том, что Корнелл держал у себя дома экзотическое и опасное животное, например гепарда или пантеру, которое напало на ничего не подозревающего Теда, когда тот зашел в дом. В средствах массовой информации прошли со смаком сделанные снимки разодранных в клочья и забрызганных кровью книг. Версии такого рода придерживались и в «Нейшнл Инквайерер» — что, впрочем, не удивило Лема, поскольку, по его мнению, линия, разделяющая сенсационные издания типа «Инквайерера» и официальные средства массовой информации — особенно электронные, — намного тоньше, чем думают многие журналисты. Лем уже подготовил и запустил в работу кампанию по дезинформации, направленную на поддержку раздуваемой прессой истерии по поводу «диких животных». В соответствии с этим планом в публике должны появиться платные агенты УНБ, утверждающие, что лично знали Корнелла и что, помимо собаки, он держал у себя в доме пантеру. Другие агенты, которые представятся знакомыми Корнелла, будут с горечью в голосе говорить, что они настойчиво советовали ему удалить у зверя клыки и когти, когда тот был еще детенышем. Получив такие заявления, полиция захочет допросить Корнелла и его неизвестную спутницу насчет пантеры и ее нынешнего местонахождения. Лем был уверен, что таким образом удастся отвлечь прессу от расследований, которые могут приблизить ее к истине. Разумеется, об убийстве станет известно Уолту Гейнсу в графстве Ориндж, который, конечно, по своим каналам свяжется со здешними властями и быстро сообразит: Аутсайдер пробрался далеко на север. Лем с облегчением подумал, что Уолт на его стороне. Войдя в гостиную, Лем спросил у Клиффа Соамса: — Нашел что-нибудь? Молодой человек поднялся с обломков, похлопал ладонью о ладонь, сбивая пыль, и сказал: — Ага. Посмотрите там, на обеденном столе. Лем проследовал за ним в столовую, где на столе лежал блокнот в переплете из металлических колец. Открыв блокнот, он увидел, что на страницах слева наклеены цветные фотографии из журналов, а напротив каждой картинки на правой странице большими печатными буквами написано название изображенного предмета: ДЕРЕВО, ДОМ, МАШИНА… — Что скажете? — спросил Клифф. Скривившись, Лем продолжал молча перелистывать блокнот, чувствуя, что наткнулся на что-то важное. Тут его осенило: — Это букварь. Для обучения чтению. — Точно, — сказал Клифф. Лем увидел улыбку на лице своего помощника. — Они знают о способностях собаки и хотят раскрыть их поглубже. И они… решили научить ее читать. — Похоже на то, — сказал Клифф, все еще улыбаясь. — Боже правый, неужели это правда? Неужели ее можно научить читать? — Без сомнения, — сказал Лем. — Между прочим, обучение чтению стояло в программе эксперимента доктора Вэтерби на эту осень. Тихо засмеявшись, Клифф произнес: — Черт меня побери. — Чем скалить зубы, лучше попробуй оценить ситуацию. Этот парень, Корнелл, осознал, что собака необыкновенно умна. Возможно, он уже научил ее читать. Можно также предположить, что Тревис нашел способ с ней общаться. И уже знает, что это экспериментальное животное. Кроме того, Корнелл понимает: на поиски этой собаки задействовано множество людей. Клифф сказал: — У него, несомненно, есть сведения об Аутсайдере. Пес наверняка сообщил ему об этом. — Да. И, зная все это, Корнелл тем не менее решил не предавать дело огласке. Он мог продать эти сведения — покупатель бы нашелся. Но не сделал этого. Ему легко было поднять на ноги всю прессу и обвинить Пентагон в финансировании такого рода исследований. — Но Корнелл этого не сделал, — сказал Клифф, нахмурившись. — Это значит, что он предан собаке, хочет держать ее у себя и не отдаст никому другому. Кивнув, Клифф сказал: — Если то, что нам стало известно, правда, то так оно и есть. Я хочу сказать, что этот парень еще в молодости потерял всю свою семью. Через год после свадьбы умерла жена. Все его друзья по группе «Дельта» погибли. Он замкнулся и превратился в одиночку. Наверное, здорово страдал от этого. И тут появляется собака… — Все точно, — сказал Лем. — Для человека, служившего в группе «Дельта», не составит труда перейти на нелегальное положение. А если мы его все-таки найдем, собаку Корнелл так просто не отдаст. А драться он умеет. — Насчет его пребывания в группе «Дельта» у нас еще нет подтверждения, — с надеждой в голосе произнес Клифф. — У меня оно есть, — проговорил Лем и рассказал ему о виденной в спальне фотографии. — Тогда мы здорово вляпались, — вздохнул Клифф. — По самую шею, — подтвердил Лем.* * *
К шести часам утра в четверг они добрались до Сан-Франциско, а в половине седьмого нашли подходящий мотель — низкое строение, на вид очень чистое и современное. Домашних животных туда не допускали, но им не составило труда тайком провести Эйнштейна в свой номер. Несмотря на небольшую, но все-таки реальную опасность того, что на имя Тревиса в полиции мог быть выписан ордер на арест, он зарегистрировался в книге проживающих под своим настоящим именем. Впрочем, выбирать не приходилось, поскольку у Норы вообще не было с собой никаких документов: ни кредитных карточек, ни водительского удостоверения. Регистраторы в гостиницах, конечно, с удовольствием принимали наличные, но требовали удостоверение личности, так как данные о постояльцах необходимо было вносить в компьютер гостиничной сети. Тревис, однако, сообщил клерку вымышленные номера и марку своей машины, для чего предусмотрительно припарковал ее так, чтобы она не была видна от стойки регистрации. Они заплатили за одну комнату и взяли с собой Эйнштейна: любовью они все равно заниматься не могли — Тревис едва успел поцеловать Нору, как тут же от усталости погрузился в глубокий сон. Ему снились существа с желтыми глазами, уродливыми мордами и крокодильими челюстями, утыканными акульими зубами. Тревис проснулся через пять часов, в двенадцать десять пополудни. Нора была уже на ногах. Она приняла душ, но, поскольку смены платья у нее не было, надела на себя ту же одежду, в которой приехала в мотель. Волосы у нее были еще мокрые и, прилипая к шее, делали ее очень соблазнительной. — Вода очень горячая, и напор хороший, — заметила Нора. — У меня тоже, — сказал Тревис, принимаясь ее целовать. — Тогда остынь немного, — произнесла она, отодвигаясь от него. — Маленькие ушки — на макушке. — Эйнштейн? У него большие уши. Войдя в ванную, он увидел, что пес взобрался на полку рядом с умывальником и пьет холодную воду, которую Нора набрала для него в раковину. — Знаешь ли, мохнатая морда, для большинства собак туалет — прекрасный источник питьевой воды. Ретривер чихнул, спрыгнул с полки и не спеша вышел из ванной комнаты. У Тревиса с собой не было принадлежностей для бритья. К тому же он решил, что однодневная щетина придаст ему подходящий вид для того дельца, которое ему предстояло совершить вечером в районе Тендерлойн. Покинув мотель, они остановились у первого попавшегося «Макдональдса». Перекусив, поехали в местное отделение банка Санта-Барбары, где у Тревиса был счет. Воспользовавшись компьютерной банковской карточкой, а также карточками «Мастеркард» и «Виза», они сняли наличными одну тысячу четыреста долларов. Затем отправились в офис «Америкэн Экспресс» и с помощью одного из чеков Тревиса, а также карточки «Голд Кард» получили максимально возможную сумму в пятьсот долларов наличными и еще четыре тысячи пятьсот долларов дорожными чеками. Прибавив эти деньги к двум тысячам ста долларам наличными и дорожным чекам, остававшимся у них после медового месяца, они имели в своем распоряжении восемь тысяч пятьсот долларов, которыми могли располагать без дальнейших проволочек. Во второй половине дня и вечером Нора и Тревис вместе с Эйнштейном поехали по магазинам. Пользуясь кредитными карточками, они купили полный набор багажных сумок и достаточное количество одежды, чтобы их наполнить. Приобрели туалетные принадлежности и электробритву для Тревиса. Он еще купил игру «Скрэббл», на что Нора сказала: — Тебе еще и поиграть хочется? — Нет, — ответил Тревис, довольный тем, что та не догадывается о цели этой покупки. — Я тебе потом объясню. За полчаса до захода солнца, поместив все свои покупки в просторный багажник «Мерседеса», они двинулись в глубь Тендерлойна — части Сан-Франциско, расположенной за улицей О'Фаррелл и входящей клином между Маркет-стрит и Ван-Несс-авеню. Это был район сомнительных баров с полуголыми танцовщицами, заведений, где на сцену выходили девицы вообще без одежды, а также салонов, в которых мужчины платили за то, чтобы посидеть за столиком с обнаженными молодыми девушками и поговорить о сексе, и дело обычно не заканчивалось только разговорами. Весь этот грубый разврат шокировал Нору, которая уже вообразила себя опытной и многое повидавшей женщиной. Она не была готова увидеть такую клоаку. Открыв рот, Нора смотрела на яркие неоновые вывески, рекламирующие пип-шоу,[98] женскую борьбу в грязевых ваннах, женщин-пародисток, бани для гомосексуалистов и массажные салоны. Некоторые вывески озадачивали ее, и тогда она спрашивала: — А что они хотели сказать этой надписью: «Поднеси к носу розочку»? Высматривая место для парковки, Тревис ответил: — Это значит, что девушки танцуют совершенно обнаженными и во время танца пальцами раздвигают половые губы, чтобы показаться во всей красе. — Не может быть! — Может. — Боже. Я этому не верю. То есть я верю, но этого не может быть. Что — совсем крупным планом? — Девушки танцуют прямо на столиках у клиентов. Законом запрещено дотрагиваться до них, но девушки бывают совсем рядом с посетителем, размахивая голыми грудями у них перед носом. Между их сосками и губами смотрящих на них мужчин едва ли можно просунуть сложенный втрое листок бумаги. На заднем сиденье Эйнштейн фыркнул от отвращения. — Согласен с тобой, парень, — сказал ему Тревис. Они проехали мимо заведения, на фасаде которого мигали красные и желтые лампочки и перекатывались голубые и пурпурные неоновые полосы. Надпись у входа гласила: «ЖИВОЕ СЕКС-ШОУ». Нора в ужасе спросила: — А что, бывают «мертвые» секс-шоу? Тревис так захохотал, что чуть было не врезался во впереди идущую машину, битком набитую желторотыми школьниками. — Нет, нет. Даже в Тендерлойне есть свои пределы. Слово «живое» используется, когда хотят сказать, что шоу демонстрируется на сцене перед публикой, а не записано на пленку. Тут полно секс-кинотеатров, в которых показывают только порнографию. Но в этом заведении все происходит «живьем». Я, правда, сомневаюсь, что это правда. — А мне наплевать, правда это или нет! — сказала Нора голосом Дороти из Канзаса, которая только что попала в неведомую ранее часть страны Оз. — И вообще, что мы здесь делаем? — Сюда приезжают, когда хотят купить то, что не продается в других местах, например, молоденьких мальчиков или большие партии наркотиков. А также фальшивые водительские удостоверения и поддельные документы. — А, — произнесла она. — Теперь понятно. Эту часть города контролирует организованная преступность по типу семьи Корлеоне из «Крестного отца». — Полагаю, мафия контролирует большую часть этих заведений, — подтвердил Тревис, ставя автомобиль у обочины. — Но не думай, что настоящая мафия состоит из благородных героев, подобных Корлеоне. Эйнштейн согласился посидеть в «Мерседесе». — Вот что, мохнатая морда, — сказал Тревис. — Если нам повезет, мы тебе тоже выправим новый документ. В нем будет записано, что ты — пудель.Нора с удивлением обнаружила, что с наступлением сумерек с моря подул холодный ветер, заставивший их облачиться в теплые нейлоновые куртки, купленные днем. — Даже летом ночи здесь холодные, — сказал Тревис. — Скоро опустится туман. Городское тепло, накопленное за день, притянет его с моря. Тревису в любом случае пришлось бы надеть куртку, так как нужно было прикрыть от посторонних глаз заткнутый за пояс револьвер. — Тебе в самом деле может понадобиться оружие? — спросила Нора, когда они зашагали прочь от машины. — Не думаю. Я прихватил его с собой в основном в качестве удостоверения личности. — Что-что? — Сама поймешь. Она оглянулась в сторону «Мерседеса» и увидела Эйнштейна, с брошенным видом смотревшего через заднее стекло. Ей стало не по себе оттого, что они не взяли его с собой. «С другой стороны, — подумала Нора, — посещение таких заведений (даже если туда пускают собак) может нанести ему моральную травму». Тревиса интересовали только те бары, где вывески были написаны по-английски и по-испански или только по-испански. Некоторые заведения имели довольно обшарпанный вид и откровенно выставляли напоказ облупившуюся краску и сбившиеся ковровые дорожки; другие же пытались скрыть свою тараканью сущность с помощью зеркал и ярких огней. По-настоящему дорогих и чистых баров было немного. В каждом из таких мест Тревис заговаривал по-испански с барменом или с музыкантами, когда у тех был перерыв, и некоторым из них раздавал сложенные двадцатидолларовые купюры. Не зная испанского, Нора не могла понять, о чем он беседует с этими людьми и почему платит им деньги. Когда они вышли на улицу в поисках очередного такого заведения, Тревис объяснил ей, что в основном незаконными иммигрантами являются мексиканцы, сальвадорцы и никарагуанцы — люди, бегущие от экономического хаоса и политических репрессий. Поэтому на рынке поддельных документов испаноговорящих нелегалов гораздо больше, чем вьетнамцев, китайцев и всех других национальностей вместе взятых. — Поэтому самый простой путь выйти на изготовителя поддельных документов лежит через латино-американский уголовный мир. — У тебя уже есть кто-нибудь на примете? — Нет еще. Так, по мелочам. Вполне вероятно, девяносто девять процентов сведений, за которые я заплатил, — ерунда или вранье. Но не волнуйся — мы найдем то, что ищем. На этом и держится Тендерлойн — люди, которые сюда приезжают, всегда находят то, что ищут. Окружающая публика удивила Нору. На улицах, в барах с полуголыми танцовщицами можно было встретить кого угодно:азиатов, латиноамериканцев, белых, чернокожих, даже индийцев, смешавшихся в полуалкогольном тумане, — казалось, что расовая гармония стала положительным следствием коллективного поиска греховных наслаждений. Она видела ребят бандитской наружности в кожаных куртках и джинсах — именно таких, каких и ожидала встретить здесь, но были и другие — одетые в приличные костюмы, выпускники университетов, парни, выглядящие настоящими ковбоями, и пляжные мальчики, как будто сошедшие с кадров старых фильмов Анетты Фунигелло. Бродяги сидели на тротуарах или стояли на углах улиц — небритые личности в зловонных лохмотьях, но даже у обладателей дорогих костюмов в глазах был такой нехороший блеск, что хотелось сразу же бежать от них. У большинства людей, однако, был вполне благопристойный вид — в обычных обстоятельствах они вполне могли бы сойти за добропорядочных граждан. Нору это поразило. За столиками в барах женщин было немного, вернее, их было достаточно, но выглядели они даже более вызывающе, чем голые танцовщицы. Только некоторые из них, казалось, пришли сюда не для того, чтобы продать себя. В баре с обнаженными по пояс танцовщицами под названием «Хот Типс», куда посетителей зазывала вывеска на английском и испанском языках, играла такая громкая музыка, что у Норы моментально разболелась голова. Шесть прекрасно сложенных девушек, в туфельках на шпильках и блестящих трусиках-бикини, танцевали на столиках, извиваясь и раскачивая грудями перед потными лицами гогочущих и хлопающих в ладони мужчин. Другие девушки, одетые подобным же образом, в это время работали официантками. Пока Тревис разговаривал по-испански с барменом, Нора заметила, что некоторые посетители оценивающе оглядывают ее. У нее мурашки побежали по коже. Она ухватилась за руку Тревиса так крепко, что ее клещами нельзя было оторвать от него. Запахи пива и виски, испарения потных тел, наслаивающиеся друг на друга ароматы дешевых духов и сигаретного дыма делали атмосферу заведения похожей на баню, правда, без присущего баням оздоровительного эффекта. Нора сжала зубы и подумала: «Меня не стошнит — это было бы слишком глупо. Меня не стошнит». После нескольких минут быстрого разговора Тревис передал бармену пару двадцаток, и их провели в глубину зала, где у двери, задернутой густо расшитой стеклярусом шторой, на стуле сидел парень размером с Арнольда Шварценеггера. На нем были черные кожаные штаны и белая футболка. Руки у него были толстые, как бревна, а лицо казалось изваянным из цемента. Его серые глаза были полупрозрачны. Тревис сказал ему что-то по-испански и протянул две двадцатки. Музыка с оглушительного грохота перешла в простой рев. Женский голос произнес в микрофон: — Ладно, мальчики, если вам понравилось то, что мы вам показали, начинайте совать нам между ног. Нора вздрогнула от услышанного, но при новом всплеске музыки увидела, что имела в виду женщина, сделавшая столь похабное объявление: посетителям предлагалось засовывать сложенные пяти — и десятидолларовые банкноты в трусики танцовщицам. Бугай в кожаных штанах наконец оторвался от своего стула и провел их за стеклярусную занавеску, за которой оказалась комната футов десять в ширину и восемнадцать или двадцать в длину. Там сидели шесть девушек в туфлях и трусиках, готовясь сменить выступавших в зале. Они поправляли грим перед зеркалом, красили губы и просто болтали друг с другом. Все девушки были так же красивы, как те, которых Нора видела танцующими. У одних были довольно крутые физиономии, красивые, но крутые, а другие выглядели вполне невинно, как школьные учительницы. Бугай повел Тревиса, державшего за руку Нору, через гримерную к двери на другом конце комнаты. Одна из танцовщиц — яркая блондинка — положила руку Норе на плечо и зашагала рядом. — Ты новенькая, малышка? — Я? Нет. Нет-нет, я не работаю здесь. Девушка, обладавшая такими развитыми формами, что Нора чувствовала себя рядом с ней мальчиком, сказала: — А у тебя неплохие причиндалы, киска. — Что вы, — выдавила из себя Нора. — А мои тебе нравятся? — спросила блондинка. — Ну да, вы очень красивая, — ответила Нора. Обращаясь к девушке, Тревис сказал: — Оставь ее в покое, сестренка. Леди не играет в такие игры. Блондинка ответила, улыбаясь: — Пусть попробует, может быть, ей понравится. Они вышли из гримерной и оказались в узком, плохо освещенном коридоре. Только тут Нора сообразила, что ей сделали предложение. И кто? Женщина! Она не знала, смеяться или плакать. Пожалуй, и то и другое. Бугай проводил их до офиса в глубине здания и ушел со словами: — Мистер Ван Дайн будет через минуту. Обстановка офиса состояла из серых металлических стульев, конторских шкафов и потрепанного металлического стола. Серые стены были абсолютно голые: ни календарей, ни картинок. На столе не было ни блокнотов, ни авторучек, ни бумаг. Создавалось впечатление, что этой комнатой редко пользовались. Нора и Тревис уселись на металлические стулья перед столом. Доносившаяся из бара музыка уже не оглушала. Переведя дыхание, Нора спросила: — А откуда они берутся здесь? — Кто? — Все эти милашки со своими грудями, задницами и длинными ногами и… с большим желанием… заниматься этим самым. Откуда они? — Недалеко от Модесто есть ферма, где их разводят, — ответил Тревис. Нора удивленно уставилась на него. Он засмеялся и сказал: — Извини. Я все забываю о степени вашей неискушенности, миссис Корнелл. — Тревис чмокнул ее в щеку, уколов немного щетиной, но ей все равно было приятно. Несмотря на помятую одежду и небритый вид, он выглядел свежим, как ребенок, хотя и находился в самом центре преступной клоаки. Тревис сказал: — Мне придется давать тебе только прямые ответы, потому что до тебя не доходят мои шутки. — Так никакой фермы нет! — заморгала Нора. — Нет, конечно. Но существуют девушки, готовые заниматься этим делом. Девушки, стремящиеся попасть в шоу-бизнес, обосноваться в Лос-Анджелесе и стать кинозвездами. Им это не удается, и тогда они оказываются в таких же местах в Лос-Анджелесе или еще дальше на севере — в Сан-Франциско или в Лас-Вегасе. Большинство из них — вполне порядочные девушки. Они думают, что это временно. Можно быстро заработать очень хорошие деньги. Таким образом они готовят себе плацдарм для очередного наступления на Голливуд. Одни из них занимаются этим, чтобы унизить самих себя. Другие пытаются таким образом отомстить своим родителям, бывшим мужьям, всему миру. Некоторые — на самом деле шлюхи. — И эти шлюхи… встречают здесь своих сутенеров? — Возможно, да, а может, и нет. Некоторые выступают здесь для того, чтобы у них был официальный источник дохода, когда налоговая служба постучит к ним в дверь. Они числятся танцовщицами, что дает им неплохую возможность скрывать доходы от других занятий. — Печальная история, — сказала Нора. — Ага. В некоторых… во многих случаях очень печальная. — А этот Ван Дайн обеспечит нас фальшивыми удостоверениями личности? — Похоже, что так. Она с уважением посмотрела на Тревиса. — Ты, оказывается, знаешь, где искать. — Тебя беспокоит, что мне известны такие места, как это? Нора задумалась. — Нет. Честно говоря… когда женщина собирается замуж, я полагаю, ее будущий муж должен уметь вести себя в любой ситуации. Мне, во всяком случае, это внушает уверенность. — Во мне? — В тебе, да, — уверенность в том, что мы выпутаемся из этой истории, спасемся сами и спасем Эйнштейна. — Уверенность — это хорошо. Когда я служил в группе «Дельта», первое, чему меня научили, было то, что чрезмерная уверенность в себе — прямой путь в могилу. В этот момент открылась дверь, и в сопровождении бугая-телохранителя в комнату вошел круглолицый человек в сером костюме, голубой рубашке и черном галстуке. — Ван Дайн, — представился мужчина, но руки не подал. Обошел вокруг стола и сел на стул с пружинной спинкой. У него были редеющие светлые волосы и гладкие, как у ребенка, щеки. Он походил на биржевого брокера из телерекламы: компетентный, элегантный и вежливый. — Я захотел встретиться с вами для того, чтобы узнать, кто распространяет обо мне ложные сведения. Тревис проговорил: — Нам нужны новые документы: водительские права, карточки социального страхования — в общем, весь набор. И по первому классу, без дураков. — Вот и я о том же, — сказал Ван Дайн. Он вопросительно поднял брови. — Откуда, позвольте узнать, вы взяли, что я занимаюсь подобного рода делами? Боюсь, вас неправильно информировали. — Нам нужны первоклассные документы со всей подноготной, — повторил Тревис. Ван Дайн уставился на него и на Нору. — Разрешите мне осмотреть ваш бумажник и вашу сумочку, мисс. Кладя свой бумажник на стол, Тревис сказал Норе: — Все нормально. Нехотя она поставила сумочку рядом с бумажником. — Теперь, пожалуйста, встаньте, чтобы Цезарь мог вас обыскать, — сказал Ван Дайн. Тревис поднялся и знаком приказал Норе встать. Цезарь с каменным выражением на лице и с обескураживающей тщательностью обыскал Тревиса и, обнаружив «магнум 357», положил револьвер на стол. Еще более добросовестно он обыскал Нору, расстегнув ей блузку и грубо ощупав чашечки ее бюстгальтера в поисках миниатюрного микрофона и записывающего устройства. Она залилась краской и не позволила бы дальше осматривать себя, если бы Тревис не объяснил ей, в чем дело. Кроме того, Цезарь проделывал все это без каких-либо эмоций, как машина, не способная на эротические реакции. Когда Цезарь закончил обыск, они подождали немного, пока Ван Дайн знакомился с содержимым бумажника и сумочки. Нора было испугалась, что он заберет себе все их деньги, но, по всей видимости, его заинтересовали только их документы, да еще тесак для рубки мяса, который она по-прежнему носила с собой. Обращаясь к Тревису, Ван Дайн сказал: — О'кей. Если бы вы были полицейскими, вам бы не разрешили таскать с собой револьвер «магнум». — Он наклонил в сторону барабан и осмотрел патроны. — Да еще к тому же заряженный пулями «магнум». За это вам бы здорово прижали хвост. — Он улыбнулся Норе. — А женщины-полицейские не носят тесаки в сумочках. Тут Нора поняла слова Тревиса о том, что револьвер ему нужен не столько для самообороны, сколько для удостоверения личности. Ван Дайн и Тревис немного поторговались и наконец сошлись на цене в шесть тысяч пятьсот долларов за два полных комплекта документов с «железной» легендой. После этого им вернули все вещи, включая тесак и револьвер. Затем они проследовали за Ван Дайном в узкий коридор, где он отпустил Цезаря и повел их по тускло освещенным лестничным пролетам в подвал, куда через толщу бетонного перекрытия едва проникали звуки музыки из бара. Нора не представляла себе, что можно увидеть там, в подвале: возможно, мужчин, похожих на Эдварда Робинсона, в зеленых светозащитных козырьках на резинках, склонившихся над старинного вида печатными прессами и изготавливающих не только фальшивые документы, но и пачки фальшивой валюты. То, что открылось ее глазам на самом деле, удивило Нору. Ступеньки привели их в складское помещение размером примерно футов тридцать на сорок. Вдоль каменных стен почти в рост человека возвышались коробки с запасами для бара. Они прошли по узкому проходу между коробками с виски, пивом и салфетками для коктейлей и остановились у стальной двери. Ван Дайн нажал кнопку на косяке, приведя в действие телевизионную камеру, которая с мягким треском обвела их своим электронным оком. Дверь открыли изнутри, и они вошли в небольшую комнату с приглушенным освещением, где за семью компьютерами, выстроенными в линию на столах вдоль одной стены, работали двое бородатых парней. На одном из них были надеты мягкие башмаки «Рокпорт», брюки-сафари и такая же рубашка. На другом — кроссовки «Рибок», джинсы и байковый свитер с изображениями театральных масок. Они выглядели почти близнецами и были оба похожи на Стивена Спилберга в молодости. Ребята были настолько заняты своими компьютерами, что не обратили никакого внимания на Нору, Тревиса и Ван Дайна. В то же время работа, по всей видимости, доставляла им подлинное удовольствие — они оживленно переговаривались друг с другом и отпускали замечания в адрес компьютеров на таком сложном техническом языке, что Нора не смогла понять ни слова. В комнате также находилась блондинка лет двадцати с небольшим. У нее была короткая стрижка и красивые фиалкового цвета глаза. Пока Ван Дайн разговаривал с парнями, она увела Тревиса и Нору в дальний конец комнаты, усадила перед белым экраном и сфотографировала для поддельных водительских прав. Закончив съемку, женщина ушла в темную комнату проявлять пленку, а Тревис и Нора присоединились к Ван Дайну, рядом с которым два молодых человека со счастливым видом стучали по клавиатуре компьютеров. Нора смотрела на то, как они проникали в якобы «непроницаемые» компьютерные сети Калифорнийского департамента автомобильного транспорта и Администрации социального страхования, а также других федеральных и местных организаций. — Когда я сказал мистеру Ван Дайну, что документы нужны со «всей подноготной», — пояснил Тревис, — я имел в виду, что водительские права должны будут выдержать проверку, если нас остановит полицейский патруль на шоссе. Водительские удостоверения, которые мы здесь получим, невозможно отличить от настоящих. Эти парни вставят наши новые имена в файлы ДАТ и, собственно, таким образом внесут данные об этих документах в банк данных штата. Ван Дайн заметил: — Адреса, конечно, фальшивые. Но, когда вы поселитесь где-нибудь под своими новыми фамилиями, вам надо будет просто сообщить в ДАТ об изменении адреса — так положено по закону, — и тогда все будет абсолютно легально. Права вам выдадут на год, после чего вы пойдете в контору ДАТ, сдадите обычный экзамен и получите новенькие права, поскольку ваши новые имена уже находятся в их файлах. — А какие у нас будут фамилии? — с интересом спросила Нора. — Видите ли, — сказал Ван Дайн со спокойной уверенностью биржевого брокера, объясняющего рыночные возможности новому инвестору, — необходимо начать со свидетельства о рождении. У нас есть данные в компьютере о смерти младенцев на всей западной части Соединенных Штатов за пятьдесят лет. Мы уже поискали сведения о детишках, умерших в год, когда вы родились, пытаясь найти вариант, при котором цвет их волос и глаз, а также имена совпадали бы с вашими. Всегда трудно менять сразу и имя, и фамилию. Мы нашли информацию о маленькой девочке, Норе Джин Эймс, родившейся двенадцатого октября в год, когда вы родились, и умершей через месяц здесь, в Сан-Франциско. У нас есть универсальный лазерный принтер, на котором мы уже изготовили свидетельство о рождении по образцу, который использовался в Сан-Франциско в то время. В нем указаны имя, фамилия и основные сведения о Норе Джин. Мы сделаем с него две ксерокопии, которые будут вам вручены. Мы также подсоединились к файлам социального страхования и ввели туда номер Норы Джин Эймс, которого, конечно, никогда не было, и создали полную картину уплаты взносов. — Он улыбнулся. Таким образом, вы заплатили уже достаточно двадцатипятицентовиков, чтобы получить пенсию. Точно таким же образом в файлах налоговой службы теперь существует запись, что вы работали официанткой в полудюжине разных городов и что каждый год вы исправно платили налоги. Тревис заметил: — Имея свидетельство о рождении и настоящий номер в картотеке социального страхования, они смогли сделать водительское удостоверение, за которым стоит реальное удостоверение личности. — Итак, теперь я — Нора Джин Эймс? Но если свидетельство о ее рождении находится в памяти компьютера, то как быть со свидетельством о смерти? Если кто-нибудь захочет проверить… Ван Дайн покачал головой. — В те времена свидетельства о рождении и смерти имели форму бумажного документа, никакими компьютерами тогда не пользовались. А поскольку правительство всегда тратит больше денег впустую, чем расходует разумно, у него никогда не было достаточно средств, чтобы перевести всю бумажную документацию прошлых лет в компьютерные банки данных. Так что, если кто вас в чем-то и заподозрит, будет невозможно проверить записи о смерти с помощью компьютера за несколько минут. Надо будет ехать в муниципалитет, раскопать папки коронера за тот самый год и найти в них свидетельство о смерти Норы Эймс. Но и это нельзя сделать, поскольку мы берем на себя заботу о том, чтобы этот документ был изъят из архива, как только вы купите у нас личность. — Мы вошли в файлы ТРВ — агентства, ведающего кредитами, — сказал один из близнецов-Спилбергов с нескрываемым восторгом. Нора увидела, как на зеленых экранах забегали строчки, но ей, конечно, это ни о чем не говорило. — Они сейчас выстраивают истории кредитов под наши новые личности, — объяснил ей Тревис. — К тому времени, когда мы где-нибудь осядем и поставим ДАТ и ТРВ в известность о перемене адреса, наш почтовый ящик будет завален предложениями по кредитным карточкам — «Виза», «Мастеркард», возможно, даже «Америкэн Экспресс» и «Карт-Бланш». — Нора Джин Эймс, — тупо произнесла Нора, пытаясь уловить скорость, с которой создавались ее новые жизнь и личность. Поскольку не удалось обнаружить сведений о ребенке, носившем имя Тревис и умершем в год рождения Корнелла, ему пришлось удовольствоваться именем Сэмюеля Спенсера Хайатта, родившегося в январе и скончавшегося в марте того года в Портленде, штат Орегон. Свидетельство о смерти будет изъято из муниципальных архивов, и таким образом новая личность Тревиса сможет выдержать довольно тщательную проверку. Забавы ради (так по крайней мере сказали бородачи) они выстроили армейское прошлое для новой личности Тревиса, записав ему шесть лет в морской пехоте, а также наградив его орденом Пурпурного сердца и двумя поощрениями за храбрость, проявленную во время миротворческой миссии на Ближнем Востоке. К их восторгу, он спросил, не могут ли они также сделать настоящую лицензию агента по торговле недвижимостью на его новое имя. Потратив тридцать пять минут, они влезли в нужный банк данных и исполнили все, что он просил. — Проще пареной репы, — сказал один из молодых людей. — Проще пареной репы, — эхом отозвался второй. Блондинка с фиалковыми глазами вернулась в комнату, неся водительские удостоверения с наклеенными на них фотографиями Норы и Тревиса. — Вы оба вполне фотогеничны, — сказала она. Через два часа двадцать минут после встречи с Ван Дайном Нора и Тревис вышли из бара «Хот Типс» с двумя длинными конвертами в руках, где находились комплекты документов, удостоверяющих их новые личности. Оказавшись на улице, Нора почувствовала легкое головокружение и, когда они шли к своей машине, держала Тревиса за руку. Пока они были в баре, на город накатил туман. Мигающие огни и всплески неонового света на заведениях Тендерлойна смягчила мутная пелена — казалось, что каждый кубический сантиметр ночного воздуха наполнен странным светом, напоминающим северное сияние. В наступившей темноте эти неряшливые улицы манили к себе, но это могло подействовать только на того, кто не видел их при дневном свете. Эйнштейн терпеливо ждал их возвращения. — Мы так и не смогли переделать тебя в пуделя, — сказала Нора, защелкивая ремень безопасности. — Но о себе мы позаботились. Разреши представиться: Сэм Хайатт и Нора Эймс. Ретривер положил морду на спинку переднего сиденья, посмотрел на нее, затем на Тревиса и фыркнул, давая понять, что разыграть его не удастся: он прекрасно знает, кто они на самом деле. Обращаясь к Тревису, Нора сказала: — Это в группе «Дельта» ты… узнал, что существуют такие места, как «Хот Типс», и люди типа Ван Дайна? Когда террористы проникают в страну, они таким же способом добывают себе документы? — Да, некоторые идут к Ван Дайнам, но обычно это происходит не так. Большинство террористов получают документы от Советов. Ван Дайн обслуживает в основном незаконных иммигрантов, не бедных, конечно, а также преступников, скрывающихся от ареста. Пока он заводил мотор, Нора сказала: — Но если ты смог найти Ван Дайна, то, наверное, люди, которые нас ищут, тоже выйдут на него. — Наверное. Это займет у них много времени, но, вероятно, они смогут его разыскать в конце концов. — Тогда они все узнают о наших новых личностях. — Не узнают, — сказал Тревис, включая обогреватель стекол и «дворники». — Ван Дайн не держит архивов. Он не хочет, чтобы против него были доказательства. Если даже его найдут и устроят обыск в заведении, на компьютерах ничего не окажется, кроме бухгалтерских счетов бара. Пока они ехали через город в направлении моста «Золотые Ворота», Нора зачарованно смотрела на пешеходов и автомобилистов, даже когда они покинули Тендерлойн. «Интересно, — спрашивала она себя, — сколько людей живет под настоящими именами и сколько является оборотнями, такими, как я с Тревисом?» — Меньше чем за три часа нас переделали в совершенно других людей, — сказала Нора вслух. — В таком мире мы живем. Что означает «высокая» технология в первую очередь — так это максимальную гибкость. Весь мир становится все более и более гибким. Почти все финансовые сделки теперь осуществляются с помощью электроники — деньги переводятся из Нью-Йорка в Лос-Анджелес — или вокруг света — за считанные секунды. Деньги мгновенно пересекают границы — их уже не надо перевозить, пряча от таможни. Большинство записей делаются в форме электрических сигналов, расшифровать которые может только компьютер. Все очень гибкое, легко меняющееся. Личности. Прошлое. Нора сказала: — Теперь даже генетическая структура видов живых существ не есть что-то незыблемое. Эйнштейн тявкнул, как бы соглашаясь с этим утверждением. — Страшно, правда? — спросила Нора. — Страшновато, — ответил Тревис. Их машина приближалась к сияющему сквозь туман огнями южному концу моста «Золотые Ворота». Сам мост был почти не виден. — Но все-таки такая гибкость в основе своей — хорошая вещь. В социальной и финансовой сферах она гарантирует свободу. Я думаю и надеюсь, что со временем роль правительств неизбежно потеряет свою значимость, уже нельзя будет управлять людьми и контролировать их так же тщательно, как в прошлом. Тоталитарные режимы тогда не смогут больше удерживать власть. — Это почему же? — Ну сама посуди, как может диктатура контролировать общество, в котором существует максимальная гибкость, основанная на высоких технологиях? Единственный путь — это запретить все технические достижения, закрыть границы и сделать шаг назад — в прошлое. Но это было бы самоубийством для любой нации. Она бы не смогла выдержать мирового соревнования. Через несколько лет такая страна превратилась бы в государство современных аборигенов. Сейчас, например, Советы стараются не выпустить компьютеры за рамки оборонной промышленности. Но ведь долго это не может продолжаться. Им все равно придется компьютеризовать экономику и научить своих граждан пользоваться компьютерами — а как в таком случае они смогут держать гайки затянутыми, — ведь русские получат средство, с помощью которого можно манипулировать системой и избегать контроля над собой с ее стороны. Южный въезд на мост оказался бесплатным. Они двинулись по мосту, на котором из-за погоды им пришлось резко снизить скорость. Глядя вверх на призрачный скелет «Золотых Ворот», который блестел от влаги и прятался в тумане, Нора сказала: — Ты думаешь, что лет через десять-двадцать на Земле наступит рай? — Рай не наступит, — ответил Тревис. — Жизнь будет легче, безопаснее, счастливее. Но рая не будет. Все равно останутся проблемы человеческого сердца и больного разума. Новый мир принесет не только новые радости, но и новые беды. — Такие, как случились с твоим домовладельцем. — Да. С заднего сиденья послышалось рычание Эйнштейна.
* * *
В тот же четверг, днем двадцать шестого августа, Винсент Наско подъехал к дому Джонни Струны Сантини в Сан-Клементе, чтобы забрать отчет за прошедшую неделю, из которого он узнал о гибели Теда Хокни в Санта-Барбаре накануне вечером. Состояние трупа, в особенности вырванные глаза, указывало на почерк Аутсайдера. Джонни также уверял: УНБ по-тихому взяло дело под свой контроль, а это наводило на мысль о беглецах из Банодайна. Вечером Винс купил газету и за ужином в мексиканском ресторане прочитал заметку о Теде Хокни и о человеке по имени Тревис Корнелл, снимавшем у него дом. Сообщалось, что Корнелл, в прошлом торговец недвижимостью и бывший боец группы «Дельта», держал у себя в доме пантеру, которая и напала на Хокни. Винс, однако, знал, что история с пантерой — чушь, придуманная для отвода глаз. По заявлению полиции они хотели бы переговорить с Корнеллом и его неизвестной подругой, несмотря на то, что обвинений против него выдвинуто не было. В заметке упоминалось о собаке: «Корнелл и его подруга уехали из дома, взяв с собой золотистого ретривера». «Если я найду Корнелла, — подумал Винс, — я найду собаку». Это был первый прорыв в этом деле, который лишний раз убедил Винса в том, что ему суждено владеть этим псом. Чтобы отпраздновать событие, он заказал еще морских закусок и еще пива.* * *
В четверг вечером Нора, Тревис и Эйнштейн остановились в мотеле в графстве Марин, к северу от Сан-Франциско. Они купили шесть бутылок пива «Сан-Мигель» в универсальном магазине, а также заехали в ресторан и взяли навынос цыплят, бисквитов и шинкованной капусты. Ужинали они поздно в своей комнате. Эйнштейну понравился цыпленок, и к тому же он проявил заметный интерес к пиву. Тревис решил налить полбутылки пива в новую желтую пластмассовую миску, которую они купили для ретривера утром. — Не больше, чем полбутылки, даже если тебе очень понравится, — предупредил он. — Ты мне нужен трезвый для вопросов и ответов. После ужина они уселись втроем на огромной кровати, и Тревис распаковал игру «Скрэббл». Он положил доску игровой поверхностью вниз, а Нора помогла ему разложить карточки с буквами на двадцать шесть стопок. Эйнштейн, на которого, казалось, совершенно не подействовало выпитое пиво, с интересом наблюдал за ними. — О'кей, — сказал Тревис. — Мне необходимы более подробные ответы, чем просто «да» и «нет». Я подумал, что вот это нам поможет. — Гениально, — ответила Нора. Обращаясь к псу, Тревис сказал: — Я задам тебе вопрос, а ты будешь выбирать карточки с буквами, необходимыми тебе для ответа, букву за буквой, слово за словом. Понял? Эйнштейн моргнул, посмотрел на сложенные в стопки карточки, затем на Тревиса и «ухмыльнулся». Тревис спросил: — Ну вот и хорошо. Ты знаешь название лаборатории, из которой ты сбежал? Эйнштейн ткнул носом в карточки с буквой Б. Нора сняла карточку и положила ее на пустую часть доски. Меньше чем за минуту на доске появилось слово «БАНОДАЙН». — Банодайн, — задумчиво произнес Тревис. — Никогда не слыхал такого названия. Это полное название? Пес заколебался, а затем стал указывать на разные буквы, в результате чего на доске возникло: «ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС БАНОДАЙН». Тревис записал ответ в гостиничном блокноте, а затем разложил карточки обратно в стопки. — Где находится Банодайн? «ИРВИН». — Похоже на правду, — сказал Тревис. — Я нашел тебя в лесу к северу от Ирвина. Ладно… Мы встретились во вторник, восемнадцатого мая. Когда ты убежал из Банодайна? Собака уставилась на карточки, заскулила, но ничего не выбрала. — Ты уже достаточно много прочитал, чтобы разбираться в месяцах, неделях, сутках и часах, — сказал Тревис. — У тебя теперь есть чувство времени. Бросив взгляд на Нору, пес опять заскулил. Она сказала: — У него есть чувство времени, но, когда он убежал, у него его не было, поэтому Эйнштейн и не может вспомнить, как долго находился в пути. Пес сразу же начал выбирать буквы: «ПРАВИЛЬНО». — Ты знаешь имена кого-нибудь из ученых в Банодайне? «ДЭВИС ВЭТЕРБИ». Тревис записал имя в блокнот. — Еще кого-нибудь? Задумываясь над правописанием, Эйнштейн наконец сложил: «ЛОУТОН ХЕЙНС, ЭЛ ХАДСТОН» и еще несколько имен. Записав все эти имена в блокнот, Тревис сказал: — Это люди, которые, наверное, разыскивают тебя? «ДА. И ДЖОНСОН». — Джонсон? — переспросила Нора. — Он тоже ученый? «НЕТ». — Ретривер подумал с минуту, изучая стопки карточек, и затем вывел: «БЕЗОПАСНОСТЬ». — Он начальник охраны в Банодайне? — спросил Тревис. «НЕТ. БОЛЬШЕ». — Наверное, какой-нибудь федеральный агент, — сказал Тревис, обращаясь к Норе, которая принялась укладывать буквы обратно в стопки. Глядя на карточки, пес что-то проскулил, и Тревис хотел было сказать ему, что если он не помнит имя Джонсона, то и не надо. Но тут собака стала складывать: «ЛЕМУЛЬ». — Такого имени нет, — сказала Нора, подбирая карточки. Эйнштейн попробовал еще раз: «ЛАМУИЛ». Потом еще: «ЛИМУУЛ». — Это тоже не имя, — сказал Тревис. Пес сделал еще одну попытку: «ЛЕМЮУИЛ». Тревис догадался, что ретривер пытается изобразить фонетическое произношение имени, и сам разложил семь карточек: «ЛЕМЮЭЛЬ». — Лемюэль Джонсон, — прочитала Нора. Эйнштейн подскочил и ткнулся носом ей в шею. Он весь завертелся от удовольствия, что его поняли, и кровать заскрипела от его прыжков. Затем пес вернулся к карточкам и выложил: «ТЕМНЫЙ ЛЕМЮЭЛЬ». — Темный? — переспросил Тревис. — Ты имеешь в виду «злой»? «НЕТ. ТЕМНЫЙ». — Опасный, что ли? — спросила Нора. Собака фыркнула на нее, потом на Тревиса, стараясь подчеркнуть их тупость. «НЕТ. ТЕМНЫЙ». С минуту они сидели молча, напряженно думая. Наконец Тревис сказал: — Черный! Ты хочешь сказать, что Лемюэль Джонсон — чернокожий. Эйнштейн негромко тявкнул, покачал вверх-вниз головой и завилял хвостом. Затем с их помощью он набрал невиданно длинную фразу: «ВЫ НЕ СОВСЕМ ЕЩЕ БЕЗНАДЕЖНЫЕ». Нора засмеялась. — Остряк, — сказал Тревис. Его переполняло чувство радости, которое он не смог бы описать словами. До сегодняшнего дня они не общались с ретривером на протяжении нескольких недель, но игра с алфавитом предоставила им новые громадные возможности для взаимопонимания. Еще в большей степени, чем раньше, Эйнштейн становился для них чем-то вроде ребенка. К этому добавлялось еще и пьянящее чувство прорыва через границы обыденного человеческого опыта, ощущение перехода в другое измерение. Конечно, Эйнштейн — уникальный пес, его интеллект сродни человеческому, но сам-то он все-таки — животное, и поэтому его умственные способности хотя и близки к человеческим, но все же качественно другие, а это привносит в общение с ним оттенок тайны и создает впечатление невероятности происходящего. Глядя на фразу «ВЫ НЕ СОВСЕМ ЕЩЕ БЕЗНАДЕЖНЫЕ», Тревис подумал, что она может быть понята как послание, адресованное всему человечеству. В последующие полчаса они продолжали расспрашивать Эйнштейна, и Тревис записывал все его ответы. Вскоре они заговорили о желтоглазом монстре, убившем Теда Хокни. — Что это за мерзкая тварь? — спросила Нора. «АУТСАЙДЕР». Тревис переспросил: — Аутсайдер? Что ты имеешь в виду? «ТАК ЕГО НАЗВАЛИ». — Люди в лаборатории? — спросил Тревис. — Почему они назвали его Аутсайдером? «ПОТОМУ ЧТО ОН ЧУЖОЙ». Нора сказала: — Я не понимаю. «ДВА УСПЕХА. ОН И Я. Я — СОБАКА. ОН — ТО, ЧЕМУ НЕТ НАЗВАНИЯ. АУТСАЙДЕР». Тревис спросил: — Он тоже умный? «ДА». — Такой же, как ты? «МОЖЕТ БЫТЬ». — Господи, — произнес Тревис, потрясенный. Эйнштейн издал жалобный звук и положил голову Норе на колено, прося, чтобы его приласкали. Тревис спросил: — Зачем понадобилось создавать такое существо? Пес вернулся к карточкам. «УБИВАТЬ ДЛЯ НИХ». По спине Тревиса пробежал холодок. — Кого же он должен убивать? «ВРАГОВ». — Каких врагов? — спросила Нора. «НА ВОЙНЕ». От отвращения Тревиса чуть не стошнило. Он оперся о спинку кровати. Помнится, он говорил Норе, что мир, в котором не будет нуждающихся, мир всеобщей свободы, еще не есть рай, поскольку существуют проблемы человеческого сердца и больного разума. Обращаясь к собаке, он сказал: — Значит, по-твоему, выходит, что Аутсайдер — прототип генетически сконструированного солдата. Что-то вроде… очень умной полицейской собаки, предназначенной для боевых действий? «ОН СДЕЛАН ДЛЯ УБИЙСТВА. ОН ХОЧЕТ УБИВАТЬ». Прочитав это, Нора пришла в ужас. — Но это сумасшествие. Как можно управлять таким чудовищем? Оно же может повернуться против своих хозяев. Тревис сел прямо. — Почему Аутсайдер ищет тебя? «НЕНАВИДИТ МЕНЯ». — Почему? «НЕ ЗНАЮ». Пока Нора собирала карточки, Тревис спросил: — Он и дальше будет искать тебя? «ДА. ВСЕГДА». — Но как такое существо может передвигаться не замеченным? «НОЧЬЮ». — Тем не менее… «ТАК ДВИГАЮТСЯ КРЫСЫ». Нора спросила с озадаченным видом: — Но как Аутсайдер выслеживает тебя? «ЧУВСТВУЕТ МЕНЯ». — Чувствует тебя? Как это? Ретривер долго соображал, несколько раз принимался отвечать и наконец разложил: «НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ». — А ты его чувствуешь? — спросил Тревис. «ИНОГДА». — А сейчас? «ДА. ОН ДАЛЕКО». — Очень далеко, — согласился Тревис. — За сотни миль отсюда. И он может отыскать тебя на таком расстоянии? «ДАЖЕ ДАЛЬШЕ». — А сейчас Аутсайдер тебя выслеживает? «ПРИБЛИЖАЕТСЯ». Тревиса пробила холодная дрожь. — Когда он разыщет тебя? «НЕ ЗНАЮ». Пес выглядел испуганным и дрожал. — Скоро? Он скоро придет сюда? «МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ОЧЕНЬ». Тревис увидел, как побледнела Нора. Он положил ладонь ей на колено и сказал: — Мы не станем убегать от него, черт нас дери. Мы найдем дом, поселимся в нем и будем ждать. Мы подготовимся к приходу Аутсайдера и сами разделаемся с ним. Все еще дрожа, Эйнштейн стал тыкаться носом в карточки, и Тревис помог ему вывести: «Я ДОЛЖЕН УЙТИ». — Что ты имеешь в виду? «Я ПОДВЕРГАЮ ВАС ОПАСНОСТИ». Нора обняла ретривера за шею и прижала к себе. — Выбрось это из головы. Ты часть нас самих. Мы семья, черт возьми, и мы будем держаться вместе, как положено семье. — Она взяла в ладони песью морду и, приставив свой нос к его носу, внимательно посмотрела ему в глаза. — Если однажды я проснусь утром и увижу, что тебя нет, у меня разорвется сердце. — В глазах у нее стояли слезы, и голос дрогнул: — Понимаешь, мохнатая морда? Я не выдержу, если ты уйдешь. Ретривер отстранился от нее и начал выбирать карточки: «Я УМРУ». — Ты умрешь, если уйдешь от нас? — спросил Тревис. Пес сложил еще несколько карточек и стал ждать, когда смысл его следующей фразы дойдет до них: «Я УМРУ ОТ ОДИНОЧЕСТВА».Часть II. ХРАНИТЕЛЬ
Глава 8
В четверг, когда Нора уехала на машине к доктору Вейнгольду, Тревис и Эйнштейн отправились бродить по холмам и лесам позади дома, который они купили в красивом прибрежном районе Калифорнии под названием Биг Сюр. На лишенных деревьев холмах осеннее солнце нагрело камни, а редкие облака легкой тенью скользили по земле. Бриз, поднявшийся с Тихого океана, с шуршанием шевелил сухие золотистые травы. Воздух был прохладен. Тревис чувствовал себя уютно в джинсах и рубашке с длинными рукавами. В руках у него было короткоствольное самозарядное ружье двенадцатого калибра с пистолетной рукояткой. Он всегда брал его с собой на такие прогулки. Если бы кто-нибудь поинтересовался, зачем оно ему, он сказал бы, что вышел поохотиться на гремучих змей. Там, где деревья росли густо, яркое утро меркло и воздух был холоднее. В такие моменты Тревис радовался, что догадался надеть байковую рубашку. Массивные сосны, небольшие рощицы секвой и лиственных деревьев, обычно встречающихся в предгорьях, плохо пропускали солнечные лучи, поэтому здесь царил вечный полумрак. Местами попадались заросли кустарника: непроходимые чащи вечнозеленых дубков, которые иногда называют чаппаралем, да множество папоротников в цвету благодаря частым туманам и влажному прибрежному воздуху. Эйнштейн то и дело принюхивался к следам кугуаров и настаивал на том, чтобы Тревис посмотрел на отпечатки лап этих лесных кошек, оставленных в сырой почве. К счастью, пес хорошо понимал всю опасность преследования этих животных и подавлял в себе естественное желание пойти по их следу. Ретривер удовлетворялся тем, что наблюдал за местной фауной. Часто в пути им попадались пугливые олени, пробегавшие по своим тропам. В местах, где они бродили, водилось много енотов, за которыми было интересно наблюдать. Хотя некоторые из них вели себя вполне дружелюбно, Эйнштейн знал: лучше их не трогать, и держался от них на почтительном расстоянии. Однажды на подобной прогулке Эйнштейн очень удивился тому, в какой ужас приходят белки, когда он к ним приближается: застывают на месте и таращат со страху глаза. Видно даже, как колотятся их маленькие сердечки. «ПОЧЕМУ БЕЛКИ БОЯТСЯ?» — спросил он у Тревиса однажды вечером. — Инстинкт, — объяснил тот. — Ты собака, а они инстинктивно чувствуют, что ты можешь напасть на них. «ТОЛЬКО НЕ Я». — Конечно, не ты, — сказал Тревис, потрепав его по загривку. — Ты не сделаешь им ничего плохого. Но ведь белки об этом не знают. Для них ты — собака, ты пахнешь собакой, поэтому они тебя и боятся. «МНЕ НРАВЯТСЯ БЕЛКИ». — Я знаю. К сожалению, они слишком глупы, что бы это понять. Впоследствии Эйнштейн старался не приближаться к ним, чтобы не пугать их. Иногда, проходя мимо, он отворачивал морду в сторону, делая вид, что не замечает их. Сегодня же был особенный день. Белки, олени, птицы, еноты и другие представители лесной фауны мало занимали их. Даже открывающиеся время от времени виды Тихого океана не привлекали их внимания. Они бродили здесь только для того, чтобы скоротать время и не думать о Норе. Тревис постоянно посматривал на часы и специально выбрал круговой маршрут, который должен был привести их обратно домой к часу дня — когда предположительно вернется Нора. Сегодня было двадцать первое октября — прошло уже восемь недель после того, как они сменили свои личности в Сан-Франциско. Хорошенько поразмыслив, они решили двинуться на юг, навстречу Аутсайдеру. Все равно — по их мнению — он найдет их, чтобы разделаться с Эйнштейном, поэтому лучше не оттягивать время конфронтации. С другой стороны, им не хотелось рисковать, забираясь слишком далеко на юг, к Санта-Барбаре, поскольку Аутсайдер мог добраться до них быстрее, чем дошел летом из графства Ориндж до Санта-Барбары. Нельзя полагаться на то, что он будет преодолевать не более трех-четырех миль в день. Если Аутсайдер будет двигаться быстрее, то разыщет их прежде, чем они сумеют подготовиться к встрече. Район Биг Сюр показался им идеальным местом, так как был малонаселенным и находился в ста девяноста милях от Санта-Барбары. Если Аутсайдер будет идти за Эйнштейном так же медленно, как и раньше, то это займет у него почти пять месяцев. Если же ему удастся удвоить скорость передвижения по открытым пространствам и холмам, то все равно он доберется до них не раньше второй недели ноября. День этот неумолимо приближался, но Тревис уже сделал все необходимые приготовления и теперь почти с нетерпением ожидал появления Аутсайдера. В то же время Эйнштейн пока не ощущал близкой опасности. Таким образом, у них было в запасе достаточно времени, чтобы испытать свое терпение. К четверти первого Тревис с ретривером дошли до конца маршрута, пролегавшего через холмы и каньоны, и вернулись во двор своего нового дома. Это было двухэтажное строение со стенами из мореного дерева, крышей из кедрового теса и двумя массивными печными трубами с северной и южной сторон. На запад и восток выходили два крыльца, с которых открывался прекрасный вид на лесистые склоны. Поскольку снег здесь никогда не выпадал, крыша была не очень крутой — по ней можно было даже ходить. Именно на крыше Тревис устроил первое оборонительное сооружение. Сейчас, выйдя на опушку леса, он поднял глаза и увидел трапы из деревянных брусков, установленные им на крыше. По этим трапам будет легко и безопасно передвигаться по наклонным плоскостям. Если Аутсайдер подкрадется к дому ночью, он не сможет попасть внутрь через окна первого этажа, потому что на ночь они запираются внутренними ставнями. Тревис сам установил их, и они могут противостоять любому непрошеному гостю, кроме, пожалуй, какого-нибудь сумасшедшего громилы, вооруженного топором. Обнаружив препятствие, Аутсайдер скорее всего залезет по столбам на крышу переднего или заднего крыльца, чтобы проникнуть в дом через окна второго этажа, которые укреплены так же, как и нижние. В это время, получив предупреждение от инфракрасной системы сигнализации, установленной Тревисом три недели назад, он вылезет на крышу через чердачный люк. Наверху, воспользовавшись трапами, Тревис сможет подобраться к краю, откуда ему откроется вид на крышу крыльца и на двор. С этой точки, недосягаемой для Аутсайдера, он и откроет по нему огонь. В двадцати ярдах к востоку от дома находился ржавого цвета амбар, дальняя стена которого почти упиралась в опушку леса. В состав усадьбы не входили культивируемые угодья, и предыдущий владелец, очевидно, использовал амбар в качестве конюшни и курятника. Тревису и Норе он служил гаражом, поскольку проселочная дорога, соединявшая их участок с шоссе, заворачивала мимо дома как раз к амбарным дверям. Тревис предполагал, что, когда Аутсайдер прибудет на место, он произведет внешний осмотр дома сначала из-за деревьев, а затем прячась за амбаром. Возможно, попытается устроить там засаду, поджидая, когда они придут за пикапом «Додж» или за «Тойотой». Поэтому Тревис приготовил в амбаре несколько сюрпризов для Аутсайдера. Ближайшие соседи, которых Нора и Тревис видели только однажды, жили в четверти мили к северу от их усадьбы, отделенные деревьями и зарослямичаппараля. Шоссе проходило довольно близко, но по ночам там почти не было движения, а Аутсайдер скорее всего появится именно ночью. Если в схватке с ним придется много стрелять, эхо от выстрелов прокатится по холмам и многократно отразится в лесу — соседям или проезжающим по шоссе автомобилистам будет трудно понять, откуда именно прозвучали выстрелы. Поэтому Аутсайдера надо успеть убить и закопать прежде, чем появятся первые любопытные. Сейчас же, больше думая о Норе, чем об Аутсайдере, Тревис поднялся на заднее крыльцо, открыл двойной замок и, сопровождаемый Эйнштейном, вошел в дом. Там была кухня, которая могла служить одновременно и столовой, несмотря на ее размеры, там было довольно уютно: отделанные дубом стены, пол, выложенный мексиканской плиткой, стойки из бежевого кафеля, дубовые шкафчики, текстурно оштукатуренный потолок и прекрасное оборудование. Вокруг стола, сделанного из большой деревянной плахи, стояли мягкие, удобные стулья, а каменный очаг превращал это помещение в главную комнату дома. Там было еще пять комнат: огромная гостиная и холл на первом этаже и три спальни на втором. Кроме того, на каждом этаже размещалась ванная. Одной спальней они пользовались вместе, вторая служила Норе студией, где она немного занималась живописью, а третья пустовала до поры до времени. Тревис включил свет на кухне. Хотя дом стоял особняком, но до шоссе было всего около двухсот ярдов, и к строению сделали ответвление от линии электропередачи. — Я буду пиво, — сказал Тревис. — Тебе дать что-нибудь? Эйнштейн подошел к пустой миске для воды, стоявшей в углу рядом с миской для еды, и стал толкать ее перед собой к раковине. Тревис и Нора не рассчитывали на приобретение такого дома вскоре после отъезда из Санта-Барбары, так как, позвонив Гаррисону Дилворту, узнали, что банковские счета Тревиса заморожены. Им еще повезло! Они смогли провести через банк чек на двадцать тысяч долларов. Адвокат перевел часть средств Тревиса и Норы в восемь кассирных чеков, как и планировалось, и выслал их Тревису на имя Сэмюеля Спенсера Хайатта в мотель, где Нора и Тревис прожили около недели. Двумя днями позже, однако, они получили пакет с кассирными чеками и запиской, в которой Гаррисон сообщал, что ему удалось продать Норин дом за неплохую шестизначную сумму. Разговаривая с ним по телефону, Нора сказала. — Даже если вы на самом деле продали дом, вряд ли вам удалось закончить оформление и получить деньги так быстро. — Верно, — сказал адвокат. — Оформление будет длиться еще месяц. Но вам нужны деньги сейчас, поэтому я авансирую вас. Они положили деньги на два банковских счета в Кармеле — городке, находившемся в тридцати с лишним милях от их теперешнего местонахождения. После того как Тревис и Нора купили себе новый пикап, они отогнали «Мерседес» Гаррисона в аэропорт Сан-Франциско и оставили его там на стоянке. Затем, поехав в южном направлении мимо Кармела вдоль побережья, начали присматривать подходящий дом в районе Биг Сюр. Когда они нашли вот этот дом, то заплатили за него наличными. В их положении гораздо разумнее было приобрести дом, чем арендовать, и при покупке заплатить наличными, а не оформлять рассрочку, поскольку это давало им возможность избежать лишних вопросов. Тревис не сомневался, что их новые документы не подведут, но не хотел испытывать судьбу раньше времени. Кроме того, став домовладельцами, они превращались в респектабельных граждан, сводя к минимуму возможность подозрения насчет их личностей. Пока Тревис доставал бутылку пива из холодильника, открывал пробку и делал большой глоток прямо из горлышка, Эйнштейн проследовал в кладовку, дверь в которую была постоянно приоткрыта, и, нажав лапой на педаль, установленную специально для него Тревисом, включил свет. Помимо полок с запасами консервов, там находилось сложное устройство, сконструированное Тревисом и Норой для облегчения общения с собакой. Устройство располагалось у задней стены: двадцать восемь прозрачных трубок восемнадцати дюймов в высоту. К каждой трубке была внизу приделана педаль. В двадцати шести трубках разместились алфавитные карточки из игры «Скрэббл», по нескольку штук на каждую букву для того, чтобы Эйнштейн мог составлять длинные фразы. Спереди на каждой трубке была приклеена буква, соответствующая тем, что находились внутри: А, Б, В, Г и так далее. В двух оставшихся трубках хранились карточки, на которых Тревис изобразил запятые и вопросительные знаки. (Они решили, что без точек можно обойтись.) Эйнштейн научился сбрасывать карточки, нажимая на педали, а затем носом выстраивать буквы в ровную линию на полу. Тревис и Нора решили поставить аппарат в кладовке, подальше от посторонних глаз, чтобы им не пришлось ничего объяснять, если вдруг к ним случайно кто-нибудь зайдет. Пока Эйнштейн нажимал на педали и стучал карточками, Тревис вынес бутылку с пивом и собачью миску для питья на переднее крыльцо. Там они будут ждать Нору. Вернувшись в дом, он обнаружил, что Эйнштейн уже выложил фразу: «МОЖНО МНЕ ГАМБУРГЕР ИЛИ ТРИ СОСИСКИ?» Тревис сказал: — Я буду обедать вместе с Норой, когда она придет. Может, подождешь и поешь вместе с нами? Ретривер облизнулся и с минуту пребывал в раздумье. Затем он осмотрел выстроенную им из карточек фразу, отодвинул несколько штук в сторону и нажатием педали сбросил несколько новых. «О'КЕЙ. НО Я ГОЛОДНЫЙ». — Ничего, не умрешь, — сказал Тревис. Он собрал с пола карточки и разложил их по трубкам. Затем Тревис взял ружье, прислоненное к косяку задней двери, и, выйдя на переднее крыльцо, положил его рядом с креслом-качалкой. Эйнштейн выключил свет в кладовке и присоединился к Тревису. Они застыли в напряженном ожидании: Тревис в кресле, пес на полу. Теплый октябрьский воздух звенел от пения птиц. Тревис потягивал пиво, а собака время от времени лакала воду из своей миски. Потом они молча смотрели на проселочную дорогу, скрывавшуюся в гуще деревьев, за которыми находилось шоссе. В перчаточном отделении своей «Тойоты» Нора держала пистолет тридцать восьмого калибра, заряженный пулями с мягкими наконечниками. За несколько недель, проведенных здесь, она научилась водить машину и — с помощью Тревиса — стрелять из пистолета, а также из автоматического пистолета «узи» и из ружья. Правда, поездка в Кармел не была связана с особыми опасностями. Даже если в этих местах уже бродит Аутсайдер, ему нужна не Нора, а собака. Поэтому ей вряд ли что-нибудь грозит. Но почему ее так долго нет? Тревис пожалел, что отпустил ее одну. Но после почти тридцати лет зависимости и страха самостоятельные поездки в Кармел были для нее средством, с помощью которого Нора утверждала и испытывала свою вновь обретенную силу, независимость и уверенность в себе. Она бы не захотела ехать вместе с ним. К половине второго, когда Нора опаздывала уже на полчаса, у Тревиса появилось противное, тянущее чувство в животе, а Эйнштейн поднялся и начал ходить взад-вперед по крыльцу. Минут через пять ретривер первым услышал звук свернувшей с шоссе машины, сорвался с крыльца и выбежал на обочину проселочной дороги. Тревису не хотелось, чтобы Нора видела его взволнованным, она могла истолковать это как неверие в ее способность к самостоятельным действиям — а этой способностью она как раз обладала и гордилась. Поэтому Тревис остался сидеть в кресле, сжимая в руке бутылку «Короны». Когда из-за деревьев показалась голубая «Тойота», он вздохнул с облегчением. Проезжая мимо дома, Нора посигналила. На ней были голубые джинсы и рубашка в желто-белую клетку. Тревис, правда, считал, что даже в этом наряде она не затерялась бы на балу, танцуя рядом с разодетыми и усыпанными драгоценностями принцессами. Нора подошла к нему и поцеловала. Губы у нее были теплые. — Скучал по мне? — Без тебя зашло солнце, умолкли птицы и померкли все радости жизни, — сказал Тревис, пытаясь отшутиться, но голос его прозвучал серьезно. Эйнштейн терся о ее ноги, скулил и заглядывал в глаза, как бы спрашивая: Ну как? — Он прав, — сказал Тревис. — Так не годится. Ты держишь нас в неведении. — Все, как я думала. — Думала? — Ну да. Все подтвердилось, — улыбнулась Нора. — Вот это да! — сказал он. — Все в порядке. Я готовлюсь стать мамой. Тревис вскочил, обнял ее и поцеловал. — Доктор Вейнгольд не может ошибаться? — Нет, он хороший доктор, — сказала она. — Но он назвал срок? Когда? — Ребеночек появится на третьей неделе июня. Тут вмешался Эйнштейн, которому очень хотелось лизнуть ее и выразить свой восторг. — Мы это дело отпразднуем, — предложила Нора. — Я привезла холодненькую бутылочку игристого. На кухне, вынимая бутылку из бумажного пакета, Тревис увидел, что это был игристый яблочный сидр — безалкогольный. — Такое событие заслуживало бы самого лучшего шампанского, — заметил он. Доставая бокалы из буфета, Нора сказала: — Это, наверное, глупо… но я не хочу рисковать, Тревис. Я никогда не думала, что у меня будет ребенок, не могла даже мечтать об этом, и теперь у меня такое чувство, что, если я не буду соблюдать осторожность, делать все по правилам, он может погибнуть. Поэтому я не возьму в рот ни капли спиртного, пока малыш не родится. Я ограничу себя в парном мясе и буду есть очень много овощей. Я не курю, поэтому эта проблема сразу снимается. Я буду следить за своим весом, в точности как говорит мне доктор Вейнгольд, и у меня родится самый лучший ребенок на свете. — Ну конечно, — сказал Тревис, наполняя бокалы сидром и наливая немножко в миску Эйнштейну. — Все будет очень хорошо, — сказала Нора. — Абсолютно все, — подтвердил Тревис. Они выпили за ребеночка — и за Эйнштейна, который станет ему крестным отцом, дядей, дедушкой и мохнатым ангелом-хранителем в одном лице. Никто из них не вспомнил об Аутсайдере.Поздно вечером, когда они, прижавшись друг к другу, лежали в темной спальне, обессиленные от любви, прислушиваясь к тому, как их сердца стучат в унисон, Тревис осмелел и спросил: — Может быть, нам не стоило заводить ребенка ввиду предстоящих событий? — Тсс, — прошептала Нора. — Но… — Мы не планировали этого ребенка, — произнесла она. — Мы даже предохранялись. Но так уж получилось. То, что все наши предостережения не подействовали, — это знак судьбы. Тебе не кажется? Та, прежняя, Нора могла бы сказать: ребенка не должно быть. Но нынешняя говорит: ему суждено родиться. Это подарок судьбы, такой же, как Эйнштейн. — Но нам еще предстоит… — А это не имеет никакого значения, — перебила его Нора. — С этим мы справимся. Все будет хорошо. Мы к этому готовы. А когда с этим будет покончено, у нас будет ребенок, и мы вместе начнем новую жизнь. Я люблю тебя, Тревис. — И я люблю тебя, — сказал он. — Боже, как я тебя люблю. Тревис осознал, как сильно она изменилась с тех пор, как они встретились в Санта-Барбаре весной. Из женщины-мышки Нора превратилась в сильную, целеустремленную натуру, которая теперь уже пытается успокоить его самого. И у нее это получается. После разговора с ней Тревис почувствовал себя лучше. Он стал думать о ребенке и улыбнулся в темноте, уткнувшись лицом ей в шею. Несмотря на то, что судьба взяла у него трех заложников: Нору, будущего ребенка и Эйнштейна, — настроение у Тревиса было намного лучше, чем когда-либо раньше. Нора развеяла все его страхи.
* * *
Винсент Наско сидел в итальянском кресле, украшенном вычурной резьбой и покрытом блестящим лаком. После нескольких веков регулярной полировки он приобрел необычайную прозрачность. Справа от Винса находился диван, еще два кресла и низкий стол — очень элегантный ансамбль, за ним возвышались шкафы, заполненные книгами в кожаных переплетах, которые никто ни разу не читал. Винс знал это наверняка, потому что хозяин кабинета, Марио Тетранья, однажды указал на них с гордым видом и сказал: — Дорогие книги. И совершенно новенькие, потому что никто их не читал. Ни одну из них. Спереди находился огромный письменный стол, за ним Марио изучал отчеты о доходах от своих менеджеров, давал указания о новых мероприятиях и издавал приказы о ликвидации тех или иных людей. Сейчас он с закрытыми глазами сидел за столом, слишком грузный для своего кожаного кресла. У него был такой вид, будто он только что скончался от закупорки вен и ожирения сердца, — на самом же деле Тетранья обдумывал просьбу Винса. Марио Отвертка — уважаемый глава своей Семьи и наводящий страх дон, стоящий во главе целого клана Тетранья, контролирующего торговлю наркотиками, игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, порнографию и другие виды организованной преступности в Сан-Франциско, был низеньким — пять футов семь дюймов, толстеньким — триста фунтов — человечком с лицом, похожим на кусок жирной колбасы. С трудом верилось, что этот пухлый субъект своими руками выстроил целую преступную организацию. Конечно, и Тетранья был когда-то молодым, но и тогда Марио представлял собой коротышку, глядя на которого становилось ясно: он был и будет толстяком всю свою жизнь. Его пухлые, с короткими пальцами ручки напоминали Винсу руки ребенка, но именно этими руками вершились судьбы членов семейной империи. Когда Винс взглянул Марио Тетранье в глаза, он сразу понял: малый рост и слишком обрюзгший вид дона не имеют никакого значения. Глаза у него были, как у рептилии: холодные, колючие и спокойные. Если собеседник не проявлял должной осторожности или же вызывал у него неудовольствие, дон мог загипнотизировать его своим взглядом и проглотить точно так же, как змея заглатывает парализованную страхом мышь: целиком. Винсу очень нравился Тетранья. Он смотрел на него как на великого человека, и ему очень хотелось, чтобы дон знал: он тоже избранник судьбы. Однако Винс никому не рассказывал об этом, так как однажды в прошлом был поднят на смех человеком, которому, как ему показалось, можно было доверять. Дон Тетранья наконец открыл свои змеиные глаза и сказал: — Я хочу быть уверен, что правильно тебя понял. Ты ищешь человека. Это не по линии нашей Семьи. Это твое личное дело. — Да, сэр, — подтвердил Винс. — Ты считаешь, этот человек мог купить себе фальшивые документы и сейчас живет под другой фамилией. Он что, знает, как добыть себе такие документы, хотя и не является членом ни одной Семьи и не входит в fratellanza? — Да, сэр. У него такое прошлое, что… он может знать, как это делается. — И ты полагаешь, что ему удалось заполучить документы либо в Лос-Анджелесе, либо здесь, — сказал дон Тетранья, махнув своей мягкой розовой ручкой в сторону окна, за которым виднелись очертания Сан-Франциско. Винс сказал: — Двадцать четвертого августа он выехал на машине из Санта-Барбары, поскольку по каким-то причинам не мог улететь на самолете. Мне кажется, ему необходимо изменить личность как можно быстрее. Сначала я было подумал, что он переберется на юг и будет добывать себе документы в Лос-Анджелесе, так как это было ближе всего. Я почти два месяца потратил на то, чтобы связаться со всеми людьми в Лос-Анджелесе и даже в Сан-Диего, к которым он мог обратиться по поводу надежных документов. Мне дали там несколько наводок, но ни одна из них не подтвердилась. Значит, если из Санта-Барбары он поехал не на юг, то единственное место, где он мог найти документы… — Это наш прекрасный город, — подхватил дон Тетранья, опять махнув в сторону окна и улыбнувшись. Винсу показалось, что дон улыбается оттого, что ему действительно нравится этот город, но потом понял: это была улыбка алчного человека, предвкушающего поживу. — И ты хочешь, — продолжал Тетранья, — чтобы я дал тебе имена людей, которые имеют от меня разрешение на изготовление документов такого уровня, который нужен этому твоему объекту? — Если бы вы были настолько добры, чтобы предоставить мне такую информацию, я был бы вам очень обязан. — Эти люди ведь не держат архивов. — Да, сэр, но они могут что-нибудь вспомнить. — Воспоминания не являются частью их бизнеса. — Но человек запоминает многое против своего желания. — Это верно. И ты можешь поклясться, что человек, которого ты разыскиваешь, не принадлежит ни к одной Семье? — Клянусь. — Это дело никоим образом не должно обнаружить связь с моей Семьей. — Клянусь. Дон Тетранья опять закрыл глаза, но ненадолго. Когда он открыл их вновь, его лицо расплылось в широкой улыбке, но, как всегда, без тени веселья. Это был один из самых невеселых толстяков, которых когда-либо приходилось видеть Винсу. — Когда твой отец женился на шведской девушке вместо того, чтобы выбрать жену своей национальности, его семья пришла в отчаяние и приготовилась к худшему. Но твоя мать оказалась хорошей женщиной, спокойной и послушной. А потом родился ты — очень красивый сын. Но ты не только красив, Винсент, ты еще и настоящий боец. Ты отлично, чисто поработал на Семьи в Нью-Йорке и Нью-Джерси, в Чикаго и здесь, на побережье. Не так давно ты оказал мне большую услугу, раздавив этого таракана Пантанджелу. — И за это я был вами щедро вознагражден, дон Тетранья. Отвертка пренебрежительно махнул рукой: — Мы все получаем за свой труд. Сейчас разговор не о деньгах. Твоя преданность и отличная служба измеряются годами и стоят больше, чем деньги. Поэтому я должен тебе по крайней мере единожды. — Благодарю вас, дон Тетранья. — Ты получишь имена тех, кто изготавливает такие документы в этом городе, а я позабочусь о том, чтобы их предупредили о твоем визите. Тебе будет оказана всесторонняя поддержка. — Раз вы так говорите, так и будет, — сказал Винс, вставая и делая полупоклон. — Я знаю, что так и будет. Дон жестом приказал ему сесть. — Но прежде чем ты займешься этим своим частным вопросом, я бы хотел дать тебе одно поручение. В Окленде есть человек, который очень огорчает меня. Он думает, что я не трону его, потому что у него большие политические связи и хорошая охрана. Его зовут Рамон Веласкес. Это будет трудное задание, Винсент. Винс сделал над собой усилие, чтобы скрыть охватившие его отчаяние и раздражение. Именно сейчас ему совсем не хотелось браться за хлопотное дело. Винсу нужно было сконцентрировать все свои силы на поисках Тревиса Корнелла и собаки. Но он знал, что задание, которое давал ему Тетранья, было не просьбой, а условием. Для того чтобы получить имена людей, занимающихся подделкой документов, он должен будет сначала убрать Веласкеса. Винс сказал: — Почту за честь раздавить любое насекомое, укусившее вас. И на этот раз это ничего вам не будет стоить. — Нет, нет, я обязательно заплачу тебе, Винсент. Улыбаясь самым любезным образом, Винс сказал: — Прошу вас, дон Тетранья, разрешите мне оказать вам эту услугу. Это доставит мне истинное удовольствие. Тетранья притворился, что обдумывает просьбу, хотя несомненно рассчитывал на подобное предложение. Он похлопал себя обеими ладонями по огромному брюху: — Везучий я человек. Куда бы я ни повернулся, люди готовы оказывать мне услуги. — Дело не в везении, дон Тетранья, — проговорил Винс, которого уже тошнило от этого манерного разговора. — Вы пожинаете то, что сеете, и если вы пожинаете доброту, то это потому, что сами щедро посеяли ее семена. Просияв от удовольствия, Тетранья принял предложение Винса убрать Веласкеса бесплатно. Ноздри его поросячьего носа раздувались, как от запаха вкусной еды. Он сказал: — Скажи мне… мне просто интересно, что ты сделаешь с тем человеком, с которым у тебя вендетта, когда найдешь его? «Вышибу мозги и заберу собаку», — подумал Винс. Он знал, однако, что от него, наемного убийцы, всеобщего любимца, Отвертка хотел услышать что-нибудь менее прозаическое, поэтому Винс сказал: — Дон Тетранья, я отрежу ему яйца, уши и вырежу ему язык, а потом воткну ему лезвие в сердце и заставлю его замолчать навсегда. Глазки толстяка одобрительно заблестели, а ноздри раздулись.* * *
Наступил День Благодарения, но Аутсайдер не нашел дом из мореного дерева в районе Биг Сюр. Каждую ночь Тревис и Нора запирали изнутри ставни на окнах и двери. Поднявшись на второй этаж, они ложились спать, положив ружья рядом с кроватью, а револьверы на тумбочки. Иногда глубокой ночью они просыпались от странного шума во дворе или на крыше крыльца. Эйнштейн начинал ходить от окна к окну, усиленно принюхиваясь, но всем своим видом показывал, что бояться нечего. Выглянув наружу, Тревис обычно обнаруживал источник шума: енота или другого лесного обитателя. Праздник Благодарения превзошел ожидания Тревиса. Они с Норой приготовили традиционный обед на троих: зажаренную индейку с каштановым соусом, запеканку, морковное заливное, печеную кукурузу, салат из перца, рогалики и тыквенный пирог. Эйнштейн попробовал все блюда, поскольку, в отличие от обычных собак, у него были хорошо развиты вкусовые ощущения. И хотя салат из перца ему совсем не понравился, от индейки он пришел в восторг. Целый день потом пес занимался тем, что обгладывал косточки. Наблюдая за Эйнштейном на протяжении многих недель, Тревис заметил, что тот иногда ел некоторые травы во дворе, хотя время от времени и давился ими. В День Благодарения ретривер тоже вышел во двор пощипать травы, и, когда Тревис спросил его, нравится ли она ему на вкус, Эйнштейн ответил отрицательно. — Тогда зачем ты ешь ее? «МНЕ ЭТО НУЖНО». — Зачем? «Я НЕ ЗНАЮ». — Если ты не знаешь, зачем тебе это нужно, откуда тебе известно, что это тебе нужно вообще? Инстинкт? «ДА». — Просто инстинкт, и все? «НЕ ДАВИ НА МЕНЯ». В тот вечер они втроем сидели на подушках, разложенных на полу в гостиной перед большим каменным очагом, и слушали музыку. Пламя очага отражалось в блестящей толстой шкуре Эйнштейна. Обняв одной рукой Нору за плечи и свободной рукой поглаживая пса, Тревис думал о том, что ретривер не зря все-таки ест траву, поскольку выглядит здоровым и бодрым. Собака несколько раз чихнула и время от времени покашливала, но это скорее всего было нормальной реакцией на гастрономические излишества в праздничный день и на сухое тепло, исходившее от очага. Тревису и в голову не пришло беспокоиться о здоровье пса.* * *
Теплым днем в пятницу, двадцать шестого ноября, на следующий день после праздника Благодарения, Гаррисон Дилворт находился на борту своей любимицы, сорокадвухфутовой яхты «Красавица», пришвартованной на своей постоянной стоянке в бухте Санта-Барбары. Он полировал металлические поручни и рукоятки и настолько увлекся этим занятием, что не заметил приближения двух мужчин в строгих костюмах. Гаррисон поднял глаза, когда они были уже готовы представиться ему, и сразу понял, с кем имеет дело, еще до того как они показали ему свои служебные удостоверения. Одного из них звали Джонсон, второго Соамс. Изобразив на своем лице удивление и интерес, адвокат пригласил их пройти к нему. Ступая с пристани на борт судна, тот, который представился Джонсоном, сказал: — Нам бы хотелось задать вам несколько вопросов, мистер Дилворт. — На какую тему? — поинтересовался Гаррисон, вытирая руки белой тряпкой. Джонсон был среднего телосложения негром, немного костлявым, с изможденным лицом, но в то же время обладал внушительными манерами. Гаррисон спросил: — Так вы из Управления национальной безопасности? Я надеюсь, вы не думаете, что я наймит КГБ? Джонсон слегка улыбнулся: — Вы оказывали профессиональные услуги Норе Девон? Гаррисон вскинул брови. — Норе? Вы это серьезно? Могу вас заверить, что Нора не такой человек, чтобы оказаться замешанной в таких… — Вы ведь ее адвокат? — перебил его Джонсон. Гаррисон взглянул на веснушчатого молодого человека, представившегося «агентом Соамсом», и опять вскинул брови, как бы спрашивая, всегда ли Джонсон такой зануда. Соамс ответил ему ничего не выражающим взглядом, подыгрывая своему начальнику. «Да, — подумал Гаррисон, — с этими ребятами хлопот не оберешься». После обескураживающего и неудачного допроса Дилворта Лем услал Клиффа Соамса, дав ему несколько заданий: взять постановление суда о прослушивании домашних и служебных телефонов адвоката; найти три телефона-автомата поблизости от его дома и офиса и организовать их прослушивание; получить сведения от телефонной компании о всех междугородных звонках, производимых с домашнего или служебного телефона Дилворта; в течение трех часов с помощью подкрепления из Лос-Анджелесского отделения УНБ организовать круглосуточное наблюдение за Дилвортом. Пока Клифф выполнял эти поручения, Лем отправился побродить по причалу в надежде, что шум океана и созерцание катящихся волн прояснят ход его мыслей и помогут сосредоточиться. Видит Бог, ему сейчас было крайне важно сосредоточиться. С тех пор как собака и Аутсайдер убежали из Банодайна, прошло больше шести месяцев, и за это время Лем потерял почти пятнадцать фунтов весу. Уже несколько месяцев он плохо спал, утратил интерес к еде, и даже его сексуальная жизнь претерпела изменения к худшему. «Нельзя сделать больше, чем можешь, — говорил Лем себе. — От этого мозги может заклинить». Подобные увещевания, однако, не возымели действия. Голова у него была по-прежнему как ватная. Когда три месяца назад им удалось найти машину Корнелла на школьной автостоянке, на следующий день после убийства Хокни, Лем сразу определил: Корнелл и его подруга только что вернулись из поездки в Лас-Вегас, Тахо и Монтерей. Карточки ночных клубов Лас-Вегаса, гостиничные блокноты, спичечные книжечки и расписки с бензозаправочных станций, обнаруженные в трейлере и пикапе, подробно указывали на пройденный парочкой маршрут. Тогда Лем не знал имени приятельницы Корнелла и предполагал, что она просто его знакомая, не более того. Всего несколько дней назад, когда один из агентов Лема сказал, что едет жениться в Лас-Вегас, тот наконец сообразил: Корнелл со своей подругой могли отправиться туда с такой же целью. И вся их поездка была не чем иным, как свадебным путешествием. Лему понадобилось всего несколько часов, чтобы получить подтверждение о том, что одиннадцатого августа Корнелл женился на Норе Девон из Санта-Барбары в графстве Клерк, штат Невада. Начав поиски женщины, Лем выяснил: ее дом был продан за шесть недель до этого события, а она сама исчезла вместе с Корнеллом. Заинтересовавшись документами на продажу дома, Лем обнаружил, что интересы Норы Девон представлял ее адвокат Гаррисон Дилворт. Отдав приказ заморозить банковские счета Корнелла, Лем решил поставить беглецов в трудное положение, но вот теперь выясняется, что Дилворт помог снять двадцать тысяч со счета Корнелла, а все деньги, вырученные от продажи дома Норы Девон, были каким-то образом ей переведены. Более того, при помощи адвоката она закрыла свои банковские счета четыре недели назад и умудрилась получить с них деньги. Так что вся эта троица имела достаточно средств, чтобы несколько лет не выходить на поверхность. Стоя на причале, Лем смотрел на испещренное солнечными бликами море, ритмично бьющееся об опоры. Равномерное движение воды вызывало у него ощущение тошноты. Подняв глаза, он стал наблюдать за чертящими небо кричащими чайками. Но вместо успокоения их грациозный полет вызвал у него чувство беспокойства. Гаррисон Дилворт умен и хитер — прирожденный боец. Теперь, когда обнаружилась связь между ним и Корнеллами, адвокат пригрозил, что через суд заставит УНБ разморозить счета Тревиса. — Вы не представили против него никаких обвинений, — сказал Дилворт. — Какой же судья в таких обстоятельствах вынесет решение о замораживании счетов? Ваши манипуляции с законом, имеющие целью ущемить дееспособность честного гражданина, бессовестны. Лем мог бы выдвинуть против Тревиса и Норы обвинения в нарушении целого ряда законов, касающихся национальной безопасности, и лишил бы Дилворта возможности помогать беглецам. Но, поступив таким образом, он неизбежно привлек бы внимание средств массовой информации, и тогда убогая легенда о пантере, которую якобы держал у себя дома Тревис, — а возможно, и вся схема дезинформации, выстроенная УНБ по этому делу, — рухнула бы как карточный домик. Единственная надежда Лема была на то, что Дилворт попытается связаться с Корнеллами и сообщит им, что их контакт обнаружен. В этом случае, если повезет, Лем мог бы «вычислить» Корнеллов по номеру их телефона. Но он не думал, что все будет так просто. Дилворт не такой дурак. Обводя взором бухту Санта-Барбары, Лем старался успокоиться: ему надо быть рассудительным и бодрым, чтобы перехитрить старого адвоката. Сотни прогулочных яхт стояли у причалов со свернутыми или снятыми парусами и легко покачивались на приливной волне; другие, развернув паруса, шли в открытое море. На их палубах виднелись люди в купальных костюмах, загорающие или пьющие коктейли; чайки чертили голубой небосвод в белых заплатках облаков; на волнорезе люди удили рыбу. Вся эта сцена была весьма живописна, но одновременно вызывала чувство какого-то наигранного спокойствия, которого Лем Джонсон не разделял. Такое спокойствие слишком отвлекало от холодных, жестоких реальностей повседневной жизни; любой отдых, продолжающийся более нескольких часов, заставлял Лема нервничать и скучать по работе. Здесь же, на берегу, отдых измерялся днями и неделями; на этих дорогих и искусно сделанных яхтах люди месяцами плавали вдоль побережья — здесь царило такое безделье, от которого Лема бросало в пот и от которого ему хотелось кричать. Кроме всего прочего, его беспокоил и Аутсайдер. С тех пор как Тревис Корнелл стрелял по нему у себя в доме в конце августа, о нем не было ни слуху ни духу; прошло уже три месяца. Чем эта тварь занималась всё это время? Где пряталась? Преследовала ли по-прежнему собаку? А может, ее уже нет в живых? Вероятно, Аутсайдера укусила гремучая змея или он свалился со скалы и разбился? «Боже, — подумал Лем, — сделай так, чтобы Аутсайдер был уже мертв, дай мне хотя бы такую возможность перевести дух. Сделай так, чтобы он был мертв». Лем знал, однако, что Аутсайдер не мертв, потому что это был бы слишком простой выход. А в жизни простых выходов не бывает. Чертова тварь жива и идет за собакой. По всей видимости, Аутсайдер удерживает себя от убийства людей, встречающихся ему на пути, понимая: каждое такое убийство приближает к нему Лема и его сотрудников, а ему не хочется, чтобы его остановили, прежде чем он найдет и убьет собаку. Когда же зверюга разорвет пса и обоих Корнеллов на куски, тогда вновь начнет вымещать свою ярость на других людях, и каждая новая смерть будет тяжелым камнем ложиться на совесть Лема Джонсона. Между тем расследование убийств ученых из Банодайна ни к чему не привело. Вторая спецгруппа УНБ была распущена. Безусловно, что для совершения этих преступлений Советы наняли посторонних людей, которых невозможно было установить. В этот самый момент мимо Лема прошествовал загорелый молодой человек в белых шортах и мягких теннисных туфлях и произнес: — Прекрасный денек! — Черт бы его взял, — ответил Лем.* * *
На следующий после праздника Благодарения день Тревис вошел в кухню, чтобы налить себе стакан молока, и увидел там вовсю чихающего Эйнштейна, но не придал этому значения. Нора, которая в большей степени, чем Тревис, была восприимчива к переменам в поведении Эйнштейна, тоже ничего не заметила. В Калифорнии в воздухе летает особенно много пыльцы весной и осенью, но поскольку климат позволяет растениям цвести круглый год, то ни один сезон не обходится без нее. А в лесной местности пыльцы, естественно, еще больше. Ночью Тревис проснулся от звука, природа которого была для него непонятна. Моментально сбросив с себя остатки сна, он сел на кровать и в темноте нащупал на полу ружье. Сжимая «моссберг», Тревис начал прислушиваться, и через минуту звук повторился: он доносился из коридора второго этажа. Стараясь не разбудить Нору, Тревис выскользнул из постели и осторожно подошел к двери. В холле, как почти повсюду в доме, горел ночник, и в его тусклом свете Тревис увидел Эйнштейна. Он стоял у верхней ступеньки лестницы, кашлял и тряс головой. Подойдя к нему, Тревис спросил: — С тобой все в порядке? Коротко вильнув хвостом, пес показал: «Да». Тревис нагнулся и провел рукой по его шерсти. — Ты уверен? «Да». С минуту пес прижимался к нему, радуясь ласке. Затем отошел в сторону, пару раз кашлянул и спустился вниз. Тревис последовал за ним. На кухне Эйнштейн стал жадно пить воду из миски. Опустошив ее, ретривер прошел в кладовку, зажег свет и, надавливая лапой на педали, вывел: «ХОЧУ ПИТЬ». — Ты в самом деле себя хорошо чувствуешь? «ХОРОШО. ТОЛЬКО ПИТЬ ХОЧЕТСЯ. МНЕ СНИЛСЯ ПЛОХОЙ СОН». Тревис удивленно просил: — Тебе снятся сны? «А ТЕБЕ РАЗВЕ НЕТ?» — Снятся. Слишком часто. Тревис налил в миску воды и, после того как Эйнштейн выпил все до капли, наполнил ее еще раз. Пес наконец напился вдоволь. Тревис подумал, что собака попросится на улицу, но вместо этого она ушла наверх и улеглась в коридоре у двери спальни. Тревис сказал ей шепотом: — Послушай, если хочешь лечь рядом с кроватью, никаких проблем. Этого как раз Эйнштейн и хотел. Он прошел в спальню и свернулся клубком рядом с кроватью с той стороны, где лежал Тревис. В темноте тот легко дотрагивался рукой до ружья и до собаки. И присутствие пса внушало ему гораздо больше уверенности, чем ружье.* * *
В субботу днем, через два дня после праздника Благодарения, Гаррисон Дилворт сел в «Мерседес» и медленно отъехал от своего дома. Через два квартала он убедился, что за ним все еще следует «хвост» из УНБ. Это был зеленый «Форд», возможно, тот же самый, что увязался за Дилвортом прошлым вечером. Люди, ведущие наблюдение, держались от адвоката на порядочном расстоянии и не старались обнаружить себя, но ведь он был не слепой. Гаррисон так еще и не позвонил Тревису и Норе. Увидев за собой слежку, он подумал, что его телефоны прослушиваются. Адвокат мог, конечно, воспользоваться уличным телефоном-автоматом, но боялся, что агенты УНБ подслушают разговор с помощью микрофона направленного действия или еще какого-нибудь неизвестного ему устройства. А если они зафиксируют продолжительность набора цифр телефонного номера Корнеллов, тогда им не составит труда определить и сам номер, и местонахождение абонента в Биг Сюре. Поэтому если и звонить Тревису и Норе, то каким-то обманным путем. Адвокат знал также, что ему нужно сделать это побыстрее, пока Тревис или Нора не позвонили ему сами. УНБ располагало техникой, способной установить номер звонящего прежде, чем тот, кому звонят, успеет предупредить, что линия прослушивается. Исходя из этих соображений, в два часа дня в субботу сопровождаемый зеленым «Фордом» Гаррисон поехал к дому Деллы Колби в Монтесито, чтобы пригласить ее покататься с ним на яхте. По крайней мере так он сказал ей о цели своего визита по телефону. Делла была вдовой судьи Джека Колби. Они с Джеком были лучшими друзьями Гаррисона и Франсины на протяжении двадцати пяти лет, пока смерть не разрушила их компанию. Джек умер через год после Франсины. Делла и Гаррисон сохранили дружбу: часто обедали вместе, танцевали, гуляли и катались на яхте. Поначалу их отношения были чисто платоническими: они оставались просто друзьями, которым повезло — или не повезло — пережить всех, кого они любили, и их тянуло друг к другу, потому что их объединяли воспоминания о прекрасных временах, проведенных вместе со всеми. Год назад, когда неожиданно для них самих Гаррисон и Делла оказались в одной постели, то испытали состояние шока и вины перед своими покойными супругами, скончавшимися много лет назад. Чувство вины, разумеется, скоро прошло, и сейчас они были искренне благодарны судьбе за объединившую их дружбу и за ровно горящую страсть, неожиданно украсившую жизнь на склоне лет. Когда адвокат подъехал к дому Деллы, она заспешила к машине. На ней были спортивные тапочки, белые слаксы, бело-голубой полосатый свитер и голубая штормовка. Несмотря на то, что Делле исполнилось шестьдесят девять лет и ее короткие волосы были белы как снег, она выглядела на пятнадцать лет моложе. Гаррисон вылез из «Мерседеса», обнял ее и поцеловал: — Мы сможем воспользоваться твоим автомобилем? Она заморгала. — С твоим что-нибудь не в порядке? — Нет, — ответил он. — Мне просто хочется поехать на твоем. — Давай. Делла вывела свой «Кадиллак» из гаража, и Гаррисон сел рядом с ней на переднее сиденье. Когда они выехали на улицу, он проговорил: — Боюсь, в моей машине установлено подслушивающее устройство. Мне не хочется, чтобы они знали то, что я тебе сейчас расскажу. Делла смотрела на него с неподдельным интересом. — Нет, — засмеялся адвокат, — я не выжил из ума. Если взглянешь в зеркало, увидишь, что за нами следят. Они большие профессионалы, но все-таки не невидимки. Через некоторое время Делла спросила: — Зеленый «Форд»? — Точно. — Во что же ты такое вляпался, дорогой? — Мы сейчас не поедем прямо на причал. Сначала заглянем на рынок и купим свежих фруктов. Затем побываем в винном магазине и выберем там вино. К тому моменту я успею тебе все рассказать. — У тебя есть тайная жизнь, о которой я и не подозревала? Ты престарелый Джеймс Бонд?Накануне Лем Джонсон вновь открыл временный штаб в невероятно тесной комнатке в здании окружного суда Санта-Барбары. В комнатке было одно узкое окошко, стены выкрашены темной краской, а светильник на потолке источал такой тусклый свет, что все четыре угла зияли чернотой. Мебель, которую туда внесли, состояла из предметов, списанных из других офисов. Лем занял эту комнатушку сразу после того, как произошло убийство Хокни, но потом покинул ее на неделю, поскольку у него не было больше дел в этом районе. Теперь же, когда появилась надежда, что Дилворт наведет его на Корнеллов, Лем вновь открыл свой «полевой штаб», подключил телефоны и стал ждать развития событий. В офисе вместе с ним находился помощник, Джим Вэни, очень серьезный и прилежный двадцатипятилетний молодой человек. В настоящий момент Клифф Соамс руководил действиями группы из шести агентов УНБ, которые работали в разных точках района, а также организовывал наблюдение за Дилвортом с моря. Старый проныра наверняка понял, что за ним следят, и Лем предполагал, что он попытается скрыться от наблюдения на некоторое время, достаточное для того, чтобы позвонить Корнеллам. С этой точки зрения наиболее логичным для адвоката было попытаться выйти на яхте в море, на лодке пробраться на берег в какой-нибудь точке побережья и позвонить, прежде чем его смогут засечь приставленные к нему наблюдатели. Но как же удивится Дилворт, когда местный морской патруль будет сопровождать его при выходе из бухты, а в открытом море его будет поджидать катер береговой охраны. В пятнадцать часов сорок минут позвонил Клифф и доложил, что адвокат и его подруга находятся на борту «Красавицы», едят фрукты, потягивают вино, вспоминают прошлое и посмеиваются. — Из того, что мы услышали по направленному микрофону и увидели, могу заключить: они никуда не собираются. Разве что в постель. Бодрые старички. — Присматривай за ними, — сказал Лем. — Я им не доверяю. Потом позвонил агент, возглавлявший обыск дома Дилворта, который начался сразу же после того, как тот уехал. Ничего, указывающего на местонахождение Корнеллов и собаки, обнаружено не было. Перечень междугородных звонков, сделанных им из дома и офиса, также не содержал в себе номера телефона Корнеллов — если адвокат и звонил им, то наверняка из телефона-автомата. Изучение телефонной карточки также не принесло результатов. Даже если Дилворт звонил из телефона-автомата, то плату за разговор он начислял не на свою карточку, а на счет Корнеллов, не оставляя таким образом никаких следов. А это был плохой признак. Очевидно, что адвокат соблюдал крайнюю осторожность еще до того, как заметил за собой слежку.
…В субботу, испугавшись, что собака могла простудиться, Тревис внимательно наблюдал за Эйнштейном. Но ретривер только пару раз чихнул и ни разу не кашлянул за весь день. В этот день транспортная компания доставила им десять больших ящиков, в которых находились все законченные живописные работы Норы, оставленные ею в Санта-Барбаре. Пару недель назад, воспользовавшись адресом своего знакомого в качестве обратного, чтобы нельзя было установить связь между ним и Норой Эймс, Гаррисон Дилворт отправил ей картины. Сейчас, распаковывая полотна и разбрасывая вокруг себя горы мятой бумаги, Нора пребывала в состоянии душевного подъема. Тревис знал: на протяжении многих лет творчество составляло главный смысл ее жизни, а теперь, когда картины вернулись к ней, она не только испытывала радость, но, возможно, и желание заняться живописью — в пустой спальне, превращенной в студию, ее ждало несколько незаконченных работ. — Хочешь позвонить Гаррисону и сказать «спасибо»? — спросил он. — Да, непременно! — ответила Нора. — Но сначала давай распакуем и посмотрим, все ли цело.
Расположившись на причале и изображая из себя владельцев яхт и рыболовов, Клифф Соамс и другие агенты УНБ вели визуальное и электронное наблюдение за Дилвортом и Деллой Колби. День подходил к концу, спускались сумерки, а адвокат и не собирался выходить в море. Вскоре совсем стемнело, но Дилворт и его подруга так и не двинулись с места. Через полчаса после наступления темноты Клифф Соамс устал изображать из себя человека, удящего рыбу с кормы шестидесятишестифутовой спортивной яхты, пришвартованной через четыре стоянки от яхты Дилворта. Он взобрался по лесенке в кабину рулевого и снял наушники с Хенка Горнера, агента, который прослушивал разговор престарелой парочки через микрофон направленного действия. Он начал слушать: — …тогда в Акапулько Джек нанял рыбацкую… — …да, а команда выглядела как шайка пиратов… — …мы подумали, что нам перережут глотки, а нас самих выбросят в море… — …а потом оказалось, что они студенты-богословы… — …учатся на миссионеров, а Джек тогда сказал… Возвращая наушники Хенку, Клифф сказал: — Все еще вспоминают! Хенккивнул. В кабине был выключен верхний свет и горела только маленькая закрытая блендой лампочка на приборном щитке, в свете которой черты лица Хенка выглядели странным образом вытянутыми. — И так целый день. Но истории они рассказывают интересные. — Я пошел в сортир, — сказал Клифф устало. — Скоро буду. — Можешь хоть десять часов там сидеть. Они никуда не собираются. Через несколько минут, когда Клифф вернулся, Хенк Горнер стащил с головы наушники и сказал: — Они спустились в каюту. — Что это значит? — Не то, чего мы ждем. Наверное, хотят поразмять старые кости. — О! — Клифф, ну их к черту. Я не хочу больше слушать. — Слушай! Хенк приложил один наушник к уху: — Ну вот, они раздевают друг друга, а ведь по возрасту им столько же, сколько моим деду и бабке. Неловко как-то. Клифф вздохнул. — Успокоились, — сообщил Хенк нахмурившись, с выражением отвращения на лице. — В любую минуту они могут начать стонать, Клифф. — Слушай! — приказал тот. Схватив легкую куртку, лежавшую на столе, Соамс вышел наружу. Он точно не обязан это слушать. Если бы не холод, пробиравший Клиффа даже через куртку, ночь можно было бы назвать прекрасной. Морской воздух прозрачен и свеж. Черное безлунное небо усеяно звездами. Волны успокаивающе бились о причальные опоры и о борта мирно покачивающихся на приколе яхт. Где-то вдали на одной из них звучала музыка сороковых годов. Послышался рев заводимого мотора — и даже в этом звуке было что-то романтическое. Клифф подумал о том, как хорошо было бы заиметь яхту и отправиться на ней в долгое путешествие по южной части Тихого океана, куда-нибудь на заросшие пальмами острова… Вдруг мотор перешел с холостого на рабочий ход, и Клифф сообразил, что это «Красавица». Вскочив со своего стула и уронив удочку, он увидел, как яхта Дилворта быстро шла задним ходом к выходу из причального отсека. Это была парусная яхта, и Клифф не ожидал, что она начнет движение с убранными парусами. На судне, правда, имелись вспомогательные двигатели, и они знали об этом и были готовы к такому варианту, но все равно их застигли врасплох. Клифф заспешил обратно в кабину. — Хенк, сообщи патрулям. Дилворт выходит в море. — Да они же залегли в койку! — Черта с два! Клифф выбежал на нос яхты и увидел, что Дилворт уже развернул свою «Красавицу» и направляется к выходу из бухты. Яхта передвигалась без огней, только на носу горела маленькая лампочка. Итак, он решил прорваться!
К тому времени, когда Тревис и Нора распаковали все сто картин, повесили некоторые из них на стены и отнесли остальные в спальню-студию, они почувствовали, что умирают с голоду. — Гаррисон, наверное, сейчас тоже обедает, — сказала Нора. — Не хотелось бы ему мешать. Позвоним ему после обеда. В кладовке Эйнштейн нажал на педали и вывел: «ТЕМНО, СНАЧАЛА ЗАКРОЙТЕ СТАВНИ». Удивляясь собственной беспечности, Тревис начал ходить по комнатам, закрывать ставни и запирать их на щеколды. Обрадовавшись возвращению Нориных картин и ее восторгам по этому поводу, они не заметили, как спустилась ночь.
На полпути к выходу из бухты, уверенный в том, что расстояние и шум мотора служат надежной защитой от электронных подслушивающих устройств, Гаррисон сказал: — Держись вдоль края фарватера и подбрось меня поближе к концу северного волнореза. — Ты уверен, что поступаешь правильно? — обеспокоенно спросила Делла. — Ты ведь не мальчишка. Он похлопал ее по заду и сказал: — Я лучше. — Фантазер. Гаррисон чмокнул ее в щеку, подошел к бортику яхты и приготовился к прыжку. На нем были темно-синие плавки. Вода была холодной, и следовало бы надеть резиновый костюм, но он решил доплыть до волнореза, обогнуть его и вылезти с северной стороны, где его не будет видно из бухты — и все это за несколько минут — так что не успеет слишком сильно замерзнуть. — К нам гости! — стоя у руля, крикнула Делла. Адвокат оглянулся и увидел патрульный катер, покидающий южный причал и направляющийся в их сторону. «Они не могут нас остановить, — подумал Гаррисон. — У них нет на это никакого права». Но ему надо успеть нырнуть в воду прежде, чем патруль развернется. А то им будет видно, как он прыгает за борт. Сейчас, пока они еще были далеко, у порта, «Красавица» загородит от них его прыжок, а фосфоресцентный кильватер прикроет самого Гаррисона на несколько секунд, пока он будет огибать волнорез. Вполне достаточно, а потом пусть следят дальше за Деллой. Яхта шла вперед на максимально большой скорости, при которой Делла чувствовала себя уверенно. Зюйд-вест подбрасывал судно на волнах с такой силой, что Гаррисону приходилось держаться за поручни. И все же ему казалось: они слишком медленно движутся вдоль каменной стены волнореза; а морской патруль приближался, но Гаррисон все ждал и ждал, потому что не хотел нырять в воду за сто ярдов от выхода из бухты. Если он прыгнет слишком рано, то не сможет добраться до мыса волнореза и обогнуть его; вместо этого ему придется плыть прямо к волнорезу и вылезать на него с фланга на виду у наблюдателей. Патруль подошел к ним на расстояние ста ярдов, увидел их и начал разворачиваться. Больше медлить было нельзя, нельзя. — Пора! — крикнула Делла. Гаррисон прыгнул через бортик в темную воду, подальше от яхты. Вода была холодной. У него перехватило дыхание. Он стал уходить под воду, никак не мог выплыть на поверхность, его охватила паника. Гаррисон стал молотить руками и ногами по воде и наконец, хватая ртом воздух, выплыл на поверхность. «Красавица» была на удивление близко. Ему казалось, что он барахтался под водой целую вечность, но на самом деле, должно быть, прошла всего лишь секунда или две, так как яхта была совсем рядом. Морской патруль тоже был недалеко, и Гаррисон решил, что даже расходящиеся от «Красавицы» волны не будут для него надежным прикрытием, поэтому набрал в легкие побольше воздуха и снова нырнул, оставаясь под водой так долго, как только мог. Когда адвокат всплыл на поверхность, Делла и ее преследователи уже вышли из бухты и повернули на юг — он был в безопасности. Его быстро несло отливом за северный волнорез, представлявший собой стену из валунов и камней, более чем на двадцать футов возвышающуюся над поверхностью воды и кажущуюся ночью крапчатым серо-черным крепостным валом. Ему надо было не только обогнуть конец этого барьера, но и добраться против течения к берегу. Без дальнейшей проволочки Гаррисон начал плыть, недоумевая про себя, с чего это он решил, что все это детские игрушки. «Тебе скоро семьдесят один год, — говорил себе адвокат, проплывая мимо каменистого мыса, освещенного маяком. — С чего это тебе вздумалось строить из себя героя?» Но он знал с чего: из-за глубокого убеждения, что собака должна оставаться на свободе, что с ней нельзя обращаться как с собственностью правительства. Если мы дошли до того, что можем творить, как Господь Бог, мы должны научиться поступать так же справедливо и милосердно, как он. Так Гаррисон сказал Норе, Тревису — и Эйнштейну — той ночью, когда был убит Тед Хокни, и он готов был подписаться под каждым своим словом. Соленая вода разъедала глаза, мешала смотреть. Что-то попало в рот и разъело маленькую язвочку на нижней губе. Борясь с течением, Гаррисон обогнул мыс волнореза и энергично поплыл к нему. Теперь его нельзя было увидеть из бухты. Добравшись наконец до камней, он, тяжело дыша, ухватился за первый же валун и повис на нем, набираясь сил, чтобы выбраться из воды. В недели, прошедшие после побега Норы и Тревиса, у Гаррисона было много времени, чтобы подумать об Эйнштейне, и сейчас он еще сильнее чувствовал: держать в клетке разумное и абсолютно невинное существо было актом чудовищной несправедливости, независимо от того, что речь шла о собаке. Гаррисон посвятил всю свою жизнь борьбе за справедливость, ставшую возможной благодаря законам демократии, и поддержание свободы, вытекающей из этой справедливости. Когда человек, имеющий идеалы, решает, что слишком стар для того, чтобы поставить все на карту во имя своих идеалов, то перестает быть человеком с идеалами. Может быть, он вообще перестает быть человеком. Эта суровая правда и заставила его предпринять этот ночной заплыв, несмотря на возраст. Смешно, что долгая жизнь человека с идеалами спустя семь десятков лет должна подвергнуться проверке судьбой собаки. Но какой собаки! «В каком дивном новом мире мы живем», — подумал Гаррисон. Генетическую технологию следовало бы переименовать в «генетическое искусство», поскольку каждое произведение искусства — это акт творчества, а на свете не может быть более тонкого и красивого акта творчества, чем создание разумного существа. Ощутив второе дыхание, адвокат вылез из воды на отлогий край северного волнореза. Этот барьер отделял Гаррисона от бухты, и он пошел в сторону берега по камням, а слева от него бушевало море. Адвокат предусмотрительно прикрепил к плавкам водонепроницаемый карманный фонарик и теперь освещал им дорогу, с величайшей осторожностью ступая босыми ногами по мокрым камням, боясь поскользнуться и сломать себе ногу. Впереди в нескольких сотнях ярдов виднелись городские огни и неясная серебристая линия пляжа. Ему было холодно, но все же не так, как в воде. Сердце его часто билось, но не так часто, как прежде. Он сделает это.
Лем Джонсон прибыл на пристань из своего временного «полевого штаба» в здании окружного суда. Клифф встречал его у пустой лодочной стоянки, где прежде находилась «Красавица». Поднялся ветер. Сотни судов покачивались у причалов; они скрипели, а плохо натянутые парусные веревки бились и бились о мачты. Фонари на пристани и огни с соседней яхты бросали мерцающий свет на темную, выглядящую маслянистой воду, где прежде была пришвартована сорокадвухфутовая яхта Дилворта. — А морской патруль? — озабоченно осведомился Лем. — Они проследовали за ним в открытое море. Нам казалось, Гаррисон собирается повернуть на север, уж очень близко к волнорезу он шел, но вместо этого двинул на юг. — А Дилворт его заметил? — Должен был. Вы же видите — никакого тумана, полно звезд, светло как днем. — Хорошо. Я хочу, чтобы он знал. А береговая охрана? — Я говорил с катером, — заверил его Клифф. — Они на месте, идут на юг вдоль берега на расстоянии ста ярдов от «Красавицы». Дрожа на быстро остывающем воздухе, Лем сказал: — Они знают, что Гаррисон попытается добраться до берега в резиновой лодке или еще на чем-то? — Знают, — ответил Клифф. — Он не сможет это проделать у них под носом. — Охрана уверена, что Дилворт их заметил. — Они освещены, как рождественская елка. — Отлично. Я хочу, чтобы он понял: все бесполезно. Если мы не дадим ему возможности предупредить Корнеллов, тогда рано или поздно они позвонят ему сами — тут-то мы их и возьмем. Даже если парочка воспользуется телефоном-автоматом, мы будем знать их примерные координаты. Кроме прослушивания домашних и служебных телефонов Дилворта, УНБ установило специальное следящее устройство, которое включит линию сразу после звонка и не разъединит ее даже по окончании разговора, до тех пор, пока номер телефона и адрес звонившего не будут определены и проверены. Даже если Дилворт быстро выкрикнет предостережение и повесит трубку, как только услышит голос одного из Корнеллов, будет уже поздно. Единственно как он мог попытаться сорвать планы УНБ — это вовсе не подходить к телефону. Но даже это ему бы не помогло, потому что после шестого звонка включалось автоматическое устройство УНБ, которое «отвечало на звонок», устанавливало соединение и приступало к процедуре опознания. — Единственное, что может нам помешать, — сказал Лем, — это если Дилворт доберется до телефона, который не находится у нас под контролем, и предупредит Корнеллов, чтобы они ему не звонили. — Этого не произойдет, — заверил Клифф. — Мы прочно сидим у него на хвосте. — Лучше бы ты этого не произносил, — забеспокоился Лем. Ветер со звоном ударился о металлический замок, висящий на свободном конце веревки, и Лем даже подпрыгнул. — Мой отец любил говорить, что все самое худшее случается тогда, когда этого совсем не ждешь. Клифф покачал головой. — Несмотря на все мое уважение, сэр, чем чаще вы цитируете своего отца, тем больше я склоняюсь к мысли, что он был самым мрачным человеком, когда-либо жившим на этой земле. Оглядываясь по сторонам на раскачивающиеся лодки и вздымающиеся от ветра волны и чувствуя, что это он перемещается вместо того, чтобы стоять неподвижно в движущемся мире, и что его от этого слегка подташнивает, Лем сказал: — Да… мой отец по-своему был великим человеком, но он также был… совершенно невозможным. Раздался крик Хенка Горнера: — Эй! — Он бежал по причалу от яхты, где они с Клиффом просидели весь день. — Я только что разговаривал с катером. Они посветили прожектором на «Красавицу», чтобы слегка их попугать, и говорят, что Дилворта там нет. Только женщина. Лем сказал: — Но, черт, он же ведет яхту. — Нет, — ответил Горнер. — На «Красавице» темно, но прожектор с береговой охраны освещает всю посудину, и они говорят, что у руля женщина. — Все в порядке. Гаррисон внизу в каюте, — сказал Клифф. — Нет, — проговорил Лем с гулко бьющимся сердцем. — В такой момент адвокат не стал бы сидеть в каюте. Он бы следил за катером, решая, идти ли ему дальше или повернуть назад. Его нет на «Красавице». — Но Дилворт должен там быть! Он с нее не сходил, пока она стояла у причала. Лем уставился в ту сторону хрустально-прозрачной бухты, где на конце северного волнореза находился маяк. — Ты говорил, что эта чертова посудина развернулась у северного мыса и, казалось, собиралась идти на север, но затем резко развернулась и пошла на юг. — Черт, — произнес Клифф. — Вот там-то Дилворт и сошел, — сказал Лем. — У мыса северного волнореза. Без резиновой лодки. Клянусь Богом, он просто поплыл. — Гаррисон слишком стар для таких трюков, — запротестовал Клифф. — По-видимому, нет. Он обогнул волнорез с той стороны и направился к телефону-автомату на одном из северных общественных пляжей. Нам надо остановить его, и быстро. Клифф поднес рупором руки ко рту и выкрикнул имена четырех агентов, которые были в лодках, стоящих на приколе вдоль причала. Несмотря на ветер, эхо от воды далеко разносило его голос. На зов Клиффа бежали агенты, а Лем бросился к стоянке, где он оставил свой автомобиль. Все самое худшее случается, когда его меньше всего ждешь.
Тревис мыл посуду после обеда, когда Нора сказала: — Взгляни-ка сюда. Он обернулся и увидел, что она стоит рядом с мисками Эйнштейна для еды и питья. Воды в миске не было, но половина обеда осталась нетронутой. Она заметила: — Раньше он никогда не оставлял ни кусочка. — Никогда. — Нахмурившись, Тревис вытер руки кухонным полотенцем. — Последние несколько дней… я думал, что, может быть, у него легкая простуда, но он сообщает, что чувствует себя хорошо. А сегодня даже не чихает и не кашляет, как раньше. Нора и Тревис прошли в гостиную, где ретривер с помощью своего устройства для переворачивания страниц читал «Черную красавицу». Они опустились рядом с ним на колени, он поднял на них глаза, и Нора спросила: — Ты не заболел, Эйнштейн? Ретривер негромко пролаял один раз: Нет. — Ты уверен? Пес быстро вильнул хвостом: Да. — Ты не доел свой обед, — сказал Тревис. Собака старательно зевнула. Нора спросила: — Ты хочешь сказать нам, что немного устал? Да. — Если ты себя плохо почувствуешь, ты нам сразу сообщишь об этом, да, мохнатая морда? Да. Нора настояла на том, чтобы внимательно осмотреть глаза, рот и уши Эйнштейна, выискивая явные признаки инфекции, но в конце концов признала: — Ничего. Кажется, с ним все в порядке. Наверное, даже суперпес имеет право на усталость.
Налетел резкий холодный ветер. На море поднялись большие волны, чего днем не было. Когда Гаррисон добрался по северному волнорезу до берега, его с ног до головы покрывала гусиная кожа. Он с облегчением ступил с твердых и острых камней этого крепостного вала на песчаный пляж. Дилворт был уверен, что у него сбиты обе ступни; они горели, а при каждом шаге его левую ступню пронизывала острая боль, заставляя хромать. Он старался держаться поближе к бурунам, подальше от начинающегося за пляжем парка. Там, где парковые фонари освещали аллеи и прожектора бросали яркий театральный свет на пальмы, его будет лучше видно с улицы. Адвокат не думал, что его будут искать; он был уверен: фокус удался. Однако на всякий случай не хотел привлекать к себе внимание. Порывистый ветер срывал с волн пену и швырял ее в лицо Гаррисону, так что ему казалось, будто он все время бежит по какой-то паутине. Пена залепляла глаза, которые после морской ванны наконец-то перестали слезиться, и в конце концов ему пришлось отойти от бурунов поглубже на пляж, где был более мягкий песок, хотя он по-прежнему находился вдалеке от фонарей. На темном пляже расположились молодые люди: они были тепло одеты и парочками в обнимку лежали и сидели на одеялах; небольшие группки, балующиеся наркотиками и слушающие музыку. Восемь-десять мальчиков-подростков собрались у двух вездеходных машин с толстыми шинами, на которых днем въезжать на пляж было запрещено, да скорее всего и ночью тоже. Они пили пиво у ямы, вырытой в песке, куда собирались спрятать свои бутылки, если вдруг заметят приближение полицейского; ребята громко говорили о девочках и отпускали грубые шутки. Ни один не обратил на Гаррисона никакого внимания, когда тот проходил мимо. В Калифорнии фанаты здорового образа жизни — такое же обычное явление, как уличные фигляры на улицах Нью-Йорка, и если какому-то старичку взбрело в голову принять холодную ванну, а затем побегать по пляжу, на него обращали не больше внимания, чем если бы он был священником в церкви. Направляясь на север, Гаррисон посматривал вправо, ища глазами телефоны-автоматы. Они скорее всего будут стоять по двое, ярко освещенные на бетонных островках у одной из аллей или поблизости от общественных уборных. Он уже начал отчаиваться, уверенный в том, что пропустил по крайней мере пару телефонов, когда увидел то, что искал. Два телефона-автомата с полукруглыми звуковыми щитами. Ярко освещенные, они расположились примерно в сотне футов от пляжа, на полпути к улице, примыкающей к другой стороне парка. Повернувшись спиной к волнующемуся морю, Дилворт замедлил шаг, чтобы немного отдышаться, и пошел по траве вперед под раскачиваемыми ветром ветвями трех королевских пальм, росших рядом. До цели оставалось футов сорок, когда он увидел несущуюся на большой скорости машину; раздался скрежет шин, и она резко затормозила у обочины прямо напротив телефонов. Гаррисон не знал, кто был в автомобиле, но решил не рисковать. Он нырнул в укрытие большой старой двуствольной финиковой пальмы, по счастью, подсвеченной декоративными прожекторами. В щель между стволами ему были видны телефоны и дорожка, ведущая к обочине, у которой остановилась машина. Из седана вышли двое. Один побежал по периметру парка, заглядывая внутрь и явно высматривая кого-то. Другой рванул по аллее прямо в глубь парка. Когда он добежал до освещенной площадки вокруг телефонов-автоматов, Гаррисон с ужасом узнал, кто это был. Лемюэль Джонсон. Прячась за пальмами, Гаррисон прижал к себе покрепче руки и сдвинул плотно ноги, хотя он был уверен, что сросшиеся стволы представляют собой безопасное укрытие, но, несмотря на это, старался сделать себя еще незаметнее. Джонсон подошел к первому телефону, снял трубку и попытался оторвать ее. У нее оказался гибкий металлический шнур, и он, проклиная прочность аппарата, несколько раз безуспешно дергал за нее. В конце концов ему удалось оторвать трубку и зашвырнуть ее подальше. Затем он испортил второй телефон. На какое-то мгновение, когда Джонсон развернулся от телефонов и пошел прямо на Гаррисона, адвокат подумал, что его обнаружили. Но, сделав всего несколько шагов, Лем остановился и начал осматривать примыкающие к пляжу конец парка и сам пляж. Его взгляд даже на секунду не задержался на финиковых пальмах, за которыми притаился Гаррисон. — Чтоб ты провалился, старый, выживший из ума ублюдок, — проговорил Джонсон и поспешно зашагал к машине. Скрючившись в тени за деревьями, Гаррисон ухмыльнулся, потому что знал, кого имеет в виду этот человек из УНБ. Неожиданно адвоката перестал волновать холодный ветер, дующий с моря. «Старый, выживший из ума ублюдок» или «престарелый Джеймс Бонд» — есть из чего выбирать. В любом случае он все еще был человеком, с которым следовало считаться.
В подвале телефонной компании, где находился коммутатор, агенты Рик Олбиер и Денни Джоунз присматривали за электронными устройствами с автоматическим определителем номера телефона и адреса звонящего, установленными для прослушивания служебных и домашних телефонов Гаррисона Дилворта. Это было скучнейшее занятие, и, чтобы скоротать время, они играли в карты: в пинокл и в рамми. Ни одна из этих игр им особенно не нравилась, но сама мысль о том, чтобы вдвоем играть в покер, вызывала у них отвращение. Когда в четырнадцать минут девятого по домашнему телефону Дилворта раздался звонок, засидевшиеся Олбиер и Джоунз отреагировали на него с гораздо большим энтузиазмом, чем того требовала ситуация. Олбиер уронил на пол карты, а Джоунз бросил свои на стол, и оба схватились за две пары головных телефонов с таким рвением, как если бы сейчас шла вторая мировая война и они собирались подслушать сверхсекретный разговор между Гитлером и Герингом. Специальное устройство должно было установить соединение и зафиксировать сигнал, если Дилворт не подойдет на шестой звонок. Поскольку им было известно, что адвоката нет дома и на звонок он не ответит, Олбиер уже на второй звонок включил соединение. На экране компьютера высветилась зеленая надпись: «Идет определение номера». На том конце провода человек произнес: — Алло? — Алло, — сказал в микрофон своего головного телефона Джоунз. На экране высветился номер телефона и адрес в Санта-Барбаре. Эта система была сходна с полицейским компьютером-911, мгновенно выдающим сведения о звонившем. Но сейчас на экране над адресом появилось название компании, а не фамилия человека — «ТЕЛЕФОННЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНК». В ответ Денни Джоунз услышал: — Сэр, рад сообщить вам, что вас выбрали для получения бесплатной фотографии размером восемь на десять и десяти бесплатных карманных снимков любого… Джоунз спросил: — С кем я говорю? Компьютер просматривал банки данных на адреса в Санта-Барбаре, чтобы проверить личность звонившего. Голос в трубке сказал: — Я звоню по поручению «Олин Миллз», фотоателье, гарантирующего первоклассное качество… — Минуточку, — сказал Джоунз. Компьютер проверил личность телефонного абонента: обычная реклама, не более. — Мне ничего не нужно! — резко произнес Джоунз и прервал разговор. — Черт, — сказал Олбиер. — Еще партию? — спросил Джоунз. В помощь шести агентам, уже находящимся в бухте, Лем вызвал из своего временного «полевого» штаба еще четырех. Он расставил пять человек по периметру парка, в нескольких сотнях ярдов друг от друга. В их задачу входило наблюдение за широким проспектом, отделяющим парк от делового района со множеством отелей, ресторанов, магазинов, торгующих йогуртом, подарками и другими розничными товарами. Во всех этих заведениях, конечно же, были телефоны и даже в офисах некоторых мотелей были установлены телефоны-автоматы; из любого из них адвокат мог предупредить Тревиса и Нору Корнелл. В этот вечерний субботний час многие магазины уже закрылись, но некоторые — и все рестораны — еще работали. Во что бы то ни стало надо было помешать Дилворту пересечь улицу. Ветер с моря усилился и стал еще холоднее. Агенты стояли, засунув руки в карманы курток, опустив головы и дрожа от холода. Резкие порывы ветра колыхали ветви пальм. Устроившиеся на ночлег птицы тревожно вскрикивали и снова замолкали. Еще одного агента Лем послал в юго-западный конец парка, к волнорезу, отделявшему общественный пляж от бухты с другой стороны. Он должен помешать Дилворту вернуться к волнорезу, забраться на него и пойти назад через бухту к телефонам в другой части города. Седьмой агент стоял у воды в северо-западном углу парка, чтобы не дать Дилворту пробраться на частные пляжи и в жилые районы, где он мог уговорить кого-нибудь разрешить ему воспользоваться его телефоном. Лем, Клифф и Хенк должны были прочесывать парк и прилегающий к нему пляж в поисках адвоката. Лем знал: у него слишком мало людей, но эти десять человек — да еще Олбиер и Джоунз, засевшие в телефонной компании, — были единственными сотрудниками, которые находились в его распоряжении здесь, в городе. Не было смысла просить подкрепление в управлении Лос-Анджелеса: к тому времени, как оно прибудет, Дилворт либо уже будет обнаружен и остановлен, либо ему удастся позвонить Корнеллам.
Вездеходный автомобиль без верха имел трубчатый каркас. В нем были два ковшеобразных сиденья, позади которых располагался грузовой отсек в четыре фута длиной, где могли разместиться еще пассажиры или значительное количество багажа. Гаррисон лежал на животе на полу грузового отсека автомобиля, прикрытый одеялом. Два мальчика-подростка сидели на передних сиденьях, а еще двое устроились в грузовом отсеке, развалясь на Гаррисоне, как если бы они сидели на простой куче из одеял. Они старались не давить на него всей своей тяжестью, но он все равно чувствовал себя полураздавленным. Звук мотора напоминал пронзительное жужжание рассерженных ос. Оно оглушающе действовало на адвоката, чье правое ухо было прижато прямо к днищу, передающему и усиливающему вибрацию. К счастью, мягкий песок представлял собой относительно гладкую дорогу. Автомобиль перестал набирать скорость и замедлил ход, звук мотора стал затихать. — Черт, — прошептал Дилворту один из ребят, — там, впереди, парень с фонарем, делает знак остановиться. Они затормозили, и сквозь ленивый шепот мотора Гаррисон расслышал, как человек спросил: — Куда это вы, ребята, направляетесь? — Вдоль берега. — Там дальше частные владения. У вас есть право туда заезжать? — Мы там живем, — ответил Томми, водитель. — Правда? — А разве мы не похожи на компанию избалованных сынков богатых родителей? — прикидываясь простачком, спросил один из парнишек. — Чем вы занимались? — подозрительно спросил человек. — Просто болтались по пляжу. Но стало слишком холодно. — Вы что, ребята, выпили? «Ну и дурак же ты, — подумал Гаррисон, слушая мужчину, — ты же разговариваешь с подростками, бедными созданиями, которые в силу своей гормональной перестройки еще пару лет будут восставать против какого бы то ни было давления. Мне они симпатизируют, потому что я скрываюсь от полиции, и они будут на моей стороне, даже не спрашивая, что я натворил. Если хочешь рассчитывать на помощь, не дави на них — иначе ты ничего не добьешься». — Выпили? Черт, конечно, нет, — ответил другой паренек. — Если хотите, можете посмотреть в холодильном ящике, сзади. В нем ничего нет, кроме газировки. Прижатый к холодильнику Гаррисон надеялся, что человек не будет проверять. Если этот парень подойдет поближе, он наверняка увидит, что под одеялом, на котором сидят ребята, неясно вырисовываются очертания человека. — Газировки, мм? Что за пиво там было, пока вы его не выпили? — Эй, парень, — сказал Томми. — Что ты к нам пристал? Ты что, из полиции или еще откуда-нибудь? — Да, из полиции. — А где твоя форма? — спросил один из подростков. — Я тайный агент. Послушайте, ребята, я намерен вас отпустить, не проверять на алкоголь и так далее. Но мне надо знать, не встречали ли вы сегодня вечером на пляже пожилого седого мужчину? — Зачем нам сдались старики? — спросил один из парней. — Нам нужны женщины. — Если бы вы видели человека, о котором я говорю, вы бы его запомнили. Скорее всего он был в плавках. — Сегодня? — спросил Томми. — Послушайте, декабрь на носу. Видите, какой ветер? — Возможно, на нем еще что-то было. — Нет, я его не видел, — сказал Томми. — Никакой седой старичок мне не попадался. А вам, ребята? Остальные трое тоже подтвердили, что не встречали никакого старикана, отвечающего данному описанию, и им разрешили ехать дальше к северу от общественного пляжа, к району стоящих на побережье особняков и частных пляжей. Обогнув невысокий пригорок и скрывшись из виду остановившего их агента, ребята сдернули с Гаррисона одеяло, и тот, вздохнув с явным облегчением, сел. Томми развез по домам своих приятелей и, пользуясь тем, что родителей нет дома, пригласил Гаррисона к себе. Он жил на краю обрыва в доме, похожем на корабль с несколькими палубами и состояшем сплошь из стекла и граней. Войдя вслед за мальчиком в фойе, Дилворт увидел в зеркало свое отражение. Оно не имело ничего общего с величавым седовласым адвокатом, которого знал каждый городской юрист. Его волосы были мокрыми, грязными и спутанными. Лицо заляпано грязью. Песок, трава и водоросли прилипли к голой коже и запутались в седых волосках на груди. Он довольно подмигнул сам себе. — Телефон здесь, — сказал Томми из кабинета.
Приготовив ужин, поев, вымыв посуду и беспокоясь из-за отсутствия у Эйнштейна аппетита, Нора и Тревис совсем забыли позвонить Гаррисону Дилворту и поблагодарить его за то, как старательно он упаковал и переправил им Норины картины. Они сидели у камина, когда Нора вспомнила об этом. Прежде им приходилось звонить Гаррисону из телефонов-автоматов в Кармеле. Это оказалось излишней предосторожностью. И сейчас, вечером, у них не было ни малейшего желания садиться в машину и ехать в город. — Мы могли бы позвонить ему завтра из Кармела, — предложил Тревис. — Давай позвоним отсюда, — сказал она. — Если бы обнаружилась связь между тобой и Гаррисоном, он наверняка позвонил бы и предупредил нас. — Он может и не знать о том, что они выявили такую связь, — сказал Тревис. — Может не догадываться, что за ним следят. — Гаррисон бы об этом обязательно знал, — твердо сказала Нора. Тревис кивнул: — Да, я тоже уверен, что знал бы. — Поэтому ты спокойно можешь позвонить ему отсюда. Нора была на полпути к телефону, когда раздался звонок. Голос оператора в трубке произнес: — Вас вызывает мистер Гаррисон Дилворт из Санта-Барбары. Вы оплатите разговор?
Когда до десяти часов оставалось несколько минут, Лему после тщательного, но безрезультатного прочесывания парка и пляжа пришлось нехотя признать: Гаррисон Дилворт каким-то образом ускользнул от него. Он отослал своих людей обратно в штаб и бухту. Лем с Клиффом тоже вернулись в бухту на спортивную яхту, с которой вели наблюдение за Дилвортом. Переговорив с катером береговой охраны, следующим за «Красавицей», они узнали, что приятельница адвоката, не доходя до Вентуры, повернула назад и сейчас направляется на север вдоль побережья в Санта-Барбару. В бухту яхта вошла в десять тридцать шесть. Лем с Клиффом ежились на колючем ветру на пустынном причале, принадлежавшем Гаррисону, и смотрели, как Делла плавно и мягко пришвартовывает яхту к берегу. Это было красивое, хорошо отделанное судно. У Деллы даже достало наглости крикнуть им: — Не стойте тут без дела! Хватайте трос и помогите мне привязать яхту! Они исполнили ее просьбу, прежде всего потому что им не терпелось поскорее поговорить с ней, а до тех пор, пока «Красавица» не пришвартуется, сделать это было невозможно. Оказав женщине необходимую помощь, Лем и Клифф шагнули на палубу. На Клиффе были надеты кеды, но Лем был в обычных ботинках и чувствовал себя крайне неуверенно на мокрой палубе, особенно из-за небольшой качки. Прежде чем они успели что-либо сказать Делле, голос у них за спиной произнес: — Простите, джентльмены… Лем обернулся и при свете фонаря увидел Гаррисона Дилворта, входящего вслед за ними на яхту. На нем была одежда явно с чужого плеча. Брюки ему были очень широки в талии и держались на ремне. Зато они были ему коротки, и из-под них торчали голые щиколотки. Рубашка тоже была ему велика на несколько размеров. — …пожалуйста, извините меня, но мне просто необходимо переодеться во что-либо теплое из моей одежды и выпить чашку кофе… Лем проговорил: — Черт подери! — …чтобы согреть мои старые кости. Задохнувшись от изумления, Клифф Соамс рассмеялся, затем взглянул на Лема и произнес: — Извините. Лем ощущал, как у него в желудке начались спазмы и все горит — язва давала о себе знать. Он даже не поморщился от боли, не согнулся пополам, даже не положил руку на живот — не подал ни единого признака того, что ему не по себе, чтобы не увеличивать и без того немалое удовлетворение, испытываемое Дилвортом. Лем просто взглянул на адвоката, на женщину, а затем, не говоря ни слова, повернул к выходу. — Этот пес, — сказал Клифф, догоняя шефа, — вызывает у всех чертовскую преданность. Позже, укладываясь в постель в мотеле, потому что Лем слишком устал, чтобы завершить здесь все дела и отправиться домой в округ Ориндж, он думал о словах Клиффа. Преданность. Чертовская преданность. Лем старался вспомнить, испытывал ли он когда-нибудь такое сильное чувство преданности по отношению к кому-либо, какое Корнеллы и Гаррисон Дилворт, очевидно, испытывали по отношению к ретриверу. Он крутился в постели, вертелся с боку на бок, а сон все не шел к нему, пока Лем наконец не понял: бесполезно пытаться выключить горевший в нем внутренний свет до тех пор, пока не докажет себе, что способен на такую же преданность и верность, какие встретил в Корнеллах и их адвокате. Лем сел в темноте, прислонившись к изголовью кровати. Да, конечно, он был чертовски предан своей стране, которую любил и уважал. И был предан управлению. Но другому живому существу? Ну хорошо, Карен, своей жене. Он был верен Карен сердцем, умом и телом. Любил Карен. Глубоко любил ее вот уже почти двадцать лет. — Ну, — проговорил Лем вслух в пустом номере мотеля в два часа ночи, — ну, если ты так предан Карен, то почему ты сейчас не с ней? Он был несправедлив по отношению к самому себе. В конце концов, у него было дело, очень важное дело. — Вот в этом-то и беда, — пробормотал Лем, — у тебя всегда — всегда — есть какое-нибудь дело. Ему приходилось проводить вдали от дома более ста ночей в году, каждую третью ночь. А когда был дома, половину времени мысли его блуждали совсем в другом месте, и он продолжал думать о последнем своем деле. Когда-то Карен хотела иметь детей, но Лем все откладывал это, говоря, что не готов нести ответственность за детей до тех пор, пока не будет уверен, что его положение надежно. — Надежно? — сказал он. — Парень, ты же унаследовал деньги твоего папочки. Ты начинал, имея гораздо больше, чем большинство людей. Если Лем был так же предан Карен, как эти люди своей собачонке, тогда эта преданность должна была означать, что ее желания превыше всего. Если Карен хотела иметь детей, это должно быть важнее карьеры. Так? По крайней мере ему необходимо было пойти на компромисс и завести детей, когда им было чуть больше тридцати. До тридцати он мог заниматься карьерой, а после тридцати — наследниками. Сейчас ему сорок пять, а Карен — сорок три, и с детьми они опоздали. Лема охватило чувство страшного одиночества. Он вылез из постели, прошел в ванную, включил свет и внимательно стал разглядывать себя в зеркало. Глаза у него были красные и потухшие. Лем так похудел за время этого расследования, что лицо его все больше напоминало скелет. У него снова начались спазмы в животе, и он наклонился над раковиной, ухватившись за нее обеими руками. Язва заявила о себе с месяц назад, но его состояние ухудшалось с поразительной быстротой. Боль долго не отпускала его. Когда Лем вновь взглянул на себя в зеркало, то сказал: — Ты не верен даже самому себе, дурак. Убиваешь себя, загоняешь этой работой в гроб и не можешь остановиться. Ты не предан ни Карен, ни себе. На самом деле ты не предан даже управлению, если уж на то пошло. Черт подери, единственное, чему ты предан телом и душой, это идиотскому представлению твоего отца, что жизнь — это ходьба по канату. Идиотскому. Это слово, казалось, еще долго звучало в ванной. Лем любил и уважал своего отца, никогда не сказал о нем ничего плохого. А сегодня он признался Клиффу, что его отец был «невозможным человеком». А сейчас еще и это: «идиотское убеждение». Лем по-прежнему любил отца и всегда будет его любить. Но он стал задумываться о том, может ли сын любить отца и одновременно полностью отвергать все, чему тот его учил. Год назад, месяц назад, даже несколько дней назад Лем не смел даже помыслить об этом. А сейчас, Бог ты мой, это казалось не просто возможным, но и крайне важным — отделить любовь к отцу от приверженности его принципам. — Что со мной происходит? — спросил Лем. — Свобода? Наконец-то свобода в сорок пять лет? — Скосив глаза в зеркало, он сказал: — Почти в сорок шесть.
Глава 9
В воскресенье Тревис обратил внимание на то, что аппетит Эйнштейна по-прежнему оставлял желать лучшего, но в понедельник, двадцать девятого ноября, дела у ретривера, казалось, были в полном порядке. В понедельник и вторник Эйнштейн съел все без остатка и читал новые книги. Он чихнул всего лишь один раз и не кашлял вовсе. Пес пил больше воды, чем раньше, но не слишком много. А если он и проводил больше времени у камина, бродил по дому с меньшим энтузиазмом… ну что ж, зима быстро вступала в свои права, а всем известно, что поведение животных меняется в зависимости от времени года. В книжном магазине в Кармеле Нора купила «Настольный ветеринарный справочник для владельцев собак». Она провела несколько часов за кухонным столом, внимательно изучая его и выискивая возможные объяснения поведения Эйнштейна. Нора вычитала, что апатия, частичная потеря аппетита, чиханье, кашель и повышенная жажда могли вызываться сотней разных недомоганий — а могли совсем ничего не значить. — Похоже, единственное, чего у него не может быть, так это простуды, — сказала она. — Собаки в отличие от нас не простужаются. Но к тому времени, как Нора раздобыла этот справочник, симптомы недомогания у Эйнштейна настолько уменьшились, что она решила: он абсолютно здоров. В кладовке Эйнштейн с помощью «Скрэббл» сообщил им: «ИСПРАВЕН, КАК СКРИПКА». Наклоняясь к псу и поглаживая его, Тревис сказал: — Ну, думаю, тебе лучше знать. «ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ: ИСПРАВЕН, КАК СКРИПКА?» Возвращая карточки на место, Тревис объяснил: — Ну, потому что это значит «совершенно здоров». «А ПОЧЕМУ ЭТО ЗНАЧИТ «ЗДОРОВ»?» Тревис поразмыслил над этой метафорой: «Исправен, как скрипка» — и понял, что не сможет объяснить, почему она означает то, что означает. Он хотел узнать у Норы, она подошла к двери в кладовку, но тоже ничего не придумала. Достав лапой еще буквы и расположив их носом в нужном порядке, ретривер спросил: «ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ: НАДЕЖНЫЙ, КАК ДОЛЛАР?» — Надежный, как доллар — означает «в полном здравии», — проговорил Тревис. Нора сказала, обращаясь к собаке: — Это выражение проще пояснить. Когда-то доллар США был самой надежной, самой стабильной в мире валютой. Полагаю, это и сейчас так. Многие десятилетия он, в отличие от других валют, не подвергался значительной инфляции, а значит, не было причин разочаровываться в нем, и люди стали говорить: «Я надежен, как доллар». Конечно, доллар сейчас не тот, что прежде, и поэтому эта поговорка справедлива лишь отчасти, но мы все еще продолжаем ею пользоваться. «ЗАЧЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?» — Потому что… мы так привыкли, — пожала плечами Нора. «ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ: ЗДОРОВ, КАК ЛОШАДЬ? ЛОШАДИ НИКОГДА НЕ БОЛЕЮТ?» Собирая карточки и укладывая их на место, Тревис заметил: — Нет, на самом деле лошади, несмотря на свой размер, хрупкие животные. Они легко заболевают. Пес выжидательно посмотрел на Нору. Она сказала: — Наверное, мы говорим «здоров, как лошадь», потому что эти животные выглядят сильными и нам не верится, что они могут заболеть, хотя это случается то и дело. — Придется тебе привыкать, — сказал Тревис собаке, — что мы, люди, часто говорим вещи, кажущиеся на первый взгляд бессмысленными. Нажимая лапой на педали, выпускающие буквы, пес сообщил им: «ВЫ СТРАННЫЕ СУЩЕСТВА». Тревис взглянул на Нору, и они рассмеялись. Под словами «ВЫ СТРАННЫЕ СУЩЕСТВА» ретривер вывел: «НО Я ВАС ВСЕ РАВНО ЛЮБЛЮ». Такие любознательность и чувство юмора, казалось, больше, чем что-либо, другое, свидетельствовали о том, что Эйнштейн теперь полностью выздоровел. Это было во вторник. В среду, первого декабря, Нора рисовала в студии на втором этаже, а Тревис занимался проверкой системы безопасности и уходом за оружием. В каждой комнате было тщательно спрятано какое-нибудь оружие: под мебелью, за шторами или в кладовке — но всегда где-то под рукой. У них было два дробовика «моссберг» с револьверными рукоятками, четыре «смит-вессона» девятнадцатой модели, заряженных пулями 57-го калибра, два пистолета 38-го калибра, которые они возили с собой в пикапе и «Тойоте», карабин «узи» и два пистолета «узи». Они могли бы приобрести весь свой арсенал законным путем в местном оружейном магазине после того, как купили дом и зарегистрировались в графстве, но Тревис не мог ждать так долго. Он хотел, чтобы уже в первую ночь на новом месте у них было оружие, поэтому при посредничестве Ван Дайна в Сан-Франциско они с Норой нашли нелегального торговца оружием и купили все что нужно. Естественно, им не удалось бы приобрести устройство автоматической стрельбы для «узи» законным путем, но они купили такие устройства в Сан-Франциско, и теперь карабин и пистолеты «узи» были полностью автоматическими. Тревис ходил по комнатам, проверяя, так ли положено оружие, не запылилось ли оно, не нуждается ли в смазке и полностью лизаряжены магазины. Он знал, что все в полном порядке, но ему было спокойнее, если раз в неделю устраивалась такая проверка. Хотя Тревис уже много лет не носил формы, прежняя военная подготовка и привычки были у него в крови и под влиянием обстоятельств всплыли на поверхность быстрее, чем он ожидал. Прихватив с собой «моссберг», он вместе с Эйнштейном также обходил кругом дом, останавливаясь у каждого небольшого инфракрасного датчика, которые были спрятаны везде, где только можно: за камнями и растениями, за стволами немногих деревьев на углах дома, за старым гнилым сосновым пнем в конце подъездной дорожки. Тревис открыто купил компоненты датчиков у торговца электронными изделиями. Датчики были устаревшими, но он выбрал их, поскольку был знаком с ними еще со времен своей службы в группе «Дельта» и они годились для его целей. Провода от датчиков тянулись под землей к сигнальному устройству, спрятанному в одном из кухонных шкафов. Когда система включалась на ночь, ни одно живое существо крупнее енота не могло подойти к дому ближе чем на тридцать футов или пробраться в амбар, расположенный за домом, не включив сигнальное устройство. При этом не было ни звонков, ни завывания сирены, потому что это спугнуло бы Аутсайдера и он мог сбежать. А им не хотелось отпугивать его; они хотели его убить. Поэтому при срабатывании сигнального устройства включались радиоприемники во всех комнатах, настроенные на такую громкость, которая не насторожит Аутсайдера, но сможет предупредить Трсвиса и Нору. Сегодня, как и обычно, все датчики были на месте. Все, что надо было сделать Тревису, — это стереть тонкий слой пыли, покрывший линзы. — Дворцовый ров в отличном состоянии, мой господин, — сказал он. Эйнштейн одобрительно заворчал. В ржаво-красном амбаре Тревис с Эйнштейном осмотрели приспособления, которые, как они надеялись, преподнесут Аутсайдеру неприятный сюрприз. В северо-западном углу полутемного помещения слева от большой вращающейся двери на стенной полке был закреплен стальной баллон со сжатым воздухом. В противоположном, юго-восточном углу задней части здания, за пикапом и автомобилем, на такой же полке стоял точно такой же баллон. Они напоминали большие пропановые баллоны, которые используются в летних домиках для приготовления пищи, но в них находился не пропан. Они были наполнены закисью азота, которую иногда не слишком точно называют «веселящим газом». Первая струя действительно могла развеселить вас и заставить смеяться, но вторая нокаутировала бы прежде, чем смех успел сорваться с ваших уст. Дантисты и хирурги часто пользуются закисью азота при анестезии. Тревис купил баллоны там же, в Сан-Франциско, у торговца медицинской техникой. Включив в амбаре свет, он проверил манометры на обоих баллонах. Давление было в норме. Помимо большой вертящейся двери, в амбаре была еще одна, поменьше, в рост человека, расположенная в задней его части. Других дверей не было. Пару окон на чердаке Тревис забил досками. По ночам, когда включалась сигнальная система, маленькая задняя дверь оставалась незапертой — Тревис надеялся, что Аутсайдер, намереваясь приблизиться к дому под прикрытием амбара, попадется в ловушку. Когда он войдет, сработает механизм, который захлопнет и запрет за ним дверь. Передняя дверь, уже запертая снаружи, не даст ему выйти в эту сторону. Сразу же после того, как захлопнется ловушка, большие баллоны с закисью азота освободятся от всего своего содержимого менее чем за минуту, поскольку Тревис снабдил их клапанами экстренного выпуска, подсоединенными к сигнальной системе. Он законопатил все щели в амбаре, чтобы газ не мог улетучиться через них, прежде чем откроют одну из дверей. Аутсайдеру не удастся спрятаться в пикапе или «Тойоте», так как они будут заперты. В амбаре не останется ни уголка, где можно будет укрыться от газа. Не пройдет и минуты, как существо потеряет сознание. Тревис подумывал, не применить ли ему какой-нибудь отравляющий газ, который, вероятно, можно было бы найти у нелегальных торговцев, но потом решил этого не делать, поскольку, если что-либо пойдет не по плану, опасность для него, Норы и Эйнштейна будет слишком велика. После того как Аутсайдер потеряет сознание, Тревис сможет просто открыть одну из дверей, проветрить амбар, войти туда с карабином «узи» и убить эту тварь. В самом худшем случае, если во время проветривания Аутсайдер и придет в себя, он все еще будет нетвердо стоять на ногах и плохо соображать, и с ним будет легко справиться. Убедившись, что в амбаре все в полном порядке, Тревис и Эйнштейн вернулись во двор за домом. Декабрьский день был прохладным, но безветренным. Лес, окружавший усадьбу, казался неестественно тихим. Деревья стояли неподвижно под низко нависшим над ними небом с серо-голубыми облаками. Тревис спросил: — Аутсайдер по-прежнему идет сюда? Быстро вильнув хвостом, Эйнштейн ответил: Да. — Он уже близко? Пес втянул носом чистый зимний бодрящий воздух. Он прошел через двор на север по направлению к окружавшему участок лесу и снова вдохнул, вытянул голову и напряженно уставился в глубь деревьев. Затем проделал то же самое с южной стороны. У Тревиса создалось впечатление, что на самом деле псу не нужны были зрение, слух и обоняние при поисках Аутсайдера. Он следил за ним особым образом, отличным от того, каким бы выслеживал кугуара или белку. Тревис полагал, что собака прибегает к неведомому шестому чувству — назовите его психическим или по крайней мере квазипсихическим. Использование ретривером обычных чувств было, вероятно, или курком, запускающим эту психическую способность, или просто привычкой. Наконец Эйнштейн вернулся к нему и издал какое-то странное завывание. — Он что, близко? — спросил Тревис. Пес понюхал воздух, затем оглядел окружающий их мрачный лес, как будто не зная, что ответить. — Эйнштейн? Что-нибудь случилось? В конце концов ретривер пролаял: Нет. — Аутсайдер подбирается к нам? Колебание. Затем: Нет. — Ты уверен? Да. — Действительно уверен? Да. Когда Тревис открыл дверь дома, ретривер отвернулся от него, прошел к заднему крыльцу и замер, оглядывая в последний раз двор и мирный молчаливый темный лес. Затем легкая дрожь пробежала по его телу, и он вошел вслед за Тревисом в дом. Днем во время осмотра оборонительных приспособлений Эйнштейн был ласковее обычного, часто терся о ноги Тревиса, прижимался к нему и всячески старался вызвать ответную ласку, поглаживание или почесывание. Вечером, когда они втроем, сидя на полу в гостиной, смотрели телевизор, а затем играли в «Скрэббл», пес продолжал ласкаться. Он то и дело клал голову на колени то Норе, то Тревису. Казалось, его вполне бы устроило, если бы ему до самого лета почесывали за ухом и гладили. За время, прошедшее после их первой встречи в предгорьях Санта-Аны, у ретривера несколько раз бывали всплески чисто собачьего поведения, когда с трудом верилось, что он обладает интеллектом сродни человеческому. Сегодня он вновь был в таком настроении. Несмотря на проявленную им во время игры в «Скрэббл» сообразительность — он уступил только Норе и получал чертовское удовольствие от составления слов, слабо намекающих на ее пока еще незаметную беременность, — он был тем не менее просто собакой. Нора и Тревис закончили вечер легким чтением — детективными романами, — но Эйнштейн не захотел, чтобы они утруждали себя, вставляя книгу в его приспособление для переворачивания страниц. Вместо этого он улегся на полу перед Нориным креслом и мгновенно уснул. — Он какой-то немного заторможенный, — сказала Нора Тревису. — Но он ведь все съел за ужином. И потом у нас действительно был трудный день. Дыхание спящего пса было нормальным, и Тревис не волновался. Он даже меньше, чем прежде, беспокоился за их будущее. Проверка всех мер предосторожности вновь внушила ему уверенность в то, что они справятся с Аутсайдером, когда он доберется до них. А благодаря смелости и преданности Гаррисона Дилворта все попытки правительственных органов обнаружить их были сорваны, возможно, навсегда. Нора снова с большим энтузиазмом занялась живописью, а Тревис решил использовать свою лицензию агента по продаже недвижимости и сразу же после уничтожения Аутсайдера приступить к работе под именем Сэмюеля Хайатта. А если пес и был немного вялым… ну что ж, он, без всякого сомнения, был более энергичен, чем в последнее время, и завтра или самое позднее послезавтра снова станет самим собой. Этой ночью Тревис спал без всяких сновидений. Утром он поднялся раньше Норы. Когда Тревис принял душ и оделся, Нора тоже была уже на ногах. По дороге в ванную она поцеловала его, куснула в губу и пробормотала сонные уверения в любви. Глаза ее припухли, волосы спутались, зубы не чищены, но он все равно затащил бы ее в постель, если бы она не сказала: — Можешь застрелить меня, Ромео. Сейчас мое единственное желание — пара яиц, бекон, тост и кофе. Тревис спустился вниз и, начав с гостиной, принялся открывать внутренние ставни, впуская утренний свет. Небо казалось таким же низким и серым, как вчера, и он не удивился бы, если бы пошел дождь. В кухне Тревис обратил внимание на то, что дверь в кладовку открыта и в ней горит свет. Он заглянул внутрь в поисках Эйнштейна, но единственным указанием на пса было послание, составленное им ночью: «СКРИПКА СЛОМАЛАСЬ. НЕ НАДО ДОКТОРА. ПОЖАЛУЙСТА. НЕ ХОЧУ ОБРАТНО В ЛАБОРАТОРИЮ. БОЮСЬ. БОЮСЬ». — О Господи, Боже мой! Тревис вышел из кладовки и крикнул: — Эйнштейн! Никто не залаял в ответ и не прошлепал ему навстречу. Окна в кухне все еще были закрыты ставнями, и света из кладовки было недостаточно, чтобы осветить всю комнату. Тревис рывком включил свет. Собаки не было. Он вбежал в кабинет. Ретривера там тоже не было. С почти до боли колотящимся сердцем Тревис помчался наверх, перепрыгивая через ступеньки, заглянул в третью спальню, которая в один прекрасный день станет детской, а затем в комнату, служившую Норе студией, но Эйнштейна нигде не было. Не было его и в главной спальне, не было даже под кроватью, куда в отчаянии заглянул Тревис. Какое-то мгновение он никак не мог сообразить, куда, черт возьми, подевался пес, и стоял, прислушиваясь к Нориному пению в ванной, — она до сих пор не знала о том, что произошло, — и Тревис уже направился было к ней, чтобы сказать о случившемся, как вдруг вспомнил о ванной на первом этаже. Он выбежал из спальни через холл и понесся вниз по лестнице так стремительно, что чуть не потерял равновесие и не упал, и там, в ванной комнате, между кухней и кабинетом нашел то, что искал. В ванной стояла ужасная вонь. Пса, всегда такого аккуратного, стошнило в унитаз, но у него не хватило сил — а может быть, ясности ума, — чтобы спустить за собой воду. Эйнштейн лежал на боку на полу, Тревис опустился на колени рядом с ним. Ретривер не шевелился, но был жив, жив — Тревис слышал его дыхание, но оно было хриплым. Узнав голос Тревиса, он попытался поднять голову, но у него не было сил пошевелиться. Его глаза, Господи Иисусе, его глаза! Очень мягко Тревис приподнял голову собаки и увидел, что эти всегда такие удивительно выразительные коричневые глаза потускнели. Из них медленно стекала водянистая желтая жидкость; она запеклась на его золотистой шерсти. Такие же липкие выделения текли из ноздрей. Положив руку на шею ретривера, Тревис почувствовал затрудненное и неритмичное сердцебиение. — Нет, — сказал Тревис. — О нет, нет. Этого не будет, парень. Я не допущу, чтобы это случилось. Он опустил голову ретривера на пол, встал и повернулся к двери, а Эйнштейн едва слышно завыл, как бы желая сказать, что не хочет оставаться один. — Я сразу же вернусь, сразу же, — пообещал Тревис. — Держись, парень. Я быстро. Он понесся вверх по лестнице еще быстрее, чем прежде. Сердце его колотилось с такой силой, что казалось, сейчас вырвется из груди. Тревис тяжело дышал. Нора только что вышла из-под душа и стояла в ванной голая, с нее стекала вода. Тревис выпалил: — Быстро одевайся, нам срочно нужен ветеринар, ради Бога поторопись. Она в ужасе спросила: — Что случилось? — Эйнштейн! Скорее! Я думаю, он умирает. Он сдернул с постели одеяло и, оставив Нору одеваться, поспешил вниз, в ванную комнату. Прерывистое дыхание ретривера, казалось, за ту минуту, что Тревис отсутствовал, стало еще хуже. Он сложил одеяло вчетверо, затем положил на него пса. Эйнштейн испустил болезненный стон, как будто каждое движение причиняло ему боль. Тревис сказал: — Спокойно, спокойно. С тобой все будет в порядке. В дверях показалась Нора. Она на ходу застегивала влажную блузку, поскольку, чтобы не терять времени, надела ее прямо на мокрое тело. Волосы у нее были влажные. Задыхаясь от волнения, Нора проговорила: — Ох, мохнатая морда, нет, нет. Она хотела наклониться и потрогать ретривера, но нельзя было медлить. Тревис сказал: — Подгони к дому пикап. Пока Нора неслась к амбару, Тревис, как мог, укутал Эйнштейна в одеяло, так что из него виднелись только голова, хвост и задние лапы. Безуспешно стараясь не причинять ретриверу боли, Тревис взял его на руки и понес из ванной через кухню на улицу, захлопнув за собой дверь, но не заперев ее: сейчас ему было наплевать на безопасность. Похолодало. Вчерашнего спокойствия как не бывало. Вечнозеленые деревья раскачивались и дрожали, и было что-то зловещее в их ощетинившихся игольчатых ветвях. Другие, стоящие с голыми ветвями, вздымали в мрачное небо свои черные костлявые руки. Нора в амбаре завела пикап. Взревел мотор. Тревис осторожно спустился с крыльца и медленно пошел к подъездной дорожке, ступая так аккуратно, как будто нес в руках тончайший старинный фарфор. Порывистый ветер, казалось, обладал какой-то злой волей: он поднимал его волосы, хлопал свободными концами одеяла, взъерошивая шерсть на торчащей из-под одеяла голове Эйнштейна, и стремился оторвать от Тревиса пса. Нора круто развернула пикап и остановилась, поджидая Тревиса. Вести машину будет она. Верно замечено: в определенные критические моменты, во время больших эмоциональных переживаний женщины лучше мужчин умеют взять себя в руки и делать то, что надо. Сидя на пассажирском месте и укачивая лежащего у него на руках завернутого в одеяло пса, Тревис был не в состоянии вести автомобиль. Его била сильная дрожь, и он понял: у него из глаз непрерывно катятся слезы с того самого момента, когда нашел Эйнштейна на полу в ванной комнате. У Тревиса случались тяжелые минуты во время службы в армии; и даже во время опаснейших операций, проводимых группой «Дельта», он никогда не поддавался панике или страху, но в этот раз все было по-другому: это ведь был Эйнштейн, это был его ребенок. Если бы ему пришлось сесть за руль, Тревис, наверное, сразу же врезался бы в дерево или съехал с дороги прямо в кювет. У Норы тоже в глазах стояли слезы, но она не сдалась им. Она кусала губы и ехала дальше, как если бы её специально готовили к участию в трюках во время киносъемок. В конце грунтовой дороги они свернули направо и по извилистому шоссе «Пасифик коаст» поехали на север, в Кармел, где должен быть хотя бы один ветеринар. Во время поездки Тревис разговаривал с Эйнштейном, стараясь успокоить и подбодрить его. — Все будет в порядке, в полном порядке, все не так плохо, как кажется, ты будешь как новенький. Эйнштейн захныкал и слабо заворочался на руках у Тревиса, и тот понял, о чем думает пес. Ретривер боится, как бы ветеринар не обнаружил у него в ухе татуировку, тогда он поймет, что она означает, и отправит его обратно в Банодайн. — Не бойся, мохнатая морда. Никто не сможет отнять тебя у нас. Клянусь тебе, никто. Им придется сначала иметь дело со мной, и у них ничего не выйдет, ничего. — Ничего, — мрачно подтвердила Нора. Но Эйнштейн, прижатый в одеяле к груди Тревиса, отчаянно затрясся. В памяти Тревиса всплыли слова, выложенные на полу в кладовке: «СКРИПКА СЛОМАЛАСЬ… БОЮСЬ… БОЮСЬ…» — Не бойся, — умоляюще произнес он. — Не бойся. Бояться нечего. Несмотря на идущие от сердца заверения Тревиса, Эйнштейн дрожал и боялся, и Тревису тоже было страшно.* * *
Остановившись на станции технического обслуживания на окраине Кармела, Нора отыскала адрес ветеринара в телефонном справочнике и позвонила ему, чтобы убедиться, что он на месте. Клиника доктора Джеймса Кина находилась на Долорес-авеню, на южной окраине города. Когда они доехали туда, было без нескольких минут девять. Нора ожидала увидеть типичную, кажущуюся стерильной ветеринарную лечебницу и с удивлением обнаружила, что доктор Кин практикует у себя дома в симпатичном двухэтажном коттедже в английском стиле из камня и бревен с загибающейся по углам крышей. Они еще торопливо шли по каменной дорожке к дому, неся Эйнштейна на руках, а Кин уже открывал им дверь, как будто высматривал, не едут ли они. Стрелка показывала, что вход в лечебницу находится с другой стороны здания, но ветеринар впустил их через парадную дверь. Это был высокий человек со скорбным выражением лица, желтоватой кожей и печальными карими глазами, но теплой улыбкой и обходительными манерами. Закрывая дверь, доктор Кин сказал: — Сюда, пожалуйста. Он быстро провел их через холл с дубовым паркетом и длинной узкой ковровой дорожкой. Налево, за аркой, виднелась уютно обставленная жилая комната, которая действительно выглядела жилой, с подставочками для ног, стоящими перед креслами, настольными лампами, книжными стеллажами и вязаными шерстяными пледами, аккуратно перекинутыми через спинки некоторых стульев на случай зябких вечеров. В арке стоял пес, черный Лабрадор. Он серьезно посмотрел на них, как будто понимал всю тяжесть состояния Эйнштейна, и не последовал за ними. Они прошли за ветеринаром вглубь дома и, свернув налево от холла, оказались в чистой приемной. Вдоль стен стояли шкафы из белой эмали и нержавеющей стали, сквозь стеклянные дверцы которых были видны пузырьки с лекарствами, сыворотками, таблетками, капсулами и огромным количеством различных порошковых ингредиентов, из которых составляют более экзотические препараты. Тревис осторожно опустил Эйнштейна на смотровой стол и развернул одеяло. Нора отчетливо увидела, что они с Тревисом ведут себя точь-в-точь как обезумевшие родители, принесшие к врачу умирающего ребенка. У Тревиса были красные глаза, хотя он больше не плакал, но непрерывно сморкался. Сама Нора, как только припарковала пикап перед домом и поставила его на ручной тормоз, больше не могла сдерживать слезы. Сейчас она стояла по другую сторону смотрового стола от доктора Кина, обхватив рукой Тревиса, и тихо плакала. Ветеринар, очевидно, привык к проявлению сильных эмоций со стороны владельцев своих пациентов, потому что ни разу не взглянул на Нору и Тревиса и ни разу ничем не выказал, что находит их волнение и горе чрезмерными. Доктор Кин прослушал сердце и легкие ретривера стетоскопом, пропальпировал его живот, осмотрел гноящиеся глаза с помощью офтальмоскопа. На протяжении всех этих и еще нескольких других процедур Эйнштейн оставался неподвижным, как будто парализованным. Только по его слабым завываниям и неровному дыханию можно было понять, что он все еще жив. «Все не так страшно, как кажется», — повторяла про себя Нора, промокая глаза носовым платком. Посмотрев на Нору и Тревиса, доктор Кин спросил: — Как его зовут? — Эйнштейн, — ответил Тревис. — Сколько времени он живет с вами? — Всего несколько месяцев. — Ему делали прививки? — Нет, — сказал Тревис. — Не делали, черт побери. — А почему? — Это… сложно объяснить, — сказал Тревис. — Но есть причины, по которым мы не могли сделать ему прививки. — Все причины несостоятельны, — неодобрительно произнес Кин. — У него нет свидетельства, нет прививок. Вы поступили крайне безответственно, не оформив положенных документов и не сделав ему прививок. — Знаю, — произнес Тревис упавшим голосом. — Знаю. — А что с Эйнштейном? — спросила Нора, мысленно повторяя как заклинание: «Все не так страшно, как кажется». Слегка поглаживая ретривера, Кин ответил: — У него чумка.Эйнштейна переложили в угол кабинета на толстый, в длину собаки матрац с полиэтиленовым чехлом на «молнии». Чтобы он не мог никуда уйти — если когда-нибудь у него будут силы двигаться, — его привязали коротким ремешком к кольцу в стене. Доктор Кин сделал ретриверу инъекцию. — Антибиотик, — объяснил он. — Против чумки нет эффективных антибиотиков, но они необходимы, чтобы избежать вторичных бактериальных инфекций. Он также вколол иглу в одну из вен на лапе ретривера и подсоединил ее к капельнице, чтобы избежать обезвоживания. Когда ветеринар попытался надеть на Эйнштейна намордник, Нора и Тревис с жаром запротестовали. — Я не боюсь, что он может меня укусить, — объяснил доктор Кин. — Это необходимо для его же пользы, чтобы помешать ему впиться зубами в иглу. Как только у него появятся силы, он начнет делать то, что всегда делают с ранами собаки: зализывать их и пытаться уничтожить зубами любой источник раздражения. — Только не этот пес, — сказал Тревис. — Этот пес — особенный. Он оттолкнул Кина и, подойдя к собаке, снял с нее приспособление, связывающее челюсти. Ветеринар хотел было запротестовать, но потом передумал. — Ладно. Пусть пока лежит так. Сейчас он, в любом случае, слишком слаб. Все еще стараясь отрицать ужасную правду, Нора сказала: — Но насколько это серьезно? У него были всего лишь очень слабые симптомы болезни, да и те исчезли через пару дней. — У половины всех собак, больных чумкой, вообще не бывает никаких симптомов, — сказал ветеринар, убирая в один из шкафов пузырек с антибиотиками и бросая использованный шприц в мусорное ведро. — У других симптомы слабые, которые то появляются, то исчезают. Некоторые болеют очень тяжело, как Эйнштейн. Это может быть постепенно прогрессирующая форма болезни, а могут сначала появиться слабые симптомы, а потом… такое. Но во всем этом есть светлая сторона. Тревис сидел на корточках рядом с Эйнштейном, чтобы тот мог видеть его, не поднимая головы и не вращая глазами, и чувствовать, что за ним ухаживают, присматривают, любят. Заслышав слова Кина о светлой стороне, Тревис с надеждой поднял на него глаза: — Какая светлая сторона? Что вы имеете в виду? — Зачастую течение чумки определяется состоянием пса до заражения. Наиболее тяжело болеют животные, за которыми был плохой уход и которых плохо кормили. А я вижу, что за Эйнштейном очень хорошо ухаживали. Тревис сказал: — Мы старались хорошо его кормить и следить за тем, чтобы он был в хорошей физической форме. — А мыли и чистили его даже слишком часто, — добавила Нора. Улыбнувшись и в знак одобрения кивнув головой, доктор Кин сказал: — Тогда у него есть преимущество. У нас есть самая настоящая надежда. Нора встретилась глазами с Тревисом, но он быстро отвел взгляд и посмотрел вниз на ретривера. Вопрос, которого они так боялись, пришлось задавать ей: — Доктор, он поправится, правда? Он не… он не умрет, ведь так? Очевидно, Джеймс Кин знал, что его от природы хмурое лицо и потупленный взгляд не могут вселить надежду. Он тепло улыбнулся и заговорил мягким, но уверенным голосом; у него появились почти отеческие манеры, которые, может быть, и были искусственными, но казались искренними и помогали уравновешивать вечное уныние, которым наградил его Господь Бог. Он подошел к Норе и положил руки ей на плечи: — Дорогая, вы любите этого пса так, как если бы он был вашим сыном, да? Она закусила губу и кивнула. — Тогда вы должны верить. Верить в Бога, который, говорят, все видит, и доверять немного мне. Я довольно хорошо знаю свое дело и заслуживаю вашего доверия. — Я верю, что вы хороший ветеринар, — ответила Нора. Все еще сидя на корточках рядом с Эйнштейном, Тревис приглушенно спросил: — Но шансы. Каковы шансы? Скажите нам прямо. Отпустив Нору и повернувшись к Тревису, Кин сказал: — Ну что же, выделения из глаз и носа не такие мутные, как могли бы быть. Далеко нет. На животе нет гнойников. Вы говорите, его рвало, но поноса не было? — Нет. Только рвота, — сказал Тревис. — Температура у него высокая, но не опасная. У него сильно текла слюна? — Нет, — ответила Нора. — Он не тряс головой и не делал такого жевательного движения, как если бы у него во рту был плохой привкус? — Нет, — хором ответили Тревис и Нора. — А вы не видели, он не бегал кругами, не падал без причины на землю? Не лежал на боку и не брыкался ногами, как будто бежит? Не бродил бесцельно по комнате, не натыкался на стены, не дергался, не было у него судорог или чего-нибудь еще в этом роде? — Нет, нет, — сказал Тревис. А Нора спросила: — Боже мой, неужели все это бывает? — Если болезнь перейдет во вторую стадию, да, — ответил Кин. — Тогда может быть затронут мозг. Возможны припадки вроде эпилептических. Энцефалит. Тревис поднялся, неожиданно как-то странно накренившись. Шатаясь, он направился к Кину, затем, качнувшись, остановился. Лицо у него было бледное как полотно. В глазах застыл ужас. — Затронут мозг? А если он поправится, у него будет… поврежден мозг? Нора почувствовала, как у нее к горлу волнами подкатывает маслянистая тошнота. Она представила себе Эйнштейна после болезни; такой же разумный, как человек, достаточно разумный, чтобы вспомнить, что некогда он был особенным, и знать, что это утеряно навсегда, что сейчас ты живешь тусклой, серой жизнью, не такой полной, как прежде. От страха у нее закружилась голова, и ей пришлось прислониться к смотровому столу. Ветеринар сказал: — Большинство собак не переносят чумки второй стадии. Но если Эйнштейн выживет, все равно у него будет задет мозг. Конечно, ничего такого, из-за чего его придется усыплять. У него, например, может на всю жизнь остаться хорея, то есть непроизвольное подергивание или дрожание, что-то вроде параличного, часто оно ограничивается только головой. Но при этом пес будет чувствовать себя относительно счастливым, вести безболезненное существование и оставаться по-прежнему симпатичным домашним животным. Тревис почти прокричал Кину: — Мне плевать, будет он симпатичным животным или нет. Меня не волнуют физические последствия повреждения мозга. Что станет с его разумом? — Ну, собака будет узнавать своих хозяев, — сказал ветеринар, — будет к вам привязана. Здесь никаких проблем. Возможно, она будет много спать. Возможны периоды апатии. Но почти наверняка утеряет некоторые навыки. Не то чтобы забудет, чему его учили… Дрожа всем телом, Тревис сказал: — Мне плевать, Эйнштейн может мочиться по всему дому, мне важно, чтобы он по-прежнему мог думать! — Думать? — повторил явно сбитый с толку доктор Кин. — Ну… что вы конкретно имеете в виду? Он ведь все-таки всего лишь собака. Прежде ветеринар воспринимал их тревожное, со взрывами отчаяния поведение как нормальную в подобных ситуациях реакцию. Но теперь наконец он начал смотреть на них по-иному. Отчасти для того, чтобы сменить тему и усыпить подозрения ветеринара, отчасти потому, что она просто хотела услышать ответ, Нора спросила: — Хорошо, а сейчас у Эйнштейна вторая стадия? Кин ответил: — Судя по тому, что я до сих пор видел, он все еще в первой стадии. Сейчас лечение начато, и, если в течение последующих суток мы не увидим более тяжелых симптомов, я думаю, у нас есть хороший шанс удержать его на этой стадии и затем выйти из нее. — А на первой стадии мозг не затрагивается? — спросил Тревис так настойчиво, что Кин снова вскинул вверх брови. — Нет, на первой стадии нет. — А если он останется на первой стадии, — сказала Нора, — он не умрет? Стараясь говорить как можно мягче и успокаивающе, Джеймс Кин сказал: — Ну, сейчас у него очень хорошие шансы пережить чумку первой степени — и без каких бы то ни было последствий. Я хочу, чтобы вы поняли, что его шансы на выздоровление достаточно высоки. Но в тоже время не хочу вселять в вас излишнюю уверенность. Это было бы жестоко. Даже если болезнь не будет прогрессировать дальше первой стадии, Эйнштейн может умереть. Больше шансов за то, что он выживет, но смертельный исход не исключен. Нора снова расплакалась. Она думала, что взяла себя в руки. Думала, что готова быть сильной. Но сейчас не сдержалась. Нора подошла к Эйнштейну, села рядом с ним на пол и положила ему руку на плечо, просто чтобы дать ему понять, что она рядом. Кина слегка начала раздражать — и здорово озадачивать — их буйная эмоциональная реакция на плохую новость. В его голосе появились жесткие нотки. Он сказал: — Послушайте, единственное, что мы можем сейчас для него сделать, это обеспечить первоклассный уход и не терять надежды. Естественно, ему придется остаться здесь, поскольку чумка требует сложного лечения, и оно должно проводиться под наблюдением ветеринара. Я буду держать его на внутривенных вливаниях, антибиотиках… регулярно давать противосудорожные и седативные препараты, если у него начнутся припадки. Нора рукой ощутила, как задрожал Эйнштейн, как будто слышал и понял все эти страшные перспективы. — Хорошо, о'кей, согласен, — сказал Тревис, — очевидно, ему придется побыть у вас. Мы останемся сним. — В этом нет необходимости… — начал Кин. — Хорошо, необходимости нет, — быстро проговорил Тревис, — но мы хотим остаться, нам будет удобно, мы можем спать сегодня здесь на полу. — О, боюсь, это невозможно, — сказал ветеринар. — Нет, возможно, о нет, совершенно возможно, — пробормотал Тревис, стараясь убедить ветеринара. — Не беспокойтесь о нас, доктор. Мы прекрасно устроимся. Мы нужны Эйнштейну тут, и мы тут останемся и, конечно же, заплатим вам за причиненные неудобства. — Но у меня здесь не гостиница! — Мы должны остаться, — твердо сказала Нора. Кин сказал: — Послушайте, я нормальный человек, но… Тревис обеими руками схватил правую руку ветеринара и крепко сжал ее, чем несказанно удивил Кина. — Послушайте, доктор Кин, пожалуйста, позвольте мне попытаться объяснить. Я понимаю, это необычная просьба. Я знаю, что мы кажемся вам парочкой сумасшедших, но у нас есть на то свои причины, и они очень веские. Это не простой пес, доктор Кин. Он спас меня… — И меня тоже, — сказала Нора. — При других обстоятельствах. — И мы познакомились благодаря ему, — сказал Тревис. — Не будь Эйнштейна, мы бы никогда не встретились, никогда не поженились, и нас бы уже не было на свете. Кин ошарашенно переводил взгляд с одного на другого. — Вы хотите сказать, спас вас обоих в буквальном смысле? И при разных обстоятельствах? — Именно так, — ответила Нора. — А затем познакомил вас? — Да, — сказал Тревис. — Изменил наши жизни коренным образом. Сжатый руками Тревиса ветеринар взглянул на Нору, опустил свои добрые глаза на тяжело дышащего ретривера, покачал головой и произнес: — Обожаю истории про собак-героев. Вам придется рассказать мне ваши. — Мы вам все расскажем, — пообещала Нора, а про себя решила: это будут тщательно отредактированные версии. — Когда мне было пять лет, — сказал Джеймс Кин, — я чуть было не утонул, и меня спас черный Лабрадор. Нора припомнила красивого черного Лабрадора в гостиной и подумала, не потомок ли он пса, спасшего Кина, или просто напоминание о том, что он в долгу перед собаками. — Хорошо, — сказал Кин, — вы можете остаться. — Спасибо, — голос Тревиса дрогнул. — Спасибо. Высвободив свою руку из рук Тревиса, Кин сказал: — Но должно пройти по меньшей мере сорок восемь часов, прежде чем я смогу с уверенностью сказать, что Эйнштейн выживет. Это долго. — Сорок восемь часов — это ничто, — сказал Тревис. — Всего лишь две ночи на полу. Мы справимся. Кин сказал: — У меня есть подозрение, что для вас двоих эти сорок восемь часов покажутся вечностью. — Он взглянул на часы и проговорил: — Так, минут через десять придет моя ассистентка, и вскоре после этого мы начнем утренний прием. Я не хочу, чтобы, пока я занимаюсь пациентами, вы путались у меня под ногами. Да и вряд ли доставит большое удовольствие сидеть в приемной вместе с толпой других взволнованных хозяев и больных животных; это только еще больше расстроит вас. Вы можете обождать в гостиной, а после приема вернетесь сюда, к Эйнштейну. — А днем нам можно к нему заглядывать? Кин улыбнулся: — Ладно. Но только заглядывать. Эйнштейн под Нориной рукой наконец перестал дрожать. Частично напряжение покинуло его, и он расслабился, как если бы слышал, что им разрешили остаться рядом, и это его сильно успокоило.
Утро тянулось мучительно долго. В гостиной доктора Кина были телевизор, книги и журналы, но ни Нора, ни Тревис не могли сконцентрироваться ни на телевизионных передачах, ни на чтении. Примерно каждые полчаса они по очереди проскальзывали через холл и заглядывали к Эйнштейну. Им не показалось, что он чувствует себя хуже, но и лучше ему тоже не стало. Один раз к ним зашел Кин и сказал: — Между прочим, к вашим услугам ванная комната, а в холодильнике есть прохладительные напитки. Если хотите, можете сварить себе кофе. — Улыбнувшись, он посмотрел на стоящего у его ног черного Лабрадора. — А этого приятеля зовут Пука. Он вас страшно полюбит, если вы только дадите ему такую возможность. В самом деле, Пука оказался одним из самых дружелюбных псов, каких Нора встречала. Без всяких просьб он перекатывался с боку на бок, притворялся мертвым, вставал на задние лапы, а затем, сопя и виляя хвостом, подходил к ним, чтобы его приласкали или почесали в виде вознаграждения. Все утро Тревис игнорировал любые попытки Лабрадора обратить на себя внимание, как если бы он, приласкав собаку, каким-то образом предал Эйнштейна и тем самым вызвал его смерть от чумки. Нора, напротив, находила в псе утешение и дарила ему то внимание, которого он так жаждал. Она говорила себе, что, если будет хорошо обращаться с Пукой, богам это понравится, и тогда они благосклонно отнесутся к Эйнштейну. Результатом ее отчаяния было не менее страстное, чем у мужа, — хотя и совершенно обратное — суеверие. Тревис бродил взад-вперед по комнате, затем садился на краешек стула, наклонив голову и обхватив ее руками. Подолгу он стоял у одного из окон, глядя на улицу, но не видя ничего, кроме какого-то темного отражения собственных мрачных мыслей. Он винил себя за то, что случилось, и истинное положение вещей (о котором ему напоминала Нора) никак не уменьшало его иррациональное чувство вины. Смотря в окно и обхватив себя руками, как будто ему было холодно, Тревис тихо спросил: — Как ты думаешь, Кин видел татуировку? — Не знаю. Может быть, и нет. — Думаешь, действительно всем ветеринарам разослали приметы Эйнштейна? Кин догадается, что означает татуировка? — Возможно, и нет, — ответила Нора. — Вероятно, в нас говорит параноидальный страх. Но, узнав от Гаррисона об усилиях, предпринятых правительством, чтобы помешать адвокату предупредить их, они понимали, что развернутые широкомасштабные поиски собаки все еще продолжаются. А значит, говорить о «параноидальном страхе» не приходилось.
С двенадцати до четырнадцати часов дня у доктора Кина был перерыв. Он пригласил Нору и Тревиса в свою просторную кухню на ленч. Кин был холостяком и сам о себе заботился: его морозильная камера была битком набита разными замороженными блюдами, которые он сам приготовил и упаковал. Ветеринар разморозил отдельно завернутые ломтики лазаньи домашнего приготовления и при помощи гостей сделал три салата. Все было очень вкусно, но ни у Норы, ни у Тревиса не было аппетита. Чем больше Нора узнавала Джеймса Кина, тем больше он ей нравился. Несмотря на мрачную внешность, ветеринар оказался веселым человеком, и его чувство юмора распространялось и на него самого. Он весь изнутри светился любовью к животным, и это придавало ему особую привлекательность. Собаки были его страстью, и, когда Кин говорил о них, энтузиазм преображал его блеклые черты и он становился красивее и привлекательнее. Доктор поведал им о Кинге, черном Лабрадоре, который спас его в детстве, и попросил Нору и Тревиса рассказать о том, как Эйнштейн спас их. Тревис в красках поведал ему, как в горах он чуть было не наткнулся на раненого и разъяренного медведя. Описал, как Эйнштейн предупредил его и затем, когда обезумевший медведь погнался за ним, отвлекал медведя и несколько раз сбивал со следа. Нора смогла рассказать историю, более близкую к истине: как на нее набросился сексуальный маньяк и как ему помешал Эйнштейн, который задержал его и не отпускал до прибытия полиции. Кин был потрясен: — Он и правда герой! Нора чувствовала: своими рассказами о собаке они настолько завоевали расположение ветеринара, что если он и обнаружил татуировку и знал, что она означает, то скорее всего выбросит все это из головы и даст им уйти с миром, когда Эйнштейн поправится. Если Эйнштейн поправится. Но, когда они убирали со стола, Кин спросил: — Сэм, я тут все думаю: почему ваша жена зовет вас Тревисом? К такому вопросу Нора и Тревис были готовы. Получив фальшивые документы, они решили, что будет проще и безопаснее, если Нора по-прежнему будет звать его Тревисом, а не Сэмом, потому что в какой-нибудь критический момент она может оговориться. Всегда можно было сказать, что она прозвала его Тревисом после одной очень личной шутки; подмигивая друг другу и глупо ухмыляясь, они могли намекнуть, что у этой шутки был какой-то сексуальный подтекст, нечто слишком нескромное, чтобы не сказать больше. Именно так они и ответили на вопрос Кина, но у них не было настроения убедительно подмигивать и глупо ухмыляться, поэтому Нора не была уверена в том, что они хорошо сыграли свои роли. Более того, она думала, что их нервное и неумелое представление могло усилить подозрения Кина, если таковые были.
Незадолго до начала дневного приема Кину позвонила его ассистентка, у которой еще утром разболелась голова, и сообщила, что к головной боли добавилось расстройство желудка. Ветеринар вынужден был один вести прием, поэтому Тревис сразу предложил ему свои и Норины услуги. — Конечно, у нас нет специальной подготовки, но мы вполне годимся для любой черной работы. — Да, — подтвердила Нора, — и, между прочим, у нас на плечах вполне приличные головы. Если вы нас научите, мы могли бы делать практически все. Весь день они провели, удерживая вырывающихся кошек, собак, попугаев и других животных, пока Джим Кин лечил их. Надо было подавать бинты, доставать из шкафов лекарства, мыть и стерилизовать инструменты, брать плату и выписывать рецепты. Некоторые животные, страдающие рвотой и поносом, оставляли после себя грязь, которую надо было убирать, но Тревис и Нора делали эту неприятную работу, ни на что не жалуясь и не колеблясь, как любую другую. На то у них было две причины. Во-первых, помогая Кину, можно было весь день находиться в его кабинете вместе с Эйнштейном. В перерывах они улучали минутку приласкать ретривера, сказать ему несколько ободряющих слов и убедиться лично, что ему не стало хуже. Отрицательная сторона их неотлучного пребывания рядом с Эйнштейном заключалась в том, что они, к своему огорчению, также не видели, чтобы его состояние улучшалось. Вторая причина заключалась в том, чтобы снискать еще большее расположение ветеринара, чтобы он чувствовал себя им обязанным и не передумал оставить их на ночь. Наплыв пациентов был намного больше обычного, и они смогли закончить прием только после шести часов. Усталость и совместная работа породили теплое чувство товарищества. Пока готовили обед и сидели вместе за столом, Джим Кин развлекал их множеством веселых историй о животных из своей практики, и им было так хорошо и приятно вместе, как будто они были знакомы с ветеринаром многие месяцы, а не несколько часов. Кин приготовил для них спальню для гостей и дал несколько одеял, чтобы соорудить постель на полу в кабинете. Тревис с Норой решили по очереди спать в спальне, а половину ночи проводить на полу рядом с Эйнштейном. Первым должен был дежурить Тревис — с десяти вечера до трех часов ночи. В дальнем углу кабинета оставили включенной одну лампу, и Тревис то сидел, то лежал на одеялах в полумраке рядом с Эйнштейном. Иногда пес спал, и его дыхание становилось более ровным, не таким страшным. Но иногда бодрствовал, и дыхание становилось пугающе трудным, ретривер похныкивал от боли и — Тревис каким-то образом догадывался — от страха. Когда Эйнштейн бодрствовал, Тревис разговаривал с ним, вспоминал случаи из их совместной жизни, те многие приятные моменты и счастливые минуты, которые у них были за эти шесть месяцев, и, казалось, собака немного успокаивалась, слыша голос Тревиса. Она лежала совершенно неподвижно, и в силу этого у нее появилось недержание. Пару раз пес мочился на покрытый полиэтиленом матрац. Тревис все убирал без всякого отвращения, с любовью и состраданием, которые были сродни отцовским по отношению к тяжело больному ребенку. Удивительно, но Тревису даже была приятна вся эта грязь, потому что всякий раз, как Эйнштейн мочился, это служило доказательством, что он все еще жив, все еще функционировал в каком-то смысле так же нормально, как всегда. Несколько раз в течение ночи принимался идти дождь. Звук дождя по крыше казался траурным и напоминал похоронный барабанный стук. Дважды за смену Тревиса появлялся Джим Кин в надетом на пижаму халате. В первый раз он внимательно осмотрел Эйнштейна и сменил бутылочку в капельнице. Позже он еще раз осмотрел его и сделал укол. Оба раза он заверял Тревиса, что признаки улучшения появятся позже, сейчас хорошо уже то, что не было признаков ухудшения состояния пса. Часто в течение ночи Тревис уходил в другой угол кабинета и читал слова в простой рамке над раковиной:
Всякий раз, когда Тревис перечитывал эту оду, его заново переполняло удивление от существования Эйнштейна. Что может быть обычнее детской фантазии, что его собака так же восприимчива, мудра и умна, как любой взрослый человек? Какой Божий дар может доставить больше радости ребенку, чем сознание того, что его домашний пес может общаться с ним на человеческом уровне и делить с ним горе и радости, полностью осознавая их значение и важность? Какое чудо может принести большую радость, внушить большее благоговение перед таинствами природы, больший восторг перед неожиданными сторонами жизни? Каким-то образом сама идея объединить в одном существе индивидуальность собаки и разум человека давала надежду на появление нового вида, такого же талантливого, как человечество, но более благородного и достойного. И разве есть другая, более распространенная мечта взрослых, чем встретить однажды других разумных существ и разделить с ними огромную, холодную вселенную и, поделив ее с ними, хотя бы отчасти избавиться наконец от невыразимого одиночества и чувства тихого отчаяния? И какая другая потеря может сравниться с потерей Эйнштейна, первого многообещающего свидетельства того, что человечество несет в себе ростки не просто величия, но и некоего божественного начала? Эти мысли, которые Тревис не мог подавить, потрясли его, и у него из груди вырвалось хриплое горестное рыдание. Обозвав себя неврастеником, он пошел вниз, где пес не увидит — и не испугается — его слез. Нора сменила Тревиса в три часа ночи. Ей пришлось долго уговаривать его пойти в спальню, поскольку он никак не соглашался покинуть кабинет Кина. Измученный, но говоря, что не сможет заснуть, Тревис рухнул на кровать и сразу уснул. Он видел сон. За ним гналось желтоглазое чудище с кривыми когтями и сплюснутыми крокодильими челюстями. Он пытался защитить Эйнштейна и Нору, толкая их перед собой, заставляя их бежать, бежать, бежать. Но каким-то образом монстру удалось обойти Тревиса, и он разорвал на куски сначала Эйнштейна, а затем Нору — это было прежнее проклятие Корнелла, которое невозможно снять, просто сменив имя на Сэмюеля Хайатта, — и в конце концов Тревис перестал бежать, упал на колени и наклонил голову, потому что не сумел спасти Нору и пса и теперь ему хотелось умереть, и он слышал приближение твари — клик-клик-клик, — но в то же время он приветствовал смерть, которую предвещало это приближение. Нора разбудила его незадолго до пяти часов утра. — Эйнштейн, — настойчиво сказала она. — У него судороги.ПОСВЯЩЕНИЕ СОБАКЕ
Единственным, совершенно бескорыстным другом человека в этом корыстном мире, другом, который никогда не покинет его, который никогда не бывает неблагодарным и не предаст его, является собака. Собака останется рядом с человеком вбогатстве и бедности, в здравии и болезни. Она будет спать на холодной земле, где дуют зимние ветры и яростно метет снег, только бы быть рядом с хозяином. Собака будет целовать ему руку, даже если эта рука не может дать ей еды; она будет зализывать раны и царапины — результат столкновений с жестокостью окружающего мира. Собака охраняет сон своего нищего хозяина так же ревностно, как если бы он был принцем. Когда уходят все остальные друзья, этот останется. Когда все богатства улетучатся и все разваливается на куски, собака так же постоянна в своей любви, как солнце, шествующее по небу.Сенатор Джордж Вест, 1870 г.
Когда Нора привела Тревиса в кабинет, Джим Кин, склонившись над Эйнштейном, что-то делал. Единственное, что им оставалось, это не путаться у ветеринара под ногами и не мешать ему работать. Они стояли взявшись за руки. Спустя несколько минут доктор Кин встал. Он выглядел обеспокоенным и не пытался, как обычно, улыбаться или поднять им настроение. — Я ввел ему дополнительно средство против конвульсий. Думаю… теперь с ним будет все в порядке. — У него началась вторая стадия? — спросил Тревис. — Может быть, нет, — ответил Кин. — А конвульсии на первой стадии бывают? — Это возможно, — сказал Кин. — Но маловероятно. — Да, маловероятно, — подтвердил доктор. — Хотя… и возможно. «Чумка второй степени», — с ужасом подумала Нора. Она еще крепче вцепилась в Тревиса. Вторая степень. Задет мозг. Энцефалит. Хорея. Повреждение мозга. Повреждение мозга.
Тревиса не удалось уговорить отправиться спать. Он остался в кабинете вместе с Норой и Эйнштейном. Они включили другую лампу, чтобы сделать немного посветлее, но не побеспокоить Эйнштейна, и внимательно следили, не появятся ли признаки того, что чумка перешла во вторую стадию: подергивание и жевательные движения, о которых говорил Джим Кин. Тревису никак не удавалось черпать надежду в том, что подобных симптомов не было. Даже если болезнь Эйнштейна все еще находилась на первой стадии и на ней и останется, Эйнштейн, казалось, умирал.
На следующий день, в пятницу третьего декабря, ассистентка Джима Кина все еще была больна и не могла выйти на работу, и Норе с Тревисом снова пришлось ему помогать. К ленчу температура Эйнштейна так и не спала. Из глаз и носа продолжала течь чистая, хотя и желтоватая жидкость. Дыхание его было менее затрудненным, но в отчаянии Норе казалось, что, возможно, дыхание ретривера стало полегче просто потому, что он не прикладывал больших стараний, чтобы дышать, так как начал сдаваться. За ленчем она не смогла проглотить ни кусочка. Пока Нора стирала и гладила одежду, свою и Тревиса, им пришлось надеть халаты Джима Кина, которые были слишком велики им обоим. Днем работы не убавилось. У Норы с Тревисом не было ни одной свободной минуты, и Нору это радовало. Без двадцати минут пять — это время навсегда врезалось им в память, — сразу после того как они помогли Джиму справиться с трудным пациентом — ирландским сеттером, — Эйнштейн дважды тявкнул со своего ложа в углу. Нора с Тревисом обернулись, задохнувшись и ожидая худшего, поскольку это был первый звук, кроме завываний, который пес издал с тех пор, как попал сюда. Но ретривер поднял голову — впервые у него были силы сделать это — и моргая посмотрел на них; он с любопытством огляделся по сторонам, как бы спрашивая, где это он находится. Джим опустился на колени рядом с ретривером и, пока Нора с Тревисом стояли у него за спиной, ожидая, что он скажет, осмотрел Эйнштейна. — Обратите внимание на его глаза. Они слегка мутные, но совсем не такие, как прежде, и не так сильно текут. — Влажной тряпочкой ветеринар вытер слипшуюся шерсть под глазами Эйнштейна и прочистил ему нос; в ноздрях больше не пузырились свежие выделения. Ректальным термометром он измерил температуру собаке и сказал: — Упала. На целых два градуса. — Слава Богу, — произнес Тревис. А Нора обнаружила, что у нее из глаз снова катятся слезы. Джим сказал: — Он еще не выкарабкался. Сердцебиение стало более ритмичным, менее быстрым, хотя все еще далеко от нормы. Нора, возьмите вон там одну из мисок и налейте в нее воды. Через секунду Нора вернулась от раковины и поставила миску на пол рядом с ветеринаром. Джим придвинул ее поближе к Эйнштейну. — Что скажешь, парень? Пес снова приподнял голову с матраца и уставился на миску. Его высунутый язык казался сухим и был покрыт каким-то клейким налетом. Он завыл в предвкушении удовольствия. — Может, — сказал Тревис, — если мы ему поможем… — Нет, — прервал Джим Кин. — Он сам должен решить. Собака сама знает, что делать. Мы ведь не хотим, чтобы ее снова вырвало от воды. Ей подскажет инстинкт, настало ли время. Со стонами и тяжело дыша Эйнштейн передвинулся на своем матраце, наполовину перекатившись с бока на живот. Он поднес нос к миске, понюхал воду, лизнул ее языком раз, другой и с явным удовольствием выпил треть, затем вздохнул и лег на место. Поглаживая ретривера, Джим Кин сказал: — Я очень удивлюсь, если он не поправится, полностью не поправится, со временем.
Со временем. Эта фраза беспокоила Тревиса. Сколько времени понадобится ретриверу, чтобы полностью восстановиться? Им всем будет лучше, если Эйнштейн выздоровеет и все его чувства зафункционируют по-прежнему, когда Аутсайдер в конце концов доберется до них. Инфракрасные датчики — это хорошо, но их главным сигнальным устройством с опережающим оповещением был ретривер. Последний пациент ушел в половине шестого, и Джим Кин покинул дом по какому-то таинственному делу. Вернулся он с бутылкой шампанского. — Я не очень пьющий человек, но в некоторых случаях хочется разок-другой глотнуть чего-нибудь. Нора дала зарок ничего не пить во время беременности, но даже самый торжественный зарок было не грех нарушить по такому поводу. Они достали бокалы и выпили прямо в кабинете за здоровье Эйнштейна, который посмотрел на все это несколько минут и вскоре заснул. — Но это естественный сон, — заметил Джим. — Без снотворных. Тревис спросил: — А сколько времени ему потребуется, чтобы вы здороветь? — Чтобы справиться с чумкой, еще несколько дней, может, неделю. В любом случае ему надо побыть здесь еще два дня. Если хотите, вы можете отправляться домой, но можете и остаться. Вы мне очень помогли. — Мы остаемся, — тотчас ответила Нора. — Но после того как Эйнштейн справится с чумкой, — сказал Тревис, — он будет еще слаб, да? — Сначала очень слаб, — сказал Джим. — Но постепенно к нему вернутся если и не все, то почти все его силы. Теперь я уверен: у него не было чумки второй степени, несмотря на конвульсии. Поэтому, возможно, к первому января он снова будет самим собой. Не должно быть никакой длительной немощи, никакой паралитической дрожи или чего-нибудь еще в этом роде. Первое января… Тревис надеялся, что будет еще не поздно.
Нора с Тревисом вновь поделили ночь на две смены. Тревис дежурил в первую смену, а она сменила его в три часа ночи. На Кармел спустился туман. Он с мягкой настойчивостью заглядывал в окна. Эйнштейн спал, когда пришла Нора, и она спросила: — Он спал неспокойно? — Да, — сказал Тревис. — Время от времени. — Ты… говорил с ним? — Да. — Ну? Тревис выглядел изможденным и осунувшимся, выражение его лица было мрачным. — Я задавал ему вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». — И? — Пес не отвечает на них. Он просто мигает, или зевает, или снова засыпает. — Эйнштейн очень устал, — сказала Нора, отчаянно надеясь, что именно этим объясняется нежелание ретривера вступать в контакт. — У него нет сил на вопросы и ответы. Тревис, бледный и явно подавленный, сказал: — Может быть. Я не знаю… но думаю… он кажется… озадаченным. — Он еще не оправился от болезни, — сказала она. — Он все еще у нее в когтях, борется с ней, но все еще болен. У него и должна быть легкая путаница в голове. — Озадаченным, — повторил Тревис. — Это пройдет. — Да, — сказал он. — Да, это пройдет. Но это прозвучало так, как если бы в душе он убедил себя, что Эйнштейн никогда уже не будет прежним Эйнштейном. Нора догадывалась, о чем думает Тревис: что это снова проклятие Корнелла, в которое, по его словам, он больше не верил, но которого в глубине души боялся. Все, кого он любит, обречены страдать и умирать молодыми. Всех, кто был ему дорог, отрывали от него. Конечно, это была чепуха, и Нора ни секунды в это не верила. Но она знала, как трудно стряхнуть с себя прошлое, смотреть только в будущее, и она сочувствовала неспособности Тревиса взглянуть на нынешнюю ситуацию с оптимизмом. Она также понимала, что не в ее силах вытащить его из этой пропасти отчаяния, единственное, что она может сделать, — это поцеловать его, прижаться к нему на минуту и отправить спать. Когда Тревис ушел, Нора опустилась на пол рядом с Эйнштейном и проговорила: — Я хочу кое-что сказать тебе, мохнатая морда. Я знаю, ты спишь и не слышишь меня, а может быть, даже если бы ты не спал, то все равно не понял бы то, что я говорю. Возможно, ты никогда больше не сможешь понимать, и именно поэтому я хочу сказать тебе это сейчас, пока еще есть надежда, что твой мозг цел. Она замолчала, глубоко вздохнула и оглядела тихий кабинет, где тусклый свет отражался в предметах из нержавеющей стали и стеклах эмалированных шкафчиков. Здесь, в половине четвертого утра, было очень одиноко. Эйнштейн дышал, тихо посвистывая, изредка издавая какой-то дребезжащий звук. Он не шевелился. Даже не пошевелил хвостом. — Я считаю тебя, Эйнштейн, своим хранителем. Так я тебя однажды назвала, когда ты спас меня от Артура Стрека. Мой хранитель. Ты не просто защитил меня от этого страшного человека, ты спас меня от одиночества и страшного отчаяния. И ты спас Тревиса от тьмы, которая была внутри его, свел нас вместе, и еще в сотне других отношений был таким же совершенным, каким только может быть ангел-хранитель. Ты со своим добрым, чистым сердцем никогда ничего не просил и ничего не ждал в ответ на свои поступки. Немного крекеров время от времени, кусочек шоколада. Но ты поступал бы так, даже если бы не получал ничего, кроме обычной собачьей еды. Ты поступал так, потому что любил и, кроме ответной любви, тебе ничего не было нужно. И одним тем, что ты такой, как ты есть, мохнатая морда, ты преподал мне урок, урок, который трудно выразить словами… Некоторое время она молча сидела рядом со своим другом, своим ребенком, своим учителем, своим хранителем и не могла говорить. — Но, черт возьми, — сказала она наконец, — я должна найти подходящие слова, потому что это, возможно, последний раз, когда я могу не притворяться, что ты способен меня понять. Это, как бы это выразить… ты внушил мне, что я тоже твой хранитель, что я хранитель Тревиса, а он — мой и твой. Мы отвечаем друг за друга, мы все ангелы-хранители, оберегающие друг друга от тьмы. Ты научил меня, что мы, все люди, нужны друг другу, даже те, кто иногда считает себя бесполезным, обыкновенным и ничем не примечательным. Если мы любим и позволяем любить себя… любящий человек — самая большая драгоценность в этом мире, дороже всех сокровищ, когда-либо существовавших на земле. Вот чему ты научил меня, мохнатая морда, и благодаря тебе я никогда не буду тем, кем была прежде. Всю оставшуюся часть этой нескончаемой ночи Эйнштейн пролежал неподвижно и спал глубоким сном.
По субботам у Джима Кина был только утренний прием. В полдень он запер вход в лечебницу с другой стороны своего большого уютного дома. Утром Эйнштейн проявлял обнадеживающие признаки выздоровления. Он пил больше воды и проводил некоторое время лежа на животе, а не на боку. Подняв голову, пес с интересом смотрел по сторонам на то, что происходит в кабинете ветеринара. Он даже, негромко чавкая, съел полмиски смеси из сырого яйца с соусом, которую Джим поставил перед ним, и не отрыгнул съеденное обратно. Ему полностью прекратили делать внутривенные вливания. Но ретривер все еще много спал. И реагировал на Тревиса и Нору только как обыкновенный пес. После ленча, когда они сидели за кухонным столом и допивали по последней чашке кофе, Джим вздохнул и сказал: — Ну, думаю, больше это откладывать нельзя. Из внутреннего кармана своего старого потертого вельветового пиджака он достал сложенный бюллетень, где говорилось о том, что Эйнштейн находится в розыске. Плечи Тревиса опустились. Чувствуя себя так, будто ее сердце падает куда-то вниз, Нора придвинулась поближе к Тревису, чтобы они могли прочитать бюллетень вместе. Он был датирован прошлой неделей. Кроме описания примет Эйнштейна, включающего трехзначную татуировку в его ухе, в бюллетене говорилось, что, по всей вероятности, собака находится у человека по имени Тревис Корнелл и его жены Норы, которые, возможно, живут под чужими именами. Внизу страницы приводились описания — и фотографии — Норы и Тревиса. — Как давно вы все знаете? — спросил Тревис. Джим Кин сказал: — С тех пор, как впервые увидел его в четверг утром. Вот уже шесть месяцев мне все время присылают такие бюллетени — и мне трижды звонили из федерального Института рака напомнить, чтобы я не забывал осматривать каждого золотистого ретривера на предмет лабораторной татуировки и сразу же сообщить им, если ее увижу. — И вы уже сообщили? — спросила Нора. — Еще нет. Не было никакого смысла делать это, пока не увидел, что он выкарабкается. Тревис спросил: — А теперь вы о нем сообщите? Собакообразное лицо Джима Кина приняло еще более унылое, чем обычно, выражение, когда он сказал: — Как мне сообщили из Института рака, эта собака была в центре наиважнейших экспериментов, направленных на поиски средства от этой болезни. Они говорят, что миллионы долларов исследовательских денег будут выброшены на ветер, если пес не будет найден и возвращен в лабораторию для завершения экспериментов. — Это все вранье, — произнес Тревис. — Я хочу, чтобы вы ясно поняли одну вещь, — сказал Джим, наклонившись вперед на стуле и обхватив своими большими руками кофейную чашку. — Я люблю животных до мозга костей. Я всю свою жизнь посвятил им. И больше других животных я люблю собак. Но боюсь, я не очень симпатизирую людям, считающим, что должны быть прекращены все опыты над животными, людям, которые полагают, что медицинские достижения, помогающие спасать человеческие жизни, не стоят того, чтобы причинить вред одной свинке, одной кошке, одной собаке. Люди, которые нападают на лаборатории и крадут животных и губят тем самым годы важнейших исследований… меня от них тошнит. Это хорошо и правильно — любить жизнь, горячо любить во всех ее самых скромных формах. Но эти люди не любят жизнь — они перед ней благоговеют, а это языческое, невежественное, и, возможно, даже дикарское отношение. — Все это не так, — сказала Нора. — Эйнштейна никогда не использовали в раковых исследованиях. Это просто легенда. Институт рака не разыскивает собаку. Ее ищет Управление национальной безопасности. — Она взглянула на Тревиса и спросила: — Ну, что будем делать? Тревис хмуро улыбнулся и сказал: — Я ведь не могу убить Джима, чтобы помешать ему… Ветеринар выглядел озадаченным. — …Поэтому думаю, нам надо его убедить, — закончил Тревис. — Правда? — спросила Нора. Тревис долго смотрел на Джима Кина и наконец сказал: — Да. Правда. Это единственное, что может заставить его выбросить этот чертов бюллетень в мусорное ведро. Набрав в легкие побольше воздуха, Нора сказала: — Джим, Эйнштейн так же умен, как вы, я или Тревис. — Мне иногда кажется, что умнее, — сказал Тревис. Ветеринар непонимающе уставился на него. — Давайте сварим еще кофе, — сказала Нора. — Это будет долгий, долгий разговор.
Спустя несколько часов, в десять минут шестого в субботу, Нора, Тревис и Джим Кин сгрудились пред матрацем, на котором лежал Эйнштейн. Пес только что выпил еще несколько унций воды. Он тоже с интересом смотрел на них. Тревис пытался понять, есть ли в этих больших коричневых глазах та странная глубина, сверхъестественная живость и несобачье сознание, которые он так часто видел в них прежде. Черт! Он не был уверен, и эта неуверенность страшила его. Джим осмотрел ретривера, заметив вслух, что его глаза стали яснее, почти нормальными, и что температура по-прежнему падает. — Сердце тоже лучше. Измученный десятиминутным осмотром, Эйнштейн плюхнулся на бок и издал протяжный усталый вздох. Через минуту он снова задремал. Ветеринар сказал: — Не очень-то похож на гениального пса. — Он еще болен, — сказала Нора. — Все, что ему требуется, немного больше времени, и когда он вы здоровеет, то докажет, что все, о чем мы вам рассказали, правда. — Как вы думаете, когда он начнет вставать? — спросил Тревис. Подумав, Джим сказал: — Возможно, завтра. Сначала будет шататься, но, возможно, завтра. Увидим. — Когда Эйнштейн встанет, — сказал Тревис, — и к нему вернется чувство равновесия и интерес к ходьбе, это будет означать, что и в голове у него тоже прояснилось. Мы устроим ему экзамен, чтобы доказать вам, насколько он умен. — Справедливо, — сказал Джим. — А если он докажет это, — спросила Нора, — вы не донесете на него? — Донесу на него людям, которые создали этого Аутсайдера, о котором вы мне рассказывали? Донесу на него этим людям, которые состряпали эту чушь в бюллетене? Нора, за кого вы меня принимаете? — За порядочного человека, — сказала Нора.
Сутки спустя, в воскресенье вечером, Эйнштейн ковылял по кабинету Джима Кина, шатаясь, как маленький старичок на четырех ногах. Нора быстро передвигалась на коленках рядом с ним, говоря ему, какой он замечательный и храбрый пес, мягко поощряя его продолжать путь. Каждый его шаг приводил ее в такой восторг, как если бы он был ее собственным ребенком, делающим свои первые шаги. Но еще больший трепет испытала она от взгляда, которым он несколько раз наградил ее; этот взгляд, казалось, выражал огорчение по поводу собственной немощи, но в нем одновременно было и чувство юмора, как будто он говорил: «Эй, Нора, это тебе что, театр или что? Разве это не смешно?» В субботу вечером ему дали немного твердой пищи, а в воскресенье Эйнштейн целый день поклевывал легко перевариваемую пищу, приготовленную ветеринаром. Он много пил, а самым обнадеживающим признаком его выздоровления было настойчивое желание выйти на улицу справить нужду. Пес не мог подолгу стоять на ногах и время от времени ковылял вяло и плюхался на матрац; однако он не натыкался на стены и не ходил кругами. Накануне Нора выходила за покупками и вернулась тремя коробками игры «Скрэббл». Сейчас Тревис разложил все буквы на двадцать шесть стопок в углу кабинета, где на полу было много пустого пространства. — Мы готовы, — сказал Джим Кин. Он сидел на рядом с Тревисом, подогнув под себя ноги на индийский манер. Рядом с хозяином лежал Пука и озадаченно смотрел на происходящее. Через всю комнату Нора подвела Эйнштейна к нам. Обхватив его голову руками и глядя ему прямо глаза, она сказала: — О'кей, мохнатая морда. Давай с тобой докажем доктору Джиму, что ты не какое-нибудь жалкое подопытное животное, используемое в раковых исследованиях. Покажем ему, кто ты есть на самом деле, и поможем понять ему, почему эти люди в действительности тебя разыскивают. Нора пыталась убедить себя в том, что во взгляде умных глаз ретривера она видела прежнее сознание. С явной нервозностью и страхом Тревис спросил: — Кто задаст первый вопрос? — Я, — не колеблясь, ответила Нора. Обращаясь к Эйнштейну, она спросила: — Как поживает скрипка? Они рассказывали Джиму Кину о послании, которое обнаружил Тревис в то утро, когда Эйнштейн заболел, — «СКРИПКА СЛОМАЛАСЬ» — так что ветеринар понял вопрос Норы. Эйнштейн, мигая, взглянул на нее, затем на буквы, снова, мигая, посмотрел на нее, понюхал буквы, и у Норы от страха уже похолодело в животе, когда пес вдруг начал выбирать нужные буквы и носом раскладывать их. «СКРИПКА ПРОСТО РАССТРОИЛАСЬ». Тревис вздрогнул, как будто страх, сидевший в нем, был мощным электрическим зарядом, который в одно мгновение вышел из него. Он сказал: — Слава Богу, благодарю тебя, Господи, — и рассмеялся от удовольствия. — Будь я проклят, — сказал Джим Кин. Пука высоко поднял голову и навострил уши, понимая, что происходит что-то важное, но неуверенный в том, что именно. Сердце Норы переполняли облегчение, возбуждение и любовь. Она вернула буквы на место и сказала: — Эйнштейн, кто твой хозяин? Назови нам его имя. Ретривер посмотрел на нее, на Тревиса, затем выдал обдуманный ответ: «ХОЗЯИНА НЕТ. ЕСТЬ ДРУЗЬЯ». Тревис рассмеялся. — Мой Бог, я согласен! Никто не может быть его хозяином, но каждый должен чертовски гордиться дружбой с ним. Интересно: это доказательство того, что разум Эйнштейна не пострадал, заставило Тревиса рассмеяться от удовольствия, впервые за много дней, а Нору взволновало до слез. Джим Кин смотрел на все, широко раскрыв глаза от изумления и глупо ухмыляясь. Он сказал: — Я чувствую себя, как ребенок, прокравшийся вниз в ночь перед Рождеством и увидевший, как настоящий Санта-Клаус кладет под елку подарки. — Теперь моя очередь, — сказал Тревис, выходя вперед и, положив руку на голову Эйнштейна, ласково похлопывая его. — Джим только что упомянул Рождество, и оно уже не за горами. Осталось двадцать дней. Скажи мне, Эйнштейн, что бы ты хотел получить от Санта-Клауса? Дважды пес принимался раскладывать буквы, но оба раза передумывал и снова смешивал их. Он прошлепал к своему месту, улегся на матрац, застенчиво посмотрел по сторонам, увидел, что они все ждут ответа, снова встал и на этот раз составил просьбу Санта-Клаусу: «ВИДЕОКАССЕТЫ С МИККИ МАУСОМ».
Они легли спать только в два часа ночи, потому что Джим Кин был просто опьянен, не пьян от пива, вина или виски, а опьянен от полнейшего восторга по поводу разумности Эйнштейна. — Как у человека, да, но все равно собака, все равно собака, чудесным образом похожая и одновременно замечательно другая: человеческое мышление, насколько я могу судить по тому малому, что видел. Но Джим не требовал новых доказательств собачьего интеллекта и после дюжины примеров первым предупредил, что им не следует утомлять больного. Все же доктора как будто наэлектризовали, он был так возбужден, что едва мог сдерживаться. Тревис не удивился, если бы ветеринар неожиданно взорвался. В кухне он умолял их повторить свои рассказы об Эйнштейне: случай с журналом «Модерн Брайд» в Сольванге; как он сам разбавил холодной водой первую горячую ванну, которую налил для него Тревис; и многое-многое другое. Некоторые истории Джим практически пересказывал сам, как будто Тревису и Норе они были неизвестны, но они с радостью доставляли ему это удовольствие. Затем он схватил со стола бюллетень о розыске Эйнштейна, зажег спичку и сжег его в раковине. Потом смыл пепел. — К черту этих недалеких людей, которые хотят держать взаперти такое создание, чтобы его колоть и изучать. Может быть, у них и достало гениальности сотворить Эйнштейна, но они не понимают значения того, что содеяли. Они не осознают его величия, потому что иначе бы не захотели держать его в клетке. В конце концов, когда Джим Кин нехотя признал, что им всем необходим отдых, Тревис отнес Эйнштейна (уже спящего) наверх в комнату для гостей. Из подушек и одеял они соорудили ему на полу постель рядом со своей кроватью. В темноте, лежа под одеялом и слушая успокаивающе-тихое посапывание Эйнштейна, Тревис и Нора прижались друг к другу. Она сказала: — Теперь все будет в порядке. — Неприятности пока еще впереди, — сказал он. Тревис чувствовал: выздоровление Эйнштейна ослабило проклятие преждевременной смерти, преследовавшее его всю жизнь. Но он пока не был готов к тому, что оно совсем исчезло. Аутсайдер все еще где-то бродил… и он приближался.
Глава 10
Во вторник, седьмого декабря, днем, они увозили Эйнштейна домой. Джим Кин никак не хотел их отпускать. Он проводил их до пикапа и, стоя у окна со стороны водителя, повторял им, что лечение надо продолжать еще пару недель, напомнил, что раз в неделю в течение следующего месяца хотел бы видеть Эйнштейна, и приглашал их приезжать к нему не только для осмотра собаки, но и просто так, в гости. Тревис понимал: ветеринар пытается сказать им, что хочет остаться частью жизни Эйнштейна, надеется участвовать в этом чуде. — Джим, поверь мне, мы приедем еще. А перед Рождеством ты обязательно должен на денек заехать к нам. — Буду очень рад. — Мы тоже, — искренне ответил Тревис. По дороге домой Нора держала на коленях Эйнштейна, снова закутанного в одеяло. К нему пока не вернулся прежний аппетит, и он был еще очень слаб. Его иммунная система подверглась жестокой встряске, и какое-то время он будет больше обычного подвержен болезням. Его следовало как можно дольше держать дома и всячески лелеять до тех пор, пока к нему не вернется былая сила, — возможно, как говорит Джим Кин, до первого января будущего года. Небо как будто распухло от тяжелых темных туч. Тихий океан казался твердым и серым и был похож на миллиарды серо-голубых плиток и черепков, постоянно приводимых в движение каким-то геологическим смещением глубоко под землей. Унылая погода не могла испортить приподнятого настроения. Нора сияла, а Тревис заметил, что насвистывает. Эйнштейн с огромным интересом рассматривал пейзаж за окном, и было видно, как его радует даже мрачная красота этого почти что бесцветного дня. Возможно, он не ожидал, что когда-нибудь снова увидит мир за пределами кабинета Джима Кина, и поэтому даже похожее на груду камней море и мрачное небо были для него драгоценным подарком. Когда они наконец приехали, Тревис оставил Нору вместе с ретривером в пикапе и вошел в дом один через заднюю дверь, держа в руке пистолет тридцать восьмого калибра, который всегда лежал в машине. В кухне, где так и горел свет, оставленный ими после поспешного отъезда на прошлой неделе, он сразу же взял автоматический пистолет «узи» из потайного места в шкафу и отложил менее мощное оружие в сторону. Тревис осторожно прошел по комнатам, заглядывая за каждый крупный предмет меблировки и в каждую кладовую. Признаков взлома не было, да он и не ожидал их увидеть. В этой сельской местности преступления почти не совершались. Вы могли оставить дверь незапертой на несколько дней, не боясь, что воры залезут в дом и вынесут все, даже обои. Его беспокоил не взломщик, а Аутсайдер. В доме было пусто. Тревис также проверил амбар, прежде чем поставить туда пикап, но там тоже никого не было. Дома Нора опустила Эйнштейна на пол и сняла с него одеяло. Он поковылял по комнате, обнюхивая разные предметы. В гостиной пес поглядел на холодный камин и проверил свое приспособление для переворачивания страниц. Он вернулся в кладовую при кухне, ножной педалью включил свет и составил из букв слово: «ДОМ». Наклонившись к псу, Тревис сказал: — Приятно снова оказаться дома, правда? Эйнштейн ткнулся носом ему в горло и облизал шею. Его золотистая шерсть была пушистой и хорошо пахла, потому что Джим Кин прямо в кабинете, при тщательно контролируемых условиях, искупал его. Но каким бы пушистым и чистым он ни выглядел, Эйнштейн все еще не был самим собой: он казался усталым и похудевшим, потому что меньше чем за неделю потерял несколько фунтов. Достав еще буквы, Эйнштейн снова написал то же слово, как бы желая подчеркнуть его прелесть: «ДОМ». Стоя в дверях, Нора сказала: — Дом — это то место, где есть тепло, а здесь, в этом доме, много тепла. Эй, давайте пообедаем пораньше в гостиной и посмотрим видеокассету с «Рождественской песней Микки Мауса». Что скажете? Эйнштейн яростно завилял хвостом. Тревис спросил: — Как думаешь, ты справишься со своим любимым блюдом — несколькими сосисками на обед? Эйнштейн облизнулся. Он достал еще несколько букв, с помощью которых выразил свой энтузиазм по поводу предложения Тревиса: «ДОМ — ЭТО ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СОСИСКИ».Когда Тревис среди ночи проснулся, Эйнштейн стоял на задних лапах у окна спальни, положив передние на подоконник. Его едва было видно при тусклом свете ночника из примыкающей к спальне ванной комнаты. Внутренние ставни на окне были заперты, поэтому пес не видел передний двор за окном. Но, возможно, для того, чтобы настроиться на Аутсайдера, зрение было ему не нужно. — Там кто-то есть, малыш? — тихо спросил Тревис, не желая без нужды будить Нору. Эйнштейн отошел от окна, проковылял к той стороне кровати, где спал Тревис, и положил голову на матрац. Лаская пса, Тревис прошептал: — Он идет? Заворчав в ответ, Эйнштейн устроился на полу рядом с кроватью и заснул. Через несколько минут Тревис тоже уснул. Проснувшись снова на рассвете, он увидел, что Нора сидит на краю постели и ласкает Эйнштейна. — Спи, — сказала она Тревису. — Что случилось? — Ничего, — сонно ответила она. — Я проснулась и увидела, что он стоит у окна, но это ничего. Спи. Ему и в третий раз удалось уснуть, но во сне ему привиделось, что Аутсайдер за время своего шестимесячного преследования Эйнштейна научился обращаться с инструментами и теперь с горящими желтыми глазами прокладывает себе путь в спальню, круша топором ставни.
* * *
Строго по часам Тревис и Нора давали Эйнштейну лекарства, и он послушно глотал таблетки. Они объяснили ему, что надо хорошо питаться, чтобы выздороветь окончательно. Пес честно старался, но аппетит возвращался к нему очень медленно. Потребуется еще несколько недель, прежде чем он наберет потерянные фунты и восстановит свои жизненные силы. Но день ото дня улучшение было все заметнее. К пятнице, десятому декабря, Эйнштейн казался достаточно окрепшим, чтобы рискнуть выйти на короткую прогулку. Его все еще время от времени шатало, но уже не бросало из стороны в сторону на каждом шагу. В ветеринарной лечебнице ему сделали все прививки. Можно было не бояться, что, кроме чумки, с которой ретривер только что справился, он заболеет еще и бешенством. Погода стала теплее, чем в последние недели, температура поднялась чуть выше шестидесятиградусной отметки, было безветренно. Разбросанные по небу облака были белыми, а солнце, когда не скрывалось за ними, своими живительными лучами мягко ласкало кожу. Эйнштейн сопровождал Тревиса в его инспекционном обходе инфракрасных датчиков вокруг дома и осмотре баллонов с закисью азота в амбаре. Они шли чуть медленнее, чем когда проделывали этот путь вместе в прошлый раз, но собаке, казалось, нравилось это возвращение к старым обязанностям. В студии Нора усердно трудилась над новой работой — портретом Эйнштейна. Он не знал, что будет изображен на ее последнем холсте. Картина должна была стать одним из его рождественских подарков, и после этого ее предполагалось повесить в гостиной над камином. Когда они вышли из амбара во двор, Тревис спросил: — Он приближается? Услышав вопрос, ретривер проделал обычную процедуру, хотя с меньшим усилием, меньшим принюхиванием и менее внимательным изучением окружающего их темного леса. Вернувшись к Тревису, пес тревожно завыл. — Он там? — произнес Тревис. Эйнштейн не ответил, а только еще раз удивленно посмотрел на лес. — Он еще идет? — спросил Тревис. Пес не отреагировал. — Он теперь ближе, чем раньше? Собака прошлепала по кругу, понюхала землю, затем воздух, подняла вверх голову сначала в одну сторону, потом в другую. Наконец она вернулась к дому и встала у двери, глядя на Тревиса и терпеливо поджидая его. Войдя в дом, Эйнштейн направился прямиком в кладовку. «ЗАГЛУЯСНЫЙ». Тревис уставился на сложенное на полу слово. — Заглуясный? Пес достал еще буквы и разложил их на полу. «ЗАГЛУШЕННЫЙ, НЕЯСНЫЙ». — Ты говоришь о своей способности чувствовать Аутсайдера? Ретривер вильнул хвостом. Да. — Ты его больше не чувствуешь? Эйнштейн пролаял. Нет. — Ты думаешь… он умер? «НЕ ЗНАЮ». — А может быть, это твое шестое чувство не работает во время болезни или когда ты так слаб, как сейчас? «МОЖЕТ БЫТЬ». Собрав и рассортировав карточки с буквами, Тревис на минутку задумался. Нехорошие мысли. Мысли, лишающие присутствия духа. У них по всей усадьбе были расставлены сигнальные устройства, это правда, но в немалой степени они рассчитывали, что Эйнштейн заранее предупредит их. Вряд ли Тревису стоило беспокоиться по поводу Аутсайдера, учитывая принятые меры предосторожности и собственные навыки, приобретенные в группе «Дельта». Но его все время преследовала одна мысль, будто он что-то упустил в системе защиты, и, случись непредвиденное, потребуются все способности Эйнштейна и его силы, чтобы помочь ему справиться с любыми неожиданностями. — Придется тебе поправиться поскорее, — сказал Тревис, обращаясь к ретриверу. — Ты должен есть, даже когда у тебя нет аппетита. Ты должен спать как можно больше, чтобы дать своему организму восстановиться, а не стоять полночи у окна. «КУРИНЫЙ СУП». Рассмеявшись, Тревис сказал: — Можем попробовать и его. «БОЙЛЕРМЕИКЕР УБИВАЕТ МИКРОБОВ». — Откуда ты это взял? «КНИГА. ЧТО ТАКОЕ БОЙЛЕРМЕИКЕР?» Тревис объяснил: — Глоток виски, налитый в стакан пива. Эйнштейн с минуту обдумывал это. «УБИВАЕТ МИКРОБОВ, НО МОЖНО СТАТЬ АЛКОГОЛИКОМ». Тревис расхохотался и взъерошил шерсть псу. — Ты настоящий комик, мохнатая морда. «МОЖЕТ, МНЕ СТОИТ ВЫСТУПАТЬ В ВЕГАСЕ?» — Думаю, у тебя бы получилось. «ЗВЕЗДА». — Конечно, ты был бы звездой. Он потискал ретривера, и они еще посидели в кладовке, смеясь каждый по-своему. Несмотря на шутки, Тревис знал: Эйнштейн сильно обеспокоен потерей способности чувствовать Аутсайдера. Шутки были всего лишь защитной реакцией, способом отогнать от себя страх. Днем, после короткой прогулки вокруг дома, Эйнштейн спал, а Нора лихорадочно работала в своей студии, Тревис сидел у окна и смотрел на лес, мысленно еще раз проверяя свою систему обороны и выискивая в ней слабое звено. В воскресенье, двенадцатого декабря, днем их навестил Джим Кин, и они все вместе пообедали. Ветеринар осмотрел Эйнштейна и остался доволен ходом выздоровления. — Нам кажется, дело движется медленно, — пожаловалась Нора. — Я же предупреждал, что должно пройти немало времени. Он внес несколько изменений в лечение собаки и оставил новые пузырьки с таблетками. В кладовке ретривер с удовольствием продемонстрировал Кину приспособление для переворачивания страниц и устройство для выбора букв. Он снисходительно выслушал похвалы в свой адрес по поводу умения держать в зубах карандаш и с его помощью самостоятельно обращаться с телевизором и видеомагнитофоном, не прибегая к помощи Норы и Тревиса. Сначала Нору страшно удивило, что Джим выглядит менее печальным и унылым, чем ей помнилось. Но потом она решила, что внешне он не изменился, изменилось только ее собственное восприятие. Теперь, когда Нора лучше его узнала, когда он стал их лучшим другом, она видела не только унылые черты, которыми его наградила природа, но доброту и чувство юмора, скрытые за ними. За обедом Джим сказал: — Я тут немного изучал татуировки, чтобы выяснить, не могу ли я свести номер в его ухе. Эйнштейн, лежащий рядом на полу и слушавший их беседу, встал, качнулся, заспешил к кухонному столу и вспрыгнул на один из пустых стульев. Он сел очень прямо и уставился на Джима. — Так вот, — продолжал ветеринар, опуская вилку с куском курицы, которую он наполовину донес до рта, — большинство, но не все татуировки можно свести. Если я буду знать, какая тушь была использована и каким способом она была нанесена, мне, возможно, удастся ее удалить. — Это было бы здорово, — сказала Нора. — Тогда, даже если бы они нас нашли и попытались забрать Эйнштейна, то не смогли бы доказать, что это их собака. — Все равно останутся следы татуировки, которые можно будет заметить при более внимательном осмотре, — заметил Тревис. — Под увеличительным стеклом. Эйнштейн поглядел на Джима Кина, как бы говоря: Да, что ты теперь скажешь? — В большинстве лабораторий животным просто прикрепляют бирки, — уточнил Джим. — А те, что применяют татуировки, используют разные чернила. Возможно, мне удастся удалить ее, не оставив никакого следа, если не считать небольших царапин на коже. Исследование под микроскопом не обнаружит следов чернил и даже намека на цифры. В конце концов, это ведь небольшая татуировка, что значительно упрощает дело. Я пока еще изучаю, как лучше справиться с этой задачей, но через несколько недель можем попытаться, если Эйнштейн ничего не имеет против небольшого неудобства. Ретривер вышел из-за стола и прошлепал в кладовку. Им было слышно, как он нажимает на педали. Нора пошла посмотреть, какое послание сочинил пес. «НЕ ХОЧУ КЛЕЙМО, НЕ КОРОВА». Его желание освободиться от татуировки было глубже, чем полагала Нора. Он хотел избавиться от своей отметки, чтобы люди из лаборатории не могли опознать его. Но, по-видимому, ретривер ненавидел эти цифры в своем ухе, потому что они делали из него обычную собственность, а это оскорбляло его чувство собственного достоинства и было нарушением его прав разумного существа. «СВОБОДА». — Да, — уважительно сказала Нора, положив руку ему на голову. — Я понимаю. Ты… личность, и личность, обладающая, — впервые она смотрела на эту проблему под этим углом, — душой. Разве это богохульство — думать, что у Эйнштейна есть душа? Нет. Нора считала, что никакого богохульства в этом нет. Человек создал этого пса; однако, если Бог существовал, он явно одобрительно относился к собаке, и в большой степени потому, что способность Эйнштейна различать добро и зло, бескорыстно любить, его смелость и самоотверженность делали его ближе к творцу, чем многие человеческие существа, населяющие землю. — Свобода, — сказала она. — Если у тебя есть душа — а я в этом не сомневаюсь, — тогда ты был рожден со свободной волей и правом на независимость. Этот номер в твоем ухе оскорбителен, и мы от него избавимся. После обеда Эйнштейну явно хотелось послушать разговор и принять в нем участие, но у него иссякли силы, и он заснул у камина. За бренди и кофе Джим Кин слушал рассказ Тревиса о мерах защиты от Аутсайдера. Его попросили найти в них слабые звенья, но ветеринар не смог ничего указать, кроме уязвимости системы подачи энергии. — Если эта бестия додумается до того, чтобы повредить электропровод, идущий от основной линии, вы среди ночи окажетесь в темноте и все ваши сигнальные устройства будут бесполезными. А без электричества не сработают и ваши механизмы в амбаре, которые должны захлопнуть дверь за этой тварью и выпустить закись азота. Нора с Тревисом отвели его вниз в полуподвал в глубине дома и показали аварийный генератор. Он питался энергией от зарытой во дворе канистры бензина на сорок галлонов, и уже через десять секунд после повреждения основного источника электричества восстановит подачу электроэнергии в доме, амбаре и сигнальной системе. — Насколько я могу судить, — сказал Джим, — вы ничего не забыли. — Думаю, что нет, — сказала Нора. Но Тревис нахмурился: — Не знаю…В среду, двадцать второго декабря, они приехали в Кармел, оставили Эйнштейна у Джима Кина и весь день покупали рождественские подарки,украшения для дома, елочные игрушки и саму елку. Казалось почти легкомысленным строить планы на праздник, зная, что угроза нападения Аутсайдера неумолимо приближается, но Тревис сказал: — Жизнь коротка. Никогда не знаешь, сколько тебе осталось, поэтому нужно отпраздновать Рождество, что бы ни случилось. Кроме того, последние годы у меня было не слишком веселое Рождество, и я намерен вознаградить себя за это. — Тетя Виолетта не любила делать из Рождества событие. Она не придавала значения подаркам и елке. — Она вообще не любила жизнь, — сказал Тревис. — Тем более это еще одна причина отметить праздник как полагается. Это будет первое хорошее Рождество и для тебя, и для Эйнштейна. «На следующий год, — подумала Нора, — у нас родится ребенок и мы будем встречать Рождество вместе с ним, вот будет здорово!» Пока единственными признаками ее беременности были легкая тошнота по утрам да пополневшая на пару фунтов фигура. Живот у нее был по-прежнему плоским, и доктор Вейнгольд говорил, что при ее телосложении, возможно, он претерпит лишь умеренное растяжение. Нора надеялась, что в этом отношении ей повезет, так как тогда будет намного проще вернуть после родов свою форму. Конечно, ребенок появится на свет только через шесть месяцев, а значит, она еще может успеть раздуться, как морж. Когда они возвращались из Кармела в пикапе, кузов которого был заполнен свертками и очень пушистой елкой, Эйнштейн проспал у Норы на коленях половину пути. Он совершенно измотался за этот долгий путь, играя с Джимом и Пукой. Домой они добрались менее чем за час до наступления темноты. Пес бежал впереди них к дому, но неожиданно остановился и внимательно огляделся по сторонам. Он понюхал прохладный воздух, затем двинулся через двор, опустив нос к земле, как будто шел по следу. Направляясь к задней двери с руками, полными свертков, Нора сначала не заметила ничего необычного в поведении собаки, она только увидела, что Тревис стоит и не отрываясь смотрит на Эйнштейна. Она спросила: — Что случилось? Пес пересек двор и подошел к южной границе леса. Он постоял, не шевелясь и вытянув вперед голову, затем встряхнулся и двинулся по периметру леса. Несколько раз он останавливался, замирал и через пару минут снова продолжал свой круговой путь на север. Когда ретривер вернулся к ним, Тревис спросил: — Что-нибудь случилось? Эйнштейн коротко махнул хвостом и пролаял один раз: Да и нет. Дома в кладовке пес составил послание: «ЧУВСТВОВАЛ ЧТО-ТО». — Что? — спросил Тревис. «НЕ ЗНАЮ». — Аутсайдера? «ВОЗМОЖНО». — Близко? «НЕ ЗНАЮ». — К тебе возвращается твое шестое чувство? — спросила Нора. «НЕ ЗНАЮ. ПРОСТО ПОЧУВСТВОВАЛ». — Почувствовал что? После долгого раздумья Эйнштейн сложил ответ: «БОЛЬШУЮ ТЕМНОТУ». — Ты почувствовал темноту? «ДА». — И что это означает? — обеспокоенно спросила Нора. «НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ ЛУЧШЕ. ПРОСТО ЧУВСТВОВАЛ ЕЕ». Нора взглянула на Тревиса и прочла тревогу в его глазах, которая, вероятно, стала отражением ее собственного беспокойства. Где-то рядом была большая темнота, и она приближалась к ним.
* * *
Рождество прошло очень весело. Утром, сидя вокруг украшенной огнями елки, они пили молоко с домашним печеньем и рассматривали подарки. Шутки ради Нора сначала подарила Тревису коробочку с нижним бельем, а он вручил ей яркий оранжево-желтый балахон, явно рассчитанный на женщину весом по меньшей мере в триста фунтов, со словами: — Это тебе на март, когда ты вылезешь из всей своей одежды. К маю, конечно, и он тебе станет мал. Они также сделали друг другу серьезные подарки: драгоценности, свитера и книги. Но Нора, как и Тревис, чувствовала: этот день принадлежит прежде всего Эйнштейну. Она подарила ему портрет, над которым работала целый месяц, и ретривер, казалось, был ошеломлен, польщен и очень доволен тем, что она навечно запечатлела его на холсте. Пес также получил три новые видеокассеты с Микки Маусом, пару красивых металлических плошек для воды и еды, на которых было выгравировано его имя, собственный небольшой электронный будильник на батарейках, который он мог таскать за собой по всем комнатам (он выказывал всевозрастающий интерес ко времени), и еще несколько подарков; но его постоянно тянуло к портрету, который они прислонили к стене для обозрения. Позже, когда его повесили в гостиной над камином, Эйнштейн, явно очень довольный и гордый, стоял у очага и, задрав голову, смотрел на картину. Как все дети, ретривер играл с пустыми коробками, скомканной оберточной бумагой и лентами с не меньшим удовольствием, чем с самими подарками. Особенно ему приглянулась подаренная ими в шутку красная шапочка Санта-Клауса с белым помпоном, которая держалась на его голове с помощью эластичной завязки. Нора надела ее на собаку просто так, чтобы посмеяться. Когда пес увидел себя в зеркале, собственное отражение так понравилось ему, что, когда несколько минут спустя Нора попыталась снять с него шапку, он запротестовал и оставался в ней почти до самого вечера. Днем приехали Джим Кин с Пукой, и Эйнштейн сразу же потащил их в гостиную полюбоваться на его портрет над камином. Целый час Джим и Тревис смотрели, как собаки играют на заднем дворе. Эта возня, которой предшествовало возбуждение от утреннего обмена подарками, утомила ретривера, и он захотел вздремнуть, поэтому они все вернулись в дом, где Джим и Тревис принялись помогать Норе готовить праздничный обед. После отдыха Эйнштейн попытался пробудить в Пуке интерес к видеофильмам с Микки Маусом, но Нора заметила, что ему это не слишком удалось. У Пуки не хватало терпения досмотреть даже до того момента, где с помощью Дональда, Гуфи или Плуто Микки попадает в какую-нибудь передрягу. Проявляя уважение к своему товарищу, чей интеллект был явно ниже, и совершенно очевидно не скучая в его обществе, Эйнштейн выключил телевизор и занялся чисто собачьими играми: они немного поборолись в комнате, а затем долго лежали нос к носу, молчаливо поверяя друг другу свои заботы. К вечеру дом наполнился ароматами индейки, вареной кукурузы, ямса и других вкусностей. Играла рождественская музыка, и, несмотря на запертые из предосторожности внутренние ставни, на лежащие под рукой ружья, несмотря на демоническую фигуру Аутсайдера, незримо присутствующую в ее мыслях, Нора никогда еще не была так счастлива. За обедом разговор зашел о ребенке, и Джим спросил, как они думают его назвать. Эйнштейн, устроившись вместе с Пукой в углу, где для них был накрыт обед, сразу же выразил живейшее желание принять участие в выборе имени для их первенца. Он немедленно ринулся в кладовку, чтобы сообщить им свои предложения. Нора вышла из-за стола, чтобы взглянуть, какое имя выберет пес. «МИККИ». — Исключается! — сказала она. — Я не собираюсь называть моего ребенка в честь какой-то мыши из мультфильма. «ДОНАЛЬД». — И в честь утки тоже. «ПЛУТО». — Плуто? Будь серьезным, мохнатая морда. «ГУФИ». Нора твердо воспротивилась тому, чтобы он продолжал нажимать на педали, собрала использованные карточки, положила их на место, выключила в кладовке свет и вернулась к столу. — Вы, наверное, думаете, Эйнштейн шутит, — сказала Нора покатывающимся со смеху Тревису и Джиму, — но он совершенно серьезен. После обеда все сидели в гостиной вокруг елки и разговаривали о разных вещах, среди них и о намерении Джима завести еще одну собаку. — Пуке нужен друг, — сказал ветеринар. — Ему скоро полтора года, и я думаю, что собакам, когда они перестают быть щенками, человеческого общества недостаточно. Им, как и нам, становится одиноко. И поскольку я собираюсь взять ему товарища, я могу с таким же успехом завести чистопородную девочку-лабрадора, а потом, может быть, у меня появятся щенки на продажу. Таким образом, у него будет не просто приятель, но и пара. Нора не заметила, чтобы Эйнштейн к этой части беседы проявил больший интерес, чем к остальным. Однако после ухода Джима и Пуки Тревис обнаружил в кладовке послание и позвал Нору взглянуть на него. «ПАРА. ТОВАРИЩ, ПАРТНЕР, ОДИН ИЗ ДВУХ». Ретривер явно ждал, пока они обратят внимание на аккуратно разложенные карточки. Он стоял у них за спиной и вопросительно смотрел на них. Нора спросила: — Ты думаешь, тебе нужна пара? Эйнштейн проскользнул мимо них в кладовку, разбросал карточки и выложил ответ: «ОБ ЭТОМ СТОИТ ПОДУМАТЬ». — Но послушай, мохнатая морда, — сказал Тревис. — Ты ведь единственный в своем роде. Собак с таким интеллектом на свете больше нет. Ретривер задумался, но разубедить его им не удалось. «ЖИЗНЬ — ЭТО НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИНТЕЛЛЕКТ». — Справедливо, — заметил Тревис. — Но полагаю, это надо хорошенько обдумать. «ЖИЗНЬ — ЭТО ЧУВСТВА». — Ну хорошо, — сказала Нора. — Мы обсудим это. «ЖИЗНЬ — ЭТО ДВОЕ, ВМЕСТЕ». — Обещаем тебе все всесторонне взвесить и еще раз вернуться к этому разговору, — сказал Тревис. — А сейчас уже поздно. Эйнштейн быстро составил еще одно послание: «МОЖЕТ, НАЗОВЕМ РЕБЕНОЧКА МИККИ?» — Исключено! — ответила Нора. Ночью, когда они, обессилев от любви, лежали в постели, Нора сказала: — Могу поспорить, что ему очень одиноко. — Джиму Кину? — Ну да, ему тоже. Он такой хороший человек и мог бы стать для кого-нибудь прекрасным мужем. Но женщины так же привередливы насчет внешности, как и мужчины, правда? Им не нравятся мужчины с такими лицами. Они выходят замуж за красавцев, которые часто обращаются с ними как с ничтожествами. Но я имела в виду не Джима. Я говорила об Эйнштейне. Наверное, временами он чувствует себя очень одиноким. — Но мы же постоянно с ним? — Да нет, на самом деле это не так. Я рисую, а ты занимаешься разными делами, в которых бедняга Эйнштейн не принимает участия. А если ты когда-нибудь снова займешься недвижимостью, ретриверу придется много времени проводить в одиночестве. — У него есть книги. Ему нравится читать. — Может быть, кроме книг, ему еще что-то нужно, — сказала она. Они молчали так долго, что Нора решила: Тревис заснул. Но он неожиданно спросил: — Интересно, если Эйнштейн найдет себе подругу и у них появятся щенки, какие они будут? — Ты имеешь в виду, будут ли они такими же умными, как он? — Не знаю… Думаю, тут возможны три варианта. Первый: его интеллект не может передаваться по наследству, и его потомство будет обыкновенным. Второй: он передается по наследству, но гены его подруги ослабят интеллект, поэтому щенки родятся умными, но не такими, как их отец; и каждое последующее поколение будет появляться на свет все более серым и бесцветным, пока в конце концов его прапрапраправнуки не станут самыми обыкновенными собаками. — А третий вариант? — Интеллект как сохраняющаяся черта может оказаться генетически доминирующим, крайне доминирующим. — И тогда щенки Эйнштейна будут такими же умными, как он сам. — И следующее поколение тоже, и так далее, и так далее, пока со временем у нас не появится целая колония разумных золотистых ретриверов, тысячи по всему миру. Они снова замолчали. Потом Нора произнесла: — Здорово. Тревис сказал: — Он прав. — Что? — Об этом стоит подумать.* * *
Тогда, в ноябре, Винс Наско и предположить не мог, что ему потребуется целый месяц, чтобы разделаться с Рамоном Веласкесом, этим парнем из Окленда, занозой на теле дона Марио Тетранья. До тех пор пока он не прикончит Рамона, Винс не получит имен парней в Сан-Франциско, которые занимались подделкой документов и могли помочь ему выйти на след Тревиса Корнелла, женщины и собаки. Поэтому он испытывал настоятельную потребность поскорее сделать из Веласкеса отбивную. Но тот был чертовски осторожен. Он и шагу не ступил без двух своих телохранителей, из-за которых становился более, а не менее заметным. Однако Рамон вел свой картежный и наркотиковый бизнес — ущемляющий права Тетраньи в Окленде — с хитростью, достойной Говарда Хугса. Он удирал и ускользал по своим делам, имел в распоряжении целый парк разных автомобилей, никогда не повторяя дважды один и тот же маршрут, никогда не назначал встречи в одном и том же месте, пользуясь улицей в качестве своего офиса, никогда нигде не задерживался подолгу, чтобы его не могли засечь и убрать. Веласкес был безнадежным параноиком, считающим, что все вокруг хотят его убить. У Винса не было возможности даже рассмотреть этого человека, чтобы сравнить с фотографией, которую дал ему Тетранья. Рамон Веласкес был неуловим, как дым. Винс смог добраться до него только на Рождество, и вышла ужасная заваруха. Рамон встречал праздник с кучей своих родственников. Винс попал в дом Веласкеса со стороны соседнего здания: он перелез через высокую каменную ограду, разделяющую два строения. Очутившись внизу по другую сторону стены, он высмотрел Веласкеса и еще нескольких человек, которые во внутреннем дворике у бассейна жарили огромную индейку на жаровне — разве где-нибудь еще, кроме Калифорнии, можно увидеть такое? — и они сразу же заметили его, хотя Винс и был от них на расстоянии в пол-акра. Телохранители потянулись к заплечным кобурам за пистолетами, и ему ничего другого не оставалось, как открыть беспорядочный огонь из своего «узи», обстреливая всю территорию внутреннего дворика и уложив Веласкеса, обоих телохранителей, какую-то пожилую женщину, вероятно, чью-то жену, и еще одну старую даму, должно быть, чью-то бабку. «Сссснап». «Сссснап». «Сссснап». «Сссснап». «Сссснап». Все, находящиеся как внутри дома, так и снаружи, отчаянно кричали и пытались укрыться. Винсу пришлось перелезать обратно через ограду во двор соседнего дома — где, слава Богу, никого не было — и он уже добрался до самого верха, перетаскивал через стену свой зад, когда несколько латиноамериканцев в доме Веласкеса открыли по нему огонь. Ему чудом удалось унести оттуда ноги. На следующий день Винс пошел в Сан-Франциско в ресторан, принадлежащий дону Тетранья, чтобы, встретиться там с Фрэнком Дичензиано, доверенным капо Семьи, подчиняющимся непосредственно самому дону. Он был очень озабочен. В fratellanza существовал кодекс, касающийся убийств. Черт возьми, у них были правила абсолютно на все — возможно, даже на посещения сортира, — и они очень серьезно относились к ним, а к кодексу убийств особенно. Первое правило этого кодекса гласило: нельзя убивать человека в кругу его семьи, если только он не ушел в подполье и до него нельзя добраться другим способом. В этом отношении Винс чувствовал себя уверенно. Но второе правило гласило: нельзя убивать жену, детей или бабушку этого человека, чтобы выйти на него. Любой исполнитель, нарушивший это правило, рискует тем, что его самого пустят в расход те самые люди, которые его наняли. Винс надеялся убедить Фрэнка Дичензиано, что инцидент с Веласкесом — это особый случай: ни одному клиенту еще не удавалось ускользать от Винса в течение целого месяца — и то, что произошло в Окленде на Рождество, было печальным, но неизбежным событием. Если Дичензиано — а может быть, и дон — будет слишком сердит, чтобы прислушаться к голосу разума, Винс сделал необходимые приготовления помимо пистолета. Ему было известно: если его захотят убрать, то окружат и отнимут оружие, прежде чем он им воспользуется. Как только Винс войдет в ресторан и сообразит что к чему. Поэтому он обмотал себя пластиковой взрывчаткой и приготовился подорвать их и снести весь ресторан, если только они попытаются примерить на него гроб. Винс не был уверен в том, что ему удастся выжить после взрыва. За последнее время он поглотил такое количество жизненной энергии других людей, что полагал, будто уже близок к бессмертию, к которому стремился — или уже достиг его, — но не знал, насколько силен, пока не подвергнет себя испытанию. Если бы ему пришлось выбирать: стоять ли в центре взрыва… или позволить парочке умников разрядить в себя сотню пуль и замуровать в бетон, прежде чем они сбросят его в воду… Винс решил, что первое нравится ему больше и, возможно, даст ему больше шансов на спасение. К его удивлению, Дичензиано — который был похож на бурундучка с засунутыми за щеки орехами, — пришел в восторг от того, как был выполнен заказ на Веласкеса. Он сказал, что дон очень доволен Винсом. Никто не обыскивал Винса при входе в ресторан. Его и Фрэнка, как самых дорогих гостей, обслуживали в угловом кабинете, где подавали специально приготовленные для них блюда, которых не было в меню. Они пили «Каберне Совиньи», за триста долларов бутылка, подарок от Марио Тетранья. Когда Винс осторожно затронул вопрос об убитых жене и бабушке, Дичензиано сказал: — Послушай, друг мой, мы знали, что это очень трудное, сложное задание и что тут, возможно, придется нарушить кое-какие правила. Кроме того, эти люди — не наши люди. Просто кучка мексиканских нелегалов. Им не место в нашем бизнесе. Если они пытаются пролезть в него, то не должны ожидать, что мы будем играть с ними по правилам. Успокоившись, Винс в середине ленча встал и пошел в туалет, где разрядил детонатор. Теперь, когда опасность миновала, ему не хотелось, чтобы тот случайно сработал. В конце ленча Фрэнк вручил Винсу список из девяти фамилий. — Эти люди — кстати, не все члены нашей Семьи — платят дону за право изготовления поддельных документов на его территории. Еще в ноябре, предвосхищая твой успех в деле Веласкеса, я разговаривал с ними со всеми, и они знают, что дон хочет, чтобы тебе оказали всяческое содействие. В тот же день Винс отправился на поиски кого-то, кто вспомнит Тревиса Корнелла. Вначале он был разочарован. С двумя из первых четырех человек, включенных в список, связаться было нельзя. Они прервали на время свои дела и отправились на рождественские каникулы. Винсу показалось странным, что криминальный мир разъезжается на Рождество и Новый год, как школьные учителя. Но пятого человека, Энсона Ван Дайна, Винс застал на рабочем месте в подвале его клуба «Хот Типс», и в половине шестого двадцать шестого декабря Винс нашел то, что искал. Ван Дайн взглянул на фотографию Тревиса Корнелла, которую Винс вырезал из старой газеты Санта-Барбары. — Да, я его помню. Он не из тех, кого легко забыть. Не какой-нибудь иностранец, пожелавший стать американцем, как половина моих клиентов. И не простой неудачник, которому надо изменить фамилию и уйти на дно. Он не здоровяк и ничего из себя не корчит, но создается впечатление, что он прикончит всякого, кто встанет у него на пути. Держит себя в руках. Очень осторожен. Я не мог бы его забыть. — Кого действительно трудно забыть, — сказал один из двух бородатых кудесников за компьютерами, — так это красотку, с которой он был. — Да, при виде нее и у мертвого встанет, — сказал второй. Первый повторил: — Да, даже у мертвого, это точно. Винса одновременно покоробили и привели в замешательство их замечания, поэтому он их проигнорировал. Обращаясь к Ван Дайну, он спросил: — Есть ли какая-то вероятность, что вы вспомните их новые фамилии? — Конечно. Они у нас в картотеке, — ответил Ван Дайн. Винс не верил своим ушам. — Я считал, что люди вроде вас не держат архивов. Это гораздо безопаснее для вас и важно для ваших клиентов. Ван Дайн пожал плечами. — Плевать я хотел на клиентов. Может, однажды нас застукают федералы или местные власти и прикроют наше дело. И мне понадобятся деньги, чтобы платить адвокатам. Тогда мне и пригодится перечень из пары тысяч человек, живущих по фальшивым документам, ребят, которые предпочтут, чтобы их слегка прижали, чем снова начинать все сначала. — Шантаж, — произнес Винс. — Некрасивое слово, — сказал Ван Дайн. — Но, боюсь, точное. В любом случае, все, что нас волнует, так это наша собственная безопасность, чтобы не было архивов, могущих скомпрометировать нас. Эти данные мы держим не здесь. Как только клиент получает новую фамилию, мы, пользуясь безопасной телефонной линией, передаем соответствующую запись с нашего компьютера на другой, который стоит в другом месте. Тот компьютер запрограммирован таким образом, что данные из него нельзя затребовать отсюда — это игра в одни ворота. Так что, если нас накроют, полиция не сможет с этих машин добраться до наших записей. Черт, они даже не узнают, что такие записи существуют. У Винса голова пошла кругом от этого высокотехничного криминального мира. Даже дон, человек беспредельного криминального ума, считал, что эти люди не держат архивов, и не мог предположить, что компьютеры и эти архивы обезопасили. Винс думал обо всем, что сообщил ему Ван Дайн, мысленно раскладывая все по полочкам. Он спросил: — И что, вы можете отвести меня к тому, другому компьютеру и посмотреть новую фамилию Корнелла? — Для друга дона Тетранья, — сказал Ван Дайн, — я сделаю все что угодно, может, только не дам перерезать себе горло. Пошли за мной.Ван Дайн привез Винса в оживленный китайский ресторан в Чайна-тауне. Ресторан вмещал, наверное, человек сто пятьдесят; все места были заняты, и в большинстве своем европейцами, а не азиатами. Хотя зал был большим и украшен бумажными фонариками, нарисованными на стенах драконами, ширмами под красное дерево и медными колокольчиками в форме китайских идеограмм, он напомнил Винсу кричащую итальянскую тратторию, где он в августе пришил этого таракана Пантанджелу и двух приставленных к нему агентов. Все эти этнические колориты — от китайского до итальянского, от польского до ирландского — были, по сути, совершенно одинаковы. Владельцем ресторана был китаец лет тридцати, которого представили Винсу просто Юанем. Получив от него бутылки с «Чинзано», Ван Дайн с Винсом прошли в его офис, расположенный в подвале, где на двух столах разместились два компьютера. Один из них стоял в центре комнаты, а второй был приткнут в угол. Тот, что находился в углу, был включен, хотя за ним никто не сидел. — Вот это мой компьютер, — сказал Ван Дайн. — За ним никто никогда не работает. До него даже не дотрагиваются, только каждое утро включают телефонную линию, чтобы запустить его в действие, а вечером выключают. Мои компьютеры в «Хот Типс» связаны с этим компьютером. — Вы доверяете Юаню? — Я его субсидировал, чтобы он смог открыть свое дело. Юань должен мне много денег. И это совершенно чистый заем, ничто не связывает его со мной или с доном Тетранья, так что Юань остается добропорядочным гражданином, не представляющим интереса для полиции. В благодарность за мои услуги он разрешает мне держать здесь мой компьютер. Ван Дайн сел за компьютер и стал нажимать на клавиши. Через две минуты он нашел новое имя Тревиса Корнелла: Сэмюель Спенсер Хайатт. — А вот еще, — сказал Ван Дайн, когда на дисплее высветилась свежая информация. — Вот женщина, которая была с ним. Ее настоящее имя Нора Луиза Девон из Санта-Барбары. Теперь ее зовут Нора Джин Эймс. — О'кей, — сказал Винс. — Теперь сотри их с твоего файла. — Что ты хочешь сказать? — Сотри их. Вынь их из памяти компьютера. Они больше не твои. Они мои. Больше ничьи. Только мои.
Чуть позже они вернулись в «Хот Типс», от которого Винса тошнило. В подвале Ван Дайн дал фамилии Хайатт и Эймс двум бородатым кудесникам, которые, казалось, как пара троллей, никогда не покидали это подземелье. Сначала тролли проникли в файлы Департамента автомобильного транспорта. Они хотели узнать, поселились ли где-нибудь за эти три месяца, прошедших с момента получения новых документов, Хайатт и Эймс и зарегистрировали ли они свое новое место жительства. — Есть, — сказал один из них. На экране появился адрес, который бородач тотчас распечатал. Энсон Ван Дайн оторвал с принтера лист бумаги и вручил его Винсу. Тревис Корнелл и Нора Девон — теперь Хайатт и Эймс — проживали в сельской местности на «Пасифик Коаст Хайвей» к югу от Кармела.
* * *
В среду, двадцать девятого декабря, Нора одна отправилась в Кармел на прием к доктору Вейнгольду. Небо было затянуто тучами, такими темными, что белые чайки на их фоне казались яркими огоньками. Такая погода установилась на следующий день после Рождества, но обещанного дождя все не было. Сегодня, однако, как только она поставила пикап на свободное место на небольшой стоянке за офисом доктора Вейнгольда, дождь полил как из ведра. На всякий случай Нора предусмотрительно надела нейлоновую куртку с капюшоном и, перед тем как выйти из пикапа и побежать к одноэтажному каменному зданию, натянула на голову. Доктор Вейнгольд, как всегда, очень внимательно осмотрел ее и заявил, что она совершенно здорова. — Никогда еще не встречал женщину на третьем месяце беременности в лучшей форме, чем вы, — сказал доктор. — Я хочу, чтобы у меня родился очень здоровый ребенок, идеальный малыш. — Так и будет. Доктор знал, что ее фамилия Эймс, а фамилия ее мужа Хайатт, но никогда ничем не выказывал своего неодобрения относительно ее семейного статуса. Такое положение вещей смущало Нору, но она полагала, что современный мир, в который она вылетела, покинув кокон дома Девон, снисходительно взирал на такие вещи. Доктор Вейнгольд еще раз предложил ей пройти обследование и определить пол ребенка, но она, как и прежде, отказалась. Нора хотела, чтобы это был сюрприз. Кроме того, если они узнают, что это девочка, Эйнштейн начнет приставать к ним, чтобы они назвали ее Минни. Быстро согласовав с ассистенткой доктора дату и время ее следующего посещения, Нора вновь натянула на голову капюшон и вышла на улицу. Лил проливной дождь. На одной части крыши не было желоба, и вода стекала прямо на тротуар, образуя глубокие лужи на покрытой щебенкой автостоянке. Она пошла по этой небольшой речке к пикапу, и через секунду ее спортивные туфли промокли насквозь. Добравшись до машины, она увидела, как из красной «Хонды», припаркованной рядом, вышел мужчина. Она не слишком хорошо рассмотрела его — только то, что автомобиль, казалось, был мал для такого крупного мужчины и что его одежда не предназначалась для прогулок под дождем. На нем были джинсы и синий свитер, и у Норы мелькнула мысль: «Бедняга, он промокнет до нитки». Она открыла водительскую дверцу и стала садиться в машину. В следующую секунду этот человек протолкнул ее на соседнее сиденье, а сам уселся за руль. Он сказал: — Если ты, сука, будешь кричать, я выпущу тебе кишки. — Нора ощутила, как ей в бок ткнулся револьвер. Она непроизвольно вскрикнула и хотела было пролезть дальше через переднее сиденье и вылезти наружу через дверцу с правой стороны. Но что-то в его голосе, жестокое и мрачное, заставило ее заколебаться. Ей показалось, что он скорее выстрелит ей в спину, чем позволит ускользнуть. Мужчина захлопнул дверцу с ее стороны, и Нора осталась с ним наедине, без надежды на помощь, скрытая от всего мира завесой из дождя, стекающего по стеклам и делающего их непроницаемыми. Впрочем, это не имело значения: других машин на стоянке не было, а саму стоянку с улицы было не видно, так что ей все равно не к кому было бы обратиться за помощью. Рядом с Норой сидел очень крупный мужчина с развитой мускулатурой, но не его размеры пугали ее больше всего. Его широкое лицо было спокойным, лишенным всякого выражения, и это спокойствие, совершенно не подходящее к данным обстоятельствам, пугало Нору. Его глаза были еще хуже. Они были зеленые — и холодные. — Кто вы такой? — спросила она, стараясь скрыть свой страх, уверенная в том, что ее ужас только возбудит его. Казалось, он балансирует на тонкой линии. — Что вам от меня нужно? — Мне нужна собака. Она думала: грабитель. Думала: насильник. Маньяк-убийца. Но ни на секунду Нора не могла предположить, что он окажется правительственным агентом. А кто еще будет разыскивать Эйнштейна? Никто даже не знал о его существовании. — О чем вы? — спросила она. Нора почувствовала боль, когда он еще сильнее ткнул ей в бок револьвер. Она подумала о ребенке, которого носила. — Хорошо, о'кей, очевидно, вам известно о собаке, так что нет смысла играть в молчанку. — Нет смысла. Мужчина говорил так тихо, что за шумом дождя, барабанящего по крыше пикапа и бьющего о ветровое стекло, она с трудом разбирала слова. Он потянулся к ней, стянул с головы капюшон, расстегнул «молнию» и запустил руку вниз через грудь к ее животу. На какое-то мгновение Нора испугалась, что он все же собирается изнасиловать ее. Вместо этого незнакомец спросил: — Этот Вейнгольд — акушер-гинеколог. Зачем ты к нему приезжала? У тебя какая-нибудь проклятая венерическая болезнь или ты беременна? — Он почти выплюнул слова «венерическая болезнь», как будто его тошнило от отвращения, когда он произносил их. — Вы не работаете на правительство, — сказала она, повинуясь интуиции. — Я задал тебе вопрос, сука, — произнес он почти шепотом. Наклонился ближе и снова ткнул ей в бок револьвер. В пикапе было очень влажно. Шум дождя и страшная духота создавали почти невыносимую клаустрофобическую атмосферу. — Так что с тобой? У тебя лишай, сифилис, триппер или еще какая-нибудь мерзость? Или ты беременна? Подумав, что беременность, возможно, спасет ее от насилия, на которое он, казалось, был способен, Нора сказала: — Я жду ребенка. Я на третьем месяце. Что-то произошло с его глазами. Какой-то сдвиг. Как если бы в детском калейдоскопе изменилась фигура, составленная из осколков стекла одного и того же оттенка зеленого цвета. Нора поняла, что, признавшись в своей беременности, она допустила непоправимую ошибку, но не знала почему. Она вспомнила о пистолете тридцать восьмого калибра, лежащем в отделении для перчаток. Нора не могла просто так открыть дверцу, схватить пистолет и пристрелить мужчину, прежде чем он нажмет на курок своего револьвера. Все же ей надо быть все время настороже, ждать подходящего случая, какой-нибудь оплошности с его стороны, которая позволит ей достать свое оружие. Вдруг Нора почувствовала, что он лезет на нее, и снова подумала, что незнакомец собирается ее изнасиловать средь бела дня, пусть под прикрытием дождевой завесы, но все же средь бела дня. Затем сообразила: он просто меняется с ней местами, вынуждая ее сесть за руль, а сам займет пассажирское место, не спуская с нее дула револьвера. — Поезжай, — сказал мужчина. — Куда? — Обратно, домой. — Но… — Заткнись и поезжай. Теперь Нора сидела с другой стороны от перчаточного отделения. Чтобы добраться до него, ей придется тянуться через пассажира. Такой оплошности он никогда не допустит. Она не собиралась поддаваться нарастающему в ней страху, но сейчас поняла, что, кроме страха, ей придется держать в узде еще и свое отчаяние. Нора завела мотор, выехала со стоянки и свернула на улицу. «Дворники» стучали по ветровому стеклу почти так же громко, как ее сердце. Она не знала, что шумит громче: дождь или кровь у нее в ушах. Квартал за кварталом Нора искала глазами полицейского, хотя не имела ни малейшего понятия, что будет делать, если его встретит. Решать эту проблему ей так и не пришлось: полицейских не было видно. Всю дорогу, пока они ехали по Кармелу и затем по шоссе «Пасифик Коаст», шквалистый ветер не только гнал дождь по ветровому стеклу, но и швырял в него колючие кипарисовые и сосновые иголки с огромных старых деревьев, которыми были обсажены улицы. Южнее, по мере того как они удалялись от города и продвигались вдоль побережья, местность становилась все менее населенной; здесь над дорогой уже не нависали кроны деревьев, но ветер с океана с еще большей силой ударялся в пикап. Часто Нора ощущала, как от его порывов руль дергается у нее в руках. А дождь, хлещущий в них с моря, с такой силой колотил по машине, что, казалось, пробьет в металле дырки. После пятиминутного молчания, показавшегося Норе часом, она больше не могла подчиняться его приказу не открывать рот и спросила: — Как вы нас нашли? — Следил за вашим домом несколько дней, — ответил он своим холодным тихим голосом, который был под стать безмятежному выражению его лица. — Сегодня, когда ты уехала из дома, я последовал за тобой в надежде, что ты мне поможешь. — Нет, я имела в виду, как вы узнали, где мы живем? Он улыбнулся. — Ван Дайн. — Вот подлый обманщик. — Чрезвычайные обстоятельства, — заверил он ее. — Большой человек из Сан-Франциско был мне должен, вот он и надавил на Ван Дайна. — Большой человек? — Тетранья. — А кто это? — Ты ничего не знаешь, да? — сказал незнакомец. — Только как делаются дети, да? Это ты знаешь, да? Жесткие издевательские нотки в его голосе были не просто сексуального свойства: они были более мрачные, более странные и внушали больший ужас. Это неистовое напряжение, которое Нора чувствовала в нем каждый раз, когда он заговаривал с ней о сексе, так пугало ее, что она не посмела ничего сказать ему в ответ. На землю опустился легкий туман, и Нора включила фары. Она внимательно следила за мокрой от дождя трассой, проглядывающей из-за грязного стекла. Мужчина сказал: — Ты очень красива. Если бы я хотел воткнуть его кому-нибудь, я бы воткнул его тебе. Нора прикусила губу. — Но даже несмотря на то, что ты такая красивая, — продолжал он, — могу поспорить, что ты ничем не лучше, чем все. Если я воткну его в тебя, он начнет гнить и отвалится, потому что ты так же заразна, как и другие, правда? Да, заразна. Секс — это смерть. Я один из немногих, кто это понимает, хотя доказательств вокруг полным-полно. Секс — это смерть. Но ты очень красива… Пока Нора слушала его, в горле у нее встал комок. Ей стало трудно дышать. Неожиданно всю его неразговорчивость как рукой сняло. Незнакомец заговорил быстро-быстро своим тихим и безмятежно-спокойным голосом, резко выделяющимся на фоне тех безумных вещей, о которых он говорил: — Я стану еще больше, чем Тетранья, еще важнее. Во мне собраны десятки жизней. Я поглотил больше энергии, чем ты можешь себе представить, пережил Момент. Это мой дар. Когда Тетранья умрет, я буду здесь. Я буду здесь, когда умрут все, кто сейчас жив, потому что я бессмертен. Нора не знала, что сказать. Пришедший из ниоткуда, каким-то образом знающий об Эйнштейне, этот человек был сумасшедшим, она, казалось, ничего не может сделать. Ее злость на несправедливость всего происходящего не уступала ее страху. Они так тщательно подготовились к приходу Аутсайдера и предприняли все возможное, чтобы убежать от правительства, — но как они могли быть готовы к такому? Это было несправедливо. Незнакомец замолчал и напряженно смотрел на нее минуту или более, показавшуюся ей вечностью. Нора физически ощущала взгляд его зеленых глаз, как если бы он касался ее своими холодными руками. — Ты не понимаешь, о чем я говорю, правда? — спросил он. — Нет. Возможно, потому что он счел ее красивой, мужчина решил объяснить ей все. — Я всего лишь однажды рассказывал об этом другому человеку, и он посмеялся надо мной. Его звали Дэнни Слович; мы с ним вместе работали на семью Каррамазза в Нью-Йорке, самую большую из пяти мафиозных семей. Выполняли небольшую работку руками, время от времени убивая тех, кого надо было убрать. У Норы тошнота подкатила к горлу; он был не просто сумасшедшим и не просто убийцей, он был сумасшедшим профессиональным убийцей. Не заметив ее реакции и переведя взгляд с мокрой от дождя дороги на ее лицо, незнакомец продолжал: — Мы обедали в одном ресторане, Дэнни и я, ели моллюсков с соусом, и я объяснил ему, что мне суждено прожить долгую жизнь благодаря моему дару поглощать жизненную энергию людей, которых я убиваю. Я сказал ему: «Понимаешь, Дэнни, люди — они как батарейки, ходячие батарейки, наполненные таинственной энергией, которую мы называем жизнью. Когда я пришиваю кого-либо, его энергия переходит ко мне, и я становлюсь сильнее. Я — бык, Дэнни. Посмотри на меня: я бык или кто? А я должен быть быком, потому что у меня есть этот Дар забирать у людей их энергию». И знаешь, что мне ответил Дэнни? — Что? — оцепенев, спросила Нора. — Ну, Дэнни очень серьезно относился к еде, поэтому он не сводил глаз со своей тарелки, пока не подцепил еще несколько моллюсков. После этого посмотрел на меня — с губ и подбородка у него тек соус — и спросил: «Эй, Винс, где ты этому научился? Где ты научился поглощать эти жизненные энергии?» Я ответил: «Это мой Дар», — а он говорит: «Ты хочешь сказать, что он от Бога?» Мне пришлось подумать над этим, и я ему ответил: «Кто знает, от кого? Это мой Дар, такой же, как удар у Мэнтла или голос у Синатры». А Дэнни спрашивает: «Скажи мне вот что — предположим, ты убьешь парня, который был электриком. После того как ты поглотишь его энергию, ты можешь провести в доме проводку?» Я не понял, что он меня разыгрывает. Я думал, Дэнни серьезно меня спрашивает, и стал объяснять ему, как я поглощаю жизненную энергию, а не личность, не знания этого человека, только его энергию. И потом Дэнни говорит: «Значит, если ты пришьешь какого-нибудь подонка, ты не станешь ни с того ни с сего откусывать цыплятам головы?» Тогда я понял, что Дэнни решил, что я или пьян, или чокнутый, поэтому доел своих моллюсков и больше ни слова не сказал ему о своем Даре и с тех пор никогда об этом никому не рассказывал. Ты первая. Он назвал себя Винсом, так что теперь Нора знала его имя. Она не знала только, что это ей даст. Винс рассказал ей свою историю, никак не показывая, что сознает содержащийся в ней безумный черный юмор. Он был страшно серьезным человеком. Если Тревису не удастся с ним справиться, этот парень не оставит их в живых. — Поэтому, — продолжал Винс, — я не мог рисковать тем, что Дэнни будет кому попало рассказывать в смешном и абсурдном виде то, что я ему доверил. И тогда все решат, что я спятил. А большие боссы не нанимают сумасшедших убийц; им нужны холодные, рассудительные, уравновешенные парни, которые чисто делают свое дело. А я как раз такой и есть; холодный и уравновешенный, но Дэнни заставил бы их переменить свое мнение обо мне. Поэтому я той же ночью перерезал ему глотку, оттащил труп на одну известную мне заброшенную фабрику, разрубил на куски, засунул в бочку и облил серной кислотой. Он был любимым племянником дона, и я не мог допустить, чтобы следы от него привели ко мне. Теперь во мне, помимо множества других энергий, была еще и энергия Дэнни. Пистолет лежал в отделении для перчаток. Мысль о том, что оружие находится в отделении для перчаток, давала ей некоторую надежду.Пока Нора была на приеме у доктора Вейнгольда, Тревис замесил и испек двойную порцию шоколадного печенья с арахисовым маслом. Живя один, он научился готовить, но это занятие никогда не доставляло ему особого удовольствия. В прошедшие несколько месяцев, однако, Норе удалось развить его кулинарные способности до такой степени, что теперь ему нравилось готовить и особенно печь. Обычно Эйнштейн крутился рядом с Тревисом, предвкушая, что получит кусочек сладенького, но сегодня он покинул Тревиса еще до того, как тот кончил взбивать тесто. Пес в возбуждении бродил по дому от окна к окну, всматриваясь в дождь. Через какое-то время поведение ретривера встревожило Тревиса, и он спросил, не случилось ли чего. В кладовке Эйнштейн выложил ответ. «Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НЕМНОГО СТРАННО». — Ты не заболел? — спросил Тревис, испугавшись, не начался ли у собаки рецидив. Она быстро шла на поправку, но пока еще не выздоровела окончательно. Ее иммунная система еще не была готова к новым испытаниям. «НЕ ЗАБОЛЕЛ». — Тогда что? Ты чувствуешь… Аутсайдера? «НЕТ. НЕ ТАК, КАК ПРЕЖДЕ». — Но ты что-то чувствуешь? «НЕХОРОШИЙ ДЕНЬ». — Может, это из-за дождя? «МОЖЕТ БЫТЬ». Несколько успокоенный, но все еще немного нервничая, Тревис вернулся к выпечке.
Мокрое шоссе казалось серебряным. По мере того как они продвигались дальше на юг вдоль побережья, дневной туман усилился, и Норе пришлось сбавить скорость до сорока миль в час, а в некоторых местах даже до тридцати. Интересно, нельзя ли под предлогом тумана совсем сбавить скорость, открыть дверцу и выскочить из машины? Наверное, нет. Ей пришлось бы ехать меньше пяти миль в час, чтобы не разбиться самой и не повредить ребенку, а туман был не таким уж густым, чтобы оправдать такую маленькую скорость. Кроме того, Винс все время, пока говорил, не сводил с нее дула пистолета, и он выстрелит ей в спину, едва она повернется к выходу. Фары пикапа и еще нескольких встречных машин отражались во влажном тумане. Из-за быстро несущихся облаков вдруг показался яркий свет и выглянула радуга, а потом все сразу исчезло. Нора подумывала о том, не свернуть ли ей с дороги в одном из тех мест, где, насколько она знала, насыпь внизу была мягкой и падение было бы вполне сносным. Но Нора боялась, что перепутает и по ошибке съедет в пропасть глубиной в двести футов и со страшной силой ударится о каменистый берег. Даже если она свернет в нужном месте, в результате этой подстроенной и не слишком опасной аварии она может потерять сознание или у нее случится выкидыш, а ей, насколько это возможно, хотелось, чтобы она и ребенок вышли из этой переделки целыми и невредимыми. Начав говорить, Винс уже не мог остановиться. Многие годы он никому не поверял своей тайны, прятал от всего света мечты о власти и бессмертии, но страстное желание рассказать о своем предполагаемом величии, по-видимому, не уменьшилось после его фиаско с Дэнни Словичем. Казалось, долгие годы он записывал в своей голове на магнитофонную ленту все, что хотел поведать людям, и сейчас на большой скорости проигрывал ее, извергая собственное безумие, которое приводило Нору в ужас. Винс рассказал ей о том, как узнал об Эйнштейне и об убийствах ученых, ведущих различные исследования в рамках проекта «Франциск» в Банодайне. Ему было известно и об Аутсайдере тоже, но он не боялся его. Винс ощущал себя на грани бессмертия, и похищение собаки стало последней ступенькой, которую следовало преодолеть, чтобы достичь своей Судьбы. Ему и собаке было предписано свыше быть вместе, потому что каждый из них был единственным в этом мире, единственным в своем роде. Когда Винс достигнет своей Судьбы, сказал он, ничто его не остановит, даже Аутсайдер. Нора не понимала половины из того, что он говорил. Она полагала, что если бы она понимала все, то была бытакой же безумной, каким, несомненно, был Винс. Но хотя ей не всегда удавалось ухватить смысл, Нора знала, что он собирается сделать с ней и Тревисом после того, как завладеет ретривером. Сначала она боялась заговорить с ним о том, как будто слова могли сделать ее страшное будущее неотвратимым. В конце концов, однако, когда до дороги, ведущей от шоссе к их деревянному дому, оставалось не более пяти миль, Нора спросила: — Вы ведь не дадите нам уйти, когда заберете собаку, правда? Винс уставился на нее, лаская ее своим взглядом. — А ты как думаешь, Нора? — Я думаю, вы нас убьете. — Конечно. Она удивилась тому, что это подтверждение ее страхов не наполнило ее душу еще большим ужасом. Его самоуверенный ответ только разозлил ее, уменьшив страх и увеличив решимость сорвать его тщательно продуманные планы. Теперь Нора знала, что стала другой женщиной, не имеющей ничего общего с той Норой, какой она была в мае и которая пришла бы в ужас от наглой самоуверенности этого типа. — Я могла бы рискнуть и пустить машину под откос, — сказала Нора. — Стоило бы тебе повернуть руль, — ответил Винс, — и я бы тебя пристрелил и попробовал взять управление на себя. — Может, у вас ничего бы не вышло. Возможно, вы бы тоже погибли. — Я? Погиб? Вероятно, но только не в аварии. Нет, нет. Во мне слишком много жизней, чтобы я мог уйти так просто. И потом я все равно не верю, что ты попыталась бы это сделать. В глубине души ты веришь: твой муж возьмет надо мной верх и спасет тебя, собаку и себя самого. Ты ошибаешься, конечно, но не перестаешь надеяться. Он ничего не сделает, так как побоится навредить тебе. Я войду в дом вместе с тобой, мой пистолет будет приставлен к твоему животу, и это зрелище парализует его на несколько секунд, а мне этого хватит, чтобы вышибить у него мозги. Поэтому-то у меня всего один револьвер. Мне больше не надо. Эта его забота о тебе и боязнь повредить тебе убьют его. Нора решила, что сейчас крайне важно не выказывать своей ярости. Она должна стараться выглядеть испуганной, слабой, совершенно неуверенной в себе. Если Винс будет ее недооценивать, то может совершить какую-нибудь промашку и дать ей небольшое преимущество. На секунду переведя взгляд с мокрого шоссе на него, Нора увидела, что он смотрит на нее не с радостью и не с яростью сумасшедшего, как можно было бы ожидать, и не со своим тупым спокойствием, а с чем-то очень похожим на привязанность, а возможно, и благодарность. — Долгие годы я мечтал убить беременную женщину, — сказал Винс таким тоном, как будто его цель была не менее важна и достойна уважения, чем желание выстроить деловую империю, накормить голодных или ухаживать за больными. — Я никогда еще не был в такой ситуации, когда риск убить беременную женщину был настолько мал, чтобы его можно было оправдать. Но в этом вашем уединенном доме, после того как я разделаюсь с Корнеллом, у меня появится идеальная возможность. — Пожалуйста, не надо, — прерывистым голосом сказала Нора, разыгрывая слабость, хотя ей и не пришлось подделывать нервную дрожь. Продолжая говорить спокойным голосом, в котором, однако, звучало больше эмоций, чем прежде, Винс произнес: — Я получу твою жизненную энергию, все еще молодую и богатую, но в момент твоей смерти ко мне перейдет еще и энергия ребенка. И это будет совершенно чистая, неиспользованная энергия, не зараженная грязью этого больного, развращенного мира. Ты, Нора, — моя первая беременная женщина, и я всегда буду тебя помнить. В уголках его глаз заблестели слезы, и это тоже не было игрой. Хотя Нора и верила, что Тревис как-нибудь справится с этим человеком, она боялась, что в этой заварухе могут погибнуть или она сама, или Эйнштейн. И Нора не знала, сможет ли Тревис оправиться от того, что не смог спасти их всех.
Тревис вынул из духовки первую порцию печенья и поставил на подставку остывать. Вошел Эйнштейн и начал принюхиваться. Тревис сказал: — Они еще слишком горячие. Пес вернулся в гостиную и стал смотреть в окно на дождь. Прямо перед поворотом с шоссе Винс съехал на сиденье вниз, чтобы его не было видно из окна, и приставил к ней пистолет. — Одно неверное движение, и я вышибу из брюха ребенка. Нора верила, что он так и сделает. Свернув на грязную и скользкую грунтовую дорогу, она поехала к дому. Нависшие над дорогой ветки деревьев немного защищали ее от дождя, но зато собирали воду, а затем посылали ее на землю более крупными каплями или целыми струйками. Нора увидела Эйнштейна, стоящего у окна, и попыталась придумать какой-нибудь знак, который бы означал «беда» и был бы сразу понятен, но ей ничего не приходило в голову. Глядя на нее, Винс сказал: — Не надо к амбару. Остановись прямо у дома. Его план был ясен. Угол дома, где находились кладовка и лестница в подвал, не имел окон. Тревис и Эйнштейн не смогут разглядеть, что вместе с ней из машины выходит человек. Винс толкнет ее за угол и через черный ход войдет в дом прежде, чем Тревис поймет, что что-то не так. Может быть, Эйнштейн своим собачьим чутьем обнаружит опасность. Может быть. Но… пес ведь совсем недавно был так болен.
Эйнштейн в явном возбуждении прошлепал в кухню. Тревис спросил: — Это был Норин пикап? Да. Ретривер подошел к задней двери и заплясал от нетерпения, затем замер, высоко подняв голову.
Норе повезло, когда она этого меньше всего ожидала. Припарковавшись рядом с домом, она поставила машину на ручной тормоз и выключила двигатель. Винс схватил ее и через пассажирское сиденье потащил из пикапа со своей стороны, так как эта сторона примыкала к задней стороне дома и через передние окна хуже просматривалась. Вылезая из автомобиля и таща ее за руку, Винс оглядывался по сторонам, чтобы убедиться, что Тревиса поблизости нет; он отвлекся и не так внимательно следил за Норой. Протискиваясь через сиденье мимо перчаточного отделения, Нора рванула на себя его дверку и схватила пистолет. Должно быть, Винс что-то услышал или почувствовал, потому что он круто развернулся в ее сторону, но было уже поздно. Нора приставила пистолет к его животу и, прежде чем Винс смог поднять свой и размозжить ее голову, трижды нажала на курок. На лице его появилось выражение крайнего изумления, его отбросило к стене дома, находившейся в трех футах от него. Ее поразило собственное хладнокровие. В каком-то безумии она подумала, что нет никого более опасного, чем мать, защищающая своих детей, даже если один из них еще не появился на свет, а второй был собакой. Нора выстрелила еще раз, на этот раз прямо ему в грудь. Винс тяжело повалился на мокрую землю, лицом в грязь. Она отвернулась от него и побежала. На углу дома едва не столкнулась с Тревисом, который перепрыгнул через перила крыльца и приземлился на четвереньках рядом с ней, не выпуская из рук «узи». — Я убила его, — сказала Нора с истеричными нотками в голосе, которые она тщетно старалась побороть. — Я выстрелила в него четыре раза, я убила его. Господи. Тревис поднялся, ничего не понимая. Нора обхватила его руками и положила голову ему на грудь. Они стояли под холодным дождем, и она наслаждалась исходившим от него теплом. — Кого… — начал Тревис. Позади Норы Винс, тяжело дыша, пронзительно вскрикнул и, перекатившись на спину, выстрелил в них. Пуля попала Тревису в плечо и отбросила его назад. Еще бы два дюйма, и она бы размозжила Норе голову. Она еле устояла на ногах, когда Тревис упал, потому что держалась за него, но быстро выпустила его и побежала налево, чтобы укрыться за пикапом и выйти из линии огня. Нора лишь мельком взглянула на Винса и увидела, что тот пытается встать на ноги, в одной руке сжимая револьвер, а второй хватаясь за живот. И в этой картине, которая промелькнула перед ее глазами, прежде чем она укрылась за машиной, не запечатлелось следов крови — на этом человеке не было никаких следов крови. Что происходит? Он не мог остаться в живых, получив три пули в живот и одну в грудь. Если только он действительно не был бессмертным. Пока Нора пробиралась к пикапу, Тревис приподнялся в грязи и сел. На нем кровь была видна, она стекала с плеча ему на грудь и проступала на рубашке. В правой руке, которая действовала, несмотря на рану в плече, он по-прежнему сжимал «узи». Винс выстрелил наугад во второй раз, и Тревис открыл огонь. Его позиция была не лучше, чем у противника: пули беспорядочно ударялись о дом и рикошетом отскакивали к грузовику. Он перестал стрелять. — Дерьмо, — сказал Тревис, поднимаясь на ноги. Нора спросила: — Ты попал в него? — Он спрятался за дом и побежал вокруг, — сказал Тревис и последовал за Винсом.
Винс полагал, что если он еще не достиг бессмертия, то уже близок к нему, находится совсем рядом. Ему нужны были всего лишь несколько жизней, и он боялся умереть, когда так близко подошел к своей Судьбе. Поэтому Винс принял ряд предосторожностей. Вроде самой последней и самой дорогой модели бронезащитного жилета «Кевлар». У него под свитером был надет такой жилет, и это-то и спасло его от четырех пуль, которые всадила в него эта стерва. Пули расплющились о жилет, не оставив на нем ни царапины. Но, Бог мой, ему было так больно! Его отбросило к стене дома, и он едва не задохнулся. Винсу казалось, что он лежит на гигантской наковальне и кто-то мерно опускает на него тяжелый молот. Согнувшись пополам от боли и ковыляя к дому, чтобы спрятаться от этого проклятого «узи», он был уверен, что его пристрелят выстрелом в спину. Но каким-то чудом ему удалось зайти за угол, забраться на крыльцо и уйти из-под обстрела. Винс испытывал некоторое удовлетворение при мысли о том, что ранил Корнелла, хотя и знал: рана не смертельна. Он лишился элемента внезапности, теперь ему предстояла долгая борьба. Черт возьми, эта женщина оказалась такой же опасной, как сам Корнелл, — эдакая сумасшедшая амазонка. Винс готов был поклясться, что в ней было что-то от робкой мышки, что по своей натуре она очень податлива. Очевидно, он ее недооценивал, и это его подвело. Винс Наско не привык совершать такие ошибки, ошибки были уделом других, а не избранника Судьбы. Отступая через переднее крыльцо, уверенный в том, что Корнелл настигает его, Винс решил спрятаться в доме, а не бежать к лесу. Они ожидают, что он двинет в сторону леса, чтобы укрыться там и выработать стратегию. Вместо этого он пойдет прямо в дом и выберет такую позицию, с которой ему будут видны обе двери: и передняя, и задняя. Возможно, еще удастся застать их врасплох. Он проходил мимо большого окна, направляясь к передней двери, когда что-то, как бомба, выскочило через стекло. Винс вскрикнул от удивления и нажал на курок, но пуля попала в крышу крыльца, и собака — Бог мой, так вот что это было, собака! — с силой ударилась об него. Он выронил револьвер, и его отбросило к перилам. Собака не выпускала его, она рвала когтями одежду, а зубами впилась ему в плечо. Перила крыльца не выдержали. Они рухнули на землю прямо под дождь. Винс кричал и молотил по собаке своими огромными кулачищами до тех пор, пока она не завизжала и не выпустила его. Затем пес набросился на его горло, ему едва удалось сбросить его прежде, чем он перегрыз ему дыхательное горло. Внутри у Винса все трепыхалось, но он все же подтянулся на руках и влез обратно на крыльцо, ища глазами револьвер, — и вместо револьвера увидел Корнелла. Из его раны на плече текла кровь, но он стоял на крыльце и смотрел вниз на Винса. Того захлестнула безумная волна самоуверенности. Он знал, что с самого начала был прав, знал, что непобедим, бессмертен, поэтому мог смотреть в дуло «узи» без страха, без всякого страха, и он ухмыльнулся Корнеллу в лицо: — Посмотри на меня, посмотри. Я твой самый страшный кошмар. Корнелл сказал: — Ты ошибаешься, — и открыл огонь.
Тревис сидел в кухне на стуле, Эйнштейн лежал рядом, а Нора обрабатывала мужу рану. Накладывая ему повязку, она рассказала все, что знала об этом человеке, который силой залез к ней в пикап. — Проклятая случайность, — сказал Тревис. — Этого мы никак не могли предвидеть. — Надеюсь, это только случайность. Тревис поморщился, когда Нора смазала рану спиртом и йодом, и еще раз, когда она бинтовала ее, пропуская марлю под мышкой, и сказал: — Не слишком старайся. Кровотечение совсем слабое. Ни одна артерия не задета. Пуля прошла навылет, оставив на выходе страшную рану, и ему было здорово больно, но какое-то время Тревис еще сможет пробыть на ногах. За медицинской помощью он обратится попозже, скорее всего к Джиму Кину, чтобы избежать вопросов, которые любой другой врач наверняка задаст ему и на которые потребует ответа. Сейчас Тревиса заботило, чтобы рана была крепко перевязана и он мог бы избавиться от трупа. Эйнштейну тоже досталось. К счастью, он не порезался, выскакивая через стекло. Было не похоже, что у него сломаны кости, но пес получил несколько сильных ударов. Да, ретривер тоже был не в лучшей форме и выглядел ужасно: грязный, насквозь промокший и больной. Да, ему тоже не помешает показаться Джиму Кину. Дождь за окном усилился, с силой барабанил по крыше и с шумом стекал по желобам и водосточным трубам. Он заливался через крыльцо в разбитое окно, но сейчас им было не до этого. — Надо Бога благодарить за дождь, — сказал Тревис. — Из-за этого потопа ни один человек в округе не мог расслышать звуки выстрелов. Нора спросила: — Куда мы денем труп? — Я как раз об этом думаю. Боль разливалась от плеча вверх и отдавала в голову, и Тревис с трудом мог собраться с мыслями. Она сказала: — Мы могли бы закопать его здесь, в лесу… — Нет. Мы все время будем думать о том, что он здесь. Бояться, как бы звери не раскопали тело и его не нашли туристы. Лучше… там вдоль шоссе есть такие места, где мы могли бы остановиться, выждать, пока вокруг не будет машин, вытащить его и сбросить вниз. Если мы найдем место, где склон обрывается прямо в океан, его унесет течением, прежде чем кто-нибудь заметит. Нора закончила перевязку. Эйнштейн резко поднялся и завыл. Он принюхался. Затем подошел к задней двери и замер, уставившись на нее, затем скрылся в гостиной. — Боюсь, он пострадал больше, чем кажется, — проговорила Нора, прикрепляя последнюю полоску пластыря. — Возможно, — сказал Тревис. — А может, и нет. Он сегодня весь день ведет себя как-то странно, с самого твоего отъезда. Он сообщил мне, что день сегодня плохо пахнет. — Он был прав, — сказала она. Пес прибежал из гостиной и сразу направился в кладовку, где включил свет и стал доставать карточки, нажимая на педали. — Может, он придумал, как избавиться от трупа, — предположила Нора. Пока она убирала на место йод, спирт, марлю и пластырь, Тревис, морщась от боли, надел рубашку и пошел в кладовку узнать, что хочет им сообщить Эйнштейн. «АУТСАЙДЕР ЗДЕСЬ».
Тревис защелкнул новый магазин в приклад своего карабина, запасной сунул себе в карман и дал Норе один из пистолетов «узи», которые лежали в кладовке. Судя по поведению собаки, у них не было времени пройти по дому, чтобы закрыть и запереть ставни. Весь их хитроумный план, заключавшийся в том, чтобы отравить Аутсайдера в амбаре газом, был построен на уверенности, что он придет ночью и отправится на разведку. Теперь, когда он появился средь бела дня и произвел рекогносцировку, пока они занимались Винсом, этот план никуда не годился. Они стояли в кухне, прислушиваясь, но из-за нескончаемого шума дождя ничего не было слышно. Эйнштейн не смог точнее указать им место, где находится их противник. Его шестое чувство все еще работало не в полную силу. Счастье, что он вообще почувствовал эту бестию. Его утреннее тревожное состояние, очевидно, не было связано с ощущением опасности, грозящей им со стороны человека, приехавшего вместе с Норой, а вызывалось — пусть неосознанно — приближением Аутсайдера. — Второй этаж, — сказал Тревис. — Пошли туда. Здесь, внизу, это существо могло появиться и через двери, и через окна, а там, на втором этаже, им покрайней мере не надо будет думать о входных дверях. Может быть, им даже удастся закрыть ставни на некоторых окнах. Нора поднималась по лестнице вместе с Эйнштейном. Тревис, пятясь и держа под прицелом первый этаж, прикрывал их с тыла. У него кружилась голова. Он остро чувствовал: боль и слабость в его раненом плече медленно растекаются по всему телу наподобие чернильного пятна, проступающего на промокательной бумаге. Добравшись до площадки второго этажа, Тревис сказал: — Если мы услышим, что Аутсайдер вошел в дом, то отойдем подальше, подождем, пока он начнет забираться к нам, выступим вперед и, застав его врасплох, пристрелим. Нора кивнула. Сейчас надо было молчать, предоставив ему возможность пробраться в дом, дав ему время понять, что они спрятались наверху, позволив ему подойти к лестнице, ощутив себя в полной безопасности. Вспышка молнии — первой за все время — осветила окно в конце холла; за ней последовал раскат грома. Казалось, небо сотряслось от этого удара и все запасы дождя, которые скопились в небесах, обрушились на землю в едином страшном потопе. Из студии, расположенной в конце холла, вылетело одно из Нориных полотен и с грохотом ударилось о стену. Нора вскрикнула от изумления, и какое-то мгновение все трое тупо смотрели на лежащую на полу картину, думая, что ее полтергейстский полет, наверное, был вызван страшным раскатом грома. Из комнаты вылетела вторая картина, ударилась о стену, и Тревис увидел, что все полотно изрезано. Аутсайдер был уже в доме. Их разделял короткий холл. Слева от них была главная спальня и будущая детская, а справа Норина студия и ванная комната. От твари, которая в Нориной комнате уничтожала ее картины, их отделяли всего две двери. Еще одно полотно оказалось в коридоре. Весь промокший, грязный, избитый, все еще слабый после чумки, Эйнштейн тем не менее яростно лаял, стараясь спугнуть Аутсайдера. Держа «узи» перед собой, Тревис сделал шаг вперед. Нора схватила его за руку. — Не надо. Давай уйдем отсюда. — Нет. Нам придется с этим справиться. — В нашем-то положении. — Другого выхода у нас нет. Еще две картины вылетели из комнаты и с грохотом присоединились к уже и так не маленькой кучке загубленных полотен. Лай Эйнштейна перешел в грозное рычание. Вместе они двинулись по коридору по направлению к открытой двери в Норину студию. Весь предыдущий опыт и подготовка Тревиса говорили ему, что им следует разделиться, рассредоточиться, а не группироваться вместе, представляя собой единую мишень. Но они ведь сейчас были не в «Дельте». И их противник не был обычным террористом. Если они рассредоточатся, то потеряют часть своего мужества, так необходимого им, чтобы лицом к лицу встретиться с этим существом. Сама их близость друг к другу придавала им сил. До студии оставалось пройти еще полпути, когда раздался пронзительный крик Аутсайдера. Этот леденящий душу звук резанул Тревиса, кровь застыла у него в жилах. Они с Норой остановились, а Эйнштейн сделал еще два шага. Собаку била сильная дрожь. Тревис заметил, что сам он тоже дрожит. От этого боль в его плече усилилась. Стряхнув с себя сковавший его страх, Тревис рванулся к открытой двери, ступая прямо по загубленным картинам, и дал очередь по комнате. Карабин отдавал ему в плечо, и, хотя отдача была минимальной, ему казалось, что кто-то зубилом врезается ему в рану. Он ни в кого не попал, не услышал никакого крика, не обнаружил никаких признаков противника. Пол был усеян дюжиной изуродованных картин и осколков стекла из разбитого окна, через которое Аутсайдер проник в комнату с крыши переднего крыльца. Тревис выжидал, широко расставив ноги. Сжимал обеими руками карабин. Пот заливал ему глаза. Он старался не замечать страшной боли в правом плече. Ждал. Аутсайдер должен быть слева от двери — или за ней справа — стоит, приготовившись к прыжку. Если Тревис не будет торопиться, возможно, эта тварь устанет ждать и бросится на него, и тогда он здесь, в проеме, вышибет из нее мозги. «Нет, она такая же умная, как Эйнштейн, — сказал себе Тревис. — Разве Эйнштейн выскочил бы на меня через этот узкий дверной проем? Нет. Он придумал бы что-то более хитроумное и неожиданное». Раскат грома, такой сильный, что стекла задрожали в окнах и дом покачнулся, сотряс небеса. Молния осветила небо. Ну, давай же, скотина, покажись. Тревис взглянул на стоящих в нескольких шагах от него Нору и Эйнштейна. С одной стороны от Тревиса была главная спальня, с другой — ванная, а за ними — лестница. Он снова посмотрел в комнату на осколки стекла, валявшиеся на полу. Неожиданно Тревис осознал, что Аутсайдера в студии больше нет, он выбрался через окно на крышу переднего крыльца и сейчас приближается к ним с другой стороны дома; возможно, через другую дверь, или из одной из спален, или из ванной комнаты, или, может быть, он с криком бросится на них с лестницы. Тревис подозвал к себе Нору. — Прикрой меня. Прежде чем она успела запротестовать, он крадучись вошел в студию. Тревис чуть было не поскользнулся в этом беспорядке, но удержался на ногах и круто развернулся, готовый открыть огонь, если эта тварь прыгнет на него. В студии никого не было. Дверь в подсобку была открыта. Там тоже было пусто. Тревис подошел к разбитому окну и осторожно выглянул наружу на мокрую от дождя крышу крыльца. Никого. Ветер звенел опасно острыми осколками стекла, торчащими из оконной рамы. Он повернулся, чтобы идти обратно в холл верхнего этажа. Тревис видел Нору, которая смотрела на него испуганными глазами, но храбро продолжала сжимать свой пистолет. Позади нее распахнулась дверь в будущую детскую, и он заметил эту бестию с горящими желтыми глазами. Ее чудовищная пасть, полная зубов, гораздо более острых, чем осколки стекла в раме, была широко раскрыта. Почувствовав ее присутствие, Нора стала оборачиваться, но тварь схватила ее прежде, чем Нора успела выстрелить, и вырвала у нее из рук пистолет. Эйнштейн, яростно рыча, бросился на Аутсайдера, не дав ему вонзить в Нору свои острые, как бритва, шестидюймовые когти. С проворностью кошки тот перенес свое внимание с Норы на пса. Он хлестал вокруг себя и размахивал своими длинными руками так, как если бы у него был не один локтевой сустав, а несколько. Затем своими ужасающими клещами он схватил собаку. Тревис рванулся через студию к двери, но не выстрелил, так как между ним и этой ненавистной тварью стояла Нора. Добежав до двери, Тревис крикнул ей, чтобы она легла и он смог выстрелить, она так и сделала без промедления, но было уже поздно. Аутсайдер затащил Эйнштейна в детскую и захлопнул за собой дверь, как будто он был каким-то злобным кошмарным отродьем из игрушечного ящика, которое в мгновение ока появилось и исчезло со своей жертвой. Эйнштейн завизжал, и Нора бросилась к двери в детскую. — Назад, — закричал Тревис, отталкивая ее в сторону. Он направил свой автоматический карабин на закрытую дверь и разрядил в нее оставшиеся патроны, проделав в ней по меньшей мере тридцать дырок и сжав зубы, чтобы не закричать от страшной боли, которая жгла его плечо. Конечно, был риск, что Тревис попадет в Эйнштейна, но ретриверу грозила куда более страшная опасность, если бы Тревис не открыл огонь. Когда патроны кончились, он рывком вытащил пустой магазин, достал из кармана новый и вставил его в карабин. Затем распахнул изуродованную дверь и вошел в детскую. Окно было открыто, и ветер раскачивал занавески. Аутсайдер исчез. Эйнштейн без движения лежал на полу у одной из стен. Он был весь в крови. При виде ретривера Нора вскрикнула от отчаяния. Выглянув в окно, Тревис увидел кровавые следы, тянущиеся через крышу крыльца. Дождь быстро смывал их. Какое-то движение привлекло его внимание, он бросил взгляд на амбар и увидел, как за Аутсайдером закрылась большая дверь. Опустившись на колени рядом с собакой, Нора проговорила: — Боже мой, Тревис, Боже мой, умереть так после всего, что он пережил. — Я иду за этим чертовым отродьем, — яростно проговорил Тревис. — Он в амбаре. Нора последовала было за ним к двери, но он сказал: — Нет! Позвони Джиму Кину и оставайся рядом с Эйнштейном, оставайся рядом с Эйнштейном. — Но я нужна тебе. Ты не можешь идти один. — Ты нужна Эйнштейну. — Эйнштейн мертв, — сказала она сквозь слезы. — Не смей этого говорить! — закричал Тревис. Он понимал, что ведет себя неразумно, как если бы он считал, что Эйнштейн не умрет до тех пор, пока они не произнесут этих слов, но сдержать себя не мог. — Не говори, что он мертв. Оставайся с ним, черт подери. Я уже ранил этого проклятого монстра, думаю, сильно ранил, он истекает кровью, и я могу сам с ним справиться. Позвони Джиму Кину и оставайся с Эйнштейном. Тревис боялся также, что случившееся может спровоцировать у Норы выкидыш. Тогда они потеряют не только собаку, но и ребенка. Он бегом бросился из комнаты. «В таком состоянии ты не можешь идти в амбар, — сказал Тревис себе. — Сначала тебе надо успокоиться. Ты велел Норе вызвать ветеринара к мертвому псу и остаться с ним, когда на самом деле она могла бы помочь тебе… Не годится. Нельзя давать ярости и жажде мести овладеть собой. Не годится». Но он не мог остановиться. Всю свою жизнь он терял тех, кого любил, и всегда, за исключением службы в «Дельте», ему некому было нанести ответный удар, потому что нельзя ведь отомстить судьбе. Даже в «Дельте» враг был безликим: некая бесформенная масса маньяков и фанатиков, составляющих «международный терроризм», — и эта месть не доставляла большого удовлетворения. Но сейчас перед ним был враг, не имеющий себе равных, враг, достойный этого названия, и он заставит его заплатить за то, что тот сделал с Эйнштейном. Тревис пробежал через холл и, перепрыгивая через несколько ступенек, понесся вниз по лестнице. Волна тошноты и головокружения захлестнула его, и он едва не упал. Тревис ухватился за перила, чтобы прийти в себя. Он облокотился не на ту руку, и жгучая боль пронзила его раненое плечо. Выпустил перила, потерял равновесие и скатился вниз по последнему пролету, сильно ударившись спиной. Тревис был в худшей форме, чем думал. Сжимая в руке карабин, он поднялся на ноги, с трудом добрался до задней двери, затем прошел на крыльцо, спустился по ступенькам и вышел во двор. Холодный дождь прояснил его тяжелую голову, и Тревис еще минуту постоял на лужайке, чтобы дождь хотя бы немного смыл с него слабость. Перед его взором мысленно пронесся образ изломанного, окровавленного тела Эйнштейна. Он подумал о веселых посланиях, которые уже никогда не появятся на полу в кладовке, о будущих Рождествах, на которых Эйнштейн уже не будет расхаживать по дому в своей шапочке Санта-Клауса, и о любви, которую он уже никогда не сможет получить и отдать, и о гениальных щенках, которые уже никогда не родятся, и тяжесть этой потери едва не вдавила Тревиса в землю. Он направил свое горе на то, чтобы обострить свой гнев, и оттачивал свою ярость до тех пор, пока она не стала острой как бритва. Тогда Тревис направился к амбару. Амбар кишел тенями. Он остановился у открытой двери и щурясь смотрел на царящую внутри слоистую мглу в надежде увидеть желтые глаза, а дождь хлестал его по голове и спине. Ничего. Гнев придал ему храбрости, и Тревис вошел внутрь и нажал на кнопку выключателя на северной стене. Даже когда зажегся свет, он не увидел Аутсайдера. Борясь с головокружением и сжав от боли зубы, Тревис направился мимо пустого места, где обычно стоял пикап, мимо «Тойоты» и медленно двинулся вдоль машины. Сеновал. Еще несколько шагов, и он выйдет из-под сеновала. Если эта тварь там, она может броситься на него сверху… Его размышления были прерваны при виде Аутсайдера, который был здесь, в глубине амбара, за «Тойотой». Он лежал, скорчившись, на бетонном полу и выл, обхватив себя своими длинными сильными руками. Пол вокруг него был весь в крови. Тревис почти минуту стоял рядом с машиной в пятнадцати футах от этого существа и с отвращением, страхом, ужасом и какой-то необъяснимой завороженностью разглядывал его. Ему казалось, он видит тело обезьяны, возможно, бабуина, но в любом случае кого-то из семейства обезьян. Но причислить его к какому-то одному виду или сказать, что это просто мешанина, состоящая из разных частей многих животных, было нельзя. Аутсайдер существовал как бы сам по себе. Со своим чрезмерно большим и бесформенным лицом, огромными желтыми глазами, со своими челюстями, напоминающими экскаватор, и длинными изогнутыми клыками, со своей сгорбленной спиной и спутанной шерстью и слишком длинными руками, он представлял ужасное зрелище. Существо выжидающе смотрело на него. Тревис сделал два шага вперед и вскинул карабин. Аутсайдер поднял голову, заработал челюстями и скрипучим, надтреснутым голосом невнятно, но все же достаточно разборчиво произнес слово, которое он расслышал, даже несмотря на бурю: «Больно». Тревис скорее ужаснулся, чем поразился. От этого существа не требовалось умение говорить, но, обладая умственными способностями, оно хотело научиться этому, так как стремилось к общению. Очевидно, за те месяцы, что оно преследовало Эйнштейна, это желание окрепло. Оно каким-то образом могло извлекать исковерканные звуки из своих жилистых голосовых связок и бесформенного рта. Тревиса привел в ужас не вид говорящего демона, а мысль о том, как отчаянно Аутсайдер хотел общаться с кем-нибудь, с любым. Тревис не мог жалеть его, не смел жалеть, потому что он должен был чувствовать, что поступает правильно, стерев его с лица земли. — Долго шел. Теперь кончено, — с огромным усилием произнес Аутсайдер, как будто каждое слово приходилось вырывать у него из горла. Его глаза были слишком недобрыми, чтобы вызывать сочувствие, а все конечности, несомненно, служили орудиями убийства. Высвободив длинную руку, он поднял что-то, лежащее на полу рядом с ним, и Тревис только сейчас заметил, что это одна из кассет с Микки Маусом, которую Эйнштейн получил на Рождество. На футляре кассеты был нарисован знаменитый мышонок: на нем был надет его привычный наряд, он улыбался знакомой улыбкой и махал рукой. — Микки, — произнес Аутсайдер, и, несмотря на то, что голос его был таким же мерзким, странным и еле различимым, он каким-то образом передавал чувство ужасной потери и одиночества. — Микки. Затем он выронил кассету, обхватил себя руками и в агонии стал кататься по полу. Тревис сделал еще шаг вперед. Страшное лицо Аутсайдера было таким отталкивающим, что в этом был какой-то элемент законченности. В своем уникальном уродстве оно было странно, мрачно завораживающим. Раздался новый раскат грома, и на этот раз свет в амбаре мигнул и почти потух. Снова подняв голову, Аутсайдер сказал своим прежним скрипучим голосом, в котором на этот раз звучало холодное, безумное ликование: — Убил собаку, убил собаку, убил собаку, — и издал какой-то звук, который, возможно, был смехом. Тревис едва не разнес его на куски. Но, прежде чем он успел нажать на курок, смех Аутсайдера перешел в рыдание. Тревис как завороженный смотрел на него. Уставившись на Тревиса своими желтыми глазами, он снова повторил: — Убил собаку, убил собаку, убил собаку, — но на этот раз казалось, что он испытывает страшные муки, как если бы он осознал размеры преступления, которое в силу своей генетики вынужден был совершить. Аутсайдер взглянул на кассету с изображением Микки. Затем умоляюще произнес: — Убей меня. Тревис не знал, действует ли он под влиянием горя или жалости, когда нажал на курок и разрядил в Аутсайдера магазин своего карабина. Что человек начал, то человек и закончил. Тревис почувствовал себя опустошенным. Бросил карабин и вышел из амбара. У него не было сил вернуться в дом. Опустившись на землю под дождь, он сжался и зарыдал. Тревис все еще плакал, когда с шоссе на грязную дорожку свернула машина Джима Кина.
Глава 11
В четверг днем, тринадцатого января, Лем Джонсон оставил Клиффа Соамса и еще двух человек в начале проселочной дороги, там, где она упиралась в шоссе «Пасифик Коаст». Им было приказано никого не выпускать и оставаться на месте до тех пор, пока Лем, в случае необходимости, их не позовет. Клиффу Соамсу этот приказ показался странным, но вслух он ничего не сказал. Лем заявил, что, поскольку Тревис Корнелл когда-то служил в группе «Дельта» и имел большой боевой опыт, с ним следует обращаться осторожно. — Если мы ворвемся к нему, он сразу поймет, с кем имеет дело, и может оказать сопротивление. А если я пойду один, то смогу заставить его выслушать меня, и, возможно, мне удастся уговорить его добровольно выдать нам собаку. Это не слишком убедительное объяснение его неортодоксальных действии не смогло стереть выражение недоумения с лица Клиффа. Лему было наплевать на недоумение Клиффа. Он поехал по дороге один на седане и припарковался перед домом из мореного дерева. На деревьях распевали птицы. Здесь, на северном калифорнийском побережье, зима временно ослабила свою хватку, и день выдался очень теплым. Лем поднялся по ступенькам и постучал в дверь. На стук к двери подошел Тревис Корнелл и взглянул на него через решетку. Затем сказал: — Мистер Джонсон, я полагаю. — Откуда вы… ах, да, конечно, вам обо мне рассказал Гаррисон Дилворт, когда той ночью звонил вам. К удивлению Лема, Корнелл открыл дверь. — Можете войти. На Корнелле была майка без рукавов, очевидно, из-за повязки, скрывавшей большую часть его правого плеча. Он провел Лема через холл в кухню, где его жена, сидя за столом, чистила яблоки на пирог. — Мистер Джонсон, — произнесла она. Лем улыбнулся и сказал: — Я вижу, меня тут хорошо знают. Корнелл сел за стол и взял в руки чашку с кофе. Лему он кофе не предложил. Чувствуя себя не в своей тарелке, Лем с минуту постоял, затем сел рядом с ними. Он сказал: — Ну, знаете, это было неизбежно. Рано или поздно мы должны были вас найти. Женщина продолжала молча чистить яблоки. Ее муж уставился в свою чашку. «Что это с ними?» — подумал Лем. Происходящее даже отдаленно не напоминало картину, которую он себе представлял. Он был готов к панике, гневу, подавленности и многому другому, но только не к этой странной апатии. Казалось, им было все равно, что он в конце концов их нашел. Он спросил: — Вам неинтересно узнать, как мы вас нашли? Женщина покачала головой. Корнелл произнес: — Если хотите, можете доставить себе это удовольствие и рассказать нам. Лем удивленно вскинул брови и сказал: — Ну, все очень просто. Мы знали, что мистер Дилворт позвонил вам из какого-то дома или заведения, находящегося в радиусе нескольких кварталов от парка севернее бухты. Поэтому мы подключили наши компьютеры к архивам телефонной компании — с их разрешения, конечно, — и дали нашим людям задание проверить счета всех междугородных разговоров, произведенных той ночью с одного из номеров в радиусе трех кварталов от парка. И мы ничего не нашли. Но потом вдруг поняли, что при счетах с обратной оплатой звонки не регистрируются по номеру, с которого производились, а регистрируются по телефону абонента, оплачивающего разговор, то есть по вашему. Но их также заносят в специальный файл телефонной компании, чтобы у них было документальное свидетельство разговора, если позже абонент откажется платить. Мы просмотрели этот файл — он был очень небольшой — и быстро нашли звонок, произведенный из одного дома, стоящего на побережье чуть севернее парка. Когда мы пришли беседовать с жильцами — их фамилия Эссенби, — мы сразу же обратили внимание на их сына-подростка по имени Томми, и хотя нам потребовалось некоторое время, убедились в том, что действительно Дилворт воспользовался их телефоном. На первую часть ушло очень много времени, недели и недели, но зато после этого… детские игрушки. — Вы что, ждете от меня медали? — спросил Корнелл. Женщина взяла еще одно яблоко, разделила его на четыре части и начала снимать кожуру. С ними было очень нелегко, но ведь его намерения были далеки оттого, что они ожидали. Нельзя было упрекать их за то, что они так холодны с ним; они ведь еще не знали, что он пришел к ним как друг. Лем сказал: — Послушайте, я оставил своих людей в конце дорожки. И предупредил их, что вы можете запаниковать и совершить какую-нибудь глупость, если увидите, что мы целой группой подходим к дому. Но на самом деле я пришел к вам… чтобы сделать вам одно предложение. Только теперь они с интересом взглянули на него. Он сказал: — Я собираюсь к весне выйти из этого дела. Почему я так поступаю… вас не касается. Скажу только, что я теперь совершенно другой человек. Я научился справляться с поражением, и теперь я его больше не боюсь. — Лем вздохнул и пожал плечами. — В любом случае собаке в клетке не место. Мне плевать на то, что они говорят и чего хотят. Я знаю, что правильно, а что нет. Я знаю, что значит жить в клетке. Я сам до недавних пор жил в клетке. Нельзя допустить, чтобы собака вернулась туда. Вот что я хочу вам предложить. Вы, мистер Корнелл, прямо сейчас уводите пса отсюда куда-нибудь в лес, оставляете его в безопасном месте, затем возвращаетесь и держите ответ. Скажите, что собака сбежала от вас пару месяцев назад, когда вы были в другом месте, и вы полагаете, что ее уже нет в живых или что она попала к другим людям, которые теперь о ней заботятся. Конечно, остается Аутсайдер, о котором вы, должно быть, знаете, но мы с вами могли бы позже что-нибудь придумать, чтобы справиться с ним, когда он появится. Я установлю за вами наблюдение, но через несколько недель сниму его, скажу, что это дохлый номер… Корнелл встал и шагнул к Лему. Левой рукой он схватил его за рубашку и заставил встать. — Ты опоздал на шестнадцать дней, сукин ты сын. — Что вы хотите сказать? — Собака мертва. Аутсайдер убил ее, а я убил Аутсайдера. Женщина положила на стол свой нож и кусок яблока. Она закрыла лицо руками и наклонилась вперед, сгорбив плечи и тихо плача. — Господи Иисусе, — сказал Лем. Корнелл выпустил его. Смущенный и подавленный, Лем поправил галстук, расправил складки на рубашке. Затем взглянул на брюки — и отряхнул их. — Господи Иисусе, — повторил он.Корнелл охотно провел их к тому месту в лесу, где он похоронил Аутсайдера. Люди Лема выкопали его. Чудовище было завернуто в полиэтилен, но им не надо было разворачивать его, чтобы понять, что перед ним творение рук доктора Ярбек. Корнелл отказался назвать место, где похоронена собака. — У него была не слишком спокойная жизнь, — угрюмо сказал Корнелл. — Но теперь, клянусь Господом Богом, он будет отдыхать с миром. Никто не положит его на анатомический стол и не разрежет. Ни за что. — Если этого потребуют интересы национальной безопасности, вас могут заставить. — Пусть только попробуют, — заявил Корнелл. — Если они вытащат меня на суд и попытаются заставить сказать, где я похоронил Эйнштейна, я выложу все, что знаю, газетчикам. Но, если они оставят Эйнштейна в покое, если они оставят в покое меня и мою семью, я буду держать язык за зубами. Я не собираюсь возвращаться в Санта-Барбару и жить там под именем Тревиса Корнелла. Теперь моя фамилия Хайатт, им я и останусь. Моя прошлая жизнь кончилась навсегда. Мне незачем к ней возвращаться. И если в правительстве сидят не дураки, они дадут мне жить под фамилией Хайатта и будут держаться от меня подальше. Лем долго смотрел на него. Затем сказал: — Да, если там не дураки, думаю, они именно так и поступят.
В этот же день, позже, когда Джим Кин готовил обед, раздался телефонный звонок. Звонил Гаррисон Дилворт, которого он никогда не видел, но с которым познакомился на прошлой неделе, выступая в роли посредника между адвокатом, Тревисом и Норой. Гаррисон говорил из телефона-автомата в Санта-Барбаре. — Они уже были? — спросил адвокат. — Да, днем, — ответил Джим. — Должно быть, этот Томми Эссенби хороший парень. — Да, неплохой. Но он пришел предупредить меня не потому, что у него такое доброе сердце. Сейчас он бунтует против властей. Когда они надавили на него и заставили признаться, что той ночью я звонил из его дома, он возмутился. И с той же неукротимостью, с какой козлы расшибают свои лбы о загородки, Томми пришел прямиком ко мне. — Они забрали Аутсайдера. — А что с собакой? — Тревис заявил, что не скажет им, где ее могила. Заставил их поверить, что разделается с каждым и проломит им всем головы, если они будут настаивать. — Как Нора? — спросил Дилворт. — Она не потеряет ребенка. — Слава Богу. Это большое утешение.
* * *
Восемь месяцев спустя, в уик-энд Дня труда в сентябре, Джонсоны и Гейнсы собрались на барбекю в доме шерифа. Лем и Карен чаще выигрывали, чем проигрывали, что было теперь довольно необычным явлением, поскольку Лем больше не садился за стол с прежним фанатичным желанием победить. Он ушел из УНБ в июне. С тех пор жил на доходы от тех денег, что оставил ему отец. К весне будущего года Лем собирался заняться чем-нибудь другим, открыть какое-нибудь свое небольшое дело, где он был бы сам себе хозяин и распоряжался своим временем сам. Позже, пока их жены готовили в кухне салаты, Лем и Уолт во внутреннем дворике жарили барбекю. — Значит, ты по-прежнему известен в УНБ как человек, проваливший это расследование о Банодайне. — Меня навечно запомнят из-за этого дела. — И несмотря на это, ты получаешь пенсию, — сказал Уолт. — Ну, я все же не даром вкалывал там двадцать три года. — Нет, это все-таки несправедливо, чтобы человек провалил расследование века и в сорок шесть лет спокойно ушел с полной пенсией. — С тремя четвертями пенсии. Уолт глубоко втянул ароматный дымок, поднимающийся от мяса. — Все равно. Куда катится наша страна? В менее либеральные времена тебя по меньшей мере просто высекли бы и посадили в колодки. — Он еще раз глубоко вдохнул ароматный запах и произнес: — Повтори еще раз, как все было там, в кухне. Лем уже сотни раз рассказывал ему об этом, но Уолт готов был слушать эту историю снова и снова. — Ну ладно, кухня была очень чистенькая. Все сверкало. И сам Корнелл, и его жена тоже очень опрятные люди. Такие начищенные и наглаженные. И вот они говорят мне, что собака умерла две недели назад, умерла и похоронена. Корнелл сует мне под нос свой кулак, вытаскивает меня за рубашку с моего стула и сверкает глазами, как будто сейчас оторвет мне голову. Когда он меня отпускает, я поправляю галстук, расправляю рубашку… и смотрю на свои брюки, просто так, по привычке, и замечаю эти золотистые волоски. Собачью шерсть. Шерсть ретривера, голову даю на отсечение. И я думаю: разве это возможно, чтобы такие аккуратные люди, особенно теперь, когда им надо заполнить пустоту и отвлечься от своей трагедии, не нашли за две недели времени немного прибраться. — У тебя все штаны были в волосках, — сказал Уолт. — Сотни волосков. — Как будто собака была там за несколько минут до твоего прихода. — Как будто, приди я на две минуты раньше, я бы наткнулся на нее. Уолт перевернул мясо. — Ты очень наблюдательный человек, Лем, и должен был далеко пойти. Ума не приложу, как со всеми твоими талантами ты умудрился так успешно провалить это дело. Они оба, как всегда, рассмеялись. — Такой уж я везунчик, — сказал Лем, который всегда так отвечал ему, и снова засмеялся.* * *
Когда двадцать восьмого июня Джеймс Гаррисон Хайатт отмечал свой третий день рождения, его мать носила ребенка, который позже стал его сестрой. Они устроили вечер в своем доме из мореного дерева на лесистой возвышенности над Тихим океаном. Поскольку вскоре они собирались переезжать в новый, более просторный дом на побережье, им хотелось этот памятный вечер посвятить не только дню рождения, но и своему прощанию с домом, ставшим первым пристанищем для их семьи. Из Кармела приехал Джим Кин с Пукой и Сэди, двумя своими черными лабрадорами и своим молодым золотистым ретривером Леонардо, которого обычно звали Лео. Пришли несколько близких друзей из агентства по продаже недвижимости, где работал Сэм, которого все звали Тревисом, — и из галереи в Кармеле, где были выставлены на продажу Норины картины. Эти друзья тоже прибыли со своими ретриверами, щенками от второго помета Эйнштейна и его подруги Минни. Не было только Гаррисона Дилворта. Он скончался во сне в прошлом году. Стоял чудесный день, они прекрасно провели время не только потому, что были друзьями и им было хорошо вместе, но и из-за общей тайны, объединявшей их, чудо и радость, которые навсегда соединили их в одну большую многочисленную семью. Все щенки от первого помета, с которыми Тревис и Нора не смогли расстаться и которые жили вместе с ними в доме, тоже были здесь. Их звали: Микки, Дональд, Дейзи, Хью, Дью и Луи. Собаки проводили время еще веселее, чем люди: резвились на лужайке, играли в лесу в прятки и смотрели видеофильмы в гостиной. Собачий патриарх участвовал в некоторых играх, но большую часть времени проводил с Тревисом и Норой и, как обычно, держался рядом с Минни. Он прихрамывал, так как его правая задняя нога была искалечена Аутсайдером, и, если бы ветеринар не приложил массу усилий к тому, чтобы восстановить ее, она бы вообще не действовала. Тревис часто задавался вопросом, действительно ли Аутсайдер решил, что Эйнштейн мертв после того, как со страшной силой швырнул его об стену. Или в ту минуту, когда Аутсайдер держал в своих руках жизнь ретривера, он нашел в себе каплю жалости, которую его создатели не запрограммировали в нем, но все равно она у него была. Возможно, Аутсайдер припомнил то единственное удовольствие, которое они с псом делили в лаборатории: мультфильмы. И, вспомнив это, вероятно, впервые ощутил в себе слабую искру, роднящую его с другими живыми существами. И, найдя в себе это общее, он, возможно, не смог убить Эйнштейна с той легкостью, с какой ожидал. Ведь, в конце концов, легкого движения его когтей было достаточно, чтобы распотрошить собаку. Но хотя Эйнштейн стал хромать, благодаря Джиму Кину из его уха исчезла татуировка. Теперь никто никогда не смог бы доказать, что он был псом из Банодайна, и он по-прежнему, когда хотел, мог разыгрывать из себя глупую собачонку. Изредка в течение этой феерии — трехлетнего юбилея Джеймса — Минни в замешательстве поглядывала на своего друга и потомство, удивляясь их играм. Хотя она никогда не могла до конца понять их, ни одна мать никогда не получала от своих щенят и половины той любви, которую отдавали ей те, кого Минни произвела на свет. Она следила за ними, а они, в свою очередь, присматривали за ней, охраняя друг друга. Поздно вечером, когда все гости разъехались, а Джимми спал в своей комнате, когда Минни и ее первые щенки укладывались на ночь, Эйнштейн, Тревис и Нора собрались в кладовке рядом с кухней. На месте устройства для выдачи карточек из «Скрэббла» стоял компьютер. Эйнштейн взял в рот карандаш и стал нажимать на клавиши. На экране высветилась надпись: «ОНИ БЫСТРО РАСТУТ». — Да, — произнесла Нора. — Твои растут быстрее, чем наши. «ОДНАЖДЫ ОНИ БУДУТ ПОВСЮДУ». — Однажды, — сказал Тревис, — спустя какое-то время они будут по всему миру. «ТАК ДАЛЕКО ОТ МЕНЯ. ЭТО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО». — Да, — сказала Нора. — Но ведь все птенцы рано или поздно покидают свои гнезда. «А КОГДА МЕНЯ НЕ БУДЕТ?» — Что ты имеешь в виду? — спросил Тревис, наклонившись к псу и взъерошив его густую шерсть. «ОНИ БУДУТ МЕНЯ ПОМНИТЬ?» — Да, мохнатая морда, — ответила Нора, опустившись на колени и крепко обнимая его. — Пока существуют собаки и пока существуют люди, они все будут тебя помнить.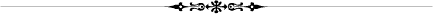
ПРИЗРАЧНЫЕ ОГНИ (роман)
Талантливый генетик, но в то же время жестокий, надменный и безнравственный человек Эрик Либен, одержимый идеей вечной жизни, раскрывает секрет бессмертия. Испробовать открытие он решает на себе. Но сбой генетической программы превращает уже считающего себя бессмертным человека в чудовищного монстра.
Часть I. ТЬМА
Познать тьму — значит полюбить свет, Приветствовать зарю и бояться приближения ночи.Книга Печалей
Глава 1
ШОК
Свет струился из воздуха, почти такой же ощутимый, как дождь. Он дрожал на стеклах окон, придавал влажный блеск листьям на деревьях и хромированным частям автомобилей, запрудивших улицу. Миниатюрные копии калифорнийского солнца сверкали в каждой полированной поверхности, и деловой квартал Санта-Аны был омыт ясным светом июньского утра. Когда Рейчел Либен вышла из вестибюля конторы на освещенный солнцем тротуар, ей показалось, что она окунулась в теплую воду. Закрыв глаза, Рейчел на мгновение подняла лицо к небесам, испытывая блаженство от тепла и яркого света. — Стоишь тут и улыбаешься, как будто сегодня твой самый счастливый день в жизни, — с горечью промолвил вышедший следом Эрик, увидев, как она наслаждается июньской жарой. — Пожалуйста, — попросила она, все еще подняв лицо к солнцу, — давай не будем устраивать сцен. — Ты там из меня дурака сделала. — Ничего подобного. — И вообще, кому и что ты хочешь доказать? Рейчел промолчала. Решила, что не позволит ему испортить такой чудесный день. Повернулась и пошла прочь. Эрик встал перед ней, загородив дорогу. Обычно его серо-голубые глаза были холодны как лед, но сегодня взгляд его обжигал. — Не будь ребенком, — проговорила она. — Тебе недостаточно просто бросить меня. Ты еще хочешь непременно сообщить всему миру, что не нуждаешься ни во мне, ни в том, что я могу дать. — Нет, Эрик. Мне безразлично, что мир о тебе думает, хорошо это или плохо. — Ты хочешь повозить меня физиономией по столу? — Это неправда, Эрик. — Еще какая правда. Ты наслаждаешься моим унижением, просто купаешься в нем. Она увидела его таким, каким никогда не видела раньше: жалким. Прежде он всегда казался ей сильным — и не только физически. У него была сила воли и свое собственное мнение. Присущая ему некоторая отстраненность иногда граничила с холодностью. Он мог быть жестоким. И за семь лет их совместной жизни случались периоды, когда он становился далеким, как луна. Но никогда до настоящего момента он не казался ей слабым или жалким. — Унижением? — переспросила она удивленно. — Эрик, я сделала тебе огромное одолжение. Другой бы побежал за бутылкой шампанского, чтобы отметить это событие. Они только что покинули контору адвокатов Эрика, где пришли к соглашению по поводу условий их развода с быстротой, поразившей всех, кроме Рейчел. Она не удивлялась сама, но зато удивила остальных, приехав без адвоката и отказавшись от всех льгот, полагавшихся ей по имущественным законам штата Калифорния. Когда адвокат Эрика выступил со своим предложением, она заявила, что оно слишком щедрое, и предложила взамен другие цифры, которые считала для себя более приемлемыми. — Шампанского, говоришь? Ты будешь всем рассказывать, что взяла на двенадцать с половиной миллионов меньше, чем тебе полагается, только чтобы поскорее развестись и избавиться от меня, а я должен тут стоять и улыбаться? Черт бы тебя побрал. — Эрик… — Не могла дождаться, чтобы от меня отделаться. Готова была руку себе оттяпать, только бы со мной покончить, черт возьми. А я должен праздновать свое унижение? — Для меня это вопрос принципа — не претендовать на большее, чем… — Принципа, как же. — Эрик, ты же знаешь, я бы не стала… — Все будут на меня смотреть и думать: «Господи, до чего же мерзок, наверное, этот парень, если она двенадцати с половиной миллионов не пожалела, чтобы от него избавиться!» — Я никому не скажу, о чем мы договорились, — возразила Рейчел. — Не вешай мне лапшу на уши. — Неужели ты думаешь, что я хоть когда-либо жаловалась на тебя или сплетничала по твоему поводу? Значит, ты знаешь меня еще меньше, чем мне казалось. Когда она выходила за него замуж, Эрику было тридцать пять лет, а ей двадцать три и состояние его оценивалось в четыре миллиона долларов. Теперь, в сорок два, он владел более чем тридцатью миллионами; из них по калифорнийским законам ей после развода полагалось тринадцать, то есть половина нажитого за время их супружества. А она попросила только красный спортивный «Мерседес-560», пятьсот тысяч долларов единовременно и никаких алиментов, то есть приблизительно двадцать шестую часть того, что могла бы потребовать. Она подсчитала, что этот капитал даст ей время и возможность решить, что делать с остальной своей жизнью, а также послужит финансовой основой для ее планов, если таковые появятся. Чувствуя, что прохожие обращают внимание на их стычку, Рейчел тихо сказала: — Я вышла за тебя замуж не из-за денег. — Как бы не так, — заметил он ядовито. В этот момент его лицо с резкими, энергичными чертами вовсе не казалось красивым. Злоба превратила его в отвратительную грубую маску. Рейчел говорила спокойно, без малейшей горечи, без всякого желания поставить Эрика на место или как-то обидеть. Просто все было кончено. Гнева она не ощущала. Только легкое сожаление. — Теперь, когда все кончено, я вовсе не жду, что ты обеспечишь мне богатство и роскошь на всю оставшуюся жизнь. Я не хочу твоих миллионов. Ты их заработал, не я. Ты, с твоей гениальностью, железной волей и бесконечными часами, проведенными в офисе и лаборатории. Ты все это создал, только ты, ты один, и все принадлежит по праву только тебе. Ты человек выдающийся, возможно, даже самый значительный в своей области, Эрик, а я всего лишь Рейчел, и я не собираюсь делать вид, что причастна к твоим успехам. Он слушал ее комплименты, и гневные складки, что пролегли на его лице, становились все глубже. Эрик привык играть главенствующую роль в любых отношениях, как в профессиональных, так и личных. С позиций такого абсолютного господства он требовал беспрекословного подчинения своим желаниям или ломал того, кто отказывался подчиняться. Друзья, служащие, коллеги-ученые всегда делали так, как требовал Эрик Либен, иначе они становились историей. Подчиняйся, или тебя отвергнут и уничтожат — альтернативы не было. Он обожал власть, получал удовольствие от любых побед — не важно, касалось это многомиллионной сделки или домашнего спора. Рейчел выполняла его желания в течение семи лет, но продолжать дальше не захотела. Самое смешное, что своей нетребовательностью и благоразумием она выбила у него почву из-под ног. Он предвкушал затяжные тяжбы по поводу раздела имущества, а она ушла от этого. Ожидал бешеной торговли по поводу алиментов, а она просто отказалась от его помощи. Ему же виделись сражения в суде, где он мог бы изобразить ее этакой захапистой сучкой, раздавить и унизить и превратить наконец в существо без чувства собственного достоинства, согласное получить куда меньше, чем положено. И тогда, хоть она все равно оказалась бы богатой, он почувствовал бы, что выиграл, силой заставив ее подчиниться. Но она заявила четко и ясно, что его миллионы ее не интересуют, лишив его таким образом той последней власти, которую, казалось, он еще сохранил над ней. Это был удар ниже пояса, и злился Эрик прежде всего потому, что благодаря своей уступчивости она сравнялась с ним, даже стала выше его, и так будет всегда в будущем, если им придется встречаться. А Рейчел между тем продолжала: — Видишь ли, с моей точки зрения, я потеряла семь лет, и все, что я хочу, это компенсацию за это время в разумных пределах. Мне двадцать девять лет, почти тридцать, и, по сути, я только начинаю жить. Начинаю куда позднее, чем остальные люди. Эти деньги позволят мне начать не с пустого места. Если я их потеряю, если когда-нибудь пожалею, что не стала бороться за все тринадцать миллионов… это будет означать, что мне не повезло, а ты тут ни при чем. Мы же все это уже проходили, Эрик. Все кончено. Она обошла его, пытаясь уйти, но он задержал ее, схватив за руку. — Пожалуйста, отпусти меня, — попросила Рейчел ровным голосом. Не сводя с нее разъяренного взгляда, он прошипел: — Как я мог так ошибиться? Я-то думал, ты милая, немного застенчивая девушка не от мира сего. А ведь ты мерзкая хищница, не так ли? — Послушай, ты совершенно сошел с ума. Такое грубое поведение недостойно тебя. А теперь отпусти меня. Он еще крепче сжал ее руку. — Или все это маленькие хитрости? А? А когда мы соберемся в пятницу, чтобы подписать документы, ты неожиданно передумаешь? И потребуешь больше? — Нет. Я в такие игры не играю. Он злорадно ухмыльнулся. — Готов поспорить, что так оно и будет. Если мы согласимся на такие смехотворные условия и составим документы, а ты откажешься их подписывать, ты сможешь использовать их в суде, чтобы доказать, что мы хотели тебя обжулить. Ты сделаешь вид, что это наше предложение и что мы заставляли тебя на него согласиться. Смешаешь меня с дерьмом. Попытаешься доказать, что я бессердечный негодяй. Да? Ты этого добиваешься? Ты такую игру ведешь? — Я же сказала, я не веду никакой игры. Я вполне искренна. Он впился пальцами ей в руку. — Говори правду, Рейчел. — Прекрати. — Ну, признавайся, так все и задумала? — Ты делаешь мне больно. — И раз уж мы тут так мило беседуем, то почему бы тебе не рассказать о Бене Шэдвее? Рейчел вздрогнула от изумления. Она и не подозревала, что Эрик знает о Бенни. Избороздившие его лицо гневные морщины стали еще глубже. — И сколько времени ты с ним трахалась до того, как бросила меня? — Ты омерзителен, — выпалила она, сразу же пожалев о своей резкости, потому что увидела, как он обрадовался, что ему наконец удалось пробиться сквозь ее холодность. — Как долго? — настаивал он, все сильнее сжимая ее руку. — Я познакомилась с Бенни через полгода после того, как мы с тобой разошлись, — ответила она, стараясь говорить без эмоций, чтобы избежать шумной ссоры, на которую он так активно нарывался. — Как долго ты наставляла мне рога, Рейчел? — Раз ты знаешь о Бенни, значит, установил за мной слежку, а ты не имел права это делать. — Ну конечно, ты бы хотела, чтобы твои грязные тайны остались при тебе. — Если ты нанял кого-то следить за мной, то должен знать, что я встречаюсь с Бенни только пять месяцев. А теперь пусти меня. Ты делаешь мне больно. Молодой бородач, проходивший мимо, шагнул к ним и, поколебавшись, спросил: — Помощь не требуется, леди? Эрик повернулся к незнакомцу с такой яростью, что, казалось, выплюнул слова, а не выговорил их: — Катись отсюда, парень. Это моя жена, так что, черт побери, не лезь не в свое дело. Рейчел безуспешно пыталась освободиться от железной хватки Эрика. Незнакомый бородач заметил: — Может, она и ваша жена, но это не значит, что вы можете обижать ее. Отпустив Рейчел, Эрик сжал кулаки и шагнул к незнакомцу. Чтобы разрядить обстановку, Рейчел поспешно обратилась к своему потенциальному Галахаду[99]: — Спасибо, но все в порядке. Правда. Все хорошо. Просто небольшое недоразумение. Молодой человек пожал плечами и ушел, время от времени оглядываясь. Этот инцидент заставил наконец Эрика осознать, что он ставит себя в неловкое положение, а для человека его ранга это совершенно недопустимо. Однако он никак не мог успокоиться. Лицо у него исказилось, губы побелели. В глазах горела злоба. — Тебе бы радоваться, Эрик, — проговорила Рейчел. — Ты сэкономил миллионы долларов и еще Бог знает сколько на гонорарах адвокатам. Ты выиграл. Тебе не удалось раздавить меня или облить грязью в суде, но все равно ты выиграл. Так что можешь быть доволен. В его ответных словах звучала такая жгучая ненависть, что она вздрогнула: — Ах ты глупая, мерзкая сука! В тот день, когда ты ушла от меня, я хотел измордовать тебя до неузнаваемости. Зря я этого не сделал. Надо было бы. Ногами по твоей дурацкой физиономии. — Он поднял руку, словно хотел ее ударить. Но сдержался, увидев, как она испуганно отшатнулась. В бешенстве он повернулся и поспешил прочь. Глядя ему вслед, Рейчел неожиданно осознала, что его нездоровое желание всегда подавлять других имело куда более глубокие корни, чем ей казалось. Лишив его власти над собой, повернувшись спиной не только к нему, но и к его миллионам, она не просто сравнялась с ним, она, с его точки зрения, лишила его «мужского» достоинства. Скорее всего именно так оно и было, потому что ничем иначе нельзя объяснить его безумный гнев и тягу к насилию, с которой ему едва удалось справиться. Она уже давно не любила его, в последнее время просто возненавидела, а боялась, если честно говорить, всегда. Но до сих пор она полностью не осознавала, какая в нем бушует ярость. Не понимала, насколько он опасен. С неба щедро лилось яркое и горячее солнце, но Рейчел внезапно почувствовала холодную дрожь при мысли, что, оставив Эрика именно сейчас, она, во-первых, поступила очень мудро, а во-вторых, пожалуй, дешево отделалась, даже принимая во внимание синяки, которые, несомненно, оставили на ее руке его пальцы. Радуясь его уходу, Рейчел с облегчением следила, как он сошел с тротуара на дорогу. Но еще через мгновение чувство облегчения сменил ужас. Эрик направлялся к своему черному «Мерседесу», припаркованному на другой стороне улицы. Возможно, гнев на самом деле ослепил его. Или он плохо видел из-за бликов яркого июньского солнца на всех блестящих поверхностях. По той или иной причине он ринулся через Мейн-стрит, на которой в данный момент было мало машин, прямо под колеса грузовика для перевозки мусора, двигавшегося со скоростью сорок миль[100] в час. Рейчел закричала, пытаясь предупредить его об опасности, но опоздала. Водитель вжал педаль тормоза в пол. Но визг шин грузовика практически совпал с тошнотворным звуком удара. Эрика подбросило вверх и швырнуло на разделительную полосу с силой взрывной волны. Он упал на мостовую и прокатился, переворачиваясь, футов[101] двадцать. Сначала тело его сохраняло жесткость, но потом стало казаться, что он состоит из веревок и тряпок. Он остался лежать неподвижно, лицом вниз. Проезжающий по встречной полосе желтый «Сабару» завизжал тормозами и остановился в двух футах от Эрика. Слишком близко едущий следом «Шевроле» врезался в задний бампер «Сабару» и подтолкнул его почти вплотную к телу. Первой подбежала к Эрику Рейчел. С неистово бьющимся сердцем, выкрикивая его имя, она упала на колени и машинально приложила руку к шее, ища пульс. Он был весь в крови, ее пальцы скользили по влажной коже, когда она пыталась нащупать пульсирующую артерию. Но тут она заметила страшную ложбину, изменившую форму его черепа. Вмятина на правой стороне головы шла от разорванного уха до виска и дальше до бледного лба. Голова была повернута таким образом, что виден был один широко открытый глаз, теперь уже невидящий, но сохранивший выражение ужаса. По всей вероятности, множество мелких осколков кости впились в мозг. Смерть наступила мгновенно. Рейчел резко встала, пошатнулась, ее затошнило. Голова закружилась, и она бы упала, если бы водитель мусоросборщика не поддержал ее и не проводил к «Сабару», чтобы она смогла облокотиться о машину. — Я ничего не мог поделать, — огорченно заметил он. — Я знаю. — Ну совершенно ничего. Он прямо на меня выскочил. Не глядел. Ничего я не мог сделать. Сначала Рейчел было трудно дышать. Потом она осознала, что машинально пытается вытереть испачканную кровью руку о свой сарафан, и вид этих ржаво-алых пятен на бледно-голубом хлопке заставил ее дышать чаще, слишком часто. Задыхаясь, она прислонилась к машине, обхватила себя руками и сжала зубы. Только ни в коем случае не упасть в обморок. Она старалась дышать поглубже, и сам процесс регулирования дыхания имел успокаивающий эффект. Вокруг слышались голоса водителей, вынужденных остановиться из-за пробки и вылезших из своих машин. Кто-то спросил, в порядке ли она, и Рейчел кивнула утвердительно. Другой поинтересовался, не нужна ли ей медицинская помощь, и она опять покачала головой, на этот раз отрицательно. Если она когда-то и любила Эрика, любовь эта превратилась в прах под его каблуком. Те времена, когда он ей хотя бы нравился, тоже давно миновали. За минуту до несчастного случая он проявил такую бешеную и устрашающую ненависть к ней, что по логике вещей смерть его не должна была ее особенно взволновать. И тем не менее Рейчел была потрясена. Она дрожала, обнимая себя за плечи, и ощущала холодную пустоту внутри, глубокое чувство потери, объяснить и понять которое не могла. Не горечь, нет. Просто… чувство потери. Вдалеке послышалось завывание сирен. Постепенно ей удалось справиться со своим дыханием. Она все еще дрожала, но уже меньше. Звуки сирен приближались, становились громче. Рейчел открыла глаза. Яркое июньское солнце уже не казалось чистым и свежим. Надо всем распростерлась мрачная тень смерти, и утренний свет приобрел едкий желтый оттенок, напоминающий не столько мед, сколько серу. Сверкая красными огнями, подъехали машина «Скорой помощи» и полицейский седан. — Рейчел? Она обернулась и увидела Герберта Тюлемана, адвоката Эрика, с которым она встречалась несколько минут назад. Ей всегда нравился Герб, и он платил ей тем же. Он был похож на доброго дедушку. Его кустистые седые брови сдвинулись сейчас в одну линию. — Один из моих помощников… возвращался в контору… и все видел. Он сразу же рассказал мне. Бог ты мой! — Да, — сказала она тупо. — Бог ты мой, Рейчел… — Да. — Это просто… безумие. — Да. — Но… — Да, — снова повторила она. Рейчел знала, о чем думал Герберт. Не прошло и часа, как она заявила им, что не будет претендовать на большую часть состояния Эрика, а удовлетворится относительным пустяком. Теперь же, поскольку у него не было ни семьи, ни детей от первого брака, все тридцать миллионов и его еще не оцененная доля в компании будут наверняка принадлежать ей.Глава 2
ОХВАЧЕННАЯ СТРАХОМ
Сухой, жаркий воздух был наполнен треском полицейских радиоустановок, металлическими голосами диспетчеров и запахом расплавившегося на солнце асфальта. Медики ничем не могли помочь Эрику Либену, кроме как перевезти его тело в городской морг и оставить там ждать, когда у патологоанатома найдется время им заняться. Поскольку Эрик погиб в катастрофе, по закону полагалось делать вскрытие. — Тело можно будет забрать через сутки, — сообщил Рейчел один из полицейских. Пока они составляли краткий отчет, она сидела в полицейской машине. А теперь снова стояла на солнце. Ее больше не тошнило. Она просто оцепенела. Санитары погрузили закрытое простыней тело в фургон. В некоторых местах ткань пропиталась кровью. Герберту Тюлеману казалось, что он должен утешать Рейчел, и он несколько раз предложил ей вернуться к нему в контору. — Вам надо посидеть, прийти в себя, — говорил он, положив ей руку на плечо. Его доброе лицо сморщилось в сочувственной гримасе. — Я в полном порядке, Герб. Честно. Немножко потрясена, и все. — Надо выпить. Вот что вам нужно. У меня есть бутылка «Реми Мартен» в офисе. — Да нет, спасибо. Полагаю, мне надо будет позаботиться о похоронах, так что предстоит много забот. Два санитара закрыли задние дверцы фургона и не торопясь пошли к кабине водителя. Теперь уже не было необходимости ни в сирене, ни в красной мигалке. Никакая скорость была не в состоянии помочь Эрику. — Не хотите коньяку, выпейте кофе, — предложил Герб. — Или просто побудьте со мной немного. Думается, вам сейчас не стоит садиться за руль. Рейчел ласково коснулась его высохшей щеки. Он проводил уик-энды на яхте, и кожа его огрубела и покрылась морщинами не столько от старости, сколько от морского ветра. — Спасибо за то, что вы беспокоитесь. Но у меня все нормально. Мне даже стыдно немного, что я все так спокойно воспринимаю. В смысле… не ощущаю скорби. Он взял ее за руку. — Не надо стыдиться. Хоть он и был моим клиентом, Рейчел, я всегда знал, что он человек… сложный. — Да. — У вас нет причин скорбеть. — Все равно это неправильно… почти ничего не чувствовать. Ничего. — Он не просто был сложным человеком, Рейчел. Он еще был дураком, потому что не сознавал, каким сокровищем владеет в вашем лице, и не сделал всего необходимого, чтобы вас удержать. — Вы такой милый. — Это правда. Если бы это не было истинной правдой, я бы никогда не позволил себе так говорить о клиенте, тем более о… покойном. Фургон с телом уехал с места происшествия. Как ни парадоксально, было что-то холодное, напоминающее о зиме в том, как летнее солнце отражалось в его белой поверхности и хроме бамперов, как будто Эрика увозила машина, вырезанная изо льда. Герб провел Рейчел сквозь толпу зевак, мимо своей конторы, к ее красному «Мерседесу». — Я могу попросить кого-нибудь отогнать машину Эрика к его дому и поставить в гараж, а потом завезти вам ключи, — предложил Герберт. — Я вам буду очень признательна, — отозвалась она. Когда Рейчел села в машину и пристегнула ремень, Герб наклонился к окну: — Нам придется вскоре поговорить о его имуществе. — Давайте через несколько дней. — И насчет компании. — Несколько дней все будет идти само собой, верно? — Разумеется. Сегодня понедельник. Как насчет того, чтобы встретиться в пятницу утром? Это даст вам четыре дня, чтобы… прийти в себя. — Хорошо. — В десять утра? — Прекрасно. — Вы уверены, что доедете? — Да, — заверила она и действительно добралась до дома без приключений, хотя ей все время казалось, что все это ей снится. Она жила в Пласеншии, в странном на вид бунгало с тремя спальнями. Соседи были вполне обеспеченные и дружелюбные люди, а сам дом — чрезвычайно уютный и симпатичный: окна от пола до потолка, кушетки под окнами, потолок с кессонами, камин из обожженного кирпича и так далее. Она сразу заплатила полную стоимость, когда переехала сюда в прошлом году, уйдя от Эрика. Этот дом разительно отличался от его особняка в Вилла-Парке, расположенного на акре тщательно ухоженной земли и набитого самой дорогой и современной бытовой техникой. Но Рейчел нисколько не жалела обо всей этой роскоши. Ей куда больше нравился ее маленький домик, и не только потому, что в нем было уютнее и удобнее жить, но и потому, что он не был для нее так связан с неприятными воспоминаниями, как дом в Вилла-Парке. Она сняла испачканный кровью голубой сарафан. Вымыла лицо и руки, расчесала волосы, немного подкрасилась. Рейчел вообще не злоупотребляла косметикой. Приводя себя в порядок, почувствовала, что постепенно успокаивается. Руки больше не дрожали. И хотя внутри по-прежнему ощущались какая-то пустота и холод, ее перестало трясти. Переодевшись в строгий темно-серый костюм с бледно-серой блузкой, пожалуй, излишне теплый для жаркого солнечного дня, она позвонила в известную похоронную фирму «Аттисон Бразерз». Убедившись, что они могут принять ее немедленно, поехала прямо в похоронную контору, которая размещалась в величественном здании колониального стиля в Йорба Линде. Ей никогда раньше не приходилось заниматься похоронами, и она не могла даже представить себе, что в процедуре организации их может быть что-то забавное. Но когда она уселась вместе с Полем Аттисоном в его тихом кабинете с мягким светом, стенами, отделанными темными панелями, и толстым ковром на полу и услышала, как он величает себя «советником в скорби», ей почудился какой-то черный юмор во всей ситуации. Атмосфера была столь печальной и назойливо почтительной, что казалась откровенно нарочитой. Высказанное Аттисоном сочувствие показалось Рейчел, с одной стороны, чересчур гладким, а с другой — громоздким, лишенным эмоций и расчетливым. Но, к своему удивлению, она заметила, что подыгрывает ему, отвечает на его утешения и уверения такими же клише. Она чувствовала себя актрисой, попавшей в дурную пьесу, которую ставит плохой режиссер, и вынужденной повторять деревянные строчки диалога, потому что проще продержаться до конца третьего акта, чем демонстративно удалиться в середине второго. В дополнение к «советнику в скорби», Аттисон называл гроб «вечным пристанищем», а костюм, в который надлежало обрядить покойного, — «последним одеянием». Еще он говорил «подготовка к сохранению» вместо «бальзамирование» и «место упокоения» вместо «могила». Хотя вся процедура в самом деле носила оттенок черного юмора, Рейчел вовсе не было смешно, когда она после двух с половиной часов общения с Аттисоном покинула похоронную контору и осталась одна в своей машине. В обычной ситуации черный юмор привлекал ее, потому что смехом можно развеять печаль. Но не сегодня. Настроение ее продолжало оставаться подавленным. Пока она занималась разными делами, связанными с похоронами, и позже, когда вернулась домой и звонила друзьям и коллегам Эрика, сообщая печальные новости, она все время пыталась понять, почему же ей так скверно. Это не были печаль или скорбь. Не мысли о вдовстве. Не шок. Не сознание неотвратимого присутствия смерти даже в такой яркий солнечный день. Так что же тогда? Что с ней происходит? Но позже, к вечеру, она поняла, что не может себя больше обманывать. Надо смотреть правде в глаза. Ее подавленное настроение является следствием страха. Она пыталась отрешиться от того, что должно было случиться, не думать об этом, и на какое-то время ей это удалось, но в глубине души она знала. Знала. Рейчел прошла по дому, чтобы убедиться, что все окна и двери заперты. Потом опустила жалюзи и задернула шторы.В половине шестого Рейчел подключила телефон к автоответчику. Начали уже звонить журналисты, желая поговорить с вдовой великого человека, а она ненавидела представителей прессы всех сортов. В доме было прохладно, и она передвинула регулятор кондиционера. Если не считать его легкого шороха да случайного телефонного звонка до включения автоответчика, в доме стояла абсолютная тишина, такая же, как в овеянном печалью кабинете Аттисона. Сегодня эта тишина была невыносимой и вызывала у нее мурашки по коже. Рейчел включила стереоприемник и поймала легкую музыку. Минуту она стояла перед большими стереоколонками, раскачиваясь в такт песне, исполняемой Джонни Матисом. Затем усилила звук, чтобы музыку было слышно во всем доме. На кухне она отломила кусок шоколада от плитки и положила его на белое блюдце. Открыла маленькую бутылку хорошего сухого шампанского. Взяла шоколад, шампанское, бокал и направилась в ванную. По радио Синатра пел «Дни вина и роз». Рейчел наполнила ванную такой горячей водой, какую только могла выдержать, добавила туда пахнущего жасмином масла и разделась. И только приготовилась забраться в ванну, как пульс страха, тихо бьющийся в ней, набрал темп и силу. Она закрыла глаза и стала глубоко дышать, пытаясь успокоиться, пытаясь уверить себя, что такое поведение нелепо, но ничего не помогало. Не одеваясь, она прошла в спальню и достала из верхнего ящика прикроватного столика пистолет тридцать второго калибра. Проверила, полностью ли он заряжен. Сняв с обоих предохранителей, принесла пистолет в ванную комнату и положила в углубление в голубом кафеле на краю ванны, рядом с шампанским и шоколадом. Энди Уилльямс пел «Лунную реку». Поморщившись, Рейчел вошла в ванну и села так, чтобы вода достигала до верха грудей. Сначала ей было очень горячо. Затем она стала привыкать. Тепло действовало успокаивающе, доставало до костей и наконец растворило холод, который мучил ее с того момента, как Эрик ринулся под колеса грузовика почти семь с половиной часов назад. Она надкусила шоколад, совсем немного, с самого края, и почувствовала, как он медленно тает на языке. Рейчел старалась ни о чем не думать. Старалась просто наслаждаться горячей ванной. Просто плыть по течению. Просто «быть». Откинулась назад, получая удовольствие от вкуса шоколада на языке и аромата жасмина в поднимающемся пару. Минуты через две она открыла глаза и налила в бокал шампанского из ледяной бутылки. Его свежий вкус превосходно сочетался с шоколадом и грустными, меланхоличными строчками из песни «Удачный выдался год» в исполнении Фрэнка Синатры. Для Рейчел этот ритуал расслабления был важной частью дня, может быть, самой важной. Иногда вместо шоколада она грызла кусочек сыра, а вместо шампанского пила «Шардоне». Иногда это была просто бутылка очень холодного пива — «Хейнекен» или «Бен» — и горсть орехов, купленных в дорогом магазине в Коста Месе. Что бы это ни было, ела и пила она медленно, наслаждаясь каждым глотком и кусочком, их вкусом и запахом. Она являлась человеком «сегодняшнего дня». По классификации Бена Шэдвея, который, по мнению Эрика, был любовником Рейчел, все люди делятся на четыре категории: сегодняшнего, вчерашнего, завтрашнего дня и всесторонние. Тех, кто нацелен в будущее, мало интересует прошлое и настоящее. Это люди беспокойные, старающиеся заглянуть в завтра, чтобы разузнать, какая катастрофа или неразрешимая проблема их ждет. Хотя есть среди них и просто беспомощные мечтатели, непонятно почему уверенные, что им предстоит великое будущее, каким бы оно ни было. Среди них имеются также трудоголики, верящие, что в будущем можно всего добиться, если целиком посвятить себя делу. Эрик относился именно к этой категории. Все время о чем-то размышлял и всегда стремился к разрешению трудных задач и новым свершениям. Прошлое ему надоело, а те черепашьи темпы, с которыми иногда двигалось настоящее, раздражали. Человек сегодняшнего дня, напротив, тратит большую часть своей энергии и таланта на радости и несчастья настоящего момента. Многие из таких людей просто лежебоки, они слишком ленивы, чтобы думать о завтрашнем дне или готовиться к нему. Невезение застает их врасплох, поскольку они никак не хотят понять, что умиротворение настоящего не будет длиться вечно. Когда же они сталкиваются с несчастьем, то впадают в жуткую депрессию, поскольку не способны к таким действиям, которые когда-нибудь в будущем могут вызволить их из беды. Но среди них есть и трудолюбивые, целенаправленные люди, которые великолепно выполняют текущую работу. К примеру, высококвалифицированный краснодеревщик обязательно должен быть человеком сегодняшнего дня, то есть не ждать с нетерпением, когда мебель будет окончательно собрана, а обратить все свое внимание и старание на тщательную и любовную отделку самых мельчайших деталей, каждой ножки и подлокотника, каждого ящика и ручки, получая удовольствие от самого процесса созидания, а не от результата этого процесса. Если верить Бену, люди сегодняшнего дня способны скорее найти очевидное решение проблем, чем другие, поскольку их не занимает, что было или что могло бы быть, а только что есть. Они также наиболее чувственно связаны с физическими реалиями жизни и потому наиболее восприимчивы и способны получать больше подлинного удовольствия, чем десяток люде» вчерашнего или завтрашнего дня. — Ты лучший вариант человека сегодняшнего дня, — сказал ей Бен, когда они ужинали в китайском ресторанчике «Чайниз Дак». — Ты готовишься к будущему, но никогда не делаешь это за счет сегодня. И ты так очаровательна в своем стремлении оставить прошлое прошлому. Она тогда ответила: — Да ладно тебе, ешь лучше свой му гу гай пэн. По существу, то, что сказал тогда Бен, было правдой. После того как она ушла от Эрика, Рейчел прослушала пять курсов по менеджменту, поскольку хотела открыть свое маленькое дело. Возможно, магазинчик одежды для преуспевающих женщин. Такое место, где можно что-то узнать и получить удовольствие, магазинчик, о котором люди стали бы говорить, потому что там можно не только купить хорошую одежду, но и набраться опыта. Ведь она закончила Калифорнийский университет, где специализировалась в драматическом искусстве и получила степень бакалавра как раз перед тем, как познакомиться с Эриком на каком-то университетском мероприятии. И хотя ей вовсе не хотелось стать актрисой, у нее были большие способности художника по костюмам и оформлению сцены, что могло бы ей помочь в создании необычного интерьера в ее будущем магазине и выборе товара для продажи. Однако пока дело не дошло ни до получения степени магистра, ни до выбора конкретного бизнеса. Все ее корни были в настоящем, и она продолжала набираться знаний и идей, терпеливо ожидая момента, когда ее планы как бы выкристаллизуются сами собой. Что же касается прошлого, то ведь, размышляя о прошлых удовольствиях, имеешь шанс упустить удовольствия сегодняшние, а горевать о былых несчастьях и неудачах — пустая трата времени и сил. С наслаждением нежась в горячей ванне, Рейчел вдохнула пахнущий жасмином воздух. Она негромко подпевала Матису, который пел «Я увижу тебя». Снова откусила кусочек шоколада. Отпила глоток шампанского. Попыталась расслабиться, плыть по течению, наслаждаться ощущением легкого опьянения в лучших калифорнийских традициях. На какое-то время ей удалось обмануть себя и сделать вид, что она чувствует себя легко и свободно, пока не раздался звонок в дверь. Как только, перекрывая звуки музыки, зазвенел звонок, Рейчел выпрямилась, сердце ее бешено заколотилось, и она схватила пистолет так резко, что опрокинула бокал с шампанским. Она вылезла из ванны, надела голубой халат и, держа пистолет сбоку дулом вниз, медленно прошла через полутемный дом к парадной двери. От одной мысли, что на звонок придется открыть, ее охватил ужас. В то же время ее как магнитом тянуло к двери, словно в трансе или под гипнозом. Рейчел задержалась около приемника и выключила его. В наступившей тишине было что-то зловещее. В холле она остановилась, заколебавшись и положив руку на ручку двери, и тут звонок раздался снова. В двери не было ни окошка, ни глазка. Рейчел давно собиралась поставить специальную камеру перед входом, чтобы можно было разглядеть посетителя, и сейчас остро пожалела, что затянула с этим. Она стояла, уставившись на темный дуб двери, как будто надеялась, что каким-то чудом обретет способность видеть сквозь нее и узнать, кто пришел. Она не могла унять охватившей ее дрожи. Никогда еще Рейчел не встречала посетителя с таким всепоглощающим, а главное, необъяснимым ужасом. Хотя, возможно, это было не совсем правдой. Глубоко в душе, а может даже, не так ужи глубоко, она точно знала, почему боится. Но ей не хотелось признаваться даже самой себе, что вызывало ее страх, как будто это признание могло превратить ужасную вероятность в убийственную реальность. Снова раздался звонок.
Глава 3
ПРОСТО ИСЧЕЗ
Бен Шэдвей услышал новость о внезапной смерти доктора Эрика Либена по радио по дороге домой из своей конторы в Тастине. Он затруднился бы со всей определенностью сказать, как отнесся к этому. Потрясен, да. Но не огорчен, хотя мир потерял потенциально великого человека. Либен был, несомненно, умен, даже гениален, но отличался надменностью и самоуверенностью и был, пожалуй, опасен. Скорее всего Бен почувствовал облегчение. Он боялся, что Эрик, убедившись, что ему никогда не удастся вернуть свою жену, причинит ей какой-либо вред. Этот человек терпеть не мог проигрывать. Была в нем какая-то темная ярость, которой он давал выход, с головой погружаясь в работу; но сейчас, когда он чувствует себя глубоко униженным из-за того, что Рейчел его отвергла, эта ярость может вырваться наружу… У Бена был радиотелефон в машине — тщательно отреставрированном «Тандерберде» 1956 года, белом снаружи и голубом внутри, — и он немедленно позвонил Рейчел. У нее работал автоответчик, и она не сняла трубку, когда он назвал себя. У светофора на углу Семнадцатой улицы и Ньюпорт-авеню он поколебался и повернул налево, вместо того чтобы ехать к себе домой, в Ориндж-Парк-Эйнез. Может, Рейчел сейчас и нет дома, но ведь вернется же она когда-нибудь, и ей может понадобиться помощь. И он направился к ее дому в Пласеншии. Лобовое стекло машины было все в солнечных бликах, образующих затейливый узор, когда Бен проезжал в неровной тени нависающих над дорогой деревьев. Он выключил радио и поставил пленку с записью Гленна Миллера. Сидя в машине, мчащейся под яркимкалифорнийским солнцем под звуки «Нитки жемчуга», он подумал, что невозможно себе представить, что кто-то может умереть в такой золотистый день.По своей собственной классификации Бен Шэдвей был человеком вчерашнего дня. Старые фильмы ему нравились больше, чем новые. Де Ниро, Стрип, Гир Филд, Траволта и Пени интересовали его куда меньше, чем Богарт, Бэкалл, Гейбл, Ломбард, Трейси, Хепберн, Кэри Грант, Уильям Поуэл и Мирна Лой. Любимые его книги были написаны в двадцатые, тридцатые и сороковые годы: лихо закрученные романы Чандлера, Хэммета и Джеймса М. Кейна, а также ранние романы о Ниро Вульфе. В музыке он предпочитал свинг: Томми и Джимми Дорси, Гарри Джеймс, Дюк Эллингтон, Гленн Миллер и несравненный Бенни Гудман. Для отдохновения он строил действующие модели паровозов из специальных наборов и коллекционировал все, что имело отношение к железной дороге. Нет другого хобби, так наполненного ностальгией или более подходящего для человека вчерашнего дня, чем коллекционирование поездов. Однако он не был полностью поглощен прошлым. В двадцать четыре года Бен приобрел лицензию на торговлю недвижимостью и к тридцати одному году организовал собственную брокерскую контору. Теперь же, когда ему исполнилось тридцать семь, у него было уже шесть контор, в которых работали тридцать агентов Своим успехом он был отчасти обязан тому, что относился к своим служащим и клиентам с заботой и старомодной вежливостью, которые так редки и потому привлекательны в нашем сегодняшнем мире — стремительном, резком и непостоянном. В последнее время не только работа отвлекала Бена от железных дорог, старых фильмов, музыки в стиле свинг и его общей погруженности в прошлое. В его жизни появилась Рейчел Либен, рыжеволосая, зеленоглазая, длинноногая, стройная Рейчел Либен. Она казалась ему одновременно простой и милой соседской девушкой и одной из элегантных красавиц из фильмов тридцатых годов, неким гибридом между Грейс Келли и Кэрол Ломбард. Она отличалась мягким характером. Была умницей с чувством юмора. Иными словами, олицетворяла собой все, о чем Бен Шэдвей когда-либо мечтал. Поэтому ему страстно хотелось залезть с ней в машину времени, отправиться назад в сороковые годы, купить билеты в отдельное купе в поезде «Суперчиф» и пересечь страну по железной дороге, занимаясь любовью все три тысячи миль под мерный перестук колес. Она обратилась в его контору по торговле недвижимостью с просьбой помочь ей подыскать дом, но домом их отношения не ограничились. В течение последних пяти месяцев они часто встречались. Поначалу Бен был очарован ею, как любой нормальный мужчина может быть очарован необыкновенно привлекательной женщиной, заинтригованный мыслью о том, каков будет вкус ее губ на его губах, восхищенный гладкостью ее кожи, стройностью ее ног и линией ее груди и бедер. Но вскоре после их знакомства его начал не меньше привлекать в ней острый ум и доброе сердце. Его восхищала в Рейчел ее способность получать не меньшее удовольствие от красивого заката или изящной игры теней, чем от обеда из семи блюд за сто долларов в лучшем ресторане страны. Желание просто иметь ее скоро сменилось у Бена влюбленностью. А где-то в последние два месяца, трудно сказать, когда именно, эта влюбленность перешла в любовь. Бен был почти уверен, что Рейчел отвечает ему взаимностью. Они еще ни разу не говорили о своих чувствах. Но он ощущал любовь в нежности ее прикосновений и во взгляде, который иногда ловил на себе. Они любили друг друга, но до постели дело еще не дошло. Хотя Рейчел и была человеком сегодняшнего дня и обладала завидным умением извлекать удовольствие из каждой прожитой минуты, она вовсе не была легкодоступной. Бен сознавал, что она не хочет торопиться. Медленно развивающийся роман давал ей возможность понять и почувствовать каждый нюанс в их постепенно крепнущих отношениях, а их будущая близость только выиграет от этой отсрочки. Он готов был предоставить ей столько времени, сколько нужно. Прежде всего он чувствовал, как с каждым днем растет желание, получая острое удовольствие от размышлений о том, какой великолепной и всепоглощающей будет их любовь, когда они наконец уступят своему влечению. С помощью Рейчел он стал понимать, что если бы они с первых дней романа очертя голову ринулись в постель, уступив своим животным инстинктам, то украли бы сами у себя массу сегодняшних невинных удовольствий. Кроме того, будучи вообще человеком прошлого, Бен отличался старомодным отношением и к подобным вопросам и предпочитал не прыгать сразу в койку за быстрым и легким удовлетворением. Ни он, ни Рейчел не были девственниками, но он получал эмоциональное и духовное удовлетворение, да и, черт побери, эротическое тоже, от ожидания, пока многочисленные нити, связывающие их, переплетутся в тесный клубок, и секс станет кульминацией их отношений.
Он припарковал свою машину рядом с красным «Мерседесом» Рейчел, который она даже не потрудилась поставить в гараж. С одной стороны бунгало росла густая бугенвиллея, усыпанная красными цветами и закрывающая часть крыши. При помощи узорчатой решетки она образовывала зелено-красный навес над парадным входом. Бен стоял в прохладной тени бугенвиллеи, а солнце грело ему спину. Он нажал уже десяток раз на звонок и чем дольше звонил, тем больше беспокоился, почему она так долго не открывает. В доме играла музыка. Неожиданно она смолкла. Когда наконец Рейчел открыла дверь, она не сняла предохранительной цепочки и смотрела на него сквозь узкую щель. Узнав его, она улыбнулась, и эта улыбка показалась Бену скорее улыбкой облегчения, чем радости. — О, Бенни, я так рада, что это ты. Она сняла цепочку и впустила его в дом. Она была босиком, в шелковом купальном халате, туго затянутом на талии, а в руке держала пистолет. Он удивленно спросил: — А это зачем? — Я не знала, кто это, — ответила Рейчел, включив систему сигнализации и кладя пистолет на маленький столик в холле. Заметив, что Бен нахмурился, поняла, что ее объяснение несерьезно, и добавила: — Да я не знаю. Наверное, я просто немного не в себе. — Я услышал про Эрика по радио. Несколько минут назад. Рейчел обняла его. Ее волосы были слегка влажными, кожа сладко пахла жасмином, а дыхание отдавало шоколадом. Бен понял, что она, судя по всему, принимала ванну так, как она любила, — долго и с удовольствием. Прижав ее к себе, он почувствовал, что она дрожит. — По радио сказали, что ты при этом присутствовала, — добавил он. — Да. — Мне очень жаль. — Это было ужасно, Бенни. — Она теснее прижалась к нему. — Мне никогда не забыть этот звук, когда грузовик его ударил. Или как он катился по мостовой. — Она вздрогнула. — Успокойся. — Он прижался щекой к ее мокрым волосам. — Необязательно об этом говорить. — Да нет, мне надо об этом говорить, — возразила она, — если я хочу когда-нибудь все забыть. Бен взял ее за подбородок, приподнял ее прелестное лицо, приблизив его к себе, и нежно поцеловал. Ее губы еще сохранили вкус шоколада. — Ладно, — он погладил ее по плечу, — давай сядем, и ты мне все расскажешь. — Запри дверь, — попросила она. — Да все в порядке, — заметил он, направляясь внутрь дома. Но Рейчел остановилась, отказываясь идти дальше. — Запри дверь, — настойчиво повторила она. Удивившись, он вернулся и закрыл дверь. Она взяла пистолет со столика и пошла в гостиную, держа его в руке. Что-то не так, что-то есть еще, помимо смерти Эрика, но Бен не мог понять, что именно. В гостиной было полутемно, поскольку Рейчел задернула все занавески. Что тоже удивило его. Она обычно любила солнце, любила нежиться в его лучах с томностью кошки, лежащей на теплом подоконнике. До сегодняшнего дня он никогда не видел в этом доме задернутых занавесей. — Не трогай, пусть будет так, — остановила его Рейчел, когда он направился к окнам. Она зажгла единственную лампу и села в угол мягкого персикового дивана, освещенная ее янтарным светом. Комната была обставлена в современном стиле в персиковых и темно-синих тонах, светильники — бронзовые, кофейный столик — бронза и стекло. Ее голубой халат прекрасно гармонировал с интерьером. Она положила пистолет на столик рядом с лампой. Поближе к правой руке. Бен принес шоколад и шампанское из ванной комнаты и подал ей. В кухне он взял еще бутылку холодного шампанского и бокал для себя. Когда он вернулся в гостиную, Рейчел сказала: — Наверное, это неправильно. Я про шампанское и шоколад. Как будто я праздную его смерть. — Ну, если вспомнить, каким он был подонком в отношении тебя, может, и есть повод отпраздновать. Она решительно покачала головой. — Нет. Смерть никогда не может служить поводом для праздника, Бенни. Вне зависимости от обстоятельств. Никогда. Но она машинально провела кончиками пальцев вдоль бледного, тонкого, еле заметного шрама длиной в три дюйма на правой стороне лица вдоль подбородка. Год назад, пребывая в отвратительном настроении, Эрик швырнул в нее бокалом с виски. Он промахнулся, но острый осколок рикошетом задел ее по щеке. Потребовалось пятнадцать маленьких швов, наложенных мастером своего дела, чтобы избежать заметного шрама. В тот день она и ушла от него. Эрик никогда не сможет больше навредить ей. Хотя бы подсознательно, но она должна чувствовать облегчение от его смерти. Замолкая время от времени, чтобы отпить глоток шампанского, Рейчел рассказала Бену об утренней встрече в адвокатской конторе и последующем столкновении на улице, когда Эрик схватил ее за руку и, казалось, готов был ударить. Она подробно рассказала о несчастном случае и ужасном состоянии тела, как будто ей было необходимо облечь все увиденное в слова, чтобы освободиться от страшного видения. Рассказала она и о своих хлопотах по поводу похорон, и, пока говорила, руки дрожали все меньше и меньше. Бен сидел близко к ней, повернувшись, чтобы видеть ее лицо, и положив руку ей на плечо. Иногда он принимался ласково массировать ей шею или гладить ее роскошные медного цвета волосы. — Тридцать миллионов долларов, — заметил он, когда Рейчел замолчала, и покачал головой, удивляясь иронии судьбы, подарившей этой женщине все, когда она соглашалась на столь малое. — Честно, мне эти деньги не нужны, — сказала она. — Я уже подумываю, не отдать ли мне их. Во всяком случае, большую часть. — Они твои, и ты можешь делать с ними все, что пожелаешь, — улыбнулся он. — Только не принимай решения сейчас, чтобы не пожалеть потом. Нахмурившись, Рейчел посмотрела на бокал с шампанским, который держала обеими руками. — Конечно, он пришел бы в бешенство, если бы узнал, что я их отдала. — Кто? — Эрик, — тихо ответила она. Бену показалось странным, что ее беспокоит реакция Эрика на ее поступок. Она явно еще не пришла полностью в себя после пережитого потрясения. — Подожди, дай себе время привыкнуть к ситуации. Она вздохнула и кивнула головой. — Который час? Бен взглянул на часы. — Без десяти семь. — Я уже позвонила многим, рассказала, что случилось, сообщила о похоронах. Но нужно еще связаться по крайней мере с тридцатью или сорока людьми. Близких родственников у него не было, только несколько двоюродных сестер и братьев. И тетка, которую он терпеть не мог. И друзей всего несколько человек. Он совсем не умел завязывать дружеские отношения. Зато, как ты знаешь, куча коллег. Господи, сколько еще надо сделать. — У меня радиотелефон в машине, — заметил Бен. — Я могу тебе помочь со звонками. Тогда мы быстро управимся. Она слегка улыбнулась. — И как же это будет выглядеть — дружок жены помогает ей известить скорбящих? — Зачем им знать, кто я такой? Могу просто сказать, что я друг семьи. — Поскольку от семьи осталась одна я, то это будет правдой, и ты мой лучший друг на всем свете, Бенни. — Больше чем друг. — О да. — Надеюсь, намного больше. — И я надеюсь, — проговорила Рейчел. Она поцеловала его и на мгновение положила голову ему на плечо.
К половине девятого, когда они обзвонили всех друзей и коллег Эрика, Рейчел неожиданно почувствовала, что голодна. — После такого дня и всего, что мне пришлось увидеть… не слишком ли жестокосердно испытывать голод? — Конечно, нет, — мягко заверил ее Бен. — Жизнь продолжается, малыш. Живые должны жить. Более того, я где-то читал, что у свидетелей внезапной и насильственной смерти резко повышается аппетит в последующие дни и недели. — Доказывают сами себе, что они живы. — Бьют во все колокола. — Боюсь, у меня насчет ужина слабовато, — сказала она. — Найдется кое-что для салата. Можем сварить лапшу. И открыть банку рагу в соусе. — Настоящий пир, достойный короля. Рейчел принесла пистолет с собой в кухню и положила на стол рядом с микроволновой печью. Она заранее закрыла жалюзи. Плотно-плотно. Бену нравился вид из этих окон — заросший зеленью двор, клумбы с цветущими азалиями и кустистые индийские лавровые деревья. Стена, огораживающая двор, была полностью закрыта буйной желтой и красной бугенвиллеей. Он потянулся к ручке, чтобы открыть жалюзи. — Пожалуйста, не надо, — попросила она. — Так лучше, уютнее. — Но ведь никто не может заглянуть сюда со двора. Там и стена, и калитка. — Пожалуйста. Он оставил жалюзи в покое. — Чего ты так боишься, Рейчел? — Боюсь? Я не боюсь. — А пистолет? — Я же говорила: я не знала, кто за дверью, и поскольку сегодня такой тяжелый день… — Но теперь ты знаешь, что это был я. — Да. — Со мной ты справишься и без пистолета. Пообещаешь поцеловать раз-другой, и я буду паинькой. Она улыбнулась. — Наверное, мне надо отнести его в спальню, он там обычно лежит. А ты что, нервничаешь? — Нет, но я… — Вот начнем стряпать, и я его уберу, — пообещала Рейчел, но что-то было в ее тоне, что делало это заявление не столько похожим на обещание, сколько на попытку потянуть время. Хотя Бен и был заинтригован и чувствовал себя слегка не в своей тарелке, он решил не давить на нее и ничего больше не сказал. Пока он выкладывал рагу в маленькую миску, она поставила на плиту большую кастрюлю с водой. Они вместе принялись нарезать листья салата, сельдерей, помидоры, лук и маслины для салата. Пока они работали, разговор вертелся в основном вокруг итальянской кухни. В их беседе не было привычной легкости, возможно, потому, что они изо всех сил старались делать вид, что у них легко на душе, и не думать о смерти. Рейчел почти не поднимала глаз от овощей, работая с присущей ей естественной сосредоточенностью. Каждый отрезанный ею кусочек сельдерея был точно той же величины, что и предыдущие, как будто симметрия являлась необходимым свойством хорошего салата и улучшала его вкус. Бен, неравнодушный к ее красоте, делил свое внимание поровну между нею и работой. Несмотря на то что ей было почти тридцать, выглядела она на двадцать, хотя и отличалась элегантностью и осанкой дамы высшего света, не один год изучавшей на практике все то, что составляет подлинное изящество. Ему никогда не надоедало смотреть на нее. И не в том было дело, что она возбуждала его. Каким-то магическим, непостижимым образом она давала ему возможность расслабиться и увериться, что все хорошо в этом лучшем из миров и что впервые в своей жизни он по-настоящему счастлив и может надеяться, что это счастье будет длиться долго. Неожиданно Бен положил нож, которым резал помидор, взял нож из руки Рейчел и отложил его в сторону, повернул ее лицом к себе, притянул, обнял и крепко поцеловал. Теперь на ее мягких губах был вкус не шоколада, а шампанского. От нее еще исходил слабый запах жасмина, но его уже перебивал присущий только ей чистый и приятный аромат. Он медленно провел руками вниз по впадине ее спины, ощущая упругие, точеные контуры ее тела под тонким шелком халата. Под халатом на ней ничего не было. Бен почувствовал, как его теплые руки становятся все горячее, как бы передавая ее жар через тонкую ткань его собственному телу. На мгновение она прижалась к нему, словно в отчаянии, словно она одна в бушующем море, а он спасательный плот. Она вцепилась в него, влилась пальцами в его плечи. Затем этот момент прошел, она расслабилась, и ее руки стали гладить и ласкать его спину и плечи. Ее рот приоткрылся, дыхание участилось, поцелуй стал более страстным. Он чувствовал, как ее грудь прижимается к его груди. Его руки, как будто действуя независимо от него, становились все более нетерпеливыми. Раздался телефонный звонок. Бен сразу вспомнил, что они забыли поставить аппарат на автоответчик, когда закончили обзванивать людей с сообщением о смерти Эрика и похоронах. — Черт, — пробормотала Рейчел, отстраняясь. — Я отвечу. — Наверное, еще один репортер. Он снял трубку настенного телефона около холодильника. Но то был вовсе не репортер. Звонил Эверетт Корделл, главный патологоанатом Санта-Аны, и звонил он из морга. Тут возникла серьезная проблема, он хотел бы поговорить с миссис Либен. — Я друг семьи, — заявил Бен. — Я отвечаю вместо нее на телефонные звонки. — Я хотел бы поговорить с ней лично, — настаивал патологоанатом. — Дело срочное. — Вы же должны понять, какой тяжелый день был сегодня у миссис Либен. Боюсь, вам придется поговорить со мной. — Но ей необходимо приехать сюда, — жалобно проговорил Корделл. — Куда сюда? В морг? Сейчас? — Да. И чем скорее, тем лучше. — Зачем? Корделл поколебался, потом ответил: — Все это неприятно и непонятно, и, конечно же, рано или поздно все объяснится, думаю, что скоро, но… ну, дело в том, что мы не можем найти тело Эрика Либена. Уверенный, что он не так понял, Бен переспросил: — Не можете найти? — Ну… возможно, не туда положили, — нервничая, объяснил Корделл. — Возможно? — Или… украл кто-то. Бен выяснил кое-какие подробности, положил трубку и повернулся к Рейчел. Она стояла, обхватив себя руками, как будто ей внезапно стало ужасно холодно. — Ты сказал, из морга? Бен утвердительно кивнул. — Эти бестолковые бюрократы, судя по всему, потеряли труп. Рейчел побледнела, в глазах появилось загнанное выражение. Но почему-то казалось, что эти дикие новости ее вовсе не удивили. У Бена появилось странное чувство, что она весь вечер ждала именно этого звонка.
Глава 4
ВНИЗУ, ГДЕ ХРАНЯТ МЕРТВЫХ
Идеальный порядок в офисе патологоанатома говорил о том, что Эверетт Корделл — человек, помешанный на аккуратности. Никаких бумаг, книг или папок на столе. Только регистрационный журнал — новый, чистый, без помарок. Стакан с карандашами и ручками, нож для разрезания писем и фотографии его семьи в серебряных рамках — на своих раз и навсегда определенных местах. На полках за письменным столом — сотни две-три книг в таком превосходном состоянии и так ровно поставленные, что казались нарисованными на стене. Его дипломы и две анатомические схемы развешаны по стенам настолько ровно, что так и виделся Корделл с линейкой и угольником в руках, каждое утро тщательно проверяющий, насколько правильно они висят. Об одержимости Корделла чистотой и порядком можно было судить и по его наружности. Высокий, пожалуй, излишне худой, лет около пятидесяти, с резкими чертами аскетического лица и ясными карими глазами. Идеальная стрижка, ни один волосок не выбивается. Руки с длинными пальцами — кости, обтянутые кожей. Белая рубашка выглядит так, будто ее пять минут назад выстирали, а стрелки на темно-коричневых брюках такие острые, что почти сверкают в свете ламп. Усадив Рейчел и Бена на темные соснового дерева стулья с темно-зелеными сиденьями, Корделл обошел стол и уселся на свой собственный стул. — Я очень огорчен, миссис Либен, что мне приходится добавлять еще и этот груз к тому, что вам пришлось сегодня пережить. Это ужасно. Я еще раз прошу прощения и приношу вам мои глубочайшие соболезнования, хотя и понимаю: что бы я ни говорил, дело от того не станет менее неприятным. Вы хорошо себя чувствуете? Может быть, вам дать стакан воды или что-нибудь еще? — Не беспокойтесь, — ответила Рейчел, хотя не могла вспомнить, когда бы чувствовала себя хуже. Бен протянул руку и ободряюще сжал ее плечо. Милый, надежный Бенни. Она была рада, что он с ней. Ростом в пять футов одиннадцать дюймов и весом в сто пятьдесят фунтов, он не казался физически сильным человеком. Шатен, карие глаза, приятное, но довольно обычное лицо. Такого не выделишь в толпе, а на вечеринке и вовсе можно не заметить. Но когда он начинал говорить мягким и выразительным голосом, или двигался с естественной грацией, или просто пристально смотрел на тебя, сразу становилось ясно, что он человек душевный и умный. Все было бы куда проще, будь Бенни на ее стороне, но ей не хотелось вовлекать его в эту историю. — Я бы хотела понять, — обратилась Рейчел к патологоанатому, — что произошло. Но в душе она боялась, что знает больше, чем Корделл. — Я буду предельно откровенен, миссис Либен, — начал тот. — Нет никакого смысла что-то скрывать. — Он вздохнул и покачал головой, как будто не мог поверить, что вся эта путаница действительно имеет место. Потом он моргнул, нахмурился и повернулся к Бену: — Вы часом не адвокат миссис Либен? — Просто старый друг, — ответил Бен. — В самом деле? — Я здесь для моральной поддержки. — Надеюсь, мы обойдемся без юристов, — заметил Корделл. — Я совершенно не собираюсь советоваться с адвокатом, — уверила его Рейчел. Патологоанатом мрачно кивнул, явно сомневаясь в ее искренности. И продолжал рассказывать: — Я обычно в офисе в это время не бываю. — Был понедельник, половина десятого вечера. — Если неожиданно много работы и надо делать вскрытия в позднее время, я, как правило, поручаю их своим помощникам. Исключения делаются только тогда, когда покойный — лицо выдающееся или является жертвой убийства при особо непонятных и сложных обстоятельствах. В подобных случаях, поскольку они привлекают пристальное внимание общественности — печати и политиков, я предпочитаю не сваливать этот груз на моих подчиненных и, если требуется делать вскрытие вечером, остаюсь после работы. Ваш муж, вне сомнения, был выдающейся личностью. Поскольку он ждал реакции, Рейчел кивнула. Говорить она боялась. С той минуты, как она узнала, что тело исчезло, страх то захватывал ее целиком, то слегка отступал, но в данный момент достиг верхней отметки. — Тело было доставлено и помещено в морг сегодня в 12 часов 14 минут, — продолжал Корделл. — Поскольку мы и так отставали от графика, а у меня было намечено выступление, я распорядился, чтобы мои подчиненные делали вскрытия по порядку поступления трупов, а вашим мужем намеревался заняться сам вечером в половине седьмого. — Он коснулся пальцами висков, слегка помассировал их и поморщился, как будто одно воспоминание об этих событиях причиняло ему страшную головную боль. — К этому времени был подготовлен операционный зал, и я послал помощника в морг за телом доктора Либена… но труп не смогли найти. — Может быть, не туда положили? — Пока я тут работаю, такое случалось исключительно редко, — заявил Корделл с оттенком гордости в голосе. — Ив тех редких случаях, когда труп был не на положенном ему месте, не в том ящике или оставлен на каталке с неверной биркой, нам всегда удавалось его обнаружить меньше чем за пять минут. — А сегодня вы его не нашли, — заключил Бен. — Мы почти час искали. Везде. Абсолютно везде, — теперь Корделл говорил с явным отчаянием. — Это просто дико. Такого не может быть. Особенно если учесть наши меры предосторожности. Рейчел внезапно заметила, что костяшки ее пальцев, сжимающих сумочку на коленях, заострились и побелели. Она попыталась расслабить руки, сложила их. Закрыла глаза и наклонила голову, боясь, что Бенни и Корделл прочтут в них чудовищную правду, и надеясь, что они подумают, будто она так реагирует на ужасные события, которые привели их сюда. Из своей собственной внутренней темноты она услышала, как Бен спросил: — Доктор Корделл, а не могло так случиться, что тело доктора Либена по ошибке отправили в частный морг? — Еще в начале дня мы получили сообщение, что похоронами будет заниматься фирма «Аттисон Бразерз», потому мы немедленно позвонили им, когда обнаружили, что тело исчезло. Мы полагали, что они приехали за доктором Либеном, а дневной дежурный в морге по ошибке выдал труп без разрешения, до вскрытия. Но они сказали, что не приезжали, а наоборот, ждут звонка от нас, и покойного у них нет. — Я хочу сказать, — перебил Бен, — что, возможно, тело доктора Либена было выдано другому похоронному бюро, чьи служащие приехали забрать кого-то другого. — Мы в срочном порядке проверили такую возможность, могу вас уверить. После прибытия тела доктора Либена в 12 часов 14 минут мы выдали частным моргам четыре трупа. Мы отправили во все эти морги своих служащих, чтобы проверить личность усопших и убедиться, что никто из них не является доктором Либеном. Так и случилось. — Тогда что, по-вашему, могло с ним произойти? Закрыв глаза, Рейчел слушала этот жуткий разговор, и постепенно ей стало казаться, что она спит и слышит всего лишь фантомные голоса персонажей какого-то кошмарного сна. — Каким бы диким это ни казалось, — проговорил Корделл, — но мы вынуждены заключить, что тело было украдено. Рейчел тщетно пыталась избавиться от отвратительных видений, возникающих в ее воображении. — Вы известили полицию? — спросил Бен. — Да, мы связались с ней, как только убедились, что кража является единственным разумным объяснением. Полицейские сейчас внизу, в морге, и, разумеется, они хотят поговорить с вами, миссис Либен. С той стороны, где сидел патологоанатом, все время раздавался тихий, ритмичный, скрежещущий звук. Рейчел открыла глаза и увидела, что Эверетт Корделл нервным движением вынимает и вкладывает в чехол нож для разрезания бумаги. Она снова закрыла глаза. — Разве ваши меры безопасности настолько ненадежны, что любой человек с улицы может сюда войти и стащить труп? — Разумеется, нет. Такого никогда раньше не случалось. Говорю же вам, это невероятно. Ну, конечно, настойчивый человек, возможно, найдет способ провести нашу охрану, но, уверяю вас, это совсем не просто. Совсем не просто. — Но не невозможно, — заметил Бен. Скрежещущий звук смолк. Раздались другие, по коим Рейчел заключила, что патологоанатом скорее всего двигает по столу серебряные рамки с фотографиями. Она попыталась сосредоточиться на этом образе, чтобы избавиться от диких сцен, которые, к ее ужасу, преподносило ей разыгравшееся воображение. — Я предлагаю вам обоим спуститься со мной вниз в морг, чтобы вы своими глазами увидели, насколько надежна наша охрана и как трудно было бы пройти сквозь нее. Миссис Либен, в состоянии ли вы?.. Рейчел открыла глаза. Бен и Корделл смотрели на нее с беспокойством. Она утвердительно кивнула. — Вы уверены? — спросил Корделл, поднимаясь из-за стола и подходя к ней, — Пожалуйста, поймите, я вовсе не настаиваю. Но мне лично было бы неизмеримо легче, если бы вы сами убедились, насколько мы осторожны и с какой ответственностью относимся к своим обязанностям. — Со мной все в порядке, — проговорила Рейчел. Сняв микроскопическую пылинку, обнаруженную на рукаве, патологоанатом направился к двери. Рейчел встала со стула и повернулась, чтобы последовать за ним, но тут у нее неожиданно закружилась голова. Она пошатнулась. Бен придержал ее за руку. — В этом осмотре нет никакой необходимости. — Есть, — мрачно возразила она. — Есть. Мне нужно увидеть. Мне нужно знать. Бен как-то странно посмотрел на нее, но она постаралась не встретиться с ним взглядом. Он понимал, что здесь что-то не так, что есть что-то еще, кроме смерти и исчезновения Эрика, но не знал, что именно. И испытывал откровенное любопытство. Рейчел явно решила скрывать свое беспокойство и не вовлекать его во всю эту кошмарную историю. Но способность обманывать отнюдь не являлась одним из ее талантов, и она понимала, что Бен, едва войдя в дом, догадался, что она напугана. Бедняга был и заинтригован, и обеспокоен, и твердо решил помочь ей, а именно этого она и не хотела. Но сейчас было уже поздно что-то делать. Позже она найдет способ избавиться от Бена, несмотря на то, что безмерно нуждается в нем, потому что было бы несправедливо втягивать его во всю эту чехарду и подвергать его жизнь той же опасности, которая грозит ей. Теперь же ей необходимо видеть, где лежало искалеченное тело Эрика, потому что таким образом она рассчитывала лучше понять обстоятельства его загадочного исчезновения и развеять свои худшие подозрения. Ей следовало собраться, чтобы совершить этот обход морга. Они вышли из офиса и направились вниз, где их ждали мертвецы. Широкий светло-серый коридор с кафельным полом заканчивался металлической дверью. С этой стороны двери, в нише справа, сидел дежурный в белом. Увидев приближающихся Корделла и Рейчел с Беном, он встал и выудил из кармана своей форменной куртки связку сверкающих и звенящих ключей. — Это единственный вход в морг изнутри, — объяснил Корделл. — Дверь всегда заперта. Верно, Уолт? — Совершенно верно, — ответил дежурный. — Вы хотите войти, доктор Корделл? — Да. Когда Уолт вложил ключ в замок, Рейчел заметила слабую искру статического электричества. — У этих дверей, — пояснил Корделл, — круглосуточно сидит дежурный — Уолт или кто-нибудь другой, каждый день, без выходных. Без его помощи никто туда не войдет. И он регистрирует всех посетителей. Широкая дверь открылась, и Уолт придержал ее, пропуская их. Они вошли и сразу почувствовали, что прохладный воздух пахнет антисептиками и чем-то еще, менее резким и менее чистым. Дверь за ними закрылась с легким скрипом петель, который, как показалось Рейчел, эхом откликнулся во всем ее теле. Замок автоматически, с гулким клацаньем, закрылся. Двойные двери, в данный момент открытые, вели в просторные помещения по обеим сторонам коридора морга. В конце этого прохладного коридора находилась цельнометаллическая дверь вроде той, через которую они только что вошли. — Теперь, если позволите, я покажу вам единственный выход наружу, куда подъезжают наши фургоны и машины похоронных контор. — И Корделл направился к барьеру в отдалении. Рейчел последовала за ним, хотя от одного присутствия в этой обители мертвых, где недавно лежал и Эрик, коленки у нее были как ватные, а вдоль спины бежала струйка пота. — Одну секунду, — попросил Бен. Он вернулся к двери, через которую они пришли, и, нажав на ручку, открыл ее, чем сильно удивил Уолта, как раз возвращавшегося к своему стулу по другую сторону двери. Отпустив дверь и подождав, когда она самостоятельно захлопнется, Бен повернулся к Корделлу: — Похоже, что, хоть она и всегда заперта снаружи, она всегда открыта изнутри, так? — Разумеется, так, — ответил Корделл. — Слишком хлопотно каждый раз звать дежурного, чтобы он открыл тебе дверь и выпустил тебя. Кроме того, мы не можем рисковать запереть кого-то внутри — а вдруг случится какое-либо происшествие, пожар, например, или землетрясение. Когда они шли к служебному входу в дальнем конце коридора, от эха их шагов мороз пробирал по коже. Проходя мимо открытых дверей, ведущих в большие комнаты, Рейчел заметила в левой из них несколько человек. Освещенные резким светом флюоресцентных ламп, некоторые стояли, другие ходили и тихо переговаривались. Работники морга в медицинских халатах. Толстый мужчина в бежевых брюках и бежево-желто-красно-зеленой спортивной куртке. Двое мужчин в темных костюмах, поднявшие головы, когда Рейчел проходила мимо. Заметила она и три трупа: неподвижные, закрытые с головой фигуры на столах из нержавеющей стали. Эверетт Корделл толкнул широкую металлическую дверь, вышел и поманил их. Рейчел и Бен последовали за ним. Она ожидала оказаться в каком-нибудь переулке, но, хотя они и вышли из здания, на улицу они не попали. Дверь из морга вела на один из уровней огромного, многоярусного подземного гаража. В этом самом гараже она совсем недавно оставила свой «Мерседес», только несколькими ярусами ниже. Серый бетонный пол, голые стены и толстые бетонные столбы, поддерживающие бетонный же потолок, делали этот подземный гараж похожим на западный вариант огромной, сильно модернизированной гробницы фараона. Лампы дневного света, расположенные далеко одна от другой, освещали все тускло-желтым светом, который Рейчел посчитала вполне подходящим для вестибюля перед входом в покои мертвых. На площадке рядом со входом в морг парковка не разрешалась. Но за ней, дальше, то тут, то там стояли машины, часть из которых освещалась отвратительным желтым светом, а другая пряталась в пурпурно-черной тени, чем-то похожей на бархат, которым обивают гроб изнутри. Когда Рейчел взглянула на машины, у нее появилось странное чувство, что кто-то там прячется и следит за ними. Следит за ней. Бен заметил, что она вздрогнула, и обнял ее за плечи. Эверетт Корделл закрыл тяжелую дверь морга, а потом попытался открыть ее, но ручка не поддавалась. — Видите? Она закрывается автоматически. Машины «Скорой помощи», фургоны для перевозки трупов и катафалки с улицы подъезжают к этому пандусу. Чтобы войти, надо нажать кнопку. — Он нажал кнопку на стене рядом с дверью. — И говорить в этот микрофон. — Он подвинулся поближе к микрофону, вделанному в бетонную стену. — Уолт? Это доктор Корделл. Я у выхода. Впусти нас, пожалуйста. Раздался голос Уолта: — Будет сделано, сэр. Прозвучал гудок, и Корделл смог открыть дверь. — Я полагаю, дежурный не открывает дверь всякому, кто ни попросит, — заметил Бен. — Конечно, нет, — уверил его Корделл, стоя в открытых дверях. — Если он не уверен, что узнал голос, или он не знает посетителя, или это кто-то из частной похоронной конторы, дежурный идет сюда со своего поста у внутренней двери и проверяет, кто пришел. Рейчел потеряла интерес к этим подробностям и с тревогой оглядывала гигантский мрачный и темный гараж, где можно было прекрасно спрятаться в тысяче мест. — В этот самый момент, — сказал Бен, — с дежурным, не ожидающим нападения, можно легко справиться и войти в морг. — Возможно, — согласился Корделл с недовольной миной на худом лице, — но такого никогда не случалось. — Сегодняшние дежурные клянутся, что зарегистрировали всех, кто приходил и уходил, и что впускали только тех, кому это было разрешено? — Клянутся, — подтвердил Корделл. — А вы им всем доверяете? — Полностью. Все наши служащие понимают, что тела, оставленные на наше попечение, это останки людей, которых кто-то любил, и что на нас ложится ответственность, я бы сказал, святая ответственность, беречь эти останки, пока они находятся здесь. Думаю, это очевидно по тем мерам предосторожности, которые мы принимаем и с которыми вы сегодня познакомились. — Тогда, — начал Бен, — кто-нибудь либо открыл замок отмычкой… — Его практически невозможно открыть отмычкой. — Либо кто-то проник в морг, когда дверь была открыта для законных посетителей, спрятался, дождался, пока все уйдут, и уволок тело доктора Либена. — Скорее всего, так. Но практически невероятно, что… — Пожалуйста, можем мы вернуться? — попросила Рейчел. — Разумеется, — сразу согласился доктор Корделл, стараясь ей угодить, и пропустил ее вперед. Они вернулись в коридор, где в прохладном воздухе чувствовался легкий гнилостный запах, с которым не мог справиться даже хвойный дезодорант.Глава 5
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
В помещении, где содержались трупы, ожидающие вскрытия, было еще холоднее, чем в коридоре морга. Яркий свет ламп дневного света странным образом придавал ледяной отблеск столам из нержавеющей стали и стальным сверкающим ручкам и петлям ящиков, расположенных вдоль стен. Блестящая белая эмаль, которой были покрыты все ящики, хоть и была не толще одной восьмой дюйма, казалось, имела какую-то странную бесконечную глубину, напоминающую таинственное сверкание омытого лунным светом снежного пейзажа. Рейчел старалась не смотреть на неподвижные тела и отказывалась думать о том, что может находиться в огромных выдвижных ящиках. Толстяк в спортивной куртке, которого звали Рональд Тескане, оказался адвокатом, представляющим интересы города. Его оторвали от ужина, чтобы он находился под рукой, когда Рейчел будет разговаривать с полицейскими и позднее, когда будет обсуждаться исчезновение тела ее мужа. Говорил он ласковым, почти елейным голосом и расточал свои соболезнования с такой легкостью, с какой масло выливается из бутылки. Пока полицейские разговаривали с Рейчел, он молча ходил взад-вперед за их спинами, то и дело приглаживая волосы белыми пухлыми руками — на каждой блестело по два золотых кольца с бриллиантами. Как она и подозревала, двое мужчин в темных костюмах оказались полицейскими. Они показали Рейчел свои удостоверения и бляхи и, к счастью, не сочли нужным навязывать ей свое сочувствие. Тот, что помоложе, дородный, с нависшими бровями, назвался детективом Хагерстормом. Он вообще в основном молчал, предоставив возможность задавать вопросы своему напарнику, и стоял неподвижно, подобно дубу с глубокими корнями, что составляло приятный контраст с мечущимся из угла в угол адвокатом. Хагерсторм наблюдал за происходящим маленькими карими глазками и сначала показался Рейчел туповатым. Но позднее она поняла, что он обладает интеллектом значительно выше среднего, каковой факт тщательно скрывает. Ее беспокоило, что Хагерсторм с помощью особого шестого чувства, свойственного полицейскому, сумеет понять, что она лжет, и догадаться, о чем именно она умалчивает. Поэтому, старательно избегая встречаться с ним взглядом, она пыталась делать это как можно незаметнее. Полицейский постарше, детектив Джулио Вердад, хрупкий человек со смуглым лицом, чьи черные глаза имели легкий пурпурный оттенок, какой бывает у спелой сливы, явно умел одеваться. Его летний синий костюм был прекрасно сшит, манжеты шелковой рубашки застегнуты золотыми запонками с жемчугом, темно-вишневый галстук украшен зажимом в виде тонкой золотой цепочки, на ногах — туфли того же цвета, что и галстук. Хотя Вердад говорил короткими предложениями и несколько отрывисто, голос его был тихим и мягким, и этот контраст между голосом и манерой говорить несколько озадачивал. — Вы познакомились с их охранной системой, миссис Либен? — Да. — Вы удовлетворены? — Наверное. Обращаясь к Бену, Вердад спросил: — А вы кто? — Бен Шэдвей. Старый друг миссис Либен. — Старый школьный друг? — Нет. — Коллега по работе? — Нет. Просто друг. Сливовые глаза сверкнули. — Понятно. — Он снова повернулся к Рейчел, — У меня есть к вам вопросы. — Какие именно? Вместо того чтобы сразу ответить, Вердад продолжил: — Не хотите ли присесть, миссис Либен? — Да, разумеется, нужен стул, — спохватился Эверетт Корделл и вместе с толстым адвокатом Рональдом Тескане ринулся вытаскивать стул из-за стола в углу. Сообразив, что никто больше садиться не собирается, и не желая попадать в положение, когда все будут смотреть на нее сверху вниз, Рейчел заявила: — Нет, благодарю вас, я постою. Не думаю, что разговор займет много времени. Мне вовсе не хочется здесь задерживаться. Так о чем вы хотели меня спросить? — Необычное преступление, — заметил Вердад. — Похищение трупа, — Рейчел старалась одновременно выглядеть и озадаченной, и возмущенной случившимся. Первое ей пришлось изобразить, второе было более или менее искренним. — Кто мог это сделать? — спросил Вердад. — Понятия не имею. — Вы не знаете никого, для кого бы это имело смысл? — Смысл украсть тело Эрика? Разумеется, нет. — У него были враги? — Он был не только гением в своей области, но и довольно удачливым бизнесменом. Гениям свойственно без всякого умысла с их стороны вызывать зависть своих коллег. И, безусловно, многие завидовали его богатству. И еще были такие, которые считали, что… он причинил им зло в процессе своего продвижения наверх. — А он причинял людям зло? — Да. Некоторым. Он был одержимым человеком. Но я сильно сомневаюсь, чтобы его враги могли опуститься до такого бессмысленного и страшного способа с ним поквитаться. — Он был не просто одержимым, — бросил Вердад. — Да? — Он был жестоким. — Почему вы так думаете? — Я читал о нем. Он был жестоким. — Что ж, возможно. И с тяжелым характером. Не стану отрицать. — У жестоких людей могут быть заклятые враги. — Вы хотите сказать, настолько заклятые, чтобы для них кража тела имела смысл? — Возможно. Мне бы хотелось знать имена его врагов, людей, которые могли затаить на него зло. — Вы можете получить эту информацию от тех, с кем он вместе работал в Генеплане, — заметила она. — От сотрудников его компании? Но ведь вы — жена. — Я знаю о его делах очень немного. Он не хотел, чтобы я знала. У него были очень четкие представления насчет того, где… мое место. Кроме того, год назад я от него ушла. Вердад вроде бы удивился, но почему-то Рейчел понимала, что он проделал необходимую подготовительную работу и знал, о чем шла речь. — Собирались разводиться? — спросил он. — Да. — С горечью? — С его стороны — да. — Тогда понятно. — Что понятно? — То, что вы ничуть не переживаете. Рейчел уже давно начала подозревать, что Вердад гораздо опаснее, чем молчаливый, неподвижный и сосредоточенный Хагерсторм. Теперь она в этом убедилась. — Доктор Либен обращался с ней безобразно, — Бен сделал попытку ее защитить. — Ясно, — уронил Вердад. — У нее нет причины горевать о нем. — Ясно. — Вы так себя ведете, — возмутился Бен, — будто речь идет об убийстве, черт побери. — Разве? — И обращаетесь с ней, будто она подозреваемая. — Вы думаете? — спокойно спросил Вердад. — Доктор Либен погиб в результате несчастного случая, — заявил Бен. — Если кто и виноват, так это он сам. — Мы так и поняли. — Там были десятки свидетелей. — Вы что, адвокат миссисЛибен? — поинтересовался Вердад. — Нет, я же сказал вам… — Да, старый друг, — в тоне Вердада ясно чувствовался намек. — Если бы вы были адвокатом, мистер Шэдвей, — вмешался Рональд Тескане, выступая вперед так поспешно, что его толстые щеки затряслись, — вы бы поняли, почему полиция вынуждена расспрашивать миссис Либен, как бы неприятно это ни было. Ведь они обязательно должны учитывать вероятность того, что тело мистера Либена было украдено с целью избежать вскрытия. Что-то скрыть. — Весьма мелодраматично, — с презрением заметил Бен. — Но вполне допустимо. А это будет означать, что смерть его вовсе не такое ясное дело, как кажется на первый взгляд. — Именно, — согласился Вердад. — Чепуха, — заключил Бен. Рейчел по достоинству оценила попытки Бена защитить ее честь. Он всегда был таким милым и душевным. Но пусть Вердад и Хагерсторм считают ее возможной убийцей или соучастницей преступления. Она не способна кого-либо убить. Эрик погиб в результате несчастного случая, и со временем в этом убедится даже самый подозрительный детектив. А пока Хагерсторм и Вердад заняты выяснением этих вопросов, они не зададут других, куда более близких к ужасной правде. Пока они отвлекали свое собственное внимание, она не собиралась обижаться на их необоснованные подозрения. Пусть идут по ложному пути. — Лейтенант Вердад, — проговорила она, — безусловно, самым логичным объяснением будет то, что, несмотря на уверения доктора Корделла, тело было просто положено не на то место. — И худой, как аист, патологоанатом, и Рональд Тескане энергично запротестовали. Она спокойно, но твердо перебила их: — А может, это подростки сыграли такую дикую шутку. Студенты. Обряд посвящения или что-то еще. Они и на худшее способны. — Полагаю, ответ на этот вопрос я уже знаю, — вмешался Бен. — Но, возможно, доктор Либен не был мертв? Может, его состояние было неверно оценено? Возможно, он ушел отсюда в беспамятстве? — Нет, нет и нет, — пробормотал побледневший Тескане, покрываясь потом, несмотря на холод. — Невозможно, — одновременно с ним произнес доктор Корделл. — Я его сам видел. Обширная травма головы. Абсолютно никаких признаков жизни. Но это дикое предположение неожиданно заинтересовало Вердада. — Разве доктору Либену не была оказана медицинская помощь сразу после несчастного случая? — спросил он. — Фельдшерами, — ответил Корделл. — Высококвалифицированные и опытные работники, — поддержал его Тескане, утирая полное лицо носовым платком. Он быстро подсчитывал в уме разницу между штрафом за недосмотр в морге и значительно более крупной суммой, которую придется выложить городу, если в суде выяснится, что фельдшера были некомпетентны. — В любых обстоятельствах они никогда, никогда ошибочно не объявят живого человека мертвым. — Первое — сердце не билось, — Корделл подсчитывал признаки смерти по пальцам, столь длинным и гибким, что они вполне могли принадлежать пианисту, а не патологоанатому. — Электрокардиограф, который подключили фельдшера, показал совершенно прямую линию. Второе — он не дышал. Третье — температура тела непрерывно падала. — Вне всякого сомнения, мертв, — пробормотал Тескане. Лейтенант Вердад теперь разглядывал адвоката и главного патологоанатома точно так же, как несколько минут назад Рейчел: тем же ястребиным взором и с тем же полным отсутствием всякого выражения на лице. Скорее всего он не думал, что Тескане и Корделл, равно как и фельдшера, пытаются скрыть какой-то свой недосмотр или небрежность. Но собственная натура и жизненный опыт вынуждали его подозревать каждого, если на то были хотя бы малейшие основания. Поморщившись при словах Тескане, Корделл продолжал: — Четвертое — абсолютно никакой мозговой деятельности. У нас тут в морге есть энцефалограф. Мы часто им пользуемся для окончательной проверки. Я завел здесь такое правило, когда принял дела. Как только доктора Либена привезли сюда, он был немедленно подключен к этой машине, и все линии были совершенно прямыми. Я сам присутствовал и видел ленту. Смерть мозга. Есть единственный общепринятый критерий, по которому человек признается мертвым, а именно: если осматривающий его врач устанавливает полную остановку сердца и смерть мозга. Зрачки доктора Либена не сокращались при ярком свете. Отсутствовало дыхание. Мне очень жаль, миссис Либен, но ваш муж был мертв, как и любой другой в подобном состоянии, и я готов поручиться за это моей репутацией. Рейчел и не сомневалась, что Эрик был мертв. Она же помнила его невидящие, неморгающие глаза, когда он лежал на забрызганной кровью мостовой. Она видела совершенно четко глубокую вмятину, начинавшуюся от уха и достигавшую виска, раздробленные кости. Однако она была признательна Бену за то, что он, сам того не желая, все запутал и повел детективов еще по одному ложному следу. — Я уверена, что он был мертв, — подтвердила она. — Я в этом не сомневаюсь. Я видела его там, где произошел несчастный случай, и знаю, что ошибки в диагнозе быть не могло. Корделл и Тескане явно почувствовали облегчение. Пожав плечами, Вердад заметил: — Ну тогда мы можем отбросить это предположение. Но Рейчел понимала, что коль скоро идея ошибочного диагноза застряла в головах у полицейских, они потратят время и силы, чтобы ее как следует проверить, а это именно то, что ей нужно. Отсрочка. К этому она стремилась. Тянуть, медлить, запутывать. Ей требовалось время, чтобы подтвердить свои худшие подозрения и придумать, как защитить себя от грозящей опасности. Лейтенант Вердад провел Рейчел мимо трех закрытых тел к пустой каталке, на которой валялась смятая простыня. Там же лежала бирка из плотного картона с обрывками покрытой хлорвинилом проволоки. Бирка была тоже смята. — Боюсь, это все, что у нас осталось. Вот эта каталка и бирка, которая была привязана к ноге доктора. — Стоя всего в нескольких дюймах от Рейчел, детектив смотрел на нее жестким взглядом карих глаз, в которых, как и на его лице, нельзя было ничего прочитать. — Теперь объясните мне, зачем вору, укравшему тело, не важно из каких соображений, было тратить время на отвязывание бирки с ноги умершего? Она покачала головой: — Не имею ни малейшего представления. — Вор должен был опасаться, что его могут поймать. Спешить. И он тратил драгоценные секунды на отвязывание бирки. — Полное безумие, — заметила она дрожащим голосом. — Да, безумие, — согласился Вердад. — Но ведь и вся эта история — безумие. — Да. Рейчел посмотрела на смятую и слегка испачканную кровью простыню, представила себе, как она укрывает холодное и нагое тело ее мужа, и невольно вздрогнула. — Ну, хватит, — заявил Бен, обнимая ее за плечи, чтобы согреть и поддержать. — Пошли-ка отсюда ко всем чертям. Эверетт Корделл и Рональд Тескане проводили Рейчел и Бена до лифта в подземном гараже, всю дорогу стараясь доказать полное отсутствие вины со стороны морга и города в исчезновении тела. Их не успокаивали ее неоднократные заверения, что она не собирается подавать ни на кого в суд. Ей необходимо было о стольком подумать и побеспокоиться, что не оставалось ни сил, ни желания уверять их, что у нее нет никаких дурных намерений. Хотелось только, чтобы они от нее отстали и дали ей возможность заняться куда более срочными делами. Когда наконец закрывшаяся дверь лифта отделила их от тощего патологоанатома и толстого адвоката, Бен сказал: — Что касается меня, я бы обязательно подал на них в суд. — Исковые заявления, судебные процессы, встречи для обсуждения стратегии ведения дела, залы заседаний — тоска зеленая, — отозвалась Рейчел. Она открыла сумочку. Лифт продолжал подниматься. — А этот Вердад — крутой сукин сын, верно? — заметил Бен. — Просто выполняет свои обязанности, я так думаю. — Рейчел достала из сумочки пистолет тридцать второго калибра. Бен, занятый наблюдением за мелькающими цифрами на табло над дверью, не сразу заметил пистолет. — Он мог бы выполнять эти свои обязанности с несколько большим сочувствием и не изображать из себя робота. Они уже поднялись на полтора этажа, и скоро на табло должна была зажечься цифра 2. «Мерседес» Рейчел стоял этажом выше. Бен хотел поехать на своей машине, но Рейчел настояла на «Мерседесе». Пока она сидела за рулем, ее руки были заняты, а внимание частично сосредоточено на дороге, так что она не могла полностью отдаться размышлениям о той жуткой ситуации, в которой оказалась. Если ей нечем будет заняться, кроме как раздумывать о последних событиях, она рискует потерять то хрупкое самообладание, которое пока удавалось сохранить. Ей надо чем-то себя все время занимать, чтобы не поддаться страху и не впасть в панику. Они достигли второго яруса и продолжали подниматься. — Бенни, — попросила она, — отойди от двери. — Что? — Он отвел взгляд от табло и с удивлением моргнул, заметив пистолет. — Эй, где ты, черт возьми, его взяла? — Принесла из дома. — Зачем? — Пожалуйста, отойди. Побыстрее, Бенни, — попросила она дрожащим голосом, направляя пистолет на дверь. Все еще недоуменно моргая, он отступил от двери. — Что происходит? Ты же не собираешься ни в кого стрелять? Сердце ее билось так громко, что заглушало звук его голоса. Создавалось впечатление, что он доносится откуда-то издалека. Лифт достиг третьего яруса. Раздался щелчок, и на табло засветилась цифра 3. Лифт с легким толчком остановился. — Рейчел, ответь мне. Что происходит? Она промолчала. Она купила пистолет после того, как ушла от мужа. Женщине нужно оружие… особенно если она оставила такого человека, как Эрик. Когда двери начали расходиться в стороны, Рейчел постаралась припомнить, что говорил ей инструктор: не дергайте курок, иначе дуло отойдет в сторону и вы промахнетесь. Но никто не ждал их, во всяком случае у лифта. Серые бетонные пол, стены, столбы и потолок были точно такими же, как и в подвале, из которого они только что поднялись. И тишина была такой же замогильной и отчасти угрожающей. Воздух — менее сырой, чем тремя ярусами ниже, и значительно теплее, но абсолютно такой же неподвижный. Несколько потолочных светильников были разбиты, так что здесь поселилось еще больше теней, чем в подвале, они казались гуще и чрезвычайно подходили для того, чтобы полностью скрыть нападающего, хотя, возможно, то была просто игра ее воображения. Выходя за ней из лифта, Бен спросил: — Рейчел, кого ты боишься? — Потом. А пока давай убираться отсюда ко всем чертям. — Но… — Потом. Эхо их шагов гулко раздавалось среди всего этого бетона, и ей казалось, что она идет не по обычному гаражу в Санта-Ане, а по залам чужого храма под бдительным взором невообразимо странного божества. В этот поздний час ее красный «Мерседес» был одной из трех машин в гараже. Он одиноко стоял в сотне футов от лифта. Рейчел направилась прямо к нему и устало обошла вокруг. Никто не прятался за машиной. Сквозь окна было видно, что и внутри никого нет. Она открыла дверцу и быстро села. Как только Бен последовал ее примеру и захлопнул дверцу, включила зажигание, завела мотор, переставила рычаг переключения передач, отпустила ручной тормоз и быстро, даже слишком быстро, двинулась к выходу. Одновременно она одной рукой поставила пистолет на предохранитель и сунула его в сумочку. Когда они выехали на улицу, Бен повернулся к ней: — Ладно, а теперь рассказывай, что все эти страсти-мордасти означают. Она поколебалась, сожалея, что втянула его в эту историю. Ей следовало идти в морг одной. Но она позволила себе быть слабой, опереться на него, и вот теперь, если не перестанет надеяться на его помощь, если втянет его еще глубже, то, вне всякого сомнения, поставит его жизнь под угрозу. А она не имеет права подвергать его опасности. — Рейчел? Она остановилась на красный свет на пересечении Мейн-стрит и Четвертой улицы. Теплый летний ветер притащил на середину перекрестка кучку мусора и, покрутив ее немного, унес прочь. — Рейчел? — настаивал Бен. В нескольких футах от них, на углу, стоял бродяга в потрепанной одежде. Он был грязен, небрит и пьян. Страшный шишковатый нос изъеден мелахомой. В левой руке он держал бумажный пакет, из которого выглядывала бутылка с вином, а в правой сжимал, как какую-то драгоценность, сломанный будильник, без стекла и минутной стрелки. Он наклонился и посмотрел на Рейчел выпученными, воспаленными глазами. Не обращая на бродягу внимания, Бен продолжал: — Не отгораживайся от меня, Рейчел. В чем дело? Скажи мне. Я могу помочь. — Не хочу тебя втягивать в эту историю. — Я уже втянут. — Нет. На данный момент ты ничего не знаешь. И я думаю, это к лучшему. — Ты обещала… Свет светофора сменился, и она так резко нажала на педаль газа, что Бена бросило на привязной ремень и он не закончил фразу. За их спинами пьяница с будильником прокричал: — Я — Отец Время! — Послушай, Бенни, — сказала Рейчел, — я довезу тебя до моего дома, и там ты пересядешь в свою машину. — Черта с два! — Позволь мне разобраться с этим самой. — С чем этим? Что происходит? — Бенни, не надо меня допрашивать. Не делай этого. Мне надо о многом подумать, многое сделать. — Создается впечатление, что ты сегодня еще куда-то собралась. — Тебя это не касается. — Куда ты поедешь? — Мне нужно… кое-что проверить. Не обращай внимания. Бен явно разозлился. — Собираешься кого-нибудь пристрелить? — саркастически спросил он. — Конечно, нет. — Тогда зачем тебе пистолет? Она промолчала. — У тебя есть разрешение на ношение оружия? — Есть, но только для использования дома. Он оглянулся посмотреть, нет ли кого-нибудь близко, затем наклонился к ней, схватил рулевое колесо и резко повернул его вправо. Со скрежетом шин машина крутанулась, Рейчел резко нажала на тормоз, и они проехали юзом шесть или восемь ярдов[102]. Она попыталась выровнять машину, однако Бен снова схватился за руль. Она закричала, требуя прекратить, и он выпустил руль, который провернулся в ее руках, но Рейчел уже справилась с управлением, свернула к обочине и остановилась. — Ты что, с ума сошел? — спросила она, посмотрев на него. — Просто злюсь. — Забудь, — попросила Рейчел, глядя в окно. — Я хочу тебе помочь. — Ты не можешь. — Испытай меня. Куда ты собралась? Она вздохнула. — В дом Эрика. — В его дом? В Вилла-Парке? Зачем? — Я не могу тебе сказать. — А потом куда? — В Генеплан. В его офис. — Зачем? — И этого я не могу тебе сказать. — Почему? — Бенни, это опасно. Дело может дойти до насилия. — Так что же я, твою мать, фарфоровый, что ли? Или хрустальный? Женщина, ты что думаешь, я разлечусь на тысячи кусков, если меня, черт дери, пальцем тронут? Она посмотрела на него. Янтарный свет фонаря освещал только ее, оставляя его в тени, но все равно было видно, как сверкают его глаза. — Господи, Бенни, — заметила она, — да ты в ярости. Я никогда раньше не слышала, чтобы ты так выражался. — Рейчел, — спросил он, — между нами есть что-то или нет? Я думал, между нами что-то есть. Особенное, так я полагал. — Да. — Ты действительно так считаешь? — Ты же знаешь, что да. — Тогда тебе не удастся выпереть меня из этой истории. Не сможешь запретить мне помочь, если ты нуждаешься в помощи. Если у нас есть будущее. Рейчел смотрела на него, испытывая огромную нежность. Ей больше всего на свете хотелось рассказать ему все, сделать его своим союзником. Но было бы скверно с ее стороны втягивать его в это дело. Сейчас он раздумывает, что могло с ней случиться, перебирает в голове всякие возможности, но, что бы он ни вообразил, все это пустяки в сравнении с тем, что есть на самом деле. Если бы он знал правду, может, он не так бы рвался ей помочь, но она не смела ему рассказать. — Ты же знаешь, — заговорил он, — я довольно старомодный парень. Во всяком случае, по общепринятым стандартам. Довольно уравновешенный. Черт, да половина ребят, которые сейчас занимаются продажей недвижимости в Калифорнии, в такие жаркие дни, как сегодня, носят белые штаны и блейзеры пастельных тонов, но я чувствую себя комфортабельно только в тройке. Я, возможно, последний в нашем деле, кто еще помнит про этот чертов жилет. Так что если такой, как я, видит женщину, которая ему нравится, в беде, он должен помочь, это единственное, что он должен сделать, так всегда считалось правильным, а если она отказывается от его помощи, то это вроде пощечины, неприятие того, что он собой представляет, и, как бы он к ней хорошо ни относился, ему ничего не остается, как уйти, вот и все. — Мне раньше никогда не приходилось слышать, чтобы ты выступал с речами, — сказала она. — А раньше нужды не было. Одновременно тронутая и раздосадованная его ультиматумом, Рейчел закрыла глаза и откинулась на сиденье, не зная, на что решиться. Она все еще крепко сжимала рулевое колесо, боясь, что, если отпустит его, Бен немедленно заметит, как сильно дрожат у нее руки. — Чего ты боишься, Рейчел? — снова спросил он. Она не ответила. — Ты знаешь, что случилось с телом, так? — Возможно. — И ты их боишься. Кто они, Рейчел? Ради Бога, кто может сделать подобное и зачем? Она открыла глаза, включила скорость и двинулась дальше. — Хорошо, ты можешь со мной поехать. — В дом Эрика? К нему в офис? Что мы там будем искать? — Вот об этом я еще не готова тебе рассказать. Он немного помолчал. — Ладно. Договорились. Будем двигаться шаг за шагом. Переживу. Она поехала на север по Мейн-стрит, потом свернула на Кателла-авеню и затем к востоку от Кателла к направлении богатого района Вилла-Парк, где среди холмов располагалось имение ее покойного мужа. Дома, мимо которых они проезжали, многие ценой более миллиона долларов, были едва видны в наступающих сумерках из-за густой зелени. Дом Эрика, спрятавшийся за огромными индийскими лаврами, казался еще темнее, чем другие. Даже в этот июньский вечер от него несло холодом, а многочисленные окна казались листами обсидиана, не пропускающими свет ни в ту, ни в другую сторону.Глава 6
БАГАЖНИК
Длинная дорожка, выложенная ржаво-красной мексиканской плиткой, огибала огромный дом Эрика, выстроенный в стиле испанского модерна, и скрывалась за ним там, где располагались гаражи. Рейчел припарковала машину у фасада здания. Хотя Бен Шэдвей любил настоящий испанский стиль с множеством арок и ниш, он не был поклонником испанского модерна. Возможно, некоторым и казались стильными и чистыми четкие линии, гладкие поверхности, большие зеркальные окна и полное отсутствие украшений, но он считал такую архитектуру скучной, безликой и похожей на дешевые коробки, которых столько понастроили на юге Калифорнии. Тем не менее, когда Бен вылез из машины и последовал за Рейчел по темной дорожке, покрытой мексиканской плиткой, потом через неосвещенную веранду, заставленную огромными глиняными сосудами с сочной желтой и белой азалией, готовой вот-вот распуститься, к парадной двери дома, он должен был признаться, что дом произвел на него впечатление. Он был гигантским, никак не меньше десяти тысяч квадратных футов жилой площади, и располагался на просторном, тщательно ухоженном участке. Оттуда открывался вид на большую часть округа Ориндж, расположенного к западу, — море огней, простирающееся на пятнадцать миль до самого океана. В ясный день отсюда, наверное, можно увидеть Каталину. Несмотря на отсутствие архитектурных излишеств, все вокруг говорило о богатстве. На слух Бена, даже сверчки, поющие в кустах, звучали здесь по-другому, не так пронзительно, более мелодично, как будто их микроскопические мозги были в состоянии осознать свое окружение и отнестись к нему с уважением. Бен знал, что Эрик Либен очень богат, но до сих пор не осознавал этого по-настоящему. Неожиданно он понял, что такое стоить более десяти миллионов долларов. Богатство Либена давило на Бена, как тяжелый груз. Пока ему не исполнилось девятнадцать, Бен Шэдвей не придавал большого значения деньгам. Его родители были не настолько богаты, чтобы заниматься капиталовложениями, но и не настолько бедны, чтобы f беспокоиться о том, как в следующем месяце уплатить по счетам. Они не были амбициозными людьми, так, что богатство как таковое никогда не обсуждалось в доме Шэдвеев. Однако к тому времени, как Бен отслужил два года в армии, деньги стали его единственной страстью: зарабатывать их, вкладывать, накапливать все больше и больше. Он любил деньги не ради денег. Ему даже было безразлично, какие роскошные вещи можно на них приобрести: импортные спортивные машины, прогулочные яхты, часы «Роллекс», костюмы за две тысячи долларов… Его это не привлекало. Он был доволен своим тщательно восстановленным «Тандербердом» 1956 года куда больше, чем Рейчел новым «Мерседесом», а костюмы он выбирал в отделе готового платья и магазине Гарриса и Франка. Некоторые люди любили деньги за ту власть, которую они им давали, но Бен был не больше заинтересован во власти, чем в изучении суахили. Деньги для него были вроде машины времени, которая позволит ему когда-нибудь совершать много путешествий в прошлое — в двадцатые, тридцатые и сороковые, которые его глубоко интересовали. Пока же он работал допоздна и без выходных. В ближайшие пять лет он надеялся превратить свою контору по продаже недвижимости в лучшую в округе Ориндж, затем все продать и на вырученное прожить большую часть оставшейся жизни, если не всю, вполне комфортабельно. Вот тогда он сможет вплотную заняться музыкой в стиле свинг, старыми фильмами, хорошо сработанными старыми детективами, которые он обожал, и коллекционированием миниатюрных поездов. Несмотря на то что почти треть того времени, которое так привлекало Бена, пришлось на период Великой депрессии, оно все равно казалось ему лучше, чем настоящее. В двадцатые, тридцатые и сороковые никто не слышал о террористах, ядерной угрозе и конце света, сколь-либо значительной уличной преступности, раздражающем ограничении скорости в пятьдесят миль в час, синтетике и искусственном пиве. К концу сороковых телевидение — этот ящик для идиотов, проклятие двадцатого века — еще не завоевало такой популярности. Сегодняшняя жизнь представлялась ему омутом, где смешались доступный секс, порнография, бездарная литература и бездумная, грубая музыка. По сравнению со всем этим вторая, третья и четвертая декады нашего века были такими чистыми и невинными, и ностальгия Бена неизменно переходила в меланхолическое сожаление, что он родился так поздно. Теперь же, когда только сверчки своим уважительным чириканьем нарушали мирную тишину поместья Эрика, а теплый ветер доносил запах жасмина, Бен почти поверил, что каким-то чудом перенесся в более спокойный и менее взбалмошный век. Впечатление портила только архитектура. И пистолет Рейчел. Он тоже здорово портил впечатление. Бен считал ее необыкновенно легкой женщиной, всегда готовой рассмеяться, редко раздражающейся и слишком уверенной в себе, чтобы ее можно было легко напугать. Только реальная и очень серьезная угроза могла заставить ее вооружиться. Прежде чем вылезти из машины, она достала пистолет из сумки и сняла его с предохранителя. Предупредила Бена, чтобы он был внимателен и осторожен, хотя и отказалась объяснить, к чему он должен проявить внимание и чего остерегаться. Страх ее был очевиден, но она не захотела поделиться с ним и облегчить себе душу. Она все еще продолжала ревниво охранять свою тайну. Он попытался сдержать раздражение, и не потому, что обладал ангельским терпением. Просто у него не было другого выбора, как позволить ей делать свои признания в том темпе, в каком она найдет нужным. У дверей Рейчел замешкалась с ключами, пытаясь открыть дверь в темноте. Уходя отсюда год назад, она оставила эти ключи у себя, чтобы иметь возможность позже вернуться и забрать свои вещи. Но это оказалось ненужным, потому что Эрик все упаковал и отослал ей с запиской, которую она нашла раздражающе наглой и где он выражал уверенность, что она вскоре поймет, какую глупость совершила, и будет искать примирения. Холодный, жесткий скрежет металлических ключей о замок почему-то напомнил Бену клацанье смертоносных мечей. Он заметил коробку охранной сигнализации с индикаторными глазками у двери, но система, по-видимому, не была включена, потому что ни один огонек на панели не горел. Рейчел все продолжала возиться с замком. Бен предположил: — Может быть, замки после твоего ухода сменили? — Сомневаюсь. Он был так уверен, что я вернусь рано или поздно. Эрик вообще был очень уверенным в себе человеком. Наконец Рейчел попала ключом в скважину. Замок открылся. Она распахнула дверь, заметно нервничая, протянула руку, зажгла свет в вестибюле и вошла в дом, держа пистолет наготове. Бен последовал за ней, чувствуя, что они поменялись ролями, что пистолет должен был бы держать он, и оттого ощущая себя несколько глупо. В доме стояла полная тишина. — Думаю, мы тут одни, — сказала Рейчел. — А кого ты ожидала встретить? — спросил Бен. Она промолчала. Несмотря на то что сама же предположила, что они тут одни, пистолет она не опустила. Они медленно переходили из комнаты в комнату, всюду включая свет, и интерьер этих комнат усиливал впечатление от дома. Большие, с высокими потолками, белыми стенами и огромными окнами, много воздуха, полы покрыты мексиканской плиткой, в некоторых комнатах камины из камня или из керамической плитки, дубовые шкафы отличной работы. Гостиная и примыкающая к ней библиотека без усилий вместили бы человек двести пятьдесят гостей, собравшихся на вечеринку. Мебель — голый модерн и строго функциональна, как и сама архитектура дома. Диваны и кресла обтянуты белой тканью без какого-либо рисунка. Кофейные и журнальные столики и столы, разбросанные то тут, то там, — тоже простые, отделанные блестящей эмалью, белой или черной. Предназначением этого строгого интерьера было создавать ненавязчивый фон для весьма эклектичной коллекции картин, антиквариата и современных произведений искусства. Каждый из этих предметов, представляющих порой большую ценность, искусно подсвечивался либо сбоку, либо с помощью закрепленных на потолке маленьких прожекторов. Над камином висело керамическое панно Уильяма де Моргана, выполненное, как сказала Рейчел, для царя Николая I. Неподалеку Бен увидел также сверкающее полотно Джексона Поллока и римский мраморный бюст первого века до нашей эры. Древнее было перемешано с современным, образуя непривычные, но впечатляющие сочетания. Вот панно Кирмана, относящееся к XIX веку и изображающее жизнь персидских шахов, рядом — смелая картина Марка Ротко, на которой нет ничего, кроме ярких цветных полос, и тут же — пара подставок из хрусталя, на которых установлены изысканные вазы династии Мин. Все поражало воображение и тревожило — больше похоже на музей, чем на дом, где живут люди. Хоть он и знал, что Рейчел была замужем за богатым человеком и стала очень богатой вдовой в это утро, Бен совсем не задумывался, как может повлиять ее богатство на их отношения. Теперь же ее новый статус смущал его и мешал, словно кость в горле. Богата. Рейчел была дьявольски богата. Впервые это обстоятельство стало иметь для него значение. Он сознавал, что ему надо присесть и как следует обдумать, а после поговорить с ней о значении такого количества денег и о том, к каким, возможно, совершенно неожиданным изменениям в их отношениях все это может привести. Однако было не место и не время обсуждать подобный вопрос, и он решил выбросить его на время из головы. Что было непросто. Состояние в несколько десятков миллионов, как сильный магнит, неизбежно притягивало воображение, вне зависимости от того, какие важные дела требовали сейчас внимания. — И ты жила здесь шесть лет? — недоверчиво спросил он, идя за ней через стерильные прохладные комнаты мимо аккуратно разложенных и развешанных экспонатов. — Да, — ответила она, несколько расслабляясь По мере того, как они проходили по дому, не встречая никакой опасности. — Шесть долгих лет. Они все шли через белые сводчатые покои, и с каждым шагом этот странный дом все больше напоминал собой громадный кусок льда, в который в результате какой-то катастрофы оказались вкраплены десятки великих произведений искусства. — Все это выглядит как-то… отталкивающе, — заметил Бен. — Эрику не нужен был настоящий дом. Я хочу сказать, уютный, такой, в котором можно жить. Он вообще не обращал внимания на то, что его окружает сейчас. Он жил в будущем. От этого дома только и требовалось, что служить памятником его успеху, поэтому он такой, каким ты его видишь. — Я надеялся узреть здесь что-то от тебя, хоть где-нибудь, но так ничего и не заметил. — Эрик не позволял вносить изменения в интерьер. — И ты с этим мирилась? — Да, я мирилась. — Не могу себе представить, что ты была счастлива в этом леденящем душу месте. — Ну, все было не так уж скверно. Правда. Здесь действительно есть великолепные вещи. Некоторые из них можно изучать часами… размышлять о них… и получать большое удовольствие, пожалуй, даже высокое наслаждение. Его всегда поражала способность Рейчел находить что-то позитивное даже в самых трудных обстоятельствах. Она умела извлечь всю возможную радость и удовольствие из ситуации и постараться не обращать внимания на неприятные аспекты. Ее характер, настоящий характер человека сегодняшнего дня, ориентированный на светлые стороны, был надежной защитой от превратностей жизни. В бильярдной, расположенной в глубине дома на первом этаже, окнами выходящей на бассейн, внимание сразу же привлекал резной стол конца XIX века с гнутыми ножками и бортами из настоящего тика, украшенными полудрагоценными камнями. — Эрик никогда не играл, — сказала Рейчел. — Кия никогда в руках не держал. Главное для него было, что этот стол — единственный в своем роде и стоит тридцать тысяч долларов. Верхний свет не нужен для игры, он просто показывает стол в выгодном ракурсе. — Чем больше я смотрю, тем лучше я его понимаю, — заметил Бен, — но тем меньше понимаю тебя: как ты вообще могла выйти за него замуж. — Я была молода, не уверена в себе, возможно, искала в нем отца, которого мне не хватало всю жизнь. Эрик отличался огромной самоуверенностью. Я видела в нем властного человека, способного создать нишу, этакую пещеру, которая бы обеспечила мне стабильность и надежность. Тогда мне казалось, что мне больше ничего не нужно. Ее слова можно было рассматривать как признание, что детство у нее было по меньшей мере нелегким, и это подтверждало подозрение, возникшее у Бена несколько месяцев назад. Рейчел редко рассказывала о своих родителях и школьных годах — должно быть, у нее остались такие горькие воспоминания, что они заставляли ее ненавидеть прошлое, не доверять сомнительному будущему и выработать защитную способность фокусировать свое внимание на всех больших и маленьких радостях, которые дарило ей настоящее. Он хотел было задать еще несколько вопросов, но не успел произнести ни слова, как атмосфера неожиданно изменилась. Чувство надвигающейся опасности, которое охватило их при входе в дом, постепенно исчезало, по мере того как они проходили одну пустынную комнату за другой и убеждались, что в доме нет никого постороннего. Рейчел перестала держать пистолет перед собой и опустила его дулом вниз. Но теперь это чувство опасности снова сгустилось. На подлокотнике дивана, на его снежно-белой обивке ярко выделялись темно-красные, похожие на кровь пятна — три четких отпечатка пальцев и части ладони. Рейчел наклонилась над диваном, чтобы рассмотреть пятна получше, и Бен заметил, что она вздрогнула. Потом сказала дрожащим шепотом: — Был здесь, черт побери. Этого я и боялась. О Господи! Что-то тут случилось. — Она дотронулась пальцем до отвратительного пятна и тут же отвела руку. Ее передернуло. — Влажное. Бог ты мой, оно влажное! — Кто был здесь? Что случилось? — спросил Бен. Рейчел уставилась на кончик своего пальца, того самого, которым дотронулась до пятна, и ее лицо исказилось. Она медленно подняла глаза и посмотрела на Бена, склонившегося над диваном вместе с ней; на мгновение он заметил дикий ужас в ее глазах и подумал, что она готова рассказать ему все и попросить о помощи. Но еще через секунду увидел, что она взяла себя в руки, и на ее очаровательном лице снова появилось решительное выражение. — Пошли, — предложила она. — Давай проверим остальные помещения. И ради Христа, будь осторожен. Она возобновила поиски. Он последовал за ней. И снова она держала пистолет наготове. В огромной кухне, оборудованной не хуже, чем в первоклассном ресторане, они наткнулись на разбросанное по полу битое стекло. Одно окно в стеклянной двери, выходящей на террасу, было выбито. — Зачем ставить сигнализацию, если ею не пользуешься, — заметил Бен. — С чего бы это Эрик ушел и оставил дом в таком состоянии, без охраны? Рейчел промолчала. — А разве у такого обеспеченного, человека, как Эрик, нет слуг, которые бы жили в доме постоянно? — спросил Бен. — Есть. Милая чета, у них квартира над гаражом. — А где они? Разве они не могли услышать, как сюда ломились? — У них в понедельник и вторник выходные, — ответила она. — Они часто ездят в Санта-Барбару навестить семью своей дочери. — Кража со взломом. — Бен слегка подтолкнул осколки на полу. — Ладно, теперь самое время позвонить в полицию. — Давай заглянем наверх, — проговорила она. В ее голосе он услышал что-то такое, что заставило его вспомнить о кровавых пятнах на белоснежном диване. Это был страх. И еще хуже: в нем появились ледяная суровость и мрачность, и Бен стал бояться, что она уже никогда больше не засмеется. Мысль о несмеющейся Рейчел была невыносимой. Они осторожно поднялись по лестнице в верхний холл и принялись проверять подряд все комнаты на втором этаже с осторожностью людей, разматывающих веревочный клубок, точно зная, что внутри притаилась ядовитая змея. Сначала ничего необычного они не обнаружили, все вроде было на своих местах, пока не вошли в главную спальню, где царил полный хаос. Содержимое всех шкафов — рубашки, брюки, свитера, ботинки, галстуки и остальное — разорванные, громоздились кучей на полу. Простыни, белое покрывало и подушки, из которых высыпалось перо, были сброшены с кровати. Матрас разодран и наполовину сдвинут в сторону. Две керамические лампы разбиты вдребезги, а сорванные с них абажуры, судя по всему, топтали ногами. Огромной ценности картины, сорванные со стен, превратились в лохмотья, не подлежащие восстановлению. Из двух изящных стульев в стиле Клисмос один был перевернут, а вторым, по-видимому, колотили по стене, пока он не превратился в груду щепок среди отбитых кусков штукатурки. Бен почувствовал, как руки покрылись мурашками, а по спине пробежал холодок. Сначала он было подумал, что весь этот кавардак устроил кто-то, методично разыскивающий ценности, но, приглядевшись, понял, что это не так. Виновник всей этой разрухи, вне сомнения, действовал в слепой ярости, дико метался по спальне либо в злобном экстазе, либо в припадке безумия или ненависти. Взломщик явно обладал большой силой при полном отсутствии здравого смысла. Кто-то странный. Кто-то безмерно опасный. Рейчел отправилась проверить ванную комнату, — должно быть, осмелела от страха. Но и там никого не было. Она вернулась в спальню бледная и дрожащая и осмотрела разрушения. — Взлом, проникновение в дом, а теперь еще и вандализм, — подвел итоги Бен. — Мне позвонить в полицию или ты сделаешь это сама? Она не ответила, а направилась в последнее из не-осмотренных помещений — большую кладовку. Вернулась через секунду и сказала, нахмурившись: — Стенной сейф открыт, и все исчезло. — Ну вот, еще и воровство. Надо позвонить в полицию, Рейчел. — Нет, — отозвалась она. Безнадежность, которая почти зримо окутала ее серым холодным облаком, проникла и в ее взгляд и закрыла тусклой пленкой обычно сияющие зеленые глаза. Бен был напуган этим тусклым безнадежным видом больше, чем ее страхом. Рейчел, его Рейчел, никогда не предавалась отчаянию, и ему было невыносимо видеть, как она сдалась на милость этому чувству. — Никакой полиции, — заявила она. — Почему? — спросил Бен. — Если ты привлечешь к этому делу полицию, меня убьют наверняка. Он недоуменно моргнул. — Что? Убьют? Кто? Полицейские? Что, черт побери, ты имеешь в виду? — Нет, не полицейские. — Тогда кто? И почему? Нервно обкусывая ноготь на большом пальце левой руки, она сказала: — Не надо было привозить тебя сюда. — Теперь тебе от меня не избавиться. Так что, может, самое время рассказать мне побольше? Не обращая внимания на его слова, она сказала: — Давай посмотрим в гараже, все ли машины на месте. — И быстро выбежала из комнаты. Ему ничего не оставалось, как поспешить за ней, невнятно протестуя. Белый «Роллс-Ройс», «Ягуар» того же зеленого цвета, что и глаза Рейчел. Два пустых места. За ними — запыленный, подержанный «Форд» десятилетней давности со сломанной антенной. — Здесь еще должен быть черный «Мерседес-560». — Голос Рейчел гулко раздавался в гараже. — Эрик ездил в нем на встречу с адвокатами сегодня утром. После несчастного случая… когда Эрик умер, Герб Тюлеман, его адвокат, обещал, что поручит кому-нибудь отогнать машину сюда и поставить в гараж. Он всегда выполняет свои обещания. Я уверена, машину вернули сюда. И теперь ее нет. — Украли, — бросил Бен. — Как долго надо продолжать список совершенных преступлений, чтобы ты согласилась позвонить в полицию? Рейчел прошла в конец гаража, где стоял разбитый «Форд», ярко освещенный лампами дневного света. — А эта вообще неизвестно как сюда попала. У Эрика нет такой машины. — Наверное, жулик на ней приехал, — предположил Бен. — Решил обменять ее на «Мерседес». Держа пистолет перед собой, с явной неохотой она открыла заскрипевшую дверцу «Форда» и заглянула внутрь. — Ничего. — А чего ты ожидала? — спросил Бен. Она открыла заднюю дверь и осмотрела сиденье. Опять ничего. — Рейчел, ты ведешь себя как молчаливый сфинкс, и это чертовски раздражает. Она вернулась к дверце водителя, которую открывала раньше. Снова открыла ее, заглянула за руль; увидела ключи в замке зажигания и взяла их. Лицо Рейчел было не просто обеспокоенным. Мрачное выражение делало его каменным, и казалось, что ему суждено остаться таким до конца ее дней. Бен прошел за ней к багажнику «Форда». — А теперь ты что ищешь? Возясь с ключами у багажника, она заметила: — Преступник не оставил бы его здесь, если бы машина могла привести к нему. Не оставил бы такой серьезной улики. Ни за что. Так, может, он приехал сюда в украденной машине, по которой нельзя на него выйти? — Возможно, ты и права, — согласился Бен. — Но в багажнике ты никаких документов на машину не найдешь. Давай посмотрим в бардачке. Рейчел вставила ключ в замок багажника: — Я и не ищу документы. — Что же ты ищешь? Поворачивая ключ, она ответила: — Я и сама не знаю. Только если… Замок щелкнул. Крышка багажника слегка приподнялась. Она открыла его полностью. На дне багажника темнела небольшая лужица крови. Рейчел издала слабый жалобный звук. Бен пригляделся и заметил в углу лежащую боком женскую голубую туфлю на высоком каблуке. В другом углу лежали женские очки, дужка которых была сломана, одно стекло отсутствовало, а другое разбито. — Милостивый Боже, — простонала Рейчел, — он не только украл машину, он убил женщину, которая ее вела. Убил и засунул в багажник, пока не представился случай избавиться от тела. И теперь что же будет? Чем это кончится? Кто остановит его? Хоть Бен и был глубоко потрясен тем, что они обнаружили, он все же понял, что, когда Рейчел сказала «его», она имела в виду отнюдь не неизвестного взломщика, а кого-то другого. У ее страха был более точный адрес.Глава 7
ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ
Две похожие на снежинки ночные бабочки кружились под потолком возле ламп дневного света и бились о холодное стекло в самоубийственной попытке добраться до огня. Их гигантские тени метались по стенам, по капоту «Форда» и руке, которой Рейчел закрывала лицо. Из открытого багажника «Форда» доносился явственный запах крови. Бен слегка отступил, чтобы не ощущать этого неприятного запаха. — Откуда ты знала? — спросил он. — Что знала? — переспросила Рейчел, не отнимая руки от лица. Она стояла, наклонив голову, и он мог видеть только копну медно-рыжих волос. — Ты знала, что мы можем найти в багажнике. Откуда? — Да нет. Я не знала. Я просто немного боялась, что мы можем найти… что-то. Что-то другое. Не это. — А чего ты ожидала? — Наверное, чего-то худшего. — Например? — Не спрашивай. — Я уже спросил. Мягкие тельца бабочек бились о наполненные огнем стеклянные трубки. Тук-тук-тук. Рейчел опустила руку, тряхнула головой и направилась прочь от потрепанного «Форда». — Пошли отсюда. Он удержал ее. — Нам обязательно нужно вызвать полицию. И ты должна сообщить им все, что знаешь о происходящем. А для начала тебе следует рассказать все мне. — Никакой полиции. — Рейчел либо не желала, либо была не в состоянии посмотреть на него. — Я до сих пор шел у тебя на поводу. Хватит. — Никакой полиции, — настаивала она. — Но ведь кого-то убили! — Тела же нет. — Господи, крови тебе мало? Она повернулась и наконец посмотрела ему прямо в глаза. — Бенни, пожалуйста, умоляю тебя, не спорь со мной. Нет у нас времени спорить. Если бы мы нашли тело этой несчастной женщины в багажнике, мы могли бы позвонить в полицию, потому что тогда у них было бы что-то реальное, за что можно зацепиться, и они работали бы быстрее. Но без тела они просто начнут задавать кучу вопросов, а тем ответам, которые я могу им дать, не поверят. И мы потеряем массу времени. А мы не можем себе этого позволить, потому что очень скоро меня начнут разыскивать… очень опасные люди. — Кто? — Если только меня уже не ищут. Вряд ли они знают, что тело Эрикаисчезло, но стоит им узнать, они тут же приедут сюда. Нам надо уходить. — Кто? — снова спросил он раздраженно. — Кто они? Что они ищут? Что им нужно? Ради Бога, Рейчел, расскажи мне. Она покачала головой. — Мы договаривались, что ты можешь поехать со мной, но я не обещала отвечать на твои вопросы. — Я тоже ничего не обещал. — Бенни, черт возьми, моя жизнь под угрозой. Она сказала это вполне серьезно, она действительно отчаянно боялась за свою жизнь, и этого было достаточно, чтобы сломить Бена и заставить его согласиться с ней. — Но полиция могла бы защитить тебя, — жалобно проговорил он. — Только не от тех людей, которые могут за мной охотиться. — Ты так говоришь, будто за тобой демоны гоняются. — По меньшей мере. Она быстро обняла его и легко поцеловала в губы. Было приятно чувствовать ее в своих объятиях. Будущее без нее пугало его. — Ты просто прелесть, — промолвила она. — Раз хочешь помочь мне. Но сейчас поезжай домой. Уходи. Позволь мне разобраться самой. — И думать забудь. — Тогда не вмешивайся. А сейчас пошли. Оторвавшись от него, Рейчел направилась через гараж в сторону двери, ведущей в дом. Бабочка отлетела от лампы и принялась кружиться перед ее лицом, как будто Рейчел в данный момент казалась ей светлее, чем лампа дневного света. Она отогнала ее. Бен захлопнул крышку багажника «Форда», оставив свежую кровь свертываться, а отвратительный запах сгущаться внутри тесного пространства. Потом он последовал за Рейчел. В дальнем конце гаража, около двери, ведущей в прачечную, она остановилась и уставилась на что-то, валяющееся на полу. Подойдя ближе, Бен увидел в углу кучку брошенной одежды, которую они не заметили, когда входили в гараж. Он разглядел пару белых туфель на резиновой подошве и с широкими белыми шнурками. Просторные зеленые хлопчатобумажные пианы на резинке. И свободную рубашку с короткими рукавами под стать штанам. Подняв взгляд от одежды, он увидел, что теперь лицо Рейчел было не просто бледным. Казалось, оно превратилось в пепел. Серое. Увядшее. Бен снова взглянул на брошенные тряпки и понял, что перед ним одежда, которую надевают хирурги, направляясь в операционную, и которую они называют медицинской формой. Когда-то такая форма была белой, но в последнее время хирурги предпочитают светло-зеленый цвет. И носят ее не только хирурги. Пользуются ею и многие другие работники больниц. Более того, совсем недавно он видел, что помощники патологоанатома и санитары в морге тоже были одеты в такую форму. Рейчел со свистом втянула воздух сквозь стиснутые зубы, встряхнулась и вошла в дом. Бен поколебался, внимательно глядя на брошенные тряпки. Казалось, его заворожили мягкий зеленый оттенок и случайные складки материала. Голова шла кругом. Сердце бешено стучало. Почти не дыша, он соображал, что бы все это могло означать. Когда он наконец вышел из оцепенения и поспешил за Рейчел, то почувствовал, что по лицу его катится пот.К зданию в Ньюпорт-Бич, где помещался Генеплан, Рейчел ехала чересчур быстро. Она умело управляла машиной, но Бен был рад, что пристегнулся. Он ездил с ней и раньше и знал, что вождение машины было для нее одним из самых больших удовольствий: ее возбуждала скорость, нравилась послушность «Мерседеса». Но сегодня она слишком спешила, чтобы получать удовольствие от езды, и хотя нельзя было сказать, что лихачила, но брала некоторые повороты на такой скорости и меняла ряды так резко, что говорить об осторожности не приходилось. — У тебя что, такие неприятности, что нельзя обращаться в полицию? — спросил он. — Так? — Ты хочешь спросить, не боюсь ли я, что полицейские могут что-то найти против меня? — Да. — Нет, — ответила она без колебаний. По ее тону чувствовалось, что она говорит правду. — Потому что, если ты каким-то образом связалась с дурными людьми, то никогда не поздно пойти на попятный. — Да нет, ничего такого. — Прекрасно. Рад слышать. Слабого света от панели приборов хватало только на то, чтобы мягко осветить лицо Рейчел, но недостаточно, чтобы разглядеть на нем напряжение и нездоровую серость. Она выглядела такой, какой Бен всегда представлял ее, когда они не были вместе, — сногсшибательной. Если бы не обстоятельства и не цель их поездки, момент мог бы казаться выхваченным из идеального сна или одного из его любимых старых фильмов. Ведь что может быть более захватывающим или утонченно эротичным, чем мчаться вместе с потрясающей женщиной в мощной спортивной машине сквозь ночь к какой-то романтической цели, где они смогут сменить кожу удобных сидений на прохладные простыни, будучи подготовлены возбуждающе быстрой ездой к необыкновенно страстной любви. — Я ничего плохого не сделала, Бенни, — заверила она. — Я так и не думал. — Ты спрашивал… — Я должен был спросить. — Я тебе напоминаю преступницу? — Ты мне напоминаешь ангела. — Мне не тюрьма грозит. Худшее, что может случиться, — я могу стать жертвой. — Я скорее умру, чем это допущу. — Ты ужасно милый, правда. — Она отвела взгляд от дороги и умудрилась слегка улыбнуться. — Очень милый. Они подъехали к Генеплану в половине двенадцатого. Организация доктора Эрика Либена располагалась в четырехэтажном здании из стекла и бетона в богатом районе в Ньюпорт-Бич на Джамбори-роуд. Это был нарочито асимметричный шестиугольник, каждая из сторон которого, имела разную длину, со стильным, модернистским подъездом из мрамора и стекла. Бену вообще-то такая архитектура не нравилась, но он вынужден был неохотно признать, что в этом есть определенная привлекательная смелость. Автомобильная стоянка была разбита на отдельные участки с помощью решеток, увитых геранью с обилием винно-красных и белых цветов. Здание окружала довольно обширная зеленая зона с живописными группами пальм. Даже в такой поздний час и здание, и деревья, и все вокруг освещалось хитроумно спрятанными светильниками, придающими всему вид слегка театральный и значительный. Рейчел повернула за угол здания, где короткая дорожка привела их к большой бронзового цвета двери, которая, по-видимому, поднималась, чтобы пропустить машины, доставляющие грузы, на внутреннюю площадку в подвале. Они съехали вниз и припарковали автомобиль у самой двери, где с обеих сторон поднимались бетонные стены. — Если кому-нибудь придет в голову, что я могу сюда приехать, и если они будут искать мою машину, то здесь они нас не заметят, — проговорила Рейчел. Вылезая из машины, Бен обратил внимание, насколько прохладнее и приятнее было здесь, в Ньюпорт-Бич, чем в Санта-Ане или Вилла-Парке. И хотя до океана было больше двух миль, не слышался плеск волн и не чувствовался запах водорослей и соленой воды, влияние его все равно сказывалось. Рядом с большой дверью находилась маленькая, в рост человека, тоже ведущая в подвал. Она была закрыта на два замка. Еще живя с Эриком, Рейчел часто ездила в Генеплан, выполняя его поручения, если ему самому было некогда или он по каким-то причинам не хотел доверить это задание своему подчиненному. Так что у нее были ключи от этой двери. Но, уходя от мужа, она положила их на столик в холле дома в Вилла-Парке. Сегодня она нашла их, покрытых пылью, точно на том же месте, где оставила год назад, — на столике рядом с высокой японской вазой XIX века. По всей видимости, Эрик приказал прислуге не прикасаться к ним. Должно быть, он полагал, что эти ключи станут еще одним поводом для унижения Рейчел, когда она приползет просить прощения. К счастью, она лишила его этого удовольствия. Вне всякого сомнения, Эрик Либен был в высшей степени надменным поганцем, и Бен порадовался, что им не пришлось встречаться. Рейчел открыла стальную дверь, вошла в здание и зажгла свет в небольшом складском помещении. На стене находился пульт охранной сигнализации. Она нажала несколько кнопок. Пара красных индикаторов погасла, и зажегся зеленый глазок, показывающий, что система отключена. Бен прошел за Рейчел в конец помещения, к следующей двери, возле которой был еще один пульт системы сигнализации, независимый от того, что охранял наружную дверь. Рейчел еще раз набрала кодовое число. — Первый код — дата рождения Эрика, этот — моего, — объяснила она. — Там впереди еще несколько. Освещая путь фонариком, который Рейчел захватила с собой, они пошли дальше. Рейчел не хотела включать верхний свет, чтобы с улицы не заметили, что в здании кто-то есть. — Но ты же имеешь полное право здесь находиться, — заметил Бен. — Ты его вдова и почти наверняка все унаследуешь. — Да, но если мимо проедут не те люди и увидят свет, они поймут, что здесь я, и попытаются меня убить. Ему безумно хотелось узнать, что это за «не те люди», но у него хватило соображения воздержаться от вопросов. Рейчел шла быстро, чтобы скорее добраться до того, что привело ее сюда, и как можно скорее уйти. Вряд ли у нее здесь окажется больше желания отвечать на его вопросы, чем в доме в Вилла-Парке. Следуя за ней до конца подвала к лифту, на котором они поднялись затем на третий этаж, Бен все больше изумлялся той великолепной охранной системе, что была приведена в действие после окончания рабочего дня. Пришлось отключить еще одну сигнализацию, прежде чем вызвать лифт в подвал. На третьем этаже они вышли в приемную, где тоже была своя система охраны. В узком луче фонарика Рейчел Бен разглядел красивый бежевый ковер, потрясающий стол из коричневого мрамора и бронзы для секретаря, полдюжины стульев для посетителей, кофейные столики из бронзы и стекла и три большие картины с изображением чего-то потустороннего, которые вполне могли принадлежать кисти Мартина Грина. Но даже если бы фонарь и не светил, невозможно было не заметить в темноте кроваво-красных огоньков сигнальной системы. Из приемной веди три литые бронзовые двери, и около каждой из них горел красный огонек индикатора. — Это еще пустяки, если сравнить с мерами предосторожности на четвертом и пятом этажах, — заметила Рейчел. — А что там? — Компьютеры и дубликаты всех данных исследований. Там на каждом дюйме какие-нибудь детекторы — инфракрасные, звуковые и такие, которые улавливают движение. — Мы туда пойдем? — К счастью, нам туда не нужно. И нам не придется, слава Богу, ехать в округ Риверсайд. — А там что? — Там сами лаборатории. Все расположено под землей, и не только для биологической изоляции, но и для лучшей защиты от промышленного шпионажа. Бен знал, что Генеплан является лидером в быстро развивающейся области, в которой во всем мире существует бешеная конкуренция. Яростная гонка, чтобы оказаться на рынке первыми с новым товаром, помноженная на природную азартность людей, занятых в этой отрасли, — все это заставляло их охранять свои секреты и результаты исследований с тщательностью, граничащей с паранойей. Тем не менее здешняя изощренная система охранной сигнализации потрясла его. Это уже были не меры предосторожности, а способ существования людей в постоянной осаде. Доктор Эрик Либен являлся специалистом по рекомбинантным ДНК, одним из наиболее талантливых ученых быстро развивающейся науки сцепления генов. И Генеплан представлял собой одну из компаний на передовой линии чрезвычайно доходного биобизнеса, который возник на базе этой науки в конце семидесятых годов. Эрику Либену и Генеплану принадлежали чрезвычайно ценные патенты на целый ряд микроорганизмов и новых линий растений, созданных при помощи методов генной инженерии, включая микроб, который мог производить высокоэффективную вакцину против гепатита, в настоящее время находящуюся на рассмотрении в фармацевтическом департаменте (однако не было сомнений, что она наверняка будет одобрена и поступит в продажу меньше чем через год); еще один искусственно созданный микроб, вырабатывающий супервакцину против всех типов вируса герпеса; новый сорт пшеницы, которая дает прекрасный урожай, даже если ее поливают соленой водой, что позволяет фермерам выращивать ее на засушливых землях, расположенных не слишком далеко от океана, и воду для полива качать оттуда; новое семейство слегка видоизмененных апельсинов и лимонов, имеющих генетическую защиту от плодовых вредителей и разных болезней, что делает ненужным обработку цитрусовых плантаций пестицидами. И каждый из этих патентов, а это далеко не все, что было на счету компании Эрика, стоил десятки, а то и сотни миллионов долларов. Так что, подумав, Бен рассудил, что, пожалуй, было правильным потратить небольшое состояние для охраны исследовательских данных, приведших к созданию каждого из этих золотоносных приисков. Рейчел подошла к средней из трех дверей, отключила сигнализацию и ключом открыла замок. Когда Бен последовал за ней и закрыл за собой дверь, он обнаружил, что она необыкновенно тяжелая и, не будь она установлена на тщательно сбалансированных шарнирах, ее бы не сдвинуть с места. Рейчел провела его через несколько темных и пустынных коридоров к двери, ведущей в личный кабинет Эрика. Здесь ей потребовалось набрать еще один код, чтобы войти. Попав наконец в святая святых, она быстро пересекла кабинет, застеленный старинным китайским ковром в розовых и бежевых тонах, и подошла к письменному столу Эрика. Как и все в приемной, это также было ультрамодерновое сооружение, только еще более дорогое и поражающее воображение, из редкого, в золотых прожилках мрамора и полированного малахита. При свете яркого, но узкого луча фонарика можно было разглядеть только центральную часть большой комнаты, так что Бен вынес туманные и случайные впечатления о ее интерьере. Он показался ему еще более модернистским, чем во всех других обителях Эрика, даже слегка футуристским. Проходя мимо стола, Рейчел положила на него свою сумочку и пистолет и прошла к задней стене. Бен подошел и встал рядом. Она осветила фонарем квадратную картину, четыре на четыре фута: широкие полосы блеклого желтого и удручающего серого цвета, разделенные тонкими темно-красными полосками. — Еще один Ротко? — спросил Бен. — Ага. И кроме того, что это предмет искусства, картина выполняет еще одну функцию. Она просунула пальцы под полированную стальную рамку, что-то нащупывая в нижней ее части. Раздался щелчок, и картина отошла от стены, на которой была прочно закреплена. За ней обнаружился большой сейф, на круглой дверце которого сверкали наборный диск и ручка. — Примитивно, — заметил Бен. — Не скажи. Это тебе не просто стенной сейф. Стенки из стали толщиной в четыре дюйма, передняя панель и дверца — шесть дюймов. И сейф не просто вставлен в стену, он приварен к стальным балкам самого здания. Требуется целые две кодовые комбинации, одна по часовой стрелке, другая — против. Несгораемый, да и, по сути дела, взрывостойкий. — И что он там хранит — смысл жизни? — Какие-то деньги, наверное, как и в домашнем сейфе. — Рейчел передала Бену фонарик. Потом повернулась и начала набирать первый код. — Важные бумаги. Он направил луч фонарика на дверцу сейфа. — Ладно, а нам-то что нужно? Наличные? — Нет. Папка. Возможно, записные книжки. — И что там? — Основные данные по важному исследовательскому проекту. Краткие сведения по последним результатам, включая копии текущих отчетов Моргана Льюиса Эрику. Льюис возглавляет этот проект. И если нам повезет, мы найдем здесь также личный дневник Эрика. Там все его практические и философские соображения по поводу проекта. Бен удивился, получив ответ на свой вопрос. Может быть, она собралась наконец рассказать ему все с кои секреты? — А что за проект? — спросил он. — Какой особой теме он посвящен? Рейчел не ответила, только вытерла потные пальцы о блузку, прежде чем начать набирать первую цифру второго кода. — Так что за проект? — настаивал он. — Мне надо сосредоточиться, Бенни, — сказала она. — Если я ошибусь хоть в одной цифре, мне придется начать все сначала, включая первый код. Похоже, больше ему пока ничего не узнать, придется довольствоваться тем, что она вообще упомянула про папку. Но Бену надоело бездельничать, а единственное, что он мог делать, это поднажать на нее, и поэтому он спросил: — По-видимому, существуют сотни папок по поводу десятков исследовательских проектов, так что, если здесь он хранит только одну, она должна касаться чего-то самого важного, что делается в Генеплане. Прищурившись и от усердия закусив кончик языка зубами, Рейчел сосредоточила все внимание на диске. — Чего-то здорово большого, — продолжал Бен. Она промолчала. . — А возможно, это делается для правительства, для военных, — не отступал он. — Тогда это что-то крайне секретное. Рейчел набрала последнюю цифру, повернула ручку и открыла маленькую стальную дверцу. — Черт! — воскликнула она. Сейф был пуст. — Они побывали здесь раньше нас. — Кто? — потребовал ответа Бен. — Они, верно, подозревали, что я в курсе. — Кто подозревал? — Иначе они не стали бы так спешить избавиться от папки, — добавила она. — Кто? — повторил свой вопрос Бен. — Сюрприз, — раздался мужской голос за их спинами. Рейчел ахнула, а Бен стремительно повернулся, чтобы разглядеть владельца голоса. В свете фонарика он увидел высокого лысого мужчину в светло-бежевом спортивном костюме и зеленой в белую полоску рубашке. На голове не было ни единого волоса, так что скорее всего он ее брил. Квадратное лицо, крупный рот, нос с горбинкой. Скулы славянина и серые глаза с оттенком грязного льда. Он стоял по другую сторону письменного стола. Бену он напомнил покойного кинорежиссера Отто Преминджера. Утонченный, несмотря на спортивный костюм. Вне сомнения, умный. Потенциально опасный. Он забрал пистолет, который Рейчел оставила на столе вместе с сумочкой, когда они пришли в кабинет. Хуже того, мужчина держал в руке боевой «магнум-19», Бен был хорошо знаком с этим револьвером и глубоко уважал его. Тщательно сработанный, со стволом в четыре дюйма, он заряжался патронами «магнум-357», весил тридцать пять унций[103] и был таким мощным и точным, что с ним можно было охотиться на оленей. Заряженный пулями со срезанной головкой или с оболочкой, пробивающей броню, он являлся одним из самых смертоносных револьверов в мире, пожалуй, даже самым смертоносным. В свете фонарика глаза незваного гостя странно поблескивали. — Да будет свет, — сказал лысый, слегка повышая голос, и мгновенно комнату залил яркий свет потолочных ламп, скорее всего включавшихся голосом, фокус, вполне соответствующий пристрастию Эрика Либена к ультрасовременным конструкциям. — Винсент, — попросила Рейчел, — убери револьвер. — Боюсь, что это невозможно, — ответил он. Несмотря на полное отсутствие волос на голове, тыльная сторона его крупной ладони была покрыта густыми волосами, почти шерстью, даже на пальцах и между ними. — В насилии нет надобности, — проговорила Рейчел. Угрюмая улыбка Винсента Бареско сделала его лицо холодным и злобным. — Разве? Наверное, поэтому ты и принесла с собой оружие. — Он поднял ее пистолет. Бен знал, что отдача у «магнума» была в два раза сильнее, чем у револьвера сорок пятого калибра. Несмотря на заложенную в нем великолепную меткость, он мог быть и дико неточным в руках неопытного стрелка, не готового к резкой отдаче. Если лысый недооценивает огромную мощность револьвера и если он неопытен, то наверняка выпустит первую пару зарядов в стену высоко над их головами, а это может дать Бену время броситься на него и выхватить оружие. — Мы не верили, что Эрик окажется настолько легкомысленным, что расскажет тебе о проекте «Уайлдкард», — проговорил Винсент. — Но, судя по всему, он это сделал, несчастный дурачок, иначе тебя бы здесь не было и ты бы не копалась в его сейфе. Хоть он подчас и обращался с тобой скверно, Рейчел, он все равно испытывал к тебе слабость. — Он был слишком горд, — сказала она. — Мне жаль его. Особенно сейчас. Винсент, а ты знал, что он нарушил основное правило? Винсент покачал головой: — До сегодняшнего дня… не знал. Чистое безумие с его стороны. Внимательно наблюдая за лысым, Бен с огорчением пришел к выводу, что тот умеет обращаться с «магнумом» и отдача не застанет его врасплох. Он держал револьвер со знанием дела: крепко сжимая его правой рукой, рука слегка вытянута, локоть зафиксирован, дуло направлено четко между Беном и Рейчел. Ему оставалось только сдвинуть его на пару дюймов в любую сторону и покончить с одним или обоими сразу. Рейчел, которая не знала, что Бен в подобных ситуациях может быть полезнее, чем она думает, вновь обратилась к лысому: — Брось чертов пистолет, Винсент. Нам не нужно оружие. Мы теперь все будем делать вместе. — Нет, — возразил Винсент. — Нет, с точки зрения остальных, ты не с нами. И не должна была ничего знать. Мы не доверяем тебе, Рейчел. И этому твоему приятелю… Взгляд грязно-серых глаз переместился с нее на Бена. Пронизывающий и безжалостный. И хотя он скользнул по нему, почти не задержавшись, Бен почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Не сумев распознать в Бене более опасного противника, чем можно предположить по его внешности, Винсент снова перевел взгляд на Рейчел. — Он совершенно посторонний человек. Уж если мы не хотим, чтобы в этом деле участвовала ты, то о нем просто не может быть и речи. Для ушей Бена это заявление прозвучало так же зловеще, как смертный приговор, и тогда он сделал рывок, изящности и стремительности которого позавидовала бы даже нападающая змея. Рискнув предположить, что свет в кабинете выключается тоже просто определенным голосовым сигналом, он крикнул: «Да будет тьма!» В комнате мгновенно стало темно, и в ту же секунду он швырнул фонарик в голову Винсента, но, Господи спаси и помилуй, тот уже повернулся, чтобы выстрелить в него. Рейчел закричала. Бен очень надеялся, что она догадалась упасть на пол. А сам он через долю секунды после того, как выключился свет и он швырнул фонарь, уже сделал бросок через малахитовый стол, прямо на Винсента. Теперь он должен был действовать, назад пути не было, и все происходило как в фильме, идущем в ускоренном темпе, хотя внутреннее объективное ощущение времени настолько замедлилось, что каждая секунда воспринималась как минута. И тут то старое, что он старался забыть, но что давно стало его неотъемлемой частью, вновь завладело его мозгом, он превратился в агрессивного зверя. В следующую секунду произошло чертовски много: Рейчел продолжала громко кричать, Бен ехал на животе по малахиту, фонарь крутился в воздухе, из дула «магнума» вылетело бело-голубое пламя, Бен почувствовал, как пуля едва не задела его по волосам, услышал за грохотом выстрела, как она просвистела мимо — ззззззз, — ощутил холод полированного малахита сквозь рубашку. Фонарик попал Винсенту в голову как раз одновременно с выстрелом и продвижением Бена по столу, Винсент хрюкнул при ударе, фонарь отскочил и упал на пол, свет его остановился на шестифутовой абстрактной бронзовой скульптуре, Бен к тому времени скатился со стола, столкнувшись с противником, и оба свалились на пол. Еще один выстрел. Пуля ушла в потолок. В темноте Бен распластался на Винсенте, но сохранил интуитивную ориентировку, что позволило ему поднять колено и со всей силой ударить противника в пах. Винсент заорал громче Рейчел. Бен еще раз без всякого милосердия, зная, что не может его себе позволить, засадил ему коленом, потом ударил его ребром ладони по горлу, оборвав крик, затем в правый висок, раз, еще раз, сильнее, изо всех сил, тут раздался третий выстрел, оглушающий, и Бен ударил еще раз. И только тогда пистолет упал на пол из внезапно обмякшей руки Винсента, и, задыхаясь, Бен произнес: — Да будет свет! Мгновенно свет залил комнату. Винсент находился в полной отключке, прерывисто, с хлюпаньем дыша сквозь поврежденное горло. В воздухе пахло порохом и горячим металлом. Бен скатился с лежащего без сознания Винсента, на четвереньках добрался до «магнума» и с облегчением схватил его. Рейчел рискнула вылезти из-за стола. Наклонилась и подобрала свой пистолет, который Винсент тоже выронил. Одарила Бена взглядом, в котором смешались шок, изумление и недоверие. Он снова подполз к Винсенту и осмотрел его. Пальцем поднял одно веко, потом другое, проверяя, нет ли неравномерного сужения зрачков, что говорило бы о серьезном сотрясении мозга или какой-нибудь иной мозговой травме. Осторожно осмотрел правый висок, куда он дважды ударил его ребром ладони. Пощупал горло. Убедился, что лысый хоть и с трудом, но дышит, так что травма скорее всего не очень серьезная. Взял руку, нащупал пульс, посчитал его. Вздохнув, заметил: — Слава тебе, Господи, жить будет. Иногда трудно рассчитать, сколько силы достаточно… а сколько многовато. Но он не умрет. Некоторое время пробудет без сознания, а когда придет в себя, ему понадобится врач, но к нему он сможет добраться самостоятельно. Потерявшая дар речи Рейчел во все глаза смотрела на Бена. Он взял подушку с кресла и подложил ее под голову Винсента, распрямив таким образом трахею на случай внутреннего кровотечения. Затем быстро обыскал Винсента, но папки с проектом «Уайлдкард» не обнаружил. — Он, верно, приходил сюда не один. Они открыли сейф и забрали содержимое, а он остался поджидать нас. Рейчел положила руку ему на плечо. Он поднял голову и встретился с ней взглядом. — Бенни, черт побери, ты же всего только торговец недвижимостью. — Ну да. — Он как будто не понимал подтекста в этом вопросе. — И чертовски неплохой. — Но… как ты с ним расправился… как ты… так быстро… жестоко… так уверенно… С почти болезненным удовлетворением он наблюдал, как она медленно осознавала, что не только у нее есть тайны. Решив жалеть ее не больше, чем она до сих пор жалела его, — пусть помирает от любопытства, — Бен сказал: — Пошли. Давай убираться отсюда ко всем чертям, пока никто не объявился. Я в этих грязных играх мастер, но это не значит, что я получаю от них удовольствие.
Глава 8
НА ПОМОЙКЕ
Когда старый пьяница в засаленных штанах и драной гавайской рубашке забрел в тупичок, заставленный пустыми ящиками, и вскарабкался на мусорный контейнер в поисках Бог весть каких сокровищ, оттуда выскочили две крысы, перепугав его. Он свалился с самодельной лестницы, едва успев разглядеть лежащее на мусоре тело мертвой женщины в летнем кремовом платье с синим поясом. Пьяницу звали Перси. Фамилии своей он не помнил. — Не уверен, что она у меня вообще была, — сказал он, когда немного погодя Вердад и Хагерсторм допрашивали его тут же в тупичке. — Честно говоря, я уж и не припомню, когда я ею последний раз пользовался. Наверное, какая-то была, но память уже не та, и все из-за этого дешевого вина, этого зелья — единственного дерьма, которое я могу купить. — Ты думаешь, этот придурок убил ее? — спросил Хагерсторм Вердада с таким видом, как будто алкаш мог их слышать, только если они обращались к нему непосредственно. Рассматривая Перси с глубоким отвращением, Вердад ответил таким же тоном: — Не похоже. — Ну да. А если он и видел что-то важное, то все равно не понял, что к чему, и наверняка уже забыл. Лейтенант Вердад промолчал. Будучи иммигрантом, выросшим в куда менее благополучной и справедливой стране, чем та, которой он поклялся в верности, он не понимал таких пропащих людей, как Перси, и не умел быть с ними терпеливым. Родившись гражданином Соединенных Штатов, что в глазах Вердада было бесценным преимуществом, как мог такой человек отвернуться от всех открывающихся ему возможностей и выбрать деградацию и нищету? Джулио знал, что должен более сочувственно относиться к таким парням, как Перси. Возможно, этот человек страдал, пережил какую-то трагедию, может быть, его обделила судьба или жестокие родители. Выпускник психологического отделения полицейской академии, Джулио был хорошо натаскан в таких вопросах, как психологические и социологические аспекты философии парии-жертвы. Но ему легче было понять ход мыслей существа с Марса, чем такого вот пропащего человека. Потому он устало вздохнул, поддернул обшлага своей белой шелковой рубашки и поправил жемчужные запонки сначала на правой руке, потом на левой. — Знаешь, мне иногда кажется, — продолжал Хагерсторм, — что это закон природы: каждый потенциальный свидетель в этом городе оказывается пьяницей, который к тому же три недели не подходил к ванне. — Если бы наша работа была легкой, — заметил Вердад, — мы бы ее так не любили, верно? — Верно. Господи, ну и воняет же от него! Перси, казалось, не замечал, что говорят о нем. Он отлепил кусок какого-то мерзкого мусора, прилипшего к рукаву его гавайской рубашки, громко, раскатисто рыгнул и вернулся к теме своих подпорченных мозгов: — Дешевое пойло сушит мозги. Богом клянусь, я думаю, мой мозг ссыхается на немного каждый день, а в пустые места набиваются всякие волосы и мокрые старые газеты. Я думаю, ко мне подкрадывается кошка и плюет мне волосами в уши, когда я сплю. — Он говорил совершенно серьезно и явно побаивался этого смелого и хитрого животного. Несмотря на то что Перси не мог вспомнить своей фамилии или чего-либо еще путного, у него хватило серого вещества, затерявшегося между волосами и мокрыми старыми газетами, чтобы сообразить, что, найдя труп, надо немедленно позвонить в полицию. Хоть его вряд ли можно было причислить к столпам общества или даже просто порядочным, законопослушным гражданам, он немедленно кинулся искать представителей власти. Он подумал, что может получить вознаграждение за то, что нашел труп на помойке. Лейтенант Вердад прибыл на место вместе со специалистами из отдела криминальных исследований час назад. Оставив тщетные попытки допросить Перси, он наблюдал, как техники устанавливают осветительные приборы. И увидел, как из помойного ящика выскочила крыса, потревоженная помощниками следователя, которые как раз начали извлекать мертвую женщину из мусорного контейнера. Шкура у крысы была вся в грязи, хвост длинный, розовый и мокрый. Отвратительное создание рванулось вдоль стены здания к выходу из тупика. Джулио потребовалось все его самообладание, чтобы не вытащить пистолет и не выстрелить в крысу. Она подбежала к проломанной канализационной решетке и скрылась. Джулио ненавидел крыс. Один их вид разрушал его собственное представление о себе как американском гражданине и офицере полиции, созданное девятнадцатью годами усердного труда. Когда он видел крысу, с него сразу же слетало все, чего он достиг почти за два десятилетия, и он снова становился жалким маленьким Джулио Вердадом из трущоб Тайджуаны, где он родился в халупе из обломков досок, ржавых бочек и рубероида. Если бы право на проживание там зависело от простого количества, то халупой владели бы крысы, которые в несколько раз превосходили числом семерых членов семейства Вердад. Наблюдая за этой крысой, убегающей от яркого света в тень и дальше, к канализационной решетке, Джулио чувствовал себя так, будто его хороший костюм, сшитая на заказ сорочка и туфли от Бэлли каким-то магическим образом становятся выношенными до дыр джинсами, потрепанной рубашкой и старыми сандалиями. По нему пробежала дрожь, и неожиданно он снова превратился в пятилетнего мальчика, стоящего на пороге душной халупы ярким августовским днем и в ужасе уставившегося на двух крыс, что деловито грызли горло его четырехмесячного брата Эрнесто. Все остальные члены семьи были на улице, сидели группками в тени у пыльной дороги, обмахиваясь от жары. Дети тихо играли и время от времени пили воду, а взрослые освежались пивом, которое по дешевке купили у двух молодых ladrones[104], накануне удачно ограбивших склад пивного завода. Маленький Джулио попытался закричать, позвать на помощь, но не мог издать ни звука, как будто влажный августовский воздух не давал словам и крику вырваться наружу. Заметив его, крысы нахально повернулись в его сторону и зашипели, и даже когда он кинулся вперед, яростно размахивая руками, они только неохотно попятились, причем одна из них успела укусить мальчика за левую руку. Он закричал и набросился на крыс с еще большей яростью и наконец сумел их прогнать. Джулио продолжал кричать и тогда, когда с залитой солнцем улицы прибежали его мать и старшая сестра Эвелина. Они нашли Джулио отчаянно пытающимся стереть кровь с руки, как будто то было позорное пятно, а его маленького брата мертвым. У Риза Хагерсторма, который был напарником Вердада достаточно давно и знал о его ужасе перед крысами, хватало такта не упоминать об этом ни намеком, ни в открытую. Чтобы отвлечь Джулио, он положил руку на его хрупкое плечо и сказал: — Знаешь, дам-ка я Перси пять баксов и скажу, чтобы отваливал. Он к этому не имеет никакого отношения, мы больше из него ничего не выудим, а от его вони меня уже тошнит. — Валяй, — согласился Джулио. — С меня два пятьдесят. Пока Риз разбирался с алкашом, Джулио смотрел, как из помойки вытаскивают мертвую женщину. Он старался убедить себя, что она ненастоящая, просто большая тряпичная кукла, а может, это действительно кукла, например, манекен, просто манекен. Но то была неправда. Она выглядела вполне настоящей. Черт, она выглядела слишком настоящей. Они положили ее на расстеленный на асфальте брезент. Фотограф сделал еще несколько снимков в свете переносных приборов, и Джулио подошел поближе. Мертвая женщина была молодой темноволосой мексиканочкой лет двадцати с небольшим. Несмотря на то, что сделал с ней убийца, несмотря на налипшую грязь и трудолюбивых крыс, не составляло труда догадаться, что она была привлекательной, если не красивой. Она встретила свою смерть в кремовом платье с голубым кантом на воротнике и рукавах и синим поясом и в голубых туфлях на высоких каблуках. Сейчас на ней была всего одна туфля. Вероятно, вторая осталась в контейнере. Было что-то невыносимо печальное в ее веселом платьице и одной босой ноге с тщательно накрашенными ногтями. По указанию Джулио двое полицейских в штатском надели резиновые сапоги, пропитанные пахучим веществом хирургические маски и залезли в контейнер, чтобы перерыть весь мусор в поисках второй туфли и всего остального, что могло иметь отношение к делу. Они нашли сумочку убитой женщины. Ее не ограбили, потому что сорок три доллара остались нетронутыми. Если верить ее водительскому удостоверению, ее звали Эрнестина Фернандес, было ей двадцать четыре года и жила она в Санта-Ане. Эрнестина. Джулио вздрогнул. Его пробрал холод от сходства ее имени с именем его давно умершего брата Эрнесто. И ребенка и женщину оставили крысам; Джулио не знал Эрнестину, но, как только ему назвали ее имя, он немедленно почувствовал себя в глубине души в долгу перед ней, хотя и не смог бы объяснить причину. «Я найду твоего убийцу, — молча пообещал он ей. — Ты была так хороша и так рано умерла, и, если есть в мире справедливость и надежда, что всякая жизнь имеет смысл, твой убийца не уйдет безнаказанным. Клянусь тебе, если мне даже придется пойти на край света, я найду твоего убийцу». Тем временем в помойке обнаружился испачканный кровью лабораторный халат, такой, какие носят врачи. На нагрудном кармане были вышиты слова: «ГОРОДСКОЙ МОРГ САНТА-АНЫ». — Какого дьявола? — удивился Риз Хагерсторм. — Кто-то из морга перерезал ей горло? Нахмурившись, Джулио Вердад молча рассматривал халат. Потом служащий из лаборатории аккуратно свернул халат, стараясь не стряхнуть волосы или нитки, которые могли к нему прилипнуть, уложил в пластиковый пакет и плотно его завязал. Еще через десять минут полицейские, копающиеся в помойке, нашли острый скальпель со следами крови на лезвии. Дорогой, прекрасно сделанный инструмент, каким пользуются в операционных. Или в кабинете патологоанатома. Скальпель тоже сунули в пластиковый пакет, который положили около тела, уже закрытого покрывалом. К полуночи они так и не нашли вторую голубую туфлю женщины. Но в контейнере оставалось еще дюймов шестнадцать мусора, так что пропавшая туфля наверняка должна была там найтись.Глава 9
ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ
Пока они мчались сквозь южную ночь по шоссе от Риверсайда до Восточного шоссе 1–15, затем на восток по шоссе 1–10, мимо Бьюмонта и Бэнинга, вокруг индейской резервации Моронго, к Кабазону и дальше, у Рейчел было достаточно времени подумать. Миля за милей просторы Южной Калифорнии оставались позади. Они углублялись в пустыню, по обеим сторонам от дороги простиралась необъятная темнота, и только иногда можно было увидеть среди равнин и холмов торчащие, как гигантские зубы, камни и деревья Джошуа, залитые морозно-белым лунным светом, которые вырастали и исчезали на фоне легких пушистых облаков, фестонами украсивших ночное небо. Пейзаж внушал мысли об одиночестве и наводил на размышления, так же как успокаивающее гудение мотора «Мерседеса» и шорох его шин. Расслабившись на пассажирском сиденье, Бен упрямо молчал, уставившись на черную ленту дороги, освещенную светом фар. Они только несколько раз обменялись короткими незначительными фразами, не имеющими никакого отношения к происходящему. Немного поговорили о китайской кухне, потом надолго дружно замолчали, потом порассуждали о фильмах Клинта Иствуда и снова молчали. Она догадывалась, что Бена обидел ее отказ поделиться с ним своими тайнами, и теперь он наказывает ее. Разумеется, он понимал, что Рейчел поразила та легкость, с какой он расправился с Винсентом Бареско в кабинете Эрика, и ей до смерти хочется узнать, где же он научился такому искусству. Обращаясь с ней холодно, позволяя затягиваться тяжелому молчанию, он давал понять, что ей придется расстаться с кое-какой информацией, прежде чем она узнает что-то от него. Но она не могла. Пока не могла. Боялась, что уже слишком глубоко втянула его в смертельно опасное дело, и поэтому злилась на себя. Она твердо решила не вовлекать его дальше в этот кошмар, если только его жизнь не будет зависеть от того, насколько полно он понимает, что происходит и что поставлено на кон. Свернув с шоссе 1–10 на шоссе 111, откуда до Палм-Спрингс оставалось только одиннадцать миль, Рейчел задумалась, все ли она сделала, чтобы отговорить Бена ехать с ней. Но когда они уезжали из Генеплана, он был настолько несокрушимо молчалив, что пытаться переубедить его казалось столь же бесполезным, как встать на берегу Тихого океана и приказать набегающему приливу немедленно попятиться. Рейчел болезненно переживала возникшую между ними напряженность. За пять месяцев их знакомства это был первый случай, когда они неуютно чувствовали себя в обществе друг друга, первый случай, когда между ними появился хотя бы намек на ссору, первый случай, когда гармония их отношений была нарушена. Выехав из Ньюпорт-Бич в полночь, они приехали в Палм-Спрингс и проехали по центру города, по Палм-Каньон-драйв, в четверть второго. За час с четвертью они преодолели расстояние в девяносто три мили, а значит, ехали со скоростью восемьдесят миль в час. Но Рейчел продолжало казаться, что она тащится, как улитка, все отставая и отставая от хода событий и все уменьшая шансы на успех. По сравнению с другими временами года лето в Палм-Спрингс с его испепеляющей жарой, свойственной пустыне, привлекало куда меньше туристов, поэтому в четверть второго ночи улицы города были практически пусты. В эту жаркую и безветренную июньскую ночь пальмы стояли неподвижно, как нарисованные на полотне, слегка освещенные и посеребренные светом уличных фонарей. Большинство магазинов было закрыто. На тротуарах — никого. Светофоры все еще переключались с зеленого на желтый, потом на красный, потом снова на зеленый свет, хотя их машина была единственной на большинстве перекрестков. У Рейчел появилось ощущение, что она едет через город после Армагеддона или что все население вымерло от болезни. На мгновение она поверила, что если включит радио, то не услышит на всех станциях ничего, кроме статического шипения. С того момента, как она узнала об исчезновении трупа Эрика, Рейчел поняла, что в мир пришло нечто ужасное, и с каждым часом все больше мрачнела. Теперь даже в пустынной улице, казавшейся такой мирной, ей чудилось что-то зловещее. Она понимала, что ее реакция неадекватна. Что бы ни случилось в ближайшие несколько дней, это еще не конец света. «С другой стороны, — подумала она, — это может быть концом для меня, концом моего света». Когда машина миновала деловой район, затем жилые кварталы, где обитали менее состоятельные люди, и въехала туда, где селились богатые, признаки жизни стали встречаться еще реже. Наконец Рейчел свернула на Футур-Стоун-драйв и припарковала машину около низкого здания с плоской крышей, типичного примера архитектуры четких линий. Благодаря обилию зелени ничто здесь не напоминало о пустыне — фикусы, бальзамины, бегонии, клумбы с ноготками и гербера-ми… Ни одно окно в доме не светилось. Она уже сказала Бену, что этот дом тоже принадлежал Эрику, но никак не объяснила цель их поездки сюда. Теперь же, когда она выключила передние фары, он заметил: — Ничего себе домишко для отпуска. — Нет, — возразила она. — Здесь жила его любовница. Мягкого света далеких фонарей хватило, чтобы разглядеть на лице Бена изумление. — Откуда ты знаешь? — Немногим больше года назад, как раз за неделю до моего ухода, она — ее звали Синди Уэслоф — позвонила в дом в Вилла-Парке. Эрик не разрешал ей туда звонить, разве только в случае крайней необходимости, и тогда она должна была сказать, что она секретарша одного из его коллег. Синди была страшно зла на Эрика, потому что накануне он ее здорово избил, и собралась от него уходить. Но прежде она хотела, чтобы я узнала, что он содержал ее. — А ты подозревала? — Что у него есть любовница? Нет. Но это уже не имело значения. К тому времени я решила с ним расстаться. Я выслушала ее, посочувствовала и взяла адрес дома, так как решила, что он может понадобиться когда-нибудь, если Эрик откажется давать развод и придется доказывать, что он мне изменял. Как ни противно все было, до этого, слава Богу, дело не дошло. А было бы еще гаже, если бы пришлось об этом рассказать, потому что… девушке было всего шестнадцать. — Кому? Его любовнице? — Да. Шестнадцать. Из дома убежала.Насколько я могла судить, одна из этих потерянных детей. Ты их знаешь. Начинают с наркотиков в средней школе, и такое впечатление, что… сжигают слишком много серых клеточек. Да нет, не то. Наркотики не разрушают серое вещество, скорее… съедают душу, оставляя там пустоту и бесцельность. Они все такие жалкие. — Некоторые, — поправил он. — А от других мороз по коже пробирает. Им уже все надоело, они уже все видели. Становятся либо аморальными врагами общества, опаснее гремучей змеи, либо легкой добычей. Как я понимаю из твоих слов, Синди Уэслоф как раз оказалась легкой добычей, и Эрик выудил ее из канавы для своих развлечений. — И, судя по всему, она была не первой. — Его что, тянуло на подростков? — Скорее он просто боялся старости, — ответила Рейчел. — Она его ужасала. Когда я от него ушла, ему был всего сорок один год, но, сколько я его помню, каждый раз приближение дня рождения повергало его все в большую и большую панику, как будто не успеет он моргнуть и тут же окажется, дряхлый и слабоумный, в доме для престарелых. Он страдал навязчивой боязнью старости и смерти, и эта боязнь проявлялась самым странным образом. Например, для него все важнее становилась новизна во всем: каждый год новая машина, как будто «Мерседес», которому всего год, годится только в металлолом; постоянная смена одежды, старая выбрасывалась, новая покупалась… — И модерн в искусстве, архитектура в стиле модерн, и ультрамодерновая мебель. — Именно. И самые новейшие электронные приспособления. Так что, я думаю, молоденькие девочки были просто еще одной стороной его одержимости в стремлении остаться молодым и… обмануть смерть. Когда я узнала о Синди и этом доме в Палм-Спрингс, я поняла, что одной из причин, по которой он на мне женился, было то, что я его на двенадцать лет моложе; мне было двадцать три, ему — тридцать пять. Для него я была еще одним способом замедлить бег времени, а когда я стала приближаться к тридцати, когда он увидел, что начинаю немного стареть, я перестала уже справляться с этой задачей, и понадобилась более молодая плоть — Синди. Открыв дверцу, Рейчел вылезла из машины. Бен последовал ее примеру. — Так что конкретно мы тут ищем? — спросил он. — Не его же очередную любовницу? Ты бы не мчалась сюда со скоростью гоночной машины только для того, чтобы взглянуть на его последнюю красотку. Захлопнув свою дверцу и вытащив из сумочки пистолет, Рейчел направилась к дому и не ответила ему, не могла ответить. Ночь выдалась сухой и теплой. Свод чистого неба над пустыней был весь в звездах. Было безветренно и тихо, только сверчки скандалили в кустах. Слишком уж много кустов. Она нервно оглянулась на их темные силуэты и густую темноту за ними. Куча мест, чтобы спрятаться. Она поежилась. Дверь была приоткрыта, что показалось зловещим признаком. Рейчел нажала кнопку звонка, подождала, нажала еще раз, снова подождала, опять нажала, но никто не вышел. Стоящий рядом с ней Бен заметил: — Наверное, это теперь твой дом. Ты его унаследовала вместе со всем остальным, так что не думаю, чтобы ты нуждалась в приглашении войти. По ее мнению, в этой приоткрытой двери содержалось куда больше приглашения, чем ей бы хотелось. Было очень похоже на ловушку. Войди она в поисках приманки, ловушка сработает, и дверь захлопнется за ней. Рейчел отступила на шаг и пинком открыла дверь. Та с грохотом ударилась о стену холла. — Значит, ты не ждешь, что тебя встретят с распростертыми объятиями, — сделал вывод Бен. Фонарь над дверью снаружи освещал часть холла, хоть и не такую большую, как она надеялась. Было видно, что никто не затаился на расстоянии первых шести или восьми футов, но дальше царила темнота, где кто угодно вполне мог спрятаться. Бен, не знавший всего и соответственно не могущий оценить реальной степени опасности, не ожидал никого страшнее Винсента Бареско с еще одной «пушкой» и действовал более смело. Он прошел мимо Рейчел в дом, нащупал выключатель на стене и зажег свет. Она вошла следом, но поспешила тут же его обогнать. — Черт побери, Бенни, не торопись переступать через порог. Давай действовать медленно и осторожно. — Хочешь верь, хочешь нет, но я смогу справиться с любой девчонкой, которая набросится на меня с кулаками. — Я не любовницу имею в виду, — бросила она. — Тогда кого? Сжав губы и держа пистолет наготове, она пошла впереди него по дому, по дороге зажигая свет. Голый ультрамодерновый интерьер, даже более футуристский, чем в других обителях Эрика, граничил со стерильностью операционной. Отполированный до блеска пол казался холоднее льда, нигде ни коврика. Металлические жалюзи вместо занавесок. Жесткие на вид стулья. Диваны, которые, если их задвинуть в чащу леса, сошли бы за огромные грибовидные наросты. Все в бледно-серых, белых, черных и серо-коричневых тонах, нигде ни одного цветного пятна, за исключением разбросанных то тут, то там предметов искусства, выдержанных в разных оттенках оранжевого. В кухне был полный разгром. Белый полированный кухонный стол и два стула перевернуты. Другими двумя стульями, превратившимися в щепки, колотили по чему ни попадя. Холодильник помят и поцарапан, жаростойкое стекло в дверце духовки разбито, столы и шкафчики — все в щербинах, углы разломаны. Посуду и бокалы вытащили из шкафов и били о стены: пол сверкал тысячами острых осколков. Продукты вышвырнуты из холодильника на пол: соленья, молоко, макароны, салат, горчица, шоколадный пудинг, консервированная черешня, кусок ветчины и еще что-то, что уже невозможно было распознать, застывали в отвратительной луже. С висевшего над раковиной держателя для ножей все шесть ножей были сняты и с огромной силой запущены в стену — некоторые вошли в нее на половину их длины, а два — по самую рукоятку. — Ты полагаешь, они что-то искали? — спросил Бен. — Возможно. — Нет, — не согласился он. — Я так не думаю. Тут все выглядит так же, как в спальне в Вилла-Парке. Непонятно. От этого — мурашки по коже. Это делалось в гневе. В страшной ярости, в безумии, в бешенстве. Или тут поработал кто-то, получающий настоящее удовольствие от самого процесса разрушения. Рейчел не могла отвести взора от торчащих из стены ножей. Возникло ощущение тошноты. Грудь и горло сжал страх. Пистолет в ее руке казался ей теперь совсем другим. Слишком легким. Слишком маленьким. Почти игрушкой. Если ей придется стрелять из него, будет ли это достаточно эффективно? Против такого противника? Со значительно большей осторожностью они пошли дальше по молчаливому дому. Даже на Бена подействовала та патологическая ненависть, следы которой он только что лицезрел. Он уже больше не дразнил Рейчел своей смелостью, но старался все время быть рядом с ней и соблюдать максимальную осторожность. В главной спальне они снова столкнулись с разгромом, хотя и не в таком масштабе, как в кухне, совершенным, пожалуй, с меньшим бешенством. Около огромных размеров кровати из черного полированного дерева и нержавеющей стали валялась разодранная подушка, из которой высыпались перья. Простыни были сдернуты на пол, а стул перевернут. Одна из двух черных прикроватных ламп сброшена со столика и разбита, абажур раздавлен. Абажур другой лампы покривился. Картины на стенах тоже висели криво. Бен наклонился и осторожно поднял обрывок простыни, чтобы разглядеть его получше. На белом хлопке неестественно ярко алели маленькие точки и большое смазанное пятно. — Кровь, — констатировал он. Рейчел почувствовала, что покрывается холодным потом. — Немного. — Бен выпрямился. — Немного, но, вне сомнения, кровь. Тут Рейчел заметила кровавый след на стене рядом с дверью, ведущей в ванную комнату. Это был отпечаток большой мужской руки — как будто мясник, уставший от своего отвратительного труда, облокотился на минуту о стену, чтобы перевести дух. В огромной ванной комнате горел свет — единственное место, где не было темно, когда они туда попали. Через открытую дверь можно было видеть практически все, либо прямо, либо отраженным в зеркалах, закрывающих одну из стен: серая плитка с желто-коричневой каемкой, большая заглубленная в пол ванна, душ, унитаз, край подставки для умывальника, вешалки для полотенец из сверкающей бронзы и в углублениях в потолке — лампы в бронзовых держателях. На первый взгляд в ванной комнате никого не было. Но когда Рейчел переступила через порог, то услышала чье-то частое, прерывистое дыхание. Ее сердце, которое уже и так билось достаточно быстро, отчаянно заколотилось. Стоя за ее спиной, Бен спросил: — В чем дело? Рейчел показала на матовую загородку душа. Непрозрачная, она не давала возможности разглядеть стоящего там человека, даже его смутные контуры. — Кто-то там есть. Бен наклонился вперед и прислушался. Рейчел прижалась к стене, направив дуло пистолета на загородку. — Давайте-ка выходите оттуда, — обратился Бен к человеку в душе. Никакого ответа. Только торопливое, свистящее дыхание. — Немедленно выходите, — приказал Бен. — Выходите, черт побери! — крикнула Рейчел, и голос ее резким эхом забился в серой плитке и блестящих зеркалах. Из душа раздалось неожиданно жалкое хныканье, в котором звучал откровенный ужас. Как будто там спрятался ребенок. Удивленная и обеспокоенная, Рейчел осторожно подобралась поближе к душу. Бен шагнул вперед, взялся за бронзовую ручку и открыл дверь. — Боже милостивый! Они увидели голую девушку, жалко скорчившуюся на кафельном полу в темном углу душа и прижавшуюся спиной к стене. На вид ей было не больше пятнадцати-шестнадцати лет, этой, судя по всему, последней — самой последней — жалкой «победе» Эрика. Худенькими руками она прикрывала грудь, но больше из боязни и для защиты, чем из скромности. Ее трясла крупная неуемная дрожь, в широко раскрытых глазах стоял ужас, а лицо было бледным, болезненным, восковым. Возможно, она и была хорошенькой, Но наверняка это трудно было сказать, и не из-за темноты в душе, а из-за синяков и ссадин у нее на лице. Огромный синяк красовался под правым глазом, и глаз уже начал затекать. На левой щеке, от угла глаза до подбородка, назревал безобразный кровоподтек. Верхняя губа разбита, из нее все еще текла кровь, весь подбородок в крови. Синяки и кровоподтеки виднелись и на ее руках, и один, самый большой, на левом бедре. Бен отвернулся, чтобы не смущать девушку. Но он был явно потрясен увиденным. Опустив пистолет и наклонившись, Рейчел спросила: — Кто это сделал, милая? Кто это сделал? — Она и сама знала ответ, боялась его услышать, но не могла не спросить. Девушка не сумела ответить. Ее разбитая губа шевельнулась, она попыталась что-то произнести, но они услышали только тоненькое жалобное подвывание, время от времени прерываемое особо сильным приступом дрожи. Она явно была в шоке и не совсем четко воспринимала реальность. Казалось, она только частично осознает присутствие Рейчел и Бена, потому что большая часть ее внимания была сконцентрирована на ее личном, внутреннем ужасе. Хотя она и встретилась с Рейчел глазами, вряд ли она ее видела. Бен протянул руку: — Милая, все в порядке. Все в порядке. Никто тебя больше не обидит. Ты можешь выйти. Мы не позволим никому тебя обидеть.Девушка смотрела сквозь Рейчел и что-то торопливо и тихо бормотала про себя, потрясенная той волной страха, которая недавно пронеслась через ее внутренний мир. Рейчел отдала пистолет Бену, вошла в душ и встала на колени около девушки. Все время тихо и успокаивающе разговаривая с ней, она мягко коснулась ее лица и рук, пригладила взлохмаченные светлые волосы. При первых прикосновениях девушка вздрогнула, как от удара, хотя они явно вывели ее из транса. Она посмотрела уже на Рейчел, а не сквозь нее и позволила уговорить себя встать и выйти из душа, хотя, переступив порог, она снова впала в состояние полуступора, не могла ни отвечать на вопросы, ни просто кивнуть, когда к ней обращались, ни встретиться с Рейчел глазами. — Нам надо доставить ее в больницу, — сказала Рейчел, поморщившись, когда разглядела получше раны на теле девушки. Два ногтя на ее правой руке были почти полностью сорваны и кровоточили; один палец, похоже, сломан. Бен принялся рыться в шкафах и ящиках в поисках одежды, а Рейчел усадила девушку на край кровати и села рядом. Она прислушивалась, не раздастся ли где-либо в доме какой-нибудь посторонний звук. Но ничего не слышала. Тем не менее она продолжала прислушиваться. В дополнение к трусикам, бледно-голубым джинсам, синей клетчатой блузке и паре кроссовок Бен обнаружил целый склад наркотиков. В нижнем ящике одного из прикроватных столиков лежали штук пятьдесят-шестьдесят косячков, полиэтиленовый пакет, набитый яркими таблетками непонятного назначения, и еще один пакет, содержащий примерно пару унций белого порошка. — Наверное, кокаин, — заметил Бен. Эрик наркотиками не баловался: он их презирал. Всегда говорил, что наркотики только для слабых, для неудачников, которые не могут справиться с жизнью на ее собственных условиях. Но, судя по всему, он не находил ничего зазорного в том, чтобы снабжать этим нелегальным зельем своих юных содержанок, обеспечивая таким образом их послушание и зависимость от него и продолжая в то же время растлевать несчастных девчонок. Никогда Рейчел не презирала его так, как в этот момент. Однако, если эта девушка и принимала наркотики, ее нынешнее полубессознательное состояние, сопровождаемое приступами дрожи и время от времени подвыванием, было вызвано не ими, а только шоком и ужасом. Рейчел пришлось одеть девушку, как если бы она была маленьким ребенком. Галантный Бен тактично смотрел в другую сторону. Разыскивая одежду, он наткнулся на сумочку и теперь рылся в ней, чтобы найти какие-нибудь документы. — Ее зовут Сара Киль, ей исполнилось шестнадцать только два месяца назад. Похоже, она приехала с запада, из… Коффивилла, штат Канзас. Еще одна беглянка, подумала Рейчел. Возможно, сбежала от кошмаров домашней жизни. А возможно, из бунтарей, отказывающихся подчиняться дисциплине и считающих, что если жить самостоятельно, без всяких ограничений, то жизнь станет сплошным блаженством. Вот и едут они в Лос-Анджелес попробовать себя в кино, мечтают стать звездами. Или просто ищут разнообразия, избавления от скучной монотонности равнин Канзаса. Вместо ожидаемой романтики и блеска Сара Киль нашла то, что находит большинство подобных ей девиц, когда рушатся радужные калифорнийские надежды: тяжелую, бездомную жизнь на улице и в конце концов — заботливое внимание сутенеров. Эрик, по всей видимости, либо выкупил ее у кого-нибудь из них, либо разыскал сам, охотясь за свежей плотью, которая помогла бы ему чувствовать себя молодым. Став игрушкой богатого человека, поселившись в дорогом доме в Палм-Спрингс и имея столько наркотиков, сколько душа пожелает, Сара, безусловно, стала убеждать себя, что предназначена судьбой для сказочной жизни. Эта наивная девочка не могла осознать всей глубины опасности, в которую была вовлечена, не могла даже представить себе тот кошмар, что однажды войдет в ее жизнь и превратит ее в ничего не соображающее и онемевшее существо. — Помоги мне отвести ее в машину, — попросила Рейчел, закончив одевать девушку. Бен обхватил ее за талию с одной стороны, Рейчел — с другой, и хотя Сара самостоятельно передвигала ногами, без поддержки она бы несколько раз упала. Колени у нее подгибались. Летний ветерок доносил до них запах жасмина, но он же и шевелил кусты, заставляя Рейчел в страхе вглядываться в темноту. Они посадили Сару в машину и пристегнули привязным ремнем, на котором она тут же обвисла, опустив голову. В «Мерседесе-560» можно было разместить и третьего человека, только ему приходилось сидеть боком в открытом багажном отделении за двумя передними сиденьями, где было тесновато. Бен не подходил по размерам, так что втиснуться туда пришлось Рейчел, а Бен сел за руль. Когда они съехали с дорожки, из-за угла показалась машина, осветив их светом передних фар, а когда выехали на улицу, машина сделала рывок, устремляясь прямо на них. Сердце Рейчел бешено забилось, и она воскликнула: — Черт возьми, это они! Приближающаяся машина намеревалась встать поперек улицы, чтобы преградить им дорогу. Не тратя времени на вопросы, Бен немедленно свернул, крепко ухватившись за руль, и оставил другую машину позади. Вдавил в пол педаль газа, шины взвизгнули, «Мерседес» прыгнул вперед и, набрав приличную скорость, помчался мимо низких темных домов. Впереди виднелся перекресток, вынуждающий их свернуть или вправо, или влево, так что Бену пришлось притормозить. Рейчел, наклонив голову, посмотрела в заднее стекло, к которому была прижата, и увидела, что какой-то «Кадиллак» шел за ними очень близко, очень, очень близко. Бен взял поворот на большой скорости, машина опасно накренилась, и Рейчел силой инерции выбросило бы из нее, не будь она так плотно втиснута в багажное отделение за сиденьями. Там не было места, чтобы шевельнуться, и не нужно было ни за что держаться, но она все равно вцепилась в спинку Сариного сиденья, потому что чувствовала себя так, будто мир рушился вокруг нее. «Господи, пожалуйста, пусть машина не перевернется», — взмолилась она. «Мерседес» не перевернулся, напротив, он выбрался на прямой участок и прибавил скорости. Зато «Кадиллак» едва не опрокинулся на повороте, и перестаравшийся водитель так резко повернул руль, что чуть не врезался в «Корвет», припаркованный неподалеку. В воздух взлетели искры и рассыпались по асфальту. От удара «Кадиллак» вильнул, и сначала казалось, что он врежется в машины, стоящие на другой стороне, но водителю удалось справиться с ним. Слегка отстав, он снова решительно устремился в погоню. Бен бросил маленький «Мерседес» еще в один поворот, на этот раз не такой крутой, и полтора квартала держал педаль газа на пределе, так что они больше напоминали ракету, чем автомобиль. Когда Рейчел почувствовала, что ее вжимает в стенку с такой силой, что, казалось, они вот-вот преодолеют силу земного притяжения и взлетят на орбиту, Бен проделал какие-то манипуляции с тормозами с легкостью великого пианиста, исполняющего «Лунную сонату», и при подъезде к следующему указателю «Стоп», которому не собирался повиноваться, повернул руль так резко, как только отважился. Со стороны могло показаться, что «Мерседес» просто слетел с той улицы, по которой ехал, и исчез на дороге, ответвляющейся влево. Уходя от погони, Бен показал такой же высокий класс, как недавно в рукопашном бою. Рейчел хотелось спросить: «Кто, черт возьми, ты есть на самом деле, ведь не скромный же торговец недвижимостью и коллекционер игрушечных поездов, любящий музыку свинг!» Но она ничего не сказала, боясь отвлечь его внимание, — ведь если она отвлечет его на такой скорости, они обязательно перевернутся или, еще хуже, обязательно погибнут.
Бен знал, что «Мерседес-560» легко обойдет «Кадиллак» на открытом шоссе, но на таких узких улицах, во избежание превышения скорости кое-где перерезанных специальными заграждениями, дело обстояло иначе. Вдобавок, по мере того как они приближались к центру города, попадалось все больше светофоров и ему приходилось хоть немного снижать скорость на перекрестках даже в это мертвое время суток, чтобы избежать прямого столкновения с каким-нибудь редким любителем ночных автомобильных прогулок. К счастью, «Мерседес» брал повороты в тысячу раз лучше «Кадиллака», так что Бену не приходилось так сбрасывать скорость, как их преследователям, и каждый раз, как он сворачивал на новую улицу, он немного отрывался от «Кадиллака», которому не удавалось сократить разрыв на следующем прямом отрезке пути. К тому времени, как Бен, постоянно сворачивая, приблизился на квартал к Палм-Каньон-драйв, «Кадиллак» отстал от «Мерседеса» на полтора квартала и продолжал отставать. Бен уже уверился, что ему удастся стряхнуть со своего хвоста этих поганцев, кто бы они ни были, как вдруг он заметил полицейскую машину. Она была припаркована впереди целой шеренги машин у поворота на Палм-Каньон, всего в квартале от них. По-видимому, полицейский увидел в зеркальце, что Бен мчится, как камень, пущенный из пращи, потому что на крыше машины загорелась сине-красная мигалка, ясно видимая впереди по правую сторону. — Ура! — обрадовался Бен. — Нет! — крикнула за его спиной Рейчел прямо ему в ухо. — Нет, мы не можем обратиться к полиции! Мы умрем, если обратимся к полиции. Тем не менее, приближаясь на бешеной скорости к полицейской патрульной машине, Бен начал тормозить, потому что она так и не объяснила ему, почему они не могут положиться на полицию и попросить защиты, а по характеру своему он был человеком, который не верил, что можно подменять собой закон. К тому же те парни в «Кадиллаке» наверняка дадут деру, увидев полицейских. — Нет! — снова закричала Рейчел. — Бенни, ради Бога, доверься мне, слышишь? Мы умрем, если остановимся. Они вышибут нам мозги, можешь быть в этом уверен. Бена обидело ее обвинение в недоверии к ней. Он доверял ей, видит Бог, доверял полностью, потому что любил ее. Он ни хрена не понимал, особенно сегодня, но он ей доверял, и это обвинение было ему как острый нож в сердце. Он снял ногу с тормоза и снова нажал на педаль газа, промчавшись мимо черно-белой машины с такой скоростью, что свет от ее вращающейся мигалки только раз мелькнул в «Мерседесе», а через секунду они были уже далеко. Обернувшись, Бен разглядел двух ошеломленных полицейских. Он решил, что они дождутся второй машины и погонятся за обеими, а это было бы здорово, просто здорово, потому что парни в «Кадиллаке» не смогут догнать его и пристрелить, имея на хвосте полицейскую машину. Но, к великому огорчению и удивлению Бена, полицейские рванули прямо за ним. Взревела сирена. Возможно, они были так изумлены видом «Мерседеса», мчавшегося на них со скоростью ракеты, что не заметили другой машины сзади. Или, может быть, они и увидели «Кадиллак», но были слишком поражены «Мерседесом» и не поняли, что вторая машина приближается к ним практически с той же скоростью. Но что бы они там ни думали, они сорвались с места и повисли у Бена на хвосте, когда он сворачивал на Палм-Каньон-драйв. Бен повернул с бесшабашным нахальством каскадера, уверенного, что специальные стабилизаторы его машины, противоударные устройства и другие хитрые приспособления делают любой рискованный маневр безопасным, вот только у него-то не было этого хитрого оборудования. Он понял, что плохо рассчитал, что едва не превратил Рейчел, Сару и себя в консервы, в подобие колбасного фарша внутри дорогого немецкого металла. Машина наклонилась набок, двигаясь на двух колесах, послышался запах жженой резины, казалось, целый час они находились на грани, но милостью Божией и благодаря таланту конструкторов «Бенца» машина, подпрыгнув, снова встала на все четыре колеса. Каким-то чудом шины остались целы, вот только Рейчел ударилась головой о потолок и с такой силой выдохнула, что Бен почувствовал тепло ее дыхания у себя на шее. Он заметил старика, выгуливающего палевого коккер-спаниеля, когда машина еще продолжала подпрыгивать на рессорах. Они переходили улицу в середине квартала как раз в тот момент, когда «Мерседес» вырвался из-за угла, как черт из табакерки. Он надвигался на них с жуткой скоростью. Они застыли в удивлении и страхе, и человек, и собака, головы подняты, глаза расширены. Старику было лет девяносто, собака тоже выглядела престарелой, и им было совершенно нечего делать на улице в два часа ночи. Им полагалось спать и видеть сны о фонарных столбах и хорошо подогнанных зубных протезах, но тем не менее они были здесь. — Бенни! — закричала Рейчел. — Вижу, вижу! Он знал, что остановиться вовремя не сможет, так что не только нажал на тормоза, но и повернул машину поперек Палм-Каньон, что заставило «Мерседес» круто развернуться, одновременно заскользив юзом. В результате они развернулись на сто восемьдесят градусов и остановились на противоположной стороне. К тому времени, как Бен рванулся в северном направлении, старик с собакой уже доплелись до безопасного тротуара, а полицейская машина приблизилась к ним почти вплотную. В зеркальце Бен видел, что «Кадиллак» тоже свернул за угол и продолжает гнаться за ними, невзирая на присутствие полицейской машины. С ума сойти, «Кадиллак» даже пытался обогнать ее! — Они полные придурки, — заметил Бен. — Хуже, — простонала Рейчел, — значительно хуже. Сидящая на пассажирском месте Сара Киль настойчиво издавала какие-то звуки, но, казалось, вовсе не осознавала грозящей опасности. Кошмар дикой гонки не испугал ее, а только поднял со дна памяти воспоминания о другом, худшем кошмаре, который ей пришлось пережить немного раньше. Набирая скорость и устремляясь на север по Палм-Каньон, Бен снова взглянул в зеркальце и увидел, что «Кадиллак» поравнялся с полицейской машиной. Казалось, они соревнуются друг с другом, кто кого обгонит, просто две машины с людьми, решившими позабавиться. Выглядело это… надо прямо сказать, глупо. Но неожиданно перестало казаться глупым, так как стало ужасающе ясно, чего хотят парни из «Кадиллака», потому что из окна машины вылетели повторяющиеся вспышки и раздалось тра-та-та-та выстрелов из автоматического оружия. Они стреляли в полицейских из автомата, как будто дело происходило не в Палм-Спрингс, а в Чикаго в буйные двадцатые годы. — Они стреляют в полицейских! — воскликнул Бен, удивившись, как никогда не удивлялся в жизни. Полицейская машина потеряла управление, выскочила на тротуар, пересекла его и врезалась в зеркальную витрину элегантного магазинчика одежды, но парень в «Кадиллаке» все еще продолжал высовываться из окна и стрелять в полицейскую машину, пока она была в пределах досягаемости. — Ой, ой, ой! — застонала Сара. Она извивалась и всхлипывала, как будто на нее сыпались удары. Видимо, она снова переживала то, что было с ней недавно. На опасность, грозящую ей в настоящий момент, она по-прежнему внимания не обращала. — Бенни, ты снизил скорость, — настойчиво проговорила Рейчел. Потрясенный увиденным, он машинально ослабил давление на педаль газа. «Кадиллак» приближался к ним так же хищно, как акула надвигается на какого-нибудь одинокого пловца. Бен попытался продавить педалью газа пол, и «Мерседес» отреагировал на это, как кот, которому дали пинка под зад. Они вырвались на Палм-Каньон-драйв, которая на довольно большом отрезке была совершенно прямой, и Бену удалось несколько оторваться от «Кадиллака» еще до поворотов. А потом он начал раз за разом поворачивать, направляясь теперь в западную часть города, выше к холмам, затем снова вниз к югу, через старые жилые кварталы, где деревья, посаженные вдоль дороги, образовали своими кронами туннель, затем опять через более новые районы, где деревья и кустарники были еще редкими и низенькими и не могли скрыть, что город на самом деле построен в пустыне. И с каждым поворотом увеличивался разрыв между ними и убийцами в «Кадиллаке». — Они прикончили двух полицейских, — произнес наконец пораженный Бен, — только потому, что те попались на пути. — Они хотят заполучить нас любой ценой, — ответила Рейчел. — Именно это я и пытаюсь тебе все время втолковать. Они хотят заполучить нас любой ценой. Теперь «Кадиллак» был от них в двух кварталах. Еще пять или шесть поворотов, и Бен окончательно оторвется от них, потому что они не смогут видеть «Мерседес» и не будут знать, куда он свернул. К собственному удивлению, заговорив, Бен заметил дрожь в своем голосе, эдакую вибрирующую нотку, которая ему сильно не понравилась: — Но, черт побери, у них, по сути, не было шансов нас поймать. Их развалюха не идет ни в какое сравнение с нашей красавицей. Они же это видели. Должны были видеть. Один шанс из ста. В лучшем случае. Один шанс из ста, и они все равно убивают полицейских. Он сделал еще один резкий скользящий поворот и выехал на новую улицу. — О, Боже мой, Боже мой, Боже мой! — тихо простонала Сара, съезжая по сиденью так низко, как только позволял ремень. Она снова обхватила себя руками, как делала в душе, когда была голой. За дальним поворотом сзади показались огни все более отстающего «Кадиллака». Бен повернул еще раз и помчался по темной сонной улице, застроенной старыми и уже несколько обветшавшими домами, не соответствующими представлению Торговой палаты об образе Палм-Спрингс. — Но ты говорила, что парни в «Кадиллаке» доберутся до тебя быстрее, если ты обратишься в полицию. — Да. — Тогда почему они не захотели, чтобы полицейские нас остановили? — Дело в том, что, если я буду под охраной полиции, меня легче будет найти, — объяснила Рейчел. — У меня вообще не будет никаких шансов. Но тогда меня нельзя будет убить по-тихому, все может выйти наружу. А люди в «Кадиллаке» предпочли бы разделаться со мной один на один, даже если им потребуется для этого больше времени. Фары «Кадиллака» еще не показались, а Бен снова свернул. Еще минута — и им его не догнать. — Какого дьявола им от тебя нужно? — спросил он. — Две вещи. Первое… секрет, который, как они считают, я знаю. — А ты знаешь? — Нет. — А что второе? — Другой секрет, который я знаю. Тут мы с ними на равных. Они тоже уже знают и хотят помешать мне кому-либо раскрыть его. — И что это? — Если я тебе расскажу, у них будет столько же оснований убить тебя, как и меня. — У меня создалось впечатление, что они уже гоняются и за моей задницей, — возразил Бен. — Я слишком глубоко завяз. Так что выкладывай. — Следи за дорогой, — велела она. — Рассказывай. — Не сейчас. Ты должен сосредоточиться и уйти от них. — Об этом не волнуйся и не пытайся, черт возьми, оправдывать этим свое молчание. Еще один поворот, и нам не о чем беспокоиться. Тут лопнула правая передняя шина.
Глава 10
ГВОЗДИ
Для Джулио и Риза эта ночь была длинной. К 0.32 последний мусор в контейнере был просмотрен, но голубую туфлю Эрнестины Фернандес так и не нашли. После того как с мусором было покончено и тело увезли в морг, другие детективы отправились бы немного поспать, чтобы со свежей головой начать следующий день. Но только не лейтенант Джулио Вердад. Он хорошо знал, что в первые часы после обнаружения тела след самый свежий. Кроме того, каждый раз после получения нового задания по меньшей мере сутки он плохо спал, никак не мог смириться с ужасом насильственной смерти. К тому же в данном случае он испытывал особую ответственность перед жертвой. По причинам, которые для других вряд ли показались бы достаточно обоснованными, но которые для него были решающими, он чувствовал себя в большом долгу перед Эрнестиной. Найти того, кто ее убил, стало для Джулио не просто работой, а делом чести. Риз Хагерсторм, его напарник, следовал за ним, не жалуясь на позднее время. Ради Джулио, и только ради него, он готов был работать круглосуточно, отказывая себе не только в сне, но и в выходных, обедах и ужинах, и вообще способен был идти на любые жертвы. Джулио знал, что, если когда-нибудь понадобится заслонить его спиной и умереть за него, этот крупный мужик не станет колебаться ни одной секунды. Оба они знали это сердцем, чувствовали нутром, но никогда не обсуждали. В 0.41 они сообщили о смерти Эрнестины ее родителям, вместе с которыми она жила в скромном домике между двумя магнолиями, немного восточнее Мейн-стрит. Семья уже спала, и страшному известию сначала не поверили, убежденные, что Эрнестина дома и тоже спит. Но, разумеется, ее постель была пуста. Хотя у Хуана и Марии Фернандес было шестеро детей, они восприняли этот удар, как будто Эрнестина их единственный ненаглядный ребенок. Мария сидела на розовом диване в гостиной, стоять она не могла. Рядом с ней поместились два ее младших сына — оба еще подростки — с покрасневшими глазами и чересчур потрясенные, чтобы заботиться о сохранении внешней мужественности и невозмутимости, за которыми обычно прячут свои переживания мальчики-латиноамериканцы. Мария держала в руках фотографию Эрнестины в рамке, плакала и вспоминала, какая у нее была замечательная дочь. Другая ее дочь, девятнадцатилетняя Лаурита, сидела одна в столовой, безутешная, никого к себе не подпуская, сжимая в руках четки. Хуан Фернандес как маятник ходил по комнате, сжав челюсти и яростно моргая, чтобы сдержать слезы. Ему, как главе семьи, необходимо было служить всем примером, держать себя в руках, не дрогнуть и не сломаться перед этим визитом к ним muerta[105]. Но задача оказалась непосильной, и он дважды удалялся в кухню, и из-за закрытых дверей слышались его сдавленные рыдания. Джулио не мог ничем облегчить их горе, но он сумел внушить им веру в справедливость и возмездие, возможно, потому, что его собственный долг перед Эрнестиной был для него абсолютно ясен и от него исходило ощущение непреклонного упорства — сродни упорству гончей, идущей по следу: Или причиной была его жгучая ярость по поводу существования смерти, смерти вообще, которая ясно читалась по его лицу, глазам и голосу. Эта ярость кипела в нем уже долгие годы, прошедшие с того дня, когда он увидел крыс, перегрызающих горло маленькому брату, и к настоящему времени ее огонь разгорелся так ярко, что стал заметен всем. От мистера Фернандеса Джулио и Риз узнали, что Эрнестина ушла на весь вечер со своей лучшей подругой Бекки Клинстад, с которой они вместе работали официантками в местном мексиканском ресторане. Они уехали на машине Эрнестины — серо-синем «Форде» десятилетней давности. — Если такое случилось с Эрнестиной, — сказал мистер Фернандес, — то где же бедняжка Бекки? С ней, наверное, тоже что-то стряслось. Что-то ужасное. Из кухни Фернандесов Джулио позвонил семье Клинстад, живущей в Ориндже. Бекки — Ребекка — домой еще не приходила. Ее родители не волновались, потому что она была женщиной взрослой, а еще потому, что те дискотеки, куда любили ходить Бекки и Эрнестина, работали до двух часов утра. Но теперь они начали волноваться.1.20 ночи. Джулио сидел за рулем неприметного седана, припаркованного напротив дома семьи Фернандес, бессмысленно уставясь в ночь, благоухающую магнолией. Сквозь открытые окна доносился шорох листьев, потревоженных легким июньским ветерком. Холодный, тоскливый звук. Риз воспользовался установленным на консоли компьютером, чтобы передать в участок последние данные и объявить розыск серо-синего «Форда». Он узнал его номерной знак у родителей Эрнестины. — Посмотри, нет ли там для нас чего, — попросил Джулио. Ему не стоило сейчас прикасаться к компьютеру. Он был в ярости, и ему хотелось что-нибудь разбить — все равно что, — ударить обоими кулаками, а если у него что-нибудь не заладится с компьютером или он по ошибке нажмет не на ту клавишу, то, пожалуй, выместит свое зло на машине просто потому, что она подвернулась под руку. Риз вызвал банки в главном полицейском управлении и запросил введенную туда информацию. По дисплею побежали бледно-зеленые, слегка мерцающие буквы. То был отчет полицейских, которых Джулио отправил в морг, чтобы они убедились, не принадлежат ли скальпель и окровавленный халат, найденные в мусорном контейнере, кому-нибудь конкретно. Официальные лица в морге подтвердили, что из кладовки исчезли скальпель, лабораторный халат, хирургическая одежда, включая шапочку, и пара туфель, пропитанных антистатиком. Однако никто из тамошних работников не был связан с кражей этих предметов. Подняв глаза от дисплея и снова уставившись в ночь, Джулио сказал: — Это убийство как-то связано с исчезновением тела Эрика Либена. — Может, просто совпадение, — заметил Риз. — Ты веришь в совпадения? Риз вздохнул. — Нет. О лобовое стекло бился мотылек. — Может, тот, кто украл труп, убил Эрнестину? — предположил Джулио. — Зачем? — А вот это нам предстоит выяснить. Он включил мотор, и они уехали от порхающего мотылька и перешептывающихся листьев. Джулио свернул на север и поехал прочь из делового района Санта-Аны. Он ехал по Мейн-стрит, где горели яркие фонари, но в нем самом царила непроглядная тьма, и от нее было не уйти.
1.38 ночи. До дома в стиле испанского модерна, принадлежащего Эрику Либену, они доехали быстро, потому что все улицы были пусты. В этом богатом районе ночь казалась особенно тихой. Их шаги по покрытой плиткой дорожке гулко отдавались в тишине, а когда они нажали кнопку звонка, звук донесся до них как с самого дна глубокого колодца. Ни Джулио, ни Риз никакими полномочиями в Вилла-Парке не обладали. Он вообще находился на довольно приличном расстоянии от их участка. Однако в округе Ориндж, представлявшем, по существу, один большой растянутый город, разделенный на много жилых районов, преступники редко брали в расчет необходимость придерживаться одного района, контролируемого определенным полицейским участком. И если возникала потребность собрать улики в другом районе, нужно было взять с собой сопровождающего из местной полиции, или получить соответствующее разрешение, или попросить коллег самих проделать нужную работу. Обычно такие просьбы встречались благосклонно. Но на все эти формальности требовалось время, так что Джулио и Риз частенько обходились без них. Они ехали туда, куда им было нужно, разговаривали с тем, с кем нужно, и извещали местные власти только в тех случаях, когда обнаруживали что-то важное по делу или если ситуация грозила перерасти в столкновение. Мало кто из детективов действовал так смело. Несоблюдение формальностей могло кончиться выговором. Повторные нарушения правил могли рассматриваться как огорчительное отсутствие уважения к порядку и наказываться временным отстранением от работы. Слишком большое количество подобных нарушений — и даже самый лучший полицейский мог забыть о повышении и начать волноваться, удастся ли ему дослужить до пенсии. Все эти соображения не слишком волновали Джулио и Риза. Разумеется, им хотелось получить повышение. И до пенсии дослужить. Но гораздо важнее карьеры и финансового благополучия было для них довести свои расследования до конца и засадить убийц в тюрьму. Тот не полицейский, кто не рискует жизнью ради своих идеалов, а если ты рискуешь жизнью, стоит ли волноваться о таких мелочах, как прибавка к зарплате или пенсионный фонд. Когда никто не вышел на звонок, Джулио подергал дверь, но она была заперта. Он не стал пытаться открыть замок или взломать его. Поскольку ордера на обыск у них не было, для того чтобы проникнуть в дом Либена, им требовался предлог, хотя бы предположение, что там имеют место какие-то преступные действия, что могут пострадать невинные люди и их присутствие там вызвано острой необходимостью. Когда они обошли дом, то увидели то, кто искали: разбитое стекло огромного окна, ведущего с террасы в кухню. Разумеется, профессиональный долг тут же заставил их предположить худшее: вооруженный преступник, разбив окно, ворвался в дом с целью грабежа или причинения вреда его законным обитателям. Вытащив револьверы, они осторожно вошли. Под ногами хрустели осколки стекла. Они переходили из комнаты в комнату, всюду зажигая свет, и увидели достаточно, чтобы оправдать свое вторжение. Кровавый отпечаток ладони на подлокотнике белого дивана в гостиной. Полный хаос в спальне хозяина. А в гараже… они нашли серо-синий «Форд» Эрнестины Фернандес. При осмотре машины Риз обнаружил пятна крови на заднем сиденье и на ковриках под ногами. — Некоторые еще липкие, — заметил он. Джулио подергал крышку багажника и обнаружил, что тот открыт. Внутри опять была кровь, а еще сломанные очки и… одна голубая туфля. Туфля принадлежала Эрнестине, и при виде ее Джулио почувствовал, как что-то сжалось у него в груди. Насколько Джулио было известно, Эрнестина очков не носила. Но на фотографиях, которые он рассматривал в доме Фернандесов, ее лучшая подруга и коллега-официантка Бекки Клинстад почти везде была в похожих очках. По-видимому, обе женщины были убиты и засунуты в багажник «Форда». Позднее тело Эрнестины оказалось в мусорном контейнере. Но что случилось с другим телом? — Позвони в местную полицию, — велел Джулио. — Пора начать соблюдать формальности.
1.52 ночи. Возвращаясь от своего седана, Риз задержался, чтобы открыть электрические двери гаража и избавиться от запаха крови, поднимающегося из открытого багажника «Форда» и достигшего уже самого дальнего уголка длинного помещения. Как раз когда двери пошли вверх, он заметил в углу брошенную кем-то больничную одежду и пару туфель. — Джулио! Подойди-ка посмотри. Джулио внимательно рассматривал окровавленный багажник, боясь до чего-нибудь дотронуться и уничтожить драгоценные улики, но одновременно стараясь не упустить ни малейшей детали. Он подошел к Ризу, стоящему около брошенных тряпок. — Что, черт бы побрал, происходит? — спросил Риз. Джулио промолчал. — Вечер начался с пропажи одного трупа, — продолжал Риз. — Теперь пропали два — Либена и этой девушки, Клинстад. И мы нашли третий труп, который бы с радостью не находили. Если кто-то коллекционирует трупы, то почему он не присоединил к своей коллекции тело Эрнестины Фернандес, а? Раздумывая над странными находками и непонятной связью между кражей трупа Либена и убийством Эрнестины, Джулио машинально поддернул рукава сорочки и поправил галстук и запонки. Даже в летнюю жару он всегда носил галстук и рубашку с длинными рукавами, чего некоторые детективы не делали. Но Джулио считал, что детектив — это что-то вроде священника. Он тоже выполняет священные обязанности, трудится на благо Богов Справедливости и Правосудия, и потому одеваться неофициально казалось ему таким же богохульством, как если бы священник служил мессу в джинсах и майке. — Местные едут? — спросил он Риза. — Да. И как только мы им все объясним, нам придется поехать в Пласеншию. Джулио удивился. — В Пласеншию? Зачем? — Я проверил сообщения, когда ходил к машине. Там есть важное из участка. Полиция в Пласеншии нашла Бенни Клинстад. — Где? Живую? — Мертвую. В доме Рейчел Либен. Пораженный, Джулио повторил вопрос, который Риз задал несколько минут назад: — Что, черт бы побрал, происходит?
1.58 ночи. Чтобы попасть в Пласеншию, им пришлось проехать из Вилла-Паркачерез часть округов Ориндж и Анахим и по Тастин-авеню на мост через реку Санта-Ана, которая в это засушливое время года полностью пересохла. Они проехали мимо нефтяных скважин, где огромные насосы, подобно молящимся шаманам, качались вверх и вниз, еле различимые во мраке, и их непонятные и слегка таинственные контуры делали ночную темноту еще более зловещей. Пласеншия считалась одним из наиболее спокойных городков, где жили обеспеченные, но не слишком богатые люди, жили комфортабельно и спокойно. За ним не числилось никаких ужасных недостатков, не было у него и особых преимуществ перед другими городами, за исключением, пожалуй, огромных и великолепных финиковых пальм, высаженных вдоль некоторых его улиц. На улице, где стоял дом Рейчел, пальмы были особенно развесистыми и красивыми, и их нависающие над дорогой широкие листья казались горящими при свете красных мигалок «скорой помощи» и множества полицейских машин, припаркованных под ними. У дверей дома Риза и Джулио встретил местный полицейский в форме по имени Орин Малвек. Он был бледен. И глаза какие-то странные, как будто он только что увидел нечто такое, что бы ему, будь его воля, никак не хотелось помнить, но что он в то же время никогда не сможет забыть. — Соседка позвонила. Видела, как из дома выбежал человек, который ей чем-то показался подозрительным. Когда мы приехали проверить, дверь была настежь открыта и везде горел свет. — Миссис Либен дома не было? — Нет. — И не знаете, где она? — Нет. — Малвек снял фуражку и нервно пригладил волосы. — Господи, — проговорил он, обращаясь больше к самому себе, чем к Джулио и Ризу. Потом добавил: — Нет, миссис Либен уехала. Но в спальне миссис Либен мы нашли тело мертвой женщины. Направляясь за Малвеком в дом, Джулио сказал: — Ребекку Клинстад. — Угу. Малвек провел Джулио и Риза через уютную гостиную в персиковых и белых тонах с синей мебелью и бронзовыми лампами. — Как вы узнали, кто покойная? — На ней был медальон с медицинским предупреждением, — объяснил Малвек. — По поводу разных аллергий, включая на пенициллин. Вы знаете эти медальоны? Имя, адрес, состояние здоровья. А до вас мы быстро добрались, потому что запросили наш компьютер проверить Бекки Клинстад по банку данных и получили ответ, что вы ее разыскиваете в Санта-Ане в связи с убийством Фернандес. — Банк данных по борьбе с преступностью, которым с помощью компьютеров пользовались всевозможные полицейские организации для обмена информацией, был новинкой, естественным результатом компьютеризации управления шерифа и местных полицейских участков. С его помощью удавалось сэкономить часы, а иногда и дни, поэтому Джулио в очередной раз порадовался, что работает полицейским в компьютерную эпоху. — Женщину здесь убили? — спросил Джулио, пока они огибали внушительного лаборанта, осматривающего мебель в поисках отпечатков пальцев. — Нет, — ответил Малвек, — слишком мало крови. — Он все еще продолжал приглаживать пальцами волосы. — Убили в другом месте и… привезли сюда. — Зачем? — Вы увидите зачем. Но, черт возьми, вряд ли вы поймете зачем. Раздумывая над этим загадочным заявлением, Джулио шел за Малвеком в хозяйскую спальню. Остановившись на пороге, он открыл рот от изумления и на какое-то время потерял способность дышать. За его спиной Риз произнес: — Твою мать! Обе прикроватные лампы горели, и однако в углах комнаты было темновато. Тело Ребекки Клинстад располагалось в самом ярко освещенном месте — рот открыт, глаза расширены при встрече со смертью. Она была раздета донага и распята прямо над большой кроватью. По гвоздю через каждую ладонь. По гвоздю под каждым локтем. По гвоздю через каждую ступню. А из ямочки под горлом торчал костыль. То не была классическая форма распятия, потому что ноги были неприлично раздвинуты, но что-то очень похожее. Полицейский фотограф все еще продолжал делать снимки в самых разных ракурсах. С каждой вспышкой мерещилось, что мертвая женщина на стене движется. Разумеется, это было игрой воображения, но казалось, что она дергается на гвоздях, которыми прибита к стене. Джулио никогда не доводилось видеть ничего столь чудовищного. Тем не менее было совершенно очевидно, что это сделано не в приступе слепого безумия, а с холодным расчетом. Ясно, женщина, когда ее сюда привезли, была уже мертва, потому что раны, проделанные гвоздями, не кровоточили. Ее худенькая шея перерезана, что скорее всего и послужило причиной смерти. Убийца — или убийцы? — потратил довольно много времени и сил, чтобы найти гвозди и молоток (который сейчас лежал на полу в углу спальни), поднять тело, удерживать его в нужном месте и точно загонять гвозди в холодную мертвую плоть. При этом голова, видимо, падала вперед, на грудь, а убийца, судя по всему, хотел, чтобы она смотрела на дверь («приятный» сюрприз для Рейчел Либен), поэтому он проволокой приподнял ее подбородок, а концы закрепил на гвозде, вбитом над ее головой. Пусть смотрит перед собой. Он также открыл ей глаза и клейкой лентой закрепил веки, чтобы она смотрела невидящим взглядом на того, кто найдет ее. — Я понимаю, — сказал Джулио. — Да, — согласился потрясенный Риз. Малвек удивленно моргнул. На его бледном лбу блестели капельки пота, вряд ли вызванные июньской жарой. — Вы, наверное, шутите. Вы понимаете это… безумие? Вы понимаете, зачем он это сделал? Джулио объяснил: — Эрнестина и эта девушка были убиты прежде всего потому, что убийца нуждался в машине, а у них была машина. Но когда он разглядел Клинстад, он выбросил другое тело и привез это сюда, чтобы оставить в качестве предупреждения. Малвек нервно запустил пальцы в волосы. — Но если этот психопат собирался убить миссис Либен, почему он просто не приехал сюда и не сделал это? Зачем оставлять такое… предупреждение? — Вероятно, у убийцы были основания предполагать, что ее не будет дома. Может, он сначала позвонил, — предположил Джулио. Он вспоминал, как нервничала Рейчел Либен, когда он допрашивал ее в морге несколько часов назад. Он почувствовал тогда, что она что-то скрывает и чрезвычайно напугала. Теперь он понял: уже тогда она знала, что ее жизнь в опасности. Но кого она боялась, почему не обратилась к полиции за помощью? Что она скрывала? Фотограф все щелкал камерой. Джулио продолжал: — Убийца знал, что ему не удастся сразу до нее добраться, но хотел, чтобы она знала, что он придет потом. Он хотел, а может, то были они, напугать ее до смерти. И когда он как следует разглядел эту женщину, Клинстад, которую убил, он понял, что ему нужно сделать. — А? — спросил Малвек. — Я что-то вас не понимаю. — Ребекка Клинстад была очень соблазнительной, — объяснил Джулио, показывая на распятую женщину. — Как и Рейчел Либен. Очень похожие фигуры. — И волосы у миссис Либен почти того же цвета, что и у этой девушки, — согласился Риз. — С медным отливом. — Тициановские, — добавил Джулио. — И хотя эта женщина далеко не так красива, как миссис Либен, между ними есть определенное сходство, тип лица тот же. Фотограф сделал паузу, чтобы сменить пленку в фотоаппарате. Малвек покачал головой. — Давайте поставим все точки над «i». Значит, так: миссис Либен должна была рано или поздно прийти домой и, войдя в комнату, увидеть эту распятую женщину и сообразить по сходству, что этот психопат на самом деле хотел распять на стене ее. — Да, — подтвердил Джулио. — Во всяком случае, я так думаю. — Да, — поддержал Риз. — Милостивый Боже, — Малвек зябко передернул плечами, — да понимаете ли вы, насколько черной, горькой и глубокой должна быть его ненависть? Кто бы он ни был, что такого миссис Либен могла сделать, чтобы он ее так ненавидел? Почему у нее такие враги? — Очень опасные враги, — согласился Джулио. — Это все, что я знаю. И… если мы ее быстро не найдем, то вряд ли найдем ее живой. Опять полыхнула вспышка. Фотограф возобновил работу. Казалось, труп продолжал подергиваться. Вспышка, подергивание. Вспышка, подергивание.
Глава 11
РАССКАЗ О ПРИЗРАКЕ
Когда лопнула правая передняя шина, Бен почти не снизил скорость. Сражаясь с рулевым колесом, он проехал еще половину квартала. «Мерседес» подпрыгивал, трясся и дергался, бедный инвалид, старающийся выручить. Фар за ними пока не было видно. Преследующий их «Кадиллак» еще не успел свернуть за угол на расстоянии двух кварталов за их спинами. Но он покажется. И скоро. Бен с отчаянием смотрел то вправо, то влево. «Интересно, какую лазейку он ищет», — подумала Рейчел. И тут он ее нашел: одноэтажный оштукатуренный дом с табличкой «Продается» на фасаде. Дом стоял на большом участке в пол-акра, трава не скошена. От соседей его отделяла стена из бетонных блоков высотой в восемь футов, тоже оштукатуренная, и за ней вполне можно было спрятаться. На участке также росло множество деревьев и кустов, остро нуждающихся во внимании садовника. — Эврика! — воскликнул Бен. Он свернул на дорожку, ведущую к дому, потом по лужайке за угол и оказался с задней стороны. Там он поставил машину на бетонированную площадку под деревянным навесом террасы. Выключил мотор и фары. Они оказались в полной темноте. Остывая, горячий металл машины издавал тонкий свистящий звук. В доме никто не жил, так что некому было выйти посмотреть, что происходит. И поскольку участок был изолирован от соседей с обеих сторон стеной и деревьями, никто из них тоже не поднял тревогу. — Дай-ка сюда пистолет, — велел Бен. Рейчел протянула ему пистолет со своего места за сиденьями. Все еще дрожа, Сара Киль наблюдала за ними. Она уже вышла из транса. Бен открыл дверь и собрался вылезти из машины. — Куда ты? — спросила Рейчел. — Хочу убедиться, что они проехали мимо и, не вернулись. И нужно найти другую машину. — Мы можем сменить колесо… — Нет. Эта груда металла слишком приметная. Нам требуется что-нибудь попроще. — Но где ты возьмешь другую машину? — Украду, — просто ответил он. — Ты тут сиди и не дергайся, я постараюсь вернуться побыстрее. Он тихо закрыл дверцу, свернул за угол дома и исчез.Когда Бен, пригнувшись, продвигался вдоль стены, он услышал вдалеке целый хор сирен. По-видимому, машины «Скорой помощи» и полицейские стекались к тому месту на Палм-Каньон-драйв в миле или двух отсюда, где изрешеченные пулями полицейские вогнали свою патрульную машину в витрину магазина. Добравшись до фасада дома, Бен увидел приближающийся «Кадиллак». Он нырнул в густые заросли олеандра и, осторожно раздвигая ветви, усыпанные розовыми цветами и ядовитыми ягодами, выглянул. «Кадиллак» медленно проехал мимо, дав ему возможность убедиться, что там находились три человека. Хорошо разглядеть он смог только одного, сидящего впереди рядом с водителем, — начинающаяся лысина, усы, грубоватые черты лица и злой рот с тонкими губами. Разумеется, они искали красный «Мерседес». У них хватило ума сообразить, что Бен мог свернуть куда-нибудь в тень и подождать, пока они проедут мимо. Он от души понадеялся, что не оставил ясных следов шин, когда пересекал нескошенную лужайку между дорожкой и стеной дома. Лужайка была засажена очень выносливым сортом бермудской травы, к тому же ее нечасто поливали, и то тут, то там виднелись коричневые высохшие участки, служившие естественной маскировкой следов от шин «Мерседеса». Но, возможно, люди в «Кадиллаке» — тренированные охотники, способные заметить даже легкий след добычи. Прячась в кустах олеандра в крайне не подходящих для обстановки деловом костюме, жилете, белой сорочке и съехавшем набок галстуке, Бен чувствовал себя полным идиотом. Хуже того — абсолютно беспомощным. Он был не в состоянии справиться с брошенным ему вызовом. Слишком долго он торговал недвижимостью. И уже не годился для этих игр, уже давно не годился. Ему сейчас тридцать семь, а действовать последний раз пришлось, когда ему было всего двадцать один, и казалось, что то давнее время затерялось где-то в тумане эры палеолита. Хотя он и старался все годы держать себя в форме, он явно заржавел. На Рейчел произвело впечатление, как он обошелся с человеком по имени Винсент Бареско там, в кабинете Эрика, и его умение водить машину, но сам-то он знал, что его реакция далеко не такая, как когда-то. К тому же он понимал, что эти люди, его безымянные противники, народ серьезный. Он был напуган. Они разделались с двумя полицейскими с такой легкостью, словно прихлопнули надоедливых мух. Господи! Какая общая тайна может быть у них и Рейчел? Что, черт побери, может быть настолько важным, что для сохранении тайны они готовы убить любого? Если он через час будет еще жив, он так или иначе заставит ее рассказать. Хватит, черт побери, больше он не позволит ей тянуть. Мотор «Кадиллака» мягко мурлыкал или, скорее, урчал, и машина медленно кралась по улице. Какое-то мгновение парень с усами смотрел прямо на Бена, во всяком случае, ему так показалось, прямо ему в лицо меж олеандровых ветвей, которые он слегка раздвинул. Бен хотел было отпустить ветви, но побоялся, что движение, даже незначительное, привлечет их внимание. Поэтому он просто смотрел в глаза этому парню, ожидая, что «Кадиллак» остановится, дверцы распахнутся, раздастся автоматная очередь и осыплет листья олеандра тысячей пуль. Но машина медленно продолжала ползти мимо дома и вниз по улице. Наблюдая, как исчезают хвостовые огни, Бен наконец с дрожью перевел дыхание. Он вылез из кустов, вышел на улицу и остановился в тени высокой джакаранды, росшей у дороги. И не сводил глаз с «Кадиллака», пока тот, проехав три квартала, не взобрался на небольшой холм и не исчез за его хребтом. В отдалении все еще ревели сирены, только их стало меньше. Раньше их звук казался сердитым, теперь же в нем звучала скорбь. Держа наготове пистолет тридцать второго калибра, Бен принялся бродить по окутанным ночной тьмой окрестностям в поисках машины. Рейчел перебралась из багажника на водительское сиденье «Мерседеса». Там было куда удобнее, не так тесно и сподручнее разговаривать с Сарой. Она включила слабый свет сверху, предназначенный для изучения карты, уверенная, что его не будет видно за густой завесой деревьев и кустарников. Бледный, похожий на лунный свет освещал часть приборной панели, консоль, лицо Рейчел и испуганную мордашку Сары. Избитая девушка уже вышла из шокового состояния и могла по крайней мере реагировать на вопросы. Она все еще держала согнутую в локте руку около груди, что делало ее почему-то похожей на маленькую птичку с перебитым крылом. Она ничего не говорила, но, когда ее глаза встречались с глазами Рейчел, в них светилось сознание. — Милая, мы через несколько минут приедем в больницу, хорошо? — сказала Рейчел. Девушка кивнула. — Сара, ты догадываешься, кто я? Та отрицательно покачала головой. — Я Рейчел Либен, жена Эрика. В голубых глазах Сары снова плеснулся страх, заставив их потемнеть. — Да нет, милая, все в порядке. Я на твоей стороне. Правда. Я как раз с ним разводилась. Я знала про его молоденьких девушек, но я вовсе не поэтому от него ушла. Он был ненормальный, понимаешь? Весь перекрученный, безжалостный и больной. Он внушал мне страх и отвращение. Поэтому не бойся говорить со мной. Я твой друг. Ты поняла? Сара снова кивнула. Рейчел немного помолчала, оглянулась на темноту вокруг, пустые черные окна дома и закрыла обе дверцы машины изнутри. В машине становилось жарко. Она знала, что надо опустить стекла, но так ей казалось безопасней. Рейчел снова повернулась к девушке. — Расскажи мне, что с тобой случилось, милая. Все расскажи. Девушка попыталась заговорить, но не смогла. По ее телу то и дело пробегала дрожь. — Перестань бояться, — уговаривала ее Рейчел. — Никто тебя теперь не тронет. — Она надеялась, что говорит правду. — Никто тебя не тронет. Кто это сделал? В лунном свете лампочки кожа Сары казалась бледной, цвета слоновой кости. Она прокашлялась и прошептала: — Эрик. Эрик меня избил. Хотя Рейчел знала ответ заранее, она почувствовала, как холод пробрал ее до костей. На какое-то время она потеряла дар речи. Наконец с трудом проговорила: — Когда? Когда он тебя побил? — Он приехал… в половине первого ночи. — Бог ты мой, меньше чем за час до нашего появления. Он, наверное, уехал прямо перед нами. С того самого мгновения, когда она ушла из морга этим вечером, Рейчел все время надеялась догнать Эрика, так что вроде бы ей надлежало быть довольной, что они идут прямо по его следам. Но вместо этого, когда она поняла, как близко они уже подошли к нему, сердце ее бешено заколотилось и стало трудно дышать. — Он позвонил в дверь, я и открыла, и он… он просто… ударил меня. — Сара осторожно потрогала синяк под глазом; глаз уже почти полностью закрылся. — Ударил меня, я упала, он еще два раза меня ударил, ногой… Рейчел вспомнила безобразный кровоподтек на бедре Сары. — …схватил меня за волосы… Рейчел взяла руку девушки и крепко ее сжала. — …втащил в спальню… — Продолжай, — попросила Рейчел. — …просто сорвал с меня пижаму, вот, и… продолжал дергать меня за волосы и бить, по лицу, кулаками… — Он тебя когда-нибудь раньше бил? — Не-е. Так, пара пощечин. Знаете… чтобы место знала. И все. Но сегодня… сегодня он был бешеным… полным ненависти. — Он что-нибудь говорил? — Немного. Обзывал меня. Знаете, ужасно обзывал. И еще, он говорил как-то странно, нечетко. — А как он выглядел? — спросила Рейчел. — О Господи… — Расскажи. — Пара зубов выбита. Весь в кровоподтеках. Порезанный. Он плохо выглядел. — Что значит плохо? — Серый какой-то. — А его голова, Сара? — Девушка крепко сжала руку Рейчел. — Его лицо… все серое… знаете, как пепел. — А его голова? — повторила Рейчел. — Он… пришел в вязаной шапочке. Он ее низко надвинул, ну, знаете, как лыжную. Но когда он меня бил… когда я пыталась отбиваться… шапочка свалилась. Рейчел ждала. В машине было душно и слегка пахло едким Сариным потом. — Голова у него… была вся разбита, — в голосе девушки слышались ужас и отвращение. — Сбоку? — спросила Рейчел. — Ты хорошо видела? — Разбита… и еще вмятина… просто жуть. — А глаза? Расскажи про его глаза. Сара пыталась заговорить, но поперхнулась. Она наклонила голову и на мгновение закрыла глаза, стараясь овладеть собой. Рейчел, охваченная безрассудным, но вполне объяснимым ощущением, что кто-то — что-то — тихо подкрадывается к «Мерседесу», снова стала всматриваться в темноту. Казалось, что ночь бьется о машину, пытаясь войти через окна. Когда девушка снова подняла голову, Рейчел попросила: — Пожалуйста, милая, расскажи мне о его глазах. — Странные. Расширенные. Как в пустоту смотрят, понимаете? И… затуманенные… — Как будто задернутые пленкой? — Да. — Теперь движения. Тебе ничего не показалось странным в его движениях? — Иногда… он вроде как дергался… ну, знаете, как в припадке. Но по большей части он двигался быстро, слишком быстро, я не могла от него убежать. — И ты сказала, он невнятно говорил? — Да. Иногда я вообще не могла понять. А пару раз он вдруг переставал меня бить и просто стоял, раскачиваясь взад и вперед, и казался… ну, понимаете, вроде как в замешательстве, как будто забыл, кто он и где он, и обо мне тоже забыл. Рейчел почувствовала, что ее трясет не меньше Сары и что она в свою очередь тоже черпает силы из контакта с рукой девушки. — Его прикосновение, — продолжала Рейчел. — Его кожа. Какая она была на ощупь! — Вам ведь и спрашивать не обязательно, верно? Потому что вы и так знаете, какая она была на ощупь. Так? — спросила девушка. — Верно? Каким-то образом… вы знаете. — Но все равно расскажи. — Холодная. Слишком холодная. — И влажная? — Да… но не так, как пот. — Сальная, — подсказала Рейчел. Видно, девушка так ясно все вспомнила, что ее едва не стошнило, и она через силу кивнула. «Слегка сальная плоть, первая стадия, самая первая стадия разложения», — подумала Рейчел, но ей самой было так противно и тошно, что она не высказала эту мысль вслух. — Я сегодня смотрела новости по телеку в одиннадцать вечера, — проговорила Сара. — И тогда я впервые узнала, что он погиб, попал под грузовик днем, в смысле вчера днем, и я не знала, как долго смогу оставаться в доме, пока кто-нибудь меня не выгонит, и старалась придумать, что же мне делать, куда пойти. Но и часа не прошло после новостей, как он появился на пороге, и я сначала решила, что, наверное, произошла ошибка, что там все перепутали, а потом… О Господи… потом я поняла, что ничего не перепутали. Он… он действительно погиб. Он погиб. — Да. Девушка осторожно облизала разбитую губу. — Но каким-то образом… — Да. — …он вернулся. — Да, — сказала Рейчел. — Он вернулся. Вернее, он все еще возвращается. Он не смог сделать это полностью, может быть, и вообще не сможет. — Но как… — Неважно как. Тебе не надо знать. — И кто… — Ты не хочешь знать кто! Поверь мне, ты не хочешь знать кто, не можешь себе этого позволить. Девочка, послушай меня внимательно и запомни все, что я тебе сейчас скажу. Ты не можешь рассказать никому, что ты сегодня видела. Никому. Поняла? Если ты расскажешь… жизнь твоя будет в большой опасности. Есть люди, которые убьют тебя не задумываясь, чтобы ты не рассказала о воскресении Эрика. Здесь очень многое завязано, ты многого и не знаешь, но они убьют столько людей, сколько нужно, чтобы сохранить свою тайну. Девушка рассмеялась, сухо, иронично, с оттенком безумия. — Да если я и расскажу, кто мне поверит? — Вот именно, — подтвердила Рейчел. — Они подумают, я рехнулась. Это же сумасшествие, такого просто не может быть. В голосе Сары слышалось какое-то мрачное отчаяние, и Рейчел поняла: то, что сегодня видела эта девушка, изменило ее раз и навсегда, может, к лучшему, может, к худшему. Она никогда не будет такой, как раньше. И долгое время, возможно до конца жизни, будет плохо спать, боясь увидеть один и тот же сон… — Ладно, — проговорила Рейчел. — Когда мы приедем в больницу, я заплачу по всем счетам. И еще дам тебе чек на десять тысяч долларов, которые, я очень надеюсь, ты не истратишь на наркотики. И если хочешь, позвоню твоим родителям в Канзас и попрошу их приехать за тобой. — Я… да, пожалуйста. — Договорились. Я думаю, это будет правильно, милая. Уверена, они о тебе беспокоятся. — Вы знаете… Эрик бы меня убил. Уверена, что он этого хотел. Убить меня. Может, не именно меня. Все равно кого. Просто он должен был убить кого-то, такая у него была потребность. Я просто там была. Понимаете? Подвернулась под руку. — А как тебе удалось от него вырваться? — Он… вроде как отключился на пару минут. Я уже говорила, он иногда был в каком-то замешательстве. И вот в один момент глаза его еще больше замутились, он начал издавать эти странные свистящие звуки. Отвернулся от меня и стал смотреть вокруг, вроде как все у него перепуталось… ну, знаете, озадаченный такой сделался. И вроде ослабел, потому что прислонился к стене у двери в ванную и голову повесил. Рейчел вспомнила кровавый отпечаток ладони на стене рядом с дверью в ванную комнату. — И когда он таким стал, — продолжала Сара, — когда он вроде отвлекся, я тогда на полу лежала, все жутко болело, двигаться почти не могла, так я только и сумела, что доползти до душа, и все боялась, что когда он придет в себя, то найдет меня, но этого не случилось. Он или не мог вспомнить про меня, или не догадался, куда я делась. И потом я услышала, что он где-то там в доме, все бьет и колотит. — Он здорово все в кухне порушил, — заметила Рейчел, и из самого темного угла ее памяти всплыл образ ножей, глубоко всаженных в кухонную стену. Из глаз Сары потекли слезы, сначала из здорового, потом из почерневшего и затекшего, и она сказала: — Понять не могу… — Что? — спросила Рейчел. — Почему он пришел ко мне? — Да он скорее всего не конкретно к тебе пришел. Если бы в доме был сейф, он, возможно, взял бы деньги. Но, честно говоря, я думаю… что он просто искал место, где бы на время укрыться, пока процесс… не закончился. Потом, когда он на время отключился, а ты спряталась, он, опомнившись и не найдя тебя, мог решить, что ты отправилась за помощью, и поскорее убрался, куда-то еще поехал. — Готова поспорить, что в охотничий домик. — Какой охотничий домик? — А вы не знаете об охотничьем домике на озере Эрроухед? — Нет, — призналась Рейчел. — Он не то чтобы у озера. Дальше, на горе. Эрик меня туда раз возил. У него там два акра земли и этот маленький домик… Кто-то постучал в стекло. Рейчел и Сара вскрикнули в испуге. Но то был всего лишь Бен. Он открыл дверцу с той стороны, где сидела Рейчел, и сказал: — Пошли. Я достал новые колеса. Серая «Сабару», куда менее приметная, чем эта тачка. Рейчел поколебалась, перевела дыхание и подождала, пока успокоится сердце. У нее было такое ощущение, что они с Сарой — маленькие дети, сидящие у костра и рассказывающие истории про привидения, стараясь напугать друг друга, что им вполне удается. На мгновение, как это ни дико, ей показалось, что стучал по стеклу — тук-тук-тук — своим костлявым пальцем скелет.
Глава 12
ШАРП
Джулио невзлюбил Энсона Шарпа с первого взгляда. С каждой минутой, проведенной в его обществе, эта неприязнь усиливалась. Шарп вошел в дом Рейчел Либен в Пласеншии с таким наглым видом и так многозначительно предъявил свои документы агента Бюро оборонной безопасности, как будто ждал, что обыкновенные полицейские упадут на колени и начнут молиться на такую важную птицу, как он. Потом взглянул на распятую на стене Бекки Клинстад, покачал головой и сказал: — А жаль. Хорошенькая была бабенка, верно? С повелительной резкостью, рассчитанной на то, чтобы оскорбить, он сообщил им, что убийство Фернандес и Клинстад теперь является частью крайне секретного федерального дела, а местные полицейские по причинам, которые он не может — или не хочет — раскрывать, от него отстраняются. Шарп задавал вопросы и требовал ответов, но сам никаких ответов не давал. Он был крупным мужчиной, крупнее Риза. Руки, грудь и плечи казались высеченными из огромных кусков дерева, а шея по ширине равнялась голове. В отличие от Риза ему нравилось использовать свои внушительные габариты для унижения других. У него была привычка подходить к человеку поближе, почти вплотную и нависать над ним при разговоре, глядя сверху вниз с легкой, едва заметной, но все равно раздражающей усмешкой. Он был хорош собой и явно гордился этим: густые светлые волосы, подстриженные у дорогого парикмахера, необычно яркие желто-зеленые глаза, как бы говорящие: я лучше тебя, хитрее тебя, умнее тебя, и так будет всегда. Шарп заявил Орину Малвеку и другим полицейским из Пласеншии, что они должны освободить помещение и прекратить всякие расследования. — Все собранные улики, все сделанные фотографии и все составленные документы должны быть переданы моей команде немедленно. Оставьте одну патрульную машину и двух офицеров и прикажите им всячески нам помогать. Вне сомнения, Орину Малвеку Шарп нравился не больше, чем Джулио и Ризу. Малвек и его ребята были низведены до роли посыльных на побегушках у федерального агента. Разумеется, им это не пришлось по душе, хотя, прояви Шарп больше такта, черт возьми, хоть сколько-нибудь такта, они отнеслись бы ко всему значительно спокойнее. — Я должен проконсультироваться с моим начальником по поводу ваших указаний, — заявил Малвек. — Сделайте милость, — ответил Шарп. — А пока, пожалуйста, уберите всех ваших людей из дома. Да, и вы обязаны молчать по поводу того, что здесь видели. Это понятно? — Я проконсультируюсь с начальником, — повторил Малвек. Когда он уходил, лицо его было красным, а в висках стучала кровь. С Шарпом приехали двое в темных костюмах. Эти были помельче Шарпа и не такие наглые, но крутые и самодовольные. Они встали по бокам двери внутри спальни, как часовые в храме, и следили за Джулио и Ризом с нескрываемым подозрением. Джулио раньше никогда не приходилось встречаться с людьми из этого Бюро. Они сильно отличались от агентов ФБР, с которыми ему иногда доводилось работать, и походили на полицейских еще меньше, чем фэбээровцы. От них за версту несло элитарностью, как резким одеколоном. Обращаясь к Джулио и Ризу, Шарп сказал: — Я знаю, кто вы, и я немного знаком с вашей репутацией — два гончих пса. Вы вцепляетесь в дело, и вас не оторвать. В обычных обстоятельствах это похвально. Но в данном случае вам придется разжать зубы и отпустить. Яснее выразиться не могу. Понятно? — Это наше дело, — сердито отозвался Джулио. — Оно началось в нашем районе, к нам поступил первый вызов. Шарп нахмурился. — Говорю вам, оно вас больше не касается. Что до вашего участка, так там нет такого дела, так что вам и не над чем работать. Все досье на Фернандес, Клинстад и Либена изъяты из ваших архивов, как будто их никогда не существовало. С этого момента всем занимаемся мы. Сюда скоро подъедет моя собственная команда судебных экспертов из Лос-Анджелеса. Нам от вас совершенно ничего не нужно. Comprende, amigo[106]? Послушайте, лейтенант Вердад, вы уже отстранены. Спросите ваше начальство, если не верите. — Мне это не нравится, — бросил Джулио. — А и не требуется, чтобы вам нравилось, — заметил Шарп.Джулио отъехал на два квартала от дома Рейчел Либен и вынужден был остановиться: злость душила его. Он резко подъехал к обочине, переключил скорости и выругался: — Черт! Шарп настолько обожает сам себя, что, возможно, думает, что его мочу следует разлить по бутылкам и продавать в парфюмерном отделе. За все десять лет совместной работы Ризу никогда не приходилось видеть Джулио в таком гневе. В бешенстве. Глаза его метали искры. Правая половина лица подергивалась от тика. Челюсти то сжимались, то разжимались, жилы на шее вздулись. Чувствовалось, как ему хочется что-нибудь разбить. Ризу пришла в голову забавная мысль, что, будь Джулио героем комиксов, у него из ушей пошел бы пар. — Конечно, он задница, — заключил Риз, — но задница, обладающая большой властью и связями. — Ругается как извозчик, черт бы его побрал. — Полагаю, он делает свое дело. — Нет, это он наше дело делает. — Поехали, — попросил Риз. — Не могу. — Поехали. Джулио покачал головой. — Нет. Это особенное дело. У меня свои собственные обязательства перед этой девушкой, Фернандес. И не проси у меня объяснений. Думаешь, я на старости лет стал сентиментальным? Если бы это было просто еще одно дело, обычное убийство, я бы бросил в ту же минуту. Но это дело действительно особенное. Риз вздохнул. Для Джулио почти каждое дело было особенным. Может, он и не вышел ростом, особенно для детектива, но, черт побери, он был предан своей работе и так или иначе всегда находил повод для усиленных стараний даже по такому делу, которое другой полицейский давно бы бросил и, здраво рассуждая, был бы совершенно прав. Иногда он говорил: — Риз, у меня здесь особые обязательства перед жертвой, потому что он был так молод, что не успел узнать жизнь, это несправедливо, это меня грызет. А иногда говорил по-другому: — Риз, это дело задевает меня лично, оно не такое, как другие, потому что жертва была так стара и так беззащитна, и если мы будем лениться проделать лишнюю милю, чтобы защитить наших стариков, то мы очень больное общество. И это грызет меня, Риз. Иногда дело становилось особенным, потому что жертва была хорошенькой, и какая это ужасная трагедия, что такая красота потеряна для мира. Это тоже грызло его. Но он угрызался, и когда жертва была уродлива и, следовательно, ущербна, что делало несвоевременную смерть еще одним проклятием, а стало быть, несправедливостью. На этот раз Риз подозревал, что особое отношение Джулио к Эрнестине связано со сходством ее имени с именем его давно умершего брата. Не требовалось многого, чтобы заставить Джулио почувствовать себя в долгу перед жертвой. Любая малость годилась. Суть дела заключалась в том, что водоем его сочувствия и жалости был так глубок, что он сам мог там захлебнуться. Выпрямившись за рулем и слегка постукивая себя кулаком по бедру, Джулио сказал: — Вне сомнения, кража трупа Эрика Либена и убийство двух женщин связаны. Но как? Кто убил Эрнестину и Бекки? Те люди, что украли тело? Но зачем? И зачем прибивать эту несчастную к стене в спальне миссис Либен? Это же дикость! — Поехали, — повторил Риз. — И где миссис Либен? Что ей обо всем этом известно? Кое-что она знает, это точно. Когда я ее допрашивал, видно было, что она что-то скрывает. — Поехали. — И почему это дело связано с национальной безопасностью, потребовало внимания Энсона Шарпа и этого треклятого Бюро по оборонной безопасности? — Поехали, — терпеливо повторил Риз, напоминая самому себе заевшую пластинку и понимая, что бесполезно даже пытаться отвлечь Джулио, но тем не менее делая такую попытку. Такой уж между ними был заведен порядок: Риз должен был сказать все, что ему полагалось, иначе у него осталось бы чувство, что он что-то недоделал. Джулио, гнев которого уже несколько прошел, продолжал рассуждать: — Наверное, это как-то связано с работой, которую компания Либена выполняла для правительства. Какой-нибудь оборонный проект. — Значит, ты не собираешься бросать это дело, так? — Я же сказал, Риз, у меня особенное отношение к этой бедняжке Эрнестине. — Не беспокойся, они найдут, кто ее убил. — Кто найдет? Шарп? Мы должны положиться на него! Он же — ослиная задница. Видел, как он одевается? — Сам Джулио, разумеется, всегда был одет безукоризненно. — Рукава пиджака по меньшей мере на дюйм короче, чем нужно, и их давно пора выпустить по шву. И ботинки свои он редко чистит: такое впечатление, что он в них по горам лазил. Как он сможет найти убийцу Эрнестины, если не в состоянии следить за своей обувью? — У меня свое особенное чувство по поводу этого дела, Джулио. Я думаю, нам здорово намылят шею, если мы его не бросим. — Я не могу просто взять и уйти, — решительно заявил Джулио. — Я буду продолжать. А ты можешь бросить, если хочешь. — Я остаюсь. — Я на тебя не давлю. — Я с тобой, — проговорил Риз. — Ты вовсе не обязан делать то, чего не хочешь. — Сказал, остаюсь, значит, остаюсь. Пять лет назад, проявив завидное мужество, Джулио Вердад спас жизнь четырехлетней Эстер Сюзанны Хагерсторм, единственной дочери Риза, маленькой и трогательно беспомощной. С точки зрения Риза Хагерсторма, времена года менялись, солнце вставало и садилось, прилив набегал и снова уходил только с единственной целью: доставить удовольствие Эстер. Она была центром, сердцевиной, целью и смыслом его жизни, и он потерял бы ее, если бы не Джулио, который, чтобы ее спасти, убил одного и едва не убил еще двоих. Так что Риз скорее отказался бы от наследства в миллион долларов, чем бросил своего напарника. — Я и один справлюсь, — заверил Джулио. — Честно. — Ты разве не слышал? Я с тобой. — Мы вполне можем нарваться на дисциплинарное наказание. — Я с тобой. — Могут полететь наши повышения. — Я с тобой. — Значит, ты со мной? — С тобой. — Ты уверен? — Уверен. Джулио включил передачу, отъехал от обочины и направился прочь из Пласеншии. — Ладно, мы оба подустали, надо немного отдохнуть. Я тебя довезу до дома, поспи несколько часов, я заеду за тобой в десять утра. — А ты что будешь делать, пока я сплю? — Может, и сам немного вздремну, — ответил Джулио. Риз, его сестра Агнес и Эстер Сюзанна жили в Ориндже на Ист Эдамс-авеню в маленьком симпатичном домике, который Риз сам основательно переделал в свободные дни. У Джулио была квартира в престижном районе, в квартале от Четвертой улицы, на восточной окраине Санта-Аны. Обоих дома ждали холодные постели. Жена Джулио умерла от рака семь лет назад. Жену Риза, мать Эстер, убили во время того же инцидента, когда он едва не потерял и дочь. Так что он вдовел на два года меньше, чем Джулио. Они выехали на шоссе 57, направляясь по домам, и Риз сказал: — А если ты не сможешь заснуть? — Поеду в участок, поразнюхаю, что и как, постараюсь узнать, почему это Шарп так чертовски заинтересован в том, чтобы править бал. Может, спрошу кое-кого и насчет доктора Эрика Либена. — А что мы будем делать, когда ты заедешь за мной в десять утра? — Еще не знаю, — пожал плечами Джулио. — Но к тому времени я что-нибудь да придумаю.
Глава 13
ОТКРОВЕНИЯ
Они отвезли Сару Киль в больницу в краденой «Сабару». Рейчел договорилась об уплате всех счетов, оставила Саре чек на десять тысяч долларов, позвонила родителям девушки в Канзас и уехала вместе с Беном искать подходящее место, где бы провести остаток ночи. К 3.35, сонные и уставшие, они нашли большой мотель на Палм-Каньон-драйв, где принимали посетителей круглосуточно. И хотя, как сказал Бен, от бело-оранжевых занавесок в их комнате его едва слеза не прошибла, а покрывала на кроватях напомнили Рейчел блевотину яка, но душ и кондиционер работали исправно, сами кровати были королевских размеров и с приличными матрасами, да и домик их находился в конце комплекса, подальше от дороги, так что они могли рассчитывать на покой, даже после того как город проснется. Короче, все было не так уж и плохо. Оставив Рейчел на десять минут одну, Бен отогнал краденую «Сабару» на стоянку около супермаркета и вернулся пешком. Уходя и возвращаясь, он постарался не проходить мимо окон конторы мотеля, чтобы не вызывать любопытства ночного портье. Поскольку нужды в большой спешке уже не было, они смогут взять машину напрокат завтра. Пока он отсутствовал, Рейчел сходила к автоматам за льдом и содовой. Теперь на маленьком столике стоял пластиковый контейнер, доверху полный льда, а рядом с ним — банки с диетической и обычной кока-колой, апельсиновым соком и пивом. — Я подумала, тебе хочется пить, — сказала Рейчел. Сейчас, когда напряжение немного спало, Бен вдруг ощутил, что они находятся, по сути, в центре пустыни и что вот уже многие часы он весь в поту. Стоя, он двумя глотками расправился с апельсиновым соком и открыл банку пива, которую осушил почти с той же скоростью. Затем сел и приступил к диетической кока-коле. — Даже если учесть их горбы, интересно, как это верблюды выдерживают? Она села с другого края стола, сгорбившись, как будто на плечи ее давил огромный вес, и тихо произнесла: — Ну как? — Что ну как? — Спрашивать будешь? Он зевнул, но не из вредности, не потому, что хотел рассердить ее. Просто возможность поспать казалась ему в данный момент куда более привлекательной, чем выяснение правды. — Спрашивать о чем? — вяло уточнил он. — О чем ты спрашивал всю ночь. — Ты ясно дала понять, что отвечать не собираешься. Она выглядела настолько печальной, что во всем существе Бена возникло холодное предчувствие смерти, и он подумал, не слишком ли был опрометчив, влезши так глубоко во все это ради любимой женщины. Рейчел смотрела на него так, как будто он уже умер — как будто они оба умерли. — Если ты готова рассказать, — добавил он, — мне нет надобности задавать вопросы. — Ты должен отнестись ко всему без предубеждения. В то, что я расскажу, невозможно поверить… это чертовски странно. Он отпил кока-колы и спросил: — Ты о том, что Эрик умер и воскрес из мертвых? Рейчел вздрогнула от изумления и с открытым ртом посмотрела на него. Попыталась заговорить, но ничего не получилось. Он наслаждался, ему никогда в жизни еще не удавалось добиться такой впечатляющей реакции. Наконец она пробормотала: — Но… но как… когда… почему… — Откуда мне знать, почему я знаю? — заметил Бен. — Тебя интересует, когда я сообразил? Что мне подсказало? Она кивнула. — Ну что же, — начал он. — Если бы кто-нибудь хотел украсть тело Эрика, они наверняка приехали бы на машине, чтобы его увезти. Им не пришлось бы убивать женщину и красть ее машину. И еще эта брошенная в гараже в Вилла-Парке больничная одежда. Кроме того, ты была до смерти напугана с того самого момента, как я появился у твоих дверей вчера вечером, а тебя не так-то легко напугать. Ты же трезвая, уверенная в себе женщина, не из тех, кто легко впадает в панику. По правде сказать, мне не приходилось видеть, чтобы ты чего-либо боялась… разве что Эрика. — Его действительно убил этот грузовик, правда. Дело тут не в том, что они неправильно поставили диагноз. Бену немного расхотелось спать. — Он занимался генной инженерией и был гением в этой области, — сказал он. — И изо всех сил хотел остаться молодым. Думаю, ему удалось подкорректировать гены, связанные со старением и смертью. А может, он создал новый искусственный ген, способствующий быстрому заживлению ран, восстановлению тканей… дающий бессмертие. — Ты не перестаешь меня удивлять, — проговорила она. — Такой уж я парень. Усталость Рейчел сменилась возбуждением. Она не могла усидеть на месте, встала и принялась ходить по комнате. Бен остался сидеть, попивая диетическую кока-колу. Всю ночь он трещал без умолку; теперь пришла ее очередь. В ее печальном голосе звучали ужас и покорность. — Когда Генеплан запатентовал свои крайне доходные микроорганизмы, Эрик мог выйти на рынок, продать 30 процентов акций и заработать за один день сто миллионов долларов. — Сто? Черт! — Два его партнера и трое ученых, у которых тоже были акции компании, хотели бы, чтобы он так поступил, потому что в этом случае они бы тоже хорошо заработали. Хотели все, кроме Винсента Бареско. Эрик отказался. — Бареско? — перебил ее Бен. — Тот парень с «магнумом», которого я слегка приложил в кабинете Эрика, он что, тоже партнер? — Он доктор Винсент Бареско. Один из тщательно подобранных исследователей, а также один из немногих, кто знает о проекте «Уайлдкард». По существу, только шестеро в курсе дела. Шестеро и я. Эрик любил передо мной похваляться. Так или иначе, Бареско поддержал Эрика, и он же убедил остальных. Если компания остается в руках нескольких человек, имне придется угождать пайщикам. Они могут себе позволить потратить деньги на какие-либо рискованные проекты и ни перед кем не отчитываться. — Как, например, попытаться найти секрет бессмертия или чего-то подобного. — Они не рассчитывали достигнуть полного бессмертия, только увеличить продолжительность жизни, добиться регенерации. На это потребовалось много денег, тех самых, которые пришлось бы уплатить пайщикам в качестве дивидендов. Но все равно Эрик и остальные богатели, получая скромные отчисления от общих доходов, так что у них не было острой потребности в капитале, который они бы получили, если бы продали часть акций. — Регенерация, — задумчиво произнес Бен. Остановившись у окна, Рейчел осторожно отодвинула занавеску и посмотрела на еле видную в ночи автомобильную стоянку мотеля. — Видит Бог, — продолжала она, — я не специалист по рекомбинантным ДНК. Ну в общем, они хотели создать доброкачественный вирус, который бы «вносил» новый генный материал в клетки тела и помещал его точно в хромосомные цепочки. Представь себе этот вирус в виде скальпеля для генной хирургии. Он способен делать тончайшие операции, которые невозможно сделать с помощью обычного скальпеля. Способен присоединиться к определенной части хромосомной цепочки, при этом либо уничтожая уже имеющийся ген, либо внося новый. — И они это сделали? — Да. Потом им потребовалось точно определить гены, связанные со старением, видоизменить их и создать тот генный материал, который вирус будет вносить в клетки. Эти новые гены должны будут остановить старение и значительно усилить работу естественной иммунной системы, что заставит организм вырабатывать большие дозы интерферона и других заживляющих веществ. Понимаешь? — В основном. — Они даже верили, что им удастся заставить человеческий организм регенерировать разрушенные ткани, кости и основные органы. Рейчел все еще смотрела в ночь. Ему показалось, что она побледнела. Но не из-за увиденного за окном — она глубоко переживала то, что ей приходилось ему рассказывать. Наконец она заговорила снова: — Их патенты приносили им кучу денег, горы. Вот они и потратили Бог знает сколько десятков миллионов, пытаясь разгадать эту загадку, сложить все детали в стройную картину, одновременно дробя эту работу таким образом, чтобы никто не догадался, как много усилий они вкладывают в свои исследования. Это был финансируемый частным образом эквивалент проекта «Манхэттен», а засекречивался он почище разработок по атомной бомбе. — Засекречивали… потому что в случае удачи хотели приберечь возможность продлить жизнь только для себя? — Частично да. — Опустив занавеску, она отвернулась от окна. — Но держа, все в тайне и предоставляя такую возможность лишь избранным, ты только подумай, какую власть над миром они бы приобрели. Они даже могли создать новую господствующую расу долгожителей, которые своим существованием были бы обязаны им. А угроза отказать в этом благодеянии служила бы хорошей дубинкой для всех непослушных. Я часто слышала, как Эрик рассуждал об этом, мне все казалось ерундой, пустыми мечтами, хотя я и понимала, что в своей области он гений. — Эти люди в «Кадиллаке», которые гнались за нами и пристрелили полицейских… — Из Генеплана, — сказала она, снова принимаясь возбужденно ходить по комнате. — Я узнала машину. Она принадлежит Руперту Ноулсу. Он внес начальный капитал и помог Эрику развернуться. Он следующий за Эриком главный партнер. — Богатый человек… и он рискует своей репутацией и свободой, не останавливается перед убийством двух полицейских… — Да, чтобы сохранить все в тайне. Он вообще-то не слишком щепетильный человек. И если ему предоставится такая возможность, думаю, от его щепетильности не останется и следа. — Ладно. Ну, разработали они способ продлить жизнь и обеспечить стремительное заживление. Дальше что? Рейчел и без того была неестественно бледна. Теперь ее прелестное лицо вдобавок как-то потемнело, как будто на него легла тень, хотя в комнате никакой тени не было. — Дальше… они начали экспериментировать на лабораторных животных. В основном на белых мышах. Поняв, что Рейчел приближается к самой сути своего повествования, Бен выпрямился в кресле и отставил банку кока-колы в сторону. Она минуту помедлила, подошла к входной двери и проверила запор. Хотя замок был надежно закрыт, она, немного поколебавшись, взяла стул с прямой спинкой, стоящий у стола, наклонила его и подставила под дверную ручку для большей безопасности. Несмотря на то что подобная излишняя осторожность казалась ему граничащей с паранойей, Бен возражать не стал. Рейчел вернулась к кровати. — Они сделали вливание мышам, изменили этих мышей, разумеется, используя мышиные гены, а не человеческие, но на базе той же теории и техники. Так они рассчитывали продлить им жизнь. И мыши, которые обычно живут очень недолго, стали жить дольше… в четыре раза дольше, при этом оставаясь молодыми. Некоторым мышкам наносились всяческие травмы — удары, порезы, проколы, переломы костей — и все заживало с поразительной скоростью. Они выздоравливали и прекрасно жили дальше, несмотря на практически уничтоженные почки. У них регенерировались легкие, наполовину съеденные парами кислоты. Они даже прозревали после того, как были ослеплены. И тогда… Она умолкла, взглянув на забаррикадированную дверь, потом на окно, опустила голову и закрыла глаза. Бен терпеливо ждал. Все еще не открывая глаз, Рейчел продолжала: — Они обычно убивали некоторых мышей, чтобы потом произвести вскрытие и изучить ткани. Некоторых убивали, вводя в кровь воздух. Других — с помощью вливания смертельных доз формальдегида. В том, что они умерли, не могло быть сомнения. Они были совсем мертвые. Но те, которых не успели вскрыть, они… ожили. В течение нескольких часов. Сначала они просто лежали на лабораторных подносах, потом… начали дергаться, извиваться. Слабые, с мутными глазами… но они ожили. Еще через какое-то время они поднялись на лапки, принялись бегать по клетке, есть. Они ожили полностью. Такого никто не ожидал, ни один человек. Разумеется, перед тем как их убили, иммунная система этих мышек была многократно усилена, их продолжительность жизни была значительно увеличена, но… — Рейчел подняла голову и взглянула на Бена. — Но раз граница смерти пересечена… кто бы мог подумать, что из-за нее можно вернуться! У Бена начали дрожать руки, по спине пробежал ледяной холод, и он понял, что только теперь начинает осознавать настоящее значение всех этих событий. Его охватила странная смесь ужаса, благоговения и дикой радости: ужас от мысли о возможности возвращения, неважно кого, человека или мышки, из мертвых; благоговение от сознания, что человеческий гений, кажется, разнес наконец в прах связывающие все живое цепи смертности; радость, что человечество может быть теперь навеки избавлено от неизбежности потери близких и страха перед болезнями и смертью. Как бы читая его мысли, Рейчел сказала: — Может быть, когда-нибудь… может быть, даже очень скоро исчезнет страх перед могилой. Но пока еще нет. Пока нет. Потому что проект «Уайлдкард» оказался не совсем успешным. Ожившие мышки были… странными. — Странными? Она не стала объяснять, что имела в виду под этим пугающим словом, а добавила: — Сначала ученые думали, что странное поведение мышей объясняется каким-то поражением мозга — возможно, не поражением мозговых тканей, а коренным изменением самой химии мозга, которая не может быть восстановлена даже с помощью повышенной регенерирующей способности. Но дело оказалось не в этом. Они продолжали выбираться из лабиринта и выполнять другие хитрые штуки, которым их научили еще до смерти… — Значит, память, знания, даже характер в состоянии сохраниться на тот период, который разделяет смерть и возвращение к жизни. Она кивнула: — И это подтверждает, что некоторое время после смерти мозг продолжает частично функционировать, во всяком случае, достаточно, чтобы сохранить память до… воскрешения. Вроде компьютера, который при отключении электроэнергии начинает работать от батарей. Бену уже совсем не хотелось спать. — Хорошо, значит, мыши умели выбираться из лабиринта, но вели себя странно. Как? Как именно? — Иногда они впадали в панику. Поначалу чаще, потом реже. И тогда бились о стенки клетки или бегали по кругу, гоняясь за собственными хвостами. Такое ненормальное поведение вскоре прошло. Но началось нечто более страшное… и это уже не проходило. Было слышно, как к мотелю подъехала машина и остановилась на автостоянке. Рейчел с беспокойством взглянула на забаррикадированную дверь. В ночной тишине было хорошо слышно, как хлопнула дверца машины. Бен еще больше выпрямился в кресле и напрягся. Послышались шаги. Человек явно направлялся прочь от домика Бена и Рейчел. Где-то далеко открылась и закрылась дверь. Рейчел с облегчением расслабилась. — Как ты знаешь, мыши от рождения трусливы. Они никогда не дерутся со своими врагами. У них нет возможностей для этого. Они спасаются бегством, увиливают, прячутся. Они даже не воюют между собой за территорию. Они робки и покорны. Но ожившие мыши вовсе не были робкими. Они дрались между собой и даже нападали на тех мышей, которые не были воскрешены. И пытались укусить ученых, которые ими занимались, хотя у мышей нет никаких шансов нанести вред человеку, и они обычно это сознают. Они впадали в ярость, царапали пол своих клеток, махали лапками в воздухе, иные даже сами себя царапали. Иногда такие приступы ярости длились минуту, но иногда продолжались до тех пор, пока мышь не валилась на пол от изнеможения. Какое-то время оба молчали. В комнате царила глубокая, замогильная тишина. Наконец Бен нарушил молчание: — Несмотря на эти странности у мышек, Эрик и его коллеги должны были быть на седьмом небе. Шутка сказать, они надеялись продлить жизнь, а в итоге вообще победили смерть! Разумеется, они жаждали разработать соответствующие методы и для изменения человеческих генов. — Да. — Несмотря на неожиданные приступы ярости у мышей и стремление к насилию. — Да. — Рассчитывали, что у людей подобной проблемы может и не возникнуть… или что с ней можно будет как-то справиться. — Да. — Итак, работа медленно двигалась… слишком медленно, с точки зрения Эрика. Стремление быть молодым, одержимость молодостью, помноженная на патологическую боязнь смерти, привели к тому, что он не захотел ждать, когда все будет выверено и безопасно. — Да. — Вот что ты имела в виду, когда спросила Бареско в кабинете Эрика, знает ли он, что Эрик нарушил основное правило. И каково же это основное правило для генетика или другого специалиста, занимающегося биологическими науками? Что он не имеет права экспериментировать на человеке, пока все имеющиеся проблемы не разрешены, на все вопросы не даны ответы на уровне экспериментов с животными? — Именно, — подтвердила Рейчел. Она сложила руки на коленях, чтобы они не так дрожали, но пальцы все равно продолжали вздрагивать. — И Винсент не знал, что Эрик нарушил основное правило. Я знала, а их, вероятно, новость об исчезновении тела Эрика потрясла до глубины души. Они сразу поняли, что он сделал самую безумную, безответственную и непростительную вещь из всех, какие мог сделать. — И что теперь? — спросил Бен. — Они хотят ему помочь? — Нет. Они хотят его убить. Еще раз. — Почему? — Потому что он не сможет вернуться до конца, никогда не будет таким, каким был. Метод ведь еще не был доведен до совершенства. — Он будет вести себя как те подопытные животные? — Возможно. Будет впадать в ярость, станет опасным. Бен вспомнил о бессмысленных разрушениях в доме в Вилла-Парке, о крови в багажнике «Форда». — Понимаешь, — продолжала Рейчел, — он отличался жестокостью всю свою жизнь, был подвержен приступам гнева, которые ему едва удавалось сдерживать. Мышки сначала были тихими, а Эрик никогда таким не являлся. Так какой же он сейчас? Посмотри, что он сделал с Сарой Киль. Перед глазами Бена встали не только избитая девушка, но и разгромленная кухня в доме в Палм-Спрингс и всаженные в стену ножи. — И если Эрик в приступе такой ярости убил кого-то, — говорила Рейчел, — полиция скорее всего поймет, что он жив, и тогда все узнают о проекте «Уайлд-кард». Поэтому его партнеры хотят убить его каким-нибудь окончательным способом, исключающим воскрешение. Не удивлюсь, если они сожгут тело дотла или расчленят его, а затем разбросают останки по разным местам. «Милостивый Боже, — подумал Бен, — что это — действительность или какой-то театр ужасов?» — А тебя они хотят убить, — сказал он, — потому что ты знаешь о проекте? — Да, но это не единственная причина, почему им хочется до меня добраться. У них есть еще по меньшей мере две. Они, возможно, думают, что я знаю, где Эрик может спрятаться. — Но ты ведь не знаешь? — Есть кой-какие идеи. И Сара Киль еще одну добавила. Но уверенности у меня нет. — Ты утверждаешь, что есть еще третья причина, по которой ты им нужна? Она кивнула. — Я напрямую наследую Генеплан, и они боятся, что я откажусь вкладывать такое количество денег в проект «Уайлдкард». Убрав меня, они имеют больше шансов получить контроль над корпорацией и сохранить проект в тайне. Если бы я опередила их и добралась до сейфа Эрика, где он хранил дневник с записями всех своих идей, у меня было бы неоспоримое доказательство, что такой проект существует, и тогда они бы не рискнули меня убрать. Без доказательства я очень уязвима. Бен вскочил и принялся метаться по комнате, лихорадочно соображая. Где-то в ночи, недалеко от мотеля, в гневе или страсти заорала кошка. Это продолжалось долго, звук то падал, то снова набирал силу, вызывая неприятное ощущение. Наконец Бен остановился и спросил: — Рейчел, а почему ты преследуешь Эрика? С чего это вдруг такая надобность добраться до него раньше остальных? Что ты собираешься делать, когда найдешь его? — Убью, — заявила она без колебаний, и к тоске в ее глазах теперь добавились куда более характерные для Рейчел решимость и железная уверенность. — Его надо убить совсем. Потому что, если я этого не сделаю, он будет прятаться, пока не восстановится полностью, пока не обретет уверенность в себе, а потом убьет меня. Он умер, ненавидя меня, ненависть застлала ему глаза, когда он, как слепой, ринулся под грузовик. И я уверена, что она кипит в нем с того самого момента, когда он пришел в себя в городском морге. В его затуманенном и перекрученном мозгу я — как наваждение, и он не успокоится, пока я жива. Или пока он сам не умрет, на этот раз окончательно. Бен понимал, что она права. И ужасно за нее боялся. Его любовь к прошлому еще более усилилась, он тосковал по более простым временам. Как далеко в своем безумии может пойти современный мир? По ночам улицы принадлежат преступникам. Всю планету можно полностью разрушить за час простым нажатием нескольких кнопок. А теперь… теперь, похоже, станут оживлять мертвых. Бен дорого дал бы за то, чтобы иметь машину времени, которая унесла бы его в лучшие годы, скажем, в начало двадцатых, когда люди еще не разучились изумляться и когда вера в человеческие возможности еще была ничем не омрачена. И все же… он припомнил, какая радость охватила его, когда он узнал, что смерть потерпела поражение, прежде чем Рейчел объяснила, что воскресшие изменяются самым ужасным образом. Он был просто в восторге. Даже неожиданно для такого убежденного консерватора. Вглядываясь в прошлое и сентиментально тоскуя по нему, Бен тем не менее в глубине души, как и все люди его возраста, неизменно восхищался наукой и предоставленной ею возможностью строить более светлое будущее. Может быть, не так уж он был не на месте в современном мире, как ему хотелось думать. Может быть, все происходящее открывало в нем такие черты, о которых он предпочел бы забыть. — И ты сможешь выстрелить в Эрика? — спросил он. — Да. — А я не уверен. Полагаю, ты застынешь на месте, если придется столкнуться, с моральной стороной убийства. — Это не будет убийством. Он больше не человеческое существо. Он уже умер. Живой мертвец. Ходячий мертвец. Он другой. Он изменился. Как те мышки. Он сейчас вещь, не человек, и опасная вещь, и я снесу ему голову без всяких угрызений совести. Если это когда-либо обнаружится, не думаю, чтобы против меня было возбуждено уголовное дело. И с моральной точки зрения я здесь не вижу ничего такого, что заставило бы меня осудить себя. — Похоже, ты об этом хорошо подумала, — сказал Бен. — Но почему бы не спрятаться, посидеть тихо, пусть партнеры Эрика разыщут его и убьют вместо тебя… Она покачала головой. — Не поручусь, что им это удастся. Они могут проиграть. И Эрик доберется до меня раньше, чем они найдут его. Мы ведь говорим о моей жизни, и, видит Бог, я не доверю свою жизнь никому, кроме себя. — И меня, — подсказал Бен. — И тебя, верно. И тебя, Бенни. Он подошел к кровати и сел на край рядом с ней. — Значит, мы гоняемся за мертвецом. — Да. — Но нам надо немного отдохнуть. — Я до смерти устала, — согласилась она. — И куда мы поедем завтра? — Сара рассказала мне об охотничьем домике Эрика в горах недалеко от озера Эрроухед. Похоже, там уединенно. То, что ему сейчас надо, на ближайшие несколько дней, пока идет начальное заживление. Бен вздохнул: — Согласен. Думаю, в таком месте мы можем его найти. — Тебе необязательно со мной ехать. — Поеду. — Но ты не обязан. — Знаю. Но поеду. Она ласково поцеловала его в щеку. Уставшая, потная, в мятой одежде, с покрасневшими глазами и взлохмаченными волосами, она все равно была прекрасна. Он никогда не чувствовал себя ближе к ней, чем сейчас. Когда, люди вместе смотрят в глаза смерти, между ними вырабатывается особая связь, они становятся ближе друг другу, вне зависимости от того, насколько близки они были раньше. Он это знал, недаром он воевал в Зеленом Аду. — Давай отдохнем, Бенни, — нежно промолвила она. — Давай, — согласился он. Но прежде чем лечь и выключить свет, он вынул барабан из «магнума», отобранного у Винсента Бареско несколько часов назад, и пересчитал оставшиеся патроны. Три. Половина барабана была расстреляна в кабинете Эрика, когда Бен напал на Винсента и тот наугад стрелял в темноту. Только три. Негусто. Недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенным, несмотря на пистолет тридцать второго калибра, принадлежащий Рейчел. Как много выстрелов понадобится, чтобы остановить ходячего мертвеца? Бен положил «магнум» на прикроватный столик, откуда мог бы мгновенно достать его, если возникнет такая необходимость. Утром надо будет купить коробку патронов. Нет, две коробки.Глава 14
КАК ПТИЦА В НОЧИ
Оставив двух человек в доме Рейчел Либен, где распятое тело Ребекки Клинстад было наконец снято со стены, и нескольких человек в доме Либена в Вилла-Парке, Энсон Шарп из Бюро оборонной безопасности с двумя агентами полетел на вертолете через ночную пустыню к стильному, но заброшенному любовному гнездышку Либена в Палм-Спрингс. Пилот посадил вертолет на автомобильной стоянке банка, меньше чем в квартале от Палм-Каньон-драйв, где их ждала неприметная служебная машина. Крутящиеся лопасти разрезали горячий воздух пустыни и бросали его охапками в спину торопящегося к машине Шарпа. Еще через пять минут они подъехали к дому, где Эрик Либен держал поочередно своих молоденьких любовниц. Шарп не удивился, обнаружив, что входная дверь открыта. Он несколько раз нажал на кнопку звонка, но никто не вышел. Вытащив «смит-вессон», он прошел в дом, разыскивая Сару Киль, которая, согласно официальным отчетам, была последней забавой Либена. Бюро знало о похождениях покойного ученого, потому что знало все о людях, связанных с совершенно секретными работами по контракту для Пентагона. Сугубо гражданским лицам, вроде Либена, и в голову не приходило, что стоило им получить у Пентагона деньги и согласиться заниматься секретными исследованиями, как тут же все о них, включая личную жизнь, становилось известно. Шарп знал об увлечении Либена современным искусством, архитектурой в стиле модерн и таким же интерьером. Он знал о проблемах в семейной жизни Эрика. Знал, какую еду он предпочитает, какую музыку любит, какое белье носит. И, разумеется, знал о таком пустячке, как девочки-подростки, потому что здесь таилась возможность использовать шантаж, если бы возникла необходимость. Когда Шарп увидел разгром на кухне и особенно воткнутые в стену ножи, он решил, что живой ему Сару Киль не видать. Она скорее всего распята на стене в другой комнате, или привинчена болтами к потолку, или разрублена на куски и нанизана на проволоку на манер кровавой гирлянды, или что-нибудь похуже. Здесь трудно было догадаться, что случится в следующую минуту. Все могло случиться. Жуть. Госсер и Пик, два молодых агента, сопровождавшие Шарпа, были явно озадачены и напуганы, увидев развороченную кухню и осознав, с каким бешенством все это творилось. Они имели такой же доступ к секретам, как и Шарп, поэтому знали, что охотятся на мертвого человека. Что Эрик Либен встал со стола в морге и сбежал, воспользовавшись больничной одеждой. Они также знали, что полуживой и безумный Эрик Либен убил девушек Фернандес и Клинстад, чтобы завладеть их машиной, поэтому и Госсер, и Пик были готовы ко всему и крепко сжимали свои служебные револьверы. Разумеется, Бюро было полностью в курсе исследований, проводимых Генепланом по заказу правительства: создание биологического оружия — смертельных искусственных вирусов. Но Бюро также имело сведения и относительно других проектов, разрабатываемых компанией, включая «Уайлдкард», хотя Либен и его соратники считали, что об этом знают только они, и не подозревали о внедренных в их ряды федеральных агентах и осведомителях. И не понимали, как быстро правительственные компьютеры оценивали переданные им результаты и разгадывали цель всех исследований. Эти гражданские никак не могли взять в толк, что, когда вступаешь в сделку с дядей Сэмом и берешь у него деньги, ты не можешь продать только маленькую часть своей души. Ты вынужден продать всю целиком. Энсон Шарп получал истинное наслаждение, втолковывая эту прописную истину таким людям, как Эрик Либен. Они воображают себя этакими крупными фигурами, но забывают, что всегда найдется фигура покрупнее, которая их сожрет, а в стране нет фигуры крупнее той, что называется Вашингтоном. Шарп обожал наблюдать, как они постепенно приходят к осознанию этой истины. Он упивался зрелищем самоуверенных гениев, когда их пробивал пот и они начинали дрожать. Обычно они старались подкупить его или договориться с ним, некоторые умоляли, но, разумеется, он не мог снять их с крючка. И даже если бы мог, он не стал бы этого делать, ибо ничто не доставляло ему такого удовольствия, как видеть их извивающимися у своих ног. Доктору Эрику Либену и его шести приятелям позволили беспрепятственно заниматься их революционными исследованиями способов продления жизни. Но стоило им только решить все проблемы и получить положительные результаты, как правительство немедленно бы напомнило о себе и тем или иным способом забрало проект в свои руки, быстренько сославшись на его важность для национальной безопасности. Теперь Эрик Либен все похерил. Он испробовал сам на себе сомнительный метод лечения и случайно проверил его, угодив под грузовик. Такого поворота событий никто предвидеть не мог, потому что парень казался достаточно умным, чтобы рисковать собственной генной структурой. Разглядывая разбитую посуду и растоптанные продукты, Госсер сморщил свое лицо мальчика из церковного хора и заметил: — Этот парень настоящий псих. — Как будто зверь какой поработал, — добавил Пик, нахмурившись. Вместе с Шарпом они ушли из кухни и принялись осматривать дом. Наконец зашли в хозяйскую спальню и ванную комнату, где царил еще больший хаос и местами виднелись кровавые следы, включая отпечатки окровавленной ладони на стене. Вероятно, отпечаток принадлежал Либену: доказательство, что каким-то странным образом мертвый человек продолжает жить. Никакого трупа в доме не оказалось, ни Сары Киль, ни кого-либо другого, и Шарп расстроился. Вид обнаженной распятой блондинки в Пласеншии был неожиданным и занимательным; она приятно отличалась от тех трупов, с которыми Шарпу обычно приходилось иметь дело. Шарп вдоволь навидался жертв с огнестрельными и ножевыми ранами, разорванных на куски пластиковыми бомбами и задушенных проволокой, и они уже не будоражили его воображение. Но эта прибитая к стене красотка произвела на него впечатление, и ему было любопытно, какие еще идейки на этот счет могут возникнуть в травмированном мозгу Либена. Шарп проверил спрятанный в стене спальни сейф и обнаружил, что он пуст. Оставив Госсера в доме на случай, если Либен вернется, Шарп вместе с Пиком отправился искать гараж, рассчитывая найти там тело Сары Киль, но ничего не нашел. Тогда он послал Пика с фонариком осмотреть лужайку и клумбы на предмет свежевыкопанной могилы, хотя вряд ли у Либена в его нынешнем состоянии могло хватить сообразительности или желания спрятать свою жертву и замести следы. — Если ничего не найдешь, — инструктировал Шарп Пика, — начинай обзванивать больницы. Несмотря на кровь, эта девчонка могла остаться в живых. Возможно, ей удалось удрать от него и обратиться за медицинской помощью. — И если я найду ее в больнице? — Немедленно сообщи мне, — приказал Шарп, поскольку ему было необходимо заставить Сару Киль молчать о возвращении Эрика Либена. Он попытается уговорить ее, напугать, а если надо, то и пригрозит впрямую. Но она должна держать язык за зубами. Если ничего не выйдет, ее придется потихоньку убрать. Надо также поскорее найти Рейчел Либен и Бена Шэдвея и тоже заставить их молчать. Пик отправился выполнять задание, Госсер сидел на страже в доме, а Шарп забрался в неприметную машину и велел шоферу ехать на автомобильную стоянку недалеко от Палм-Каньон-драйв, где его все еще ждал вертолет. Снова находясь в воздухе, по дороге в лаборатории Генеплана в Риверсайде, Энсон Шарп, прищурив глаза, уставился в иллюминатор на ночной пейзаж, мелькающий внизу. Он напоминал хищную птицу, выслеживающую в ночи добычу.Глава 15
ЛЮБОВЬ
Сны Бена были наполнены тьмой и громом. Тьму разрывала молния, освещающая бесформенный пейзаж, населенный только одним невидимым, но жутким существом, которое гонялось за ним по огромной, темной и безлюдной пустыне. Это был, и вместе с тем не был, Зеленый Ад, где он провел больше трех лет своей молодости, знакомое и вместе с тем чужое место, такое же, как тогда, но в чем-то другое, как бывает в снах. Он проснулся на рассвете от пронзительных криков птиц, дрожа, переполненный печалью. Рядом лежала Рейчел. Она подвинулась к нему и обняла, утешая. Ее нежное прикосновение развеяло холодный и тоскливый сон. Ритмичные удары ее сердца чем-то напомнили ему ритмичное мерцание маяка в береговом тумане. Каждый удар нес надежду. Он решил, что она не собирается предложить ему ничего, кроме теплого дружеского участия, но, возможно, бессознательно Рейчел несла ему любовь и ждала любви взамен. Еще не совсем проснувшись, видя все вокруг как через полупрозрачную ткань, среди звуков, еще приглушенных сном, он недостаточно четко соображал, чтобы определить, когда предложенная ею дружеская ласка перешла в любовное объятие. Он просто понял, что это произошло, и когда прижал ее обнаженное тело к себе, то ощутил, что так и должно быть, с уверенностью, какой не испытывал за все свои тридцать семь лет. Наконец он был в ней, а она наполнена им. Хотя в этом была новизна и чудо, им не пришлось искать ритм и наиболее удобное положение, потому что они знали все так хорошо, как если бы были любовниками много лет. Несмотря на мягко урчащий кондиционер, Бен почти физически чувствовал, как давит на окна жара пустыни. Прохладная комната казалась серебристым пузырьком, подвешенным вне реальности суровой земли, и точно таким же невесомым, качающимся пузырьком вне обычного течения секунд и минут казалась их нежная, необыкновенная любовь. Одно окошко с матовым стеклом высоко в стене не было задернуто занавеской. За ним лениво качались на ветру листья пальм, пронзенные лучами солнца. Перистые тропические тени и смягченный стеклом солнечный свет падали на их обнаженные тела и рвались на части от их движений. Даже в этом переменчивом свете Бен четко видел ее лицо. Глаза закрыты, рот приоткрыт. Сначала дыхание ее было глубоким, потом участилось. Каждая черта лица дышала чувственностью, но гораздо важнее, чем ее потрясающе сексуальный вид, было для него осознание того, что это была скорее эмоциональная, а не физическая реакция, результат нескольких месяцев, проведенных вместе, и его глубокого к ней чувства. Вот почему их совокупление превратилось из простого секса в акт любви. Почувствовав, что он ее разглядывает, она открыла глаза и взглянула ему в лицо, и он вздрогнул, как от ласкового прикосновения. Разрисованный пальмовыми листьями утренний свет становился все ярче, менял окраску от бледного лимонно-желтого до оранжевого. Он окрашивал в этот же цвет лицо Рейчел, ее гибкую шею, высокую грудь. По мере того как свет набирал силу, возрастал темп их движений. Оба ловили воздух ртом, а потом она вскрикнула, и еще раз, и неожиданно легкий ветерок за матовым окошком превратился в порывистый ветер, всколыхнувший листья пальм и заставивший так же лихорадочно заметаться их тени, что падали на постель. Именно в тот момент, когда тени забились и задрожали, Бен тоже вздрогнул и почувствовал, как его семя извергается в Рейчел. И тут же ветер стих и умчался куда-то, в другие уголки мира. Бен откинулся назад, они лежали лицом друг к другу, почти касаясь головами, дыхание их смешивалось. Они молчали, потому что слова были не нужны, и вскоре снова заснули. Никогда раньше он не чувствовал себя таким удовлетворенным и умиротворенным. Даже в лучшие годы юности, до Зеленого Ада, до Вьетнама, ему не бывало и вполовину так хорошо. Рейчел заснула раньше Бена, и он какое-то время с удовольствием наблюдал, как образовался между ее губ пузырек слюны и лопнул. Потом веки его отяжелели, и последнее, что он видел, прежде чем закрыть глаза, был тонкий, почти незаметный шрам внизу под подбородком Рейчел — память о том случае, когда Эрик швырнул в нее бокалом. Погружаясь в беспокойный сон, Бен почти пожалел Эрика Либена, потому что этот ученый так и не понял, что любовь настолько близка к бессмертию, насколько человеку дано познать, и что противостоять смерти можно только одним — любовью. Любовью.Глава 16
В МИРЕ ЗОМБИ
Часть ночи он пролежал полностью одетый на кровати в охотничьем домике над озером Эрроухед в состоянии не то глубокого сна, не то еще более глубокой комы. Температура его тела постепенно снижалась, сердце делало только двадцать ударов в минуту, кровь почти не циркулировала, а дыхание было неглубоким и неравномерным. Время от времени сердце останавливалось, дыхание прекращалось на периоды от десяти до пятнадцати минут, и тогда жизнь поддерживалась в нем только на клеточном уровне, хотя скорее то была не жизнь, а стаз, странное сумеречное существование, которого еще не знал ни один человек на земле. Во время этих периодов приостановленного оживания, когда клетки обновлялись и выполняли свои функции чрезвычайно медленно, тело накапливало энергию для следующего этапа бодрствования и ускоренного восстановления. Он действительно восстанавливался, причем с большой скоростью. Час за часом его множественные раны затягивались, закрывались. Вокруг безобразных темных кровоподтеков — результата его столкновения с грузовиком — уже появилась вполне заметная желтизна. Хотя мудрая медицина и утверждала, что ткань мозга лишена нервных окончаний и, следовательно, нечувствительна, в моменты бодрствования он ощущал, как настойчиво давят на мозг осколки разбитого черепа. Правда, это была не боль, а скорее давление, напоминающее ощущение обезболенного новокаином зуба, который сверлит зубной врач. И еще он понимал, сам не зная как, что его генетически улучшенное тело методично справляется с черепно-мозговой травмой так же, как оно залечивает остальные раны. В ближайшую неделю ему придется много отдыхать, но со временем периоды стаза будут наступать все реже, сделаются все короче, станут пугать его все меньше. Во всяком случае, так ему хотелось думать. Через пару-тройку недель его состояние будет не хуже, чем у человека, покинувшего больницу после серьезной операции. А через месяц он окончательно поправится, хотя небольшая, а может, и заметная, вмятина на правом виске сохранится. Но умственное выздоровление не поспевало за физической регенерацией тканей. Даже когда он бодрствовал, а сердцебиение и дыхание были близки к норме, он не всегда ясно соображал. А в те мгновения, когда интеллект и способность рассуждать возвращались к нему, почти такие же, как до гибели, он остро и болезненно сознавал, что по большей части функционирует чисто механически, точно робот, а иногда приходит в замешательство или впадает просто в животное состояние. У него появлялись странные мысли. Иногда ему казалось, что он снова молод, только что окончил колледж, но потом он вспоминал, что ему уже за сорок. Иногда он не знал, где находится, особенно часто это происходило, когда он сидел за рулем и не встречал ориентиров, знакомых по его прежней жизни. Запутавшись, чувствуя, что заблудился и никогда не найдет дороги, он останавливался у обочины и ждал, когда пройдет паника. Он помнил, что у него великая цель, важная миссия, хотя никак не мог четко сформулировать, в чем они состоят. Иногда казалось, что он мертв и путешествует по кругам Дантова ада. Иногда — что он кого-то убил, хотя не мог вспомнить, кого именно, но потом на мгновение вспоминал и пытался освободиться от этих воспоминаний, уверить себя, что это не воспоминания, а просто его фантазия, потому что он, разумеется, был не способен на хладнокровное убийство. Разумеется. Но в другие моменты он думал, как было бы здорово и интересно убить кого-нибудь, любого, потому что в душе понимал, что они все за ним гонятся, поганые мерзавцы, они всегда хотели до него добраться, а сейчас стараются изо всех сил. Иногда ему в голову приходила тревожная мысль: вспомни про мышек, про мышек, сумасшедших мышек, бьющихся о стены своих клеток и разрывающих себя на кусочки. И несколько раз он даже произнес вслух: «Вспомни про мышек, про мышек», но при этом понятия не имел, что означали эти слова: какие мышки, где, когда? Он также видел странные вещи. Иногда он видел людей, которых никак не могло быть здесь: свою давно умершую мать, ненавистного дядю, который издевался над ним, когда он был ребенком, соседского хулигана, терроризировавшего его в начальной школе. А порой он, как хронический алкоголик в белой горячке, видел, как из стен что-то вылезает, видел клопов, змей и других мерзких и страшных существ, не поддающихся определению. Он мог с уверенностью сказать, что несколько раз видел дорожку, выложенную абсолютно черными плитами и ведущую в ужасную темноту в земле. Что-то заставляло его идти по этим плитам, но каждый раз он обнаруживал, что дорожки на самом деле не существует, что она является плодом его больного и лихорадочного воображения. Из всех видений и фантазий, мелькающих в его травмированном мозгу, наиболее необычными и треножными были призрачные огни. Они появлялись неожиданно, с треском, который он не слышал, а чувствовал костями. Он станет жить дальше, уверенно ходить среди живущих, почти ничем не отличаясь от них, — и вдруг кроваво-алый язык пламени с серебристой каемочкой взметнется в углу комнаты или в собравшейся под деревом тени, в любом мрачном и темном месте, и испугает его. Когда он пытался присмотреться поближе, то видел, что ничего не горит, но откуда-то появляются эти языки пламени, и ничто их не питает, как будто горит сама тень и служит отличным горючим, несмотря на отсутствие материи. Когда огонь спадает и гаснет, не остается никаких следов — ни пепла, ни обгорелых остатков, ни пятен сажи. Хотя до своей смерти он никогда не боялся огня, никогда не мучился предчувствием, что ему суждено погибнуть в огне, эти жадные фантомные языки пламени его основательно пугали. Когда он смотрел на них, ему казалось, что за мерцающим ярким огнем прячется тайна, которую он обязан открыть, хотя это и принесет ему неизмеримые страдания. В редкие минуты относительной ясности сознания, когда его интеллектуальные возможности были почти такими же, как когда-то, он говорил себе, что это видение является результатом нарушения синапсов в его травмированном мозгу, результатом закорачивания электрических импульсов, проходящих через ткань мозга. И пытался убедить себя, что эти видения пугают его потому, что он интеллектуал, человек, жизнь которого заключалась в умственной деятельности, и он имеет полное право пугаться при появлении признаков нарушения работы мозга. Ткань заживет, призрачные огни исчезнут навсегда, и он будет в порядке. Так он говорил себе. Но в менее ясные моменты, когда мир вокруг становился мрачным и странным, когда его охватывали замешательство и животный страх, он смотрел на призрачные огни с нескрываемым ужасом, а иногда застывал, словно в параличе, если ему казалось, что удается разглядеть что-то в этих пляшущих языках пламени или за ними. Сейчас, когда заря настойчиво разгоняла темноту ночи, Эрик Либен вышел из состояния стаза, застонал тихо, потом громче и наконец проснулся. Сел на краю кровати. Почувствовал неприятный вкус во рту, как будто ел пепел, и страшную головную боль. Он потрогал разбитую голову. Хуже не стало; череп еще не развалился. Тусклый утренний свет вливался в два окна, да еще горела небольшая лампа — маловато света, чтобы развеять все тени в спальне, но достаточно, чтобы начало резать его светочувствительные глаза. Они горели и слезились. С того момента, как Эрик поднялся с холодного стального стола в морге, его глаза не могли привыкнуть к яркому свету, как будто темнота стала теперь привычной средой обитания, как будто он уже не являлся частью мира, залитого солнечным или искусственным светом. Он сосредоточился на дыхании, которое все еще было неровным: то слишком глубоким и редким, то, наоборот, слишком частым и поверхностным. Потом взял с прикроватного столика стетоскоп и прослушал свое сердце. Оно билось достаточно часто, чтобы он не боялся снова впасть в то странное, заторможенное состояние, полусон, полукому, но ритм его был все еще хаотичным. Кроме стетоскопа, Эрик захватил еще несколько приборов, чтобы следить за изменениями своего состояния. Аппарат для измерения кровяного давления. Офтальмоскоп, с помощью которого он мог, глядя в зеркало, проверить состояние сетчатки и реакцию зрачка. У него был и блокнот, в котором он намеревался записывать наблюдения над самим собой, потому что сознавал, не всегда четко, но сознавал, что он — первый человек, который умер и вернулся из ниоткуда, что это событие исторического значения и что этим записям цены не будет, когда он поправится окончательно. Вспомни про мышек, про мышек… Он раздраженно потряс головой, как если бы непонятная мысль была надоедливой мухой, крутящейся перед лицом. Вспомни про мышек, про мышек. Эрик не имел ни малейшего представления, что бы это могло означать, и тем не менее тревожная мысль с назойливым постоянством приходила ему в голову в течение ночи. Он смутно подозревал, что на самом деле знает, что это означает, но отталкивает это знание потому, что оно его страшило. Однако, попытавшись сосредоточиться на навязчивой мысли и понять ее значение, он потерпел неудачу и только еще больше растерялся, разволновался и запутался. Положив стетоскоп на столик, он не взял аппарат для измерения кровяного давления: сейчас у него не хватило бы терпения закатывать рукав, обматывать руку, жать на грушу и одновременно держать счетчик так, чтобы его можно было видеть. Он попытался проделать все это накануне, но пришел в ярость от собственной неуклюжести. Не стал он брать и офтальмоскоп, потому что в этом случае ему пришлось бы идти в ванную комнату и смотреть на себя в зеркало. А он не мог смотреть на себя в теперешнем виде: серый, глаза мутные, мышцы лица расслаблены — он выглядел полумертвым. В приготовленном блокноте записей почти не было. И теперь Эрик тоже не сделал попытки что-то записать о процессе своего выздоровления. Во-первых, он обнаружил, что совершенно не в состоянии глубоко сосредоточиться — тем более на такой длительный отрезок времени, какой необходим для толковых и членораздельных записей. Во-вторых, вид его неаккуратного, неразборчивого почерка, который раньше был таким четким и красивым, мог послужить еще одним поводом для приступа безумной ярости. Вспомни про мышек, которые бились о стенки своих клеток, гонялись за собственными хвостами, про мышек, про мышек… Схватившись обеими руками за голову, как будто пытаясь физически задавить эту ненужную и странную мысль, Эрик с трудом поднялся на ноги. Ему хотелось помочиться и поесть. Два хороших признака, доказывающих, что он жив, по крайней мере, больше жив, чем мертв, и он порадовался этим двум простым человеческим потребностям. Он направился в ванную комнату, но неожиданно остановился, потому что из угла комнаты выпрыгнули языки пламени. Не настоящий огонь, а призрачный. Кроваво-алые языки с серебряной каемочкой. Жадно потрескивая, они поедали тень, из которой возникли, но светлее от этого не становилось. Прищурив слезящиеся от света глаза, Эрик, как и раньше, почувствовал, что почему-то должен смотреть в огонь, и разглядел за ним, как ему показалось, странные фигуры, манящие его к себе… Несмотря на то, что он по непонятной причине был страшно напуган этими огнями, часть его каким-то непостижимым образом стремилась войти в пламя, пройти его насквозь и узнать, что же там за ним. Нет! Почувствовав, что его стремление перерастает в острую потребность, он в отчаянии отвернулся от огня и остался стоять,покачиваясь в замешательстве и страхе, а эти два ощущения в его теперешнем состоянии быстро трансформировались в гнев, гнев и ярость. Казалось, в ярость его приводило все, словно то был конечный и неизбежный выход для всех эмоций. Недалеко от кресла, только протяни руку, стояла напольная лампа из бронзы с оловом, с матовым хрустальным абажуром. Он схватил ее обеими руками, поднял высоко над головой и швырнул через всю комнату. Абажур от удара о стену разлетелся на куски, и хрустальные осколки посыпались на пол со звуком ломающегося льда. Металлическое основание лампы ударилось об угол белого полированного шкафа и с грохотом свалилось на пол. Наслаждение от разрушения, дрожью прошедшее по его телу, по силе своей напоминало оргазм. До смерти он вечно куда-то стремился, строил свою империю, настойчиво умножал богатство, но после смерти стал разрушающей машиной, так же нацеленной на уничтожение имущества, как когда-то он был нацелен на его накопление. Обстановка вокруг была выдержана в ультрамодернистском стиле, примером чему служила разбитая лампа. Хотя этот стиль и не очень подходил для пятикомнатного домика, но зато удовлетворял потребность Эрика в новизне и модерновости. В бешенстве он принялся превращать изысканное убранство комнаты в груду разноцветного мусора. Схватил кресло с такой легкостью, как будто оно весило всего пару фунтов, и швырнул его в тройное зеркало на стене за кроватью. Зеркало взорвалось осколками и осыпало кровать сверкающим дождем. Тяжело дыша, Эрик схватил сломанную напольную лампу за подставку и, размахнувшись, врезал ею по бронзовой скульптуре, стоящей на комоде, использовав тяжелое основание как огромный молоток — бам! — скульптурка полетела на пол. Затем дважды ахнул лампой-молотком по зеркалу над комодом — бам! бам! Осколки брызнули в разные стороны. Он с размаху ударил по картине, висевшей на стене рядом с дверью в ванную комнату, картина свалилась со стены, и он разделался с произведением искусства уже на полу. Он чувствовал себя замечательно, великолепно, лучше некуда, живым. С радостью отдавшись безумной ярости, рычал со звериной злобой или выкрикивал что-то бессвязное, хотя одно слово ему удалось выговорить совершенно четко. — Рейчел! — прокричал он с безграничной ненавистью, брызгая слюной. — Рейчел, Рейчел. — Он стукнул своим импровизированным молотком по подвернувшемуся под руку белому полированному столику, который стоял около кресла, и колотил по нему, пока тот не превратился в щепки. — Рейчел, Рейчел. — Саданул по лампе на прикроватной тумбочке, и лампа грохнулась на пол. Бам! Кровь бешено пульсировала в висках, в ушах стоял звон, а он колотил по тумбочке, пока не отбил все ручки у ящиков, колотил по стене, повторяя: «Рейчел», колотил и колотил, пока его импровизированное орудие не согнулось так, что больше не годилось для его целей. Со злостью отбросив его в сторону, Эрик ухватился за занавески и сорвал их с перекладины, сдернул еще одну картину со стены и пробил ее ногой насквозь: «Рейчел, Рейчел, Рейчел». Он уже заметно качался, хватаясь за воздух руками, и поворачивался по кругу, как взбесившийся бык, потом вдруг почувствовал, что не может дышать, что безумный гнев покидает его, что сумасшедшая потребность разрушения уходит, уходит, и он опустился на пол, сперва на колени, потом лег ничком, повернув голову набок и зарывшись лицом в ковер, пытаясь отдышаться. Его спутанные мысли были такими же странными и мутными, как его глаза, рискни он взглянуть в зеркало, и хотя у него уже не было той дьявольской энергии, но все еще хватало сил, лежа на полу, снова и снова повторять то же имя: — Рейчел… Рейчел… Рейчел…Часть II. ТЕМНЕЕ ТЬМЫ
У ночи есть тайны, и смысл их Скорее для мертвых, чем для живых.Книга Печалей
Глава 17
ЛЮДИ В ПУТИ
На вертолете из Палм-Спрингс Энсон Шарп прибыл к размещенным для бактериологической безопасности под землей лабораториям Генеплана еще до рассвета. Там его встретил целый отряд из шести агентов Бюро по оборонной безопасности, четырех судебных исполнителей и их восьми заместителей, которые явились туда за пять минут до него. Ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что было подтверждено целой кучей судебных постановлений и ордеров на обыск, они представились ночным охранникам Генеплана, вошли в помещение, опечатали все папки с материалами исследований и компьютеры и расположились лагерем в роскошном кабинете, принадлежащем доктору Винсенту Бареско, заведующему научной частью. Пока над подземными лабораториями в мир вступал день, Энсон Шарп, развалившись в огромном кожаном кресле, принимал по телефону отчеты своих подчиненных, разбросанных по Южной Калифорнии. Отчеты сводились к тому, что все сообщники Эрика Либена по проекту «Уайлдкард» находятся под домашним арестом. В округе Ориндж доктор Морган Юджин Льюис, координатор исследований по проекту «Уайлдкард», был задержан вместе с женой в их доме в Северном Тастине. Доктор Феликс Джеффелз сидит под охраной в своем доме здесь, в Риверсайде. Доктора Винсента Бареско, руководителя всех исследовательских работ в Генеплане, агенты Бюро обнаружили в штабе Генеплана в Ньюпорт-Бич: он лежал без сознания на полу в кабинете Эрика Либена. Все в кабинете говорило о стрельбе и жестокой драке. Вместо того чтобы везти Бареско в общественную больницу и тем самым хотя бы частично упустить его из-под контроля, ребята Шарпа перевезли ученого на воздушную базу морской пехоты США в Эль-Торо, где его в медпункте осмотрел тамошний врач. Бареско, схлопотавший два сильных удара по горлу, говорить не мог, поэтому воспользовался ручкой и блокнотом, чтобы сообщить агентам, что на него напал Бен Шэдвей, любовник Рейчел Либен, когда он, Бареско, поймал его за ограблением сейфа в кабинете Эрика. Ужасно расстроился, когда агенты отказались поверить, что он рассказал им все, и был поражен до глубины души, узнав, что они в курсе дела насчет проекта «Уайлдкард» и возвращения Эрика из мертвых. С помощью тех же ручки и блокнота Бареско потребовал, чтобы его перевели в гражданскую больницу, сообщили, какие против него выдвинуты обвинения, и, наконец, пригласили его адвоката. Разумеется, на все его требования никто не обратил внимания. Руперт Ноулс и Перри Сейц, те самые богачи, которые в основном субсидировали становление Генеплана почти десять лет назад, были обнаружены в обширном, чуть ли не в десять акров, поместье Ноулса в Хэвенхерсте в Палм-Спрингс. Три агента прибыли туда с ордерами на арест Ноулса и Сейца, а также с ордером на обыск. Там они нашли незаконно модифицированный автомат «узи», вне сомнения, то самое оружие, из которого только несколько часов назад были убиты двое полицейских. Ни Ноулс, ни Сейц никаких возражений не выдвигали. Они знали правила. Они получат малопривлекательное предложение передать правительству все результаты исследований и права на проект «Уайлдкард» без малейшей компенсации, и от них потребуют вечного молчания насчет всего мероприятия и воскрешения Эрика Либена. А еще заставят подписать признание в убийстве, которое обеспечит их послушание на всю оставшуюся жизнь. И хотя это предложение не имеет законной силы и агенты Бюро при этом нарушают и демократические принципы, и множество законов, Ноулс и Сейц вынуждены будут его принять. Они были тертыми парнями и знали, что отказ от сотрудничества, а особенно попытка воспользоваться своими конституционными правами может означать для них только смерть. Эта пятерка знала тайну, возможно, наиболее важную в истории человечества. Верно, процесс достижения бессмертия был еще несовершенен, но рано или поздно все проблемы будут решены. И тогда те, кто владеет тайной проекта «Уайлдкард», будут править миром. Когда столько поставлено на карту, правительство не станет беспокоиться о том, как бы не переступить грань между моральным и аморальным, а в данном конкретном случае оно и вовсе не собиралось церемониться. Выслушав доклад по поводу Сейца и Ноулса, Шарп поднялся с кожаного кресла и принялся расхаживать по лишенному окон подземному кабинету. Он расправил плечи, потянулся и попытался размять толстую, мускулистую шею. С самого начала объектом его беспокойства были восемь человек, восемь возможных источников утечки информации, которых надо было заставить молчать. Из них с пятерыми уже разобрались быстро и без хлопот. Шарп был вполне доволен ходом событий в целом и собой в частности. Что говорить, он был мастером своего дела. В такие вот моменты ему хотелось, чтобы рядом был кто-то, с нем можно разделить триумф, например, восторженный помощник, но он не мог себе позволить подпустить кого-нибудь так близко. Будучи заместителем директора Бюро по оборонной безопасности, человеком номер два в своей конторе, Шарп твердо решил к сорока годам стать директором. Он надеялся, собрав компрометирующий материал на нынешнего директора, Джэррода Макклейна, вытеснить его и с помощью шантажа добиться, чтобы тот усиленно рекомендовал Энсона Шарпа в качестве своего преемника. Макклейн относился к нему как к сыну, делился с ним каждым секретом Бюро, так что Шарп уже имел почти достаточно материала, чтобы свалить своего благодетеля. Но, как человек осторожный, он выжидал, стараясь застраховаться от малейшей возможности неудачи. А когда он сядет в директорское кресло, то уже не повторит ошибки и не пригреет на своей груди помощника, как это сделал Макклейн. Там, наверху, вероятно, будет одиноко, должно быть одиноко, если хочешь удержаться. Так что он уже сейчас приучал себя к одиночеству: протеже у него были, друзей не было. Размяв затекшую шею и огромные плечи, Шарп вернулся в кресло за письменным столом и принялся размышлять о троице, которую еще надлежит изловить. Эрик Либен, миссис Либен и Бен Шэдвей. Им не предложат никакой сделки, как первым пяти. Если удастся захватить Либена «живым», его засадят в клетку и будут изучать, как лабораторное животное. С миссис Либен и Шэдвеем просто покончат, причем будет это выглядеть как гибель от несчастного случая. Он желал их смерти по нескольким причинам. Во-первых, оба были независимыми, рисковыми и честными — опасное, взрывное сочетание. Они способны раззвонить об истории с проектом «Уайлдкард» либо просто так, послав все к черту, либо из идиотских моральных соображений, в любом случае сильно отбросив Шарпа назад в его стараниях вскарабкаться на самый верх. Остальные — Льюис, Бареско, Ноулс, Джеффелз и Сейц — будут слушаться, потому что это в их же собственных интересах, но на Рейчел Либен и Бена Шэдвея в этом смысле нельзя положиться. Эти могут и не думать о себе в первую очередь. Кроме того, оба не совершили никакого уголовного деяния и не продавали душу правительству, как сделала эта публика из Генеплана, так что над ними никаких мечей не нависло. Не существовало таких угроз, с помощью которых можно было заставить их плясать под свою дудку. Но больше всего Шарп хотел убить Рейчел Либен, потому что она была любовницей Бена Шэдвея и потому что тот любил ее. Ему хотелось убить ее первой, на глазах у Шэдвея. А его он хотел уничтожить, потому что ненавидел почти семнадцать лет. Сидя один в подземном кабинете, Шарп закрыл глаза и улыбнулся. Интересно, что бы сделал Шэдвей, если бы узнал, что на него охотится его давний враг, Энсон Шарп. Ему почти до боли хотелось, чтобы неизбежная встреча поскорее состоялась, хотелось увидеть изумление на лице Шэдвея, хотелось прикончить сукина сына.Джерри Пик, молодой агент, которому Шарп поручил разыскать Сару Киль, внимательно осмотрел весь огороженный участок Эрика Либена в Палм-Спрингс в поисках свежевскопанной могилы. Он приложил максимум старания и усердия: вооружившись мощным фонарем, топал по клумбам, ломился сквозь кустарник, намочил брюки до колен, извалял в грязи туфли, но не нашел ничего подозрительного. Он включил свет у бассейна, почти что ожидая увидеть в нем мертвое тело, либо плавающее на поверхности, либо лежащее на голубом дне и смотрящее вверх сквозь толщу воды. Когда выяснилось, что в бассейне никаких трупов нет, Пик решил, что он слишком начитался детективных романов: там, в отличие от реальной жизни, бассейны всегда битком набиты покойниками. Джерри Пик с двенадцати лет увлекся детективными романами и с тех пор всегда хотел быть только детективом, причем не простым детективом, а особенным, вроде агента ЦРУ, ФБР или Бюро по оборонной безопасности, и к тому же не просто агентом, а следователем-гением, таким, о котором могли бы сочинить роман Джон Ле Карре, Уильям Ф. Бакли или Фредерик Форсайт. Пик хотел стать легендой своего времени. Он служил в Бюро только пятый год и репутации гения еще не заработал, но его это не беспокоило. Он был терпелив. Никто не становится легендой за пять лет. Сначала нужно поработать ищейкой — среди ночи топтать цветочные клумбы, драть свой лучший костюм о колючие кусты и с надеждой заглядывать в бассейны. Не обнаружив тела Сары Киль во владениях Эрика Либена, Пик принялся объезжать близлежащие больницы в надежде найти ее имя в регистрационном журнале или в списке амбулаторных пациентов. В двух первых больницах ему не повезло. Хуже того, несмотря на его удостоверение агента Бюро с фотографией, сестры и врачи, к которым он обращался, отнеслись к нему скептически. Они отвечали на его вопросы, но так неохотно, будто подозревали, что он выдает себя за другого и что у него тайные и нехорошие намерения. Он знал, что выглядит слишком молодо для агента Бюро. Бог проклял его, дав ему раздражающе свежее и открытое лицо. И задавая вопросы, он не проявлял нужной настойчивости. Но Пик считал, что на этот раз дело не в его детском лице и несколько неуверенной манере. Его так встретили, вне сомнения, из-за его ботинок, которые, несмотря на то что он их протер бумажным полотенцем, все равно выглядели отвратительно грязными. И из-за его брюк. Намокнув, они стали жеваными и бесформенными. Немыслимо добиться уважения и серьезного отношения или стать легендой, если ты выглядишь так, будто только что задавал корм свиньям. Несмотря на дефекты костюма, в третьей больнице — «Дезерт Дженерал» — он попал прямо в точку. Ночью туда поступила на лечение Сара Киль. Она все еще была там. На старшую сестру, Альму Данн, плотную седую женщину лет сорока пяти, удостоверение Пика впечатления не произвело, и в священный трепет при виде его она впасть отказалась. Проверив, как там Сара Киль, она вернулась на сестринский пункт, где оставила Пика, и сказала: — Бедняжка все еще спит. Ей дали успокоительное несколько часов назад, так что я не думаю, что она в ближайшее время проснется. — Разбудите ее, пожалуйста. Это срочный вопрос, связанный с национальной безопасностью. — И не подумаю, — отрезала сестра Данн. — Девочка травмирована. Ей надо отдохнуть. Вам придется подождать. — Тогда я буду ждать в ее палате. Лицо сестры Данн окаменело, а в веселых голубых глазах появился холодный блеск. — Ни в коем случае. Вы посидите в комнате для посетителей. Пик понимал, что ничего не добьется от сестры Данн, потому что она напоминала ему мисс Джейн Марпл, неукротимого самодеятельного детектива из романов Агаты Кристи, а нечего было и думать запугать человека, похожего на мисс Марпл. — Послушайте, если вы откажетесь помочь, мне придется поговорить с вашим начальником. — Да ради Бога. — Она с отвращением разглядывала его ботинки. — Сейчас позову доктора Уэрфелла.
Энсон Шарп поспал часок на диване в подземном кабинете Винсента Бареско, принял душ в ванной комнате рядом и переоделся в чистую одежду, которую возил с собой, колеся по Южной Калифорнии предыдущей ночью. Он обладал завидной способностью всегда засыпать через минуту-полторы и чувствовать себя отдохнувшим даже после короткого сна. Он мог спать где угодно, не обращая внимания на шум. Шарп считал эту свою способность еще одним доказательством, что он превосходит других, а следовательно, подтверждением, что судьба уготовила ему место на самом верху, куда он так стремился. Отдохнув, он сделал несколько телефонных звонков, поговорив с агентами, охраняющими партнеров и ведущих ученых Генеплана в разных концах трех округов. Затем выслушал доклады от других агентов, дежурящих в офисе Генеплана в Ньюпорт-Бич, доме Эрика Либена в Вилла-Парке и доме миссис Либен в Пласеншии. От агентов, охраняющих Бареско на воздушной базе морских пехотинцев в Эль-Торо, он узнал, что предыдущей ночью в кабинете Либена Бен Шэдвей забрал у ученого «смит-вессон магнум» и что нигде в помещении Генеплана револьвер найти не удалось. Шэдвей не оставил его в здании, не выбросил в мусорный контейнер поблизости, а предпочел оставить у себя. Более того, агенты поведали, что не нашли полуавтоматического пистолета тридцать второго калибра, зарегистрированного на имя Рейчел Либен, в ее доме и имеется предположение, что она взяла его с собой, хотя на это у нее разрешения нет. Шарп порадовался тому, что Шэдвей и эта дамочка вооружены, ибо это служило оправданием для ордера на арест. А когда он загонит их в угол, то сможет пристрелить обоих, заявив с достаточной правдоподобностью, что они начали стрелять первыми. Пока Джерри Пик ждал возвращения сестры Альмы Данн с доктором Уэрфеллом, больница стала просыпаться. По коридорам забегали сестры, разнося пациентам лекарства, санитары перевозили больных в инвалидных креслах и на каталках в разные процедурные и операционные, некоторые врачи уже начали обход. Все больше запах хвойного дезинфицирующего средства перекрывался запахами спирта, чесночного масла, мочи и рвоты, как будто деловито спешащие сотрудники повытаскивали эту застоявшуюся вонь на свет Божий из каждого уголка больницы. Через десять минут сестра Данн вернулась с высоким мужчиной в белом халате. Красивое, ястребиное лицо, густые волосы с проседью, аккуратные усы. Мужчина показался Пику знакомым, хотя он и не мог понять почему. Альма Данн представила его как доктора Ганса Уэрфелла, старшего терапевта утренней смены. Доктор Уэрфелл сказал, глядя вниз на грязные ботинки и мятые брюки Пика: — Физическое состояние мисс Киль не дает поводов для беспокойства, и я думаю, что уже сегодня или завтра утром ее можно будет выписать. Но она пережила глубокую душевную травму, так что ей нужно дать отдохнуть по возможности подольше. А сейчас она как раз отдыхает, крепко спит. «Перестань смотреть на мои ботинки, черт бы тебя побрал», — подумал Пик. — Доктор, — проговорил он, — я очень ценю вашу заботу о пациентке, но здесь речь идет о национальной безопасности. Оторвав наконец взгляд от ботинок Пика, доктор Уэрфелл скептически нахмурился и спросил: — Какое отношение, черт возьми, может иметь шестнадцатилетняя девушка к вопросам национальной безопасности? — Это секретно, совершенно секретно, — заявил Пик, стараясь придать своему детскому лицу подобающее серьезное и значительное выражение, которое убедило бы Уэрфелла в важности его просьбы и склонило бы к сотрудничеству. — Все равно бесполезно ее будить, — ответил врач. — Она будет находиться под влиянием лекарства и не сможет вразумительно ответить на ваши вопросы. — А не могли бы вы ей дать что-нибудь, чтобы снять действие лекарства? Доктор Уэрфелл сдвинул брови, выражая тем самым глубокое неодобрение: — Мистер Пик, это больница. Мы существуем для того, чтобы лечить людей. Мы не поможем мисс Киль, если накачаем ее лекарствами только для того, чтобы снять действие других лекарств и ублажить нетерпеливого правительственного агента. Пик почувствовал, что краснеет. — Я не предлагал вам нарушить ваши медицинские принципы. — И хорошо. — Патрицианское лицо Уэрфелла и его манеры не поощряли попыток спорить. — Тогда вы подождете, пока она сама проснется. Расстроенный Пик проговорил, все еще пытаясь вспомнить, где он мог видеть доктора Уэрфелла: — Но мы полагаем, что она может нам подсказать, где найти человека, которого мы обязательно должны найти. — Что же, я уверен, она согласится вам помочь, когда проснется. — А когда это может случиться, доктор? — Ну, я думаю… часа через четыре, может, попозже. — Почему так долго? — Ночной дежурный дал ей очень слабое успокоительное, это ее не устроило, и, когда он отказался дать ей что-нибудь посильнее, она приняла свое собственное лекарство. — Свое собственное? — Мы слишком поздно поняли, что у нее в сумочке были таблетки бензедрина, завернутые в фольгу… — Наркотики? — Да. А в кармане — транквилизаторы и успокоительные. Ее таблетки оказались значительно сильнее наших, так что она в данный момент под их действием. Разумеется, мы изъяли все оставшиеся лекарства. — Я подожду в ее палате, — заявил Пик. — Нет, — отрезал Уэрфелл. — Тогда я подожду у дверей палаты. — Боюсь, не получится. — Тогда я подожду здесь. — Здесь вы будете мешать, — не согласился Уэрфелл. — Вы подождете в комнате для посетителей, и мы вас позовем, когда мисс Киль проснется. — Я подожду здесь, — настаивал Пик, придав своему детскому лицу самое суровое, крутое и жесткое выражение, на которое только был способен. — В комнате для посетителей, — возразил Уэрфелл зловеще. — И если вы не проследуете туда немедленно, я попрошу охранников больницы, чтобы они вас туда проводили. Пик заколебался, в душе умоляя Господа дать ему больше настойчивости. — Ладно, но, черт побери, позовите меня в ту же минуту, как она проснется. Он в гневе развернулся и прошествовал прочь от доктора Уэрфелла искать комнату для посетителей, потому что постыдился спросить, где она находится. Оглянувшись на доктора, который теперь был занят разговором с другим врачом, он сообразил, что Уэрфелл как две капли воды похож на Дэшила Хэммета, автора детективных романов. Именно поэтому он и показался знакомым такому страстному поклоннику жанра, как Пик. Стоило ли удивляться, что он ведет себя с таким апломбом. Дэшил Хэммет, не больше и не меньше. Пику немного полегчало от сознания, что он уступил такому человеку.
Они проспали еще два часа, проснулись практически одновременно и снова занялись любовью на кровати в мотеле. Рейчел получила даже большее удовлетворение, чем в первый раз: все происходило медленнее, ласковее, в более изысканном и чувственном ритме. Ее гибкое, податливое, упругое тело доставляло ей самой глубокое удовлетворение, и она безмерно наслаждалась работой мышц, ритмичными мягкими движениями, ласковым касанием тел. То было не обычное наслаждение от любви, но более сильное и полное чувство: она ощущала себя молодой, здоровой, живой. Обладая даром брать все от настоящего, она позволила своим рукам исследовать тело Бена, поражаясь его стройности, гранитной твердости мускулов его плеч и рук, крепости спины, наслаждаясь шелковистостью его кожи, ритмичным движением бедер, ощущая его всем своим телом, замирая от прикосновения его горячих рук, жгучего жара его губ на своих щеках, губах, шее, груди. До Бена Рейчел не занималась любовью пятнадцать месяцев. И никогда раньше не приходилось ей испытывать такую любовь. Ей никогда не было так хорошо, никогда она не чувствовала такой волнующей нежности и такого полного удовлетворения. Казалось, что до сих пор она была как бы неживая, и вот наступил час ее возвращения к жизни. Утомленные, они долго лежали в объятиях друг друга, но мягкий отсвет любви медленно уступал место странному беспокойству. Сначала Рейчел не могла понять, что ее тревожило, но потом узнала это редкое и особое ощущение приближающейся смерти, вызывающее дрожь, необоснованное, но инстинктивное чувство, от которого у нее тело покрылось мурашками. Она вгляделась в ласковую улыбку Бена, в его такое любимое лицо, в его глаза — и ее охватила пугающая непоколебимая уверенность, что она потеряет его. Она попыталась убедить себя, что ее неожиданное предчувствие — естественная реакция почти тридцатилетней женщины, которая после одного неудачного замужества чудом нашла подходящего человека. Что-то вроде синдрома «Я не заслуживаю такого счастья». Когда жизнь наконец преподносит тебе прекрасный букет цветов, ты обычно с подозрением вглядываешься в него — а не спряталась ли там пчела. Суеверный страх, что это ошибка, что тебе не могло так повезти, является стержнем человеческой натуры, так что вполне естественно, что она боится потерять Бена. Рейчел пыталась себя уговорить, но сама знала, что ее внезапный страх был чем-то большим, чем суеверие, чем-то более мрачным. По спине побежал холодок, и ей показалось, что позвоночник у нее превратился в кусок льда. Прохладное дыхание, коснувшееся ее кожи, проникло глубже, достало до костей. Отвернувшись от Бена, она опустила ноги на пол и встала, обнаженная и дрожащая. — Рейчел, — позвал ее Бен. — Пора двигаться, — с беспокойством сказала она, направляясь в ванную комнату сквозь солнечный свет и тени от пальмовых листьев, проникающие через единственное незанавешенное окно. — Что случилось? — спросил он. — Мы тут сейчас как подсадные утки. Или станем ими. Нам нужно двигаться. Все время следует быть настороже. Надо найти его раньше, чем он или кто-нибудь другой найдет нас. Бен поднялся с кровати, загородил ей дорогу в ванную комнату и положил руки на плечи: — Все будет в порядке. — Не говори так. — Но так и будет. — Не искушай судьбу. — Вдвоем мы сильны, — заверил он. — Сильнее не бывает. — Не надо, — настаивала она, приложив ему палец к губам, заставляя замолчать. — Пожалуйста. Я не перенесу… если мне придется потерять тебя. — Ты не потеряешь меня, — возразил он. Но, взглянув на него, она с ужасом почувствовала, что уже потеряла его, что смерть стоит за его спиной, что она неизбежна. Синдром «Я не заслужила такого счастья»? Или настоящее предчувствие? Откуда ей было знать, что это. Поиски доктора Либена результатов не приносили. Мрачную вероятность неудачи Энсон Шарп ощущал как огромное и тяжкое нечто, навалившееся на стены подземной лаборатории в Риверсайде, сжимающее эту комнату без окон и медленно раздавливающее его. Он не мог смириться с неудачей. Он был прирожденным победителем, всегда только победителем, превосходящим всех остальных, только так он представлял себе себя, только так он мог позволить себе думать о себе — как о блестящем представителе высшего рода. Такое представление о самом себе являлось как бы индульгенцией, позволяющей ему делать все, что душа пожелает, абсолютно все, ибо он по своей натуре просто не мог мириться с разными моральными ограничениями, присущими обычному человеку. И тем не менее разосланные по округам люди докладывали, что ходячий мертвец не появлялся там, где его рассчитывали найти, и с каждым часом Шарп все больше злился и нервничал. Должно быть, они не так хорошо знали Эрика Либена, как им казалось. Вполне вероятно, что, предвидя возможность такого поворота событий, ученый заранее присмотрел себе местечко, где можно залечь, и ему удалось уберечь эту тайну от Бюро по оборонной безопасности. Тогда безуспешная попытка обнаружить Либена будет рассматриваться как личная неудача Шарпа, потому что он теснее всех был связан с этой операцией в надежде присвоить себе все заслуги в случае ее удачного завершения. Но тут появился шанс. Позвонил Джерри Пик и сообщил, что нашел Сару Киль, несовершеннолетнюю любовницу Эрика Либена, в больнице в Палм-Спрингс. — Но эти чертовы медики, — пожаловался Пик характерным для него голосом честного нытика, — отказываются сотрудничать. Иногда Энсон Шарп подумывал, а стоят ли преимущества от окружения себя слабыми, а следовательно, не представляющими угрозы молодыми агентами тех убытков, которые приходится терпеть из-за их нерасторопности? Разумеется, никто из них не составит ему конкуренции, когда он усядется в директорское кресло, но зато ни один не способен по собственной инициативе сделать что-то такое, что бы положительно говорило о нем, Шарпе, как наставнике. — Я приеду до того, как она очнется, — бросил Шарп. Расследование в Генеплане какое-то время обойдется без его присутствия. Ученые и техники, явившиеся на работу, были отправлены по домам со строгим наказом не появляться до специального уведомления. Компьютерные гении из Бюро по оборонной безопасности разыскивали относящиеся к проекту «Уайлдкард» файлы в банках данных Генеплана, но их работа требовала такого высокого профессионального уровня, что Шарп не мог не то что руководить ею, но и просто понять, что к чему. Он позвонил нескольким федеральным агентам в Вашингтоне в поисках информации о больнице и докторе Гансе Уэрфелле, которую можно было бы использовать, чтобы на этого Уэрфелла поднажать, и получил ее. Затем погрузился в ожидающий его вертолет и, довольный, что снова находится в движении, полетел через пустыню в Палм-Спрингс.
До аэропорта в Палм-Спрингс Рейчел и Бен доехали на такси, там взяли напрокат новый «форд» и, вернувшись в город как раз к открытию магазинов в половине десятого, были первыми покупателями в магазине одежды. Она купила себе светло-коричневые джинсы, бледно-желтую блузку, толстые белые носки и кроссовки «Адидас». Бен приобрел голубые джинсы, белую рубашку, длинные носки и туфли. Они переоделись, сняв с себя грязную помятую одежду в общественном туалете на заправочной станции в конце Палм Каньон-драйв. Потом, не желая тратить время на остановку ради завтрака, а также боясь, что их кто-то узнает, схватили пару бутербродов с яичницей и кофе в «Макдональдсе», чтобы поесть в пути. Каким-то непостижимым образом Рейчел передала Бену свое предчувствие надвигающейся смерти и то внезапное ощущение, почти предвидение, что у них не остается времени, охватившее ее в мотеле сразу после того, как они любили друг друга во второй раз. Хотя Бен и пытался успокоить ее, уверить, что все будет в порядке, он сам с каждой минутой все больше нервничал. Они были похожи на двух животных, инстинктивно ощущавших приближение страшной бури. Сожалея, что они не могут забрать ее красный «Мерседес», значительно более быстрый, чем «Форд», Рейчел откинулась на спинку пассажирского сиденья, без энтузиазма пережевывая бутерброд, в то время как Бен вел машину на север по шоссе 111, а затем к западу по шоссе 10. Хотя он выжимал из «Форда» больше, чем смог бы сделать кто-нибудь другой, обращаясь с ним умело и слегка небрежно, как истый профессионал, чего вряд ли можно было ожидать от торговца недвижимостью, им все равно не достичь охотничьего домика Эрика раньше чем к часу дня. Дай Бог, чтобы они не опоздали. Она старалась не думать, каким будет Эрик, когда они найдут его, если, конечно, им это удастся.
Глава 18
БЕЛАЯ ГОРЯЧКА ЗОМБИ
Бешеный гнев прошел, и Эрик снова обрел способность соображать, насколько это было возможно в его состоянии. Он находился в полностью разгромленной спальне охотничьего домика, где порушил все, до чего смог дотянуться. В голове пульсировала сильная, резкая боль, более тупая боль ощущалась во всем теле. Суставы распухли и почти потеряли подвижность. Глаза жгло, они видели плохо и слезились. Болели зубы, а во рту ощущался вкус пепла. Как и всегда после приступа ярости, настроение Эрика было мрачным. Ему казалось, что он живет в сером мире, где все краски выгорели, звуки приглушены, очертания предметов размыты и где любой свет, вне зависимости от источника, казался туманным и слишком слабым. Создавалось впечатление, что ярость иссушала его, забирала все силы, вынуждая снова восстанавливать энергию. Двигался он рывками, иногда неуклюже, и с трудом соображал. Он сознавал, что, когда процесс заживления подойдет к концу, периоды комы и мрачного настроения обязательно исчезнут. Однако сознание этого не прибавляло ему бодрости, потому что заторможенный мыслительный процесс затруднял размышления о лучшем будущем. Его состояние было странным, неприятным, даже пугающим. Эрик чувствовал, что собственная судьба от него не зависит и что, по существу, он в своем теле как в ловушке, прикованный к этой теперь несовершенной, полумертвой плоти. Шатаясь, Эрик пошел в ванную комнату, медленно принял душ, почистил зубы. В охотничьем домике, как и в доме в Палм-Спрингс, он держал полный гардероб, чтобы при переездах не собирать вещи, так что теперь переоделся в брюки цвета хаки, красную рубашку в клетку, шерстяные носки и пару тяжелых ботинок. Из-за окутывающего его серого тумана обычная утренняя процедура заняла больше времени, чем следовало: он не сразу справился с кранами душа, с трудом установил нужную температуру воды; постоянно ронял зубную щетку в раковину; проклял свои неуклюжие пальцы, которые никак не могли застегнуть пуговицы на рубашке; когда он попытался закатать длинные рукава, материал сопротивлялся так яростно, как будто обладал собственной силой воли; а чтобы зашнуровать ботинки, ему потребовалось поистине титаническое усилие. Тут его снова отвлекли призрачные огни. Несколько раз где-то на периферии зрения обычные тени принимались полыхать пламенем. Простое закорачивание электрических импульсов в его поврежденном, но заживающем мозгу. Иллюзии, вызванные перебоями в церебральных синапсах между нейронами. И ничего больше. Однако, когда он поворачивался, чтобы посмотреть прямо на эти огни, они не тускнели и не мелькали, как обыкновенные миражи, но разгорались еще ярче. Каждый раз он смотрел на эти несуществующие огни все с большим страхом отчасти потому, что видел что-то среди них или за ними, что-то таинственное и пугающее: темные чудовищные фигуры, которые манили его к себе сквозь танцующие языки пламени. И хотя он знал, что эти фантомы — только плод его болезненного воображения, не понимал, что они означают и почему он их должен бояться, он дрожал от страха. А иногда, зачарованный этими призрачными огнями, слышал, что скулит, как насмерть перепуганный ребенок. Пища. Хоть его генетически измененное тело и обладало великолепной способностью к регенерации и заживлению, ему все равно требовалась пища — витамины, минеральные соли, углеводы, белки, то есть те строительные элементы, с помощью которых поврежденные ткани могли восстанавливаться. И впервые после того, как он встал со стола в морге, Эрик ощутил голод. Он нерешительно поплелся в кухню и подошел к большому холодильнику. Ему показалось, что краем глаза он увидел, как что-то выползает из-под розетки на стене. Что-то длинное и тонкое. Насекомообразное. Угрожающее. Но он знал, что это ему только кажется. Он и раньше видел такие вещи. Все это симптомы поражения головного мозга. Ему следует просто не обращать внимания, не пугаться, несмотря на то, что он слышит топот многочисленных ножек этого насекомого по полу. Топ-топ-топ. Он отказывался смотреть. Убирайся. Он крепко держался за ручку холодильника. Топ-топ-топ. Сжал зубы. Убирайся. Звук смолк. Когда он снова рискнул взглянуть на розетку, ничего необычного там не было, никакого насекомого. Только теперь за кухонным столом сидел его давно умерший дядя Барри и ухмылялся. Когда Эрик был ребенком, его часто оставляли с дядей Барри Хэмпстедом, который насиловал его, а он боялся кому-нибудь рассказать. Барри грозил, что побьет его, отрежет ему пенис, если он проговорится, и эти угрозы были такими страшными и реальными, что Эрик ни на минуту не сомневался, что дядя их выполнит. Теперь дядя Барри сидел за столом, положив одну руку на колено, и говорил: — Иди сюда, милая крошка, давай поиграемся. — И Эрик слышал этот голос так же ясно, как тридцать пять лет назад, но в то же время знал, что ни сам человек, ни его голос не являются реальностью. И он боялся дяди Барри так же сильно, как и много лет назад, хотя и понимал, что сейчас уж ненавистному дяде до него не дотянуться. Он закрыл глаза и мысленно приказал видению исчезнуть. По всей видимости, он простоял так, весь дрожа, минуту или больше, боясь открыть глаза, пока не будет уверен, что призрак исчез. Но тут он начал думать, что Барри в самом деле был здесь, и сейчас подбирается к нему, и может в любую секунду схватить его за половые органы, схватить и сжать… Он резко открыл глаза. Видение Барри Хэмпстеда исчезло. Дышать стало легче. Эрик достал пакет бутербродов с колбасой из морозильной камеры и подогрел их на противне в духовке, сконцентрировав все свое внимание на том, чтобы случайно не обжечься. Терпеливо и неуклюже он подогрел кастрюльку супа. Сел за стол, сгорбив плечи и низко наклонив голову, и съел все, запив еду несколькими чашками горячего черного кофе. Какое-то время он ощущал страшный аппетит, и от самого процесса еды чувствовал себя по-настоящему живым, более живым, чем когда-либо после своего второго рождения. Он откусывал, жевал, глотал, ощущал вкус — все эти простые действия снова возвращали его в мир живых с большей убедительностью, чем все, что он делал после того, как попал под грузовик на Мейн-стрит. На какое-то время настроение у него улучшилось. Но тут Эрик начал медленно осознавать, что вкус колбасы не так остер и приятен, как раньше, когда он был полностью жив и мог по-настоящему оценить его; и хотя приближал свой нос вплотную к жирному, горячему мясу, не ощущал его острого аромата. Он уставился на свои грязно-серые, липкие руки, которыми держал бутерброд, и куски дымящегося мяса выглядели более живыми, чем его собственная плоть. Неожиданно ситуация показалась Эрику презабавной: мертвец завтракает, ест колбасу, отправляет горячий суп, ложку за ложкой, в свой холодный пищевод, изо всех сил стараясь казаться одним из живущих, как будто смерть можно по желанию повернуть вспять, как будто жизнь можно вернуть, просто привычно приняв душ, почистив зубы, позавтракав, выпив кофе и посетив туалет. Он должен быть живым, потому что ни в раю, ни в аду нет колбасы и супа в банке. Так ведь? Он наверняка жив, потому что сумел воспользоваться кофеваркой и электроплитой, а вон там в углу тихо гудит холодильник «Вестингхауз», и хотя все эти предметы есть почти в каждом доме, их вряд ли найдешь на дальних берегах реки Стикс, значит, он наверняка жив. Разумеется, юмор черный, очень даже черный, но он громко рассмеялся и продолжал смеяться и смеяться, пока не услышал свой собственный смех. Он был жестким, хриплым, холодным, и не смех вовсе, а плохая имитация, грубая и непохожая. Создавалось впечатление, что он наглотался камней, и теперь они терлись друг о друга и грохотали. Расстроенный этим звуком, он вздрогнул и разрыдался. Уронив бутерброд с колбасой, он смел со стола на пол всю еду и посуду и упал на него руками и головой. Он захлебывался рыданиями и на какое-то время весь отдался глубоким волнам жалости к самому себе. Мышки, мышки, вспомни про мышек, бьющихся о стенки своих клеток… Эрик все еще не мог понять, что бы это могло значить, хотя ему и казалось, что он ближе к пониманию, чем раньше. Воспоминания о мышках, белых мышках, дразнили его, вот они, вот, рядом, но он не мог вспомнить. Он еще больше помрачнел. И соображать стал хуже. Через какое-то время Эрик почувствовал, что впадает в очередную кому, когда сердцебиение резко замедлялось, дыхание почти останавливалось, давая возможность телу продолжать свои ремонтные работы и восстановить энергию. Он сполз со стула и свернулся калачиком на полу около холодильника.Бен свернул с шоссе 10 у Редландса. До озера Эрроухед осталось двадцать восемь миль. Однорядная извилистая дорога вела в горы Сан-Бернардино. Она была местами разбита, в ямах, на некоторых участках ширина обочины не превышала нескольких дюймов, а дальше, за жалким ограждением, — крутой склон, так что ошибаться явно не стоило. Им пришлось сильно сбавить скорость, хотя Бену и удавалось выжать из «Форда» значительно больше, чем смогла бы Рейчел. Прошлой ночью Рейчел поведала Бену все свои тайны — и о подробностях проекта «Уайлдкард», и об одержимости Эрика, и теперь она ждала, что он в ответ расскажет ей о себе, но Бен не сказал ничего такого, что объяснило бы его умение драться, водительское мастерство и знание огнестрельного оружия. Хоть ей и было ужасно любопытно, Рейчел не стала давить на него. Она чувствовала, что его тайны куда более личного свойства, чем ее, и что он явно потратил немало времени, чтобы отгородиться от них, забыть, а ворошить прошлое — дело нелегкое. Она знала, он скажет ей все, когда сочтет нужным. Они проехали всего милю по горной дороге, и до Раннинг-Спрингс оставалось еще двадцать миль, когда Бен, по-видимому, решил, что пришло время все ей рассказать. Дорога поднималась все выше и выше к острым вершинам гор, по сторонам росло все больше деревьев — сначала березы и карликовые дубы, затем сосны, тамариск, ели, и вскоре вся дорога оказалась в бархатной тени нависающих крон. Даже в машине с кондиционером чувствовалось, что жара пустыни осталась позади. Казалось, именно спасение от угнетающего пекла побудило Бена к разговору. Тихим, но четким голосом он начал свой рассказ: — В восемнадцать лет я стал морским пехотинцем, добровольцем пошел во Вьетнам. Я не был настроен против войны, как многие другие, но и войну я не поддерживал тоже. Я просто был за свою страну, неважно, правое ее дело или нет. Выяснилось, что у меня есть определенные склонности, природные способности, и я стал кандидатом в элитарные части — разведку морской пехоты, нечто вроде армейских рейнджеров или «тюленей». Меня заметили быстро, предложили тренироваться в разведке, я согласился, и в конце концов они сделали из меня первоклассного солдата, которому, может, нет равных в мире. Дай мне любое оружие, я знаю, как с ним обращаться. Даже голыми руками я могу убить любого, он и не заметит, что с ним случилось, пока не хрустнет сломанная шея. Я отправился во Вьетнам в составе группы разведчиков, мне этого хотелось, я любил действовать, и в течение нескольких месяцев я был в восторге, рад, что попал в самую гущу. Бен все так же уверенно и умело вел машину, но Рейчел заметила, что скорость медленно падает, по мере того как воспоминания уносили его все дальше в джунгли Юго-Восточной Азии. Солнечные лучи нашли прогалины между еловыми ветвями и каскадом обрушились на лобовое стекло, заставив Бена прищуриться. — Но если ты провел несколько месяцев по колено в крови, видел, как рядом умирают твои товарищи, сам многораз был на волосок от смерти, видел мирных жителей, скошенных перекрестным огнем, сожженные деревни, изуродованных детей… что ж, волей-неволей ты начнешь сомневаться. И я начал сомневаться. — Бенни, прости, ради Бога. Я и подумать не могла, что ты прошел через весь этот ужас… — Не надо меня жалеть. Я вернулся живым и продолжаю жить. Мне повезло куда больше, чем многим другим. «О Господи, — подумала Рейчел, — что бы было, если бы ты не вернулся? Я бы никогда тебя не встретила, никогда бы не полюбила и даже не знала бы, что потеряла». — Так или иначе, — тихо продолжал он, — сомнения появились, и я был в смятении. Я сражался за законно избранное правительство во Вьетнаме, а, судя по всему, оно было безнадежно коррумпировано. Я сражался за то, чтобы сохранить вьетнамскую культуру от уничтожения ее коммунистами, а эта самая культура тем временем гибла от рук десятков тысяч американских солдат, которые прилежно ее американизировали. — Мы хотели принести Вьетнаму свободу и мир, — заметила Рейчел. — Во всяком случае, я так думала. — Ей еще не было тридцати, на семь лет меньше, чем Бену, но на семь решающих лет. То была не ее война. — Что плохого в том, чтобы сражаться за мир и свободу? — Верно, — согласился он, но голос его стал тусклым, — однако мы, похоже, стремились обеспечить этот мир, сначала убив всех и сровняв всю проклятую страну с землей так, чтобы там уже не осталось никого, кто мог бы насладиться плодами свободы. Я должен был спросить себя: а не ошиблась ли моя страна? За ней ли правда? А может, она несет… зло? Или я просто молод и неопытен и, несмотря на свою подготовку, не способен правильно понять? — Какое-то время он молчал, резко бросил машину в правый поворот, затем в левый, следуя извилинам горной дороги. — К концу службы мне не удалось найти убедительного ответа ни на один из этих вопросов… так что я остался добровольцем на второй срок. — Ты остался во Вьетнаме, когда мог вернуться домой? — удивленно спросила она. — Несмотря на все эти ужасные сомнения? — Я должен был разобраться, — тихо проговорил Бен. — Должен был, и все. Я что хочу сказать, я убивал многих людей, как мне казалось, ради справедливого дела, так что мне необходимо было знать, прав я или нет. Я не мог просто уехать, выбросить все из головы, продолжать жить как ни в чем не бывало и забыть обо всем. Черт возьми, не мог я так поступить. Я должен был разобраться, решить, кто я — хороший человек или убийца, а потом уже думать, что делать дальше, как успокоить свою совесть. И не было места лучше для того, чтобы все проанализировать, чем там, в самой гуще событий. Кроме того, чтобы осмыслить, почему я остался на второй срок, тебе надо понять меня, того меня много лет назад: молодого идеалиста, которому патриотизм был присущ так же, как цвет глаз. Я любил свою страну, верил в нее, верил безоглядно, и не мог я взять и легко отбросить эту веру… как змея меняет кожу. Они проехали дорожный указатель, сообщивший им, что они находятся в шестнадцати милях от Раннинг-Спрингс и двадцати трех милях от озера Эрроухед. — И ты был во Вьетнаме еще целый год? — спросила Рейчел. Он устало вздохнул: — Так вышло, что я пробыл там еще… два года.
В своем охотничьем домике над озером Эрроухед Эрик Либен неопределенное время находился в особом сумеречном состоянии, не спал, но и не бодрствовал, не был ни живым, ни мертвым. В это время его генетически измененные клетки вырабатывали ферменты, белки и другие вещества, необходимые для процесса заживления. В мозгу его мелькали какие-то мрачные сны и бессвязные кошмары, похожие на чудовищные тени, мечущиеся в тусклом, кровавом свете сальных свечей. Когда он наконец очнулся от своего похожего на транс состояния, снова полный энергии, то ощутил острую необходимость вооружиться и быть готовым к действию. Голова полностью еще не прояснилась, в памяти тоже были провалы, так что он плохо понимал, кто может за ним гнаться, но нутром чувствовал, что ему наступают на пятки. Наверняка, черт бы все побрал, кто-нибудь узнает о домике от Сары Киль. От этой мысли он вздрогнул, потому что не мог понять, кто такая Сара Киль. Он долго стоял, опершись одной рукой о кухонный стол, пытаясь вспомнить ее лицо и место в его жизни. Сара Киль… Внезапно он вспомнил и проклял себя за то, что привозил девчонку сюда. Охотничий домик должен был оставаться его тайным убежищем. Ему нужны были молодые женщины, чтобы чувствовать себя молодым, и он любил производить на них впечатление. На Сару таки произвел впечатление пятикомнатный охотничий домик со всеми удобствами, расположенный на его собственном лесистом участке, откуда открывался прекрасный вид на озеро. Они замечательно трахнулись под развесистой сосной на одеяле, и он почувствовал себя таким молодым. Но получалось, что теперь Сара знает о его тайном убежище, а от нее могут узнать и его преследователи, хотя он и не мог точно сказать, кто именно. Снова заторопившись, Эрик оттолкнулся от стола и направился к двери, ведущей из кухни в гараж. Он двигался уже лучше, чем раньше, более энергично, глаза не так резал яркий свет, и никакие фантомы не вылезали из углов, чтобы напугать его. Очевидно, период комы принес ему несомненную пользу. Положив руку на дверную ручку, он внезапно остановился, пораженный другой мыслью: «Сара Киль никому не сможет рассказать об этом домике, потому что Сара умерла, я сам ее убил несколько часов назад…» Волна ужаса накатилась на Эрика, и он крепче ухватился за ручку, чтобы помешать этой волне унести его навсегда в темноту и безумие. Внезапно он вспомнил, что ездил в дом в Палм-Спрингс, что бил девушку, обнаженную девушку, безжалостно работая кулаками. В его поврежденной памяти, как слайды в испорченном фильмоскопе, замелькало ее окровавленное, полное ужаса лицо в кровоподтеках. Но действительно ли он убил ее? Да нет, конечно, нет. Он часто грубо обращался с женщинами, что верно, то верно, можно в этом признаться, ему нравилось их бить, он обожал, когда они перед ним пресмыкались, но он не мог убить кого-то, никогда не мог и никогда не сможет, да нет же, он — законопослушный гражданин, вполне преуспевающий к тому же, не какой-нибудь бродяга или психопат. И тут в памяти возникло другое, неясное, но пугающее воспоминание: он прибивает Сару к стене в доме Рейчел в Пласеншии, прибивает ее обнаженное тело над кроватью, чтобы предупредить Рейчел. Он вздрогнул, потом сообразил, что то была вовсе не Сара, но какая-то другая женщина, которую он распял на стене, он не знал даже, как ее зовут, просто незнакомка, немного напомнившая ему Рейчел. Да нет, это просто смешно, не мог же он убить двух женщин, он и одну не убивал, но теперь он вспомнил мусорный контейнер в грязном тупике и еще одну женщину, третью, хорошенькую мексиканочку с перерезанным скальпелем горлом, чей труп он запихнул в мусорный контейнер… «Нет. Бог мой, да что же я с собой натворил, — изумился он, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. — Я одновременно и исследователь, и испытуемый, творец и творение, и это ошибка, ужасная ошибка. Как я умудрился своими руками сотворить из себя… чудовище Франкенштейна?» На один страшный момент в мозгу у него прояснилось, и правда предстала перед ним, яркая и черная, как солнечный день в только что вымытом окне. Он яростно затряс головой, делая вид, что хочет прогнать остатки тумана, заволакивающие его мозг, но на самом деле пытаясь избавиться от ненужной и невыносимой ясности. Его травмированный мозг и нестабильное физическое состояние облегчили эту задачу. Резкого движения головой оказалось достаточно, чтобы он снова почувствовал головокружение, в глазах появилась муть, а память снова затянул черный туман, мешая ему думать и приводя в замешательство. Конечно, мертвые женщины — просто шутки памяти, ну конечно, разумеется, такого не могло быть, ведь он не способен на хладнокровное убийство. Они так же нереальны, как и дядя Барри и странные насекомые, которых он иногда, как ему кажется, видит. Вспомни про мышек, про мышек, безумных кусающихся, осатанелых мышек… Каких мышек? Какое отношение безумные мышки имеют ко всей этой истории? Забудь о проклятых мышках. Самое главное — не мог он убить человека, не говоря уже о трех. Только не он. Не Эрик Либен. Эти кошмары были просто фантазией его сумеречной и взбаламученной памяти, вроде тех призрачных огней, появляющихся неизвестно откуда. Они только результат заколачивания электрических импульсов в пораженной ткани мозга. И они будут преследовать его, пока мозг окончательно не излечится. А пока он не должен о них думать, потому что тогда он начнет сомневаться в себе, в своих ощущениях, а в его нестабильном психическом состоянии сил на сомнения уже не было. Дрожа и обливаясь потом, Эрик открыл дверь, вошел в гараж и зажег свет. Его черный «Мерседес-560» стоял там, где он его вчера поставил. Глядя на «Мерседес», он вдруг вспомнил другую машину, более старую и менее элегантную, в багажник которой затолкал тело убитой женщины… Нет. Снова ложные воспоминания. Иллюзии. Заблуждения. Он осторожно оперся одной вытянутой рукой о стену и слегка передохнул, собираясь с силами и ожидая, чтобы хоть немного прояснилось в голове. Когда он наконец поднял взгляд, то не мог вспомнить, зачем пришел в гараж. Однако постепенно им вновь овладевало ощущение, что за ним гонятся, что кто-то пытается до него добраться и что ему следует вооружиться. Его затуманенный мозг не мог подсказать, кто именно его преследует, но Эрик знал, что ему грозит опасность. Он оттолкнулся от стены, прошел мимо машины и подошел к верстаку и полкам с инструментом в переднем углу гаража. Он пожалел, что у него не хватило ума держать в охотничьем домике пистолет. Теперь придется довольствоваться топором, который он снял со стены, заодно порвав паутину, опутавшую рукоятку. Этим топором он рубил дрова для камина. Довольно острый, превосходное оружие. Хоть он и был не способен на хладнокровное убийство, он знал, что может убить, защищаясь. Каждый имеет право защищать сам себя. Самозащита сильно отличается от убийства. Она оправданна. Он поднял топор, проверяя его тяжесть. Оправданна. На пробу размахнулся топором. Он разрезал воздух со свистом. Оправданна.
Не доезжая до Раннинг-Спрингс приблизительно девяти, а до озера Эрроухед шестнадцати миль, Бен съехал на обочину и остановился в живописном месте, где увидел два складных столика и мусорный бак в тени от нескольких огромных колючих сосен. Он выключил мотор и опустил стекло. Здесь, в горах, было градусов на сорок по Фаренгейту прохладнее, чем в пустыне, откуда они только что приехали, достаточно тепло, но без духоты. Рейчел понравился легкий освежающий ветерок, который залетел к ним в машину, пахнущий сосной и дикими цветами. Она не спросила Бена, зачем он остановился, потому что догадывалась о причине. Для него жизненно важно, чтобы она поняла, к каким выводам он пришел во Вьетнаме, чтобы не заблуждалась и знала, каким сделала его война, и он боялся, что не сможет изложить все вразумительно, если одновременно ему придется вести машину по извилистой горной дороге. Он рассказал ей про свой второй год войны во Вьетнаме. Год, начавшийся смятением и отчаянием, страшным осознанием того, что война, в которой он участвует, не чиста, как чиста вторая мировая война, где все моральные аспекты были четко определены. Месяц за месяцем разведывательные операции все глубже затягивали Бена в военную зону. Часто им приходилось пересекать линию фронта, участвовать в партизанских действиях в тылу врага. Их задачей было не только вовлечь противника в бой и уничтожить его, но и постараться завоевать души и сердца мирного населения. Во время этих контактов Бену пришлось наблюдать, к каким особо жестоким мерам прибегает противник, и в конце концов он пришел к выводу, что эта грязная война заставляла выбирать между различными степенями аморальности: с одной стороны, было аморально остаться и воевать, неся смерть и разрушение; с другой стороны, было еще более аморально уйти, потому что за падением Южного Вьетнама и Камбоджи неминуемо последуют массовые убийства по политическим мотивам, которые значительно превысят количество павших на поле брани. Голосом, который напомнил Рейчел темные исповедальни, где она, бывало, стояла на коленях в молодости, Бен сказал: — В каком-то смысле я понял, что, как ни плохи были мы во Вьетнаме, после нас будет еще хуже. После нас — кровавая бойня. Миллионы будут казнены или погибнут в концентрационных лагерях. После нас — потоп. Он смотрел не на нее, а сквозь лобовое стекло на поросшие лесом склоны гор Сан-Бернардино. Она ждала. Наконец он проговорил: — Никаких героев. Мне еще и двадцать один не исполнился, для меня это было сурово — понять, что никакой я не герой, что я просто меньшее из зол. В двадцать один ты предположительно должен быть идеалистом, оптимистом и идеалистом, но я увидел своими собственными глазами, что многое в жизни зависит от этого выбора, от умения выбрать из двух зол меньшее. Бен набрал полную грудь воздуха и с силой выдохнул, как будто очищаясь от грязи, связанной с разговорами о войне, как будто чистый горный воздух, если вдохнуть его поглубже, сможет стереть старые пятна с его души. Рейчел молчала, отчасти потому, что хотела дать ему выговориться. Но, кроме того, она была потрясена, узнав, что он был профессиональным солдатом, и это вынуждало ее взглянуть на него совершенно другими глазами. Она всегда считала его замечательно простым человеком, обыкновенным торговцем недвижимостью. Сама его обычность привлекала ее. Бог свидетель, с нее хватило многокрасочности и яркости Эрика Либена. Простота Бена умиротворяла, она означала невозмутимость, спокойствие и надежность. Он казался ей глубоким, прохладным ручьем, медленным, успокаивающим. До сегодняшнего дня пристрастие Бена к игрушечным поездам, старым романам и музыке сороковых только подтверждало ее предположение, что жизнь его была лишена бурных событий; казалось невероятным, что сложный человек, побитый жизнью, может получать истинное удовольствие от таких простых вещей; от него веяло такой детскостью и чистой невинностью, что трудно было поверить, будто он когда-либо знал разочарование или испытывал душевную боль. — Мои приятели погибли, — сказал он. — Не все, но чертовски многие из них. Погибли, разорванные на куски, подбитые снайперами, подорвавшиеся на противопехотных минах. Некоторых отправили домой калеками, с изуродованными телами и лицами и с вечными шрамами в душе. Слишком большая цена, если не борешься за правое дело, если сражаешься только за меньшее из двух зол, чертовски большая цена. Но мне казалось, что единственная альтернатива — взять и уйти — являлась выходом, только если закрыть глаза на существование степеней зла, на то, что одно зло больше другого. — И тогда ты вызвался добровольцем на третий срок, — заключила Рейчел. — Да. Остался, выжил. Не был ни горд, ни счастлив. Делал то, что надо было делать. Многие из нас поступили так же, а это было совсем не легко. И потом… в тот год мы вывели свои войска, и этого я никогда не смогу ни забыть, ни простить, потому что тем самым они не только бросили вьетнамцев на произвол судьбы, они бросили меня. Я понимал, что поставлено на карту, и все равно готов был идти на жертву. А моя страна, в которую я так верил, заставила меня уйти, позволила большему злу победить, и я должен был вот так запросто плюнуть на всю сложность моральных принципов, после того как я во всем разобрался, как будто это какая-то гребаная игра или что-то в этом роде. Рейчел никогда не слышала такого гнева в его голосе, такой холодной, стальной ярости, никогда не думала, что он на нее способен. Он полностью владел собой, это была спокойная ярость, но оттого еще более пугающая. Он продолжал: — Для парнишки двадцати одного года от роду было потрясением узнать, что жизнь не даст ему шанса стать настоящим, кристально чистым героем, но еще страшнее было понять, что его собственная страна может заставить его поступать неправильно. После нашего ухода Вьетконг и красные кхмеры уничтожили три или четыре миллиона человек во Вьетнаме и Камбодже, а еще полмиллиона погибли, пытаясь убежать морем в утлых, жалких, маленьких лодчонках. И… не могу сказать почему, но я в ответе за их смерть, их кровь на моих руках, я ощущаю их тяжесть, она иногда так давит, что я не уверен, что смогу долго выдержать. — Ты слишком суров к себе. — Нет. Отнюдь нет. — Один человек не может быть в ответе за весь мир, — настаивала она. Но Бен не хотел снимать даже малую толику этой тяжести со своих плеч. — Я думаю, наверное, поэтому я — человек, ориентированный на прошлое. Я выяснил, что тот мир, в котором я вынужден жить, сегодняшний мир, и тот, который его сменит, не чисты и никогда не будут чисты, и у нас нет выбора между белым и черным. А в прошлом есть хоть какая-то иллюзия, что все было совсем иначе. Рейчел всегда восхищалась присущим ему чувством ответственности и его неизменной честностью, но сейчас поняла, что корни этих его черт лежат куда глубже, чем она думала, может быть, слишком глубоко. Даже такие положительные качества, как чувство ответственности и честность, могут привести к одержимости. Но, Бог мой, к какой симпатичной одержимости по сравнению с той, что одолевала других ее знакомых. Наконец он поднял голову, встретился с ней взглядом, и она увидела в его глазах глубокую печаль, почти что меланхолию, которую ей не приходилось видеть раньше. Но было там и другое. Особая теплота, нежность и любовь. — Прошлой ночью, — сказал он, — после того… как мы любили друг друга… я в первый раз после войны понял, что у меня есть выбор, четкий выбор между белым и черным, ничего серого, промежуточного, и для меня в этом выборе нечто… нечто вроде спасения, которое я уже отчаялся найти. — Какой выбор? — спросила она. — Провести с тобой всю свою жизнь или нет, — ответил он. — Правильный выбор — провести ее с тобой, абсолютно правильный, никакой двусмысленности. И разрешить тебе ускользнуть будет неправильно, совершенно неправильно. В этом я не сомневаюсь. Уже много недель, может быть, месяцев, Рейчел знала, что любит Бена. Но она старалась держать свои чувства в узде, не говорила о них, не разрешала себе думать об их глубине, о том, чтобы связать себя на долгое время. Все свое детство и юность она чувствовала себя одинокой, нелюбимой, и эти мрачные годы вселили в нее тоску о привязанности. Эта тоска, эта потребность быть желанной и любимой сделали ее такой легкой добычей для Эрика Либена и привели к столь неудачному браку. Рейчел приняла одержимость Эрика молодостью вообще и ее молодостью в частности за любовь, потому что ей безумно хотелось быть любимой. Семь лет ушло на то, чтобы понять и при-пять печальную правду — к любви эта одержимость не имела никакого отношения. Теперь она была осторожна, боясь снова ошибиться. — Я люблю тебя, Рейчел. С бьющимся сердцем, страстно желая, но боясь поверить, что ее может полюбить такой славный и милый человек, как Бен, она попыталась не смотреть на него, потому что, чем дольше смотрела, тем больше опасалась потерять контроль над собой и ту прохладноватую отстраненность, которой себя вооружила. Но не смогла отвести взгляд. Она попыталась не говорить ничего такого, что бы сделало ее уязвимой, но, испытывая странную смесь страха, радости и возбуждения, все же сказала: — Это то, что я думаю? — А что ты думаешь? — Предложение руки и сердца. — Мало подходящее место для предложения, верно? — усмехнулся он. — Верно. — И все же… да, это предложение. Хотелось бы, чтобы обстоятельства были более романтическими. — Какими же? — С шампанским, при свечах, под звуки скрипок. Она улыбнулась. — Знаешь, — проговорил он, — когда Бареско направил на нас револьвер и когда за нами гнались прошлой ночью по Палм-Каньон-драйв, больше всего меня страшило не то, что меня могут убить, а что меня могут убить до того, как я скажу тебе, как як тебе отношусь. Вот я тебе и говорю. Я хочу быть с тобой всегда, Рейчел, всегда. Слова возникли на ее губах со значительно большей легкостью, чем она считала возможным: — Я хочу провести жизнь с тобой, Бенни. Он осторожно погладил ее по щеке. Она наклонилась и легко поцеловала его. — Люблю тебя, — тихо произнес он. — Господи, и я тебя люблю. — Если мы выберемся из этой истории живыми, выйдешь за меня замуж? — Да. — Внезапно ее охватила дрожь. — Но, черт возьми, зачем ты сказал если! — Забудь, что я это сказал. Но она не могла забыть. Какое-то время назад, в комнате мотеля в Палм-Спрингс, сразу после того, как они любили друг друга во второй раз, она ощутила предчувствие смерти, потрясшее ее и заставившее торопиться, как будто некий смертельный груз упадет на них, если они останутся в том же месте на более продолжительное время. Теперь это чувство вернулось. Горный пейзаж, такой свежий и привлекательный, стал казаться ей мрачным и угрожающим, вызывающим дрожь, хотя она и уверяла себя, что это чувство субъективное. Деревья приобрели безобразные очертания, ветки стали казаться тоньше и уродливее, тени сгустились и потемнели. — Поехали, — поспешно проговорила она. Бен кивнул, явно понимая ее и ощущая ту же перемену в настроении. Он завел мотор и выехал на дорогу. Сделав следующий поворот, они увидели надпись: «ОЗЕРО ЭРРОУХЕД — 15 МИЛЬ».
Эрик осмотрел инструменты в гараже, пытаясь обогатить свой арсенал. Ничего подходящего ему на глаза не попалось. Он вернулся в дом. Положил топор на кухонный стол и принялся открывать ящики, пока не нашел набор ножей. Выбрал два — нож для рубки мяса и другой, с заостренным на конце лезвием. Имея топор и ножи, он был готов как к близкому так и к более дальнему бою. Он все еще жалел, что у него нет пистолета, но, по крайней мере, он был теперь вооружен. Если кто-нибудь придет за ним, он сможет постоять за себя. И здорово их покалечит, пока им удастся с ним справиться. Эта мысль принесла ему явное удовольствие и, к его удивлению, вызвала даже усмешку на лице. Вспомни про мышек, про мышек, кусающихся, безумных мышек… Черт! Он тряхнул головой. Мышки, мышки, маниакальные, царапающиеся, плюющиеся… Эта надоедливая мысль, как куплет идиотской колыбельной, снова крутилась у него в голове, пугая его, но, когда он попытался на ней сосредоточиться, попытался понять, мысли снова затуманились и он так и не смог вспомнить, при чем здесь мышки. Мышки, мышки, с налитыми кровью глазами, бьющиеся о стенки клетки… Попытка напрячь память, поймать ускользающую мысль и вспомнить, почему так важны эти мышки, привела к тому, что пульсирующая, слепящая боль наг полнила всю его голову от затылка до висков, обжигая переносицу, но, когда Эрик попытался выбросить мышек из головы и перестать вспоминать, боль только усилилась, напоминая ему молот, ритмично опускающийся где-то за бровями. Он сжал зубы», чтобы легче было терпеть, и весь покрылся потом, и вместе с потом пришел гнев, сначала не направленный ни на кого конкретно. Но так продолжалось недолго. — Рейчел, — сказал он, сжимая огромный нож, — Рейчел…
Глава 19
ШАРП И УТЕС
Приехав в больницу в Палм-Спрингс, Шарп легко справился с тем, что не удалось Пику, несмотря на приложенные им усилия. Хватило десяти минут, чтобы каменное выражение лица сестры Альмы Данн рассыпалось в прах, а доктор Уэрфелл потерял все свое начальственное спокойствие и превратился в нервного, неуверенного, уважительного и услужливого гражданина. Они пошли навстречу с неохотой, но тем не менее пошли, что произвело на Пика глубокое впечатление. Хотя Сара Киль еще находилась под действием лекарств, принятых в середине ночи, Уэрфелл согласился сделать все, чтобы разбудить ее. Как всегда, Пик с прилежанием молодого фокусника, следящего за каждым движением мэтра на сцене, внимательно наблюдал за заместителем директора, пытаясь понять, каким образом ему удается добиться такого эффекта. Прежде всего Шарп умело пользовался своими внушительными габаритами. Он подходил к людям вплотную и нависал над ними, зловеще глядя им в лицо. Широкие плечи расправлены, взгляд полон угрозы, того и гляди взорвется. Но при этом Шарп почти всегда улыбался. Разумеется, улыбка тоже использовалась в качестве оружия, уж слишком она была широкой, зубастой, без капли юмора, странной. С еще большим мастерством, чем свои размеры, Шарп использовал ловкие приемы, доступные высокопоставленному государственному агенту. Перед отъездом из лабораторий Генеплана в Риверсайде он употребил все свое влияние как замдиректора Бюро по оборонной безопасности, чтобы по телефону получить информацию о больнице «Дезерт Дженерал» в целом и докторе Гансе Уэрфелле в частности, которой можно было бы воспользоваться, чтобы надавить на него. В истории больницы практически не было пятен. Строгие требования предъявлялись к квалификации врачей, сестер и технического персонала; прошло уже девять лет с той поры, как против больницы было возбуждено дело о неправильном лечении, и это дело больница выиграла; процент выздоровевших больных был высок, значительно выше, чем средний по стране. За двадцать лет единственным пятном на репутации больницы было дело о похищенных таблетках. Так его про себя назвал Пик, с которым Шарп по приезде поделился имеющейся информацией, но Шарпу об этом не сказал, поскольку тот не был поклонником детективных романов и не разделял любви Пика к приключениям. Так или иначе, но в прошлом году трех сестер поймали на фальсификации регистрационных журналов в аптеке, и выяснилось, что они годами воровали лекарства. Просто из подлости троица втянула в это дело шестерых из своих вышестоящих коллег, включая сестру Данн, хотя позднее полиция доказала, что и она, и другие не имели к этому делу никакого отношения. Агентство по наблюдению за распределением лекарств взяло больницу на заметку, а Альма Данн, хоть и была полностью оправдана, все же чувствовала, что ее репутация под угрозой. Шарп, разумеется, решил воспользоваться этим. Он отвел Альму в комнату для медсестер, где, кроме Пика, никого не было, и слегка пригрозил женщине возобновить расследование с большим шумом, на этот раз на федеральном уровне, чем не только добился ее согласия сотрудничать, но и довел ее до слез, что Пику, сравнившему Альму Дани с героиней Агаты Кристи несокрушимой мисс Марпл, казалось абсолютно невозможным. Сначала возникло впечатление, что с доктором Уэрфеллом справиться будет потруднее. Его репутация врача была незапятнанной. Он пользовался большим авторитетом в медицинских кругах, завоевал ежегодную премию Ассоциации врачей, работал бесплатно шесть часов в неделю в больнице для бедных и казался святым, с какой стороны ни посмотри. Да, со всех сторон… кроме одной. Пять лет назад его обвинили в неуплате налогов и привлекли к суду за техническую ошибку. Он несколько ошибся при составлении отчетов, и хотя ошибка не была преднамеренной, простое упущение, это не было признано достаточным оправданием. Загнав Уэрфелла в угол временно пустующей палаты на две койки, Шарп пригрозил ему возобновлением расследования, тем самым поставив доктора на колени меньше чем за пять минут. Уэрфелл был уверен, что сейчас его отчеты вполне приемлемы, но он также знал, какое это дорогое удовольствие — защищаться, и понимал, что его репутация пострадает даже в случае полного оправдания. Он взглянул на Пика, ища сочувствия, но Пик постарался, в подражание Шарпу, принять неприступно-каменный и безразличный вид. Как человек умный, Уэрфелл быстро решил, что лучше сделать то, на чем настаивает Шарп, и избежать длинного кошмара суда, даже если ему придется поступиться своими принципами в отношении Сары Киль. — Никакого нет смысла угрызаться совестью и терять сон из-за излишнего беспокойства насчет профессиональной этики, доктор, — сказал Шарп, поощрительно хлопая доктора по плечу мясистой рукой и став неожиданно дружелюбным и сочувствующим после того, как Уэрфелл сломался. — Благополучие нашей страны — прежде всего. Никто в этом не сомневается и не обвинит вас в неправильном решении. Нельзя сказать, что доктор Уэрфелл дернулся от прикосновения Шарпа, но ему явно стало тошно. С тем же самым выражением лица он взглянул и на Пика. Пик вздрогнул. Уэрфелл вывел их из пустой палаты и провел дальше по коридору, мимо сестринского пункта, мимо печального взгляда сестры Данн, делающей вид, что она их не замечает, к палате, где все еще спала Сара Киль. Пока они шли, Пик обратил внимание, что доктор Уэрфелл, который раньше напоминал ему Дэшила Хэммета и выглядел необыкновенно внушительно, сейчас как-то скукожился, стал меньше. Лицо его сделалось серым, и он сразу постарел на несколько лет. Сколько бы ни восхищался Пик способностью Энсона Шарпа настоять на своем, он знал, что сам такими методами пользоваться не сможет. Он не просто хотел добиться успеха, он хотел стать легендой, а легендой можно стать, только если ты добиваешься своего честными методами. Иметь дурную славу — не значит быть легендой, более того, эти две вещи несовместимы. Может быть, Пик и не вынес ничего особо полезного из пяти тысяч прочитанных детективных романов, но уж это-то он вынес. В палате Сары Киль было тихо, только слышалось ее медленное дыхание с легким присвистом. И темно, горела лишь лампочка на прикроватном столике, да несколько узких и ярких лучей солнца пробивались по краям тяжелых занавесок на единственном окне. Трое мужчин расположились около кровати, с одной стороны доктор Уэрфелл и Шарп, с другой стороны — Пик. — Сара, — тихо позвал Уэрфелл. — Сара? — Не получив ответа, он снова повторил ее имя и потряс девушку за плечо. Она что-то пробормотала, но не проснулась. Уэрфелл приподнял одно веко Сары, изучил зрачок, затем взял ее руку и пощупал пульс. — Сама она не проснется по крайней мере… еще час. — Тогда сделайте, что необходимо, чтобы она проснулась сейчас, — нетерпеливо сказал Шарп. — Мы же договорились. — Я сделаю ей укол, чтобы снять действие лекарств. — И Уэрфелл направился к двери. — Стойте здесь, — приказал Шарп, указывая на кнопку звонка на шнуре, обмотанном вокруг одного из бортиков кровати. — Пусть сестра принесет что нужно. — Это сомнительное лечение, — резко возразил Уэрфелл. — Не хочу впутывать сюда никого из сестер. — Он вышел, и дверь за ним с тихим вздохом закрылась. Разглядывая спящую девушку, Шарп заметил: — Восхитительна. Пик удивленно моргнул. — Аппетитная, — добавил Шарп, не отрывая взгляда. Пик тоже взглянул на худенькую девчушку, пытаясь сообразить, что же в ней восхитительного и аппетитного, но это было нелегко. Сальные светлые волосы перепутались, потому что она во сне потела, мокрые пряди прилипли самым несимпатичным образом ко лбу, щекам и шее. Под правым затекшим глазом красовался синяк, щека — в засохшей крови. От скулы до подбородка — один сплошной кровоподтек, верхняя разбитая губа опухла. Сара была укрыта простыней до самого подбородка, виднелась только тонкая правая рука, потому что на сломанный палец был наложен гипс; два ногтя сорваны, и рука не столько напоминала руку, сколько тонкую, костлявую птичью лапку. — Когда она переехала к Либену, ей было пятнадцать, — тихо заметил Шарп. — Шестнадцать только-только исполнилось. Оторвав взгляд от спящей девушки, Пик уставился на своего босса и принялся изучать его так же тщательно, как Шарп изучал Сару Киль. И возникшая догадка ошеломила его, просто едва не сбила с ног, Энсон Шарп, заместитель директора Бюро по оборонной безопасности, не только педофил, но и садист. Любовь этого человека к извращениям четко проглядывала в его жестких зеленых глазах и хищном выражении лица. Яснее ясного, он находил Сару восхитительной и аппетитной не потому, что она в данный момент прекрасно выглядела, а из-за ее шестнадцати лет и синяков и кровоподтеков. Его похотливый взгляд медленно переходил с ее подбитого глаза на окровавленную щеку, и он явно испытывал от этого такое же эротическое удовольствие, какое мог бы доставить нормальному мужчине вид обнаженной груди или ягодиц. Разумеется, он жестко контролировал свои садистские наклонности и сдерживал нездоровые эмоции педофила. Извращенец, заключивший собственные разнузданные потребности в совершенно приемлемые рамки, заменив их агрессивностью и честолюбием, которые быстро вознесли его почти на самый верх в Бюро. Тем не менее он как был, так и остался педофилом и садистом. Трудно сказать, какое чувство возобладало у Пика — изумление или отвращение. Изумился он не столько тому, что обнаружил эти черты в Шарпе, сколько наличию у самого себя такой проницательности. Хоть он и хотел стать легендой, Джерри Пик прекрасно понимал, что для своих двадцати семи лет он наивен, особенно как агент Бюро, имеет тенденцию судить о людях и событиях поверхностно, не в состоянии копнуть поглубже. Порой, несмотря на свою подготовку и важную работу, он чувствовал, что во многом остался еще мальчишкой. Теперь же, глядя, как Шарп поедает глазами Сару Киль, просто не может от нее оторваться, Джерри Пик неожиданно ощутил большое воодушевление. Может быть, он наконец начинает взрослеть, несмотря на то что вроде уже поздновато. Энсон Шарп смотрел на покалеченную тоненькую руку сияющими зелеными глазами, а на губах его играла легкая улыбка. Со стуком и скрипом, напугавшими Пика, дверь распахнулась, и вошел доктор Уэрфелл. Шарп моргнул, встряхнулся, как бы выходя из глубокого транса, и сделал шаг назад, наблюдая, как доктор обнажил руку девушки и сделал ей инъекцию, чтобы побороть действие двух ранее принятых препаратов. Через несколько минут девушка очнулась, правда, еще плохо ориентировалась. Она не могла вспомнить, где находится, как сюда попала, почему избита и у нее все болит. Она несколько раз спросила, кто такие Уэрфелл, Шарп и Пик, и Уэрфелл терпеливо ответил на все вопросы, одновременно проверяя ее пульс, прослушивая сердце и рассматривая глаза с помощью маленького фонарика. Шарпу надоело наблюдать за медленным пробуждением девушки. — А вы достаточную дозу ей дали, чтобы противодействовать лекарству, или схитрили, доктор? — Требуется время, — холодно ответил тот. — У нас нет времени, — заявил Шарп. Немного погодя Сара Киль перестала задавать вопросы, вздрогнула, потому что память вернулась к ней, и сказала: — Эрик! Пику казалось, что еще больше побледнеть невозможно, но она умудрилась это сделать. Ее трясла крупная дрожь. Шарп быстро вернулся к кровати. — Благодарю вас, доктор. Уэрфелл нахмурился: — Что вы хотите сказать? — Что она проснулась, мы ее допросим, а вы можете идти, оставив нас одних. Ясно? Доктор Уэрфелл попытался настаивать, что он должен остаться около пациентки, так как ей может стать хуже от укола. Шарп надавил, используя свое положение федерального агента. Уэрфелл неохотно сдался, но сначала пошел было к окну открыть шторы. Шарп велел оставить их закрытыми. Тогда Уэрфелл направился к выключателю зажечь свет, но Шарп приказал ему оставить свет в покое. — Яркий свет повредит глазам бедняжки, — объяснил он, хотя его неожиданная забота о Саре была явно неискренней. У Пика появилось неприятное предчувствие, что Шарп собирается грубо обойтись с девушкой, напугать ее до смерти, вне зависимости от того, есть в этом необходимость или нет. Даже если она расскажет им все, что знает, заместитель директора собирается запугать ее, просто чтобы получить удовольствие. Для него, по всей вероятности, запугивание и издевательство, нравственная и эмоциональная пытка были общественно приемлемым способом хотя бы частично получить то удовлетворение, которое он получил бы, избив и трахнув девушку. Этот засранец предпочитал, чтобы в палате было темно, потому что таким образом намеревался создать более угрожающую обстановку. Когда доктор вышел, Шарп приблизился к кровати девушки. Он опустил бортик с одной стороны и сел на край. Взяв двумя руками здоровую руку Сары, он ее успокаивающе сжал, улыбнулся, представился и сказал, что хочет поговорить с ней. Одновременно он принялся одной своей огромной лапой водить по ее худенькой руке, вниз и вверх, до коротенького рукава больничной рубашки, и жест этот вовсе не казался успокаивающим, а скорее похотливым. Пик отступил в угол, где было потемнее, отчасти потому, что Шарп, как он понимал, вовсе не ждет, что он будет принимать участие в допросе девушки, но больше потому, что не хотел, чтобы Шарп видел его лицо. Хотя ему и удалось заглянуть глубоко в душу Шарпа и он теперь ясно понимал, что через годик станет совсем другим человеком, он еще недостаточно переменился, чтобы взять под контроль выражение своего лица или суметь скрыть отвращение. — Я не могу об этом говорить. — Сара Киль, с испугом глядя на Шарпа, отодвинулась по возможности подальше. — Миссис Либен велела мне никому ничего не говорить. Все еще не выпуская ее здоровой руки, он поднял правую руку и костяшками пальцев легко провел по ее гладкой здоровой щеке. Вроде бы жест симпатии или сочувствия, но на самом деле все было не так. — Миссис Либен разыскивается как преступница, Сара, — мягко произнес он. — Есть ордер на ее арест. Я его сам подписал. Она обвиняется в серьезных нарушениях закона об оборонной безопасности. Имеется подозрение, что она украла некоторые секреты, связанные с обороной, может, даже передала их Советам. Ты ведь не хочешь защищать такого человека, правда, Сара? — Она была очень добра ко мне, — проговорила Сара. Пик обратил внимание, что девушка хочет избежать прикосновения руки Шарпа, гладившей ее лицо, но явно боится его обидеть. Очевидно, она еще не понимала, что он ей угрожает. Скоро поймет. — Миссис Либен платит по всем счетам в больнице, — продолжала Сара, — дала мне денег, позвонила моим родным. Она… она такая хорошая, и она попросила не рассказывать об этом, так что я не собираюсь нарушать обещание. — Как трогательно, — заметил Шарп, беря ее за подбородок и приподнимая ее голову так, чтобы она смотрела на него неповрежденным глазом. — Трогательно, что у такой маленькой шлюшки, как ты, есть принципы. Потрясенная, она попыталась возразить: — Я не шлюха. Я никогда… — О да, — продолжал Шарп, крепче ухватив ее за подбородок и не давая отвернуться. — Может, ты такая твердолобая, что и правды про себя не знаешь, или, может, наркотиков переела, на ты не что иное, как шлюшка, будущая проститутка, поросенок, который вырастет в симпатичную, сладенькую свинку. — Вы не имеете права так разговаривать со мной! — Радость моя, да я со шлюхами говорю как мне заблагорассудится. — Вы полицейский, какой-то особый полицейский, вы — слуга общества, — ее голос дрожал, — и вы не можете мне угрожать… — Заткнись, радость моя, — перебил Шарп. Свет от единственной лампы падал на его лицо под углом, увеличивая отдельные черты и оставляя другие полностью в тени, из-за чего лицо казалось деформированным, демоническим. Он усмехнулся, и эффект был отвратительным. — Ты заткнешь свою поганую пасть и откроешь ее только для того, чтобы рассказать мне то, что нужно. Девушка тоненько и жалко вскрикнула от боли, из глаз потекли слезы. Шарп крепко сжимал ее левую руку в своей огромной лапище. Какое-то время девушка говорила, чтобы избежать пытки. Она рассказала им о приходе Либена прошлой ночью, описала его разбитую голову и какой он был серый и холодный на ощупь. Но когда Шарп захотел узнать, имеет ли она представление, куда он мог поехать, она снова замолчала, и тогда со словами: «А, так ты знаешь» он снова начал сдавливать ей пальцы. Пику едва не стало плохо, хотелось что-то предпринять, чтобы помочь девушке, но что он мог сделать? Шарп слегка отпустил ее руку, и она пролепетала: — Пожалуйста, именно об этом… миссис Либен особенно просила меня не говорить никому. — Вот что, золотце, — не отступал Шарп, — такой маленькой шлюшке, как ты, просто смешно делать вид, что у нее есть угрызения совести. Не верю я, что они у тебя есть, и сама ты знаешь, что у тебя их нет, так что кончай выпендриваться. Не заставляй нас терять время и не нарывайся на неприятности. — Он опять принялся сжимать ее руку, а вторая его рука соскользнула ей на шею, а потом на грудь, которую он принялся ощупывать через тонкую ткань рубашки. Пик в своем темном углу от потрясения почти перестал дышать. Больше всего ему хотелось уйти. Противно было смотреть, как издеваются над Сарой Киль, но он не мог отвести глаз или закрыть их, потому что неожиданное омерзительное поведение Шарпа, подобного которому он никогда в жизни не видел, точно завораживало его. Он не успел еще смириться со своим первым потрясающим озарением, как сделал новое ужасное открытие. Он всегда считал полицейских, включая агентов Бюро, хорошими ребятами, Людьми с большой буквы, рыцарями на белых конях, мужественными защитниками закона, но этот чистый образ оказался вдруг под сомнением, раз такой человек, как Шарп, мог стать уважаемым и высоко ценимым членом этого благородного братства. Ну, разумеется, Пик понимал, что есть плохие полицейские, как и плохие агенты, но почему-то ему всегда казалось, что их разоблачают еще в начале их карьеры, что они не имеют возможности занять руководящие посты, что их поведение приводит к самоуничтожению, что подобные грязные люди неизменно получают по заслугам, причем быстро. Он верил, что только положительные качества вознаграждаются. Кроме того, он был убежден, что сможет нюхом распознать продажного полицейского, поймет это с первого взгляда. И в самом дурном сне ему не могло присниться, что откровенный извращенец сможет скрыть свои мерзкие наклонности и сделать удачную карьеру. Возможно, многим удается избавиться от таких иллюзий в более юном возрасте, но двадцатисемилетний Джерри Пик, наблюдая, что заместитель директора ведет себя как последний подонок, как самый обыкновенный ублюдок, черт бы его побрал, только сейчас понял, что в мире куда больше серых красок, чем чисто белых и черных. Шарп продолжал сжимать руку Сары, она плакала все сильнее. Другой рукой, лежащей у нее на груди, он толкал девушку на подушки, одновременно уговаривая успокоиться, и она старалась ему угодить, сдержать слезы, но Шарп все жал ее руку, и Пик уже хотел вмешаться, и пусть к черту летиткарьера, его будущее в Бюро, не может он спокойно смотреть на такое издевательство. Он даже сделал шаг к кровати… Но тут дверь широко распахнулась, и в палате, как бы выйдя из столба света, ворвавшегося из коридора, возник Утес. Именно так подумал Джерри Пик об этом человеке, едва он его увидел: Утес. — Что здесь происходит? — спросил Утес голосом одновременно тихим, мягким, низким, но не слишком, и повелительным. В мужчине роста было меньше шести футов, скорее пять футов одиннадцать дюймов, на несколько дюймов меньше, чем в Шарпе, да и весил он приблизительно сто семьдесят фунтов, то есть на полсотни фунтов меньше, чем Шарп. Но стоило ему войти в палату, он стал казаться самым крупным мужчиной здесь и продолжал казаться таким, даже когда Шарп выпустил руку девушки, встал и вскричал: — Какого черта вам тут нужно? Утес включил верхние лампы дневного света и прошел дальше в комнату, захлопнув за собой дверь. На взгляд Пика, ему было около сорока, хотя лицо казалось старше, так как было мудрым. Коротко стриженные темные волосы, высушенная солнцем кожа и решительные черты, как будто грубо высеченные из гранита. Ярко-голубые глаза напоминали глаза Сары, только более чистые, пронзительные, с решительным взглядом. Когда он на секунду остановил их на Пике, тому захотелось залезть под кровать и спрятаться. Утес был крепко сбит и мощен, и, хотя по габаритам уступал Шарпу, он казался намного сильнее, значительнее, как будто весил ровно столько же, сколько и Шарп, только ему удалось спрессовать свои ткани до неестественной плотности. — Пожалуйста, уйдите и подождите меня в холле, — спокойно распорядился Утес. Пораженный Шарп сделал несколько шагов и навис над ним: — Я спросил, кто вы такой, черт побери. Руки и запястья Утеса были слишком большими для его тела: длинные, толстые пальцы, крупные суставы, каждая жилка и вена резко выделялась, как будто эти руки были высечены из мрамора скульптором, отличающимся большой любовью к деталям. Пик сознавал, что такие руки у Утеса не от рождения, что они стали такими в результате каждодневной изнурительной физической работы где-нибудь в кузнице или каменоломне, или, учитывая его загорелый вид, в поле. И не на современной, хорошо механизированной ферме с тысячью машин для облегчения труда и достаточным числом наемных работников. Нет, если у него и была ферма, он начал дело, имея мало денег, земля была каменистой, и ему пришлось и в холод и в дождь своим трудом заставлять ее приносить урожай и делать ферму прибыльной собственным потом, кровью, временем, надеждами и мечтами, и результаты этой трудной и успешной борьбы отразились на его лице и руках. — Я ее отец, Фельзен Киль, — сказал Утес Шарпу. Тоненьким изумленным голосом без тени страха Сара Киль произнесла: — Папа. Утес двинулся было мимо Шарпа к дочери, которая сидела на кровати, протянув к нему руку. Шарп встал на его пути, наклонился к нему, навис над ним и сказал: — Вы сможете поговорить с ней, когда мы закончим допрос. Утес спокойно посмотрел на Шарпа с невозмутимым выражением, и Пик не просто обрадовался, он пришел в восторг, поняв, что этого человека Шарпу запугать не удастся. — Допрос? А по какому праву вы ее допрашиваете? Шарп достал из кармана бумажник, открыл его и показал свое удостоверение: — Я — федеральный агент и веду сейчас срочное расследование, касающееся вопросов национальной безопасности. У вашей дочери есть сведения, которые мне необходимо получить как можно скорее, а она не хочет нам помочь. — Если вы выйдете в холл, — мягко сказал Утес, — я с ней поговорю. Уверен, она делает это не из злого умысла. Девочка в беде, это верно, и она многое себе напозволяла, но у нее доброе сердце, в нем нет злобы. — Нет, — отрезал Шарп, — это вы выйдете в холл и подождете. — Пожалуйста, уйдите с дороги, — попросил Утес. — Послушайте, мистер, — проговорил Шарп, надвигаясь на Утеса и глядя на него сверху вниз, — если вы нарываетесь на неприятности, вы их получите, можете не сомневаться, и навалом. Вы препятствуете федеральному агенту и даете ему таким образом право обращаться с вами как ему заблагорассудится. Утес прочитал имя на удостоверении и произнес: — Мистер Шарп, прошлой ночью меня разбудил звонок миссис Либен, она сказала, что я нужен дочери. Я ждал этого очень долго. Сейчас самый разгар полевых работ, трудное время… Парень-таки был фермером, ей-богу, что придало Пику новую уверенность в собственных способностях как аналитика. В до блеска начищенных ботинках городского типа, синтетических брюках и накрахмаленной белой рубашке, Утес явно чувствовал себя не в своей тарелке, как типичный деревенский житель, вынужденный сменить рабочую одежду на непривычные тряпки. — …очень трудное время. Но сразу же после звонка я оделся, в середине ночи проехал сто миль на пикапе из Канзаса, взял билет на самый ранний рейс в Лос-Анджелес, затем пересел там на рейс в Палм-Спрингс, на такси… — Ваши путевые заметки меня совершенно не интересуют, — перебил Шарп, все еще загораживая ему дорогу. — Мистер Шарп, я смертельно устал, что я и пытаюсь вам объяснить, но я хотел поскорее увидеть мою девочку, а она, судя по всему, плакала, и это меня сильно расстраивает. Хотя я и редко выхожу из себя и вообще стараюсь избегать неприятностей, я не знаю, что я сделаю, если вы будете обращаться со мной все так же высокомерно и не дадите мне выяснить, почему моя дочка плачет. Лицо Шарпа исказилось от гнева. Он сделал полшага назад, чтобы обеспечить себе возможность положить одну из своих огромных лапищ на грудь Утеса. Пик не знал, что собирается сделать Шарп — вывести отца Сары из палаты или оттолкнуть его к стене. Он так и не узнал, что именно, потому что Утес взял Шарпа за запястье и без малейшего усилия опустил его руку вниз. Вероятно, он сжал его руку так же сильно, как только что заместитель директора жал руку Сары, потому что Шарп побледнел, красные пятна гнева исчезли, а в глазах появилось что-то странное. Утес отпустил руку Шарпа: — Я знаю, что вы — федеральный агент, я всегда уважительно относился к закону. Понимаю, вы можете подумать, что я вам препятствую, и воспользоваться этим, чтобы ударить меня и надеть наручники. Но я считаю, что ни вам, ни вашему Бюро не будет никакой пользы, если вы меня изобьете, тем более что я пообещал вам уговорить дочку все рассказать. Как вы думаете? Пику захотелось зааплодировать. Но он сдержался. Шарп стоял, тяжело дыша и дрожа, но постепенно его затуманенные яростью глаза прояснились, и он встряхнулся тем же манером, каким иногда встряхивается бык, чтобы прийти в себя после неудачной попытки атаковать плащ матадора. — Ладно. Я только хотел получить информацию побыстрее. Все равно каким способом. Может, вам и удастся сделать это быстрее, чем мне. — Благодарю вас, мистер Шарп. Дайте мне полчаса… — Пять минут, — перебил Шарп. — Согласитесь, сэр, — мягко возразил Утес, — мне же нужно время, чтобы поздороваться с дочкой, обнять ее, ведь я не видел ее полтора года. И на то, чтобы она рассказала, в какую беду попала, тоже нужно время. С этого придется начать, не могу же я сразу засыпать ее вопросами. — Полчаса — чертовски долго, — заявил Шарп. — Мы преследуем человека, очень опасного преступника, и мы… — Если мне придется пригласить адвоката, на что моя дочь имеет право как гражданка страны, пройдет несколько часов, пока он приедет и… — Полчаса, — отрезал Шарп, — и ни одной минутой дольше, черт возьми. Я буду в холле. Пик уже уяснил, что заместитель директора — садист и педофил, что было очень важно знать. Теперь он сделал очередное открытие: глубоко в душе этот сукин сын трус. Верно, он вполне способен выстрелить тебе в спину или, подкравшись тайком, перерезать горло, такие подвиги — вполне в его духе, но в схватке лицом к лицу, если ставки велики, он струхнет. И это еще более важная информация. Мгновение Пик стоял неподвижно, не в состоянии отвести взгляд от Утеса. Шарп уже пошел к двери. — Пик! — позвал он, открывая дверь. Наконец Пик последовал за ним, продолжая оборачиваться, чтобы посмотреть на Фельзена Киля, на Утеса. Вот уж воистину настоящая легенда.Глава 20
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА БОЛЬНИЧНОМ
Детектив Риз Хагерсторм лег спать во вторник в четыре часа утра, вернувшись из дома миссис Либен в Пласеншии, и проснулся в половине одиннадцатого, совершенно не отдохнув, потому что всю ночь ему снились кошмарные сны. Трупы с остекленевшими глазами в мусорных баках. Мертвые женщины, распятые на стене. И почти во всех кошмарах неизменно присутствовала Джанет, его покойная жена. Каждый раз она снова и снова хваталась за ручку голубого «Шевроле», того самого «Шевроле», и кричала: — Они забрали Эстер, они забрали Эстер! — И каждый раз один из парней в машине стрелял в нее так, как он это сделал когда-то наяву, в упор, и крупнокалиберная пуля превращала в месиво ее очаровательное лицо, уничтожала его… Риз вылез из кровати и принял очень горячий душ. Вот если бы снять верхушку головы и срезать ту часть мозга, где гнездились источники этих кошмарных снов. Его сестра Агнес прилепила записку к холодильнику на кухне. Она повела Эстер к зубному врачу на очередную проверку. Он выпил горячий черный кофе со слегка подсохшей плюшкой, стоя у окна и глядя на большое дерево во дворе. Если бы Агнес видела его завтрак, она бы очень расстроилась. Но от всех этих снов ему было так тошно, что есть вовсе не хотелось. Даже плюшка шла плохо. — Черный кофе и сдобные плюшки, — сказала бы Агнес, если бы знала. — От одного будет язва, от другого — избыток холестерина и закупорка сосудов. Два медленных способа самоубийства. Если хочешь покончить с собой, я подскажу тебе сотню более быстрых и менее болезненных вариантов. Спасибо Господу за Агнес, его старшую сестру, несмотря на ее бесконечные попреки касательно всего, начиная от того, что он ест, и кончая его выбором галстуков. Не будь ее, вряд ли бы он справился после смерти Джанет. К сожалению, Агнес была крупнокостной, массивной и некрасивой женщиной с деформированной левой рукой, что обрекало ее на вечное одиночество, но у нее было доброе сердце и редкостный материнский инстинкт. Агнес объявилась с чемоданом и своей любимой поваренной книгой сразу после смерти Джанет, заявив, что позаботится о Ризе и маленькой Эстер «только в течение лета», пока они не будут в состоянии справиться сами. У нее, учительницы пятых классов в Анахиме, были каникулы, так что она могла позволить себе потратить это время на терпеливое восстановление разрушенной семьи Хагерсторма. С той поры прошло уже пять лет, и без нее они бы пропали. Ризу даже нравилось ее добродушное ворчание. Когда она учила его правильно питаться, он чувствовал, что его любят и о нем заботятся. Налив себе вторую чашку кофе, он решил, что сегодня вечером принесет Агнес дюжину роз и коробку шоколадных конфет. Характер мешал ему часто проявлять свои чувства, так что он старался время от времени компенсировать этот свой недостаток неожиданными подарками. Даже маленькие сюрпризы приводили Агнес в экстаз, хоть и исходили от брата. Эта крупная, мощная, некрасивая женщина не привыкла без повода получать подарки. Жизнь не просто несправедлива, временами она беспредельно жестока. Эта мысль не впервые посещала Риза. Он пришел к такому выводу не только из-за безвременной смерти Джанет от руки убийцы или из-за того, что добрая, любящая душа Агнес навечно оказалась заключенной в тело, которое мужчины, обращающие внимание только на внешность, не способны полюбить. Как полицейский, Риз был вынужден постоянно сталкиваться с самыми худшими представителями человечества и давно понял, что миром правит жестокость и что единственная защита от этой жестокости — любовь семьи и немногих близких друзей. Его самый близкий друг прибыл, когда Риз наливал себе третью чашку кофе. Риз достал еще одну чашку из буфета, наполнил ее, и они уселись за кухонный стол. По Джулио нельзя было заметить, что он мало спал. По сути дела, Риз был единственным человеком, который мог увидеть едва заметные признаки усталости на его лице. Как всегда, Джулио был безукоризненно одет: сшитый на заказ темно-синий костюм, накрахмаленная белая рубашка, аккуратно завязанный черно-синий галстук, черный платок в кармашке и темно-красные туфли от Бэлли. Несмотря на свойственные ему аккуратность и живость, под глазами виднелись темные круги, а обычно тихий голос звучал еще тише. — Всю ночь не спал? — спросил Риз. — Спал. — И долго? Часок-другой? Так я и думал. Ты меня беспокоишь. Когда-нибудь ты свалишься с ног от усталости. — Это особое дело. — Они у тебя все особые. — У меня свои обязательства перед жертвой — Эрнестиной. — Она уже тысячная жертва, перед которой у тебя особые обязательства, — заметил Риз. Джулио пожал плечами и отпил глоток кофе. — Шарп не блефовал. — Ты о чем? — Что он отберет это дело у нас. Имена жертв — Эрнестины Фернандес и Ребекки Клинстад все еще в нашей картотеке, но кроме имен — ничего. Только меморандум, поясняющий, что федеральные власти берут это дело в свои руки по причинам «национальной безопасности». Я сегодня утром надавил на Фол-бека, требуя, чтобы он разрешил нам с тобой помочь федеральным агентам, так он вышел из себя. «Твою мать, Джулио, ради Христа, держись от этого дела подальше. Это приказ». Доподлинные его слова. Николас Фолбек, командующий детективами, убежденный мормон, умел на равных разговаривать с самыми грязными матерщинниками в отделе, но никогда не упоминал имя Господне всуе и мог сурово отчитать богохульствующего подчиненного. Он даже один раз сказал Ризу: — Хагерсторм, прошу вас, перестаньте говорить «срань Господня», или «черт бы все побрал», или еще что-нибудь в этом роде в моем присутствии. Я ненавижу это дерьмо, и я, вашу мать, не намерен это терпеть. И если уж Ник Фолбек богохульствовал и матерился, предупреждая Джулио, то указание управлению держаться подальше от этого дела исходило от инстанций повыше Шарпа. — А как насчет того дела об исчезновении трупа, ну этого самого Эрика Либена? — спросил Риз. — То же самое, — ответил Джулио. — Дело у нас отняли. Разговоры о делах отвлекли Риза от ночных кошмаров, и у него появился аппетит. Он взял еще плюшку из ящика для хлеба и предложил другую Джулио, но тот отказался. — А что ты еще делал? — спросил Риз. — Ну… я поехал в библиотеку, когда она открылась, и прочитал все, что там было, о докторе Либене. — Богатый, гениальный ученый, гениальный бизнесмен, холоден как рыба, слишком глуп, чтобы понять, какая замечательная у него жена… Да мы все это о нем уже знаем. — Он еще был одержимым. — Так все гении такие, у них у каждого какой-нибудь пунктик. — Этот был одержим бессмертием. — Как это? — нахмурился Риз. — Еще будучи аспирантом и сразу после защиты докторской, когда он был одним из самых одаренных в мире молодых генетиков, занимающихся изучением рекомбинантных ДНК, он опубликовал несколько научных работ и писал статьи в журналах по разным проблемам увеличения продолжительности жизни. Кучу статей. Этот человек был одержимым. — Одержимым, как же. Вспомни про мусорный контейнер. — Даже в самых сухих и сугубо научных его публикациях чувствуется страсть, которая захватывает тебя. — Джулио вынул из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и развернул его. — Это из статьи в научно-популярном журнале, она более цветиста, чем остальные: «В конечном итоге может оказаться возможным так генетически изменить человека, что он сможет избежать могилы, жить дольше, чем Мафусаил, и даже стать одновременно и Лазарем и Иисусом, встать из гроба даже после того, как смерть призовет его». Риз недоуменно моргнул: — Забавно, верно? Его тело украли из морга, так что он «встал», хотя и не таким способом, как собирался. В глазах Джулио появилось что-то странное: — Может, вовсе и не забавно. Может, никто его и не крал. Риз почувствовал, что и в его глазах появляется что-то странное. — Ты же не хочешь сказать… — начал он. — Да нет, конечно же, нет. — Он был гением, имел безграничные возможности, был, вероятно, самым гениальным ученым, работающим с рекомбинантными ДНК, а еще был одержим стремлением остаться молодым и избежать смерти. Значит, если он вроде бы встал и ушел из морга… так, может, он и в самом деле взял да и ушел, можно ведь себе такое представить? У Риза сердце сжалось в груди, и, к своему удивлению, он понял, что боится. — Но разве такое возможно после полученных им травм? — Несколько лет назад — абсолютно невозможно. Но мы живем в век чудес или, по крайней мере, неограниченных возможностей. — Но каким образом? — Вот это мы и должны выяснить. Я тут порылся в справочнике и нашел телефон доктора Истона Золберга, чьи работы по проблемам старения упоминаются в статьях Либена. Выяснилось, что Золберг знал Либена, считал его своим учителем и некоторое время они были сравнительно близки. Золберг глубоко уважал Либена, говорит, что не удивляется, что тот здорово разбогател на этих ДНК. Но он также заметил, что была у Эрика Либена и темная сторона, и он согласен об этом рассказать. — Какая темная сторона? — Он не хотел говорить по телефону. Но мы с ним условились о встрече в час дня. Когда Джулио отодвинул стул и встал, Риз спросил: — Каким образом мы сможем продолжать заниматься этим делом так, чтобы не нарваться на неприятности с Ником Фолбеком? — Возьмем бюллетень, — ответил Джулио. — Пока я на больничном, я ничего не расследую официально. Считай это моим личным любопытством. — Если нас накроют, никакие больничные не помогут. Полицейские не должны проявлять личного любопытства по поводу таких дел. — Верно, но, если я болею, Фолбек не станет беспокоиться и проверять, чем я занимаюсь. Так что вряд ли кто-нибудь будет заглядывать мне через плечо. По правде сказать, я там заявил, что вовсе не хотел бы связываться с такими тонкими делами. Сказал Фолбеку, что, уж если тут так все важно, не лучше ли мне несколько дней отдохнуть, чтобы пресса не приставала с ненужными вопросами. Он согласился. Риз поднялся. — Так я, пожалуй, тоже скажусь больным. — Я уже за тебя сказал, — сообщил Джулио. — Вот как? Тогда ладно, поехали. — Я решил, ты не станешь возражать. Но если не хочешь ввязываться, то… — Джулио, я с тобой. — Только если ты уверен. — Я с тобой, — в изнеможении повторил Риз. И подумал, но не сказал вслух: «Ты спас мою Эстер, мою маленькую девочку, бросился в погоню за парнями в «Шевроле», вытащил ее из этой передряги живой, ты был просто как одержимый, они, наверное, решили, что сам дьявол сел им на хвост, ты рисковал жизнью и спас Эстер, а я тебя и до этого любил, ты мой напарник, к тому же отличный напарник, но после того случая я полюбил тебя по-настоящему, ты маленький сумасшедший засранец, и, пока я жив, я буду всегда там, где я тебе нужен, и плевать на все остальное». По природе своей человек немногословный, Риз не умел выражать свои чувства, но все равно ему очень хотелось сказать все это Джулио. Однако он промолчал, потому что знал: Джулио не нуждается в выражении благодарности, его это только смутит. Джулио ждал от него лишь преданности как от друга и напарника. Если он выразит свою вечную благодарность словами, это встанет барьером между ними, поскольку со всей очевидностью поставит Джулио в главенствующее положение, и между ними может возникнуть неловкость. В их повседневных рабочих делах верховодил всегда, разумеется, Джулио. Он решал, как вести расследование, но никогда не делал этого слишком очевидно и напористо, и в этом было все дело. Риз не потерпел бы явного давления, а против передачи этих функций Джулио таким образом он не возражал, потому что во многом тот был умнее и быстрее соображал. Однако Джулио, родившийся и выросший в Мексике, когда приехал в Штаты и преуспел, проникся священным трепетом перед демократией, самой настоящей страстью не только к демократии как политическому явлению, но к демократии во всем, даже в личных отношениях между двумя людьми. Он мог принять миссию руководителя и главного действующего лица только с молчаливого обоюдного согласия. Если же сделать эту его роль гласной, ему не удастся успешно с ней справиться и их работа может пострадать. — Я с тобой, — снова повторил Риз, споласкивая кофейные чашки в раковине. — Мы с тобой — пара полицейских на больничном. Давай поправляться вместе.Глава 21
ЭРРОУХЕД
На берегу озера расположился магазин спортивных товаров. Он представлял собой большой бревенчатый коттедж, на котором висела вывеска: «КРЮЧКИ, ЛЕСКИ, ПРОКАТ ЛОДОК, СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ». На солнечной стороне автостоянки были припаркованы три легковые машины, два грузовичка и один джип. Утренней солнце блестело в их хромированных частях и окнах. — Оружие, — заметил Бен, увидев магазин. — Возможно, у них есть оружие. — У нас уже есть оружие, — возразила Рейчел. Бен проехал к краю площадки, на гравий, который заскрипел под шинами, затем по толстому ковру из еловых иголок и наконец остановился в густой тени одного из вечнозеленых деревьев, окружавших площадку. Сквозь деревья то здесь, то там проглядывало озеро, несколько лодок на залитой солнцем воде и дальний крутой берег, поросший лесом. — Твой пистолет тридцать второго калибра, конечно, не игрушка, но ему не хватает мощности, — заявил Бен, выключая двигатель. — «Магнум», который я забрал у Бареско, получше, почти что пушка, но ружье будет надежнее. — Ружье? Ты что, на охоту собрался? — Я всегда стараюсь подстраховаться, когда преследую ходячего мертвеца, — хмыкнул Бен, стараясь обратить все в шутку, но потерпев полную неудачу. И без того загнанный взгляд Рейчел стал еще печальнее, и она вздрогнула. — Эй, — сказал он. — Все будет в порядке. Они вылезли из машины и минуту постояли, вдыхая свежий, сладкий горный воздух. Было тепло и абсолютно безветренно. Деревья возвышались, неподвижные и молчаливые, как будто их ветви обратились в камень. Машин на дороге не было, людей тоже не видно. Ни птиц, ни птичьего щебета. Глубокий, совершенный, неестественный покой. Бену почудилось что-то зловещее в этой тишине. Какое-то предзнаменование, предостережение, что следует повернуть назад, оставить эту горную необъятность и вернуться к цивилизации, где стоит шум, ездят машины и есть люди, к которым можно в случае необходимости обратиться за помощью. Рейчел, по-видимому охваченная таким же чувством, откликнулась: — Может, все это просто ерунда. И нам стоит выбраться отсюда и уехать куда-нибудь еще. — И ждать, пока Эрик не оправится от своих травм? — Может, ему не удастся оправиться достаточно, чтобы нормально функционировать. — А если удастся, то он начнет разыскивать тебя. Она вздохнула и кивнула. Они пересекли автостоянку и вошли в магазин в надежде купить какое-нибудь оружие и боеприпасы.Что-то странное творилось с Эриком, более странное, чем его возвращение из мертвых. Все началось с головной боли, одной из тех сильных мигреней, которые мучили его с момента воскрешения, и он не сразу понял, что на этот раз в ней было что-то необычное, пугающее. Он просто прищурил глаза от раздражавшего его света и решил не поддаваться безжалостной отупляющей боли, пульсирующей внутри его черепа. Подтащив одно из кресел к окну, Эрик занял наблюдательную позицию. Отсюда были видны лесистый склон и грунтовая дорога, ведущая в более населенные предгорья на берегу озера. Если враги придут за ним, хотя бы часть пути им придется пройти по дороге, прежде чем спрятаться в лесу. Как только он заметит, где они нырнули в лес, он тихонько выйдет из дома через черный ход и подкрадется к своим противникам, застав их врасплох. Эрик надеялся, что, когда он сядет и удобно устроится в большом кресле, пульсирующая боль в голове стихнет. Но она стала еще сильнее, сильнее, чем когда-либо раньше. У него было такое впечатление, будто его череп… сделан из мягкой глины… и с каждым приступом боли принимает новую форму. Он крепко сжал челюсти, полный решимости победить этого нового противника. Возможно, боль усилилась из-за того, что он слишком уж сосредоточил внимание на тенистой дороге в ожидании врагов. Если мигрень станет невыносимой, придется лечь, хотя ему совершенно не хотелось оставлять свой пост. Он чувствовал приближение опасности. Топор и оба ножа он положил на пол около кресла. Каждый раз, бросая взгляд на острые лезвия, он не только ощущал себя увереннее, он чувствовал странное возбуждение. А когда касался пальцами рукоятки топора, по всему его телу пробегала странная, почти что эротическая дрожь. «Пусть приходят, — подумал он. — Я им докажу, что Эрик Либен все еще человек, с которым надо считаться. Пусть приходят». Хотя он все еще с трудом понимал, кто может его преследовать, но каким-то образом знал, что опасения его обоснованны. В мозгу мелькали имена: Бареско, Сейц, Джеффелз, Ноулс, Льюис. Ну разумеется, его партнеры по Генеплану. Они-то должны понять, что он сделал. Они решат, что следует его поскорее разыскать и уничтожить, чтобы защитить тайну проекта «Уайлдкард». Но не только их ему надо бояться. Есть и другие… туманные фигуры, которых он не мог узнать, люди с большей властью, чем его коллеги по Генеплану. На мгновение ему показалось, что он прорвется через стену тумана и выйдет на свет белый. Он чуть не обрел той ясности мышления и полноты памяти, которые были свойственны ему до того, как он встал со стола в морге. Эрик затаил дыхание и наклонился вперед в тревожном ожидании. Он почти вспомнил все: кто его коллеги, что означают мышки, почему ему все время видится эта ужасная распятая женщина… Но в следующий момент приступ дикой головной боли отбросил его от порога ясности назад в туман. Грязные потоки затопили четкий ход его мыслей, и все опять затянуло мраком. Он вскрикнул в досаде. Его внимание привлекло какое-то движение в лесу. Прищурив слезящиеся глаза, Эрик сдвинулся на край кресла и внимательно уставился на поросший лесом склон и грунтовую дорожку в тени. Никого. Движение было вызвано внезапно налетевшим ветерком, который наконец-то нарушил летнюю неподвижность. Кусты закачались, ветви вечнозеленых деревьев слегка приподнялись, потом опустились, приподнялись, опустились, как будто обмахиваясь веером. Он уже было собрался откинуться в кресле, когда сверкающий удар боли, простреливший ему висок, практически отшвырнул его назад. На какое-то мгновение страшная боль настолько завладела им, что он не мог ни кричать, ни дышать. Когда наконец сумел набрать в легкие воздуха, он закричал, но скорей от злости, чем от боли, потому что она исчезла так же внезапно, как и появилась. Опасаясь, что этот взрыв боли означает внезапное ухудшение его состояния, что, возможно, его травмированный череп разваливается на части, Эрик поднял дрожащую руку к голове. Сначала он коснулся своего поврежденного правого уха, которое вчера было почти оторвано, но оно оказалось прочно прикрепленным на положенном ему месте, бугристое и маслянистое на ощупь, но больше не висящее свободно и не болезненное при прикосновении. Почему раны так быстро заживают? Предполагалось, что процесс займет недели, а вовсе не несколько часов. Он осторожно провел пальцами вверх и бережно ощупал глубокую впадину в черепе, куда его ударил грузовик. Впадина оказалась на месте. Но уже не такая глубокая. И поверхность казалась прочной. Раньше она была немного мягкой. Похожей на смятое и подшившее яблоко. Но не теперь. Он также не почувствовал раны. Осмелев, сильнее надавил на вмятину, провел по ней из конца в конец и везде чувствовал под пальцами здоровую плоть и крепкую кость. Меньше чем за сутки разбитый, раздробленный череп зажил, отверстия заросли новой костью. Это было невозможно, черт побери, совершенно невозможно, но тем не менее это произошло. Рана зажила, и прочная кость снова защищает ткань мозга. Он сидел в полном недоумении, ничего не мог понять. Что гены его были откорректированы таким образом, чтобы ускорить процесс заживления и восстановления клеток, — это он помнит. Но будь он проклят, если помнит, что эти процессы должны происходить с такой скоростью. Страшные раны, закрывающиеся за несколько часов? Плоть, артерии и вены, способные восстанавливаться с почти визуально заметной скоростью? Обширная костная реконструкция, осуществляемая меньше чем за сутки? Черт, да даже злокачественные клетки в наиболее активной стадии не способны репродуцироваться так быстро! На какое-то мгновение Эрик почувствовал воодушевление. Его эксперимент оказался куда более успешным, чем он мог надеяться. Потом сообразил, что мысли его все еще путаются, память отказывает, хотя клетки мозга должны были бы восстановиться так же быстро, как и череп. Означает ли это, что его интеллект и ясность мысли так и не вернутся полностью, даже если ткани заживут? Такая перспектива напугала его, тем более что он снова увидел давно умершего дядю Барри Хэмпстеда. Он стоял в углу рядом с потрескивающим призрачным костром. Может быть, раз он вернулся из страны мертвых, он, несмотря на свою перестроенную генную структуру, навсегда останется частично мертвецом? Нет. Ему не хотелось в это верить, потому что тогда бы выходило, что все его труды, планы, риск, на который он пошел, все впустую. Стоящий в углу дядя Барри ухмыльнулся и сказал: — Ну-ка поцелуй меня, Эрик. Покажи, как ты меня любишь. Возможно, смерть — нечто большее, чем просто прекращение физической и умственной деятельности. Может, со смертью что-то теряется… что-то духовное, что невозможно оживить так же успешно, как плоть, кровь и мозг. Почти помимо воли его рука неуверенно передвинулась ближе к брови, где он недавно чувствовал такую боль. Он ощутил нечто странное. Что-то не так. Лоб уже не был гладкой ровной костью. Он был весь в буграх и узлах. На нем возникли какие-то асимметричные шишки. Он услышал жалобный вопль ужаса и не сразу понял, что вопит он сам. Кость над глазом была толще, чем обычно. А на правом виске выросла гладкая костяная шишка почти в дюйм высотой. Каким образом? Господи, да что же это? Пока он обследовал верхнюю часть своего лица, как слепой, пытающийся изучить внешность незнакомца, он чувствовал, как внутри образуются кристаллики ледяного ужаса. В центре лба вырос узловатый костяной нарост, доходящий до переносицы. Он ощущал, как под волосами, там, где не должно быть таких кровеносных сосудов, пульсируют толстые артерии. Эрик никак не мог перестать выть, на глазах появились слезы. Кошмарная правда была очевидна даже для его замутненного разума. С технической точки зрения его генетически измененное тело погибло под грузовиком для перевозки мусора, но какая-то жизнь сохранилась на клеточном уровне, и его измененные гены, питаясь этими остатками жизненной силы, послали срочные сигналы в холодеющие ткани с приказом немедленно выработать вещества, необходимые для регенерации и омоложения. Теперь же, когда с ремонтными работами было покончено, его измененные гены не приостановили этот бешеный рост. Где-то произошла ошибка. Деятельность генов не прекратилась. Его тело в сумасшедшем темпе продолжало наращивать кости, ткани и сосуды, и хотя новые ткани, возможно, были абсолютно здоровыми, сам процесс стал напоминать рак, нот только темпы значительно превышали темпы роста наиболее вирулентных злокачественных клеток. Его тело переделывало само себя. Но во что? Сердце бешено колотилось, он весь покрылся холодным потом. Эрик рывком встал с кресла. Придется идти к зеркалу. Он должен увидеть свое лицо. Он не хотел его видеть, заранее ненавидел то, что увидит, боялся найти в зеркале совершенно незнакомое уродливое существо, но, с другой стороны, он должен был знать, во что превращается.
В магазине спортивных товаров у озера Бен выбрал полуавтоматическое ружье «ремингтон» двенадцатого калибра на пять патронов. В руках опытного человека оружие разрушающей силы, а он-то знал, как с ним обращаться. Он купил две коробки ружейных патронов и еще коробку патронов для «магнума», который отнял у Бареско. Купил он и коробку пуль для пистолета Рейчел. По их виду можно было подумать, что они готовятся к войне. Хотя при покупке ружья никакого разрешения не требовалось, Бен тем не менее заполнил анкету, где проставил свое имя, адрес, страховой номер, затем предъявил продавцу документ, удостоверяющий его личность, — калифорнийское водительское удостоверение с фотографией. Пока Бен с Рейчел стояли у желтого пластикового прилавка, заполняя анкету, продавец — «Зовите меня Сэм», — сказал он им, показывая ассортимент ружей в магазине, — извинился и направился в другой конец помещения, чтобы помочь группе рыболовов, интересующихся спиннингами. Второй продавец был также занят с покупателем, которому объяснял отличие различных типов спальных мешков. На полке за прилавком, рядом с завернутой в целлофан вяленой говядиной в большом ассортименте, стоял радиоприемник, настроенный на лос-анджелесскую станцию. Пока Бен и Рейчел выбирали оружие и патроны, ничего, кроме музыки и рекламных объявлений, не передавали. Но сейчас, в половине первого, начались новости, и Бен внезапно услышал свое имя и имя Рейчел: — …Шэдвей и Рейчел Либен, на арест которых имеется федеральный ордер. Миссис Либен — жена богатого предпринимателя Эрика Либена, погибшего вчера в дорожном происшествии. По данным департамента юстиции, Шэдвей и миссис Либен разыскиваются по обвинению в краже важных секретных папок, связанных с некоторыми проектами, осуществляемыми Генепланом и субсидируемыми министерством обороны, а также по подозрению в зверском убийстве из автомата двух полицейских в Палм-Спрингс прошлой ночью. Рейчел тоже услышала. — Они с ума сошли! Бен взял ее за руку, заставляя замолчать, а сам нервно оглянулся на двух продавцов, все еще занятых разговорами с покупателями. Продавец, которого звали Сэм, уже видел водительское удостоверение Бена, когда доставал анкету для покупки огнестрельного оружия. Он знал его фамилию, и если слышал сообщение по радио, то должен обязательно среагировать. Доказывать свою невиновность будет бессмысленно. Сэм обязательно позвонит в полицию. Может, у него под прилавком или где-нибудь за кассовым аппаратом спрятано оружие, и он попытается задержать Бена и Рейчел до приезда полиции, а Бену не хотелось бы отбирать у него это оружие силой и, возможно, при этом причинить ему какое-либо увечье. — Джэррод Макклейн, директор Бюро по оборонной безопасности, который руководит расследованием и поисками Шэдвея и миссис Либен, час назад в Вашингтоне сделал заявление прессе, охарактеризовав это дело как «вызывающее большое беспокойство и могущее даже привести к кризису национальной безопасности». Сэм, находящийся в рыболовном отделе, засмеялся какой-то шутке покупателя и направился к кассе. Один из рыболовов пошел за ним. Они оживленно беседовали, так что если и слышали сообщение, то пропустили его мимо ушей, возможно, оно застряло у них где-то в подсознании. Но если они прекратят говорить до окончания сообщения… — Однако, утверждая, что Шэдвей и миссис Либен нанесли серьезный вред национальной безопасности, ни Макклейн, ни департамент юстиции не согласились сообщить, какие именно работы выполнял для Пентагона Генеплан. Продавец и покупатель были от них уже в двадцати футах, все еще самозабвенно обсуждая недостатки и достоинства всевозможных спиннингов и катушек. Рейчел завороженно смотрела на них, и Бен слегка подтолкнул ее, чтобы отвлечь. Выражение ее лица могло заставить их прислушаться к новостям, передаваемым по радио. — …рекомбинантные ДНК как основное направление исследований Генеплана… Сэм уже обходил прилавок. Покупатель двигался параллельным курсом, и теперь они продолжали разговаривать через прилавок, покрытый желтым пластиком, приближаясь к Бену и Рейчел. — Фотографии и словесные описания Бенджамина Шэдвея и Рейчел Либен направлены во все полицейские участки в Калифорнии и большей части юго-западных округов. Федеральные власти предупреждают, что беглецы вооружены и опасны. Сэм и рыболов дошли до кассы, где Бен вернулся к заполнению анкеты. Радиокомментатор переключился на другую тему. Бен удивился и обрадовался, услышав, как Рейчел непринужденно рассмеялась и принялась болтать, отвлекая внимание рыболова, высокого, крупного мужчины лет пятидесяти в черной майке, оставляющей открытыми его мясистые руки с затейливой сине-красной татуировкой на обеих. Рейчел сделала вид, что просто зачарована татуировкой, и рыбак, как и любой мужчина на его месте, был польщен и доволен таким лестным вниманием молодой и красивой женщины. Если бы кто-нибудь услышал сейчас очаровательную и слегка глупую болтовню Рейчел, пытающейся изобразить из себя обычную пляжную калифорнийскую девушку, никогда бы не подумал, что она минуту назад услышала радиосообщение, в котором ее называли преступницей, разыскиваемой за убийство. Тот же самый комментатор теперь слегка напыщенно разорялся насчет террористов-бомбометателей на Ближнем Востоке, и продавец Сэм повернул рукоятку, прервав его на середине предложения. — Обрыдло слушать про этих проклятых арабов, — сообщил он Бену. — Кому не обрыдло? — поддержал его Бен, заканчивая анкету. — Что до меня, — продолжал Сэм, — то если они еще станут нам досаждать, я бы сбросил на них атомную бомбу, и привет. — Конечно, атомную бомбу, — согласился Бен. — Назад в каменный век. Радио оказалось встроенным в магнитофон, и Сэм включил его, поставив кассету. — Еще дальше каменного века. Они и так уже живут в каменном веке, черт побери. — Тогда назад в эру динозавров, — сказал Бен, а из магнитофона раздались звуки песни в исполнении «Оук Ридж Бойз». Рейчел сопровождала возгласами удивления и испуга рассказ рыбака о том, как с помощью иголок для татуировки чернила вводились под все три слоя кожи. — В эру динозавров, — согласился Сэм. — Пусть попробуют свои террористические штучки на тиранозаврах, а? Бен рассмеялся и протянул ему заполненную анкету. Он уже уплатил за покупки по своей карточке «Виза», так что Сэму только оставалось прикрепить квиток за уплату и кассовый чек к паспорту на оружие и положить все бумаги в пакет, где уже лежали четыре коробки с патронами. — Заходите еще. Рейчел попрощалась с татуированным рыбаком, Бен тоже с ним сначала поздоровался, а потом распрощался, и оба сказали до свидания Сэму. Бен нес коробку с ружьем, Рейчел — полиэтиленовый мешок с коробками патронов. Они спокойно прошли к входной двери, мимо штабелей алюминиевых упаковок с наживкой, мимо свернутых сетей для ловли миног, маленьких сачков, напоминавших теннисные ракетки, мимо термосов для воды и льда и ярких рыбацких шляп. За их спинами татуированный рыбак произнес, как ему казалось, тихим голосом, обращаясь к Сэму: — Вот это женщина! «Ты и половины не знаешь», — подумал Бен, открывая Рейчел дверь и выходя следом за ней. Меньше чем в десяти футах от них помощник шерифа округа Риверсайд вылезал из патрульной машины.
Свет флюоресцентных ламп, отражаясь от зеленого и белого кафеля, был достаточно ярок, чтобы высветить каждую кошмарную деталь, слишком ярок. На зеркале в ванной комнате, обрамленном в бронзу, не было ни пятен, ни желтых потеков от старости, так что отражение в нем отличалось четкостью и ясностью малейших деталей, слишком большой ясностью. Эрика Либена не удивило то, что он увидел, потому что еще в гостиной он нерешительно ощупал руками свое лицо, обнаружив пугающие перемены в верхней его части. Но визуальное подтверждение того, что сказали ему руки и чему он не хотел верить, леденило душу, ужасало и угнетало. Тем не менее более завораживающего зрелища ему в жизни видеть не приходилось. Прошел год с того дня, когда он поставил над собой эксперимент по несовершенной программе «Уайлд-кард» и откорректировал и усилил свои гены. С той поры он ни разу не простужался, не болел гриппом, не страдал от язв во рту или головных болей, не испытывал даже слабого желудочного расстройства. Неделя за неделей он собирал данные в подтверждение того, что лечение дало желаемые результаты без каких-либо побочных эффектов. Побочные эффекты. Он едва не рассмеялся. Едва. Уставившись с ужасом в зеркало, как в окно в ад, он поднял трясущуюся руку ко лбу и снова дотронулся до узкого бугристого костяного нароста, идущего от переносицы к линии волос. Травмы, полученные им вчера в катастрофе, дали такой мощный импульс его новым способностям к заживлению, какой не смогли дать слабые вирусы гриппа и простуды. Перегруженные клетки принялись с поразительной скоростью вырабатывать интерферон, разнообразные антитела для борьбы с инфекцией и главным образом гормоны роста и белки. По какой-то причине эти вещества продолжали поступать в его организм и после того, как заживление закончилось, когда надобность в них отпала. Его тело теперь не просто заменяло поврежденные ткани, оно с пугающей быстротой добавляло новые, причем такие, в которых не было явной надобности. — Нет, — прошептал он, — нет, — пытаясь отрицать то, что видел собственными глазами. Но то была правда, он чувствовал эту правду кончиками пальцев, ощупывая голову. Хотя костяной нарост больше всего выдавался на лбу, Эрик чувствовал, что он растет и под волосами. Ему даже показалось, что он нащупал его вплоть до самого затылка. Его тело менялось либо случайно, либо с какой-то определенной целью, которой он не мог понять. Он представления не имел, когда этот процесс закончится — если вообще когда-нибудь закончится. Возможно, он так и будет продолжать расти, меняться, принимать тысячи различных обликов, и так без конца. Он превращался в чудовище… или, возможно, в нечто абсолютно чуждое и непонятное, терял человеческий облик. Костяной нарост возвышался над его лбом и скрывался под волосами. Эрик снова коснулся рукой утолщенной кости над глазами. Он стал слегка походить на неандертальца, хотя у неандертальца и не былокостяного гребня на лбу. Или костяной шишки на виске. И не только у неандертальца, ни у одного человеческого предка никогда не было таких огромных вспухших кровеносных сосудов, которые выделялись у него над бровями и отвратительно пульсировали. Даже несмотря на свое ущербное умственное состояние, на туман и нечеткость в мыслях, на отсутствие памяти, Эрик осознал полное и страшное значение всех этих перемен. Он никогда не сможет снова стать членом человеческого общества, не будет у него такой возможности. Вне сомнения, он сам сделал из себя чудовище Франкенштейна, по своей собственной воле превратился и продолжает превращаться в вечного Изгоя. Будущее представлялось ему по меньшей мере унылым. Его могут изловить, и он будет продолжать существовать где-нибудь в лаборатории под любопытными взорами зачарованных ученых, на нем начнут проделывать опыты, изобретут массу экспериментов, которые покажутся им ценными и оправданными, но для него станут настоящей пыткой. Или он может забраться куда-нибудь в глушь и влачить там жалкое существование, давая пищу для легенд о новом чудище, пока однажды какой-нибудь охотник не наткнется на него и не пристрелит. Но какая бы судьба ни ожидала его, в ней всегда будут присутствовать две мрачные константы: постоянный страх — не столько перед тем, что могут с ним сделать другие, сколько перед тем, что делает с ним его собственное тело; и одиночество, глухое, безысходное одиночество, какого не знал, да и не сможет узнать ни один человек, потому что на земле такой он только один. Однако его отчаяние и ужас были слегка смягчены любопытством, тем самым любопытством, которое сделало из него великого ученого. Разглядывая свое кошмарное отражение, наблюдая в процессе генетическую катастрофу, он не мог оторвать от себя взгляда: ведь то, что он видит, не увидит больше ни один человек. Мало этого, он видит такое, что человек не должен видеть. То было необыкновенное ощущение. Такие люди, как он, и живут ради этого. Каждый ученый, даже самый захудалый, мечтает хоть однажды проникнуть взглядом в темные тайны, лежащие в основе жизни, и надеется понять увиденное, если подобное ему суждено. А это не просто беглый взгляд. Это подробное, медленное изучение загадки роста и развития, которой он может заниматься, пока не надоест. Продолжительность такого изучения зависит только от его мужества. На мгновение в его мозгу промелькнула мысль о самоубийстве, но тут же исчезла, потому что открывающиеся перед ним возможности были куда важнее определенных физических, умственных и эмоциональных мук, уготованных ему судьбой. Будущее виделось ему странным пейзажем, затуманенным страхом и освещенным молниями боли, но он обязан совершить свой путь к невидимому горизонту. Он обязан узнать, чем он станет. Кроме того, его страх перед смертью, несмотря на последние события, ничуть не уменьшился. Наоборот, сейчас, когда он находился ближе к могиле, чем когда-либо в жизни, некрофобия еще сильнее охватила его. Неважно, какая жизнь и в каком виде его ждет, он должен продолжать жить. Хотя от происшедшей с ним метаморфозы леденило кровь, альтернатива в виде смерти страшила его еще больше. Пока он смотрел в зеркало, снова заболела голова. Ему показалось, он заметил что-то новое в глазах. Он наклонился поближе к зеркалу. Определенно, глаза были странные, другие, но он не мог четко определить, в чем заключалась разница. Головная боль стремительно усиливалась. Свет раздражал его, и он прищурился. Неожиданно ему показалось, что он заметил, как что-то происходит с его правым виском, а также на скуле под правым глазом. Его охватил страх, такой всепоглощающий, какого он никогда не испытывал в жизни. Сердце бешено заколотилось. Он резко отвернулся от зеркала. Трудно, но возможно было смотреть на те изменения, что уже произошли. Но видеть собственными глазами, как его плоть и кости трансформируются, оказалось более трудной задачей, на которую у него не хватило ни выдержки, ни силы воли. Почему-то он вдруг вспомнил Лока Чэни-младшего в старом фильме «Оборотень», того самого Чэни, который был так испуган своим превращением в волка, что его охватили настоящий ужас и жалость… к самому себе. Эрик посмотрел на собственные огромные руки, отчасти ожидая, что на них начнет расти шерсть. Эта мысль заставила его рассмеяться, хотя, как и раньше, смех его был холодным, прерывистым и грубым, без капли юмора и очень скоро перешел в рыдания. Теперь болела не только голова, но и лицо, даже губы жгло. Когда он поспешно уходил из ванной комнаты, сначала ударившись о раковину, потом столкнувшись с дверью, он тоненько подвывал на одной высокой ноте — симфония страха и отчаяния.
На помощнике шерифа округа Риверсайд были темные очки, скрывающие его глаза, а следовательно, и намерения. Однако Бен не заметил в полицейском, вылезающем из машины, ни напряжения, которое говорило бы о многом, ни каких-либо признаков, что он узнал в них тех достославных предателей правды, справедливости и американского образа жизни, о ком только что сообщил радиокомментатор. Они продолжали шагать, только Бен взял Рейчел за руку. В последние несколько часов их изображения и описания были разосланы во все полицейские участки в Калифорнии и на Юго-Западе, но это вовсе не означало, что ради их поимки полицейские забросили все свои остальные дела. Казалось, помощник шерифа внимательно наблюдает за ними. Но не все полицейские были настолько добросовестны, чтобы досконально изучать последние сообщения, прежде чем отправиться в путь, а этот, возможно, вообще мог выехать из участка раньше, чем туда поступили фотографии Бена и Рейчел и их описания. — Простите, — обратился к ним помощник шерифа. Бен остановился. Почувствовал, как замерла Рейчел. И постарался как можно равнодушнее улыбнуться и спросить: — Да, сэр? — Это ваш грузовичок «Шевроле»? Бен моргнул. — Нет… не Мой. — Задняя фара у него разбита, — пояснил помощник шерифа, снимая очки и обнаруживая глаза, в которых не было и тени подозрения. — Мы на «Форде» приехали, — сообщил Бен. — А не знаете, чей грузовичок? — Нет. Может, кого-нибудь из покупателей. — Ну, желаю вам, ребята, хорошего дня, наслаждайтесь нашими великолепными горами. — И помощник шерифа прошел мимо них в направлении спортивного магазина. Бен едва удержался, чтобы не рвануть бегом к машине. Он догадался, что Рейчел сдерживает такой же порыв. Но они продолжали идти размеренно и даже слишком спокойно. От той жутковатой неподвижности вокруг, которую они застали по приезде, не осталось и следа. День был полон движения. На воде подвесные моторы жужжали, как стая рассерженных шмелей. С голубой глади озера дул легкий ветерок, шуршал листьями, шевелил траву и полевые цветы. По дороге изредка проезжали машины, из открытых окон одной из них донеслись звуки рок-н-ролла. Они подошли к «Форду», стоящему в еловой тени. Рейчел захлопнула дверь и сморщилась от громкого звука, как будто помощник шерифа мог вернуться на этот шум. Зеленые глаза расширились от страха. — Поехали отсюда. — Будет сделано, — отозвался Бен, заводя двигатель. — Мы можем найти более уединенное место, где ты распакуешь ружье и зарядишь его. Они выехали на двухрядное шоссе, огибающее озеро, и направились на север. Бен то и дело посматривал в зеркальце заднего обзора. Никто их не догонял. Его страх, что преследователи сидят у них на хвосте, был нерационален, граничил с паранойей. И все равно он посматривал в зеркальце. Сверкающее озеро лежало слева внизу, а справа поднимались горы. На отдельных больших, заросших лесом участках возвышались дома. Одни были весьма величественны, почти загородные усадьбы, тогда как другие — хоть и аккуратненькие, но простенькие коттеджи. В некоторых местах земля, по-видимому, принадлежала государству, или местность была слишком гористой для того, чтобы строить, и там между деревьями рос густой подлесок. Много сухостоя, так что кругом стояли предупреждения об опасности пожара — постоянная угроза летом и осенью в Южной Калифорнии. Дорога извивалась, то поднимаясь вверх, то снова спускаясь вниз, и машина ехала то в тени, то вырывалась на освещенные ярким солнцем участки. Минуты через две Рейчел заметила: — Не могут же они на самом деле думать, что мы украли государственные секреты. — Конечно, нет, — согласился Бен. — Я хочу сказать, я даже не знала, что Генеплан работал на Пентагон. — Они на самом деле о другом беспокоятся. Эта история для прикрытия. — Почему же тогда они так рвутся нас заполучить? — Потому что мы знаем, что Эрик… вернулся. — Так ты считаешь, что и правительство знает? — спросила она. — Сама же говорила, что секрет проекта «Уайлд-кард» тщательно охранялся. Кроме Эрика, его коллег по Генеплану и тебя, никто о нем не знал. — Верно. — Но если Генеплан брал у Пентагона деньги на другие проекты, готов поспорить, что там знали все, что стоило знать о Генеплане и его исследованиях. Невозможно соглашаться на хорошо оплачиваемую совершенно секретную научную работу и в то же время надеяться сохранить что-то лично для себя. — Разумно, — кивнула она. — Но Эрик мог этого не понимать. Он ведь думал, что только у него всегда самое лучшее.
Дорожный знак предупредил их об уклоне. Бен притормозил, «Форд» подпрыгнул на неровностях дороги, рессоры взвизгнули, кузов задрожал. Когда они снова выехали на ровный участок, Беи продолжил: — Получается, что Пентагон знает достаточно о проекте «Уайлдкард», чтобы, когда тело Эрика исчезло из морга, сообразить, что он с собой сделал. Теперь они не хотят, чтобы об этом стало известно, хотят по-прежнему держать проект в секрете, ведь они видят в нем оружие или, по крайней мере, источник небывалой власти. — Власти? — Доведенный до успешного конца, этот процесс может означать бессмертие для тех, кто подвергнется лечению. Значит, люди во главе проекта будут решать, кому жить вечно, а кому умереть. Разве можно представить себе лучшее оружие, с помощью которого можно взять под контроль весь этот проклятый Богом мир? Рейчел долго молчала. Затем тихо сказала: — Господи, я так сосредоточилась на моем личном участии в деле, на том, что это значит для меня, что и не подумала посмотреть на это пошире. — Значит, им надо до нас добраться, — резюмировал Бен. — Они не хотят, чтобы мы раскрыли тайну проекта до того, как работа над ним успешно завершится. Если такое произойдет, они не смогут беспрепятственно продолжать исследования. — Именно. Поскольку ты теперь наследуешь большую часть акций Генеплана, правительство, возможно, надеется принудить тебя к сотрудничеству как для блага страны, так и для твоего собственного блага. Она покачала головой: — Меня не переубедить. По крайней мере в этом. Во-первых, если есть шанс так значительно увеличить продолжительность жизни и ускорить процесс, заживления с помощью генной инженерии, тогда исследования надо проводить открыто и их результаты должны стать достоянием всех. Аморально относиться к этому по-другому. — Я догадывался, что ты к этому так отнесешься, — сказал он, резко бросая «Форд» сначала в правый, а потом в левый поворот. — И потом, они не смогут убедить меня продолжать исследования в том же направлении, которого придерживалась группа, работавшая над проектом «Уайлдкард», потому что я считаю его неправильным. — Знал, что ты так скажешь, — одобрительно заметил Бен. — Конечно, я слабо разбираюсь в генетике, но мне ясно, насколько опасен их подход. Помнишь, я рассказывала тебе про мышек. И вспомни… кровь в багажнике машины в Вилла-Парке. Он помнил, и то была одна из причин, почему он купил ружье. — Если я получу контроль над Генепланом, — продолжала она, — то буду настаивать, чтобы с проектом «Уайлдкард» было покончено, а поиски велись в совершенно новом направлении. — Знал, что и это ты скажешь, — отозвался Бен, — и еще я думаю, что и правительство об этом догадывается. И не слишком надеюсь, что они просто хотят получить шанс переубедить тебя. Как о жене Эрика им, без сомнения, многое о тебе известно, а значит, они понимают, что тебя нельзя подкупить или добиться чего-либо угрозами и заставить делать то, что ты считаешь неправильным. Полагаю, они и пытаться не будут. — У меня католическое воспитание, — произнесла она с долей иронии. — Сам знаешь, строгая, суровая, религиозная семья. Он не знал. Она впервые заговорила об этом. — Совсем еще маленькой, — продолжила она тихо, — меня послали в интернат для девочек, которым руководили монахини. Я его ненавидела… бесконечные проповеди… унижение исповеди, когда я была вынуждена рассказывать о моих жалких грехах. Но что-то положительное в этом все же было, как ты думаешь? Вряд ли я была бы уж такой неподкупной, не проведи я все эти годы под присмотром сестер-монахинь. Бен почувствовал, что эти признания — лишь маленькая веточка на огромном и, возможно, уродливом дереве ее мрачного жизненного опыта. Он на секунду отвел глаза от дороги. Ему хотелось видеть выражение лица Рейчел. Но разобрать что-либо было трудно из-за постоянной смены света и тени и солнечных бликов, падающих сквозь лобовое стекло. Создавалось впечатление пляшущего пламени, он только частично видел ее лицо, вторая половина находилась как бы за сверкающим, слепящим занавесом. — Ладно, — вздохнула она, — если Пентагон знает, что им меня не переубедить, зачем выдавать ордера на основании сфабрикованных обвинений, занимать поисками стольких людей? — Они хотят тебя убить, — прямо сказал Бен. — Что? — Им выгоднее убрать тебя и иметь дело с партнерами Эрика — Ноулсом, Сейцем и другими, потому что в их продажности они уверены. Рейчел выглядела потрясенной, что его вовсе не удивило. Ее нельзя было обвинить в наивности или предполагать, что она витает в облаках. Но, как человек сегодняшнего дня, она по собственной воле мало думала о сложностях постоянно меняющегося мира, разве только в тех случаях, когда это мешало ее желанию прожить каждый момент с максимальным удовольствием. Она на веру принимала множество мифов, потому что ее это устраивало, облегчало ей жизнь, и среди этих мифов один был о том, что правительство всегда стоит на защите ее интересов, чего бы это ни касалось: войны, реформ системы правосудия, повышения налогов и так далее. Будучи аполитичной, она не придавала значения тому, кто победит или, вернее, узурпирует власть в результате подсчета голосов. Куда проще было верить в благородные намерения тех, кто так рвется послужить обществу. И сейчас она смотрела на Бена, широко раскрыв глаза от изумления. Ему не нужно было даже видеть ее лицо в постоянной смене света и тени, чтобы разглядеть это выражение. Он ощутил его по внезапно участившемуся дыханию и напряжению, охватившему ее и заставившему сесть прямее. — Убить меня? Да нет же, Бенни. Американское правительство не какая-то банановая республика, чтобы убивать своих граждан. Конечно, нет. — Да я не имею в виду все правительство, Рейчел. Ни конгресс, ни сенат, ни президент, ни кабинет министров не собирались на совещание, чтобы решить, что с тобой делать, не устраивали массовых заговоров с целью уничтожить тебя. Но кто-то в Пентагоне, а может, Бюро по оборонной безопасности или ЦРУ считает, что ты стоишь на пути национальных интересов, представляешь собой угрозу для благополучия миллионов граждан. Когда речь идет о благополучии миллионов и двух незначительных убийствах, они в выборе не сомневаются — всегда на стороне большинства. Одно или два маленьких убийства, даже десятки тысяч убийств кажутся им оправданными, когда на карту поставлено благополучие масс. Во всяком случае, такова их точка зрения, хотя они и любят разоряться насчет священных прав каждого человека. Так что они вполне могут приказать убить одного или двоих и при этом чувствовать, что правда на их стороне. — Боже милосердный, — произнесла Рейчел с чувством. — И куда я тебя втянула, Бенни? — Никуда ты меня не втянула, — возразил он. — Я сам влез, силком. Ты ничего не могла поделать. И я не жалею. Она, казалось, потеряла дар речи. Впереди дорога поворачивала налево, к озеру. Надпись гласила: «К ОЗЕРУ — ПРОКАТ ЛОДОК». Бен свернул с основной магистрали и поехал вниз по узкой дороге, покрытой гравием и петляющей между гигантскими деревьями. Через четверть часа он выехал из леса на большую, футов шестьдесят в ширину и футов триста в длину, поляну вдоль берега озера. В некоторых местах озеро сверкало солнечными блестками, а в других — солнечный свет извивался по его поверхности длинными полосами и волны поднимали их вверх. От зрелища рябило в глазах. Больше десятка легковых машин, грузовичков и трейлеров были припаркованы в дальнем углу поляны. Большой пикап, ярко выкрашенный в черную, серую и красную полосу и сверкающий многочисленными хромированными деталями, стоял у кромки воды, и трое мужчин спускали на воду с трейлера двадцатичетырехфутовый катер с двумя моторами. Несколько человек обедали за раскладными столами на берегу, рядом бродил ирландский сеттер в поисках остатков еды, двое мальчишек перебрасывали друг другу мяч, а восемь или десять рыбаков налаживали рыболовную снасть. Все выглядели вполне довольными. Если кто из них и понимал, что мир за пределами этого благословенного места погружается в темноту и сходит с ума, он держал свои мысли при себе. Бен съехал на стоянку, но поставил «Форд» с самого края, как можно дальше от других машин. Он выключил мотор и опустил стекло. Отодвинув сиденье подальше, чтобы иметь больше свободного места, взял коробку с ружьем на колени, вынул его, а коробку бросил на заднее сиденье. — Последи-ка, — попросил он Рейчел. — Если кто-нибудь приблизится, дай мне знать. Я вылезу и встречу его. Не хочу, чтобы кто-нибудь видел ружье и перепугался. Сейчас точно не охотничий сезон. — Бенни, что мы будем делать? — Что и задумали, — ответил он, с помощью ключа от машины вспарывая полиэтиленовый пакет, в который было вложено ружье. — Поедем, куда Сара Киль сказала, найдем Эрика, а там посмотрим. — Но эти ордера на арест… эти люди, которые хотят нас убить… разве это не меняет все? — Не очень. — Бен отбросил рваный полиэтилен и осмотрел ружье. Оно было полностью собрано, прекрасный образец, его приятно было держать в руках. — Поначалу мы собирались найти Эрика и покончить с ним до того, как он окончательно поправится и начнет гоняться за тобой. Теперь, возможно, нам следует поймать его, а не убивать… — Поймать живым? — спросила Рейчел, обеспокоенная таким предложением. — Ну, он ведь не очень-то живой, так? Мне кажется, нам нужно взять его, в каком бы состоянии он ни был, связать, отвезти куда-нибудь… вроде редакции «Нью-Йорк тайме». И там устроить по-настоящему потрясающую пресс-конференцию. — Нет, Бенни, нет, мы не сможем. — Она решительно покачала головой. — Это безумие. Он же будет сопротивляться изо всех сил. Я ведь рассказывала тебе про мышек. Ты видел, черт побери, кровь в багажнике. Разгром всюду, где он побывал, эти ножи в стене в доме в Палм-Спрингс, а как он избил Сару Киль? Нам и приближаться к нему нельзя. Его ружьем не испугаешь, если ты на это надеешься. Он начисто лишен сейчас чувства страха. Только подойди к нему, и он снесет тебе голову, несмотря на ружье. Может, у него тоже есть пистолет. Нет-нет, как только мы его увидим, мы должны с ним покончить, нужно стрелять без колебаний, много раз подряд, чтобы принести ему как можно больше вреда, чтобы он снова не смог вернуться. В голосе Рейчел зазвучали панические нотки, она говорила все быстрее и быстрее, стараясь убедить его. Лицо ее было белее мела, губы посинели. Она вся тряслась. Хотя Бен уже понял, что они попали в тяжелую ситуацию и их противник — нечто совершенно ужасное, ему все же казалось, что страхи Рейчел преувеличены, что ее реакция на воскрешение Эрика — в некоторой степени результат сурового религиозного воспитания, которое она получила в детстве. Возможно, не отдавая себе отчета, она боялась Эрика не только потому, что знала, что он способен на насилие, и не только потому, что он — ходячий мертвец, а потому, что он посмел посчитать себя Богом, поборов смерть, и стал таким образом не просто зомби, но существом, рожденным в аду и вернувшимся из обители проклятых Богом. На минуту забыв о ружье, он взял ее руки в свои: — Рейчел, милая, да справлюсь я с ним. Мне и хуже приходилось, значительно хуже… — Не будь так уверен! За это ты можешь поплатиться головой. — Меня готовили для войны, учили позаботиться о себе… — Пожалуйста… — И все эти годы я поддерживал форму, потому что Вьетнам научил меня, что мир может стать темным и злым за сутки и что положиться можно только на себя и своих ближайших друзей. Я хорошо усвоил этот неприятный урок, касающийся современного мира, но мне было тошно от него, вот я и старался погрузиться в прошлое. Однако я продолжал тренироваться и поддерживать форму, значит, я не забыл этого урока. Я в прекрасной форме, Рейчел. И я хорошо вооружен. — Он не дал ей возразить. — У нас нет выбора, понимаешь? В этом все дело. Никакого выбора. Если я просто убью его, засажу в него двадцать-тридцать зарядов, убью его так, что он уже не встанет, у нас не будет доказательств того, что он с собой натворил. Только труп. Кто сможет доказать, что он оживал? Все будет выглядеть так, как будто мы украли тело, начинили его свинцом и придумали всю эту дикую историю для прикрытия преступлений, в которых нас обвиняют. — Лабораторные исследования его клеток должны будут что-то показать, — возразила Рейчел. — Исследования генного материала… — На это уйдут недели. За это время правительство найдет способ забрать тело, уничтожить его и подкорректировать результаты анализов таким образом, что они не покажут ничего необычного. Она хотела что-то сказать, заколебалась, потом передумала. Похоже, она начинала понимать, что он прав. — У нас одна надежда отвязаться от правительства, — продолжал Бен. — Найти доказательства существования проекта «Уайлдкард» и рассказать все прессе. Они хотят убить нас по одной-единственной причине — чтобы сохранить все в тайне, поэтому, как только все вылезет наружу, мы будем в безопасности. Поскольку папку с документами по проекту нам найти не удалось, единственное доказательство его существования — сам Эрик. Так что мы должны его заполучить. И живым. Пусть видят, что он дышит, ходит, несмотря на пробитую голову. Пусть видят те изменения, которые, как ты считаешь, в нем произошли. Она с трудом проглотила комок в горле. — Хорошо. Ладно. Но я до смерти боюсь. — Ты же можешь быть сильной. — Я знаю. Знаю. Но… Он наклонился и поцеловал ее. Ее губы были ледяными.
Эрик застонал и открыл глаза. По-видимому, он снова на короткий период погрузился в состояние глубокой комы. Когда он медленно пришел в себя, то обнаружил, что лежит на полу среди по меньшей мере сотни разбросанных листов бумаги. Страшная головная боль прошла, хотя осталось странное ощущение жжения от затылка до подбородка, по всему лицу, а также в большинстве суставов и мышц, особенно в плечах, ногах и руках. Ощущение не было неприятным, хотя и удовольствия не доставляло, просто какое-то нейтральное чувство, подобного которому он никогда не испытывал. «Я похож на шоколадного человечка, сидящего на залитом солнцем столе, который тает, и тает, и тает, только изнутри». Некоторое время он просто лежал, удивляясь, откуда взялась такая мысль. Он плохо ориентировался, голова кружилась. Мозг напоминал болото, в котором разобщенные мысли лопались, как вонючие пузыри на поверхности воды. Постепенно вода слегка очистилась, а грязь в болоте немного устоялась. Рывком сев, Эрик оглядел разбросанные бумаги, но не мог вспомнить, откуда они взялись. Он поднял несколько листков и попытался прочитать. Расплывающиеся перед глазами буквы сначала отказывались складываться в слова. Затем ему долго не удавалось составить из них членораздельное предложение. Когда же наконец смог что-то прочесть, смысл прочитанного не доходил до него, так что он не понял, что это третий экземпляр досье по проекту «Уайлдкард». Кроме данных по проекту, введенных в компьютер Генеплана, существовало одно досье в твердом переплете в Риверсайде, одно — в его сейфе в главной конторе в Ньюпорт-Бич и одно — здесь. Домик был его тайным убежищем, о котором, кроме него, никто не знал, так что он считал разумным держать один экземпляр в секретном сейфе в подвале. Это была его страховка на тот случай, если когда-нибудь Сейц и Ноулс, субсидировавшие проект, попытаются прибрать корпорацию к рукам с помощью хитрых финансовых махинаций. Хотя вряд ли такое могло случиться, потому что они нуждались в нем, в его гениальности сейчас и, скорее всего, будут нуждаться и после того, как проект будет доведен до совершенства. Но он не привык рисковать. (Разве что один раз, когда ввел себе этот дьявольский отвар, превратив свое тело в мягкую глину.) Он не мог допустить, чтобы его выкинули из Генеплана и лишили доступа к важной информации о производстве препарата, дающего бессмертие. По-видимому, выбравшись из ванной комнаты, он спустился в подвал, открыл сейф и принес сюда досье, чтобы внимательно изучить. Что он хотел найти? Объяснение тому, что с ним происходит? Способ повернуть вспять происшедшие и все еще происходящие изменения? Бессмысленно. Таких чудовищных последствий никто не ждал. Там, в бумагах, нет ничего о возможности подобных изменений или о пути к спасению. Наверное, он совсем плохо соображал, потому что только в бессознательном состоянии могла ему прийти в голову мысль искать магическое средство в этой стопке ксерокопий. Минуту или две Эрик стоял на коленях среди разбросанных бумаг, прислушиваясь к странному, но безболезненному жжению во всем теле и стараясь понять его смысл и значение. В отдельных местах — вдоль позвоночника, в затылке, в горле и в гениталиях — это жжение сопровождалось странной щекоткой. Ему казалось, что в нем поселился миллиард муравьев и они теперь бегают по его венам и артериям и по всем тем отверстиям, которые имеются в его костях и плоти. Он наконец встал, и вдруг без всякой причины его охватил бешеный гнев, не направленный ни на что конкретно. Он яростно пнул ногой бумаги, на мгновение подняв их в воздух, Дикая ярость закипала под поверхностью его заболоченного мозга, и у Эрика хватило проницательности осознать, что она разительно отличается от тех приступов, которым он был ранее подвержен. Эта была… более первобытной, менее направленной, менее человеческой, больше напоминала необузданную ярость зверя. Создавалось ощущение, что глубоко внутри верх берут какие-то примитивные инстинкты, что-то выбирается из бездонной генетической ямы, что-то берущее начало десять миллионов лет назад, в том древнем-предревнем мире, где люди были обезьянами, или в еще более древнем, когда человек был амфибией, с трудом выбирающейся на вулканический берег и делающей первый вдох. Ярость была холодной, а не жаркой, ледяной, как сердце Арктики, холодной… как у земноводного. Да, именно такое создавалось ощущение, и, когда Эрик начал осознавать его природу, он с ужасом попытался выбросить эту мысль из головы и внушить себе надежду, что сможет контролировать процесс. Зеркало. Он был уверен, что, пока лежал на полу в гостиной без сознания, в нем произошли новые изменения, и необходимо пойти в ванную и посмотреть на себя в зеркало. Но внезапно его снова охватил ужас при мысли о том, во что он превращается, и он не смог заставить себя сделать даже шаг в нужном направлении. Вместо этого он решил снова воспользоваться методом Брайля, с помощью которого в последний раз исследовал изменения на своем лице. Если он сначала почувствует изменения, прежде чем их увидит, это его подготовит, и он не придет в такой ужас. Неуверенным движением он поднял руки к лицу — и тут же заметил, что меняются руки. И не мог уже отвести от них глаз. Они не так уж отличались от его прежних рук, но, вне сомнения, уже не были больше теми руками, к которым он привык. Пальцы казались длиннее примерно на целый дюйм и тоньше, с более толстыми подушечками на концах. И ногти другие: толще, жестче, желтее, более заостренные. То были когти в процессе формирования, черт бы все собрал, и если так будет продолжаться, они еще, возможно, заострятся, загнутся и превратятся в настоящие острые когти. Суставы тоже менялись, увеличивались, искривлялись, напоминая суставы, пораженные артритом. Он ожидал, что руки окажутся негибкими, менее подвижными, но, к его изумлению, изменившиеся суставы прекрасно функционировали, были послушными — пожалуй, даже лучше, чем раньше. А его новые удлиненные пальцы были потрясающе гибки и ловки. Он также ощущал, что изменения неудержимо продолжаются, хотя и не так быстро, чтобы он мог действительно видеть, как растут кости и меняется плоть. Но к завтрашнему дню его руки, несомненно, приобретут совсем иной вид. Это явление разительно отличалось от явно случайного разрастания костей и тканей — этой похожей на опухоль шишки у него на лбу. Такие руки были не просто результатом избытка гормонов роста и белков. Здесь рост имел цель, направление. Более того, Эрик внезапно заметил, что на обеих руках, в пространстве между первыми суставами больших и указательных пальцев, образуется прозрачная паутина. Как у амфибии. Как и холодная ярость, которая, дай он ей волю, закончилась бы безумством разрушения. Амфибия. Эрик опустил руки, боясь взглянуть на них еще раз. У него не хватило смелости ощупать контуры своего лица. Одна только мысль о зеркале приводила его в ужас. Сердце бешено колотилось, и каждый удар нес новую волну страха и одиночества. На какое-то мгновение он совсем растерялся, утратил ориентировку. Повернулся направо, потом налево, сделал шаг в одну сторону, потом в другую. Бумаги с проектом «Уайлдкард», подобно осенним листьям, шуршали под ногами. Не зная, что делать, куда идти, он остановился, ссутулив плечи и повесив голову, как бы придавленный грузом отчаяния… …пока неожиданно к странному жжению в теле и покалыванию вдоль позвоночника не добавилось новое ощущение — голод. В животе заурчало, колени подогнулись, и его начало трясти от голода. Он заработал челюстями, с трудом сглатывая слюну; казалось, все тело требовало, чтобы его накормили. Все сильнее трясясь, он направился в кухню, ноги еле держали его. От нетерпения пот ручьями, реками катился по его телу. Он никогда не испытывал такого голода. Дикий голод, от которого больно. Рвущий на части голод. В глазах помутилось, все мысли были направлены только на одно: пищи! Жуткие изменения, происходящие в его организме, требовали большего количества горючего, чем обычно. Нужна энергия для уничтожения старых тканей, подготовки исходного материала для создания новых. Разумеется, его метаболизм взбесился, как вышедшая из-под контроля огромная печь; в ней бушует огонь, поглотивший бутерброды с колбасой, съеденные раньше, и теперь требующий еще, как можно больше; и к тому времени, как он подошел к буфету и принялся вытаскивать из него банки с супом и тушеным мясом, он задыхался и хватал воздух ртом, что-то невнятно бормотал, рычал, как дикий зверь; и хотя ему самому было противно вот так потерять контроль над собой, он был слишком голоден, чтобы всерьез беспокоиться об этом, испуган, но еще больше голоден, в отчаянии, но прежде всего голоден, голоден, голоден…
Следуя указаниям, которые Сара Киль дала Рейчел, Бед свернул с основного шоссе на узкую разбитую дорогу из щебенки, поднимающуюся на покатый холм. Дорога скрывалась в лесу, где вместо хвойных росли вечнозеленые деревья, в большинстве своем огромные и старые. Они проехали с полмили, миновав несколько ответвляющихся в стороны дорожек, ведущих к домам и летним коттеджам. Только некоторые из них были хорошо видны, остальные полностью или частично спрятаны за деревьями и кустарниками. Чем дальше они ехали, тем меньше солнечных лучей пробивалось сквозь толщу деревьев. Мрачнел пейзаж, мрачнела и Рейчел. Она держала свой пистолет на коленях и внимательно вглядывалась вперед. Щебенка кончилась, но еще с четверть мили они ехали по гравию. Проехали только две боковые дорожки и небольшой трейлер, припаркованный около одной из них, и наконец уперлись в калитку. Она была сделана из стальных труб небесно-голубого цвета и заперта на замок. По ее сторонам не было никакого забора, калитка просто служила средством ограничить доступ на грунтовую дорогу за ней; дорога выглядела еще хуже той, по которой они приехали. В центре заграждения висело предупреждение, выполненное в черно-белых тонах:
ПРОЕЗД ЗАКРЫТ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ— Так Сара и говорила, — заметил Бен. За калиткой находилась собственность Эрика Либена, его тайное убежище. Самого домика видно не было, до него надо ехать четверть мили вверх через густой лес. — Еще не поздно вернуться, — сказала Рейчел. — Нет, поздно, — ответил Бен. Она закусила губу и грустно кивнула. И осторожно сняла пистолет с обоих предохранителей.
Электрическим ножом Эрик открыл большую банку супа «Прогрессо» и сообразил, что понадобится кастрюля, чтобы этот суп подогреть. Но его так трясло, что он не мог больше ждать, просто выпил холодный суп и отбросил банку в сторону, непроизвольно вытирая рукой попавшую на подбородок жидкость. Он не держал в домике никаких свежих продуктов, только замороженные и консервы, и теперь открыл огромную банку говяжьей тушенки и съел ее, не разогревая, причем так спешил, что несколько раз едва не подавился. Он жевал мясо с почти безумным сладострастием и получал острое удовольствие, разрывая его зубами. Подобного удовольствия ему никогда не приходилось испытывать — первобытное, жестокое, и он одновременно и наслаждался, и испытывал страх. Хотя тушенка была полностью готовой и ее оставалось только подогреть и хотя она была сдобрена специями и консервантами, Эрик нюхом чувствовал остатки крови в говядине. Содержание крови было незначительным, да и та прошла обработку, но он ощутил этот запах не как легкий аромат, а как сильный, все перебивающий дух, как возбуждающий и великолепный фимиам, который заставил его вздрогнуть от наслаждения. Он глубоко вздохнул, одурманенный вкусом крови, она была для него лучше амброзии. Управившись с холодной тушенкой за две минуты, он открыл банку с чили и прикончил ее еще быстрее, затем пришла очередь супа, на этот раз куриного с вермишелью, и постепенно голод начал терять свою остроту. Он отвинтил крышку банки с арахисовым маслом и пальцами отправил немного масла в рот. Оно понравилось ему меньше мяса, но Эрик знал, что оно полезно, богато витаминами, которые нужны для его ускоренного метаболизма. Он взял еще, потом еще, съел большую часть содержимого, отбросил банку в сторону и какое-то время стоял, переводя дыхание, устав от процесса еды. Странное безболезненное пламя продолжало гореть в нем, но чувство голода почти исчезло. Краем глаза он увидел ухмыляющегося дядю Барри Хэмпстеда, сидящего на стуле у небольшого кухонного стола. На этот раз Эрик не стал игнорировать фантом, а повернулся к нему, подошел на пару шагов ближе и сказал: — Чего тебе здесь надо, сукин сын? — Голос у него был грубый, совсем не такой, как раньше. — Что ты лыбишься, извращенец поганый? Убирайся отсюда ко всем чертям. Дядя Барри и на самом деле начал постепенно испаряться, в чем не было ничего удивительного: он был только иллюзией, плодом его расстроенного воображения. Призрачные огни, питающиеся тенью, танцевали в темноте за дверью подвала, которую Эрик, по-видимому, оставил открытой, когда поднимался наверх с досье по проекту «Уайлдкард». Он внимательно наблюдал за языками пламени. Как и раньше, ему казалось, что кто-то таинственный манит его, и он снова испугался. Однако, ободренный своей удачей с дядей Барри, которого удалось прогнать, он направился к мерцающим красно-серебряным огням, чтобы или загасить их, или посмотреть, что лежит за ними. Потом внезапно вспомнил про кресло в гостиной, окно и необходимость быть на страже. От этой важной задачи его отвлекла целая цепь событий: необычно сильная головная боль, изменения, которые он нащупал на своем лице, кошмарное видение в зеркале, внезапный всепоглощающий голод, фантом дяди Барри, а теперь — эти языки пламени за дверью в подвал. Он не мог сосредоточиться на чем-то одном достаточное количество времени и вскрикнул, досадуя на это последнее подтверждение мозгового расстройства. Пнув по дороге банку из-под тушенки и пару банок из-под супа, Эрик направился из кухни в гостиную, к брошенному им наблюдательному посту.
Ззззз… Ззззз… Ззззз… Песня цикад на одной ноте, монотонная для человеческого слуха, но наверняка богатая по содержанию для других насекомых, резко и гулко раздавалась в лесу. Стоя рядом с «Фордом» и осторожно оглядываясь, Бен распихивал по карманам джинсов запасные патроны для ружья и восемь дополнительных обойм для «магнума». Рейчел выбросила все из сумки и положила туда три коробки с пулями для их пистолетов. Разумеется, они перестраховывались, но Бен не предложил ей оставить часть в машине. Ружье он нес под мышкой. При малейшей угрозе он мог вскинуть его за долю секунды. Рейчел несла в одной руке «магнум», в другой — пистолет тридцать второго калибра. Ей хотелось, чтобы у Бена были и «ремингтон», и револьвер, но он не смог бы управиться с тем и другим одинаково эффективно и предпочел ружье. Они залезли в кусты, чтобы обойти запертую калитку, и вернулись на дорогу с другой ее стороны. Дорога шла наверх под навесом из еловых ветвей. По бокам — дренажные канавы, выложенные камнем и заполненные сухой травой, принесенной сюда в сезон дождей и высохшей за весну и лето. Через две сотни ярдов дорога резко поворачивала направо и скрывалась из виду. Сара Киль говорила, что дальше, за поворотом, дорога идет прямиком к домику, который находился ярдах в двухстах. — Ты думаешь, безопасно идти прямо по дороге? — спросила Рейчел шепотом, хотя они еще были настолько далеко от дома, что вполне можно было разговаривать в полный голос. Бен заметил, что тоже шепчет: — До поворота — нормально. Если мы его не видим, значит, он не видит нас. Но она все равно тревожилась. — Если, конечно, он там, — добавил Бен. — Он там, — уверенно заявила Рейчел. — Возможно. — Он там, — настаивала она, указывая на еле заметные следы колес на тонком слое пыли, покрывающем утрамбованную дорогу. Бен кивнул. Он тоже заметил следы. — Ждет, — сказала Рейчел. — Не обязательно. — Ждет. — Может, он отдыхает. — Нет. — Беспомощный. — Нет. Он ждет нас. Скорее всего она и здесь была права. У него было то же ощущение надвигающейся беды. Странно, хотя они и стояли в тени, еле заметный шрам у нее на лице, где Эрик когда-то поранил ее разбитым бокалом, был хорошо виден, значительно лучше, чем при обычном освещении. Более того, Бену показалось, что он мягко светится, как будто реагируя на близость того, кто был виновен в его появлении. Приблизительно так же суставы, пораженные артритом, реагируют на приближающийся шторм. Разумеется, игра воображения. Шрам выделялся не больше, чем час назад. То, что подобное могло ему показаться, свидетельствовало, как он боится потерять Рейчел. Еще по дороге с озера он сделал все, чтобы убедить ее остаться в машине и позволить ему самому разобраться с Эриком. Она отказалась, возможно, тоже боялась потерять его не меньше, чем он ее. Они пошли вперед по дороге. Бен тревожно смотрел то вправо, то влево, неуютно чувствуя себя в окружении густого леса, где темно даже в полдень и где можно было спрятаться под любым кустом и затаиться в непосредственной близости от них. В воздухе стоял душный аромат смолы и острый приятный — сухих хвойных иголок, смешанный с прелым запахом гниющей древесины. Ззззз… Ззззз… Ззззз…
Эрик вернулся к креслу с биноклем, который, как он вспомнил, лежал в спальне в комоде, и уселся у окна. Через несколько минут, прежде чем его плохо работающий мозг отвлек его на что-то другое, он заметил движение на дороге в двухстах ярдах от дома, у поворота. Настроил бинокль, чтобы видеть яснее и, несмотря на густую тень в том месте, сумел прекрасно разглядеть двух человек: Рейчел и того поганца, с которым она спит, этого Шэдвея. Он не знал, кого ждет, кроме Сейца, Ноулса и других парней из Генеплана, но совершенно не ждал Рейчел и Шэдвея. И страшно удивился, потому что не мог сообразить, откуда она узнала об этом месте, но в то же время понимал, что ответ был бы ему ясен, функционируй его мозг нормально. Они стояли, пригнувшись за насыпью у дороги, и их почти не было видно. Но им пришлось немного высунуться — разглядеть домик, а этого оказалось достаточно, чтобы Эрик увидел их в бинокль и узнал. От вида Рейчел он мгновенно пришел в ярость, потому что она отвергла его, единственная женщина в его взрослой жизни, которая отвергла его, — сука, не-благодарная вонючая сука! И деньги его она тоже отвергла. Хуже того, в зловонном болоте его пораженного разума возникла мысль, что это она виновата в его смерти, она убила его, доведя до такого состояния, что он ринулся под грузовик на Мейн-стрит. Вполне вероятно, что она заранее запланировала его смерть, чтобы ей досталось все то богатство, от которого она для вида отказалась. Ну конечно, почему бы и нет? А теперь явилась сюда со своим любовником, с мужиком, с которым она трахалась за его спиной, чтобы закончить работу, начатую грузовиком. Они снова отошли за поворот, но через несколько секунд он заметил шевеление в кустах слева от дороги и мельком разглядел, как они пробираются между деревьями. Они рассчитывают подобраться осторожно, незаметно. Эрик уронил бинокль, оттолкнул кресло и встал, слегка пошатываясь. Его душила такая злоба, что, казалось, она его раздавит. Как будто грудь стянули стальные обручи, не давая ему дышать. Затем обручи лопнули, и он с жадностью набрал полную грудь воздуха. — Рейчел. О, Рейчел, — произнес он голосом, прозвучавшим как эхо в аду. Ему понравился звук, и он повторил: — Рейчел, Рейчел… Он поднял топор, лежавший на полу уножки кресла. Сообразил, что ему не справиться одновременно с топором и двумя ножами, так что взял нож побольше, а другой оставил. Он пройдет через черный ход. Обойдет дом. Проскользнет через лес и найдет их. У него хитрости хватит. У него было ощущение, что он родился, чтобы выслеживать и убивать. Торопясь через кухню к выходу, Эрик увидел себя мысленным взором: он засаживает нож глубоко в ее плоский, молодой живот, затем делает резкое движение вверх, вспарывая его. Он издал пронзительный возглас нетерпения и едва не упал, споткнувшись о пустые банки из-под супа и тушенки, так он спешил к двери. Он разрежет ее, разрежет, разрежет. А когда она свалится на землю с ножом в животе, он возьмет топор и сначала тупым его концом раздробит ей все кости в щепки, поломает ей ноги и руки, потом повернет замечательное орудие в своих руках — новых, великолепных руках — и использует его лезвие. К тому времени, когда он подошел к двери, распахнул ее и вышел из дома, он был охвачен тем самым бешенством рептилии, которого так боялся некоторое время назад, — холодным, расчетливым бешенством, возвращенным ему генетической памятью его доисторических предков. Сдавшись наконец на милость этой первобытной ярости, Эрик поразился, обнаружив, как хорошо себя при этом чувствует.
Глава 22
В ОЖИДАНИИ УТЕСА
Джерри Пик, проведший на ногах всю ночь, уж давно должен был бы заснуть стоя. Но зрелище униженного Энсона Шарпа вселяло в него больше бодрости, чем смогли бы сделать восемь часов крепкого сна. Он чувствовал себя великолепно. Они стояли у дверей палаты Сары Киль в ожидании, когда выйдет Фельзен Киль и сообщит им то, что они хотели знать. Пик с трудом удерживался от смеха, слушая злобствования своего шефа по поводу фермера из Канзаса, — Не будь он таким безмозглым засранцем, я бы его так прижал, что у него бы на следующее Рождество еще зубы стучали, — заявил Шарп. — Но какой смысл, верно? Зачем связываться с этим тупоголовым канзасским пахарем с одной извилиной? Все равно что с кирпичной стеной разговаривать, Пик. Какой смысл злиться на кирпичную стену? — Правильно, — согласился Пик, расхаживая взад-вперед мимо двери и разглядывая проходящих по коридору медсестер, Шарп продолжал рассуждать: — Знаешь, эти фермерские семьи там, на равнине, они вырождаются, потому что женятся между собой, двоюродный брат на двоюродной сестре и так далее, и глупеют от поколения к поколению. И не просто глупеют, Пик. Это кровосмешение делает их упрямыми как ослы. — Мистер Киль не показался мне упрямым, — заметил Пик. — Просто придурочный засранец, так что какой смысл тратить на него время? Урок все едино не пойдет ему впрок. Ответить Пик не рискнул. Ему потребовалось почти сверхчеловеческое усилие, чтобы удержаться от усмешки. В шестой или восьмой раз за полчаса Шарп повторил: — Кроме того, будет быстрее позволить ему получить нужную информацию от девчонки. Она и сама тупая телка, наркоманка и шлюшка, которая, верно, столько раз переболела сифилисом и триппером, что у нее мозги как каша. Я подумал, нам часы потребуются, чтобы из нее что-то выудить. А когда этот засранец вошел в палату и я услышал, как девчонка таким тоненьким счастливым голоском сказала «папа», я понял: он получит от нее то, что нам нужно, куда быстрее нас. Пусть сделает за нас нашу работу, так я решил. Джерри Пик подивился нахальству своего босса, который пытался заставить Пика увидеть все происшедшее в палате другими глазами. Впрочем, весьма возможно, Шарп и сам начинал верить, что не просто дал деру, а по-умному обвел Утеса вокруг пальца, добившись своего. Он был из тех, кто верит собственному вранью. Внезапно Шарп положил руку на плечо Пика, но не по-дружески, а добиваясь его полного внимания. — Послушай, Пик, ты ничего не подумай про то, как я обошелся с этой маленькой шлюхой. Ну, как я матерился, угрожал, сделал ей больно, сжав руку… как я ее трогал… это все чушь собачья. Техничка, понимаешь? Хороший способ побыстрее получить ответы. Если бы речь не шла о национальной безопасности, я бы никогда не стал так себя вести. Но иногда, в особых ситуациях вроде этой, мы должны делать для своей страны то, что в обычной ситуации не одобрили бы. Мы ведь понимаем друг друга, так? — Да, сэр. Разумеется. — Сам пораженный своим умением притворяться наивным и восхищенным, Пик добавил: — Странно, что вы можете сомневаться. Я бы никогда не додумался до такого подхода. Но когда вы начали ее обрабатывать… я понял, чего вы хотите, и я просто в восторге от ваших способностей как следователя. Для меня это большая удача, сэр, я имею в виду работать вместе с вами, очень ценный опыт, гораздо более ценный, чем я мог надеяться. На мгновение жесткие зеленые глаза Шарпа задержались на Пике с явным подозрением. Затем заместитель директора решил принять его слова за чистую монету, слегка расслабился и сказал: — Вот и славно. Я рад, что ты так думаешь, Пик. Все эти дела иногда бывают малоприятными. Иногда чувствуешь себя так, будто в грязи вывалялся, но мы ведь делаем это во имя страны, об этом не следует забывать. — Да, сэр. Я не забуду. Шарп кивнул и продолжил свое хождение. Но Пик точно знал, что Шарп получал удовольствие, унижая и мучая Сару Киль, и испытывал огромное наслаждение, лапая ее. Он знал теперь, что Шарп — садист и педофил, потому что своими глазами видел, как эти темные черты его босса проявились в больничной палате. Сколько бы ни врал Шарп, Пик никогда не забудет того, что там видел. Знание всех этих вещей о боссе давало Пику огромное преимущество, хотя пока он абсолютно не представлял себе, как сможет им воспользоваться. Он также понял, что Шарп в душе трус. Несмотря на свои агрессивные манеры и впечатляющие внешние данные, заместитель директора не устоит даже против такого значительно менее крупного по размерам человека, как Утес, если этот человек готов бороться за свои убеждения. Шарп не имеет ничего против насилия и готов прибегнуть к нему, если считает, что сам находится под защитой своего служебного положения, или если его противник достаточно слаб и беспомощен; но он мгновенно сдаст назад, если есть хотя бы малейший шанс, что он сам может при этом пострадать. Понимание этого было еще одним преимуществом, которое Пик тоже не знал, как использовать. Тем не менее он был уверен, что рано или поздно эти открытия ему пригодятся. Человек-легенда должен уметь разумно, справедливо и эффективно использовать подобные озарения. Шарп, не догадывающийся, что снабдил Пика двумя хорошими орудиями, продолжал ходить мимо двери с нетерпением Цезаря. Утес потребовал, чтобы его оставили с дочерью наедине на полчаса. Когда эти полчаса прошли, Шарп принялся еще чаще взглядывать на часы. Когда истекли тридцать пять минут, он решительными шагами подошел к двери, положил на нее руку, но заколебался и отошел. — Черт, дадим ему еще несколько минут. Нелегко добиться чего-нибудь путного от этой набитой наркотиками маленькой шлюхи. Пик что-то пробормотал, соглашаясь. Взгляды, которые Шарп бросал на закрытую дверь, становились все более угрожающими. Наконец на сороковой минуте их ожидания он заявил, стараясь спрятать свой страх перед необходимостью столкновения с фермером: — Мне надо позвонить по важному делу. Я буду в автомате в холле. — Да, сэр. Шарп пошел было прочь, но потом обернулся: — Когда этот засранец появится, пусть ждет меня сколько потребуется, и плевать я хотел, понравится ему это или нет. — Да, сэр. — Ему не повредит слегка поостынуть, — бросил Шарп, удаляясь с высоко поднятой головой, поигрывая широкими плечами, с видом человека, уверенного, что с его достоинством полный порядок. Джерри Пик прислонился к стене коридора и, в свою очередь, принялся разглядывать проходящих мимо сестер, улыбаясь хорошеньким и иногда перебрасываясь с ними словечком, если они не очень спешили. Шарпа не было двадцать минут, что означало: Утес находится в палате Сары ровно час, но, когда Шарп вернулся, сделав свои, скорее всего вымышленные, звонки, Утес все еще не появлялся. Даже труса иногда можно вывести из себя, и Шарп просто зашелся от ярости. — Черт бы драл этого говнюка деревенского! Как он смеет являться сюда, вонять здесь свиным дерьмом и похерить мое расследование! Он отвернулся от Пика и направился к палате Сары. Но не успел он сделать и двух шагов, как дверь открылась и вышел Утес. Пику было интересно посмотреть, будет ли Утес при втором своем появлении выглядеть столь же внушительным, каким он казался, когда впервые неожиданно вошел в палату Сары и положил конец издевательству Энсона Шарпа над ней. К великому удовольствию Пика, Утес выглядел даже еще более внушительным, чем в первый раз. Волевое, изрезанное морщинами и выдубленное ветром лицо. Огромные руки с увеличенными суставами, руки рабочего человека. От него исходило ощущение непоколебимой уверенности и покоя. Пик с трепетом наблюдал, как он шел через холл, словно ожившая гранитная глыба. — Господа, мне очень жаль, что я вас задержал. Но, сами понимаете, мы с дочерью так давно не виделись. — Вы тоже должны понять, что дело срочное и касается национальной безопасности. — Шарп говорил теперь значительно тише, чем раньше. Не обратив на него внимания, Утес продолжал: — Дочка сказала, вас интересует, не знает ли она, где может скрываться этот парень Либен. — Правильно, — сердито подтвердил Шарп. — Она еще что-то говорила насчет того, что он вроде ходячий мертвец, я не очень-то понял, скорее, всего сказывается действие лекарств. Как вы думаете? — Конечно, лекарств, — снова подтвердил Шарп. — Ну, так она знает одно место, где он мог бы спрятаться, — сказал Утес. — У парня есть домик у озера Эрроухед, так она говорит. Вроде тайного убежища. Я тут записал, как проехать. — Он достал из кармана рубашки сложенный листок бумаги и передал его Пику. Пику, не Энсону Шарпу. Пик взглянул на четкий, аккуратный почерк Утеса и протянул бумагу Шарпу. — Знаете, — проговорил Утес, — моя Сара еще три года назад была славной девочкой, хорошей дочерью во всех отношениях. Затем она попала под влияние одного больного человека, он приучил ее к наркотикам, внушил ей всякие дикие мысли. Ей было тогда всего тринадцать, впечатлительная, ранимая девочка, легкая добыча. — Мистер Киль, у нас нет времени… Утес сделал вид, что не слышит Шарпа, хотя и смотрел в его сторону. — Мы с женой делали все, что в наших силах, чтобы найти этого человека, думали, это какой-нибудь старшеклассник в школе, но так ничего и не обнаружили. Потом однажды, через год после того, как наш дом стал сущим адом, Сара исчезла, убежала в Калифорнию в поисках «красивой жизни». Она так и написала в записке, что хочет жить красиво, а мы, мол, простая деревенщина, ничего не знаем про мир, напичканы странными идеями. Вроде честности, трезвости, самоуважения, так я полагаю. Сегодня многие считают такие идеи странными. — Мистер Киль… — Так или иначе, вскоре после ее побега я выяснил, кто сбил ее с пути истинного. Учитель. Можете этому поверить? Учитель, который должен показывать пример, достойный подражания. Молодой учитель истории. Я потребовал, чтобы дирекция школы разобралась с ним. Большинство учителей сплотились вокруг него, возражали против расследования, потому что сегодня многие из них считают, что мы существуем только для того, чтобы держать язык за зубами и платить им жалованье вне зависимости от того, какими помоями они потчуют наших детей. Две трети учителей… — Мистер Киль, — настойчиво перебил Шарп, — нас это вовсе не интересует, и мы… — Ну, когда я закончу, это вас заинтересует, — сказал Утес. — Можете мне поверить. Пик понимал, что Утес не был болтуном, что он преследовал какую-то цель, и ему не терпелось узнать, чем все закончится. — Как я уже сказал, — продолжал Утес, — две трети учителей и половина города были против меня, называли меня возмутителем спокойствия. Но потом они обнаружили значительно худшие вещи насчет этого учителя истории, не только продажу и распространение наркотиков среди учеников, и к тому времени, как все закончилось, они были рады от него избавиться. Потом, когда его уволили, он заявился на ферму, хотел поговорить со мной как мужчина с мужчиной. Он довольно крупный парень, но и тогда он что-то принимал, может, курил марихуану или что-то посильнее, так что мне не составило труда с ним справиться. Должен признаться, к сожалению, что я сломал ему обе руки, хотя и не хотел обойтись с ним так круто. «Господи», — подумал Пик. — Но и на этом дело не кончилось, потому что выяснилось, что его дядя — президент самого большого банка в стране, того самого, что давал мне ссуды. Что и говорить, человек, который смешивает личную неприязнь с делом, полный идиот. Так вот, он решил меня проучить, по-новому интерпретировать одну из, статей договора по поводу моего самого крупного займа, доказать, что срок истек, и лишить меня моей земли. Мы с женой год с ним боролись, подали в суд и все такое, и вот только неделю назад банку пришлось сдаться и выплатить мне компенсацию, которая наполовину покрывала все мои займы. Утес закончил, и Пик понял, что он имел в виду, но Шарп нетерпеливо сказал: — Ну и что? Не понимаю, какое это имеет ко мне отношение. — Я думаю, вы понимаете, — спокойно заметил Утес, и от его пристального взгляда заместитель директора поежился. Утес замолчал. Шарп прочел то, что было написано на листочке, откашлялся и поднял взгляд: — Это все, что нам надо. Полагаю, ни вы, ни ваша дочь нам больше не понадобитесь. — Мне безусловно отрадно это слышать, — отозвался Утес. — Мы завтра уезжаем в Канзас, и мне не хотелось бы думать, что вы можете туда за нами последовать. Затем Утес улыбнулся. Пику, не Шарпу. Заместитель директора резко повернулся и направился к выходу. Пик улыбнулся Утесу и последовал за своим боссом.Глава 23
ВО ТЬМЕ ЛЕСА
Ззззз… Ззззз… Ззззз… Сначала звон цикад нравился Рейчел, напоминая ей о прогулках в парках и пикниках в школьные годы и о туристских путешествиях, когда она была студенткой. Однако скоро эти пронзительные звуки начали ее раздражать. Ни лесные заросли, ни густые еловые ветви не приглушали надоедливой трескотни. Казалось, каждая молекула воздуха сотрясается от этих звуков, и постепенно у Рейчел возникло ощущение, что сотрясаются и ее зубы и кости. Правда, возможно, это ощущение частично было реакцией на заявление Бена, что он услышал что-то в ближайших зарослях, что-то отличное от обычного лесного шума. Она про себя прокляла насекомых и от души пожелала, чтобы они хоть на время заткнулись и дали ей расслышать необычные звуки — хруст сломанной ветки, шуршание травы — не от ветра, а от чего-то совсем другого. «Магнум» лежал у нее в сумке, в руке она держала только пистолет тридцать второго калибра. Выяснилось, что одна рука нужна ей, чтобы раздвигать кусты и хвататься за ветки, пробираясь по крутым склонам или по неровным участкам. Рейчел подумала, не вынуть ли «магнум» из сумки, но решила, что звук открывающейся «молнии» может их выдать, если кто-то следит за ними. Кто-то. Уклончивость трусихи. Кто же может здесь следить за ними, кроме Эрика? Они с Беном продвигались прямо на юг по склону горы, домик, расположенный двумястами ярдами выше, время от времени возникал перед их глазами. Они старались передвигаться от дерева к дереву, от камня к камню так, чтобы их нельзя было заметить из огромных окон, напоминавших Рейчел большие квадратные глазницы. Ярдов через тридцать повернули на восток и стали взбираться вверх. Подъем оказался довольно крутым, так что здесь двигаться пришлось значительно медленнее. Бен хотел обогнуть домик и выйти сзади. Они поднялись лишь ярдов на сто, им оставалось подняться еще на столько же и потом пройти ярдов тридцать до дома, — когда Бен что-то услышал, замер, спрятался за стволом огромной ели футов пяти в диаметре, наклонил голову и поднял ружье. Ззззз… Ззззз… Ззззз… В дополнение к хору цикад, которые вовсе не обращали внимания на их присутствие и, следовательно, не прореагируют на присутствие кого-то постороннего, много шума создавал ветер. Легкий ветерок, который поднялся, когда они вышли из магазина спортивных товаров минут сорок пять назад, явно усилился. В глубине леса он ощущался как легкое дыхание. Но верхушки деревьев беспрерывно раскачивались, издавая гулкий, печальный стон, который был прекрасно слышен внизу. Рейчел держалась поближе к Бену и тоже прижалась к стволу ели. Жесткая кора царапала даже через блузку. Ей показалось, что они стояли так, застыв в неподвижности, по меньшей мере четверть часа, хотя она понимала, что вряд ли прошло более минуты. Потом Бен снова начал осторожно подниматься, сделав небольшой крюк, чтобы войти в старое русло реки, где практически не было кустов. Она шла за ним, стараясь не отставать. Сухая трава, хрустящая, как бумага, легко гладила ее по ногам. Им приходилось следить, чтобы не споткнуться о валяющиеся повсюду камни, принесенные весенним половодьем, но здесь они шли быстрее, чем просто через лес. У этого нового, более легкого, пути был один недостаток. По бокам старого русла стеной росли кусты, частично высохшие и бурые, частично ярко-зеленые. И лишь изредка встречались прогалы, сквозь которые Бен и Рейчел могли видеть лежащий за ними лес. Она почти ждала, что из кустов вот-вот выпрыгнет Эрик и набросится на них. Единственную надежду ей внушала куманика, преобладающая в этих зарослях, с ее огромными колючками, которые могли заставить врага выбрать другое место для нападения. Хотя, с другой стороны, разве остановят Эрика, уже вернувшегося из мертвых, такие мелочи, как колючки? Они прошли всего десять или пятнадцать ярдов, когда Бен снова застыл на месте, пригнувшись, чтобы быть менее заметным, и поднял ружье. На этот раз и Рейчел услышала этот звук: стук потревоженных камней. Ззззз… Ззззз… Ззззз… Легкий скрип, как от ботинка по камню. Она посмотрела вправо, потом влево, вниз, вверх, но не обнаружила ничего, что могло бы ассоциироваться с этим звуком. Шорох — не просто ветра, а чего-то живого, целеустремленно двигающегося сквозь заросли. И ничего больше. Десять секунд прошло — ничего. Двадцать. Бен, оглядывающий кусты вокруг себя, уже ничем не напоминал простого торговца недвижимостью с приятной, но обыкновенной внешностью. Сейчас от его лица нельзя было отвести взгляд: сосредоточенность заострила черты; инстинктивное ощущение опасности и решимость выжить чувствовались в его раздувающихся ноздрях и застывшей на губах зловещей ухмылке. Он был натянут как струна, прислушивался к каждому лесному шороху, и Рейчел видела, что в любое мгновение его палец может нажать на курок. Именно для такой работы его и тренировали: охотиться и уходить от преследования. Постоянные утверждения, что он человек, в основном ориентированный на прошлое, были притворством или, скорее, самообманом, потому что Бен явно обладал редкой способностью полностью сконцентрироваться на настоящем, что он в данный момент и делал. Цикады. Ветер в верхушках деревьев. Редкий посвист далекой птицы. И ничего больше. Тридцать секунд. Здесь, в лесу, они вроде бы были охотниками, но неожиданно оказались дичью, и эта смена ролей расстроила и напугала Рейчел. Необходимость сохранять неподвижность действовала на нервы, ей хотелось выругаться вслух, крикнуть, бросить вызов Эрику. Ей хотелось завопить во весь голос. Сорок секунд. Бен и Рейчел снова начали осторожно подниматься вверх. Они обошли охотничий домик и оказались на опушке леса позади него. И все время к ним кто-то подкрадывался, во всяком случае, им так казалось. После того как они сошли с пересохшего русла и углубились в лес в северном направлении, они еще раз шесть останавливались, испуганные подозрительными звуками. Иногда хруст ветки или непонятный скрежет раздавались где-то так близко, что казалось, их враг рядом и его можно разглядеть, но они не видели ничего. Наконец они оказались в сорока футах от дома, в густой лиловой тени последних деревьев; где и спрятались за гранитными осколками, торчащими из земли и чем-то похожими на стершиеся и слегка подпорченные зубы. — В лесу, наверное, много зверья, — прошептал Бен. — Их-то мы и слышали. — Какого зверья? — тоже шепотом спросила она. Бен ответил так тихо, что Рейчел еле расслышала: — Белки, лисы… так высоко… может, и пара волков. Вряд ли это был Эрик. Не может такого быть. У него нет соответствующей подготовки, он не сможет двигаться так тихо и так хорошо прятаться. Будь это Эрик, мы бы давно его заметили. Кроме того, Эрик давно бы на нас набросился, раз, как ты говоришь, он не в своем уме. — Зверье, — повторила она с сомнением. — Зверье. Прислонившись спиной к гранитному зубу, Рейчел посмотрела на лес, из которого они пришли, изучая каждое пятно тени и необычный силуэт. Зверье. Не одинокий, целеустремленный преследователь. А просто разные животные, у которых они оказались на дороге. Зверье. Тогда почему ей все еще кажется, что кто-то из леса следит за ней, хочет на нее напасть? — Зверье, — повторил Бен. Удовлетворенный этим объяснением, он отвернулся от леса, немного выпрямился и взглянул поверх поросшего мхом гранита, изучая тылы горного убежища Эрика: Рейчел вовсе не была убеждена, что опасность может исходить только от дома, поэтому она тоже выпрямилась, прислонилась бедром и плечом к камню и заняла такую позицию, откуда могла одновременно наблюдать и за домом перед ними, и за лесом сзади. За домом, расположенным на широкой полосе земли между холмами, виднелась расчищенная поляна шириной в сорок футов, служащая задним двором. Она была засажена газонной травой, росшей отдельными островками из-за каменистой почвы. Кроме того, Эрик, по-видимому, не позаботился о поливе, так что даже эти островки могли оставаться зелеными очень недолгое время, от таяния снегов до наступления засушливого периода. Трава погибла уже несколько недель назад и сейчас превратилась в сухую коричневую колючую щетину. Однако клумбы, огибавшие широкую деревянную террасу и протянувшиеся вдоль всего дома, очевидно, поливались и сейчас были покрыты массой желтых, оранжевых, ярко-красных, розовых, белых и голубых цветов, качающихся на порывистом ветру: цинии, герань, незабудки, хризантемы… Дом был построен из бруса и оштукатурен. Но никто не назвал бы его дешевым и незатейливым. Работа явно была первоклассной. Эрик, видать, здорово на него потратился. Фундамент из незаметно скрепленных известью камней, огромные окна до пола, два из которых сейчас были приоткрыты, крыша, покрытая черным шифером, защищающим дом от древесного жучка и игривых белочек, которые так любят крыши, покрытые дранкой. На крыше даже установлена спутниковая телевизионная антенна. Задняя дверь была открыта чуть шире, чем окна, и вкупе с яркими цветами на клумбах это должно было бы придавать дому приветливый вид. Однако Рейчел эта открытая дверь напомнила вход в ловушку, намеренно распахнутую, чтобы жертва почувствовала запах приманки. Так или иначе, но войти придется. Они затем сюда и приехали: найти Эрика. Но она вовсе не обязана быть от этого в восторге. Изучив дом, Бен прошептал: — Подкрасться незаметно не получится, негде укрыться. Лучше пройти быстро, бегом, и нырнуть под перила террасы. — Хорошо. — Разумнее было бы тебе подождать здесь, а мне пойти первым, посмотреть, есть ли у него пистолет и не начнет ли он стрелять. Если не услышишь выстрелов, можешь тоже входить. — Остаться здесь одной? — Я же буду недалеко. — Даже десять футов — слишком далеко. — И мы расстанемся не больше чем на минуту. — И это ровно в шестьдесят раз дольше, чем я могу выдержать одна, — проговорила Рейчел, оглядываясь на лес, где каждое темное пятно и непонятное очертание, казалось, значительно приблизились, пока она смотрела в другую сторону. — Не пойдет. Мы идем вместе. — Знал, что ты так скажешь. Порыв теплого ветра прокатился по двору, подняв столбы пыли и раскачав цветы, долетел до опушки леса и теплой волной ударил в лицо Рейчел. Бен подобрался к краю гранитного камня, держа ружье в обеих руках, и выглянул, чтобы убедиться в последний раз, что из окон за ними никто не наблюдает. Цикады перестали стрекотать. Что означает их внезапное молчание? Она не успела обратить внимание Бена на это непонятное явление, потому что он бросился вперед, покинув лесное убежище, и рванул через лужайку, покрытую высохшей коричневой травой. Подгоняемая явственным ощущением, что кто-то страшный вырывается из темного леса позади нее, тянется к ее волосам, хочет схватить ее и утащить в темноту, Рейчел кинулась за Беном мимо камней, мимо деревьев на освещенную солнцем лужайку. И добежала до ступенек практически вместе с ним. Переводя дыхание, она остановилась и оглянулась на лес. Никто не преследовал ее. Просто поверить невозможно. Бен легко взлетел по ступенькам, прижался к стене рядом с открытой дверью и прислушался, стараясь уловить движение внутри дома. По-видимому, ничего не услышав, он пошире открыл дверь и вошел, все еще пригнувшись и сжимая ружье обеими руками. Рейчел последовала за ним в кухню, которая оказалась более просторной и лучше оборудованной, чем она ожидала. На столе стояла тарелка с недоеденным завтраком — бутерброды с колбасой и печенье. На полу валялись банки из-под супа и арахисового масла. Дверь в подвал была открыта, виднелись ступеньки, ведущие вниз, во мрак, Бен осторожно и тихо закрыл ее. Не дожидаясь указаний, Рейчел взяла одной рукой стул, поддела под ручку двери и укрепила его, забаррикадировав таким образом дверь в подвал. Они не пойдут туда, пока не осмотрят все жилые помещения дома, потому что, если Эрик где-то здесь, он может проскользнуть в кухню, как только они спустятся по ступенькам, и запереть их в темном подземелье. С другой стороны, если он прячется в подвале сам, он может прокрасться наверх, пока они его ищут, и напасть на них сзади. Теперь, по крайней мере, ничего подобного не случится. Она увидела, что Бену пришлась по душе ее предусмотрительность. Они составили хорошую команду. Другим стулом она закрыла вторую дверь, ведущую скорее всего в гараж. Если Эрик там, выбраться он сможет, только подняв большую входную дверь, а они обязательно услышат шум и будут знать, где он находится. Они немного постояли в кухне, прислушиваясь, но сумели уловить только гул ветра в затянутом сеткой открытом окне и его вздохи в глубоких стрехах под шиферной крышей. Снова пригнувшись, Бен стремительно проскочил через коридор, отделяющий кухню от гостиной, и, стоя на пороге, огляделся по сторонам. Знаком дал понять Рейчел, что путь свободен, и она присоединилась к нему. Ведущая из ультрамодной гостиной входная дверь тоже была открыта, хотя и не так широко, как дверь черного хода. На полу валялись сотни две разрозненных листков бумаги, два блокнота в черных виниловых переплетах и несколько жестких папок для бумаг. Некоторые были смяты и порваны. У большого окна, рядом с креслом, тоже на полу лежал средней величины нож с острым лезвием и заостренным концом. Несколько солнечных лучей, пробившихся сквозь лесные заросли у дома, светили прямо в окно. Один задержался на стальном лезвии, отражаясь от его блестящей поверхности и играя бликами на острие. Бен с беспокойством воззрился на нож, потом повернулся к двери, ведущей из гостиной внутрь дома, — одной из трех, не считая двери на кухню. Рейчел было собралась уже поднять листки бумаги, чтобы посмотреть, что это, но тут Бен двинулся, и она пошла следом. Две двери были плотно закрыты, но та, которую выбрал Бен, слегка приоткрыта. Он толкнул ее и вошел с уже привычной осторожностью. Прикрывая тылы, Рейчел задержалась в гостиной, откуда могла видеть открытую входную дверь, две закрытые двери, арку, ведущую на кухню, а также часть той комнаты, куда вошел Бен. То была спальня, разгромленная так же, как и спальня и кухня в Вилла-Парке, — явное доказательство, что Эрик побывал здесь и что им владел тот же безумный гнев. В спальне Бен аккуратно откатил в сторону зеркальную дверь стенного шкафа, осторожно заглянул и, судя по всему, не обнаружил ничего интересного. Он прошел через спальню к ванной комнате и исчез из поля видимости Рейчел. Она с испугом посмотрела на входную дверь, лежащую за ней террасу, на арку, ведущую в кухню, и на закрытые двери. Снаружи завывал порывистый ветер, и от этого внутри дома тишина казалась еще более глубокой. Любопытно, но она действовала на Рейчел как крещендо в симфонии: по мере нарастания становилась все напряженнее, с тем чтобы в финале обязательно последовал взрыв. Эрик, черт бы тебя побрал, где ты? Где ты, Эрик? Бен, как ей показалось, отсутствовал подозрительно долго. Она уже было собралась запаниковать и окликнуть его, как он появился, целый и невредимый, покачал головой, давая ей понять, что он не нашел ни Эрика, ни чего-либо интересного. Они выяснили, что остальные две двери ведут тоже в спальни, между которыми находилась еще одна ванная комната, Правда, кроватей в эти спальни Эрик не поставил. Одна из них была превращена в кабинет со множеством полок с толстыми книгами, письменным столом и компьютером. Вторая вообще была пуста, ею явно не пользовались. Бен обследовал обе комнаты и ванную, пока Рейчел стояла на страже у каждой двери по очереди. Когда стало ясно, что Эрика нет в этой части дома, Рейчел наклонилась и подняла с полу несколько листков бумаги, которые оказались ксерокопиями, и бегло просмотрела их. К моменту возвращения Бена она уже знала, что это такое, и сердце ее бешено колотилось. — Это досье по проекту «Уайлдкард», — сказала она сдавленным голосом. — По-видимому, он хранил здесь один экземпляр. Она принялась собирать остальные листки, но Бен остановил ее. — Нам сначала надо найти Эрика, — прошептал он. Согласно кивнув, она с неохотой выпустила бумаги из рук. Бен подошел к выходу, открыл скрипучую дверь, затянутую сеткой, стараясь производить как можно меньше шума, и убедился, что на террасе никого нет. Затем они снова прошли на кухню. Рейчел вынула стул из-под ручки двери подвала, открыла ее и быстро посторонилась. Бен в это время держал вход в погреб под прицелом. Эрик не вырвался с ревом из темноты. У Бена на лбу выступили капли пота. Он подошел, протянул руку, нашарил выключатель на стене лестницы и зажег свет внизу. Рейчел тоже почувствовала, что вспотела. И виной тому был вовсе не теплый летний воздух. Разумеется, ей не стоило спускаться вместе с Беном в погреб. Эрик мог быть где-то снаружи, наблюдать за домом и появиться в самый подходящий для него момент. Например, когда они начнут подниматься оттуда, он может напасть на них сверху, на лестнице, где они окажутся в крайне невыгодном положении. Потому она и осталась на пороге, откуда могла видеть лестницу, ведущую в подвал, всю кухню, включая арку, через которую можно попасть в гостиную, и открытую дверь черного хода. Бен спустился по деревянным ступеням так тихо, как только было возможно, хотя, разумеется, полностью шума избежать не удалось: легкий скрип, шорох. Спустившись, он поколебался, свернул налево и исчез из виду. Еще мгновение на стене внизу двигалась его тень, которая при таком свете казалась огромной и уродливой, но он пошел дальше, и тень уменьшилась и тоже пропала. Она взглянула в сторону арки. Отсюда ей была видна часть гостиной, где было по-прежнему пусто и тихо. Повернувшись в другую сторону, Рейчел заметила большую желтую бабочку, севшую на сетку и вяло помахивающую крыльями. Снизу раздался грохот — скорее всего Бен обо что-то споткнулся. Она заглянула вниз. Ни Бена, ни тени. Арка. Ничего. Черный ход. Только бабочка. Еще шум снизу, на этот раз потише. — Бенни? — тихо позвала она. Он не ответил. Возможно, не слышал. Она же окликнула его почти что шепотом… Арка, кухонная дверь… Лестница: никаких признаков Бена. — Бенни, — повторила она, и вдруг внизу мелькнула тень. На мгновение ее сердце дрогнуло, тень казалась такой странной, но тут появился Бен и стал подниматься по ступенькам, и она облегченно вздохнула. — Внизу ничего, кроме открытого сейфа за котлом, — объяснил он, входя в кухню. — В сейфе пусто, так что, вероятно, он там хранил бумаги, которые раскидал по гостиной. Рейчел захотелось положить пистолет, обнять Бена покрепче и расцеловать, просто потому что он вернулся из подвала живым и чтобы он знал, как она рада его видеть. Но еще оставался гараж, который надо было осмотреть. Она молча сняла стул с ручки двери и открыла ее, а Бен стоял с ружьем наготове. И снова никакого Эрика. Бен остановился на пороге, повозился с выключателем, зажег свет, но все равно в гараже было темновато. Несмотря на окно высоко в стене, освещения было недостаточно. Попробовал другую кнопку, которой поднималась входная дверь. Она свернулась с гулом и шорохом, и яркий солнечный свет залил помещение. — Вот так-то лучше, — заметил Бен, входя в гараж. Она вошла за ним и сразу увидела черный «Мерседес-560», который лишний раз доказывал, что Эрик побывал здесь. Открываясь, дверь подняла пыль, которая сейчас лениво вращалась в наклонных солнечных лучах. Наверху в перекладинах суетились пауки, плетя свой искусственный шелк. Рейчел и Бен осторожно обошли «Мерседес», заглянули в окна (ключи болтались в замке зажигания), даже под машиной посмотрели, но Эрика не обнаружили. Вдоль всей стены гаража протянулся искусно сделанный верстак. Над ним были развешаны инструменты, причем напротив каждого на стене был изображен его контур. Рейчел заметила, что топора нет на положенном месте, но не акцентировала на этом внимание, потому что целиком была занята поисками Эрика. Ведь не ради же инвентаризации она сюда явилась. В гараже человеку негде было спрятаться, так что, когда Бен снова заговорил, он уже не шептал: — Начинаю думать, что он был здесь, но ушел. — Но вот же его «Мерседес». — Этот гараж на две машины, так что, может, он держал тут другую, джип или пикап, что-то более пригодное для поездок по горным дорогам. А возможно, понимал, что ФБР может дознаться, что он с собой учудил, и будет за ним гоняться, разыскивая его машину, вот и сбежал в джипе или что там у него было. Рейчел не могла отвести взгляда от черного «Мерседеса», застывшего, как огромный спящий зверь. Она посмотрела на паутину под потолком. На грунтовую дорогу, ведущую от гаража, освещенную солнцем. Покой этого горного убежища теперь казался менее зловещим, чем по приезде. Ни в коем случае не мирным и безмятежным, и уж совсем не приветливым, но все же менее угрожающим. — Куда он мог поехать? — спросила она. Бен пожал плечами. — Откуда мне знать. Но если я пороюсь как следует в доме, что-нибудь может указать мне нужное направление. — А у нас есть время на поиски? Когда мы оставляли Сару Киль в больнице прошлой ночью, мы еще не знали, что в игру включилось ФБР. Я просила ее не рассказывать о том, что случилось, и не говорить никому об охотничьем домике. Я ведь думала, это партнеры Эрика начнут разнюхивать, будут пытаться что-нибудь из нее выудить, а, с ними-то, надеялась, она справится. Но она не сможет врать правительственному агенту. А если ее убедят, что мы предатели, она, конечно, решит, что поступает правильно, рассказав об этом домике. Поэтому рано или поздно они будут здесь. — Согласен. — Бен задумчиво разглядывал «Мерседес». — Значит, у нас нет времени решать, куда мог поехать Эрик. Кроме того, там в гостиной на полу экземпляр досье по проекту «Уайлдкард». Нам только и требуется его собрать и убираться отсюда подобру-поздорову, у нас уже будет необходимое доказательство. Он покачал головой. — Конечно, иметь досье важно, даже очень, но не думаю, чтобы этого было достаточно. Она начала нетерпеливо ходить взад-вперед, стараясь держать пистолет дулом к потолку, чтобы пуля от случайного выстрела не срикошетила от бетонного пола. — Послушай, в этом досье все, черным по белому. Нам нужно только передать его прессе… — Во-первых, — перебил Бен, — там в основном сугубо научные вещи — результаты лабораторных испытаний, формулы и все такое. Ни один репортер в этом не разберется. Им придется обратиться к специалистам-генетикам за разъяснениями. — Ну и? — Ну и генетик может оказаться профаном или просто консерватором в своем деле, так что в любом варианте он может этому не поверить и сказать репортерам, что это все шутка, мистификация. — С этим мы справимся. Мы разыщем генетика… Бен снова перебил ее: — Может быть и хуже. Допустим, репортер передаст бумаги генетику, который сам занят исследованиями в этой области для правительства, для Пентагона. Ведь логично предположить, что федеральные агенты связывались со многими учеными, занятыми исследованием рекомбинантных ДНК, и предупредили их, что к ним могут обратиться за консультацией репортеры с крадеными бумагами, крайне секретными по характеру. — ФБР не может знать, что я так поступлю. — Но если у них есть на тебя досье, а у них оно есть, они достаточно хорошо тебя знают, чтобы предположить такую возможность. — Ну ладно, ты прав, — без энтузиазма согласилась она. — И тогда поддерживаемый Пентагоном ученый будет просто счастлив ублажить правительство и обеспечить себе жирный кусок, так что он побежит туда сразу, как заполучит бумаги. Конечно, есть доля вероятности, что человек науки не захочет рисковать своими привилегиями или впутываться в дело, связанное с государственными секретами. И в этом случае он про-, сто велит репортеру забирать проклятые бумаги и убираться ко всем чертям и после этого будет держать язык за зубами. Но это в самом лучшем случае. А всего вероятнее, он выдаст репортера ФБР, а репортер выдаст ФБР нас. Бумаги уничтожат, и, готов поспорить, с нами произойдет то же самое. Рейчел не хотелось верить его словам, но она знала, что он недалек от истины. В лесу снова заверещали цикады. — Так что мы теперь будем делать? — спросила она. Видимо, Бен уже размышлял об этом, пока они безрезультатно обыскивали комнату за комнатой, потому что ответ у него был готов: — Если у нас будут и Эрик, и бумаги, мы сможем чувствовать себя увереннее. У нас будет не только куча зашифрованных бумаг, которые сможет понять горстка посвященных, у нас будет и ходячий мертвец с пробитым черепом, и, клянусь Богом, это достаточно впечатляюще, чтобы гарантировать нам доступ к любым средствам массовой информации. Все газеты и телестанции будут без конца рассказывать эту историю, не получив никакого экспертного заключения по бумагам. И тогда ни у правительства, ни у кого другого не будет причин хотеть, чтобы мы умолкли навсегда. Как только Эрика покажут по телевизору, его портрет появится на обложках «Тайм», «Ньюсуик», «Нэшнл инкуайрер». Им хватит материала на декаду, а ведущие на телевидении каждый вечер будут отпускать шуточки насчет зомби, так что, убив нас, они ничего не выиграют. Он перевел дыхание, и у Рейчел создалось впечатление, что сейчас он выступит с таким предложением, которое ей совершенно не понравится. И он подтвердил ее опасения: — Значит, так. Как я уже сказал, мне тут надо все обыскать, вдруг удастся докопаться, куда он уехал. Но власти, того и гляди, сюда нагрянут. А мы не можем рисковать экземпляром досье по проекту, так что тебе придется уехать с бумагами, а я… — Ты хочешь сказать, разделиться? — спросила она. — Ну нет. — Иначе ничего не получится, Рейчел. Мы… — Нет. От одной мысли оставить его ее бросило в дрожь. Она и подумать не могла о возможности остаться одной и внезапно осознала с необыкновенной четкостью, сколь крепкими стали связывающие их узы за последние сутки. Она любит его. Господи, до чего же она его любит. Он смотрел на нее своими ласковыми, успокаивающими карими глазами. Голос его не был покровительственным или командирским, но в нем чувствовалась сила убеждения. С человеком, который так говорит, спорить не станешь. Возможно, он научился так разговаривать во Вьетнаме в трудные моменты с теми, кто ниже по званию. Он пояснил: — Ты заберешь отсюда бумаги, сделаешь еще копии, пошлешь их друзьям в разные концы страны, а оставшиеся спрячешь так, чтобы можно было быстро до них добраться. Тогда нам не придется беспокоиться, что мы потеряем этот единственный экземпляр или что его у нас отнимут. У нас будет хорошая гарантия. Тем временем я тщательно здесь пороюсь, посмотрю, что попадется. Если найду что-то, указывающее, как отыскать Эрика, я встречусь с тобой в заранее назначенном месте, и мы отправимся в погоню. Если ничего не найду, мы встретимся и спрячемся вместе и будем решать, что делать дальше. Ей не хотелось расставаться, оставлять его здесь одного. Может, Эрик где-нибудь рядом. Или вдруг нагрянут агенты ФБР. В любом случае Бена убьют. Но его аргументы были убедительными. Черт бы все побрал, он был прав. И тем не менее она попыталась возразить: — Если я поеду одна и заберу машину, как же доберешься ты? Он взглянул на часы, но не для того, чтобы узнать время (как она подумала), а чтобы дать ей понять, что следует торопиться. — Ты оставишь мне «Форд», — велел он. — Его скоро тоже придется бросить, потому что полицейские возьмут его на заметку. А ты поедешь в этом «Мерседесе». — Они и «Мерседес» объявят в розыск. — Конечно. Но они узнают, что разыскивается черный «Мерседес-560» с этими номерными знаками, управляемый похожим на Эрика мужчиной. А тут ты сядешь за руль, не Эрик, а номерные знаки мы снимем с одной из машин, припаркованных у дороги там, внизу. Так что этого будет достаточно. — Я вовсе не уверена. — А я уверен. Поеживаясь, будто на дворе стоял ноябрь, а не июнь, Рейчел спросила: — А где мы потом встретимся? — В Лас-Вегасе. Его ответ удивил ее. — Почему именно там? — В Южной Калифорнии для нас слишком опасно. Не уверен, что нам здесь удастся спрятаться. Но если мы поедем в Вегас, у меня там есть местечко. — Какое местечко? — У меня там мотель на бульваре Тропикана, к западу от побережья. — Ты крутишь дела в Вегасе? Старомодныйконсерватор Бекки Шэдвей — делец в Вегасе? — Моя компания по торговле недвижимостью время от времени приобретала там собственность, но дельцом меня вряд ли можно назвать. По меркам Лас-Вегаса все это мелочевка. В данном случае речь идет о старом мотеле всего на двадцать восемь комнат, с бассейном. И ремонт там требуется основательный. Он вообще сейчас закрыт. Я подписал купчую две недели назад, и в следующем месяце мы хотим его снести и построить новый — на шестьдесят домиков, с рестораном. Там еще не отключили электричество. Квартира менеджера довольно убогая, но ванная комната в порядке, есть мебель, телефон. Мы могли бы там спрятаться, переждать, придумать, что делать дальше. Или просто подождать, когда Эрик окажется у всех на виду и ФБР не сумеет больше все скрывать. Так или иначе, если нам не удастся узнать, где он, нам остается только прятаться, больше ничего. — Значит, я должна ехать в Вегас? — Так будет лучше всего. В зависимости от того, насколько сильно ФБР жаждет нас изловить, — а если учесть, что поставлено на карту, то я полагаю, они ни перед чем не остановятся. Они скорее всего разослали уже своих людей по главным аэропортам. Ты можешь ехать по шоссе вдоль озера Сильвервуд, затем свернуть на шоссе 15 и добраться до Вегаса к вечеру. Я последую за тобой через пару часов. — Но если появится полиция… — Если мне не надо будет беспокоиться о тебе, я легко ускользну от них. — Думаешь, они такие профаны? — обиженно спросила она. — Нет. Я просто знаю свои возможности. — Потому что тебя к этому готовили. Но то ведь было больше пятнадцати лет назад. Он криво улыбнулся: — А кажется, будто вчера. И он держал форму — что верно, то верно. С этим она не могла не согласиться. Как это он сказал о Вьетнаме — что-то вроде того, что там учишься быть всегда готовым к чему угодно — например, к тому, что мир всего за одни сутки может стать темным и враждебным, причем как раз тогда, когда ты меньше всего этого ждешь… — Рейчел? — окликнул он, снова глядя на часы. Она поняла, что, если хочет выжить, если хочет быть с ним вместе в будущем, ей надо его слушаться. — Ладно, — согласилась Рейчел. — Ладно. Мы разделимся. Но мне страшно, Бенни. Наверное, я не такая уж крутая, как казалось. Прости, но я ужасно боюсь. Он подошел и поцеловал ее. — Бояться вовсе не стыдно. Страха нет только у сумасшедших.Глава 24
СТРАХ ПЕРЕД АДОМ
Доктор Истон Золберг опоздал на встречу с Джулио Вердадом и Ризом Хагерстормом, назначенную на час дня, почти на двадцать минут. Они ждали его у закрытых дверей офиса, и наконец он появился и торопливо направился к ним через широкий холл с руками, полными книг и пакетов. Он был больше похож на двадцатилетнего студента, опаздывающего на лекцию, чем на шестидесятилетнего профессора, не успевшего вовремя прибыть на деловую встречу. На нем был мятый коричневый костюм на размер больше, чем нужно, синяя рубашка и галстук в зеленую и оранжевую полоску, который, по мнению Джулио, можно было приобрести только в тех магазинчиках, что торговали всякими смешными штуками для розыгрышей и карнавалов. Золберга, как ни старайся, нельзя было назвать привлекательным или даже просто таким, как все. Он был мал ростом и толст. На круглом, как луна, лице — маленький приплюснутый нос, который у других мужчин мог сойти за курносый, а у него напоминал свиной пятачок, маленькие, близко посаженные серые глазки, кажущиеся водянистыми и близорукими за стеклами очков, зато рот неожиданно большой, особенно по сравнению с остальными чертами, и к тому же скошенный подбородок. Без конца извиняясь, профессор непременно захотел пожать руки обоим детективам, несмотря на груз в собственных руках; в результате он то и дело ронял то одну, то другую книгу, а Джулио и Риз наклонялись, чтобы их подобрать. В офисе Золберга царил полный хаос. Книги и научные журналы лежали на всех полках, на полу, стопками в углах комнаты и на всей мебели. На большом письменном столе в явном беспорядке громоздились папки, карточки, блокноты и еще невесть что. Профессор убрал горы бумаг с двух стульев, чтобы дать Джулио и Ризу возможность сесть. — Только посмотрите, какой чудесный вид, — сказал Золберг, неожиданно останавливаясь у окна, как будто впервые заметив, что находится за стенами его офиса. Кампусу Ирвин Калифорнийского университета крупно повезло: там было много деревьев, просторных зеленых лужаек и цветочных клумб. Этот большой участок принадлежал округу Ориндж. Из окон офиса доктора Золберга на втором этаже была видна дорожка, вьющаяся через зеленую поляну с тщательно подстриженной травой и множеством ярких цветов — коралловых, красных, розовых, алых — и исчезающая под ветвями джакаранды и эвкалиптов. — Господа, нам с вами повезло больше, чем кому-нибудь: вот мы здесь, на этой прекрасной земле, под этим замечательным небом, в стране благосостояния и терпимости. — Профессор подошел поближе к окну и распахнул руки, как будто собирался обнять всю Южную Калифорнию. — И посмотрите на деревья, на эти деревья. Здесь у нас есть великолепные экземпляры. Я люблю деревья, просто обожаю. Это мое хобби — деревья, изучение деревьев, выведение необычных видов. Это дает прекрасную возможность расслабиться после занятий биологией и генетикой. Деревья такие величественные, такие благородные. Они все время что-нибудь нам дают — фрукты, орехи, красоту, тень, древесину, кислород — и ничего не просят взамен. Если бы я верил в перевоплощение, в своей будущей жизни я хотел бы быть деревом. — Он взглянул на Джулио и Риза. — А вы? Разве вы не думаете, как здорово было бы вернуться сюда деревом, прожить длинную, прекрасную жизнь дубом или гигантской сосной, отдавать себя, как отдают апельсиновые деревья и яблони, отрастить мощные ветви, по которым будут карабкаться дети? — Золберг моргнул, удивленный собственным монологом. — Но, разумеется, вы здесь не за тем, чтобы говорить о деревьях и реинкарнации, не так ли? Вы меня простите, но… понимаете, этот вид из окна захватил меня на какую-то минуту. Несмотря на поросячью физиономию, явную неряшливость и определенную склонность к опозданиям, в пользу доктора Золберга говорили по меньшей мере три вещи: острый ум, жизненная энергия и оптимизм. В мире нытиков, где половина интеллигентов грустно ждет Армагеддона, доктор Золберг являлся приятным исключением, во всяком случае, с точки зрения Джулио. Он практически сразу проникся к профессору симпатией. Когда Золберг уселся в большое кожаное кресло за письменным столом, заваленным бумагами, и наполовину скрылся за этой бумажной горой, Джулио приступил к делу: — По телефону вы сказали, что у Эрика Либена была темная сторона, которую вы могли бы обсудить при встрече… — И строго конфиденциально, — перебил Золберг. — Если эта информация важна для дела, то, безусловно, она должна попасть в досье, но если нет, я надеюсь, вы сохраните ее при себе. — Могу вам это обещать, — заверил Джулио. — Но я уже говорил, расследование чрезвычайно важное, речь идет по меньшей мере о двух убийствах, а также возможной утечке информации государственной важности. — Вы хотите сказать, что смерть Эрика не была случайной? — Нет, — ответил Джулио. — Тут, бесспорно, был несчастный случай. Но погибли еще люди… У меня нет права разглашать подробности. И пока дело не закончено, могут погибнуть и другие. Так что детектив Хагерсторм и я рассчитываем на ваше содействие. — Ну разумеется, разумеется. — Истон Золберг помахал пухлой рукой, чтобы развеять все сомнения в его желании сотрудничать с полицией. — Хотя я и не уверен, связаны ли эмоциональные проблемы Эрика с этим делом, но предполагаю и боюсь, что связаны. Как я уже сказал… У него была темная сторона. Однако, прежде чем поведать им о темной стороне доктора Либена, Золберг потратил четверть часа на восхваление умершего ученого. По всей видимости, он не мог говорить о человеке плохо, сначала не похвалив его. Эрик был гением. Великим тружеником. Щедрым по отношению к своим коллегам. Обладал хорошим чувством юмора, разбирался в искусстве, отличался замечательным вкусом и любил собак. Джулио уже начал подумывать, а не организовать ли комитет по сбору средств на памятник Либену, чтобы затем водрузить его в специальной нише главного общественного здания. Он бросил взгляд на Риза и увидел, что того явно забавляет болтливость Золберга. Наконец профессор сказал: — Но он был озабоченным человеком. Глубоко, глубоко озабоченным. Он какое-то время был моим студентом, хотя я быстро понял, что ученик вскоре превзойдет учителя. Когда мы стали коллегами, наши дружеские отношения сохранились. Друзьями мы не были, просто хорошие отношения. Эрик не допускал к себе настолько близко, чтобы отношения могли перейти в дружбу. Поэтому прошли годы, прежде чем я узнал о его… одержимости молоденькими девушками. — Насколько молоденькими? — спросил Риз. Золберг заколебался. — У меня такое чувство… будто я его предаю. — Вполне вероятно, что многое мы уже знаем, — успокоил его Джулио. — Своим рассказом вы просто подтверждаете это. — Правда? Ну, тогда другое дело… Я знаю, что одной из девушек было четырнадцать. Эрику тогда был тридцать один год. — Это было еще до Генеплана? — Да. Тогда Либен был еще в университете. Но всем уже было ясно, что он не сегодня-завтра покинет его и быстро завоюет свое место в мире… — Уважаемый профессор не станет хвастаться налево и направо, что он спит с четырнадцатилетними девочками, — заметил Джулио. — Откуда же вы узнали? — Это произошло в уик-энд. Его адвокат уехал из города, а ему нужно было, чтобы кто-то внес за него залог. Он не мог никому довериться, боялся, что все узнают о грязных подробностях его ареста. И хотя мне тоже все это не понравилось и Эрик понимал, что я его осуждаю, но он знал: я никогда не смогу разгласить то, что мне доверено. К моему стыду, он, вероятно, был прав. Истон Золберг постепенно все глубже утопал в кресле, как будто пытался спрятать за горами бумаг свою неловкость, вызванную теми непривлекательными подробностями, о которых ему приходилось рассказывать. В ту субботу, одиннадцать лет назад, после звонка Либена он поехал в полицейский участок в Голливуде. Человек, находившийся там, разительно отличался от того Эрика Либена, которого знал доктор Золберг: нервный, неуверенный в себе, потерянный, сгорающий со стыда… Накануне ночью Эрика арестовала бригада по борьбе с преступлениями против нравственности. Это случилось в дешевом мотеле, куда голливудские проститутки, многие из которых были несовершеннолетними наркоманками, водили своих хахалей. Его поймали с четырнадцатилетней девицей и обвинили в изнасиловании, что неизбежно, даже если девица признается, что взяла с клиента деньги за секс. Сначала Либен утверждал, что девушка выглядела значительно старше своего возраста и он не мог знать, что она несовершеннолетняя. Однако позднее, возможно тронутый добротой и заботой Золберга, Либен расчувствовался и рассказал ему о своем влечении к совсем юным девушкам. Золбергу вовсе не хотелось ничего этого знать, но он не мог отказать Эрику в сочувствии и выслушал его. Он понимал, что этому обычно отстраненному и занятому только собой одиночке, который вряд ли когда-нибудь изливал другому душу, именно сейчас, в тяжелый момент его жизни, отчаянно хочется поведать о сугубо интимных переживаниях постороннему. Так что Истон Золберг его выслушал, испытывая при этом смешанное чувство жалости и презрения. — В его случае это была не просто похоть, желание быть с молоденькими девушками, — говорил он теперь Джулио и Ризу, — а самая настоящая одержимость, ужасная, постоянная потребность. Уже тогда, хотя ему был всего тридцать один год, Либен страшно боялся постареть и умереть. Он уже начал заниматься исследованиями в области продолжительности жизни. Но к вопросу старения подходил не только с научной точки зрения. Пытался решить эту проблему и в своей частной жизни, но излишне эмоционально и неразумно. Во-первых, ему казалось, что он каким-то образом поглощает жизненную энергию молодости тех юных девушек, с которыми спит. Прекрасно зная, что это нелепость, Эрик все равно не мог не преследовать таких девушек. Он не стал растлителем малолетних в прямом смысле, не брал детей силой. Имел дело обычно с теми, кто сам соглашался. Как правило, это были подростки, сбежавшие из дома и вынужденные заниматься проституцией. — И иногда, — добавил Истон Золберг уныло, — он любил… их слегка поколачивать. Не то чтобы бить, а так, немного приструнить. Когда он мне об этом рассказывал, у меня создалось впечатление, что он впервые пытается объяснить это самому себе. Девушки были молоды и потому полны особого юного высокомерия, того самого, которое возникает из уверенности, что они будут жить вечно, и Эрику казалось, если, он сделает им больно, он лишит их этого высокомерия, научит их бояться смерти. Как он сам выразился, он «воровал их невинность, энергию их юной невинности» и каким-то образом чувствовал, что сам молодеет, что эта украденная невинность и молодость переходят к нему. — Энергетический вампир, — заметил Джулио с содроганием. — Да! — согласился Золберг. — Именно. Энергетический вампир, который может остаться вечно молодым, питаясь юностью этих девушек. И в то же время Эрик знал, что все это — чистая фантазия, что девушки не помогут ему оставаться молодым, но даже такое знание не могло заставить его от этой фантазии отказаться. Он понимал, что болен, даже шутил по этому поводу, называл себя дегенератом, но у него не было сил избавиться от своей одержимости. — Что случилось с обвинением в изнасиловании? — спросил Риз. — Я не слышал, чтобы его судили или признали виновным. В полиции на него ничего нет. — Девицу передали органам по делам несовершеннолетних, — объяснил Золберг, — и поместили в какое-то не слишком строгое заведение. Она оттуда сбежала, уехала из города. У нее не оказалось никаких документов, и она назвалась чужим именем, так что найти ее не смогли. Без девушки у них ничего не было против Эрика, так что обвинение пришлось снять. — Вы не посоветовали ему обратиться к психиатру? — спросил Джулио. — Да, но он не захотел. Что ни говорите, он был человеком очень высокого интеллекта и сам все проанализировал. Он понимал, точнее, верил, что понимает, в чем причина его психического состояния. Джулио наклонился вперед. — Ив чем же, по его мнению? Золберг откашлялся, открыл было рот, потом покачал головой, как бы говоря, что ему нужно время, чтобы решиться продолжать. Он явно чувствовал себя неловко, понимая, что предает доверившегося ему Эрика, хоть Эрик и был уже мертв. Бумажных завалов доктору показалось теперь недостаточно, чтобы спрятаться, поэтому он встал и отошел к окну, поскольку здесь имел возможность повернуться к Джулио и Ризу спиной, скрыв от них свое лицо. Огорчение Золберга из-за того, что ему приходится предавать уже умершего человека, с которым он был просто знаком, могло бы показаться чрезмерным, однако Джулио проникся к профессору еще большей симпатией. В век, когда почти никто не верил в моральные аксиомы и друзей предавали без малейших угрызений совести, старомодная щепетильность Золберга выглядела особенно трогательной. — Эрик рассказал мне, что, когда он был ребенком, его дядя совершал с ним развратные действия, — продолжал Золберг, адресуясь к оконному стеклу: — Хэмпстед, так его звали. Надругательство началось, когда Эрику было четыре года, и продолжалось пять лет. Дядя наводил на него ужас, но он стыдился пожаловаться. Стыдился, потому что его семья была религиозной. Это очень важно, вы сами увидите. Они были фанатически религиозны. Назарейцы. Очень строгая секта. Никакой музыки. Никаких танцев. Холодная, ограниченная вера, делающая жизнь серой. Разумеется, из-за того, что делал с ним дядя, Эрик считал себя грешником, хоть тот и делал это силой. Так что он боялся сказать родителям. — Типичный случай, — кивнул Джулио. — Даже и не для религиозных семей. Ребенок винит себя в преступлении взрослого. — Его страх перед Барри Хэмпстедом рос, можно сказать, с каждым днем. И наконец, когда ему было девять лет, Эрик пырнул дядю ножом и убил. — В девять лет? — изумился Риз. — Боже милостивый! — Хэмпстед спал на диване, — продолжал Золберг, — и Эрик убил его ножом для разделывания мяса. Джулио подумал, какое же действие на девятилетнего мальчика должна была произвести еще и эта травма — в дополнение к многолетнему физическому истязанию. Он мысленно представил себе зажатый в маленькой руке огромный нож, как он опускается и поднимается, опускается и поднимается, разбрызгивая капли крови с лезвия, как мальчик не может отвести полные ужаса глаза от кошмарной раны, насмерть перепуганный тем, что он сделал, но вынужденный идти до конца. Джулио вздрогнул. — Хотя все тогда узнали, что происходило, для родителей Эрика с их перекрученными мозгами он все равно был прелюбодеем и убийцей, и они начали лихорадочную кампанию, крайне вредную с психологической точки зрения, по спасению его души от адских мук, заставляя его молиться денно и нощно, наказывая, принуждая читать и перечитывать вслух отрывки из Библии, пока у него не пересыхало горло и он мог говорить только шепотом. Даже когда ему удалось вырваться из этого ненавистного дома и окончить колледж — без всякой поддержки, берясь за любую работу и добиваясь стипендий, — когда на его счету уже была целая куча научных достижений, Эрик продолжал отчасти верить в ад и в то, что уж ему-то его не избежать. Может, и не только отчасти. Неожиданно Джулио сообразил, что он сейчас услышит, и холод, какого раньше ему не приходилось испытывать, пробежал по его спине. Он взглянул на напарника и увидел на лице у него выражение ужаса, под стать собственным ощущениям. Все еще разглядывая солнечный пейзаж за окном, который, однако, казался теперь почему-то темнее, Истон Золберг сказал: — Вы уже знаете, что Эрик посвятил всего себя изучению проблем продления жизни и возможности достижения бессмертия путем генной инженерии. Но теперь вы, возможно, поймете, почему он хотел добиться этой цели, которую многие сочтут недостижимой и иррациональной. Несмотря на образование, на способность рассуждать разумно, Эрик не мог побороть свою боязнь: в глубине души он был уверен, что, когда умрет, попадет в ад, и не только потому, что грешил со своим дядей, но и потому, что убил его, и, следовательно, он прелюбодей и убийца. Эрик сказал мне, что боится встретить в аду дядю Барри, потому что тогда вечность для него будет полным подчинением похоти Барри Хэмпстеда. — Бог ты мой, — голос Джулио дрогнул, и он мысленно перекрестился, чего не делал вне церкви с детских лет. Отвернувшись от окна, стоя теперь лицом к детективам, профессор проговорил: — Для Эрика Либена бессмертие на земле было целью, которую он себе поставил не только из любви к жизни, но и из особого страха перед адом. Думаю, теперь вы понимаете, что он был обречен стать одержимым. — Неизбежно, — согласился Джулио. — Одержимый молоденькими девушками, одержимый идеей продлить жизнь, одержимый стремлением надуть дьявола… С каждым годом эта одержимость росла. Мы с ним после того вечера, когда он передо мной исповедался, стали реже встречаться; возможно, он жалел, что доверил мне свои тайны. Сомневаюсь, чтобы он рассказывал о своем дяде и детстве даже жене, когда через несколько лет женился. Скорее всего я был единственным. Но, несмотря на все растущую дистанцию между нами, я встречался с беднягой Эриком достаточно часто, чтобы знать, что с возрастом его страх перед смертью и проклятием усилился. Больше того, достигнув сорока, он впал в натуральную панику. Мне жаль, что он вчера погиб. Он был блестящим ученым, в его власти было так много дать человечеству. С другой стороны, он был несчастным человеком. И, возможно, смерть его явилась в какой-то мере благодеянием, потому что… — Да? — спросил Джулио. Золберг вздохнул и провел рукой по круглому лицу, на котором явно проглядывала усталость. — По правде говоря, я иногда беспокоился, как может поступить Эрик, если ему удастся добиться успехов в исследованиях. Ведь покажись ему, что он сумеет основательно продлить свою жизнь, внеся изменения в генную структуру, и он способен был сделать глупость и проэкспериментировать на самом себе, даже когда результаты еще не проверены. Он понимал бы, на какой риск идет, но в сравнении с его неистребимым страхом смерти и жизни после смерти этот риск наверняка показался бы ему несущественным. И только Бог знает, что могло случиться с ним, если бы он использовал себя в качестве морской свинки. «Что бы ты сказал, — подумал Джулио, — если бы знал, что прошлой ночью тело Эрика исчезло из морга?»Глава 25
В ОДИНОЧЕСТВЕ
Они не стали приводить ксерокопию проекта «Уайлд-кард» в порядок, просто собрали все бумаги с пола гостиной и сложили их в полиэтиленовый пакет для мусора, который Бен нашел в одном из ящиков на кухне. Он закрутил края пакета, перетянул его покрытой пластиком проволокой и положил на пол «Мерседеса», рядом с сиденьем водителя. Они проехали по грунтовой дороге до калитки, где был припаркован «Форд». Как они и надеялись, на связке ключей в зажигании нашелся ключ от калитки. Нервничая, Рейчел ждала в «Мерседесе». Она с тревогой оглядывала лес, крепко сжимая в руке свой пистолет. Бен пошел дальше по дороге пешком и скоро исчез из виду там, где на площадке у поворота стояли три машины. Они проезжали мимо них раньше, по дороге в горы. Бен унес с собой два номерных знака от «Мерседеса», а также отвертку и плоскогубцы. Вернулся он с номерными знаками от «Доджа», которые и прикрепил к «Мерседесу». Сев с Рейчел в машину, он сказал: — Приедешь в Вегас, пойди в телефонную будку и найди номер человека по имени Уитни Гэвис. — Кто это? — Старый друг. Он на меня работает. Присматривает за тем старым мотелем, о котором я тебе рассказывал, — гостиницей «Золотой песок». Это он ее нашел и предложил мне. У него есть ключи. Он тебя впустит. Скажи ему, что остановишься в квартире менеджера, а я присоединюсь к тебе вечером. Можешь рассказывать ему все, что захочешь. Он умеет держать язык за зубами, а если мы его в это дело втягиваем, он должен знать, насколько все серьезно. — А если он слышал про нас по радио или по телевидению? — Для Уитни это значения не имеет. Он не поверит, что мы убийцы или агенты русских. У него хорошая голова на плечах, он прекрасно разбирается, когда ему вешают лапшу на уши, и отличается редкостной преданностью. Ты можешь ему доверять. — Как скажешь. — За офисом мотеля есть гараж на две машины. Не забудь спрятать там «Мерседес» сразу же, как приедешь. — Не нравится мне все это. — Я и сам не в восторге, — согласился Бен. — Но так будет правильно. Мы же уже все обсудили. — Он наклонился, повернул ее лицо к себе и поцеловал. С трудом заставив себя оторваться от него, она спросила: — Ты обыщешь дом и сразу уедешь, так? Даже если не узнаешь, куда поехал Эрик, правда? — Да. Я не хочу, чтобы агенты ФБР меня здесь накрыли. — А если ты догадаешься, куда он скрылся, ты не станешь преследовать его в одиночку? — Разве я тебе не пообещал? — Сделай это еще раз. — Я сначала приеду за тобой, — заверил Бен. — Я не поеду за Эриком один. Мы займемся этим вместе. Она заглянула ему в глаза и не нашла там ответа на свой вопрос: говорит он правду или лжет? Но если он ее и обманывал, она ничего не могла поделать, слишком мало оставалось времени. Откладывать больше было нельзя. — Я люблю тебя, — сказал он. — Я тоже люблю тебя, Бенни. И если ты позволишь себя убить, я тебя никогда не прощу. Он улыбнулся: — Ты редкая женщина, Рейчел. Ты способна заставить биться сердце даже у камня, и только из-за тебя мне необходимо вернуться живым. Так что не волнуйся. Значит, я вылезаю, а ты закрываешь дверь, так? Он снова поцеловал ее, на этот раз легко и нежно. Вылез из машины, захлопнул дверцу, подождал, пока она нажала на кнопки, закрывающие дверь, и помахал ей рукой. Она двинулась по гравию, постоянно посматривая в зеркало заднего обзора, чтобы видеть Бена как можно дольше. Потом дорога свернула, и он исчез за деревьями.Бен проехал на «Форде» по фунтовой дороге и оставил его перед домом. На небе появилось несколько крупных белых облаков, и тени от них падали на бревенчатое строение. Держа в одной руке ружье, а в другой «магнум» (Рейчел взяла пистолет тридцать второго калибра с собой), он поднялся по ступенькам террасы. Хотелось бы знать, наблюдает за ним Эрик или нет. Бен уверил Рейчел, что Эрик уехал, спрятался в другом месте. Может, и так. Многое говорило в пользу такого предположения. Но осталась какая-то, пусть небольшая, вероятность, что мертвец все еще здесь, возможно, подсматривает за ним из леса. Ззззз… Ззззз… Он сунул револьвер за пояс сзади и осторожно вошел в дом через главную дверь, держа ружье наготове. Снова прошел по комнатам, разыскивая что-нибудь, что указывало бы на другие убежища Эрика, подобные этому охотничьему домику. В принципе он не соврал Рейчел. Действительно, необходимо было все здесь обыскать, но на это не требовалось часа, как он утверждал. Если не найдет ничего полезного за пятнадцать минут, он покинет дом и пошарит по периметру вокруг, нет ли там каких-нибудь признаков, что Эрик ушел в лес — смятых кустов, следов на земле. Обнаружив такие следы, придется искать Эрика в лесу. Рейчел он об этом не сказал, потому что тогда она ни за что не поехала бы в Вегас. Но Бен не мог преследовать беглеца в лесу вместе с Рейчел. Он это понял, когда они шли сюда. Она не так уверенно чувствовала себя в лесу, как он, не была достаточно проворной. Пойди она с ним, он все время беспокоился бы о ней, что его отвлекало бы, а это давало Эрику преимущество, если, конечно, мертвец бродил где-то там. Бен сказал Рейчел, что звуки, которые они слышали, производили звери. Возможно. Но когда он увидел, что дом пуст, ему снова вспомнились эти звуки. Пожалуй, подумал Бен, он слишком поспешно решил, что это не Эрик крался за ними в тени, через кусты и деревья. Всю дорогу до основного шоссе Рейчел была почти уверена, что в любой момент из придорожного леса может выскочить Эрик и рвануть дверь машины. Со сверхчеловеческой силой, питаемой дикой яростью, он, возможно, сумеет даже разбить кулаком стекло. Но Эрик так и не появился. Когда она наконец выехала на шоссе у озера, она уже меньше беспокоилась об Эрике, ожидая теперь появления полицейских или федеральных агентов. Каждый встречный автомобиль казался ей патрульной машиной. У нее было впечатление, что до Вегаса не меньше тысячи миль. И еще ей казалось, что она бросила Бена на произвол судьбы.
Когда Пик и Шарп прибыли в аэропорт в Палм-Спрингс сразу после встречи с Утесом, выяснилось, что в вертолете «Белл Джет Рейнджер» что-то сломалось. Заместитель директора, полный с трудом сдерживаемой ярости, которую ему не удалось излить на Утеса, чуть не откусил летчику голову, как будто бедолага не просто управлял машиной, а отвечал за ее конструкцию, надежность и ремонт. Пик подмигнул летчику из-за спины Шарпа. Нанять другой вертолет не было возможности, а два вертолета шерифа находились в разгоне. Шарп неохотно согласился, что у них нет другого выбора, как ехать к озеру Эрроухед на машине. Подъехал темно-зеленый седан с красной мигалкой, которая обычно хранится в багажнике, но которую можно привинтить к крыше отверткой меньше чем за минуту. И сирена там тоже имелась. Они воспользовались и сверкающей мигалкой, и завывающей сиреной, чтобы расчистить себе дорогу по шоссе 111, ведущему на север, затем практически вылетели на шоссе 1–10. Средняя скорость на всем протяжении пути не падала ниже девяноста миль в час, мотор ревел, машина тряслась, как в судорогах. Сидевший за рулем Джерри Пик ужасно боялся, как бы не лопнула шина, потому что на такой скорости это означало верную смерть. Шарпа, похоже, лопнувшие шины не волновали, зато он все время жаловался на отсутствие в машине кондиционера и на то, что горячий ветер из открытых окон бьет ему в лицо. Создавалось впечатление, будто, твердо уверенный в своем предназначении, он даже мысли не допускает, что может погибнуть здесь, в машине; а кроме того, убежден, что имеет право на комфорт вне зависимости от обстоятельств — как коронованный принц. По существу, Пик неожиданно осознал: именно так Шарп и смотрит на вещи. Они уже достигли гор Сан-Бернардино и ехали по шоссе 330, милях в тридцати от Раннинг-Спрингс. Извилистая дорога заставила их слегка сбросить скорость. Шарп всю дорогу молчал, о чем-то думал. Гнев его поулегся. Теперь он рассчитывал, строил планы. Пик почти слышал щелканье, урчание, гудение и тиканье этакого механического Макиавелли, каким ему представлялся мозг Шарпа. Наконец, когда вспышки солнечного света, перемежающегося с лесной тенью, проникли сквозь лобовое стекло и наполнили машину призрачным движением, Шарп сказал: — Пик, ты, может, удивляешься, почему мы только вдвоем едем, почему я не взял полицейских или не вызвал подкрепление из своей конторы. — Да, сэр, я удивился, — признался Пик. Шарп пристально посмотрел на него. — Джерри, ты тщеславен? «Держи ухо востро, Джерри!» — подумал Пик, едва Шарп назвал его по имени, потому что знал: босс не тот человек, который может быть со своим подчиненным запанибрата. — Как сказать, сэр, — осторожно ответил он, — я хотел бы преуспеть, стать хорошим агентом, если вы об этом. — Я большее имею в виду. Ты хочешь получить повышение, иметь власть, руководить расследованием? Пик догадывался, что Шарп отнесется с подозрением к младшему агенту со слишком большими амбициями, поэтому не рассказал ему о своей мечте стать легендой Бюро по оборонной безопасности. Вместо этого он без особого энтузиазма признался: — Ну, я всегда мечтал стать когда-нибудь помощником начальника калифорнийского отделения, чтобы самому принимать участие в операциях. Но сначала мне надо многому научиться. — И все? — удивился Шарп. — Ты мне показался умным и способным молодым человеком. Мне казалось, ты должен стремиться к чему-нибудь повыше. — Спасибо, сэр, но в агентстве полно умных и способных парней моего возраста, так что, если я получу должность помощника начальника при такой конкуренции, я буду счастлив. Шарп немного помолчал, но Пик знал, что разговор еще не окончен. Им пришлось сбавить скорость, чтобы сделать резкий поворот вправо, за которым они увидели енота, переходящего дорогу. Пик нажал на тормоз и дал зверьку уйти. Наконец заместитель директора произнес: — Джерри, я внимательно за тобой наблюдал, и ты мне понравился. У тебя есть все, чтобы далеко пойти. Если ты хочешь перебраться в Вашингтон, я уверен, там найдется для тебя подходящая работа. Неожиданно Джерри Пик испугался. Слишком уж Шарп ему льстил, слишком много обещал. Что-то нужно было заместителю директора от Пика, а со своей стороны он хотел что-то ему продать за высокую цену, возможно, куда большую, чем Пик готов был заплатить. Но если Пик откажется от сделки, этот человек навсегда станет его врагом. Шарп, — так что держи это при себе, но через пару лет директор уходит в отставку и собирается рекомендовать меня на свое место. Пик верил, что Шарп говорит искренне, но у него также было ощущение, что Джэррод Макклейн, директор Бюро, сильно удивился бы, услышав о своей грядущей отставке. — Когда это произойдет, — продолжал Шарп, — я избавлюсь от многих, кого Джэррод насажал на высокие посты. Я не хочу показаться неуважительным, но директор — человек старой школы, и он окружил себя не столько настоящими агентами, сколько бюрократами. Я хочу вытащить на свет Божий больше молодых и агрессивных парней вроде тебя. — Сэр, просто не знаю, что и сказать, — заметил Пик, что было одновременно и правдой, и попыткой уйти от ответа. Шарп наблюдал за Пиком почти так же внимательно, как Пик следил за дорогой. — Но люди вокруг меня должны быть абсолютно надежны, преданы моей идее преобразования Бюро. Они должны быть готовы идти на риск, приносить жертвы, отдавать все для успешной работы Бюро и, разумеется, для блага страны. Время от времени, не слишком часто, но и не так уж редко, они будут попадать в ситуации, когда надо будет слегка нарушить закон или вообще пренебречь им — опять же для блага страны и Бюро. Когда имеешь дело со всяким сбродом — террористами, советскими агентами, — необязательно строго придерживаться правил, если хочешь одержать верх, а правительство создало наше Бюро, чтобы побеждать, Джерри. Ты хоть и молод, но поработал достаточно и понимаешь, о чем я говорю. Уверен, тебе и самому уже доводилось обходить закон. — Ну, сэр, конечно, но не слишком, — осторожно ответил Пик, чувствуя, что шея у него под воротником начинает потеть. Они проехали указатель: «ДО ОЗЕРА ЭРРОУХЕД — 10 МИЛЬ». — Ладно, Джерри, буду говорить с тобой откровенно. Рассчитываю, что ты твердый, надежный человек и не подведешь меня. Я не взял с собой много народу, потому что получил указание из Вашингтона, что с миссис Либен и Бенджамином Шэдвеем надо покончить. И раз нам придется это делать, то чем меньше нас, тем лучше. — Покончить? — Их придется ликвидировать, Джерри. Если мы найдем их в доме с Эриком Либеном, мы попытаемся захватить Либена, чтобы его можно было потом изучать в лабораторных условиях, но Шэдвея и женщину необходимо ликвидировать без лишнего шума — организовать, скажем, что-то вроде попытки к бегству. Но если народу будет много, ничего не получится. Чем больше людей; тем больше шансов, что слух об этой ликвидации достигнет средств массовой информации. Своего рода удача, что мы можем заняться этим вдвоем, потому что мы сумеем покончить с ними до того, как прибудут полицейские и журналисты. Ликвидировать? У Бюро нет права ликвидировать гражданских лиц. Безумие какое-то. Но вслух Пик только заметил: — А зачем ликвидировать миссис Либен и Шэдвея? — Боюсь, это тайна, Джерри. — Но в ордере на арест указано, что они разыскиваются за шпионаж и убийство полицейских в Палм-Спрингс… это что, просто для прикрытия? Чтобы заставить местных полицейских помочь нам в розыске? — Да, — подтвердил Шарп, — но ты об этом деле многого не знаешь, Джерри. Это секретная информации, и я не имею права ею с тобой поделиться, даже несмотря на то, что прошу тебя помочь мне в этом, с твоей точки зрения, незаконном и, возможно, даже аморальном деле. Но как заместитель директора, я уверяю тебя, Джерри, что Шэдвей и миссис Либен представляют смертельную опасность для страны, и мы не можем позволить им обратиться к местным властям или прессе. «Чушь собачья», — подумал Джерри, но промолчал, продолжая вести машину под шатром из ветвей деревьев. — Решение о ликвидации, — продолжал Шарп, — не принадлежит мне одному. Оно поступило из Вашингтона, Джерри. И не только от Джэррода Макклейна. Значительно выше, Джерри. Значительно. С самого верха. «Чушь собачья, — опять подумал Джерри. — Он что, хочет, чтобы я поверил, что президент распорядился хладнокровно убить двух несчастных граждан, которые не по своей вине попали в серьезную переделку?» Потом ему пришло в голову, что, не пойми он многого о Шарпе в больнице, он вполне мог оказаться достаточно наивным, чтобы поверить каждому его слову. Новый Джерри Пик, видевший, как Шарп обращался с Сарой Киль и как отступил перед Утесом, был далеко не так доверчив, как прежний, вот только Шарп об этом не знал. — С самого верха, Джерри. Непонятно почему, но Пик был уверен, что у Энсона Шарпа есть свои личные причины желать смерти миссис Либен и Шэдвея и что Вашингтон о планах Шарпа даже не подозревает. Он не знал, откуда у него такая уверенность, но не сомневался, что прав. Пусть это будет интуиция. Легенды сыска — и будущие легенды тоже — должны доверять своей интуиции. — Они вооружены и опасны, уверяю тебя, Джерри. Хоть они и не виновны в преступлениях, перечисленных в ордере на арест, они виновны в других, о которых у меня нет права тебе рассказать, так как ты еще не имеешь соответствующего доступа. Но не сомневайся, мы пристрелим не просто пару законопослушных граждан. Пика поражала собственная вдруг обретенная прозорливость относительно своего дерьмового босса. Еще вчера, когда он трепетал перед старшим по должности, ему нипочем бы не заметить того душка, который шел от гладких речей Шарпа, а сегодня он чуть не задохнулся от вони. — Но, сэр, — осторожно возразил Пик, — а если они сдадутся, отдадут оружие? Нам все равно… надо их ликвидировать… без лишнего шума? — Да. — Значит, мы судьи, присяжные и палачи в одном лице? В голосе Шарпа послышалось нетерпение: — Джерри, черт бы все побрал, думаешь, мне это нравится? Я убивал во время войны, во Вьетнаме, мне моя страна тогда сказала, что я должен убивать. Но и тогда мне это не нравилось, хотя речь шла о явном враге. Так что меня вовсе не переполняет радостью перспектива убить Шэдвея и миссис Либен, которые вроде бы значительно меньше этого заслуживают, чем Вьетконг. Но у меня есть совершенно секретная информация, убеждающая меня, что они представляют смертельную угрозу для моей страны, я получил приказ от самых высоких инстанций покончить с ними, и я знаю, в чем мой долг. Мне вовсе не хочется их убивать. Если желаешь знать правду, меня от этого тошнит. Никому не нравится сознавать, что иногда правильным будет поступить аморально. К сожалению, с точки зрения морали в мире преобладают серые тона, а не белые и черные. Мне это не нравится, но я должен выполнить свой долг. «Да уж, — подумал Джерри, — ври больше, тебе это до смерти нравится. Тебе это настолько нравится, что при одной мысли о возможности пристрелить их ты уже готов обоссаться». — Джерри, ты ведь тоже знаешь, в чем твой долг? Могу я на тебя рассчитывать? В гостиной Бену попалось на глаза то, чего раньше они с Рейчел не заметили: бинокль, лежащий рядом с креслом около окна. Подняв его к глазам и выглянув в окно, он смог ясно увидеть поворот грунтовой дороги, где он и Рейчел прятались, стараясь рассмотреть дом. Получается, что Эрик сидел в кресле и следил за ними в бинокль? Меньше чем за пятнадцать минут Бен закончил осмотр гостиной и трех спален. В окно третьей спальни он увидел сломанную ветку на дальнем краю лужайки, далеко от того места, где они с Рейчел вышли из леса. Скорее всего именно здесь нырнул в чащу Эрик, после того как увидел их в бинокль. И тот шум в лесу, который они слышали, должно быть, тоже производил Эрик. Преследуя их. Вполне вероятно, что он и сейчас там, наблюдает за домом. Пришло время поискать его. Бен вышел из спальни и через гостиную прошел в кухню. Толкнул дверь с сеткой, но тут краем глаза увидел топор. Он был прислонен к стенке холодильника. Топор? Отвернувшись от двери, он нахмурился, с удивлением глядя на острое лезвие. Он был уверен, что, когда они с Рейчел вошли в дом, топора там не было. По спине пополз холодок. Они закончили свой обход в гараже, где обсуждали, что делать дальше. Вернувшись в дом, направились прямиком в гостиную, чтобы собрать бумаги по проекту. После этого опять пошли в гараж, сели в «Мерседес» и поехали к калитке. Они ни разу не проходили мимо холодильника с этой стороны. Был там топор или нет? Бен почувствовал, что холод достиг затылка. Объяснить появление топора можно было двояко. Первое: возможно, когда они были в гараже и строили планы на будущее. Эпик прятался в кухне, надеясь застать их врасплох. Они находились от него совсем близко, даже не догадываясь об этом, всего несколько секунд отделяли их от смертельного удара. Затем, по какой-то причине, узнав их дальнейшие планы, Эрик решил на них не нападать, действовать иначе и отложил топор. Или… Или Эрика тогда в доме не было, он вошел позже, когда увидел, что они уехали на «Мерседесе». Он бросил топор, подумав, что они не вернутся, а затем убежал, услышав, как Бен возвращается на «Форде». Или одно, или другое. Что именно? Найти ответ на этот вопрос следовало немедленно. От него зависело все. Так что именно? Если Эрик уже был здесь, когда Рейчел и Бен разговаривали в гараже, почему он на них не напал? Почему он передумал? В доме было тихо, как в безвоздушном пространстве. Прислушиваясь, Бен пытался определить, таится ли в этой тишине ожидание, которым полон сейчас не только он, а еще один прячущийся человек, или это тишина одиночества? Одиночества, вскоре решил он. Мертвая, гулкая, пустая тишина, которая возможна, только если ты абсолютно и несомненно один. Эрика в доме не было. Бен взглянул сквозь сетчатую дверь на лес за пожелтевшей лужайкой. В лесу все было тихо, и у него возникло беспокойное ощущение, что Эрика нет и там. — Эрик? — позвал он осторожно, но достаточно громко, однако ожидаемого ответа не получил. — Куда, черт побери, ты подевался, Эрик? И опустил ружье, зная, что нет больше смысла держать его наготове. Он нутром чувствовал, что в этих горах Эрика не встретит. Полная тишина. Тяжелая, давящая, гнетущая тишина. Бен ощущал, что находится на грани ужасного открытия. Он сделал ошибку. Чудовищную ошибку. Которую нельзя исправить. Но какую? Какую ошибку? Где он напутал? Он взглянул на брошенный топор, отчаянно стараясь сообразить. Затем у него перехватило дыхание. — Бог ты мой, — прошептал он, — Рейчел.
ДО ОЗЕРА ЭРРОУХЕД — 3 МИЛИ. Из-за медленно двигающегося грузовика с трейлером Пик застрял там, где обгон запрещен, но Шарп не обратил на небольшую скорость внимания — он все еще уговаривал Пика согласиться на убийство Шэдвея и миссис Либен. — Разумеется, Джерри, если у тебя есть какие-то предубеждения, тогда оставь это дело мне. Конечно, я рассчитываю, что ты меня прикроешь, если будет нужно, это же твоя работа, но, если мы сможем разоружить Шэдвея и женщину без хлопот, я займусь их ликвидацией сам. «А я все равно буду считаться соучастником убийства», — подумал Пик. Но вслух сказал: — Что вы, сэр, я вас не подведу. — Рад это слышать, Джерри. Ты бы меня очень разочаровал, если бы оказался другим, чем я думал. Я хочу сказать, что был уверен в твоей преданности делу и мужестве, когда решил взять тебя на этозадание. И у меня не хватает слов, чтобы выразить, как благодарна будет тебе твоя страна за такую преданность. «Ты психопат и ублюдок, обманщик, мешок с дерьмом», — подумал Джерри. И ответил вслух: — Сэр, я не хочу делать ничего, что может нанести ущерб интересам моей страны или как-либо повредить Бюро. Шарп улыбнулся, приняв это заявление за полную капитуляцию. Бен медленно обошел кухню, внимательно рассматривая потеки от супа и желе из брошенных банок, поблескивающие на кафельном полу. Он и Рейчел старались обходить эти пятна, когда были на кухне, и тогда Бен не заметил следов Эрика во всей этой грязи, хотя, если бы они там были, он бы их обязательно увидел. Зато теперь он увидел то, чего раньше не было: почти полный отпечаток ступни на толстом слое соуса из банки с тушенкой и след пятки на арахисовом масле. Следы от мужских ботинок большого размера. Еще два следа обнаружились около холодильника, куда Эрик на подметках перенес остатки масла и соуса, когда относил топор и, естественно, прятался. Прятался. Господи Иисусе! Когда они с Рейчел прошли из гаража в гостиную собрать бумаги по проекту «Уайлд-кард», Эрик, пригнувшись, прятался за холодильником. С бьющимся сердцем Бен отвернулся от холодильника и поспешил к двери, ведущей в гараж.
ОЗЕРО ЭРРОУХЕД. Они прибыли. Медленно движущийся грузовик с трейлером свернул на стоянку около спортивного магазина, и Пик прибавил скорость. Посмотрев на врученный Утесом листок бумаги, Шарп сказал: — Мы правильно едем. Теперь на север по шоссе вокруг озера. Мили через четыре должен быть правый поворот, там установлены почтовые ящики, один — с большим красным петухом на крышке. Крутя баранку, Пик краем глаза заметил, что Шарп взял на колени черный «дипломат» и открыл его. Внутри оказались два пистолета тридцать восьмого калибра. Он положил один на сиденье между ними. — Что это? — спросил Пик. — Тебе оружие для этой операции. — У меня есть служебный револьвер. — Сейчас не охотничий сезон. Нельзя поднимать шума со стрельбой, Джерри. Соседи любопытные сбегутся, могут даже позвать какого-нибудь помощника шерифа, если тот случится поблизости. — Шарп достал из «дипломата» глушитель и принялся навинчивать его на свой пистолет. — Твой служебный револьвер нельзя использовать с глушителем, а мы совсем не хотим, чтобы кто-нибудь нам помешал, пока не расположим трупы так, чтобы все соответствовало сценарию. «Что мне, черт побери, делать?» — подумал Джерри, ведя машину вокруг озера и ожидая появления красного петуха.
Рейчел уже миновала озеро Эрроухед и теперь ехала по шоссе 138, приближаясь к озеру Силвервуд, откуда вид на высокие горы Сан-Бернардино был еще более захватывающим, хотя в данный момент ей было не до пейзажей. От озера Силвервуд шоссе шло прямо на запад, оставляя горы позади, до пересечения с шоссе 15, где она предполагала дозаправиться, а потом по шоссе 15 доехать через пустыню до Лас-Вегаса, лежащего на северо-востоке. Ей предстояло проехать более двухсот миль через необыкновенно красивую и совершенно необитаемую территорию. Так что даже в более благоприятных обстоятельствах то был неблизкий путь. «Бенни, — подумала она, — как бы мне хотелось, чтобы ты был рядом». Она миновала дерево, расщепленное молнией, которое воздело к небу свои обугленные ветви. Недавно появившиеся облака сгущались. Среди них уже виднелись тучки. В пустом гараже Бен увидел следы какой-то жирной жидкости на бетонном полу, сверкающей в проникших сюда лучах солнца. Он присел на корточки и принюхался. Вряд ли легкий запах соуса от говядины ему померещился. Эти следы наверняка уже были, когда они с Рейчел вернулись сюда с бумагами, но он их не заметил. Он встал и пошел дальше по гаражу, тщательно разглядывая пол, и уже через несколько секунд заметил влажную коричневую кляксу размером с фасолину. Он тронул ее пальцем и поднес палец к носу. Арахисовое масло. Сюда его принес на каблуке ботинка Эрик Либен, когда они с Рейчел были в гостиной, торопливо заталкивая бумаги в мешок для мусора. Вернувшись сюда с Рейчел и бумагами, Бен спешил, главным ему казалось отправить ее из дома и всеобще из этих гор, пока не появились либо Эрик, либо полиция. И он не посмотрел вниз и не увидел следов арахисового масла. И, разумеется, у него не было оснований искать Эрика в тех местах, которые он только что осматривал. Он не мог ждать такой сообразительности от человека со страшной черепной травмой, от ходячего мертвеца, который, как те лабораторные мышки, должен был плохо ориентироваться, быть не в своем уме, умственно и эмоционально нестабильным. Значит, Бену не следует винить себя: нет, он правильно поступил, отправив Рейчел в «Мерседесе», предполагая, что отправляет ее одну, и не сообразив, что в машине она вовсе не одна. Как он мог догадаться? Это был единственный выход. Это не его вина, эту неожиданность нельзя было предвидеть, не его это вина, но он проклинал себя на чем свет стоит. Эрик, притаившийся на кухне и слышавший, что они собираются делать, понял, что у него есть шанс остаться с Рейчел наедине, и, по-видимому, эта перспектива показалась ему настолько соблазнительной, что он решил отказаться от нападения на Бена. Он прятался за холодильником, пока они не прошли в гостиную, потом прокрался в гараж, взял ключи в зажигании, тихонько открыл багажник, вернул ключи на место, залез в багажник и захлопнул крышку. Если у Рейчел лопнет шина и она откроет багажник… Или если где-нибудь в пути Эрик отбросит заднее сиденье и выберется из багажника… Сердце Бена билось так, что, казалось, выскочит из груди. Он бегом кинулся из гаража к «Форду», стоящему перед домом.
Джерри Пик заметил красного железного петуха на одном из десятка почтовых ящиков. Он свернул на узкую дорогу, ведущую вверх по крутому склону мимо редких подъездных дорожек и домов, в основном спрятанных в лесу, что тянулся по обе стороны дороги. Шарп закончил привинчивать глушители к обоим револьверам. Затем взял две запасные обоймы из «дипломата» и положил одну из них рядом с револьвером, предназначенным для Пика. — Я рад, Джерри, что в этом деле со мной ты. На самом деле Пик не говорил, что он с ним, да и не считал для себя возможным участвовать в хладнокровном убийстве и продолжать дальше жить как ни в чем не бывало. Тогда уж точно с мечтой стать легендой придется расстаться. С другой стороны, если он ослушается Шарпа, его карьере в Бюро придет конец. — Здесь щебенка должна переходить в гравий, — предупредил Шарп, снова сверившись с инструкциями, которыми снабдил его Утес. Несмотря на сделанные недавно открытия и те преимущества, которые они ему давали, Джерри Пик не знал, что делать. Просто не видел выхода, который сохранил бы ему самоуважение и карьеру. И, въезжая глубже в темноту леса, почувствовал, что начинает паниковать. Впервые за много часов он стал ощущать себя беспомощным. — Гравий, — отметил Энсон Шарп, когда они съехали со щебенки. Неожиданно Пик понял, что его положение значительно хуже, чем он думал, потому что Шарп наверняка убьет и его. Если Пик попытается помешать ему убить Шэдвея и миссис Либен, он сначала пристрелит его и сделает так, чтобы обвинить в этой гибели беглецов. Что к тому же даст ему повод убить Шэдвея и миссис Либен. «Они прикончили беднягу Пика, и мне ничего больше не оставалось». Из него еще и героя сделают. С другой стороны, Пик не сможет просто отойти в сторону и дать ему убить их, так как это придется Шарпу не по душе. Если Пик не примет с энтузиазмом участия в убийстве, Шарп перестанет доверять ему и скорее всего пристрелит после того, как покончит с Шэдвеем и миссис Либен. И опять-таки свалит это на них. Господи Иисусе! С точки зрения Пика, мозг которого работал на полную катушку, как никогда в жизни, у него имелись только два выхода: присоединиться к убийству и таким образом завоевать полное доверие Шарпа или пристрелить Шарпа, прежде, чем он успеет кого-нибудь убить. Но нет, это тоже не решение… — Уже близко, — заметил Шарп, наклоняясь вперед и внимательно вглядываясь сквозь лобовое стекло. — Теперь давай медленно-медленно. …Тоже не решение, ведь, если он пристрелит Шарпа, никто ему не поверит, что Шарп собирался убить Шэдвея и миссис Либен, потому что какой мог бы быть у этого говнюка мотив! И потащат Пика в суд за убийство начальника. Суды всегда были суровы с убийцами полицейских, даже если убийца тоже полицейский, так что наверняка его посадят в тюрьму, где все эти семифутовые преступники без малейших признаков шеи будут просто счастливы изнасиловать бывшего правительственного агента. Значит, ему остается один ужасный выход — участвовать в убийстве, опуститься до уровня Шарпа, забыть о легенде и смириться с тем, что он просто еще один проклятый Богом гестаповец. Настоящее безумие — попасть в ситуацию, где нет правильных ответов, только неправильные. Это бред какой-то, это несправедливо, черт бы все побрал. Пик почувствовал, что голова у него скоро лопнет от напряжения, с которым он пытается найти нужный ответ. — Вот калитка, о которой она говорила, — указал Шарп. — Смотри-ка, открыта! Ну-ка остановись. Пик остановил машину и выключил двигатель. Вместо ожидаемой лесной тишины немедленно после того, как мотор заглох, в окна ворвался посторонний звук — звук форсируемого мотора другой машины, приближающейся к ним. — Кто-то едет, — констатировал Шарп, хватаясь за свой револьвер с глушителем и распахивая дверь как раз в тот момент, когда на дороге впереди них появился двигающийся на большой скорости голубой «Форд».
Пока служащий на бензозаправочной станции наполнял бак очищенным бензином «Арко», Рейчел купила себе в автомате конфет и банку кока-колы. Она прислонилась к «Мерседесу», жуя конфету и запивая ее кока-колой в надежде, что большая доза сладкого поднимет ей настроение и длинный путь не покажется таким одиноким. — В Вегас едете? — спросил служащий. — Да. — Так и думал. Я всегда догадываюсь, куда кто едет. У вас такой вид, для Вегаса. Значит, так, сначала вы должны поиграть в рулетку. Ставьте на номер двадцать четыре. У меня такое предчувствие глядя на вас. Ладно? — Ладно. Двадцать четыре. Он подержал банку с кока-колой, пока она доставала деньги из бумажника, чтобы расплатиться с ним. — Если выиграете целое состояние, половина моя. Но если проиграете, то это работа дьявола, я тут ни при чем. Она уже почти тронулась с места, когда он наклонился и заглянул в окно. — Вы поосторожнее там, в пустыне. Там может быть несладко. — Знаю, — сказала она. Она выехала на шоссе 1–15 и двинулась на северо-восток, к далекому Барстоу, чувствуя себя очень одиноко.
Глава 26
ЧЕЛОВЕК-ЧУДОВИЩЕ
Бен бросил «Форд» в крутой поворот и нажал было на педаль газа, но внезапно увидел у открытой калитки темно-зеленый седан. Он резко затормозил, и «Форд» пошел юзом по грязной дороге. Рулевое колесо едва не вырвалось из рук. Но Бен справился с машиной и сумел не угодить ни в одну из канав по бокам дороги. Подняв столб пыли, «Форд» замер футах в пятидесяти от калитки. Впереди внизу двое мужчин в темных костюмах уже вылезли из седана. Один держался сзади, тогда как второй бегом рванулся вперед, быстро приближаясь к Бену. Он напомнил ему чересчур старательного марафонца, забывшего надеть спортивные трусы и кроссовки. Желтоватая пыль, клубившаяся сквозь затейливый узор солнечного света и тени, была похожа на мрамор и казалась такой же плотной. Но, несмотря на пыль и разделяющие их тридцать ярдов, Бен четко видел револьвер в руке бегущего мужчины. Видел он и глушитель, что его сильно удивило. Ни полицейские, ни федеральные агенты глушителями не пользуются. Партнеры Эрика вообще стреляли по полицейским из автомата в самом центре Палм-Спрингс, так что вряд ли они стали бы осторожничать здесь. Затем, через секунду после того, как он разглядел глушитель, Бен увидел ухмыляющееся лицо бегущего человека и одновременно поразился, растерялся и испугался. Энсон Шарп. Последний раз он видел Энсона Шарпа шестнадцать лет назад во Вьетнаме, в 1972 году. И тем не менее был уверен, что узнал его. Время не слишком изменило Энсона Шарпа. Весной и летом 1972-го Бен постоянно ждал, что этот здоровенный подонок выстрелит ему в спину или наймет какого-нибудь бродягу из Сайгона для этой цели, потому что Шарп был способен на все, но Бен проявлял особую осторожность и не давал ни малейшей возможности разделаться с собой. И вот перед ним снова Шарп, как будто перешагнувший время. Какого черта он явился сюда больше чем через полтора десятилетия? Бену вдруг пришла в голову безумная мысль, что Шарп искал его все время, надеясь свести с ним счеты, но сумел найти только сейчас, независимо от всех остальных событий. Но, разумеется, вряд ли такое могло быть, просто невозможно, так что Шарп наверняка каким-то образом связан со всей этой историей, с проектом «Уайлдкард». Не добежав футов двадцати, Шарп принял классическую позицию стрелка, широко расставив ноги, встал посреди дороги и открыл огонь. С легким нам, сопровождаемым треском, пуля пробила лобовое стекло в футе от головы Бена. Дав задний ход, он повернулся на сиденье, чтобы разглядеть дорогу сзади. Управляясь одной рукой, поехал назад по грунтовой дороге с наибольшей скоростью, на какую мог рискнуть. Услышал, как еще одна пуля срикошетила от машины где-то совсем рядом… Но тут он свернул за поворот, и Шарп не мог его больше видеть. Он ехал до самого дома задним ходом. Там остановился, включил нейтральную скорость, оставив мотор работать и поставив машину на ручной тормоз — единственное, что удерживало ее на верху холма. Затем быстро вылез из машины и положил ружье и «магнум» на дорогу. Перегнувшись, Бен наполовину всунулся в машину и взялся за ручку ручного тормоза, одновременно внимательно следя за дорогой. Двумястами ярдами ниже из-за поворота показался седан «Шевроле». Машина шла быстро, расстояние сокращалось. Они сбросили скорость, завидев его, но не остановились, и он рискнул подождать еще пару секунд, прежде чем отпустить ручной тормоз и отступить в сторону. Под действием силы тяжести «Форд» покатился вниз по дороге, которая была настолько узкой, что «Шевроле» не мог посторониться. «Форд» подскочил на кочке и свернул слегка вбок. Бен уже подумал, что он так и скатится в канаву, не причинив никому никакого вреда, но «Форд» подскочил еще раз и вышел на прежний курс. Водитель машины остановился, сделал попытку дать задний ход, однако «Форд» слишком быстро набирал скорость, чтобы столкновения можно было избежать. Он опять подскочил на кочке и свернул немного влево, и в последнюю секунду «Шевроле» вильнул вправо, едва не свалившись в канаву. Но все равно машины столкнулись с грохотом и скрежетом, хотя это столкновение не было лобовым и не принесло того вреда, на который рассчитывал Бен. Они сцепились правыми передними бамперами, затем «Форд» скользнул влево, как будто собираясь развернуться на сто восемьдесят градусов и, оказавшись рядом с «Шевроле», вместе подняться в гору. Но когда он совершал первую четверть этого пируэта, его задние колеса прочно застряли в канаве и он рывком остановился поперек дороги, надежно ее забаррикадировав. От удара машина противника откатилась футов на тридцать назад, едва не угодив в канаву, и остановилась. Обе передние дверцы распахнулись. С одной стороны появился Энсон Шарп, с другой — водитель, оба оказались целыми-невредимыми, как и ожидал Бен, когда увидел, что «Форд» не ударил им в лоб. Бен схватил ружье и «магнум», повернулся и побежал вокруг дома. Он рысью промчался по двору, покрытому высохшей травой, к гранитным зубьям, из-за которых они раньше наблюдали за домом вместе с Рейчел. Секунду помедлил, оглядывая лежащий впереди лес и прикидывая, где бы укрыться. Затем побежал между деревьями к старому руслу реки с густым кустарником по бокам, уже сослужившему ему и Рейчел добрую службу. За его спиной, издалека, Шарп позвал его по имени.Все еще путающийся в паутине этических проблем Пик поотстал от своего босса и осторожно наблюдал за ним. Заместитель директора потерял голову сразу же, как заметил Шэдвея в голубом «Форде». Он рванул по дороге и начал стрелять из неудобной позиции, не имея ни малейшего шанса поразить цель. Кроме того, Пик заметил, что женщины в машине нет, так что если они убьют Шэдвея прежде, чем зададут ему несколько вопросов, то вряд ли узнают, куда она делась. Шарп вел себя глупо, и Пик был неприятно поражен. Теперь Шарп шел по периметру двора. Он дышал, как озлобленный бык, и был настолько возбужден, в такой ярости, что не понимал, как сам подставляется под пули. То и дело он заходил по колено в заросли и всматривался в ряды деревьев. С трех сторон двор был окружен навесистыми склонами, изрезанными оврагами и поросшими лесом, где были тысячи великолепных мест, чтобы спрятаться. Пику было ясно, что в данный момент они Шэдвея потеряли. Им следует немедленно обратиться за подмогой, иначе беглец окончательно улизнет в гущу леса. Но Шарп обязательно хотел пристрелить Шэдвея. Он не желал прислушиваться к голосу разума. Пик просто смотрел, наблюдал и молчал. Заглядывая в лес, Шарп заорал: — Правительство Соединенных Штатов, Шэдвей! Бюро по оборонной безопасности! Ты меня слышишь? Мы хотим с тобой побеседовать, Шэдвей! Ссылка на власти уже не сработает, в этом можно было не сомневаться, если учесть, что Шарп начал стрелять, как только увидел Шэдвея. Пик подумал, что, возможно, заместитель директора сейчас переживает нервное потрясение и этим объясняется его поведение с Сарой Киль, его решимость убить Шэдвея и его идиотская, безответственная пальба на дороге пару минут назад. Топая вдоль кромки леса и временами заглядывая за кусты, Шарп продолжал вопить: — Шэдвей! Эй, это я, Шэдвей, Энсон Шарп! Помнишь меня, Шэдвей? Помнишь? Пик сделал шаг назад и вздрогнул, как будто кто-то дал ему пощечину: Шарп и Шэдвей были знакомы, черт побери, знали друг друга не просто абстрактно, как преследователь и преследуемый, но лично. И не было сомнений: хамские манеры Шарпа, его красное лицо, выпученные глаза и затрудненное дыхание ясно говорили, что они были злейшими врагами. Здесь сводились старые счеты, так что, если и были у Пика какие-то сомнения относительно того, что, может, Шарп действительно получил приказ сверху уничтожить Шэдвея и миссис Либен, они тут же испарились. Шарп решил их убить, только Шарп, и больше никто. Пик готов был поспорить, что он прав. Но его правота ничего не решала. Да, теперь он знал, что Шарп врет, но это дела не меняло. Прав он или не прав, все равно надо было выбирать: либо пойти на поводу у заместителя директора, либо взять его на мушку, и в любом случае Пик не сможет сохранить одновременно и самоуважение и карьеру. Шарп зашел поглубже в лес и спустился по склону в темноту под переплетающимися ветками елей и сосен. Он оглянулся, крикнул, чтобы Пик тоже к нему присоединялся, сделал еще несколько шагов сквозь кусты, снова оглянулся и еще раз настойчиво крикнул, увидев, что Пик не двигается. Пик неохотно пошел за ним. В отдельных местах трава была такой высокой и жесткой, что кололась сквозь носки. На брюках появились травяные пятна, кое-где налипли колючки. Облокотившись о ствол дерева, он испачкал руку в смоле. То и дело спотыкался о лианы. Сучки цепляли его за пиджак. Его грязные кожаные туфли скользили по камням, еловым иголкам, мху, по чему угодно. Перебираясь через поваленное дерево, Пик ступил ногой прямо в муравейник. И хотя он немедленно убрал ногу и смахнул муравьев, несколько насекомых все-таки поползли по нему, так что он был вынужден остановиться, закатать штанину и смахнуть чертовых муравьев со своей искусанной лодыжки. — Мы неподходяще одеты, — заметил он, догоняя Шарпа. — Тихо, — приказал Шарп, пробираясь под низкой еловой веткой, усеянной колючими шишками. Пик поскользнулся и упал бы, не схватись он рукой за ветку. С трудом удержав равновесие, буркнул: — Мы тут шеи переломаем. — Тихо! — с яростью прошипел Шарп, гневно взглянув на Пика через плечо. На его лицо было страшно смотреть: дикие, расширенные глаза, раздутые ноздри, оскаленные зубы, сжатые челюсти, на висках пульсируют артерии. Этот безумный вид подтвердил подозрение Пика, что Шарп потерял контроль над собой, стоило ему увидеть Шэдвея. И теперь им движет маниакальная ненависть и жажда крови. Они прошли через узкий лаз в зарослях кустов, украшенных оранжевыми, ядовитыми на вид ягодами. Вышли на высохшее русло реки и увидели Шэдвея. Он оказался футах в пятнадцати от них, двигаясь по руслу через лес, шел быстро, пригнувшись, и нес ружье. Пик съежился и прижался к берегу, стараясь превратить себя в как можно менее удобную мишень. Но Шарп остался на виду, как будто считал себя суперменом, громко позвал Шэдвея по имени и сделал несколько выстрелов из своего пистолета с глушителем. Пользуясь глушителем, приобретаешь бесшумность, но зато теряешь в меткости, так что, учитывая расстояние между Шарпом и Шэдвеем, ни один выстрел не мог попасть в цель. Либо Шарп был не в курсе относительно дальности своего оружия, что маловероятно, либо он был настолько ослеплен ненавистью, что уже не мог поступать разумно. Первым выстрелом он содрал кору с дерева, росшего на краю русла двумя ярдами левее Шэдвея, а вторая пуля попала в камень. Тут Шэдвей исчез за поворотом русла, но Шарп все равно выстрелил еще трижды, хотя и не видел того, по кому стрелял. Даже самый лучший глушитель от употребления быстро портится, и мягкое «пам», сопровождающее выстрелы Шарпа, становилось все громче с каждым выстрелом. Пятый и последний выстрел по звуку напоминал удар деревянной колотушкой по жесткой резиновой поверхности. Разумеется, он не был оглушающим, но достаточно громким, чтобы прокатиться по лесу эхом. Когда эхо стихло, Шарп несколько секунд внимательно прислушивался, затем кинулся через сухое русло к тому же лазу в стене кустарника, через который они попали сюда. — Пошли, Пик. Сейчас мы возьмем этого стервеца. Следуя за ним, Пик заметил: — Но нам его в этом лесу не догнать. Он куда более подходяще одет. — Мы же выходим из леса, черт возьми, — кипятился Шарп. И в самом деле, они вернулись во двор домика тем же путем, что и пришли. — Я только хотел заставить его пошевеливаться, чтобы он тут не засел и не выжидал, когда мы уйдем. Сейчас он задвигался, черт побери, и наверняка отправится прямиком вниз с горы к дороге около озера. И если нам повезет, мы прищучим этого ублюдка, когда он будет пытаться спереть машину какого-нибудь рыбака. А теперь шевелись. У Шарпа все еще был дикий, осатанелый, полубезумный вид, но Пик уже понял, что в конечном счете заместитель директора не был полностью одержим ненавистью, как казалось вначале. Да, он кипел от ярости, не всегда действовал разумно, но полностью соображения он не потерял. Он был все еще опасен.
Убегая, Бен спасал свою жизнь, но он так же панически боялся за Рейчел. Она ехала в Неваду в «Мерседесе», не подозревая, что в багажнике прячется Эрик. Каким-то образом Бен должен догнать ее, но с каждой минутой она удалялась от него все дальше и дальше, сводя его шансы до минимума. По крайней мере, он должен добраться до телефона и поговорить с Уитни Гэвисом, своим приятелем в Вегасе, чтобы, когда Рейчел позвонит ему насчет ключей, он смог предупредить ее об Эрике. Разумеется, Эрик может вылезти из багажника сам, или его может кто-то выпустить задолго до того, как Рейчел приедет в Вегас… Рейчел одна ночью в пустыне… странные звуки из багажника… ее холодный мертвый муж неожиданно вырывается из заточения, сорвав заднее сиденье с креплений… забирается в машину… Чудовищная картина настолько потрясла Бена, что он не отважился даже представить, что может быть дальше. Если он зациклится на подобной картине, она станет казаться ему неизбежной и он не сможет рационально действовать. Он решительно запретил себе думать об этом и свернул с высохшего русла на оленью тропу, по которой можно было сравнительно легко подняться футов на тридцать, пока тропа не свернула к двум елям в неудобном для него направлении. После этого двигаться стало значительно труднее, грунт был неровный, опасный. Заросли колючей ежевики заставили его сделать крюк чуть не в пятьдесят футов; длинный склон с очень мягким грунтом вынудил подниматься по касательной, остерегаясь, что земля поползет под ним и он скатится вниз; груды сухих деревьев и кустов принуждали либо идти в обход, либо лезть напролом, рискуя сломать ногу или вывихнуть лодыжку. Не единожды он пожалел, что надел не охотничьи сапоги, а кроссовки «Адидас». Хорошо хоть джинсы и рубашка с длинными рукавами несколько защищали его от колючек и сучков. Несмотря на все трудности, он шел вперед, зная, что рано или поздно выйдет на более низкий уровень, где местность не такая дикая и где стоят дома. Там ему будет легче. Кроме того, ему ничего не оставалось, как двигаться, ведь он не знал, преследует ли его еще Энсон Шарп. Энсон Шарп. Невозможно поверить. В свой второй год во Вьетнаме Бен в звании лейтенанта командовал взводом разведчиков и подчинялся командиру роты Олину Эшворну, вместе с которым они провели серию очень удачных рейдов в глубь территории противника. Джордж Мендоза, сержант его взвода, попал под автоматный огонь, выполняя задание по спасению четырех американских военнопленных, которых держали во временном лагере перед переводом в Ханой, и Энсона Шарпа прислали вместо него. Шарп не понравился Бену сразу, с первой встречи. То была инстинктивная реакция, так как внешне у Шарпа все было в порядке. Он, конечно, не шел ни в какое сравнение с Мендозой, но был вполне компетентен, не признавал ни наркотиков, ни алкоголя, и это выделяло его среди других солдат, сражающихся в этой несчастной войне. Возможно, он слишком злоупотреблял властью и был излишне крут с подчиненными. Возможно, в его рассуждениях о женщинах сквозило какое-то неприятное неуважение к ним, но это сначала казалось обычным надоевшим и не слишком серьезным проявлением женоненавистничества, с которым приходится сталкиваться довольно часто там, где собирается много мужчин. Бен не видел в этом ничего плохого — до поры до времени. И возможно, Шарп слишком поспешно выступал против нападения на обнаруженного противника или слишком торопился выйти из боя. Но сначала никто не считал его трусом. Однако Бен относился к нему настороженно и даже чувствовал себя виноватым в том, что не доверяет своему новому сержанту без основательных причин. Еще ему не нравилось в Шарпе отсутствие каких-либо убеждений. Он не имел своей точки зрения на политику, религию, смертную казнь, аборты или какие-либо другие проблемы, волновавшие его современников. Он странно относился к войне — ни за, ни против. Ему было наплевать, кто победит, он считал одинаковыми с моральной точки зрения как квазидемократический Юг, так и тоталитарный Север, если вообще когда-либо задумывался о морали. Он поступил в морские пехотинцы, чтобы его не забрали в пехоту, и совсем не испытывал той суровой гордости и преданности, которые сделали морскую пехоту родным домом для большинства служивших в ней. Он хотел сделать военную карьеру и в армию пошел не потому, что считал это своим долгом, а в надежде получить доступ к власти и уйти на хорошую пенсию через короткие двадцать лет. О пенсиях и различных благах для военных он мог говорить часами. Он не отличался любовью к музыке, искусству, литературе, спорту, охоте, рыбалке или чему-то еще. Любил он только самого себя. Он сам, любимый, был своей единственной страстью. Хоть он и не был ипохондриком, он ревностно заботился о состоянии здоровья, мог долго говорить о своем пищеварении, о том, работал у него желудок или нет и как выглядел его утренний стул. Любой другой мог просто сказать: «У меня голова раскалывается», тогда как Энсон Шарп в таком же состоянии тратил две сотни слов, чтобы описать степень и характер своих страданий в мельчайших подробностях, и часто пальцем показывал, где именно у него болит сильнее. Он тратил много времени на прическу, всегда умудрялся быть чисто выбритым, обожал зеркала и другие отражающие поверхности и делал все возможное и невозможное, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт, каким только может пользоваться солдат в военной зоне. Трудно хорошо относиться к человеку, который не любит никого, кроме себя. Но если Энсон Шарп был ни плохим, ни хорошим, когда прибыл во Вьетнам, просто слабым эгоистичным человеком, война поработала над ним, как над куском глины, и в финале вылепила чудовище. Когда до Бена дошли подробные и достоверные слухи о связях Шарпа с черным рынком, он провел расследование, которое показало, что круг преступной деятельности Шарпа был чрезвычайно широк. Он участвовал в краже почтовых посылок, товаров, направляемых в столовые, и он же вел переговоры по продаже краденого преступному миру Сайгона. Кроме того, выяснилось, что хоть он сам не употреблял наркотики и не торговал ими, Шарп помогал вьетнамской мафии сбывать их американским солдатам. Но самое отвратительное, что удалось выяснить сыщикам Бена, — это что Шарп использовал заработанные нечестным путем деньги для содержания наложницы в одном из самых бандитских районов Сайгона. Там, заручившись помощью особо опасного вьетнамца-головореза, выполнявшего параллельно функции слуги и тюремщика, он держал одиннадцатилетнюю девочку — Май Ван Транг, которую превратил в настоящую рабыню и использовал для своих сексуальных нужд, когда имел такую возможность. В остальное время ею по своему усмотрению пользовался головорез. Последовавший за расследованием трибунал прошел совсем не так, как рассчитывал Бен. Ему хотелось засадить Шарпа в военную тюрьму на двадцать лет. Но еще до суда потенциальные свидетели стали исчезать один за другим с подозрительной скоростью. Двух вольнонаемных, торговцев наркотиками, согласившихся свидетельствовать против Шарпа, нашли с перерезанным горлом в пустынных переулках Сайгона. Еще одного — лейтенанта — взрывом разнесло на части во время сна. Головорез-многостаночник и Май Ван Транг исчезли, и Бен был уверен, что первый жив и где-то прячется, а девочка мертва и неизвестно где похоронена, что совсем нетрудно в стране, раздираемой войной и покрытой безымянными могилами. Поскольку Шарп находился под стражей, когда эти столь удобные для него убийства и исчезновения имели место, он с полным правом мог заявить о своей невиновности, хотя, вне всякого сомнения, такое удачное развитие событий было следствием его влияния в преступном мире. К началу трибунала не осталось ни одного свидетеля, так что суд мог полагаться только на слово Бена и его помощников, а Шарп в это время с ухмылкой настаивал на своей невиновности. Прямых улик оказалось недостаточно, чтобы засадить его в тюрьму, зато было полно косвенных, чтобы потерять работу. В конце концов его лишили сержантских нашивок, понизили до рядового и уволили из армии. Даже такой незначительный приговор был ударом для Шарпа, чья глубокая, неустанная любовь к самому себе не позволяла терпеть какое-либо наказание. Главной и, возможно, единственной его заботой были собственный комфорт и благополучие, и он считал само собой разумеющимся, что ему, как баловню судьбы, будет всегда везти. Прежде чем с позором покинуть Вьетнам, Шарп использовал все свое влияние, чтобы организовать неожиданный визит к Бену, слишком короткий, чтобы расправиться с ним, но достаточно продолжительный, чтобы передать ему угрозу: — Слушай, говнюк, когда вернешься домой, помни, что я там тебя жду с нетерпением, Я буду знать, когда ты приедешь, и я буду готов. Бен не принял угрозы всерьез. Во-первых, еще до трибунала Шарп стал нерешительным в бою до такой степени, что в некоторых случаях готов был ослушаться приказа, но не рисковать своей драгоценной шкурой. Вполне возможно, что, если бы его не судили за воровство, операции на черном рынке, торговлю наркотиками и изнасилование, он был бы привлечен к суду за дезертирство или что-нибудь в этом роде, связанное с его растущей трусостью. Он мог рассуждать о мести на родине, но сделать что-нибудь у него не хватит пороха. Да и кроме того, Бена мало волновало, что и как случится дома. К тому времени, хорошо это или плохо, но он привязал себя к этой войне до конца. И имел все основания полагать, что домой он скорее всего вернется в ящике и ему будет наплевать, ждет его Энсон Шарп или нет. Теперь, спускаясь сквозь тенистый лес и достигнув наконец наполовину расчищенных участков, где между деревьями мелькали дома, Бен недоумевал, каким образом выгнанный из армии с позором Шарп мог стать агентом Бюро по оборонной безопасности. Человек, превратившийся в чудовище, как Шарп, обычно продолжает катиться дальше по наклонной плоскости. К этому времени он должен был бы отсидеть два или три срока за преступления на гражданке. В лучшем случае он мог стать мелким жуликом, едва сводящим концы с концами, чьи аферы настолько незначительны, что не привлекают внимания властей. Даже если он исправился, он не смог бы скрыть позорные обстоятельства своего увольнения из армии. А это автоматически исключало возможность его работы в каком-либо правоохранительном учреждении, особенно таком значительном, как Бюро по оборонной безопасности. «Так каким же образом он это сделал, черт побери?» — удивлялся Бен. Он раздумывал над этим вопросом, пока перелезал через забор и осторожно огибал двухэтажное кирпичное строение и дом из соснового бруса, перебегая от дерева к дереву, от куста к кусту, стараясь по возможности не высовываться. Не дай Бог кто-нибудь выглянет в окно и заметит человека с ружьем в одной руке и большим револьвером, засунутым за пояс брюк, — он немедленно позвонит шерифу округа. Если предположить, что Шарп не соврал насчет того, что он агент Бюро, а врать ему вряд ли был смысл, то как же ему удалось так там выдвинуться? Ведь вряд ли это совпадение, что именно Шарпу поручили расследование, связанное с Беном. Вероятнее предположить, что Шарп сам организовал это назначение, когда прочитал досье на миссис Либен и узнал, что Бен, его давний и, вероятно, подзабытый враг, связан с Рейчел. Он разглядел здесь давно откладываемую возможность свести счеты и ухватился за нее. Но обычный агент не выбирает сам себе задания, так что Шарп, видно, забрался достаточно высоко, чтобы самому распоряжаться своей судьбой. Хуже того, он занимал столь высокий пост, что мог себе позволить открыть стрельбу без всякой провокации и рассчитывать, что ему сойдет с рук убийство, совершенное на глазах коллеги. Столкнувшись с угрозой, которую представлял собой Шарп, в дополнение к тому переплету, куда они с Рейчел попали, Бен начал чувствовать, что снова оказался на войне. На войне по тебе начинают стрелять, когда ты меньше всего этого ждешь, и обычно с самой неожиданной стороны. Именно так он и воспринял появление Энсона Шарпа: стрельба с неожиданной стороны. Около третьего дома на склоне он едва не столкнулся с четверкой мальчишек, играющих в войну и прячущихся друг от друга. Он их заметил только в последний момент, когда один из них выскочил из укрытия и открыл огонь по другому из автомата с пистонами. Впервые в жизни Бен как бы на мгновение вернулся на войну, впервые сам пережил ту психическую травму, от которой, если верить прессе, страдает каждый ветеран. Он упал, перевернувшись несколько раз, и затаился с бьющимся сердцем за низким холмиком, сдерживая готовый вырваться крик. Прошло не меньше тридцати секунд, прежде чем он пришел в себя. Мальчики его не заметили, но дальше он передвигался ползком от одного укрытия к другому. От холмика к кусту азалии. От азалии к небольшой загородке из известняка, где наткнулся на растерзанный трупик белки и воспринял это как предупреждение. Затем он сполз вниз по склону, через густую траву, и подлез под очередной забор. Еще через пять минут, почти через три четверти часа, после того, как он ушел из охотничьего домика, Бен скатился по покрытому кустарником склону в сухую канаву вдоль шоссе, опоясывающего озеро. Сорок минут, это надо же. Как далеко в пустыню успела забраться Рейчел за сорок минут? Не думай об этом. Шевелись. Он немного посидел, пригнувшись в зарослях, переводя дыхание, затем встал и посмотрел в обе стороны. Никого. Ни одной машины. Поскольку он не хотел отказываться ни от ружья, ни от «магнума», которые делали его крайне подозрительным для посторонних, ему еще повезло, что он оказался в этом месте во вторник днем. Потому что рано утром к озеру ехали бы яхтсмены, рыбаки и туристы, а к вечеру многие бы возвращались. Но в середине дня, без пяти минут три, они еще не двигались с места. Опять же хорошо, что он не попал сюда в уик-энд, вот тогда бы на дороге было полно машин в течение всего дня. Решив, что услышит звук мотора издали и, следовательно, успеет спрятаться, он выбрался из канавы и направился на север по шоссе в надежде где-нибудь украсть машину.
Глава 27
СНОВА В ПУТИ
Без пяти минут три Рейчел проехала через перевал Эль-Кайон. Викторвилль был еще в десяти милях к югу, а до Барстоу оставалось почти сорок пять миль. Это был последний участок шоссе, на котором хоть изредка встречались какие-то признаки цивилизации. Если не считать Викторвилля и одиноких домов, магазинов и автозаправочных станций между ним и Хесперией и Яблоневой долиной, дорога шла в основном через огромные пустынные участки, покрытые белым песком, грядами камней, высушенной растительностью, деревьями Джошуа и другими кактусами. На протяжении ста шестидесяти миль между Барстоу и Лас-Вегасом ей должны были встретиться, по существу, только два населенных пункта — Калико, город-призрак (с несколькими ресторанами, заправочными станциями и парой мотелей), и Бейкер, стоящий у входа в Долину смерти, который был настолько мал и умудрялся промелькнуть мимо так быстро, что казался миражем. Хэллоран-Спрингс, Кэ-Нева и Стейтлайн тоже должны были попасться ей по дороге, но ни один из них и городом назвать было нельзя. В каком-то проживало меньше пятидесяти человек. Здесь, где начиналась великая пустыня Мохаве, человек попробовал установить свою власть, но дальше Барстоу все равно продолжала править пустыня. Если бы Рейчел так не беспокоилась о Бене, она могла бы получить удовольствие от бескрайних просторов, мощности и послушности «Мерседеса» и чувства удивительной свободы, которое всегда испытывала при путешествии через пустыню. Но она не могла отделаться от мыслей о нем, жалела, что оставила одного, несмотря на убедительность доводов в пользу его плана и отсутствие выбора. Она подумывала, не повернуть ли назад, но боялась уже не застать его в домике. К тому же если она вернется к озеру, то может попасть прямиком в лапы полиции, так что Рейчел продолжала гнать «Мерседес» вперед к Барстоу со скоростью шестьдесят миль в час. Когда она была в пяти милях от Викторвилля, ее напугал странный глухой стук, который, казалось, доносился откуда-то снизу: четыре или пять ударов, и затем — тишина. Она вполголоса выругалась, ожидая, что в любой момент машина сломается. Сбавила скорость до пятидесяти миль, потом до сорока и приблизительно с полмили внимательно прислушивалась к «Мерседесу». Шорох шин по асфальту. Урчание мотора. Тихий шепот кондиционера. Никакого стука. Она снова довела скорость до шестидесяти и продолжала слушать, подумав, что неизвестный дефект проявляет себя только на высоких скоростях. Еще миля позади, и никакого стука. Наверное, она попала в выбоины на асфальте, решила Рейчел. Она их не заметила, да и не помнила, чтобы машина подскакивала одновременно со стуком, но другое объяснение ей в голову не приходило. Рессоры и подвески у «Мерседеса» были самого высшего качества, так что они, наверное, смягчили тряску, а она, занятая странными звуками, просто не обратила внимания на небольшую вибрацию. Еще несколько миль Рейчел нервничала. Не то чтобы она ждала, что внезапно отвалится весь задний мост или взорвется двигатель, но боялась, что любая поломка может задержать ее. Однако машина продолжала прекрасно работать, и она расслабилась и снова вернулась мыслями к Бену.Зеленый «Шевроле» пострадал при столкновении с «Фордом» — погнута решетка, разбита фара, изуродован бампер, но двигаться на нем было можно. Пик проехал по грунтовой дороге до гравия, потом по щебенке до шоссе вокруг озера, в то время как Шарп сидел рядом и оглядывал лес вокруг, держа пистолет с глушителем на коленях. Шарп был уверен (так он заявил), что Шэдвей пошел в другом направлении, но все равно соблюдал осторожность. Пик все время ждал, что раздастся ружейный выстрел и пуля пробьет боковое стекло. Но на шоссе он выбрался живым. Они поехали по главной дороге и наткнулись на ряд припаркованных машин и грузовичков, вероятно принадлежавших рыболовам, которые через лес направились к озеру, к своим излюбленным глухим и труднодоступным местам. Шарп вычислил, что Шэдвей спустится с горы южнее машин, вспомнив, что проезжал мимо них, когда двигался к домику, и пойдет на север вдоль шоссе, возможно прячась в канавах или в лесу на обочине дороги, чтобы найти себе новые колеса. Пик поставил свой седан в ряд с последней из шести машин, грязным, побитым «Доджем», слегка подавшись назад, чтобы Шэдвей не заметил их, когда подойдет поближе. Шарп и Пик сидели пригнувшись на переднем сиденье, высунув головы ровно настолько, чтобы видеть сквозь лобовое стекло и окна стоящий рядом «Додж». Они приготовились быстро среагировать при малейшем признаке, что кто-то возится с одной из машин. Во всяком случае, Шарп приготовился. Пик все еще находился на распутье. Порывистый ветер шумел в кронах деревьев. Стрекоза зловещего вида пролетела мимо лобового стекла, лениво махая прозрачными крылышками. Тихо тикали часы на приборной доске, и у Пика возникло странное, но вполне понятное ощущение, что они сидят на бомбе с часовым механизмом. — Минут через пять он появится, — сказал Шарп. «Надеюсь, нет», — подумал Пик. — Мы прищучим ублюдка, будь покоен, — добавил Шарп. «Только не я», — подумал Пик. — Он думает, что мы ездим взад-вперед по дороге, разыскивая его. Он не догадается, что мы его тут поджидаем. Он попадет прямо в наши объятия. «Господи, надеюсь, чтонет, — подумал Пик. — Надеюсь, он пойдет на юг, а не на север. Или переберется через гору и спустится с другой стороны и никогда даже не приблизится к этой дороге. О Господи, сделай так, чтоб он просто перешел через дорогу, спустился к озеру и по воде перебрался на другую сторону». — Мне показалось, — заметил Пик, — что он лучше вооружен, чем мы. Я заметил ружье. Об этом нельзя забывать. — Он не станет в нас стрелять, — возразил Шарп. — Почему? — Потому что он сраный моралист, вот почему. Такой чувствительный. О своей чертовой душе слишком заботится. Такие, как он, могут убивать на войне, причем на такой войне, в которую они верят, или в ситуации, когда у них не будет абсолютно никакого выбора, как только убить, чтобы защитить себя. — Ну, если мы начнем стрелять, у него не будет другого выбора, как тоже стрелять. Разве не так? — Тебе его не понять. В такой ситуации, когда нет войны, если есть куда сбежать, если его не зажали в угол, он всегда предпочтет сбежать, а не стрелять. Это лучший выбор с моральной точки зрения, видишь ли, а ему нравится думать о себе как о хорошем парне. Здесь, в лесу, полно места куда бежать. Значит, если мы стреляем и убиваем его, все кончено. Но если мы промахиваемся, он не станет стрелять, этот ублюдок и ханжа, он побежит и даст нам еще шанс пристрелить его и будет продолжать давать нам такие шансы, пока рано или поздно мы его или упустим, или прикончим. Только ради всего святого, никогда не загоняй его в угол, всегда оставляй ему лазейку. Когда он побежит, мы сможем выстрелить ему в спину, и это будет самый мудрый выход, потому что этот парень был морским пехотинцем, и чертовски хорошим, лучше многих, пожалуй, самым лучшим, должен отдать ему справедливость, лучшим из лучших. И, похоже, сохранил форму. Так что если он будет вынужден, то снесет тебе голову голыми руками. Пик так и не мог решить, какие из новых откровений Шарпа более омерзительны: то ли, что, сводя какие-то счеты, они собираются убить не только невиновного человека, но человека высоких моральных принципов, которые он свято блюдет и скорее подвергнет себя смертельному риску, чем будет пытаться убить их, готовых с легким сердцем прикончить его, или что они собираются выстрелить ему в спину, если им представится случай; или что этот парень, если у него не будет выбора, способен справиться с ними без всякого труда. Пик последний раз спал накануне днем, больше суток назад, и ему очень хотелось спать, но, выслушав откровения Шарпа, он забыл про сон, раздумывая, какие сделать из них выводы. Шарп неожиданно наклонился вперед, как будто заметил идущего с юга Шэдвея, но, по-видимому, тревога была ложной, потому что он снова откинулся на сиденье и шумно вздохнул. Он не просто зол, он напуган, подумал Пик. И напрягся, собираясь задать вопрос, который наверняка разозлит Шарпа. — Вы его знаете, сэр? — Да, — коротко подтвердил Шарп, явно не желая вдаваться в подробности. — Откуда? — Это было не здесь. — А когда это было? — Давно, — отрезал Шарп, тоном давая понять, что больше задавать вопросы не следует. Со вчерашнего вечера, сначала это го расследования, Пик не переставал удивляться, что человек, занимающий пост заместителя директора, сам непосредственно участвует в операции, плечом к плечу со своими подчиненными, вместо того чтобы управлять ими из офиса. Дело, безусловно, было важным. Но Пик сподобился участвовать и в других важных делах, и ему еще ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь из высокопоставленных офицеров пачкал собственные руки. Теперь он понял, в чем дело: Шарп предпочел влезть в самую грязь, потому что обнаружил, что его давний недруг, Шэдвей, замешан в это дело и, только непосредственно участвуя в операции, он сможет убить Шэдвея и сделать так, чтобы убийство казалось оправданным. — Давно, — повторил Шарп больше самому себе, чем Джерри Пику. — Давным-давно.
Внутри просторного багажника «Мерседеса» было тепло, так как его нагрело солнце. Но свернувшийся в темноте Эрик Либен ощущал другое, более сильное тепло: странный и почти приятный жар в крови, в плоти, в костях, жар, который, казалось, превращал его во что-то… иное, отличное от человека. Внутренний жар и тепло багажника, темнота, движение машины и завораживающее шуршание шин убаюкали его и привели в состояние, похожее на транс. На какое-то время Эрик забыл, кто он такой, где он, как сюда попал. Мысли лениво плавали в его голове, как пятна мазута на воде, меняя форму, смешиваясь и образуя небольшие омуты. Временами то были приятные и легкие мысли: очаровательные изгибы тела Рейчел, гладкость ее кожи, Сара, другие женщины, с которыми он занимался любовью, его любимый плюшевый медвежонок, с которым он всегда спал в детстве, отрывки из понравившихся фильмов, строчки из любимых песен. Но иногда в мозгу появлялись темные и пугающие образы: дядя Барри, манящий его к себе; незнакомая мертвая женщина в мусорном контейнере; еще одна женщина, распятая на стене, мертвая, голая, уставившаяся на него невидящими глазами; Смерть в капюшоне, притаившаяся в тени; изуродованное лицо в зеркале; странные, чудовищные руки, каким-то образом присоединенные к его запястьям… Один раз машина остановилась, и прекращение движения заставило Эрика выплыть из транса. Он быстро сориентировался, и его снова наполнила та самая ледяная ярость рептилии. Он с удовольствием сжал и разжал свои сильные, удлинившиеся пальцы с острыми ногтями, предвкушая, как с их помощью выпустит из Рейчел дух — она отказала ему, отреклась от него, послала его навстречу смерти. Он едва не выскочил из багажника, но услышал мужской голос и заколебался. Судя по тем отрывкам разговора, которые ему удалось расслышать, и скрежету бензинового шланга, Рейчел остановилась у бензоколонки, а там вполне могли оказаться несколько человек. Стоит подождать более удобного случая. Еще раньше, в гараже, когда открыл багажник, он сразу заметил, что задняя стенка его представляет собой сплошную металлическую панель и у него не будет возможности просто сорвать заднее сиденье с креплений и проникнуть в машину. Более того, замок багажника не открывался изнутри, так как был закрыт металлической пластиной, привинченной винтами. К счастью, Шэдвей и Рейчел увлеклись собиранием бумаг по проекту «Уайлдкард», а Эрик тем временем успел схватить отвертку, снять пластину, забраться в багажник и закрыть крышку. Даже в темноте он мог найти замок, засунуть острие отвертки в механизм и без труда открыть его. Если при следующей остановке он не услышит голосов, то сможет выпрыгнуть из багажника за пару секунд и схватить Рейчел раньше, чем она поймет, что произошло. На бензоколонке, терпеливо и молча лежа в багажнике, Эрик дотронулся до лица руками, и ему показалось, что оно за это время еще как-то изменилось. К тому же, ощупав шею, плечи и большую часть своего тела, он почувствовал, что сложен теперь не так, как раньше. Внезапно ему показалось, что его пальцы, скользя по коже, дотронулись до… чешуи. От отвращения у него застучали зубы. Он быстро прекратил изучать себя. Но он хотел знать, во что превращается. И в то же время не хотел этого знать. Он боялся, что не перенесет, если узнает. Он смутно подозревал, что, намеренно откорректировав небольшую часть своей генной системы, нарушил баланс в неизвестных жизненных химических процессах. Возможно, их и нельзя познать. Этот дисбаланс не был слишком серьезным до его смерти, но после его измененные клетки начали действовать непредсказуемо, заживление происходило с неестественной стремительностью и в пугающих масштабах. Эта деятельность — бурный поток гормонов роста и белков — каким-то образом разрушила генную стабильность, уничтожила биологический регулятор, который обеспечивал медленный-медленный, размеренный темп эволюции. Теперь же он эволюционировал с безумной скоростью. Правильнее было бы сказать, он деградировал, потому что его тело стремилось воссоздать древние формы, память о которых хранилась десятки миллионов лет в его генах. Он понимал, что с точки зрения умственной деятельности колеблется между привычным современным интеллектом Эрика Либена и чуждым сознанием нескольких примитивных человеческих предков. Он боялся, что деградирует как умственно, так и физически до какого-то непонятного существа, которого уже не помнило человечество, что перестанет быть Эриком Либеном и его личность растворится навсегда в доисторическом сознании обезьяны или рептилии. Она виновата в том, что с ним случилось, — убила его, запустив в действие механизм его генетически измененных клеток. Он жаждал мести, жаждал до боли, хотел растерзать эту стерву, распороть ей брюхо, вырвать глаза, размозжить голову, разодрать хорошенькое лицо, это надменное, ненавистное лицо, сожрать ее язык, а затем припасть ртом к ее артериям, из которых бьет кровь, и пить, пить… Он снова содрогнулся, только на этот раз то была дрожь примитивной потребности, дрожь нечеловеческого наслаждения и возбуждения. Заправившись, Рейчел снова вернулась на шоссе, и Эрик опять впал в транс, убаюканный монотонностью движения. На этот раз его мысли были более странными, более похожими на сон, чем раньше. Он видел, как бежит, низко пригнувшись, по укутанной туманом местности; вдалеке на горизонте клубятся горы, и небо над ними такое чистое и темно-синее, каким он его никогда не видел, и тем не менее оно ему знакомо, как и окружающая его пышная растительность, никогда не встречавшаяся Эрику Либену, но хорошо известная какому-то другому существу внутри его. Затем он видит себя в этом полусне уже и вовсе не на ногах, он уже совсем другой, ползет на животе по теплой влажной земле, заползает на сгнивший ствол дерева, рвет его лапами с длинными когтями, срывает кору и трухлявую древесину, пока не добирается до огромного гнезда копошащихся личинок, в которое он жадно погружает свое лицо… Охваченный темной первобытной дрожью, он застучал ногами по стенке багажника, что заставило его на короткое время очнуться от полусна, наполненного мрачными образами и мыслями. Потом сообразил, что стук может обеспокоить Рейчел, и прекратил. Машина замедлила ход, и Эрик принялся шарить в темноте в поисках отвертки на случай, если придется срочно открывать замок и вылезать. Но тут машина снова пошла быстрее — Рейчел не поняла, что такое она слышала, — и он снова утонул в тине первобытных воспоминаний и желаний. Пока он мысленно находился в каком-то отдаленном месте, Эрик продолжал меняться физически. Темный багажник напоминал матку, в которой развивается не поддающийся воображению мутант-ребенок, что формируется снова, и снова, и снова. То было одновременно что-то очень старое и что-то совершенно новое, чего никогда не видел свет. Что-то, чье время прошло — и все еще не наступило.
Бен догадывался: они решат, что он вспомнит про ряд машин, припаркованных с восточной стороны шоссе, и будут караулить его там. Более того, они, очевидно, полагают, что он пойдет вдоль дороги на север, прячась в канаве с восточной стороны при приближении машин. Еще они могут подумать, что он останется на восточном склоне, с той стороны, где горы, и будет осторожно двигаться вдоль шоссе под прикрытием деревьев и кустарников. Но вряд ли они ждут, что он перейдет через дорогу, зайдет в лес на западной стороне, со стороны озера, направится на север под прикрытием этих деревьев и выйдет к стоянке машин сзади. Он сообразил правильно. Пройдя некоторое расстояние, причем дорога находилась у него справа, а озеро — слева, он спустился по склону, спрятался за последним камнем и осторожно посмотрел на юг, в сторону машин. Он увидел двух мужчин, пригнувшихся на переднем сиденье темно-зеленого седана. Они пристроились за «Доджем», так что, подойди он к ним с юга, а не сзади, он бы их не заметил. Они смотрели в другую сторону, наблюдая за дорогой через боковые стекла стоящих впереди машин. Бен слез с парапета и минуту полежал на склоне на спине. Матрасом ему служили еловые иголки, сухая трава и неизвестные растения с толстыми листьями, которые смялись под ним и смочили своим холодным соком его рубашку и джинсы. Но он так вымазался и устал, поспешно спускаясь с горного склона от дома Эрика, что его уже не заботило, испачкается ли он еще и об эти растения или нет. Заткнутый за пояс «магнум» больно давил на спину, и Бен слегка подвинулся, чтобы изменить положение тела. Как ни мешал ему сейчас «магнум», с ним он чувствовал себя увереннее. Раздумывая о парочке, ждущей его на шоссе, он уже прикидывал, не пойти ли ему на север и не поискать ли другие машины. Возможно, ему удалось бы украсть автомобиль и уехать подальше отсюда, пока они догадаются, что его здесь нет. С другой стороны, он может пройти милю, две или даже три и не встретить ни одной машины, припаркованной вдали от своего владельца. И маловероятно, что Шарп со своим коллегой будут так долго ждать. Если Бен вскоре не объявится, они решат, что неправильно поняли его намерения. Начнут ездить по шоссе взад-вперед, а время от времени, возможно, останавливаться, чтобы порыскать по лесу с обеих сторон дороги, и, хотя он в принципе дал бы им сто очков вперед в этих играх, он не мог быть полностью уверен, что они где-нибудь на него не наткнутся. В данный момент у него было преимущество, потому что он знал, где они, тогда как они не имели представления, где он. Бен решил этим преимуществом толково воспользоваться. Первым делом он огляделся в поисках гладкого камня величиной с кулак, нашел то, что требовалось, и прикинул его на вес в руке. Вполне удовлетворительно. Расстегнул несколько пуговиц; на рубашке, засунул камень за пазуху и снова застегнул рубашку. Держа «ремингтон» в правой руке, он крадучись прошел вдоль парапета в южном направлении, пока не оказался, по его расчетам, как раз под их «Шевроле». Снова поднявшись на склон, увидел, что правильно рассчитал расстояние: задний бампер «Шевроле» находился в нескольких дюймах от его лица. Окно со стороны Шарпа было опущено — обычные правительственные машины в редких случаях могли похвастаться кондиционером, — и Бен понял, что окончательно приблизиться должен в полнейшей тишине. Если Шарп услышит что-нибудь подозрительное и выглянет из окна или даже просто посмотрит в боковое зеркало, он увидит пригнувшегося за «Шевроле» Бена. Сейчас бы не помешал какой-нибудь посторонний шум, и Бен от души пожелал, чтобы ветер усилился. Хороший порыв, сотрясающий деревья, скроет его… Но ему повезло больше: с севера послышался приближающийся звук мотора. Бен напряженно ждал, и действительно с севера появился серый «Понтиак-Файерберд». С приближением машины усилились звуки рок-музыки: пара подростков на прогулке, стекла опущены, магнитофон надрывается, Брюс Спрингстин поет с энтузиазмом о любви, машинах и сталеварах. Превосходно. В тот момент, когда шумный «Понтиак» проезжал мимо «Шевроле», когда шум мотора и вопли Спрингстина достигли апогея и внимание Шарпа было, несомненно, отвлечено в направлении, прямо противоположном его боковому зеркалу, Бен быстро перебрался через парапет и прокрался за седан. Он пригнулся пониже, чтобы его не было видно в заднее стекло и в боковое зеркало, если второй агент Бюро вздумает проверить дорогу сзади. Когда шум мотора «Понтиака» и голос Спрингстина стихли, Бен ползком обогнул левый угол «Шевроле», глубоко вздохнул, вскочил на ноги и выпустил заряд в заднюю шину. Грохот потряс тишину гор с такой силой, что сам Бен испугался, хотя и знал, чего ждать. Мужчины в машине заорали. Один из них крикнул: — Пригнись! Машина осела со стороны водителя. Руки у Бена болели от отдачи после первого выстрела, но он выстрелил снова, на этот раз с целью напугать их, целясь низко над крышей, чтобы дробь ее задела, а сидящим внутри показалось, что часть дроби попала внутрь. Оба мужчины тут же легли на переднее сиденье, а из такой позиции они не только не могли стрелять, но даже и видеть Бена. На бегу он сделал еще выстрел в землю, затем задержался около дверцы водителя и выстрелил в переднюю шину, после чего машина осела еще больше. Потом всадил еще один заряд в то же колесо для пущего эффекта — громоподобный звук, издаваемый ружьем, действовал на нервы даже ему, так что Шарпа и другого парня он должен был просто парализовать, — и взглянул в лобовое стекло, чтобы убедиться, что оба его противника все еще прячут головы. Их не было видно, и тогда он сделал шестой, и последний, выстрел по лобовому стеклу, уверенный, что он не повредит серьезно ни одному из сидящих в машине, но напугает их настолько, что они еще минуту-другую не отважатся поднять головы. Дробь еще продолжала сыпаться на заднее сиденье «Шевроле», осколки стекла — на переднее, а Бен уже успел сделать три шага и, упав на землю, залезть под стоящий рядом «Додж». Когда они решатся поднять головы, то подумают, что он кинулся в придорожный лес, где перезаряжает ружье и дожидается, чтобы они показались. Им ни за что не придет в голову, что он прячется под рядом стоящей машиной. Его легкие стремились делать судорожные, шумные глотки воздуха, но он принудил себя дышать медленно, легко, ритмично и тихо. Ему хотелось помассировать руки и ладони, которые болели от отдачи ружья — ведь он стрелял так много и из такой неудобной позиции. Но Бен отказался от этой мысли, просто терпел, зная, что боль и одеревенение пройдут сами по себе. Через некоторое время он услышал, как они разговаривают, потом послышался звук открываемой дверцы. — Черт побери, Пик, пошли, — приказал Шарп. Шаги. Бен повернул голову направо, выглядывая из-под машины. Увидел, что рядом появились черные ботинки Шарпа. У Бена были точно такие же. На ботинки налипла грязь, а к шнуркам прицепились колючки. Слева никакой обуви не появилось. — Давай, Пик, — повторил Шарп хриплым шепотом, который прозвучал как крик. Открылась еще дверца, потом послышались нерешительные шаги, и в поле зрения Бена с левой стороны машины появились туфли. Более дешевые черные туфли Пика оказались еще в худшем состоянии, чем у Шарпа: грязь покрывала их до самого верха, налипла кусками на каблуки и подошву, а колючек на шнурках болталось вдвое больше. Мужчины стояли по разные стороны «Доджа» молча, прислушиваясь и осматриваясь. Бену пришла в голову безумная мысль, что они услышат биение его сердца, потому что, с его точки зрения, оно стучало, как барабан. — Может, он там, впереди, между двумя машинами, ждет, чтобы дать нам чем-нибудь по башке, — прошептал Пик. — Он ушел в лес, — так же тихо ответил Шарп, но в голосе его звучало презрение. — Наблюдает сейчас за нами из укрытия и едва сдерживается, чтобы не заржать. Гладкий камень величиной с кулак давил на живот Бена, но он не рискнул переменить положение, потому что малейший звук мог его выдать. Наконец Пик и Шарп двинулись параллельно друг другу, и Бен перестал видеть их ноги. Скорее всего они осторожно заглядывали в машины и между ними. Но вряд ли они встанут на колени и посмотрят под машинами, потому что было чистым безумием для Бена прятаться там, лежать на животе практически беспомощным, не имея возможности быстро выбраться. Они могли пристрелить его без всяких хлопот. Если риск, на который он пошел, окупится, ему удастся сбить их со следа, заставить искать там, где его нет, что даст ему возможность умыкнуть какую-нибудь машину. Однако, если они решат, что он такой дурак или такой умный, чтобы спрятаться под машиной, ему конец. Бен взмолился в душе, чтобы владелец «Доджа» не вернулся в самый неподходящий момент и не уехал на своей машине, оставив его на виду. Шарп и Пик дошли до конца ряда и, не найдя своего врага, вернулись, все еще двигаясь по разные стороны машин. Теперь они разговаривали громче. — Вы сказали, он никогда не станет в нас стрелять, — горько заметил Пик. — Он и не стрелял. — В меня он стрелял, это точно, — возразил Пик, повышая голос. — Он стрелял в машину. — Какая разница? Мы же были в машине. Они снова остановились около «Доджа». Бен посмотрел налево и направо на их ботинки, надеясь, что ему не захочется чихнуть, кашлянуть или выпустить газы. — Он стрелял по шинам, — пояснил Шарп. — Видишь? Какой ему смысл было портить машину, если он собирался нас убить. — Он выстрелил в лобовое стекло, — снова возразил Пик. — Да, но мы сидели пригнувшись, он знал, что не попадет в нас. Говорю тебе, он неженка, сраный моралист, считает себя кристально чистым. Он будет в нас стрелять, если у него не останется выбора, и он никогда не выстрелит первым. Нам надо действовать. Послушай, Пик, если бы он хотел убить нас, он сунул бы ружье в любое из окон и прикончил нас обоих за пару секунд. Подумай об этом. Оба помолчали. Вероятно, Пик размышлял о сказанном. Бен пытался догадаться, о чем думает Шарп. Он сильно надеялся, что Шарп не вспомнил «Похищенное письмо» Эдгара Аллана По. Хотя вряд ли; Бен не верил, что Шарп вообще в жизни читал что-нибудь, кроме порнографических журналов. — Он там, в лесу, — наконец заявил Шарп, повернувшись спиной к «Доджу» и продемонстрировав Бену свои каблуки. — Там, поближе к озеру. Готов поспорить, он нас сейчас видит. Смотрит, что мы будем делать. — Нам нужна другая машина, — заметил Пик. — Сначала тебе надо пойти в лес, оглядеться, посмотреть, нет ли его там. — Мне? — Тебе, — подтвердил Шарп. — Сэр, я неподходяще одет для такого дела. Мои туфли… — Здесь меньше подлеска, чем у дома Эрика Либена, — сказал Шарп. — Справишься. Пик поколебался, но все же спросил: — А вы что будете делать, пока я там шарю? — Отсюда, — ответил Шарп, — я могу видеть между деревьями и кустами. Если ты к нему там, внизу, приблизишься, он может попытаться уйти от тебя, прячась за кустами и камнями, а ты этого не заметишь. Но отсюда, сверху, я обязательно его увижу, если он зашевелится. А когда увижу, то нападу прямо на него. Бен услышал непонятный звук, как будто у банки майонеза отвинчивали крышку. Сначала он не мог решить, что бы это значило, потом сообразил, что Шарп отвинчивает глушитель с пистолета. Шарп подтвердил его подозрения. — Возможно, ружье и дает ему преимущество… — Возможно? — повторил Пик в изумлении. — …но нас двое, два пистолета, и без глушителей нам легче будет попасть в цель. Давай иди, Пик. Иди и выкури его оттуда для меня. Казалось, Пик вот-вот взбунтуется, но он все же пошел. Бен продолжал ждать. Мимо проехала пара машин. Бен лежал неподвижно, наблюдая за ботинками Шарпа. Немного погодя Шарп отошел на шаг от машины, дальше начинался парапет и за ним — крутой склон и лес. Когда мимо проезжала еще одна машина, Бен воспользовался шумом, выскользнул из-под «Доджа» со стороны водителя и сжался за водительской дверцей, стараясь не высовывать голову выше стекла. Теперь они с Шарпом находились по разные стороны от «Доджа». Держа ружье в одной руке, Бен расстегнул рубашку и достал камень, найденный им в лесу. Шарп зашевелился. Бен застыл, прислушиваясь. Скорее всего Шарп просто двигался вдоль парапета, чтобы не потерять Пика из виду. Бен знал, что должен действовать быстро. Если мимо проедет еще машина, он предстанет перед ее пассажирами в престранном виде: перепачканная одежда, в одной руке ружье, в другой — камень, за поясом — револьвер. Одно нажатие на клаксон, и проезжающий мимо водитель, предупредит Шарпа об опасности за его спиной. Слегка выпрямившись, Бен взглянул поверх крыши «Доджа» прямо в затылок Шарпа. Если Шарп сейчас повернется, одному из них придется пристрелить другого. Бен напряженно ждал, пока не убедился, что внимание Шарпа приковано к северо-восточной части леса. Тогда он изо всей силы швырнул камень высоко через крышу машины, через голову Шарпа, чтобы ветер от полета камня не привлек его внимания. Он надеялся, что Шарп не увидит камень в полете, что камень не попадет в дерево слишком рано, но залетит далеко в лес, пока не столкнется с чем-нибудь. В последнее время он только и делал, что надеялся да молился. Не дожидаясь результатов, он снова упал у машины и здесь услышал, как его «ракета» наконец упала с весьма ощутимым шумом. — Пик! — закричал Шарп. — Сзади тебя, сзади тебя! Вон там! Там, в кустах, около дренажной канавы! Бен услышал скрежет, шорох и стук, по-видимому, это Шарп перелез через парапет и кинулся к лесу. Подозревая, что он принимает желаемое за действительное, Бен осторожно приподнялся. К его изумлению, Шарп исчез. Теперь шоссе было в распоряжении Бена. Он быстро прошел по ряду машин, пробуя дверцы. «Чеветте» четырехлетней давности оказалась открытой. То было ужасное рвотно-желтое сооружение с ярко-зеленой обивкой. Но выбирать ему не приходилось. Он сел в машину и аккуратно закрыл дверцу. Вынул «магнум» из-под ремня и положил его на сиденье, у себя под рукой. Прикладом ружья принялся колотить по замку зажигания, пока вовсе не сбил его с рулевой колонки. Отложив «ремингтон», он торопливо нащупал провода зажигания, соединил зачищенные концы и нажал на педаль газа. Двигатель кашлянул раз и завелся. Если Шарп не слышал стука, то уж наверняка услышал звук включенного мотора, понял, что это значит, и, вне сомнения, сейчас поспешно взбирается по склону, по которому только что спустился. Бен снял машину с ручного тормоза. Включил скорость и выехал на дорогу. Он двинулся на юг, потому что машина стояла в эту сторону передом, а на разворот у него времени не осталось. За ним раздался жесткий звук пистолетного выстрела. Он поморщился, втянул голову поглубже в плечи, взглянул в зеркало и увидел Шарпа, выбегающего из-за «Доджа» на середину дороги, откуда ему было удобнее стрелять. — Ты опоздал, недоносок. — Бен вогнал педаль газа в пол. Машина закашляла, словно больная чахоткой старая кобыла, которую попросили поучаствовать в дерби Кентукки. В бампер или крыло ударила пуля, а мотор взвыл, как от боли. Но потом машина перестала кашлять и содрогаться и рванулась наконец вперед, выпустив облако синего дыма. В зеркало заднего обзора Бен видел окутанного дымом Шарпа, похожего на демона, спускающегося назад в преисподнюю. Возможно, он снова выстрелил, но Бен не расслышал выстрела за завыванием машины. Дорога поднялась на холм и спустилась вниз, свернув направо. Бен слегка сбросил скорость, вспомнив помощника шерифа у магазина спортивных товаров. Может, блюститель закона все еще там. Бен решил, что ему и так слишком повезло, не стоит искушать судьбу, превышая скорость в стремлении поскорее убраться из этих краев. Не стоит забывать, что на нем грязная одежда, при нем ружье и «магнум», так что, если его остановят за превышение скорости, вряд ли можно рассчитывать, что удастся отделаться штрафом. Он снова был в пути. Сейчас это главное — ехать, пока он не догонит Рейчел либо на шоссе 1–15, либо в Вегасе. С Рейчел все будет в порядке. Он уверен, с ней все будет в порядке. По голубому летнему небу плыли низкие белые облака. Облачность явно сгущалась. Края некоторых облаков были серого, стального, оттенка. По обеим сторонам дороги лес уходил все глубже в темноту.
Глава 28
ЖАР ПУСТЫНИ
Рейчел доехала до Барстоу без двадцати четыре во вторник днем. Она было хотела остановиться на шоссе 1–15 и перехватить бутерброд. За весь день она съела только яйцо и две маленькие шоколадки на автозаправочной станции. Кроме того, кофе, который она выпила утром, и кока-кола начинали действовать, возникла потребность воспользоваться туалетом. Но, поразмыслив, она решила не останавливаться. Барстоу был достаточно крупным городом, чтобы иметь полицейский участок и отдел калифорнийской патрульной службы. И хотя вероятность того, что она встретится с полицией и в ней узнают ту предательницу и шпионку, о которой говорилось по радио, была, в общем, невелика, легкий голод и давление в мочевом пузыре не показались ей основанием, чтобы идти на риск. Она будет в относительной безопасности на участке дороги между Барстоу и Вегасом, потому что полиция редко посылала патрульные машины на такие длинные участки дороги. Здесь почти не существовало опасности быть остановленным за превышение скорости, и машины обычно двигались на этом участке со средней скоростью в семьдесят или восемьдесят миль в час. Хотя Рейчел разогнала «Мерседес» до семидесяти миль, другие машины все равно обгоняли ее, и это давало ей уверенность, что патрульная машина, если произойдет чудо и таковая появится, не остановит ее. Она припомнила, что милях в тридцати расположен пункт отдыха для водителей, где есть все необходимые удобства. Надо потерпеть и воспользоваться туалетом там. Что касается еды, то вряд ли она рискует умереть от недоедания, если пропустит обед и поужинает в Вегасе. Рейчел заметила, что по другую сторону перевала Эль-Кайон облачность стала сгущаться, и чем дальше в глубь пустыни она ехала, тем больше портилась погода. Сначала облака были белыми, потом белыми с бледно-серыми бородками, а теперь они казались сплошь серыми с полосками цвета антрацита. Пустыне не помешали бы осадки, но иногда летом небеса разверзались так, что, казалось, собирались повторить библейскую историю о Ное и потопе, выливая такие потоки воды, которые голая земля не могла впитать. На большинстве участков шоссе было проложено выше уровня стока, но то тут, то там стояли знаки, предупреждающие: «ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАТОПЛЕНИЯ». Она не слишком боялась наводнения. Однако сильный дождь мог замедлить ее продвижение, а ей хотелось добраться до Вегаса не позже половины седьмого. Она не почувствует себя хоть немного в безопасности, пока не устроится в полуразрушенном мотеле Бенни. И не почувствует себя полностью в безопасности, пока Бенни к ней не присоединится, они опустят шторы и закроются от всего белого света. Через несколько минут после Барстоу она проехала Калико. Бензозаправочные станции, мотели и рестораны остались позади, впереди лежали шестьдесят миль практически ненаселённой пустыни, если не считать крошечного Бейкера. Дорога и движение по ней были единственными признаками, что это — населенная планета, а не стерильный, лишенный жизни обломок скалы, вращающийся безмолвно в безвоздушном пространстве. Как обычно во вторник, машин на дороге было немного, в основном грузовики, а не легковушки. С четверга по понедельник десятки тысяч людей ехали в Вегас и обратно. Зачастую по пятницам и воскресеньям движение было настолько плотным, что казалось, будто всех машиновладельцев большого города перенесли во времени в пустынную эру еще до мезозоя. Но сегодня машина Рейчел была единственной на ее стороне шоссе. По обеим сторонам дороги — безжизненный пейзаж, голые сопки и покрытые высохшей травой равнины с разбросанными по ним белыми, серыми и коричневыми камнями, напоминающими обглоданные части скелета — там ключица и лопатка, тут лучевая и локтевая кости, сбоку бедренная и две тазовые, а подальше — кучка костей стопы. Земля напоминала кладбище гигантов прошедших эпох, чьи могилы были развеяны веками ветров. Многорукие деревья Джошуа напоминали статуи Шивы. Других кактусов в этих засушливых районах не водилось. Из растительности встречались только какие-то жалкие кусты и шары перекати-поля. Пустыня здесь в основном состояла из песка, камней, солончаковых равнин и твердых участков лавы. На севере вдали виднелись горы Калико, за ними дальше к северу вздымались величественные темно-красные гранитные горы, а к юго-востоку — горы Кэди. Это были голые, заостренные каменные монолиты, и они производили пугающее впечатление. В десять минут четвертого Рейчел добралась до пункта отдыха, о котором вспомнила раньше. Сбавила скорость и съехала с шоссе на просторную пустую стоянку. Остановилась у низкого бетонного строения, где располагались мужские и женские комнаты отдыха. Справа от них был сооружен навес из тяжелой металлической решетки на четырех металлических столбах в восемь футов высотой, под которыми в пронизанной солнцем тени стояли три складных столика. Все кусты здесь были старательно выкорчеваны, и остался только чистый белый песок. Невдалеке помещались несколько синих мусорных бачков с откидывающимися крышками, на которых белым было написано вежливое воззвание: «ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СОРИТЕ». Рейчел вылезла из «Мерседеса», захватив с собой только сумочку и ключи и оставив пистолет и коробки с обоймами под передним сиденьем, куда спрятала их, еще когда останавливалась заправиться. Захлопнула дверцу и закрыла ее — больше по привычке, чем по необходимости. Взглянула на небо, которое уже почти сплошь покрылось облаками стального цвета, как будто одевалось в броню. Жара еще не спала, что-то между девяноста и ста градусами по Фаренгейту, хотя два часа назад, когда небо начало заволакиваться облаками, было все-таки на десять или даже на двадцать градусов жарче. По шоссе с ревом проехали два огромных, шестнадцатиколесных грузовика, направляющиеся на восток, и на мгновение разорвали тишину пустыни, оставив после себя еще более глухую тишину. Направляясь к двери в женский туалет, Рейчел заметила табло, предупреждающее путешественников, что надо опасаться гремучих змей. Наверное, им нравилось приползать из пустыни и греться, растянувшись во всю длину, на бетонных дорожках. В туалете было душно, проветривался он только через жалюзи, но, во всяком случае, там недавно убирали. Пахло хвойным дезодорантом. Она также ощутила слабый запах потрескавшегося на сильной жаре бетона. Эрик медленно очнулся от очень яркого и запоминающегося сна или, возможно, погружения в невероятно древнюю генетическую память. Во сне он не был человеком. Он полз внутри полого дерева, не он, а какое-то другое существо, полз вниз, следуя за терпким запахом и твердо зная, что внизу есть нечто такое, что он сможет сожрать в темноте. Заметив пару янтарных глаз, понял, что может встретить сопротивление. Мохнатый теплокровный зверек с острыми зубами и когтями набросился на него в надежде защитить свое подземное гнездо. Внезапно он оказался вовлеченным в жаркую битву, которая его и испугала, и возбудила. В нем поднялась холодная ярость рептилии, заставив забыть голод, который вел его в поисках еды. В темноте он и его противник кусали, царапали и рвали друг друга. Эрик шипел, зверек визжал и плевался, но Эрик наносил более тяжелые раны, чем получал, и вскоре полый ствол дерева наполнил густой, великолепный запах крови, мочи и фекалий… Обретя человеческое сознание, Эрик почувствовал, что машина больше не движется. Он понятия не имел, как давно она остановилась, может, всего мину-ту-две назад, может, прошло уже несколько часов. Борясь с гипнотической силой, влекущей его в мир снов, который он только что покинул, стремясь снова очутиться в том месте, полном пьянящего насилия, где он чувствовал себя так покойно и уверенно и где существовали лишь самые примитивные потребности и удовольствия, он резко прикусил нижнюю губу, чтобы прочистить мозги, и был удивлен, да нет, пожалуй, не так уж и удивлен, обнаружив, что зубы его оказались более острыми, чем он помнил. Эрик прислушался, но не услышал никаких голосов снаружи. И даже подумал, что они уже доехали до Вегаса и машина теперь стоит в том самом гараже, куда Шэдвей велел Рейчел ее поставить. Холодная, нечеловеческая ярость, охватившая его во сне, все еще кипела в нем, но направлена была уже не на зверька с янтарными глазами, обитавшего в дупле, а на Рейчел. Душившая его ненависть к ней, потребность добраться до ее горла, разорвать ее на части превращались в бешенство. Он в темноте поискал отвертку. Хотя в багажнике светлее не стало, Эрик теперь не чувствовал себя таким слепым. Если он и не видел своей камеры, то, очевидно, каким-то новообретенным шестым чувством ощущал ее, потому что мог почти точно сказать, как выглядит каждая металлическая стенка. Он также почувствовал, что отвертка лежит у стены, около его коленей, и, когда протянул руку, чтобы проверить себя, сразу наткнулся на ребристую ручку инструмента. Он приоткрыл крышку багажника. Внутрь проник свет. Сначала в глазах появилась резь, потом они привыкли. Он откинул крышку. Удивился, увидев пустыню. Вылез из багажника.Рейчел вымыла руки горячей водой (мыло, правда, отсутствовало) и высушила их с помощью сушилки, которая здесь заменяла бумажные полотенца. Выйдя на улицу и захлопнув тяжелую дверь, она не обнаружила гремучих змей на дорожке. Успела сделать всего несколько шагов, когда заметила, что крышка багажника «Мерседеса» открыта. Она остановилась и нахмурилась. Даже если багажник не был заперт, крышка его не могла открыться самопроизвольно. Неожиданно она поняла: Эрик. Не успело его имя возникнуть у нее в мозгу, как он сам появился из-за угла, где-то футах в пятнадцати. Он остановился, уставившись на Рейчел, как будто ее вид вызвал у него такое же отвращение, как его вид у нее. То был Эрик и одновременно не Эрик. Она не могла отвести от него испуганных и недоумевающих глаз. Не в состоянии сразу постичь его причудливые метаморфозы, она сознавала, что виной всех этих чудовищных изменений является его переделанная генная структура. Тело его казалось деформированным, но из-за одежды было трудно точно сказать, что именно с ним произошло. Что-то странное случилось с его коленными суставами и бедрами. И он стал горбатым: красная рубашка натянулась на спине, готовая разорваться под напором горба, протянувшегося от плеча до плеча. Руки удлинились на два или три дюйма, это сразу бросалось в глаза, даже если бы его узловатые кисти со странными суставами не высовывались так далеко из манжет. Удлинившиеся пальцы с увеличенными суставами заканчивались когтями; кожа была покрыта желто-коричневыми пятнами и в некоторых местах казалась чешуйчатой. Деформированные, по человеческим меркам, руки все же выглядели устрашающе сильными, в них чувствовались гибкость, ловкость и какая-то целесообразность. Но ужаснее всего было его лицо. Когда-то красивое, оно странно и страшно изменилось, хотя его все еще можно было узнать. Казалось, что все кости лица переродились: одни стали более широкими и плоскими, другие — наоборот, уже и закругленнее. Лобная кость стала значительно толще, глаза ушли вглубь, челюсть резко выдавалась вперед. Кошмарный костяной гребень шел от самых шишковатых бровей и исчезал, утончаясь, под волосами. — Рейчел, — позвал он. Голос был низким, хриплым и вибрировал. Ей послышалась печальная, даже меланхолическая нотка. На его лбу виднелись две выпуклости конической формы, явно находившиеся в процессе формирования, по окончании которого они превратятся в рога длиной в большой палец Рейчел. Рога вроде бы не имели смысла, если бы не чешуйчатые пятна на лице и на руках и не складки гладкой кожи под подбородком и на шее, как бывает у земноводных. У некоторых ящеров есть рога, и, возможно, в какие-то отдаленные периоды своей эволюции человек проходил стадию земноводных и мог похвастаться такими рожками (хотя и маловероятно!). Одни черты этой ужасной внешности еще напоминали человека, другие — обезьяну. Рейчел смутно начала понимать, что в нем проявляются сейчас десятки миллионов лет генетического наследства, что каждая стадия эволюции одновременно борется за господство в его теле. Давно забытые формы в их великом множестве сражаются за выживание, меняя его тело, будто это пластилин. — Рейчел, — повторил он, но не двинулся с места. — Я хочу… я хочу… — Казалось, он не может найти слова, чтобы закончить мысль, а может, и не знает, что хочет сказать. Она тоже не могла двигаться, прежде всего потому, что ее парализовал страх, но также и потому, что ей хотелось понять, что же с ним происходит. Если на самом деле его раздирает на части заложенная в его генах память, если он деградирует, превращаясь во что-то дочеловеческое, в то время как его современный вид и интеллект тщетно пытаются сохранить господство над телом, когда каждое изменение в нем должно служить какой-то цели, быть связанным с определенным доисторическим периодом. Но, похоже, дело обстояло иначе. Пульсирующие артерии, выпуклые вены, костные наросты и впадины, казалось, существовали сами по себе и не были связаны ни с каким определенным известным существом на эволюционной лестнице. То же самое — горб на спине. Она подозревала, что наряду с воссозданием различных форм из биологического наследства человека мутированные гены вносили случайные изменения или стремились превратить его в некое чуждое существо, не имеющее ничего общего с человеком. — Рейчел… Какие острые у него зубы. — Рейчел… Серо-синие зрачки его глаз уже не были круглыми, они имели форму вертикального овала, характерную для пресмыкающихся. Но еще не полностью. Скорее всего они еще в процессе метаморфозы. Но это уже и не глаза человека. — Рейчел… Нос его вроде бы провалился, и ноздри были куда лучше видны, чем раньше. — Рейчел. Пожалуйста… пожалуйста… — Он протянул одну чудовищную руку к ней просящим жестом. В хриплом голосе слышалась мольба и одновременно жалость к самому себе. Но еще яснее звучала в этом голосе любовь и тоска, которая удивила его, казалось, не меньше, чем ее. — Пожалуйста… я… я хочу… — Эрик, — сказала она почти таким же странным голосом, как и у него, искаженным страхом и тяжелой печалью. — Что ты хочешь? — Я хочу… я… я хочу… не… — Да? — …не бойся… Она не знала, что ответить. Он шагнул к ней. Она немедленно попятилась. Он сделал еще шаг, и она заметила, что ему трудно передвигать ноги, как будто они изменились и им уже неудобно в обуви. Она снова отступила. Эрик, как в агонии, выдавливал из себя слово за словом: — Я хочу… тебя… — Эрик, — произнесла она тихо и с жалостью. — …тебя… тебя… Он сделал три быстрых тяжелых шага, она отступила на четыре шага назад. Голосом человека, мучающегося в аду, он проговорил: — Не… отвергай… меня… не… Рейчел, не… — Эрик, я не могу тебе помочь. — Не отвергай меня. — Тебе уже нельзя помочь, Эрик. — Не отвергай меня… снова. У нее не было никакого оружия, только ключи от машины в одной руке и сумочка — в другой, и она выругала себя за то, что оставила пистолет в машине. И еще попятилась назад. С диким криком ярости, от которого кровь у Рейчел похолодела, Эрик бросился на нее. Онашвырнула сумочку ему в голову, повернулась и кинулась в пустыню за автозаправочной станцией. По мягкому песку было трудно бежать, она пару раз едва не подвернула ногу, едва не упала. Редкие колючие кусты цеплялись за нее, мешая бежать, но она продолжала лететь вперед как ветер, пригнув голову, прижав локти к бокам, спасая свою жизнь.
Когда Эрик увидел Рейчел на дорожке около туалетов, его первая реакция удивила его самого. При виде ее прелестного лица, медно-рыжих волос и прекрасного тела, которое он когда-то обнимал, его неожиданно охватило чувство сожаления, что он так скверно с ней обращался, и ощущение огромной потери. Горящая в нем примитивная ярость внезапно исчезла, дав место более человеческим эмоциям. Глаза жгли слезы. Он с трудом мог говорить, и не только потому, что изменения, происшедшие с его горлом, затрудняли речь, но и потому, что задыхался от сожаления, печали и неожиданного страшного одиночества. Но она снова отвергла его, подтвердив худшие его подозрения и вырвав его из тины печали и жалости к самому себе. Холодная ярость первобытного существа, похожая на поток мутной воды, перемешанной со льдом, снова затопила его. Желание погладить ее волосы, ласково дотронуться до гладкой кожи, обнять ее мгновенно пропало, уступив место чему-то куда сильнее желания — страстной потребности убить ее. Теперь он хотел выпустить ей кишки, впиться ртом в ее еще теплую плоть и завершить свой триумф, помочившись на ее безжизненные останки. Он бросился на Рейчел, все еще желая ее, но уже с другой целью. Она побежала, он кинулся за ней. У него было преимущество — инстинкт, генетическая память о бесчисленных преследованиях, не только заложенная в закоулки его мозга, но и пропитавшая его кровь. Он настигнет ее рано или поздно. Она мчалась быстро, это высокомерное животное, но они всегда бегают быстро, подгоняемые ужасом и инстинктом выживания, однако долго это не продлится. К тому же убегающий в страхе значительно менее хитер, чем охотник. Так подсказывал ему опыт. Он пожалел, что не снял обувь, она ему мешала. Но уровень адреналина в крови был так высок, что он пренебрег болью в стиснутых пальцах ног и пятках. Сейчас этот дискомфорт не имел значения. Жертва кинулась на юг, хотя там не было никакого укрытия. Неприветливая территория, простирающаяся вплоть до далеких гор, была домом только для существ, которые ползали и скользили, кусали и жалили и иногда поедали свою молодь, чтобы выжить.
Рейчел начала задыхаться, пробежав всего лишь несколько сотен ярдов. Ноги налились свинцом. Нельзя сказать, что она была не в форме. Но дикую жару пустыни, казалось, можно было пощупать, и дна бежала сквозь нее, как сквозь воду. Жара шла в основном не сверху вниз, так как небо было почти сплошь покрыто облаками, но поднималась снизу вверх от раскаленного песка, который нагревался на солнце с самого рассвета, пока небо не затянуло облаками около часа назад. И хотя в принципе температура удерживалась где-то на девяноста градусах, этот воздух, поднимающийся вверх, был нагрет градусов до ста, если не больше. Ей казалось, что она бежит по раскаленной плите. Рейчел оглянулась назад. Эрик был от нее ярдах в двадцати. Она прибавила ходу, выжимая из своих ног максимум: вкладывая все свои силы, пробиваясь сквозь эти бесчисленные стены спрессованного зноя, хватая ртом горячий воздух. Во рту пересохло, язык прилип к гортани, в горле першило, в легких, казалось, начался пожар. Впереди она увидела заросли карликового мескитового дерева, протянувшиеся на двадцать или тридцать ярдов влево и на столько, же вправо. Она не хотела огибать их, боялась, что Эрик ее догонит. Деревья достигали ей только до колен, и заросли не показались слишком густыми и глубокими, поэтому она побежала напрямик и сразу же поняла, что они куда глубже, чем она думала, футов пятнадцать-двадцать, и значительно гуще, чем на первый взгляд. Колючие мясистые растения цеплялись за ее ноги, рвали джинсы и мешали бежать с таким упорством, что, казалось, у них есть собственная воля и они в сговоре с Эриком. Сердце билось все сильнее, слишком сильно, готовое вырваться из грудной клетки. Наконец Рейчел пробралась сквозь заросли, унося на своих джинсах и носках сотни кусков коры и листьев. И снова ускорила бег, обливаясь потом. Он застилал ей глаза, она быстро моргала, чтобы хоть что-то видеть, чувствуя соленый вкус пота на своих губах. Если она будет продолжать так потеть, ей грозит обезвоживание. Уже сейчас в глазах появились цветные блики, ее подташнивало, и она боялась, как бы ей внезапно не стало дурно. Но продолжала работать ногами, мчалась вперед по этой голой земле, потому что ей не оставалось абсолютно ничего другого. Она снова оглянулась назад. Эрик был ближе. В каких-нибудь пятнадцати ярдах. Огромным усилием воли Рейчел собрала последние остатки энергии, последние силы, последние капли выносливости. Грунт под ногами уже не был таким предательски мягким, теперь это был обнаженный камень, который под действием ветров и песка за столетия весь покрылся небольшими впадинами — отпечатками пальцев ветра. Здесь бежать стало легче. Но вскоре все ее резервы будут исчерпаны, наступит обезвоживание, что она страшилась даже представить себе. Надо думать о чем-нибудь хорошем, уговаривала она себя, уверенная, что ей удалось оторваться от Эрика. Оглянувшись в третий раз, Рейчел невольно вскрикнула от отчаяния. Эрик был совсем рядом. Ярдах в десяти. И в этот момент она поскользнулась и упала. Камень кончился, опять сменившись песком. Поскольку она не смотрела под ноги, то не заметила, что грунт меняется, и подвернула левую ногу. Попыталась продолжать бег, но вывих сбил ее с ритма. Та же нога подвернулась буквально через секунду. С криком «Нет!» Рейчел упала на левый бок и покатилась по камням, траве и острым колючкам. Докатилась она до края сухого речного русла, образовавшегося в пустыне во время паводков. Тогда оно представляло собой бурлящий поток, но в остальное время года было сухим, как сейчас. Ширина его составляла около пятидесяти футов, глубина — около тридцати, со слегка покатыми берегами. Рейчел остановилась у самого края русла, но немедленно оценила ситуацию и поняла, что ей следует делать. Она перекатилась через край и покатилась вниз по стене, отчаянно надеясь избежать острых камней и гремучих змей. Нахватав синяков во время спуска, она грохнулась на дно с такой силой, что у нее перехватило дыхание. Тем не менее с трудом поднялась на ноги, взглянула вверх и увидела Эрика, вернее, то, чем стал Эрик. Он стоял на краю стены, уставившись на нее. В принципе, расстояние между ними было невелико: высота стены составляла футов тридцать — но эти тридцать вертикальных футов казались длиннее, чем столько же горизонтальных: как будто она стояла на улице, а он — на крыше трехэтажного дома. Ее решимость и его колебания дали ей еще немного времени. Если бы он скатился за ней, то наверняка уже поймал бы ее. У Рейчел оказалось маленькое преимущество, и она поспешила им воспользоваться. Повернув направо, побежала по плоскому дну русла, стараясь не налегать слишком сильно на поврежденную лодыжку. Она не имела понятия, куда приведет ее русло. Но продолжала двигаться и осматриваться в поисках чего-нибудь, что могла бы использовать для своего спасения, чего-нибудь… Чего-нибудь. Всего, что угодно. Но спасти ее могло только чудо. Она думала, что Эрик бросится вниз, но он этого не сделал. Вместо этого он остался наверху и побежал по краю русла, не сводя с нее глаз и не отставая ни на шаг. «Скорее всего, — подумала она, — он тоже ищет что-нибудь, что можно использовать».
Глава 29
ЧЕЛОВЕК, СОТВОРИВШИЙ СЕБЯ
С помощью шерифа округа Риверсайд, который прислал им патрульную машину и своего помощника в качестве водителя, Шарп и Пик к половине пятого дня во вторник вернулись в Палм-Спрингс и сняли два номера в мотеле на Палм-Каньон-драйв. Шарп позвонил Нельсону Госсеру, дежурившему в доме Эрика Либена в Палм-Спрингс. Госсер привез им халаты, отнес их одежду в срочную стирку и чистку и доставил две порции жареного цыпленка по-кентуккски с шинкованной капустой и жареной картошкой и бисквиты. Пока Шарп и Пик пропадали у озера Эрроухед, обнаружился «Мерседес-560» с одной спущенной шиной. Его нашли за пустующим домом в нескольких кварталах от Палм-Каньон-драйв. Также удалось проследить, что Шэдвей взял напрокат голубой «Форд» в прокатном пункте в аэропорту. Разумеется, пользы от этих сведений никакой не было. Шарп позвонил в аэропорт и поговорил с пилотом вертолета. Ремонт уже почти закончился. Через час его заправят, и он будет в полном распоряжении заместителя директора. Отказавшись от жареной картошки, которая, по его мнению, приводит к сердечным заболеваниям, и от капусты, которая вредна после апреля, Шарп снял с цыпленка хрустящую кожу и жир и съел только мясо, одновременно обзванивая своих подчиненных, оставшихся в лаборатории Генеплана в Риверсайде и других местах в округе Ориндж. В деле было занято более шестидесяти агентов. Со всеми он не мог переговорить, но, связавшись с шестью, получил достаточно четкую картину того, как шло расследование. А оно зашло в тупик. Куча вопросов, и никаких ответов. Где Эрик Либен? Где Бен Шэдвей? Почему в домике над озером Эрроухед вместе с Шэдвеем не было миссис Либен? Куда она уехала? Где она сейчас? Есть ли опасность, что в руки миссис Либен и Шэдвея могут попасть доказательства, с помощью которых они сумеют раскрыть тайну проекта «Уайлдкард»? При таком количестве срочных, требующих ответа вопросов и после унизительно неудачной поездки к озеру Эрроухед любой человек потерял бы аппетит, но Энсон Шарп успешно разделался с цыпленком и бисквитами. Учитывая, что он рисковал всем своим будущим, практически подчинив цели Бюро в этом деле своему личному стремлению отомстить Бену Шэдвею, можно было предположить, что вряд ли он сможет лечь и заснуть, как невинный младенец. Но, снимая покрывало с огромной кровати в мотеле, Шарп знал, что бессонница ему не грозит. Он всегда умел засыпать мгновенно, вне зависимости от обстоятельств, стоило ему только положить голову на подушку. Ведь он был человеком, чья единственная страсть — он сам. Его преданность распространялась только на него самого, его интересовало только то, что касалось его лично. Поэтому забота о самом себе — хорошая еда, сон, поддержание формы, приличный внешний вид — была главной жизненной целью. Кроме того, будучи искренне уверенным в своей исключительности, считая себя баловнем судьбы, он никогда не расстраивался из-за неудач, так как был убежден, что невезение и разочарование — вещи преходящие, несущественные отклонения на пути к величию и признанию. Ведь его путь не может не быть гладким. Прежде чем залечь, Шарп отправил Нельсона Госсера с указаниями к Пику. Затем дал распоряжение коммутатору мотеля не беспокоить его звонками, задернул шторы, снял халат, взбил подушку и растянулся на кровати. Уставившись в потолок, он вспомнил о Шэдвее и рассмеялся. Бедняга Шэдвей, наверное, удивляется, каким образом человек, попавший под трибунал и с позором выгнанный из морской пехоты, смог стать агентом Бюро по оборонной безопасности. В этом-то и состоял главный недостаток милейшего наивняги Бена: он всегда исходил из ложной посылки, что какое-то поведение — морально, а какое-то — аморально, что за добрые дела людям воздается, во всяком случае в конечном счете, тогда как злые деяния несут несчастья на головы виновных. Но Энсон Шарп знал, что нет абстрактной справедливости, что возмездия от других нужно бояться, только если ты позволишь им отомстить, и что альтруизм и честность вовсе не награждаются автоматически. Он знал, что моральность и аморальность — понятия бессмысленные: в жизни ты выбираешь не между добром и злом, а между тем, что тебе выгодно и что — нет. И только придурок будет делать то, что ему невыгодно или что более выгодно другому, чем ему самому. Заботиться надо только о себе, дорогом и единственном, и любые решения и действия на пользу самому себе есть добро, а остальные все пропади пропадом. Поскольку в своих действиях он руководствовался столь удобной философией, ему почти ничего не стоило убрать из своего послужного списка упоминание о позорном увольнении. Здорово помогли ему в этом начинании знание компьютеров и их возможностей, а также всеобщее к ним доверие. Во Вьетнаме Шарпу удалось украсть огромное количество товаров, поступающих в столовые, потому что его подельник, капрал Юджин Дэлмет, был оператором компьютеров в офисе дивизионного начальника тыла. С помощью компьютера они могли точно проследить за движением товаров внутри системы и выбрать наиболее удачное время и место для их перехвата. Позже Дэлмету иногда удавалось стереть всякое упоминание об этом грузе из памяти компьютера; затем, опять же с помощью компьютера, он умудрялся передать ничего не подозревающим служащим указание уничтожить все документы, относящиеся к этому грузу, так что никто не мог доказать факт кражи, потому что никто не мог доказать, что вообще было что красть. Казалось, в этом прекрасном новом мире бюрократов и современной техники ничто не является реальным, если существование его не подтверждено бесконечными бумагами и компьютерными данными. Система работала идеально, пока Бен Шэдвей не начал разнюхивать что и как. С позором отправленный в Штаты, Шарп не отчаялся, потому что увез с собой вдохновляющее знание чудесной способности компьютеров переделывать отчеты и переписывать историю. Он знал, что компьютер способен и обелить его репутацию. Полгода он ходил на курсы компьютерного программирования, работал денно и нощно, пожертвовав всем остальным, и в итоге стал не только первоклассным оператором, но и выдающимся и умным компьютерным мошенником. А то были времена, когда о компьютерном мошенничестве еще и не слыхали. Он нашел себе работу в «Оксельбайн Плейсмент», агентстве по найму рабочей силы, достаточно большом, чтобы им требовался оператор компьютеров, но слишком незначительном, чтобы волноваться по поводу вреда, который может нанести их имиджу прием на работу человека с запятнанной репутацией. Им было достаточно, что у него нет гражданского уголовного прошлого и есть высокая квалификация. Это происходило еще до того, как все сошли с ума из-за компьютеров и многочисленные организации принялись рыскать в поисках высококвалифицированных специалистов. «Оксельбайн» имело прямую связь с главным компьютером в ТРВ, самой крупной фирме по исследованию кредитов. Местные и национальные агентства, занимающиеся кредитами, пользовались компьютерными данными ТРВ. «Оксельбайн» платило ТРВ за данные лиц, обращавшихся в агентство за работой, и, когда имелась такая возможность, продавало ТРВ информацию, которой там не было. В дополнение к своей обычной работе Шарп тайком прощупывал компьютер ТРВ, пытаясь разгадать их систему кодирования. Он долго действовал методом тыка, который так широко будет использоваться компьютерными жуликами лет этак через десять, хотя в его время этот процесс был куда медленнее, потому что и сами компьютеры были более медленными. Но в то же время действовать было легче, потому что мало кто тогда признавал необходимость компьютерной безопасности. Обнаружив наконец свое собственное досье, Шарп изменил позорное увольнение на почетное, приписал себе некоторые заслуги, повысил себя из сержантов в лейтенанты и убрал из своей биографии всякие не слишком симпатичные вещи. Затем он велел компьютеру ТРВ отдать распоряжение об уничтожении существующего в компании досье-распечатки и заменить его новым, составленным на основании новых компьютерных данных. Не имея больше нужды оглядываться на позорную запись в своем досье, Шарп нашел новую работу в «Дженерал Дайнэмикс», крупной фирме-подрядчике, работающей на оборону. Будучи простым клерком и не нуждаясь в допуске, он избежал тщательной проверки со стороны ФБР, которое имело выход в главные компьютеры министерства обороны и запросто могло выяснить его настоящую армейскую биографию. Используя связи компьютеров своей организации с теми самыми компьютерами в министерстве обороны, Шарпу удалось добраться до компьютерных досье отдела кадров морской пехоты и подредактировать свое досье так же, как и в ТРВ. А дальше проще простого: компьютер отдела кадров отдает распоряжение уничтожить досье-распечатку и заменить его на новое, «уточненное и дополненное». ФБР вело свой собственный учет лиц, замешанных в уголовной деятельности во время военной службы. Оно использовало эти данные для перепроверки подозреваемых, в гражданских уголовных делах, а также для проверки лиц, назначаемых на федеральные посты и нуждающихся в допуске. Шарп пошел на риск и дал распоряжение компьютеру в отделе кадров послать копию его нового досье в ФБР с пометкой, что старое «является неточным, клеветническим и требует немедленного уничтожения». В те дни, когда мало кто слышал о компьютерных жуликах и не понимал, насколько уязвимы электронные данные, люди доверяли компьютерам. Шарп был почти на сто процентов уверен, что его афера удастся. Несколько месяцев спустя он обратился в Бюро по оборонной безопасности с просьбой предоставить ему работу в их учебном центре и стал ждать — удались ли его компьютерные махинации или нет. Они удались. Он был принят в Бюро после детальной и успешной проверки в ФБР. С той поры он с упорством настоящего властолюбца и хитростью врожденного Макиавелли начал свое стремительное восхождение по служебной лестнице. Кстати сказать, он снова использовал компьютер для улучшения своего послужного списка уже в самом Бюро, добавив туда сфабрикованные рекомендации и благодарности за особые заслуги от имени старших офицеров, погибших при исполнении служебных заданий или умерших своей смертью и не имеющих таким образом возможности опротестовать эти запоздалые восхваления. Шарп решил, что разоблачить его может только горстка людей, когда-то служивших с ним вместе во Вьетнаме и принимавших участие в трибунале. Поэтому, начав работать в Бюро, он попытался выяснить, что с ними стало. Трое погибли во Вьетнаме, после того как Шарпа оттуда выпроводили. Еще один был убит при плохо продуманной попытке Джимми Картера вызволить заложников в Иране. Один умер своей смертью. Еще одному прострелили голову в Тинеке, штат Нью-Джерси, где он открыл, уйдя в отставку, круглосуточно работающий магазин, в каковом его и угораздило оказаться в тот момент, когда обкурившийся подросток решил совершить вооруженное ограбление. И, наконец, трое из тех, кто мог бы разоблачить Шарпа и уничтожить его, вернулись в Вашингтон, где начали работать в Госдепартаменте, ФБР и министерстве юстиции. Осторожно, но не медля, боясь, что они обнаружат его в Бюро, он организовал убийство всех троих. Все прошло как по маслу. Из тех, кто знал о нем правду, в живых осталось четверо, включая Шэдвея, но никто не занимал важных постов, и шансы, что они обнаружат его в Бюро, были невелики. Разумеется, если он сядет в директорское кресло, его имя начнет чаще появляться в новостях и может попасться на глаза кому-нибудь вроде Шэдвея, который захочет вывести его на чистую воду. Уже довольно долгое время он точно знал, что вся эта четверка должна рано или поздно умереть. Когда Шэдвей оказался замешанным в дело Либена, Шарп воспринял это как еще один подарок судьбы, еще одно доказательство, что ему, Шарпу, судьбой предопределено пойти так далеко, как ему захочется. Учитывая собственную автобиографию, Шарп не удивился, узнав, что Эрик Либен экспериментировал на себе. Другие выражали изумление по поводу наглости Либена, задумавшего нарушить законы Божьи и природы и победить смерть. Но Шарп уже давно понял, что такие абсолютные истины, как Правда, Добро, Зло, Справедливость и даже Смерть, не являются такими уж абсолютными в наш технологически развитый век. Шарп переделал свою репутацию, манипулируя электронами, а Эрик Либен попытался превратить себя из трупа в живого человека, манипулируя собственными генами, так что, с точки зрения Шарпа, это было просто очередное чудо из волшебной шкатулки современной науки. Теперь растянувшись на кровати в мотеле, Шарп спал сном грешника, который был куда глубже и покойнее, чем сон праведника.Пик какое-то время не мог заснуть. Он не спал сутки, лазил вверх-вниз по горам, сделал два или три потрясающих открытия и еле волочил ноги, когда они наконец добрались до Палм-Спрингс. Он слишком устал, чтобы есть цыпленка, доставленного Нельсоном Госсером. Он смертельно устал, но не мог заснуть. Во-первых, Госсер передал ему, что Шарп велел пару часов поспать, а к половине восьмого вечера быть готовым. Два часа! Уж лучше вовсе не ложиться, если так скоро снова вставать. К тому же он так и не нашел решения той моральной дилеммы, которая мучила его весь день: стать пособником в убийстве по команде Шарпа и преуспеть в карьере за счет продажи своей души или пристрелить Шарпа, положив таким образом конец своей карьере, и спасти душу. Второе явно было предпочтительнее, если не считать, что в этом случае он сам мог погибнуть. Шарп был умнее и ловчее Пика, и Пик это знал. Он надеялся, заместитель директора рассердится на него за то, что он не стрелял по Шэдвею, и вышибет его из этого дела с треском; это, разумеется, не поможет его карьере, но даст возможность разрешить дилемму. Но Шарп крепко держал его в когтях, и Пик вынужден был признать, что легко ему не отделаться. Его больше всего огорчала уверенность, что кто-нибудь поумнее давно бы нашел способ использовать ситуацию себе во благо. Джерри Пик, который никогда не знал своей матери, которого не любил хмурый отец-вдовец и который в школе не пользовался популярностью, потому что был робок и замкнут, давно мечтал переделать себя из неудачника в победителя, из незаметного человека в легенду. Теперь же, когда пришел его час начать карабкаться вверх, он не знал, что делать с подвернувшейся ему возможностью. Он метался. Он ворочался с боку на бок. Он строил планы и придумывал заговоры против Шарпа, которые могли бы привести его к успеху, но все эти планы и заговоры распадались под грузом его собственного недомыслия и наивности. Он так хотел быть Джорджем Смайли, Шерлоком Холмсом или Джеймсом Бондом, но он чувствовал себя скорее котом Силвестром, который безуспешно пытается поймать и съесть куда более умную птичку Твити. Сон его был полон кошмарами. Он падал то с лестницы, то с крыши, то с дерева, гоняясь за страшенной канарейкой с лицом Энсона Шарпа. Бен потерял много времени, спуская украденную «Чеветте» в озеро Силвервуд и пытаясь найти и украсть другую машину. Было бы самоубийством оставлять «Чеветте», потому что Шарп знал и марку машины, и номер. Бен наконец обнаружил черный «Меркурий», припаркованный в начале длинной дорожки, ведущей к озеру, вне пределов видимости его владельца-рыболова. Двери оказались запертыми, но стекла приспущены для вентиляции. Бен еще раньше нашел в багажнике «Чеветте» среди огромного количества всякого мусора проволочные плечики для одежды и захватил их с собой на всякий случай. Сейчас он просунул их в окно и открыл дверцу, затем соединил провода зажигания и поехал к шоссе 15. До Барстоу он добрался только без четверти пять. И уже пришел к печальному выводу, что догнать Рейчел ему не удастся. Слишком много времени он потерял из-за Шарпа. Когда с помрачневшего неба упали первые капли дождя, Бен осознал, что ливень еще больше задержит его, потому что «Мерседес» был значительно более послушной машиной, и расстояние между ним и Рейчел неизбежно увеличится. Поэтому он свернул с основного шоссе и направился в центр Барстоу в поисках телефонной будки, откуда можно будет позвонить Уитни Гэвису в Лас-Вегас. Он расскажет Уитни об Эрике Либене, прячущемся в багажнике машины Рейчел. Если повезет, Рейчел вообще не остановится по дороге, не даст Эрику возможности напасть на нее, так что «мертвец» останется в багажнике до самого Вегаса. И тогда заранее предупрежденный Уитни сможет высадить всю обойму в багажник, прежде чем Эрик откроет его, и Рейчел, даже не подозревающая о грозящей ей опасности, будет спасена. Все будет в порядке. Уитни обо всем позаботится. Бен набрал номер, используя кредитную карточку для оплаты, и в ста шестидесяти километрах от Барстоу в квартире Уитни зазвонил телефон. Дождь все никак не мог начаться. Только несколько крупных капель разбились о стекло телефонной будки. Телефон звонил и звонил. Облака, совсем недавно белые, собрались в огромные серо-черные тучи, которые, в свою очередь, сгущались, образуя темные, узловатые, зловещие массы, несущиеся на большой скорости к юго-востоку. Телефон звонил, звонил и звонил. «Будь дома, черт побери», — подумал Бен. Но Уитни дома явно не было, от желания Бена тут ничего не зависело. На двадцатом звонке он повесил трубку. И еще какое-то время в отчаянии постоял в телефонной будке, не зная, что делать дальше. Когда-то он был человеком действия и всегда знал, что надо делать в случае кризиса. Но, разочаровавшись в мире, в котором жил, он попытался стать другим человеком — любителем прошлого, собирателем моделей поездов. Он потерпел неудачу, и последние события доказали это как нельзя лучше: невозможно перестать быть тем, кем ты когда-то был. Ему придется с этим смириться. И еще он думал, что не растерял своих способностей. Но теперь стало ясно, что годы, которые он потратил, изображая другого человека, притупили его реакцию. То, что он не заглянул в багажник «Мерседеса», а сейчас впал в отчаяние и не знал, что делать, доказывало, что он потерял хватку. Черное, распухшее небо прорезала яркая молния, но даже этот световой скальпель не вспорол брюхо надвигающейся буре. Бен решил, что ему ничего не остается, как снова пуститься в путь, направляясь в Вегас, и надеяться на лучшее, хотя на что теперь он мог надеяться? Он может задержаться в Бейкере, через шестьдесят миль, и оттуда снова попытаться дозвониться до Уитни. Может, ему больше повезет. Ему должно повезти. Он открыл дверь телефонной будки и побежал к украденному «Меркурию». Снова молния рассекла антрацитового цвета небо. Между небом и затаившейся в ожидании землей прогремела канонада грома. В воздухе запахло озоном. Бен влез в машину, захлопнул дверцу, завел мотор, и тут начался ливень — небо обрушило на пустыню миллионы тонн воды одним сплошным потоком.
Глава 30
ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ
Рейчел пробежала по дну высохшего русла всего несколько сотен футов, но они показались ей несколькими милями. Отчасти виной тому была жгучая боль в подвернутой лодыжке. Правда, она уже начала медленно проходить. Молодая женщина чувствовала себя запутавшейся в лабиринте, из которого не существует выхода. Более узкие русла ответвлялись от основного, все справа. Она подумала, не свернуть ли ей, но русла шли под углом, и невозможно было разглядеть, как далеко они тянулись. Она боялась, что, свернув в одно из них, вскоре окажется в тупике. Слева, тремя этажами выше, по краю стены бежал Эрик, не отставая от хромающей Рейчел ни на шаг, как будто он был мутантом-чудовищем в игре «Драконы в подземелье». Если он начнет спускаться вниз, ей немедленно придется карабкаться на противоположную стену, потому что к этому времени она уже поняла, что перегнать Эрика ей не удастся. Единственное, что ей оставалось, это быстро оказаться наверху и найти какие-нибудь камни, чтобы бросить в него, когда он начнет подниматься за ней. Она надеялась, что он еще немного помедлит со спуском, а тем временем боль в ее поврежденной ноге утихнет и ей легче будет подниматься. Вдалеке со стороны Барстоу послышались раскаты грома: один слабый удар, потом второй, потом третий, куда более громкий, чем первые два. Небо с той стороны пустыни окрасилось в серый и антрацитовый тона, как будто оно вспыхнуло, сгорело и теперь состояло только из черных углей и пепла. Это сожженное небо нависло настолько низко, что казалось крышкой, которая вот-вот опустится и плотно прикроет высохшее русло. Горячий ветер печально стенал и завывал над пустыней, и отдельным вихрям удалось пробраться в русло, швыряя горсти песка в лицо Рейчел. На западе буря уже была в разгаре, но сюда еще не успела добраться, хотя ожидать ее надо было с минуты на минуту. В воздухе стоял характерный запах, и он был насыщен электричеством, как всегда перед бурей и ливнем. Она свернула за изгиб русла и неожиданно увидела кучу перекати-поля, которую ветер принес сюда из пустыни. Подгоняемые сквозняком, дующим понизу, растения быстро приближались к ней, издавая скрипучий звук, напоминающий свист, как будто они были живыми существами. Она хотела посторониться и пропустить эти колючие коричневые шары, оступилась и упала навзничь в сухую пыль, устилавшую дно русла. Больше всего Рейчел испугалась за уже поврежденную лодыжку, но, к счастью, не подвернула ее снова. Падая, она услышала за собой шум. Сначала ей показалось, что это трутся друг о друга шары перекати-поля, двигаясь вдоль русла, но по громкости этого шума вскоре поняла, кто его производит. Взглянув назад и вверх, она увидела, что Эрик начал спускаться по стене. Он ждал, когда Рейчел упадет или встретится с препятствием. Теперь, когда она упала, он собирался поспешно воспользоваться своим преимуществом. Он уже спустился на треть и все еще держался на ногах, потому что склон здесь не был так крут, как в том месте, где по нему катилась Рейчел. Из-под ног его сыпались земля и камни, но он продолжал упорно спускаться. Через минуту он достигнет дна, а там — десяток шагов, и она у него в руках. Рейчел оттолкнулась от земли и побежала к противоположной стене русла, собираясь подняться наверх, но спохватилась, что уронила ключи от машины. Скорее всего она никогда не найдет дороги назад к машине, ее либо прикончит Эрик, либо она заблудится в пустыне, но, если ей чудом удастся добраться до «Мерседеса», ей понадобятся ключи. Эрик, поднимая облака пыли, уже достиг середины спуска. Судорожно оглядываясь в поисках ключей, она вернулась на то место, где упала, но сначала их не увидела. Затем заметила блестящие зазубренные края в коричневой пыли, в которой они почти полностью утонули. По-видимому, падая, она вдавила их в мягкую почву. Рейчел быстро схватила ключи. Эрику осталось спуститься совсем немного. Он издавал странный звук: наполовину театральный шепот, наполовину визг. Раскаты грома раздавались все ближе. Засунув ключи в карман джинсов, Рейчел снова побежала к противоположной стене. Пот лил с нее ручьями, дыхание перехватывало, во рту пересохло от горячего воздуха, в груди болело. Склон был таким же крутым, как и тот, по которому спускался Эрик. Но выяснилось, что подниматься значительно труднее, чем спускаться. Здесь крутизна склона затрудняла ей подъем так же, как облегчала Эрику спуск. После каждых трех или четырех ярдов ей приходилось прижиматься к склону, с отчаянием цепляясь руками и ногами, чтобы не соскользнуть вниз. Полушепот-полувизг Эрика все приближался. Она боялась оглянуться. До верха еще оставалось футов пятнадцать. Ее продвижению бесконечно мешал мягкий грунт, по которому приходилось карабкаться. Он постоянно осыпался, когда она пыталась найти опору для руки или ноги. Ей требовалась цепкость паука, чтобы удержаться, она с ужасом думала, что может сползти вниз, на дно. До верха оставалось еще футов десять, так что она находилась на высоте двухэтажного здания. — Рейчел, — произнесло бывшее когда-то Эриком существо хриплым голосом, как будто ножовкой проведя ей по спине. «Не смотри вниз, ради Бога, не смотри вниз…» Эрозия образовала канавки в отвесном склоне, идущие сверху донизу, некоторые шириной и глубиной всего в несколько дюймов, другие шириной в фут и глубиной в пару футов. Она старалась держаться от них подальше, там земля была особенно рыхлой и легко могла под ней осыпаться. К счастью, в некоторых местах торчали обломки камней — розовых, серых, коричневых с полосками белого кварца. В этих местах скальная порода, размытая потоками воды, выходила наружу. Они представляли собой надежную опору. — Рейчел… Она ухватилась за торчащий из мягкой земли над ее головой каменный выступ, намереваясь подтянуться и добраться до него и надеясь, что он не обломится, но, прежде чем успела его испробовать, что-то чуть не схватило ее за левую ногу. На этот раз ей пришлось посмотреть вниз, и, милостивый Боже, вот оно под ней на склоне, то, что было Эриком, одной рукой удерживается на месте, а другой рукой тянется схватить ее за туфлю, еще дюйм, и ему это удастся. Он поднимался вверх с пугающей ловкостью, скорее как зверь, чем как человек. Его руки и ноги цеплялись за земляную стену с удивительной легкостью. Он снова потянулся к ней. Он был уже настолько близко, что мог схватить ее за лодыжку, а не за туфлю. Но и она не ползла, как улитка. Она тоже двигалась чертовски быстро, реагируя на каждое его движение. Рефлексы послали новую порцию адреналина в кровь, она освободила колени и ноги, которыми держалась за склон, и всем телом повисла на каменной кромке, прочность которой так и не успела испробовать. Когда он протянул к ней руку, она подтянула ноги и изо всей силы лягнула ими, ударив его по протянутой руке и разбив его длинные, костлявые пальцы мутанта. Он издал нечеловеческий вопль. Она лягнула его снова. Но вместо того, чтобы скатиться по стене вниз, как рассчитывала Рейчел, Эрик смог удержаться, поднялся еще на фут и с победным воплем снова попытался ее схватить. В тот же момент она опять лягнула его, попав на этот раз одной ногой по руке, а второй — прямо в лицо. Услышала треск рвущихся джинсов, почувствовала боль в ноге и поняла, что он задел ее своими когтями в момент удара. Он взвыл от боли, наконец-то потерял опору и повисел секунду, удерживаясь только на ногтях, вцепившихся в ее джинсы. Затем когти сломались, ткань порвалась, и он рухнул на дно. Рейчел не стала ждать окончания его падения с высоты двухэтажного дома, но немедленно принялась снова карабкаться наверх, на ту самую узкую каменную кромку, на которой она так неосторожно повисла. Сердце ее бешено колотилось, в руках от кистей до предплечий пульсировала боль. Ее мускулы восставали против такого напряжения. Сжав зубы и дыша носом с такой силой, что дыхание напоминало хрип лошади, она тянулась наверх, пытаясь найти в мягкой земле опору для ног и подняться до каменной кромки. Наконец, на чистом упрямстве и решимости, приправленных солидной долей безумного страха, ей это удалось. Хотя сил у нее уже не оставалось и она испытывала сильную боль, Рейчел не стала задерживаться. Она протащила себя последние восемь футов, находя отдельные камни для опоры и цепляясь за полусгнившие корни мескитового дерева, росшего по краю. Наконец она выбралась наверх, пробралась через заросли и оказалась снова в пустыне. Молния зигзагом разрезала небо, как бы образуя лестницу для какого-то спускающегося на землю бога, и от всех низкорослых растений пустыни вокруг Рейчел упали гигантские тени, которые тут же исчезли. Послышался тяжелый и гулкий удар грома, и Рейчел почувствовала, как задрожала земля за ее спиной. Она с трудом вернулась к краю русла, молясь в душе, чтобы то, что было Эриком, лежало на дне, неподвижное, умершее вторично. Возможно, он свалился на камень. На дне русла были камни. Так что вполне возможно. Может, он упал на них и сломал себе спину. Она заглянула за край. Он поднимался. Сверкнула молния, осветив его изуродованное лицо, отразившись в его нечеловеческих глазах, вспыхнув в его слишком острых зубах. Подпрыгнув, Рейчел принялась спихивать ногой землю и кусты с края ему на голову. Он повис на кварцевой кромке, пряча под ней голову, так что и земля, и сучья летели мимо. Она перестала сбрасывать землю, оглянулась в поисках камней, нашла несколько величиной с яйцо и швырнула их, стараясь попасть по рукам. Когда камни попали по его уродливым пальцам, он отцепился от кромки и целиком спрятался под ней, прижавшись к земле в ее тени, где Рейчел не могла достать его. Можно было подождать, когда он вылезет, и снова засыпать его камнями. Она могла заставить его сидеть там часами. Но чего бы она этим добилась? Это было бы изнуряющее и бесполезное занятие. Когда камни вокруг нее кончатся и останется только земля, он взберется наверх с прытью животного и покончит с ней. Жарко-белый небесный котел еще раз наклонился, вылив третий раскаленный поток молнии. Она ударила в землю значительно ближе, чем первые две, на расстоянии не более четверти мили, и тут же раздался оглушительный удар грома, по силе достойный Армагеддона, сопровождаемый треском и шипением, — то на языке электричества говорила Смерть. Внизу, не обращая внимания на молнию и осмелев от того, что дождь из камней прекратился, существо, в которое превратился Эрик, положило одну чудовищную руку на край каменной кромки. Она сбросила на него еще целую кучу земли. Он убрал руку, снова спрятавшись, но она продолжала швырять и швырять землю. Неожиданно под ее ногой обвалился огромный пласт, она едва удержалась наверху. Как только земля начала двигаться, она отпрянула назад и с размаху плюхнулась на ягодицы. Такой земляной обвал может заставить его подольше колебаться, прежде чем сделать еще одну попытку перелезть через каменную кромку, дав ей таким образом пару минут времени. Она встала и кинулась в страшную пустыню. Мускулы ее перенапряженных ног постоянно простреливала резкая боль. Лодыжка тоже все еще давала себя знать, а правая икра, в которую он вцепился когтями через джинсы, горела. Во рту было совершенно сухо, горло растрескалось. Ей казалось, что горячий воздух пустыни, который она хватала полным ртом, сжег ее легкие. Она не сдавалась перед болью, не могла себе этого позволить, а продолжала бежать, не так быстро, как раньше, но изо всех оставшихся сил. Впереди пустыня была уже не такой ровной, небольшие холмики сменялись впадинами. Рейчел взбегала на холм, спускалась вниз, снова взбегала вверх, и снова вниз, так раз за разом, стараясь, чтобы между ней и Эриком оказалось как можно больше барьеров, которые могли бы скрыть ее от его глаз, когда он вылезет. Немного погодя она решила спрятаться в одной из впадин и повернула в ту сторону, где, по ее представлениям, находился север. Хотя она вполне могла полностью потерять ориентацию во время погони, ей казалось, что она должна двигаться на север, а потом на восток, если хочет выйти к «Мерседесу», который теперь, наверное, находился в миле от нее, а то и дальше. Молния… молния. На этот раз она была необыкновенно затяжной: яркий зигзаг соединил тучи и землю по меньшей мере на десять секунд, стремительно двигаясь с юга на север, подобно гигантской игле, стремящейся пришить бурю к земле навечно. Эта вспышка и последовавший за ней оглушительный раскат наконец принесли дождь. Он хлынул потоком, облепив волосы Рейчел вокруг лица, больно бил ее по щекам. Но ливень принес прохладу. Она облизала потрескавшиеся губы, благодарная за влагу. Несколько раз оглянулась, страшась увидеть Эрика, но его не было. Она сбежала от него. Даже если она оставила после себя следы, по которым он мог бы найти ее, их смоет дождь. В своем новом обличье он, возможно, мог бы найти ее по запаху, но и здесь ей поможет дождь, уничтожив ее запах на земле и в воздухе. Даже если его странные глаза видят лучше, чем человеческие, он все равно не сможет разглядеть ее в таком мраке и ливне. «Ты спаслась, — сказала она себе, торопясь на север. — Ты будешь в порядке». Возможно, и так. Но она не верила самой себе.Бен успел отъехать всего несколько миль к востоку от Барстоу, как дождь не просто заполнил все вокруг — он сам стал окружающей средой. За исключением ритмичного щелканья «дворников», единственными звуками был шум, издаваемый водой и заглушающий все остальное: несмолкаемая барабанная дробь дождя по крыше «Меркурия», удары капель о лобовое стекло на большой скорости, шипение и чавканье воды под колесами. Весь свет исчез с искореженного, нервного, штормового неба, и, кроме миллионов наклонных линий бесконечного дождя, практически ничего не было видно. Иногда ветер подхватывал потоки воды, как он подхватывает прозрачные занавески в открытом окне, и нес их через пустыню, образуя изящные волнистые рисунки, один прозрачный слой воды за другим, серое на сером. Когда сверкала молния — она это делала с завидной регулярностью, — миллионы капель становились серебряными, и тогда казалось, что над пустыней идет снег. А иногда молния превращала дождь в сверкающую мишуру. Ливень все усиливался, и вскоре «дворники» уже не могли справиться с потоками дождя. Нагнувшись над рулем, Бен всматривался в залитый ливнем мир. Дорогу впереди нельзя было разглядеть. К тому же фары немногочисленных встречных машин отражались от водяной пленки на лобовом стекле и слепили его. Он снизил скорость до сорока, потом до тридцати миль в час. Наконец, зная, что до ближайшего населенного пункта еще более двадцати миль, он свернул на обочину и остановился, не глуша мотора и включив предупредительную мигалку. Поскольку ему не удалось дозвониться до Уитни Гэвиса, он все больше беспокоился о Рейчел. С каждой минутой его отвращение к собственной беспомощности возрастало, но было бы сущим идиотизмом сейчас не подождать, пока буря слегка утихнет. Он уж точно ничем не поможет Рейчел, если потеряет управление на мокром асфальте, въедет под один из огромных грузовиков, которые в основном и встречаются на этом шоссе, и погибнет. Прождав минут десять под сильнейшим в его жизни дождем, Бен начал сомневаться, что тот вообще когда-нибудь стихнет. Тут он заметил, что потоки грязной воды уже переполнили дренажные канавы вдоль дороги. Поскольку шоссе было немного приподнято над окружающей местностью, вода не вытекала на асфальт, а стекала в пустыню по сторонам. Он взглянул в боковое окно «Меркурия» и увидел что-то плывущее и извивающееся по бурлящей желто-коричневой воде. Вон еще одно и еще. Какое-то мгновение он смотрел, ничего не понимая, потом сообразил, что это, должно быть, гремучие змеи, которых вода выгнала из логовищ. По-видимому, вблизи находилось несколько гнезд гремучек, потому что в следующеемгновение появилось еще, наверное, десятка два. Они двигались через все расширяющийся поток, выбираясь на сушу повыше, где собирались все вместе, извиваясь, переплетаясь, завязываясь в узлы и образуя подвижный шевелящийся клубок, как будто они не существовали каждая в отдельности, а были частью одного целого, разбросанного потоком воды и теперь восстанавливающего свою начальную форму. Сверкали молнии. Извивающиеся гремучие змеи, как волосы зарытой в землю Медузы, казалось, приходили в дикую ярость, когда стробоскопический свет бури освещал их гремящими вспышками. От этого зрелища холод пробрал Бена до мозга костей. Он отвел взгляд от пресмыкающихся и уставился вперед, через залитое дождем лобовое стекло. С каждой минутой настроение у него падало, он все больше мрачнел. Его страх за Рейчел приобрел такую глубину и силу, что его трясло, физически трясло, и так он сидел, дрожа, в украденном автомобиле, под проливным дождем, в пустыне, где вовсю разгулялась буря.
Буря смыла все следы, которые могла бы оставить Рейчел, но были у нее и недостатки. Хотя ливень снизил температуру на несколько градусов, день продолжал оставаться жарким, и Рейчел ничуть не продрогла, зато промокла насквозь. Ливень напоминал водопад, от нависших серо-черных облаков потемнело, хотя была середина дня, и ей трудно было ориентироваться. Даже рискнув подняться на один из холмиков, чтобы определиться, из-за плохой видимости она так и не убедилась, идет ли она в нужном направлении, к пункту отдыха и «Мерседесу». Более того, молнии разрывали распухшее брюхо туч и низвергались на землю с такой частотой, что ей казалось: рано или поздно одна из них ударит прямо в нее, превратив в обугленный, дымящийся труп. Но больше всего ее пугало, что громкий, непрекращающийся шум дождя — шипение, бульканье, треск, бормотание, чавканье и глухой непрерывный барабанный бой капель — маскировал все звуки, которые могли бы предупредить ее о появлении эрикообразного существа, так что оно могло напасть на нее неожиданно. Она постоянно оглядывалась и всматривалась в верхушки небольших холмов по бокам узкой впадины, по которой бежала. Каждый раз, приближаясь к повороту, она замедляла бег, боясь столкнуться с чудовищем лицом к лицу, увидеть его странные, горящие в сумерках глаза и протянутые к ней безобразные руки. Когда же наконец без всякого предупреждения она наткнулась на него, он ее не заметил. Она свернула в сторону и, как и боялась, увидела Эрика в двадцати футах от себя. Он стоял на коленях в центре впадины и был занят чем-то непонятным. Из края впадины выдавался вперед выветренный камень, и Рейчел быстро спряталась за него, пока Эрик не успел ее заметить. Она было тут же повернула назад, туда, откуда пришла, но его странная поза и непонятное занятие заинтриговали ее. Ей показалось неожиданно важным узнать, что это он делает, потому что, наблюдая за ним исподтишка, она может выяснить нечто такое, что даст ей возможность убежать от него, или преимущество, когда ей позже придется с ним столкнуться. Она медленно двинулась вдоль камня, заглядывая в проделанные ветром дыры, пока не нашла одну, дюймов трех в диаметре, сквозь которую могла видеть Эрика. Он все еще стоял на коленях на мокрой земле, наклонив горбатую спину под проливным дождем. Он снова выглядел… изменившимся. Он был не совсем таким, каким она его видела около туалетов. Он все еще был чудовищно изуродован, но как-то иначе, чем раньше. Малозаметная, но существенная разница… Какая именно? Заглядывая в дыру в камне, сквозь которую свистел ветер и бил ей в лицо, Рейчел старалась разглядеть его получше. Сумеречный свет и дождь мешали, но ей подумалось, что он стал больше напоминать обезьяну. Мощный, с покатыми плечами, еще более удлинившимися руками. Возможно, он теперь меньше был похож на рептилию, но чудовищные, костлявые, длинные руки с заостренными когтями остались прежними. Безусловно, она только вообразила себе эти перемены, потому что его костная основа не могла заметно измениться за какие-то четверть часа. Или могла? И потом… а почему нет? Если его генная структура полностью разрушилась за время, которое прошло с тех пор, как он избил Сару Киль вчера вечером, когда он еще имел человеческую внешность, если его лицо и конечности преобразовались так радикально за эти двенадцать часов, темп его метаморфозы был, несомненно, настолько стремительным, что и за четверть часа могли произойти заметные изменения. Неприятное ощущение. И тут она разглядела, что делает Эрик: он держал в руках толстую, извивающуюся змею, одной рукой — за хвост, другой — рядом с головой, и ел ее живьем. Рейчел видела, как сжимаются и разжимаются челюсти змеи, как сверкают в отблесках молнии ее клыки, похожие на два осколка слоновой кости, как она безуспешно пытается повернуть голову и укусить существо, которое держит ее. Эрик впивался своими необыкновенно острыми зубами в середину туловища змеи, вырывал куски мяса и с наслаждением жевал. Поскольку челюсти его были тяжелее и длиннее, чем у любого человека, это непристойно жадное движение — разрывание и пережевывание змеи — можно было заметить и на большом расстоянии. Рейчел едва не вырвало от отвращения, ей захотелось отвернуться от дыры в камне. Но ее не стошнило, и она не отвернулась, потому что тошноту и отвращение победили недоумение и потребность понять Эрика. Если учесть, как страстно он хотел до нее добраться, почему он прекратил погоню? Забыл про нее? Или змея укусила его, и он, в диком гневе, отомстил ей укусом за укус? Но он не просто мстил змее, но ее ел, с жадностью поглощая кусок за куском. Один раз, когда Эрик поднял свое освещенное молнией лицо к бушующим небесам, Рейчел удалось разглядеть на нем пугающее выражение нечеловеческого наслаждения. Он дрожал от явного удовольствия, разрывая змею на части. Его голод казался таким острым и неутолимым, что его нельзя было описать словами. Дождь лил как из ведра, завывал ветер, гремел гром, сверкала молния, и у Рейчел создалось впечатление, что она подглядывает через трещину в стене в ад, где демон поедает души проклятых Богом. Ее сердце билось с таким грохотом, что могло поспорить с барабанной дробью дождя. Она знала, что должна бежать, но жуткая картина приковала ее к месту. Она заметила еще змею, потом вторую, потом третью, четвертую, пятую, выползающих из земли вокруг колен Эрика. Он стоял прямо перед входом в нору этих несущих смерть пресмыкающихся, которую, по-видимому, залило дождем. Гремучие змеи, заметившие получеловека, немедленно напали на него, кусая бедра и ноги. Несмотря на многочисленные укусы, Эрик даже не поморщился и не вскрикнул. Рейчел почувствовала облегчение, понимая, что вскоре он потеряет сознание под действием яда. Он отбросил в сторону наполовину съеденную змею и схватил другую. С такой же ненасытной, отвратительной жадностью он вонзил свои заостренные зубы-бритвы в живую плоть змеи, отрывая один сочащийся кровью кусок за другим. Возможно, его изменившийся обмен веществ был в состоянии бороться с сильным змеиным ядом, превращая его в ряд безвредных химических веществ или мгновенно восстанавливая пораженные ткани. Непрерывные молнии метались по зловещему небу, и в их ярком свете длинные, острые зубы Эрика сверкали, как осколки разбитого зеркала. В его горящих странным светом глазах холодно отражался небесный огонь. Мокрые, спутанные волосы временами напоминали струйки серебра; и дождь на его лице блестел, как расплавленное серебро; а вода вокруг него, испещренная отсветами молний, напоминала кипящий и скворчащий на сковороде жир. Наконец Рейчел очнулась от транса, отвернулась от дыры в камне и побежала назад, туда, откуда пришла. Она искала другую впадину между холмами, другой путь, который привел бы ее к пункту отдыха и «Мерседесу». Холмистая местность осталась позади, и теперь, двигаясь по песчаной равнине, Рейчел была там самым высоким предметом, куда выше кустов. Она снова стала бояться, как бы в нее не попала молния. В странном, стробоскопическом свете ей казалось, что унылая и голая земля вздымается и опадает, снова вздымается и снова опадает, как будто многие тысячелетия геологической деятельности спрессовались в несколько стремительных секунд. Она попыталась снова спуститься в русло, где бы ее не достала молния, но глубокая рытвина была на две трети наполнена грязной, бурлящей водой. Этот стремительный поток нес крутящуюся флотилию из сучьев и веток. И все же ей удалось добраться до пункта отдыха, где она впервые увидела Эрика. Сумочка лежала там же, где она ее бросила, и Рейчел подняла ее. «Мерседес» тоже был на месте. Не доходя нескольких шагов до машины, она неожиданно остановилась, увидев, что крышка багажника, которая раньше была открыта, теперь опущена. У нее возникло леденящее душу предчувствие, что Эрик, или то существо, в которое превратился Эрик, обогнало ее, снова забралось в багажник и закрыло крышку. Испуганная и дрожащая, Рейчел стояла под проливным дождем, не решаясь подойти к машине. Автостоянка, где не хватало стоков, превратилась в мелкое озеро. Она стояла в воде, доходящей ей до лодыжек. Пистолет она оставила под водительским сиденьем. Если ей удастся добраться до него, прежде чем Эрик откроет багажник и выскочит оттуда… За ее спиной стаккато дождя, капающего на стол под решетчатым навесом, напоминало звук, издаваемый разбегающимися крысами. С крыши туалетов стеной падала вода, разбиваясь о дорожку. Повсюду вокруг нее дождь бил по лужам с сухим целлофановым треском, который с каждой секундой, казалось, становился все громче. Она сделала один шаг в сторону машины, еще один и остановилась. Дождь потоками стекал с крыши «Мерседеса» и струился по стеклам, мешая ей видеть, есть ли кто в темноте внутри. Боясь подойти к машине, но так же боясь и вернуться, Рейчел наконец сделала еще шаг. Сверкнула молния. В мерцающем свете, массивный и зловещий, «Мерседес» неожиданно напомнил ей катафалк. По шоссе, ревя мотором, проехал большой грузовик, разбрызгивая во все стороны воду. Подойдя к «Мерседесу», Рейчел рванула дверцу со стороны водителя, но никого внутри не обнаружила. Пошарила под сиденьем и нашла пистолет. Пока еще не растеряв остатки мужества, она обошла машину, секунду поколебалась, нажала кнопку замка и открыла крышку багажника, в любой момент готовясь выпустить всю обойму, если эрикообразное существо прячется там. Багажник был пуст. Коврик намок, в центре его образовалась серая лужа, так что скорее всего крышка была открыта долгое время, пока особо сильный порыв ветра не захлопнул ее. Она закрыла багажник, заперла его ключом, вернулась к водительской дверце и села за руль. Положила пистолет на пассажирское сиденье, чтобы можно было быстро дотянуться. Машина завелась с одного оборота. «Дворники» смели дождь с лобового стекла. Снаружи пустыня вокруг бетонного пункта отдыха вся была окрашена в оттенки сланцевого угля: серый, черный, коричневый и цвет ржавчины. Единственным движением в этом песчаном пейзаже были потоки дождя и гонимые ветром шары перекати-поля. Эрика нигде не было. Может быть, гремучки все же прикончили его. Разумеется, он не мог выжить после стольких укусов стольких змей. Возможно, его генетически переделанное тело способно справиться с обширными поражениями тканей, но вряд ли может противодействовать такому сильному яду. Рейчел выехала со стоянки на шоссе и направилась на восток, к Лас-Вегасу, благодарная за то, что еще жива. В такой сильный ливень она боялась ехать быстрее, чем сорок или пятьдесят миль в час, и потому держалась в крайнем правом ряду, позволяя более отважным автомобилистам обгонять себя. Миля за милей она пыталась убедить себя, что худшее позади, но это ей никак не удавалось. Бен включил скорость и вывел «Меркурий» на шоссе. Буря стремительно уходила на восток, к Лас-Вегасу. Гром теперь гремел чуть дальше, напоминая больше глухое урчание, чем сокрушающий удар. Молнии, которые только что сверкали прямо над головой, теперь передвинулись вперед, к восточному горизонту. Дождь все еще лил как из ведра, но это была уже не та слепящая стена воды, как раньше, так что можно было снова вести машину. Часы на приборной доске подтверждали показания наручных часов Бена — четверть шестого. Однако обычно в этот час летом значительно светлее. Затянутое тучами небо принесло ранние сумерки, и впереди унылый пейзаж постепенно скрывался в этом искусственном полумраке. С той скоростью, с которой он ехал, ему не удастся достичь Лас-Вегаса раньше половины девятого. Надо будет остановиться в Бейкере и еще раз попробовать дозвониться до Уитни Гэвиса. Но у него появилось чувство, что ничего не выйдет. Чувство, что ему и Рейчел перестало везти.
Глава 31
БЕЗУМНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ НАСЫЩЕНИЯ
Эрик только смутно помнил о гремучих змеях. Их зубы оставили небольшие ранки на его кистях, руках и бедрах, которые уже зажили, а дождь смыл следы крови с его промокшей одежды. Его мутирующая плоть горела особым безболезненным огнем непрерывно идущих изменений, который не дал ему почувствовать боли от укусов. Иногда он ощущал слабость в коленях или тошноту в желудке, иногда в глазах мутнело, а порой у него кружилась голова, но эти симптомы действия яда с каждой минутой становились все менее заметными. Пока он шел по потемневшей во время бури пустыне, в памяти его возникали змеи, извивающиеся вокруг него, как дым, шепчущие что-то на непонятном ему языке, но ему трудно было поверить в их реальность. Иногда он вспоминал, как рвал зубами, жевал и глотал огромные куски змей, потому что его мучила безумная потребность насыщения. Какая-то часть его реагировала на эти воспоминания с возбуждением и удовлетворением. Но другая его часть, та, что еще осталась Эриком Либеном, испытывала отвращение, и он подавил эти воспоминания, боясь, что в противном случае потеряет последний здравый смысл. Он быстро шел, ведомый инстинктом, к какому-то неизвестному ему месту. По большей части он двигался в вертикальном положении, но иногда запинался и спотыкался, и его плечи сгибались, как у обезьяны. Иногда он едва сдерживал желание встать на четвереньки и ползти по песку на животе. Однако это желание пугало его, и ему удалось его побороть. То тут, то там в пустыне мерцали призрачные огни, но на этот раз его к ним не влекло. Они уже не казались ему такими загадочными и завлекательными, как раньше, потому что теперь он подозревал, что они обозначают дверь в ад. Раньше, замечая эти фантомные огни, он обязательно видел и давно умершего дядю Барри, что могло означать, будто дядя Барри вышел из этих огней. Эрик был убежден, что Барри Хэмпстед пребывает в аду, поэтому он решил, что эти двери являются вратами проклятия. Погибнув вчера в Санта-Ане, Эрик стал собственностью Сатаны, обреченный провести вечность с Барри Хэмпстедом, но в самый решающий момент он сбросил с себя оковы могилы и сумел вытащить свою душу из преисподней. Теперь Сатана открывал ему эти двери в надежде, что он из любопытства перешагнет через порог какой-нибудь двери и окажется в уготованной для него серной камере. Его родители предупреждали, что ему грозит ад, что он проклял свою душу, когда поддался похоти дяди и позднее, когда убил своего мучителя. Теперь он знал, что они были правы. Ад был близко. Он боялся заглянуть в эти огни, откуда кто-то с улыбкой манил его. Он бегом мчался по пустыне. Буря, как две столкнувшиеся в бою армии, освещала день яркими вспышками и наполняла его грохочущими канонадами. Неизвестное место, куда его привел инстинкт, оказалось пунктом отдыха, где он впервые столкнулся с Рейчел. Автоматические выключатели, ошибочно приняв бурю за наступление вечера, включили неоновые полоски света на фронтоне строения и вокруг дверей с каждой стороны. На автостоянке несколько ртутных ламп бросали синий отсвет на лужи на асфальте. Разглядев приземистое бетонное строение сквозь пелену дождя, Эрик почувствовал, что в голове у него прояснилось. Внезапно он вспомнил, что сделала Рейчел. Она виновата в том, что он попал под грузовик на Мейн-стрит. И поскольку эта насильственная смерть дала толчок происходящим в нем жутким процессам, он винил ее и в своей чудовищной мутации. Она была почти что в его руках, он едва не разорвал ее на куски, но она ускользнула от него, когда его одолел голод, когда он почувствовал отчаянную потребность обеспечить топливом свой вышедший из-под контроля метаболизм. Теперь, когда он думал о ней, он ощущал, как снова растет в нем ярость рептилии. Он издал тонкий вскрик ненависти, заглушенный шумом бури. Обогнув угол здания, он почувствовал, что рядом кто-то есть. По его телу прошла дрожь возбуждения. Он упал на четвереньки и прижался к стене в тени, недоступной неоновым огням. Наклонив голову и затаив дыхание, он прислушался. Прямо над его головой находилось окно мужского туалета. Движение внутри. Мужской кашель. Затем Эрик услышал тихий, мелодичный свист: «Совсем один в лунном свете» из мюзикла «Кошки». Скрежет и клацание шагов по бетону. Открылась дверь в восьмидесяти футах от Эрика, и появился мужчина. Парню было под тридцать, крепкий, крутой с виду, в сапогах, джинсах, ковбойской рубашке и светлой стетсоновской шляпе. Он немного постоял под навесом, глядя в дождь. Неожиданно ощутил присутствие Эрика, повернулся, перестал свистеть и в ужасе, не веря собственным глазам, уставился на него. В тот момент, когда мужчина повернулся к нему, Эрик сделал прыжок так стремительно, что показался отражением молнии, мелькнувшей на восточном краю неба. Высокий и мускулистый ковбой вполне мог бы постоять за себя в драке с обыкновенным человеком, но Эрик Либен больше не был обыкновенным человеком, он вообще уже почти не был человеком. Более того, шоковое состояние ковбоя при внезапном появлении чудовища, парализовавшее его, сыграло Эрику на руку. Он налетел на парня и вонзил все пять когтей правой руки глубоко ему в живот. Одновременно другой рукой он схватил свою добычу за горло, раздавил трахею и вырвал голосовые связки, обеспечив таким образом полное молчание жертвы. Из порванных артерий хлынула кровь. Смерть затянула пленкой глаза ковбоя еще до того, как Эрик вспорол ему живот. Дымящиеся кишки вывалились на бетонную дорожку, и мертвый ковбой упал в свои собственные внутренности. Полный дикой радости, силы и свободы, Эрик уселся на теплый труп. Странно, но убийство уже не пугало его и не казалось отвратительным. Он превращался в примитивное животное, которое получало первобытное наслаждение от одного вида крови. Однако даже его цивилизованную часть — бывшего Эрика Либена, — несомненно, возбуждало насилие и огромная сила и кошачья ловкость его изменившегося тела. Он знал, что должен испытывать отвращение, тошноту, но ничего такого не было. Всю свою жизнь он хотел властвовать над другими, давить своих противников, и теперь эта потребность нашла свое выражение в самой чистой форме: жестоком, безжалостном убийстве. Более того, Эрику впервые удалось четко вспомнить убийство двух молодых женщин, чью машину он украл во вторник вечером в Санта-Ане. Он не чувствовал никакой ответственности за их смерть, никакой вины, только приятное удовлетворение и жестокую радость. В самом деле, воспоминание о пролитой им крови, о голой женщине, которую он распял на стене, еще больше усилило его наслаждение от убийства ковбоя, и сердце его стучало от ледяной радости. Затем, приникнув к трупу у двери в мужской туалет, он на какое-то время совершенно перестал сознавать себя существом с интеллектом, существом с прошлым и будущим. Он погрузился в полубессознательное состояние, в котором единственными воспринимаемыми им ощущениями были запах и вкус крови. Он смутно слышал дробь и бульканье дождя, но эти звуки казались ему скорее внутренними, чем внешними, скорее сопутствующими изменениям, которые продолжали происходить с его артериями, венами, костями и тканями. Из этого состояния его вывел визг. Он поднял голову от разорванного горла своей добычи, куда только что погрузил свою пасть. На углу строения стояла женщина, широко раскрыв глаза и прижав к груди руку, как бы защищаясь. Если судить по ее сапогам, джинсам и ковбойской рубашке, она приехала с тем парнем, которого Эрик только что убил. Эрик понял, что пожирал свою добычу, и эта мысль не испугала его и не вызвала отвращения. Ведь не удивится и не возмутится же лев по поводу своей собственной жестокости. Вследствие ускоренного метаболизма он испытывал голод, подобного которому не знал никогда, и ему требовалась питательная еда, чтобы унять этот голод. Он нашел такую пищу в мясе своей жертвы, точно так же, как и лев находит то, что ему нужно, в плоти газели. Женщина снова попыталась закричать, но не смогла издать ни звука. Эрик поднялся с трупа. Облизал испачканные кровью губы. Женщина кинулась прочь, в дождь и ветер. Шляпа с нее слетела, белокурые волосы развевались — единственное светлое пятно в грозовых сумерках. Эрик бросился за ней. Он получал необыкновенное наслаждение от того, как стучат сначала по бетону, а потом по песку его ноги. Разбрасывая брызги во все стороны, он промчался через автостоянку, с каждой секундой приближаясь к женщине. Она бежала к бледно-красному пикапу. Оглянулась и увидела, что он уже близко. Очевидно сообразив, что не успеет подбежать к пикапу, завести его и уехать, она свернула и бросилась к шоссе, по-видимому надеясь получить помощь от водителей проезжающих машин. Погоня оказалась короткой. Он швырнул ее на землю, когда она еще не успела добежать до края автостоянки. Они вместе покатились по воде, достигающей до лодыжек. Женщина отбивалась изо всех сил, стараясь достать до него ногтями. Он вонзил свои острые, как бритва, когти ей в руки, прижав их к бокам, и она дико закричала от боли. Отчаянно борясь, они перекатились еще раз, и здесь он окончательно прижал ее к земле, холодной, несмотря на теплый воздух. Глядя вниз на беспомощную женщину, Эрик на мгновение удивился, что его жажда крови уменьшилась, сменившись плотским голодом. Он отдался во власть этому голоду, как только что отдался жажде крови. Лежащая под ним женщина поняла его намерения и безуспешно попыталась сбросить его. Ее крики боли сменились пронзительными воплями ужаса. Вырвав свои когти у нее из руки, он разорвал ей рубашку и положил свою темную, уродливую, нечеловеческую руку ей на грудь. Она перестала кричать. Смотрела на него пустыми глазами, потеряв голос, дрожа, парализованная ужасом. Секунду спустя, содрав с нее брюки, он нетерпеливо достал свой член из джинсов. Даже в своем безумном желании овладеть женщиной он осознал, что стоящий член в его руке не может принадлежать человеку: он был огромным, странным, кошмарным. Когда взгляд женщины упал на этот чудовищный орган, она отчаянно, со стоном зарыдала. Наверное, думала, что отворились врата ада и оттуда вышли демоны. При виде ее ужаса и явного малодушия его похоть еще больше взыграла. Буря, начавшая было стихать, снова набрала силу, как будто создавая зловещее сопровождение тому жестокому акту, который он готовился совершить. Дождь поливал их. Вокруг плескалась вода. Через несколько минут он убил ее. Сверкали молнии, отражаясь в залитой водой автостоянке, и вытекающая из женщины кровь казалась матовыми пятнами нефти на воде. После того как он убил ее, он принялся насыщаться. Когда он наелся и его примитивная потребность потеряла свою остроту, та его часть, которая сохранила интеллект, снова взяла верх над диким зверем. Очень медленно Эрик осознал опасность того, что его могут увидеть. На шоссе было мало машин, но, если одна из них остановится на автостоянке, его обязательно заметят. Он поспешно оттащил мертвую женщину за угол бетонного строения и спрятал в зарослях мескитового дерева. С трупом мужчины он поступил так же. Ключи от пикапа торчали в зажигании. Со второй попытки машина завелась. Эрик прихватил с собой шляпу ковбоя. Теперь он натянул ее поглубже на голову, надеясь, что она скроет его странное лицо. Приборы показывали, что бензиновый бак полон, так что ему не придется нигде останавливаться до Вегаса. Но если водитель встречной машины разглядит его лицо… Он должен быть настороже, ехать аккуратно, не привлекать внимания и бороться с той ужасной эволюцией, которая упорно превращала его в безмозглого зверя. Он должен помнить, что следует отворачивать лицо, если появятся встречные машины или кто-то возьмется его обгонять. Если он примет все меры предосторожности, плюс шляпа и рано сгущающиеся из-за бури сумерки, возможно, никто и не обратит на него внимания. Он взглянул в зеркало над приборной доской и увидел пару разных глаз. Один был бледно-зеленый с узким вертикальным оранжевым зрачком, горящий, как раскаленный уголь. Второй был больше, темнее и… многогранный. Это поразило его так сильно, как ничто другое за последнее время, и он быстро отвернулся. Многогранный? Настолько чуждый, что даже думать об этом страшно. Ничего подобного не встречалось ни на одном этапе человеческой эволюции, даже в те древние времена, когда амфибии, хватая ртом воздух, впервые выползли из моря на сушу. Вот оно, доказательство, что его тело не просто шло назад в эволюционном процессе, не просто пыталось выразить то, что скопилось в человеческих генах за всю историю существования, нет, его генная структура пошла вразнос и придает ему такую форму и сознание, которые ничего общего не имеют с человеческой расой. Он становился чем-то иным, не рептилией, не обезьяной, не неандертальцем, не кроманьонцем, не человеком европейского типа, чем-то настолько странным, в чем у него не хватало ни мужества, ни любопытства разобраться. Теперь, когда он будет смотреть в зеркало, он постарается, чтобы ему видна была только дорога сзади и ни в коем случае не какая-то деталь его собственной внешности. Он включил передние фары и выехал с автостоянки на шоссе. Рулевое колесо казалось чужим его изуродованным, чудовищным рукам. Вождение автомобиля, которое должно было быть для него таким же привычным, как ходьба, сейчас стало совершенно необычным действием, да и очень трудным, он едва справлялся. Он покрепче сжал руль и сосредоточился на шоссе, убегающем вперед от дождя. Шорох шин и монотонное постукивание «дворников», казалось, вели сквозь сгущающуюся тьму навстречу его особой судьбе. Однажды, когда на короткое мгновение к нему вернулся весь его интеллект, он подумал о Уильяме Батлере Йитсе[107] и вспомнил заключительные строки из стихотворения этого великого поэта:Глава 32
ЦВЕТ РОЗОВОГО ФЛАМИНГО
Днем в среду, после встречи с доктором Истоном Золбергом в университете, детективы Джулио Вердад и Риз Хагерсторм, все еще на больничном, поехали в Тастин, где находилась главная контора Шэдвея по продаже недвижимости. Она располагалась в обширной квартире на первом этаже трехэтажного здания в испанском стиле с синей черепичной крышей. Джулио сразу заметил машину слежения. То был неприметный грязно-зеленый «Форд», пристроившийся у обочины за полквартала от конторы, откуда сидевшим в нем были хорошо видны и сама контора, и дорожка, служащая для парковки. В «Форде» сидели два парня в синих костюмах. Один читал газету, второй — наблюдал. — Федеральные агенты, — заметил Джулио, когда они в первый раз проезжали мимо «Форда». — Люди Шарпа? Бюро по оборонной безопасности? — поинтересовался Риз. — Наверное. — И не скрываются, смотри-ка! — Думаю, они не рассчитывают, что Шэдвей здесь появится, — предположил Джулио. — Но они должны все сделать по правилам. Джулио поставил машину так, что между ними и «Фордом» оказалось еще несколько машин. Это давало им возможность наблюдать за наблюдателями, не выдавая себя. Риз много раз сидел в засаде вместе с Джулио, и для него процесс наблюдения не был такой мукой, какой мог бы быть с другим напарником. Джулио был человеком интересным, сложным, и с ним можно было говорить часами. Но если им не хотелось разговаривать, они могли долго молчать, не испытывая от этого неудобства — один из верных признаков настоящей дружбы. В эту среду днем, пока они наблюдали за зеленым «Фордом» и за конторой Шэдвея, они говорили об Эрике Либене, генной инженерии и вечной мечте о бессмертии. Такой мечтой одержим был не только Эрик Либен. Несомненно, глубокая тоска по вечной жизни, по возможности победить смерть мучила человечество с той самой поры, когда первые представители рода обрели зачатки сознания и разума. Тема была особенно болезненной для Риза и Джулио, потому что оба стали свидетелями смерти своих любимых жен и так и не смогли полностью смириться с потерями. Риз сочувствовал мечте Либена и даже мог понять, почему ученый решил провести на самом себе опасный генетический эксперимент. Верно, опыт не удался: два убийства и чудовищное распятие одной из убитых девушек доказывали, что Либен вернулся из могилы не вполне человеком, поэтому его надо остановить. Но страшный результат и безрассудство его эксперимента все-таки не исключали сочувствия. Все люди, женщины и мужчины, — братья и сестры в борьбе с ненасытным голодом могилы. Погода портилась, солнце спряталось за темно-синие облака, и Риз почувствовал грусть. Она могла бы захватить его целиком, не находись он при исполнении служебных обязанностей, но он таки был на работе, несмотря на то, что взял отпуск по болезни. Как и агенты Бюро, они не ждали, что Шэдвей покажется здесь, но им хотелось вычислить хотя бы одного служащего, работающего у него в конторе. Время шло, несколько человек зашли в дом и вышли оттуда, но особенно выделялась среди них высокая тонкая женщина со взбитой прической, чья угловатая худоба аиста подчеркивалась обтягивающим платьем цвета розового фламинго. Это был не бледно-розовый, не просто розовый, а яркий, огненно-розовый цвет. За это время она уже дважды отвозила куда-то пожилые пары на их собственных машинах. По-видимому, показывала клиентам подходящие дома. Ее собственная машина, с особым номерным знаком с надписью REQUEEN, что скорее всего означало «Королева недвижимости», «Кадиллак» канареечного цвета, так же легко запоминалась, как и сама владелица. — Опять она, — заметил Джулио, когда женщина вернулась со второй парой. — Такую в толпе не потеряешь, — согласился Риз. Без десяти пять она снова вышла из конторы Шэдвея и поспешила, как испуганная птица, к своей машине. Джулио и Риз решили, что она, по-видимому, собралась домой. Оставив агентов Бюро ждать появления Бенджамина Шэдвея, они последовали за желтым «Кадиллаком» по Ист-стрит к Ньюпорт-авеню и дальше, к Кован-Хейтс. Она жила в двухэтажном оштукатуренном домике, крытом дранкой, с множеством балкончиков красного дерева, стоящем на довольно крутой улице. Когда «Кадиллак» розовой леди скрылся за дверью гаража, Джулио припарковал машину у дома. Он вышел, чтобы проверить содержимое почтового ящика — преступление по федеральным законам, — рассчитывая узнать имя женщины. Через несколько секунд вернулся в машину и сообщил: — Теодора Бертлезмен. По-видимому, откликается на Тедди, потому что так было написано на одном из писем. Они подождали минуты две, затем подошли к двери, и Риз нажал кнопку звонка. Летний ветерок, теплый, несмотря на хмурое небо, легко шевелил цветы, окружающие дом, — бугенвиллеи, алый гибискус и душистые звездочки жасмина. На улице было тихо, покойно, все звуки внешнего мира устранялись самым эффективным из известных человеку фильтров: большими деньгами. — Надо было и нам заняться продажей недвижимости, так я думаю, — сказал Риз. — И какого черта я решил стать копом? — Ты, верно, был копом в своей предыдущей жизни, — сухо ответил Джулио, — в другое время, когда это было выгоднее, чем продавать недвижимость. Ты просто пошел по проторенному пути, не сообразив, что ситуация изменилась. — Попал в петлю кармы, так? Через секунду дверь открылась. Аистоподобная женщина в платье цвета розового фламинго посмотрела сверху вниз на Джулио и только слегка снизу вверх на Риза. Вблизи она меньше напоминала птицу и была очень впечатляющей. Наблюдая за ней с большого расстояния, Риз не мог видеть фарфоровую чистоту ее кожи, удивительные серые глаза и скульптурную четкость черт. Ее взбитые волосы, которые с расстояния в пятьдесят футов казались покрытыми лаком, окаменевшими, вблизи оказались густыми и мягкими. Она осталась такой же высокой, такой же худой и такой же яркой, как и раньше, но она явно не была плоскогрудой, и ноги у нее были что надо. — Чем могу вам помочь? — спросила Тедди Бертлезмен низким и приятным голосом. От нее исходило ощущение уверенности, так что, если бы Джулио и Риз были не полицейскими, а двумя хулиганами, вряд ли бы они решились напасть на нее. Предъявив свое удостоверение и бляху, Джулио представился и сказал: — Это мой напарник, детектив Хагерсторм. Мы хотели бы расспросить вас насчет Бена Шэдвея. Возможно, у меня устаревшие данные, но вы вроде бы работаете у него агентом по продаже недвижимости. — Разумеется, вы прекрасно знаете, что так оно и есть, — ответила она без всякого неудовольствия, даже весело. — Пожалуйста, входите. Она провела их в гостиную, интерьер которой отличался такой же смелостью, как и ее манера одеваться. Но стиль и вкус, безусловно, чувствовались. Массивный кофейный столик из белого мрамора. Современные диваны, обтянутые пушистой материей зеленого цвета. Изумрудно-зеленые вазы высотой в четыре фута с высокими стеблями пампассной травы, украшенной белыми плюмажами. Большие полотна современных художников, развешанные по стенам вплоть до высокого, как в соборе, потолка, делающие это огромное помещение уютным и комфортабельным. Одна из стен — сплошь стеклянная. Отсюда открывался прекрасный вид на округ Ориндж, Тедди Бертлезмен села на зеленый диван спиной к окну, падающий оттуда свет образовал бледный нимб вокруг ее головы. Риз и Джулио уселись в муаровые кресла напротив. Их разделял мраморный столик, напоминающий алтарь. — Миссис Бертлезмен… — начал Джулио. — Нет, ради Бога, — перебила она его, снимая туфли и подбирая под себя длинные ноги. — Или зовите меня Тедди, или, если хотите быть официальным, тогда мисс Бертлезмен. Только я ненавижу, когда меня так называют. Мне это напоминает Юг до Гражданской войны — все эти изящные леди в кринолинах, потягивающие мятный сироп под магнолиями, и суетящиеся рядом чернокожие служанки. — Мисс Бертлезмен, — продолжал Джулио, — нам очень надо поговорить с мистером Шэдвеем, и нам подумалось, что вы можете знать, где бы мы могли его найти. Например, нам пришло в голову, что у него, как у торговца недвижимостью и брокера, может иметься какая-то собственность, которая в настоящий момент пустует и где он бы мог… — Простите меня, но мне не ясно, какое это имеет к вам отношение. Если верить вашим документам, вы полицейские из Санта-Аны. У Бена есть конторы в Тастине, Коста-Месе, Ориндже, Ньюпорт-Бич, Лагуна-Бич и Лагуна-Нигуэле, но не в Санта-Ане. А живет он в Ориндж-Парк-Акрез. Джулио уверил ее, что частично дело Либен — Шэдвея подпадает под юрисдикцию полицейского управления Санта-Аны, и пояснил, что взаимодействие между различными участками вполне обычное дело. Но Тедди проявила вежливый скептицизм и искусно замаскированное нежелание сотрудничать с ними. Ризу понравилось ее умение себя держать и то изящество и апломб, с которыми она избегала скользких тем и умудрялась отвечать на вопросы, не сказав ничего существенного. Совершенно очевидно, что она уважала своего босса и готова была защищать его, но тем не менее не сказала ничего такого, что позволило бы обвинить ее во лжи или стремлении помешать розыску. В конце концов, осознав бесполезность официального подхода и, по-видимому, решив, что его истинные побуждения и поиски сочувствия с ее стороны могут оказаться более действенными там, где он как официальное лицо потерпел поражение, Джулио вздохнул, откинулся на спинку стула и сказал: — Послушайте, мисс Бертлезмен, мы вам наврали. Мы тут вовсе не официально. Во всяком случае, не в прямом смысле. По правде говоря, считается, что мы оба сейчас на больничном. Наш начальник придет в ярость, если узнает, что мы продолжаем заниматься этим делом, потому что его отобрали у нас федеральные власти и велели не вмешиваться. Но по ряду причин мы не можем этого сделать, если хотим продолжать себя уважать. Тедди Бертлезмен нахмурилась (сделала она это, с точки зрения Риза, довольно мило): — Я не понимаю… Джулио остановил ее, подняв тонкую руку: — Подождите. Сначала послушайте. Мягким, искренним и задушевным голосом, абсолютно не похожим на его официальный тон, он рассказал ей, с какой жестокостью были убиты Эрнестина Фернандес и Бекки Клинстад, как одну бросили в помойку, а другую прибили гвоздями к стене. Он рассказал о своем маленьком брате Эрнестино, которого съели крысы много лет назад совсем в другом месте. Объяснил, какую роль сыграла эта трагедия в его одержимости по поводу всякой бессмысленной смерти и что сходство имен Эрнесто и Эрнестины, помимо всего прочего, заставило его отнестись особо к смерти этой девушки и превратило расследование этого убийства в его личный крестовый поход. — Хотя я вынужден сознаться, — добавил Джулио, — что, если бы даже имена и не были похожи и если бы все остальные факты оказались иными, я нашел бы другие основания для этого крестового похода. Потому что практически каждое дело для меня — крестовый поход. Такая у меня дурная привычка. — Замечательная привычка, — заметил Риз. Джулио пожал плечами. Риза удивило, что Джулио так хорошо знал, что им движет. Выслушав объяснения своего напарника и осознав, насколько глубоко тот все понимает, Риз стал уважать его еще больше. — Видите ли, — обратился Джулио к Тедди Бертлезмен, — я уверен, что ваш босс и миссис Либен ни в чем не виноваты, что они просто являются пешками в игре, правила которой они даже полностью не понимают. Я думаю, их используют, из них могут сделать козлов отпущения и убить в интересах других лиц, возможно, даже в интересах государства. Им нужна помощь. Наверное, я хочу, чтобы вы поверили, что и они тоже стали частью моего крестового похода. Дайте мне возможность помочь им, Тедди. Монолог Джулио был просто поразительным, и, возможно, с чьей-то точки зрения, он так и выглядел — монологом, и больше ничем. Но нельзя было не ощутить искренности и глубокой озабоченности говорившего. Хотя темные глаза глядели внимательно и в лице чувствовалась проницательность, его стремление к справедливости и человеческая теплота были, безусловно, искренними. Тедди Бертлезмен оказалась достаточно умной, чтобы понять, что Джулио не старается сыграть на ее чувствах, и прониклась к нему доверием. Она сбросила ноги с дивана и подвинулась ближе к краю, зашуршав розовым шелком. Этот звук, как легкий ветерок, прошел по нервам Риза, подняв волоски на тыльных сторонах его ладоней и заставив вздрогнуть от восхищения. — Я чертовски точно знаю, что никакой угрозы национальной безопасности Бен Шэдвей не представляет, — заявила Тедди. — Федеральные агенты тут под предлогом этого бреда что-то разнюхивали, так я едва удержалась, чтобы не рассмеяться им в лицо. Нет, по правде говоря, я едва удержалась, чтобы не плюнуть им в лицо. — Куда он мог поехать вместе с Рейчел Либен? — спросил Джулио. — Рано или поздно федеральные агенты их разыщут, так что для них же будет лучше, если мы с Ризом найдем их первыми. У вас есть какие-нибудь соображения насчет того, где их искать? Поднявшись с дивана одним стремительным, сверкающе-розовым движением, Тедди принялась вышагивать по комнате на похожих на ходули ногах, которые должны были казаться неуклюжими, но на самом деле были воплощением изящества. Ризу, сидящему в кресле, она казалась необыкновенно высокой. Она ходила, изредка останавливаясь, неосознанно-соблазнительным движением выставив бедро, потом снова принималась вышагивать, раздумывая, где бы мог спрятаться Бен, и перечисляя возможные варианты: — Верно, у него есть собственность, в основном небольшие дома, по всему штату. На данный момент не сданы… дайте подумать… маленькое бунгало в Ориндже, на Пайн-стрит, но не думаю, чтобы он туда поехал, потому что начал там кое-какие работы — новая ванная комната, ремонт на кухне. Не будет же он прятаться в доме, где взад-вперед ходят рабочие. Затем еще полдома в Йорба Линде… Риз слушал ее, но на какой-то момент ему стало безразлично, что она говорит, пусть это волнует Джулио. Единственное, о чем Риз мог думать, это как она выглядит, говорит и двигается. Тедди заслонила собой все его чувства, не оставив места ни для чего другого. На расстоянии она казалась угловатой, похожей на птицу, но вблизи напоминала газель, стройную и быструю, и уж никак не угловатую. Ее рост производил меньшее впечатление, чем ее изящество, ее изящество — меньшее впечатление, чем ее гибкость, ее гибкость — меньшее впечатление, чем ее красота, а ее красота — меньшее впечатление, чем ее интеллект, энергичность и чутье. Даже если она удалялась от окна, когда ходила по комнате, ее все равно окружал нимб света. Ризу казалось, что она светится вся. Уже пять лет с того дня, когда Джанет была убита мужчинами, пытавшимися украсть Эстер, он не испытывал ничего подобного. Интересно, а Тедди Бертлезмен тоже обратила на него особое внимание или он для нее просто еще один полицейский? Как бы подойти к ней так, чтобы не выставить себя дураком и не обидеть ее? Может что-нибудь быть между таким мужчиной, как он, и такой женщиной, как она? И вообще, сможет он жить дальше без нее? И снова дышать? И не написано ли это все у него на лице? Впрочем, ему было наплевать, выдал он свои чувства или нет. — …мотель! — Тедди перестала ходить, сама удивившись возникшей мысли, потом усмехнулась. На редкость симпатичная усмешка. — Ну, конечно, это самое подходящее место. — У него есть мотель? — спросил Джулио. — Старая развалюха в Лас-Вегасе, — объяснила Тедди. — Он его недавно купил. Создал с этой целью новую корпорацию. Федеральным агентам потребуется время, чтобы наткнуться на это место, потому что он приобрел его только что и он в другом штате. Там никогонет, мотель закрыт, но продали его с мебелью. Даже квартира менеджера полностью меблирована. Думаю, Бен и Рейчел устроились там с удобствами. Джулио посмотрел на Риза: — Что ты об этом думаешь? Ризу пришлось отвести взгляд от Тедди, чтобы обрести способность дышать и говорить. Со странным присвистом он ответил: — Звучит подходяще. Тедди снова начала шагать. Шелк цвета розового фламинго развевался вокруг ее колен. — Я знаю, что права. Бен там на паях с Уитни Гэвисом, а Уитни, пожалуй, единственный человек на земле, которому Бен полностью доверяет. — Кто такой этот Гэвис? — поинтересовался Джулио. — Они были вместе во Вьетнаме, — объяснила она. — Очень близкие друзья. Почти что братья. Может, даже ближе. Знаете, Бен ведь по-настоящему славный парень, любой вам скажет. Мягкий, открытый, чертовски честный, настолько честный, что некоторые просто какое-то время ему не верят, пока не узнают получше. Но вот что странно… как-то так получается, что он всех держит на расстоянии вытянутой руки, никому полностью не открывается. Кроме, я думаю, Гэвиса. Такое впечатление, что случившееся с ним на войне навсегда сделало его отличным от других людей и для него невозможно быть близким с кем-нибудь, кроме тех, кто прошел через то же, что и он, и не сошел после этого с ума. Как Уитни. — А с миссис Либен он тоже так близок? — спросил Джулио. — Думаю, что да. По-моему, он ее любит, — сказала Тедди, — и потому она — одна из самых везучих женщин, которых я знаю. Риз услышал в ее голосе ревность, и ему показалось, что сердце его оторвалось и взлетело под самое горло. По-видимому, Джулио заметил то же самое, потому что проговорил: — Простите меня, Тедди, но я полицейский, да к тому же любопытен по природе, и мне показалось, что вы ничего не имели бы против, если бы он влюбился в вас. Она удивленно моргнула, потом рассмеялась. — Я и Бен? Да нет. Во-первых, я выше его ростом, а на каблуках так просто над ним возвышаюсь. Потом — он парень домашний, тихий, мирный, читает только детективы и собирает модели поездов. Нет, Бен просто замечательный, но я для него слишком яркая, а он для меня — слишком приземленный. Сердце Риза вернулось на свое место. — Верно, я ревную, — созналась Тедди, — но только потому, что Рейчел нашла себе хорошего мужика, а я нет. Когда у тебя такой рост, ты знаешь, что мужчины за тобой толпами бегать не станут, разве что баскетболисты, а я терпеть не могу спортсменов. И еще, когда тебе тридцать два, поневоле расстраиваешься, видя, что кто-то удачно устроился, даже если ты и рада за них. Риз снова возликовал. После того как Джулио задал еще несколько вопросов по поводу мотеля и уточнил его местонахождение, они с Ризом поднялись, и Тедди проводила их до дверей. Делая шаг за шагом, Риз судорожно пытался сообразить, что бы ему сказать, с чего начать. Когда Джулио открыл дверь, он оглянулся на Тедди и сказал: — Простите, мисс Бертлезмен, но я полицейский, и мне хотелось бы знать… может быть… не встречаетесь ли вы с кем-нибудь? Слушая себя, Риз изумлялся, как это Джулио может говорить так гладко и складно, а он, пытаясь подражать его спокойной манере, говорит так грубо и неуклюже. Улыбнувшись ему, Тедди спросила: — А это имеет отношение к делу, которое вы расследуете? — Ну… я подумал… в смысле… я не хотел бы, чтобы вы передали кому-нибудь наш разговор. И не потому, что наш начальник устроит нам взбучку… но, если вы об этом мотеле скажете еще кому-нибудь, это может повредить мистеру Шэдвею и миссис Либен и… Ему хотелось пристрелить себя, чтобы покончить с этим унижением. — Я ни с кем не встречаюсь конкретно, — улыбнулась Тедди, — во всяком случае, у меня нет человека, с которым я делюсь секретами. Риз откашлялся. — Что ж, прекрасно. Хорошо. Он начал снова поворачиваться к двери, откуда Джулио как-то странно смотрел на него, когда Тедди вдруг произнесла: — А вы — крупный мужчина, верно? Риз снова повернулся к ней: — Простите? — Вы вполне крупный мужчина. Жаль, что таких, как вы, немного. Девушка моего роста может показаться вам почти что маленькой. «Что она хочет сказать? — подумал он. — Может, это просто из вежливости? Или она дает мне шанс? Если это так, то что мне делать?» — Приятно, когда тебя считают маленькой, — заметила она. Он попытался заговорить, но не смог. Он чувствовал себя глупым, неуклюжим и робким, как будто ему снова стало шестнадцать. Но неожиданно он обрел дар речи и выпалил свой вопрос так, как будто ему в самом деле было шестнадцать: — Мисс-Бертлезмен-не-согласитесь-ли-вы-куда-нибудь-пойти-со-мной? Она улыбнулась. — Да. — Вы пойдете? — Да. — В субботу вечером? В семь? — Прекрасно. Он с изумлением смотрел на нее: — Правда? Она рассмеялась: — Правда. Минутой позже, уже сидя в машине, Риз произнес: — Ну, черт бы меня побрал. — Вот уж никогда не думал, что ты такой ловкий ухажер, — добродушно пошутил Джулио. Риз покраснел: — Бог ты мой, как все в жизни забавно, правда? Никогда не знаешь, в какой момент все изменится. — Не гони лошадей, — посоветовал Джулио, включая двигатель и выезжая на середину дороги. — Пока это просто свидание. — Ты прав. Возможно. Но… у меня такое чувство, что это станет чем-то большим. — Ловкий ухажер и романтический дурень, — заметил Джулио, направляя машину к Ньюпорт-авеню. Немного подумав, Риз сказал: — Знаешь, что забыл Эрик Либен? Он был настолько одержим идеей жить вечно, что забывал радоваться той жизни, которая была ему дана. Может, жизнь и коротка, но она способна дать многое. Либен был занят своими планами на вечность и забыл, что можно наслаждаться каждым моментом. — Послушай, — остановил его Джулио, — если любовь сделает из тебя философа, мне придется поискать другого напарника. Несколько минут Риз сидел молча, вспоминая загорелые ноги и шелк цвета розового фламинго. Когда он снова обрел способность соображать, то обратил внимание, что Джулио едет вполне целенаправленно. — Куда это мы? — В аэропорт Джона Вайна. — В Вегас? — Ты не возражаешь? — спросил Джулио. — А что нам еще остается? — Придется платить за билеты из своего кармана. — Знаю. — Ты можешь остаться здесь, я не обижусь. — Я с тобой, — заверил Риз. — Я и один справлюсь. — Я с тобой. — Там может быть опасно, а ты должен подумать об Эстер, — напомнил ему Джулио. «Моя маленькая Эстер, а теперь еще, возможно, и Теодора, Тедди Бертлезмен, — подумал Риз. — А когда ты находишь кого-то, кто становится тебе дорог, если ты рискнешь себе такое позволить, жизнь становится жестокой. Их у тебя отбирают, и ты теряешь все». Предчувствие смерти заставило его вздрогнуть. И тем не менее он повторил: — Я с тобой. Разве ты не слышал? Ради всего святого, Джулио, я с тобой.Глава 33
ВИВАТ, ЛАС-ВЕГАС!
Следуя за бурей по пустыне, Бен Шэдвей доехал до Бейкера, штат Калифорния, ворот в Долину смерти, в двадцать минут седьмого. По сравнению с Барстоу ветер значительно усилился. Гонимый им дождь хлестал по стеклу с грохотом тысячи пуль. Вывески над бензозаправочной станцией, рестораном и мотелем раскачивались и, казалось, сейчас слетят с петель и улетят прочь. Сигнал «стоп» бешено крутился взад-вперед, стараясь вывинтиться из земли. На бензозаправке двое служащих в желтых дождевиках передвигались, наклонив головы и сгорбив плечи. Полы их виниловых плащей били по ногам и топорщились на ветру. Десятки шаров перекати-поля, четыре или пять футов в диаметре, прыгали, катились, плыли по единственной улице Бейкера с востока на запад, принесенные сюда с унылой местности на юге. Бен попытался дозвониться до Уитни Гэвиса из телефона-автомата в маленьком магазинчике, работающем круглосуточно, но не смог вообще пробиться в Вегас. Трижды он прослушал записанное на пленку сообщение, что связь временно прервана. Ветер выл, стонал и бился в окна магазинчика, дождь с остервенением стучал по крыше, так что особых объяснений для аварии на АТС не требовалось. Бен был напуган. Он сильно беспокоился после того, как нашел топор за холодильником в охотничьем домике Эрика. Но теперь его страх увеличивался с каждым часом, так как ему стало казаться, что буквально все против него, что удача полностью от него отвернулась. Встреча с Шарпом, резкая перемена погоды, невозможность связаться с Уитни Гэвисом, даже когда работала связь, теперь эта поломка на линии внушали ему мысль, что все это не случайно, что Вселенная представляет собой машину, имеющую темную и страшную цель, и заведующие ею боги сговорились сделать так, чтобы он никогда больше не увидел Рейчел живой. Несмотря на страх, растерянность и желание поскорее снова оказаться на шоссе, он быстренько купил еды, чтобы перекусить в машине. Он ничего не ел после завтрака в Палм-Спрингс, и его мучил голод. Продавщица — средних лет женщина в голубых джинсах, с выгоревшими на солнце волосами и загорелой кожей, задубленной многими годами жизни в пустыне, — продала ему три шоколадки, несколько пакетиков орехов и упаковку из шести банок пепси. Когда он спросил ее про телефон, она ответила: — Я слышала, там залило к востоку отсюда, около Кэ-Невы, и еще на границе штата. Вырвало несколько телефонных столбов, провода упали. Говорят, через пару часов починят. — Никогда не думал, что в пустыне могут быть такие ливни, — заметил он, когда он давала ему сдачу. — По-настоящему дождь здесь идет раза три в году. Но уж если буря, то так льет, как будто Бог забывает свое обещание наслать в следующий раз огонь и решает снова попытаться затопить нас водой. Хотя краденый «Меркурий» стоял всего лишь в нескольких шагах от входа в магазин, Бен насквозь промок, пока до него добрался. Забравшись в машину, он открыл банку пепси «и сделал большой глоток, затем зажал банку между коленями, развернул шоколадку, завел двигатель и двинулся снова по шоссе. Вне зависимости от погоды ему придется ехать к Вегасу с максимальной скоростью, семьдесят или восемьдесят миль в час, или, если удастся, даже быстрее, хотя вероятность того, что он потеряет контроль над машиной на скользком от дождя асфальте, была очень велика. Но раз он не дозвонился до Уитни Гэвиса, выбора у него не было. Спускаясь к въезду на шоссе 1–15, машина разок чихнула и вздрогнула, но потом без колебаний снова рванулась вперед. В течение минуты, пока Бен ехал на северо-восток к Неваде, он внимательно прислушивался к мотору и постоянно поглядывал на приборы, ожидая, что загорится предупредительный сигнал. Но мотор урчал, и сигнал не зажегся, да и приборы показывали, что все в норме, поэтому он слегка расслабился. Пережевывая шоколад, он постепенно довел скорость до семидесяти, осторожно проверяя, как поведет себя машина на предательски скользком асфальте. Шарп проснулся хорошо отдохнувшим в десять минут восьмого во вторник вечером. Под аккомпанемент сильного дождя, колотящего по крыше, и воды, булькающей через водосток рядом с окном, он позвонил своим подчиненным, разбросанным по всей Южной Калифорнии. От Дирка Крингера, агента, сидящего в штабе операции в округе Ориндж, Шарп узнал, что Джулио Вердад и Риз Хагерсторм не бросили заниматься расследованием по делу Либена, как им было приказано. Зная их заслуженную репутацию полицейских, способных вцепиться бульдожьей хваткой даже в безнадежное дело, Шарп приказал еще накануне, чтобы на их личные машины были установлены хорошо спрятанные передатчики и чтобы его люди следили за ними с такого расстояния, когда «хвост» за собой обнаружить нельзя. Эта предусмотрительность оказалась полезной, потому что днем они нанесли визит доктору Истону Золбергу, бывшему коллеге Либена, а затем провели пару часов позади машины с агентами у конторы Шэдвея в Тастине. — Они нас заметили и установили свой собственный наблюдательный пункт за полквартала от нас, — сообщил Крингер, — откуда могли наблюдать и за конторой, и за нами. — Наверное, восхищались собственной сообразительностью, — заметил Шарп. — А мы тем временем не сводили с них глаз. — Затем они поехали за сотрудницей конторы к ней домой. Женщину зовут Теодора Бертлезмен. — Вы уже говорили с ней о Шэдвее, так? — Да, мы со всеми сотрудниками его конторы говорили. И эта дама сказала еще меньше, чем остальные. — Долго Вердад и Риз у нее пробыли? — Минут двадцать. — Похоже, с ними она была пооткровеннее. Что она могла им сказать, как ты думаешь? — Понятия не имею, — ответил Крингер. — Она живет на холме, так что там в окна не заглянуть и с микрофоном не подступиться. К тому времени, как мы приспособились, Вердад и Хагерсторм уже уходили. От нее они направились прямо в аэропорт. — Что? — удивился Шарп. — Какой? — Аэропорт Джона Вайна, здесь, в округе Ориндж. Они там и сейчас, ждут рейса. — Какого рейса? Куда? — В Вегас. Они купили билеты на ближайший рейс в Вегас. На восемь часов. — Почему в Вегас? — спросил Шарп больше себя, чем Крингера. — Может, они все же решили бросить это дело, как и было приказано. И решили немного отдохнуть. — Никто не едет отдыхать без вещей. Ты же сказал, что они поехали прямо в аэропорт, так что, как я понял, они не заскочили на минутку домой, чтобы взять смену одежды. — Прямо в аэропорт, — подтвердил Крингер. — Прекрасно, просто расчудесно, — неожиданно обрадовался Шарп. — Они, по-видимому, хотят добраться до Шэдвея и миссис Либен раньше нас, и у них есть основания полагать, что их стоит поискать в Вегасе. — Значит, у него есть все-таки шанс добраться до Шэдвея. И на этот раз поганец не уйдет. — Если есть еще места на этот рейс, пошли двух своих агентов. — Слушаюсь, сэр. — У меня тут, в Палм-Спрингс, тоже есть люди, и мы рванем туда, как только сможем. Хочу быть в аэропорту, чтобы взять Вердада и Хагерсторма сразу же, как они прибудут. Шарп повесил трубку и немедленно позвонил в комнату Джерри Пика. Снаружи где-то на севере гремел гром и, затихая, катился к югу вдоль долины Коачелла. Пик ответил сонным голосом. — Уже почти половина восьмого, — объяснил ему Шарп. — Будь готов ехать через пятнадцать минут. — Что случилось? — Мы едем в Вегас за Шэдвеем, и на этот раз удача будет на нашей стороне.Ездить на краденой машине неудобно прежде всего потому, что не знаешь ее технического состояния. Ведь не попросишь же у владельца гарантий надежности его автомобиля, прежде чем его умыкнуть. «Меркурий» отказал на сороковой миле к востоку от Бейкера. Он начал кашлять, чихать и трястись, подобно тому, как делал некоторое время назад, только на этот раз он так и не перестал кашлять, пока мотор не заглох. Бен съехал на обочину и попытался снова завести двигатель, но у него ничего не получилось. Он только сажал аккумулятор. Он в отчаянии подождал некоторое время, а дождь бросал и бросал на крышу машины тонны воды. Но сдаваться было не в характере Бена. Вскоре он разработал план и начал приводить его в действие, хотя план этот оставлял желать много лучшего. Он сунул «магнум» за пояс сзади и вытащил рубашку из джинсов, чтобы его не было видно. Ему не удастся взять с собой ружье, о чем он горько сожалел. Он включил предупредительные огни и вылез из «Меркурия» под проливной дождь. К счастью, молния сверкала теперь далеко на востоке. Стоя в серых грозовых сумерках, он прикрыл глаза ладонью и принялся всматриваться сквозь дождь на запад, где виднелся свет от фар приближающейся машины. Машин все еще было очень мало. Немногочисленные игроки, которых не остановил бы даже Армагеддон, стремились к своей Мекке, хотя чаще на шоссе попадались огромные грузовики. Он замахал руками, прося помощи, но две легковые машины и три грузовика даже не обратили на него внимания. Проезжая по лужам, они разбрасывали в стороны целые потоки воды. Какая-то из них окатила Бена с ног до головы, ничуть не улучшив его настроения. Еще через две минуты показался огромный шестнадцатиколесный грузовик. На нем было столько огней, что он напоминал рождественскую елку. К радости Бена, он начал тормозить загодя и остановился за «Меркурием». Подбежав к грузовику, он увидел в открытое окно изрезанное морщинами лицо человека с торчащими усами, который рассматривал его из сухой и теплой кабины. — Сломался! — заорал Бен, стараясь перекричать какофонию ветра и дождя. — Ближайшая мастерская там, сзади, в Бейкере! — крикнул ему вниз водитель. — Лучше, перейди на другую сторону и попытайся поймать машину там. — Нет времени искать механика и ремонтироваться! — прокричал Бен. — Надо побыстрее в Вегас. — Он уже придумал, что соврать, если кто-нибудь остановится. — У меня там жена в больнице, ей здорово досталось, может, умирает. — Боже милостивый, — ужаснулся водитель. — Тогда лучше залезай поскорее. Бен поспешил к пассажирской дверце, молясь в душе, чтобы его благодетель оказался водителем высокого класса и, несмотря на непогоду, до отказа выжимал бы педаль газа и добрался до Вегаса в рекордное время.
Проезжая через пустыню на последнем участке до Лас-Вегаса и наблюдая, как темнота бури сменяется более густой темнотой ночи, Рейчел чувствовала себя так одиноко, как никогда в жизни, хотя нельзя сказать, чтобы одиночество было ей незнакомо. Дождь за последние два часа так и не ослабел, скорее всего потому, что она держалась вровень с бурей, движущейся на восток, все время находясь в ее центре. Глухой стук «дворников» и гудение шин по мокрой дороге напоминали челнок ткацкого станка, который ткал не полотно, а одиночество. Большую часть своей жизни она прожила в одиночестве и в эмоциональной, если не физической, изоляции. Ко времени ее рождения ее папа с мамой выяснили, что им нечего делать вместе, но по религиозным мотивам не могли развестись. Поэтому Рейчел пришлось провести свои младенческие годы в доме, лишенном любви, поскольку ее родители не умели достаточно хорошо скрывать взаимную неприязнь. Хуже того, каждый предпочитал считать ее дочерью другого, чтобы вовсе ею не заниматься. Оба проявляли родительские чувства только по обязанности. Как только девочка достаточно подросла, ее стали отправлять в католические интернаты, где она и прожила все следующие одиннадцать лет, за исключением каникул. Во всех этих заведениях, где заправляли монахини, она почти ни с кем не дружила, во всяком случае, близких друзей у нее не было, потому что она была очень невысокого о себе мнения и не могла поверить, чтобы кто-то захотел стать ее другом. В то лето, когда она должна была поступить в колледж, через несколько дней после окончания средней школы, ее родители погибли в авиационной катастрофе, возвращаясь домой из деловой поездки. Рейчел всегда считала, что ее отец зарабатывал неплохие деньги в легкой промышленности, вложив в дело капитал, унаследованный ее матерью в год женитьбы. Но, когда зачитали завещание и уладили все проблемы, Рейчел поняла, что семейное дело находилось на грани банкротства уже многие годы и что их образ жизни людей состоятельных съедал каждый заработанный доллар. Практически оставшейся без гроша Рейчел пришлось отказаться от планов поступить в университет, а вместо этого пойти работать официанткой, жить в пансионе и изо всех сил копить, чтобы получить хотя бы скромное образование в одном из калифорнийских университетов, финансируемых государством. Когда через год она начала учиться, у нее опять же не оказалось настоящих друзей, так как она вынуждена была продолжать работать официанткой и не имела свободного времени, чтобы с кем-нибудь подружиться. К моменту получения степени она провела по крайней мере восемь тысяч ночей в одиночестве. Рейчел оказалась легкой добычей для Эрика, который хотел питаться ее юностью, как вампир питается кровью, и потому женился на ней. Он был на двенадцать лет старше и значительно лучше знал, как обворожить и завоевать молоденькую женщину, чем большинство ее одногодков. Он умудрился заставить ее впервые в жизни почувствовать себя желанной и необыкновенной. Учитывая разницу в возрасте, можно предположить, что она видела в нем и отца, способного дать ей не только любовь мужа, но и родительскую любовь. Разумеется, все вышло не так, как она надеялась. Она поняла, что Эрик любит не ее, а то, что она в его глазах символизировала — энергию, здоровье, молодость. Их брак оказался вскоре таким же лишенным любви, как и брак ее родителей. И тогда она нашла Бенни. И впервые в жизни не была одинокой. Но теперь Бенни нет, и неизвестно, увидит ли она его когда-нибудь. Стеклоочистители «Мерседеса» монотонно стучали, и шины пели на одной ноте песню пустоты, отчаяния и одиночества. Она пыталась утешиться мыслью, что, по крайней мере, Эрик теперь не опасен ни для нее, ни для Бена. Вне сомнения, он умер от многочисленных змеиных укусов. Даже если его генетически измененное тело способно бороться с огромными дозами сильного яда, даже если он вторично вернется из мертвых, он совершенно явно выродился не только физически, но и умственно. (До сих пор у нее перед глазами стоял коленопреклоненный Эрик, поедающий живую змею, такой же страшный и первобытный, как и сверкающая над ним молния.) Если он и пережил змеиные укусы, то скорее всего останется в пустыне, потому что он уже не человек, а существо, бегающее, низко пригнувшись, или ползающее на животе по песчаным холмам, время от времени соскальзывая в сухие русла рек и жадно набивая чрево жителями пустыни. Теперь он представляет угрозу для животных, но не для нее. Даже если в нем еще теплится какая-то искра человеческого интеллекта и он все еще хочет отомстить ей, ему будет нелегко, пожалуй просто невозможно, вернуться из пустыни в цивилизованное место и свободно там передвигаться. Если он попытается, то вызовет сенсацию — панику, ужас, — куда бы он ни пошел, так что его, вероятнее всего, быстро поймают или пристрелят. И все же… — она все еще его боялась. Рейчел вспомнила, как посмотрела на него, когда он преследовал ее по краю берега, вспомнила как смотрела на него сверху, когда он карабкался за ней, вспомнила, как он выглядел, когда она видела его в последний раз, пожирающим змей. Что-то было в нем в этих ее воспоминаниях… такое мистическое, противное природе, совершенно сверхъестественное, что невозможно убить или остановить. Она содрогнулась от внезапного холода, пронзившего ее до костей. Через минуту, выехав на шоссе, она увидела, что приближается к концу своего путешествия. Впереди и внизу, во тьме широкой, залитой дождем долины сверкал таинственными огнями Лас-Вегас. Там было так много разнообразных огней всех цветов и оттенков, что город казался больше Нью-Йорка, хотя на самом деле был раз в двадцать меньше. Даже с расстояния в пятнадцать миль Рейчел могла различить главную улицу города с ее великолепными гостиницами и деловую часть, где располагались казино и которую многие называли Сверкающим ущельем, потому что там было просто море мигающих, пульсирующих и сияющих огней. Еще через двадцать минут она добралась до пустого Южного бульвара Лас-Вегаса, где неоновые огни отражались в блестящей, как зеркало, дороге алыми, розовыми, красными, зелеными и золотыми цветовыми волнами. Остановившись у парадного входа гостиницы «Бэллиз Гранд», она едва не разрыдалась от облегчения, увидев швейцара, служащих на автостоянке и постояльцев, собравшихся под навесом. После нескольких часов пути в эту жуткую ночь, когда казалось, что во встречных машинах никого не было, снова увидеть людей, пусть незнакомых, оказалось на редкость приятно. Сначала Рейчел поколебалась, оставлять ли «Мерседес» под присмотром служащего на стоянке, потому что драгоценный мешок с бумагами по проекту «Уайлд-кард» все еще находился под сиденьем. Но потом решила, что никому в голову не придет украсть мешок для мусора, наполненный смятыми бумагами. И все-таки поместить машину под присмотром показалось ей надежнее, чем просто бросить ее на общественной стоянке. Она оставила машину и взяла квитанцию. Лодыжка, которую она повредила, убегая от Эрика, практически перестала болеть. Раны от ногтей на икре болели и горели, хотя и здесь наметилось некоторое улучшение. Ей удалось войти в гостиницу, только слегка прихрамывая. На какое-то мгновение она остолбенела от контраста между грозовой ночью за дверьми и великолепием казино. То был сверкающий мир хрустальных люстр, бархата, парчи, пушистых ковров, мрамора, полированной бронзы и зеленого фетра, где шум ветра и дождя заглушался голосами поклонников Фортуны, звоном игровых автоматов и хрипловатой музыкой, исполняемой рок-группой в гостиной. Постепенно Рейчел осознала, что ее вид привлекает любопытные взгляды, поскольку не вяжется с обстановкой. Разумеется, не все посетители — даже, пожалуй, меньшинство — были одеты элегантно для вечерних возлияний, поздних шоу или игры. Встречались женщины в платьях для коктейлей и мужчины в хороших костюмах, остальные же были одеты в простые летние костюмы, некоторые — в джинсы и спортивные рубашки. Но ни на ком не было такой рваной и грязной блузки, как на ней, ни на ком не было таких, как на ней, джинсов, которые выглядели так, будто их владелица только что участвовала в конкурсе родео, никто не мог похвастать заляпанными грязью туфлями с каблуком, оторванным во время карабканья вверх и вниз по крутым склонам, и черными от грязи шнурками, и ни у одной женщины не было такой грязной физиономии и висящих мокрыми прядями волос. Ей следовало сообразить, что даже в замкнутом на себе мире Лас-Вегаса люди смотрят телевизор и могут узнать в ней презренную предательницу и беглянку, которая разыскивается по всему Юго-Западу. Меньше всего ей следовало привлекать к себе внимание. К счастью, игроки — люди одержимые, так сосредоточенные на своих ставках, что и дышать забывают, и только некоторые из них подняли головы, и ни один не бросил повторного взгляда. Она обошла казино по периметру, направляясь к телефонным будкам, размещенным в арке, куда не так доносился шум. Позвонила в справочную, чтобы узнать номер Уитни Гэвиса. Он снял трубку после первого гудка. Слегка задыхающимся голосом она сказала: — Простите, вы меня не знаете. Меня зовут Рейчел… — Вы Рейчел Бена? — перебил он. — Да, — удивленно ответила она. — Я вас знаю, я все про вас знаю. — Голос его был удивительно похож на голос Бена: спокойный, выдержанный, уверенный. — И я час назад слышал эти чертовски забавные новости насчет государственных секретов. Чушь собачья. Любой, знающий Бенни, не поверит ни на секунду. Я не знаю, что происходит, но я подумал, что, может, вы, ребятки, тут появитесь у меня, если вам понадобится на время укрыться. — Его со мной нет, но он послал меня к вам, — пояснила Рейчел. — Больше ни слова. Скажите, где вы. — В «Гранде». — Сейчас восемь. Через десять минут я буду там. Никуда не ходите, сидите на месте. У них в этих казино столько шпионов, да и телекамера обязательно где-нибудь установлена, а дежурный мог видеть последние новости. Я понятно выражаюсь? — А в туалет мне можно сходить? Я в жутком виде. Хотелось бы умыться. — Конечно. Просто не входите в казино. И возвращайтесь к телефонным будкам через десять минут, я буду вас ждать. Там никаких камер нет. Сидите тихо, детка. — Подождите! — В чем дело? — спросил он. — Как вы выглядите? Как я вас узнаю? — Не беспокойтесь, детка. Я вас узнаю. Бенни так часто показывал мне вашу фотографию, что каждая черта вашего потрясающего лица врезалась мне в память. Помните, сидите тихо! Раздался щелчок, и Рейчел повесила трубку.
Джерри Пик уже не был уверен, что хочет стать легендой. Он даже не был уверен, что вообще хочет работать агентом Бюро по оборонной безопасности, неважно каким, легендарным или не очень. Все слишком уж завертелось. Он не успевал ни в чем разобраться. У него было такое чувство, будто он идет через большую крутящуюся бочку, какие иногда устанавливают при входе в комнату смеха, только эта бочка вращается в пять раз быстрее, чем у самого нахального садиста-оператора на карнавале, да и конца ей не видать. Наступит ли время, когда он снова будет твердо стоять на ногах и обретет уверенность? Звонок Энсона Шарпа вырвал его из такого глубокого сна, что впору ставить надгробный камень. Даже приняв по-быстрому холодный душ, он не сумел проснуться окончательно. Поездка в аэропорт по залитым дождем улицам под завывание сирен и сверкание мигалок показалась ему дурным сном. В десять минут девятого на летное поле опустился легкий транспортный двухмоторный самолет, прибывший из учебного центра морской пехоты в Твентинайн-Палмз и любезно предоставленный в распоряжение Бюро по оборонной безопасности в этом исключительном случае через полчаса после просьбы Шарпа. Они поднялись на борт и немедленно взлетели, несмотря на бурю. Практически вертикальный взлет с опытным военным пилотом за штурвалом вкупе с завыванием ветра и проливным дождем прогнали последние остатки сна. Пик окончательно проснулся и вцепился в подлокотники кресла с такой силой, что, казалось, побелевшие костяшки пальцев прорвут кожу. — Если нам повезет, — сказал Шарп Пику и Нельсону Госсеру, которого тоже прихватил с собой, — мы приземлимся в международном аэропорту Мак-кэрран в Вегасе на десять или пятнадцать минут раньше, чем самолет из округа Ориндж. Когда Вердад и Хагерсторм появятся в аэропорту, мы сможем сразу взять их под наблюдение.
В десять минут девятого восьмичасовой самолет на Вегас все еще не вылетел, но пилот заверил пассажиров, что они обязательно улетят. А пока они могут насладиться различными напитками, орехами в меду и мятной водой, чтобы ожидание не показалось им слишком скучным. — Обожаю эти орешки в меду, — заметил Риз, — но я только что вспомнил кое-что, чего я вовсе не люблю. — Что именно? — поинтересовался Джулио. — Летать. — Это короткий рейс. — Человек, выбравший карьеру в правоохранительных органах, вовсе не рассчитывает, что ему придется летать по всему свету. — Сорок пять минут, самое большее пятьдесят, — успокоил его Джулио. — Я с тобой, — поспешно заверил Риз, пока Джулио не сделал неверных выводов из его отвращения к полетам, — но жаль, что до Вегаса нельзя добраться на катере. В восемь двенадцать самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу и поднялся в воздух.
Эрик, сидящий за рулем красного пикапа, двигающегося на восток, изо всех сил старался сохранить достаточно человеческого сознания, чтобы управлять машиной. Порой на него накатывали не связанные между собой мысли и чувства: страстное желание бросить пикап и рвануть нагишом в темные просторы пустыни, чтобы волосы развевались и дождь колотил по голой коже; неприятно настойчивое стремление сжаться, забиться в какой-нибудь темный и влажный угол и спрятаться; жаркое, всепоглощающее сексуальное желание, ничего общего не имеющее с человеческим, а больше похожее на возбуждение животного в период течки. Его также посещали воспоминания, очень четкие и ясные, не принадлежавшие ему лично, а вырванные из каких-то глубин генной памяти: вот он жадно ищет в гнилых деревьях извивающихся насекомых; вот совокупляется с каким-то резко пахнущим существом в сырой и темной пещере… Если он позволит этим желаниям и воспоминаниям взять верх, он снова впадет в то бессознательное, дочеловеческое состояние, как у пункта отдыха на шоссе, и тогда уж наверняка не сможет удержать пикап на дороге. Поэтому он попытался подавить завлекательные видения и потребности и сосредоточиться на залитой дождем дороге. Ему это в основном удалось, хотя иногда перед глазами появлялась пелена, дыхание учащалось, и призыв других состояний его сознания был настолько силен, что только с огромным трудом удавалось ему не подчиниться. Уже довольно продолжительное время он не чувствовал, что с ним происходит что-то странное с физической точки зрения. Но иногда все же ощущал, что какие-то изменения имеют место, и тогда его тело казалось ему скопищем червей, которые неожиданно начинали судорожно извиваться. После того как он увидел в зеркале заднего обзора свои разные глаза — один зеленый, с оранжевым узким зрачком, а другой многогранный и еще более странный, — он не смел больше взглянуть на себя, потому что понимал, что и так находится на грани безумия. Однако он мог видеть свои руки на рулевом колесе и то, что с ними творится: на какой-то период его удлиненные пальцы стали короче, толще, длинные когти слегка втянулись внутрь, и перепонка между большим и указательным пальцами почти исчезла; затем процесс пошел в обратном направлении, руки снова выросли, суставы увеличились, когти стали еще острее и длиннее. В какой-то момент руки его приобрели просто кошмарный вид: темные, пятнистые, с загибающимися назад шпорами в основании чудовищных ногтей и лишней фалангой на каждом пальце. Он отвел от них глаза и стал стараться смотреть исключительно на дорогу. Эрик не мог смириться с собственной внешностью не только из-за того, что боялся узнать, во что превращается. Он боялся, верно, но и получал некое болезненное, нездоровое удовольствие от своих превращений. По крайней мере, в данный момент он был необыкновенно силен, быстр, как молния, и смертельно опасен. Если не считать его нечеловеческой внешности, он стал олицетворением мечты каждого мальчишки, от которой не удается избавиться даже взрослым, — настоящий, сильный мужчина, способный на безудержную ярость. Но он не должен позволять себе об этом думать, потому что фантазии насчет силы снова могут низвести его до животного состояния. Он теперь постоянно ощущал особый и вовсе не неприятный жар у себя в плоти, крови и костях, который усиливался с каждым часом. Раньше Эрик думал о себе как о человеке, который плавится, принимая новые формы, но сейчас ему уже казалось, что он не тает, а горит и что в любой момент с кончиков его пальцев могут спрыгнуть язычки пламени. Он даже придумал им название — огни перемен. К счастью, те резкие боли, которые сопутствовали изменениям на ранней стадии метаморфозы, больше его не беспокоили. Иногда, правда, он ощущал боль, но значительно менее сильную, чем раньше, и приступы не длились более одной-двух минут. По-видимому, за последние десять часов аморфность превратилась в генетически запрограммированное состояние его тела и потому стала безболезненной, как дыхание, пищеварение и выделения. Страдал он теперь только от приступов голода, доводивших его до изнеможения. Это были такие мучительные приступы, каких он не знал в своей прошлой жизни. Поскольку его тело в бешеном темпе уничтожало старые клетки и создавало новые, ему постоянно требовалось топливо. Он также обнаружил, что мочится теперь гораздо чаще, чем раньше, и каждый раз, останавливаясь с этой целью на обочине, он чувствовал, что его моча значительно резче пахнет аммиаком и какими-то другими химическими веществами. Выехав на подъем и неожиданно рассмотрев расстилающийся внизу и сверкающий огнями Лас-Вегас, Эрик вновь ощутил приступ голода, который сильной спазмой сжал его желудок. Он начал безудержно потеть и трястись. Выведя пикап на кромку дороги, он остановился и поставил машину на ручной тормоз. Почувствовав первые спазмы, он принялся хныкать. И, услышав звуки, исходящие из собственного горла, осознал, что стремительно теряет контроль над собой и что его животные потребности становятся все более настоятельными и им все труднее сопротивляться. Его пугало, что он может натворить. Вдруг он бросит машину и пойдет охотиться в пустыню. Он может заблудиться на этих голых просторах даже всего в нескольких милях от Вегаса. Если он потеряет последние остатки разума и будет подчиняться только своим инстинктам, он может выйти на дорогу, каким-нибудь образом остановить проезжающую машину, вытащить вопящего водителя из кабины и разорвать его на куски. Это заметят другие, и тогда ему не добраться до полуразрушенного мотеля в Вегасе, где прячется Рейчел. Ничто не должно помешать ему добраться до Рейчел. От одной мысли о ней его глаза наливались кровью, и он невольно издавал крик ярости, который эхом отдавался от залитых дождем окон пикапа. Единственным желанием, способным дать ему силу сопротивляться окончательной деградации во время длинной поездки в Вегас, было желание отомстить ей, убить ее. Надежда на отмщение позволяла ему сохранить разум и продолжать действовать. Изо всех сил борясь с первобытным сознанием, которое острый голод норовил окончательно спустить с цепи, он поспешно повернулся к сумке-холодильнику, стоящей в открытом багажном отделении за передним сиденьем пикапа. Он заметил ее, когда садился в машину у пункта отдыха, но пока не удосужился проверить ее содержимое. В сумке оказались полдюжины тщательно упакованных бутербродов, два яблока и шесть банок пива. Своими руками дракона Эрик сорвал упаковку с бутербродов и съел их так быстро, как только успевал засовывать в рот. Несколько раз он едва не подавился, пытаясь проглотить слишком большие куски хлеба с мясом, так что ему пришлось сосредоточиться и пережевывать пищу более тщательно. Четыре бутерброда оказались с толстыми ломтями ростбифа с кровью. Вкус и запах полусырого мяса возбудили его чрезвычайно. Как бы ему хотелось, чтобы мясо было совсем сырым и из него бы по-настоящему сочилась кровь. Или, еще лучше, вонзить бы зубы в живую плоть и рвать пульсирующие куски. Оставшиеся два бутерброда были со «Швейцарским» сыром и горчицей. Он их тоже съел, потому что ему требовалось как можно больше топлива. Но они ему не понравились, поскольку в них отсутствовал возбуждающий и великолепный привкус крови. Он вспомнил, какой была на вкус кровь ковбоя. Но еще лучше — медный привкус крови из горла и груди той женщины… Все еще голодный, он съел оба яблока, хотя его удлинившиеся челюсти, странной формы язык и острые зубы оказались плохо приспособленными для поедания фруктов. Потом он выпил все пиво, проливая его и непрерывно кашляя. Опьянеть не боялся, так как знал, что его стремительный обмен веществ сожжет весь алкоголь, прежде чем он успеет почувствовать его действие. Некоторое время, сожрав все, что было в сумке, он сидел, тяжело дыша, откинувшись на водительском сиденье. Бессмысленно смотрел в покрытое пленкой воды окно. Зверь в нем на некоторое время притих. Как легкие струйки дыма, где-то в глубине его мозга возникали смутные воспоминания об убийстве и еще более неясные — о совокуплении с женщиной ковбоя. Вдали на темной поверхности пустыни плясали языки призрачного пламени. Двери в ад? Зовут его к проклятию, которое было его судьбой, но которого ему удалось избежать, победив смерть? Или все это миражи? Возможно, его измученное подсознание, напуганное переменами в теле, отчаянно пытается вывести наружу огни перемен, жгущие его тело, перенести жар метаморфозы из плоти и крови в эти иллюзорные огни? То была самая умная мысль, пришедшая ему в голову за последние дни, и на какое-то короткое время он ощутил возврат тех познавательных способностей, которые завоевали ему славу гения в его области. Но только на короткое время. Затем снова вернулись воспоминания о вкусе крови, по телу прошла дрожь животного наслаждения, и он издал горлом низкий рычащий звук. Слева от него по шоссе проехало несколько легковых машин и грузовиков. Они ехали в Вегас. Вегас… Он с трудом вспомнил, что тоже едет в Вегас, в мотель «Золотой песок», на встречу с отмщением.
Часть III. ТЬМА АДА
Ночной поцелуй принесет покой, Вот только если ночь будет другой.Книга Печалей
Глава 34
ВСТРЕЧА
Умывшись и насколько возможно приведя в порядок волосы, Рейчел вернулась к телефонным будкам и села на обтянутую кожей банкетку, откуда могла видеть всех, входящих в гостиницу и спускающихся в казино, которое располагалось несколькими ступеньками ниже. Большинство людей находилось там, где сверкали огни и шла игра, но и в холле постоянно появлялись отдельные посетители. Она внимательно разглядывала входящих мужчин. Разумеется, не пыталась увидеть Уитни Гэвиса, потому что понятия не имела, как он выглядит. Но беспокоилась, что кто-нибудь может узнать ее по фотографиям из теленовостей. Ей казалось, что везде враги, окружили ее, сжимают кольцо, и хотя это скорее всего была мания преследования, но могла быть также и правда. Она не помнила, чтобы когда-нибудь чувствовала себя такой усталой и несчастной. Нескольких часов, которые ей удалось поспать в Палм-Спрингс, оказалось явно недостаточно для такого сумасшедшего дня. Ноги болели от бесконечного бега и карабканья; руки ныли и затекли, как будто налились свинцом. Тупая боль чувствовалась в спине, от затылка до пояса. Глаза покраснели и слезились. Несмотря на то, что она останавливалась в Бейкере, чтобы купить упаковку диетической содовой воды, и выпила все шесть банок в пути, во рту пересохло. — Вы, похоже, совсем выбились из сил, детка, — сказал Уитни Гэвис, делая шаг к банкетке, на которой она сидела. Рейчел вздрогнула. Она видела его в холле, но перенесла свое внимание на других мужчин, уверенная, что он не может быть Уитни Гэвисом. Пяти футов девяти дюймов ростом, на пару дюймов ниже, чем Бен, он был немного поплотнее, пошире в плечах и груди. На нем были белые широкие брюки и светло-голубая хлопчатобумажная вязаная кофта. Эдакий майамский плейбой, только белого пиджака не хватает. Но левая сторона его лица представляла собой месиво коричневых и красных шрамов, какие оставляет ожог, или глубокая рана, или и то и другое вместе. Левое ухо — изуродовано. Ходил он, сильно хромая, как хромают люди с парализованной ногой или, что вероятнее, с протезом. Левая рука была ампутирована немного ниже локтя, из короткого рукава рубашки торчала культя. Он рассмеялся, увидев ее удивление: — Видимо, Бенни вас не предупредил. В роли благородного рыцаря-спасителя я оставляю желать много лучшего. Моргая глазами и глядя на него, она произнесла: — Нет-нет, я до смерти рада, что вы здесь, я рада, что у меня есть друг, и неважно… в смысле, я не… я уверена, что вы… О, нет, да нет никакой причины, чтобы… — Она начала подниматься, потом подумала, что сидя емуудобнее, затем сообразила, что не следует его явно жалеть, и в результате то приподнималась, то снова садилась, являя собой жалкое зрелище. Он снова рассмеялся, взял ее за руку своей здоровой рукой и сказал: — Успокойтесь, детка. Я не обижаюсь. Мне никогда не приходилось встречать человека, которому было бы так наплевать на внешность, как Бенни. Он о вас судит по тому, что вы собой представляете и что вы можете дать, а не по тому, как вы выглядите и есть ли у вас какие-нибудь физические недостатки. Очень похоже на него — забыть сообщить вам о моих… скажем так, «особенностях». Я отказываюсь называть их физическими недостатками. И, конечно, у вас есть все основания прийти в замешательство. — Думаю, он просто не успел мне сказать, даже если бы и собирался, — возразила она, окончательно решив остаться стоять. — Мы так поспешно расстались. Рейчел удивилась так потому, что Бен рассказал ей, что они с Уитни были вместе во Вьетнаме. Теперь, увидев его печальное состояние, она не могла понять, как он мог быть солдатом. И только потом до нее дошло, что в Южную Азию он уехал здоровым и именно там оставил руку и ногу. — Бен в порядке? — спросил Уитни. — Не знаю. — Где он? — Должен ехать сюда, чтобы встретиться со мной. Но точно я не знаю. Неожиданно она с содроганием поняла, что это ее Бенни мог вернуться из Вьетнама с изуродованным лицом, без руки и ноги, и мысль эта ошеломила ее. С вечера понедельника, после того как он так ловко отнял «магнум» у Винса Бареско, Рейчел почти неосознанно стала считать его бесконечно предприимчивым, бесстрашным и, по сути, непобедимым. Иногда она за него боялась, а с той поры, как оставила его в горах у озера Эрроухед, беспокоилась постоянно. Но глубоко в душе ей хотелось верить, что он достаточно находчив и ловок, чтобы избежать беды. Теперь же, увидев, в каком состоянии Уитни Гэвис вернулся с войны, Рейчел внезапно осознала и поверила, что Бенни смертный человек, такой же хрупкий, как и другие, привязанный к жизни такой же тоненькой жалкой ниточкой, на какой и все остальные висят над пустотой и безмолвием. — Эй, вы в порядке? — окликнул ее Уитни. — Я… сейчас все будет нормально, — неуверенно произнесла она. — Просто устала… и беспокоюсь. — Я бы хотел знать, в чем дело, правду, а не ту ерунду, что в новостях. — Тут долго придется рассказывать, — ответила она. — Но не здесь. — Да, — согласился он, оглядываясь на проходящих мимо людей, — не здесь. — Бенни велел мне ждать его в «Золотом песке». — В мотеле? Верно, хорошее место, чтобы спрятаться, я тоже так думаю. Правда, отнюдь не первоклассные удобства… — Мне сейчас не до удобств. Он тоже оставил свою машину у служащего на стоянке и потому при выходе протянул ему сразу две квитанции, свою и Рейчел. За огромным, высоким навесом ночь была наполнена дождем и ветром. Молнии сверкали реже, но ливень отнюдь не был серым и бесцветным, во всяком случае рядом с гостиницей. Янтарные и желтые огни над входом в «Гранд» отражались в миллионах капель, и создавалось впечатление, что дождь из расплавленного золота покрывал улицу панцирем, достойным ангелов. Сначала пригнали машину Уитни, практически новую «Карманн Гиа», за ней следом подъехал «Мерседес». Хотя Рейчел и понимала, что привлекает внимание служащих, она настояла на том, чтобы тщательно проверить, нет ли кого в машине или багажнике, и только потом уселась за руль. Пластиковый пакет с бумагами был на месте, но, честно говоря, она заглядывала под сиденье совсем с другой целью. Она становилась смешной и сознавала это. Эрик умер или превратился в странное существо, рыскающее по пустыне в сотне миль отсюда. Он никак не мог выследить ее в «Гранде», не мог забраться в машину за то короткое время, пока она стояла в подземном гараже гостиницы. Тем не менее Рейчел осторожно заглянула в багажник и с облегчением обнаружила, что он пуст. Она последовала за машиной Уитни на бульвар Фламинго, затем на восток на бульвар Парадиз, потом повернула на юг к Тропикане и убежищу в полуразрушенной гостинице «Золотой песок».Даже ночью и в проливной дождь Эрик не рискнул поехать по Южному бульвару, этой яркой и причудливой улице, которую местные называли Лентой. Ночь ярко освещалась огромными, высотой в восемьдесят этажей, рекламными вывесками, тысячами раскаленных ламп, которые мигали, пульсировали и сверкали, и сотнями миль скрученных неоновых трубок, похожих на светящиеся внутренности гигантской глубоководной рыбы. Слой воды на стекле и ковбойская шляпа с опущенными полями не вполне скрывали его чудовищное лицо от проезжающих мимо автомобилистов. Поэтому он свернул с Ленты в первую попавшуюся улицу, ведущую на восток, задолго до того, как начались гостиницы, сразу после международного аэропорта. На этой улице гостиниц не было, как не было и моря огней и встречных машин. Объехав кругом, он добрался до бульвара Тропикана. Он подслушал, как Шэдвей говорил Рейчел о гостинице «Золотой песок», и теперь без труда нашел ее на довольно унылом и неухоженном участке бульвара. Это оказалось одноэтажное строение в форме буквы «п» с бассейном в центре и торцами, выходящими на улицу. Иссушенные солнцем деревянные детали нуждались в покраске. Штукатурка растрескалась и покрылась пятнами, а местами осыпалась. Крыша требовала ремонта. Несколько окон без стекол забиты досками. Все вокруг поросло травой. К одной из стен прибило сухие листья и всякий мусор. Сломанная неоновая вывеска, установленная на двух двадцатифутовых стальных столбах у въезда, слегка покачивалась на ветру. По обе стороны от гостиницы на две сотни ярдов ничего не было, сплошные пустыри. Напротив через улицу — строительная площадка: несколько домов в разной степени готовности, напоминающие скелеты, мокнущие под дождем. Если не считать редких машин, проезжающих мимо, этот мотель на юго-западной окраине города был относительно изолирован. Свет нигде не горел, значит, Рейчел еще нет. Где она? Он ехал очень быстро, но, как ему казалось, ее не обгонял. Стоило Эрику подумать о ней, сердце его начинало бешено стучать. Перед глазами плыли красные круги. Он вспомнил о крови, и рот наполнился слюной. Хорошо уже знакомая холодная ярость наполнила все тело кристалликами льда, но он сжал острые, как у акулы, зубы и твердо решил вести себя по возможности разумно. Он оставил свой пикап на обочине более чем в сотне ярдов от гостиницы, слегка заехав передними колесами в канаву, чтобы создать впечатление, что машину занесло и ее оставили до утра. Выключил фары, потом мотор. Теперь стук дождя, которому уже не надо было соревноваться со звуком работающего мотора, стал громче. Эрик дождался, когда дорога в обе стороны опустела, распахнул дверцу и вышел в дождь. Он прошлепал по дренажной канаве, наполненной бурлящей коричневой водой, затем через пустырь бегом двинулся к мотелю. Бегом, потому что, появись в этот момент на бульваре машина, ему негде будет спрятаться — на пустыре, кроме нескольких шаров перекати-поля, нервно вцепившихся корнями в песчаную землю и покачивающихся на ветру, ничего не росло. Когда он оказался под открытым небом, ему снова захотелось сорвать с себя одежду и отдаться страстному желанию свободно мчаться через ветер и ночь, подальше от огней города, в дикие места. Но еще более сильное стремление отомстить заставило его подавить это желание и сосредоточиться на своей задаче. Небольшой офис мотеля размещался в северо-восточном конце строения. Через большое застекленное окно Эрику была видна только часть темной комнаты: смутные контуры пустого ящика для почты, стол с лампой и конторка портье. В квартиру менеджера, где Шэдвей велел Рейчел спрятаться, можно было, по всей вероятности, попасть из офиса. Эрик дернул дверь, ручка целиком исчезла в его огромной кожистой руке. Как он и ожидал, дверь была заперта. Внезапно он увидел свое смутное отражение в мутном стекле: рогатый демон со сверкающими зубами и уродливыми костяными наростами на лице. Быстро отвернулся, сдержав готовый вырваться жалобный стон. Он прошел во двор, куда выходили со всех сторон двери комнат мотеля. Света нигде не было, но каким-то образом ему удавалось разглядеть огромное количество подробностей, даже таких, как синий цвет, в который выкрашены двери. Во что бы он там ни превращался, зрение у этого существа оказалось куда лучше, чем у человека. Над дорожкой, проходящей вдоль всего мотеля, висел покореженный алюминиевый навес, предназначенный для защиты от дождя в плохую погоду. С навеса на край дорожки потоками лила вода, образуя лужи рядом на газоне, почти сплошь заросшем сорняками. Громко шлепая ботинками по воде, Эрик прошел сквозь сорняки к бетонной площадке около бассейна. Вода была спущена, но дождь снова начал наполнять его. В более глубоком конце наклонного дна уже скопилось около фута воды. Под водой сверкали золотом и серебром неуловимые, а может, и иллюзорные, языки призрачного пламени, искаженные рябью на воде, под которой они горели. Именно в этих огнях было что-то такое, что внушило ему значительно больший страх, чем раньше. Пока он смотрел в черную дыру почти пустого бассейна, он почувствовал неудержимое желание бежать как можно дальше от этого места. Он быстро отвернулся от бассейна. Зайдя под алюминиевый навес и слушая стук дождя, он испытал приступ клаустрофобии, как будто его замуровали в жестяную банку. Подошел к двери в комнату 15, ближе к центру мотеля, и дернул. Тоже закрыта, но замок старый и ржавый. Он сделал шаг назад и принялся бить по двери ногой. При третьем ударе пришел в такое неистовство от процесса разрушения, что начал пронзительно и безудержно выть. На четвертом ударе замок слетел, и дверь распахнулась со скрежетом искореженного металла. Он вошел. Он помнил, как Шэдвей говорил Рейчел, что электричество в порядке. Но не стал зажигать свет. Во-первых, не хотел, чтобы Рейчел узнала, что он здесь, когда приедет. Во-вторых, его невероятно улучшившееся ночное зрение позволяло ему видеть в темной комнате контуры мебели и передвигаться, ни на что не натыкаясь. Он тихо прикрыл дверь. Подошел к окну, выходящему во двор, и, раздвинув пыльные, засаленные занавески на пару дюймов, выглянул в бушующую ночь, где было несколько светлее. Отсюда ему открывался прекрасный вид на торец мотеля и дверь в офис. Когда она приедет, он увидит ее. Как только она устроится, он схватит ее. Он переступил с ноги на ногу. Издал тонкий, еле слышный стон нетерпения. Безумно хотелось крови. Амос Захарий Тейт, водитель грузовика, с лицом, изрезанным морщинами, прищуренными глазами и ухоженными, воинственно торчащими усами, был как две капли воды похож на человека вне закона, какие когда-то бороздили просторы пустыни на старом Западе, нападая на повозки и пассажиров дилижансов. Однако манеры его больше напоминали кочующего проповедника тех же времен: говорил он тихо, очень вежливо, приветливо, но чувствовалась в нем железная уверенность в своих убеждениях насчет спасения души через любовь к Иисусу. Он не только бесплатно довез Бена до Лас-Вегаса, но и дал ему шерстяное одеяло, чтобы тот согрелся, так как в кабине работал кондиционер, а Бен промок до костей, угостил кофе из термоса и шоколадкой и дал душевный совет. Он искренне беспокоился, удобно ли Бену, как он себя чувствует — настоящий добрый самаритянин, смущающийся от изъявлений благодарности и начисто лишенный самоуверенности, которая могла бы придать агрессивный оттенок его зацикленности на Иисусе Христе — идущей, впрочем, от души. Кроме того, Амос сразу поверил вранью Бена насчет покалеченной жены, возможно умирающей в больнице «Санрайз» в Вегасе. Обычно Амос с уважением относился к земным законам, даже таким пустяковым, как превышение скорости, но в данном случае он сделал исключение и заставил свою махину двигаться со скоростью шестьдесят пять и даже семьдесят миль в час. На большее в такую поганую погоду он рискнуть не мог. Сжавшись под теплым шерстяным одеялом, потягивая горячий кофе и пережевывая сладкую шоколадку, Бен горько раздумывал о смерти и возможной потере. Он был благодарен Амосу, и все же ему хотелось, чтобы тот ехал побыстрее. Если любовь — это то, с помощью чего люди могут приблизиться к бессмертию, а именно так он думал, занимаясь любовью с Рейчел, тогда, найдя ее, он получил ключ к бесконечной жизни. Теперь же, на самых ступенях этого рая, ключ вырвали у него из рук. Когда он представлял себе всю тоску жизни без нее, ему хотелось оттолкнуть Амоса в сторону, самому сесть за руль и полететь в Вегас. Но ему ничего не оставалось, как натянуть повыше одеяло и со все возрастающим унынием наблюдать, как мелькает мимо миля за милей.
Квартирой менеджера не пользовались уже больше месяца, и там стоял затхлый запах. Не слишком заметный, но Рейчел постоянно с отвращением морщила нос. В запахе было что-то от тлена, и она боялась, что через некоторое время ее может затошнить. Большая гостиная, маленькая спальня и крошечная ванная комната. Малюсенькая кухня — тесная и унылая, но полностью оборудованная. Стены, казалось, не красили уже лет десять. Выношенные до основы ковры, обесцвеченный и потрескавшийся линолеум на кухне. Мебель продавленная и облупленная, кое-где с лопнувшей обшивкой, посуда на кухне — покореженная, поцарапанная и пожелтевшая от времени. — Такого интерьера в «Аркитекчурал дайджест» не увидишь, — сказал Уитни, прислоняясь к холодильнику культей левой руки, а вторую, здоровую, протягивая назад, чтобы воткнуть вилку в розетку. Холодильник немедленно заурчал. — Но зато все работает, и вряд ли кто станет вас здесь искать. Пока они ходили по квартире, всюду включая свет, она начала рассказывать ему, что на самом деле скрывается за ордерами на арест ее и Бенни. Теперь они подвинули стулья к кухонному столу, пластиковый верх которого был покрыт тонким слоем серой пыли и во многих местах прожжен сигаретами, и она рассказала остальное так сжато, как сумела. Снаружи стонущий ветер, как измученный зверь, прижимал свою плоскую морду к окнам, как будто хотел услышать ее рассказ или добавить к нему что-то свое.
Стоя у окна в комнате 15 в ожидании Рейчел, Эрик чувствовал, как огонь внутри разгорается все сильнее. Пот лил с него градом. Он струился по лицу, падал с бровей, вытекал изо всех пор, как будто решил посоревноваться с дождем, стекающим с навеса за окном. Ему казалось, что он стоит в печи и каждый вздох обжигает его легкие. Повсюду вокруг него, в каждом углу, плясали фантомные огни, на которые он боялся взглянуть. Кости, казалось, плавились, а плоть была такой горячей, что он не удивился бы, если бы с кончиков его пальцев слетело настоящее пламя. — Плавлюсь… — произнес он гортанным низким голосом, не похожим на человеческий. — …Тающий человек… Внезапно лицо его задвигалось. Его уши на мгновение наполнились кошмарным хрустом и треском, исходящими изнутри его черепа, которые тут же перешли в булькающий, неприятный звук текущей жидкости. Процесс набирал безумную скорость. С ужасом, но одновременно и со злобным возбуждением и дикой демонической радостью, он ощутил, что его лицо меняется. На несколько секунд шишковатые брови выдвинулись вперед настолько, что лишили его периферийного зрения, затем они снова уменьшились, растаяли, как сливочное масло. Теперь менялись его нос, рот и челюсти, вытягивая человеческое лицо в уродливое рыло. Ноги больше не держали его, пришлось отвернуться от окна и с грохотом упасть на колени. Что-то щелкнуло в груди. Чтобы приспособиться к новому рылоподобному лицу, губы сильно растянулись. Он с трудом дотащился до кровати, лег на спину и весь отдался разрушительному, но не слишком неприятному процессу радикальных перемен. Как будто со стороны он слышал издаваемые им странные звуки: собачье рычание, змеиное шипение и бессмысленные, но легко определяемые звуки, издаваемые мужчиной при половом оргазме. На какое-то время нахлынула темнота. Когда через несколько минут Эрик немного пришел в себя, то обнаружил, что скатился с кровати и лежит под тем самым окном, где недавно сторожил Рейчел. Несмотря на то что его внутренний огонь не стал слабее и он все еще чувствовал, что его ткани ищут новые формы для каждой части тела, он решительно отодвинул занавески и потянулся к окну. В слабом свете руки его казались огромными и покрытыми панцирем, как будто принадлежали крабу или омару, которому судьба подарила вместо клешней пальцы. Он ухватился за подоконник, подтянулся и встал. Прислонился к стеклу, которое сразу же запотело от его судорожного дыхания. В офисе мотеля горел свет. По-видимому, Рейчел приехала. Его мгновенно охватила ярость. Ноздри раздувались при воспоминании о запахе крови. Но еще он ощутил вожделение, огромное и странное. Ему хотелось взять Рейчел, а потом убить, как он взял и потом прикончил женщину ковбоя. Он огорчился, что в процессе вырождения и мутации все труднее становится помнить, кто она такая. С каждой секундой это делалось ему все более безразличным. Самое главное — она была женщиной и добычей. Он отвернулся от окна и попытался подойти к двери, но меняющиеся ноги не держали его. И снова он какое-то время извивался на полу комнаты, а огонь перемен внутри его разгорался все жарче. Его гены и хромосомы, когда-то бесспорные регуляторы и хозяева его внешнего вида и функций, сами превратились в пластилин. Они уже не воспроизводили предыдущие стадии человеческой эволюции, но искали совершенно чуждые формы, не имеющие ни-чего общего с физиологической историей рода человеческого. Они мутировали либо случайным образом, либо следовали какой-то системе, которую Эрик не мог постичь. И в это время они заставляли его тело производить сумасшедшее количество гормонов и белков, из которых и вылуплялись эти новые формы.
Двухмоторный транспортный самолет, принадлежащий корпусу морской пехоты, приземлился в проливной дождь в международном аэропорту Маккэрран в Лас-Вегасе в три минуты десятого вечера. Если верить расписанию, до прибытия рейса, на котором из округа Ориндж летели Джулио Вердад и Риз Хагерсторм, оставалось всего десять минут. Гарольд Инс, агент Бюро в Неваде, встретил Энсона Шарпа, Джерри Пика и Нельсона Госсера у выхода на летное поле. Госсер немедленно отправился к предполагаемому месту приземления рейса из округа Ориндж. В его задачу входило незаметно следить за Вердадом и Ризом, пока они не покинут аэропорт, после чего эти функции будет выполнять специальная бригада, ждущая снаружи. — Мистер Шарп, сэр, — сказал Инс, — у нас очень мало времени. — Лучше бы вы мне сообщили что-нибудь, чего я не знаю, — огрызнулся Шарп, быстро проходя по длинному коридору, ведущему ко входу в здание аэропорта. Пик поспешал за Шарпом, а Инс, который был значительно ниже ростом, чем Шарп, старался не отставать. — Сэр, у подъезда ждет машина, стоит незаметно среди такси, как вы приказывали. — Хорошо. А если они не возьмут такси? — Один пункт проката машин еще открыт. Если они обратятся туда, я вам сразу же доложу. — Хорошо. Они подошли к движущейся дорожке и встали на резиновую ленту. Ни один самолет не приземлялся за последнее время и не собирался взлетать, так что в коридоре было пусто. Из громкоговорителя, установленного там, доносились записанные на пленку голоса вегасских знаменитостей — Джоан Риверз, Пол Анка, Родни Дэнгерфилд, Том Дризен, Билл Косби и другие вяло шутили, но в основном надоедали советами, как вести себя на движущейся дорожке: держитесь за поручень, стойте справа, проходите слева, не споткнитесь при сходе с движущейся ленты. Раздраженный медленным движением ленты, Шарп зашагал между поручнями и оглянулся слегка вниз и назад на Инса: — Какие у вас отношения с местной полицией? — Сотрудничаем, сэр. — И все? — Возможно, несколько больше, — пояснил Инс. — Там хорошие ребята. В этом городе у них чертовски много работы, если учесть всех этих приезжих и мошенников, и они с ней справляются. Нужно отдать им должное: Они парни крутые и, поскольку знают, как трудно поддерживать порядок, здорово уважают полицейских всех мастей. — Вроде нас? — Вроде нас. — Если будет перестрелка, и если о ней кто-нибудь доложит, и если полицейские Лас-Вегаса прибудут раньше, чем мы успеем все прибрать, можно рассчитывать, что они подтвердят такой отчет, какой нам нужно? Инс удивленно моргнул. — Ну… возможно. — Ясно, — холодно заметил Шарп. Они дошли до конца ленты. Выходя из здания аэропорта, Шарп снова повернулся к Инсу: — Инс, в самое ближайшее время вам не помешает установить более тесные взаимоотношения с местными органами. В следующий раз чтобы я не слышал никаких «возможно». — Слушаюсь, сэр. Но… — Оставайтесь здесь, может, вон за тем газетным киоском. Старайтесь быть по возможности незаметнее. — Я потому так и оделся, — сказал Инс. На нем был летний костюм зеленого цвета и оранжевая рубашка навыпуск. Оставив Инса в холле аэропорта, Шарп толкнул стеклянную дверь и вышел наружу под навес, по которому с остервенением стучал дождь. Тут Джерри Пик наконец догнал его. — Сколько у нас времени, Джерри? Взглянув на часы, Пик ответил: — Они должны приземлиться через пять минут. В этот час такси было немного, всего четыре автомобиля. Их машина стояла у обочины рядом с надписью: «ПРИБЫТИЕ — ТОЛЬКО РАЗГРУЗКА», футах в пятидесяти от последнего такси. Это оказался обычный «Форд» Бюро цвета поноса, так что если бы на нем аршинными буквами было написано: «СЕДАН ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ», это ничего бы не прибавило и не убавило. К счастью, хорошо разглядеть его в такой дождь не представлялось возможным, поэтому оставалось надеяться, что Вердад и Хагерсторм его не заметят. Пик уселся за руль, Шарп устроился на пассажирском сиденье, положив «дипломат» на колени. — Если они возьмут такси, приблизься на такое расстояние, чтобы можно было разглядеть номер, затем снова сдай назад, — распорядился он. — В этом случае, если мы их упустим, то сможем быстро узнать в таксопарке, куда они ездили. Пик кивнул. Половина их машины находилась под навесом, другая была предоставлена в распоряжение дождя. Дождь стучал только по той стороне, где сидел Шарп, и только его окна заливались водой. Он открыл «дипломат» и достал два пистолета, регистрационные номера которых не имели никакого отношения ни к нему, ни к Бюро. Один из глушителей был новым, второй уже не годился — чересчур основательно поработал, когда они преследовали Шэдвея на озере Эрроухед. Шарп навинтил новый глушитель на один из пистолетов, оставив его себе. Второй отдал Пику, который принял его без всякой радости. — Что-нибудь не так? — спросил Шарп. — Ну… сэр… вы все еще хотите убить Шэдвея? Шарп внимательно посмотрел на него. — Дело не в том, чего я хочу и чего не хочу, Джерри. У меня приказ: покончить с ними. Приказ от такого высокого начальства, что я уж точно, черт побери, не собираюсь ослушаться. — Но… — Что еще? — Если Вердад и Хагерсторм приведут нас к Шэдвею и миссис Либен, если они тоже будут там, не можем же мы ликвидировать Шэдвея и миссис Либен у них на глазах. Я что хочу сказать, сэр, эти детективы молчать не будут. Только не они. — Не сомневаюсь, что мне удастся справиться с Вердадом и Хагерстормом, — уверил его Шарп. Он вынул обойму из пистолета, проверяя, полностью ли он заряжен. — Эти засранцы должны были держаться в стороне, и они это знают. Когда же я застану их с поличным, в самой заварухе, они сообразят, что их карьера и пенсия под угрозой. Они уйдут. А когда они уйдут, мы пристрелим Шэдвея и эту бабу. — А если не уйдут? — Тогда мы прикончим и их, — отрезал Шарп, ладонью вгоняя обойму в пистолет.
Холодильник громко гудел. Сырой затхлый воздух отдавал плесенью. Они склонились над кухонным столом, как два заговорщика из старого фильма про антифашистское подполье в Европе. Пистолет Рейчел был под рукой, лежал на прожженном сигаретами пластике, хотя она не очень-то верила, что он ей может понадобиться, во всяком случае, сегодня. Уитни Гэвис воспринял сжатый вариант истории на редкость спокойно и без скептицизма, что ее удивило. С виду он не казался доверчивым человеком, готовым принять любую безумную историю. Однако ее дикому рассказу поверил сразу. Возможно, он так безоговорочно доверял ей потому, что ее любил Бенни. — Бенни показывал вам мои фотографии? — спросила она. Уитни ответил: — Да, детка, последние два месяца он ни о чем, кроме как о вас, и говорить не мог. — Значит, он знал, — заключила Рейчел, — что в наших отношениях есть что-то особенное, знал еще раньше, чем я. — Нет, — возразил Уитни, — он мне говорил, что и вы об этом знали, только боялись себе признаться. Он говорил, вы это скоро поймете, и оказался прав. — Но если вы видели мои фотографии, почему он не показал мне ваших или хотя бы не рассказал о вас, раз вы его лучший друг? — Мы с Беном преданы друг другу, так повелось еще с Вьетнама, мы почти что братья, даже больше, чем братья, так что мы делимся всем. Но вы, детка, до последнего времени еще не были так преданы ему, как я, и пока такого не случилось, он не станет делиться с вами буквально всем. И не обижайтесь. Таким сделал его Вьетнам. Вьетнам, судя по всему, был еще одной причиной, почему Уитни так безоговорочно поверил ее невероятной истории, даже когда она рассказала, как мутант преследовал ее в пустыне. Наверное, человеку, прошедшему через ад Вьетнама, уже ничто не может показаться невероятным. — Но вы не знаете наверняка, что змеи убили его? — спросил Уитни. — Нет, — призналась Рейчел. — Если он воскрес после того, как его стукнул грузовик, может ли он вернуться из мертвых после смерти от змеиных укусов? — Да. Скорее всего. — И если он снова воскреснет, вы не уверены, что он просто превратится в нечто такое, что останется в пустыне и станет жить как животное? — Нет, — сказала она, — разумеется, гарантировать этого я не могу. Он нахмурился, и изуродованная сторона его в общем-то красивого лица собралась в складки и морщины, подобно бумаге. Снаружи в ночи слышались зловещие звуки: кроны пальм скребли по крыше, вывеска мотеля моталась по ветру и противно скрипела, оторванная часть водостока с грохотом билась о крепления. Рейчел прислушивалась, пытаясь уловить звуки, которые нельзя было бы объяснить дождем и ветром. Ничто не насторожило ее, но она все равно продолжала прислушиваться. — Самое плохое, — заметил Уитни, — что Эрик, по-видимому, подслушал, как Бенни говорил вам об этом месте. — Возможно, — с беспокойством согласилась Рейчел. — Почти наверняка, детка. — Ладно. Но если вспомнить, как он выглядел, когда я его последний раз видела, он не сможет просто встать на дороге и попросить его подвезти. Кроме того, он явно деградирует умственно и эмоционально, не только физически. Я хочу сказать… Уитни, если бы вы видели его с этими змеями, вы бы поняли, как мало шансов, что у него хватит сообразительности найти дорогу из пустыни и добраться до Вегаса. — Маловероятно, но возможно, — возразил он. — Нет ничего невозможного, детка. После того как я познакомился с противопехотной миной, моим родителям сказали, что мне точно не выжить. Но я выжил. Тогда они заявили, что я не смогу достаточно контролировать мускулы моего изуродованного лица, чтобы нормально говорить. Но я смог. Черт, да у них был целый список того, что невозможно, и они ошиблись по всем пунктам. А ведь у меня не было того преимущества, которое есть у вашего мужа, — этой генетической штуки. — Если это можно назвать преимуществом, — заметила она, вспомнив кошмарный бугристый гребень на лбу Эрика, растущие рога, нечеловеческие глаза, безобразные руки… — Мне следует отвезти вас в другое место. — Нет, — отказалась она. — Бенни будет искать меня здесь. Если меня тут не будет… — Не волнуйтесь, детка. Он узнает все от меня. — Нет. Если он появится, я хочу быть здесь. — Но… — Я хочу быть здесь, — проговорила Рейчел решительно, и Уитни понял, что уговаривать ее бесполезно. — Как только он сюда приедет, я хочу… мне нужно… видеть его. Я должна видеть его. Уитни с минуту внимательно изучал ее. Взгляд его был необычайно проницательным. Наконец он сказал: — Бог ты мой, а ведь вы действительно любите его, верно? — Да, — призналась она дрожащим голосом. — Я хочу сказать, по-настоящему. — Да, — повторила она, пытаясь унять дрожь в голосе. — И я так о нем беспокоюсь… так беспокоюсь. — С ним будет все в порядке. Он из тех, кто умеет выжить. — Если с ним что-нибудь случится… — Ничего с ним не случится, — уверил ее Уитни. — Но, наверное, не так уж страшно, если вы останетесь здесь на ночь. Если даже ваш муж… если Эрик когда-нибудь доберется до Вегаса, то, судя по всему, он должен стараться не попадаться никому на глаза и двигаться осторожно. Так что дорога может занять у него несколько дней… — Если он вообще доберется. — …и мы можем подождать до завтра и тогда уж найти для вас подходящее место. Значит, вы сегодня остаетесь здесь и ждете Бенни. И он приедет. Я знаю, он приедет, Рейчел. Из глаз Рейчел потекли слезы. Не доверяя своему голосу, она просто кивнула. У Уитни достало такта не обращать внимания на ее слезы и не пытаться ее утешить. Опершись на стол, он поднялся. — Ну ладно, тогда пора действовать. Если вы собираетесь провести хотя бы одну ночь в этой берлоге, надо постараться устроиться поудобнее. Во-первых, хоть здесь и должны быть в шкафу полотенца и простыни, они скорее всего сырые, плесневелые, мятые, и вообще можно что-нибудь с их помощью подхватить. Я, пожалуй, пойду и куплю новые полотенца и простыни и… как насчет еды? — Умираю с голоду, — честно сказала она. — Съела за весь день только яичницу рано утром и пару шоколадок позже, но все это быстро перегорело. Я ненадолго останавливалась в Бейкере, но то было сразу после встречи с Эриком, так что какая уж там еда? Купила только шесть банок содовой, пить ужасно хотелось. — Тогда принесу чего-нибудь поесть тоже. Будете заказывать или доверяете мне? Она встала и провела бледной, дрожащей рукой по волосам. — Я съем все, кроме репы и головастиков. Он улыбнулся: — Вам повезло, что это Вегас. В любом другом городе в это время ничего другого не найти. Но в Вегасе почти ни один магазин не закрывается. Хотите поехать со мной? — Мне не стоит показываться на улице. Он кивнул: — Вы правы. Ладно, вернусь через час. Не боитесь оставаться? — Не боюсь, — ответила она. — Я чувствую себя в безопасности впервые за последние сутки.
В бархатной темноте комнаты 15 Эрик бесцельно ползал по полу, сначала к одной стене, потом к другой, судорожно извиваясь, дергая ногами, сжимаясь и разжимаясь, как таракан с перебитой спиной. — Рейчел… Он слышал, что произносит одно это слово, каждый раз с разной интонацией, как будто им исчерпывался его словарный запас. Голос его был густым, как грязь, но эти два слога ему удавалось произнести четко. Иногда он понимал, что значит это слово, помнил, кто она такая; чаще оно не несло никакого смысла. Но вне зависимости от того, знал ли он, что оно означает, или нет, оно всегда вызывало в нем одну и ту же реакцию: бессмысленную, ледяную ярость. — Рейчел… Оказавшись пленником изменений, волнами прокатывающихся по его телу, он стонал, шипел, задыхался, подвывал, а иногда тихо и хрипло смеялся. Он кашлял, захлебывался, ловил ртом воздух. Опрокинулся на спину, дрожа и суча ногами, хватаясь за воздух когтистыми руками, которые были теперь вдвое больше, чем в его прошлой жизни. А тело его менялось и менялось. От красной рубашки отлетели пуговицы. Шов на; плече разошелся, а тело все увеличивалось, принимая новую чудовищную форму. — Рейчел… За прошедшие несколько часов ноги его то росли, то уменьшались, то росли опять, так что ботинки временами жали. Теперь же они стали так малы, что причиняли ему сильную боль, уродовали его ноги, и он больше не мог терпеть. Он практически сорвал их с ног, оторвав каблуки и подошвы, и терзал в руках до тех пор, пока крепкие швы не разошлись, после чего когтями порвал всю кожу на лоскутки. Его ноги, теперь голые, изменились так же сильно, как и руки. Они стали более широкими и плоскими, с шишковатым костяным наростом посередине, с такими же длинными пальцами, как и на руках, заканчивающимися чрезвычайно острыми когтями. — Рейчел… Новое изменение прокатилось по нему с такой же стремительностью, как молния пронзает дерево, начиная с самой верхней ветви и разряжаясь в глубоких корнях. Он извивался и с трудом хватал воздух ртом. Бил пятками по полу. Из глаз текли жгучие слезы, изо рта потоками струилась густая слюна. Сжигаемый заживо огнем внутренних перемен, он обильно потел, но тем не менее в самой середине оставался абсолютно холодным. Сердце и мозг казались наполненными льдом. Он заполз в угол и свернулся калачиком, обняв себя руками. Его грудина хрустнула, задрожала и раздалась, принимая новую форму. Позвоночник тоже трещал и двигался, следуя за всеми происходящими изменениями. Уже через несколько секунд он выполз из угла, передвигаясь на манер краба. Остановился в центре комнаты и встал на колени. Задыхаясь, издавая глухие стоны, постоял так немного, опустив голову, давая время дурноте покинуть его вместе с вонючим потом. Наконец огонь, горящий внутри тела, поутих. На некоторое время его форма стабилизировалась. Он встал, покачиваясь. — Рейчел… Открыл глаза и оглядел комнату, вовсе не удивляясь, что теперь так же хорошо видит в темноте, как и при дневном свете. Более того, поле зрения резко расширилось: когда он смотрел прямо вперед, то видел предметы слева и справа так же четко, как и те, что находились перед ним. Он подошел к двери. Некоторые части его изменившегося тела казались нелепыми и странными и плохо функционировали, отчего двигался он как какое-то ракообразное, которое только что обрело способность стоять прямо, подобно человеку. Но он вовсе не превратился в калеку: мог двигаться быстро и тихо и ощущал в себе такую силу, какой никогда не знал раньше. Издавая тихий шипящий звук, заглушаемый завыванием ветра и шумом дождя, он открыл дверь и вышел в ночь, которая приняла его в свои объятия.
Глава 35
НЕЧТО, ЛЮБЯЩЕЕ ТЬМУ
Уитни вышел из мотеля через кухонную дверь, ведущую в пыльный гараж, где они поставили «Мерседес». Теперь он стоял в небольших лужах, натекших с колес. Машина Уитни осталась снаружи, на служебной дорожке за мотелем. Повернувшись к стоящей на пороге Рейчел, Уитни велел: — Закройте за мной дверь и сидите тихо. Я постараюсь вернуться побыстрее. — Не беспокойтесь, со мной все будет в порядке. Приведу пока в порядок бумаги по проекту. Это меня займет. Ему нетрудно было понять, почему Бен в нее влюбился. Даже в таком затрапезном виде, бледная от усталости и волнения, она была ослепительна. Но красота — не единственное ее достоинство. Она была заботливой, понимающей, умной и с характером, что не часто встречается в таком сочетании. — Бен, наверное, приедет раньше меня, — заверил он. Рейчел с трудом улыбнулась, благодарная за эту попытку взбодрить ее. Кивнула, закусила губу, но не смогла ничего сказать, поскольку была почти уверена, что живым Бена ей никогда не видать. Уитни жестом велел ей уйти с порога и плотно прикрыл за собой дверь. Подождал, пока она не закрыла засов. Затем обошел «Мерседес» спереди и направился к боковой двери, так как не хотел возиться с поднятием большой основной. Гараж на три машины освещался только лампочкой без плафона, подвешенной на шнуре к перекладине. Грязный и пыльный, он служил складом для старого оборудования и всякого хлама: ржавых ведер, старых метел, изъеденных молью тряпок для мытья пола, неисправного пылесоса, нескольких стульев со сломанными ножками и рваной обивкой, которые бывшие владельцы, по-видимому, собирались отремонтировать и снова использовать, мотков проволоки, шлангов, раковины из ванной комнаты, запасных насадок на шланги, высыпавшихся из картонной коробки, одной хлопчатобумажной белой перчатки садовника, лежащей ладонью вверх и похожей на отрезанную руку, банок лака и краски, чье содержимое наверняка давно засохло и не годилось к употреблению. Весь этот хлам громоздился у стен, валялся на полу и полностью занимал антресоли. Открывая засов на боковой двери гаража, Уитни услышал какой-то грохот сзади, который мгновенно смолк. Он даже не успел повернуться, чтобы посмотреть, в чем дело. Нахмурившись, он внимательным взором окинул кучи хлама, «Мерседес», газовую печку в дальнем углу, прогнувшийся верстак и водонагреватель. Ничего необычного. Он снова прислушался. Единственными звуками были завывание ветра и стук дождя по крыше. Уитни отошел от двери, вернулся к машине и обошел ее вокруг, но не нашел ничего, что могло бы вызвать подобный шум. Возможно, под действием собственного веса что-то передвинулось в куче хлама, или крыса там пробежала. Он бы вовсе не удивился, если бы выяснилось, что в этом старом здании полным-полно крыс, хотя до сих пор ему с ними встречаться не приходилось. А хлам был уложен настолько бессистемно, что Уитни не мог бы поклясться, будто он находится в том же положении, что и минуту назад. Он снова вернулся к двери, оглянулся в последний раз и вышел под дождь. Едва первые резкие дождевые потоки, гонимые ветром, ударили по нему, как он запоздало понял, откуда исходил тот странный звук: кто-то пытался приподнять переднюю дверь снаружи. Но эту дверь нельзя было открыть вручную, поскольку она работала в автоматическом режиме, обеспечивая таким образом защиту от воров. Тот, кто пытался ее открыть, сразу понял, что таким путем ему не проникнуть, чем и объясняется, что грохот длился всего мгновение. Уитни осторожно захромал к углу гаража и дорожке, чтобы посмотреть, нет ли там кого. Сильный ливень громко стучал по бетону; там, где он падал на землю, звук был тише, мягче. С угла здания, где не было водостока, вода лилась ручьем. Весь этот шум должен был надежно скрывать звук шагов Уитни, впрочем, как и того, кто мог прятаться за гаражом. Он прислушивался очень внимательно, но сначала не услышал ничего необычного. Сделал шесть или восемь шагов, дважды останавливаясь, чтобы послушать, пока в стук и хлюпанье дождя не ворвался новый, пугающий звук. Сзади него. Частично он напоминал шипение пара, частично тонкий кошачий визг, а частично глухое, угрожающее рычание, от которого волосы на голове Уитни встали дыбом. Он быстро повернулся, вскрикнул и сделал шаг назад, увидев нечто, нависшее над ним в темноте. Невероятные, странные глаза смотрели на него с высоты шести с половиной футов, а то и больше. Выпуклые и разные, каждый величиной с яйцо: один светло-зеленый, другой оранжевый, они светились, как у хищника. Один напоминал глаз гигантского кота, второй, со зловещим узким зрачком, казался глазом пресмыкающегося, оба были заострены и многогранны, Боже милостивый, совсем как у некоторых насекомых. На короткое мгновение Уитни замер. Внезапно мощная рука метнулась к нему, нанесла удар по голове. Он упал на дорожку, больно стукнувшись копчиком, и скатился в кусты. Рука существа — рука Либена, потому что Уитни понимал, что это изменившийся до неузнаваемости Эрик — на вид была устроена не так, как у человека. Она была разделена на сегменты и имела еще несколько дополнительных суставов, вроде локтевого, которые сгибались во все стороны и придавали руке необыкновенную гибкость. Не придя еще в себя от мощного удара и полупарализованный страхом, Уитни взглянул на приближающееся чудище и увидел, что, несмотря на его покатые плечи и горб, оно передвигается с некоторым изяществом, вероятнее всего, потому, что его ноги, скрытые рваными джинсами, по строению напоминают мощные руки с многочисленными суставами. Уитни вдруг осознал, что кричит. Он кричал — по-настоящему кричал — всего один раз в своей жизни, во Вьетнаме, когда под ним взорвалась мина, и он, лежа в джунглях, увидел нижнюю часть своей левой ноги в пяти футах от себя. Из разорванной кожи ботинка высовывались размозженные, окровавленные пальцы. Теперь он кричал снова и никак не мог остановиться. Сквозь свой собственный крик он слышал издаваемый его противником пронзительный высокий звук, в котором слышался триумф победителя. Голова кошмарного существа качалась самым странным образом, и на мгновение Уитни увидел страшные заостренные зубы. Он попытался откатиться подальше по мокрой земле, отталкиваясь здоровой рукой и культей, но быстро двигаться был не в состоянии. Продвинулся всего лишь на пару ярдов, когда Либен догнал его, наклонился, схватив за левую ногу, которая, к счастью, оказалась протезом, и поволок к открытой двери гаража. Несмотря на темноту и дождь, Уитни видел это существо достаточно хорошо, чтобы понять, что в нем осталось так же мало человеческого, как и в любом звере. И оно было огромным и сильным. В отчаянии Уитни ударил его здоровой ногой и попал по ноге. Существо взвизгнуло, но скорее всего не от боли, а от злости. В ярости оно так повернуло искусственную ногу, что протез соскочил с удерживающих его ремней. От пронизывающей боли у Уитни перехватило дыхание, а протез оторвался, сделав его еще более беспомощным.В тесной кухоньке в квартире менеджера Рейчел только успела открыть мешок для мусора и вынуть пачку смятых и грязных ксероксных копий проекта «Уайлдкард», как услышала первый крик. Она сразу сообразила, что кричит Уитни, и нутром поняла, что причиной этого крика может быть только Эрик. Отбросив бумаги, Рейчел схватила со стола пистолет, бросилась к двери черного хода, немного поколебалась и распахнула ее. — Войдя в грязный гараж, она снова помедлила, потому что с обеих сторон ощущалось движение. Сильный сквозняк из боковой двери, открытой в бушующую ночь, раскачивал лампочку на шнуре. Тени от лампочки то прыгали вверх, то падали вниз и снова прыгали из каждого угла. Она осторожно оглядела груды хлама и старой мебели, которые в этом странном освещении казались живыми среди оживших теней. Крик Уитни доносился снаружи, так что и Эрик, видимо, там, а не в гараже, решилаона. И, отбросив всякую осторожность, побежала мимо черного «Мерседеса», перепрыгивая через банки с краской и мотки поливального шланга. Раздался пронзительный, леденящий душу вопль, заглушивший крики Уитни, и Рейчел поняла, что это, вне сомнения, Эрик, потому что этот пронзительный вопль был похож на те, которые он издавал, преследуя ее в пустыне. Но на этот раз он был более громким и яростным и еще менее человеческим, чем раньше. Услышав этот чудовищный голос, она едва не повернулась и не бросилась прочь. Едва. Но она не могла оставить Уитни Гэвиса на произвол судьбы. Рейчел выбежала через открытую дверь в ночь и бурю, держа пистолет наготове. Существо, когда-то бывшее Эриком, стояло спиной к ней всего в нескольких футах. Она вскрикнула от ужаса, потому что в руке оно держало оторванную ногу Уитни. Через секунду Рейчел поняла, что это протез, но к этому времени она уже привлекла внимание зверя. Он отбросил протез в сторону и повернулся к ней, сверкая огромными глазами. Вид его был настолько ужасен, что она в отличие от Уитни не могла издать ни звука. Попыталась, но голос ей отказал. Темнота и дождь милосердно скрывали некоторые подробности, но ей была видна огромная голова странной формы, челюсти, нечто среднее между волчьими и крокодильими, и масса острых зубов. Существо, одетое только в джинсы, без рубашки и ботинок, было на несколько дюймов выше, чем Эрик, и за покатыми уродливыми плечами у него виднелся большой горб. Грудь казалась необычно широкой, и создавалось впечатление, что она покрыта рогами, шипами или большими шишками. Длинные руки со странными суставами висели почти до колен. Такие кисти могли быть только у демонов, которые в огне ада вырывали человеческие души и поедали их. — Рейчел… Рейчел… пришел к тебе… Рейчел, — сказало существо низким шепотом, тщательно выговаривая каждый слог, как будто оно уже почти забыло, как надо говорить. Его горло, рот, язык и губы уже не годились для человеческой речи. Каждый слог явно требовал от него страшного усилия и, возможно, причинял ему боль. — Пришел… за… тобой… Оно сделало шаг к ней, руки раскачивались по сторонам со скрипящим, щелкающим, хитиновым звуком. Оно. Рейчел уже не могла думать о нем как об Эрике, своем муже. Теперь он стал отвратительным чудовищем, чье существование было насмешкой над всеми творениями Божьими. Она в упор выстрелила ему в грудь. Оно даже не поморщилось, когда пуля попала в него. Только пронзительно взвизгнуло, не столько от боли, сколько от сжигающей его страсти, и сделало еще шаг. Она выстрелила еще раз, и третий, и четвертый. Удары пуль вынудили существо пошатнуться, но оно удержалось на ногах! — Стреляй! — закричал Уитни. — Убей его! — Рейчел… Рейчел… В обойме было десять патронов. Она сделала подряд последние шесть выстрелов так быстро, как только смогла, уверенная, что попала все шесть раз — в живот, в грудь и даже в лицо. Оно наконец зарычало от боли и упало сначала на колени, а потом лицом в грязь. — Слава Богу, — проговорила Рейчел дрожащим голосом, — слава Богу. — Неожиданно она почувствовала такую слабость, что ей пришлось прислониться к стене гаража. Эрикоподобное существо рыгнуло, зарычало, дернулось и встало на четвереньки. — Нет, — выдохнула она, не веря своим глазам. Оно подняло ужасную голову и уставилось на нее холодными разными глазами, горящими, как фонари. Глаза медленно закрылись, затем веки так же медленно поднялись, и теперь зрачки сияли ярче, чем прежде. Даже если его измененная генная структура обеспечивает небывало быстрое заживление и воскрешение после смерти, не может быть, чтобы он мог оправиться так быстро. Если он мог ремонтировать и оживлять себя за секунды, получив десять пулевых ранений, тогда он не просто быстро выздоравливает, не только потенциально бессмертен — он непобедим. — Умри же, черт бы тебя побрал! — воскликнула она. Существо содрогнулось и выплюнуло что-то в грязь, затем оторвалось от земли и вскочило на ноги. — Беги! — закричал Уитни. — Ради всего святого, беги, Рейчел! У нее не было никаких шансов спасти Уитни. Если она останется, они погибнут вместе. Пистолет разряжен. В «Мерседесе» есть коробки с патронами, но ей до них вовремя не добраться. Она уронила пистолет на землю. — Беги! — снова закричал Уитни Гэвис. Сердце готово было выскочить из груди. Рейчел кинулась в гараж, опять перепрыгивая через банки с краской и огородные шланги. Резкая боль прострелила лодыжку, которую она подвернула раньше, а раны от ногтей на бедре начали гореть, как свежие. За ее спиной раздался пронзительный крик демона. На бегу Рейчел свалила несколько металлических полок с инструментом и коробками гвоздей, надеясь, что это задержит преследователя, если он сразу кинется за ней, а не займется сначала Уитни. Полки с грохотом попадали, и к тому времени, как она подбежала к двери в кухню, она услышала, что чудовище перебирается через хлам. Оно и в самом деле не стало добивать Уитни, стремясь как можно скорее добраться до нее. Рейчел перепрыгнула через порог, захлопнула дверь, но не успела задвинуть засов, как дверь с чудовищной силой распахнулась. Ее отбросило на середину кухни. С трудом удержавшись на ногах, она ударилась бедром о край стола, отлетела к холодильнику и почувствовала, как спину пронзила резкая боль. Оно вышло из гаража. При электрическом свете оно казалось громадным и куда более отвратительным, чем она могла себе представить. Секунду оно постояло в дверях, оглядывая маленькую, пыльную кухню. Потом подняло голову и расправило грудь, как бы давая ей возможность полюбоваться. Кожа у него была коричнево-серо-зелено-черного цвета, бугристая, как у слона, и местами покрытая чешуей, и только отдельные более светлые пятна еще напоминали кожу человека. Голова по форме была похожа на грушу толстым концом вверх, шея — покатая и мускулистая. Вся узкая часть «груши» представляла собой вытянутое вперед рыло и челюсти. Когда оно открыло свой огромный рот, чтобы зашипеть, Рейчел увидела зубы, по количеству и остроте напоминавшие акульи. То появляющийся, то исчезающий язык был темного цвета и абсолютно не похож на человеческий. На лице в придачу к двум рогоподобным выпуклостям на лбу виднелись странные шишки и впадины, которые, казалось, не имели биологического оправдания, и опухолеобразные костяные или тканевые наросты. Прямо под кожей над бровями и внизу под глазами пульсировали артерии и вспухшие вены. Когда она видела его раньше в пустыне, ей показалось, что Эрик проходит обратную эволюцию, что его генетически измененное тело превращается в мозаику из древних предков человека. Но в этом существе не было ничего от истории человеческой физиологии. Это был кошмарный продукт генетического хаоса, чудовище, которое не принадлежало ни прошлому, ни будущему в эволюционном процессе. Оно ушло в сторону от этого процесса или, точнее, явилось продуктом ушедшей в сторону биологической революции, оборвав большинство, если не все, связи с человеческим началом. Какая-то часть разума Эрика все еще тлела в этой чудовищной махине, хотя, как подозревала Рейчел, эта искра оставшегося интеллекта скоро угаснет навсегда. — Посмотри… меня… — произнесло существо, подтверждая ее догадку, что оно красуется перед ней. Она осторожно двинулась от холодильника к открытой двери в гостиную. Существо подняло одну страшную руку ладонью вверх, как бы останавливая ее. Разделенная на сегменты рука могла сгибаться и разгибаться как вперед, так и назад в четырех местах, и каждая часть была покрыта твердым коричнево-черным панцирем, похожим на те, какие бывают у жуков. Длинные когтистые пальцы внушали ужас, но в центре ладони находилось нечто еще более пугающее: конусообразное отверстие величиной с монету в пятьдесят центов. Пока она с содроганием рассматривала это явление из Дантова ада, отверстие на ладони медленно открылось, потом снова закрылось, открылось — закрылось… Функции этого рта на ладони были только с одной стороны непонятны, зато с другой — отвратительно ясны: пока Рейчел смотрела, отверстие сделалось красным и влажным, как будто испытывало мерзкий голод. В панике она рванулась бежать и услышала, что ноги бросившегося за ней чудовища стучат по линолеуму, как копыта. До двери в офис еще оставался десяток шагов, когда жуткое существо нависло над ней справа. Оно двигалось стремительно! Вскрикнув, Рейчел упала на пол и откатилась в сторону, чтобы не попасть ему в руки. Ударилась о кресло, снова вскочила и спряталась за него. Когда она сменила направление, чудовище не сразу последовало за ней. Оно стояло в центре комнаты, наблюдая и, по-видимому, понимая, что единственный путь к спасению отрезан и оно может насладиться ее страхом, прежде чем сделать смертельный бросок. Она начала пятиться в сторону спальни. — Рейшииил, Рейшииил, — произнесло чудовище, уже не в состоянии правильно выговорить ее имя. Опухолевидные шишки у него на лбу шевелились и меняли форму. Маленькие рожки над бровями растаяли прямо на глазах, по существу прошла очередная волна перемен, и на лице стала образовываться еще одна вена, напоминающая трещину в земле. Она продолжала пятиться назад. Оно двинулось к ней, легко, не торопясь. — Рейшииил…
Уверенный, что умирающая жена лежит в реанимации в ожидании своего мужа, Амос Тейт вознамерился доставить Бена прямо в больницу «Санрайз», что было далековато от гостиницы «Золотой песок». Бену пришлось усиленно настаивать, чтобы его высадили на углу бульваров Лас-Вегас и Тропикана. Поскольку у него не было достаточных оснований для отказа от великодушного предложения Амоса, Бену, не вдаваясь в объяснения, пришлось признаться, что насчет жены он соврал. Он откинул одеяло, открыл дверцу кабины, соскочил на асфальт и бегом кинулся на восток, мимо гостиницы «Тропикана», оставив изумленного водителя смотреть ему вслед. До гостиницы «Золотой песок» оставалось еще около мили, расстояние, которое он в обычных условиях пробегал минут за шесть или даже меньше. Но в такой сильный ливень он не рискнул мчаться с предельной скоростью, потому что, упади он и сломай руку или ногу, кто Тогда поможет Рейчел, если она в этой помощи нуждается? (Господи, пусть она будет в тепле и безопасности, и пусть она не нуждается ни в какой помощи!) Он бежал по обочине широкого бульвара, а револьвер, заткнутый за пояс сзади, давил ему на спину. Он шлепал по лужам, которые заполнили все углубления в мостовой. Мимо проехало всего несколько машин. Некоторые водители с удивлением тормозили, но никто не предложил подвезти. Он даже и не пытался найти попутку, чувствуя, что времени для этого у него уже не осталось. Миля — не слишком много, но сегодня ему казалось, что он совершает путешествие на край света.
Джулио и Ризу удалось подняться на борт самолета в округе Ориндж, имея служебные пистолеты в кобурах под пальто, потому что они предъявили служащему на детекторе металла свои удостоверения офицеров полиции. Теперь, после приземления в международном аэропорту Лас-Вегаса, они воспользовались тем же способом, чтобы их быстро обслужила в пункте проката машин симпатичная брюнетка по имени Руфь. Вместо того чтобы просто отдать им ключи и послать на стоянку самим разыскивать автомобиль, она позвонила ночному механику и попросила его пригнать машину к выходу из аэропорта. Поскольку их одежда не была рассчитана на дождь, они подождали за стеклянными дверями аэропорта, пока не увидели припарковавшийся к тротуару «Додж», и только тогда вышли на улицу. Механик, одетый в виниловый плащ с капюшоном, быстро проверил их бумаги и передал им машину. Хотя в округе Ориндж облака уже затянули небо, Риз не сообразил, что на востоке может быть значительно хуже и садиться им придется в проливной дождь. Хотя они снизились и приземлились без сучка без задоринки, он так крепко держался за подлокотники своего кресла, что руки до сих пор сводило судорогой. Казалось, после благополучного окончания полета Риз должен облегченно вздохнуть, но он не мог отделаться от мыслей о Тедди Бертлезмен, высокой розовой леди, и о маленькой Эстер, ждущей его дома. Еще утром у него была только Эстер, ради которой он и жил, одна эта милость Господня, не слишком много, чтобы бояться дразнить жестокую судьбу. Но теперь к ней прибавилась эта потрясающая женщина, агент по продаже недвижимости, а Риз имел все основания полагать, что чем больше у человека причин хотеть жить, тем скорее он может умереть. Скорее всего ерунда и предрассудки. Но этот ливень вместо ясной ночи в пустыне тоже показался ему зловещим предзнаменованием. Когда Джулио отъехал от аэропорта, Риз вытер мокрое от дождя лицо и спросил: — Ну и что ты теперь скажешь про всю эту рекламу Лас-Вегаса по телевизору? — А что я должен сказать? — Где солнце? Где все эти девицы в крошечных бикини? — Зачем тебе девицы в бикини, когда у тебя в субботу свидание с Тедди Бертлезмен? «Не говори об этом», — суеверно подумал Риз. — Черт возьми, — произнес он вслух, — вовсе не похоже на Вегас. Куда больше похоже на Сиэтл.
Рейчел захлопнула дверь спальни и нажала на кнопку жалкого замка. Подбежав к единственному окну, она раздвинула полуистлевшие занавески, обнаружила, что на окне висят жалюзи, и поняла, что выбраться ей через него из-за металлических поперечин будет нелегко. Оглянулась в поисках чего-нибудь, чем можно воспользоваться в качестве оружия, но в комнате, кроме кровати, двух прикроватных столиков, одной лампы и стула, ничего не было. Она ожидала, что дверь разлетится на части, но этого не случилось. В соседней комнате не было слышно никакого движения, и эта тишина не столько радовала, сколько пугала ее. Что оно задумало? Рейчел подбежала к встроенному шкафу, распахнула дверцы и заглянула внутрь. Ничего полезного. Ряд пустых полок в углу и перекладина с пустыми плечиками для одежды. Какое оружие могла она соорудить из нескольких плечиков? Загремела дверная ручка. — Рейшииил, — призывно прошипело существо. По-видимому, небольшая доля сознания Эрика осталась в этом мутанте, потому что именно она хотела, чтобы Рейчел помучилась и подрожала в предвидении того, что он может с ней сделать. Она умрет здесь медленной и мучительной смертью. В отчаянии она отвернулась от пустого шкафа и вдруг заметила на потолке крышку люка, ведущего на чердак. Чудовище стучало тяжелой рукой по двери и снова и снова взывало: — Рейшииил… Она проскользнула в шкаф и подергала полки, чтобы испытать их надежность. К ее радости, они оказались встроенными, так что она могла взобраться по ним, как по лестнице. Стоя на четвертой полке, только немного не доставая головой до потолка, она ухватилась за ближайшую перекладину одной рукой и, потянувшись немного в сторону, свободной рукой осторожно толкнула крышку люка. — Рейшииил, Рейшииил, — уговаривало ее чудовище, проводя по двери когтями и слегка, как бы дразня ее, наваливаясь на преграду. Рейчел поднялась еще на одну полку, взялась руками за края люка, оттолкнулась, подтянулась и оказалась на чердаке. Пола там не было, только потолочные балки на расстоянии шестнадцати дюймов друг от друга и пучки стекловаты вокруг их креплений. При слабом свете, проникающем на чердак через люк, ей удалось разглядеть, что чердак очень низкий, потолок всего футах в четырех, и из него кругом торчат гвозди, которыми крепилась крыша. Еще более крупные гвозди торчали из стропил. К ее удивлению, чердак не ограничивался только квартирой менеджера, но шел над потолками всех остальных комнат в этом длинном крыле. Внизу что-то так грохнуло, что она, стоя на коленях, почувствовала отдачу в балках под собой. Еще один удар, сопровождаемый треском разлетающегося дерева и гулким звуком лопнувшего металла. Рейчел быстро закрыла крышку люка. Теперь на чердаке было абсолютно темно. На четвереньках она как только могла тихо проползла к следующей паре балок и оказалась футах в восьми от люка. Здесь она притаилась и стала ждать в кромешной темноте, внимательно прислушиваясь к движению внизу. Поскольку люк был закрыт, она плохо слышала, что там происходит. К тому же ливень барабанил по крыше всего в нескольких дюймах над ее головой. Она молилась в душе, чтобы в своем ущербном состоянии, почти полностью утратив человеческий интеллект, то, что было Эриком, не сумело сообразить, суда же она делась.
С помощью только одной руки и ноги Уитни упрямо полз к гаражу, преследуя существо, которое отозвало ему протез. Но когда добрался до открытой двери, он уже знал, что обманывает сам себя: со своими физическими недостатками он ни чем не сможет помочь Рейчел. Физические недостатки — и нечего придуриваться. Раньше он шутливо называл их «особенностями» и заявлял, что отказывается считать недостатками. В данной же ситуации врать самому себе было бессмысленно, приходилось смотреть правде в лицо. Он ненавидел себя за свою беспомощность, ненавидел давно закончившуюся войну и Вьетконг, ненавидел жизнь в целом и чувствовал, что сейчас расплачется. Но ненависть проблем не решала, а Уитни не привык тратить энергию или время на бессмысленные занятия или на жалость к самому себе. — Кончай, Уит, — сказал он вслух. Повернул от дверей гаража и с трудом пополз к дорожке, рассчитывая по ней добраться до бульвара и выползти на середину дороги, где один его вид, вне сомнения, остановит даже самого бесчувственного автомобилиста. Он прополз только шесть или семь ярдов, когда его лицо, онемевшее от мощного удара этого зверюги, начало гореть и болеть. Он перевернулся на спину, подставив лицо под дождь, потом осторожно ощупал изуродованную щеку — еще одно напоминание о Вьетнаме. Странно. Он помнил, что Либен не драл его когтями, что ударил тыльной стороной огромной, костлявой руки. Но под пальцами были глубокие раны, из которых обильно струилась кровь. Их было не меньше пяти. Особенно глубокой была рана на левом виске. Этот проклятый карнавальный монстр, он что, шипы надевал на суставы? От прикосновения пальцев боль в лице усилилась, и он быстро опустил руку. Снова перекатившись на живот, Уитни продолжил свой трудный путь к шоссе. — Подумаешь, какое дело — лишние царапины! — уговаривал он себя. — Все равно ту половину лица мне на конкурс красоты не выставлять! Он не хотел думать о том, как сильно кровоточила его рана на левом виске.
Скорчившись в темноте чердака, Рейчел начала уже думать, что ей удалось одурачить чудовище, когда-то бывшее Эриком. Конечно же, как она и полагала, его перерождение, очевидно, было не только физическим, но и умственным, и он не сумел сообразить, куда она подевалась. Сердце все еще бешено колотилось, она продолжала дрожать, но надежда затеплилась в ней. И тут фанерная крышка люка со стуком открылась, чердак залил свет. В отверстии показались кошмарные руки мутанта. Затем появилась голова, затем верхняя часть туловища. Безумные глаза остановились на ней. Она быстро побежала, согнувшись в три погибели, по чердаку, не забывая об острых гвоздях прямо над головой. Она также помнила, что ей не следует ступать в пространство между балками, потому что там не было досок. Если она споткнется, потеряет равновесие хотя бы на секунду, она проломит слой изоляции и фанеру, служащую потолком, и упадет в одну из комнат внизу. Даже если при этом она не порвет электропроводов и ее не убьет током, она вполне может сломать ногу или шею при падении. И ей останется только беспомощно лежать и ждать, пока чудовище не придет и не расправится с ней в свое удовольствие. Ей удалось пробежать футов тридцать, впереди еще лежало пространство в добрые полтораста футов, когда она рискнула обернуться. Существо уже выбралось из люка и смотрело ей вслед. — Рейишуууул, — шипело оно. Говорило оно все хуже и хуже. Потом протянуло лапу и захлопнуло крышку люка, погрузив чердак в полную темноту, где оно имело все преимущества.
Грязные ботинки Бена настолько промокли, что начали спадать с ног. Он чувствовал, что на левой пятке образуется волдырь. Когда наконец он увидел гостиницу, где в окнах офиса горел свет, он немного замедлил бег, чтобы засунуть руку под мокрую рубашку и достать из-за пояса «магнум». Как бы ему хотелось сейчас иметь ружье, которое пришлось оставить в сломавшемся «Меркурии». Оказавшись на дорожке, ведущей к мотелю, Бен увидел человека, ползущего в направлении бульвара. Еще через секунду он узнал в нем Уитни Гэвиса, без протеза и, по-видимому, раненого.
Он превратился в существо, обожающее темноту. Он не понимал, что он такое, почти не помнил, чем — или кем — был раньше, не знал, к чему стремился, зачем существовал, но чувствовал, что его законное место в темноте, где он — хозяин. Впереди добыча осторожно пробиралась во тьме, абсолютно слепая и слишком медлительная, чтобы еще долго уходить от него. Ему тьма вовсе не мешала. Он ясно видел и ее, и все остальное вокруг. Правда, он не слишком четко представлял себе, где находится. Он помнил, как взобрался в этот длинный туннель, и по запаху ощущал, что стены сделаны из дерева, но ему казалось, что он глубоко под землей. Это место напоминало ему влажную темную нору, которую он смутно помнил из своей другой, давней жизни и которая по непонятным причинам очень ему нравилась. Везде вокруг него появлялись на секунду и снова исчезали призрачные огни. Он помнил, что когда-то их боялся, но уже не мог вспомнить почему. Теперь он не придавал им значения, пока он не обращает на них внимания — они безвредны. Резкий, женский, запах добычи возбуждал его. Похоть заставляла забыть об осторожности, и он должен был бороться со стремлением кинуться вперед и наброситься на нее. Он нутром чувствовал, что здесь следует ступать осторожно, но потребность сексуальной разрядки пересиливала осторожность. Откуда-то он знал, что опасно ступать в пустые места между балками. Ему было легче придерживаться этого безопасного пути, чем его добыче, так как, несмотря на свои размеры, он был значительно более ловким. Кроме того, он видел, куда ступает, а она — нет. Каждый раз, когда она оглядывалась, он опускал веки, чтобы она не могла заметить его по горящим глазам. Когда она останавливалась, чтобы прислушаться, то, безусловно, слышала, что он приближается, но невозможность увидеть его, судя по всему, приводила ее в еще больший ужас. Запах ее страха был столь же силен, как и ее запах самки, только резче. Первый возбуждал в нем жажду крови, второй — возбуждал его сексуально. Он безумно хотел почувствовать вкус ее крови на своих губах, на языке, погрузить свой рот в ее живот и найти такую вкусную печень. До нее оставалось двадцать футов. Пятнадцать. Десять.
Бен помог Уитни прислониться к стенке высотой в четыре фута, которая огораживала сорняки в том месте, где когда-то были клумбы. Над их головами скрипела, раскачиваясь, вывеска мотеля. — Не беспокойся обо мне. — Уит оттолкнул его. — Твое лицо… — Помоги ей. Помоги Рейчел. — У тебя кровь течет. — Да выживу я, выживу. Но оно погналось за Рейчел. — Уитни сказал это с таким откровенным ужасом в голосе, какого Бену не приходилось слышать со времен Вьетнама. — Когда оно меня бросило, то погналось за Рейчел. — Оно? — У тебя есть револьвер? Хорошо. «Магнум»? Хорошо. — Оно? — переспросил Бен. Внезапно ветер завыл сильнее и дождь полил так, будто над ними прорвалась плотина. Уит повысил голос, чтобы перекричать бурю: — Либен. Это Либен, но его не узнать. Бог мой, до чего же он изменился! И не Либен уже вовсе. Генетический хаос, так она сказала. Деградирующая эволюция. Обширная мутация. Торопись, Бен! Квартира менеджера! Не понимая, что, черт бы все побрал, Уит бормочет, но инстинктивно чувствуя, что Рейчел в еще большей опасности, чем он предполагал, Бен оставил своего старого друга сидеть около стенки и помчался к двери в офис мотеля.
Рейчел, ничего не видя и наполовину оглохнув от грохота дождя по крыше, двигалась в кромешной темноте так быстро, как только могла себе позволить. Хотя она и опасалась, что передвигается слишком медленно, чтобы убежать от чудовища, она добралась до конца длинного помещения быстрее, чем ожидала, ударившись о стену в конце первого крыла мотеля. С ума сойти, а ведь она даже не подумала, что будет делать, когда доберется до конца и окажется в тупике. Ей только хотелось держаться подальше от этого монстра, и она двигалась так, как будто чердак может тянуться вечно. Оказавшись загнанной в угол, она в отчаянии застонала. Передвинулась правее в надежде, что чердак делает поворот и продолжается вдоль средней части мотеля. Наверное, когда-то так и было, но сейчас она наткнулась на перегородку из бетонных блоков, разделяющую два крыла, вероятно, в противопожарных целях. Поспешно шаря в темноте, она везде натыкалась на прохладную, гладкую поверхность бетона и полоски скрепляющего блоки цемента. Здесь пройти было нельзя. За ее спиной чудовище издало дикий вопль триумфа и патологического голода, который перекрыл шум дождя и раздался, казалось, в нескольких дюймах от ее уха. Она вздрогнула и резко повернула голову, потрясенная тем, что этот дьявольский голос раздался так близко. Она думала, что у нее есть хоть минута или полминуты на размышление. Тут впервые после того, как чудовище захлопнуло крышку люка, погрузив чердак в полный мрак, Рейчел увидела его глаза — глаза убийцы. Светящийся светло-зеленый зрачок менялся, и вскоре глаз наверняка превратится в оранжевый, как у пресмыкающегося. Оно стояло так близко, что Рейчел могла разглядеть жгучую ненависть в этом нечеловеческом взгляде. Оно… оно стояло от нее на расстоянии не более шести футов. Дыхание его было зловонным. Почему-то она знала, что оно ясно ее видит. И пытается дотянуться до нее в темноте. Ей показалось, что она разглядела протянутую к ней чудовищную руку. Рейчел прижалась спиной к бетонным блокам. Думай, думай. Ей, загнанной в угол, ничего не оставалось, как подвергнуть себя той опасности, которой она только что старалась избежать: вместо того чтобы ступать по балкам, она прыгнула в промежуток между ними, и старая фанера тут же под ней проломилась. Она выпала с чердака через потолок одной из комнат мотеля, надеясь, что не грохнется об угол комода или кресла, не сломает шею, не станет совсем уж легкой добычей… и упала точно посередине кровати со сломанными пружинами и матрацем, который давно стал небольшим заповедником мха и плесени. Рейчел раздавила эти хрупкие ростки, и во все стороны полетели семена, брызнула липкая жидкость и отвратительно запахло тухлыми яйцами, хотя все это она восприняла с благодарностью, потому что была пока жива и невредима. Чудовище над ней тоже начало спускаться вниз, избрав не такой радикальный способ. Оно цеплялось за балки и ногами било по фанере, расширяя себе проход. Рейчел скатилась с кровати и кинулась разыскивать дверь.
Вбежав в квартиру менеджера, Бен увидел разбитую дверь в спальню, но в самой спальне никого не было, как и в гостиной, и в кухне. Он проверил и гараж, но не увидел там ни Рейчел, ни Эрика. То, что он не нашел ничего, было лучше, чем если бы он обнаружил лужу крови или ее истерзанный труп, но ненамного. Все еще помня настойчивые предупреждения Уитни, Бен быстро выбежал из квартиры в офис и оттуда — во двор. Краем глаза он заметил движение в конце первого крыла. Рейчел. Даже в темноте он не мог не узнать ее. Она выскочила из какой-то двери, и с громадным облегчением Бен позвал ее по имени. Она подняла голову, затем бросилась к нему по дорожке под навесом. Сначала он подумал, что она просто взволнована при виде его, рада, что он появился, но почти сразу осознал, что ею движет самый настоящий ужас. — Бенни, беги! — закричала она, приближаясь. — Ради всего святого, убегаем! Разумеется, он не побежал, так как возле клумб остался Уит, а бежать с ним на руках было невозможно. Поэтому Бен остался стоять на месте. Однако, когда он разглядел, что вышло из комнаты вслед за Рейчел, ему захотелось побежать, это уж точно. Все мужество на минуту оставило его, хотя из-за темноты он смог разглядеть только часть того кошмарного существа, которое преследовало Рейчел. Генетический хаос, сказал Уит. Деградирующая эволюция. Еще пару минут назад эти слова показались ему бессмысленными. Теперь, бросив взгляд на существо, в которое превратился Эрик Либен, он понял вполне достаточно. Либен был одновременно Франкенштейном и созданным им чудовищем, экспериментатором и несчастным объектом эксперимента, гением и проклятой душой. Рейчел подбежала к Бену и схватила его за руку: — Пошли, пошли скорее, торопись! — Я не могу бросить Уита, — возразил он. — Отойди. Дай мне как следует прицелиться. — Нет! Бесполезно, совершенно бесполезно. Господи, да я десять пуль в него всадила, а оно тут же поднялось. — У меня чертовски более мощное оружие, чем у тебя, — настаивал он. Чудовищная, неправдоподобная фигура бросилась к ним по дорожке почти галопом, делая длинные изящные прыжки. Впервые увидев его, Бен ожидал от чудовища неуклюжести, но оно передвигалось с удивительной и пугающей скоростью. Даже в темноте отдельные части его тела блестели — но не как хитиновое покрытие некоторых насекомых, а скорее как полированная обсидиановая броня, — тогда как другие отливали серебристой чешуей. Бен едва успел расставить ноги, заняв более твердую позицию, поднять «магнум» обеими руками и нажать курок. Раздался оглушительный грохот, из дула вылетел язычок пламени. Мерзкое существо было футах в пятнадцати от них, когда в него попала первая пуля. Оно только покачнулось, но не упало. Черт, оно даже не остановилось; слегка замедлив бег, оно все равно продолжало приближаться слишком быстро. Он выстрелил еще раз, потом еще. Чудовище взвизгнуло — такого звука Бену никогда не приходилось слышать раньше и никогда бы не хотелось слышать в будущем — и наконец остановилось. Привалилось к одному из шестов, поддерживающих навес, и уцепилось за него. Бен выстрелил снова, попав на этот раз в горло. Пуля из «магнума» оторвала существо от шеста и отбросила назад. Оно упало только после пятого выстрела, на колени. Подняло похожую на совок руку к горлу и, согнув немыслимым образом вторую, положило ее себе сзади на шею. — Еще, еще! — закричала Рейчел. Бен всадил пятую пулю в коленопреклоненное чудище, оно откинулось назад на бетон и упало на бок, где и осталось лежать молча и неподвижно. Грохот «магнума» впечатлял лишь немногим меньше, чем пушечный выстрел. В относительной тишине, последовавшей за шестым выстрелом, барабанная дробь дождя казалась шепотом. — У тебя есть еще патроны? — спросила Рейчел, все еще в состоянии панического ужаса. — Все в порядке, — неуверенно ответил Бен. — Оно мертво, мертво. — Если у тебя есть еще патроны, заряди револьвер! — закричала она. Он был поражен, поняв, что она вовсе не в истерике. Напугана, верно, чертовски напугана, но держит себя в руках. И знает, о чем говорит. Страх не лишил ее разума, и она уверена, что ему следует как можно быстрее перезарядить револьвер. Еще утром, целую вечность назад, когда они ехали к охотничьему домику Эрика на озере Эрроухед, он насовал в карманы несколько запасных патронов для револьвера и ружья. И выбросил ружейные патроны, когда оставил ружье в «Меркурии» на шоссе 1–15. Теперь, проверяя карманы, он нашел только два патрона для револьвера, хотя рассчитывал найти не меньше шести; остальные, должно быть, он выбросил второпях вместе с ружейными. Но все в порядке, все нормально, бояться нечего: существо на дорожке не шевелится, да и не должно шевелиться. — Поспеши, — поторопила его Рейчел. Руки у него тряслись. Он открыл барабан и вставил один патрон. — Бенни, — предупреждающе произнесла она. Он поднял голову и увидел, что чудовище зашевелилось. Подобрало под себя руки и пытается подняться с бетонной дорожки. — В бога душу мать! — вскричал он. Он вставил второй патрон в револьвер и защелкнул барабан. Не веря своим глазам, он увидел, что существо встало на колени и протянуло руку к шесту. Бен тщательно прицелился и нажал курок. Снова раздался оглушительный грохот. Существо дернулось, когда в него попала пуля, но продолжало крепко держаться за шест, издавая отвратительный скрежещущий звук. Оно перевело светящиеся глаза на Бена, и он разглядел в них вызов и несокрушимую ненависть. Руки у Бена тряслись так сильно, что он боялся промахнуться при следующем, и последнем, выстреле. Он никогда не был так потрясен, если не считать первого сражения во Вьетнаме. Существо уцепилось за шест и поднялось на ноги. Потеряв уверенность и все же не желая верить, что такое разрушительное оружие, как «магнум», оказалось не способным справиться с чудовищем, Бен сделал последний выстрел. И снова существо упало, но на этот раз оно оставалось неподвижным не более нескольких секунд. Оно извивалось, верещало и било ногами в агонии, и его покрытые панцирем части тела скребли и стучали по бетону. Бену хотелось бы верить, что это — предсмертная агония, но теперь он уже знал, что из обычного оружия Эрика не прикончить. Может, с помощью автомата «узи», или гранатомета, или еще чего-нибудь вроде этого, но только не из простого револьвера. Рейчел дернула его за руку, понуждая бежать, пока монстр снова не поднялся на ноги, но нельзя было забывать об Уитни Гэвисе. Возможно, они с Рейчел и могут спастись бегством, но, чтобы спасти Уитни, Бен должен остаться и сражаться, пока не погибнет либо он, либо мутант. Возможно, потому, что он снова чувствовал себя как на войне, он подумал о Вьетнаме и вспомнил об особо жестоком оружии, которое сыграло такую позорную роль в этом конфликте: о напалме. Напалм — желеобразный бензин, убивающий все, на что попадает, проедая плоть до кости и кость до мозга. Во Вьетнаме его ненавидели и боялись, потому что он нес смерть, от которой нельзя было уйти. Если бы у него было время, он смог бы приготовить в домашних условиях подходящую смесь, но у него не было времени. Разумеется, он понимал, что может найти обычный жидкий бензин. Хотя желеобразный вариант был предпочтительнее, но и обычный тоже мог оказаться достаточно эффективным. Мутант перестал скрежетать и извиваться и снова пытался встать на колени. Бен резко обернулся к Рейчел: — «Мерседес» где? — В гараже. Он взглянул в сторону улицы и увидел, что Уитни удалось заползти за угол и его не видно от мотеля. Первая заповедь во Вьетнаме была: помоги товарищу, насколько возможно, потом спасай свою задницу как можно скорее. Участники той войны запомнили ее уроки навсегда. Пока Либен уверен, что они с Рейчел находятся на территории мотеля, он вряд ли пойдет в сторону бульвара, а значит, не наткнется на беспомощного человека, прячущегося за стеной. На несколько минут, во всяком случае, Уит был в относительной безопасности. Отбросив в сторону бесполезный револьвер, Бен схватил Рейчел за руку. — Пошли! Они обежали офис и бросились к гаражу, открытая дверь которого без устали билась о стену.
Глава 36
РАЗНЫЕ ОГНИ
Уитни Гэвис, прислонившийся спиной к стене напротив бульвара Тропикана, чувствовал, как его смывает дождь. Как будто он весь сделан из глины, и дождь размывает ее. С каждой минутой он все слабел и слабел и уже не мог поднять руку, чтобы проверить, кровоточат ли еще раны на щеке и виске, не мог крикнуть, чтобы привлечь внимание водителей немногочисленных машин, мчавшихся мимо. Он видел, как Бен засадил всю обойму «магнума» в безобразное тело Либена и как мутант снова поднялся. Поскольку он ничем не мог помочь, то постарался заползти за угол, надеясь, что кто-нибудь заметит его с дороги и остановится. Его надежды простирались даже до патрульной машины с парой хорошо вооруженных полицейских, но одних надежд было явно недостаточно. Тем более что лежал он в тени, в добрых тридцати футах от дороги, и свет фар на него не падал. Водители скорее всего просто не могли его разглядеть. Уитни услышал, как у него за спиной Бен выстрелил еще дважды, как он о чем-то быстро поговорил с Рейчел и они побежали. Разумеется, Бен никогда его не бросит, значит, он что-то придумал, чем можно остановить Либена. Вот только сам Уитни чувствовал себя настолько ослабевшим, что боялся не дожить до того момента, когда выяснится, что же такое придумал Бенни. Он увидел еще одну машину на бульваре. Попробовал крикнуть, но ничего не вышло; попытался поднять свою единственную руку, чтобы привлечь внимание, но казалось, руку прибили к бедру гвоздями. Тут он заметил, что эта машина движется значительно медленнее, чем остальные, и потихоньку съезжает на обочину. По мере приближения к гостинице она замедляла ход. Санитары, подумал Уитни, и сам удивился этой мысли — ведь не во Вьетнаме же он, черт побери, а в Вегасе, здесь нет бригад для эвакуации раненых, да к тому же это машина, а не вертолет. Он потряс головой, чтобы прочистить себе мозги, и, когда снова поднял ее, машина была совсем близко. Они въедут прямо в мотель, подумал Уитни, и надо бы ему порадоваться, только сил у него совсем не осталось. И внезапно темная ночь стала еще темнее.Войдя в гараж. Бен и Рейчел сразу же заперли наружную дверь. У Рейчел не было ключей от двери на кухню, и там изнутри даже щеколды не имелось, так что пришлось оставить эту дверь открытой и надеяться, что Либен пойдет другим путем. — От двери все равно мало пользы, — сказала она. — Если будет знать, что мы здесь, его не остановишь. Бен вспомнил о шланге для полива, который остался от старых владельцев. «Материалы, инструменты, приспособления и другие полезные предметы» — так они это все называли, когда пытались поднять цену. Он нашел старый секатор, намереваясь отрезать кусок шланга, чтобы использовать его в качестве сифона, но потом увидел эластичную резиновую трубку, висящую на стенном крюке, которая подходила еще лучше. Он сдернул трубку с крючка и поспешно сунул один конец в бензиновый бак «Мерседеса». Взял второй конец в рот и сильно потянул, едва не набрав полный рот бензина. Рейчел тем временем искала в хламе посудину без дырки. Она едва успела подставить ведро под трубку, как полился бензин. — Никогда не думал, что у паров бензина такой приятный запах, — заметил Бен, наблюдая, как золотистая жидкость скапливается в ведре. — Даже это может его не остановить, — в голосе Рейчел было беспокойство. — Если мы его как следует пропитаем, огонь нанесет ему куда более серьезный вред, чем… — У тебя есть спички? — перебила она. Он моргнул. — Нет. — И у меня нет. — Черт! Она оглядела захламленный гараж, — Может, здесь где-нибудь? Он не успел ответить, потому что ручка входной двери с грохотом задергалась. Очевидно, чудовище видело, как они обогнули мотель, и нашло их по запаху — только Бог ведает, как далеко простирались его способности, а в этом случае, может, и Бог не в курсе. И вот оно здесь. — В кухне, — поспешно проговорил Бен. — Они все бросили, как было, даже из ящиков ничего не вынимали. Там могут быть спички. Рейчел кинулась в конец гаража и исчезла в квартире. Чудовище навалилось на дверь всем телом. Дверь оказалась прочнее, чем та, в спальню, которую он разнес с одного удара. Эта поддалась не сразу, но она дрожала и ходила ходуном на плохо подогнанных петлях. Мутант ударил еще раз, послышался треск ломающегося дерева, но дверь продолжала держаться. И тогда он ударил в третий раз. «Секунд Тридцать, не больше, — подумал Бен, глядя то на льющийся бензин, то на дверь. Господи, молю тебя, пусть она выдержит еще полминуты». Чудовище снова всем телом налегло на дверь. Уит Гэвис не знал, кто были эти двое мужчин. Они остановили машину и через бульвар подбежали к нему. Высокий щупал ему пульс, а маленький, похожий на мексиканца, с помощью фонарика из машины пытался разглядеть раны на его лице и виске. Их темные костюмы, намокнув под дождем, скоро стали еще темнее. Возможно, они — те самые федеральные агенты, которые гонялись за Беном и Рейчел, но в данный момент Уит согласился бы на кого угодно, ибо ничто не может быть опаснее того чудовища, которое бродит сейчас по мотелю. Против такого врага все люди должны объединиться. Даже федеральные агенты, даже агенты Бюро по оборонной безопасности будут желанными союзниками в битве. Им придется расстаться с бредовой идеей сохранить проект в тайне. Они должны понять, что исследования возможностей увеличения продолжительности жизни в этом направлении продолжать опасно. Они прекратят свои попытки заставить замолчать Рейчел и Бена и помогут остановить чудище, в которое превратился Либен, ну разумеется, именно так они и поступят. Потому Уитни рассказал им, что происходит, попросил помочь Бену и Рейчел, предупредил об опасности, которая их ожидает… — Что такое он говорит? — спросил высокий. — Никак не могу понять, — ответил маленький, хорошо одетый и похожий на мексиканца. Он перестал рассматривать раны Уитни и выудил его бумажник из кармана. Высокий осторожно потрогал левую ногу Уитни. — Тут старые дела. Он эту ногу потерял давным-давно. И руку тоже, так я думаю. Уитни понял, что говорит слишком тихо, что голос его заглушается стуком, плеском и бульканьем дождя. Он сделал еще одну попытку. — Похоже, он бредит, — проговорил высокий. «Не брежу я, черт бы вас побрал, просто ослаб», — хотел сказать Уитни. Но не сумел произнести ни слова, и это напугало его. — Это Гэвис. — Мужчина поменьше держал в руках водительское удостоверение Уитни. — Друг Шэдвея. Тот самый, о котором говорила Тедди Бертлезмен. — Он вроде совсем плох, Джулио. — Тащи его в машину и вези в больницу. — Я? — спросил высокий. — А как насчет тебя? — Я тут останусь. — Нельзя одному, — возразил высокий, и на лице его, умытом дождем, появилось беспокойное выражение. — Риз, здесь все будет нормально, — заверил тот, что поменьше. — Тут только Шэдвей и миссис Либен. Они для меня не опасны. — Чушь собачья, — не согласился второй. — Тут кто-то еще. Ведь не Шэдвей и не миссис Либен натворили все это с Гэвисом. — Либен! — удалось выговоритьУитни достаточно громко, чтобы его расслышали за шумом дождя. Оба мужчины удивленно повернулись к нему. — Эрик Либен? — спросил тот, кого звали Джулио. — Да, — выдохнул Уитни. — Генетический хаос, хаос… мутация… револьверы… револьверы… — Что такое насчет револьверов? — спросил мужчина побольше — Риз. — …не могут… остановить… его, — закончил Уитни, совсем обессилев. — Тащи его в машину, Риз, — распорядился Джулио. — Если он не попадет в больницу через десять-пятнадцать минут, ему не выкарабкаться. — Что он имел в виду, когда говорил, что револьверы не остановят Либена? — спросил Риз. — Он бредил, — объяснил Джулио. — А теперь шевелись. Нахмурившись, Риз сгреб Уитни в охапку с той же легкостью, с какой отец поднимает ребенка. Джулио, шлепая по грязным лужам, поспешил к машине и открыл заднюю дверцу. Риз осторожно усадил Уитни на сиденье и повернулся к другу: — Мне это не нравится. — Поезжай, — сказал тот. — Я поклялся, что никогда не брошу тебя и не убегу, что всегда буду рядом, когда нужен, и неважно, зачем буду нужен. — В данный момент, — резко ответил Джулио, — ты мне нужен, чтобы отвезти этого человека в больницу. — Он захлопнул заднюю дверцу. Еще через секунду Риз открыл переднюю дверцу и уселся за руль со словами: — Вернусь, как только смогу. Уитни, лежащий на заднем сиденье, бормотал: — Хаос… хаос… хаос… хаос. — Он пытался сказать многое, предупредить, но сумел выговорить лишь одно это слово. Машина тронулась с места.
Пик остановился на обочине бульвара Тропикана и выключил фары как раз в тот момент, когда Вердад и Хагерсторм остановились приблизительно в четверти мили впереди. Наклонившись вперед и вглядываясь в мутное стекло, Шарп спросил: — Похоже… они там нашли кого-то. Что это за место? — Вроде там все закрыто, какой-то заброшенный мотель, — ответил Пик. — Отсюда старую вывеску не прочитать. «Золотой»… и что-то там еще. — Что они здесь делают? — задумчиво пробормотал Шарп. «Что я здесь делаю?» — молча удивился Пик. — Может, Шэдвей и эта сучка Либен здесь прячутся? — вслух подумал Шарп. «Милостивый Боже, я надеюсь, что нет, — подумал Пик. — Хоть бы нам никогда их не найти. Надеюсь, они сейчас на пляже на Таити». — Что бы эти ублюдки там ни нашли, — сказал Шарп, — они грузят это в свою машину. Пик уже совсем расстался с надеждой стать легендой. Он уже не рассчитывал стать одним из любимых агентов Энсона Шарпа. Ему только хотелось выбраться из этой передряги живым, предотвратить по возможности убийство и не попасть в унизительное положение.
Полуразрушенная дверь в углу гаража снова треснула, на этот раз сверху донизу, косяк разлетелся в щепки, одна из петель оторвалась, и замок наконец сдался. Все это с грохотом полетело на пол, и появился Либен-чудовище, подобно ночному кошмару, неожиданно превратившемуся в реальность. Бен схватил до половины налитое ведро и кинулся к двери в кухню, стараясь не пролить на бегу ни капли драгоценной жидкости. Чудовище заметило его и испустило вопль такой безумной ненависти и ярости, что он, казалось, пробрал Бена до самых костей и заставил их вибрировать. Либен пнул попавшийся по дороге пылесос и перебрался с изяществом огромного паука через груду хлама, включая упавшие металлические полки. Вбежав в кухню, Бен услышал, что монстр гонится за ним по пятам. Оглянуться он не посмел. Половина ящиков буфета была открыта. В тот момент, когда Бен ворвался в кухню, Рейчел выдвигала еще один ящик. Закричав «Есть!», она схватила коробку спичек. — Беги! — крикнул Бен. — Наружу! Им необходимо было оторваться от чудовища, выиграть время и дистанцию, чтобы сделать то, что они задумали. Он побежал за ней в гостиную. Часть бензина выплеснулась из ведра и залила ковер и его обувь. За их спинами мутант с грохотом продирался через кухню, хлопая дверцами буфета, отбрасывая в сторону стол и стулья. Он ломал и расшвыривал мебель, даже если она и не попадалась ему на дороге, рычал и визжал, по-видимому, в очередном приступе безумной ярости, находившей выход в разрушении. Бену казалось, что все его движения замедленны, что он пытается двигаться сквозь воздух, густой, как сироп. Гостиная показалась ему длиннее футбольного поля. Наконец, добравшись до конца комнаты, он вдруг испугался, что дверь окажется запертой, что это их задержит, что у них не хватит времени, чтобы поджечь чудовище без особого риска сгореть самим. Но Рейчел распахнула дверь, и Бен едва не вскрикнул от облегчения. Они влетели в офис, пробежали через турникет у конторки дежурного, через маленький холл, распахнули еще одну стеклянную дверь и выбежали в ночь, едва не столкнувшись с детективом Вердадом, которого они в последний раз видели в понедельник вечером в морге Санта-Аны. — Какого черта? — спросил Вердад, услышав вопли чудовища в офисе мотеля за их спинами. Бен разглядел, что промокший до нитки полицейский держит в руке револьвер. — Отойдите, — велел он, — и стреляйте, как только он покажется в дверях. Убить вы его не убьете, но, может, хоть слегка задержите.
Ему хотелось добраться до самки, хотелось крови, его переполняли холодная ярость и горячее сексуальное желание. Его не остановить ни пулей, ни дверьми, ничем, пока он не схватит самку и не погрузит в нее свой пульсирующий член, пока не убьет их обоих и не наестся вволю. Он выест их нежные, сладкие глаза, зароет свое рыло в их разорванные, истекающие кровью горла, досыта нажрется их бьющимися сердцами, разорвет их теплые тела в поисках жирной печени и почек. Он чувствовал все возрастающий голод, огни перемен требовали новой пищи. Пока он еще мог терпеть, но скоро голод усилится, как уже было раньше, перейдет в тот жуткий, ненасытный, который нельзя не утолить: ему нужно мясо! И он толкнул стеклянную дверь и выбежал в ночь, в ветер и дождь, но тут был еще самец, поменьше ростом, из чего-то в его руке вылетело пламя, и короткая резкая боль пронзила грудь, снова сверкнуло пламя, и снова боль, и он зарычал, яростно бросая вызов своему жалкому противнику…
Только сегодняшним утром, в библиотеке, готовясь к неофициальному расследованию, на которое они с Ризом решились, Джулио прочел несколько журнальных статей, написанных Эриком Либеном насчет генной инженерии и перспектив продления жизни с помощью различных генных манипуляций. Позднее он разговаривал с доктором Истоном Золбергом в университете, много думал на эту тему и совсем недавно услышал слова Уитни Гэвиса о генетическом хаосе и мутации. Он не был дураком и, когда разглядел кошмарное существо, выскочившее вслед за Шэдвеем и Рейчел Либен из мотеля, сразу сообразил, что у Эрика Либена произошла какая-то ужасная накладка с экспериментом и что этот монстр и есть ученый собственной персоной. Когда Джулио без колебаний начал стрелять, миссис Либен и Шэдвей, который, судя по запаху, нес ведро с бензином, выбежали из-под навеса в маленький дворик. Первые два выстрела не свалили мутанта, хотя он на секунду приостановился, вроде бы удивленный внезапным и неожиданным появлением Джулио. К своему великому изумлению, Джулио понял, что, возможно, револьвера тут маловато. Шипя, мерзкое создание кинулось вперед и, замахнувшись рукой с многочисленными суставами, явно собралось снести ему голову с плеч. Джулио уклонился от удара, почувствовал, как страшная рука скользнула по волосам. Он снова выстрелил в грудь чудовища, покрытую колючками и странной формы шишками. Если оно попытается еще раз схватить его, то проткнет своими шипами — эта мысль заставила Джулио снова и снова нажимать на курок. Последние три выстрела наконец отбросили чудовище к стене около двери в офис, где оно осталось стоять, хватаясь за воздух когтистыми руками. Джулио сделал последний, шестой выстрел, и снова попал, но оно продолжало стоять. Несколько ошеломленное и, возможно, испытывающее боль, оно все равно держалось на ногах. В карманах Джулио всегда лежали запасные патроны, хотя за все годы работы в полиции ему ни разу не пришлось ими воспользоваться. Сейчас же он принялся торопливо рыться в карманах. Существо оттолкнулось от стены, по-видимому оправившись от всех всаженных в него шести пуль. И испустило такой дикий и яростный вопль, что Джулио мгновенно отпрянул и кинулся во двор, где у дальнего края бассейна стояли Шэдвей и миссис Либен.
Пик надеялся, что Шарп пошлет его вслед за Хагерстормом и неизвестным, которого полицейский посадил на заднее сиденье автомобиля. Тогда, если и начнется стрельба в этом заброшенном мотеле, ответственность за нее будет полностью нести Шарп. Но Шарп распорядился иначе: — Пусть Хагерсторм едет. Такое впечатление, что он повез этого парня к врачу. И кроме того, в этой компании мозги у Вердада. Если он здесь остался, значит, главные события тут, значит, именно здесь мы и найдем Шэдвея и бабу. Когда лейтенант Вердад направился к освещенному офису мотеля, Шарп велел Пику подъехать и поставить машину напротив входа. Не успели они снова остановиться на обочине перед покосившейся вывеской «Гостиница «Золотой песок», как услышали первые выстрелы. «Ох, черт бы все побрал», — с тоской подумал Пик.
Лейтенант Вердад встал с одной стороны Бена, поспешно перезаряжая свой револьвер. С другой стороны стояла Рейчел, держа наготове спичку и спичечную коробку. Она прикрывала их ладонями от льющего без устали дождя и в душе проклинала и этот дождь, и ветер, которые могут мгновенно загасить пламя. От мотеля, освещенное сзади светом из окон, к ним быстро приближалось чудовище, делая длинные, по-своему изящные прыжки, которых трудно было от него ожидать, учитывая его габариты и неуклюжую на первый взгляд внешность. Оно издавало непрерывный пронзительный крик. Ясно, что страх ему был неведом. Рейчел боялась, что это отсутствие страха оправданно и что огонь принесет ему не больше вреда, чем пули. Оно мчалось сейчас вдоль длинной, сорокафутовой, стороны бассейна и пробежало уже примерно половину. Когда оно достигнет поворота, расстояние между ними будет всего пятнадцать футов. Лейтенант еще не кончил заряжать револьвер, но защелкнул барабан, решив скорее всего, что у него нет времени на оставшиеся два патрона. Чудовище добежало до угла бассейна. Бен схватил ведро с бензином обеими руками, одной за край, другой за дно. Он отвел руки назад, затем сделал резкий бросок и вылил содержимое на лицо и грудь мутанта, пока тот прыжками приближался к ним.
Пик бегом последовал за Шарпом мимо офиса во двор как раз вовремя, чтобы увидеть, как Шэдвей выплеснул целое ведро какой-то жидкости в лицо… Что это! Милостивый Боже, да что же это такое?! Шарп тоже остановился в изумлении. Существо в ярости завизжало и попятилось назад от Шэдвея. Оно утерло свое чудовищное лицо — Пик разглядел только глаза, горящие, как пара раскаленных углей, — и стало хватать себя за грудь, стараясь стряхнуть то, что Шэдвей на него вылил. — Либен, — сказал Шарп. — Твою мать, ведь это, наверное, Либен. Джерри Пик мгновенно все понял, хотя и не хотел понимать, не хотел знать, потому что знать эту тайну было опасно не только для его физического, но и психического благополучия.
От бензина существо временно задохнулось и ослепло, но Рейчел знала, что оно оправится быстро, еще быстрее, чем от выстрелов. Поэтому, не успел Бен отбросить ведро, она чиркнула спичкой и сразу поняла, что ей следовало сделать факел или что-то такое, что можно было зажечь и бросить в чудовище. Теперь ей ничего не оставалось, как с коротенькой спичкой подойти поближе. Существо перестало визжать и под действием бензиновых паров согнулось, шумно хрипя и хватая ртом воздух. Рейчел успела сделать только три шага, как ветер, или дождь, или то и другое вместе загасили спичку. Издавая против своей воли странные мяукающие звуки, она открыла коробку, достала другую спичку и зажгла ее. На этот раз ей удалось сделать лишь шаг, прежде чем она погасла. Кошмарный мутант, похоже, начал дышать легче и выпрямился, подняв свою чудовищную голову. «Дождь, — с отчаянием подумала Рейчел, — дождь смывает с него бензин». Когда она дрожащими руками доставала третью спичку, Бен сказал: — Вот! — и поставил у ее ног ведро. Она сразу поняла. Чиркнула третьей спичкой по коробке, но не смогла зажечь ее. Чудовище уже отдышалось и снова завизжало. Рейчел еще раз чиркнула спичкой и вскрикнула от радости, когда та зажглась. В ту же секунду она бросила горящую спичку в ведро, и остатки бензина в нем мгновенно вспыхнули. Лейтенант Вердад, дожидавшийся своей очереди, выступил вперед и пинком отбросил ведро прямо на то, что когда-то было Эриком. Горящее ведро ударило по бедрам чудовища, одетым в джинсы, куда тоже попала часть бензина. Пламя выпрыгнуло из ведра, помчалось по покрытой шипами груди мутанта и быстро охватило его уродливую голову. Но и огонь не остановил его. Завопив от боли, превратившееся в столб огня существо двинулось вперед куда быстрее, чем Рейчел полагала возможным. В красно-оранжевом свете танцующего пламени она видела его протянутые руки и на ладонях — то, что казалось ртами, и тут оно дотронулось до нее. Рейчел едва не умерла сразу от ужаса. Она предпочла бы ад этому прикосновению. Существо схватило ее одной рукой за шею, и она почувствовала, как эти отверстия на ладонях впиваются в ее плоть, ощутила рядом огонь, разглядела шипы на его огромной груди, на которые он легко и быстро может ее нанизать, — множество вариантов умереть. Оно подняло ее, и она поняла, что смерть рядом, но тут появился Вердад и открыл пальбу из револьвера, всадив две пули в голову чудовища. Не успел он выстрелить в третий раз, как Бен в каком-то сумасшедшем прыжке на манер карате, взлетел над ними и обеими ногами ударил чудовище в плечо. Рейчел, почувствовав, что оно отпустило ее руку, принялась извиваться и бить ногами в горящую грудки неожиданно ощутила, что свободна, а чудовище свалилось в пустой бассейн. Она упала на бетонную кромку: свободна, свободна, вот только туфли горели. Нанеся удар, Бен сам упал влево, ударился о бетонную кромку, но сразу вскочил, успев увидеть, как чудовище падает в бассейн с той стороны, где мелко. Он также заметил, что туфли Рейчел горят, рванулся к ней, упал на нее и загасил огонь. На мгновение она судорожно прижалась к нему, он тоже сжал ее в объятиях, так же нуждаясь в поддержке, как и она. Бен грудью чувствовал, как бьется ее сердце, и не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь испытывал еще такое блаженное чувство. — Как ты? — Ничего, — ответила она дрожащим голосом. Он снова сжал ее в объятиях, потом быстро осмотрел. На руке и шее виднелись кровоточащие круглые пятна там, где присосались рты, появившиеся на руках мутанта, но раны не выглядели слишком опасными. Существо в бассейне кричало так, как никогда не кричало раньше, и Бен подумал, что оно бьется в предсмертной агонии, хотя поручиться за это не мог. Они вместе, обнявшись, подошли к краю бассейна, где уже стоял лейтенант Вердад. Чудовище горело, словно свечка. Спотыкаясь, оно направлялось вниз по покатому дну бассейна, пытаясь добраться до скопившейся на дне дождевой воды. Но ливень ничуть не сбивал пламя, и Бен подозревал, что и лужа внизу тоже не поможет. Огонь был таким сильным, как будто питался не только бензином, а чем-то еще, что вырабатывало тело мутанта. На полдороге существо упало на колени, хватаясь когтистыми руками за воздух, а потом — за бетонное дно бассейна. Извиваясь, оно с трудом поползло на животе в надежде достигнуть спасения.
В воде, под прохладной поверхностью, горели призрачные огни. Его тянуло к ним не за тем, чтобы просто загасить огонь, съедающий его тело, но чтобы выпустить наружу тот огонь, что жег его изнутри. Непереносимая боль жертвоприношения вызвала к жизни то, что осталось от человеческого сознания, вывела его из транса, в который он погрузился, когда возобладала первобытная, дикая его часть. На какое-то мгновение он вспомнил, кто он, чем он стал и что с ним происходит. Но он также знал, что все это временно, что сознание исчезнет, что та маленькая сохранившаяся доля его интеллекта навсегда будет уничтожена в процессе роста и изменений и что единственное спасение для него — смерть. Смерть. Он так старался избежать смерти, так рисковал, чтобы спасти себя от могилы, но теперь он приветствовал Харона. Заживо съедаемый пламенем, он полз и полз вниз к призрачным огням под водой, странным огням, горящим на далеком берегу. Он перестал кричать. Он уже миновал границу страха и боли, его охватили великий покой и одиночество. Он знал, что горящий бензин не убьет его, во всяком случае, один бензин. Огонь перемен внутри был страшнее внешнего огня. Этот внутренний огонь разгорался все жарче и жарче, горел в каждой клетке, бушевал в нем, и он испытывал болезненный голод, в тысячи раз сильнее и мучительнее всего, что он знал раньше. Ему настоятельно требовалось топливо — углеводы, белки, витамины и минеральные соли — для поддержания вышедшего из-под контроля метаболизма. Но, поскольку он был не в состоянии охотиться, чтобы убить и насытиться, он не мог снабдить свой организм необходимым топливом. Поэтому его тело принялось пожирать само себя; внутренний огонь не потух, но начал сжигать его ткани, чтобы получить огромное количество энергии, которое требовалось для изменения тех тканей, которые не пожирались огнем. С каждой секундой вес его тела убывал — не потому, что его съедал бензин, но потому, что он поедал сам себя, начав изнутри. Он чувствовал, как голова меняет форму, руки становятся короче, а в нижней части грудной клетки вырастают новые руки. Каждое изменение съедало еще часть его самого, но огонь мутации не затихал. В конце концов у него уже не осталось сил, чтобы тащить себя к призрачным огням под водой. Он остановился и замер, задыхаясь и подергиваясь. Но, к своему удивлению, он увидел, как призрачные огни поднялись из воды. Они двинулись к нему, окружили, и скоро весь его мир, внутренний и внешний, пылал ярким пламенем. В предсмертной агонии Эрик наконец понял, что таинственные призрачные огни вовсе не двери в ад и не просто бессмысленные миражи. Или, точнее, они были галлюцинациями его подсознания, призванными предупредить о страшной судьбе, ожидающей его, к которой он шел с той минуты, когда поднялся со стола в морге. Его поврежденный мозг функционировал слишком плохо, чтобы он мог осознать логику своей судьбы. Но его подсознание знало правду и пыталось предупредить его, создавая фантомные огни: огонь (говорило ему подсознание), огонь твоя судьба, ненасытный внутренний огонь метаболизма, и рано или поздно он сожжет тебя живьем. Шея стала настолько короткой, что голова практически лежала на плечах. Он почувствовал, что его позвоночник удлиняется, что у него растет хвост. Глаза ввалились, а лоб выдвинулся вперед. Он почувствовал, что у него не две ноги, а больше. Потом он вообще перестал что-то чувствовать, внутренний огонь пронесся по нему, съедая последнее, что попадалось на пути. От него остались только разноцветные язычки пламени.
Прямо у Бена на глазах, за минуту или даже быстрее, существо сгорело. В воздух взметнулось пламя, зашипело, заревело и не оставило после себя ничего, кроме маленькой, булькающей, грязной лужи и нескольких язычков пламени в глубине темного бассейна. Бен стоял молча, ничего не понимая, не будучи в силах говорить. Лейтенант Вердад и Рейчел, по-видимому, находились в таком же состоянии, потому что оба молчали. Молчание нарушил Энсон Шарп. Он медленно огибал угол бассейна. В руке он держал пистолет и, похоже, готов был пустить его в дело. — Какого дьявола, что с ним случилось? Бен вздрогнул, потому что еще не успел заметить агентов Бюро, посмотрел на своего старого врага и сказал: — То же, что случится и с тобой, Шарп. Он сделал с собой то, что рано или поздно сделаешь ты, только по-своему. — Что ты такое несешь? — возмутился Шарп. Обнимая Рейчел и стараясь загородить ее собой. Бен ответил: — Ему не нравился тот мир, в котором он родился, и он принялся менять его в соответствии со своими желаниями. Но вместо того чтобы сотворить себе рай, он сотворил ад. То же со временем сделаешь и ты. — Дерьмо, — процедил Энсон Шарп. — Не на того напал, Шэдвей. Не на того. — Повернувшись к Джулио, он приказал: — Лейтенант, пожалуйста, спрячьте свой револьвер. — Что? — удивился Вердад. — О чем вы говорите? Я… Шарп выстрелил в Вердада, который от прямого попадания слетел с бетонной кромки и упал в грязь.
Джерри Пик, страстный любитель детективов, мечтающий о легендарной карьере, имел склонность думать чрезвычайно высоким стилем. Наблюдая, как сгорает без следа в пустом бассейне чудовищно изуродованное тело Эрика Либена, он чувствовал ужас и отвращение, но он также обрел несвойственную ему до того способность быстро соображать. Прежде всего он мысленно перечислил черты, общие для Эрика Либена и Энсона Шарпа: оба любили власть, наслаждались ею: оба были хладнокровны и способны на все; оба были извращенцами, любителями молоденьких девочек… Потом Джерри услышал, как Шэдвей говорит, что человек способен сотворить себе ад на земле, и задумался. Взглянул на дымящиеся останки мутанта Либена, и ему показалось, что он тоже стоит на перепутье между своим земным раем и адом: он может содействовать Шарпу, позволить ему совершить убийство и впредь жить с сознанием своей вины, быть проклятым в этой жизни и в следующей; или может отказаться ему повиноваться, сохранить себя как личность и чувствовать, что поступил правильно вне зависимости от того, что будет с его карьерой. Выбрать должен он сам. Кем он хочет стать — существом из бассейна или человеком? Шарп приказал лейтенанту Вердаду опустить оружие, Вердад стал возражать, и Шарп выстрелил в него без всякого колебания. Поэтому Джерри Пик вытащил свой собственный пистолет и выстрелил в Шарпа, попав заместителю директора в плечо. Шарп, вероятно, предчувствовал возможную измену, потому что он начал поворачиваться к Джерри еще за долю секунды до выстрела. Он тоже нажал курок, одновременно со вторым выстрелом Джерри, и попал ему в ногу. Падая, Джерри с огромным удовольствием увидел, как голова Энсона Шарпа разлетелась на куски.
Рейчел сняла пиджак и рубашку с лейтенанта Вердада и осмотрела раненое плечо. — Выживу, — сказал он. — Чертовски больно, но выживу. Вдалеке послышалось похоронное завывание сирен, которое быстро приближалось. — Это Риз побеспокоился, — догадался Вердад. — Отвез Гэвиса в больницу и связался с местными полицейскими. — Тут даже не очень кровоточит, — обрадовалась Рейчел. — А я что говорил? — заметил Вердад. — Не имею права помереть. Собираюсь еще побывать на свадьбе моего напарника и розовой леди. — Он рассмеялся, заметив ее недоумение. — Не волнуйтесь, миссис Либен. У меня еще все дома.
Пик лежал на спине на бетонном бортике бассейна. Оторвав широкую полосу от собственной рубашки, Бен, как мог, наложил жгут на его раненую ногу. Единственное, чем он мог воспользоваться, чтобы потуже затянуть жгут, было дуло брошенного Энсоном Шарпом пистолета с глушителем, вполне подходящее для этой цели. — Честно, я не думаю, что жгут так уж обязателен, — сказал он Пику, прислушиваясь к упорно приближающемуся завыванию сирен, теперь даже заглушающему непрерывный стук дождя, — но лучше подстраховаться, чтобы потом не жалеть. Крови много, но сильно нигде не бьет, так что артерии скорее всего целы. Наверное, ужасно больно? — Странно, — заметил Пик, — но вовсе не очень и больно. — Шок, — забеспокоился Бен. — Да нет, — Пик покачал головой. — Не думаю, что впаду в шок. Никаких симптомов, я ведь знаю, как это бывает. Угадайте, что я по этому поводу думаю? — Что? — То, что я совершил — пристрелил своего босса, который совсем рехнулся, — сделает меня в Бюро легендарным. Черт бы меня побрал, именно так и будет. Я и не представлял себе, что так может быть, пока не пристрелил его. Так что, наверное, человек-легенда не так чувствует боль, как другие люди. — Он улыбнулся Бену. Бен нахмурился в ответ на улыбку. — Расслабьтесь. Просто попытайтесь расслабиться… Джерри Пик засмеялся: — Да я вовсе не брежу, мистер Шэдвей. Правда-правда. Разве вы не видите? Я теперь не только стал легендой, я могу и подшучивать над собой! Так что, возможно, во мне действительно есть все необходимое для человека-легенды. Понимаете, я хочу сказать, что, может, я и завоюю себе хорошую репутацию, и это не вскружит мне голову. Разве не приятно узнать такое о себе? — Приятно, — согласился Бен. Ночь наполнилась воем сирен, затем скрежетом тормозов. Потом сирены смолкли и послышались шаги бегущих по дорожке мотеля людей.
Скоро начнут задавать вопросы, тысячи вопросов. Полицейские из Лас-Вегаса, Палм-Спрингс, Санта-Аны, Пласеншии и из других мест. За этой пыткой последуют вопросы журналистов. (Что вы чувствуете, миссис Либен? Пожалуйста! Что вы чувствуете, когда муж стал убийцей и вы сами едва не погибли от его рук? Что вы чувствуете!) Они будут еще назойливее, чем полицейские, и значительно менее корректны. Но сейчас, когда Джерри Пика и Вердада увезли в больницу, а около трупа Шарпа стоял полицейский в форме, следя за тем, чтобы никто ничего не трогал до приезда следователя, Рейчел и Бен на несколько минут остались одни. Детектив Хагерсторм, доложив, что Уитни Гэвис живым добрался до больницы и выкарабкается, сел в санитарную машину вместе с Джулио Вердадом. Так что Рейчел и Бен получили несколько благословенных минут наедине. Обнявшись, они стояли на кромке бассейна и поначалу молчали. Потом, сообразив, что пройдет много часов, прежде чем они снова останутся одни, заговорили одновременно. — Сначала ты. — Он слегка отодвинул ее от себя и взглянул в глаза. — Нет, ты. Ты что хотел сказать? — Я тут подумал… — Что? — …не забыла ли ты. — А, — протянула она, сразу поняв, что он имеет в виду. — Когда мы останавливались по дороге в Палм-Спрингс, — напомнил он. — Я помню, — сказала она. — Я сделал тебе предложение. — Да. — Пожениться. — Да. — Я никогда раньше этого не делал. — Я рада. — Не слишком было все романтично, верно? — У тебя неплохо получилось. Предложение еще действительно? — Да. И все еще привлекательно? — Необыкновенно привлекательно. Он снова прижал ее к себе. Она обняла его за талию и почувствовала себя в безопасности. Неожиданно по телу ее пробежала дрожь. — Все в порядке, — шепнул он. — Все позади. — Да, все позади, — согласилась она, положив голову ему на грудь. — Мы вернемся в округ Ориндж, где всегда лето, поженимся, и я стану вместе с тобой коллекционировать модели поездов. Знаешь, я думаю, что смогу этим увлечься. Мы будем слушать старую музыку, смотреть старые фильмы по видео и вместе сделаем свою жизнь счастливой, верно? — Мы будем счастливы, — согласился он. — Только не таким путем. Мы не станем прятаться от всего белого света. Вместе нам нет нужды прятаться. Вместе мы сильные, как ты думаешь? — Я не думаю, — ответила она, — я знаю. Дождь уже лишь слегка моросил. Буря ушла на восток, и безумные завывания ветра на время смолкли.
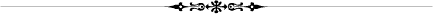
СУМЕРЕЧНЫЙ ВЗГЛЯД (роман)
Мне пришло в голову, что некоторые из подмастерьев природы сделали человека, и сделали его плохо, потому что они с таким отвращением имитировали человечность.Шекспир
Надежда — это колонна, на которой держится мир. Надежда — сон человека, который вот-вот проснется.Плиний Старший
Я — на стороне того нераскаявшегося грешника, который провозглашает ценность жизни самой по себе.Оливер Венделл Холмс-младший
Рожденное однажды, зло не исчезает само по себе. Веками оно способно терпеливо копить силы, чтобы в удобный момент вырваться на свободу и начать свою кровавую жатву. И кажется, ничто в мире не способно противостоять ему. Но, к счастью, это не так. Ведь не зря семнадцатилетний юноша Слим Маккензи наделен необычным даром — Сумеречным Взглядом — особым зрением, позволяющим ему разглядеть под человеческим обличьем воплощение сил зла. Станет ли Слим мессией, который спасет человечество от нависшей угрозы?
Часть I. СУМЕРЕЧНЫЙ ВЗГЛЯД
...тихая скорбная музыка человечности.Уильям Вордсворт
Глава 1
ЯРМАРКА
Это был год, когда они убили в Далласе нашего президента. Это был конец невинности. Исчез определенный жизненный уклад и образ мысли, и многие, впав в уныние, говорили, что умерла и надежда. Но хотя осенью облетающие листья обнажают ветви, как кости скелета, весна вновь наряжает деревья; умирает любимая бабушка, но, возмещая эту утрату, в мир входит ее внук, любознательный и полный сил; когда заканчивается один день, начинается другой, потому что в этой бесконечной вселенной ничто не имеет конца, в том числе и надежда. Из пепла прошедшей эпохи рождается новая эпоха, ее рождение и есть надежда. Следующий после убийства президента год принесет нам «Битлз», новые течения в современном искусстве, что заставит нас по-иному взглянуть на окружающий мир, и освежающее недоверие к правительству. А то, что он принесет также ростки войны, должно стать нам уроком, показав, что страх, боль и безысходность, как и надежда, — наши постоянные спутники в этой жизни, а такой урок всегда на пользу. Я появился на ярмарке, когда шел шестой месяц моего семнадцатого года, в четверг, в самый темный час августовской ночи, больше чем за три месяца до той смерти в Далласе. То, что случилось в течение следующей недели, изменило мою жизнь так же резко, как убийство президента изменило будущее целой нации, хотя, когда я прибыл, перегороженный темный проезд ярмарки казался не лучшим залом ожидания судьбы. В четыре утра ярмарочная площадь округа была закрыта уже в течение четырех часов. Балаганщики отключили чертово колесо, «бомбардировщик», карусель «с сюрпризом» и остальные карусели, закрыли все аттракционы и игровые площадки, потушили огни, вырубили музыку — «свернули» волшебство. Убрав все, они отправились в свои трейлеры, припаркованные на лугу, недалеко от дороги. И теперь татуированный человек, лилипуты и карлики, зазывалы, женщины из шоу, торговцы, распорядители аттракционов, мужчина, кормившийся изготовлением сахарной ваты, женщина, что вымачивает яблоки в карамели, бородатая женщина, мужчина с тремя глазами и все прочие спали, боролись с бессонницей, занимались любовью как заурядные обыватели, которыми они и были в этом мире. Ущербная луна скользила к краю небосвода, но была еще достаточно высоко, чтобы озарять все бледным, по-зимнему холодным светом, казавшимся таким неуместным в теплоте и кладбищенской сырости августовской ночи в Пенсильвании. Бредя через автостоянку и осматриваясь вокруг, я заметил, как странно белеют мои руки в этом морозном свечении — точно руки мертвеца или призрака. В этот момент я в первый раз ощутил скрытое присутствие Смерти среди каруселей и аттракционов и подумал, что на ярмарке будут убийство и кровь. Над моей головой, в сыром воздухе слабо трепетали ряды пластиковых вымпелов. На солнце или в ослепительном свете десяти тысяч ярмарочных лампочек это были яркие треугольники, но сейчас они казались бесцветными силуэтами спящих летучих мышей, висящих над площадкой, посыпанной опилками. Я прошел мимо неподвижной карусели — кавалькада лошадей застыла в полугалопе. Черные жеребцы, белые кобылы, пегие мустанги устремились вперед, но не двигались с мест, точно река времени обтекала их. Блики лунного света лежали на медных шестах, к которым были прикреплены лошади, и казались брызгами металлической краски, но при этом жутковатом свете сами шесты отливали холодным серебром. Когда я приехал, ворота были закрыты, и мне пришлось перелезать через высокую ограду, окружавшую ярмарочную площадь. Теперь мне было как-то неловко, я чувствовал себя вором, забравшимся в поисках поживы. Странно, потому что вором я никогда не был и не затевал ничего плохого против кого бы то ни было на этой ярмарке. Правда, я был убийцей, которого разыскивала полиция Орегона, но не чувствовал на себе греха за кровь, пролитую на другом конце континента. Я убил моего дядю Дентона — зарубил топором, потому что не смог бы разделаться с ним голыми руками. Ни угрызения совести, ни чувство вины не терзали меня, потому что дядя Дентон был одним из них. Однако полиция охотилась за мной, и я не был уверен, что бегство за три тысячи километров давало гарантию безопасности. Я больше не называл себя своим настоящим именем — Карл Станфеусс. Сначала я стал Дэном Джонсом, потом Джо Дэнном, потом Гарри Мерфи. Теперь я был Слим Маккензи и рассчитывал пробыть им еще некоторое время — имя мне нравилось: Слим Маккензи. Так мог бы зваться лучший друг Джона Уэйна в каком-нибудь вестерне. Я отпустил волосы, но сохранил их природный цвет — я был шатен. Больше я ничего не мог сделать для изменения внешности; оставалось надеяться, что я пробуду на свободе достаточно долго, чтобы время сделало из меня другого человека. Чего я ждал от ярмарки? Убежища, анонимности, сытной еды три раза в день, места для сна, карманных денег — все это я был намерен заработать. Хоть я и был убийцей, я был самым безобидным головорезом, когда-либо приезжавшим с Запада. И все же в ту первую ночь я чувствовал себя вором и все ждал, что кто-то поднимет тревогу и кинется ко мне через путаницу каруселей, лотков для гамбургеров и палаток с сахарной ватой. Охрана, видимо, объезжала ярмарку, но, подойдя к воротам, я никого не увидел. Прислушиваясь к шуму их машины, я продолжал свой путь по центральной аллее ярмарки братьев Сомбра — второй по величине разъездной ярмарки в стране. Наконец я остановился возле гигантского чертова колеса. Темнота жутким образом преобразила его — в этот мертвый час, при свете луны, колесо казалось не увеселительной машиной, а скелетом гигантского доисторического чудовища. Балки, брусы, перекрытия из дерева и металла были точно кости с наростами кальция и других минералов, жалкие останки разложившегося левиафана, размываемые волнами древнего моря на пустынном пляже. Стоя в причудливой лунной тени, отбрасываемой этим воображаемым ископаемым, и глядя на неподвижно висящие двухместные кабинки, я вдруг почувствовал, что это колесо сыграет самую важную роль в моей жизни. Я не знал как, когда, но твердо знал, что здесь произойдет что-то важное и ужасное. Я знал. Верные предчувствия — часть моего дара. Не самая важная часть. Не самая полезная, поразительная или ужасная. У меня есть и другие таланты, которыми я пользуюсь, но сути которых не понимаю. Эти способности и определили мою жизнь, но я не могу контролировать их или применять, когда захочу. У меня Сумеречный Взгляд. Глядя на чертово колесо, я не мог разглядеть всех деталей грядущего страшного события, но меня окатила волна дурных предчувствий — предчувствий страха, боли и смерти. Я пошатнулся, чуть не упав на колени. Дыхание перехватило, сердце отчаянно забилось, мошонка напряглась — на какой-то миг мне показалось, что в меня ударила молния. Наконец шквал улегся, последние потоки психической энергии прошли через меня, и не осталось ничего, кроме слабых, едва уловимых колебаний, исходящих от колеса. Лишь немногие, вроде меня, смогли бы различить это зловещее излучение гибельной энергии, скрытой внутри него. Так сумрачное небо разливает в воздухе тревожное предчувствие грозы задолго до первого разряда молнии и удара грома. Вскоре дыхание восстановилось, сердце успокоилось. Из-за жаркой, душной августовской ночи у меня появилась липкая испарина еще до того, как я ступил в аллею, но сейчас я весь обливался потом. Сняв футболку, я вытер ею лицо. Отчасти в надежде, что удастся как-то прояснить туманные предчувствия опасности и разглядеть грядущее зло, отчасти потому, что твердо решил не дать ауре зла, окружавшей машину, запугать себя, я сбросил рюкзак, раскатал спальный мешок и собрался провести остаток ночи прямо здесь, под призрачным одеялом из лоскутов пурпурно-черных тканей и пепельно-серого лунного света, возле смутных очертаний чертова колеса. Воздух был таким тяжелым и горячим, что я просто подложил мешок как матрац. Лежа на спине, я всматривался то в высоченную карусель, то в звезды над ней. Как я ни пытался, я не мог увидеть будущего. Небо было настолько усыпано звездами, что это заставило меня задуматься о необъятности космоса, и от этой мысли я ощутил себя еще более одиноким, чем раньше. Не прошло и четверти часа, как я начал засыпать, и, когда мои глаза уже были готовы сомкнуться, я услышал какие-то звуки на пустынной аллее, невдалеке от меня. Это было четкое потрескивание, точно кто-то наступал на смятые конфетные обертки. Я поднялся и прислушался. Потрескивание прекратилось, но тут же послышались тяжелые шаги по утрамбованной земле. Через секунду из-за тента, под которым был один из аттракционов, появилась неясная широкоплечая фигура, торопливо пересекла площадь, нырнула в темноту у дальнего края чертова колеса, всего лишь футах в двадцати от меня, вновь появилась в лунном свете возле «гусеницы». Это был мужчина — крупный, если, конечно, развевающийся плащ тени не исказил его формы, обманчиво увеличив их. Он спешил и не заметил меня. Так как я видел его всего несколько секунд, я даже не успел рассмотреть его лица, но и этих мгновений было достаточно, чтобы я оказался стоящим на коленях, трясущимся от холода в августовскую жару, и волна страха прокатилась по моему позвоночнику. Это был один из них. Я вытащил из башмака спрятанный там нож и вынул лезвие. Блики лунного света заиграли на стали. Я заколебался. Я велел себе собираться и сматываться отсюда, поискать убежище в другом месте. Но я так устал убегать, и мне необходимо было место, которое я мог бы назвать домом. Я устал — слишком много дорог, слишком много городов, слишком много чужаков, слишком большие перемены. За последние несколько месяцев я сменил с полдюжины бродячих трупп и шапито — самое дно ярмарочного мира, и я слышал, как здорово, когда тебе удается устроиться в компанию типа «И. Джеймс Стрейтс», «Братья Вивона», «Ройал Америкэн» или «Шоу братьев Сомбра». И теперь, после того как я прошел по этой темной аллее, подавленный и психически и физически, я уже не хотел никуда убегать. Несмотря на дурную ауру, окружающую чертово колесо, невзирая на предчувствия, что в последующие дни совершится убийство и прольется кровь, ярмарка Сомбра вызывала во мне и другие, хорошие ощущения. Я чувствовал, что могу найти здесь свое счастье. Острое желание остаться, охватившее меня, преобладало над всем, что я когда-либо испытывал. Мне нужен был дом и друзья. Мне было только семнадцать. Но если я остаюсь, он должен умереть. Вряд ли бы я смог жить на ярмарке, зная, что один из них находится здесь же. Я прижал нож к себе. Я последовал за ним — мимо «гусеницы», обходя сзади карусель, переступая через толстые силовые кабели, избегая пятен света, которые могли выдать меня ему, как выдали его мне. Мы двигались в темный, спокойный центр ярмарки.Глава 2
ГОБЛИН
Он пришел не с добром, но таково все их племя. Он торопливо пробирался по архипелагу ночи, не задерживаясь на островках лунного света, предпочитая глубины темноты; останавливаясь, только чтобы осмотреться, но то и дело оглядываясь назад, он ни разу не заметил и не почувствовал меня. Я бесшумно следовал за ним — не по одному из параллельных проходов, а через карусели, задами мимо игровых стендов и будок для прохладительных напитков, мимо «кнута» между «тип-топом» и «ураганом», наблюдая за ним из-за укрытий — бензиновых генераторов, бездействующих в этот час, грузовиков и прочего добра, разбросанного тут и там. Его целью оказался открытый павильон электромобилей. Там он в последний раз огляделся вокруг, поднялся по ступенькам, повозился у входа и, шагнув внутрь павильона, стал пробираться между автомобильчиками, в беспорядке покинутыми последними пассажирами, к дальнему концу деревянного помоста. Я мог бы укрыться в тени и понаблюдать за ним, пока не пойму, что ему надо. Это было бы самое умное, потому что в те дни я знал о противнике куда меньше, чем сейчас, и при моих скудных знаниях даже самый малый пустяк мог быть мне полезен. Но мою ненависть к гоблинам — другого названия для них я не знал — превозмогал только страх, и я боялся, что чем дольше буду оттягивать схватку, тем меньше у меня останется мужества. Совершенно бесшумно — это не был особый дар, просто сказывались мои семнадцать лет, гибкость и превосходная физическая форма — я достиг павильона и последовал внутрь вслед за гоблином. Двухместные машинки были совсем маленькими, чуть выше моих коленей. От задней части каждой из них поднимался шест, соединявшийся с сетью электрокабелей под потолком, откуда машины получали энергию, достаточную, чтобы водитель мог бешено врезаться в машины таких же бешеных водителей. Когда аллею заполняли простаки[108], этот павильон был одним из самых шумных мест на ярмарке, вопли и боевые кличи сотрясали воздух. Но сейчас здесь царила та же сверхъестественная тишина, что и на карусели с окаменевшими лошадьми. Низенькие машины не могли служить укрытием, а под деревянным помостом была пустота, и каждый шаг гулко раздавался в спокойном ночном воздухе, так что подобраться незамеченным было отнюдь нелегко. Мой враг невольно помог мне — он был слишком поглощен задачей, которая привела его на ярмарку в эту лунную ночь. Вся его осторожность была истрачена на дорогу. Он стоял на коленях позади одной из машин, склонив голову над лучом света от фонарика. Когда я подкрался поближе, янтарный отсвет помог разглядеть его: это был действительно крупный экземпляр,широкоплечий и с крепкой шеей. На спине, под туго натянутой желтой в коричневую клетку рубашкой, отчетливо выделялись мышцы. Кроме фонаря, он принес с собой сверток с инструментами, который развернул и положил на пол рядом с собой. Инструменты, покоящиеся в кармашках, тускло поблескивали, когда случайный лучик отражался от их полированных поверхностей. Он работал быстро и почти без шума, но тихий скрежет металла, трущегося о металл, успешно заглушал мои быстрые шаги. Я рассчитывал подобраться к нему футов на шесть, наброситься и вонзить нож в шею, чтобы лезвие дошло до яремной вены прежде, чем он сообразит, что он не один. Он был полностью сосредоточен на работе, а я крался, как кошка — но, несмотря на это, когда я был еще футах в двенадцати-пятнадцати от него, он вдруг понял, что за ним наблюдают. Оторвавшись от своего загадочного занятия, он полуобернулся и уставился на меня снизу вверх, по-совиному широко открыв изумленные глаза. Его фонарик лежал на толстом резиновом бампере, и свет, неравномерно освещавший лицо снизу, искажал его черты. Под высокими скулами пролегли странные тени, светлые глаза казались запавшими. Без гротесковой подсветки его лицо выглядело бы жестоким — костистый лоб, брови, сросшиеся над крупным носом, выдающаяся вперед челюсть и узкая щель рта, казавшаяся еще более узкой на этом лице с крупными чертами. Я стоял так, что он не видел ножа и не понимал грозящей ему опасности. С наглостью, порожденной самодовольным чувством превосходства, отличавшим всех встреченных мною гоблинов, он попытался запугать меня. — Э, в чем дело? — резко спросил он. — Ты что здесь делаешь? Ты работаешь тут? Что-то я тебя раньше не встречал? Ты зачем пришел? Мое сердце громко стучало, я ослабел от страха. Глядя на него сверху вниз, я видел то, что было скрыто от прочих. Я видел гоблина — там внутри, подо всей маскировкой. Вот этого-то и не объяснишь — эту способность разглядеть чудовище. Не то чтобы я мог мысленным взором сорвать человеческую оболочку и открыть спрятанный под ней ужас или развеять иллюзию внешнего человеческого облика и увидеть без помех злобного колдуна, решившего, что обманул меня. Нет, я могу видеть обоих сразу, и человека, и монстра, человека поверх монстра. Я лучше объясню это на примере керамики. Однажды в галерее Кармел, в Калифорнии, мне довелось видеть вазу, покрытую потрясающе прозрачной красной глазурью. Она светилась, точно воздух, вырывающийся из какого-нибудь мощного горнила, и казалось, что под гладкой глиняной поверхностью таятся фантастические глубины, неведомые края, огромные просторы. Это очень похоже на то, что я вижу, когда смотрю на гоблина. Человеческий облик по-своему целен и реален, но через покрытие можно увидеть другую реальность. В павильоне электромобилей я смотрел на гоблина сквозь маскарадный костюм ночного механика. — Ну, что молчишь? — нетерпеливо спросил гоблин, даже не позаботившись о том, чтобы подняться. Он не боялся людей — они никогда не причиняли ему вреда. Но он не знал, что я — не обычный человек. — Ты работаешь в шоу? Работаешь на братьев Сомбра? Или ты просто глупый щенок, сующий свой нос в чужие дела? В крупном человеческом теле таилось чудовище, соединявшее в себе облик свиньи и собаки. Толстая, темная, в пятнах кожа выглядела, как старая медь, череп, как у немецкой овчарки, пасть полна страшных острых зубов и загнутых клыков, похожих не на свиные или собачьи, а скорее на зубы ящера. Рыло больше кабанье, чем собачье, с трепещущими мясистыми ноздрями. Пупырчатая желтая кожа вокруг красных, налитых злобой глаз-бусинок тупого борова темнела к краям, становясь зеленой, как крылья жука. Когда оно говорило, я видел, как в пасти извивается язык. Пятипалые руки как человеческие, но по одному лишнему суставу в пальцах, и костяшки крупнее и костистее. Что еще хуже, у него были когти — черные, изогнутые и очень острые, как заточенные. Все тело было как у собаки, эволюционировавшей до того, чтобы стоять прямо, подражая человеку. Оно было даже не лишено соразмерности, только плечи и узловатые руки казались слишком набитыми бесформенными костями, чтобы они могли двигаться. Секунду-другую я молчал — от страха и от отвращения перед кровавой задачей, вставшей передо мной. Он, как видно, принял мое колебание за стыд и смущение и собрался поорать еще, но был изумлен, когда, вместо того чтобы убежать или промямлить извинение, я кинулся на него. — Монстр. Демон. Я знаю, кто ты есть, — произнес я сквозь сжатые зубы, вонзив в него нож. Я метил в трепещущую артерию на шее, но промахнулся. Нож вошел в плечо, в мышцы и хрящи, между костей. Он тихо замычал от боли, но сдержал вой или крик. Мои слова ошеломили его. Лишние свидетели были ему нужны не больше, чем мне. Я вытащил нож, когда он упал на помост, и, воспользовавшись его шоком, ударил снова. Будь это обычный человек — страх и мое яростное нападение парализовали бы его. Но это был гоблин, и, хотя человеческая плоть сковывала его, человеческие рефлексы ему не мешали. Он среагировал нечеловечески быстро — закрылся своей мясистой рукой, поднял плечи и по-черепашьи втянул голову, чтобы уйти от удара. Лезвие полоснуло его по руке и скользнуло по черепу, содрав кусок скальпа, но не причинив особого вреда. Когда нож срезал кожу и волосы, он перешел в наступательную позицию, и я понял, что мне придется туго. Прижимая его к корпусу автомобильчика, я попытался двинуть ему коленом в пах, чтобы успеть еще раз ударить ножом. Но он заблокировал удар и ухватил меня за футболку. Поняв, что сейчас он ткнет меня в глаза, я отшатнулся, оттолкнувшись ногой от его груди. Футболка разорвалась, но я был на свободе и кубарем покатился по полу между автомобилей. Благодаря великой генетической лотереи, которая помогает богу хорошо делать свое дело, я имел не только психические способности, но и природную силу и быстроту. Не будь у меня этих даров, я вряд ли бы выжил в первой моей схватке с гоблином (моим дядей Дентоном), не говоря уже об этой кошмарной битве среди электромобилей. В пылу схватки мы сбросили фонарик с резинового бампера, он упал на пол и погас. Мы должны были драться в темноте, видя друг друга лишь в неясном бледном свете луны. Я откатился назад, встал на четвереньки, он кинулся ко мне — на черном пятне лица мерцал лишь бледный диск катаракты на одном глазу. Когда он набросился на меня, я взмахнул ножом, но он вовремя отпрянул. Лезвие промелькнуло меньше чем в четверти дюйма от его носа, и он поймал мою руку с ножом за запястье. Он был не только крупнее, но и сильнее меня и крепко держал мою правую руку у меня над головой. Замахнувшись справа, он обрушил кулак на мое горло. Этот страшный удар сломал бы мне гортань, достигни он своей цели. Но я успел нагнуть голову и увернуться, частично приняв удар на шею. Но это все равно не спасло меня. От удара у меня перехватило дыхание. Перед моими слезящимися глазами поднималась пелена более темная, чем ночь вокруг нас. Отчаяние, паника и адреналин придали мне силы. Когда он вновь приготовился ударить, я не стал отбиваться. Я обхватил его руками и прижался к нему, чтобы он не смог ударить меня со всей своей силой. Сорвав его контратаку, я обрел надежду и восстановил дыхание. Мы топтались на помосте, извиваясь, тяжело дыша. Он по-прежнему сжимал за запястье мою правую руку, поднятую над головой. Мы, должно быть, выглядели, как пара неуклюжих апашей-танцоров — не хватало музыки. Возле деревянных перил, окружавших павильон, там, где пепельный свет луны был ярче всего, я с неожиданной пугающей ясностью заглянул под человеческий покров — не из-за луны, а потому что моя психическая сила на миг возросла. Его ложные черты почти исчезли, превратившись в едва заметные линии и поверхности стеклянной маски. Под этим прозрачным одеянием виднелись адские детали, тошнотворные черты помеси пса и свиньи — более живые и настоящие, чем я видел или желал увидеть раньше. Длинный, раздвоенный, как у змеи, язык, весь в пупырышках и наростах, высовывался из-за неровных зубов. Между верхней губой и рылом было что-то, что я принял за засохшую слизь — ряд крупных родинок, наростов и бородавок с пучками волос. Толстые раздваивающиеся ноздри трепетали. Пятнистая кожа на лице выглядела нездоровой — даже гниющей. И глаза. Глаза. Красные, с черной дробящейся радужной оболочкой, похожей на битое стекло, они уставились в мои глаза, и во время борьбы у перил мне на миг показалось, что я проваливаюсь в них, как в бездонные колодцы, наполненные огнем. Они обожгли меня ненавистью, но я увидел в этих глазах не только ярость и отвращение. В них таилось зло более древнее, чем все человечество, зло чистое, как газовое пламя. От него стыла кровь в жилах — так взгляд Медузы обращал в камень самых храбрых воинов. Но еще хуже было ощутимое безумие, сумасшествие, которое человек не сумел бы понять или описать — только ощутить. И глядя в эти глаза, я ощутил: ненависть этого создания к людям — не одна из сторон его безумия, но его сердцевина. Все порывы, все бредовые идеи его воспаленного сознания были направлены лишь на то, чтобы заставить страдать, чтобы уничтожить всех мужчин, женщин, детей, с которыми сталкивалось это чудовище. Страх и отвращение вызвало во мне то, что я прочел в его глазах, то, что я вступил с тварью в такой тесный психический контакт. Но я не разжал объятий — это означало бы для меня смерть. Я обхватил его еще крепче, мы врезались в перила и отлетели на несколько шагов. Его левая рука тисками сжимала мое запястье, чтобы раздробить кости в крошево и кальциевую пыль или, по крайней мере, заставить меня бросить нож. Боль была мучительной, но я не выпустил оружие из онемевшей руки. Я укусил его в лицо, в щеку, затем ухитрился откусить ему ухо. Он задохнулся, но не издал ни звука, выказав тем самым еще большее нежелание быть обнаруженным, чем я, и такую стоическую решимость, с которой я никак не ожидал столкнуться. Он подавил крик, когда я выплюнул его ухо, но все же он не был приучен к боли и страху до такой степени, чтобы упорно продолжать схватку. Он зашатался, качнулся назад, врезавшись в столб, подпиравший крышу, схватился рукой за окровавленную щеку, отчаянно ища ухо, которого там больше не было. Он все еще держат мою руку, но хватка ослабла, и я вывернулся. Это был самый подходящий момент, чтобы всадить нож в его кишки, но моя онемевшая рука еле-еле удерживала нож. Нападать было бы безрассудно — пальцы, утратившие чувствительность, могли выпустить нож в критический момент. От вкуса крови у меня перехватило дыхание, едва сдерживая рвоту, я отступил. Переложив оружие в левую руку, я лихорадочно начал разрабатывать правую, сжимая и разжимая ее чтобы восстановить кровоток. Руку начало покалывать, скоро она отойдет. Но он и в мыслях не держал предоставить мне эту отсрочку. Вспышка его ярости могла бы озарить ночь, когда он атаковал меня, вынуждая петлять между автомобильчиками, перепрыгивая через них. С того момента, как я проскользнул в проход, наши роли переменились. Теперь он был кошкой — одноухой, но не устрашенной, а я мышью с онемевшей лапкой. Мысль об уязвимости придала мне быстроты и ловкости, но игра в кошки-мышки шла к своему обычному концу — несмотря на все мои увертки, он сокращал расстояние между нами. Это медленное преследование было странно безмолвным — только звук шагов по гулкому помосту, сухой скрип подошв по дереву, грохотанье автомобильчиков, когда мы придерживались за них, скользя и огибая их, да тяжелое дыхание. Ни слова ярости или угрозы, мольбы или обращения к здравому смыслу, ни единого крика о помощи. Ни один из нас не желал доставить другому радость услышать стон боли. Мало-помалу кровообращение в моей правой руке восстановилось. Кровь стучала в распухшем запястье, но я прикинул, что оправился достаточно, чтобы прибегнуть к тому, чему научился от человека по имени Нервз Макферсон на другой, не такой веселой ярмарке в Мичигане, где провел несколько недель в начале лета, после бегства из Орегона. Нервз Макферсон, мудрец, учитель, по которому я очень скучал, был превосходным метателем ножей. Нервз много поведал мне из теории и практики метания ножа. И после того, как мы расстались и я покинул шоу, с которым мы странствовали вместе, я продолжал постигать это мастерство, в течение долгих часов оттачивая навыки. И все равно я еще слишком плохо метал нож, чтобы всецело положиться на него, учитывая превосходство гоблина в размерах и силе. Если я смогу лишь слегка ранить его или вовсе промахнусь, то окажусь фактически беззащитен. Но после рукопашной схватки стаю ясно, что я ему не соперник и единственная моя надежда на спасение — точный бросок ножа. Он, видимо, не заметил, что левой рукой я держат нож не за рукоять, а за лезвие; поэтому, когда я повернулся и побежал в угол павильона, где автомобильчики не путались под ногами, он решил, что страх одолел меня и я убегаю от схватки. Не беспокоясь о своей безопасности, он торжествующе погнался за мной. Услышав топот его ног по доскам за своей спиной, я остановился, развернулся, мгновенно принял нужную позицию и метнул нож. Сам Робин Гуд точнейшим выстрелом из лука не сделал бы того, что сделал я, метнув лезвие. Крутанувшись в воздухе ровно столько раз, сколько нужно, оно по всем правилам вонзилось ему по рукоять в горло. Острие шестидюймового лезвия, должно быть, торчало с другой стороны. Он резко дернулся и остановился, открыв рот. Слабого света вокруг него было достаточно, чтобы разглядеть изумление и в глазах человека, и в глазах демона. Изо рта выплеснулась струйка черной маслянистой крови, он издал каркающий звук. Он тщетно, с шипением и свистом, ловил воздух. Он выглядел оторопевшим. Он схватился за нож. Он рухнул на колени. Но он не умирал. С неимоверным, как мне показалось, усилием гоблин начал сбрасывать человеческую оболочку. Если быть более точным, он ничего не сбрасывал, просто очертания человеческого тела стали расплываться. Лицо и тело начали менять форму. Казалось, он агонизирует, расходуя себя в этом перевоплощении. Он упал на четвереньки, и человеческое обличье вновь начало брать верх. Отталкивающее свиное рыло исчезло, возникло и вновь исчезло, и так повторилось несколько раз. Точно так же и череп, сначала приобретя очертания собачьего, начал возвращаться к человеческому, затем вновь возник собачий, еще более отчетливый, со стремительно проявляющимися смертоносными зубами. Я отступил назад, к перилам, готовый перемахнуть через них и броситься в аллею, если в этой отвратительной метаморфозе гоблин непостижимым образом обретет новую силу и ножевое ранение будет ему не страшно. Может быть, в обличье гоблина ему было легче исцелять себя, чем в человеческом облике. Это казалось невозможным, фантастическим — не более фантастическим, однако, чем сам факт его существования. В конце концов он почти полностью преобразился — одежда нелепо болталась на исказившихся очертаниях тела, когти прорвали кожу на ботинках. Раскрывая громадные челюсти, скрежеща зубами, он пополз в мою сторону. Бесформенные плечи, руки, бедра, перегруженные бесполезно разросшимися костями, двигались с огромным трудом, но я чувствовал, с какой непостижимой легкостью бросили бы они тело чудовища вперед, не будь оно раненым и ослабевшим. Человеческие черты больше не заслоняли его облик. Красные глаза светились — не отраженным светом, как у кошки, но внутренним, сочившимся наружу кровавым сиянием, мерцавшим в темноте и отбрасывавшим багровые блики на помост. В какой-то миг я был твердо уверен, что метаморфоза и в самом деле вдохнула во врага новые силы, обновила его — поэтому он так и изменился. В ловушке человеческого тела он стремительно умирал, но в образе гоблина он мог воспользоваться чуждой нам силой, которая помогла бы ему если не спастись, то хотя бы догнать и убить меня в последней яростной попытке. Он рискнул стать самим собой, потому что мы были здесь одни и никто не видел его. Я уже наблюдал подобное однажды, при таких же обстоятельствах, у другого гоблина в небольшом городке к югу от Милуоки. Второй раз это зрелище было не менее ужасающим. Жизненные силы еще бурлили в гоблине. Сжав когтистой рукой нож, он вырвал его из глотки и отшвырнул в сторону. Истекая слюной и кровью, ухмыляясь, как дьявол, поднявшийся из преисподней, он затрусил ко мне на всех четырех лапах. Перепрыгнув через перила, я приготовился спасаться бегством, как вдруг услышал шум мотора на широком проезде сбоку от павильона. Судя по всему, долгожданная служба безопасности совершала обход территории. Чудовище было уже возле перил, шипящее, бьющее по доскам настила толстым коротким хвостом. Глаза, уставившиеся на меня, горели жаждой убийства. Звук мотора приближающегося автомобиля стал громче, но я не торопился к охране за помощью. Вряд ли гоблин захочет добровольно продемонстрировать им свой истинный облик; нет, он примет прежний вид, а я приведу охранников к мертвому или умирающему телу, к человеку, которого я убил. Поэтому, стоило показаться свету фар, я перелез через перила и, пока автомобиль был еще далеко, вернулся в павильон, перепрыгнул через чудовище — оно попыталось схватить меня, но промахнулось. Я опустился на четвереньки, откатился в сторону, снова встал на четвереньки, отполз в глубь павильона и лишь тогда обернулся. Взгляд гоблина — два ярких, горящих рубина — был обращен на меня. Из артерий и перерезанной глотки лилась кровь, гортань была перебита. Это ослабило его, он был вынужден передвигаться на брюхе. Кровь остывала, он мучительно полз, точно тропическая ящерица, приближаясь ко мне — явно агонизируя, но с не меньшим упорством. Нас разделяло не больше двадцати футов. За спиной гоблина, за павильоном, все ярче светили фары приближающейся машины; наконец показался «Форд»-седан. Он двигался медленно, урча мотором; тормоза мягко скрипели по опилкам и сору. Свет фар ложился на дорогу, а не на павильон, но один из охранников медленно вел лучом карманного фонарика вдоль павильона. Я прижался к полу. Гоблин был уже в пятнадцати футах от меня, приближаясь медленно, но верно. Павильон электромобилей окружала высокая, по грудь, балюстрада — такая основательная, что расстояние между столбиками было уже самих столбиков. Это было мне на руку — свет пробивался через ограждение, но охранники не могли видеть, что творится внутри, особенно продолжая движение. Судорожным толчком могучих ног умирающий гоблин продвинулся еще вперед и попал в пятно лунного света. Я увидел кровь, сочащуюся из свиного рыла и изо рта. Двенадцать футов. Челюсти клацнули, он дернулся вперед, и голова исчезла из полосы света. Десять футов. Я по-пластунски отполз назад, подальше от этой ожившей химеры, но фута через два замер — автомобиль охраны остановился как раз напротив павильона электромобилей. Я твердил себе, что это обычная остановка при патрулировании, что причиной ее не было что-то замеченное в павильоне, и отчаянно молился, чтобы все так и было. Но ночь была такой жаркой и душной, наверняка они ехали с открытыми окнами и могли услышать меня или гоблина. Подумав об этом, я перестал отступать от врага и распластался на полу, проклиная такое невезение. Мыча, пошатываясь и тяжело дыша, раненое чудовище ползло в мою сторону, сокращая увеличенное мною расстояние. Оно снова было в десяти футах от меня. Красные глаза уже не светились так ярко, они помутнели, их глубину словно заволокло тучами — они были подобны таинственным огням корабля-призрака, горящим над морем в туманную темную ночь. Луч фонарика скользнул по закрытым аттракционам на той стороне проезда, описал круг и, наткнувшись на павильон, проник между толстых опорных столбов. Они вряд ли могли бы заметить нас за балюстрадой и кучей автомобильчиков, но они запросто могли услышать, даже за шумом двигателя «Форда», хриплое дыхание чудовища или стук хвоста по деревянному настилу. У меня чуть не вырвалось: — Подыхай, черт тебя возьми! Он рванулся вперед сильнее, чем раньше, одолев за один рывок футов пять, и рухнул на брюхо в каком-нибудь ярде от меня. Луч фонаря застыл. Охранники что-то услышали. Яркий луч света скользнул между столбиками, уткнувшись в пол футах в восьмидесяти слева от меня. Тонкая полоса света ложилась на доски, и все трещины, волокна, царапины, выбоины казались — по крайней мере мне, лежащему на полу — сверхъестественным образом изменившимися, предстающими в самом неожиданном и замысловатом виде. Тонкая щепка стала огромным деревом, как будто луч фонаря не только освещал предметы, но и увеличивал их в размерах. Воздух выходил из перерезанной глотки гоблина с мягким свистом, но не втягивался обратно. К моему величайшему облегчению, горящие ненавистью глаза начали гаснуть — яркое пламя превратилось в мерцающие огоньки, огоньки — в горящие угли, горящие угли — в тусклый пепел янтарного цвета. Луч дернулся в его сторону, вновь замер не более чем в шести футах от умирающего гоблина. Теперь с этим созданием происходила еще одна потрясающая метаморфоза. Он реагировал на смерть так же, как в кино, оборотень, которого настигла серебряная пуля: отбросив свой призрачный, нереальный, чудовищный облик, он вновь «надевал» нормальное лицо и тело человека. Его последние силы были направлены на то, чтобы не дать раскрыть секрет их расы, живущей среди нормальных людей. Химера исчезла. В неясном свете передо мной лежал мертвый человек. Человек, которого я убил. Я больше не мог различить гоблина внутри его тела. Его прозрачные глаза казались уже искусно выполненным рисунком, под которым ничего не просвечивало. «Форд» проехал чуть вперед по аллее, остановился. Охранник пошарил лучом по балясинам, словно выискивая, в какую бы щель еще заглянуть. Пошарив по полу павильона, луч фонаря коснулся подошвы одного из ботинок мертвеца. Я затаил дыхание. Я мог различить прилипшую к подошве грязь, стершийся край резиновой подметки, клочок бумаги, приставший к ней возле самого настила. Разумеется, я был ближе к нему, чем охранник в автомобиле. Возможно, он не слишком приглядывался к тому, что выхватит из темноты луч, но если я видел так много и так отчетливо, то и он мог разглядеть кое-что — и этого будет достаточно, чтобы погубить меня. Прошло несколько секунд. Еще несколько. Луч скользнул в другую щель. Теперь он был справа от меня, всего в нескольких дюймах от другой ноги трупа. Дрожь облегчения пробежала по моему телу, я перевел дух, но опять задержал дыхание, когда луч вернулся назад, проскочив через несколько балясин, разыскивая то, что привлекло его внимание вначале. Я в панике скользнул вперед, стараясь не шуметь, схватил труп за обе руки и подтянул его поближе к себе — чуть-чуть, на пару дюймов, чтобы охранники ничего не услышали. Луч света снова скользнул за ограждение, зашарил в поисках подошвы ботинка мертвеца. Но я оказался достаточно быстр — один спасительный дюйм все же отделял подошву от назойливого любопытного луча. Мое сердце стучало быстрее, чем часы, — два удара в секунду. События последних пятнадцати минут дали мне чересчур тугой завод. Восемь ударов сердца — четыре секунды прошло, прежде чем луч убрался. «Форд» медленно тронулся дальше по проезду, к заднему краю стоянки. Я был в безопасности. Нет, не в безопасности. В чуть меньшей опасности. Я еще должен был избавиться от трупа, вытереть кровь, и все это до того, как наступит утро и балаганщики придут сюда. Я встал на ноги, и боль волчками завертелась в обоих коленях — перепрыгивая через балюстраду и ползущего гоблина, я оступился и приземлился на руки и колени с куда меньшей ловкостью, чем та, которой похвалялся сначала. Ободранные ладони тоже саднили, но ни это, ни боль в правой кисти, так сильно помятой гоблином, ни в горле и шее, куда пришелся его удар, — ничто не должно было и не могло воспрепятствовать моим действиям. Я стоял и глядел на останки моего врага, погруженные в ночную тьму. Пытаясь придумать, как лучше убрать его тяжелый труп, я вдруг вспомнил про рюкзак и спальный мешок, брошенные возле чертова колеса. Размера они были небольшого, к тому же лежали наполовину в тени, наполовину в сумрачно-жемчужном свете луны, так что вряд ли патруль обнаружил их. С другой стороны, служба безопасности ярмарки по стольку раз за ночь объезжала ее, что охранники точно знали, что они должны были увидеть в том или ином месте по пути их следования. Я живо представил себе, как они скользят взглядом по рюкзаку, по мешку — и вдруг взгляд возвращается к барахлу, как луч фонаря, неожиданно вернувшийся в поисках ботинка. Если они обнаружат мое снаряжение, если им станет ясно, что какой-то бродяга перелез ночью через ограду и устроился спать у центральной аллеи, тогда они мигом вернутся к павильону электромобилей и обыщут его. И найдут кровь. И тело. Господи Исусе. Надо было успеть к чертову колесу раньше их. Подбежав к балюстраде, я перемахнул через нее и понесся назад, по темной аллее, тяжело топая, расталкивая обеими руками тяжелый влажный воздух. Мои волосы развевались. Можно было подумать, что за мной гонится демон. Он и вправду был за моей спиной, хотя и мертвый.Глава 3
БЛУЖДАЮЩИЙ МЕРТВЕЦ
Иногда у меня возникает такое чувство, что буквально все в этой жизни субъективно, что во вселенной ничего нельзя объективно учесть-измерить-взвесить и что как ученые, так и плотники оказались в дураках, самонадеянно полагая, будто все, с чем они работают, можно взвесить и измерить и получить истинные цифры, которые будут что-то значить. Ясное дело, когда подобные философские рассуждения одолевают меня, я обычно прихожу в унылое расположение духа и становлюсь ни на что не годен — разве что напиться или лечь спать. И все же в качестве доказательства, пусть и не очень убедительного, этой философской теории позволю себе привести мои впечатления от ярмарки — какой она виделась мне в ту ночь, пока я бежал от павильона электромобилей, среди нагромождения оборудования и переплетения кабелей, в надежде обогнать службу безопасности ярмарки братьев Сомбра на пути к чертову колесу. До того как началась эта гонка, ночь казалась лишь слабо озаряемой тусклым лунным светом. Теперь же луна светила не мягко, а резко, сильным белым светом вместо пепельно-жемчужного. Несколько минут назад пустынную аллею укутывали тени, скрывая все ее секреты, — теперь она была похожа на тюремный двор, залитый безжалостным сиянием дюжины гигантских дуговых ламп, смешавших все тени и уничтоживших каждый спасительный закуток темноты. Охваченный паникой, я был уверен, что меня вот-вот засекут, и проклинал луну. Кроме того, когда я преследовал гоблина, широкий проход аллеи был загроможден грузовиками и оборудованием, а сейчас он был так же открыт и негостеприимен, как и уже упоминавшийся тюремный двор. Я чувствовал себя лишенным прикрытия и маски — подозрительным, голым. Пробираясь между грузовиками, генераторами, каруселями и аттракционами, я ловил взглядом патрульную машину, мелькавшую то тут, то там, по пути к дальнему концу стоянки. Я был уверен, что и сам точно так же попадаюсь им на глаза, разве что меня не могли выдать шум двигателя и свет фар. Удивительно, но я добрался до чертова колеса куда раньше, чем охранники. Доехав до конца первого длинного проезда, они повернули направо, на небольшой извилистый проход, где были сосредоточены все массовые зрелищные аттракционы. Теперь они неторопливо ехали в сторону следующего поворота, откуда должны были свернуть опять направо и попасть на второй проезд. Чертово колесо находилось не дальше чем в десятке ярдов от этого самого следующего поворота. Стоит им завернуть — и они наверняка в тот же миг увидят меня. Изгородь гигантского колеса была сделана из труб. Я с трудом перелез через нее, зацепился ногой за кабель и грохнулся в грязь, да так сильно, что перехватило дух, затем лихорадочно пополз по направлению к рюкзаку и спальному мешку двигаясь со всем изяществом, на какое был бы способен искалеченный краб. Схватив в охапку свое добро, я в три шага достиг невысокой изгороди, но из раскрытого рюкзака что-то выпало, и пришлось снова вернуться. Я увидел, как «Форд» выезжает на второй проезд — он вырулил из-за угла, и свет фар скользнул в мою сторону. Всякая надежда убежать по аллее исчезла. Стоит мне выйти из-за изгороди, как они засекут меня, и начнется погоня. Я в растерянности стоял на месте, как последний дурак. Чувство вины сковывало меня точно цепью. Затем я стремительно рванулся в сторону билетного киоска чертова колеса. Киоск был ближе, чем изгородь, и намного ближе, чем неверное укрытие по ту сторону изгороди, но, боже мой, какой он был крошечный! Каморка на одного, от силы фута четыре в длину и в ширину, с крышей, как у пагоды. Я приник к одной из стенок киоска, прижав к себе рюкзак и скомканный вещмешок. Прожектор луны пригвоздил меня к месту, я был уверен, что нога, колено или бок высовывается из-за стены. Когда «Форд» поравнялся с чертовым колесом и поехал вдоль него, я начал обходить кругом киоск, стараясь, чтобы он находился между мной и охранниками. Луч фар скользнул вокруг меня, за моей спиной... наконец они отъехали, не подняв тревоги. Скорчившись в лунной тени, которую отбрасывал край крыши-пагоды, я наблюдал, как они едут по длинному проезду. Они двигались медленно и спокойно, трижды остановились, чтобы направить луч света на тот или другой объект. Чтобы достичь конца аллеи, им потребовалось пять минут. Я опасался, что в том конце — в начале аллеи — они свернут направо. Это будет значить, что они возвращаются к началу первого проезда, чтобы совершить еще один круг. Но вместо этого они свернули налево, удаляясь в сторону трибун и ипподрома длиной в милю, и дальше — к конюшням и сараям, где проводились состязания и выставки животных. Там их маршрут заканчивался. Несмотря на августовскую жару, у меня стучали зубы. Сердце бухало так тяжело и громко, что я удивился — как они не услыхали его за тихим шумом двигателя седана. Мое шумное дыхание вполне можно было принять за мычание. Я был профессиональным человеком-оркестром, специализировавшимся на ритме, не испорченном мелодией. Я тяжело сполз по стене киоска на землю и подождал, пока уймется дрожь, пока я не буду настолько уверен в своих силах, что смогу разобраться с трупом, который я оставил в павильоне электромобилей. Чтобы избавиться от тела, мне потребуются железные нервы, полное спокойствие и осторожность мыши на кошачьей выставке. Когда я окончательно смог держать себя в руках, я скатал спальный мешок, натуго перевязал его и отволок вместе с рюкзаком в густую тень возле одной из каруселей. Я положил вещи так, чтобы их легко можно было найти, но чтобы они не были видны с проезда. После чего я вернулся к павильону электромобилей. Все было тихо. Ворота тихонько скрипнули, открываясь, когда я толкнул их. Каждый мой шаг эхом отзывался под дощатым помостом. Меня это не волновало. На сей раз я ни за кем не крался. Над открытыми краями павильона мерцал лунный свет. Глянцевая краска на балюстраде, казалось, светилась. Здесь, под навесом, теснились густые тени. Тени и влажная жара. Миниатюрные автомобили сгрудились в кучу, точно овцы на темном лугу. Тела не было. В первый момент я решил, что забыл, где именно оставил труп. Может быть, он лежал вон там, за той парой автомобильчиков, или вон там, в том другом колодце черноты, куда не достигал лунный свет. Потом мне подумалось, что, возможно, гоблин не был мертв, когда я оставил его. Конечно, он умирал, он был смертельно ранен, но, может быть, еще не совсем умер, может быть, у него хватило сил доползти до другого угла павильона, пока он испустил дух. Я обыскал все, от и до, осмотрел все машины, оживленно тыкаясь в каждое озерко, в каждую лужицу черноты, безуспешно и все более тревожась. Я остановился. Прислушался. Тишина. Я настроил себя на то, чтобы уловить психические вибрации. Ничего. Мне показалось, что я вспомнил, под какую из машин закатился фонарик, когда мы столкнули его с бампера. Поискав, я обнаружил его — это убедило меня в том, что вся битва с гоблином мне не приснилась. Я нажал на кнопку, фонарик зажегся, оправдывая название — «всегда готов». Прикрыв одной рукой лучик света, я обшарил им пол и обнаружил еще одно доказательство того, что ночная схватка была реальностью, а не кошмаром, запомнившимся слишком ярко. Кровь. Много крови. Она уже загустевала, просачивалась, впитываясь в доски, темнела — от багрового до коричневого оттенка, по краям покрытая ржавой корочкой. Она уже засыхала, но, вне всякого сомнения, это была кровь. Глядя на струйки, мазки и лужицы крови, я смог по памяти восстановить в подробностях всю схватку. Я отыскал и мой нож — он был весь перепачкан засохшей кровью. Сперва я было убрал его в ножны за голенище, но, осторожно вглядевшись в окружившую меня ночную тьму, решил, что оружие лучше держать наготове. Кровь, нож... Но тело исчезло. Вместе с ним исчез и набор инструментов. Мне страшно захотелось бежать — убраться отсюда ко всем чертям, даже не тратя времени на то, чтобы вернуться к карусели за вещами, пронестись, вздымая тучи опилок, по проезду, к центральным воротам ярмарочной площади, перелезть через них и бежать куда угодно. Господи, бежать и бежать, часами, не останавливаясь — навстречу утру, бежать все дальше, через горы Пенсильвании, куда-нибудь в глушь, добежать до реки, в которой можно смыть с себя кровь и вонь моего врага. А потом лечь на ложе из мха, чтоб папоротники укрыли и скрыли меня, и спокойно заснуть и не бояться, что кто-то — или что-то — обнаружит меня. Я был тогда всего-навсего семнадцатилетним парнишкой. Но за последние несколько месяцев я пережил немало фантастических и ужасных событий. Они закалили меня, благодаря им я быстро повзрослел. Чтобы выжить, я, мальчик, был вынужден вести себя как взрослый мужчина, и не просто как взрослый мужчина, но как мужчина со стальными нервами и железной волей. Вместо того чтобы убегать, я вышел наружу и обошел павильон кругом, вглядываясь в пыльную почву при свете карманного фонарика. Я не обнаружил никаких кровавых следов, а они наверняка были бы, если бы гоблин собрался с силами настолько, что смог бы уползти отсюда. По опыту я знал, что эти создания так же подвластны смерти, как и я сам. Никаким чудом они не могли бы исцелить себя и восстать из мертвых. Дядя Дентон не был непобедимым — умерев, он остался мертвым. Так же и этот: он лежал мертвый на полу павильона, без сомнения, мертвый. Он и сейчас был мертвый; возможно, в другом месте, но он был мертвый. Значит, его исчезновение можно было объяснить только одним: кто-то нашел его тело и унес его. Но почему? Почему он не позвал полицию? Кто бы ни наткнулся на труп, он не мог знать, что в этом теле обитало демоническое создание, чей портрет украсил бы галереи ада. Мой неведомый сообщник не увидел бы ничего, кроме мертвого тела. Зачем было ему помогать незнакомцу скрыть убийство? У меня возникло подозрение, что за мной наблюдают. Дрожь возобновилась. Я с усилием подавил ее. Мне надо было кое-что сделать. Я вернулся обратно в павильон и направился к автомобильчику, в котором ковырялся гоблин, когда я спугнул его. Задний колпак машины был поднят, под ним виднелся двигатель и контакты, через которые энергия поступала с решетки на потолке к генератору. Минуту-другую я вглядывался в путаницу механических внутренностей, но не мог понять, что он там делал. Я даже не был уверен, дотронулся ли он до чего-нибудь прежде, чем я прервал его занятия. Билетный киоск павильона электромобилей был не заперт. В углу этой крохотной каморки я нашел швабру, совок для мусора и ведро с кучей грязных тряпок. Я вытер с дощатого пола всю кровь, которая еще не успела просохнуть. Натаскав пригоршни рассыпчатой, выбеленной солнцем грязи, я посыпал ею все пятна красноватой влаги, которые попались мне на глаза, утрамбовал башмаками, потом вытер. Пятна крови не исчезли, но выглядели теперь по-другому. Не видно было, что они свежие — они ничем не отличались от бесчисленных пятен жира и смазки, покрывавших всю платформу. Швабру и совок я убрал обратно в билетный киоск, но окровавленные тряпки вышвырнул в мусорный контейнер на обочине, поглубже спрятав их под пустыми пакетиками из-под попкорна, смятыми стаканчиками от мороженого и прочим хламом. Туда же я отправил и фонарик убитого. Чувство, что за мной следят, не проходило. От этого по телу бегали мурашки. Выйдя на середину проезда, я медленно повернулся кругом, осматривая окружавшую меня ярмарку. Пластиковые вымпелы, как прежде, висели, словно спящие летучие мыши, закрытые аттракционы и балаганы, где было темно как в могиле, хранили ледяное молчание. Я не замечал никаких признаков жизни. Заходящая луна балансировала на гористой линии горизонта, очерчивая силуэты чертова колеса, «бомбардировщика» и карусели «тип-топ», которые воскрешали в памяти колоссальные футуристические боевые корабли марсиан из книги Уэллса «Война миров». Я был не один. Теперь в этом не было никаких сомнений. Я ощущал чье-то присутствие, но не мог узнать, кто это, понять его намерения или обнаружить его местонахождение. Неведомые глаза наблюдали. Неведомые уши слушали. И внезапно аллея еще раз изменила свой облик. Теперь это был уже не тот зарешеченный тюремный двор, в котором я стоял, беспомощно и безнадежно, под осуждающим светом дуговых ламп. Произошло так, что ночь вдруг стала недостаточно светлой, даже наполовину не такой светлой, как мне было нужно. Все вокруг быстро темнело, и с темнотой возникло впечатление глубины и опасности, невиданной и неведомой ранее. Ощущение разоблачённости не уменьшалось с ослаблением лунного света, теперь оно усиливалось растущей клаустрофобией. Сейчас аллея была полна неосвещенных чуждых форм, вселявших глубокое беспокойство, похожих на причудливые могильные памятники, что вытесала и воздвигла загадочная раса в другом мире. Все перестало быть узнаваемым. Каждое строение, каждый механизм, каждый предмет были чужими. Я ощутил себя загнанным в ловушку, окруженным и запертым. Какой-то миг я боялся сделать шаг, уверенный, что, куда я ни шагну, я отправлюсь в распахнутую пасть, в объятия чего-то враждебного. Я спросил: — Кто здесь? Молчание. — Куда ты дел труп? Темная ярмарка была идеальным звукоизолятором. Она впитала в себя мой голос, и ничто не потревожило тишину, как будто я ничего не говорил. — Что тебе от меня надо? — требовательно спросил я неведомого наблюдателя. — Кто ты — друг или враг? Он, должно быть, и сам не знал, кто он, так как ответа не последовало. Но я чувствовал, что придет час, когда он откроется и его намерения станут ясны. В этот самый момент я со всей уверенностью ясновидящего понял, что не смогу убежать с аллеи ярмарки братьев Сом-бра, даже если очень захочу. Меня привела сюда не прихоть и не отчаяние беглеца. На этой ярмарке со мной должно было произойти что-то важное. Меня вела судьба, и только когда я отыграю предназначенную мне роль, тогда и только тогда судьба отпустит меня и даст мне самому выбирать свое будущее.Глава 4
СНЫ С ГОБЛИНАМИ
На большинстве ярмарок проводятся скачки — в дополнение к шоу со зверями, карнавалам и танцам. Поэтому большинство ярмарочных площадей оборудовано раздевалками и душевыми под трибунами для удобства жокеев и возниц двуколок. Эта ярмарочная площадь не составляла исключения. Дверь в раздевалки была заперта, но замки меня не остановили. Я больше не был просто парнишкой с фермы в Орегоне — не важно, что я искренне стремился вернуть эту утраченную невинность. Напротив, я был уже почти мужчиной, знакомым с подобными трудностями, встречавшимися на пути. Я носил в кошельке тонкую полоску прочной пластмассы — с ее помощью хлипкий замок был отперт меньше чем через минуту. Войдя внутрь, я зажег свет и запер за собой дверь. Туалетные кабинки из зеленого металла были с левой стороны, щербатые раковины и пожелтевшие от времени зеркала — справа, душевая находилась в дальнем конце. В середине большой комнаты — два ряда примыкающих друг к другу, обшарпанных, со множеством царапин, раздевалок, а перед ними — такие же исцарапанные скамейки. Голый цементный пол. Стены из бетонных блоков. Лампы дневного света без плафонов. Запахи пота, мочи, затхлой мази, плесени — и все заглушающий острый запах дезинфицирующего средства с ароматом сосны. Воздух был насыщен этим зловонием настолько, что я скривился, однако меня не стошнило (хотя до этого было совсем чуть-чуть). Не больно роскошное место. В таком месте вряд ли встретишь кого-нибудь из семейства Кеннеди или, к примеру, Кэри Гранта. Зато здесь не было окон, а значит, я мог спокойно сидеть при свете, к тому же тут было намного прохладнее, хотя и ненамного суше, чем на пыльной ярмарочной площади. В первую очередь я прополоскал рот, чтобы избавиться от металлического вкуса крови, и почистил зубы. Из мутного зеркала над раковиной на меня глянули мои собственные глаза — такие дикие и запавшие, что я поскорее отвел взгляд. Футболка была порвана. Рубаха и джинсы были окровавлены. Я принял душ, смыл вонь гоблина с волос, насухо вытерся комом бумажных полотенец и переоделся — достал из рюкзака чистую футболку и вторую пару джинсов и натянул их. Отмыв, как мог, в раковине, порванную футболку от крови, я замочил там же и джинсы. Потом выжал все и засунул поглубже в почти полный мусорный контейнер у входа — мне вовсе не улыбалось, чтобы меня схватили с подозрительной окровавленной одеждой в рюкзаке. Теперь весь мой гардероб составляли те джинсы, что были на мне, футболка, еще одна сменная футболка, три пары трусов, носки и тонкая вельветовая куртка. Человек путешествует налегке, если его разыскивают за убийство. Единственные тяжести, которые он берет с собой, — это воспоминания, страх и одиночество. Я решил, что для того, чтобы скоротать последний ночной час, не найти лучшего места, чем эта раздевалка под трибуной. Я раскатал спальный мешок на полу у двери и вытянулся на нем. Тот, кто захочет попасть внутрь, сам подаст мне сигнал тревоги, как только начнет возиться с замком. А мое тело надежно заблокирует дверь, и незваным гостям придется уйти. Я оставил свет включенным. Я не боялся темноты. Просто я предпочитал не сталкиваться с нею. Я закрыл глаза и вернулся мыслью вОрегон... Я тосковал по ферме, по зеленеющим лугам, где я играл в детстве в тени величественных гор Сискию, рядом с которыми горы на востоке страны казались древними, изношенными, невыразительными. Воспоминания разворачивались передо мной, словно бумажная фигурка, сложенная с большим искусством. Я видел, как вздымаются, подобно крепостным валам, горы Сискию, поросшие густым лесом огромных елей Ситка, россыпью елей Брюэра (самое красивое из хвойных деревьев), кипарисами Лоусона, пихтами Дугласа, белыми пихтами, пахнущими мандарином, с ароматом которых могли состязаться лишь кедры — гигантские курительные палочки, кизилом, чьи бриллиантовые листья возмещали отсутствие аромата, крупнолистными кленами, колышущимися западными кленами, ровными рядами темно-зеленых дубов — и даже в угасающем свете памяти эта картина захватывала дух. Мой двоюродный брат Керри Гаркенфилд, приемный сын дяди Дентона, принял посреди всей этой красоты ужасающе жестокую смерть. Он был убит. Из всех двоюродных братьев я любил его больше всех, он был моим лучшим другом. Даже спустя столько месяцев после его смерти, вплоть до того дня, когда я оказался на ярмарке братьев Сомбра, я остро ощущал эту потерю. Я открыл глаза и уставился на кафельный потолок раздевалки, весь в пятнах сырости и свисающих нитях пыли. Я попытался отогнать прочь вызывающие ужас воспоминания об изуродованном теле Керри. У меня были и более светлые воспоминания об Орегоне... В саду перед нашим домом всегда росла большая ель Брюэра, или, как мы называли ее, плакучая ель. Ее изогнутые ветви скрывала элегантная бахрома — зеленая с черным. Летом лучи солнца сверкали на сияющей зелени — так бархатная подушка в лавке ювелира подчеркивает блеск драгоценных камней. Казалось, что ветви увешаны ослепительно сверкающими цепочками, нитями бус и сияющими ожерельями, мерцающими арками из драгоценностей, созданных лишь солнечным светом. Зимой ветви плакучей ели укрывал снег, в солнечный денек дерево казалось украшенным, как на Рождество, но если день выпадал хмурый, ель стояла словно плакальщица на кладбище — вся воплощение скорби и страдания. В тот день, когда я убил дядю Дентона, ель была в траурном одеянии. У меня в руках был топор. У него в руках не было ничего. Несмотря на это, разделаться с ним оказалось совсем не просто. Еще одно мрачное воспоминание. Я повернулся на бок и снова закрыл глаза. Если я все-таки надеялся уснуть, я должен был вспоминать только хорошее — маму, папу и сестер. Я родился на ферме, в белом домике возле той самой ели. Я был долгожданным и страстно любимым ребенком, первым и единственным сыном Синтии и Курта Станфеусс. Две моих сестры были в равной мере сорванцами — они стали подходящими товарищами по играм единственному брату и маленькими женщинами, обладавшими изяществом и чувствительностью, что дало им возможность привить мне хорошие манеры, некоторую утонченность и опыт — все, чего без них я был бы лишен в глухом сельском мирке долин Сискию. Сара-Луиза, на два года старше меня, была белокожая блондинка — в отца. С самого детства она рисовала карандашами и красками с таким мастерством, что можно было подумать, что в прошлой жизни она была известной художницей. Она об этом и мечтала — зарабатывать на жизнь кистью. Она обладала редкостным умением общаться с животными — очень естественно, без усилий, смиряла лошадь, успокаивала шипящего кота, могла навести порядок среди перепуганных наседок на птичьем дворе, просто пройдясь между ними, и даже от самого злющего пса умела добиться ласковой гримасы и радостного виляния хвостом. Дженнифер-Рут, брюнетка с миндального цвета кожей, пошла в мать. Как и Сара, она взахлеб зачитывалась фантастикой и приключенческой литературой, но художественных талантов у Дженни не было. Зато то, как она обращалась с цифрами, было таким же искусством, как и искусство художника. Ее талант к числам, ко всем разделам математики, был источником вечного изумления всего семейства Станфеуссов — все мы, остальные, если бы нам предложили выбрать — сложить длиннющую колонку цифр или надеть хомут на дикобраза, не задумываясь, выбрали бы второе. У Дженни была, кроме того, фотографическая память. Она могла слово в слово цитировать книги, которые читала давным-давно, и мы оба, Сара и я, страшно завидовали тому, с какой легкостью Дженни из года в год получала табели с одними отличными оценками. Биологическое волшебство и редкостные свойства ярко проявились в смеси генов наших отца и матери — никто из их детей не избежал тяжкой ноши выдающихся способностей. И вовсе не трудно понять, почему мы у них вышли такие — каждый из наших родителей тоже был по-своему одаренным. Мой отец был гением в музыке. Я говорю — «гений» в первоначальном смысле слова, а не как термин для обозначения коэффициента интеллекта — у него были исключительные природные данные к музыке. Не было такого инструмента, на котором он не научился бы прилично играть в тот же день, как инструмент попадал ему в руки, а через неделю он уже мог исполнять самые сложные и серьезные упражнения с легкостью, какой иные добивались годами тяжелого труда. Дома в гостиной стояло пианино, и отец нередко наигрывал на нем по памяти мелодии, впервые услышанные им утром по радио в машине по дороге в город. После того как он был убит, музыка на несколько месяцев покинула наш дом — и в буквальном, и в переносном смысле. Мне было пятнадцать, когда погиб отец, и в ту пору я, как и все остальные, считал, что это был несчастный случай. Большинство из них до сих пор уверены в этом. Но теперь я знаю, что его убил дядя Дентон. Но я же убил Дентона — почему же я не мог спать спокойно? Месть свершилась, жестокое правосудие восторжествовало — почему же я не мог обрести хотя бы на час-другой мир и покой в своей душе? Почему каждая ночь превращалась в пытку? Сон приходил ко мне лишь тогда, когда бессонница изматывала меня до такой степени, что не было другого выбора, как уснуть или свихнуться. Я заметался и повернулся на бок. Я вспомнил о матери. Она тоже была особенная, как и отец. Ее дар заключался в тесной связи с миром растений. Они подчинялись ей точно так же, как животные подчинялись ее младшей дочери, а математические задачи сами собой решались у старшей. Быстрый взгляд на растение, легкое прикосновение к листу или стволу — и мама точно знала, чем подкормить ее зеленого друга и как за ним ухаживать. На ее огороде всегда росли самые крупные и вкусные помидоры в мире, самая сочная кукуруза, самый сладкий лук. К тому же мама была целителем. Не подумайте ничего плохого — не из тех шарлатанов, что лечат «верой» или как-нибудь еще; она не заявляла, что владеет психической энергией, и никогда не лечила наложением рук. Она была травником — готовила по собственным рецептам припарки, мази и притирания, смешивала вкуснейшие лечебные чаи. Никто в семье Станфеуссов никогда не страдал от простуды, самое большее — насморк, проходивший за день. У нас никогда не было ни гриппа, ни бронхита, ни каких других болезней из тех, что дети подхватывают в школе и заражают ими родителей. Соседи и родные частенько обращались к матери за ее травяными смесями; и, хотя ей то и дело предлагали деньги, она в жизни не взяла за это ни гроша. Она считала, что будет богохульством получать за свой дар иную плату, чем радость от того, что используешь его на благо семьи и других людей. Разумеется, я тоже был одаренным. Правда, мои способности были далеки от практичных и понятных способностей сестер и родителей. Гены одаренности Синтии и Курта Станфеусс смешались во мне даже не волшебным, а почти колдовским образом. Моя бабушка Станфеусс — кладезь потаенной народной мудрости, говорила, что у меня — Сумеречный Взгляд. У меня и в самом деле глаза цвета сумерек, синие, но со странным пурпурным оттенком, поразительно ясные. Они обладают способностью преломлять свет таким образом, что кажутся чуть светящимися и (как мне говорят) необычно красивыми. Бабушка утверждала, вряд ли у одного человека из миллиона сыщешь такие глаза, и я должен признать, что ни у кого не видел таких глаз, как у меня. Впервые взглянув на меня, завернутого в одеяло, лежащего на руках у матери, бабушка заявила, что Сумеречный Взгляд у новорожденного — вестник его психической силы, и если в течение первого года цвет глаз не изменится (у меня не изменился), то, как гласит молва, эта сила будет необычайно велика и проявится во множестве направлений. Бабушка была права. И вспоминая кроткое лицо бабушки, все в мягких морщинах, ее собственные теплые, любящие глаза цвета морской волны, я обрел пусть не мир, но хотя бы временный покой. Ко мне тихо подкрался сон, точно санитар, разносящий обезболивающее на временно затихшем поле боя. Мне снились гоблины. Как всегда. В последнем из этих снов я раз за разом взмахивал топором, и дядя Дентон вопил: «Нет! Я не гоблин! Я такой же человек, как и ты, Карл. О чем ты говоришь? Ты спятил? Гоблинов нет, их не существует. Ты сошел с ума, Карл. О боже! Боже! Спятил! Ты спятил! Спятил!» В действительности он не вопил, не отрицал моих обвинений. В действительности наша битва была жестокой и ужасной. Но спустя три часа после того, как сон одолел меня, я проснулся, и в ушах у меня все еще стоял голос Дентона из сна — «Спятил! Ты сошел с ума, Карл! О боже, ты просто спятил!». Меня била дрожь, я взмок от пота, не понимая, где я, охваченный сомнениями, как лихорадкой. Задыхаясь, я неловко добрался до ближайшей раковины, пустил холодную воду и плеснул ею в лицо. Образы из сна, не желавшие уходить, наконец потускнели и исчезли. Я неохотно поднял голову и взглянул на себя в зеркало. Иногда я боюсь смотреть на отражение своих собственных странных глаз — я боюсь, что увижу в них безумие. Так было и на этот раз. Я не мог сбросить со счетов вероятность — пусть совсем небольшую — того, что гоблины — всего-навсего порождения моего измученного воображения. Бог свидетель, я хотел сбросить ее со счетов, чтобы ничто не могло поколебать мою уверенность. Но мысль о возможном заблуждении и безумии не уходила и время от времени высасывала мою волю и решимость так же, как пиявка высасывает кровь, а с ней и жизнь. Я вглядывался в свои измученные глаза — они были настолько необычны, что их отражение не было плоским и лишенным глубины, как у обычных людей. Казалось, что в отражении столько же глубины, реальности и силы, сколько в самих глазах. Я честно и безжалостно исследовал собственный взгляд, но не разглядел никаких следов помешательства. Я твердил себе, что моя способность видеть гоблинов через их человеческое обличье так же неоспорима, как и другие мои способности. Я знал, что мои психические способности — настоящие и надежные: мое ясновидение помогало многим и поражало всех. Бабушка Станфеусс называла меня «маленьким пророком», потому что иногда я мог видеть будущее, а иногда и прошлое некоторых людей. И, черт возьми, я также мог видеть и гоблинов. И тот факт, что я был единственным, кто их видит, еще не давал повода усомниться и не доверять моему видению. Но сомнения не исчезали. — Когда-нибудь, — сказал я своему угрюмому отражению в пожелтевшем зеркале, — эти сомнения вылезут наружу в самый неподходящий момент. Они сокрушат тебя, когда ты будешь сражаться за свою жизнь с гоблином. И тогда это будет означать, что ты погиб, это будет твоей смертью.Глава 5
УРОДЫ
Три часа на сон, пара минут, чтобы умыться, еще минут пять, чтобы свернуть спальный мешок и навьючить на себя рюкзак, — в общем, когда я отпер раздевалку и вышел наружу, было полдесятого утра. День был жаркий и безоблачный. Воздух больше не был так влажен, как ночью. Освежающее дуновение ветра принесло мне ощущение чистоты, я почувствовал себя отдохнувшим. Ветер загнал все сомнения в дальние уголки сознания так же, как он гнал сор и опавшие листья и собирал их в кучи между ярмарочными постройками и кустами — он не убирал мусор до конца, но по крайней мере тот не лежал под ногами. Я был рад тому, что живой. Вернувшись на аллею, я был поражен тем, что увидел там. Когда я ночью сбежал с ярмарки, моим последним впечатлением от нее было ощущение смутной опасности, незащищенности и угрозы. Но при свете дня ярмарка казалась безобидной, даже радостной. Вымпелы, тысячи вымпелов, бесцветных в ночные часы, выбеленных луной, теперь багровели, как рождественские гирлянды, желтели, как цветки ноготков, зеленели, словно изумруды. Белые, ярко-синие, ярко-оранжевые — все они трепетали, колыхались и развевались на ветру. Карусели блестели и сверкали под ярким августовским солнцем так, что даже вблизи казались не просто новее и красивее, чем были на самом деле, — их будто покрыли серебром и золотом, как машины эльфов из сказки. В полдесятого ворота ярмарки еще не распахнулись для публики. Только несколько балаганщиков высунули носы на аллею. На проезде двое мужчин подбирали мусор палками с гвоздем на конце — накалывали и стряхивали его в большие пакеты, висевшие у каждого на плече. Мы невнятно обменялись приветствиями. На помосте зазывалы перед балаганом стоял дородный темноволосый мужчина с усами размером с велосипедный руль. Уперев руки в бока, он, возвышаясь футов на пять над землей, глядел наверх — на громадное клоунское лицо, изображение которого занимало весь фасад балагана. Должно быть, он заметил меня краем глаза. Повернувшись ко мне и глядя сверху вниз, он поинтересовался, как я считаю — не нужно ли подкрасить нос клоуна. — Ну, — ответил я, — по мне, так в самый раз. Очень красивый. Как будто только неделю назад нарисован. Хороший ярко-красный нос. Он ответил: — Неделю назад и нарисован. Он всю жизнь был желтый, четырнадцать лет он был желтый. А потом, месяц назад, я впервые женился, и моя жена Жизель говорит, что нос у клоуна должен быть красный, а поскольку я до чертиков люблю Жизель, я решился перекрасить его. Вот, перекрасил, и теперь покарай меня бог, если я не считаю, что это была ошибка, потому что, когда он был желтый, это был нос с характером, понимаешь, а сейчас это самый обычный клоунский нос, каких ты за всю свою окаянную жизнь сотни видел, и какая с того польза? Ему не очень-то был нужен мой ответ — спрыгнув с помоста, он, ворча, побрел вдоль балагана и исчез из виду. Я легким шагом пошел вдоль проезда, пока не добрел до карусели, где невысокий жилистый мужчина ремонтировал генератор. Цвет его волос был где-то между каштановым и ярко-рыжим — не рыжий, но тот, который обычно называют рыжим. Лицо было усыпано веснушками, такими яркими, что они казались ненастоящими — точно их тщательно нарисовали у него на щеках и носу. Я сказал ему, что я Слим Маккензи, но он не представился в ответ. Почувствовав кастовую скрытность вечного балаганщика, я принялся рассказывать о шапито и бродячих труппах, в которых работал на Среднем Западе, во всем штате Огайо, а он все ковырялся в генераторе и хранил молчание. В конце концов мне, кажется, удалось убедить его в том, что я свой, поскольку он вытер замасленные руки ветошью, сообщил, что его зовут Руди Мортон, но все кличут его Рыжий, и, кивнув головой в мою сторону, спросил: — Работу ищешь? Я сказал, что да, ищу, и он продолжал: — За этим — к Студню Джордану. Он у нас юрист, правая рука Артуро Сомбра. Сейчас, наверное, в правлении сидит. Он объяснил мне, как туда пройти. Я поблагодарил и пошел. И хотя я ни разу не обернулся, я знал, что он смотрит мне вслед. Я срезал путь, чтобы не тащиться через весь проезд. Следующий балаганщик, попавшийся мне навстречу, был крупный мужчина. Он шел в мою сторону, ссутулившись, опустив голову, засунув руки в карманы. Его побитый вид совсем не вязался с таким солнечным, золотым днем. Росту в нем должно было быть где-то шесть футов четыре дюйма, массивные плечи, большие руки, двести семьдесят фунтов мышц — даже ссутулившись, он производил впечатление сильного человека. Голова была настолько втянута в геркулесовские плечи, что я не мог рассмотреть лица, но я понял, что он не видит меня. Он шел между нагромождениями оборудования, наступая на кабели, прокладывая путь через кучи мусора, весь погруженный в себя. Я опасался, что напугаю его, поэтому за несколько шагов обратился к нему: — Прекрасное утро, не правда ли? Он прошел еще пару шагов, словно ему нужно было время, чтобы понять, что мои слова адресованы ему. Нас разделяло не более восьми футов, когда он взглянул на меня. При взгляде на его лицо я окоченел. Мелькнула мысль: «Гоблин!» Я чуть не потянулся за ножом, спрятанным за голенищем. Господи Исусе, что угодно, только бы не еще один гоблин! — Ты что-то сказал? — спросил он. Когда первое потрясение прошло, я увидел, что это все-таки не гоблин — по крайней мере, гоблин, непохожий на прочих. Лицо его было кошмарным, но под ним не было черт свиньи или собаки. Никакого мясистого рыла; клыков и извивающегося змеиного языка. Это был человек-урод. Его безобразно бесформенный череп словно подтверждал, что и бог может быть странным и безжалостным. И в самом деле... Представьте себе, что вы — божественный ваятель, творящий из плоти, крови и кости. У вас тяжелое похмелье и к тому же скверное чувство юмора. Теперь начинайте ваять с тяжелой грубой челюсти, которая не заканчивается, дойдя до ушей вашего творения (как у нормальных людей), а резко обрывается грубыми костяными узлами, по форме смутно напоминающими желваки, как у монстра из фильма про Франкенштейна. Теперь, прямо над этими неприглядными буграми, прикрепите своему незадачливому детищу уши, похожие на смятые увядшие капустные листья. Вид черпака экскаватора подвигнет вас на создание рта. Напихайте туда крупных квадратных зубов, да побольше и почаще, чтобы от тесноты они громоздились один на другой, и пусть эти зубы будут такие желтые, что ваше детище постыдится открывать рот в приличном обществе. Достаточно жестоко? Божественная злость больше не клокочет в вас? Как бы не так. Ваш гнев явно космического масштаба, вы вошли в такой божественный раж, что вся вселенная содрогнется, потому что вы ваяете такой мощный лоб, что он сгодился бы на броню, вы увеличиваете его до такой степени, что он нависает над глазами, из-за чего глазницы выглядят пещерами. Наконец, в злобной творческой горячке вы сверлите в этом лбу отверстие, третий глаз — без зрачка, без радужной оболочки, просто невыразительный овал ярко-оранжевой плоти. Когда все это сделано, вы добавляете пару заключительных штрихов, не оставляющих сомнений относительно вашего злобного гения: в центре этой отвратительной рожи вы укрепляете благородный, вылепленный без изъяна нос, чтобы смущать свое творение мыслями о том, каким оно могло бы быть, а в запавшие глазницы вставляете пару чистых, карих, теплых, умных, красивых, нормальных глаз, исключительно выразительных — таких, чтобы каждый, кто взглянет в них, тут же отвел бы глаза или невольно всплакнул по чувствительной душе, запертой в таком теле. Вы еще здесь, вы меня слышите? Вам, кажется, расхотелось играть в бога? Что на него находит порой? Вы никогда не задумывались над этим? Если подобное создание возникло, когда он был не в духе или расстроен, можно себе представить, что он сотворил, когда был не в духе всерьез, когда он сотворил ад и изгнал туда восставших ангелов. Эта шутка господня снова заговорила, голос был мягкий и добрый: — Прошу прощения. Ты что-то сказал? Я задумался и не расслышал. — Э... гм... я хотел сказать... доброе утро. — Да, утро доброе. Ты новичок, да? — Э... меня зовут Карл... Слим. — Карл Слим? — Нет... э-э... Слим Маккензи. — Разговаривая с ним, мне приходилось задирать голову. — Джоэль Так, — представился он. Я никак не мог привыкнуть к сочному тембру и мягкому тону его голоса. Глядя на него, я скорее ожидал услышать глухой, скрипучий, как разбитое стекло, голос, полный холодной неприязни. Он протянул руку, и я пожал ее. Нормальная рука, разве что побольше, чем у прочих. — Я хозяин «десяти в одном», — сообщил он. — А-а, — отозвался я, стараясь не смотреть на пустой оранжевый глаз — и все равно смотрел. «Десять в одном» — так называлось одно из незначительных шоу, чаще всего выставка уродов, где под одним навесом было собрано не меньше десяти аттракционов — или уродов. — И не только хозяин, — продолжал Джоэль Так. — Я там одна из главных достопримечательностей. — Да уж, — сорвалось у меня. Он расхохотался. От смущения я залился краской, но он не дал мне промямлить извинения. Покачав бесформенной головой, он положил мне на плечо массивную руку и с улыбкой заверил меня, что вовсе не обиделся. — На самом деле, — его неожиданно прорвало, — как-то даже освежает, когда свой брат-балаганщик увидит тебя впервые и не сможет скрыть шок. Ты знаешь, большинство простаков, которые платят за вход в «десять в одном», тычут пальцами, взахлеб обсуждают меня прямо у меня перед носом. Только у некоторых хватает ума или воспитанности, чтобы выйти из балагана иными, лучше, чем они были, когда входили, и благодарить судьбу за то, как им повезло. Куча ничтожных, узколобых... ну, сам знаешь, какие бывают простаки. Правда, балаганщики... иногда они по-своему ничуть не лучше. Я кивнул так, словно понимал, о чем он толкует. Мне удалось отвести взгляд от его третьего глаза, но теперь мое внимание приковал рот-черпак. Он открывался и закрывался с хлопаньем, челюсти шевелились и поскрипывали, и мне вдруг вспомнился Диснейленд. За год до гибели отец повез нас в Калифорнию, в Диснейленд. Он тогда только-только появился, но уже тогда там были говорящие гуманоиды-роботы — так их называли. У них были совсем человеческие лица и движения, очень похожие на наши, — вот только рты... То, как у них открывался и закрывался рот, не имело ничего общего с прихотливыми, легкими движениями живых губ. Джоэль Так казался одним из таких чудовищных говорящих роботов, которого парни из Диснейленда соорудили в качестве шутки, чтобы нагнать страху на Дядюшку Уолта. Да простит меня бог за такую бесчувственность, но я ожидал, что этот гротескный человек будет гротескным и в мыслях, и в речи. А вместо этого я услышал: — Все балаганщики так дорожат своими традициями терпимости и братства. Их дипломатичность порой надоедает. Но ты! Вот ты попал в самую точку. Ни омерзительного любопытства, ни тупого самодовольного превосходства, ни излияний лживой жалости, как у простаков. Никакой рефлексивной дипломатичности или отработанного безразличия, как у большинства балаганщиков. Вполне понятный шок, и ты не стесняешься своей инстинктивной реакции. Мальчик с хорошими манерами, но не лишенный здорового любопытства и, что я приветствую, искренний — вот кто ты есть, Слим Маккензи, и я очень рад с тобой познакомиться. — Взаимно. То, как подробно он разбирал мои поступки и их мотивы, вогнало меня в краску пуще прежнего, но он словно не замечал этого. — Ну, — сказал он, — мне пора. В одиннадцать балаган открывается, надо подготовить «десять в одном» к открытию. К тому же, когда тут простаки, я не выхожу из палатки с непокрытым лицом. Было бы несправедливо, если бы кто-то, кто не желает глазеть на эту рожу, вдруг ее увидел. И потом, я не собираюсь давать этим ублюдкам бесплатное представление. — Ладно, увидимся, — ответил я, и мой взгляд скользнул обратно к третьему глазу, который вдруг моргнул, как бы подмигивая мне. Он отошел на пару шагов, ботинки пятидесятого размера выбили из сожженной августовским солнцем земли несколько облачков белой пыли. Затем он обернулся ко мне и после минутного колебания спросил: — Что тебе нужно от ярмарки, Слим Маккензи? — То есть... в каком смысле... от этой конкретной ярмарки? — От жизни вообще. — Ну... место, где спать. Вздулись желваки, задвигались челюсти. — Это у тебя будет. — Поесть как следует три раза в день. — И это будет. — Денег на карманные расходы. — Этого будет с избытком. Ты молодой, толковый, шустрый. У тебя дела пойдут хорошо. Что еще? — В смысле... что мне еще нужно? — Да. Что еще? Я вздохнул. — Анонимности. — А-а. — Он скорчил не то гримасу, не то заговорщицкую улыбку — не так просто было понять, что выражает это искаженное лицо. Рот был чуть приоткрыт, зубы — точно ржавые, потрепанные временем и погодой колья старой изгороди. Он созерцал меня и обдумывал мои слова, собираясь не то расспрашивать дальше, не то дать мне совет. Но он был слишком хорошим балаганщиком, чтобы быть любопытным, поэтому он просто повторил свое «А-а». — Убежища, — продолжал я, почти надеясь, что он окажется любопытным. Я вдруг задрожал от безумного желания довериться ему, рассказать ему про гоблинов, про дядю Дентона. Вот уже несколько месяцев с того дня, как я убил первого гоблина, чтобы выжить, я требовал от себя неослабевающей устремленности и твердости духа. За все это время я не встретил в своих скитаниях никого, кто, как мне казалось, прошел бы закалку в таком же сильном пламени, как я сам. И сейчас я чувствовал, что Джоэль Так — человек, чье страдание, муки и одиночество были куда острее, чем мои, и длились куда дольше, чем мои. Этот человек мирился с тем, с чем, казалось, невозможно смириться, и делал это с необычайным мужеством и даже изяществом. Наконец я встретил кого-то, кто в состоянии понять, каково это — постоянно жить как в кошмарном сне, не зная ни минуты отдыха. Несмотря на чудовищное лицо, в его облике было что-то отеческое, и мне страстно захотелось прижаться к нему, дать наконец пролиться слезам, после того как я их так долго сдерживал, и рассказать ему о дьявольских созданиях, бродящих по земле, которых никто не видит. Но моим самым ценным даром был самоконтроль, а подозрительность уже не раз оказывалась наиболее полезным для выживания качеством, и я не мог так просто отбросить и то, и другое. Поэтому я повторил: — Убежища. — Убежища, — откликнулся он. — Надеюсь, ты найдешь и это. В самом деле надеюсь, что найдешь, потому что... я думаю, оно тебе очень нужно, Слим Маккензи. Страшно нужно. Эта реплика была настолько не в тон всей нашей короткой беседы, что я вздрогнул. На миг наши взгляды встретились. На этот раз я смотрел не на слепое оранжевое око во лбу, а на два других глаза. Мне показалось, что в них я прочел сочувствие. Психическим восприятием я ощутил в нем отзывчивость, теплоту. Но я ощутил также и скрытность, не проявлявшуюся внешне, в его поведении. Это беспокоило меня — я понимал, что он представляет из себя нечто более сложное, чем кажется, что он каким-то непонятным образом может быть даже опасен. Волна страха прокатилась по моему телу, но я не знал, чего мне бояться — его или того, что с ним может случиться. Это мгновенное ощущение разбилось резко, как хрупкая стеклянная нить. — Увидимся, — сказал он. — Угу, — поспешно ответил я. Во рту пересохло, и так перехватило горло, что больше я не мог ничего сказать. Он повернулся и пошел прочь. Я следил за ним, пока он не скрылся из виду — точно так же, как механик, Рыжий Мортон, следил за мной, пока я шел от карусели. У меня опять мелькнула мысль о том, чтобы покинуть ярмарку и найти место, где предзнаменования не будут так тревожить меня. Но у меня осталось всего несколько пенсов, я устал от одиноких странствий, мне нужно было осесть где-нибудь. К тому же я был достаточно хорошим пророком, чтобы знать — от Судьбы не уйдешь, как бы отчаянно ты ни старался. Кроме всего прочего, ярмарка братьев Сомбра, судя по всему, была вполне подходящим и приветливым местом, чтобы здесь мог обосноваться урод. Джоэль Так и я. Уроды.Глава 6
ДОЧЬ СОЛНЦА
Правление ярмарки располагалось в трех ярко раскрашенных трейлерах, каждый из которых переливался всеми цветами радуги. Они стояли как бы квадратом — не хватало четвертой стороны. Вся конструкция была обнесена переносной металлической оградой. Офис мистера Тимоти Джордана Студня находился в длинном трейлере, стоящем слева, там же обитали бухгалтер и женщина, выдававшая по утрам рулоны билетов. Мне пришлось полчаса подождать в скромной комнатке с полом, покрытым линолеумом, в которой лысый бухгалтер, мистер Дули, сосредоточенно копался в кипах документов. Не прерывая работы, он то и дело брал что-нибудь с тарелки, полной редиски, стручков острого перца и черных оливок, и откусывал кусочек. Пряный аромат его дыхания наполнял комнату, но никто из входивших, похоже, не обращал на это внимания или вовсе этого не замечал. Я был почти готов к тому, что кто-нибудь вбежит и скажет, что пропал кто-то из балаганщиков или даже что его нашли мертвым неподалеку от павильона электромобилей. И тогда их взгляды обратятся на меня, потому что я был посторонним, пришлым, самым подходящим подозреваемым, и тогда они прочтут вину на моем лице, и... Но никто не поднимал тревогу. Наконец мне сказали, что мистер Джордан готов принять меня. Войдя в его офис в задней части трейлера, я с первого взгляда понял, почему он заработал такое прозвище. Он не дотягивал добрых двух-трех дюймов до шести футов роста, дюймов на шесть-семь ниже Джоэля Така, но весил никак не меньше, чем Джоэль, — минимум двести семьдесят фунтов. Лицо его напоминало пудинг, у него был круглый нос, похожий на бледную сливу, и подбородок, бесформенный, как запеченное в тесте яблоко. Когда я шагнул к нему на порог, на его рабочем столе описывала круги игрушечная машинка — миниатюрная копия автомобиля с откидным верхом. В машине сидели четыре жестяных клоуна, которые во время движения по очереди подскакивали и садились на место. Заводя еще одну игрушку, он обратился ко мне: — Взгляни-ка на эту. Только вчера ее получил. Абсолютно замечательная. Абсолютно. Он поставил игрушку, и я увидел, что это была металлическая собака с лапами на шарнирах, при помощи которых она, медленно кувыркаясь, передвигалась по столу. Когда он смотрел на нее, глаза его горели от восхищения. Оглядев комнату, я увидел, что игрушки были повсюду. Одна из стен была украшена книжными полками, но книг на них не было. Вместо них — пестрая коллекция миниатюрных заводных машинок, грузовичков, статуэтки и жестяная мельница, основным предметом гордости которой были, очевидно, вертящиеся лопасти. В углу две марионетки свисали с крючка — чтобы не перекрутились их ниточки, в другом углу — кукла-чревовещатель, заботливо посаженная на табуретку. Я снова взглянул на стол, и как раз вовремя — собака медленно переворачивалась последний раз. Ее пружина раскрутилась до конца, позволив собаке сесть на задние лапы и поднять передние, словно прося одобрения за свои трюки. Студень Джордан поглядывал на меня, широко ухмыляясь: — Ну, разве это не абсолютный абсолют? Я сразу почувствовал к нему симпатию. — Обалденно, — ответил я. — Значит, ты хочешь присоединиться к работе у братьев Сомбра? — спросил он, откинувшись в кресле, как только я сел в другое. — Да, сэр. — Я так полагаю, что ты вовсе не концессионер со своей собственной лавочкой, который хочет купить право на место. — Нет, сэр. Мне только семнадцать. — Ой, только не надо ссылаться на молодость! Я знавал концессионеров не старше тебя. Одна крошка начала в пятнадцать с «веселыми весами». Язык у нее был подвешен отменно, простаки шли как зачарованные, и дела у нее пошли на лад — присоединила к своей маленькой империи еще пару небольших аттракционов, а в твоем примерно возрасте смогла осилить покупку «утиной охоты», а «утиная охота» — штука не из дешевых. Тридцать пять тысяч, так-то. — Ну, думаю, по сравнению с ней меня можно считать в этой жизни неудачником. Студень Джордан ухмыльнулся, ухмылка его была добрая. — Ну тогда ты, должно быть, хочешь стать работником у братьев Сомбра. — Да, сэр. Или, если кому из концессионеров требуется помощник, не важно для чего... — Мне кажется, что ты всего лишь бык, ходячий мускул, каких пруд пруди. Вряд ли способен на большее, чем раскрутить «бомбардировщик» или чертово колесо, — разве что на погрузке-разгрузке стоять да таскать оборудование на своем горбу. Я прав? Кроме пота, ты ничего предложить не можешь? Я подался вперед в кресле. — Я могу работать с любым фокусом на ловкость, какие только существуют на свете, любой аттракцион на победителя. Я управляю «мышкой в норке» ничуть не хуже других. Я могу быть зазывалой, у меня, черт возьми, это выходит лучше, чем у двух из каждых трех, кого я видел, кто зарабатывал на хлеб глоткой во всех труппах и шапито, где я работал. Я, конечно, не утверждаю, что я прирожденный балаганщик из тех, что работают на лучших карнавалах вроде вашего. Я прекрасно подойду на роль Мужика в «облей одним ударом» — во-первых, потому, что не боюсь промокнуть, а во-вторых, потому, что умею хамить простакам не грубо, а весело, а на веселое они всегда лучше реагируют. Я много чего умею делать. — Ну-ну, — заметил Студень Джордан, — как видно, боги нынче улыбаются братьям Сомбра. Черт меня возьми, если это не так — послать нам такого замечательного молодого мастера на все руки. Абсолютно замечательно. Абсолют. — Можете шутить надо мной сколько угодно, мистер Джордан, но, пожалуйста, найдите мне что-нибудь. Я даю слово, что не разочарую вас. Он встал и потянулся, колыхая пузом. — Ну что ж, Слим, я, пожалуй, поговорю о тебе с Райей Рэйнз. Она концессионер, и ей нужен человек для работы с силомером. Занимался этим раньше? — Конечно. — Прекрасно. Если ты ей понравишься и вы найдете общий язык, то все в порядке, оставайся там. Если не найдете, возвращайся ко мне — я тебя пристрою к кому-нибудь другому или запишу в платежную ведомость братьев Сомбра. Я тоже поднялся с места. — А эта миссис Рэйнз... — Мисс. — Раз вы подняли эту тему... с ней трудно найти общий язык или как? — Увидишь. Ладно, теперь что касается того, где спать. Сдается мне, что собственного трейлера у тебя нет, как и концессии, так что тебе надо устроиться в одном из спальных трейлеров шоу. Я посмотрю, кому нужен сосед, и тогда ты заплатишь деньги за первую неделю Монете Дули — бухгалтеру, ты с ним столкнулся в той комнате. Я суетливо дернулся: — Э-э... ну, у меня там снаружи рюкзак и спальный мешок, и, по правде сказать, я предпочитаю раскинуться под звездным небом. Для здоровья полезнее. — Здесь это не позволено, — отрезал он. — Если бы мы такое допустили, тут бы целая куча быков дрыхла на земле, напивались бы в открытую и совокуплялись со всеми — от баб до бродячих кошек, а мы бы выглядели как полнейший бродячий цирк, а мы вовсе не бродячий цирк. Мы держим класс во всем. — А-а. Он поднял голову и покосился на меня: — На мели? — Ну... — Не можешь платить за ночлег? Я пожал плечами. — Две недели будешь жить за наш счет, — сказал он. — После этого будешь платить наравне со всеми. — Ну, спасибо, мистер Джордан. — Зови меня Студнем — ты теперь один из нас. — Спасибо, Студень, но за ваш счет я буду жить только одну неделю. Потом я уже встану на ноги. Ну что, мне отправляться к силомеру прямо сейчас? Я знаю, где он находится, и я знаю, что у вас сегодня открытие в одиннадцать часов, иными словами, ворота откроются через десять минут. Он по-прежнему косился на меня. Под глазами образовались жировые складки, нос-слива сморщился, точно вот-вот станет черносливом. Он спросил: — Ты уже завтракал? — Нет, сэр. Я не был голоден. — Скоро обед. — Я все равно не голодный. — А я всегда голодный, — сообщил он. — Ты вчера вечером ужинал? — Я? — Ты. — А как же. Он скептически нахмурился, порылся у себя в кармане, выудил оттуда пару долларовых бумажек и двинулся из-за стола в мою сторону, протягивая руку с деньгами. — О нет, мистер Джордан. — Студень. — Студень. Я это не могу принять. — Это просто взаймы, — ответил он, взял мою руку и всунул в нее доллары. — Позже отдашь. Это абсолютный факт. — Но я не до такой уж степени на мели. У меня есть немного денег. — И сколько? — Ну... десять баксов. Он опять ухмыльнулся: — Покажи... — Э-э... — Лгун. Сколько в самом деле? Я уставился на собственные башмаки. — Ну, честно? Только правду, — предостерегающе повторил он. — Ну... э-э... двенадцать центов. — О да, я понял. Ты абсолютный Рокфеллер. Силы небесные, да я от стыда готов сквозь землю провалиться, как подумаю, что хотел дать тебе взаймы. Богач в семнадцать лет, не иначе наследник Вандербильда! — Он протянул мне еще два доллара. — А теперь послушай меня, мистер Плейбой-денег-как-грязи. Ты сейчас отправишься в пробегаловку Сэма Трайзера, что возле карусели. Это одна из лучших, к тому же открывается пораньше, чтобы обслуживать балаганщиков. Как следует перекусишь и только потом пойдешь к Райе Рэйнз и ее силомеру. Я кивнул, смущенный своей бедностью, потому что Станфеусс никогда не надеялся ни на кого, кроме Станфеуссов. Тем не менее робкий и клянущий себя, я все же был благодарен толстяку за его добродушную, веселую благотворительность. Я уже дошел до двери и открыл ее, когда он сказал: — Погоди минутку. Обернувшись, я обратил внимание, что он смотрит на меня не так, как вначале. Сперва он измерял меня взглядом, чтобы определить мой характер, возможности и чувство ответственности. Сейчас это был взгляд, каким участник скачек осматривает лошадь, на которую собирается поставить. — Ты сильный юноша, — сказал он. — Хорошие бицепсы. Хорошие плечи. И двигаешься хорошо. Судя по твоему виду, ты бы смог за себя постоять в трудной ситуации. От меня, видимо, ждали какого-нибудь ответа, поэтому я отозвался: — Ну... в общем, да. Мне стало любопытно, что он скажет, если я расскажу ему, что уже убил четырех гоблинов — четырех тварей со свиными рылами, собачьими клыками и змеиными языками, с кровожадными красными глазами и когтями, словно рапиры. С минуту он молча рассматривал меня и наконец заговорил: — Слушай, если ты найдешь общий язык с Райей, на нее ты и будешь работать. Но я хотел бы, чтобы завтра ты выполнил необычную работенку для меня. Вряд ли там будет серьезная заварушка, хотя опасность есть. Неприятности поодиночке не ходят, и на них желательно иметь хороший кулак. Правда, я думаю, что тебе просто придется стоять поблизости с устрашающим видом. — Как пожелаешь, — ответил я. — Даже не спросишь, что за работа? — Это ты можешь объяснить и завтра. — Ты не хочешь даже иметь возможность отказаться? — Нет. — Это связано с определенным риском. Я поднял руку, в которой были зажаты четыре доллара: — Ты купил рискового парня. — Дешево же ты продаешься. — Меня купили не четыре доллара, Студень. Меня купила доброта. От этого комплимента ему стало не по себе. — Выметайся отсюда к черту, лопай свой завтрак и ступай зарабатывать на жизнь. Нам тут бездельников не надо. Чувствуя себя лучше, чем когда-либо за последние месяцы, я вышел в передний офис. Дули Монета сказал, что я могу оставить свое барахло у него, пока они не подыщут мне место трейлере. Затем я отправился в забегаловку Сэма Трайзера, чтобы взять что-нибудь поесть. Такие местечки здесь именовали забегаловками, или пробегаловками, потому что там не было мест, чтобы сидеть — приходилось хватать еду и жевать на ходу. Я купил две превосходные сосиски с соусом чили, жареной картошки, ванильный коктейль и направился к аллее. По сравнению с большинством подобных ярмарок местного значения эта была выше среднего уровня, почти большая — конечно, далеко не такая большая, как крупные ярмарки, например, в Милуоки, Сент-Поле, Топике, Питсбурге и Литл-Роке, где в удачный день только с платы за вход набиралось до четверти миллиона долларов. И все же четверг — уже почти уик-энд. К тому же было лето, дети были на каникулах, многие взрослые — в отпуске. Кроме того, в сельской Пенсильвании ярмарка была самым большим развлечением — люди приходили сюда за пятьдесят-шестьдесят миль. Так что, хотя ворота только-только открылись, в аллее было уже около тысячи посетителей. Все игры и аттракционы были готовы к работе, и их операторы устанавливали турникеты для прохода. Уже заработали некоторые из каруселей. В воздухе витали ароматы попкорна, дизельного топлива, жира — от походной кухни. Двигатель пестрой машины фантазии еще только набирал обороты, но пройдет несколько часов — и он заработает на полную мощность: сотни экзотических звуков, все охватывающее великолепие цвета и движения, разрастающиеся до тех пор, пока в конце концов не будет казаться, что они стали самой вселенной, и невозможно представить, что что-то существует за пределами ярмарочной площади. Проходя мимо павильона электромобилей, я почти ожидал увидеть там полицию и толпу зевак. Но билетный киоск был открыт, машины разъезжали по помосту, а простаки вопили друг на друга, сталкиваясь автомобильчиками. Если даже кто-то и заметил свежие пятна на помосте, он не заподозрил в них кровь. Я раздумывал о том, куда мой неведомый помощник спрятал труп и, когда он в конце концов объявится, что он потребует от меня за свое молчание? Я прошел почти две трети проезда, пока добрался до силомера. Он располагался на внешней стороне аллеи, втиснутый между аттракционом с шариками и маленькой полосатой палаткой гадалки. Силомер представлял из себя простейшее сооружение, состоявшее из деревянной наковаленки размером в восемнадцать квадратных дюймов, подвешенной на веревках и служившей для измерения силы удара, деревянного задника в виде термометра высотой в двадцать футов и колокольчика на верхушке термометра. Парни, желающие произвести впечатление на своих подружек, платили полдоллара, брали у оператора деревянную кувалду и, как следует размахнувшись, били по наковальне. От удара маленький деревянный брусок подскакивал вверх по термометру, на котором были нанесены пять делений: «Бабуля», «Дедуля», «Хороший мальчик», «Крепкий парень» и «Мужчина!». Если ты был «Мужчина» до такой степени, что тебе удавалось поднять брусок до самого верха, чтобы зазвенел колокольчик, то, помимо восхищения девчонки и возможности залезть к ней под юбку до конца вечера, ты получал приз — недорогое чучело животного. Возле силомера стоял стенд с игрушечными медвежатами — они были почти наполовину дешевле обычных призов в такой игре, а на табуретке рядом с медвежатами сидела самая красивая девушка, какую я когда-либо видел. На ней были коричневые вельветовые джинсы и блузка вкрасно-коричневую клетку. Ее тоненькая фигурка была восхитительно пропорционально сложена, хотя, по правде сказать, поначалу я не особенно обратил внимание на ее формы — в первый момент все мое внимание было приковано к ее волосам и лицу. Густые, мягкие, шелковистые волосы, слишком светлые, чтобы быть каштановыми, и слишком каштановые, чтобы считать ее блондинкой, были зачесаны на одну сторону, почти скрывая глаз, как у Вероники Лэйк, кинозвезды прежних лет. Если в ее совершенном лице и был какой-то изъян, так это именно совершенство черт, придававшее лицу мягкий оттенок холодности, отчужденности и неприступности. Глаза были большие, синие и ясные. Свет жаркого августовского солнца струился на нее так, словно она стояла на сцене, а не восседала на обшарпанной деревянной табуретке, и освещал ее по-особенному — не так, как всех остальных на аллее. Солнце, казалось, ласкает ее, светясь радостью, как отец, глядящий на любимую дочь. Оно подчеркивало естественный блеск ее волос, горделиво выставляло напоказ гладкое, точно фарфоровое лицо, с любовью очерчивая скулы и нос, словно созданные ваятелем, не раскрывая полностью, лишь намекало на глубину и множество тайн, скрывавшихся в ее завораживающем взгляде. В полном ошеломлении я стоял и смотрел на нее минуту-другую, слушая, как она зазывает простаков. Поддразнив одного из зевак, она посочувствовала ему, когда он за свои пятьдесят центов не сумел подняться выше «Хорошего мальчика», и с легкостью заставила его выложить еще доллар за три дополнительные попытки. Она нарушала все правила аттракционной болтовни: не насмехалась над простаками даже чуть-чуть, не повышала голос до крика — и тем не менее ее слова странным образом были слышны, несмотря на музыку из палатки цыганки-гадалки, на выкрики зазывалы из соседнего аттракциона с шарами и на растущий несмолкающий гул пробуждающейся аллеи. Что самое необычное — она ни разу не встала со своего места, не прибегала к обычной энергичности балаганщиков — никаких драматических жестов, комических пританцовываний, громких шуток, сексуальных намеков, двусмысленностей — словом, ничего из стандартных приемов. Помимо восхитительно лукавого говорка, она сама была восхитительна. Этого было достаточно, и она была достаточно сообразительна, чтобы знать, что этого достаточно. При взгляде на нее у меня перехватило дух. Шаркающей самоуверенной походкой, какой я нередко пользовался при виде хорошеньких девушек, я наконец подвалил к ней. Она решила, что я — простак, желающий помахать кувалдой, но я ответил: — Нет, мне нужна мисс Рэйнз. — Зачем? — Меня послал Студень Джордан. — Тебя зовут Слим? Райа Рэйнз — это я. — А-а. — В моем голосе сквозило изумление — она казалась совсем девчонкой, едва ли старше меня, и вовсе не производила впечатления хитрого и агрессивного концессионера, каким я воображал своего будущего работодателя. По ее лицу скользнула легкая гримаса, которая, впрочем, не убавила ее красоты: — Сколько тебе лет? — Семнадцать. — А выглядишь моложе. — Скоро будет восемнадцать, — сказал я оправдывающимся тоном. — Так всегда бывает. — То есть? — Потом тебе будет девятнадцать, потом двадцать, а потом тебя уже никто не остановит. — В ее голосе отчетливо слышался сарказм. Я почувствовал, что она из тех людей, которые предпочитают резкость подхалимажу, поэтому заметил с улыбкой: — Похоже, с тобой было совсем по-другому. Мне так кажется, что ты с двадцати скакнула сразу на девяносто. Ответной улыбки я не увидел. Она осталась такой же равнодушной, но гримаса исчезла. — Говорить можешь? — А я что, не говорю? — Ты знаешь, о чем я. Вместо ответа я взял молоток и ударил по наковальне достаточно сильно, чтобы колокольчик зазвенел, привлекая внимание ближайших простаков. Затем, повернувшись лицом к проезду, разразился зазывной речью. Через несколько минут я заработал три доллара. — У тебя получится, — сказала Райа Рэйнз. Разговаривая со мной, она смотрела мне прямо в глаза, и от ее взгляда я вспотел сильнее, чем от солнечных лучей. — Только запомни вот что: во-первых, этот аттракцион — не жульничество, и ты это уже доказал, а во-вторых — никаких отговорок. Жульничество и отговорки не допускаются на ярмарке братьев Сом-бра, и даже если бы допускались, то не у меня. Не так-то просто зазвонить в этот колокольчик, чертовски трудно, правду сказать. Но если простаку это удалось, если он выиграл, то он должен получить приз, а не отговорки. — Понял. Сняв передник для монет и коробочку с мелочью, она передала их мне. Речь ее была решительна и отрывиста, как у деловитого молодого начальника где-нибудь на «Дженерал моторс»: — Я пришлю кого-нибудь к пяти часам, и ты будешь свободен до восьми вечера — поужинаешь, вздремнешь, если надо. Потом вернешься и будешь здесь, пока ярмарка не закроется. Выручку вместе с квитанциями принесешь вечером ко мне в трейлер, там, на лугу. Мой трейлер — «Эйрстрим», самый большой. Ты его узнаешь — он единственный, который прицеплен к новому красному «Шевроле»-пикапу. Если ты будешь играть честно и не вздумаешь сделать глупость — залезть, к примеру, в кошелек и прикарманить часть выручки — у тебя не будет проблем с работой на меня. Я владею еще кое-чем, и я постоянно подыскиваю честного человека, которому можно довериться. Плату будешь получать в конце дня. Если проявишь себя умелым балаганщиком и сможешь поднять дневные сборы, соответственно и заработаешь больше. Если будешь со мной честным, дела у тебя пойдут лучше, чем с кем бы то ни было. Но — слушай внимательно и намотай себе на ус, — если попытаешься надуть меня, малыш, я возьму тебя за яйца и вышвырну вон. Мы поняли друг друга? — Да. — Отлично. Я вспомнил, что говорил Студень Джордан — о девушке, которая начала с «веселых весов» и к семнадцати годам стала владелицей большой концессии, и поинтересовался: — А в кое-что, чем ты еще владеешь, не входит «утиная охота»? — «Утиная охота», один стенд с «веселыми весами», «городки», забегаловка, где торгуют пиццей, детская карусель под названием «Тунервильский трамвайчик» и семьдесят процентов в небольшом шоу, которое называется «Странные животные», — отчеканила она. — Кроме того, мне не двадцать и не девяносто — мне двадцать один, я прошла чертовски долгий путь из ничего за чертовски короткое время. Я далеко не простак, и если ты не будешь это забывать, Слим, то мы с тобой поладим. Не поинтересовавшись, есть ли у меня еще вопросы, она пошла по проезду. При каждом широком решительном шаге ее маленькая, крепкая, аккуратная попка колыхалась под туго облегающей джинсовой тканью. Я глядел ей вслед, пока она не затерялась в прибывающей толпе. Затем, внезапно осознав, в каком я состоянии, я нацепил на себя передник с деньгами, повернулся к силомеру, схватил молоток и семь раз подряд ударил по наковальне так, что колокольчик прозвенел шесть раз. Я не прервался до тех пор, пока не смог глядеть на простаков, не стесняясь явно заметной эрекции. Где-то после полудня я всерьез вошел во вкус, зазывая посетителей показать свою силу. Простаки сначала струились ручейком, этот ручеек вскоре стал ручьем, а ручей — целой рекой, которая текла без конца по проезду в теплом сиянии летнего дня, и я загребал их сверкающие полудолларовые монетки так успешно, как будто обчищал их карманы. Хорошее настроение и энтузиазм не оставили меня даже тогда, когда в два с чем-то часа я увидел первого гоблина за этот день. Я уже привык встречать по семь-восемь гоблинов за неделю, а в тех местах, где работал при большом скоплении народа или когда проезжал большие города, где жителей было много, — даже больше. Я уже давно прикинул, что один из каждых четырех-пяти сотен людей — замаскированный гоблин, то есть только в США их почти полмиллиона. Так что, не приучи я себя к мысли, что встречу их повсюду, я бы свихнулся задолго до того, как попал на ярмарку братьев Сомбра. Теперь я уже знал, что они не ведают, какую угрозу я для них представляю. Им было невдомек, что я могу видеть сквозь их маскировку, поэтому они не проявляли ко мне особого интереса. Я страстно желал убить каждого гоблина, которого видел, — я по опыту знал, что они враждебно настроены ко всему человечеству и у них нет иной цели, кроме того, чтобы приносить боль и несчастья. Однако я редко сталкивался с ними в укромном месте, а поскольку я вовсе не горел желанием узнать, как выглядят тюремные стены изнутри, я не осмеливался убивать ненавистных чудовищ на глазах у свидетелей, неспособных разглядеть демона в человеческом облике. Тот гоблин, что прошел мимо силомера около двух часов, уютно устроился в теле обычного простака: светловолосого, крупного, с открытым лицом славного парня с фермы, лет восемнадцати-девятнадцати, одетого в куртку танкиста, укороченные джинсы и сандалии. Он был в компании двух парней того же возраста, ни один из которых не был гоблином, а он сам казался самым невинным и честным гражданином на свете — острил и веселился в свое удовольствие. Но под человеческим взглядом горели огнем глаза гоблина. Парень с фермы не остановился возле силомера, и я, не прерывая болтовни, наблюдал за ним. Минут через десять я увидел второе чудовище. Это надело маску коренастого седого мужчины лет пятидесяти пяти, но мне была отчетливо видна его сущность. Я знаю — то, что я вижу, — это не настоящий гоблин, упакованный в своего рода пластиковую плоть. Человеческое тело вполне реально. То, что я различаю, — думаю, это либо дух гоблина, либо биологический потенциал его плоти, способной менять свои очертания. В четверть третьего я увидел еще двоих из них. Снаружи это была пара привлекательных девочек-подростков — провинциальные простушки, ослепленные блеском карнавала. А внутри скрывались чудовищные создания с трепещущими розовыми рылами. К четырем часам мимо силомера прошло уже сорок гоблинов, и двое из них даже задержались, чтобы испытать свою силу. К этому моменту мое хорошее настроение улетучилось. В толпе на аллее было не больше шести-восьми тысяч человек, так что количество чудовищ среди них значительно превысило средний уровень. Это было не просто так — что-то должно было случиться в аллее братьев Сомбра во второй половине дня. У этого необычного сбора гоблинов была одна цель — поприсутствовать при людском несчастье и страдании. Этот род, казалось, не просто радуется нашей боли — он расцветает на ней, питается ею, как будто наши муки — их единственная или основная пища. Только на местах трагедий мне доводилось видеть крупные сборища гоблинов: на похоронах четырех игроков футбольной команды, погибших при аварии автобуса в моем родном городе несколько лет назад; на месте страшной автокатастрофы в Колорадо и на пожаре в Чикаго. И сейчас чем больше гоблинов я видел среди нормальных людей, тем сильнее била меня холодная дрожь в жару. К тому моменту, когда до меня дошло, в чем дело, я уже был настолько взвинчен, что серьезно подумывал вынуть из башмака нож, прирезать хотя бы одного-двоих из них и спасаться бегством. Наконец я понял, что должно было случиться. Они пришли поглазеть на аварию в павильоне электромобилей, ожидая, что кого-нибудь из водителей покалечит или убьет. Ну да. Конечно. Так вот зачем этот ублюдок появился здесь прошлой ночью, когда я встал на его пути и убил его. Он готовил «несчастный случай». При мысли об этом я решил, что разгадал его затею — не зря же он возился в энергетическом узле двигателя одной из машинок. Убив его, я, сам того не ведая, спас какого-то бедного простака от удара электрическим током. По линиям связи гоблинов прокатилось сообщение: «Смерть, боль, ужасные ранения и массовая паника — завтра на ярмарке! Не пропустите это восхитительное зрелище! Возьмите с собой жену и детей! Кровь и горящая плоть! Шоу для всей семьи!» Сообщение дошло до них, и они пришли, но обещанного пиршества из людского несчастья не состоялось, и теперь они бродили по ярмарке, гадая, что произошло, возможно, пытаясь разыскать убитого мною гоблина. Начиная с четырех часов и до пяти, когда пришел сменщик, хорошее настроение уверенно возвращалось ко мне — я не видел больше врагов. Освободившись, я еще с полчаса рыскал в толпе, но гоблины, как видно, разочаровавшись, ушли все до одного. Я пошел в забегаловку Сэма Трайзера поужинать. Поев, я почувствовал себя значительно лучше и даже начал что-то насвистывать, направляясь в контору, чтобы узнать, где меня разместили, и по пути столкнулся со Студнем Джорданом. — Ну, как оно? — поинтересовался он, пытаясь перекричать музыку. — Потрясающе. Мы прошли мимо билетной будки, выбираясь из толпы простаков. Он жевал шоколадно-ореховый крем. Облизав губы, он заметил: — Похоже, Райа не отгрызла тебе ухо или палец. — Она очень милая. Он вскинул брови. — Правда, она милая, — продолжал я оправдывающимся тоном. — Может, малость и резковата, слишком прямолинейна. Но это снаружи, а внутри — порядочная женщина, чуткая и достойная. — Да, ты прав. Абсолютно. То, что ты говоришь, меня не удивляет — вот как ты так быстро понял ее, несмотря на ее жесткое поведение? Многим не хватает времени, чтобы разглядеть ее лучшую сторону, а кое-кто и вообще не видит. Я еще больше приободрился, услышав от него подтверждение моему смутному психическому восприятию. Я хотел, чтобы она оказалась доброй. Я хотел, чтобы за поступками Снежной королевы скрывался хороший человек. Я хотел, чтобы она оказалась достойной. Черт возьми, к чему это все — я просто хотел ее, и я не хотел, чтобы объектом моего желания была обыкновенная стерва. — Дули Монета нашел тебе место в одном из трейлеров, — сообщил Студень. — Займись-ка поселением, пока у тебя перерыв. — Так и сделаю, — пообещал я. В совершенно радостном настроении я уже было разошелся с ним и вдруг краем глаза заметил нечто, от чего совсем упал духом. Я дернулся в сторону, молясь, чтобы то, что я видел, мне просто показалось. Но это не было плодом воображения — оно не исчезало. Кровь. Все лицо Студня Джордана было в крови. Ясное дело, не в настоящей крови. Он расправлялся со своим шоколадным кремом, живой и здоровый, и не чувствовал никакой боли. Я увидел кровь зрением ясновидца — знамение грядущего насилия. На лицо живого Студня словно наложили изображение его мертвого лица — открытые невидящие глаза, полные щеки вымазаны кровью. Он плыл по реке времени навстречу не просто ранению, а... приближающейся гибели. Он подмигнул мне: — Что такое? Предупредительный огонь погас. — Что-то не так, Слим? Как я мог сказать ему и заставить поверить мне? И даже если я смог бы убедить его, я не могу изменить будущее. — Слим? — Нет, — отозвался я. — Все в порядке. Я просто... — Ну? — Хотел тебя еще раз поблагодарить. — Ты до омерзения вежлив, малыш. Я просто не могу удержаться и распускаю нюни при виде щенков. — Он нахмурился. — А теперь пошел вон с глаз моих. Я поколебался. Затем, чтобы скрыть смущение и страх, поинтересовался: — Это ты так подражаешь Райе Рэйнз? Он снова подмигнул мне и ухмыльнулся: — Ага. Ну и как оно? — Еще недостаточно грубо. Оставив его хохотать, я пошел прочь, пытаясь убедить себя, что мои предчувствия никогда не сбываются... (хотя они сбывались) ...и что, даже если ему и суждено умереть, это случится еще не скоро... (хотя я ощущал, что это случится совсем скоро) ...и, даже если это должно случиться скоро, наверняка есть что-то, что я могу сделать, чтобы предотвратить это. Что-то. Наверняка есть что-то.Глава 7
НОЧНОЙ ГОСТЬ
Ближе к полуночи толпа начала редеть, и аттракционы стали по одному закрываться, но я не закрывал силомер до половины первого, чтобы получить еще несколько полудолларовых монет — мне хотелось поднять первую дневную выручку до отметки «Мужчина!», а не просто «Хороший мальчик». Когда я закрыл аттракцион и направился в сторону луга, где балаганщики разбили свой лагерь на колесах, было уже несколько минут второго. За моей спиной последние фонари на аллее мигнули и погасли, как будто вся ярмарка сегодня ориентировалась только на меня. Впереди и ниже по ходу, на просторном поле, окруженном лесом, ровными рядами стояло сотни три трейлеров. Большинство из них принадлежали концессионерам и их семьям, но три-четыре десятка были собственностью братьев Сомбра. Эти трейлеры сдавали в аренду тем балаганщикам, кто, подобно мне, не мог позволить себе собственное жилье. Кое-кто называл этот караван Джибтауном-на-колесах. На зимние месяцы, когда ярмарочный сезон заканчивался, большинство этих людей отправлялись на юг, в Джибсонтон, штат Флорида, который местные жители, его основатели, называли Джибтауном. Население этого города составляли исключительно балаганщики. Джибтаун был для них гаванью, надежным тылом, единственным местом на целом свете, где был их настоящий дом. С середины октября до конца ноября они двигались в сторону Джибтауна, вливаясь в этот поток изо всех шоу страны — из крупных компаний вроде И. Джеймс Стрэйтс и из крохотных шапито и бродячих трупп. Там, в солнечной Флориде, их дожидались либо окруженные дивной природой стоянки для трейлеров, либо трейлеры побольше, укрепленные на основательном бетонном фундаменте. В этом убежище они оставались до весны, когда начинался новый сезон странствий. Даже в межсезонье они предпочитали быть все вместе, отдельно от остального мира. Этот мир казался им слишком скучным, неприветливым, полным ненужных правил. И в дороге, независимо от того, куда забрасывала их судьба во время сезона скитаний, они держались своего идеала — Джибсонтона и каждый вечер возвращались в знакомые места, в Джибтаун на колесах. Остальная Америка в последнее время тяготеет скорее к фрагментарности. С каждым годом слабеют связи в этнических группах; церкви и все прочее, что когда-то склеивало общество, теперь повсюду называют бесполезными и даже тягостными. Наши соотечественники словно бы усмотрели в механизме вселенной упорный зов хаоса и, подражая, пытаются тягаться с ним, даже если это ведет к самоуничтожению. Среди балаганщиков, напротив, сохраняется чувство общности, которое берегут, как сокровище, и которое не уменьшается с течением времени. Я спускался по тропинке вниз по холму на луг, теплый, как само лето. Все звуки на аллее смолкли, в темноте раздавалось пение сверчков, и янтарный свет в окошках всех этих трейлеров казался каким-то призрачным. Он словно мерцал во влажном воздухе — это было похоже не столько на электрическое освещение, сколько на огни костров и масляных плошек в примитивных поселениях прежних эпох. И на самом деле, когда темнота окутала все приметы современности, а странная игра света, пробивающегося сквозь абажуры и занавески, размыла их черты, Джибсонтон на колесах стал похож на цыганский табор, защищающийся стеной кибиток от неприязни местных жителей в каком-нибудь сельском уголке Европы в XIX веке. К тому моменту, как я шагнул в проход между ближайшими трейлерами, огни начали гаснуть один за другим — усталые балаганщики ложились спать. На лугу царил покой — характерная черта, порожденная обязательным для балаганщиков уважением к соседям. Не раздавались громкие голоса по радио или телевизору, не было слышно ни одного плачущего ребенка, оставленного без присмотра, ни единой лающей собаки — ничего из того, что всегда услышишь в так называемом респектабельном районе в «правильном» мире. А когда наступит день, то будет видно, что на дорожках между трейлерами нет никакого мусора. Еще днем, во время перерыва, я отнес свои вещи в трейлер, который снимали, кроме меня, еще трое парней. Потом я бродил по лугу, отыскивая трейлер «Эйрстрим», принадлежащий Райе Рэйнз. С тяжелым грузом монет и толстой пачкой долларовых купюр в переднике-кошельке я направился прямо туда. Дверь была открыта, и я увидел Райю. Она сидела в кресле, в масляно-желтом свете настольной лампы, и разговаривала с карлицей. Я постучал в открытую дверь, и Райа отозвалась: — Входи, Слим. Я поднялся по трем металлическим ступенькам лестницы. Карлица обернулась и посмотрела на меня. Она была неопределенного возраста — то ли двадцать лет, то ли пятьдесят, наверняка не скажешь. Ростом дюймов сорок, нормальное тело, укороченные руки и ноги и большая голова. Мы представились. Карлицу звали Ирма Лорас, она заведовала принадлежащим Райе аттракционом «городки». На ней были детские теннисные туфли, черные брючки и свободная блузка персикового цвета с короткими рукавами. Густые глянцевые черные волосы отливали синевой, как вороново крыло. Волосы были красивые, и она явно ими гордилась, судя по тому, сколько сил было потрачено на то, чтобы с таким мастерством подстричь и уложить их вокруг чересчур крупного лица. — Ах да, — сказала Ирма, протягивая маленькую ручку и чуть подергиваясь. — Я наслышана о тебе, Слим Маккензи. Миссис Фрадзелли, которая вместе со своим мужем Тони является хозяйкой «дворца Бинго», говорит, что ты слишком молод, чтобы быть самостоятельным, и что ты безумно жаждешь домашней пищи и материнского внимания. Харв Сивен, хозяин одного из аттракционов-массовок, считает, что ты либо убегаешь от армии, либо драпаешь от копов, поймавших тебя на какой-нибудь ерунде... катался, к примеру, в чужой машине; и в том, и в другом случае он считает тебя стоящим парнем. Балаганщики говорят, что ты знаешь, как надо управлять простаками, и что через несколько лет ты, может статься, будешь лучшим зазывалой на ярмарке. А Боб Уэйланд, владелец карусели, малость обеспокоен, потому что его дочь считает тебя просто принцем из сказки и заявляет, что умрет, если ты не обратишь на нее внимание. Ей шестнадцать лет, зовут ее Тина, и на нее стоит обратить внимание. А мадам Дзена, известная также как миссис Перл Ярнелл из Бронкса, наша цыганка-гадалка, говорит, что ты Телец, что ты на пять лет старше чем выглядишь, и что ты бежишь от несчастной любви. Меня не удивило то, что многие балаганщики прогулялись к силомеру, чтобы взглянуть на меня. Это была тесная община, а я был новичком, так что их любопытство было вполне объяснимым. Тем не менее сообщение о влюбленной Тине Уэйланд смутило меня, а «психическое» видение мадам Дзены рассмешило. — Ну, Ирма, — ответил я, — я и в самом деле Телец, семнадцати лет от роду, ни у одной девушки до сих пор не было даже шанса разбить мне сердце — а если миссис Фрадзелли хорошо готовит, можешь передать ей, что я каждый вечер рыдаю до беспамятства, стоит мне подумать о домашней пище. — И ко мне милости прошу, — с улыбкой ответила Ирма. — Заходи, познакомишься с Поли, моим мужем. В самом деле, почему бы тебе не заглянуть к нам в следующее воскресенье вечером, когда мы обустроимся на следующей остановке нашего маршрута. Я угощу тебя цыпленком с соусом чили, а на десерт — мой знаменитый пирог под названием «Черный лес». — Обязательно загляну, — пообещал я. Насколько мой опыт позволял мне судить, карлики быстрее всех прочих балаганщиков принимали чужака, открывались ему навстречу, были первыми, кто выказывал доверие, улыбался и смеялся. Первое время я склонен был думать, что их, казалось, безграничное дружелюбие вызвано уязвляющим их недостатком — малым ростом. Я рассуждал так: если ты настолько мал ростом, ты просто обязан быть дружелюбным, чтобы не стать легкой мишенью для хулиганов, пьяных и грабителей. Но после того, как я поближе узнал некоторых из этих малышей, я постепенно понял, что мой анализ их открытых натур был не только упрощенным, но и неблагородным. В целом — то же можно сказать и о любом из них — карлики были людьми с сильной волей, уверенные в себе и полагающиеся только на себя. В них было не больше страха перед жизнью, чем в людях нормального роста. У их открытости иные корни, в немалой степени она проистекает из сочувствия, порожденного страданием. Но в ту ночь, в «Эйрстриме» Райи Рэйнз, я был еще молод и всему учился и еще не обладал знанием их психологии. В ту ночь я не понимал также и Райю, но меня потрясло, насколько резко различались темпераменты этих двух женщин. Ирма была сама теплота и открытость, в то время как Райа оставалась холодной и замкнутой. У Ирмы была прекрасная улыбка, и она вовсю пользовалась ею — Райа изучала меня чистыми голубыми глазами, которые впитывали все, но ничего не выпускали наружу. На ее лице ничего нельзя было прочесть. Райа сидела в кресле босиком — одна нога вытянута вперед, другая подогнута. Вся она была воплощением мечты молодого парня. На ней были белые шорты и бледно-желтая футболка. Босые ноги покрыты хорошим загаром. Стройные лодыжки, красивые икры, гладкие коричневые коленки и крепкие бедра. Мне захотелось провести ладонями по этим ногам, ощутить крепкие мышцы ее бедер. Но вместо этого я засунул руки в передник с деньгами, чтобы она не увидела, как они трясутся. Футболка, слегка влажная из-за жары, соблазнительно прилипала к ее полным грудям, и сквозь тонкий хлопок можно было разглядеть соски. Райа и Ирма резко контрастировали друг с другом, слава генетики и ее хаос, верхняя и нижняя ступеньки лестницы биологической фантазии. Райа Рэйнз была концентрацией телесной женственности, совершенством линий и форм, прекрасно воплощенным замыслом природы. А Ирма была напоминанием о том, что, несмотря на сложный механизм и тысячелетия практики, природа редко преуспевала в выполнении задачи, поставленной перед нею богом, — «Доведи это подобие до образа моего». Если природа — божественное изобретение, механизм, вдохновленный богом, а моя бабушка говорила, что так оно и есть, тогда почему бы ему не спуститься и не починить этот чертов механизм? Механизм обладает немалыми возможностями, и доказательством тому была Райа Рэйнз. — Выглядишь ты на семнадцать, — сказала карлица, — но черт меня возьми, если ты действуешь или чувствуешь себя как семнадцатилетний. Не зная, что на это ответить, я лишь пробормотал: — Ну... — Может, тебе и семнадцать, но ты мужчина, яснее ясного. Я, наверное, так и скажу Бобу Уэйланду, что для Тины ты чересчур мужчина. В тебе есть сила. — Что-то... темное, — добавила Райа. — Да, — согласилась Ирма. — Что-то темное. И это тоже. Они были любопытные, но они были также балаганщиками. Они не стеснялись сказать мне, кто я есть, но они в жизни бы не спросили меня обо мне самом без моего согласия. Ирма ушла, и я разложил перед Райей на кухонном столе деньги и квитанции. Она сказала, что выручка была на двадцать процентов выше, чем обычно. Выдав мне дневную плату наличными, она добавила еще тридцать процентов от тех двадцати. Это показалось мне неслыханной щедростью — я прикидывал, что процент от выручки мне будут платить не раньше чем через пару недель. Когда мы закончили расчеты, я снял передник уже безо всякого смущения — эрекция, которую он прикрывал, спала. Она стояла у стола рядом со мной, я по-прежнему видел недостаточно прикрытые контуры ее грудей, и при взгляде на ее лицо у меня по-прежнему перехватывало дух. Но теперь гоночный двигатель моего желания сбавил обороты и лениво вертелся вхолостую — из-за ее деловитости и непримиримой холодности. Я сказал ей, что Студень Джордан попросил сделать для него завтра одно дело, так что я не знаю, когда смогу завтра приступить к работе на силомере, но она была уже в курсе. Она сказала: — Когда закончишь, что там поручит тебе Студень, возвращайся на силомер и подмени Марко, того парня, что работал во время твоего, перерыва. Он поработает, пока ты будешь в отлучке. Затем: — Слим? Я остановился и повернулся к ней: — Что? Она стояла, уперев руки в бока, сердито нахмурившись, сузив глаза, с вызывающим видом. Я решил, что сейчас мне за что-то крепко влетит, но она сказала: — Добро пожаловать на борт. Не уверен, знала ли она, как вызывающе выглядит, и знала ли она, как выглядеть по-другому. — Спасибо, — ответил я. — Приятно почувствовать палубу под ногами. Своим ясновидением я разглядел манящую нежность, особую уязвимость под броней, которую она сотворила, чтобы защититься от мира. Я сказал Студню правду: я в самом деле чувствовал, что за маской крутой амазонки прячется чувствительная женщина. Но сейчас, стоя в дверном проеме и глядя на нее, стоящую в вызывающей позе возле стола, заваленного деньгами, я почувствовал еще кое-что — горечь, которой не замечал раньше. Это была глубокая, хорошо скрываемая и непроходящая меланхолия. И хотя эти психические излучения были смутны и неопределенны, они глубоко взволновали меня. Захотелось вернуться и обнять ее — без каких-либо сексуальных намерений, просто приласкать ее и, может быть, хоть отчасти развеять ее загадочную тоску. Но я не шагнул к ней, не заключил ее в объятия, потому что знал, что мой порыв будет неверно понят. Черт, я живо представил, как она врежет мне коленом в пах, с грохотом вышвырнет из дверей, спихнет по металлическим ступенькам, пока я не поползу по земле, и уволит меня. — Если и дальше будешь хорошо работать на силомере, — сказала она, — надолго там не застрянешь. Я найду для тебя что-нибудь получше. — Буду стараться. Уже направляясь к креслу, в котором сидела, когда я вошел, она добавила: — Я собираюсь покупать еще концессию или две в том году. Большие аттракционы. Мне нужны будут надежные люди, чтобы управлять ими. Я понял — она не хотела, чтобы я уходил. Не то чтобы она заинтересовалась мной, не то чтобы я был неотразим или что-то еще в этом же духе. Райа Рэйнз просто не хотела оставаться одна в этот час. Вообще — да, но только не теперь. Она попыталась бы удержать любого гостя, кто бы он ни был. Но я не стал поступать так, как мог бы, ощутив шестым чувством ее одиночество, — я понял к тому же, что она сама не знает, насколько явно видно это одиночество. Если она поймет, что маска крутой самоуверенности, которую она так тщательно создавала, на время стала прозрачной, она смутится. И разозлится. И, конечно же, даст своему гневу излиться на меня. Поэтому я просто сказал: — Ну, надеюсь, что я тебя не разочарую. — Я улыбнулся, кивнул ей и добавил: — Увидимся завтра. — И вышел наружу. Она не окликнула меня. В глубине моего полуюношеского незрелого, непоколебимо романтического сердца я надеялся, что она позовет меня, и когда я обернусь, то увижу ее в дверном проеме трейлера, и свет будет падать на нее сзади так, что дух захватит, и что она произнесет — мягко и нежно — что-то невообразимо соблазнительное, и мы пойдем в постель навстречу целой ночи безудержной страсти. В реальной жизни ничего подобного никогда не бывает. Дойдя до конца лестницы, я действительно обернулся и посмотрел назад, и я действительно увидел ее, и она действительно смотрела мне вслед, но она по-прежнему была внутри, снова устроившись в кресле. Она представляла собой настолько умопомрачительно сексуальное зрелище, что на какой-то миг я бы не двинулся с места, даже если бы на меня навалился гоблин с глазами, горящими огнем убийства. Ее голые босые ноги были вытянуты и чуть раздвинуты. Свет лампы придавал ее нежной коже маслянистый блеск. Свет ложился так, что между ее грудей пролегли тени, подчеркивающие их соблазнительные очертания. Тонкие руки, нежная шея, светло-каштановые волосы — все светилось величественным золотым светом. Свет не просто показывал и с любовью ласкал ее — более того, она сама казалась источником света, как будто светилась не лампа, а она сама. Ночь пришла, но солнце не покинуло свою дочь. Отвернувшись от открытой двери, я с тяжело бьющимся сердцем сделал шага три в ночь, по тропинке между трейлерами — и потрясенно замер, увидев Райю Рэйнз, возникшую передо мной в темноте. Эта Райа была в джинсах и грязной блузке. Сперва ее образ был колеблющимся, размытым, бесцветным — словно фильм на колышущемся черном экране. Но через секунду-другую она стала четкой и ясной, неотличимой от настоящей, хотя совершенно очевидно не была настоящей. Эта Райа не была, кроме того, эротичной. Ее лицо было мертвенно-бледным, и из одного уголка чувственного рта текла струйка крови. Я разглядел, что блузка ее испачкана не грязью, а кровью. Ее шея, плечи, грудь, живот были темными от крови. Она шептала голосом тихим, как взмах крыла бабочки, слова с трепетом слетали одно за другим с ее губ, мокрых от крови: «Умираю, умираю... не дай мне умереть...» — Нет, — отозвался я еще тише, чем призрак. И, как дурак, шагнул вперед, чтобы обнять и приласкать видение Райи со всей нежностью и мгновенной отзывчивостью, которые покинули меня, когда настоящая женщина нуждалась в ласке и утешении. — Нет, я не дам тебе умереть. С непостоянством, характерным для грез, она пропала. Ночь была пуста. Споткнувшись, я прошел через то место, где в спертом воздухе только что была она. Я упал на колени и склонил голову. В такой позе я оставался некоторое время. Я не желал принимать послание от этого видения. Но я не мог этого избежать. Неужели я преодолел три тысячи миль, неужели я подчинился Жребию, позволив ему выбрать для меня новый дом, неужели я начал обзаводиться новыми друзьями только для того, чтобы увидеть, как все они гибнут в каком-то невозможном катаклизме? Если бы только я мог предвидеть опасность, тогда бы я предупредил Райю, Студня и любого другого, кто мог стать возможной жертвой, и если бы я смог убедить их в моих способностях, они могли бы предпринять что-нибудь, чтобы избежать смерти. Но хотя я усилил восприимчивость насколько это было возможно, я не мог уловить ни малейшего намека на характер надвигающейся катастрофы. Я просто знал, что здесь замешаны гоблины. Мне стало дурно, когда я подумал о грядущих потерях. Не помню, сколько времени я простоял на коленях среди пыли и сухой травы. Наконец я с трудом поднялся на ноги. Никто не видел и не слышал меня. Райа не подошла к двери трейлера и не выглянула наружу. Я был один среди лунного света и пения сверчков. Я с трудом удерживался на ногах. Желудок мутило и сводило спазмами. Пока я был у Райи, большинство окон погасло и, когда я огляделся, еще несколько мигнуло и погасло. Кто-то готовил на ночь глядя яичницу с луком. В воздухе витал божественный аромат — обычно я становился голоден от одного такого запаха, но в моем нынешнем состоянии он только увеличил тошноту. Дрожа, я направился к трейлеру, в котором мне выделили койку. Сегодня утром рассвет принес надежду, и когда я выходил на ярмарку из душевой под трибуной, окрестность казалась мне светлой и полной обещаний. Но точно так же, как некоторое время назад темнота пришла в аллею, так же пришла она и ко мне, просочилась в меня, вокруг меня, наполнила меня всего. Уже почти дойдя до своего трейлера, я осознал, что за мной следят чьи-то глаза, хотя никого не было видно. Прячась за одним из трейлеров, под ним или внутри его, кто-то следил за мной, и я был почти уверен — это тот, кто уволок труп гоблина из павильона электромобилей, а после шпионил за мной из одного из закоулков аллеи, закутанной в ночь. Но я был слишком ошеломлен и чувствовал себя слишком потерянным, чтобы беспокоиться об этом. Я направился к себе в трейлер спать. В трейлере была маленькая кухонька, гостиная, одна душевая и две спальни. В каждой спальне стояло по две кровати. Моим соседом по комнате был парень по имени Барни Куадлоу, грузчик, очень крупный и тугодум. Он был совершенно удовлетворен тем, что просто плывет по течению жизни, не утруждая себя мыслью о том, что с ним будет, когда он станет слишком стар, чтобы поднимать и таскать оборудование. Он был уверен, что ярмарка позаботится о нем, — и это было правдой. Мы уже встречались и перекинулись парой слов, не больше. Я не узнал его как следует, но он казался вполне добродушным, а когда я копнул его своим шестым чувством, то обнаружил самый спокойный характер, с каким мне доводилось сталкиваться. Я подозревал, что гоблин, которого я убил в павильоне электромобилей, был грузчиком, как и Барни. Это объясняло отчасти, почему его исчезновение не вызвало особого шума. Грузчики были не самыми важными из работников. Многими из них двигала страсть к перемене мест, и иногда даже ярмарка передвигалась недостаточно быстро для них, так что они просто исчезали. Барни спал, глубоко дыша, и я старался не разбудить его. Раздевшись до белья, я сложил одежду, повесил ее на стул и растянулся на своей кровати, улегшись поверх покрывала. Окно было открыто, легкий ветерок дул в комнату, но ночь была очень теплой. Я не надеялся заснуть. Но иногда отчаяние бывает похоже на усталость, грузом ложащуюся на мозг, так что неожиданно быстро, не больше чем за минуту, этот груз столкнул меня в объятия забвения. Я проснулся посреди ночи, тихой, как кладбище, и темной, как могила. Мне показалось со сна, что я заметил в коридоре, ведущем в спальню, чью-то тяжелую фигуру. Все лампы были погашены. Трейлер был полон многими слоями теней разной степени темноты, поэтому мне было не видно, кто там стоит. Просыпаться не хотелось, и я сказал себе, что это Барни Куадлоу направляется из ванной или в ванную. Но смутная фигура не удалялась и не вошла внутрь, она просто стояла и наблюдала. К тому же я слышал глубокое размеренное дыхание Барни с соседней кровати. Тогда я сказал себе, что это еще один из соседей по трейлеру... но я виделся и с ними, и ни один из них не был таким крупным. Тогда, одурманенный сном, совсем одурев, я решил, что это, должно быть, Смерть — Старуха с косой собственной персоной, пришедшая, чтобы забрать мою жизнь. Вместо того чтобы заметаться в панике, я закрыл глаза и опять задремал. Смерть сама по себе не могла напугать меня — в том мрачном состоянии духа, которое сопровождало мой сон и наполняло смутные сновидения, я не имел ничего против визита Смерти, если, конечно, это была она. Я вернулся в Орегон. Только таким способом я мог снова вернуться домой. Во сне. Проспав четыре с половиной часа — для меня это был долгий отдых, — я проснулся в четверть седьмого утра. Была пятница. Барни еще спал, как и парни в соседней комнате. Серый свет, похожий на пыль, просачивался в окно. Фигура в коридоре исчезла, если она там вообще была. Так как сна не было ни в одном глазу, я встал и тихонько достал чистую футболку, трусы и носки из рюкзака, который накануне спрятал в шкаф. Потный и грязный, с наслаждением предвкушая душ, я засунул это белье в один из ботинок, взял ботинки, повернулся к стулу, чтобы взять джинсы, и увидел, что на их грубой ткани лежат два кусочка белой бумаги. Я не мог припомнить, чтобы я клал их туда, и в этом тусклом свете я не мог разглядеть, что там написано. Поэтому я захватил их, взял джинсы и тихонько прошел по коридору в ванную. Там я закрыл дверь, включил свет и положил на пол ботинки и джинсы. Я посмотрел на один листок бумаги. Потом на второй. Зловещая фигура в коридоре все-таки не была иллюзией или плодом моего воображения. Она оставила две вещи, которые, как ей казалось, будут мне интересны. Это были контрамарки, из тех, что братья Сомбра пачками выпускали, чтобы подмазать чиновников и очень важных персон в тех местах, где выступала ярмарка. Первая была в павильон электромобилей. Вторая — на чертово колесо.Глава 8
МРАК В ПОЛДЕНЬ
Основанный на угольных холмах, ныне истощенных, поддерживаемый единственным сталелитейным заводом и железной дорогой местного значения, неуклонно угасающий, но еще не до конца осознавший неизбежность упадка, маленький городишко Йонтсдаун (население 22 450 человек, если верить плакату на въезде в город), расположенный в гористом графстве Йонтсдаун, штат Пенсильвания, был следующей остановкой на пути ярмарки братьев Сомбра. Когда в субботу вечером закроется нынешнее представление, все постройки на аллее разберут, упакуют и отправят за сотню миль отсюда через весь штат, на Йонтсдаунскую ярмарочную площадь. Шахтеры, сталевары и железнодорожники привыкли проводить вечера либо у телевизора или в местных барах, либо в одной из трех католических церквей, в которых регулярно устраивались вечеринки, танцы с буфетом. Они примут ярмарку с такой же радостью, с какой приняли ее фермеры на предыдущей остановке. В пятницу утром я отправился в Йонтсдаун вместе со Студнем Джорданом и еще одним парнем по имени Люк Бендинго, водителем. Я сел на переднее сиденье рядом с Люком, а наш дородный босс устроился в одиночестве сзади. Он был аккуратно одет — черные слаксы, легкая летняя рубашка и куртка в «елочку» и выглядел скорее не балаганщиком, а раскормленным деревенским сквайром. Сидя в роскошном, с кондиционером, желтом «Кадиллаке» Студня, мы любовались зеленой красотой по-августовски влажных окрестностей, проезжая сначала через ровную сельскую местность, а затем среди холмов. Мы направлялись в Йонтсдаун, чтобы смазать рельсы перед ярмарочным поездом, который тронется в путь на рассвете в воскресенье. Рельсы, которые мы мазали, были на самом деле не из тех, по каким идут поезда. Эти рельсы вели прямехонько в карманы выборных чиновников и гражданских служащих Йонтсдауна. Студень был генеральным менеджером ярмарки братьев Сомбра — работа ответственная и очень важная. Но он был к тому же и «толкачом», и то, что он делал в этой области, было подчас важнее, чем все, что он делал, закутавшись в мантию генерального менеджера. На каждой ярмарке обязательно работал человек, чья деятельность заключалась в том, чтобы давать взятки государственным служащим. Его называли «толкачом» или «утрясалой», потому что он отправлялся вперед всей ярмарки и утрясал все с полицией, с городскими и окружными чиновниками, а также кое с кем из госслужащих, раздавая «презенты» — конверты с деньгами и пачки контрамарок для семьи и друзей. Если бы ярмарка попробовала обойтись без «толкача» и не тратиться на взятки, полицейские мстительно налетели бы на нее. Они бы позакрывали игры — будь это наичестнейший аттракцион, где не вытряхивают деньги из простаков. Они бы злорадно применяли всю полноту власти, благополучно наплевав на понятие справедливости и право собственности, копы набросились бы на самые что ни на есть пристойные шоу с девицами, не по делу применяли бы постановления Департамента здоровья, чтобы закрыть все забегаловки, именем закона объявили бы опасными для жизни карусели, хотя те и безопасны по своей конструкции — и быстро и эффективно заставили бы ярмарку захлебнуться и смириться. Студень намеревался предотвратить именно такую катастрофу в Йонтсдауне. Он вполне подходил для этой работы. «Толкач»должен был быть обаятельным, смешным и привлекательным, а Студень обладал всеми этими качествами. «Толкач» должен был уметь льстиво говорить, без мыла втереться в доверие и суметь дать взятку так, чтобы она не казалась взяткой. Чтобы поддерживать иллюзию, будто эта плата — не что иное, как дружеский подарок, — и тем самым позволять продажным чиновникам сохранять самоуважение и достоинство, — «толкач» должен был помнить все в подробностях о начальниках полиции, шерифах, мэрах и прочих официальных лицах, с которыми он имел дело год за годом. Это давало ему возможность задавать им вопросы личного характера — о жене, о детях, называя всех по именам. Он должен был интересоваться их жизнью, показывать, что рад снова видеть их. Но он не должен был быть чересчур приятельски настроен — в конце концов он был всего-навсего балаганщик, почти что низшее существо в глазах многих из обычного мира, и чрезмерное дружелюбие наверняка встретило бы холодный отпор. Иногда, конечно, ему приходилось проявлять и твердость, и дипломатично отказываться удовлетворять требования некоторых чиновников, желающих получить большую сумму, чем ярмарка собиралась заплатить. Работа «толкача» была сродни выступлению канатоходца без страховочной сетки между ним и ямой, полной голодных львов и медведей. Пока мы катили по сельским районам Пенсильвании, Студень развлекал Люка Бендинго и меня бесконечным потоком шуток, эпиграмм, каламбуров и веселых анекдотов, собранных им за годы странствий по дорогам. Он рассказывал каждую шутку с видимым удовольствием, декламировал каждую эпиграмму с озорным вкусом и мастерством. Я понял, что для него игра слов, хорошая рифма и неожиданная хлесткая строчка были просто игрушками, годящимися, чтобы скоротать время, когда под рукой не оказывалось других — с полок в его офисе. И хотя он был превосходным генеральным менеджером, в чьем ведении находились операции со многими миллионами долларов, и крутым «толкачом», способным найти достойный выход из сложной ситуации, он тем не менее сознательно вовсю потакал той части своей натуры, которая так и не выросла, — счастливому ребенку, до сих пор с изумлением смотревшему на мир сквозь сорокапятилетний суровый жизненный опыт и немереное количество фунтов жира. Я расслабился и попытался получить удовольствие, и мне это отчасти удалось. Но я никак не мог забыть вчерашнее видение лица Студня, залитого кровью, невидящего взгляда открытых глаз. Однажды я спас свою мать от серьезного увечья, возможно, и от смерти, убедив ее, что моим психическим предчувствиям можно доверять, и уговорив ее лететь на другом самолете. И сейчас, если бы я мог предвидеть, какая именно опасность угрожает Студню, я, возможно, сумел бы убедить и спасти его. Я твердил себе, что в свое время мне явятся более четкие видения и я сумею защитить своих ново-обретенных друзей. И хотя я сам не очень-то верил в это, я все-таки ухватился за эту надежду, удержавшись от стремительного падения в бездну полного отчаяния. Я даже поддался веселью Студня и рассказал несколько известных мне ярмарочных баек, на которые он отреагировал с куда большим весельем, чем они того заслуживали. С самого начала поездки Люк, мускулистый мужчина лет сорока с ястребиными чертами лица, изъяснялся исключительно односложными фразами — «угу», «не-а» и «господи!» — вот, казалось, и весь его словарный запас. Сперва мне показалось, что он либо не в духе, либо откровенно недружелюбен. Но он смеялся не меньше, чем я, да и поведение его нельзя было назвать холодным или отстраненным. Когда же он попытался вступить в беседу фразой, длиннее, чем односложные реплики, я выяснил, что он заика и его молчаливость — именно от этой беды. Как бы между прочим, в промежутках между байками и стишками, Студень сообщил нам кое-что о Лайсле Келско, шефе полиции Йонтсдауна, с которым главным образом ему предстояло иметь дело. Он выдавал информацию небрежно, мелкими частями, словно она не представляла особой важности или интереса, но мало-помалу нарисовал перед нами довольно мерзкую картину. По словам Студня, Келско был неграмотным ублюдком. Но он не был дураком. Келско был редкой гадиной. Но он был гордым. Келско был патологическим лжецом, но, в отличие от большинства лжецов, он не покупался на чужую ложь, поскольку не утратил способности улавливать разницу между правдой и ложью. Ему просто было наплевать на эту разницу. Келско был с садистскими наклонностями, злобный, высокомерный, упрямый тип — самый тяжелый из всех, с кем Студню приходилось иметь дело в этом и в десятке других штатов, где выступала ярмарка братьев Сом-бра. — Ждешь беды? — спросил я. — Келско берет подношения и никогда не требует дать больше, — ответил Студень, — но время от времени он позволяет себе сделать нам предупреждение. — Что это еще за предупреждение? — поинтересовался я. — Дает команду некоторым из своих парней «настучать» нам. — Ты... имеешь в виду поколотить: — неловко уточнил я. — Ты абсолютно угадал, малыш. — И как часто это происходит? — Мы приезжали сюда девять раз с тех пор, как Келско ехал шефом полиции, и это происходило шесть раз из девяти. Люк Бендинго снял руку с крупными костяшками с рулевого колеса и коснулся светлой извилистой полоски длиной в дюйм — шрама, тянущегося от угла правого глаза. Я спросил его: — Это у тебя после драки с людьми Келско? — Угу, — ответил Люк. — Ч-ч-чертовы уб-блюдки. — Ты сказал, что они нас предупреждают, — продолжал я. — О чем предупреждают? Что это еще за чушь? Студень объяснил: — Келско дает нам понять, что хоть он и берет от нас взятки, но не позволит вертеть собой. — А что ж он просто нам этого не скажет? Студень нахмурился и покачал головой. — Малыш, эти места — страна шахтеров, пусть даже тут уже почти ничего не таскают из земли. Она так и останется страной шахтеров, потому что люди, которые работали в шахтах, никуда отсюда не делись, и эти люди никогда не изменятся. Никогда. Разрази меня гром, если такое случится. У шахтеров тяжелая и опасная жизнь, она растит тяжелых и опасных людей, мрачных и упрямых. Для того чтобы спуститься в шахты, ты должен быть либо отчаявшимся, либо глупцом, либо до такой степени крутым, что во что бы то ни стало решил доказать, что ты круче, чем сами шахты. Даже те, кто в жизни ногой не ступал в ствол шахты, все равно они переняли манеры крутых парней у своих стариков. Здесь, среди холмов, люди просто обожают драку как абсолютное развлечение. Если бы Келско просто «наехал» на нас, ограничившись словесным предупреждением, он бы лишился значительной части своего развлечения. Возможно, это было плодом моего воображения, которое подстегнул страх перед полицейскими дубинками — тяжелыми палками и обрезками резинового шланга, — но когда мы поехали по более гористому району, день как будто стал не таким ярким, не таким теплым, не таким многообещающим, каким он был в начале поездки. Деревья показались далеко не такими красивыми, как сосны и ели, которые я помнил еще с Орегона, а крепостные валы восточных гор, геологически более старых, чем Сискию, наводили на мысли о темной и безжалостной эпохе, об упадке, о злобе, рожденной усталостью, Я понимал, что мои чувства окрашивают то, что я вижу, в свои цвета. Конечно, и в этой части мира тоже была своя неповторимая красота, как и в Орегоне. Я понимал, что неразумно приписывать ландшафту человеческие ощущения и намерения, но не мог избавиться от чувства, что нависшие горы следят за нами и намереваются навеки поглотить нас. — Но если люди Келско налетят на нас, — сказал я, — мы не сможем сопротивляться. Ради бога, что ж нам, драться с копами прямо в полицейском участке? Да мы же загремим за решетку по обвинению в нападении и оскорблении действием. Студень отозвался с заднего сиденья: — Ну, разумеется, это произойдет не в полицейском участке. И уж, конечно, не возле здания суда, где мы должны будем наполнить карманы чиновников округа. Даже не в самом городе. Это абсолютно точно. Я это абсолютно гарантирую. Более того, хотя это и будут люди Келско — так называемые служители закона, — на них не будет формы. Он посылает тех, кто не на дежурстве и в гражданской одежде. Они поджидают нас на выезде из города и перегораживают нам дорогу где-нибудь в спокойном месте на шоссе. Три раза они даже сталкивали наш автомобиль с дороги, чтобы мы остановились. — И начинают драку? — спросил я. — Ага. — А вы даете сдачи. — Верно, черт возьми, — подтвердил Студень. Люк подал голос: — К-к-как-то раз С-с-студень с-с-сломал од-дному парню руку. — Вообще-то не стоило мне этого делать, — заметил Студень. — Это уж слишком далеко зашло. Можно было нарваться на неприятности. Развернувшись на сиденье, я взглянул на толстяка по-новому, с большим уважением, и заметил: — Но раз вам разрешено давать сдачи, раз это не просто полицейские колотушки, почему бы не взять пару действиельно здоровых парней с ярмарки и не стереть этих ублюдков порошок? Почему ты взял нас с Люком? — А-а, — ответил Студень, — им это будет не по душе. Они хотят и нам малость врезать, и сами пару раз получить, чтобы было видно, что это взаправдашняя драка, ясно? Они хотят доказать сами себе, что они — ребята с крепкими лбами и железными задницами, прямо как их папочки, но они совсем не хотят, чтобы из них выбили все дерьмо. Если я возьму с собой кого-нибудь вроде Барни Куадлоу или Дика Финн, силача из аттракциона Тома Кэтшэнка, тогда мальчики Келско мигом смоются и не полезут в драку. — Ну и что в том плохого? Вам же не нравятся эти драки? — Вот еще! — отозвался Студень, и Люк откликнулся утвердительным эхом. — Но, видишь ли, — добавил Студень, — если они не получат своей драки, если они будут лишены возможности доставить нам предупреждение Келско, они принесут нам большие неприятности, лишь только мы распакуемся. — А если вы смиритесь с дракой, — продолжил я, — то они не помешают нам заниматься своим делом. — Теперь ты все понял. — Это как бы... драка — дань, которую вы платите за въезд. — Да, что-то вроде. — Это же глупость, — сказал я. — Абсолютная. — По-ребячески. — Как я уже сказал тебе, это шахтерский край. Минуту-другую мы ехали молча. Я гадал, не было ли это той опасностью, что угрожала Студню. Может статься, драка в этом году выйдет из-под контроля. Может статься, кто-то из людей Келско окажется скрытым психопатом и не сможет контролировать себя, обрушившись с кулаками на Студня. Может статься, он будет таким сильным, что никто из нас не сумеет оттащить его до того, как будет слишком поздно. Мне стало страшно. Я глубоко вдохнул и попытался нырнуть в поток психической энергии, постоянно текущий вокруг меня и сквозь меня. Я хотел найти в нем подтверждение моим худшим опасениям, найти указание, пусть самое незначительное, на то, что рандеву Студня Джордана со Смертью произойдет в Йонтсдауне. Но я не ощущал ничего подобного; может, это было и к лучшему. Если беда со Студнем должна была случиться именно там, наверняка я бы уловил какой-нибудь намек. Наверняка. Я вздохнул и сказал: — Полагаю, что я именно тот телохранитель, какой тебе нужен. Достаточно сильный, чтобы не получить серьезных увечий... но недостаточно сильный, чтобы мне не сумели пустить кровь. — Им надо увидеть немного крови, — согласился Студень. — Их это удовлетворит. — Господи. — Я тебя вчера предупреждал, — напомнил Студень. — Я знаю. — Я говорил, что ты должен знать, что за работа тебе предстоит. — Я знаю. — Но ты был до такой степени благодарен за работу, что ухватился за нее, ничего не желая знать. Ты, черт возьми, ухватился, даже не узнав, за что хватаешься, а теперь, уже прыгнув, на полпути смотришь вниз и видишь тигра, который хочет настигнуть тебя и откусить тебе яйца. Люк Бендинго расхохотался. — Я думаю, что получил ценный урок, — заметил я. — Абсолютно, — согласился Студень. — По правде говоря, это настолько важный урок, что я подумываю, что поступил недопустимо щедро, заплатив тебе деньгами за эту работу. Небо начало затягиваться тучами. Поросшие соснами склоны по обеим сторонам шоссе подступили к обочине. Среди сосен попадались искривленные дубы с черными узловатыми стволами, многие из которых были еще изуродованы крупными, вздутыми, похожими на раковую опухоль, одеревеневшими наростами грибка. Мы проехали мимо длинной заброшенной шахты в сотне ярдов от дороги, миновали полуразрушенный шахтный приемник рядом с заросшими сорняками рельсами — все покрытое слоем грязи, затем несколько домишек — серых, облупившихся и требующих покраски. Ржавые остовы автомобилей, установленные на бетонных блоках, попадались на глаза настолько часто, что можно было подумать, что здесь это самое популярное украшение газонов — наподобие ванночек для птиц и гипсовых фламинго в иных местах. — На следующий год, — сказал я, — ты сделай только одну вещь — возьми с собой Джоэля Така, и пускай он пройдет с тобой прямо в кабинет Келско. — Эт-то б-б-будет чт-то-то! — воскликнул Люк и хлопнул ладонью по приборной доске. Я продолжал: — Пусть Джоэль просто стоит рядом с тобой и не говорит ни слова, учти, никаких угроз или недружелюбных жестов. Пускай он даже улыбается, очень дружелюбно улыбается и просто глядит на Келско своим третьим глазом, пустым оранжевым буркалом — и я готов поспорить, что никто не будет ждать вас на выезде из города. — Да уж, конечно, не будут! — согласился Студень. — Они все будут сидеть в полицейском участке и стирать обгаженные трусы. Мы засмеялись, и напряжение немного отпустило нас. Но нашему настроению не суждено было вернуться на прежнюю высоту, потому что через несколько минут мы въехали в Йонтсдаун. Невзирая на свою современную промышленность — сталелитейный завод, чьи серые дымы и белый пар клубились вдалеке, и оживленную железную дорогу, — Йонтсдаун выглядел и жил как средневековый город. Летнее небо быстро заволакивало свинцовыми тучами, и под этим небом мы катили по узким улочкам, пара из которых была вымощена натуральным булыжником. Хотя окрестные холмы были выработаны и продавалось большое число земельных участков, дома стояли очень кучно, каждый пытался потеснить другой, навалиться на него. Некоторые из домов словно мумифицировались, покрывшись траурной коркой серо-желтой грязи, добрая треть нуждалась в покраске, в ремонте крыши или в новом настиле для просевшего крыльца. На магазинах, на бакалейных лавках, на офисах — на всем лежала печать мрачного увядания. Если и были где признаки процветания, то их не было заметно. Черный железный мост времен Великой депрессии соединял берега мутной реки, делившей город на две части. Шины «Кадиллака» затянули унылую, скорбную песню на одной ноте, когда мы проезжали по металлическому покрытию пролета. Высотных зданий было немного, и все — от силы в шесть-восемь этажей. Эти строения из кирпича и бетона усиливали средневековую атмосферу — мне, по крайней мере, они напомнили замки в миниатюре: слепые окна, будто в целях обороны, были не шире щелей для лучников; подъезды были утоплены внутрь, а массивные дверные крепления из гранита были несоразмерно крупными по сравнению с небольшой нагрузкой, которую несли. Сами подъезды казались такими охраняемыми и неприветливыми, что я бы не удивился, увидев над каким-нибудь из них острые колья опускной решетки. То там, то здесь на плоских крышах виднелись зубчатые выступы, как на стенах замка. Мне не понравилось это место. Мы миновали беспорядочно построенное двухэтажное кирпичное здание, одно крыло которого было выжжено пожаром. Черепичная крыша в нескольких местах провалилась, большинство стекол полопалось от жара. Над каждым из пустых окон кирпичная стена, выцветшая за многие годы, из-за накапливавшейся грязи с завода, шахт и железной дороги была отмечена угольно-черными мазками сажи. Восстановительные работы уже начались — проезжая мимо, мы заметили строителей. — Это единственная на весь город начальная школа, — сообщил Студень с заднего сиденья. — Был страшный взрыв в апреле прошлого года — в котельной взорвался бак с нефтью, хотя день был теплый и топка была отключена. Даже не знаю, докопались ли они, в чем было дело. Жуткая вещь. Я об этом в газетах читал. На всю страну стало известно. Семеро малышей сгорели, просто кошмар. Правда, могло быть много хуже, если бы среди учителей не оказалось нескольких героев. Просто чудо, что они не потеряли сорок-пятьдесят детей, если не сотню. — Г-г-господи, к-к-какой ужас, — вымолвил Люк Бендинго. — Маленькие д-д-дети. — Он покачал головой. — Иног-гда этот мир б-бывает тяжким. — Воистину так, — откликнулся Студень. Я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на школу, которую мы уже проехали. Я уловил очень плохие колебания, шедшие от выгоревшего здания, наполнившие меня непоколебимой уверенностью, что в будущем его ждет еще большая трагедия. Мы притормозили на красный свет возле кафе. Перед входом стоял газетный автомат. Из окна машины я сумел прочесть заголовок в «Йонтсдаун реджистер»: «ЧЕТВЕРО УМЕРЛИ ОТ БОТУЛИЗМА НА ЦЕРКОВНОМ ПИКНИКЕ». Студень, видимо, тоже разглядел заголовок, потому что заметил: — Этому бедному, проклятому городу ярмарка нужна, как никогда. Проехав еще два квартала, мы свернули на стоянку перед муниципальным зданием, бок о бок с несколькими черно-белыми патрульными машинами, и вылезли из «Кадиллака». Это громадное четырехэтажное строение из песчаника и гранита было самым средневековым из всех. В нем располагались и городской совет, и полицейское управление. Узкие, глубоко посаженные окна были забраны железными решетками. Плоскую крышу окружала ограда в виде невысокой стены, смахивающая на крепостную стену еще сильнее, чем все, что я видел до того, с аккуратным рядом бойниц и зубцов. Сами зубцы — высокие каменные выступы, чередовавшиеся с амбразурами, — были украшены не только щелями для стрел и гнездами, но над каждым красовалось острое подобие конька. Муниципалитет Йонтсдауна отталкивал не только своей архитектурой — в самом здании ощущалась некая злобная жизнь. Меня не оставляло чувство беспокойства — казалось, что это нагромождение камня, бетона и стекла каким-то образом обрело способность мыслить, что оно наблюдает, как мы вылезаем из машины и радостно направляемся сквозь частокол зубов в распахнутую пасть дракона. Я не знал, было ли это неприятное ощущение психическим по своей природе или мое воображение уже вовсю завладело мною. Иногда бывает нелегко определить точно, что это. Очень может быть, что со мной приключился приступ паранойи. Может быть, я видел опасность, боль и смерть там, где их и в помине не было. Я подвержен приступам паранойи. Вполне это допускаю. Любой стал бы параноиком, если бы мог видеть то, что вижу я, — нелюдей, которые замаскировались и ходят среди нас. — Слим? — окликнул меня Студень. — Что стряслось? — Э-э... ничего. — Какой-то ты бледный. — Я в порядке. — Здесь они на нас не наскочат. — Я за это не беспокоюсь. — Я же тебе сказал... в городе ничего не произойдет. — Я знаю. Я драки не боюсь. Не волнуйся за меня. Я никогда в жизни не убегал от драки и уж, конечно, не убегу от этой. Студень нахмурился и ответил: — Я и не думал, что убежишь. — Пошли поглядим на Келско, — сказал я. Мы вошли в здание со служебного входа — никто, собираясь давать взятку, не заходит через главный вход, не называет секретарю свое имя и то, зачем явился. Студень вошел первым, сразу после него Люк и последним я. Придержав дверь, я кинул взгляд на желтый «Кадиллак» — самое яркое пятно в унылом городском ландшафте. По мне, так он был даже чересчур ярким. Мне пришли на ум яркие пестрые бабочки, чей блистательный наряд привлекает хищных птиц; последний взмах пестрых крыльев — и нет ее. «Кадиллак» вдруг показался мне символом нашей наивности, незадачливости и уязвимости. Задняя дверь вела в служебный коридор. С правой стороны наверх уходила лестница. Студень полез по ней, мы — за ним. Было две минуты первого, а наша встреча с шефом Лайслом Келско была назначена на обеденное время — но не на время обеда. Мы же были балаганщики, а большинство людей из мира «правильных» предпочитали не портить аппетит встречей с нам подобными. Особенно те из «правильных», чьи карманы мы украдкой наполняли взятками. Каталажка и полицейский участок размещались на первом этаже в этом крыле, но кабинет самого Келско располагался отдельно. Мы миновали шесть пролетов бетонной лестницы, прошли через пожарный выход в коридор третьего этажа, и никто не попался нам навстречу. Пол в коридоре был устлан темно-зеленым линолеумом, вытертым до яркого блеска. В воздухе витал неприятный запах какого-то дезинфицирующего средства. Пройдя по коридору три двери от заднего входа, мы вошли в личный кабинет начальника полиции. В верхней части двери было вставлено матовое стекло, на котором черными буквами по трафарету были написаны его имя и должность. Дверь была не заперта. Мы вошли внутрь. У меня вспотели ладони. Сердце бухало, как барабан. Но почему, я не знал. Независимо от того, что бы ни говорил Студень, я опасался засады. Но в этот момент меня страшило не это. Что-то другое. Что-то... неуловимое... В приемной не горела лампа, а единственное окошко возле бака с питьевой водой было зарешечено. Небо, еще утром по-летнему голубое, сейчас почти полностью уступило натиску армады темных туч, а пластины жалюзи застыли на полпути между горизонтальным и вертикальным положением, так что тусклый свет, попадавший внутрь, едва выхватывал из темноты металлические шкафчики картотеки, рабочий стол со стоящими на нем тарелкой и кофейником, пустую вешалку, огромную карту страны на стене и три деревянных стула возле одной из стен. Смутно виднелась громада стола секретарши — полный порядок на столе и никого за столом. Лайсл Келско, очевидно, отослал секретаршу на обед пораньше, чтобы исключить возможность того, что она услышит что-либо. Дверь во внутренний кабинет была приоткрыта. За ней горел свет, и, надо думать, там было что-то живое. Студень без колебаний двинулся через неосвещенную комнату по направлению к этой двери. Мы последовали за ним. Мне все сильнее сжимало грудь. Во рту было так сухо, словно я перед этим ел пыль. Студень легонько постучал во внутреннюю дверь. Через узкую щель донесся голос: — Входите, входите. Это было сказано баритоном, и даже в этих двух коротких словах слышалась спокойная властность и самодовольное превосходство. Студень вошел внутрь, Люк — сразу за ним. Я услышал голос Студня: — Мое почтение, шеф Келско, рад снова видеть вас. — И, когда я вошел последним, моему взору предстала на удивление простая комнатка — серые стены, белые жалюзи на окнах, простая мебель, на стенах ни одной картины или фотографии — безликая, почти как тюремная камера, а затем я увидел Келско, сидящего за большим металлическим столом и глядящего на нас с неприкрытым презрением, и у меня перехватило в горле, потому что внешность Келско была фальшивкой. Под человеческой оболочкой я увидел самого злобного гоблина, какой когда-либо попадался мне на глаза. Мне, наверное, следовало бы догадаться, что в таком месте, как Йонтсдаун, гоблины вполне могут прийти к власти. Но мысль о людях, живущих под злобной властью этих созданий, была настолько невыносима, что я отогнал ее. Я так никогда и не пойму, как мне удалось скрыть свое потрясение, отвращение и проникновение в злобную тайну Келско. Я стоял как пень возле Люка, сжав кулаки, застывший, но заведенный от страха как пружина. Я ощущал себя котом с глазами, полными ужаса, выгнувшим спину дугой. Я был уверен, что Келско заметит мое отвращение и немедленно раскусит, в чем дело. Но он не заметил и не раскусил. Едва взглянув в нашу с Люком сторону, он обратил все внимание на Студня. Келско было пятьдесят с небольшим, росту примерно пять футов девять дюймов. Это был коренастый мужчина с примерно сорока фунтами лишнего веса. Одет он был в униформу цвета хаки, но револьвера не носил. Под ежиком волос стального цвета — грубое, тяжелое, квадратное лицо. Над глазами, в крепких костяных скобках глазниц, срослись кустистые брови, рот — злобная прорезь. Гоблин внутри Келско тоже не был отрадой для взора. Все чудовища, которых я когда-либо встречал, были по меньшей мере кошмарны, но по-разному. У кого-то из них глаза были не такие свирепые, у кого-то — зубы не такие острые, как у других. У кого-то морды не такие хищные, как у их злобных собратьев. (Для меня эти незначительные различия в гоблинских обликах служили доказательством того, что они существуют на самом деле и не являются плодом больного воображения; ведь если бы я воображал их себе, если бы они были просто воплощением первобытных страхов безумца, они бы все были на одно лицо. Разве не так?) Дьявольское создание внутри Келско тоже было красноглазым, но эти глаза не просто горели ненавистью, в них жидким огнем горела сама суть ненависти. Его глаза были более пронзительны, чем у любого из гоблинов, с которыми мне приходилось сталкиваться до этого. Зеленая, как надкрылья у жука, кожа вокруг глаз была покрыта сетью трещинок, утолщение вокруг них смахивало на повязку на шраме. Омерзительно мясистое раздвоенное свиное рыло казалось еще более отвратительным из-за наростов кожи вокруг ноздрей — бледных, морщинистых, трепетавших и влажно блестящих, когда оно втягивало или выдыхало воздух. Возможно, эти наросты были следствием огромного возраста. И в самом деле, психические излучения, струившиеся от него, производили впечатление невероятно древнего зла — настолько древнего, что по сравнению с ним пирамиды казались искусством модерна. Это было ядовитое жаркое из злобных эмоций и нечистых помыслов, веками кипевшее на сильном огне, даже после того, как последние намеки на милосердие или добрые помыслы окончательно выкипели. Студень играл роль «толкача-льстеца» с энтузиазмом и потрясающим мастерством, а Лайсл Келско изображал самого заурядного безнадежно тупорылого, с чугунной задницей, узколобого, аморального, властного копа из шахтерского края. Студень играл убедительно, но тварь, игравшая роль Келско, заслуживала «Оскара». В некоторые моменты его игра была настолько безупречной, что даже перед моим взором человеческая глазурь оказывалась непрозрачной, гоблин начинал таять, пока не становился лишь аморфной тенью внутри человеческой плоти, так что мне приходилось напрягаться, чтобы его изображение вновь стало четким. Для меня наше положение стало еще невыносимее, когда через минуту после нас в кабинет Келско вошел другой офицер и закрыл дверь. Он тоже был гоблином. Этот был в оболочке мужчины лет около тридцати, высокого худого шатена с густыми волосами, аккуратно зачесанными назад, над красивым итальянским лицом. Гоблин в его сердцевине был страшным на вид, но далеко не таким отталкивающим, как чудовище внутри Келско. Я аж подскочил, когда дверь за нами затворилась с глухим стуком. Со своего кресла, с которого он не соизволил подняться, когда мы вошли, и из которого он бросал только стальные взгляды и краткие недружелюбные реплики в ответ на любезную болтовню Студня, шеф Лайсл Келско бросил на меня короткий взгляд. Я, должно быть, выглядел странно — Люк поглядел на меня с таким же странным видом и подмигнул, давая понять, что все путем. Когда молодой полицейский прошел в угол и встал там, скрестив руки на груди, оставаясь в моем поле зрения, я немного расслабился, но только чуть-чуть. Мне никогда раньше не доводилось оказываться в одной комнате с двумя гоблинами сразу, не говоря уже о гоблинах в обличье копов, один из которых был вооружен. Мне хотелось наброситься на них, хотелось бить по их ненавистным злобным лицам, хотелось бежать, хотелось выхватить из-за голенища нож и всадить его Келско в глотку, хотелось кричать, хотелось блевать, хотелось вырвать у молодого копа его револьвер и отстрелить ему башку, всадив заодно несколько пуль в грудь Келско. Но я мог лишь стоять на месте подле Люка, прогнать страх из глаз и с лица и пытаться выглядеть устрашающе. Наша встреча длилась от силы минут десять и ни на йоту не была такой тяжелой, как я ожидал, наслушавшись Студня. Келско не насмехался над нами, не унижал и не задирал нас до такой степени, до какой мог, по словам Студня. Он был далеко не таким требовательным, саркастичным, грубым, сквернословящим, вздорным и угрожающим, как Келско из ярких описаний Студня. Он был холоден, это верно, надменен, тоже верно, и полон неприкрытого отвращения к нам. В этом не было сомнений. Он был сверх предела заряжен яростью, точно провод высокого напряжения. И если бы мы разрезали изоляцию — оскорбив его, ответив на его выпад или дав малейший намек на то, что считаем себя выше его, он бы ударил нас зарядом в тысячи вольт, которого мы бы не позабыли вовек. Но мы оставались послушными, раболепными, старались услужить ему, и он сдерживал себя. Студень положил на стол конверт с деньгами, присовокупил к нему несколько пачек контрамарок, — все это с шутками и расспросами о здоровье семьи. Мы быстро управились с тем, за чем явились, и получили разрешение удалиться. Мы вышли в коридор, прошли по третьему этажу назад к служебному входу, поднялись на четвертый этаж — он был совсем пуст, обеденный перерыв был в самом разгаре — и пошли мимо вереницы унылых залов, пока не достигли крыла, в котором размещался кабинет мэра. При ходьбе наши шаги отдавались от темного линолеума. С каждым шагом Студень становился все более беспокоен. Улучив минуту, когда пришло облегчение от того, что я покинул компанию гоблинов, и припомнив все, что говорил по дороге Студень, я заметил: — Ну что ж, не так и плохо. — Во-во. Это-то меня и беспокоит, — откликнулся Студень. — И м-м-меня, — подтвердил Люк. — Вы это о чем? — поинтересовался я. — Чересчур просто, будь оно неладно, — пояснил Студень. — Сколько я его помню, в жизни Келско таким сговорчивым не был. Что-то тут не то. — А что? — спросил я. — Хотел бы я знать, — отозвался Студень. — Чт-то-то будет. — Что-то, — согласился Студень.* * *
Офис мэра был далеко не такой скромный, как у начальника полиции. Элегантный стол красного дерева, прочая мебель — дорогая и со вкусом подобранная, в стиле английских мужских клубов высшего разряда, обтянутая зеленой с желтизной кожей, пол покрыт роскошным ковром золотого оттенка. Стены украшали почетные грамоты и фотографии, на которых Его Честь был увековечен принимающим участие в различных благотворительных мероприятиях. Альберт Спекторски, избранный народом занимать этот кабинет, был высоким цветущим мужчиной, одетым в консервативный синий костюм, белую рубашку и синий галстук. Черты его отражали его слабости. Склонность сытно покушать была видна на круглом луновидном лике и множестве подбородков под сочным ртом. Любовь к хорошему виски отразилась на лопнувших кровеносных сосудиках на щеках и на носу-луковице, благодаря чему он, казалось, пышет румянцем. И еще во всем его облике присутствовал неуловимый, но совершенно отчетливый аромат неразборчивости, сексуального извращения и похоти бабника. Тем, что его избрали, он, без сомнения, был обязан удивительно теплой улыбке и смеху, притягательным манерам и способности вникать в твои слова с такой готовностью и симпатией, что начинало казаться, что ты — самая важная персона на свете, по крайней мере для него. Это был балагур, рубаха-парень, этакий «здорово-брат-сто-лет-не-виделись». И все это была фальшивка. Потому что на самом деле, подо всем этим, он был гоблином. Мэр Спекторски не проигнорировал нас с Люком, в отличие от Келско. Он даже подал нам руку. И я пожал ее. Я дотронулся до него и умудрился сохранить контроль над собой, а это было не просто — дотронуться до него было еще хуже, чем до любого из тех четырех гоблинов, что я убил за последние четыре месяца. Дотронуться до него — это все равно что столкнуться нос к носу с сатаной и быть вынужденным пожать руку ему. Как будто поток желчи, зло хлынуло из него, вливаясь в меня в том месте, где соприкасались наши руки, загрязнив меня и лишив сил. Молния безжалостной ненависти, злобы и ярости вырвалась из него, ударила меня и заставила пульс подскочить не меньше чем до ста пятидесяти ударов в минуту. — Рад вас видеть, — сказал он, широко улыбаясь. — Рад вас видеть. Мы здесь всегда с нетерпением ожидаем ярмарки. Этот гоблин изображал человека совершенно так же удачно, как и шеф Лайсл Келско. И так же, как и Келско, этот был на редкость отвратительным представителем своей породы. Зубы его сточились, он высох, покрылся наростами и оспинами, только что не опрыщавел с течением бессчетного количества лет. Его сверкающие алые глаза, казалось, впитали свой цвет из океанов человеческой крови, пролившейся только по его вине, и из немереных глубин человеческой агонии, которую наша истерзанная раса испытывала только по его вине. Студень и Люк вышли от мэра Спекторски чуть успокоенные, потому что, как они сказали, он был такой же, как и всегда. Но мне стало еще тревожнее. Студень был прав, говоря, что они собираются что-то предпринять. Сильнейший, необоримый холод проник в каждый уголок моего тела. В костях застыл лед. Что-то было не так. И это было очень скверно. Помоги нам, господи.* * *
Судебная палата графства Йонтсдаун располагалась через дорогу напротив муниципалитета города. В офисах, прилегающих к залу суда, занимались своими делами множество служащих. В одной из этих анфилад комнат нас ожидала Мэри Ваналетто, президент совета графства. Она тоже была гоблином. Студень отнесся к ней совсем иначе, нежели к Келско и Спекторски. Но не потому, что он ощущал, что она гоблин, либо что-то большее — или меньшее, — чем человеческое существо, а потому, что она была женщина, к тому же привлекательная. Она выглядела лет на сорок, худенькая брюнетка с большими глазами и чувственным ртом, и когда Студень начал расточать обаяние, она отреагировала таким же образом — зарделась, начала кокетничать, хихикать, попавшись на удочку его комплиментов, так что он и сам принял это все за чистую монету. Было ясно, что он думает, будто производит на нее бог знает какое впечатление, но я видел, что его актерству далеко до ее игры. Умело прячась за человеческой маскировкой, гоблин — далеко не столь древний и состарившийся, как Келско и Спекторски, — сильнее всего жаждал одного — убить Студня, убить нас всех. Насколько мне было известно, таково желание любого гоблина — получить удовольствие от пролития крови людей, одного за другим. Но не в утомительно однообразной резне, не в одном долгом кровопролитии — они хотели проливать нашу кровь порциями, убивая по одному, чтобы посмаковать кровь и страдания. У Мэри Ваналетто было то же самое садистское стремление, и, глядя, как Студень держит ее за руку, похлопывает по плечу и рассыпается в любезностях, я изо всех сил удерживался от того, чтобы оторвать его от нее и завопить: «Бежим!» Что-то еще было в Мэри Ваналетто, нечто помимо ее истинной гоблинской сущности, от чего у меня мурашки пошли по коже. Это было нечто, с чем я еще ни разу не сталкивался и чего не мог вообразить даже в самых страшных кошмарах. Через прозрачную человеческую глазурь я рассмотрел не одного гоблина, а четырех: одну тварь большого размера, как те, к которым я уже привык, и три маленьких бестии с закрытыми глазами и не до конца сформировавшимися чертами. Эти три, казалось, существуют внутри большого гоблина, изображавшего Мэри Ваналетто, точнее, в чреве твари, и неподвижно скорчились в легко распознаваемых зародышевых позах. Это ужасное, отвратительное, противное чудовище было беременно. Мне никогда не приходило в голову, что гоблины способны размножаться. Мне хватало того, что они вообще существуют. Предположение о целых поколениях еще не рожденных гоблинов, предназначенных пасти человеческое стадо, было немыслимым. Напротив, я считал, что они взошли на землю из ада или спустились из другого мира и их количество на планете было таким же, что и вначале. Я представлял их себе самыми загадочными и безупречно (хотя и злобно) стерильными творениями. И не больше. Пока Студень шутил и развлекал Мэри Ваналетто, а Люк ухмылялся, слушая их остроты и рассевшись на стуле сбоку от меня, я пытался прогнать от себя тошнотворную мысленную картину: гоблин с собачьей мордой вонзает отвратительно деформированный член в холодную, мутировавшую вагину красноглазой суки со свиным рылом, оба они задыхаются, хрюкают, из пасти течет слюна, покрытые наростами языки высунулись, гротесковые тела дергаются в экстазе. Но стоило мне прогнать от себя это невыносимое зрелище, как ему на смену пришло другое, еще хуже: новорожденные гоблины, маленькие, по цвету как личинки, гладкие, влажно блестящие, с тусклым безумным мерцанием в красных глазах, с крохотными острыми коготками и заостренными зубами, еще не превратившимися в зловещие клыки, все трое, скользя, толкаясь и извиваясь, лезут наружу из зловонного лона матери. Нет. Господи Исусе, пожалуйста, не надо, если я сейчас же, сию минуту не отгоню от себя это зрелище, я вытащу из-за голенища нож и уничтожу эту женщину из йонтсдаунского совета графства прямо на глазах у Студня и Люка, и тогда никто из нас не выберется живым из этого города.* * *
Каким-то образом я стерпел. Каким-то образом я выбрался из этого офиса, не повредившись умом и не вытащив нож из ботинка. Направляясь к выходу из здания окружного суда, мы миновали гулкое фойе с мраморным полом и громадными окнами, со сводчатым потолком, из которого вел путь в главный зал суда. Повинуясь порыву, я шагнул к тяжелым дубовым дверям с латунными ручками, с треском открыл одну створку и заглянул внутрь. Слушание дела подходило к концу, поэтому решено было не прерываться на обед. Судья был гоблином. Прокурор был гоблином. Двое охранников в форме и судебная стенографистка были натуральными людьми, но трое из членов коллегии присяжных были гоблинами. Я услышал голос Студня. — Что ты там делаешь, Слим? Еще более потрясенный тем, что увидел в зале суда, я вернулся к Студню и Люку, неслышно притворив дверь. — Ничего. Просто полюбопытствовал. Выйдя наружу, мы направились к перекрестку — перейти улицу. Я всмотрелся в остальных пешеходов и в водителей за рулем, остановившихся на сигнал светофора. Из сорока людей на этой грязной центральной улице я увидел двух гоблинов, что было в двадцать раз выше среднего соотношения. Мы уже дали все взятки и теперь направлялись во двор здания муниципалитета, на автостоянку, расположенную позади него. Не доходя футов двадцати до желтого «Кадиллака», я сказал: — Секунду. Мне надо глянуть кое на что, — развернулся и быстро зашагал в обратном направлении. Студень крикнул мне в спину: — Ты куда? — Одну минуту, — откликнулся я, переходя на бег. Сердце у меня стучало как молот, легкие расширялись и сжимались с гибкостью, достойной чугуна. Я обошел муниципальное здание сзади по кругу, прошел к фасаду, затем вверх по нескольким гранитным ступеням, через стеклянную дверь, в вестибюль, не такой роскошный, как в здании суда. На первом этаже располагались офисы различных городских правительственных служб, а налево — полицейский участок. Я толкнулся в двери, отделанные орехом и застекленные «морозным» стеклом, и оказался в прихожей, огороженной деревянными перилами. Дежурный сержант сидел за рабочим столом на платформе, возвышавшейся над полом на пару футов. Он был гоблином. Держа в руках шариковую ручку, он поднял глаза от карточки, с которой работал, глянул на меня сверху вниз и спросил: — Что вам угодно? За его спиной было обширное открытое пространство, на котором находилась дюжина столов, множество высоких шкафов картотеки, фотокопировальный аппарат и прочая конторская техника. В одном углу тараторил телетайп. Трое из восьми клерков были гоблины. Отдельно от них работали четверо — судя по всему, детективы в штатском, и двое из них были гоблины. Из офицеров в форме в данный момент присутствовали трое, и все трое были гоблины. В Йонтсдауне гоблины не просто бродили среди обычных граждан, время от времени набрасываясь на кого-либо из них. Здесь война между нами и ними была хорошо организована — по крайней мере, со стороны гоблинов. Здесь убийцы в маскарадных костюмах творили законы и претворяли их в жизнь, и горе тому бедному ублюдку, который окажется в чем-то виновен — даже в малейшем нарушении. — Тебе чего надо? — переспросил сержант за стойкой. — Э-э... Я ищу городской Департамент здоровья. — Через вестибюль, — нетерпеливо ответил он. — А-а, — сказал я, прикидываясь, что мне плохо. — А это, должно быть, полицейский участок. — Да уж, конечно, не школа бальных танцев, — съязвил он. Я вышел, ощущая спиной горящий взгляд его багровых глаз, и поспешил к желтому «Кадиллаку», где дожидались Студень Джордан и Люк Бендинго, томясь неизвестностью и любопытством. — Ты чего это? — поинтересовался Студень. — Захотелось поближе взглянуть на главный вход вот в это здание. — Зачем? — Я помешан на архитектуре. — Что, правда? — Ну. — И с каких пор? — С детства. — Да ты из него еще и не вышел. — Зато ты вышел, а помешан на игрушках, а это куда более странно, чем быть помешанным на архитектуре. Он уставился на меня, затем улыбнулся и пожал плечами: — Ну, положим, ты прав. Но игрушки куда занятнее. Садясь в машину, я ответил: — Ну, не знаю. Архитектура может быть очаровательной. А в этом городе полно потрясающих образцов архитектуры готического и средневекового стиля. — Средневекового? — переспросил Студень, когда Люк уже заводил двигатель. — В смысле, как в Темные Века? — Во-во. — Ну, тут ты в точку попал. Этот город угодил сюда прямиком из Темных Веков, уж будьте уверены. По дороге из города мы снова миновали выгоревшее здание начальной школы, где в апреле погибло семеро детей. Когда мы проезжали его в первый раз, я своим экстрасенсорным чутьем уловил колебания, свидетельствующие о грядущей большей беде. Теперь же, по мере неуклонного сближения со школой — пустые стекла и стены, все в саже, — волна ясновидческих образов хлынула от этихобожженных пламенем кирпичей и прокатилась через меня. Для моего шестого чувства эта волна была такой же реальной, как накатывающая стена воды, ничуть не меньшая по массе и силе. С этим строением было связано такое количество человеческого страдания и муки, что оно не просто было окутано зловещей аурой, оно плыло в море смертоносной энергии. Волна накатывалась со скоростью и мощью товарного поезда, подобная валам, что стремятся к берегу в любом фильме о Гавайях, только темная и зловещая, не похожая ни на что, с чем я когда-либо сталкивался, и она неожиданно вызвала во мне ужас. Самой волне предшествовала тонкая струйка психической энергии. И когда эти невидимые капли брызнули на мое сознание, воспринявшее их, я «услышал», как кричат от боли и страха дети... как гудит и свистит пламя, издавая треск и скрежет, словно заливаясь садистским смехом... как дребезжат звонки тревоги... как с грохотом обрушивается стена... крики... отдаленный вой сирен... Я «видел» невыразимо ужасные картины: апокалиптический пожар... учительницу с волосами, объятыми пламенем... детей, слепо спотыкающихся в густом дыму... других детей, отчаянно и тщетно ищущих укрытия под партами в то время, как тлеющие куски потолка обрушиваются на них... Кое-что из того, что я видел и слышал, относилось к тому пожару, что уже был, к апрельской огненной тризне, но некоторые образы были из еще не зажженного пламени, видения и звуки из будущего кошмара. Но я ощущал, что и в том, и в другом случае пожар в школе не был несчастным случаем, не был вызван людской оплошностью или сбоем в машине — это была работа гоблинов. Я начал чувствовать боль этих детей, обжигающий жар, начат испытывать их страх. Психическая волна наваливалась на меня, громоздясь все выше... выше, все темнее, черное цунами, такое мощное, что вполне могло раздавить меня, и такое холодное, что могло вытянуть все тепло жизни из моей плоти. Я закрыл глаза, чтобы не глядеть на полуразрушенное школьное здание, к которому мы почти подъехали, и отчаянно попытался возвести вокруг своего шестого чувства мысленный волнорез, щит, чтобы отгородиться от нежелательных ясновидческих излучений, вызвавших эту накатившую разрушительную волну. Чтобы отвлечь внимание от школы, я начал думать о матери и сестрах, об Орегоне, о Сискию... вспомнил скульптурное совершенство лица Райи Рэйнз и ее сияющие от солнца волосы. Воспоминания и фантазии о Райе — вот что надежно укрыло меня от атаки психических цунами; они ударили меня, но прошли сквозь, не разбив на части и не утащив с собой. Я подождал еще с полминуты, пока не перестал ощущать ничего необычного, и лишь тогда открыл глаза. Здание школы осталось у нас за спиной. Мы подъезжали к старому железному мосту, возведенному, казалось, из окаменевших черных костей. Студень опять сидел на заднем сиденье, а все внимание Люка было приковано исключительно к машине (возможно, он опасался, что малейшее нарушение правил дорожного движения Йонтсдауна — и один из людей Келско налетит на нас с особенной яростью), так что никто из них не заметил моего необычного приступа, из-за которого я на минуту стал беспомощно-неподвижным и утратил дар речи, словно какой-нибудь несчастный, неизлечимый эпилептик. Я был рад, что не надо сочинять объяснения — не был уверен, что моя речь не выдаст внутреннего смятения. Меня переполняло сострадание к людям — обитателям этого богом забытого места. История города уже знала один пожар, а на подходе было еще более страшное пламя, и я был совершенно уверен, что я обнаружу в ближайшей пожарной части гоблинов. Я вспомнил заголовок, который мы видели в местной газете — «ЧЕТВЕРО УМЕРЛИ ОТ БОТУЛИЗМА НА ЦЕРКОВНОМ ПИКНИКЕ», — и понял, кого увижу, если нанесу визит приходскому священнику: демона, бестию в вышедшем из моды воротничке, раздающую благословения и симпатию точно так же, как, должно быть, он распространял смертоносные бактерии — в салат из помидоров и в кастрюли с бобами. Сколько же гоблинов, наверное, столпилось перед зданием начальной школы в тот день, когда опасность миновала, — с показной скорбью, исподтишка насыщаясь человеческой агонией, прямо как мы в «Макдональдсе» за обедом: каждый детский крик — как кусок сочного биг-мака, каждая яркая вспышка боли — словно хрустящая палочка жареного картофеля. Одетые городскими должностными лицами, они изображали шок и чувство глубокой утраты, они затаились в городском морге, следя голодными глазами за родителями, заставившими себя прийти на опознание ужасных, обгоревших останков их возлюбленных чад. Под масками убитых горем друзей и соседей они входили в дома осиротевших родителей, предлагая утешение и моральную поддержку, а сами украдкой облизывались на сладкий пудинг из людского горя — точно так же, как и сейчас, несколько месяцев спустя, они кружили над семьями тех, кто был отравлен во время церковного пикника. Ни одни похороны в Йонтсдауне — независимо от уважения и любви, которыми пользовался или нет покойный, — не проходили при малом скоплении народа. Это был какой-то змеиный ров, где вместо змей — гоблины, стремящиеся за пищей туда, где был накрыт банкет из страданий. А если сама судьба не поставляла достаточного количества жертв, чтобы насытить их аппетиты, они были не прочь сами подзаняться готовкой — подпалить школу, организовать автокатастрофу, тщательно спланировать несчастный случай с трагическим исходом на сталелитейном заводе или в депо... Самым ужасным из того, что я открыл в Йонтсдауне, была даже не пугающая концентрация гоблинов, но их доселе невиданное желание и способность организоваться и захватить контроль над людскими учреждениями. До этого момента я смотрел на гоблинов как на блуждающих хищников, проникших во все поры общества и выбирающих жертв более или менее случайно, как позволит момент. Но в Йонтсдауне они взяли бразды правления, натянули вожжи и с устрашающей целеустремленностью превратили целый город и округ в свой личный заповедник. И они размножались здесь, в горах Пенсильвании, в этом шахтерском медвежьем углу, куда редко бросал взгляд кто-либо из остального мира. Размножались. Господи Исусе. Я задал себе вопрос, сколько еще гнезд имеется у этих вампиров в других темных уголках мира. Они в самом деле были вампирами, хоть и по-своему. Я ощущал, что источник их основной пищи — не сама кровь, но лучащаяся аура боли муки и страха, которая окружает человеческие существа в беде и безнадежности. Бессмысленное различие. Не все ли равно скоту, чей удел — плаха мясника, какая именно их часть особенно ценится на обеденном столе? Выезжая из города, мы разговаривали гораздо меньше, чем на пути туда. Студень и Люк с опаской ждали засады из людей Келско, а ко мне все не возвращался дар речи после того, что я увидел и узнал о мрачном будущем детей из начальной школы Йонтсдауна. Мы выехали за черту города. Мы миновали стену черных искривленных дубов, отягощенных странной плесенью. Никто не остановил нас. Никто не попытался спихнуть наш автомобиль с дороги. — Скоро, — сказал Студень. Одна миля от города. Мы миновали стоящие на отшибе домики, нуждавшиеся в покраске и в новых крышах, где во дворах стояли ржавеющие остовы автомобилей на бетонных блоках. Ничего. Напряжение Студня и Люка еще более возросло. — Слишком легко он нас отпустил, — сказал Студень, имея в виду Келско. — Где-нибудь через полмили... Полторы мили от города. — Он хотел, чтобы у нас возникло ложное чувство безопасности, — сказал Студень, — чтобы потом обрушиться на нас словно тонна кирпичей. Вот что он затеял. Теперь они нас сокрушат. Эти ребятки из шахтерского края повеселятся вдоволь. Две мили. — Было бы странно и не в их духе, если бы они упустили возможность развлечься. В любую секунду они свалятся на нашу голову... Две с половиной мили. Теперь Студень заявил, что беды надо ждать возле заброшенной шахты, среди развалин приемника для вагонеток и прочих строений, натыканных в беспорядке, где крепежные леса и металлические обломки, словно зубы, торчали под низко нависающим серым небом. Но вот возникли эти памятники исчезнувшей промышленности, и мы проехали мимо них, и столкновения не произошло. Три мили. Четыре. Когда мы отъехали на десять миль от городской черты, Студень наконец вздохнул и расслабился. — На сей раз они решили нас отпустить. — Почему? — с подозрением спросил Люк. — Не такое уж это и необычное дело. Пару раз бывало, что они не затевали драку, — заметил Студень. — Но никогда не объясняли нам почему. В этом году... ну... может, из-за пожара в школе и из-за трагедии на вчерашнем церковном пикнике. Может, даже Лайсл Келско насмотрелся в этом году всяких мерзостей и не рискнул покалечить нас. Я уже говорил, сдается мне, что этим бедным сволочам ярмарка в этом году нужна, как никогда. Мы направлялись обратно через всю Пенсильванию, решив остановиться по пути перекусить и планируя прибыть на ярмарку братьев Сомбра ранним вечером. У Студня и Люка настроение стало улучшаться, а у меня — нет. Я знал, почему Келско не стал в этот раз тратить силы на стычку с нами. Потому что он затевал нечто худшее на той неделе, когда мы обоснуемся на ярмарочной площади графства Йонтсдаун. Чертово колесо. Я не знал точно, когда это произойдет, не знал, что именно было у них на уме, но я не сомневался, что гоблины устроят аварию на чертовом колесе и что видения, лишившие меня покоя — кровь на аллее, — точно почки, набухшие злом, скоро расцветут страшной реальностью.Глава 9
КОНТРАСТЫ
Даже после позднего обеда, когда мы выбрались обратно на шоссе, готовясь к полутора часам езды до дома, воспоминания о Йонтсдауне еще давили на меня тяжким грузом, и я не мог выносить напряжения, которого требовало участие в беседе, не мог смеяться над шутками Студня, хотя некоторые из них и в самом деле были смешными. Чтобы уйти от этого, я прикинулся, будто задремал, и свернулся калачиком на сиденье, склонив голову набок. Мысли лихорадочно бились в моем мозгу... Что такое гоблины? Откуда они взялись? Кто такой гоблин — кукольник, паразит, семенем проникающий в глубь человеческой плоти и затем захватывающий контроль над сознанием своего врага, манипулирующий украденным телом, как будто оно его собственное? Или же их тела — просто имитация человеческих, плотно набитые костюмы, в которые они влезают с такой же легкостью, с какой мы надеваем новый костюм? Бесконечное число раз за многие годы я задавал себе эти вопросы и тысячу других. Проблема состояла в том, что было чертовски много ответов, каждый из которых мог быть верным, но ни один из них я не мог научно обосновать — или как минимум быть в нем уверен. Я насмотрелся достаточно фильмов про «летающие тарелки», так что фантастических идей у меня было — хоть ведром черпай. А после того, как я увидел своего первого гоблина, я стал страстным читателем научной фантастики, в надежде, что какой-нибудь писатель уже сочинил такую ситуацию и выдал некое объяснение, которое подошло бы мне, как подошло оно придуманным им героям. Из этого множества цветистых историй я извлек множество версий, над которыми размышлял: гоблины могли быть пришельцами из далекого чужого мира, чей корабль потерпел здесь крушение, либо они приземлились специально, чтобы поработить нас, или чтобы проверить, подходим ли мы для равноправного участия в правительстве галактики, или просто чтобы украсть весь наш уран, необходимый для сверхмощных двигателей их космических кораблей, или они всего лишь хотели запаковать нас в пластиковые тюбики, чтобы побаловать себя вкусными закусками во время длительных и скучных путешествий по спиральным рукавам галактики. Я обдумывал и эти возможности, и множество других, не отбрасывая ничего — не важно, насколько безумно или глупо они звучали, но у меня оставались сомнения по поводу любого из объяснений, которые давали мне научно-фантастические книги. Для начала, я сильно сомневался, чтобы раса, способная летать в космосе по многу световых лет, пролетела такое гигантское расстояние только для того, чтобы угробить свой корабль при приземлении. У них должны были быть безупречные машины, их компьютеры не могли дать сбоя. К тому же, если бы такая развитая цивилизация хотела поработить нас, война закончилась бы за день. Так что, хоть я и провел над этими книгами уйму увлекательных часов, они не бросили мне ни соломинки, за которую я мог бы уцепиться в трудную минуту, не дали никакого понятия о гоблинах и, уж конечно, ни единого намека на то, как с ними поступать и как их победить. Сама собой напрашивалась еще одна версия — что это демоны, поднявшиеся прямиком из ада и получившие от сатаны умение затуманивать людям разум так, что, глядя на них, мы видели таких же людей, как мы сами. Я верил в бога (или говорил себе, что верю), и наши с ним взаимоотношения иногда принимали характер такого противоборства (по крайней мере, с моей стороны), что мне не составляло труда поверить, что он способен допустить существование такого мерзкого места, как ад. Мои старики были лютеране. Почти каждое воскресенье они брали меня, Сару и Дженни в церковь, и временами мне хотелось вскочить на церковную скамью и закричать на священника: «Если бог благ, почему же он допускает, чтобы люди умирали? Почему он наслал рак на такую славную женщину, как миссис Харли, что жила неподалеку от нас? Если он такой хороший, что ж он допустил, чтобы сын Томпсонов погиб в Корее?» Моя потрепанная вера не мешала мне рассуждать здраво, и я дошел до решения, что истина о бесконечной божьей милости противоречит жестокости мироздания, созданного им для нас. Таким образом, ад, вечное проклятие и демоны были не просто объяснимы, но казались почти что существенной частью вселенной, созданной божественным архитектором, таким же на первый взгляд упрямым и нелогичным, как тот, кто начертал планы для нас. И все же, веря и в ад, и в демонов, я не мог согласиться, что существование гоблинов можно объяснить с помощью этой мифологии. Если они поднялись из ада, тогда в них должно быть что-то... ну, что-то космического масштаба, в их действиях должны чувствоваться высшее знание и замысел, а я не ощущал ничего похожего в слабом психическом поле, которое они излучали. Более того, посланцы Люцифера наверняка обладали бы бесконечной мощью, а эти гоблины были во многом гораздо слабее меня и не обладали никакими из сверхъестественных способностей, присущих мне. И они были слишком уязвимы, чтобы быть демонами. Никаким топором, ножом или ружьем нельзя одолеть приспешников сатаны. Если бы в их облике было больше от собаки и меньше от свиньи, я бы почти поверил, что это вервольфы, оборотни, хотя они рыскали среди нас все время, а не только в полнолуние. Как и легендарные вервольфы, они, видимо, обладали способностью менять облик, со сверхъестественным мастерством имитируя человека, но если было нужно, они принимали свое истинное ужасающее обличье, как тогда в павильоне электромобилей. Если бы они питались кровью в буквальном смысле, я бы остановился на версии о вампирах, сменил бы имя на «доктор ван Хельсинг» и принялся бы (издавна и успешно) заострять целый лес осиновых кольев. Но ни одно из этих объяснений не казалось мне подходящим. И все же я был уверен, что другие экстрасенсы тоже видели гоблинов еще сотни лет назад, и из этих-то видений и возникли первые легенды о людях, способных превращаться в летучих мышей и ужасных волков. В самом деле, Влад, Сажающий на Кол, реально существовавший трансильванский правитель, чей кровожадный интерес к потрясающим воображение массовым казням вдохновил писателей на создание образа Дракулы, вполне возможно, был гоблином — ведь Влад был человеком, которому нравилось упиваться человеческим страданием, а это главная черта всех гоблинов, которых я имел несчастье наблюдать. В общем, тем вечером, сидя в желтом «Кадиллаке» по пути из Йонтсдауна, я задавал себе привычные вопросы и напрягал мозг, чтобы найти и не упустить хоть какое-то объяснение, но оставался полностью во мраке неведения. Я мог бы избавить себя от этих усилий, загляни я в будущее — всего на несколько дней вперед, — настолько близок я был к тому, чтобы узнать правду о гоблинах. Я не знал, что меня ждет разгадка. Мне было суждено узнать правду сразу по завершении ярмарочного представления в Йонтсдауне. И когда я в конце концов узнаю о происхождении и побуждениях ненавистных гоблинов, все мигом встанет на свои места и приобретет ясный и ужасный смысл, и я возжелаю — так же страстно, как Адам, когда за ним захлопнулись врата рая, — никогда не иметь этого знания. Но пока что я притворялся спящим, приоткрыв рот и болтаясь всем телом вслед за вихляниями и толчками «Кадиллака», а сам рвался к пониманию, жаждал объяснения. Когда мы вернулись на ярмарку братьев Сомбра, было полшестого вечера пятницы. Солнце еще заливало аллею светом, но фонари уже зажглись. Повсюду толпились простаки. Я направился прямиком к силомеру, отпустил Марко, подменявшего меня, и приступил к делу — освобождать проходивших мимо от груза монет и купюр, отягощавших их карманы. За весь долгий вечер ни один гоблин не появился на проезде, но это меня не утешало. В Йонтсдауне аллея будет кишеть гоблинами, на той неделе они заполнят площадь, и больше всего их будет возле чертова колеса, их лица будут лосниться от садистского предвкушения несчастья. Марко вернулся в восемь, сменив меня на час, чтобы я успел поесть. Я не был особенно голоден и отправился пройтись по ярмарке просто так, а не в сторону забегаловки, и через несколько минут очутился перед входом в Шоквилль, шоу «десять в одном», хозяином которого был Джоэль Так. Через весь фасад аттракциона тянулась афиша, возвещавшая сенсацию: «ЛЮДИ-УРОДЦЫ ИЗ ВСЕХ УГОЛКОВ ЗЕМЛИ». В смелых пестрых изображениях Четырехрукого Джека (индейца с двумя парами рук), Лилы — Татуированной Леди, Глории Нимз, весящей 750 фунтов («самой толстой женщины на свете»), и других уродов — и от рождения, и тех, кто сами себя изуродовали, — безошибочно угадывалась работа Халявщика — Дэвида С. Уатта, последнего великого художника, работавшего для цирков и ярмарок, чьи афиши украшали палатки владельцев мелких шоу, которые могли позволить себе приобрести его работы. Судя по тому, какие зрелища были обещаны в здешнем «десять в одном», Джоэль Так мог позволить себе не только афишу Уатта — внутреннее убранство палатки также было оформлено с мастерством, присущим лишь эксцентричному дарованию Уатта. Ближе к сумеркам перед Шоквиллем собралась уйма народу, глазевшего на причудливые изображения, созданные мастерством Уатта, и слушавшего болтовню зазывалы. Несмотря на показное нежелание смотреть на уродство и то и дело звучащие реплики, что недостойно выставлять несчастных калек на всеобщее обозрение, большинство, несомненно, стремилось зайти внутрь. Многие чувствительные дамы явно хотели, чтобы их как бы насильно заставили решиться на столь рискованное путешествие, и основная масса — и мужчины, и женщины — шаг за шагом двигалась к билетной кассе. Меня тоже что-то подтолкнуло туда. Не то нездоровое любопытство, что владело простаками. Что-то... более темное. Что-то внутри палатки хотело, чтобы я вошел и посмотрел на него... что-то, о чем, как я ощущал, мне надо узнать, если я собираюсь выжить на той неделе и сделать так, чтобы ярмарка братьев Сомбра стала моим домом. Холодное предчувствие вонзилось мне сзади в шею, словно летучая мышь-вампир, сосущая кровь, и вытянуло все тепло из моего тела. Меня наверняка пустили бы бесплатно, но я все же купил входной билет за два доллара (цена по тем временам высокая) и вошел внутрь. Палатка была разгорожена на четыре большие комнаты, между которыми вился проход, ограниченный веревками. В каждой комнате было по три загончика, в каждом загончике платформа, на каждой платформе кресло, в каждом кресле по уроду, всего их было двенадцать. «Десять в одном» Джоэля Така были своего рода крайне удачной сделкой для посетителей — два лишних урода, на которых можно поглазеть, два лишних повода усомниться в благих намерениях бога. За спиной каждого урода висел, зрительно увеличивая загончик, плакат, излагавший историю и медицинскую причину его уродства, позволявшего каждому из живых экспонатов стать гвоздем программы в Шоквилле. Ошеломляла разница в поведении людей снаружи и внутри палатки. На улице все их существо, казалось, восставало против самой идеи шоу уродов, и уж, по крайней мере, даже влекомые неудержимым любопытством, они были настроены все-таки отрицательно. Но внутри палатки этих благородных мыслей не было и в помине. Вероятно, это были не истинные убеждения, а всего лишь пустой звук банальности, покровы, под которыми скрывалась дикая человеческая природа. Теперь они задыхались от возбуждения, хихикали и тыкали пальцем в искалеченных людей, за право поглядеть на которых заплатили деньги — как будто те, кто сидел на платформах, были не только уродливы, но и глухи или просто слишком глупы, чтобы понимать оскорбления, которым подвергались. Иные простаки отпускали непристойные шутки. Даже самых приличных из них хватало лишь на то, чтобы не раскрывать рта, но никто и не подумал одернуть своих безмозглых приятелей и велеть им заткнуться. По мне, так «экспонаты» «десяти в одном» требовали к себе такого же уважения, как полотна старых мастеров в музее, — они также проливали свет на смысл жизни, как и картины Рембрандта, Матисса или Ван Гога. Как и шедевры искусства, эти уроды были способны пронять нас до глубины души, напомнить о наших первобытных страхах, вселить в нас смиренную радость, что нас обошла их участь, и дать возможность вылиться ярости, которую нам приходится испытывать при мысли о холодном безразличии этой несовершенной вселенной. Ни одной из этих мыслей я не улавливал в посетителях, хотя, возможно, я был слишком строг к ним. Не пробыв в палатке и пары минут, я понял, что истинными уродами были те, кто заплатил деньги за эту дьявольскую экскурсию. Так или иначе, они получили сполна то, за что платили. В первом загончике сидел без рубашки Четырехрукий Джек, являя взглядам лишнюю пару рук — вялых и скукоженных, но действующих, которые росли по бокам туловища, лишь на пару дюймов пониже и чуть позади нормальных здоровых рук. Две лишние конечности были слегка деформированы, и их немощность была очевидна, и все же он держал в них газету, одной из нормальных рук он в это же время держал стакан с прохладительным напитком, а другой отправлял в рот арахисовые орешки. В следующем загончике обитала Лила — Татуированная Леди, чье уродство было делом ее собственных рук. За ней следовали Филиппо, Ластоногий Мальчик, Мистер Шесть (у него было по шесть пальцев на каждой руке и ноге), Человек-Аллигатор, Роберта, Резиновая Женщина, альбинос, прозывавшийся незатейливо — Призрак, и прочие, выставленные для «наставления и развлечения тех, кто наделен пытливым умом и здоровым интересом к загадкам природы», как говорил зазывала перед входом. Я медленно шел от загончика к загончику, храня, в числе немногих, молчание. Перед каждым экспонатом я задерживался ровно настолько, чтобы определить, этот или нет был источником психологического магнетизма, чью тягу я почувствовал еще снаружи и которой подчинился. Я до сих пор ощущал эту тягу... Я направился в глубь Шоквилля. Следующий «уродец» пользовался у простаков куда большим вниманием, чем все прочие: мисс Глория Нимз, чей вес составлял 750 фунтов, наверное, самая толстая из всех толстых дам на свете. С последним утверждением я не рискнул бы спорить — и с тем, что касается ее габаритов, и с тем, что она была дамой, — ибо при ее размерах, достойных Гаргантюа, я тем не менее ощущал в ней притягательную утонченность и сдержанный нрав. Она восседала в специально сделанном, очень прочном кресле. Ей, должно быть, было очень трудно вставать, а ходить без посторонней помощи, казалось, она вообще не могла. Даже дышать было для нее непосильным трудом, судя по звуку дыхания. Это была гороподобная женщина в широком гавайском платье. Необъятный живот вздымался сразу под нависающим выступом — грудями, такими огромными, что они, казалось, утратили всякое мыслимое с анатомической точки зрения назначение. Ее руки казались ненастоящими, похожими на комические изваяния рук древней героини, вылепленные из груды веснушчатого сала, а ее многочисленные подбородки свешивались с шеи настолько, что почти касались грудной клетки. Ошеломляло ее круглое луновидное лицо, безмятежное, как лицо Будды, и неожиданно красивое. Под этой расплывшейся маской — словно один фотоснимок наложили на другой — скрывался очаровательный, трогательный облик прекрасной и стройной Глории Нимз. Некоторых из простаков Глория Нимз привлекала, поскольку они могли дразнить ею своих подружек и жен — «Если будешь такой же толстой, детка, подыскивай и себе работу в шоу уродов, поскольку со мной тебе тогда остаться не судьба!» — говорили они, делая вид, что шутят, но на самом деле относясь к этому вполне серьезно. А жены и подружки, особенно те, кому адресовалось это заявление и у кого у самих было малость лишнего веса, с удовольствием глядели на Глорию, потому что рядом с ней они могли чувствовать себя шикарными стройными дамами. Черт возьми, да рядом с ней Студень выглядел бы отощавшим заморышем из Азии с картинки из благотворительного журнала. И практически всем нравилось то, что Глория разговаривала с ними, в отличие от большинства уродов. Она отвечала на вопросы, тактично уклоняясь от нахальных и слишком личных вопросов, не вгоняя при этом в краску ни себя, ни тех кретинов, что расспрашивали ее. Стоя возле загончика толстой дамы, я психически ощущал, что она сыграет важную роль в моей жизни, но я чувствовал, что не Глория привела меня в Шоквилль. Зловещие магнетические волны, против которых было не устоять, продолжали тянуть меня дальше, в глубь палатки. Последний, двенадцатый загончик был занят Джоэлем Таком — человеком с ухом, как цветная капуста, ртом, похожим на ковш экскаватора, и желтыми, как желчь, зубами, со лбом Франкенштейна, человеком с третьим глазом, гигантом, уродом, бизнесменом и философом. Он читал книгу, не обращая внимания ни на то, что творилось вокруг, ни на меня, — однако сидел так, чтобы простаки могли заглянуть ему в лицо и рассмотреть его во всех отталкивающих подробностях. Вот кто привел меня сюда. В первый момент мне показалось, что влекущая меня сила исходит непосредственно от Джоэля Така. Часть ее, возможно, и шла от него, но не вся — источником другой части магнетизма было само место, земляной пол загончика. Проход для посетителей был огорожен канатом и стойками, и между этой демаркационной линией и краем деревянной платформы, на которой восседал Джоэль Так, было пустое пространство футов шести в ширину. Мои глаза были прикованы к этому пыльному, посыпанному опилками клочку земли, и пока я смотрел туда, темная жара исходила из грунта, раздражающая теплота, совершенно непохожая на утомительную августовскую жару, проникшую в каждый уголок на ярмарке. Только я ощущал эту теплоту. Она была без запаха и в то же время напоминала вонючий пар, исходящий от навозной кучи на ферме. Она навеяла на меня мысли о смерти, о теплоте, вызванной разложением, исходящей от гниющего тела. Я не мог сообразить, что она означает, и гадал, не суждено ли этому месту стать потайной могилой, может быть, даже моей собственной. И в самом деле, стоило мне остановиться на этой дикой версии, как у меня появилась уверенность, что я стою у края могилы, которую вскоре откроют и в самый глухой час ночи спрячут в нее чей-то окровавленный труп, и что... — Ба, да никак это сам Карл Слим, — воскликнул Джоэль, наконец обратив на меня внимание. — Ой, нет, постой-ка, прости, просто Слим, правильно? Слим Маккензи. Он подшучивал надо мной, я улыбнулся, и темные излучения, поднимавшиеся из-под земли, стали слабее, еще слабее и совсем исчезли. Поток простаков на минуту схлынул, и я ненадолго остался наедине с Джоэлем. Я спросил его: — Ну, как идут дела? — Хорошо. У нас дела почти всегда хороши, — ответил он тем мягким, звучным голосом, каким говорят дикторы на радиостанциях, передающих только классическую музыку. — А у тебя как? Дает тебе ярмарка то, чего ты хотел? — Место для сна, сытная еда три раза в день, карманных денег больше чем достаточно — в общем, у меня все отлично. — Как насчет анонимности? — поинтересовался он. — Ну, думаю, это тоже. — Убежище? — Пока — да. Как и раньше, я ощущал что-то отцовское в этом странном человеке, способность и готовность оказать поддержку, дать дружеский совет. Но, как и прежде, я чувствовал также и скрытую в нем опасность, угрозу, не поддающуюся определению. Я не мог понять, каким образом в нем сочетается двойственное и столь разное отношение ко мне. Он мог быть либо наставником, либо врагом, тем или другим, но никак не обоими одновременно. И все же я чувствовал в нем эту противоречивость, поэтому я не открылся ему, хотя, не ощущай я этого, я наверняка доверился бы ему. — Что ты думаешь о девушке? — спросил он, возвышаясь в своем кресле над платформой. — О какой девушке? — А разве есть и другая? — В смысле... ты про Райю Рэйнз? — Она тебе нравится? — Конечно. Она то, что надо. — И все? — А что еще? — Спроси любого мужчину с этой ярмарки, что он думает про мисс Райю Рэйнз, и он полчаса будет воспевать ее лицо и тело, потом еще полчаса будет прохаживаться по поводу ее характера, а потом еще немного повоспевает ее, но ни за что не ограничится фразой, что «она то, что надо», и закроет тему. — Она привлекательная. — Ты влюбился, — сказал он, с трудом двигая костистыми челюстями. Желтые зубы стучали, когда он выговаривал твердые согласные. — О... нет. Нет. Только не я, — ответил я. — Чушь собачья. Я пожал плечами. Его оранжевый глаз смотрел на меня слепым, но пронзительным взглядом. Закатив два остальных глаза в притворном нетерпении, он продолжал: — Давай-давай, болтай, конечно, ты влюбился. По уши. Если не хуже. Может быть, ты вообще полюбил ее. — Ну, вообще-то она меня старше, — неловко возразил я. — Всего на несколько лет. — Все равно старше. — А если судить по жизненному опыту, по уму и разуму, ты старше своих лет и по крайней мере одного с ней возраста. Со мной твои отговорки не пройдут, Слим Маккензи. Ты влюбился. Соглашайся. — Ну, она очень красивая. — А под? — Что? — Под? — повторил он. — Ты имеешь в виду, что ее красота — не только то, что снаружи? — Это так? — не унимался он. Я был поражен, насколько успешно он выпытывал у меня все, и ответил: — Ну, ей нравится, чтобы о ней думали, что она крутая, но внутри... ну, я вижу в ее душе некоторые качества, не уступающие по красоте ее лицу. Он кивнул. — Согласен. С другой стороны палатки к нам приближалась группа смеющихся простаков. Он заговорил быстрее, подавшись ко мне в своем кресле, ловя последние минуты нашего уединения: — Но знаешь... в ней есть и печаль. Я вспомнил, в каком унылом настроении она была, когда я ушел накануне вечером, подумал о тисках одиночества и отчаяния, тянувших ее в неведомую темную яму. — Да, я это знаю. Понятия не имею, откуда она идет, эта печаль, и что она означает. Но знаю, что она есть. — Здесь есть о чем подумать, — заметил он и замолчал в нерешительности. — О чем? Он уставился на меня настолько пронзительным взглядом, что я был готов поверить, что его собственные психические возможности позволяют ему читать в моей душе. Потом он вздохнул и сказал: — Такая сногсшибательная красота снаружи, и красота внутри тоже, тут мы с тобой единодушны... а не может ли быть так, что есть еще одно «внутри», под тем «внутри», которое ты видишь? Я покачал головой. — Не думаю, чтобы она стремилась кого-то обмануть. — Э-э, мы все только этим и занимаемся, мой юный друг! Мы все обманываем. Кто-то обманывает весь мир, любого встречного. Кто-то обманывает лишь избранных — жен, любовниц, матерей, отцов. А кто-то обманывает исключительно самих себя. Но никто из нас не бывает постоянно честен со всеми, ни при каких обстоятельствах. Черт возьми, нужда обманывать — это лишь одно из многих проклятий нашего несчастного рода. — Что ты пытаешься сказать мне о ней? — спросил я. — Ничего, — ответил он, и его напряжение неожиданно улетучилось. Он откинулся в кресле. — Ничего. — Ты что такой скрытный? — Я? — Скрытный. — Почем я знаю, — отрезал он. На его невероятном лице лежало самое загадочное выражение, какое я видел в жизни. Простаки подошли к двенадцатому загончику. Это были две парочки, всем по двадцать с небольшим, у девиц — прически а-ля паж, затвердевшие от лака, и чересчур много косметики на лице, на парнях — брюки в «шашечку» и расстегнутые рубашки — четверка деревенских грамотеев. Одна из девиц, толстуха, взвизгнула от страха, увидев Джоэля Така. Другая взвизгнула потому, что взвизгнула ее подружка, и парни обняли их, защищая бог весть от какой беды — точно Джо-эль Так вот-вот выскочит из своего загончика, намереваясь не то сожрать, не то изнасиловать их. Пока простаки обменивались впечатлениями, Джоэль поднял книгу и углубился в чтение, не обращая внимания на их вопросы. Он укрылся за броней собственного достоинства — такой прочной, что она казалась осязаемой. Его чувство собственного достоинства было таким, что проняло даже простаков, заставив их в конце концов устыдиться и уважительно умолкнуть. За ними подошли еще простаки. Я задержался там на минуту, наблюдая за Джоэлем и вдыхая аромат нагретого солнцем холста, опилок и пыли. Затем я опустил взгляд на тот клочок земли, усыпанной опилками, между канатом и платформой. И снова мне явились образы разложения и смерти, но, как я ни старался, я никак не мог точно решить, что означают эти темные ощущения. Только у меня опять возникло тревожное чувство, что скоро эту грязь разворошат лопатой, чтобы вырыть могилу для меня. Я знал, что еще вернусь сюда. Когда ярмарку закроют на ночь. Когда уроды разойдутся. Когда палатка опустеет. Я тайком проберусь, чтобы снова поглядеть на это зловещее место, чтобы коснуться земли ладонями, чтобы попытаться вырвать у сконцентрированной здесь психической энергии более четкое предупреждение. Я должен был вооружиться против надвигающейся опасности, а сделать это я смогу, только когда буду точно знать, в чем заключается эта опасность. Когда я покинул «десять в одном» и вернулся на проезд, небо было уже такого же сумеречного цвета, как и мои глаза. Это был предпоследний вечер работы ярмарки, к тому же вечер пятницы, поэтому простаки задержались дольше, чем обычно, и ярмарку закрыли позже, чем накануне вечером. Было почти полпервого ночи, когда я убрал с силомера плюшевых медвежат и, сгибаясь под грузом монет, звеневших при каждом моем шаге, направился на луг, к трейлеру Райи. Луна освещала облака, окрашивая их резные края чистейшим серебром. От этого ночное небо казалось украшенным кружевами. Райя уже отпустила всех остальных своих подчиненных-кассиров и теперь дожидалась меня. Одета она была почти так же, как и накануне, — бледно-зеленые шорты, белая футболка, никаких украшений. Украшения были не нужны ей — ее красота и без всяких драгоценностей сияла ярче, чем бог весть сколько алмазных ожерелий. Она была не в настроении беседовать — лишь отвечала на мои слова, да и то односложными фразами. Она приняла деньги, убрала их в шкаф и вручила мне половину дневной выручки. Я сунул деньги в карман джинсов. Пока она производила эти механические действия, я пристально глядел на нее — и не потому, что она была красива, но потому, что не позабыл вчерашнего ночного видения возле самого трейлера, когда призрачная Райа, вся в крови, с текущей изо рта струйкой крови, вдруг воплотилась в зыбкую действительность и тихо умоляла меня не дать ей умереть. Я надеялся, что присутствие настоящей Райи подстегнет мое ясновидение и я получу новые, более ясные предупреждения, благодаря которым смогу предостеречь ее от конкретной опасности. Но все, что я почувствовал, вновь оказавшись рядом с ней, — возобновленное ощущение ее скрытой глубокой печали и половое возбуждение. После того как мне заплатили, у меня больше не было повода ошиваться тут. Я пожелал ей доброй ночи и направился к выходу. — Завтра будет тяжелый день, — сказала она, не успел я сделать и двух шагов. Обернувшись, я посмотрел на нее: — Как обычно в субботу. — А вечер будет грустный — мы сворачиваемся. И в воскресенье начнем обустраиваться в Йонтсдауне — но об этом мне не хотелось думать. Она продолжала: — В субботу всегда нужно переделать столько дел, что по пятницам я почти не могу заснуть. Я заподозрил, что она, как и я, не может заснуть почти каждую ночь и что, когда ей это удается, она то и дело беспокойно просыпается. Я неловко ответил: — Я знаю, что ты имеешь в виду. — Прогулки мне помогают, — сказала она. — Иногда в пятницу ночью я выхожу на аллею и гуляю в темноте по всем дорожкам — избавляюсь от излишней энергии и получаю... такой, знаешь, прилив спокойствия. Ярмарка такая мирная, когда она закрыта, когда нет посетителей и огни погашены. А еще лучше... когда мы выступаем в таких местах, как здесь, где ярмарочная площадь прямо в полях, тогда я отправляюсь гулять в луга или даже в ближайший лес, если там есть дорога или тропа и если луна светит. Если не считать ее суровой лекции о том, как работать на силомере, это была самая длинная речь, которую мне довелось услышать от нее. Впервые она так близко подошла к попытке завязать со мной контакт, но ее голос был таким же безликим и деловым, как и в часы работы. На самом деле он был даже холоднее, чем прежде, — в нем сейчас не звучало бурлящее волнение предпринимателя, озабоченного тем, как бы сколотить капитал. Сейчас ее голос звучат ровно, безразлично, как будто всякая цель, смысл и интерес покинули ее после закрытия ярмарки и вернутся обратно не раньше чем завтра утром, когда ярмарка откроется. Действительно, голос был такой ровный, такой бесцветный и усталый, что, не прибегни я к своему шестому чувству, я навряд ли догадался бы, что в этот момент она тянется ко мне в жажде человеческого общения. Я понимал, что она старается держаться непринужденно, даже по-дружески, но это ей так просто не дается. — Сегодня ночью как раз луна, — заметил я. — Да. — И поля поблизости. — Да. — И лес. Она глядела на свои босые ноги. — Я и сам собирался пойти прогуляться, — сказал я. Избегая глядеть мне в глаза, она прошла к креслу, перед которым лежала пара теннисных туфель. Скользнув в них ногами, она подошла ко мне. Мы отправились на прогулку. Попетляв по временным улочкам трейлерного городка, мы вышли в чистое поле, где ночные тени и пятна лунного света окрашивали траву в черный и серебряный цвета. Трава была по колено высотой и, должно быть, колола ее голые ноги, но она не жаловалась. Некоторое время мы брели в молчании — сначала потому, что слишком неловко чувствовали себя друг с другом, чтобы завязать приятный разговор, а потом беседа стала казаться неважной и ненужной. Дойдя до края луга, мы повернули и пошли вдоль леса, и ветер приветливо дул нам в спину. Крепостные валы ночного леса вздымались, точно стены величественного замка. Казалось, это не сомкнутые ряды сосен, кленов и берез, а прочные черные барьеры, в которых невозможно проделать брешь — можно только взять их приступом. Наконец, отойдя от ярмарки на полмили, мы добрались до места, где грязная колея расколола лес надвое и тянулась дальше, в глубь ночи и неизвестности. Не говоря друг другу ни слова, мы свернули на эту дорогу и пошли по ней. Пройдя не меньше двухсот ярдов, она наконец заговорила: — Тебе снятся сны? — Бывает, — ответил я. — О чем? — О гоблинах. — Я сказал ей правду, но если бы она потребовала объяснений, я начал бы лгать ей. — Кошмары, — сказала она. — Да. — И тебе всегда снятся кошмары? — Да. Конечно, здесь, в горах Пенсильвании, не хватало простора и ощущения первобытной эпохи, благодаря которым Сискию были так выразительны. Но все же здесь присутствовала вселяющая почтение тишина, какую можно найти только в глуши, молчание, более благоговейное, нежели в соборе. Из-за этого мы разговаривали тихо, почти шепотом, хотя нас некому было услышать. — Мне тоже, — продолжала она. — Кошмары. Не просто часто. Всегда. — Гоблины? — спросил я. — Нет. Она ничего не добавила, и я понял, что она добавит к этому что-нибудь, только когда сама сочтет нужным. Мы продолжали гулять. Лес теснее обступил нас с обеих сторон. Грязная дорога мерцала серым светом в сиянии луны и казалась ложем из пепла — словно колесница господня прошлась через лес и ее колеса, пылающие божественным огнем, выжгли за собой колею. Помедлив, она сказала: — Кладбище. — В твоих снах? Ее голос был легким, как дуновение ветерка. — Да. Не всегда одно и то же кладбище. Иногда оно на равнине и тянется во все стороны до самого горизонта. Могильные камни жмутся один к другому, и все совершенно одинаковые. — Ее голос стал еще тише. — А бывает, что кладбище на холме, все занесенное снегом, деревья голые, ветви у них черные и острые. И камни спускаются вниз террасами, и все разные — мраморные обелиски и плоские гранитные плиты, и статуи, разрушенные уже сколько лет, лежат на земле... и я бреду вниз, к концу кладбища, к подножию холма... туда, где дорога наружу... я точно знаю, что там где-то есть дорога... и никак не могу ее отыскать. — Ее голос стал таким тоненьким и ледяным, что у меня по позвоночнику пробежал тонкой полоской холодок — как будто ее голос был ледяным лезвием, что прижалось к моей коже. — Сначала я медленно бреду между надгробий, боюсь поскользнуться и упасть в снег, но когда спускаюсь на несколько террас, а дороги внизу все не видно... я начинаю идти быстрее... еще быстрее... и скоро я уже бегу, спотыкаясь, падаю, встаю, бегу дальше, петляю среди камней, падаю по склону вниз... Пауза. Вздох. Неглубокий. На выдохе, в котором слегка ощущается страх, еще несколько слов: — И знаешь, что я там вижу? Кажется, я знал. Мы поднялись на вершину небольшого холма, и, продолжая путь, я сказал: — На одном из камней ты видишь имя, и это твое имя. Она вздрогнула. — Одна из этихмогил — моя. Я это чувствую в каждом сне. Но я никак не отыщу ее. Мне почти хочется ее отыскать. Мне кажется... если я ее отыщу... если я отыщу свою собственную могилу... мне больше не будут сниться такие сны... «Потому что тебе не суждено будет проснуться, — подумал я. — Ты умрешь. Говорят, это случается, что не можешь проснуться, пока не умрешь во сне. Умрешь во сне — и больше никогда не проснешься». Она продолжала: — А когда я все-таки спускаюсь с холма, то я обнаруживаю... дорогу, которую искала... только это больше уже не дорога. На ней похоронили людей и поставили камни прямо на асфальте, словно не хватило кладбища и пришлось зарывать везде, где только можно. Сотни могильных камней, по четыре в ряд, ряд за рядом, по всей дороге. Так что... понимаешь... дорога больше никуда не ведет. Это не выход, а просто продолжение кладбища. А ниже мертвые деревья, и кладбищенские плиты все громоздятся и громоздятся, пока хватает глаз. А самое ужасное то, что... каким-то образом я понимаю, что все эти люди мертвы... из-за... — Из-за чего? — Из-за меня, — сказала она несчастным голосом. — Потому что я убила их. — Ты так говоришь, словно действительно чувствуешь себя виноватой. — Так и есть. — Но это же только сон. — Когда я просыпаюсь... он не сразу исчезает... слишком реальный для сна. Это что-то большее, чем сон. Это... может быть, предзнаменование. — Но ты же не убийца. — Нет. — Тогда что бы это значило? — Я не знаю, — сказала она. — Просто сны, бессмыслица, — настаивал я. — Нет. — Ну так скажи мне, что это означает. Скажи мне, в чем суть. — Я не могу, — ответила она. Но, слушая ее, я с беспокойством чувствовал, что она точно знает, что значит этот сон, и что она начала лгать мне, как солгал бы я, начни она выпытывать у меня слишком многие подробности о гоблинах из моих собственных кошмаров. Мы поднялись по грязной тропинке на верхушку пологого холма, спустились вниз, следуя за тропинкой, сделали крюк в четверть мили, прошли через дубовую рощу, куда лунный свет проникал меньше, — в общем, прошли где-то около мили. Наконец мы вышли к берегу небольшого озера, расположенного посреди леса. Дорога здесь кончалась. Берег, отлого спускавшийся к воде, порос сочной, мягкой травой. Само озеро казалось огромной лужей нефти. Оно бы не казалось вообще ничем, если бы луна и россыпь морозно-белых звезд не отражались на его поверхности, освещая тем самым крохотные водовороты и легкую рябь. Трава, взъерошенная ветром, была черной, совсем как на лугу за городком трейлеров, и край каждого тонкого лезвия травинок блестел мягким серебром. Она села на траву, я рядом с ней. Судя по всему, ей опять захотелось тишины. Я подчинился. Мы сидели под пологом ночи, слушая отдаленное пение сверчков и тихие всплески воды, когда рыбы выпрыгивали на поверхность, чтобы схватить мошку. Беседа снова была совершенно ни к чему. Мне было достаточно того, что я просто сижу возле нее — так близко, что можно протянуть руку и коснуться ее. Я был поражен контрастом между этим местом и теми, в которых я провел весь день. Сперва Йонтсдаун с его дымовыми трубами, средневековыми строениями и вездесущим ощущением надвигающейся беды, потом ярмарка с ее шумными забавами и толпами простаков. Каким облегчением сейчас было ненадолго оказаться в таком месте, где единственным признаком существования людей была грязная тропинка, что привела нас сюда. Мы оставили ее за спиной, и я постарался выкинуть ее из головы. По натуре я человек общительный, но тем не менее бывали случаи, когда людское общество утомляло меня так же, как гоблины вызывали у меня отвращение. А иногда, когда я видел, до какой степени люди могут быть жестоки по отношению к своим собратьям — вот как сегодня в палатке Джоэля Така, мне казалось, что мы заслужили гоблинов, что мы — непоправимо порочная раса, неспособная с должным благоговением относиться к такому чуду, как наше существование, и что мы сами напросились на злобное внимание гоблинов, относясь друг к другу с таким презрением. В конце концов, многие из тех богов, которым мы поклонялись, были, кто больше, кто меньше, требовательны, щедры на расправу и способны на такую жестокость, что сердце замирает. Как знать, может, это они наслали на нас гоблинов, как чуму, и назвали это всего-навсего наказанием за совершенные нами грехи? Но здесь, посреди спокойствия леса, сквозь меня струилась очистительная энергия, и мало-помалу я воспрянул духом, невзирая на все разговоры о кладбищах и кошмарах, которыми мы занимали друг друга. Спустя какое-то время до меня дошло, что Райа плачет. Не было слышно ни звука, тело ее не сотрясали безмолвные всхлипывания, Я с беспокойством обратил внимание на ее состояние, только когда ощутил, как ее неизмеримая печаль охватила ее с новой силой. Поглядев на нее сбоку, я увидел, как по гладкой щеке скатилась сверкающая слеза — еще одна капля серебра в лунном свете. — Что с тобой? — спросил я. Она помотала головой. — Не хочешь говорить? Она опять помотала головой. Я остро ощущал, что она нуждается в утешении, что она потянулась ко мне специально за утешением. Но не зная, как утешить ее, я отвел глаза и уставился на маслянистую черноту озера. Из-за нее в моей логической цепи произошло короткое замыкание, черт бы его подрал. Она была не похожа ни на кого из тех, кого я знал, — с непостижимо загадочными глубинами души и темными тайнами. Я боялся, что не сумею ответить ей той же открытостью и непринужденностью, какими всегда отвечал людям. Я ощущал себя почти что астронавтом, впервые вступающим в контакт с представителем другого мира: мысль о разделяющей нас пропасти давила тяжелым грузом, было страшно что-либо предпринять — как бы первая же попытка общения не оказалась неверно понята. В общем, я осознал, что не в состоянии утешить ее, не в состоянии вообще ничего сделать. Каким же я был дураком, твердил я себе, когда думал растопить лед между нами, каким я был идиотом, воображая близкие взаимоотношения с ней. Я твердил себе, что попытался прыгнуть выше головы, что эти воды слишком темные и чуждые, и я никогда не пойму ее, и... ...и тут она поцеловала меня. Ее мягкие, уступчивые губы прижались к моим, раскрылись навстречу моим губам, и я ответил на ее поцелуй со страстью, какой никогда доселе не испытывал, наши языки стремились друг к другу, сплетались, пока не слились в нечто единое. Я запустил обе руки в ее роскошные волосы — сочетание светлых и каштановых при дневном свете и серебристые сейчас, они струились между моими пальцами. Словно из лунного света насучили прохладные шелковистые нити. Мои руки скользнули ниже — вдоль шеи, задержались на ее плечах, когда наш поцелуй стал глубже, и наконец я охватил ладонями ее полные груди. Стой самой секунды, как она наклонилась ко мне и в первый раз поцеловала меня, она не переставая дрожала всем телом. Я чувствовал, что эта дрожь не имеет ничего общего с эротическим ожиданием, но свидетельствует о неуверенности, стеснении, робости и боязни быть отвергнутой — состояние, близкое к моему собственному. Внезапно сильная лихорадочная дрожь прокатилась по ее телу. Отстранившись от меня, она произнесла: — О черт. — Что? — только и смог выдохнуть я. — Почему не могут... — Что? — ...два человека... — Что? Слезы теперь ручьем лились у нее из глаз. Голос ее дрожал: — Просто дотянуться друг до друга... — Мы же с тобой дотянулись. — И отодвинуть в сторону этот барьер... — Нет никакого барьера. Сейчас нет. В ней по-прежнему чувствовалась печаль, колодец одиночества, глубина которого не поддавалась измерению, мрачность, отстраненность. Я опасался, что все это переполнит ее в самый неподходящий момент и разовьет то самое отчуждение, которого она, по ее же словам, боялась. Она продолжала: — Он есть... он всегда есть... всегда так тяжело завязать настоящий контакт... настоящий... — Это просто, — возразил я. — Нет. — Мы уже прошли большую часть пути. — ...яма, пропасть... — Заткнись, — сказал я со всей нежностью и любовью, какую можно вложить в одно слово, обнял ее и еще раз поцеловал. Мы целовались и ласкали друг друга со стремительно возрастающей страстью и в то же время с твердой решимостью растянуть наслаждение от первых ласк, от изучения друг друга. Так мы сидели на траве от силы пять-десять минут, но казалось, что незаметно пролетело несколько дней. Когда она опять отстранилась от меня, я было запротестовал. Но она произнесла: «Тихо!» — таким тоном, что я понял, что надо подчиниться. Она поднялась на ноги. Не было никакой возни со всеми этими пуговками-пряжками-«молниями», способной порой охладить любую страсть — одежда соскользнула с нее, и она встала передо мной, обнаженная и восхитительная. Даже ночью, среди лесной темноты, она казалась дочерью солнца — ведь лунный свет не что иное, как отражение солнечного, и сейчас, хотя и отраженный, ни один луч солнца, казалось, не падал мимо нее. Свет луны придал ее коже полупрозрачный оттенок, подчеркивая потрясающе чувственные изгибы, ровные поверхности, выпуклости и впадины ее безупречного тела. Воплощение Эроса в текучем смешении черного и серебряного: мерцающие морозным серебром полушария крепких ягодиц, между которыми пролегла четкая темная полоска, мускулистое бедро, соблазнительно отлитое из холодного крепкого сплава, завитки волос внизу живота, тронутые серебряным мерцанием, впадина живота, плотно изгибающаяся от жемчужного пятна лунного света до аккуратной укромной тени, затем опять жемчужная белизна, доходящая до границы тени, лежащей под налитыми грудями, и — о да — ее груди, подтянутые вверх, очерченные так, что дух захватывало, полные соски, наполовину окрашенные в серебро, наполовину — в черный цвет. Молочно-белый, снежно-белый, платиновый свет озарял — и, казалось, шел изнутри — ее элегантные, изящные плечи, следовал вдоль изысканной линии шеи, слегка касался нежных округлостей и ямочек на ее маленьком ушке. Как некое высшее существо, сошедшее с небес, она с медленной грацией опустилась и легла на густую, мягкую траву. Я разделся. Я начал ласкать ее руками, губами, языком, и еще задолго до того, как я вошел в нее, она два раза испытала оргазм. Я не был опытным любовником — куда там, мой сексуальный опыт сводился к двум женщинам из предыдущих трупп. Но мое шестое чувство, должно быть, подсказывало мне, чего хочет женщина, что ей будет приятно. Она лежала, раскинувшись на ложе из черной травы. Я раздвинул ее гладкие бедра и скользнул между них. Миг проникновения был обычным, ничем не примечательным механическим действием, но как только мы соединились, ощущения утратили свою непримечательность, поднялись с механического уровня на мистический. Мы стали не просто любовниками — мы стали единым организмом, инстинктивно и бессознательно стремящимся к мимолетному, загадочному, но безумно желанному апофеозу духа и тела. Она, казалось, ощущает мои чувства душой так же, как и я ее. С первого мгновения ни одно ее движение не препятствовало моим, ни одно слово, способное все разрушить, не слетело с ее губ, она ничем не потревожила сложнейший, полный глубокого наслаждения ритм нашей страсти — каждое наше движение, каждое напряжение и расслабление, каждое замирание, каждый трепет, каждый вдох и выдох полностью совпадали, пока не достигли совершенной гармонии, даже больше того. Весь мир отступил назад. Мы были едины, мы были всем, мы были единственным. В этом возвышенном, почти священном состоянии семяизвержение казалось величайшим оскорблением — не естественным завершением совокупления, но грубым вторжением элементарной биологии. Но оно было неизбежно. Более того, его не только было невозможно избежать — его было совсем недолго ждать. Не больше чем через четыре-пять минут после того, как я проник в нее, я почувствовал, как возрастает напряжение, и с некоторым смущением понял, что удержаться невозможно. Я начал было выходить из нее, но она еще теснее прижалась ко мне, обвив меня руками и ногами, ее горячее лицо напряглось, я с трудом выдохнул что-то про опасность забеременеть, но она прошептала: «Все в порядке, Слим, все в порядке, я не могу иметь детей, все равно, все в порядке, кончи в меня, милый, прошу тебя, кончи в меня, наполни меня», и при последних словах ее сотряс очередной оргазм, ее тело выгнулось дугой, груди прижались к моей груди, судороги словно раздирали ее тело, и неожиданно узы, сдерживавшие меня, исчезли, и длинные, жидкие нити спермы выстрелили из меня, разматываясь внутри нее. Нам понадобилось много времени, чтобы к нам вернулось ощущение реальности, и еще больше времени, чтобы разъединиться. Но наконец мы легли рядышком на спину, лежали на траве, глядя в звездное небо и держась за руки. Мы молчали — все, что нужно было сказать, было уже сказано без слов. Прошло не меньше пяти долгих, теплых минут, прежде чем она заговорила: — Кто ты, Слим Маккензи? — Просто я. — Ты просто фантастика. — Ты что, смеешься? Нашла фантастику. Я не сумел удержаться. Хлынуло, как из пожарного шланга. Черт. Обещаю, в следующий раз смогу держать себя в руках. Я, конечно, не гигант, не Казанова, это ясно, но я обычно сдерживаюсь лучше, чем... — Не надо, — мягко сказала она. — Не надо все так принижать. Не притворяйся, будто это не было самым естественным, самым восхитительным, самым-самым, что у тебя когда-либо было. Потому что так оно и было. Было. — Но я... — Это было достаточно долго. Вполне достаточно. А теперь — ша. Я сделал «ша». Облачные кружева унесло ветром. Небо было кристально чистым. Шар луны сиял в небесах. Этот необычайный день контрастов вместил в себя самые устрашающие мерзости и ужасы, но он был также наполнен и красотой необычной, почти мучительной силы. Коварные гоблины в Йонтсдауне. И, словно компенсируя их, — Райа Рэйнз. Зловещие серые тона этого несчастного города. В противовес им: сияющий холст, расшитый луной и звездами, под которым я лежал, удовлетворенный. Видения огня и смерти в начальной школе. С другой стороны — воспоминание о том, как лунный свет ласкал ее тело, когда она опустилась на траву, предвещая наслаждение. Не будь Райи, этот день был бы отмечен невыразимым, непоправимым отчаянием. Здесь, на берегу темного озера, она казалась, по крайней мере в тот момент, воплощением всего того, что было правильным в созданном божественным архитектором проекте вселенной. Так что, предстань передо мной в ту минуту бог, я бы вцепился в край его одеяния, принялся бы бить его в голень и надоедал бы ему до тех пор, пока он не согласится переделать всю ту массу мест в своем мироздании, над которыми он так поиздевался, взяв Райю Рэйнз как высший пример того, что могло бы выйти, употреби он весь свой талант и ум на свой замысел. Джоэль Так ошибался. Я не влюбился в нее. Я любил ее. Помоги мне, господи, я любил ее. И приближалось время, когда именно из-за любви к ней я буду, как никогда, нуждаться в божьей помощи, чтобы выжить, — но я еще не знал об этом. Некоторое время спустя она отпустила мою руку и села на траве, сдвинув колени, обняв руками согнутые ноги, глядя на темное озеро, где на мгновение плеснула рыба — и вновь все стало тихо. Я сел рядом с ней. Мы по-прежнему чувствовали не большую потребность в разговоре, чем рыбы в озере. Еще один отдаленный всплеск. Шуршание прибрежных тростников под дуновением ветра. Пение сверчка. Скорбное призывное кваканье одиноких лягушек. В какой-то момент я понял, что она снова плачет. Я коснулся ее лица, намочив ее слезами кончик пальца. — Что? — спросил я. Она ничего не сказала. — Скажи мне, — попросил я. — Не надо, — отозвалась она. — Что не надо? — Разговаривать. Я замолчал. Она замолчала. Даже лягушки вдруг замолчали. Когда она наконец заговорила, я услышал: — Вода выглядит такой зовущей. — Мокрой выглядит, вот и все. — Привлекательной. — Должно быть, все заросло водорослями, а на дне тина. — Иногда, — сказала она, — в Джибтауне, во Флориде, в межсезонье, я хожу на пляж и подолгу гуляю, и временами я думаю, как было бы славно уплыть в открытое море, плыть и плыть все дальше и никогда не возвращаться назад. На нее вдруг нахлынула ошеломляющая душевная и эмоциональная усталость, разрушительная меланхолия. Я подумал, не связано ли это с ее неспособностью иметь детей. Но одно только бесплодие казалось недостаточной причиной для такого черного отчаяния. Сейчас ее голос был голосом женщины, чье сердце разъела горькая печаль — такая сильная и неприкрашенная, что ее причину просто невозможно было представить. Я не мог понять, каким образом она так быстро канула с высот экстаза в глубины отчаяния. Всего несколько минут назад она заявила мне, что то, что мы делали, было самым-самым. И вот теперь она почти с удовольствием погружалась обратно в отчаяние, в совершенно безнадежное, иссушающее, лишенное солнца уединение и одиночество, которое пугало меня и пробирало до печенок. Она произнесла: — Разве это было бы не замечательно — плыть, пока хватит сил, а когда силы кончатся, плыть еще, пока руки не станут как свинцовые, а ноги отяжелеют, словно на них грузики, как у ныряльщиков, и... — Нет! — резко ответил я. Сжав ее лицо обеими руками, я повернул ее голову, заставляя посмотреть на меня. — Нет, это было бы вовсе не замечательно. Совсем не замечательно. Что ты несешь? Что с тобой стряслось? Почему ты так себя ведешь? Ответа не было ни на ее губах, ни в ее глазах — в глазах я видел лишь пустоту, через которую не мог пробиться даже при помощи шестого чувства. Ее одиночество, казалось, совершенно глухо к любым моим попыткам справиться с ним. Глядя на это, я почувствовал, как внутри у меня все сжалось от страха, сердце упало мертвым грузом, и у меня у самого глаза наполнились слезами. В отчаянии я потянул ее обратно на траву, начал целовать и ласкать и опять занялся с ней любовью. Сперва она сопротивлялась, но затем уступила, и вскоре мы слились в едином порыве, и, несмотря на все разговоры о самоубийстве, несмотря на то, что она не позволяла мне понять причину ее отчаяния, нам сейчас было даже лучше, чем прежде. Если страсть была единственным спасательным тросом, который я мог бросить ей, если это было единственным средством, способным вытащить ее из зыбучих песков больного духа, стремительно затягивающих ее, то утешала по крайней мере мысль, что моя страсть к ней — спасательный трос бесконечной длины. Потом мы некоторое время лежали в объятиях друг друга, и наше молчание на этот раз не скатилось до кладбищенского уныния. Наконец мы оделись и направились по лесной дороге назад, в сторону ярмарочной площади. Мысль о том, что этой ночью было положено начало, притом такое начало, подбадривала меня и наполняла надеждой на будущее, чего я не испытывал с того дня, когда впервые увидел гоблина. Мне хотелось кричать во все горло, запрокинув голову, смеяться, глядя на луну, но я не сделал ничего подобного, потому что с каждым шагом, уводившим нас из глуши я все больше опасался, что Райа словно маятник снова качнется от счастья к отчаянию и на этот раз уже не вернется обратно к свету. А еще я боялся видения, которого не мог забыть, — ее окровавленного лица, и того, что это видение может значить. Это безумное варево из противоречащих друг другу эмоций было нелегко удержать от закипания — тем более семнадцатилетнему парнишке, расставшемуся с домом, оторванному от семьи и страшно нуждающемуся в любви, какой-то цели и стабильности. К счастью, хорошее настроение не покидало Райю всю дорогу до дверей ее трейлера. Это избавило меня от удручающего зрелища очередного погружения в царство меланхолии и дало некоторую надежду, что мне удалось навсегда отвратить ее от мыслей о самоубийственном заплыве в неласковые объятия бурных волн Флориды. Что же касается видения... ну, мне надо найти способ помочь ей избежать грядущей опасности. Будущее — не прошлое, его можно изменить. Возле ее порога мы поцеловались. Она сказала: — Я до сих пор чувствую тебя внутри себя, твое семя, все еще такое горячее там, внутри, просто обжигающее. Я возьму его с собой в постель, свернусь калачиком вокруг этого тепла, и это будет словно сторожевой костер, который отгонит прочь дурные сны. Никаких кладбищ сегодня, Слим. Нет, только не сегодня. Затем она вошла в трейлер и закрыла за собой дверь.* * *
Благодаря гоблинам, которые днем держат меня в параноидальном напряжении, а ночью тревожат в кошмарах, я привык к бессоннице. Уже не первый год я спал совсем понемногу — по несколько часов большинство ночей, а в иные ночи и вовсе не смыкал глаз, и постепенно мой организм приспособился к тому, что меня, как дырявый мешок, до конца зашить не удается. Этой ночью у меня опять сна не было ни в одном глазу, хотя было уже четыре часа утра, правда, причиной бессонницы на сей раз был не холодный страх, а неудержимая радость. Я прошелся по аллее. Идя по дорожке, я был погружен в мысли о Райе. Меня заполонил такой поток ее ярких образов, что, казалось, ни о чем другом я думать не смогу. Но вскоре я осознал, что стою на месте, что мои кулаки сжаты, что я весь трясусь в ознобе, что я нахожусь перед Шоквиллем Джоэля Така и что я пришел сюда не случайно. Я глядел на афиши Халявщика Уатта, натянутые на весь фасад палатки. Сейчас, едва освещенные лучами лунного света, они казались куда страшнее, чем в устойчивом свете дня — ибо человеческое воображение бывает способно вызвать к жизни такие жестокости, до которых даже богу далеко. Пока мое сознание было обращено на Райю, подсознание притащило меня сюда, чтобы разобраться с тем клочком земли в двенадцатом загончике, от которого я получил сильнейшие психические образы смерти. Возможно, моей собственной смерти. Мне не хотелось заходить внутрь. Мне хотелось уйти отсюда. Глядя на аккуратно задернутый полог входа, я почувствовал, как желание уйти отсюда перерастает в стремление убежать. Но ключ к моему будущему лежал там, внутри. Мне надо было точно выяснить, что за психический магнит притянул меня сюда вчера вечером. Чтобы мои шансы на выживание стали как можно выше, мне было необходимо узнать, почему грязный пол перед платформой Джоэля Така излучал смертельную энергию и почему у меня возникло ощущение, что этот кусок земли может стать моей могилой. Я твердил себе, что внутри палатки нечего опасаться. Уроды были не здесь, а у себя в трейлерах, и спали как убитые. Даже если они и в палатке, никто из них не причинит мне вреда. А палатка сама по себе не несла никакой опасности или зла — просто большое сооружение из холстины, самыми страшными гостями которого были (если вообще были) глупость и бездумность десятка тысяч простаков. И все же мне было страшно. Я со страхом подошел к надежно завязанному холстяному пологу, закрывавшему вход. Весь дрожа, я развязал одну из завязок полога. Весь дрожа, я вошел внутрь.Глава 10
МОГИЛА
Влажная темнота. Запах потрепанного непогодами холста. Опилки. Я стоял внутри Шоквилля, не двигаясь, настороженно вслушиваясь. Огромная разгороженная палатка была погружена в полнейшую тишину, но сама она обладала особым резонансом, точно гигантское ухо. Я слышал будто отдаленный шум океана, как в раковине, — это в ушах у меня стучала кровь. Несмотря на тишину, несмотря на поздний час, у меня волосы на голове вставали дыбом от ощущения, что я здесь не один. Искоса глядя в непроницаемую тьму, я остановился и вытащил нож. Лезвие в руке не прибавило мне чувства безопасности. Что проку было от ножа, если я не знаю, откуда ждать нападения. Аттракцион находился на краю аллеи, поблизости от силовых линий ярмарочной площадки, таким образом, он был не связан с генераторами ярмарки, и не нужно было заводить дизельный двигатель, чтобы зажечь свет в палатке. Я пошарил слева, затем справа от входа, чтобы отыскать в темноте либо выключатель, укрепленный на подпорке, либо тросик выключателя, свешивающийся с потолка. Психическое ощущение опасности усилилось. Нападение, казалось, приближалось с каждой секундой. Где, черт побери, этот выключатель? Пошарив, я наткнулся рукой на толстый деревянный столб, вокруг которого змеился гибкий многожильный силовой кабель. Я услышал шумное, нервное дыхание. Я застыл. Прислушался. Ничего. Тут до меня дошло, что это было мое собственное дыхание. Неловкое ощущение собственной глупости внезапно лишило меня сил. Я тупо стоял на месте, и меня переполняла досада, знакомая всякому, кто в детстве часами не мог заснуть от страха перед спрятавшимся под кроватью чудовищем, а набравшись смелости и поглядев, выяснил, что никакого чудовища нет и в помине или самое страшное, что там было, — пара старых, поношенных теннисных туфель. Тем не менее ясновидческий образ грозящей опасности не ослабел. Напротив. Она словно концентрировалась в сыром затхлом воздухе. Я вслепую пошарил пальцами вдоль кабеля, нашарил распределительную коробку, выключатель. Я легонько щелкнул им. Над моей головой, вдоль огороженного канатами прохода и в загончиках, зажглись лампы, висящие без плафонов. Держа в руке нож, я медленно направился мимо загончика, где накануне демонстрировал себя Четырехрукий Джек, чье патетическое жизнеописание было увековечено на заднике из холстины. От первой комнаты я пошел ко второй, от второй к третьей и, наконец, к четвертой комнате, к последнему загончику, где обычно сидел Джоэль Так и откуда теперь исходила давящая угроза смерти, опасное напряжение в воздухе, наэлектризовавшее меня. Я шагнул к канату возле загончика Джоэля Така. Клочок земли, посыпанной опилками, казался мне таким же радиоактивным, как куча плутония, только излучал он не смертоносные гамма-частицы. Нет, я стоял без защиты под бессчетным количеством рентгеновских лучей, несущих образы Смерти — запахов, звуков, ощущений прикосновения, — которые не поддавались восприятию пяти чувств, которыми я обладаю наравне с остальными людьми, — их регистрировал и расшифровывал гейгеровский счетчик моего шестого чувства, мое ясновидение. Я ощущал открытые могилы, наполненные темнотой, словно застоявшейся кровью; побелевшие от времени груды костей и затянутые паутиной монокли глазниц в черепах; запах сырой, только что разрытой земли; тяжелый скрежет каменной крышки, которую с трудом сдвигают с саркофага; тела, лежащие на плитках в комнатах, пропахших формальдегидом; сладкое зловоние свежесрезанных роз и гвоздик, уже начавших разлагаться; сырость вскрытой могилы, грохот захлопывающейся деревянной крышки гроба, холодную руку, прижимающую мертвые пальцы к моему лицу. — Господи Исусе, — пробормотал я дрожащим голосом. Провидческие видения — которые по большей части были символическими образами Смерти, а не кадрами реальных сцен из моего будущего — были куда сильнее и куда страшнее, чем накануне вечером. Я вытер лицо одной рукой. Я весь был в холодном поту. Пытаясь привести путаницу психических образов в доступную пониманию логическую последовательность и одновременно не дать им овладеть мною, я перекинул через ограждающий шнур одну ногу, затем другую и вошел в загончик. Я боялся, что ясновидческая буря лишит меня чувств. Вряд ли бы это случилось, но пару раз со мной бывали подобные случаи, когда, столкнувшись с особенно мощными зарядами оккультной энергии, я терял сознание и просыпался несколько часов спустя со страшной головной болью. Мне нельзя было отключаться в этом месте, до такой степени наполненном злобным предвкушением. Если я потеряю сознание в Шоквилле, я буду убит на том же месте и в ту же секунду, как упаду. Это я знал наверняка. Я опустился на колени на земляной пол перед платформой. «Уходи, сматывайся, прочь!» — взывал внутренний голос. Я сжал нож так, что заныла рука, а костяшки превратились в бескровные, белые пятна. Левой рукой я сгреб в сторону опилки, очистив примерно квадратный ярд земли. Грязь под опилками была утоптана, но не утрамбована. Я сумел раскопать ее голыми руками. Первый дюйм грунта отслаивался кусками, но чем глубже, тем более рыхлой становилась земля, хотя по идее должно быть как раз наоборот. Кто-то рыл здесь яму не больше чем пару дней назад. Нет. Не яму. Никакую не яму. Могилу. Но чью? Что за тело лежит под моими ногами? Я вовсе не хотел это узнать. Я должен был это узнать. Я продолжал разгребать землю. Образы смерти усилились. И точно так же, чем глубже я рыл, тем сильнее становилось ощущение, что эта яма вполне может стать и моей могилой. Хотя вряд ли это могло быть — ведь совершенно очевидно, что она уже занята чьим-то трупом. Возможно, я просто неверно истолковывал психические излучения. Такое вполне вероятно — я не всегда умел найти смысл в колебаниях, на которые было настроено мое шестое чувство. Я отложил нож в сторону, чтобы копать землю обеими руками, и через пару минут вырыл яму длиной около ярда, шириной два фута и глубиной в шесть-восемь дюймов. Я понимал, что надо сходить поискать заступ, но земля была достаточно рыхлая, к тому же я не знал, где искать заступ, и главное — уже не мог остановиться. Я был вынужден копать, ни на секунду не прерываясь, подстегиваемый болезненной, безумной, но непреходящей уверенностью, что обитатель этой могилы окажется мной, что я сгребу землю со своего собственного лица и увижу себя самого, глядящего на меня. В возбуждении от ужаса, вызванного непрестанно сочащимися снизу пугающими образами, я как сумасшедший раскапывал землю. Соленый пот лил со лба, носа и подбородка, я хрипел, словно дикий зверь, задыхался, внутри все горело. Я рыл все глубже, испытывая отвращение от стойкого психического запаха Смерти, словно это было реальное зловоние — глубже, — но на самом деле никаким гниением не пахло в палатке, а только у меня в сознании — глубже, — потому что труп был еще свежий и еще не прошел даже начальной, самой легкой степени разложения. Глубже. Мои руки были все в грязи, под ногтями запеклась корка грязи, комочки земли застряли в моих волосах и прилипли к лицу — я стал копать еще неистовее. Какая-то часть меня отделилась, встала за спиной и смотрела на бешеного зверя, в которого я превратился. Эта отделившаяся часть задавалась вопросом, не сошел ли я с ума, как и две ночи назад, глядя на застывшее измученное лицо в зеркале душевой. Рука. Бледная. Чуть отливающая голубизной. Она появилась из земли перед моими глазами, замерзшая, расслабленная в последнем успокоении, словно земля вокруг нее была одеялом на смертном одре, куда ее положили с нежной заботой. Высохшая кровь запеклась под ногтями и на костяшках пальцев. Психические образы Смерти начали ослабевать, как только я вступил в контакт с настоящим мертвым телом, посылавшим эти образы. Глубина вырытой мною ямы была около полутора футов, и я начал тщательно разгребать землю, пока не добрался до второй руки, лежащей немного сверху первой... запястья... часть предплечья... наконец стало ясно, что покойника уложили в традиционной позе, сложив руки на груди. Спазмы страха сотрясали меня так, что стучали зубы. Я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я начал копать от рук к голове. Нос. Широкий лоб. Словно кто-то дернул струну — только не звук, а холодная дрожь прошла у меня по телу. Я решил, что нет нужды разгребать всю землю с лица — еще открыв его наполовину, я понял, что передо мной тот самый тип — тот самый гоблин, — которого я убил в павильоне электромобилей две ночи назад. Его закрытые веки были подернуты тусклым налетом, как будто кто-то, обладающий извращенным чувством юмора, нанес ему на веки тени, прежде чем предать его земле. В одном уголке рта, схваченного трупным окоченением, застыла кривая усмешка, между зубами набилась земля. Уголком глаза я заметил движение в другом углу палатки. У меня перехватило дух. Я резко повернул голову по направлению к проходу между канатами, но никого не увидел. Я был твердо убежден, что заметил какое-то движение. И затем, не успел я даже встать на ноги и отойти от могилы, чтобы обследовать все, я снова заметил его — блуждающие тени метнулись с пола, покрытого ковром из опилок, на дальнюю стену палатки, затем обратно на пол. Скольжение теней сопровождалось низким стоном — словно некое порождение кошмаров проникло в четвертую комнату палатки и вихляющей походкой приближалось ко мне. Его не было видно из этого загончика, но отделяли его лишь несколько тяжелых шагов. Джоэль Так? Ясно, что именно он тайно похитил мертвого гоблина из павильона электромобилей и закопал его здесь. Я понятия не имел, зачем он это сделал — то ли чтобы помочь мне, то ли чтобы смутить меня, напугать меня, — и потому не мог составить окончательное мнение. Он мог быть и другом, и врагом. Не отрывая глаз от открытой стороны загончика, ожидая, что в любой момент оттуда появится беда неизвестно в каком облике, я вслепую пошарил сбоку от себя в поисках ножа, который перед тем отложил в сторону. Опять промелькнули тени, и опять их сопровождал тихий стон, но внезапно до меня дошло, что этот стон — всего-навсего похоронное завывание ветра, поднявшегося снаружи. Мечущиеся тени тоже были порождены ветром и не представляли опасности. Каждый сильный порыв ветра врывался внутрь палатки, и, проносясь по холстинному коридору, ветер колыхал голые лампочки, подвешенные к потолку. Раскачиваясь, лампочки на время давали жизнь ленивым теням. Успокоенный этим, я перестал шарить, разыскивая нож, и снова обернулся к трупу. Его глаза были открыты. От ужаса я отскочил назад, но, приглядевшись, увидел, что эти глаза по-прежнему мертвые и невидящие, покрытые прозрачной молочно-белой пленкой, отражающей идущий сверху свет. Пленка была похожа на изморозь. Плоть мертвеца была такой же вялой, рот, как и прежде, застыл в смертельной ухмылке, грязь все так же лежала между раздвинутых губ и запеклась корочкой под ногтями. На горле была смертельная ножевая рана — хотя и не такая большая, как мне запомнилось, и дыхание не вздымало и не опускало его грудь. Совершенно очевидно, он был мертв. Очевидно, так напугавшее меня сокращение лицевых мышц было не чем иным, как одним из обычных посмертных мышечных спазмов, которые обычно до печенок пугают молодых студентов-медиков и новичков, пришедших работать в морг. Да. Разумеется. Но... с другой стороны... возможно ли, чтобы такие нервные реакции и мышечные спазмы происходили спустя почти два дня после смерти? Ведь срок для этих странных реакций ограничивался несколькими часами сразу после смерти? Ну, ладно, положим, веки были закрыты из-за тяжести земли, наваленной на труп. А когда землю убрали, веки распахнулись. Мертвец не возвращался к жизни. Только безумцы искренне уверяют, что видели ходячие трупы. Я не был безумцем. Не был. Я уставился на лежащего подо мной мертвеца, и мало-помалу бешеное дыхание успокоилось. Частое, как у зайца, сердцебиение тоже улеглось. Ну вот. Так-то лучше. Я снова задался вопросом, почему Джоэль Так похоронил труп вместо меня и почему, оказав такую услугу, он не явился за вознаграждением? И потом, для чего ему было делать это, по сути, на своей территории? Зачем делать себя соучастником убийства? Ну, разумеется, если он не знал, что я убил не человека. Возможно ли такое, чтобы он, при помощи третьего глаза, тоже видел гоблинов и мое стремление убивать нашло отклик в его душе? Как бы ни обстояло дело, сейчас было не время раздумывать о таких вещах. В любой момент патрульная служба безопасности может проехать мимо Шоквилля и увидеть, что здесь горит свет. И хотя теперь я был балаганщиком, а не нарушителем границы, как две ночи назад, они все равно наверняка захотят узнать, что я делаю в аттракционе, которым не владею и в котором не работаю. Если же они обнаружат могилу или, еще того хуже, труп, мой статус балаганщика не спасет меня от ареста, следствия и пожизненного заключения. Обеими руками я стал сбрасывать кучки земли обратно в полуоткрытую могилу. Влажная земля посыпалась на руки мертвеца, и тут же одна его рука дернулась, выбросив комья грязи наружу, попав ими мне в лицо. Другая рука тоже судорожно дернулась, похожая на раненого краба. Глаза, затянутые катарактой, моргнули. Я свалился с ног, и пока я полз прочь, труп поднял голову и начал выкарабкиваться из места — не совсем — последнего — упокоения. Это было не видение. Это происходило на самом деле. Я закричат. Но ни звука не вырвалось у меня из груди. Я бешено потряс головой из стороны в сторону, непоколебимый в своем отрицании этого невероятного зрелища. Мне казалось, что труп поднялся только потому, что несколько секунд назад я представил себе, что события будут развиваться именно таким дьявольским образом, и эта безумная мысль вдруг материализовалась, воплотив кошмар в реальность — как будто мое воображение было джинном, принявшим мои худшие опасения за желания и поспешившим исполнить их. А если это так, значит, я сумею загнать джинна обратно в бутылку своим нежеланием этого кошмара и буду спасен. Но как бы отчаянно я ни мотал головой, как бы безнадежно ни отказывался верить своим глазам, труп не улегся на свое место и не прикинулся трупом. Пальцы, белые, как личинки жука, нащупали края могилы, и он принял сидячее положение, глядя прямо на меня. Рыхлая земля высыпалась из складок рубашки, грязные волосы были спутаны и всклокочены. Я полз по полу до тех пор, пока мой зад не уперся в холстяную перегородку, разделявшую этот стенд с соседним. Мне хотелось вскочить на ноги, перемахнув через канат, перегораживающий вход в загончик, и бежать отсюда куда глаза глядят, но это желание имело не больший успех, чем попытка закричать. Труп ухмыльнулся, и комья влажной земли высыпались из открывшегося рта, хотя между зубов по-прежнему оставалась земля. Известково-белый оскал черепов, лишенных плоти, сочащаяся ядом усмешка змеи, плотоядный взгляд Лугоши из-под плаща Дракулы — все бледнело перед этими гротесково сложенными бескровными губами и забитыми грязью зубами. Мне удалось подняться на колени. Труп непристойно ворочал языком, выталкивая сырую землю изо рта. Слабый стон — скорее усталый, чем угрожающий, вырвался у него, едва уловимый звук, нечто среднее между кваканьем и лопаньем пузырька. Я судорожно вздохнул и обратил внимание, что поднимаюсь на ноги точно во сне, будто накачанный мерзким газом, который гоблин выпустил в меня. Вытерев с уголка одного глаза обжигающе соленый холодный пот, я вдруг обнаружил, что припал к земле, выгнув спину, сгорбив плечи, низко опустив голову, точно человекоподобная обезьяна. Но что делать дальше, я не знал, только понимал, что убежать отсюда я не могу. Надо как-то расправиться с этим ненавистным созданием, убить его снова и сделать на этот раз все как надо, господи Исусе, потому что если я не разделаюсь с ним, тогда он выберется отсюда, доберется до гоблинов, которые окажутся поблизости, и расскажет им, что я сделал с ним, и тогда они узнают, что я могу видеть сквозь их обличья, и вскоре весь их род узнает обо мне, и они организуются и начнут охотиться за мной, потому что я представляю для них угрозу, какой не представляет для них больше никто из людей. Теперь я видел под катарактами, закрывавшими глаза, под самими глазами слабое красное свечение, кровавый свет других глаз, глаз гоблина. Тусклый отсвет. Слабый язычок адского пламени. Не прежнее яркое пламя. Просто неяркие вспышки золы в каждом затуманенном зрачке. Я не мог различить других гоблинских черт — ни рыла, ни зубастой морды, только эти ненавистные глаза — возможно потому, что чудовище ушло слишком далеко по дороге смерти и не могло вернуть свой истинный облик обратно в человеческую оболочку. Совершенно очевидно, что такое было невозможно. Его глотка была сплошной зияющей раной, черт возьми, и его сердце перестало биться две ночи назад в павильоне электромобилей, и он перестал дышать, во имя всего святого, он же не дышал двое суток, пока лежал в могиле под полом аттракциона — он до сих пор не дышал, насколько я мог заметить, — и он потерял слишком много крови, чтобы у него наладилось кровообращение. Его ухмылка стала еще шире, пока он с усилием пытался выбраться из полуразрытой могилы. Но его тело по-прежнему находилось под тяжестью полуторафутового слоя земли, и ему было нелегко освободиться. Однако он все же продолжал раскапывать себя и с трудом ползти наверх, с огромными усилиями и дьявольской целеустремленностью, конвульсивно дергаясь при этом, точно сломанный механизм. Когда я оставил его среди электромобилей, он был мертв, это точно, но, как видно, искра жизни сохранилась в его теле. Очевидно, их род каким-то образом мог побороть смерть, отступить от нее, когда нормальному человеку не оставалось иного выбора, кроме как сдаться. Они отступали — куда? — может быть, в состояние «подвешенной жизни», или чего-нибудь в этом роде, сворачивались в клубок, ревниво оберегая чуть теплую зону жизненных сил, поддерживая слабое горение. А дальше что? Могли почти мертвый гоблин мало-помалу раздуть эти угли в легкий огонек, затем разжечь из этого огонька снова мощное пламя, восстановить свое разрушенное тело, оживить сам себя и вернуться на свет из могилы? Если бы я не раскопал этого гоблина, могло бы случиться так, что его изувеченная глотка исцелилась, мог бы он каким-то чудом восстановить кровообращение? А через пару недель, когда ярмарка будет далеко отсюда и ярмарочная площадь опустеет, не повторил бы он — в омерзительнейшем варианте — историю Лазаря, открыв свою могилу изнутри? Я почувствовал, как качаюсь на краю психической пропасти. Если я до сих пор сохранил рассудок, то сейчас я, как никогда, был близок к сумасшествию. Мыча от бессилия, не в состоянии управлять своими явно небольшими силами, бездыханный, но дьявольски оживший труп начал пальцами рыть землю, давившую на нижнюю часть его тела, сгребая грунт в сторону с медленным, тупым усердием. Его опалово-молочного цвета глаза ни на секунду не отрывались от меня, пристально уставившись из-под низкого, вымазанного грязью лба. Он был слаб, да, но с каждый секундой, пока я корчился у стены, парализованный ужасом, он становился сильнее. Со всевозрастающей яростью он набрасывался на окружающую его почву, и неясное пламя его красных глаз разгоралось все ярче. Нож. Мое оружие лежаловозле могилы. Лампочка, висевшая на проводе у меня над головой, качалась под порывами ветра, и яркий отсвет струился туда и обратно вдоль стального лезвия, создавая впечатление скрытой в нем магической силы, как будто это был не обычный нож, а настоящий Экскалибур, легендарный меч Роланда. И в самом деле, для меня в тот момент этот нож был такой же ценностью, как волшебный меч, извлеченный из скалы, заменявшей ему ножны. Но чтобы взять этот нож, мне придется подобраться к полуожившей твари на расстояние, с которого она сможет меня достать. В глубине разорванной глотки трупа родился резкий, сырой, кудахтающий звук — возможно, смех. Так могли бы смеяться обитатели сумасшедшего дома или проклятые души. Он почти высвободил одну ногу. С внезапной решимостью я резко рванулся вперед, к ножу. Тварь опередила меня — протянув неуклюжую руку, она отбросила оружие дальше от меня. Легкое бряцанье и лязганье, последний отблеск — нож штопором прошел сквозь опилки и исчез в темноте под платформой, на которой стояло пустое кресло Джоэля Така. Мне и в голову не приходило схватиться с чудовищем врукопашную. Я понимал, что у меня нет ни единого шанса задушить или вышибить дух из зомби. Это было все равно что бороться с зыбучими песками. Медленная и слабая, как казалось, тварь все же выстоит, измотает меня, будет продолжать сопротивляться, пока я не выдохнусь окончательно, а затем прикончит меня медленными тяжелыми ударами. Нож был моим единственным шансом. Поэтому я рванулся мимо неглубокой могилы, и мертвец ухватил меня за ногу холодной рукой. Его холод немедленно проник сквозь ткань джинсов в мою собственную плоть, но я ударил его, пнул ботинком по голове и рывком освободился. То и дело спотыкаясь, я добрался до дальнего угла загончика, длина которого была футов двенадцать, и, рухнув на колени, лег на живот в том месте, где в щель под платформой завалился нож. Щель была шириной около пяти дюймов, достаточно, чтобы просунуть руку. Я запустил руку в щель, пошарил вокруг, нащупал грязь, опилки, гравий, старый изогнутый гвоздь, но только не нож. Я слышал, как позади меня бессловесно бормочет мертвец, слышал, как летит в сторону грунт, слышал стенания, хлюпанье и царапанье конечностей, освобождающихся из погребения. Не отрываясь на то, чтобы поглядеть назад, я прижался к платформе так, что край доски больно врезался мне в плечо, и попытался просунуть руку глубже еще дюймов на шесть, рыл землю, пытаясь увидеть, а не только почувствовать что-либо кончиками пальцев, но не нашел ничего, кроме обломка дерева и шуршащей целлофановой обертки от сигарет или леденцов. Мне не удавалось протянуть руку достаточно далеко, и мысль о том, что, возможно, моя рука находится на волосок от желанного предмета, приводила меня в неистовство, надо просунуть руку еще глубже, всего на пару дюймов, упрашивал я себя — есть! — глубже, но недостаточно, никакого ножа, и я сдвинул руку чуть влево, затем чуть вправо, бешено хватая воздух и пучки влажной травы, а за моей спиной раздалось невнятно-радостное кудахтанье, шарканье тяжелых подошв, и я услышал собственное нытье, ныл без остановки — еще дюйм! — и вдруг что-то под платформой укололо мой большой палец, наконец-то, — острое лезвие ножа, и, ухватив его за кончик большим и указательным пальцами, я вытащил его наружу, но не успел я встать на ноги или хотя бы перекатиться на спину, как труп нагнулся надо мной, схватил меня за шиворот и за пояс, поднял с куда большей силой, чем я от него ожидал, тряхнул и швырнул вниз, так что я жестко приземлился, уткнувшись лицом в могилу. Перед носом у меня копошился червяк, рот забило землей. Я задыхался, часть земли удалось выплюнуть, но часть я проглотил. Я перевернулся на спину в тот самый момент, когда безмозглый гоблин тяжело подошел к краю могилы. Он глядел вниз. Лед и пламя в глазах. Его невероятная тень раскачивалась взад и вперед передо мной, повинуясь колеблющемуся свету. Расстояние между нами было недостаточным, чтобы успешно метнуть нож. Но внезапно я разгадал намерение твари. Сжав рукоятку обеими руками, я выставил нож перед собой, напряг плечи, локти и запястья и направил лезвие прямо на тварь в тот самый миг, когда она расставила руки и, безумно ухмыляясь, упала на меня. Она сама нанизала себя на нож, и мои руки согнулись под ее весом. Чудовище упало на меня так, что мне показалось, что из меня вышибли дух. Несмотря на то что нож по самую рукоять вошел в его небьющееся сердце, бывший мертвый не думал утихомириваться. Его подбородок лежал у меня на плече, холодная жирная щека прижалась к моей щеке. Он что-то бессмысленно бормотал мне на ухо тоном, вдруг сделавшимся похожим на муки страсти. Его руки и ноги судорожно дергались, совершенно по-паучьи, а пальцы рук бесцельно сжимались и разжимались. Переполнившее меня отвращение и неудержимый ужас придали мне силы. Толкаясь, извиваясь, царапаясь, брыкаясь, я руками и ногами отталкивал его и наконец выбрался из-под этой твари. Теперь мы поменялись местами — я был сверху, упираясь одним коленом ему в пах, другим в грязную землю сбоку от него. Я плевался бранью и проклятьями — обрывками слов и такими же бессмысленными звуками, как те, что до сих пор слетали со все еще шевелящихся губ моего противника. Вытащив нож из его сердца, я пырнул его снова, снова, еще, в горло, в грудь, в живот, еще и еще. Бесцельно и вяло оно обрушивало на меня пудовые кулаки, но даже в охватившей меня безумной горячке я без особого труда уклонялся от большинства из них, хотя несколько раз моим плечам и рукам крепко досталось. Наконец мой нож добился нужного результата, вырезав пульсирующую раковую опухоль потусторонней жизни, теплившейся в холодной плоти. Он вырезал ее по кусочкам, пока руки чудовища не стали двигаться еще медленнее, еще более неверными движениями, пока он не начал кусать свой собственный язык. Наконец его руки вяло упали вдоль тела, рот обмяк, и слабый красный огонек гоблинского разума исчез из его глаз. Я убил его. Снова. Но убить его — этого было недостаточно. Я должен был быть уверен, что тварь останется мертва. Теперь я разглядел, что смертельная рана на горле и в самом деле чуть затянулась с той ночи в павильоне электромобилей. До этой ночи мне и в голову не приходило, что гоблины, подобно вампирам из европейского фольклора, способны иногда возвращаться к жизни, если с ними недостаточно тщательно разделались. Теперь, зная ужасную правду, я не оставлю им ни единого шанса. Адреналин все еще бушевал во мне, и пока отвращение и тошнота не лишили меня мужества, я отрубил твари голову. Работа была не из легких, но нож был острый, лезвие из закаленной стали, а страх и ярость по-прежнему придавали мне силы. По крайней мере, резня была бескровной — я выпустил всю кровь из этого тела две ночи назад. Снаружи жаркий летний ветер обрушился на палатку, еще сильнее завывая и свистя. Холст волнами натягивался на удерживающих его канатах и кольях. Он рвался, бился и трепетал, словно крылья огромной темной птицы, рвущейся в небо, но прикованной к насесту. Крупные черные ночные бабочки метались вокруг раскачивающихся лампочек. Их стремительные тени соединялись с кружением света и странными затемненными очертаниями. Это безостановочное движение призраков, если глядеть на него через линзы страха и паники, глазами, затуманенными жгучим потом, сводило с ума и усиливало головокружение, от которого и так качалось его тело. Наконец я обезглавил его. Сначала я решил положить голову твари между ее ног, а затем зарыть могилу. Но потом я подумал, что это опасно. Я с легкостью представил себе, как труп, вторично зарытый в землю, мало-помалу двигает под землей руками, добирается до отрезанной головы и восстанавливает сам себя — разрезанная шея срастается, обрывки спинного мозга сливаются воедино, алое пламя оживает в его страшных глазах... Так что я отложил голову в сторону и закопал только тело. Потоптавшись на этом месте, я утрамбовал почву так хорошо, как только смог, затем снова присыпал все опилками. Держа голову за волосы, я почувствовал, как во мне поднимается бешенство и ярость. Желая избежать этого, я поспешил к выходу из Шоквилля, погасив свет. Полог, развязанный мной, хлопал в бурной ночи. Я осторожно выглянул наружу. В ущербном свете заходящей луны на аллее не было заметно никакого движения — только очертания скользящих призраков, сотканных из пыли заклинаниями заезжего ветра-чародея. Я выскользнул наружу, положил голову на землю и завязал тесемки на входе. Подобрав голову, я украдкой поспешил вдоль проезда к дальнему концу ярмарки — между двумя целомудренно затемненными палатками шоу с девицами, через сбившиеся в кучу грузовики, похожие на дремлющих слонов, мимо генераторов и высоких пустых деревянных клеток, через пустынное поле, в ближайший лесок, окружавший ярмарочную площадь с трех сторон. С каждым шагом я все больше боялся, что висящая на своих волосах голова снова оживет — свет снова забрезжит в глазах, губы дрогнут, зубы заскрежещут. Поэтому я держал голову сбоку на расстоянии вытянутой руки от себя, чтобы ненароком она не задела мою ногу и не впилась зубами мне в бедро. Разумеется, он был мертв. Скрежет и клацанье зубов, тяжелое бормотанье, выражающее ненависть и злобу, были лишь порождениями всего лихорадочного горящего воображения, которое не просто бежало вместе со мной — оно неслось галопом в бешеной скачке, кружилось каруселью посреди кошмарного ландшафта ужасающих предположений. Продравшись, наконец, сквозь заросли кустарника между деревьями, я отыскал крошечную лужайку возле ручья и поставил голову на удобный плоский камень. Даже в слабом жутковатом лунном свете было видно, что мои страхи были беспочвенны, и объект моих страхов был лишен всяких признаков жизни — обычной или какой-нибудь иной. Землю возле ручья — мягкий, влажный суглинок — было легко копать голыми руками. Деревья, чьи по-ночному темные сучья делали их похожими на ведьм в широких юбках и чародеев в плащах, стояли на страже по краям лужайки, пока я рыл яму, затем зарывал голову. Утрамбовав грунт, я скрыл дело рук своих под грудой опавших листьев и сосновых иголок. Теперь, для того чтобы повторить чудо Лазаря, восставшего из мертвых, обезглавленный труп должен был сначала выбраться из могилы на ярмарочной площади, слепо шатаясь, добрести до леса, отыскать эту полянку и выкопать свою голову из второй могилы. Хотя события последних часов и преисполнили меня верой в куда большие возможности злой силы гоблинской расы, я все-таки был совершенно уверен, что даже эта сила не в состоянии преодолеть на пути к воскрешению подобные препятствия. Тварь была мертва, и она останется мертва. Все, что я делал — путь от шоу до леса, рытье ямы, погребение головы, — я делал в состоянии, близком к панике. С минуту я неподвижно стоял на полянке, бессильно свесив руки вдоль туловища и пытаясь успокоиться. Это было непросто. Я все думал о дяде Дентоне, оставшемся в Орегоне. Могло ли случиться так, что его изрубленный труп излечился в тишине и покое гроба и пробил себе путь наружу из могилы через несколько недель после того, как я подался в бега? Посетил ли он ферму, где до сих пор жили моя мать и сестра, чтобы отомстить семейству Станфеуссов? Не стали ли они жертвами гоблина по моей вине? Нет. Это было немыслимо. Я не смог бы жить под гнетом такой тяжкой вины. Дентон не возвращался. Во-первых, в тот кровавый день, когда я напал на него, он бился с такой яростью, что мой гнев перерос в нечто сродни помешательству маньяка. Поэтому я нанес топором множество ужасных ран. Я рубил его с безумной отрешенностью даже после того, как понял, что он мертв. Я слишком сильно изрубил его, буквально разнес на кусочки, слишком тщательно, чтобы он сумел вновь сшить свое тело воедино. Кроме того, даже если он и сумел воскреснуть, он наверняка не вернулся бы ни в дом Станфеуссов, ни в какое другое место в долинах Сискию — его чудесное возвращение потрясло бы всю округу и приковало бы к нему неослабевающее внимание. Я был уверен, что он по-прежнему лежит и разлагается в своем гробу, — но если он и не в могиле, то он далеко от Орегона, живет под другим именем и терзает других невинных, но не моих родных. Я повернулся спиной к полянке, продрался сквозь заросли кустарника и побрел назад по чистому полю. Ночь благоухала ароматами трав. Пройдя полпути до ярмарки, я почувствовал, что во рту по-прежнему стоит привкус грязи — от того комка земли, который я невольно съел, упав в могилу гоблина. Этот отвратительный привкус воскресил во всех подробностях ужас последнего часа. Он как-то пробился через защитную стену нечувствительности, которая удерживала меня от потери сил, когда я делал то, что должно было быть сделано. Тошнота подступила к горлу. Я рухнул на четвереньки, опустил голову, и меня вырвало на траву. Когда тошнота прошла, я отполз на несколько футов в сторону и плюхнулся на спину, глядя на звезды. Я пытался перевести дух и найти в себе силы дойти обратно. Было без десяти пять утра. Не позднее чем через час взойдет оранжевое рассветное солнце. При этой мысли мне вспомнился невидящий оранжевый глаз во лбу Джоэля Така. Джоэль Так... он тайком унес тело из павильона электромобилей и похоронил его. Так мог поступить тот, кто знал сущность гоблинов и хотел помочь мне. Почти наверняка не кто иной, как Джоэль, приходил прошлой ночью в трейлер, где я спал, и оставил две контрамарки — в павильон электромобилей и на чертово колесо — на моих сложенных джинсах. Он пытался дать мне понять, что знает, что произошло в павильоне электромобилей, и что он так же знает, как знаю и я, что что-то должно случиться на чертовом колесе. Он мог видеть гоблинов и в какой-то степени ощущал недобрую энергию вокруг чертова колеса, но его дар был, возможно, не так силен, как мой. Это был первый случай, когда я столкнулся с кем-то, обладающим настоящими психическими способностями, и, уж конечно, впервые я пересекся с кем-то, кто видел гоблинов. На какой-то миг меня переполнило ощущение братства, сильнейшее чувство так страстно желанного родства. У меня даже слезы навернулись на глаза. Я был не одинок. Но почему Джоэль избрал окольный путь? Почему он отказывался дать мне знать о нашем братстве? Очевидно, потому, что он не хотел, чтобы я знал о том, кто он есть. Но почему не хотел? Потому что... он не был другом. Мне вдруг пришло в голову, что Джоэль Так может сохранять нейтралитет в битве между человечеством и расой гоблинов. В конце концов, обычные люди относились к нему хуже, чем гоблины, хотя бы уже потому, что с людьми он сталкивался каждый день, а с гоблинами от случая к случаю. Изгой, которого общество по большей части отталкивало, поливая бранью, человек, который мог чувствовать свое достоинство лишь в убежище ярмарки, он вполне мог решить, что у него нет особых причин вставать против гоблинов в их войне с простаками. Если это именно так, значит, он помог мне с трупом и указал на грядущее несчастье с чертовым колесом исключительно потому, что эти гоблинские замыслы были направлены непосредственно против балаганщиков, единственных людей, которым он хранил верность в этой секретной войне. Он не хотел вступать со мной в прямой контакт, потому что чувствовал — моя кровная месть демонам не ограничивалась рамками ярмарки, и он не желал быть вовлеченным в более серьезную схватку. Он был готов вести войну, лишь когда она подступала к нему. Он помог мне однажды, но он не собирался помогать мне постоянно. Коли дело оборачивалось таким образом, стало быть, я по-прежнему был совершенно один. Луна закатилась. Ночь была очень темна. Вконец вымотанный, я поднялся с травы и направился в раздевалку под трибуной. Там я отскреб от грязи руки, потратив минут пятнадцать, чтобы вычистить всю грязь из-под ногтей, и принял душ. После этого я направился в трейлер на лугу, где у меня было свое место. Мой сосед по комнате, Барни Куадлоу, громко храпел. Я разделся и лег в кровать. Я чувствовал физическое и умственное онемение. Наслаждение, которое мне дала Райа Рэйнз — и которое я дал ей, — было сейчас лишь смутным воспоминанием, хотя с того времени, что мы были вместе, не прошло и пары часов. Кошмар, пережитый после этого, воспринимался ярче, и, как новый слой краски, он заслонил прежнюю радость. Сейчас из свидания с Райей я отчетливее всего помнил ее уныние, ее глубокую и необъяснимую печаль, потому что я знал, что Райа рано или поздно станет причиной очередного кризиса, с которым мне придется столкнуться. Такой груз лег на мои плечи. Слишком тяжелый груз. Мне было только семнадцать. Я тихонько плакал об Орегоне, об утраченных сестрах и матери, чья любовь была так далеко от меня. Мне страстно хотелось уснуть. Я отчаянно нуждался хотя бы в кратковременном отдыхе. До Йонтсдауна оставалось меньше двух дней.Глава 11
НОЧЬ ЛИНЬКИ
В полдевятого утра в субботу, проспав чуть больше двух часов, я проснулся — мне снился кошмар, какого я раньше никогда не видел. В этом сне я находился на обширном кладбище, раскинувшемся на склонах бесконечной вереницы холмов, среди бесчисленного множества гранитных и мраморных надгробий всех размеров и форм, многие из которых расколоты, большинство покосилось. Бесконечное количество рядов, бессчетное число надгробий — то самое кладбище, что видела во снах Райа. Райа тоже была там — она убегала от меня по снегу, под черными ветвями бесплодных деревьев. Я гнался за ней, и самое странное было то, что я испытывал к ней и любовь, и ненависть и не был уверен, что я буду делать, когда настигну ее. Одна часть меня жаждала покрыть ее лицо поцелуями, заниматься с ней любовью, но другая хотела душить ее до тех пор, пока глаза ее не вылезут из орбит, лицо не почернеет, пока ее прекрасные голубые глаза не замутятся пеленой смерти. Такая неистовая злоба, направленная против той, кого я любил, до ужаса пугала меня, и много раз я останавливался. И всегда, когда останавливался я, останавливалась и она, стояла и ждала меня чуть ниже по склону, среди надгробий, как будто она хотела, чтобы я поймал ее. Я пытался предупредить ее, что это не любовная игра, что со мною что-то не так, что я могу утратить контроль над собой, когда поймаю ее, но губы и язык не повиновались мне, я не мог выдавить из себя ни одного слова. Всякий раз, когда я останавливался, она махала мне рукой, побуждая бежать дальше, и я сам не замечал, как опять пускался в погоню. И наконец я понял, что со мною. Наверное, во мне находится гоблин! Один из демонов проник внутрь меня, захватил контроль надо мной, разрушив разум и душу, оставив одно лишь тело — теперь это было его тело. Но Райа об этом не знала, она по-прежнему видела просто Слима, Слима Маккензи, который любит ее; она не понимала, в какую беду попала, не осознавала, что Слим мертв, исчез, что его тело, хоть и живое, принадлежит теперь нечеловеческому созданию, и если это создание поймает ее, то задушит, лишит жизни. Оно уже настигало ее, и она со смехом оглядывалась через плечо на его-меня — она выглядела такой красивой, красивой и обреченной, — оно-я уже в десяти футах от нее, восемь, шесть, четыре фута, и затем я схватил ее, резко развернул... ...и когда я проснулся, я все еще чувствовал, как ее шею стискивают мои железные руки. Я сел в кровати, прислушиваясь к бешеному биению сердца и прерывистому дыханию, пытаясь очистить сознание от этого кошмара. Моргая, глядя на утренний свет, я отчаянно старался уверить себя, что, какой бы яркой и впечатляющей ни была эта сцена, она была всего лишь сном, а никак не предупреждением о том, что произойдет в будущем. Не предупреждением. Пожалуйста.* * *
Ярмарка открывалась в одиннадцать утра, таким образом, в моем распоряжении было два часа. За эти два часа я могу крепко взвинтить себя мыслями о крови, которой уже обагрены мри руки, если не найду себе какое-нибудь занятие. Ярмарочная площадь находилась на окраине центра графства — городишка с населением в семь-восемь тысяч человек. Я отправился в город, позавтракал там в кафе, завернул по соседству в магазин мужской одежды и купил две пары джинсов и пару рубашек. За все время визита в город я не увидел ни одного гоблина. День был такой по-августовски великолепный, что мало-помалу я начал склоняться к мысли, что все будет хорошо — и у нас с Райей, и во время недельного выступления в Йонтсдауне, если я буду действовать обдуманно и не потеряю надежду. На ярмарку я вернулся в пол-одиннадцатого, забросил джинсы и рубашки в трейлер и без четверти одиннадцать был уже на аллее. Ярмарка еще не открылась, а я уже подготовил силомер к работе и сидел рядом с ним на табуретке; я ожидал появления первых посетителей, когда пришла Райа. Золотая девушка. Загорелые голые ноги. Желтые шорты. Четыре различных оттенка желтого цвета на горизонтальных полосах футболки. На аллее она носила бюстгальтер — это был 1963 год, и появление в толпе девушки без лифчика шокировало бы простаков, независимо от того, насколько допускалось такое в трейлерном городе, среди балаганщиков. Завязанная узлом желтая повязка не давала волосам упасть ей на лицо. Она вся светилась. Я встал, попытался обнять ее за плечи, хотел поцеловать в щеку, но она уперлась рукой мне в грудь, отстраняя меня, и сказала: — Я не хочу никакого недоразумения. — Ты о чем? — Относительно этой ночи. — А что я мог бы неверно понять? — Что это значит. — И что же это значит? Она нахмурилась: — Это значит, что ты мне нравишься... — Прекрасно! — ...и это значит, что мы можем доставлять друг другу удовольствие... — Ты и это заметила! — Но это не значит, что я твоя девушка или что-нибудь в этом роде. — Ну, по-моему, ты и в самом деле моя девушка, — заметил я. — На аллее я по-прежнему твой босс. — А-а. — А ты мой работник. — А-а, — повторил я. Господи, подумал я. Она продолжала: — И я не желаю никакой необычной... фамильярности на аллее. — Упаси боже. Но мы собираемся быть по-прежнему необычно фамильярны за пределами аллеи? Она совершенно не отдавала себе отчет, насколько оскорбительны ее слова и тон. Поэтому она толком не поняла моей реакции, но рискнула улыбнуться. — Верно, — сказала она. — За пределами аллеи ты, надеюсь, будешь настолько фамильярен, насколько пожелаешь. — Тебя послушать, так у меня аж две должности. Ты меня наняла за мое мастерство балаганщика или за мое тело тоже? Ее улыбка нерешительно дрогнула. — Как балаганщика, разумеется. — Потому что, видите ли, босс, мне бы не хотелось думать, что вы злоупотребляете положением этого бедного, низкооплачиваемого труженика. — Я серьезно, Слим. — Я это заметил. — К чему тогда все эти шутки? — Это будет самая приемлемая в обществе альтернатива. — То есть? Чему? — Тому, чтобы орать и осыпать собеседника бранью и оскорблениями. — Ты на меня обозлился. — Ах, босс, вы столь же наблюдательны, сколь прекрасны. — Тебе не из-за чего было так злиться. — Конечно. Должно быть, я просто очень вспыльчивый. — Я всего-навсего пытаюсь прояснить наши отношения. — Очень по-деловому. Я в восхищении. — Послушай, Слим, я только хотела сказать — то, что происходит между нами наедине, это одно, а то, что здесь на аллее, — это совсем другое. — Господи помилуй, мне бы в жизни в голову не пришло заниматься этим прямо тут, на ярмарке, — ответил я. — С тобой невозможно говорить. — Зато ты — образец дипломатии. — Слушай, некоторые парни, если залезут боссу под юбку, тут же воображают, что им уже можно не вкалывать наравне с остальными. — Я похож на такого парня? — поинтересовался я. — Надеюсь, что нет. — Эти слова не больно-то смахивают на вотум доверия. — Я не хочу, чтобы ты на меня сердился, — попросила она. — Я не сержусь, — ответил я, хотя и был сердит. Я знал, что ей совсем нелегко общаться с людьми на равных. Из-за своего психического восприятия я особенно близко к сердцу принимал печаль, одиночество и неуверенность — и, как результат всего этого, вызывающую браваду, — сформировавшие ее характер, и я жалел ее так же сильно, как злился на нее. — Ты злишься, — сказала она. — Злишься. — Все в порядке, — ответил я. — А сейчас мне пора работать. — Я ткнул пальцем в дальний конец прохода. — Вон идут простаки. — Мы выяснили отношения? — спросила она. — Угу. — Точно? — Угу. — Увидимся позже, — закончила она. Я провожал ее взглядом. Я любил и ненавидел ее, но главным образом я любил ее, эту трогательно хрупкую амазонку. Не было смысла злиться на нее. Она была как простейшее природное явление. Злиться на нее было все равно что злиться на ветер, на зимнюю стужу или на летний зной — ни их, ни ее нельзя было изменить злостью.* * *
В час дня Марко подменил меня на полчаса, затем пришел в пять, и у меня наступил трехчасовой перерыв. Оба раза у меня мелькала мысль заглянуть в Шоквилль и перекинуться словечком с загадочным Джоэлем Таком, и оба раза я не решался торопить события. Сегодня был самый насыщенный день представления, и толпа была раза в три, в четыре больше, чем в остальные дни недели. А то, что я собирался сказать Джоэлю, не относилось к тому, о чем говорят в чьем-то присутствии. Кроме того, я опасался — на самом деле был уверен, — что он замкнется в себе, если я надавлю на него слишком быстро или слишком сильно. Он будет отрицать, что ему что-то известно о гоблинах и о тайных захоронениях во мраке ночи, и тогда я не буду знать, как действовать дальше. Я считал, что урод может в принципе стать моим ценным союзником, и меня беспокоило, что преждевременный контакт отпугнет его от меня. Я чувствовал в нем не только союзника, но и друга и, странным образом, отца и понимал, что умнее будет дать ему время присмотреться ко мне и определиться в своем ко мне отношении. Я был, наверное, первым человеком, встретившимся ему, который был способен видеть гоблинов, точно так же, как и он был первым, обладающим этой безрадостной способностью, кого встретил я, так что рано или поздно его любопытство пересилит скрытность. А до этого мне нужно быть терпеливым. В общем, слегка поужинав, я направился на луг, в трейлер, где у меня была своя комната, и вырубился на пару часов. В этот раз мне не снились кошмары. Я слишком устал, чтобы видеть сны. К восьми я вернулся на силомер. Последние пять часов представления пролетели легко и с выгодой, в дожде разноцветных огней, брызгавших светом на все вокруг, даже на громыхающие карусели. То и дело слышались взрывы беспечного смеха. Болтающие, тычущие пальцами, пялящие глаза простаки текли мимо силомера, точно поток, выхлестнувшийся за края сточной канавы. В волнах этого потока плыл мусор — купюры и монеты, и до части этого мусора мне удавалось дотянуться и припрятать его для Райи Рэйнз. Наконец, в час ночи, ярмарка начала потихоньку сворачиваться. Балаганщики называют последнюю ночь представления «ночью линьки» и с нетерпением ожидают ее, потому что в них живет неистребимый цыганский дух. Ярмарка сбрасывает с себя город так же, как змея сбрасывает старую кожу. И точно так же, как змея обновляется в ходе линьки, так и балаганщик и вся ярмарка возрождаются в ожидании новых мест и новых карманов, которые можно освободить от денег. Марко зашел, чтобы забрать дневную выручку, так что я мог не откладывая приступить к разборке силомера. И в то время, как я возился с ним, несколько сот остальных балаганщиков — владельцы, кассиры, зазывалы, укротители, эквилибристы, велосипедисты, карлики и лилипуты, девицы, повара из забегаловок, грузчики, короче, все, кроме детей (которые уже были в кровати) и тех, кто присматривал за детьми, занимались тем же самым — разбирали и паковали карусели, аттракционы, палатки, забегаловки и все, что можно, освещенные огнями от здоровенного ярмарочного генератора. Разборка небольших «американских горок», редкости на бродячих ярмарках, сопровождалась непрерывным лязгом, звоном и дребезжаньем. Сначала этот звук раздражал, но вскоре уже казался странной немелодичной музыкой, не такой уж и неприятной, а еще через некоторое время стал такой неотъемлемой частью общего шума, что я и вовсе перестал его замечать. Клоунское лицо на павильоне смеха распалось на четыре части, которые одну за другой спустили вниз. Последним спустили громадный красный нос. Некоторое время он висел в одиночестве, точно исполинская нюхалка огромного насмешливого Чеширского кота — тот исчезал так же странно, по частям, как и его родич, поддразнивавший Алису. Нечто размером с динозавра и с таким же аппетитом откусило кусочек от чертова колеса. В Шоквилле спускали вниз портреты пятнадцати футов высотой, изображавшие искаженные черты и лица уродцев. Опускаясь с поддерживающих столбов, холсты закручивались, шли волнами, и от этого плоскостные портреты приобретали видимость объемных, подмигивали, ухмылялись, скалились, со смехом косились на балаганщиков, вкалывающих внизу. Затем они складывались, матерчатые губы целовали нарисованные лбы, лишенные глубины глаза могли теперь созерцать лишь свои же носы, плоскостная реальность быстро подменяла кратковременную иллюзию жизни. От чертова колеса откусили уже два куска. Закончив с силомером, я направился помогать паковать остальные концессии Райи Рэйнз, а потом прошел по всей аллее, помогая повсюду, где было нужно. Мы выкручивали болты из деревянных стенных панелей, укладывали палатки в парашютные мешки, готовясь к десанту на Йонтсдаун, разъединяли брусы и подпорки, непрерывно шутили за работой, обдирали костяшки, напрягали мускулы, до крови резали пальцы, наглухо заколачивали крышки ящиков, заталкивали эти ящики в грузовики, отрывали доски от настила павильона электромобилей, пыхтели, потели, бранились, смеялись, жадно глотали содовую воду, опрокидывали в себя холодное пиво, подманивали к грузовикам двух слонов, тащивших самые тяжелые брусья, спели несколько песен (некоторые из них написал Бадди Холли, который к тому времени уже четыре с половиной года как умер и покоился вместе с «Бичкрафт Бонанца» на одиноком замерзшем поле между Клир-Лейк, штат Айова, и Фаро, штат Северная Дакота). Мы вывинчивали шурупы, выдергивали гвозди, сматывали несколько миль электрических кабелей, и когда я в очередной раз взглянул в сторону чертова колеса, я обнаружил, что оно съедено целиком, не осталось ни единой, даже самой маленькой косточки. Руди-Рыжий Мортон, главный механик братьев Сомбра, которого я повстречал в то первое утро на ярмарке, командовал нашим взводом, а им, в свою очередь, командовал Гордон Элвейн, лысый и бородатый человек, ответственный за перевозки. Горди нес ответственность за окончательную погрузку гигантской ярмарки. Учитывая, что ярмарка братьев Сомбра путешествовала в сорока шести железнодорожных вагонах и девяноста тяжелых грузовиках, работа у него была очень ответственная. Мало-помалу аллея, точно люстра со множеством ламп, погасла и исчезла. Усталый, но с невероятно приятным чувством коллективизма, я вернулся в трейлерный город на лугу. Многие уже выехали в Йонтсдаун, остальные уедут только завтра. Я не пошел в свой трейлер. Вместо этого я направился к «Эйрстриму» Райи Рэйнз. Она ждала меня. — Я надеялась, что ты придешь, — сказала она. — Ты же знала, что приду. — Я хотела сказать... — Неважно. — Извини. — Я весь грязный. — Хочешь принять душ? Я хотел. Так я и сделал. Когда я вытерся, меня уже ожидало пиво. У нее в постели, где, как я думал, меня хватит только на то, чтобы заснуть, мы занялись любовью — восхитительно медленно и просто — сплошные вздохи и бормотания в темноте, нежные ласки, медленные, точно во сне, движения, шуршание кожи, соприкасающейся с кожей. Ее дыхание было сладким, как летний клевер. Через некоторое время мы уже как будто скользили куда-то в затененное, но совсем не страшное место, сливались в этом скольжении, с каждой секундой падения все больше соединяясь, и я почувствовал, что мы движемся к полному и вечному единению, что мы близки к тому, чтобы стать одним существом, не похожим ни на кого из нас. Этого состояния я желал сильнее всего, это была возможность отбросить прочь гнетущие воспоминания, заботы и острую боль потерь в Орегоне. Достичь этого сладостного самоотречения казалось возможно, лишь если мне удастся сделать так, чтобы ритм совокупления совпал с ритмом биения ее сердца, и мгновение спустя мы добились этого совпадения, и вместе со спермой мое сердцебиение вошло в нее, и два сердца теперь стучали как одно, и с легкой дрожью и затихающим вздохом я перестал существовать. Мне снилось кладбище. Плиты изъеденного временем песчаника. Мраморные надгробия в выбоинах. Потрепанные непогодой гранитные обелиски, прямоугольные и шарообразные, на которых сидели черные дрозды с отвратительно изогнутыми клювами. Райа убегала. Я преследовал ее. Я собирался убить ее. Я не хотел убивать ее, но по какой-то непонятной мне причине у меня не было иного выбора, кроме как повалить ее на землю и вырвать из нее жизнь. Ее ноги оставляли в снегу не простые следы — эти следы были наполнены кровью. Она не была ранена, у нее не текла кровь, поэтому я решил, что кровь — просто знак, предвестник грядущего кровопролития, доказывающий, что нам не уклониться от своих ролей — жертвы и убийцы, добычи и охотника. Я настигал ее, ее волосы развевались на ветру за ее спиной, я схватил ее за волосы, она не удержалась на ногах, и мы оба упали среди надгробий, и затем я взгромоздился на нее, рыча, потянулся к ее горлу, как будто я был не человек, а зверь, лязгающий зубами, подобрался к яремной вене, и кровь брызнула струей — стремительные теплые струи густой алой жидкости... Я проснулся. Сел. Вкус крови. Потряс головой, заморгал глазами и окончательно проснулся. Вкус крови не исчез. О господи. Это должно быть воображением. Не ушедший обрывок сна. Но он не исчезал. Нашарив лампу возле кровати, я включил ее. Свет показался мне резким и обвиняющим. Тени метнулись по углам комнатки. Я поднес руку ко рту. Прижал трясущиеся пальцы к губам. Взглянул на пальцы. Увидел кровь. Рядом со мной лежала Райа — комочек, укрытый простыней, точно тело, осторожно прикрытое заботливым полицейским на месте убийства. Она наполовину отвернулась от меня. Все что я мог видеть, — ее светлые волосы на подушке. Она не шевелилась. Если она и дышала, то ее вдохи и выдохи были такими неглубокими, что их невозможно было уловить. Я сильно сглотнул. Этот вкус крови. Медный привкус. Точно лизнул старую медную монетку. Нет. Я не мог в самом деле задушить ее, пока спал. О боже. Невозможно. Я не был безумцем. Я не был маньяком-убийцей. Я не смог бы убить того, кого я любил. Я отчаянно уговаривал себя, но, невзирая на это, дикий стремительный ужас обрушился на меня и забился внутри яростной птицей. Я не мог собраться с духом, чтобы откинуть простыню и взглянуть на Райю. Прислонившись к изголовью кровати, я спрятал лицо в ладонях. За последние часы я получил первое страшное доказательство того, что гоблины — нечто большее, чем химеры, порожденные моим безумным воображением. В глубине души я всегда знал, что они существуют на самом деле и что я не убивал невинных людей, в безумии своем возомнив, будто в них прячутся гоблины. Теперь я знал, что Джоэль Так тоже видит этих демонов. К тому же я сражался с трупом, ожившим благодаря слабому огоньку гоблинской жизненной силы. Будь это труп нормального человека, невинной жертвы моей мании, он бы не поднялся из могилы так, как он поднялся. Все эти факты служили достаточно убедительной защитой против обвинения в безумии, которое я нередко выдвигал против самого себя. И все же я продолжал сидеть, закрыв лицо руками, скрывая его пальцами и ладонями, не желая протянуть руку и коснуться ее, боясь того, что я, возможно, сотворил. От вкуса крови у меня сжималось горло. Я содрогнулся и глубоко вдохнул. Вместе с воздухом прихлынул аромат крови. За последние два года мне не раз пришлось пережить страшные, мрачные моменты, когда мной овладевало чувство, что весь мир — просто склеп, который был сотворен и запущен вертеться волчком в пустоте с одной-единственной целью — обеспечить сцену для представления Космического Театра Ужасов. Сейчас был один из таких моментов. Когда тиски такой депрессии сжимали меня, мне казалось, что единственный удел человечества — это бойня, что мы либо убиваем друг друга, либо становимся добычей гоблинов, либо падаем под ударами судьбы — от рака, при землетрясениях и приливах, от мозговых опухолей, от ударов молнии — от всего того, чем бог задумал расцветить и обогатить сюжет пьесы. Временами мне казалось, что граница и предел нашей жизни — кровь. Но мне всегда удавалось выбраться наружу из этих ям — я хватался за свою веру в то, что мой крестовый поход против гоблинов в конечном счете спасает чьи-то жизни и что в один прекрасный день я смогу заставить остальных людей поверить в существование разгуливающих среди нас монстров, замаскировавшихся под людей. И тогда, надеялся я, люди перестанут сражаться и увечить друг друга и обратят все свое внимание на настоящую войну. Но если я в бреду напал на Райю, если я убил ее, если я смог убить того, кого любил, значит, я безумец и все мои надежды относительно себя самого и будущего моей расы были возвышенными... ...и тут Райа всхлипнула во сне. У меня перехватило дух. Она металась во сне, реагируя на что-то из своего кошмара, мотала головой, несколько мгновений боролась с простыней, и наконец ее лицо и шея стали доступны моему взгляду, после чего погрузилась в менее тревожный, но все так же беспокойный сон. Ее лицо было таким же прекрасным, каким оно было в моей памяти — без порезов, без рубцов, без кровоподтеков. Но лоб был наморщен, и тревога, часть ее дурного сна, свела рот в гримасу, похожую на оскал. На шее не было никаких отметин. Крови было не видно. От облегчения на меня напала слабость, и я рассыпался в благодарностях богу. Моя обычная язвительность по адресу его деяний была временно забыта. Обнаженный, смущенный и испуганный, я тихонько вылез из кровати, зашел в ванную, закрыл дверь и зажег свет. Сначала я поглядел на свою руку, которой трогал губы. Кровь на пальцах не пропала. Подняв глаза к зеркалу, я увидел кровь и на подбородке. Кровь блестела на губах, зубы были в крови. Я вымыл руки, оттер лицо, прополоскал рот. В аптечке нашлось несколько освежающих таблеток, которые помогли избавиться от медного привкуса во рту. Я решил, что, должно быть, прикусил во сне язык, но, прополоскав рот, не почувствовал жжения. Внимательно осмотрев полость рта, я не сумел отыскать ранки, на которую можно было бы списать полный рот крови. Каким-то образом кровь из сновидения материализовалась и, когда я проснулся, перешла вместе со мной из мира кошмаров в реальный мир, в мир живых. Что само по себе было невозможно. Я поглядел в это отражение своего Сумеречного Взгляда. — Что это значит? — спросил я сам себя. Изображение в зеркале не отвечало. — Что, черт побери, происходит? — требовательно вопросил я. Мой товарищ в зеркале либо ничего не знал, либо держал свои секреты при себе, за плотно сжатыми губами. Я вернулся в спальню. Райа по-прежнему находилась во власти кошмара. Она лежала, наполовину раскрывшись, на куче смятой ткани. Ее ноги двигались, словно она бежала. Она произнесла: «Пожалуйста, ну пожалуйста» и затем «Ох!», сгребла простыню в кулачки, мгновение мотала головой. Потом наступила более спокойная стадия сна, во время которой она сопротивлялась сновидению лишь приглушенным бормотаньем, время от времени слабо вскрикивая. Я лег в постель. Врачи, специализирующиеся на проблемах нарушения сна, считают, что наши сновидения длятся неожиданно короткое время. Независимо от того, каким долгим может казаться кошмарный сон, как утверждают исследователи, от его начала до конца проходит самое большее несколько минут, а как правило, от двадцати секунд до одной минуты. Райа Рэйнз, как видно, не читала, что писали по этому поводу специалисты, потому что всю вторую половину ночи она опровергала их выводы. Ее сон то и дело терзали призрачные враги, воображаемые битвы и погони. Около получаса я наблюдал за ней в янтарном свете прикроватной лампы. Затем я погасил свет и еще полчаса сидел в темноте, прислушиваясь к ней. Я понял, что для нее сон был таким же плохим отдыхом, как и для меня. Наконец я растянулся на спине. Через матрас ко мне передавалась каждая су-дорога, каждый спазм страха, которые она ощущала в царстве сновидений. Я думал, не была ли она на одном из своих кладбищ. Я думал, не было ли это кладбище на холме. Я думал, что могло преследовать ее среди надгробий. Я думал, не был ли это я сам.Глава 12
ОКТЯБРЬСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Распахивались двери трейлеров, открывались ящики, и оттуда, словно великолепный заводной механизм, созданный швейцарскими умельцами, которым принесли мировую славу их невероятно сложные башенные часы с двигающимися человеческими фигурами в полный рост, вынималась и заново строилась на ярмарочной площади графства Йонтсдаун наша ярмарка. В семь вечера в воскресенье казалось, будто никогда и не бывало ночи линьки, как будто мы весь сезон стояли на одном месте, а города один за другим приезжали к нам. Балаганщики говорят, что они любят путешествовать, что не проживут на свете, если хотя бы раз в неделю не переедут с места на место, балаганщики разделяют — даже, черт возьми, защищают — философию бродяг, цыган и изгнанников, балаганщики обожают слушать сказки и легенды о тех, кто жил на далеко не всегда спокойных границах государств — но, куда бы балаганщики ни отправлялись, они берут с собой в дорогу свою деревню. Их грузовики, трейлеры, машины, чемоданы и карманы битком набиты милыми, привычными сердцу вещами. Они отдают куда большую дань традициям, чем даже в маленьких городках Канзаса, где люди из поколения в поколение живут, не ведая изменений, тесно сбившись в кучки на приводящих в трепет громадных пустынных равнинах. Балаганщики с нетерпением ожидают ночи линьки, потому что для них это — показатель их свободы, по контрасту с унылым заточением простаков, чей удел — вечно оставаться позади. Но, проведя день в пути, балаганщики становятся раздражительными и неуверенными в себе — ведь, хотя очарование дороги проникнуто цыганскимдухом, сама дорога создана обществом нормальных людей и ему принадлежит, так что бродяги могут ходить и ездить только там, где общество проложило путь. Балаганщики бессознательно понимают, что способность передвигаться с места на место связана с незащищенностью, поэтому прибытия ярмарки на новое место они ждут с еще большим нетерпением и радостью, чем ночи линьки. Строят ярмарку обычно куда быстрее, чем разбирают ее, и ни одна ночь за всю неделю не сравнится с первой ночью на новом месте, когда сразу на целых шесть дней успокаивается тяга к перемене мест и снова возникает чувство дома. Стоит им установить палатки и прибить гвоздями одну к другой крашеные деревянные перегородки всевозможных аттракционов, воздвигнуть латунные, хромированные, пластиковые, плохо натянутые крепости, чтобы оградиться от любой атаки реальной жизни, — и в их душах наступает мир, более прочный, чем в любое другое время. В воскресенье вечером мы с Райей сидели в трейлере, принадлежавшем Ирме и Поли Лорас, куда нас пригласили отведать домашней стряпни. Все присутствующие были в таком прекрасном настроении, что я почти сумел забыть, что наша дорога привела нас не в обычный город, но в город, которым правят гоблины, в гнездо, где плодятся демоны. Поли — низкорослый, но не карлик — был прирожденным мимом. Он потчевал нас чертовски потешными перевоплощениями в кинозвезд и политиков — даже изобразил потрясающе забавный диалог между Джоном Кеннеди и Никитой Хрущевым. Поли был неф, и я диву давался, как меняются черты его словно резинового лица, вызывая в памяти образы почти всех знаменитостей, каких он изображал, независимо от их расы. Кроме этого, Поли был маг и волшебник в искусстве жонглирования и работал в аттракционе Тома Кэтшэнка. Для человека его роста — от силы пять футов два дюйма — руки у него были довольно большие, с длинными тонкими пальцами. Его речь перемежалась, точно знаками препинания, потрясающе выразительными жестами, почти такими же выразительными, как слова. Он понравился мне с первого взгляда. Райа немного оттаяла, даже добавила в беседу пару шуток. Хотя она и не отбросила до конца свою холодную и отстраненную позу (как-никак это был дом работника), но, совершенно очевидно, вечеринку она никак не портила. Позднее, сидя в закутке-столовой за пирогом «Черный лес» и кофе, Ирма сказала: — Бедная Глория Нимз. — А что? — спросила Райа. — Что случилось? Ирма поглядела на меня: — Ты ее знаешь, Слим? — Э-э... полная дама, — ответил я. — Толстая, — поправил Поли, и его руки очертили в воздухе сферу. — Глорию не оскорбляет, когда ее называют толстой. Бедная девочка, ей не нравится быть толстой, но у нее нет ни малейших иллюзий относительно того, какая она. Она не считает, что она Монро, или Хепберн, или что-нибудь в том же роде. — Ну а сделать с этим она ничего не в состоянии, так что нет смысла оправдываться, — продолжала Ирма, взглянув на меня. — Больные гланды. — На самом деле? — поинтересовался я. — Я понимаю, — ответила Ирма, — ты, наверное, решил, что она ест как свинья, а сваливает все на больные гланды, но у Глории это действительно так. Пэг Ситон живет с ней, ну, знаешь, вроде как присматривает за ней, готовит ей еду, бегает за парой грузчиков, если Глории надо подняться, так вот, Пэг утверждает, что бедняжка Глория ест едва ли больше, чем я или ты, и, уж конечно, не так много, чтобы поддерживать семьсот пятьдесят фунтов веса. А уж Пэг знала бы, если бы Глория украдкой перекусывала, потому что Пэг ходит по лавкам, а без Пэг Глория и шага не ступит. — А она что, сама не может ходить? — спросил я. — Может, конечно, — ответил Поли, — но ей это нелегко, и, кроме того, она до смерти боится упасть. Любой бы боялся, если бы его вес перевалил за пять-шесть сотен фунтов. Если Глория упадет, самой ей уже не подняться. — На самом деле, — заметила Ирма, — она почти совсем не способна подниматься. Ну, там с кресла она, конечно, себя и подымет, но другое дело, если она упадет на пол или плюхнется на землю. Когда она упала в последний раз, грузчикам даже всем вместе не удалось ее поднять. — Семьсот пятьдесят фунтов — груз не из легких, — сказал Поли, и его руки резко упали вдоль тела, словно под тяжестью внезапно навалившегося груза. — Она слишком основательно набита, чтобы сломать себе что-нибудь, но унижение страшное, даже если она среди нас, своего племени. — Ужасно, — подтвердила Ирма, печально качая головой. Райа вступила в разговор: — В тот раз в конце концов пришлось подогнать грузовик туда, где она упала, и прицепить лебедку. И даже тогда было непросто поднять ее на ноги и удержать. — Это может звучать забавно, но ничего забавного в этом не было, — заверила меня Ирма. — Я и не думал улыбаться, — ответил я, потрясенный тем, что пришлось пережить бедной толстухе. В мысленный список шуток, которые бог откалывает за наш счет, я вписал еще одну строку: рак, землетрясения, наводнения, опухоли мозга, удары молнии... больные гланды. — Но все это ни для кого не новость, — заметила Райа, — разве что для Слима, так что почему это ты сказала: «Бедная Глория» и перевела на нее разговор? — Она сегодня страшно расстроена, — сказала Ирма. — Ее оштрафовали за нарушение — превысила скорость, — сказал Поли. — Ну, вряд ли это можно считать трагедией, — заметила Райа. — Ее не штраф расстроил, — пояснил Поли. — Ее расстроило то, как коп с ней обращался, — сказала Ирма. Обернувшись ко мне, она пояснила: — У Глории «Кадиллак», изготовленный по заказу, специально для нее. Корпус повышенной прочности. Задние сиденья сняли, а переднее отодвинули назад. Ручные тормоза, ручной акселератор. Двери сделали шире, чтобы она могла свободно влезать и вылезать из машины. У нее самый лучший автомобильный радиоприемник, какой есть на свете, даже маленький холодильник под щитком, чтобы возить с собой прохладительные напитки, газовая плитка, туалетные принадлежности и все удобства — все прямо в машине. Она свою тачку просто любит. — Судя по твоему рассказу, дорогая штука, — заметил я. — Ясное дело, — согласился Поли, — но у Глории дела идут что надо. Прикинь-ка, если хорошая неделя, большое представление, например, на ярмарке в штате Нью-Йорк в конце этого месяца — всего за шесть дней будет куплено семьсот-восемьсот тысяч входных билетов на ярмарку, и из них... скажем, сто пятьдесят тысяч простаков заглянут в Шоквилль. Я ошеломленно подсчитал: — По два бакса с носа... — Триста тысяч за неделю, — продолжила Райа, беря кофейник и наливая себе еще кофе. — Джоэль Так делит выручку — половину себе, и из этих денег он платит изрядную сумму братьям Сомбра за свою концессию и все накладные рас-ходы, а вторую половину делит поровну между остальными одиннадцатью «экспонатами» своего аттракциона. — Иными словами, недельная доля Глории составляет более тринадцати тысяч, — закончил Поли. Его выразительные руки пересчитывали невидимые пачки долларовых купюр. — А этого хватит на два «Кадиллака» на заказ. Конечно, не всякая неделя такая денежная. Бывает, она зарабатывает только пару тысяч в неделю, но в среднем примерно у нее выходит по пять тысяч в неделю с середины апреля до середины октября. Ирма продолжала: — Важно не то, сколько стоит ей этот «Кадиллак». Важно то, какую свободу он ей дает. Ты понимаешь, она способна передвигаться, только когда сидит в своей машине. Она же, в конце концов, балаганщик, а для балаганщика чертовски важно быть свободным, подвижным. — Нет, — поправила ее Райа, — важно не то, какую свободу дает ей машина. Важно, что это за история со штрафом за превышение скорости, если ты вообще собираешься добраться до ее сути. — Ну, — начала Ирма, — ты понимаешь, Глория сегодня ехала на машине, потому что Пэг с утра взяла их пикап и трейлер. И мили через полторы после границы графства ее остановил полисмен за превышение скорости. Глория двадцать два года за рулем и ни разу не попала в аварию или нарушила правила. Поли сделал выразительный жест рукой и продолжил: — Она хороший водитель, осторожный водитель, потому что она понимает, какой кошмар будет, если она попадет в аварию на своей машине. Санитары из «Скорой» ее в жизни не смогут вытащить оттуда. Поэтому она водит очень внимательно и скорость не превышает. — Так что, когда ее тормознул этот йонтсдаунский коп, — продолжала Ирма, — она решила, что это или ошибка, или какая-нибудь ловушка, чтобы попотрошить приезжих. И когда она видит, что это, судя по всему, ловушка, она говорит копу, что готова уплатить штраф. Но ему этого мало. Он начинает ей хамить, оскорблять ее, требует, чтобы она вылезла из машины. А она боится, что упадет, если вылезет, поэтому он велит ей отправляться в офис шерифа в Йонтсдауне, конвоирует ее, а когда она приезжает, он заставляет ее выйти из машины, ведет ее внутрь, и там они ей устраивают сущий ад — угрожают завести на нее дело за неподчинение офицеру полиции при исполнении и прочую гадость в том же духе. Доедая пирог и жестикулируя поэтому вилкой, рассказ продолжил Поли: — Они заставляют бедную Глорию мотаться туда-сюда из одного конца здания в другой и не дают ей даже присесть, так что она идет и хватается то за стену, то за кассы, поручни, столы — за что только можно ухватиться, пока идешь, а она утверждает, что было совершенно ясно — они хотели, чтобы она упала, потому что они знали, чего ей будет стоить подняться на ноги. Они там все оборжались над ней. Даже в уборную ей не дали сходить — сказали, что она унитаз раздавит. Сам понимаешь, сердце у нее тоже не больно крепкое, она говорит, сердце так сильно билось, что она аж тряслась. Они довели бедную Глорию до слез, пока позволили ей позвонить по телефону, а ты мне поверь, что она не из тех, кто жалеет себя или чуть что — сразу в слезы. — Потом, — продолжала Ирма, — она позвонила в контору ярмарки, позвали Студня к телефону, он сорвался в город и освободил ее — после того, как она три часа провела в здании муниципалитета. Райа заметила: — Я всегда считала Студня хорошим толкачом. Как он мог допустить, чтобы такое случилось? Я поведал им кое-что о нашем визите в Йонтсдаун в пятницу. — Студень сделал свое дело как надо. Все из кормушки поели. Та женщина из совета графства — Мэри Ваналетто, она у них вроде казначея — собирает все взятки. Студень передал ей бабки и контрамарки для всех членов совета, для шерифа и его людей. — Так, может, она прикарманила все, а остальным сказала, что мы не собираемся платить в этом году, — предположила Райа, — и теперь у нас неприятности с управлением шерифа. — Не думаю, — ответил я. — Мне кажется... они по какой-то причине лезут в драку... — Почему? — спросила Райа. — Ну, не знаю... просто у меня возникло такое ощущение в пятницу, — уклончиво ответил я. Ирма кивнула. Поли сказал: — Студень уже предупреждает всех. Мы должны очень хорошо, просто образцово вести себя на этой неделе, потому что ему кажется, что они будут искать малейшего предлога, чтобы причинить нам неприятности, прикрыть ярмарку и принудить нас к дополнительным подношениям. Я знал, что наши деньги их не интересовали: они охотились за нашей кровью и болью. Но я не мог рассказать Ирме, Поли и Райе о гоблинах. Даже балаганщики, самые терпимые люди на свете, сочтут мои россказни не просто эксцентричными, но безумными. И хотя балаганщики почитают эксцентричность, к психопатам, склонным к убийству, они питают не больше любви, чем правильные. Я позволил себе лишь невинные предположения о возможных замыслах официальных лиц Йонтсдауна, оставив мрачную правду при себе. И все же я знал, что издевательство над Глорией Нимз было лишь первым выстрелом в этой войне. Впереди нас ждало еще худшее. Хуже, чем полицейские, закрывающие ярмарку. Хуже, чем что-либо, что могли вообразить себе мои новые друзья. С этого момента я уже не мог выбросить гоблинов из головы, и остаток вечера был далеко не таким веселым, как его начало. Я улыбался, смеялся, по-прежнему принимал участие в разговорах, но человеку, стоящему посреди змеиного рва, не слишком легко сохранять присутствие духа.* * *
Мы ушли от Лорасов в одиннадцать с чем-то вечера. Райа спросила: — Спать хочешь? — Нет. — Я тоже. — Хочешь прогуляться? — спросил я. — Нет. Хочу заняться кое-чем другим. — А-а, — подхватил я. — Я тоже не прочь этим заняться. — Не этим, — возразила она, мягко засмеявшись. — Э-э... — Не сейчас. — Это звучит заманчивее. Она повела меня в аллею. Еще днем серо-стальные облака начали заволакивать небо. К ночи они не рассеялись. Луна и звезды остались по ту сторону этой завесы. Ярмарка была замком из теней: колонны и плиты из тьмы, покатые крыши черноты, занавеси из полумрака, подвешенные на кронштейнах из тени, над дверными проходами цвета чернил. Тончайшие оттенки ночи ложились один на другой — слоновой кости, угольно-черного, терновой ягоды, сажи, серо-черного, анилиново-черного, японского шелка, чистого угля, воронова крыла, траурного цвета. Темные двери на еще более темном фоне стен. Мы шли по проезду, пока Райа не остановилась возле чертова колеса. На фоне чуть более светлого безлунного неба оно выглядело набором соединенных вместе черных форм правильных очертаний. Я ощущал недобрые вибрации, исходящие от огромного колеса. Так же, как и ночью в среду на предыдущей ярмарке, я не получил никаких отчетливых образов, никакого представления о той необычайной трагедии, которая произойдет здесь. Тем не менее, как и в предыдущий раз, я остро ощутил, что в этой махине таится гибель — так же, как в электрической батарее — электричество. К моему удивлению, Райа открыла калитку в металлической изгороди и прошла к чертову колесу. Обернувшись ко мне, она бросила: — Пошли. — Куда? — Наверх. — Туда? — Да. — Каким образом? — Говорят, мы произошли от обезьян. — Я — нет. — Мы все от них произошли. — А я произошел от... сурков. — Тебе понравится. — Слишком опасно. — Проще некуда, — заявила она, вцепившись в колесо и собираясь лезть наверх. Я глядел на нее — на большого ребенка во взрослом спортзале вместо джунглей, — и на сердце у меня было невесело. Я вспомнил образ Райи, залитой кровью. Я был уверен, что смерть не угрожает ей здесь и сейчас. Ночь была спокойной — однако же недостаточно спокойной, чтобы мое бешеное сердцебиение улеглось. — Вернись, — сказал я ей. — Не надо. Она остановилась на высоте пятнадцати футов от земли и поглядела вниз на меня. Ее лицо было темным пятном. — Давай лезь. — С ума сошла. — Тебе понравится. — Но... — Слим, пожалуйста. — О господи. — Не разочаровывай меня, — сказала она, отвернулась и продолжила карабкаться наверх. Чутье ясновидца не давало мне предупреждений о том, что в эту ночь чертово колесо представляет для нас опасность. Угроза, которую нес этот громадный механизм, по-прежнему лежала в одном из ближайших дней, а пока что это была всего лишь груда дерева, стали и сотен потушенных лампочек. Я неохотно полез наверх, обнаруживая, что в этом переплетении множества стоек и балок находится гораздо больше, чем я ожидал, мест, куда можно поставить ногу или за что ухватиться рукой. Колесо стояло на стопоре и было неподвижно — разве что двухместные кабинки иной раз слабо покачивались под порывом ветра или когда наше движение передавалось по каркасу на гнезда толстых стальных сетей, на которых были подвешены кабинки. Хоть я и заявил, что происхожу от сурков, тем не менее я быстро доказал, что предками моими были все же обезьяны. К моему облегчению, Райа не стала лезть до кабинки, висевшей на самом верху, а остановилась, повернув к третьей от нее. Она уже сидела там, открыв дверцу, чтобы я мог залезть, и улыбалась, глядя на меня, трясущегося и всего в поту. Я отцепился от каркаса и плюхнулся на металлическое сиденье рядом с ней. Пожалуй, подъем стоил того, чтобы на ее губах появилась столь редкая для нее улыбка. Когда я перевалился в кабинку, она начала раскачиваться на оси, и в какой-то миг я с замиранием сердца подумал, что сейчас выпаду наружу, полечу вниз, ударяясь о застывший водопад из стали и дерева, задевая за каждую кабинку на пути, пока не ударюсь о землю так, что переломаю все кости. Но, уцепившись одной рукой за разукрашенный борт кабинки, а другой за фигурную спинку сиденья, я сумел остановить болтанку. Райа, держась только одной рукой, с уверенностью, которую я счел бездумностью, высунулась из кабинки в тот момент, когда ее качало сильнее всего, дотянулась до распахнутой дверцы, схватила ее, подтащила к себе и с лязгом и грохотом закрыла на задвижку. — Ну вот, — сказала она. — Уютно и хорошо. — Она прижалась ко мне. — Я тебе говорила, что тут будет здорово. Ничего нет лучше, чем покататься на чертовом колесе, когда огни погашены, мотор не работает и все вокруг тихо и темно. — Ты часто сюда залезаешь? — Да. — Одна? — Да. В течение нескольких долгих минут мы не промолвили больше ни слова, просто сидели, прижавшись друг к другу, мягко покачиваясь в кабинке под скрип шарниров и озирая темный, бессолнечный мир со своего трона. Когда же мы заговорили, речь у нас пошла о вещах, которых мы прежде ни разу не касались в наших беседах, — о книгах, о поэзии, о фильмах, о любимых цветах, о музыке, — и я понял, до чего мрачными были наши прежние беседы. Словно Райа оставила внизу какое-то неизвестное бремя, чтобы оно не мешало ей лезть наверх, и теперь рядом со мной была Райа, свободная от оков, Райа, обладавшая неожиданно легким и светлым чувством юмора и прежде не слыханным мной девичьим смехом. Это был один из тех немногих случаев с тех пор, как я познакомился с Райей Рэйнз, когда я не ощущал ее таинственной печали. Но вскоре я ее все же ощутил, хотя и не мог точно определить момент, когда мертвенно-бледный поток меланхолии снова потек через нее. Среди прочего мы говорили о Бадди Холли, чьи песни пели, пока разбирали ярмарку, и уморительным дуэтом пели вразнобой несколько отрывков из своих любимых песен этого певца. Мысль о безвременной смерти Холли, несомненно, пришла в голову нам обоим и, должно быть, стала первой ступенькой лестницы, ведущей в подвал уныния, где Райа обычно обитала, потому что через некоторое время мы уже говорили о Джеймсе Дине, умершем более семи лет назад. Его жизнь пошла в придачу к потерпевшей аварию машине, где-то на пустынном шоссе в Калифорнии. Потом Райа стала возмущаться, как несправедливо умирать молодым. Она долго и бурно негодовала и грустила по этому поводу, и тогда я в первый раз почувствовал, как печаль возвращается к ней. Я попытался сменить тему разговора, но безуспешно — Райю, казалось, не просто увлекли разговоры о мрачном, она находила в них и непонятное удовольствие. Наконец из ее голоса исчезла вся веселость, она отодвинулась от меня и спросила: — Как тебе было в прошлом году, в октябре? Что ты тогда чувствовал? Сначала я не понял, о чем это она. Она пояснила: — Куба. Октябрь. Блокада, ракеты, все эти решения. Говорят, мы были на краю пропасти. Атомная война. Армагеддон. Что ты тогда чувствовал? Тот октябрь стал поворотной точкой в моей судьбе и, думаю, в судьбе всякого, кто был достаточно взрослым, чтобы понять, что означал этот кризис. Что касается меня, то я осознал — человечество отныне способно стереть самое себя с лица земли. Я также начал понимать, что гоблины — к тому времени я видел их уже несколько лет — должны быть в восторге от нашей всевозрастающей технологической оснащенности и изощренности, потому что это открывало им все более захватывающие возможности мучить человечество. Что случилось бы, окажись какой-нибудь гоблин наделен политической властью, достаточной для того, чтобы получить контроль над кнопкой, неважно, в Штатах или в Советском Союзе? Конечно, они поймут, что их род будет уничтожен вместе с нашим; апокалипсис лишит их удовольствия медленной пытки, которую им, судя по всему, так нравилось применять к нам. Это могло бы удержать их от стремления выпустить ракеты из шахт. Но зато какой пир страдания состоялся бы в эти последние дни и часы! Взрывы, равнявшие города с землей, огненные бури, дожди радиоактивных осадков. Если ненависть гоблинов к человечеству была в самом деле такой сильной, как я чувствовал, тогда именно такой сценарий будет для них самым приятным, независимо от того, какое место в нем отводится их собственному выживанию. Именно кубинский кризис подтолкнул меня к мысли, что рано или поздно мне придется начать битву с гоблинами, независимо от того, насколько эта война одиночки будет трагичной и неравной. Кризис. Поворотный момент. В августе 1962 года Советский Союз начал тайно размещать на Кубе крупную батарею ядерных ракет, чтобы добиться возможности нанести первыми неожиданный удар по Соединенным Штатам. 22 октября, после того, как от русских потребовали убрать эти провокационные пусковые установки, после того, как требование было отвергнуто и получены дополнительные доказательства, свидетельствующие, что работа по установке ракет лишь ускорилась, президент Кеннеди объявил о блокаде Кубы, что влекло за собой угрозу потопления любого корабля, который попытается проникнуть за карантинную линию. После этого, 27 октября, в субботу, наш самолет «У-2» был сбит советской ракетой «земля — воздух», и вторжение американских войск на Кубу было намечено (как мы узнали позже) на понедельник, 29 октября. Казалось, что от Третьей мировой войны нас отделяют всего несколько часов. Но русские сделали шаг назад. За время недельной блокады каждый американский подросток несколько раз прошел тренировку на случай воздушной тревоги. В большинстве крупных городов проводились тренировки по воздушной тревоге, в которых принимало участие все население. Спрос на бомбоубежища взлетел к небу. Уже существующие убежища расширялись. Все воинские части были приведены в состояние боевой готовности, части национальной гвардии, находившиеся в запасе, были переданы в распоряжение президента. В церквях прошли специальные службы, подстегнувшие общую напряженность. И если к тому времени гоблины еще не задумывались о возможности полного уничтожения цивилизации, эта мысль наверняка пришла им в голову во время кубинского кризиса, потому что в те дни они питались сытным варевом нашей тревоги, вызванной одним лишь ожиданием такой катастрофы. — Что ты чувствовал? — снова спросила Райа, сидя рядом со мной на неподвижном чертовом колесе над затемненным ярмарочным полем, во все еще не разрушенном мире. Лишь несколько дней спустя я пойму все значение нашего разговора. В ту ночь мне казалось, что мы коснулись этой мрачной темы совершенно случайно. Даже мои психические способности не открыли мне, как глубоко задевал ее этот вопрос и почему. — Что ты чувствовал? — Боялся, — ответил я. — А где ты был тогда? — В Орегоне, В школе. — Ты думал, что это произойдет? — Не знаю. — Ты думал, что ты умрешь? — Мы находились вне зоны поражения. — Но ведь ядерные осадки были бы повсюду, разве нет? — Наверное. — Так ты думал, что можешь умереть? — Может быть. Я думал об этом. — И как ты себя при этом чувствовал? — Не лучшим образом. — И все? — Я беспокоился за мать и сестер, думал о том, что может случиться с ними. Мой отец умер незадолго до этого, и я был главой семьи, так что я бы должен был что-то делать, чтобы защитить их. Но я не мог придумать, как сделать так, чтобы они уцелели, понимаешь, и от этого я себя чувствовал таким беспомощным... почти ослабел от беспомощности. Мне показалось, что она разочарована, словно она ожидала услышать от меня другой ответ, что-нибудь более драматичное... или более мрачное. — А ты где была в те дни? — поинтересовался я. — В Джибтауне. Там поблизости от нас какие-то военные сооружения, одна из главных целей. — Так что ты ожидала, что умрешь? — спросил я. — Да. — И что ты чувствовала? Она молчала. — Ну? — настаивал я. — Что ты чувствовала в связи с грядущим концом света? — Любопытство, — ответила она. Этот ответ был неожиданным и обеспокоил меня, но прежде чем я успел попросить ее растолковать, мое внимание отвлек далекий блеск молнии на западе. Я сказал: — Пойдем-ка вниз. — Не сейчас. — Гроза приближается. — У нас уйма времени. — Она качнула двухместную кабинку, как кресло-качалку на балконе. Шарниры заскрипели. От звука ее голоса я похолодел: — Когда стало ясно, что войны не будет, я пошла в библиотеку и взяла все книги о ядерных вооружениях. Мне хотелось знать, как бы это все было, если бы это случилось, и всю прошлую зиму, там, в Джибтауне, я об этом читала. Это потрясающе, Слим. Где-то далеко снова вспыхнули молнии. Лицо Райи озарилось. Казалось, неверный пульсирующий свет исходит от нее, как от горящей лампы. От горных вершин на горизонте донесся удар грома, словно низкие тучи столкнулись с горами. Эхо столкновения звучно отдалось в облаках над ярмаркой. — Пойдем лучше вниз, — снова сказал я. Она не обращала на меня внимания, голос был низкий, но отчетливый, в нем слышался благоговейный трепет. Каждое слово было тихим, как звук шагов по плюшевому ковру в доме, где траур. Она сказала: — Ядерная катастрофа была бы странно красивой, понимаешь, страшной красотой. Вся грязь и мерзость городов обратилась бы в пыль, в пар, в ровное место, и там бы выросли поглотившие все это ядерные грибы, точно так же, как обычные грибы вырастают из перегноя и удобрений и берут от них силу. А небо! Ты только представь! Алый, оранжевый цвета, едко-зеленый, серо-желтый, мешанина, бурление, пестрота цветов, каких мы никогда не видели в небе, сияние странного света... Точно восставший ангел, вышвырнутый из рая, над нами бриллиантовым светом сверкнула молния. Неловко падая по небесной лестнице, она уменьшалась в размерах, нисходя по небу, пока не исчезла внизу в темноте. Эта молния была куда ближе, чем предыдущая. Гром прогремел громче, чем раньше. В воздухе запахло озоном. — Здесь наверху опасно, — сказал я, потянувшись к задвижке, запиравшей дверцу кабинки. Она задержала мою руку и продолжала: — И многие месяцы после войны были бы невероятнейшие закаты из-за всей этой пыли и пепла, витающих в воздухе. А когда пепел начал бы оседать — в этом тоже была бы своя красота, что-то наподобие сильного снегопада, только это была бы самая долгая метель из всех когда-либо случавшихся. Она бы длилась многие месяцы. И даже джунгли, где никогда не бывает снега, — даже их занес бы, завалил снегом этот снегопад... Воздух стал серым и тяжелым. Мощная броневая техника грозы грохотала на поле боя у нас над головой. Я накрыл ее руки своей, но она ухватилась за задвижку и продолжала: — И наконец, через пару лет, радиация бы ослабла до такой степени, что не представляла бы больше угрозы для жизни. Небо опять стало бы чистым и голубым, а толстый слой пепла взрастил бы и выкормил травы сочнее и зеленее прежних, и воздух стал бы чище после такой промывки. И миром стали бы править насекомые, и в этом тоже была бы своя особая красота. Меньше чем в миле отсюда с треском ударил кнут молнии, полоснув по коже неба. — Что с тобой стряслось? — спросил я, и сердце у меня неожиданно застучало быстрее, как будто этот электрический кнут кончиком зацепил и меня, заведя моторчик страха. Она ответила: — Ты не считаешь, что царство насекомых — это красиво? — Райа, ради бога, сиденье же металлическое. Почти все колеса металлические. — Яркие краски бабочек, переливчатая зелень крыльев жуков... — Черт возьми, мы на самом высоком месте в округе. А молния ударяет в самую верхнюю точку... — Оранжевые в черную крапинку надкрылья божьей коровки... — Райа, если ударит молния, мы изжаримся живьем. — Ничего с нами не случится. — Давай спускаться. — Не сейчас, не сейчас, — прошептала она. Она не собиралась выпускать задвижку из рук. Она продолжала: — Когда на земле остались бы одни насекомые и, может быть, какие-нибудь мелкие зверьки, какой бы она снова стала чистой, свежей и новой! И никаких людей, чтобы запакостить ее, чтобы... Ее речь была прервана свирепой, злой вспышкой. Прямо у нас над головой по черной глазури небесного свода прошла длинная белая трещина, точно зигзагообразный надлом на керамике. Это сопровождалось таким мощным ударом грома, что даже чертово колесо завибрировало. Тут же последовал второй раскат, такой, что мне показалось — мои кости врезались друг в друга, точно на них не было плоти. Словно шулер встряхнул свои любимые игральные кубики в мягкой темнице теплой войлочной сумки. — Райа, черт возьми, пошли! — потребовал я. — Пошли, — согласилась она, когда упали первые тяжелые теплые капли дождя. В свете молний ее усмешка была чем-то средним между детским восторгом и сатанинским оскалом. Отодвинув засов, который держала до последнего момента, она распахнула дверцу. — Пошли! Давай! Посмотрим, кто кого — гроза нас или мы грозу! Я залез в кабинку вторым, значит, вылезать... должен был первым, первым включиться в эту рискованную игру. Я перегнулся с сиденья, ухватился за один из брусьев, из которых был составлен обод гигантского колеса, зацепил ногами ближайшую балку — такой же толстый брус и скользнул вниз фута на четыре, под углом к земле, но дальнейший мой спуск был прегражден пересекающимися крест-накрест балками — распорками между громадными балками. Охваченный внезапным головокружением на такой смертельной высоте, я на миг схватился за эти распорки. Несколько здоровенных капель дождя упало передо мной, несколько попало на меня — словно кто-то несильно бросил камешки, несколько простучало по колесу. Головокружение никак не унималось, но Райа уже вылезла на каркас над моей головой и ждала, пока я продолжу спуск и освобожу ей дорогу. Вновь сверкнула молния, напомнив мне об опасности, и я отцепился от балки и полез к следующим распоркам. Задыхаясь, я скользил вдоль брусьев, и вскоре стало ясно, что спуск был куда тяжелее, чем подъем, потому что на этот раз мы ползли спиной. Дождь пошел вовсю, ветер усилился, и найти надежную опору на мокром колесе становилось все труднее. Несколько раз я скользил, отчаянно цепляясь за туго натянутые кабели, балки или тонкие скобы, не заботясь, выдержат они меня или нет — главное, чтобы были под рукой. Я сорвал себе ноготь и ободрал ладонь. Несколько раз мне казалось, что колесо — это гигантская паутина, ударит молния — паук-многоножка, собирающийся проглотить меня. А затем колесо показалось громадной рулеткой. Струи дождя, порывы ветра и хаотичный грозовой свет — в сочетании с моим непроходящим головокружением — создавали иллюзию движения, призрачного вращения. Когда же я поднимал голову наверх, на сумятицу отблесков и теней на огромной плоскости колеса, мне казалось, что Райа и я — невезучие шарики из слоновой кости, которые бросили навстречу их судьбам. Мокрые волосы лезли в глаза. Промокшие джинсы вскоре отяжелели, словно броня, и тянули меня вниз. Футах в десяти от земли я опять соскользнул, но на этот раз не нашел ничего, за что мог бы ухватиться. Растопырив руки и тщетно пытаясь заменить ими крылья, я пронзительно, по-птичьи, закричал от страха. Я был уверен, что при падении наткнусь на что-нибудь острое и меня нанижет на него. Но упал я прямо в грязь, грохнувшись так, что перехватило дух, но ничего не сломав. Перекатившись на спину, я посмотрел вверх и увидел, что Райа все еще на колесе. Ее волосы были мокрые и спутанные, но все же вились на ветру, словно перехваченное резинкой знамя. На высоте трех этажей ее нога соскользнула с бруса, и она повисла только на руках... Весь вес ее тела приходился на ее тонкие руки. Она болтала ногами в воздухе, пытаясь нащупать невидимую балку. Ноги скользили по грязи, разъезжались, но я все-таки поднялся и встал, запрокинув голову и подставив лицо ливню. Я глядел, затаив дыхание. Я был идиотом, когда позволил ей лезть туда. Наверное, именно здесь она и умрет. Вот о чем предупреждало меня видение. Я должен был сказать ей. Я должен был остановить ее. Несмотря на ненадежность ее положения, несмотря на то, что руки ее, должно быть, горели от боли и вот-вот могли разжаться, мне показалось, что я услышал доносящийся сверху смех. Затем я понял, что это скорее всего ветер дует среди брусов, скоб и кабелей. Ну конечно же, это ветер. Еще одна молния с силой ударила в землю. Ярмарка вокруг меня озарилась белым светом, и чертово колесо на миг стало видно мне до мельчайших деталей. В первое мгновение мне показалось, что молния ударила прямо в колесо и миллиарды вольт сожгли плоть Райи. Но за этой ужасающей вспышкой последовала другая, послабее, и в ее свете я увидел, что Райа не только не убита ударом молнии, но и нашла опору для ног. Дюйм за дюймом она спускалась вниз. Как ни глупо это было, я сложил ладони рупором и прокричал ей: — Быстрее! Балка — распорка, распорка — балка, опять распорка. Она спускалась все ниже, но я не смог унять бешеный стук сердца, даже когда она, упав, уже не могла убиться. Каждую секунду, что она цеплялась за колесо, она рисковала получить добела раскаленный поцелуй грозы. Наконец всего восемь футов отделяли ее от земли. Она поглядела вниз, держась за колесо одной рукой и приготовившись прыгать. Но тут в ночи блеснула молния, вонзившаяся в землю совсем рядом с ярмаркой, не больше чем в полусотне ярдов отсюда. Удар как будто скинул ее с колеса. Она приземлилась на ноги, но не устояла на них, однако я вовремя подхватил ее и не дал упасть в грязь. Она обхватила меня руками, я обнял ее. Мы крепко прижались друг к другу. Оба тряслись, не в силах пошевелиться, не в силах вымолвить ни слова, едва в состоянии дышать. Еще одна зарница расколола ночь. Язык огня скользнул с неба на землю, и этому наконец удалось лизнуть чертово колесо. Оно озарилось целиком — каждая балка, кабели точно светящиеся нити. Какое-то мгновение казалось, что громадная машина сплошь усыпана бриллиантами, а между них сверкают отблески огней. Затем смертоносный заряд ушел в землю, пройдя по каркасу, проводам к крепежным цепям, сработавшим как громоотводы. Дождь резко усилился, превратился в ливень, в потоп. Он барабанил по фунту, резко и глухо стучал по стенам палаток. На металлических поверхностях появлялись замысловатые надписи, оставленные струями дождя. Ветер пронзительно завывал. Мы пустились бежать через всю ярмарку, шлепая по грязи, вдыхая воздух с ароматами озона, мокрых опилок и запахом слонов — прочь отсюда, к лугу, в лагерь трейлеров. Чудовище со множеством паучьих лап и крабьих клешней из электрических нитей гналось за нами по пятам. Мы почувствовали себя в безопасности, только когда забежали в «Эйрстрим» Райи и захлопнули за собой дверь. — Сумасшедшая! — произнес я. — Ша. — Зачем тебе понадобилось оставаться там? Видела же, что гроза идет. — Ша, — повторила она. — Это тебе что, шутки шутить? Она достала из кухонного шкафчика пару стаканов и бутылку бренди. Насквозь промокшая и улыбающаяся, она направилась в спальню. Я пошел следом за ней: — Шутки, черт тебя возьми? Зайдя в спальню, она плеснула бренди в стаканы и протянула один мне. Мои зубы стучали по стеклу. Бренди было теплым во рту, горячим в горле и обжигающим в желудке. Райа стащила носки и теннисные брюки — вода капала с них на пол. Потом она сбросила мокрую футболку. Бисеринки воды блестели и трепетали на ее голых руках, плечах, груди. — Тебя могло убить, — сказал я. Она скинула трусы, еще раз глотнула бренди и подошла ко мне. — Ты что, хотела, чтобы тебя убило? Ответь ради всего святого. — Ша, — снова сказала она. Меня била неудержимая дрожь. Она казалась совершенно спокойной. Если она и чувствовала страх, пока лезла, он прошел в тот самый миг, как она снова коснулась земли. — Что с тобой? — спросил я. Вместо ответа она начала раздевать меня. — Не сейчас, — уперся я. — Не время... — Самое время, — настойчиво сказала она. — Я не в состоянии... — Самое то состояние. — Я не могу... — Можешь. — Нет. — Да. — Нет. — Проверим?* * *
Потом мы некоторое время лежали молча, удовлетворенные, поверх влажных простыней. Лампа возле кровати окрашивала своим янтарным светом наши тела в золото. Дождь стучал по покатой крыше, стекал по нашему металлическому кокону. Этот звук был восхитительно успокаивающим. Но я не забыл ни колесо, ни ужасный спуск по перекладинам под хлещущим дождем. Немного погодя я спросил: — Ты как будто хотела, чтобы молния ударила в колесо, когда ты висела на нем. Она ничего не сказала. Я, легонько касаясь, провел костяшками сжатой ладони вдоль ее челюсти, затем, раскрыв пальцы, погладил ее мягкую, нежную шею и груди. — Ты красивая, толковая, удачливая. Зачем так рисковать? Она все так же молчала. Кодекс балаганщика, не позволяющий вторгаться в личную жизнь, удерживал меня от прямого вопроса — почему она хочет умереть. Но кодекс не запрещал мне высказывать свое мнение об очевидных событиях и фактах, к тому же мне казалось, что она и не скрывала этого особенно. Поэтому я еще раз спросил: — Почему? И продолжал: — Ты что, в самом деле считаешь, что есть что-то привлекательное... в смерти? — Ее продолжающееся молчание не обескуражило меня, и я добавил: — Кажется, я тебя люблю. Когда и на это не последовало ответа, я добавил еще: — Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Она повернулась на бок, прижалась ко мне, спрятала лицо у меня на груди и произнесла: — Обними меня. В данном случае это был, пожалуй, лучший ответ, какого я мог ожидать.* * *
Сильный дождь не перестал и к утру понедельника. Небо было темное, бурное, в тучах. Мне казалось, что я могу дотянуться до него рукой, просто встав на небольшую стремянку. Согласно прогнозу погоды, небо должно было проясниться не раньше чем во вторник. В девять утра отменили открытие, и начало ярмарки в графстве Йонтсдаун было перенесено на двадцать четыре часа. К половине десятого по всему Джибтауну-на-колесах резались в карты, собирались в кружки, вязали и жаловались друг другу на жизнь. Без четверти десять сумма убытка, вызванного дождем, была преувеличена до такой степени, что (судя по стенаниям) каждый владелец аттракциона и каждый зазывала стал бы нынче миллионером, если бы только погода-предательница не принесла вместо этого полное разорение. А без чего-то десять на карусели нашли мертвым Студня Джордана.Глава 13
ЯЩЕРИЦА НА ОКОННОМ СТЕКЛЕ
Когда я вышел на аллею, сотня балаганщиков толпилась вокруг карусели. Со многими из них я уже встречался. Одни были в желтых дождевиках и бесформенных шляпах того же цвета, другие — в черных синтетических плащах и пластиковых косынках, в ботинках, сандалиях, галошах или в туфлях, а иные и вовсе босиком. Кое-кто накинул плащ прямо на пижаму. У доброй половины были зонты, но даже их разноцветье было бессильно придать собравшимся веселый вид. Кто-то был одет вообще не по погоде — выскочил в спешке на улицу, не веря кошмарному известию, не обращая внимания на грозу. Эти, сбившиеся в кучу, страдали от двух невзгод сразу — от сырости и от горя, — промокшие до костей, заляпанные грязью, они казались беженцами, сгрудившимися, чтобы перейти некую границу, нарушенную войной. Сам я был в футболке, джинсах и ботинках, не успевших высохнуть с ночи. Когда я подошел к карусели, сильнее всего меня поразило и потрясло общее молчание. Никто не произносил ни слова. Никто. Ни единого слова. Их лица были залиты дождем и слезами. Боль была видна в мертвенно-бледных лицах и в запавших глазах. Все плакали, но беззвучно. Эта тишина яснее всего показывала, как сильно они любили Студня Джордана и какой невозможной казалась им сама мысль о его смерти. Они были так потрясены, что могли только молча стоять и размышлять, каким будет мир без него. Позже, когда шок пройдет, будут и рыдания в голос, и безудержные всхлипы, и истерика, и скорбные речи, и молитвы, и, быть может, даже гневные вопросы, обращенные к богу, но в этот момент их глубокое горе было словно вакуум, через который не могли пройти звуковые волны. Они знали Студня лучше, чем я, но я не мог безучастно стоять на краю толпы. Я начал протискиваться сквозь стену скорбящих, бормоча: «Позвольте», «Простите», пока не добрался до приподнятой платформы карусели. Дождь затекал под красно-белую полосатую крышу, собирался в ручейки и стекал по медным шестам, забирая тепло у деревянных лошадок. Я пробирался мимо поднятых копыт и морд с нарисованными зубами, оскаленными в лошадиной улыбке, мимо раскрашенных эмалью крупов, навеки соединенных с седлами и стременами, я целеустремленно двигался мимо стада, застывшего в своем бесконечном галопе, пока не добрался до того места, где скачка Студня Джордана пришла к ужасному концу среди этой вечно гарцующей круговерти. Студень лежал на спине, на помосте карусели, между черным жеребцом и белой кобылой. Глаза его были удивленно открыты, словно он не ожидал оказаться лежащим посреди этого табуна, вставшего над ним на дыбы — словно эти лошади и затоптали его до смерти копытами. Его рот был открыт, как и у них, губы раздвинуты, один зуб — если не больше — сломан. Было такое впечатление, что всю нижнюю часть его лица закрывала красная ковбойская повязка, только повязка эта была из крови. На нем был расстегнутый дождевик, белая рубашка и темно-серые слаксы. Правая штанина задралась почти до колена, открывая взгляду часть толстой белой икры. Правая нога была разута — недостающий мокасин намертво застрял в стремени, прочно соединенном с деревянным седлом на спине черного жеребца. Возле трупа было три человека. Люк Бендинго, отвозивший нас в Йонтсдаун и обратно в прошлую пятницу, стоял у крупа белой кобылы, лицо его по цвету было точь-в-точь как ее морда. В его взгляде, брошенном на меня — глаза моргают, рот перекошен, — читались заикающееся горе и ярость, через секунду подавленные шоком. Рядом на коленях стоял мужчина, которого я раньше никогда не видел. Ему было лет шестьдесят, очень прилично одет, седой, седые усы аккуратно подстрижены. Он стоял возле тела Студня, держа в руках головумертвеца, как знахарь, стремящийся вернуть здоровье больному. Он сотрясался от безмолвных рыданий, каждый горестный спазм выдавливал из него слезы. Третий был Джоэль Так. Он стоял на одну лошадь дальше от тех, прислонившись спиной к пегому коню и держась одной рукой за медный шест. На его бесформенном лице, казавшемся чем-то средним между кубистским портретом кисти Пикассо и воплощением одного из кошмаров Мэри Шелли, совершенно ясно читалось его состояние — потеря Студня Джордана опустошила его. В отдалении завыли сирены. Вой становился все громче, громче и наконец со стоном смолк. Секунду спустя по проезду подрулили два полицейских седана. Их мигалки вспыхивали и гасли в свинцово-сером свете. Когда они затормозили у карусели, когда я услышал звук открывающейся двери, я потянулся взглянуть на них и обнаружил, что трое из четырех прибывших к нам йонтсдаунских полицейских были гоблинами. Я чувствовал на себе взгляд Джоэля, и когда я, в свою очередь, поглядел на него, меня выбила из колеи подозрительность, которую я прочел и на его искаженном лице, и в психической ауре, окружавшей его. Я думал, что гоблины-полицейские заинтересуют его так же, как и меня, и он действительно осторожно глядел на них, но в центре его внимания и подозрений по-прежнему находился я. Этот взгляд, к тому же прибытие гоблинов, да еще бешеный циклон страшных психических излучений, вихрями вздымавшихся от трупа, — со всем этим мне было не совладать, и я отошел. Я прошел немного задами аллеи, стараясь уйти от карусели как можно дальше. Я шел под дождем, который то падал тяжелыми каплями, то превращался в сильнейший ливень. Я тонул — но не в воде, а в чувстве вины. Джоэль видел, как я убил человека в павильоне электромобилей, и решил, что я совершил это убийство потому, что, как и он, видел гоблина под человеческой глазурью. Но вот убит Студень, а в бедняге Тимоти Джордане не было никакого гоблина, и теперь Джоэль сомневался, не ошибся ли он во мне. Может быть, он начал склоняться к мысли, что, возможно, я и понятия не имел о гоблине, обитавшем в теле моей первой жертвы, и что я, наверное, просто убийца, законченный и незатейливый убийца, и теперь на мне лежит ответственность за еще одну жертву, на этот раз ни в чем не повинную. Но я не причинил вреда Студню, и не подозрения Джоэля Така отягощали мою душу чувством вины. Я считал себя виновным в том, что, зная о грозившей Студню беде — видение его залитого кровью лица, — я не предупредил его. Я должен был суметь предвидеть, когда именно с ним случится беда, должен был предсказать точно, где, когда и как он встретит свою смерть, я должен был оказаться там, чтобы предотвратить это. Не важно, что мои психические способности ограниченны, что ясновидческие образы и впечатления, которые приходят ко мне, обычно неясны и лишь приводят меня в смятение и что я почти — а чаще всего совсем — не могу контролировать их. Не важно, что я не могу быть — и стать — спасителем всего этого проклятого мира и каждой проклятой бедной души. Не имеет значения. Все равно я должен был суметь предотвратить это. Я должен был спасти его. Я должен был. Я должен был.* * *
Сборища картежников, кружки по вязанию — все в Джибтауне-на-колесах превратилось в поминальные собрания. Балаганщики старались помочь друг другу смириться со смертью Студня. Кое-кто до сих пор плакал. Некоторые молились. Но большинство рассказывали друг другу истории про Студня, потому что воспоминания были для них способом сохранить его живым. Они рассаживались кружком в гостиных трейлеров, и стоило одному закончить байку о щекастом «толкаче» — любителе игрушек, как его сосед добавлял что-то от себя, затем следующий, и так по нескольку раз по кругу. Они даже смеялись, потому что Студень Джордан был занятным человеком и выдающейся личностью, и мало-помалу страшное уныние уступило место сладостной горечи и печали, а эта ноша все же легче. Во всех этих действиях чувствовался неуловимый формализм, почти бессознательный ритуал, согласно которому проходили их собрания, наводившие на мысль об их поразительном сходстве с еврейским обрядом «шивах» — сидячем поминовением. Если бы мне велели протянуть руки над чашей и полили бы на них воды, прежде чем допустить меня к входу, если бы мне протянули черную ермолку, чтобы покрыть голову, если бы все сидели на поминальных скамеечках, а не на диванах и креслах, я бы ничуть не удивился. Несколько часов я бродил под дождем, время от времени заглядывал в тот или иной трейлер, принимая участие в «шивах», и повсюду узнавал кое-что новое. Сначала я выяснил, что седой щеголь, рыдавший утром над телом Студня, — Артуро Сомбра, единственный оставшийся в живых из братьев Сомбра, владелец ярмарки. Студень Джордан был его приемным сыном и после смерти старика должен был унаследовать ярмарку. Копы добавили страданий мистеру Сомбра — их действия были основаны на версии о нечистой игре и на том, что убийца — один из балаганщиков. К общему полнейшему изумлению, копы даже не заявляли, что Студня могли уничтожить потому, что его положение в фирме давало ему широкие возможности запустить руки в кассу и что он этой возможности не упускал. Они даже высказывали предположение, что убийца — сам мистер Сомбра, хотя для подобных подозрений не было мало-мальски обоснованного довода и ни одного довода, чтобы не задумываясь отвергнуть их. Они с пристрастием допрашивали старика, Дули Монету и всех, кто мог знать, грел ли Студень руки на деньгах. В своих расспросах они были так грубы и злобны, как только они умеют. Весь трейлерный городок кипел от возмущения. Меня это не удивляло. Я был уверен, что копам и в голову бы не пришло всерьез выдвигать обвинение в убийстве против кого бы то ни было. Но трое из них были гоблинами. Они видели, как огромная толпа скорбно застыла возле карусели. Но они не просто насладились этим горем — оно разожгло их аппетит, им захотелось еще большего людского несчастья. Они не могли удержаться от того, чтобы добавить нам боли, подоить нас, выжимая последние капли отчаяния из Артуро Сомбра и всех остальных.* * *
Позже пошел слух, что приезжал коронер из графства, осмотрел тело на месте преступления, задал несколько вопросов Артуро Сомбра и отверг возможность нечистой игры. Ко всеобщему облегчению, официальное заключение звучало как «гибель в результате несчастного случая». На ярмарке ни для кого не было тайной, что, когда Студень не мог заснуть, он иногда отправлялся на аллею, включал карусель (без музыки) и подолгу катался на ней в полном одиночестве. Он обожал карусель. Это была самая большая из его заводных игрушек, слишком большая, однако, чтобы держать ее на полке в офисе. Обычно из-за своего размера Студень садился на какую-нибудь из искусно вырезанных и покрытых сложным узором скамей с подлокотниками, выточенными в форме русалок или морских коньков. Но бывало, что он взгромождался на спину одной из лошадей, что, по-видимому, и произошло прошлой ночью. Может, его беспокоили убытки, которые могло принести ненастье, или он раздумывал о бедах, которые мог причинить шеф Лайсл Келско, — и, не в состоянии заснуть, пытаясь найти способ успокоить нервы, Студень вскарабкался на черного жеребца, уже заведя карусель, устроился в деревянном седле, ухватившись одной рукой за медный шест. Летний ветер трепал его волосы, когда он скользил по кругу в темноте, и единственными звуками вокруг были гром и стук дождя. Он, должно быть, улыбался, не отдавая себе отчета в этой детской радости, может быть, даже насвистывая от счастья, уютно устроившись в этой волшебной центрифуге. Она кружилась и отбрасывала прочь годы и заботы, и вскоре он начал чувствовать себя лучше и решил вернуться в постель. Но когда он стал слезать, правый ботинок застрял в стремени, и хотя ему удалось вытащить ногу из обуви, он упал. При падении, даже с такой небольшой высоты, он страшно разбил губы, выбил два зуба и сломал шею. Так выглядело официальное заключение. Смерть в результате несчастного случая. Несчастный случай. Дурацкая, смехотворная, нелепая смерть — но всего лишь несчастный случай. Чушь собачья. Я не знал, что именно произошло со Студнем Джорданом, но я точно знал, что его хладнокровно прикончил гоблин. Еще раньше, стоя над его телом, я сумел выделить из калейдоскопа образов и ощущений, нахлынувших на меня, три факта: первое, что он умер не на карусели, а в тени чертова колеса; второе, что гоблин нанес ему по меньшей мере три удара, сломал ему шею и отволок к карусели с помощью других гоблинов. Несчастный случай был инсценирован. Можно было сделать некоторые заключения, не боясь особенно ошибиться. Студень, будучи не в состоянии заснуть, очевидно, вышел прогуляться по ярмарке, в темноте, в грозу, и увидел что-то, чего не должен был видеть. Но что? Должно быть, он заметил чужаков, не из числа балаганщиков, и их подозрительную возню у чертова колеса и закричал на них, не зная, что это не обычные люди. Вместо того чтобы убежать, они напали на него. Я сказал, что я ясно ощутил три вещи, пока стоял на карусели, глядя на бренную оболочку толстяка, покинутую обитателем. Третье оказалось для меня самым тяжелым. Это был очень сильный момент личного контакта со Студнем, проблеск в его сознание, из-за которого потеря чувствовалась еще острее. Ясновидческим чутьем я уловил его предсмертные мысли. Они удерживались возле трупа, ожидая, пока их прочтет кто-то вроде меня — обрывок психической энергии, точно лоскут, зацепившийся за изгородь колючей проволоки — границы между этим миром и вечностью. Когда угасала его жизнь, последняя его мысль была о наборе маленьких заводных медведей в меховых шубах — Папе, Маме и Маленьком Медвежонке, — которых ему подарила мама на день рождения в семь лет. Он так любил эти игрушки. Это были особенные игрушки, лучший подарок в то время, потому что всего за два месяца до этого дня рождения его отец был убит у него на глазах — сбит потерявшим управление автобусом в Балтиморе. И вот заводные медведи в конце концов создали почву для фантазии, в которой он так нуждался, и дали временное укрытие от мира, оказавшегося вдруг слишком холодным, слишком жестоким, слишком деспотичным, чтобы примириться с ним. И вот теперь, умирая, Студень думал — может быть, он и есть тот Маленький Медвежонок, он думал, соединится ли он там, куда направляется, с Мамой и Папой. И еще он боялся оказаться где-нибудь в темном и пустом месте совсем один. Я не могу контролировать свои психические способности. Я не могу зажмурить свои Сумеречные Глаза и не глядеть на эти образы. Если бы я мог, о господи, я бы ни за что не настроил себя на ощущение душераздирающего ужаса одиночества, переполнявшего Студня Джордана, когда тот упал в бездну. Этот ужас преследовал меня весь день — пока я бродил под дождем, заходил в трейлеры, где разговаривали о нашем «толкаче» и оплакивали его, стоял возле чертова колеса и проклинал демонов. Он преследовал меня еще долгие годы. И на самом деле, вплоть до сегодняшнего дня, когда сон не приходит ко мне или когда я бываю в особенно мрачном настроении, я порой, сам того не желая, вспоминаю, что чувствовал перед смертью Студень, и переживаю его ощущения так же живо, как если бы они были мои собственные. Но теперь я могу совладать с этим. После того, через что я прошел и что мне довелось увидеть, я могу совладать почти со всем. Но в тот день на ярмарочной площади графства Йонтсдаун... мне было только семнадцать.* * *
В три часа дня в понедельник по трейлерному городу прокатилась весть, что тело Студня забрали в морг Йонтсдауна, где его кремируют. Урну с прахом вернут Артуро Сомбра либо завтра, либо в среду, и в среду вечером, после закрытия ярмарки, состоится погребение. Церемония будет проходить на карусели, потому что Студень ее очень любил, и, думаю, потому, что именно там он покинул этот мир.* * *
В тот вечер мы с Райей Рэйнз ужинали вдвоем у нее в трейлере. Я приготовил салат из свежей зелени, а она — превосходный омлет с сыром. Но мы не слишком налегали на еду. Мы не были голодны. Мы провели вечер в постели, но не занимались любовью. Мы сидели, обложившись подушками, и держались за руки — немного выпили, немного поцеловались, немного поболтали. Райа не один раз всплакнула по Студню Джордану, и ее слезы удивили меня. Хотя у меня не было сомнений, что она способна чувствовать горе, я до сих пор видел ее плачущей, только когда она раздумывала о собственной загадочной боли. И даже тогда она плакала словно нехотя, как будто громадное внутреннее давление выжимало из нее слезы против ее воли. Все остальное время — за исключением, разумеется, обнаженного поединка страсти — она скрывалась под маской холодной, со сжатыми губами крутой девицы, делая вид, что ей наплевать на весь мир. Я чувствовал, что ее привязанность к остальным балаганщикам была куда сильнее и глубже, чем она позволяла себе думать. И ее теперешняя скорбь казалась подтверждением моих ощущений. Я тоже проливал слезы днем, но сейчас глаза у меня были сухими. Я преодолел горе, и теперь меня переполняла холодная ярость. Я все еще оплакивал Студня, но сильнее скорби было желание отомстить за него. И я намеревался отомстить. Рано или поздно я убью несколько гоблинов с единственной целью — сравнять счет. Если мне повезет, мне в руки могут попасться те самые твари, что сломали шею Студню. Кроме того, мои заботы переместились с мертвого на живую. Я остро ощущал, что мое видение смерти Райи может воплотиться так же неожиданно, как это произошло с пророчеством о кончине Студня. И эта вероятность была невыносимой. Я не мог — не должен, не посмею — позволить, чтобы ей был причинен какой бы то ни было вред, мы создавали связь, непохожую ни на одну, что я знавал до того, и ни на одну, на какую мог бы рассчитывать в будущем. Если умрет Райа Рэйнз, умрет часть меня самого, и внутри меня возникнут выжженные пустоты — комнаты, в которые никогда больше нельзя будет войти. Нужно было принять меры предосторожности. В те ночи, когда меня не будет у нее в трейлере, я буду без ее ведома вставать на пост прямо у ее дверей. Не все ли мне равно, где страдать от бессонницы — тут или где-нибудь еще? Кроме того, я буду еще настойчивее копать своим шестым чувством в поисках новых подробностей той пока что неясной угрозы, которую припасло для нее грядущее. Если я смогу предсказать точный момент кризиса и сумею распознать источник опасности, я смогу защитить ее. Я не провороню ее, как проворонил Студня Джордана. Может быть, Райа инстинктивно чувствовала, что нуждается в защите. Может, она к тому же чувствовала, что я намереваюсь быть там, где ей потребуется помощь, потому что ближе к ночи она начала делиться некоторыми секретами о своей жизни, и я почувствовал, что она рассказывает мне вещи, которых не рассказывала больше никому на ярмарке братьев Сомбра. Она пила больше, чем обычно. Хотя назвать ее пьяной было никак нельзя, я решил, что она пытается создать себе «пьяное» алиби — на утро, когда начнет вовсю упрекать себя и сожалеть, что поведала мне о своем прошлом чересчур много. — Мои родители были не балаганщиками, — сказала она таким тоном, что стало ясно: она хочет, чтобы я подбодрил и поддержал ее откровенность. — А ты откуда? — поинтересовался я. — Из Западной Виргинии. Мои родители жили в холмах Западной Виргинии. Мы жили в ветхой куче мусора среди холмов, где до ближайшей такой же ветхой кучи мусора было не меньше полумили. Ты представляешь себе, что такое жители холмов? — Не вполне. — Бедняки, — зло сказала она. — Ну, в этом ничего постыдного нет. — Бедняки, необразованные, не стремящиеся к образованию, невежественные. Скрытные, замкнутые, подозрительные, всегда настаивающие на своем, упрямые, узколобые. Некоторые из них — может, даже большинство — уже вырождаются. Двоюродные братья и сестры там очень часто женятся. И даже хуже того. Хуже того. Чем дальше, тем меньше она нуждалась в уговорах и расспросах. Вскоре она поведала мне о своей матери, Мэрэли Суин. Мэрэли была четвертым из семи детей, родившихся у двоюродных брата и сестры, чей брак не был благословлен и узаконен ни священником, ни государством и существовал лишь в силу местной традиции. Все дети Суинов были миловидными, но один ребенок был умственно отсталым, а пятеро из остальных шести были туповаты. Мэрэли не посчастливилось стать той седьмой, но она была самой красивой из детей — блондинка, чьи волосы излучали сияние, с ясными зелеными глазами и пышными формами. Из-за этого все парни с холмов кругами ходили вокруг нее с тех пор, как ей стукнуло тринадцать. Еще задолго до того, как ее пышные прелести созрели, Мэрэли уже приобрела значительный сексуальный — вряд ли кто осмелился назвать его романтическим — опыт. В возрасте, когда большинство ее сверстниц только-только назначают первое в жизни свидание и не имеют четкого представления, что значит «пойти на все», Мэрэли уже потеряла счет парням с холмов, которые раздвигали ей ноги на различных постелях из травы, в ущельях, выстланных листьями, на ветхих матрасах на краю импровизированной помойки и на вонючих задних сиденьях автомобилей в какой-нибудь из коллекций разбитых тачек, которыми, видимо, страстно увлекаются жители холмов. Иногда она охотно принимала участие в сексе, иногда нет, но по большей части эта сторона дела совсем не занимала ее. Там, среди холмов, утрата невинности в столь нежном возрасте не была редкостью. Удивительно было только то, что она ухитрилась не забеременеть аж до четырнадцати лет. В том районе Аппалачских гор вся эта деревенщина с холмов на власть закона и на мораль приличного общества смотрела свысока, а то и вовсе их не замечала. Однако, в отличие от балаганщиков, обитатели этих отдаленных ущелий не сотворили своих собственных правил и устоев вместо тех, которые они отвергали. В американской литературе существует традиция повествования о «благородном дикаре», и культура наша притворяется, будто верит, что жизнь, протекающая на лоне природы, вдали от пороков цивилизации, — более здоровая и мудрая, чем та, которую влачит большинство из нас. На самом деле чаще происходит обратное. Когда человек удаляется от цивилизации, он быстро освобождается от не важных для него ловушек современного общества — роскошных машин, изысканных жилищ, одежд, от того-то и того-то, от вечеров, проводимых в театре, от концертов — и, может быть, не так уж безосновательны слова о преимуществах простой жизни. Но если человек уж слишком удаляется от цивилизации и слишком долго остается вдали от нее, он освобождается и от многих запретов, налагаемых церковью и обществом, которые далеко не всегда так глупы, бессмысленны или недальновидны, как с недавних пор стало модно заявлять. Напротив, многие из этих запретов крайне необходимы, так как содержат то, без чего невозможно выжить и что с течением времени приводит к появлению более образованного и сытого, более благополучного общества. Дикая глушь — дика и пробуждает дикость. Это плодородная почва для жестокости. В четырнадцать лет Мэрэли забеременела. Она была неграмотна, необразованна, и получить образование ей не светило. У нее не было ни выбора, ни достаточного воображения, чтобы опасаться за свое будущее, и она слишком туго соображала, чтобы полностью осознать тот факт, что отныне вся ее жизнь будет долгим, тяжким падением в ужасную бездну. С тупым коровьим спокойствием и уверенностью она ждала, что возникнет кто-то, кто позаботится о ней и о ребенке. Ребенком этим была Райа, и еще до ее рождения некто и в самом деле предложил взять на себя заботу о честном имени Мэрэли Суин, тем самым, должно быть, подтвердив, что у беременных деревенских дур, как и у пьяниц, свой бог. Сего благородного господина, жаждущего получить руку Мэрэли Суин, звали Эбнером Кэди. Было ему тридцать восемь лет — на двадцать четыре года больше, чем ей. Росту он был шести футов и пяти дюймов, весил двести сорок фунтов, шею имел такую же толстую, как и голову, и был самым страшным человеком в округе где наводящих страх мужланов водилось в изобилии. Эбнер Кэди зарабатывал на жизнь тем, что гнал самогон, выращивал псов для охоты на енотов да время от времени промышлял то мелким воровством, то крупным, как придется. Пару раз в год он с компанией дружков угонял с государственного шоссе грузовик, отдавая предпочтение тем, в которых перевозили сигареты, виски либо другой груз, на котором можно было славно заработать. Они сбывали краденое одному барыге в Кларусбурге. Занимайся они этим активнее, они либо разбогатели бы, либо загремели бы в тюрьму, но амбиций у них было не больше чем совести. Кэди был не только самогонщиком, горлопаном, задирой и вором, иногда он баловался и насилием — брат женщину силой, когда хотел добавить сексу вкуса, подвергая себя опасности. Но путешествие в казенный дом ему по-настоящему не грозило — ни у кого недоставало духу давать показания против него. Для Мэрэли Суин Эбнер Кэди был просто находкой. У него был дом из четырех комнат — не намного крупнее остальных лачуг, зато с водопроводом, и никто из его семьи никогда не испытывал нужды в виски, еде или одежде. Если Эбнер не мог украсть то, что ему надо, он ухитрялся украсть это как-нибудь по-другому, а среди холмов это было признаком добытчика. Он хорошо относился и к Мэрэли — по крайней мере, настолько хорошо, насколько вообще был способен. Он не любил ее. Он не мог любить. Хотя он порой и стращал ее, но рук не распускал, главным образом потому, что гордился ее красотой и бесконечно восхищался ее телом. А его гордость — или возбуждение — не могла быть направлена на подпорченный товар. — Кроме того, — пояснила Райа, чей голос превратился в загнанный шепот, — он не желал испортить свою маленькую машину развлечений. Он ее так называл — «моя маленькая машина развлечений». Я почувствовал, что слова «машина развлечений» в устах Эбнера Кэди вовсе не означали, что ему было хорошо заниматься сексом с Мэрэли. Они означали нечто иное, нечто темное. Что бы это ни было, Райа не могла рассказывать об этом, пока я не подбодрю ее — хотя, как я ощущал, ей страстно хотелось скинуть с себя это бремя. Поэтому я плеснул ей еще выпить, взял ее за руку и с ласковыми словами провел через это минное поле ее памяти. На ее глазах опять заблестели слезы, и на сей раз она оплакивала не Студня, а себя. К себе она была строже, чем к кому бы то ни было, и не позволяла себе обычных человеческих слабостей вроде жалости к себе. Поэтому она сморгнула эти слезы, не задумываясь о том, какой эмоциональный стресс, какое смятение вымыли бы они из нее, дай она только им пролиться. Когда она заговорила, в голосе звучала ненависть, слова отрывисто вылетали из уст: — Он имел в виду... что она... машина... по производству... детей... и что дети... это развлечение. Особенно... особенно... девочки. Я знал, что она берет меня с собой не просто пройтись вслед за Гензелем и Гретель по лесу, где живут ведьмы и привидения. Он вела меня в куда более страшное место, в кошмарные воспоминания ужасных лет детства, и я не был уверен, что хочу идти туда с ней. Я любил ее. Я знал, что смерть Студня не только опечалила, но и напугала ее, напомнила о том, что и она смертна. И ей захотелось сокровенного душевного контакта, контакта, которого она не достигнет до конца, пока не сломает барьер, воздвигнутый ею между собой и остальным миром. Она хотела, чтобы я выслушал ее, заставил ее рассказать, понял ее. Я хотел пойти туда ради нее. Но я боялся, что ее тайны... ну, что они живые и голодные и что они раскроются только в обмен на кусок моей собственной души. Я выдавил: — О господи... нет. — Маленькие девочки, — повторила она, не глядя ни на меня, ни на что другое в комнате, устремив взор назад по спирали времени с явным страхом и отвращением. — Не то чтобы он не обращал внимания на моих сводных братьев. Он им тоже находил применение. Но он предпочитал девочек. Моя мать родила ему четырех детей к тому времени, когда мне исполнилось одиннадцать, двух девочек и двух мальчиков. Сколько я себя помню... думаю, с тех пор, как мне исполнилось три года... он... — Прикасался к тебе, — невнятно пробормотал я. — Имел меня, — закончила она. Мертвым, отрешенным голосом она рассказывала о тех годах, полных страха, жестокости и гнуснейшего растления. От этого рассказа у меня все внутри заледенело и почернело. — Это все, что я помню, что я знала с тех пор, как была ребенком... быть с ним... делать, что он хочет... прикасаться к нему... быть в постели вместе с ними обоими... с матерью и с ним... когда они этим занимались. Я должна была думать, что это нормально, понимаешь? Я не должна была узнать ничего лучше, чем это. Я должна была думать, что так делается в каждой семье... но я так не думала. Я знала, что это неправильно... мерзко... и я это ненавидела. Я это ненавидела! Я обнял ее. Стал баюкать на руках. Она по-прежнему не позволяла себе плакать. — Я ненавидела Эбнера. О боже мой... ты представить себе не можешь, как я его ненавидела, каждым вздохом, каждую секунду, без передышки. Ты не знаешь, каково это — ненавидеть так сильно. Я подумал о чувствах, которые испытывал по отношению к гоблинам, и спросил себя, может ли это сравниться с ненавистью, рожденной и взращенной в этой адской яме, в этой четырехкомнатной лачуге в Аппалачах. Пожалуй, она была права — мне не довелось познать такой чистой ненависти, о которой говорила она. Ведь она была слабым ребенком, неспособным к сопротивлению, и у ее ненависти было куда больше времени, чем у моей, чтобы вырасти и усилиться. — Но потом... когда я выбралась оттуда... когда уже прошло время... я начала ненавидеть мать еще сильнее, чем его. Она же была мне матерью. Почему я не была для нее н-н-не-прикосновенная? Как она могла... допустить... чтобы меня... так использовали? Я не нашел ответа. Бога тут обвинять было невозможно. Большую часть времени нам не нужен был ни он, ни гоблины. Что вы, право, не стоит беспокоиться, мы и сами, без божественной или демонической помощи сумеем уничтожить друг друга. — Она была такая красивая, знаешь, вовсе не развратная с виду, очень нежная, и я думала, что она, наверное, ангел, потому что так, должно быть, выглядят ангелы, и она... светилась. Но мало-помалу я начала понимать, что она за зло. Отчасти потому, что она была невежественна и неумна. Она была тупая, Слим. Тупая деревенщина, плод брака между двоюродными братом и сестрой, которые тоже, наверное, родились от двоюродных брата и сестры, так что это чудо, что я не родилась на свет дегенераткой или трехруким уродом, которому дорога только в балаган Джоэля Така. Но не родилась. И не пошла по этой дороге — плодить детей для Эбнера, чтобы он приставал к ним. Во-первых, из-за... из-за того, что он со мной делал... я не могу иметь детей. А во-вторых, когда мне было одиннадцать лет, я наконец-то выбралась оттуда. — В одиннадцать лет? Каким образом? — Я убила его. — Славно, — мягко сказал я. — Когда он спал. — Славно. — Я всадила ему в глотку нож мясника. Я держал ее в объятиях почти десять минут, и все это время никто из нас не произнес ни слова, не потянулся за выпивкой. Мы не делали ничего, мы просто были там. Наконец я сказал: — Мне так жалко. — Не надо. — Таким беспомощным себя чувствую. — Прошлого ты не изменишь, — сказала она. «Нет, — подумал я, — но иногда я в состоянии изменить будущее, предвидеть опасности и избегать их и молю бога, чтобы оказаться рядом, когда буду нужен тебе, нужен, как никто еще не был тебе нужен». Она произнесла: — Я прежде никогда... — Никому другому не говорила? — Никогда. — Умрет со мной. — Я знаю. Но почему... я рассказала именно тебе? — Просто я оказался в нужную минуту под рукой, — пояснил я. — Нет. Не в этом дело. — А в чем же? — Я не знаю, — ответила Райа. Отклонившись от меня, она подняла глаза и заглянула в мои. — В тебе есть что-то необычное, что-то особенное. — Да ну, брось ты, — неловко пробормотал я. — У тебя такие красивые и необычные глаза. Из-за них я себя чувствую... в безопасности. В тебе есть такое... спокойствие. Нет, не то чтобы спокойствие... у тебя тоже не все ладно. Сила. В тебе чувствуется большая сила. И ты такой понятливый. Но это даже не сила, не понятливость, не сочувствие. Это... что-то особенное... что я не могу определить. — Ты меня смущаешь, — сказал я. — Сколько тебе лет, Слим Маккензи? — Я же тебе говорил... семнадцать. — Нет. — Как нет? — Старше. — Семнадцать. — Скажи мне правду. — Ну так и быть. Семнадцать лет и шесть месяцев. — Если будем прибавлять каждый раз по полгода, всю ночь потратим, пока докопаемся до истины. Лучше я тебе сама скажу, сколько тебе лет. Судя по твоей силе, спокойствию, по твоим глазам... я бы сказала, что тебе сто лет... сто лет опыта. — В сентябре сто один стукнет, — с улыбкой сказал я. — Расскажи мне свой секрет, — попросила она. — У меня нет секретов. — Ну, валяй. Расскажи. — Я просто бродяга, перекати-поле, — сказал я. — Тебе хочется, чтобы я был чем-то большим, чем на самом деле, потому что нам всем всегда хочется, чтобы все было лучше, благороднее и интереснее, чем оно есть. Но я — это просто я. — Слим Маккензи. — Вот именно, — солгал я. Я не знаю, почему не хотел открыться ей, как она открылась мне. Я действительно, как и сказал ей, был смущен, но вовсе не ее словами. Мой стыд был вызван тем, что я так скоро обманул ее. — Слим Маккензи. И никаких скрытых омутов тайны. Даже на самом деле скучный. Но ты не закончила. Что произошло после того, как ты его убила? Тишина. Она не хотела возвращаться к воспоминаниям тех лет. Но вот: — Мне было всего одиннадцать, поэтому я не попала за решетку. На самом деле, когда власти узнали, что происходило в той конуре, они сказали, что жертвой была я. — Ты и вправду была жертвой. — Они забрали у матери всех детей. Нас всех разделили. Я больше никого из них не видела. А меня поместили в государственный детдом. Внезапно я ощутил, что она скрывает еще одну ужасную тайну. С уверенностью ясновидящего я понял, что в детдоме с ней произошло нечто по меньшей мере такое же страшное, как и Эбнер Кэди. — И?.. — спросил я. Она отвела взгляд, потянулась к ночному столику за спиртным и продолжала: — И оттуда я сбежала, когда мне было четырнадцать. Но я выглядела старше. Я рано созрела, как моя мать. Так что у меня не возникло проблем, когда я прибилась к ярмарке. Сменила фамилию на Рэйнз[109], потому что... ну, я всегда любила дождь, любила смотреть на него, слушать его... В общем, я тут уже давно. — Строишь империю. — Ага. Чтобы чувствовать, что я чего-то стою. — Ты многого стоишь, — заверил я ее. — Я не имею в виду только деньги. — Я тоже. — Хотя деньги тоже. Потому что с тех пор, как я стала самостоятельной, я поставила себе цель никогда не быть... мусором, никогда не опуститься снова... Я собираюсь построить маленькую империю, ты верно сказал... и я намерена всегда быть кем-то. Легко было представить себе, как маленькая девочка, на долю которой выпало пережить такое надругательство, могла вырасти с мыслью, что ничего не стоит, и как успешно эта мысль переросла в навязчивую идею. Я вполне понимал это, и я не мог винить ее за то, что она стала такой целеустремленной и бесцеремонной деловой дамой. Не направляй она свою ярость на эти усилия, уменьшая тем самым давление, ее бы рано или поздно разнесло на куски. Я преклонялся и трепетал перед ее силой. Но она по-прежнему не позволяла себе пожалеть себя, поплакать о себе. И еще она скрывала правду о детдоме, делая вид, что эти несколько лет были совершенным пустяком. Но я не стал настаивать, чтобы она рассказала всю правду. Во-первых, я знал, что рано или поздно она и так мне все расскажет. Дверь открылась, и уже ничто не сможет закрыть ее обратно. Кроме того, я уже услышал достаточно, даже чересчур много для одного дня. От тяжести этого нового знания я ослабел и почувствовал себя дурно. Мы выпили. Поговорили о другом. Еще выпили. Потушили свет и легли, не в силах заснуть. Через некоторое время мы все же заснули. И нам снился сон. Кладбище... Посреди ночи она разбудила меня, чтобы заняться со мной любовью. Это было так же здорово, как и прежде, и когда мы насытились, я не удержался и спросил, как это после перенесенного надругательства она может находить в этом такое удовольствие. Она ответила: — Другая, может, на моем месте стала бы фригидной... или пустилась бы во все тяжкие. Я не знаю, почему это не произошло со мной. Разве что... ну... если бы я пошла по любому из этих путей, это означало бы, что Эбнер Кэди победил, что он сломал меня. Понимаешь? Но меня никогда не сломать. Никогда. Согнусь, но не сломаюсь. Выживу. И не сдамся. Я стану самым преуспевающим концессионером на этой ярмарке, и придет день, когда вся она будет моей. Будет, черт возьми! Вот увидишь, будет. Это моя цель, но не вздумай кому проговориться. Я на все, что потребуется, пойду, буду работать так, как понадобится, на любой риск пойду, если надо, но я завладею всем этим, и вот тогда я буду кем-то, и не важно будет, откуда я и что со мной произошло в детстве. Не важно будет, что я не знала отца и что мать меня не любила, потому что к тому времени это уйдет от меня, уйдет и я забуду, как забыла свой деревенский акцент. Вот увидишь. Увидишь. Просто жди, и увидишь. Как я уже сказал в начале моего повествования, надежда — вечный спутник в этой жизни. Это единственная вещь, отобрать которую у нас не в силах ни жестокая природа, ни бог, ни другие люди. Здоровье, богатство, родители, любимые братья и сестры, дети, друзья, прошлое, будущее — все это можно украсть у нас с такой же легкостью, как кошелек из заднего кармана. Но наше главное сокровище, надежда, остается с нами. Этот отважный маленький моторчик тарахтит и стучит в нас и ведет нас вперед, когда разум советует отступать. Это самое возвышенное и самое благородное из того, чем мы обладаем, самое абсурдное и самое восхитительное из наших качеств. Потому что, пока у нас есть надежда, у нас есть способность любить, заботиться и быть порядочными людьми. Тем временем Райа снова заснула. Я же не мог заснуть. Студень был мертв. Мой отец был мертв. Вскоре и Райа может оказаться мертва, если я не сумею предвидеть, в чем именно заключается надвигающаяся опасность, и не смогу отвести ее от Райи. Я встал в темноте, подошел к окну и отодвинул занавеску как раз в тот момент, когда одна за другой несколько молний — не такие яростные, как те, что раскалывали небо прошлой ночью, но все же очень яркие — выбелили все за окном, отчего стекло превратилось в трепещущее зеркало. Мое бледное отражение задрожало, точно пламя. Это напоминало киношную технику прежних лет, когда режиссер хотел показать течение времени. Изображение то затемнялось, то прояснялось, и каждый раз у меня возникало ощущение, что я сбрасываю годы, как будто у меня забирали не то прошлое, не то будущее, но что именно, я не мог сказать. Глядя, как молнии разрывают небо, глядя на свое отражение-призрак, я вдруг почувствовал вспышку непонятного страха, вероятно, из-за усталости и печати у меня появилось странное ощущение, что только я существую на самом деле, что я заключаю в себе все мироздание и что все и вся прочее — лишь плод моего воображения. Но затем, когда погасла последняя вспышка молнии и стекло снова стало прозрачным, мое внимание привлекло что-то, прицепившееся с той стороны к промытому дождем окну, и это отвлекло меня от философствования. Это была маленькая ящерица, хамелеон. Благодаря присоскам на пальцах она уверенно держалась за оконное стекло. Ее пузико было открыто моему взгляду, длинный тонкий хвост изгибался книзу в форме вопросительного знака. Она была там все время, что я видел только собственное отражение. Эта мысль неожиданно пришла мне в голову, напомнив о том, как мало мы видим из того, на что смотрим, довольствуясь лишь поверхностью, — может, потому, что пугаемся заглянуть в куда более сложные глубины. Сейчас, за хамелеоном, я видел струи дождя, вспыхивающие серебром всякий раз, когда далекая молния отражалась блеском в мириадах тяжелых капель, а за дождем был соседний трейлер, а за ним — еще трейлеры, а за ними невидимая ярмарка, а за ярмаркой — город Йонтсдаун, а за Йонтсдауном... вечность. Райа что-то пробормотала во сне. В темноте, с тоской в душе я вернулся к постели. Ее силуэт смутно угадывался под покрывалом. Я постоял рядом, глядя на нее. Я вспомнил вопрос, который задал мне Джоэль Так в Шоквилле, в ту пятницу, когда мы разговаривали о Райе: «Такая сногсшибательная красота снаружи, и красота внутри тоже, тут мы с тобой единодушны... а не может ли быть так, что есть еще одно «внутри», под тем «внутри», которое ты видишь?» До сегодняшней ночи, когда Райа открылась мне и посвятила меня в кошмар своего детства, я видел ее так же, как сейчас себя на оконном стекле — портрет, начертанный молниями. Теперь я заглянул глубже, и силен был соблазн решить, что я наконец-то увидел эту женщину целиком и полностью, как она есть, во всех ипостасях, но на самом деле та Райа, которую я знал теперь, была лишь чуть более подробной тенью истинной Райи. Я наконец-то проник взглядом под ее поверхность, поглядел на следующий слой, на ящерицу на оконном стекле, но дальше шли еще и еще слои — без счета, и я ощущал, что не смогу спасти Райю Рэйнз, пока не проникну достаточно глубоко в ее тайну, извивающуюся внутри нее, как раковина наутилуса, виток за витком, почти до бесконечности. Она снова забормотала. — Могилы, — сказала она. — Да, множество... могил... Она захныкала. — Слим... о... Слим, нет... — бормотала она. Ее ноги задвигались под покрывалом, словно она бежала. — ...нет... нет... Ее сон, мой сон. Каким образом нам мог сниться один и тот же сон? И почему? Что он означает? Я стоял над нею. Стоило мне закрыть глаза, как я видел кладбище. Но я мог пережить этот кошмар спокойно, в то время как она мучительно пробиралась сквозь него. Я напряженно ожидал, не проснется ли она с задушенным криком. Мне хотелось знать, поймал ли я ее э ее сне и разорвал ли ее горло так же, как сделал это в своем сне. Если эта деталь совпадает, значит, это больше чем случайное совпадение. Это должно иметь какой-то смысл. Если и ее сон, и мой заканчивались на том, что мои зубы впиваются в ее плоть и брызжет кровь, тогда самое лучшее, что я могу для нее сделать, — это оставить ее, прямо сейчас, уйти как можно дальше и никогда не видеть ее. Но она не закричала. Сон-паника прошел. Она перестала дергать ногами, дыхание стало ритмичным и спокойным. Снаружи дождь и ветер пели погребальную песнь по мертвым и по живым, что цепляются за надежду в кладбищенском мире.Глава 14
СВЕТЛЕЙ ВСЕГО КАК РАЗ ПЕРЕД ТЕМНОТОЙ
Во вторник утром небо было без солнца, далекая гроза без молний, дождь без ветра. Он лил отвесно и сильно, словно истощая небо. Фунты, центнеры и тонны воды падали вниз, ломая траву, устало вздыхая над крышами трейлеров, обрушиваясь на скаты крыш палаток и лениво стекая на землю, где засыпали в лужах. Текло с чертова колеса, капало с «бомбардировщика». И снова открытие ярмарки графства Йонтсдаун отменили. Его перенесли еще на двадцать четыре часа. Райа не так сильно раскаивалась в признаниях, сделанных той ночью, как я ожидал от нее. За завтраком улыбка появлялась у нее чаще, чем у той Райи, которую мне довелось узнать на предыдущей неделе. Она настолько увлеклась нежностями и маленькими знаками внимания, что, окажись поблизости кто посторонний, чтобы поглядеть на это, ее репутация твердокаменной стервы была бы навеки уничтожена. Позднее, когда мы отправились к кое-кому из балаганщиков поглядеть, как они проводят время, она была больше похожа на Райю, которую знали они: отстраненно-холодную. Впрочем, если бы даже она вела себя с ними так же, как со мной, когда мы были наедине, не думаю, что они бы заметили эту перемену. Над Джибтауном-на-колесах лежала пелена, тусклое удушающее одеяние уныния, сотканное из монотонного стука дождя, из убытков, которые принесла непогода, но главным образом из сознания того, что всего день прошел со смерти Студня Джордана. Они до сих пор сильно переживали эту трагическую потерю. Навестив трейлеры Лорасов, Фрадзелли и Кэтшэнков, мы в конце концов решили провести этот день вместе, просто побыть вдвоем, а затем, на пути обратно к «Эйрстриму» Райи, мы приняли еще более важное решение. Она вдруг встала как вкопанная и схватила меня за руку, в которой я держал зонт, обеими руками, холодными, как ледышки, из-за дождя. — Слим! — сказала она, и глаза ее сияли ярче, чем у кого бы то ни было. — Что? — отозвался я. Она сказала: — Пошли в трейлер, где тебе выделили койку, соберем твои вещи и перетащим их ко мне. — Ты шутишь, — ответил я, моля бога, чтобы это не было шуткой. — Только не говори мне, — сказала она, — что ты этого не хочешь. — Ладно, не скажу, — ответил я. — Эй, это, знаешь ли, не босс твой с тобой говорит, — нахмурившись, заявила она. — У меня и в мыслях такого не было, — ответил я на это. — Это твоя девушка говорит, — сказала она. — Я просто хочу быть уверенным, что ты над этим подумала, — ответил я. — Подумала. — А мне показалось, что тебе только-только эта мысль в голову стукнула. — Это я старалась, чтобы так все выглядело, глупый. Не хочу, чтобы ты обо мне думал как о расчетливой женщине, — сказала она. — Хотел удостовериться, что ты не делаешь необдуманный шаг, — заявил я. На что она ответила: — Райа, Райа Рэйнз, никогда не совершит ничего необдуманного. — Похоже на правду, а? — сказал я. Так вот просто, через пятнадцать минут мы уже жили вместе. Всю вторую половину дня мы провели в узенькой кухоньке «Эйрстрима» за приготовлением булочек — четыре дюжины с арахисовым маслом и шесть дюжин с шоколадным, и это был один из лучших дней в моей жизни. Ароматы, от которых слюнки текли, церемониальное облизывание ложки после того, как намазана очередная партия, шутки, поддразнивания, совместная работа — все это воскрешало в памяти такие же дни на кухне в доме Станфеуссов в Орегоне, с матерью и сестрами. Но тут было даже лучше. В Орегоне такие дни радовали меня, но я никогда не осознавал до конца их значимость, поскольку был слишком молод, чтобы понять, что это — золотой период моей жизни, слишком молод, чтобы знать, что всему приходит конец. Надо мнойбольше не довлели детские иллюзии неизменности и бессмертия, я уже начал думать, что никогда больше мне не придется испытывать простые радости нормальной семейной жизни. Вот поэтому эти часы на кухне вместе с Райей воспринимались мною с такой остротой, со сладостной болью в груди. Обедали мы тоже вместе, а после обеда слушали радио: «ВБЗ» из Бостона, «КДКА» из Питсбурга, Дика Бьонди, корчившего из себя дурака в Чикаго. Передавали основные песни тех лет: «Он так красив» в исполнении «Чиффонз», «Ритм дождя» — «Каскейдз», «Дрифтерз» — «На крышу», «Дует ветер» Питера, Пола и Мэри и их же «Пуфф» («Волшебный дракон»), «Сахарную лачугу», «Лимбо Рок», «Рок вокруг часов» и «Мой дружок вернулся», мелодии Лесли Гора, «Фор сизонз», Бобби Дэрина, «Чентэйз», Рэя Чарлза, Литтл Ив, Дайона, Чабби Чекера, «Шайреллз», Роя Орбисона, Сэма Куки, Бобби Льюиса, Элвиса и еще Элвиса — и если вы думаете, что тот год был неподходящим для музыки, значит, черт возьми, вас там и близко не было. Мы не занимались любовью в ту ночь, первую ночь нашей совместной жизни, но и без этого нам было очень хорошо. Ничто не могло бы улучшить этот вечер. Мы никогда не были так близки, даже когда — плоть к плоти — отдавали себя друг другу целиком. Хотя она больше не открывала своих секретов, а я продолжал делать вид, будто я просто бродяга, восхищенный и обрадованный тем, что нашел дом и любовь, нам все равно было хорошо — возможно, потому, что мы хранили секреты в уме, а не в сердце. В одиннадцать дождь перестал. Он вдруг ослабел — шум превратился в барабанную дробь, барабанная дробь в нестройное кап-кап, точно так же, как все началось два дня назад, и наконец совсем прекратился, и в ночной тишине с земли поднимался пар. Я стоял у окна спальни, глядя в темную мглу, и мне казалось, что гроза не только промыла мир, но вымыла что-то и из меня. Но на самом деле на мою душу пролилась дождем Райа Рэйнз, и этот дождь смыл мое одиночество.* * *
Среди алебастровых плит на холме в городе мертвецов я схватил ее, развернул лицом к себе. В ее глазах стоял дикий страх, меня переполняли боль и жалость, но ее горло было открыто, и я потянулся к нему, невзирая на сожаление, почувствовал, как мои зубы касаются нежной кожи... Я рванулся головой вперед прочь из сна, прежде чем почувствую во рту вкус ее крови. Я обнаружил, что сижу в кровати, закрыв лицо ладонями, словно она может проснуться и каким-то образом, даже в темноте, прочесть все на моем лице, узнав, какую жестокость я чуть было не сотворил с нею во сне. И тут, к моему огромному изумлению, я ощутил, что возле кровати во мраке кто-то стоит. У меня перехватило дух, все еще находясь под впечатлением ужасов из кошмарного сна, я отнял руки от лица, выставил их перед собой, как бы защищаясь, и откинулся к спинке кровати. — Слим? Это была Райа. Она стояла возле кровати, глядя на меня, хотя под покровом черноты я был виден ей не больше чем она мне. Она наблюдала, как я преследую ее двойника во сне — среди кладбищенского ландшафта — точно так же, как я наблюдал за ней накануне ночью. — А, это ты, Райа, — с трудом пробормотал я, переводя дыхание, сжимавшее грудь. Сердце у меня колотилось. — Что стряслось? — спросила она. — Сон. — Что за сон? — Дурной. — Эти твои гоблины? — Нет. — Мое... кладбище? Я ничего не ответил. Она присела на край кровати. — Это было оно? — спросила она. — Да. Как ты узнала? — Ты разговаривал во сне. Я посмотрел на светящийся циферблат часов. Полчетвертого. — А я была в этом сне? — спросила она. — Да. Она издала звук, который я никак не смог истолковать. Я сказал: — Я гнался за... — Нет! — быстро оборвала она. — Не говори мне. Это не важно. Не хочу больше ничего слушать. Это все не важно. Совершенно не важно. Но было очевидно, что она не сомневается — это важно, что она лучше понимает наш общий кошмарный сон, чем я, и что она точно знает, в чем смысл такого странного совпадения кошмаров. А может, поскольку покровы сна еще не спали с меня и обрывки сновидений до сих пор не отпускали меня, я неверно понял ход ее мыслей и увидел тайну там, где ее и не было вовсе. Может быть, она не желала обсуждать это именно потому, что боялась, а не потому, что уловила пугающий смысл такого совпадения. Когда я вновь попытался заговорить, она шикнула на меня и скользнула в мои объятия. Никогда раньше она не была такой страстной, такой нежной, такой податливой, с таким сладостным искусством пробуждая во мне ответное чувство, но мне показалось, что в ее любовном порыве я разгадал нечто новое, тревожное — тихое отчаяние, как будто в любовном акте она искала не только наслаждения и близости, но и стремилась обрести забвение, убежище от какого-то темного знания, которое было ей не по силам.* * *
В среду утром ветер прогнал тучи, и на смену им принес голубое небо, ворон, малиновок, воронов и мелких птах. Из земли до сих пор шел пар, как будто прямо под тонкой земной корой вовсю работал, двигая поршнями и нагреваясь от трения, некий могучий механизм. На аллее под сияющим августовским солнцем просыхали опилки и стружки. Балаганщики всей бригадой вывалили наружу — высматривали, что повредила гроза, наводили блеск на хром и латунь, приводили в порядок провисшие палатки, рассуждали о «денежной погодке», а погодка и в самом деле была «денежной». За час до открытия ярмарки я нашел Джоэля Така позади палатки, где размещался Шоквилль. На нем были ботинки лесоруба и заправленные в голенища рабочие брюки, толстая красная рубашка, рукава которой были засучены на массивных руках. Он вбивал поглубже во влажную землю колья палатки. Хотя он размахивал молотком, а не топором, все равно он производил впечатление мутанта Пола Баниона. — Мне надо с тобой поговорить, — сказал я. — Я слышал, ты поменял адрес, — заметил он, опуская кувалду на длинной ручке. Я моргнул: — Что, так быстро все узнали? — О чем тебе надо со мной поговорить? — спросил он без явной враждебности, но холодно, чего раньше я за ним не замечал. — Во-первых, о павильоне электромобилей. — А что там случилось? — Я знаю, что ты видел, что там было. — Что-то я не догоняю. — В ту ночь ты меня достаточно догнал. Его искаженные черты и непроницаемое выражение делали его лицо похожим на керамическую маску, разбитую и склеенную пьяницей во время попойки. Когда он ничего не сказал, я продолжил: — Ты зарыл его под полом своей палатки. — Кого? — Гоблина. — Гоблина? — Так их называю я — гоблинами. Возможно, у тебя для них есть другое имя. В словаре написано, что гоблин — это «вымышленное создание, в некоторых мифологиях — демон, с гротескными чертами, творящий людям зло». Для меня этого достаточно. Ты, черт возьми, зови их как тебе угодно. Я знаю — ты их видишь. — В самом деле вижу? Гоблинов? — Я хочу, чтобы ты понял три вещи. Первое, я их ненавижу и намерен убивать их всегда, когда позволит случай и когда буду уверен, что не вызову подозрений. Второе, они убили Студня Джордана, потому что он наткнулся на них, когда они пытались подстроить аварию на чертовом колесе. Третье, они не отступят; они вернутся, чтобы доделать работу на колесе, и если мы их не остановим, на этой неделе там может произойти что-то ужасное. — Это правда? — Ты знаешь, что правда. Ты сам оставил билет на чертово колесо у меня в спальне. — Я оставил? — Ради бога, нет смысла так осторожничать со мной, — нетерпеливо сказал я. — Мы оба обладаем силой. Мы должны быть союзниками! Он приподнял бровь, и оранжевому глазу пришлось прищуриться, чтобы уступить место для изумленного взгляда в нижних глазах. Я продолжал: — Изо всех прорицателей, гадалок по руке, изо всех экстрасенсов, кого я знал на других ярмарках, ты первый человек, вправду обладающий чем-то особенным. — Что, правда? — И ты единственный, кого я когда-либо знал, кто видит гоблинов так же, как и я. — Что, правда? — Ты должен. — Я должен? — О господи, ты способен разозлить. — Я способен? — Я уже думал об этом. Я знаю — ты видел, Что произошло в павильоне электромобилей, и позаботился о теле... — О теле? — А затем попытался предупредить меня о чертовом колесе, на случай если я не ощутил грозящей опасности. У тебя возникли некоторые сомнения, когда Студня нашли мертвым. Ты, должно быть, задумался, может, я просто психопат, потому что ты знал, что Студень не был гоблином. Но ты не стал обвинять меня, ты решил подождать и поглядеть. Вот поэтому я и пришел к тебе. Чтобы прояснить наши дела. Чтобы не таиться больше. Чтобы ты точно знал, что я вижу их и я их враг и что мы можем действовать вместе, чтобы остановить их. Нам нужно не допустить, чтобы они сделали то, что замыслили, на чертовом колесе. Я был там сегодня утром, пытался уловить излучения, которые от него идут, и я уверен, что сегодня ничего не должно произойти. Но завтра или в пятницу... Он просто смотрел на меня. — Черт подери, — не выдержал я, — что ты так упорно держишься за этот загадочный вид? — Вовсе не загадочный, — возразил он. — Нет, загадочный. — Нет же, просто обалделый. — Какой? — Обалделый. Потому что, Карл Слим, это самая удивительная беседа, какую мне доводилось вести за свою жизнь, и я ни слова не понял из того, что ты сказал. Я ощущал, что его переполняют эмоции, и, возможно, в значительной степени это было и вправду смущение, но я просто не мог поверить, что сказанное мною поставило его в тупик. Я уставился на него. Он уставился на меня. Я сказал: — Зла не хватает. Он отозвался: — А-а, я понял. — Что? — Это такая шутка. — О господи. — Такая закрученная шутка. — Если ты не хотел выдавать мне свое присутствие, если ты не хотел дать мне понять, что я был там не один, тогда почему ты помог мне избавиться от тела? — Ну, думаю, отчасти потому, что у меня такое хобби. — Ты о чем толкуешь? — Избавляться от тел, — пояснил он. — Хобби такое. Кто-то собирает почтовые марки, кто-то делает модели самолетов, а я вот избавляюсь от тел, когда они мне попадаются. Я уныло покачал головой. — А отчасти, — продолжал он, — оттого, что я страшный чистюля. Совершенно не выношу мусора, а разве бывает мусор худший, чем разлагающееся тело? Особенно тело гоблина. Так что, когда оно попадается мне на глаза, я все прибираю и... — Это не шутка! — Мое терпение лопнуло. Он моргнул всеми тремя глазами. — Ну, либо это шутка, либо ты изрядно не в себе, Карл Слим. До сих пор ты мне ужасно нравился, и ты слишком нравишься, чтобы решить, будто ты сумасшедший, так что, если с тобой все в порядке, я делаю вывод, что это шутка. Я отвернулся от него и побрел прочь, за угол палатки, обогнул ее и вышел на проезд. Что за игру, черт возьми, он ведет?* * *
Гроза освежила воздух, и удушливая августовская жара не вернулась вместе с голубым небом. День был сухой и теплый, нежная, чистая линия гор окружала ярмарочную площадь. Когда в полдень ворота открылись, простаки хлынули в таких количествах, каких мы не ожидали до уик-энда. На ярмарке, на этом фантастическом ткацком станке, в ход шли и экзотические зрелища, и запахи и звуки, из которых ткали ослепительную ткань, приводящую в восторг простаков, привычную и исключительно удобную ткань, которую мы, балаганщики, накидывали на себя весело, с облегчением после двух дней дождя, после смерти нашего «толкача». Среди звуковых нитей были: музыка с карусели, «Стриппер» Дэвида Роуза, вырывавшийся из динамиков в одном из балаганов, рев мотоцикла, на котором какой-то сорвиголова носился по «деревянной стене смерти», скрип и скрежет каруселей, свист сжатого воздуха, вертевшего металлические кабинки «тип-топа», рокот работающих на полную мощность дизелей, разливающийся соловьем зазывала с «десяти в одном», мужской и женский смех, крики и хохот детей, несущиеся отовсюду голоса зазывал: «Сейчас я тут такое устрою!» Становясь тканью на стенке, протягивались через челнок волокна запахов, нити ароматов: запах жира с кухонь, горячего попкорна, горячих очищенных земляных орехов, дизельного топлива, опилок, сладостей, расплавленной карамели в благоухающем паре, поднимающемся из чанов за стойками. Звуки и запахи были тканью ярмарочного наряда, но зрелища были красками, благодаря которым она вся сверкала: некрашеная полированная сталь яйцевидных капсул «бомбардировщика», падая на которые солнечный свет будто плавился и растекался мерцающими серебристыми струйками ртути; вертящиеся красные кабинки «тип-топа»; блеск золотых цехинов, сверкающие брызги и сияющие полосы на костюмах девиц из игривых шоу, дефилирующих по круглым платформам, дразня и намекая на прелести, которые предстанут взорам посетителей внутри палаток; красные, синие, оранжевые, желтые, белые, зеленые вымпелы, трепещущие на ветру, точно крылья тысячи привязанных за лапку попугаев; гигантское смеющееся лицо клоуна на фасаде балагана, с тем же красным носом; круговерть медных шестов карусели. Это волшебное одеяние ярмарки было раскрашено во все цвета радуги, со множеством потайных карманов, вычурно скроенное и сшитое. Стоило надеть его, и все заботы реального мира исчезали. В отличие от простаков и большинства балаганщиков, я не мог убежать от всех своих бед в свистопляску ярмарки, потому что я ждал, когда в аллею войдут первые гоблины. Но день перешел в сумерки, сумерки уступили место вечеру, а ни один из демонов не появился. Их отсутствие не успокоило и не обрадовало меня. Йонтсдаун был их гнездом, рассадником, и на ярмарке гоблинов должно было быть больше, чем обычно. Я знал, почему они держатся в стороне. Они ждали настоящего развлечения в конце недели. На сегодняшний вечер в расписании не стояло ни одной трагедии, ни одного парада крови и смерти, поэтому они ждали до завтра или до послезавтра. Тогда они явятся скопом, не меньше сотни, и все будут стремиться попасть на чертово колесо. И если все пойдет по их плану, на колесе скорее всего произойдет «механическая неполадка», из-за которой оно либо рухнет, либо развалится. В день, на который будет намечено это событие, они и явятся на ярмарку.* * *
В тот вечер, когда простаки ушли, на ярмарке погасли все огни, кроме ламп карусели — балаганщики собрались там, чтобы отдать последний долг Студню Джордану. Несколько сот человек окружили карусель. На стоящих в первых рядах падал янтарный и красный свет, который при данных обстоятельствах, казалось, исходил от свечей в храме, а те, кто находился в отдалении в этом своеобразном нефе на открытом воздухе, стояли либо в почтительной тени, либо в скорбном мраке. Некоторые забирались на ближайшие карусели, иные залезали на грузовики, стоящие вдоль центра ярмарки. Все молчали, как молчали они в понедельник утром, когда обнаружили тело. Урну с прахом Студня водрузили на одно из сидений. По обеим сторонам стояли в почетном карауле русалки, горделивый кортеж лошадей сопровождал катафалк спереди и сзади. Артуро Сомбра включил двигатель, приводящий в движение карусель, но не включил музыкальное сопровождение карусели. Карусель закружилась в тишине, и Дули Монета прочитал избранные отрывки из «Волынщика у ворот рассвета» — главы из книги Кеннета Грэма «Ветер в ивах», ибо такое желание Студень высказал в своем завещании. Наконец мотор карусели заглох. Лошади плавно скользнули и замерли. Огни погасли. Мы отправились домой, и Студень Джордан тоже.* * *
Райа мгновенно заснула, но я никак не засыпал. Я лежал и размышлял о Джоэле Таке, беспокоился о чертовом колесе и о видении залитого кровью лица Райи, думал о планах, которыми, возможно, уже сейчас заняты гоблины. Ночь еле тянулась. Я проклинал свой Сумеречный Взгляд. Бывают такие минуты, когда я жалею, что не родился на свет без всяких психических способностей, особенно без способности видеть гоблинов. Ничто порой не кажется желаннее полного неведения, с которым остальные люди болтаются среди гоблинов. Может, оно и лучше — не знать, что эти твари находятся среди нас. Лучше, чем видеть... а потом чувствовать себя беспомощным, загнанным, подавленным численным превосходством противника. Незнание по крайней мере могло бы вылечить от бессонницы. Правда, если бы я не видел гоблинов, я бы уже скорее всего был мертв, пав жертвой садистских игр моего дядюшки Дентона. Дядя Дентон. Пришло время поговорить об изменено гоблине, скрывавшемся в обличье человека в моей собственной семье. Его обличье было настолько безукоризненным, что даже отточенное лезвие топора оказалось неспособно стесать фальшивую личину и открыть скрывшегося внутри монстра. Сестра моего отца, тетя Пола, была замужем первым браком за Чарли Форстером, и от этого союза на свет появился сын Керри, в тот самый год и месяц, когда у моих стариков родился я. Но Чарли умер от рака — тоже своего рода гоблина, сожравшего его изнутри, и упокоился в земле, когда и Керри, и мне было по три года. Тетя Пола жила одна десять лет и в одиночку растила Керри. Но затем в ее жизни возник Дентон Гаркенфилд, и она раздумала коротать дни во вдовстве. Дентон был пришельцем в наших краях, даже не из Орегоны — он был родом из Оклахомы (по крайней мере, так он утверждал), но все приняли его с удивительной готовностью, особенно если учесть, что третье поколение жителей долины обычно называли «пришлыми» большинство тех, кто вел свой род от поселенцев Северо-Запада. Дентон был красив, с мягкой речью, вежливый, скромный, всегда готовый рассмеяться, прирожденный рассказчик с практически неистощимым запасом забавных анекдотов и интересных баек. Это был человек с простыми вкусами, без претензий. Хотя, судя по всему, деньги у него водились, он не тряс ими на каждом углу и не делал вид, будто деньги ставят его выше, чем любого из соседей. Он понравился всем. Всем, кроме меня. В детстве я не был способен ясно видеть гоблинов, хотя и знал, что они отличаются от прочих людей. Порой — хотя и не слишком часто в сельской глуши Орегона — я сталкивался с людьми, в которых было что-то смутное и странное — темный, дымный, клубящийся контур внутри, — и ощущал, что с этим человеком нужно быть осторожным, хотя и не понимал почему. Зато потом, когда взросление начало изменять мой гормональный баланс и обмен веществ, я начал различать гоблинов яснее — сначала смутные очертания, а позже — во всех подробностях. К тому времени, когда Дентон Гаркенфилд приехал к нам из Оклахомы — или из ада, — я только-только начал понимать, что дымный дух внутри этих людей — не просто загадочная новая форма психической энергии, но реальное существо, демон, или чужак-кукольник, или неведомое создание. За те месяцы, что Дентон ухаживал за тетей Полой, моя способность различать спрятавшегося внутри гоблина возросла до такой степени, что ко дню их свадьбы я был в панике при мысли, что она выходит замуж за такое чудовище. Однако, судя по всему, я ничего не мог сделать, чтобы расстроить этот брак. Все остальные считали, что тете Поле просто невероятно повезло найти такого мужчину — всеми любимого и вызывающего всеобщее восхищение, — как Дентон Гаркенфилд. Даже Керри, мой любимый двоюродный брат и лучший друг, ничего не стал слушать против своего нового отца, который покорил его сердце еще раньше, чем сердце тети Полы, и который обещал усыновить его. Моя семья знала, что я ясновидящий, и мои предупреждения и психическая интуиция принимались всерьез. Однажды, когда маме нужно было лететь в Индиану на похороны своей сестры, я уловил тревожные излучения, шедшие от ее авиабилета, и был убежден, что ее самолет потерпит аварию. Я поднял такой шум, что она в последнюю минуту отложила поездку и взяла билет на другой рейс. В действительности крушения первого самолета не случилось, но в воздухе на борту произошел небольшой пожар. Многие пассажиры потеряли сознание от дыма, а трое задохнулись, прежде чем пилоту удалось посадить самолет. Не берусь утверждать наверняка, что моя мать могла стать четвертой жертвой, окажись она на борту, но когда я дотронулся до ее билета, то ощутил не бумагу, но холодную твердую медь ручки гроба. Тем не менее я никогда никому не рассказывал о том, что вижу дымные, клубящиеся очертания чего-то внутри некоторых людей. Во-первых, я не знал, ни что я вижу, ни что это означает. К тому же с самого начала я чувствовал, что окажусь в страшной опасности, если кто-то из этих созданий поймет, что мне известно о его несхожести с другими людьми. Это была моя тайна. И накануне свадьбы тети Полы, когда я наконец уже мог ясно видеть каждую тошнотворную деталь свинорылого и песьеголового гоблина внутри мистера Дентона Гаркенфилда, не мог же я так просто взять и начать бормотать что-то про монстров, маскирующихся под людей, — этому бы просто не поверили. К тому же, хотя точность и значимость находивших на меня время от времени ясновидческих озарений уже не подлежали сомнению, многие не считали мой необычный талант благим даром. Мои способности, как ни редко они использовались, делали меня в глазах многих людей из нашей долины «странным» и, как и все ведуны, непременно психически неустойчивым. Не раз и не два моим родителям заявляли, что за мной нужно внимательно наблюдать — не проявляю ли я признаков мании или зарождающегося аутизма. И хотя мои старики не могли слушать это спокойно, я был уверен, что порой их волновало — не обернется ли мой дар проклятием. Грань между психическими способностями и психической неустойчивостью настолько тонка, что даже моя бабушка, считавшая мой Сумеречный Взгляд прекрасным, чистой воды благословением божьим, и та беспокоилась, как бы я случайно не утратил контроль над своими способностями, которые тогда обернутся против меня и приведут к гибели. Поэтому я и боялся, что, начни я вещать о гоблинах, прячущихся под человеческим обличьем, это лишь усилит опасения тех, кто и так был уверен, что я закончу свои дни в комнате с обитыми мягкой тканью стенами. На самом деле и у меня были сомнения относительно своего психического состояния. Я знал бытующие мнения, к тому же несколько раз я слышал опасения знакомых, высказывающихся моим родителям по поводу моей психики, так что, когда я начал видеть гоблинов, я задумался — не подводит ли меня сознание. И, наконец, я опасался поднимать тревогу. Хотя я боялся гоблина в оболочке Дентона Гаркенфилда и ощущал сильнейшую ненависть, двигавшую им, у меня не было конкретных доказательств того, что он намеревался причинить вред тете Поле, Керри или кому-либо еще. Поведение Дентона Гаркенфилда было образцовым. Кроме того, не стоило поднимать тревогу и потому, что, если бы мне не поверили — а так бы обязательно и было, — я добился бы только одного — предупредил бы дядюшку Дентона об опасности, которую я представляю для всего его племени. Если я не галлюцинировал, если он и в самом деле был смертоносным чудищем, тогда единственное, что я мог сделать, — это привлекать к себе его внимание, создавать такие ситуации, когда я буду один и беззащитен, чтобы на меня легко было напасть. Свадьба состоялась, Дентон усыновил Керри, и несколько месяцев Пола и Керри были так счастливы, как никогда прежде. Гоблин по-прежнему находился внутри Дентона, и я уже засомневался, было ли на самом деле это существо порождением зла или просто... непохожим на нас. В то время как семейство Гаркенфилдов процветало, необычайное количество трагедий и несчастий обрушилось на многие семьи, живущие в долине Сискию, — соседей Гаркенфилдов, и лишь некоторое время спустя я понял, что виновником этой небывалой полосы был дядюшка Дентон. Семья Уитборнов — они жили в полумиле от нас и в миле от дома Гаркенфилда — сгорела в собственном доме, когда в нем взорвалась топка. В пламени погибли трое из шестерых детей Уитборнов. Несколько месяцев спустя, в ущелье Гошаукан, четверо из пяти членов семьи Дженеретов умерли, отравились моноксидом угля, когда клапан их топки по неведомой причине засорился и смертоносные испарения наполнили ночью дом. Ребекка Норфрон, тринадцатилетняя дочь Майлса и Нанны Норфрон, пропала, отправившись на прогулку со своим песиком Хоппи. Ее нашли неделю спустя у границы графства, в двадцати милях от дома, в заброшенном домике. Она не просто была убита — все тело носило следы пыток. Хоппи так и не нашли. Несчастья приблизились и к нашей семье. Моя бабушка упала с лестницы в подвале у себя дома, сломала шею и была обнаружена лишь через день. Я не ходил к ней в дом после ее смерти, и это, возможно, отложило осознание того, что Дентон Гаркенфилд был источником многих несчастий в долине. Если бы я постоял на верхней ступеньке лестницы в погреб, если бы спустился вниз и склонился над местом, где нашли бабушкино тело, я ощутил бы, что дядюшка Дентон приложил руку к ее кончине, и, возможно, сумел бы остановить его прежде, чем он вызовет еще большие страдания. Во время похорон бабушки, притом что она была мертва уже три дня и потому невидимые волны психической энергии должны были ослабнуть, я был настолько потрясен ясновидческими ощущениями жестокости, что свалился с ног и меня отнесли домой. Все решили, что меня лишило сил горе, но дело было в другом — в ясном и ужасном понимании того, что бабушка была убита и умерла страшной смертью. Но я не знал, кто убил ее, и у меня не было ни малейшего доказательства, свидетельствующего, что убийство и в самом деле имело место. К тому же мне было всего четырнадцать — возраст, когда никто не станет слушать тебя, а меня уже считали странным, так что я запер рот на замок. Я знал, что дядюшка Дентон — нечто большее или меньшее, чем просто человек, но я не сразу заподозрил в убийстве его. У меня все еще были сомнения на его счет, потому что тетя Пола и Керри очень любили его, и он был так добр ко мне — всегда шутил со мной, проявлял, казалось, неподдельный интерес к моим успехам в школе и в юношеской сборной по борьбе. Они с тетей Полой дарили мне замечательные подарки на Рождество, а на день рождения он подарил мне несколько книг Роберта Хайнлайна и Э. И. ван Фогта, а к ним — новенькую, хрустящую пятидолларовую купюру. Я не видел, чтобы он творил что-то, кроме добрых дел, и хотя я чувствовал, что он прямо-таки исходит ненавистью, я все же сомневался, не придумал ли я ярость и отвращение, которые ощущал в нем. Если бы обычный человек учинил бойню с таким размахом, психический осадок от этого злодейства остался бы в нем, и рано или поздно я бы его обнаружил. Но гоблины не излучают ничего, кроме ненависти, и поскольку я не чувствовал никакой особенной вины в ауре дядюшки Дентона, я не заподозрил в нем убийцу моей бабушки. Но я заметил, что, когда кто-нибудь умирал, Дентон проводил с семьей покойного больше времени, чем любой из друзей или родных. Он всегда был тут как тут с советом и сочувствием, вовремя подставлял свое надежное плечо, чтобы на него опереться, и жилетку, чтобы в нее поплакаться, выполнял разные поручения для семьи усопшего, помогал как только мог и постоянно заходил с визитом в осиротевшую семью даже после похорон любимого человека — просто проведать их, узнать, как у них дела и не может ли он чем-нибудь им помочь. Повсюду его превозносили за сочувствие, человечность и щедрость, но он скромно отказывался от похвал. Это смущало меня еще сильнее. Особенно это смущало меня, когда я видел внутри него гоблина, который при людском горе непременно скалился пуще прежнего и даже, казалось, питался несчастьями скорбящих. Кто был настоящий дядя Дентон: злорадное чудовище или добрый сосед и верный друг? Я все еще не дал себе какого-нибудь ответа на этот вопрос, когда восемь месяцев спустя моего отца раздавило насмерть его собственным трактором «Джон Дир». Он работал на этом тракторе, выкорчевывая большие камни на новом поле, которое собирался обрабатывать, — участке в двадцать акров, не видном из нашего дома и окруженном лесом, протянувшим к Сискию свою жадную руку. Его обнаружили сестры, когда пошли поглядеть, почему он не пришел домой на обед, а я узнал о случившемся, только вернувшись со школьных соревнований по борьбе часа два спустя. («О, Карл, — сказала тогда Дженни, прижавшись ко мне, — бедное его лицо, бедное его лицо, все черное и мертвое, бедное его лицо!») К этому времени тетя Пола и дядя Дентон уже сидели у нас. Он стал той скалой, на которую могли опереться мать и сестры. Он попытался утешить и меня, и его горе и сострадание казались искренними, но я видел, как внутри плотоядно ухмылялся гоблин, буравя меня жгучим красным глазом. Хотя я почти готов был поверить, что скрытый внутри его демон — плод моего воображения или даже доказательство моего прогрессирующего безумия, я все же убежал от него и старался по возможности избегать его. Сначала у шерифа графства были подозрения по поводу смерти отца, потому что некоторые ранения на его теле вряд ли можно было объяснить опрокинувшимся трактором. Но поскольку ни у кого не было повода убивать отца и поскольку не было никаких других улик, способных указать на насильственную смерть, шериф в конце концов пришел к заключению, что папу убило не сразу в тот момент, когда трактор упал, придавив его, что он некоторое время агонизировал и этим были вызваны непонятные увечья. Во время похорон я упал в обморок, как это случилось год назад на похоронах бабушки, и по той же причине: разрушительная волна психической энергии, бесформенный нарастающий поток жестокости обрушился на меня, и я понял, что моего отца тоже убили. Но я не знал, кто и как. Два месяца спустя я наконец собрался с духом и сходил на поле, где произошел несчастный случай с отцом. Ни секунды не колеблясь, я направился к тому самому месту, где он погиб, и когда я опустился на колени на землю, принявшую его кровь, меня посетило видение: дядя Дентон бьет отца в висок обрезком трубы, избивает до потери сознания и опрокидывает на него трактор. Отец пришел в себя и прожил еще пять минут, а дядюшка Дентон стоял над ним, глядел и наслаждался. Я не вынес ужасов этой сцены и лишился чувств, придя в себя через несколько минут. Голова страшно болела, руки судорожно вцепились в комья влажной земли. Два последующих месяца я тайно вел расследование. Дом бабушки был продан вскоре после ее смерти, но я отправился туда, когда новых владельцев не было дома. Я пролез через окошко в фундаменте, которое, как я знал, было без засова. Постояв внизу, а затем наверху лестницы в погреб, я уловил смутные, но безошибочные психические образы, которые убедили меня в том, что Дентон столкнул ее вниз, спустился по ступеням и сломал ей шею, когда падение не довершило дела, как он планировал. Я начал размышлять о необычно долгой череде злосчастий, которую жители нашей долины переживали на протяжении последних двух лет. Я сходил на засыпанное булыжником пепелище дома Уитборнов, где в пламени погибли трое детей. Пока людей, купивших дом, принадлежавший ранее Дженереттам, не было дома, я проник внутрь и возложил руки на топку, откуда вытекли смертоносные испарения. И в том, и в другом случае я почувствовал сильное психическое ощущение, указывавшее на то, что здесь замешан Дентон Гаркенфилд. Когда мама однажды в субботу отправилась в столицу графства за покупками, я поехал с ней. Пока она ходила по магазинам, я пробрался к заброшенному дому, в котором был обнаружен истерзанный, израненный труп Ребекки Норфрон. И там тоже психическому взгляду был доступен кровавый след Дентона Гаркенфилда. При всем при этом у меня не было никаких улик. Моя история о гоблинах и о том, что я только сейчас раскусил истинную сущность Дентона Гаркенфилда, удостоилась бы не большего доверия, чем два года назад. Если я прилюдно обвиню его, не имея возможности отправить его за решетку, я, несомненно, стану очередной жертвой «несчастного случая» в долине. Мне нужно было добыть доказательства, и я надеялся раздобыть их, подкараулив момент и уловив предупредительное излучение его следующего преступления. Если я буду знать, где он собирается нанести удар, я смогу подоспеть туда и этаким драматическим манером вмешаюсь, после чего очередная жертва — спасенная лишь благодаря моему вмешательству — даст против него показания, и его посадят в тюрьму. Я страшился такого столкновения, боялся, что все испорчу и дело кончится тем, что мой труп ляжет рядом с трупом жертвы, которую я хотел спасти, но я не видел толку в любых иных действиях. Я начал проводить больше времени с дядюшкой Дентоном, хотя его отталкивающая двойственная сущность приводила меня в ужас, надеясь, что, находясь рядом с ним, мне легче будет уловить предчувствие, чем вдали от него. Но, к моему удивлению, прошел год, а никаких событий, которых я ожидал, не произошло. Я и в самом деле ощущал несколько раз, как вздымается внутри него жестокость, но я не ощущал никаких образов надвигающейся бойни. И каждый раз, как его злоба и ярость достигали невиданной, казалось, силы, каждый раз, как я думал, что теперь-то он должен нанести удар, чтобы ослабить внутреннее давление, он ненадолго уезжал — то по делам, то в небольшой отпуск вместе с тетей Полой. И каждый раз он возвращался в более уравновешенном состоянии — ненависть и ярость не исчезали, но ослабевали в нем. Я подозревал, что он причиняет людям страдания там, куда уезжает, опасаясь приносить слишком много несчастий близко от собственного дома. Когда мы были рядом, мое ясновидение не могло мне открыть замыслов этих преступлений, потому что, пока он не отправлялся — куда бы он ни ездил — и не находил возможности творить зло, он и сам не знал, где и как нанесет следующий удар. Затем, после того как долина целый год жила в мире, я начал ощущать, что он намеревается вновь развернуть войну на прежнем поле боя. Хуже того, я чувствовал, что он собирается убить Керри, моего двоюродного брата, своего приемного сына, которому он дал свою фамилию. Если живущий внутри него гоблин питается человеческой мукой, как я уже начал подозревать, тогда после смерти Керри его ждет неслыханное пиршество. После смерти мужа, много лет назад, тетя Пола была глубоко привязана к сыну, и потеря Керри добьет ее — а гоблин будет рядом с ней не только на похоронах, но двадцать четыре часа в сутки, по семь дней в неделю, упиваясь ее агонией и отчаянием. Когда ненависть гоблина начала день ото дня становится все сильнее, когда предзнаменования надвигающейся жестокости стали все более ощутимы для моего шестого чувства, я просто обезумел — я не мог уловить ни места, ни времени, ни способа, которым будет совершено грядущее убийство. Ночью, накануне того, как это произошло, меня мучили кошмары — Керри умирал в лесах Сискию под величественными елями и соснами. В этом сне он ходил по лесу кругами, заблудившись, умирая от того, что его бросили на произвол судьбы, а я все бежал за ним с одеялом и с термосом, полным горячего шоколада, но он почему-то не слышал и не видел меня, умудряясь каким-то образом все время держаться впереди — пока я не проснулся не только от страха, но и от ощущения катастрофы. Даже шестым чувством я не мог извлечь из эфира никаких других подробностей, но утром отправился к Гаркенфилдам, чтобы предупредить Керри об опасности. Я не знал, как лучше завести речь об этом и как рассказать ему все, чтобы убедить, но я знал, что должен немедленно предупредить его. Пока я шел туда, я перебрал в уме добрую сотню подходов и от всех отказался. Однако когда я пришел, никого не оказалось дома. Я слонялся вокруг часа два и наконец отправился домой, решив вернуться попозже, где-нибудь к обеду. Больше я никогда не видел Керри — живым. Ближе к вечеру мы узнали, что дядя Дентон и тетя Пола беспокоятся, куда мог деться Керри. Утром, когда тетя Пола уехала в округ по своим делам, Керри сказал Дентону, что идет в горы, в леса за домом — немного побраконьерствовать, и добавил, что вернется самое позднее часам к двум. По крайней мере, так утверждал Дентон. В пять часов о Керри все еще не было ни слуху ни духу. Я ожидал самого худшего, потому что браконьерство — это было совершенно непохоже на брата. Я не мог поверить, чтобы он сказал Дентону подобную вещь или что он отправился в горы в одиночку. Дентон заманил его в Сискию под тем или иным предлогом, а затем... избавился от него. Поисковые отряды почти всю ночь прочесывали подножия гор, но безуспешно. На заре они вышли на поиск в большем составе, со сворой бладхаундов. Я был с ними. Я никогда раньше не пользовался ясновидением для розысков такого рода. Поскольку я не умел контролировать свои способности, я не надеялся, что почувствую что-нибудь важное, и даже не сказал никому, что надеюсь на свой дар. К моему удивлению, через пару часов, идя впереди собак, я почувствовал серию всплесков психической энергии и обнаружил труп в глубокой узкой лощине, у подножия каменистого склона. Керри был так страшно избит, что было трудно поверить, что все эти увечья он получил при падении по откосу оврага. При иных обстоятельствах окружной коронер нашел бы более чем достаточные доказательства для вынесения заключения о насильственной смерти, но тело было не в том состоянии, которое позволяло бы сделать тщательный анализ судмедэксперта, тем паче проведенный простым окружным терапевтом. За ночь животные — может, еноты, может, лисы, лесные крысы или ласки — объели тело. Они выели ему глаза, вгрызлись во внутренности. Все лицо было в укусах, кончики пальцев были отъедены. Несколько дней спустя я напал на дядюшку Дентона с топором. Я помню, как яростно он сражался, и помню собственные мучительные сомнения. Но я размахивал топором, не поддаваясь своим опасениям. Мной руководило инстинктивное понимание того, как быстро, играючи он уничтожит меня, стоит мне выказать хоть малейшие признаки усталости или сомнения. Что я запомнил яснее всего, так это то, как опускался топор в моих руках, обрушиваясь на него: это было как само правосудие. Зато я совершенно не помню, как возвращался домой от Гаркенфилдов. Какое-то мгновение я стоял над трупом Дентона, а затем сразу оказался под сенью ели Брюэра на ферме Станфеуссов, вытирая окровавленное лезвие топора ветошью. Выйдя из транса, я уронил топор и тряпку. Мало-помалу до меня стало доходить, что полям скоро потребуется плуг, что подножия холмов скоро зазеленеют и оденутся в прекрасные весенние наряды, что Сискию выглядят величественнее, чем всегда, и что небо — пронзительное, до боли голубое, и только на востоке собираются и подтягиваются в нашу сторону темные шапки зловещих грозовых туч. Я стоял так, залитый солнечным светом, а странные сумрачные тени надвигались на меня, и даже без ясновидческих способностей я понял, что скорее всего в последний раз гляжу на этот дорогой мне край. Накатывающиеся тучи были предзнаменованием грозного, лишенного солнца будущего, которое я сам себе уготовил, напав на Дентона Гаркенфилда с остро отточенным топором. И сейчас, когда от тех событий меня отделяли четыре месяца и тысячи миль, лежа в темноте спальни рядом с Райей Рэйнз и прислушиваясь к ее ровному сонному дыханию, я должен был проехать на поезде памяти до конца маршрута, прежде чем сойти с него. Непроизвольно дрожа, покрывшись легким холодным потом, я вспомнил последний час, прожитый дома, в Орегоне: как я поспешно паковал рюкзак, испуганные расспросы матери, мой отказ рассказать ей, в какие неприятности я втравил себя, смесь любви и страха в глазах сестер, то, как они стремились обнять и утешить меня, но отшатывались, завидев кровь у меня на руках и на одежде. Я знал, что бессмысленно рассказывать им про гоблинов — даже если они и поверили бы мне, они все равно ничего не смогли бы сделать. А я не хотел взваливать на них такую ношу, как мой крестовый поход против демонов, потому что уже тогда я начал подозревать, что этим все дело и обернется — крестовым походом. Поэтому я просто ушел, задолго до того, как обнаружили тело Дентона Гаркенфилда. Позже я послал матери и сестрам письмо, в котором намеками давал им понять, что Дентон был причастен к гибели отца и Керри. Последняя остановка поезда памяти на чем-то самом тяжелом: мама, Дженни и Сара стоят на переднем крыльце. Все трое всхлипывают, смущенные, напуганные, в страхе за меня и в страхе из-за меня, брошенные на произвол судьбы в мире, становящемся холодным и мрачным. Конец маршрута. Благодарение господу. Измотанный, но странным образом очищенный этой поездкой, я повернулся на бок, лицом к Райе, и погрузился в глубокий сон, оказавшийся, впервые за много дней, полностью лишенным сновидений.* * *
Утром, во время завтрака, чувствуя себя виноватым за все мои тайны, которые так долго от нее скрывал, и стараясь подвести ее к тому, чтобы сказать о неведомой угрозе, подстерегающей ее, я рассказал ей о своем Сумеречном Взгляде. Я не обмолвился о способности видеть гоблинов — поведал лишь обо всех остальных психических талантах, особенно о ясновидческой способности ощущать надвигающуюся опасность. Я рассказал ей про авиабилет матери, который произвел впечатление не бумаги, но медной ручки гроба, и припомнил другие, не столь драматические случаи верного предчувствия. Для начала этого было достаточно. Если бы я принялся распространяться про гоблинов, скрывающихся под человеческой личиной, набор оказался бы чересчур велик, чтобы вызвать доверие. К моему удивлению и удовольствию, она приняла то, что я сказал, с куда большей легкостью, чем я ожидал. Сперва ее рука то и дело тянулась к кружке с кофе, и она нервно прихлебывала это варево, как будто этот обжигающий, слегка горьковатый напиток был пробным камнем, на котором она могла время от времени проверять себя, чтобы выяснить, снится ей это или происходит на самом деле. Но вскоре она была уже захвачена моими словами, и стало совершенно ясно, что она поверила. — Я же знала, что в тебе есть что-то особенное, — сказала она. — Не говорила ли я этого не далее как прошлой ночью? Это, знаешь ли, было не просто любовное сюсюканье. Я хотела сказать, что на самом деле ощущала что-то особенное... Что-то уникальное и необычное в тебе. И я была права! У нее возникла масса вопросов, и я отвечал на них так хорошо, как мог, избегая, однако, всякого упоминания о гоблинах или о смертоносных шалостях Дентона Гаркенфилда в Орегоне, чтобы не подорвать ее доверие. В ее реакции на мои откровения я ощущал и изумление, и — как мне показалось — страх, хотя второе чувство было не таким ясным, как первое. Открыто она выражала лишь изумление, стараясь спрятать от меня испуг, и ей удавалось это настолько успешно, что, несмотря на свои психические ощущения, я все равно сомневался, не придумываю ли я все это. Наконец я потянулся через весьстол, взял ее руки в свои и сказал: — У меня есть некая причина, чтобы рассказывать тебе это. — Какая? — Прежде мне надо знать, собираешься ли ты серьезно... — Собираюсь ли я серьезно что? — Жить, — спокойно сказал я. — На той неделе... ты говорила про океан во Флориде, о том, чтобы плыть все дальше и дальше, пока руки не нальются свинцом... Она неубедительно произнесла: — Это была просто болтовня. — А четыре ночи назад, когда мы залезли на чертово колесо, тебе, кажется, почти хотелось, чтобы молния ударила в тебя там, среди балок. Она отвела взгляд, поглядела на пятна яичного желтка и крошки от тостов на своей тарелке и ничего не ответила. С любовью, которая слышалась в моем голосе так же, как в речи Люка Бендинго нельзя было не слышать заикания, я сказал: — Райа, в тебе есть... какая-то странность. — Ну, — отозвалась она, не поднимая глаз. — С того момента, когда ты рассказала мне про Эбнера Кэди и про свою мать, я начал понимать, почему на тебя время от времени опускается темнота. Но из-за того, что я это понимаю, спокойнее за тебя мне не становится. — Тебе незачем беспокоиться, — тихо сказала она. — Посмотри мне в глаза и скажи. Ей потребовалось много времени, чтобы оторвать взгляд от остатков завтрака, но ее глаза честно смотрели в мои, когда она сказала: — У меня бывают такие... приступы... депрессии... иногда кажется, что дальше жить невыносимо. Но я никогда полностью не подчиняюсь этим мыслям. О, я никогда не... покончу с собой. Об этом ты не волнуйся. Я всегда смогу выкарабкаться из этих страхов и продолжать жить, потому что у меня есть две чертовски важные причины не сдаваться. Если я сдамся, Эбнер Кэди победит, разве не так? А я не должна этого допустить. Я должна продолжать жить, создавать свою маленькую империю и творить из себя кого-то, потому что каждый день, который я проживу, каждый мой успех — это победа над ним, так ведь? — Да. А вторая причина? — Ты, — ответила она. Я надеялся, что ее ответ будет именно таким. Она продолжала: — С тех пор, как ты вошел в мою жизнь, у меня появилась вторая причина, чтобы жить. Я притянул ее руки к себе и поцеловал их. Внешне она казалась сравнительно спокойной — хоть и на грани слез, но внутри ее бушевала буря смятенных чувств, смысла которой я не понимал. Я сказал: — Ну ладно: Вместе мы нашли что-то, ради чего стоит жить, и самое страшное, что может теперь случиться, — это если мы каким-то образом потеряем друг друга. Так что... я не хочу тебя пугать... но я ощутил... своего рода предупреждение... и оно меня беспокоит. — Оно касается меня? — спросила она. — Да. Ее прекрасное лицо омрачилось. — Оно... действительно дурное? — Нет-нет, — солгал я. — Это просто... я смутно чувствую, что какая-то беда движется в твою сторону, поэтому я бы хотел, чтобы ты была осторожной, когда меня рядом нет. Не испытывай судьбу, никакого риска... — Какого рода? Что за риск? — Ну, я не знаю, — ответил я. — Не залезай никуда высоко, особенно на чертово колесо, пока я не почувствую, что опасность миновала. Не води слишком быстро машину. Будь внимательна. Будь настороже. Возможно, это все ерунда. Возможно, я раскис и разнервничался, потому что ты мне так дорога. Но тебе не повредит, если будешь слегка настороже, пока я не получу более ясного предупреждения или пока не почувствую, что беда прошла. Договорились? — Договорились. Я не стал говорить ей об ужасном видении, в котором она была вся в крови, потому что не хотел пугать ее. Это ничего не прибавит и даже усилит опасность, встававшую перед ней, потому что, измотанная растянутым и непрекращающимся страхом, она может не прислушаться ни к инстинкту самосохранения, ни к голосу рассудка, когда опасность в самом деле придет. Я хотел, чтобы она была осторожна, а не жила в постоянном страхе. И когда некоторое время спустя мы вышли на ярмарку и, поцеловавшись, разошлись, я почувствовал, что она почти дошла до этого, желанного для меня, состояния. Августовское солнце струило золотой свет на ярмарку, в ясном голубом небе парили птицы. Пока я готовил к работе силомер, мое настроение неуклонно повышалось, и я начал чувствовать, что стоит мне захотеть — и я взлечу и окажусь среди птиц. Райа открыла свой тайный стыд и ужас детства в Аппалачах, а я рассказал ей тайну моего Сумеречного Взгляда, и, поделившись друг с другом этими долго скрываемыми секретами, мы установили очень важный контакт. Ни один из нас больше не был одинок. Я не сомневался, что скоро она откроет мне и другой секрет, историю своей жизни в детдоме, и когда она сделает это, я смогу узнать, насколько она мне верит, намекнув ей про гоблинов. Я очень надеялся, что, прожив со мной больше, она в один прекрасный день сможет принять мой рассказ о гоблинах за правду, пусть даже она сама не обладает способностью видеть эти создания и не может проверить мои ощущения. Конечно, впереди еще оставались проблемы: загадочный Джоэль Так, планы гоблинов, касающиеся чертова колеса, — возможно, именно они, а может, и нет, будут той опасностью, что нависла над Райей; проблемой было само наше присутствие в Йонтсдауне, где демоны в изобилии занимали руководящие кресла, с которых могли обрушить на нас немыслимые несчастья. И тем не менее я впервые был уверен, что одержу победу, что смогу отвести катастрофу от чертова колеса, что сумею спасти Райю и что моя жизнь наконец-то попала в колею, ведущую вверх. Светлей всего бывает как раз перед темнотой.Глава 15
СМЕРЬ
Вся вторая половина дня и ранний вечер четверга были клубком светлых нитей, разматывавшимся без единого узелка: приятно теплый день без иссушающей жары, легкая влажность, слабый ветерок, навевающий прохладу, но ни разу не усилившийся до такой степени, чтобы возникли проблемы с палатками, тысячи простаков, готовых расстаться со своими денежками, и никаких гоблинов. Но наступила темнота. Сперва гоблины начали попадаться мне на глаза на аллее. Их было немного, всего полдюжины, но их вид под личинами был ужаснее, чем обычно. Их рыла, казалось, трепетали отвратительней, горячие угли глаз светились ярче, чем всегда, а лихорадочная ненависть была куда сильнее обычной злобы, с которой они всегда относились к нам. Я чувствовал, что они уже миновали точку кипения и собираются на дело — на разрушение, которое отчасти ослабит давление, нарастающее внутри них. Затем мое внимание переместилось на чертово колесо, которое стало претерпевать изменения, недоступные ничьим глазам, кроме моих. Вначале громадный механизм показался мне еще больше, чем он был на самом деле, потом он стал медленно подниматься, словно был живым существом, которое до сих пор горбилось, чтобы скрыть свои истинные размеры. На моих глазах оно росло и разбухало, пока не стало не просто главным сооружением ярмарки (каковым оно и было), но подлинно огромным механизмом, громоздящимся, подобно башне, и способным при падении сокрушить все на ярмарке. К десяти вечера сотни огней по контуру колеса как бы утратили свою силу — тускнели с каждой минутой, пока к одиннадцати часам гигантское колесо не стало совершенно темным. С одной стороны, я видел, что лампочки горят, как прежде, и стоило мне уголком глаза покоситься на колесо, я удостоверялся, что его сияющие украшения на месте, но когда я смотрел на него более пристально, я видел зловещее, угрожающе темное и громадное чертово колесо. Оно тяжело поворачивалось на фоне черного неба, словно одна из ветряных мельниц господа бога — та, что без устали размалывает муку страдания и несчастья. Я знал, что означает это видение. Катастрофа на чертовом колесе произойдет не сегодня, однако фундамент трагедии будет заложен вскоре, ночью, когда ярмарка закроется. Те полдюжины гоблинов, что я видел, были отрядом коммандос. Они останутся на ярмарке после закрытия. Когда все балаганщики отправятся спать, демоны выберутся из своих потаенных укрытий, объединятся и испортят чертово колесо, как они собирались сделать в воскресенье, когда им помешал Студень Джордан. А потом, завтра, смерть придет к невинным посетителям ярмарки, вознамерившимся сделать круг на большом колесе. К полуночи допотопная махина чертова колеса, какой ее видели мои Сумеречные Глаза, была не только лишена света — колесо было словно огромный безмолвный двигатель, который вырабатывал и разбрасывал вокруг себя темноту — все более мрачную. Оно было сейчас очень похоже на тот холодный и вселяющий тревогу образ, который я видел в первую ночь на ярмарке братьев Сомбра — на прошлой неделе, в другом городе. Но теперь это впечатление было куда сильнее и тревожнее. Ярмарка начала сворачиваться около часу ночи, и, несмотря на мое обычное усердие и трудолюбие, я был одним из первых, кто закрывал аттракционы. Я уже закрыл силометр и складывал дневную выручку, когда заметил на дорожке Марко. Я подозвал его и уговорил отнести деньги к Райе в трейлер, а заодно передать ей, что у меня есть одно важное дело и что я приду поздно. Гирлянды и панели ламп гасли от одного конца аллеи до другого, над входами в палатки опускались и завязывались тенты, балаганщики поодиночке и небольшими группками тянулись с ярмарки, я же тем временем легким шагом и с как можно более беззаботным видом направился к центру ярмарочной площади и, убедившись, что никому не попался на глаза, плюхнулся на землю и заполз в тень под грузовиком. Я лежат там около десяти минут. Солнце не касалось этого места своими горячими пальцами два последних дня, и накопившаяся сырость стала пробираться мне под одежду; усилив озноб, начавшийся у меня еще раньше, когда я заметил первые изменения, происходящие с чертовым колесом. Последние огни погасли. Последние генераторы были отключены и замерли с пыхтением и грохотом. Последние голоса удалились, смолкли. Я подождал еще пару минут и вылез из-под грузовика. Встал, прислушался, перевел дух, снова прислушался. После какофонии работающей ярмарки молчание ярмарки отдыхающей было сверхъестественным. Ничего. Ни звука. Ни скрежета. Ни шороха. Осторожно двигаясь по незаметной тропке среди мест, где ночь была темнее из-за нагромождения теней, я подкрался к «сюрпризу», остановился у трапа, ведущего на карусель, и снова внимательно прислушался. И снова ничего не услышат. Я осторожно переступил через цепь перед трапом и на четвереньках вскарабкался наверх, чтобы не выдать себя отчетливо заметным силуэтом. Трап был сделан из небольших дощечек, подогнанных на совесть, а на мне были теннисные туфли, так что, поднимаясь, я практически не произвел ни звука. Но на самой платформе нелегко было скрыться — час за часом, день за днем вибрация от стальных колес карусели проходила через ограждение на дощатый пол платформы, в результате скрип и треск, словно термиты, поселились в каждом стыке. Платформа «сюрприза» была с наклоном назад, и на пути к ее верхней части я все время держался внешнего ограждения, где дощатое покрытие было прочнее и меньше протестовало против каждого шага. И все же мое продвижение сопровождалось несколькими короткими резкими звуками, прозвучавшими пугающе громко в невероятной тишине пустынной ярмарки. Я пытался убедить себя, что гоблины, если они вообще что-то услышали, решат, что эти вырвавшиеся звуки — результат усадки строений, но все равно всякий раз я вздрагивал, когда под ногами скрипело дерево, — у меня по коже шли мурашки. Через несколько минут я прошел все кабинки «сюрприза», похожие на гигантских улиток, спящих в темноте, и дошел до верхней части платформы, примерно футах в десяти над землей. Там я сжался у ограждения и оглядел закутавшуюся в ночь ярмарку. Я выбрал этот наблюдательный пункт потому, что с него мог видеть фундамент чертова колеса, а кроме того — большую территорию ярмарки, чем с любого другого места (если, конечно, не залезать наверх), и еще потому, что там я был практически невидим. С предыдущей недели ночь отвоевала некоторое пространство у луны. Теперь помощи от нее было меньше, чем тогда, когда я преследовал гоблина до павильона электромобилей. С другой стороны, лунные тени обеспечивали мне то же самое надежное убежище, что давало гоблинам чувство безопасности. Выигрыш был равен проигрышу. Но у меня было одно бесценное преимущество. Я знал, что они здесь, а они почти наверняка не подозревали о моем присутствии и не могли знать, что я подбираюсь к ним. Прошло сорок утомительных минут, пока я услышал, что один из чужаков покидает свое укрытие. Удача была на моей стороне, потому что звук — царапанье металла по металлу и тихий скрежет несмазанных петель — шел из места, расположенного прямо передо мной, из-под «сюрприза», оттуда, где по центру аллеи вытянулись грузовики, дуговые лампы, генераторы и прочее оборудование, по обеим сторонам которых тянулись карусели. Возмущенный скрип петель тут же сменился движением, которое я немедленно засек. Темная плита, одна из двойных дверей грузовика, распахнулась в еще большую темноту вокруг, и в двадцати шагах от меня на землю с необычайной осторожностью соскочил человек. Для всех прочих это был человек, для меня же гоблин, и у меня закололо в затылке. В таком слабом свете я плохо видел демона внутри человеческого тела, но не составляло труда разглядеть его блестящие алые глаза. Тварь оглядела ночь и успокоила себя тем, что она в безопасности и никто не наблюдает за ней. После этого гоблин повернулся к открытой двери кузова. Мгновение я колебался, не зная, собирается ли он позвать своих сородичей наружу, но гоблин начал запирать дверь. Я встал, перебросил через ограждение одну ногу, затем другую и на мгновение оказался на виду на балюстраде карусели. Если бы гоблин внезапно обернулся, он бы наверняка увидел меня. Но он не повернулся, и хотя он закрыл дверь и засунул задвижку на место так тихо, как только мог, его действия произвели достаточно шума, чтобы скрыть мое мягкое кошачье приземление. Не обернувшись в сторону густой тени, где скорчился я, гоблин двинулся в сторону чертова колеса, находящегося в паре сотен ярдов дальше по аллее. Я вытащил нож из башмака и двинулся за демоном. Он двигался с величайшей осторожностью. Я тоже. Он почти не шумел. Я не шумел вовсе. Я настиг его возле следующего грузовика. О моем присутствии ему стало известно, лишь когда я набросился на него, обвил ему шею рукой, с силой дернул его голову назад и полоснул по горлу ножом. Когда я почувствовал, что хлынула кровь, я отпустил его, и он рухнул — неожиданно и безвольно, точно марионетка, у которой оборвались веревочки. На земле он дернулся несколько раз, поднимая руки к распоротой глотке, откуда толчками лилась кровь — черная, как нефть в ночной темноте. Он не мог издать ни звука, потому что не мог ни дышать распоротым дыхательным горлом, ни произвести ни одного колебания разрезанной гортанью. Так или иначе, прожил он не больше полминуты, его тело, которое покидала жизнь, слегка содрогнулось, светящиеся красные глаза уставились на меня, и я глядел, как угасает в них огонь. Теперь он казался просто мужчиной средних лет с кустистыми бачками и животиком. Я затолкал труп под грузовики, чтобы какая-нибудь из этих тварей не наткнулась на него и не получила бы тем самым сигнал тревоги. Мне надо будет вернуться за ним позже, чтобы обезглавить и вырыть две могилы подальше друг от друга для его останков. Но сейчас у меня были другие заботы. Счет немного улучшился. Пятеро на одного вместо шестерых на одного. Но ситуация не располагала к веселью. Я попытался обмануть себя, будто не все шестеро из тех, кого я видел на ярмарке, остались после закрытия. Но мне это не удалось. Я знал, что все они здесь, поблизости, так хорошо, как только я могу знать такие вещи. Сердце отчаянно билось, переполняя вены и артерии притоком крови, благодаря чему у меня в голове необычайно прояснилось — ни суматохи, ни головокружений. Напротив, я сделался чувствителен к каждому тончайшему оттенку ночи. Так же, должно быть, чувствует себя лиса на охоте — выслеживает добычу в глуши и в то же время не забывает и о тех, для кого она сама является добычей. Я крался под уменьшившейся луной, держа в руке нож, с которого капала кровь. Лезвие блестело, словно было магическим способом сотворено из маслянистой жидкости. Мотыльки, как снежинки, кружились в воздухе вокруг хромированных столбов, порхали взад и вперед возле всех полированных металлических поверхностей, хоть как-то отражавших слабый свет луны. Я крался от одного укрытия к другому, слушал, смотрел. Беззвучно двигался на четвереньках. Осторожно выглядывал из-за углов. Полз. Карабкался. Скользил. Расслаблялся. Шею мне щекотал комар, его тонкие крылья стремительно двигались. Я чуть было не прихлопнул его, но вовремя сообразил, что этот звук может выдать меня. Тогда я тихонько подвел руку и, когда он начал сосать мою кровь, раздавил его ладонью. Мне казалось, что я услышал что-то возле балагана, хотя, скорее всего, меня направило туда шестое чувство. Громадное клоунское лицо, казалось, подмигнуло мне во мраке, но безо всякого веселья. Напротив, так могла бы подмигнуть Смерть, почтившая тебя своим визитом, чтобы получить с тебя должок, мрачно подмигнуть всеми застенчивыми червями, копошащимися в пустой глазнице. Гоблин — тот, что сел в гондолу балагана перед закрытием и благоразумно вылез из нее, оказавшись внутри аттракциона, — теперь выбирался наружу через огромное отверстие рта клоуна, чтобы попасть на встречу с остальными пятью чужаками возле чертова колеса. Этот был замаскирован под ну-вылитого-Элвиса, с чубчиком, развязного, лет этак двадцати пяти. Я наблюдал за ним, укрывшись в тени билетного киоска, и, когда он поравнялся со мной, нанес удар. На этот раз я не был так быстр и полон сил, как в первый, и чудовищу удалось поднять руку и отразить лезвие, направленное ему в горло. Сталь, заточенная до остроты бритвы, рассекла плоть на предплечье и полоснула по тыльной стороне кисти, а острие вонзилось между костяшками пальцев. Демон издал тонкий, слабый крик, едва различимый, но подавил и его, когда понял, что крик может привлечь не только гоблинов, но и балаганщиков. Кровь лилась из его руки, но демону все равно удалось вырваться. Он неуклюже качнулся в мою сторону, зашатался, в глазах горело стремление к убийству. Прежде чем он восстановил равновесие, я врезал ему между ног. Запертый в ловушке человеческого тела, он был заложником слабостей человеческой физиологии и согнулся пополам, когда из изувеченной мошонки в тело хлынула боль. Я пнул его снова, на этот раз повыше. В тот же миг тварь склонила голову, словно подчиняясь мне, и удар пришелся в подбородок. Он упал навзничь на посыпанную опилками дорожку, и я рухнул на него, глубоко вонзив в горло нож и повернув лезвие. Три-четыре удара обрушились мне на голову и плечи, когда он тщетно пытался сбросить меня, но мне удалось выпустить дух из твари, как воздух из проткнутого воздушного шарика. Задыхаясь, но не забывая о том, что надо хранить молчание, я оттолкнулся от мертвого гоблина — и получил удар сзади, между основанием черепа и шеей. Боль рассыпалась сотней искр, но сознания я все же не потерял. Я упал, откатился в сторону и увидел другого гоблина, набрасывающегося на меня с длинным куском дерева в руках. Я обнаружил, что был настолько оглушен первым ударом, что выронил нож. Я видел, как он глупо блестит в десяти футах от меня, но добраться до него я бы не успел. Под человеческим обликом черные губы оттянулись назад в злобном рычании, и мой третий противник навис надо мной, взмахнув деревяшкой, как будто это был топор, и метя мне в лицо, как я метил в Дентона Гаркенфилда. Я скрестил руки над головой, чтобы спастись от удара, способного проломить череп, и чудовище трижды опустило тяжелую дубинку мне на руки, высекая горячие искры боли из костей, — так кувалда кузнеца высекает искры из наковальни. Затем он сменил тактику и ударил меня по незащищенным ребрам. Я подтянул колени к подбородку, свернулся в клубок и попытался откатиться в сторону, к какому-нибудь предмету, за которым мог бы укрыться от него. Но гоблин преследовал меня со злобным весельем, обрушивая град ударов на мои ноги, ягодицы, спину, бока и руки. Ни один из них не был такой силы, чтобы сломать кости, потому что я все время уклонялся от опускающейся на меня деревяшки, но я не мог долго принимать это наказание и при этом сохранять желание и силы двигаться. Я начал было думать, что я — труп. В отчаянии я прекратил защищать голову и ухватился за дубинку, но демон, возвышаясь надо мной, вперившись в меня, с легкостью вырвал ее, и все, что я получил, — несколько заноз в ладонях и пальцах. Чудовище взмахнуло дубинкой высоко над головой, чтобы обрушить ее вниз с яростью берсеркера или самурая, пришедшего в неистовство. Деревяшка была направлена прямо на меня, она выглядела огромной, как падающее дерево, и я понял, что на сей раз она вышибет из меня либо сознание, либо жизнь. Но вместо этого оружие неожиданно выскользнуло из рук гоблина, отлетело вправо от меня и покатилось по опилкам. И с низким, тяжелым стоном боли, в шоке мой противник рухнул в мою сторону, чем-то сраженный, что казалось чистой воды колдовством. Я вынужден был отползти в сторону, чтобы он не придавил меня, и когда я в недоумении уставился на него, я понял, что спасло меня. Над гоблином стоял Джо-эль Так, и в руках у него была та же кувалда, что и в среду, когда я застал его вбивающим колья палатки позади Шоквилля. Джоэль обрушил кувалду еще раз, и череп гоблина раскололся с глухим звуком, сырым и тошнотворным. Вся битва протекала в полной тишине. Самым громким звуком были удары деревянной дубинки, обрушивающейся то на одну, то на другую часть моего тела, а их было слышно самое большее в сотне футов отсюда. До сих пор раздираемый на части болью и медленно обдумывая случившееся, я оцепенело глядел, как Джоэль выпустил кувалду из рук, ухватил мертвого гоблина за ногу и отволок с дороги, спрятав его в нише, образованной платформой зазывалы балагана и билетным киоском. К тому времени, когда он взялся за второй труп, за ну-вылитого-Элвиса, я уже смог подняться на колени и начал растирать руки, потихоньку изгоняя боль из рук и тела. Я глядел на то, как Так медленно тянет второе тело за будку, чтобы взгромоздить его на первое. Приступ головокружения настроил меня на черный юмор, и я представил себе Джоэля Така возле огромного камина, возвышающимся в удобном кресле, читающим хорошую книгу и прихлебывающим бренди. Время от времени он встает, чтобы вытащить труп из высокого штабеля трупов и засунуть его в камин, где пламя уже наполовину пожрало другие мужские и женские трупы. Если закрыть глаза на то, что тела заменяли обычные поленья, вся сцена носила теплый, домашний характер, и Джоэль даже счастливо насвистывал, шевеля железной кочергой в ворохе горящей плоти. Я почувствовал, как во мне нарастает дикий смех, и понял, что не должен дать ему вырваться, потому что тогда я уже навряд ли смогу остановиться. Мысль о том, что я нахожусь на грани истерики, напугала и потрясла меня. Я помотал головой, прогоняя эту странную сценку у камина из сознания. К тому моменту, как я оклемался достаточно, чтобы попытаться встать, Джоэль был уже рядом и помог мне. В жутком свете ущербной луны его обезображенное лицо казалось не более чудовищным, чем обычно, как можно было бы ожидать, но мягче, не таким угрожающим, словно неумелый рисунок ребенка, скорее изумляющим, чем пугающим. Я прислонился к нему на минуту, вновь ощутив, как он чертовски велик. Когда я наконец попытался заговорить, у меня достало ума просто прошептать: — Я в норме. Ни один из нас ни словом не обмолвился о его случайном появлении, равно как не обсуждалась и готовность, с которой он совершил убийство, хотя сам же заявлял, что в жизни не видел никаких гоблинов. Об этом позже. Если выживем. Я проковылял по тропинке за своим ножом. Остановившись, я на секунду почувствовал головокружение, но пересилил его, вытащил нож из опилок, поднялся на ноги и направился обратно к Джоэлю — язык-за-зубами, бычья-шея, косая-сажень-в-плечах, весь-такой-крутой, по стати и походке — вылитый пьяница, уверенный, что лихо надувает всех, проходя тест на алкоголь. Джоэля мой выпендреж не обманул. Он взял меня за руку, поддержал и помог уйти с дорожки, где мы были на виду, а затем мы бросились к центру ярмарки. Убежище мы нашли в тени возле «гусеницы». — Кости сломаны? — прошептал он. — Вроде нет. — Сильно ранен? — Нет, — ответил я, вытаскивая парочку самых здоровых заноз из ладоней. Серьезных повреждений я избежал, но к утру боль будет невыносимой. Если для меня наступит утро. — Там еще есть гоблины. Минуту он молчал. Мы прислушивались. Вдали послышался печальный гудок поезда. Вблизи — быстрый тихий трепет тонких крыльев мотылька. Дыхание. Наше. Наконец он прошептал: — Сколько их, как думаешь? — Шестеро, должно быть. — Двух убил, — сказал он. — Включая того, что ты у меня на глазах расплющил? — Нет. Тогда трех. Как и я, он знал, что они собираются испортить чертово колесо в эту ночь. Как и я, он решил остановить их. Мне хотелось обнять его. — Двух убил, — прошептал я. — Ты? — Я. — Значит... один остался? — Видимо, так. — Хочешь найти его? — Нет. — Э-э? — Должен найти его. — Верно. — Колесо, — прошептал я. Мы крались по неразберихе, царящей на ярмарке, пока не добрались до колеса. Несмотря на свои размеры, Джоэль Так двигался с грацией легкоатлета и абсолютно тихо. Мы остановились в громоздящихся тенях возле небольшого трейлера, в котором находился генератор. Осмотревшись повнимательней среди оборудования, я увидел шестого гоблина, стоящего у подножия чертова колеса. Этот был замаскирован под высокого, мускулистого мужчину лет тридцати пяти, с вьющимися светлыми волосами. Но он стоял на открытом месте, и вяло падающий на него анемичный лунный свет покрывал его, как тальк покрывает и делает видимым невидимку, поэтому я мог различить внутри также и гоблина, даже с расстояния в тридцать футов. Джоэль прошептал: — Он встревожен. Гадает, где остальные. Надо с ним быстро разделаться... пока не успел испугаться и смыться. Мы подкрались по краю футов на пять ближе к демону и теперь сжались под последним прикрытием. Чтобы добраться до гоблина, нам придется вскочить, обнаружив себя, пробежать двенадцать футов, перепрыгнуть через низкую изгородь и преодолеть еще двенадцать-пятнадцать футов по земле, где повсюду тянулись провода. Разумеется, к тому времени, как мы преодолеем изгородь, наш враг уже бросится спасать свою жизнь, и если мы его не догоним, эта тварь кинется обратно в Йонтсдаун, чтобы предупредить остальных: «На ярмарке есть люди, способные видеть сквозь наши личины!» И тогда шеф Лайсл Келско изыщет причину прочесать ярмарку. Он (оно) заявится во всеоружии с охапкой ордеров на обыск и винтовок и станет совать нос не только в аттракционы и палатки, но и к нам в трейлеры. Он не успокоится до тех пор, пока убийцы гоблинов не будут опознаны среди обычных балаганщиков и тем или иным способом уничтожены. Если же, напротив, шестой гоблин будет убит и тайно похоронен вместе со своими собратьями, Келско будет сильно подозревать, что кто-то на ярмарке несет ответственность за их исчезновение, но у него не будет доказательств. Он может даже и не понять, что «подрывники» были уничтожены потому, что их человеческая маскировка провалилась. Если этот шестой гоблин не вернется в Йонтсдаун с недвусмысленным предупреждением и подробным описанием Джоэля и меня, какая-то надежда есть. Моя правая рука была мокрой от пота. Я яростно вытер ее о джинсы и взялся за острие метательного ножа. Руки болели от полученных побоев, но я был совершенно уверен, что все же сумею кинуть нож как надо. Быстрым шепотом я объяснил Джоэлю свои намерения, и когда гоблин отвернулся от нас, вглядываясь в тени на другой стороне в ожидании своих демонических соратников, я встал, сделал несколько быстрых шагов, застыл и, когда он снова начал разворачиваться в мою сторону, метнул нож со всей силой, быстротой и точностью, на какую был способен. Но я метнул нож на секунду раньше и чуть ниже, чем надо. Чудовище не успело полностью развернуться в мою сторону, и нож глубоко вошел ему в плечо, вместо того чтобы пронзить шею в уязвимой середине. Демон отшатнулся назад и наткнулся на билетный киоск. Я бросился к нему, споткнулся и упал среди кабелей, больно ударившись о землю. К тому времени как Джоэль добежал до чудовища, оно вынуло нож из плеча и шаталось, хотя по-прежнему держалось на ногах. С рычанием и змеиным шипением, явно не имеющим ничего общего с человеческими звуками, гоблин напал на Джоэля, но тот был чрезвычайно ловок для своих габаритов. Выбив нож из руки гоблина, Джоэль сильно толкнул его и, когда тот грохнулся наземь, обрушился на него сверху и задушил его. Я подобрал нож, вытер лезвие о штанину и засунул его обратно в ножны в ботинке. Даже если бы я и смог разделаться со всеми шестью гоблинами без помощи Джоэля, у меня бы просто не хватило сил зарыть всех шестерых. Высокий и мускулистый, он мог тащить два тела сразу, тогда как у меня хватало сил только на одно. Будь я один, мне бы пришлось шесть раз ходить в лес за ярмарочной площадью, вдвоем же нам пришлось проделать этот маршрут только дважды. Кроме того, благодаря Джоэлю рыть могилы вовсе не потребовалось. Мы оттащили тела всего футов на двадцать в глубь леса. Там, на небольшой полянке, окруженной деревьями, словно языческими жрецами в черных рясах, была известняковая шахта, готовая принять трупы. Опустившись на колени возле шахты и направляя луч фонарика Джоэля в ее, казалось, бесконечные глубины, я спросил: — Откуда ты узнал про нее? — Я всегда осматриваю окрестности, когда мы устраиваемся на новой стоянке. Когда находишь такое место, на душе становится легче при мысли, что, если понадобится, можно им воспользоваться. — Так ты тоже на войне, — заметил я. — Нет. Не так, как ты, судя по всему. Я убиваю их, только когда у меня не остается иного выбора, когда они собираются убить балаганщиков или намереваются навредить посетителям ярмарки и свалить всю вину на нас. Я ничего не могу поделать с теми несчастьями, которые они причиняют людям там, в правильном мире. Не то чтобы мне было наплевать на них, понимаешь? Но я один, и я не могу сделать много, самое большее, на что я могу надеяться, — защитить самого себя. Деревья вокруг нас зашелестели своими рясами из листьев. Из шахты донесся запах склепа. — Ты и других гоблинов бросал сюда? — спросил я. — Только двух. В Йонтсдауне они обычно оставляют нас в покое — они и без того страшно заняты: устраивают пожары в школах, травят людей на церковных пикниках и все такое прочее. — Так ты знаешь, что тут рассадник! — Да. — А когда ты схоронил здесь тех двух? — поинтересовался я, снова заглядывая в бездонную известняковую шахту. — Два года назад. Эта парочка пришла на ярмарку в ночь накануне закрытия. Собирались устроить пожар, который бы охватил всю ярмарку и стер бы нас с лица земли. Я расстроил их планы. Ссутулившийся, волосы всклокочены, бесформенное лицо в отраженном свете фонарика еще более странное, чем обычно, он подтолкнул первый труп к жерлу шахты, словно мифическое чудище Грендель, заготавливающее впрок мясо на случай зимнего голода. Я вмешался: — Нет. Сначала... нам надо отрубить им головы. Тела спихнем в шахту, но головы надо закопать отдельно... просто для гарантии. — Э-э? Для гарантии чего? Я рассказал ему про случай с гоблином, которого он зарыл под полом Шоквилля на прошлой неделе. — Я никогда раньше не отрубал им головы, — признался он. — Тогда существует вероятность, что хотя бы пара из них вернулась. Он бросил тело и минуту стоял в молчании, размышляя над этой тревожной информацией. Глядя на его размеры и на вызывающие ужас угловатые черты, можно было подумать, что он с легкостью нагоняет страх на других, но сам в жизни не ведал испуга. Однако даже в этом неверном свете я мог разглядеть смятение на его лице и в двух нормальных глазах, а когда он заговорил, тревога чувствовалась и в его голосе: — Ты хочешь сказать, что, может быть, где-то есть один-два гоблина, которые знают, что мне известно про них... и, может быть, они разыскивают меня... уже давно меня ищут и могут быть все ближе и ближе? — Вполне, — ответил я. — Я так думаю, что большинство из них остаются мертвыми, когда их убьешь. Может быть, лишь у немногих сохраняется достаточно сильная искра жизни, чтобы исцелить тела и мало-помалу ожить. — Даже несколько — все равно слишком много, — неловко ответил он. Сейчас я держал фонарик так, что луч света падал через устье шахты, параллельно земле, высвечивая стволы пары деревьев на дальнем конце прогалины. Джоэль поглядел сквозь расширяющийся луч на зияющую пасть шахты, словно ожидая увидеть, как из темноты к нему потянутся руки гоблинов. Он как будто решил, что его жертвы уже давно вернулись к жизни, но оставались все время там, внизу, ожидая, когда он снова вернется. Он сказал: — Не думаю, чтобы те двое, которых я сбросил сюда, могли ожить. Я их не обезглавил, но я чертовски хорошо их обработал, так что даже если в них и оставалась искра жизни, когда я их сюда приволок, то падение в эту дыру уж наверняка прикончило их. К тому же если бы они вернулись, то предупредили бы остальных в Йонтсдауне и группа, что явилась испортить чертово колесо, была бы куда осторожней. Хотя шахта казалась очень глубокой, хотя он был почти наверняка прав, говоря, что ни один гоблин неспособен выбраться обратно из этой холодной, бездонной могилы, мы тем не менее обезглавили всех шестерых демонов, которых убили этой ночью. Тела мы отправили в шахту, а головы схоронили в братской могиле, которую вырыли далеко от этого места, в глубине леса.* * *
Возвращаясь на ярмарку, шагая по лесной тропинке, пробираясь среди ежевики и сорняков, я чувствовал себя таким измотанным, что мои кости, казалось, сейчас выскочат из суставов. Джоэль Так тоже выглядел усталым, и у нас не было ни сил, ни ясности мысли, чтобы задать друг другу все вопросы, ответы на которые нам были так нужны. И все же я хотел знать, почему он прикидывался дурачком в среду утром, когда я оторвал его от вбивания кольев палатки, сказав, что знаю, кто похоронил за меня гоблина на месте нашего предыдущего выступления. Перефразируя вопрос, который он задал мне про Райю Рэйнз на прошлой неделе, он ответил: — Видишь ли, Карл Слим, в тот момент я не был уверен, что вижу то «внутри», что под твоим «внутри». Я знал, что внутри тебя — убийца гоблинов, но я не знал, это ли твой самый важный секрет. Ты производил впечатление друга. Любой убийца гоблинов произведет впечатление хорошего парня. Черт возьми, это так! Но я осторожен. В детстве я не осторожничал с людьми, но потом, знаешь ли, научился. О, я научился! Ребенком я безумно хотел, чтобы меня любили, сходил с ума от своей кошмарной внешности. Мне так были нужны привязанность и любовь, что я сам привязывался ко всякому, у кого находилось для меня доброе слово. Но один за другим они предавали меня. Я слышал, как некоторые из них смеются надо мной за моей спиной, а в других я мало-помалу разгадал тошнотворную жалость. Некоторые верные друзья и опекуны завоевали мое доверие только для того, чтобы показать, что не заслуживают его, стремясь взять меня под пожизненную опеку для моего же блага! К тому моменту мне исполнилось одиннадцать лет, и я понял, что в любом человеке множество слоев, как в луковице, и прежде чем подружиться с человеком, надо убедиться, что каждый его слой так же чист, как и шелуха. Понятно? — Понятно. А как ты думал, какой секрет я мог бы скрывать под секретом, что я убийца гоблинов? — Я ничего не знал. Могло быть все, что угодно. Поэтому я следил за тобой. Даже сегодня ночью, когда этот ублюдок совсем было собрался вышибить из тебя дух своей дубинкой, я и то не до конца решил, кто ты есть. — О господи! — Но я понял, что если буду бездействовать, то могу потерять друга и союзника. А в этом мире друзья и союзники вроде тебя встречаются не так часто. Мы устало брели, как два товарища, по лугу между лесом и ярмаркой. Луна зашла, черные руки ночи заговорщицки обнимали нас за плечи. Высокая трава шелестела у ног. Вокруг нас порхали мотыльки, летая по заданиям, полученным от света фонарика и недоступным пониманию человека. Наши шаги заставляли смолкнуть на время пение сверчков и кваканье полевых жаб, но когда мы проходили, хор звучал с новой силой. Мы подошли к задней части большой палатки, где показывалось шоу с девицами «Сабрина — тайны Нила», с египетскими трюками. Джоэль остановился и положил свою крупную руку мне на плечо, побуждая остановиться и меня. — Сегодня ночью могут быть неприятности, когда эти шестеро не вернутся, вопреки ожиданиям, в Йонтсдаун. Может, тебе лучше провести эту ночь у меня в трейлере. Жена возражать не будет. Там есть еще одна спальня. Я впервые услышал о том, что он женат. Хотя я и превозносил себя за присущее балаганщикам спокойное отношение к уродству, меня неприятно поразило, что я был ошеломлен, представив жену Джоэля Така. — Что ты сказал? — спросил он. — Сомневаюсь, что сегодня ночью случится какая-нибудь беда. Кроме того, если она случится, мое место с Райей. С минуту он молчал. Потом сказал: — Я был прав, не так ли? — Ты о чем? — О твоей влюбленности. — Это больше чем влюбленность. — Ты... любишь ее? — Да. — Ты уверен? — Да. — А ты уверен, что знаешь разницу между любовью и влюбленностью? — Что это, черт побери, за вопрос? — Я не был всерьез зол на него, просто разочарован, ощутив, что какая-то загадочность вновь появляется в нем. — Извини, — ответил он. — Ты не обычный семнадцатилетний мальчик. Ты не мальчик. Ни один мальчик не узнал, не увидел и не сделал столько, сколько ты, и мне не следовало забывать об этом. Думаю, ты знаешь, что такое любовь. Ты мужчина. — Я старик, — устало ответил я. — А она любит тебя? — Да. Он надолго замолчал, но не убрал руку с моего плеча и держал меня на месте, словно тщательно подыскивая слова, чтобы выразить какую-то важную мысль, что было нелегко даже для него с его потрясающим словарным запасом. — Что с тобой? — спросил я. — Что тебя тревожит? — Мне кажется, когда ты говоришь, что она любит тебя... это нечто, что тебе известно даже не из ее слов... а благодаря каким бы там ни было твоим талантам и ощущениям. — Верно, — ответил я, удивляясь, почему наша с Райей связь так сильно занимает его. Своими вопросами на столь деликатную тему он на первый взгляд просто совал нос в чужие дела, но я смутно чувствовал, что дело тут серьезней, и, кроме того, он спас мне жизнь. Поэтому я погасил первую искру раздражения и продолжал: — Ясновидчески, психически, я чувствую, что она любит меня. Это тебя удовлетворяет? Но даже если бы у меня не было такого преимущества, как шестое чувство, я бы все равно знал, что она чувствует. — Если ты уверен... — Я уже сказал, что уверен. Он вздохнул. — Извини меня еще раз. Просто... я всегда чувствовал... отличие Райи Рэйнз. У меня было ощущение, что «внутри» под ее «внутри»... недоброе. — У нее есть одна кошмарная тайна, — сказал я. — Но это не имеет отношения к тому, что она сделала. Это то, что сделали с ней. — Она тебе все рассказала? — Да. Он покачал косматой головой и задвигал челюстью-ковшом: — Славно. Я рад слышать это. Я всегда ощущал хорошую, достойную часть существа Райи, но было и это другое, неизвестное, что вызывало подозрения... — Я уже сказал, ее тайна состоит в том, что она была жертвой, а не преступником. Он потрепал меня по плечу, и мы снова тронулись в путь, обошли сзади одно из шоу, пошли вдоль «животных-чудес», между палатками, на проезд, а оттуда к Джибтауну-на-колесах. Я зашагал быстрее, когда мы приблизились к трейлерам. Разговоры про Райю напомнили мне, что она в беде. Хоть я и предупреждал ее об осторожности, хоть и знал, что она будет осторожна, узнав, что ей грозит опасность, и не даст этой опасности подкрасться к ней незаметно, хоть я и не чувствовал, чтобы ей грозила беда в этот самый час, страх змеей свернулся у меня в животе, как в яме, и мне хотелось скорее увидеть ее. Мы с Джоэлем расстались, договорившись встретиться завтра, чтобы удовлетворить взаимное любопытство о психических способностях друг друга и поделиться своими знаниями о расе гоблинов. Затем я направился к «Эйрстриму» Райи, вспоминая ночную резню и надеясь, что от меня не слишком несет кровью. На ходу я сочинял историю, чтобы объяснить про пятна на джинсах и футболке, если Райа еще не спит и ей доведется их увидеть. Если же мне повезет, она будет уже спать, и, пока она видит сны, я смогу принять душ и избавиться от одежды. Я чувствовал себя почти что самой Смертью, возвращающейся домой с работы. Я не знал, что до рассвета этой Старухе еще придется поработать своей косой.Глава 16
ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ СЕРДЦА
Райа сидела в кресле в гостиной «Эйрстрима», все в тех же коричневых слаксах и изумрудно-зеленой блузке, которые были на ней, когда я в последний раз видел ее на ярмарке. В руке у нее был стакан скотча. Стоило мне взглянуть на ее лицо, как я тут же проглотил три-четыре лживые фразы, что заготовил по дороге домой. Что-то было совсем не так, как надо, — это было заметно и по ее глазам, и по дрожи, лишившей ее рот жесткости, и по темным кругам, появившимся под глазами, и по бледности, сразу состарившей ее. — Что случилось? — спросил я. Она указала мне на кресло напротив себя, а когда я ткнул пальцем в пятна на джинсах — не такие уж и страшные, когда я разглядел их на свету, — она сказала, что это ерунда, и снова показала мне на кресло, на этот раз с оттенком нетерпения. Я сел, неожиданно заметив землю и кровь на руках, осознав, что на лице тоже наверняка есть пятна крови. Но мой внешний вид, казалось, не потряс ее, не разжег любопытства. Она не проявляла интереса к тому, где я шлялся последние три часа, что, должно быть, свидетельствовало о степени серьезности новостей, которые она собиралась мне поведать. Когда я пристроился на краешке кресла, онасделала долгий глоток скотча. Стекло стучало о ее зубы. Вздрогнув, она сказала: — Когда мне было одиннадцать, я убила Эбнера Кэди, и меня забрали от матери. Это я тебе уже рассказывала. Меня поместили в государственный детский дом. Это я тоже тебе рассказывала. Но я не рассказывала тебе, что... когда я попала в детдом... там я впервые увидела их. Я непонимающе уставился на нее. — Их, — сказала она. — Они руководили заведением. Они были во главе. Директор, заместитель директора, главная няня, доктор, который жил отдельно, но появлялся в любое время, адвокат, большинство учителей, почти весь штат был из их племени, и я была единственным ребенком, способным видеть их. Ошеломленный, я попытался встать. Она жестом дала понять, чтобы я оставался там, где нахожусь, и сказала: — Еще не все. — Ты тоже видишь их! Невероятно! — Не так уж невероятно, — возразила она. — Ярмарка — лучшее в мире убежище для изгоев общества, а есть ли большие изгои, чем те из нас, кто видит... других? — Гоблинов, — сказал я. — Я называю их гоблинами. — Я знаю. Но разве это не логично, что наше племя забредет на ярмарку... или в сумасшедший дом... вернее, чем куда бы то ни было? — Джоэль Так, — сказал я. Она удивленно моргнула: — Он тоже их видит? — Да. И мне кажется, он знает, что ты видишь гоблинов. — Но он мне никогда этого не говорил. — Потому что, как он сказал, он различает темноту в тебе, а он очень осторожный человек. Она допила скоч и долгим взглядом уставилась на кубики льда в стакане. Она была мрачнее, чем всегда. Когда я снова попытался встать, она сказала: — Нет. Оставайся там. Не приближайся ко мне, Слим. Я не хочу, чтобы ты пытался меня утешить. Я не хочу, чтобы меня поддерживали. Не сейчас. Мне надо закончить с этим. — Ладно. Продолжай. Она продолжала: — Я никогда не видела... гоблинов в холмах, в Виргинии. Народу там было немного, а от дома мы никогда далеко не уходили, никогда не видели никаких пришлых, так что я практически не могла с ними столкнуться. Когда я в первый раз увидела их в детдоме, я была страшно напугана, но я чувствовала, что меня... уничтожат... если я дам им понять, что могу видеть сквозь их маски. Я осторожно, намеками, порасспрашивала, и вскоре мне стало ясно, что никто из детей, кроме меня, не знает о чудовищах внутри наших попечителей. Она поднесла к губам стакан, вспомнила, что выпила все виски, и, поставив стакан на колени, сжала его обеими руками, чтобы они не тряслись. — Можешь себе представить, каково это — беспомощный ребенок, отданный на милость этим тварям? О, они не причиняли нам слишком много физических страданий, потому что большое число умерших или тяжело изувеченных детей привело бы к расследованию. Но дисциплинарный устав предоставлял широкие возможности для хорошей трепки и самых разнообразных наказаний. Они были мастерами психологической пытки и постоянно держали нас в страхе и отчаянии. Они словно питались нашим горем, психической энергией, порождаемой нашим страданием. Я чувствовал, что в крови у меня словно намерзают сосульки. Я было потянулся, чтобы обнять ее, потрепать по волосам и сказать, что они никогда больше не дотронутся до нее своими грязными лапами, но почувствовал, что она еще не закончила и ей не понравится, если я прерву ее. Теперь она почти шептала: — Но была участь еще хуже, чем остаться в детдоме. Усыновление. Понимаешь, я скоро поняла, что семейные пары, которые время от времени появлялись там, чтобы побеседовать с детьми и усыновить их, нередко были оба гоблины, и ни разу ни одного ребенка не отдали в семью, где не было бы... где по крайней мере один из родителей не был бы... гоблином. Понял, к чему я? Понял? Знаешь, что случалось с детьми, которых усыновляли? В уединении новой семьи, вне государственного надзора, казавшегося вопиющей несправедливостью в детдоме, в «убежище» семьи, где страшные тайны куда легче хранить в секрете, гоблины, взявшие детей под свое крыло, пытали их, использовали как игрушки для своих развлечений. Так что, хоть в детдоме был ад, было куда страшнее, если тебя отправляли в дом к парочке этих. Холод из моей крови проник в кости, и костный мозг словно замерз навеки. — Я избежала удочерения, притворяясь тупой, делая вид, будто у меня настолько низкий уровень интеллекта, что пытать меня — не большее удовольствие, чем мучить безмозглое животное. Понимаешь, им нужна реакция. Это их возбуждает. Я не имею в виду только физическую реакцию на боль, которую они причиняют. Это ерунда, вторично. Они хотят твоей муки, твоего страха, а в тупом животном нелегко вызвать достаточно изысканный для них страх. Так что я избежала удочерения, а когда я стала достаточно взрослой и достаточно крутой, чтобы быть полностью уверенной, что удержусь на ногах сама, я сбежала на ярмарку. — В четырнадцать лет. — Да. — Достаточно взрослая и достаточно крутая, — повторил я с мрачной иронией. — Прожив одиннадцать лет с Эбнером Кэди и три года под пятой гоблинов, — заметила она, — я стала такой крутой, что тебе и не снилось. Если раньше ее выдержка, стойкость и сила казались странными, то сейчас то, что я услышал, выявило ее мужество — такое, которое почти невозможно объять разумом. Я нашел себе особенную женщину, это точно, женщину, чье упорное намерение выжить вызывало почтительное изумление. Я откинулся в кресле, внезапно обессилев от того ужаса, который только что услышал, как от тяжелого удара. Во рту у меня было сухо и горчило, желудок ныл, во всем теле была страшная опустошенность. Я выдавил: — Черт возьми, кто они? Откуда они явились? Почему они преследуют человечество? — Я знаю, — сказала она. В первый момент я не до конца осознал значение этих двух слов. Наконец до меня дошло — она имела в виду, что в буквальном смысле знает ответы на три этих вопроса. Я подался вперед в кресле, не в силах дышать, как наэлектризованный: — Откуда ты знаешь? Как ты это выяснила? Она смотрела на свои руки и молчала. — Райа? — Они — наше творение, — сказала она. — Как такое может быть? — ошеломленно спросил я. — Ну, понимаешь... человечество существует в этом мире дольше, чем известно нашим мудрецам. Существовала цивилизация, за много тысяч лет до нашей... до того, как возникла письменная история, и эта цивилизация была намного сильнее развита, чем наша. — Что ты имеешь в виду? Исчезнувшая цивилизация? Она кивнула. — Исчезнувшая... разрушенная. Война и угроза войны были такой же проблемой для той ранней цивилизации, как сегодня для нашей. Те нации создали ядерное оружие и зашли в тупик, похожий на тот, к которому мы приближаемся сейчас. Но этот тупик не привел ни к шаткому перемирию, ни к миру по необходимости. Нет, черт возьми. Нет. Напротив, зайдя в тупик, они начали изыскивать иные средства для ведения войны. Какая-то часть меня недоумевала, как она могла узнать такие вещи, но я ни на секунду не усомнился в правдивости всего, что она рассказала, поскольку шестым чувством — а может, обрывками расовой памяти, глубоко сокрытой в подсознании, — я чувствовал зловещую правдивость того, что иным слушателям показалось бы всего лишь безумной фантазией или сказкой. Я был не в состоянии опять перебить ее, чтобы спросить об источнике ее информации. Во-первых, она, казалось, не готова открыть мне это. А во-вторых, я был зачарован, заворожен и не мог не слушать, а ее, судя по всему, терзала такая же необходимость объяснить мне все. Ни один ребенок не бывал так захвачен волшебной сказкой, рассказываемой на ночь, ни один приговоренный не выслушивал с более мрачным видом судью, оглашающего приговор, как я, когда сидел и слушал в ту ночь Райю Рэйнз. — Пришло время, — продолжала она, — когда они научились... вмешиваться в генетическую структуру, животных и растений. Не просто вмешиваться, но исправлять, скрещивать гены друг с другом, по желанию устранять или добавлять их характеристики. — Это же научная фантастика какая-то. — Для нас — да. А для них это было реальностью. Этот прорыв значительно улучшил жизнь людей, обеспечив более высокое качество продуктов... сделав стабильными пищевые ресурсы... создав кучу новых лекарств. Но в нем был и большой потенциал для зла. — И этот потенциал недолго оставался нераскрытым, — добавил я, не с проницательностью ясновидца, а с циничной уверенностью в том, что человеческая природа ничуть не изменилась — и не была лучше — за десятки тысяч лет до нашего времени. Райа сказала: — Первый гоблин был выведен исключительно для военных целей, превосходный воин армии рабов. Вообразив себе гротесковый облик демона, я спросил: — А какое конкретно животное они изменили, чтобы создать эту... эту штуку? — Точно не знаю, но думаю, что это скорее не измененный вариант или что-то в этом роде, а... совершенно новый вид на Земле, созданная человечеством раса, чей разум не уступает нашему. Насколько я это понимаю, гоблин — это существо с двумя генетическими структурами на каждый вид внешнего облика: один человеческий, другой нет, плюс жизненно важный связующий ген, в котором заложен талант к метаморфозам, так что у существа есть возможность выбирать между двумя обликами: быть — по крайней мере, внешне — человеком или гоблином, что в данный момент ему больше подходит. — Но это же не настоящий человек, даже когда он выглядит как один из нас, — возразил я. Затем мне на память пришел Эбнер Кэди, и я решил, что даже некоторые люди — не настоящие люди. Райа ответила: — Нет. Даже если он окажется способен пройти самые тщательные медицинские проверки, он все равно остается гоблином. Это его основная сущность, независимо от физического облика, который он принимает в тот или иной момент. В конце концов, его нечеловеческий взгляд на вещи, его мышление, его способы рассуждать — все это настолько нам чуждо, что людям этого не постичь. Он был задуман как существо, способное проникнуть в чужую страну, смешаться с людьми, выдавая себя за человека... а потом, в подходящий момент, обернуться своей ужасной личиной. Например, скажем, пять тысяч гоблинов просочились на вражескую территорию. Они бы выполняли террористические акции, там, где попало, подорвали бы экономику и общество, создали бы атмосферу паранойи... Я легко представил себе этот хаос. Сосед подозревал бы соседа. Никто бы не доверял никому, кроме членов своей семьи. Общество, каким его знаем мы, не смогло бы существовать в такой атмосфере параноидального подозрения. В скором времени нация, подвергшаяся такой осаде, была бы порабощена. — Или эти пять тысяч были бы запрограммированы на то, чтобы нанести одновременный удар, — продолжала Райа, — всем сразу обрушиться на людей с такой жаждой убийства, что для ее утоления потребовалось бы двести тысяч жизней за одну ночь. Цель твари — вся она когти и клыки, тщательно спроектированная машина убийства с внешностью, от которой леденеет кровь, — не просто убийство, но и деморализация. Прикинув эффективность армии гоблинов-террористов, я на некоторое время лишился дара речи. Мои мускулы были напряжены и набухли, я никак не мог их расслабить. Глотка пересохла. Болело в груди. Я слушал, и страх проникал в мои внутренности, сжимая их. Но не история рода гоблинов так взбудоражила меня. Что-то другое. Неясное предвидение. Что-то надвигающееся. Что-то плохое. У меня было такое чувство, что когда я дослушаю до конца о происхождении гоблинов, то окажусь посреди такого кошмара, какой сейчас не мог себе и представить. Райа все так же сидела в кресле, плечи опущены, голова поникла, глаза глядели вниз. Она сказала: — Этот воин... гоблин был специально спроектирован так, чтобы он не ведал жалости, чувства вины, стыда, любви, милосердия и большинства других человеческих чувств, хотя и мог имитировать их достаточно искусно, когда хотел сойти за мужчину или женщину. Ему не были знакомы угрызения совести при совершении актов крайней жестокости. Строго говоря... если я правильно поняла ту информацию, что накапливала годами... если я верно истолковала то, что видела... гоблин был даже запрограммирован на то, чтобы получать удовольствие, убивая. Черт возьми, у него было всего три эмоции — ограниченное чувство страха (его генетики и психогенетики включили в качестве механизма выживания), ненависть и жажда крови. Так что... осужденная на столь узкий набор ощущений, тварь, естественно, постаралась выжать все, что возможно, из каждой отпущенной ей эмоции. Ни один человек-убийца ни в их цивилизации, ни в нашей, за все тысячи лет забытой или записанной истории, вряд ли мог являть пример одержимого, необузданного, психопатического, убийственного поведения, равного по своей силе сотой части того, что испытывали эти солдаты из пробирки. Ни один религиозный фанатик, которому было гарантировано место на небесах, если он возьмет в руки ружье во имя господа, никогда не устраивал бойню с таким пылом. Мои грязные, окровавленные руки так сильно сжались в кулаки, что ногти больно вонзились в ладони, но я был не в силах их разжать. Я был вроде кающегося грешника, намеренно терзающего себя, чтобы через физическую боль обрести прошение. Но для кого прощение? Чьи грехи мне необходимо было искупить? Я произнес: — Но, господи, создать такого воина... это было... это было безумие! Тварь наподобие этой невозможно контролировать! — Как видно, они считали, что возможно, — ответила она. — Насколько я понимаю, у каждого гоблина, вышедшего из их лабораторий, в мозг был встроен контрольный механизм, назначением которого было посылать сигналы боли, временно выводящие гоблина из строя, и страха. Благодаря этому устройству не подчинившийся воин мог бы быть наказан в любой точке земли, где бы он ни находился. — Но что-то пошло не так, — заметил я. — Что-то всегда начинает идти не так, — отозвалась она. Я снова спросил: — Откуда ты все это знаешь? — Не торопись. В свое время я тебе все объясню. — А я от тебя этого потребую. Ее голос был мрачным и тусклым, и он стал еще более тусклым, когда она начала рассказывать об остальных предохранителях, встроенных в гоблинов, чтобы предотвратить их восстание и избежать ненужного кровопролития. Разумеется, они были созданы бесплодными. Они не могли размножаться, новые особи могли появляться лишь в лабораториях. Кроме того, каждый гоблин подвергался усиленной умственной обработке, направлявшей его ненависть и стремление к убийствам на какую-нибудь четко определенную этническую или расовую группу, на конкретного противника, без опасения, что он ничтоже сумняшеся нападет на союзников своих хозяев. — И что же пошло не так? — спросил я. — Я хочу еще скотча, — сказала она. Поднявшись с кресла, она направилась на кухню. — Плесни и мне, — попросил я. Все мое тело болело, руки саднили и зудели, потому что я еще не вынул из ладоней все занозы. Скотч должен был оказать обезболивающее действие. Но он не мог повлиять на ощущение нависшей опасности. Предчувствие все усиливалось, и я знал, что оно не исчезнет, сколько бы спиртного я ни влил в себя. Я поглядел на дверь. Я не запер ее, когда входил. Никто не запирает двери ни в Джибтауне во Флориде, ни в Джибтауне-на-колесах, потому что балаганщики никогда — или практически никогда — не воруют друг у друга. Я встал, подошел к двери, нажал кнопку фиксатора замка и задвинул засов. Это должно было успокоить меня. Не успокоило. Райа вернулась из кухни и протянула мне стакан скотча со льдом. Я удержался от стремления дотронуться до нее, потому что чувствовал, что она все еще не хочет нашей близости. Пока все не расскажет. Я вернулся в кресло, сел и одним глотком опрокинул полстакана скотча. Она продолжала, хотя новая порция виски не изменила ее мрачного тона. Я чувствовал, что ее состояние вызвано не только страшной «сказкой», которую она была вынуждена рассказывать, но и внутренним смятением. Что бы там ни терзало ее, я не мог ясно определить, что это. Продолжая рассказ, она поведала мне, что секретная информация о гоблинах вскоре перестала быть тайной, как обычно и случается с любым знанием, и с полдюжины других стран тут же создали своих лабораторных солдат, таких же, как и первые гоблины, но с модификациями, улучшенных и более качественных. Они выращивали этих тварей, как в бочке, тысячами, и сила удара этого нового оружия была бы почти такой же страшной, как полновесный обмен ядерными ударами. — Не забывай, — добавила Райа, — гоблины замышлялись как альтернатива ядерной войне, как значительно менее разрушительное средство для достижения мирового господства. — Хороша альтернатива! — Ну, если бы страна, впервые создавшая их, сумела сохранить в тайне технологию, она бы в самом деле завоевала мир в течение нескольких лет, не прибегая к ядерному оружию. Как бы там ни было, когда у всех были солдаты-гоблины, когда на страх отвечали страхом, все стороны быстро сообразили, что взаимное разрушение будет столь же гарантированным с помощью искусственных солдат, сколь и с помощью ядерного орудия. Поэтому они пришли к соглашению, решив отозвать и уничтожить свои армии гоблинов. — Но кто-то нарушил договор, — сказал я. — Не думаю, — возразила она. — Я могу и ошибаться, могла все неправильно понять... но мне кажется, что некоторые из солдат оказались способны отказаться от возвращения. — Господи. — По причинам, которые так и не были установлены, по крайней мере, мне они непонятны, некоторые из гоблинов коренным образом изменились, выйдя из лаборатории. Поскольку большую часть детства и юности я увлекался наукой, у меня возникла пара соображений по этому поводу. Я предположил: — Возможно, они изменились потому, что цепочки их искусственных хромосом и подправленных генов были созданы слишком хрупкими. Она пожала плечами. — В любом случае очевидно, что одним из результатов этой мутации стало появление «эго», чувства независимости. — А это — чертовски опасная штука в биологически сконструированном убийце-психопате, — заметил я. — Была сделана попытка прибрать их к рукам, запустив имплантированные им в мозг приборы, вызывающие боль. Некоторые сдались. Некоторых нашли корчащимися и визжащими в необъяснимой агонии, которая успешно выдавала их. Но некоторые, как видно, «мутировали» в другом направлении — либо развили невероятную устойчивость к боли, либо научились любить ее, даже направлять боль себе на пользу. Я легко представил, как развивались события с этого момента. Я продолжил: — В превосходных человеческих обличьях и с интеллектом, равным нашему, ведомых лишь ненавистью, страхом и жаждой крови, их было невозможно найти... разве что подвергая каждого мужчину и женщину на земле мозговому сканированию с целью обнаружить отказавшие контрольные механизмы гоблинов. Но существовала тысяча уловок, с помощью которых твари могли уклониться от этого исследования. Некоторые могли изготовить фальшивые карточки, свидетельствующие об успешном прохождении мозгового сканирования, которого они никогда не проходили. Другие могли просто сбежать в дикие места и спрятаться там, совершая набеги на города и деревни, когда им надо было запастись едой... или когда жажда убийства невыносимо распирала их. В результате многие избежали бы опознания. Верно? Так оно все и было? — Не знаю. Думаю, что так. Что-то в этом роде. А в какой-то момент после... после того, как всемирная программа сканирования мозга была запущена... власти обнаружили, что некоторые из восставших гоблинов претерпели еще одну фундаментальную мутацию... — Они больше не были бесплодны. Райа моргнула. — Как ты узнал? Я рассказал ей о беременной самке гоблина в Йонтсдауне. Она продолжала: — Если я ничего не перепутала, большинство из них остались бесплодными, но некоторые стали способны размножаться. Легенда гласит... — Что за легенда? — Мне все труднее было обуздывать свое любопытство. — Где ты услышала все эти вещи? О какой легенде ты говоришь? Она проигнорировала вопрос, как видно, все еще не готовая раскрыть свои источники информации, и продолжала: — Согласно легендам, некая женщина попалась на мозговом сканировании. Когда ее разоблачили как гоблина, она была вынуждена принять свой истинный облик. Ее застрелили, и, умирая, она произвела на свет помет — извивающихся детенышей гоблинов. В момент смерти она снова обернулась человеком, как и была генетически запрограммирована (чтобы сбить со следа патологоанатомов при вскрытии). А когда расправились с ее отпрысками, они в предсмертных конвульсиях тоже превратились в человеческих младенцев. — И тогда человечество поняло, что оно проиграло войну с гоблинами. Райа кивнула. Они проиграли войну потому, что у детей гоблинов, рожденных в лоне самок врага, а не в лабораториях, не было контрольных механизмов, которые можно было обнаружить сканированием мозга. Больше не было никакого способа разоблачать их человеческую маскировку. С этого мгновения человек делил этот мир с родом, который был равен ему по интеллекту и не имел иной цели, кроме как уничтожение его и дела рук его. Райа допила скотч. Мне страшно хотелось выпить еще, но я боялся налить вторую порцию, потому что в моем состоянии она непременно повлекла бы за собой третью, третья — четвертую, и я бы не мог остановиться до тех пор, пока не свалился бы, пьяный до потери сознания. А я не мог позволить себе расслабиться и напиться, потому что мрачное предчувствие нависшей опасности давило на меня тяжелее обычного, — психический эквивалент массивной темной кучи клубящихся грозовых облаков, опускающейся на летний день. Я поглядел на дверь. Закрыта. Взглянул на окна. Открыты. Но на окнах были жалюзи, и никакой гоблин не смог бы пробраться сквозь них, не приложив значительных усилий. — В общем, — тихо сказала Райа, — мы не были счастливы на земле, которую дал нам господь. Очевидно, в ту ушедшую эпоху мы слыхали про ад, и мы нашли эту идею весьма интересной. Мы нашли ее такой интересной, такой привлекательной, что сотворили демонов на собственный лад и воссоздали ад на земле. Если бог есть на самом деле, сейчас я почти понял (как никогда прежде), почему он насылает на нас боль и страдания. С отвращением глядя на то, как мы пользуемся миром и жизнью, которые он даровал нам, он запросто мог бы заявить: «Ну ладно, неблагодарные мерзавцы, ладно! Нравится вам надо всем измываться? Нравится вам причинять боль друг другу? Вам это так нравится, что вы создаете своих собственных дьяволов и спускаете их сами на себя? Ладно! Да будет так! Встать — и дайте творцу потешить вас! Глядите на мой дым, крошки! Примите эти дары. Да будет рак мозга, и полиомиелит, и склероз! Да будут землетрясения и приливы с наводнениями! Да будут больные гланды! Нравится вам? Не слышу!» Я сказал: — Каким-то образом гоблины уничтожили ту раннюю цивилизацию, стерли ее с лица земли. Она кивнула. — Для этого потребовалось время. Несколько десятилетий. Но, согласно легенде, мало-помалу некоторые из их рода, выдав себя за людей, достигли высокого общественного положения и наконец проникли в такие политические круги, что в их власти оказалось начать атомную войну. Что, согласно загадочным и скрываемым легендам, на которые она ссылалась, они сделали. Они не заботились о том, что большая их часть будет уничтожена вместе с нашим родом; самая цель их существования была разорять и уничтожать нас, и если полное выполнение их цели вело к их собственной немедленной смерти, они все равно были бессильны изменить свой жребий. Ракеты были запущены. Города были обращены в прах. От запуска не удержали ни одну ракету, ни одну бомбу. Взорвалось так много тысяч безмерно мощных ядерных средств, что их детонация как-то повлияла на земную кору. Или, может быть, появилось изменение в магнитном поле Земли, повлекшее смещение полюсов, но по какой-то причине по всей земле на это отреагировали линии разлома, они сместились и вызвали землетрясения невообразимой мощи. Тысячи миль полос низинной земли погрузились в море, и волны прилива обрушились на половину каждого континента, и взорвались все вулканы. Этот огненный ад, последовавший за ним ледниковый период и тысячи прошедших лет стерли с лица земли всякий след цивилизации, которая однажды «зажгла» несколько континентов так же ярко, как наша ярмарка зажигает свет на аллее каждый вечер. Гоблинов выжило больше, чем людей, потому что они были крепче, прирожденные бойцы. Те немногие из людей, кто выжил, вернулись в пещеры, вновь скатились в дикость, и по прошествии множества жестоких лет они забыли прежнюю цивилизацию. Хотя гоблины ее не забыли и никогда не забудут. Мы забыли гоблинов, вместе со всем остальным. И в последующие века наши редкие стычки с ними в их демоническом облике послужили источником множества суеверий и бессчетного числа дешевых фильмов ужасов, где действовали способные преображаться сверхчеловеческие существа. — И вот мы снова вылезли из дерьма, — уныло сказала Райа, — возродили цивилизацию и стали снова обзаводиться средствами для уничтожения мира. — И в один прекрасный день гоблины нажмут кнопку, если у них будет такая возможность, — закончил я вместо нее. — Думаю, нажмут, — согласилась она. — На самом деле они уже не такие умелые бойцы, как при прежней цивилизации... их легче одолеть в рукопашной схватке... легче обмануть. Они изменились, как-то эволюционировали из-за того, что прошло так много времени, и из-за всех этих радиоактивных осадков. Радиация сделала многих бесплодными, забрала у них то, что дали первые мутации, вот поэтому они и не одолели мир полностью и не задавили нас численностью. И еще произошло... некоторое смягчение их страсти к разрушению. Насколько я понимаю, многим из них ненавистна мысль об еще одной ядерной войне... по крайней мере, во всемирном масштабе. Видишь ли, они живут подолгу: некоторым из них не меньше полутора тысяч лет, так что от предыдущей катастрофы их отделяет не так много поколений, как нас. Их рассказы о конце света, донесенные предками, для них все еще свежи и реальны. Но хотя большинство из них вполне удовольствовалось бы нынешним раскладом, когда они охотятся и убивают нас, будто мы не что иное, как животные в их личном заповеднике, есть некоторые... некоторые, которые жаждут снова вызвать агонию человечества на ядерном уровне... те, кто считает, что их жребий — стереть нас с лица земли навеки. В ближайшие десять, двадцать или сорок лет одному из этих непременно представится такая возможность, как ты думаешь? Неотвратимая близость Армагеддона, о котором она рассказала, была такой страшной и подавляющей, что не поддавалась описанию, но в настоящий момент я боялся более близкой смерти. Мое предчувствие и уверенность в неотвратимой опасности превратились в постоянное неприятное давление под черепом, хотя я не мог сказать, откуда придет беда и в какой форме она придет. Меня слегка тошнило от предчувствия. Меня бил озноб. Я весь промок от пота и дрожал. Она отправилась на кухню добавить скотча. Я встал. Подошел к окну. Выглянул наружу. Ничего не увидел. Вернулся в кресло. Присел на краешек. Мне захотелось закричать. Что-то приближалось... Она вернулась из кухни с выпивкой и плюхнулась обратно в кресло, по-прежнему отдаляясь от меня, и тогда я спросил ее, все такую же мрачную: — Как ты узнала про них? Ты должна мне это сказать. Ты что, можешь читать их мысли или что? — Да. — Правда? — Немного. — Я не могу увидеть в них ничего, кроме... ярости, ненависти. — Я вижу в них... немного, — сказала Райа. — Не сами их мысли. Но когда копну поглубже, то появляются образы... видения. Думаю, многое из того, что я вижу, — это больше генетическая память... то, о чем многие из них на уровне сознания почти не подозревают. Но если быть честной, больше, чем только это. — Что? Каким образом — больше? И что там с этими легендами, о которых ты говорила? Вместо ответа она сказала: — Я знаю, что ты делал сегодня ночью. — Хм. Ты о чем? Как ты можешь знать? — Знаю. — Но... — Все это напрасно, Слим. — В самом деле? — Их не одолеть. — Я одолел своего дядю Дентона. Я убил его, пока он не принес еще больше несчастья в мою семью. Мы с Джоэлем остановили шестерых из них этой ночью, а если бы мы этого не сделали, они бы устроили падение чертова колеса. Мы спасли жизнь бог знает скольким простакам. — И что толку? — спросила она. В ее голосе появилась новая нотка — серьезности, мрачного энтузиазма. — Другие гоблины убьют других простаков. Ты не сможешь спасти мир. Ты рискуешь своей жизнью, счастьем, рассудком — и по большей части твои действия просто оттягивают развязку. Тебе не суждено выиграть войну. В этой долгой схватке наши демоны одолеют нас. Это неизбежно. Это — наш жребий, который мы выбрали для себя очень-очень давно. Я не понимал, к чему она клонит. — А какой у нас выбор? Если мы не будем сражаться, не будем защищать себя, наша жизнь не будет иметь смысла. Мы с тобой можем быть раздавлены в любой момент по их прихоти. Она отставила в сторону свой стакан и скользнула на краешек кресла. — Есть и другой путь. — О чем ты? Ее прекрасные глаза смотрели в мои, ее взгляд обжигал. — Слим, большинство людей не стоят и плевка. Я моргнул. Она продолжала: — Большинство людей — лжецы, плуты, изменщики, воры, ханжи, как хочешь называй. Они используют и бесчестят друг друга с такой же готовностью, что и гоблины бесчестят нас. Они недостойны того, чтобы их спасать. — Нет, нет, нет, — возразил я. — Не большинство. Многие из людей не стоят и плевка, согласен, но не большинство, Райа. — Насколько я знаю, — возразила она, — едва ли хоть один из них лучше гоблина. — Господи, у тебя же было не как у всех. Эбнеры Кэди и Мэрэли Суины в этом мире определенно составляют меньшинство. Я понимаю, почему ты думаешь не так, как я, но ты же никогда не встречалась с моим папой или мамой, с моими сестрами, с бабушкой. Достоинства в мире больше, чем жестокости. Может, я бы не сказал так неделю назад или даже вчера, но сейчас, когда я слышу такие речи от тебя, у меня уже нет сомнений, что в людях больше добра, чем зла. Потому что... потому что... ну, должно быть больше. — Послушай, — сказала она. Ее глаза по-прежнему глядели прямо в мои, умоляющая голубизна, просящая голубизна, яростная, почти болезненная голубизна. — Все, на что мы можем надеяться, это немного счастья в узком кругу друзей, с парой человек, которых мы любим, — и к чертям весь остальной мир! Пожалуйста, Слим, пожалуйста, подумай об этом! Это же просто чудо, что мы нашли друг друга. Это удивительно. Я никогда не думала, что обрету что-то подобное тому, что мы обрели вместе. Мы так подходим друг другу... так похожи... что какие-то мозговые волны у нас даже накладываются друг на друга, когда мы спим... у нас психическое единство и когда мы занимаемся любовью, и когда спим, вот поэтому нам так чертовски хорошо в постели и поэтому мы даже видим одни и те же сны! Мы были предназначены друг для друга, и самое важное, самое важное на свете — это чтобы мы были вместе всю жизнь. — Да, — ответил я. — Я знаю. Я тоже так думаю. — Поэтому оставь свой крестовый поход. Перестань пытаться спасти мир. Перестань так безумно рисковать. Пусть гоблины делают то, что должны делать, а мы просто проживем свою жизнь в мире. — Так в этом-то все и дело! Мы не можем жить в мире. Если мы не будем обращать на них внимания, нас это не спасет. Рано или поздно они придут и будут вынюхивать вокруг, будут стремиться почувствовать нашу боль, пить нашу муку. — Слим, постой, погоди, выслушай. — Она была возбуждена, рассержена, нервозно-энергична. Вскочив с кресла, она подошла к окну, полной грудью вдохнула воздух, снова повернулась ко мне и сказала: — Ты согласен, что то, что у нас есть общего, должно быть первым, превыше всего, любой ценой. Так что, как насчет... если я укажу тебе путь, как можно существовать с гоблинами, прекратить войну против них и не волноваться, что они когда-нибудь набросятся на тебя или меня? — Как же? Она заколебалась. — Райа? — Есть только один путь, Слим. — Какой? — Это единственный разумный способ иметь с ними дело. — Скажешь ты мне или нет, ради всего святого? Она нахмурилась, глянула в сторону, начала говорить, снова засомневалась, произнесла «Черт!» и внезапно швырнула стакан со скочем в стену через всю комнату. Из него вылетели кубики льда и раскололись, попав в мебель и упав на коврик. Стакан вдребезги разбился о стену. Я пораженно подскочил и тупо уставился на нее и остался стоять, когда она махнула мне рукой и вернулась в свое кресло. Села. Глубоко вздохнула. И сказала: — Я хочу, чтобы ты выслушал меня, просто выслушал и не перебивал, не останавливал, пока я не закончу, и... попытался понять. Я нашла способ сосуществовать с ними, сделать так, чтобы они оставили меня в покое. Понимаешь, и в детдоме, и после я поняла, что их не победить, у них все преимущества. Я сбежала оттуда, но гоблины повсюду, не только в детдоме, и ты не можешь совсем избавиться от них, куда бы ты ни убежал. Это бесполезно. Поэтому я пошла на риск, на рассчитанный риск, и вступила с ними в контакт, сказала, что могу видеть... — Ты что? — Не перебивай! — резко сказала она. — Это... это тяжело... будет чертовски тяжело... и я просто хочу закончить, так что заткнись и дай мне сказать. Я рассказала одному из гоблинов о своих психических возможностях. А это, знаешь, тоже своего рода мутация, последствия той ядерной войны, потому что, если верить гоблинам, в предыдущей цивилизации не было людей ни с какими психическими способностями — ни ясновидения, ни телекинеза, ничего подобного. Их и сейчас немного, но тогда их вообще не было. Я думаю, каким-то странным образом... поскольку гоблины развязали ту войну, обрушили на нас бомбы и всю эту радиацию... ну, можно сказать, что они как бы создали одаренных людей вроде нас с тобой. Определенным образом мы как-то обязаны своими способностями им. Ну, в общем, я сказала, что могу видеть сквозь человеческую форму их... не знаю... потенциал гоблинов внутри их... — Ты говорила с ними, и они поведали тебе свои... легенды! Вот откуда ты узнала о них. — Не все. Они не много рассказали мне. Но мне только надо, чтобы они сказали самую малость, и у меня тут же возникает видение всего остального. Это как... если бы они открывали дверь чуть-чуть, а я бы толкнула ее нараспашку и увидела все, даже то, что они хотели скрыть от меня. Но сейчас это не важно, и я молю бога, чтобы ты меня не перебивал. Важно то, что я ясно дала им понять, что мне наплевать на них, наплевать на то, что они делают, кого терзают, пока они не трогают меня. И мы заключили... соглашение. Я ошарашенно откинулся в кресле и, невзирая на предостережение не перебивать ее, спросил: — Соглашение? Так просто? Но с чего бы им потребовалось заключать с тобой соглашение? Почему бы просто не убить тебя? Не важно, что ты им наговорила, даже если бы они и поверили, что ты будешь хранить их секрет, ты все равно представляла угрозу для них. Не понимаю. Они ничего не выгадывают, придя к такому... такому соглашению. Маятник ее настроения снова качнулся обратно в темноту и спокойное отчаяние. Она словно согнулась в своем кресле. Ее голос был едва слышен: — Им было что выгадывать. Было кое-что, что я могла им предложить. Видишь ли, у меня есть еще одна способность, которой у тебя либо нет, либо... не так сильно развита, как у меня. У меня есть... способность разгадывать экстрасенсорные дарования в других людях, особенно если они могут видеть гоблинов. Я различаю их способности независимо от того, как бы они ни старались скрыть их. Я не узнаю это сразу, как только взгляну на человека. Иногда на это требуется время. Появляется уверенность, которая медленно усиливается. Но я могу ощущать скрытые психические способности в других людях почти так же, как вижу гоблинов под их маскировкой. До сегодняшней ночи я думала, что эта способность... ну, безотказна... но вот ты мне сказал, что Джоэль Так видит гоблинов, а я его никогда в этом не подозревала. Но я все равно считаю, что почти всегда быстро распознаю подобные вещи. Я знала, что в тебе есть что-то особенное, с самого начала знала, хотя ты оказался... более особенным, куда более особенным, чем я поняла вначале. — Сейчас она перешла уже на шепот. — Я хочу удержать тебя. Я никогда не думала, что найду кого-то... кого-то, в ком нуждалась бы... любила бы. Но пришел ты, и я хочу удержать тебя, а единственный способ сделать это — если ты заключишь с ними такое же соглашение, какое заключила я. Я окаменел. Недвижимый, как скала, я сидел в кресле и слушал гранитное буханье своего сердца, каждый удар — точно киянкой по глыбе мрамора. Моя любовь, стремление к ней, нужда в ней — они по-прежнему были там, в моем окаменелом сердце, но были недосягаемы, как прекрасные статуи скрываются в грубом куске камня, но недоступны и не будут доступны для того, у кого не хватает художественного таланта и навыков работы с резцом. Я не желал поверить тому, что она сказала, и я был не в силах подумать о том, что последует за этим, но был вынужден выслушать и узнать самое худшее. Слезы показались у нее на глазах, и она сказала: — Когда я сталкиваюсь с кем-то, кто способен видеть гоблинов, я... я докладываю об этом. Я предупреждаю одного из их рода о ясновидящем. Понимаешь, им не нужна война в открытую, как это было в прошлый раз. Они предпочитают сохранять инкогнито. Они не хотят, чтобы мы организовались против них, хотя это все равно было бы безнадежно. Поэтому я указываю на тех людей, которые знают про них, которые могут убить их или рассказать про них. А гоблины... они просто... устраняют угрозу. А взамен они гарантируют мне безопасность со стороны их рода. Неприкосновенность. Они оставляют меня в покое. Это все, чего я когда-либо желала, Слим. Чтобы меня оставили в покое. И если ты заключишь с ними такое же соглашение, они оставят в покое нас обоих... и мы сможем... сможем быть... вместе... и счастливы... — Счастливы? — Я не произнес, а вытолкнул это слово из себя. — Счастливы? Ты думаешь, мы можем быть счастливы, зная, что выживаем... предавая других? — Гоблины все равно доберутся до кого-нибудь из них. С огромным усилием я поднес холодные каменные ладони к лицу и, как в пещеру, спрятался в них, словно в моих силах было сбежать от этих страшных откровений. Но это было детской уловкой. Кошмарная правда оставалась со мной. — Господи. — У нас была бы жизнь, — сказала она. Теперь она всхлипывала открыто, поняв, что я никогда не пойду на эту кошмарную сделку, которую заключила она сама. — Вместе... жизнь... как это было всю эту неделю... даже лучше... куда лучше... мы против всего мира, в безопасности, в полной безопасности. А гоблины не только гарантируют мою безопасность в обмен на информацию, которой я их снабжаю. Они гарантируют мне и успех. Я для них очень ценна. Потому что, как я говорила, многие из тех, кто видит гоблинов, в конце концов оказываются либо в психушке, либо на ярмарке. Так что... так что у меня превосходная позиция, чтобы... ну, чтобы выявлять как можно больше ведунов вроде нас с тобой. Поэтому гоблины помогают мне также и продвинуться. Как... они планировали несчастный случай в павильоне электромобилей... — А я предотвратил его, — холодно сказал я. Она была удивлена. — О! Да. Я должна была догадаться, что это сделал ты. Но, понимаешь... идея была такая, что, когда произойдет несчастный случай, покалеченный простак подаст в суд на Хэла Дорси, того типа, который владеет павильоном, и у того будут финансовые трудности, штрафы и все остальное, и я смогу выкупить у него павильон за хорошую цену и приобрету по сходной цене новую концессию. О черт. Пожалуйста. Пожалуйста, выслушай меня. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Это все звучит так... так холодно. На самом деле, хотя слезы ручьями текли у нее по лицу, хотя я в жизни не видел никого несчастнее ее в этот момент, она и в самом деле казалась холодной, до горечи холодной. — Но, Слим, ты пойми, что с этим Хэлом Дорси. Это же ублюдок, правда, злобный сукин сын, и никто не любит его, потому что он сволочь и наживается на других, и черт меня подери, если мне будет жаль разорить его. Хоть я и не хотел смотреть на нее, я взглянул. Хоть я и не хотел говорить с ней, я заговорил: — Есть ли разница между пыткой, которую затевают гоблины, и пыткой, которую им преподносишь ты? — Я же тебе сказала, Хэл Дорси... Я возвысил голос: — Есть ли разница между поведением такого типа, как Эбнер Кэди, и тем, как ты предаешь свой же род? Она всхлипывала. — Я только хотела быть... в безопасности. Впервые за всю свою жизнь — один раз — я хотела быть в безопасности. Я и любил и ненавидел ее, жалел и презирал. Я хотел разделить с ней свою жизнь, хотел сильнее, чем когда-либо, но знал, что не продам ни совесть, ни первородство из-за нее. Думая о том, что она поведала мне про Эбнера Кэди, про свою тупоумную мать, представляя себе кошмар ее детства, осознавая, сколь велики ее обоснованные жалобы на род человеческий и сколь мало должна она обществу, я мог понять, как она могла решиться сотрудничать с гоблинами. Я мог понять и почти мог простить, но не мог согласиться с тем, что это было правильно. В тот странный момент мои чувства по отношению к ней были так сложны, представляли собой такой тугой клубок спутанных эмоций, что у меня возникло неведомое мне прежде желание покончить жизнь самоубийством, столь живое и острое, что я заплакал и понял, что это, должно быть, сродни тому желанию смерти, что преследовало ее каждый день в ее жизни. Я понимал, почему она рассуждала о ядерной войне с таким вдохновением и поэтичностью, когда мы были вместе на чертовом колесе в воскресенье. При такой ноше страшного знания, которую несла она, полное уничтожение Эбнеров Кэди, гоблинов и всей этой грязной цивилизации должно было порой казаться ей поразительно, восхитительно освобождающей и освежающей возможностью. Я сказал: — Ты заключила сделку с дьяволом. — Если они дьяволы, значит, мы боги, потому что мы создали их, — ответила она. — Это софистика, — возразил я. — А у нас тут, черт возьми, не диспут. Она ничего не сказала. Она лишь свернулась клубочком и безудержно всхлипывала. Мне хотелось встать, отпереть дверь, вылететь на свежий, чистый ночной воздух иубежать, просто бежать и убежать навсегда. Однако моя душа словно тоже обратилась в камень, солидарная с плотью, и этот дополнительный груз лишал меня сил подняться с кресла. Прошла, наверное, минута, в течение которой никто из нас не мог придумать, что сказать. Наконец я нарушил тишину: — Ну и что, черт возьми, мы будем делать дальше? — Ты не заключишь... соглашения? — спросила она. Я даже не потрудился ответить на этот вопрос. — Значит... я тебя потеряла, — сказала она. Я тоже плакал. Она потеряла меня, но и я потерял ее. Наконец я сказал: — Ради таких, как я... тех, кто придет сюда... мне бы надо сломать тебе шею прямо сейчас. Но... Господи, помоги мне... я не могу. Не могу. Не могу этого сделать. Так что... я собираю свои вещи и ухожу. На другую ярмарку. Начну все сначала. Мы... забудем... — Нет, — сказала она. — Слишком поздно. Я вытер слезы с глаз тыльной стороной ладони. — Слишком поздно? — Ты совершил здесь слишком много убийств. Убийства и твоя связь со мной — все это привлекло внимание. Я не просто чувствовал, что кто-то ходит по моей могиле, — этот кто-то танцевал на ней, притопывал на ней. Хотя мне было очень жарко, казалось, что на дворе февральская, а не августовская ночь. Она сказала: — Единственной надеждой для тебя было взглянуть на вещи по-моему и прийти с ними к такому же соглашению, к какому пришла я. — Ты что, в самом деле... собираешься заложить меня? — Я не хотела говорить им о тебе... после того, как узнала тебя. — Так не говори. — Ты еще ничего не понял. — Она вздрогнула. — В тот день, когда я тебя повстречала, до того, как поняла, что ты будешь значить для меня, я... намекнула одному из них... сказала, что, возможно, я выслежу еще одного ведуна. Поэтому он ждет доклада. — Кто? Который из них? — Тот, что ответствен за это здесь... в Йонтсдауне. — Ответственный из гоблинов, ты это хочешь сказать? — Он чрезвычайно бдительный, даже для их рода. Он заметил, что между тобой и мной происходит что-то необычное, и он почувствовал, что ты — неординарный человек, что ты — тот, на кого я намекала. И он потребовал, чтобы я подтвердила это. Я не хотела. Я пыталась солгать. Но он не дурак. Его так просто не проведешь. Он продолжал давить на меня. «Скажи мне о нем, — потребовал он. — Скажи мне о нем, или между нами все будет не как прежде. У тебя больше не будет неприкосновенности с нашей стороны». Слим, неужели ты не понимаешь? У меня... не было... выбора. Я услышал движение у себя за спиной. Я повернул голову. Из узкого коридора, ведущего в заднюю часть трейлера, в гостиную вошел шеф Лайсл Келско.Глава 17
ВОПЛОТИВШИЙСЯ КОШМАР
В руке Келско был револьвер, «смит-вессон» 45-го калибра, но он не направлял его на меня, поскольку, учитывая преимущество внезапности и полицейскую власть, он не думал, что нужно будет стрелять. Он держал его у бока, дулом к полу, но при малейшем признаке опасности мог вскинуть его и выстрелить. Из-под квадратного, неотесанного, грубого лица на меня злобно косился гоблин. Под кустистыми бровями человеческой внешности я видел жидкий огонь глаз демона, окруженных утолщениями покрытой трещинами кожи. Под злобной щелью человеческого рта была пасть гоблина с отвратительно заостренными зубами и изогнутыми клыками. Впервые увидев Келско в его офисе в Йонтсдауне, я был поражен, насколько он выглядит более яростным и злобным, чем большинство из его сородичей, и настолько более отвратительным. Потрескавшаяся, крапчатая плоть, бородавчатая кожа, губы в мозолях, волдыри, наросты и множество шрамов должны были свидетельствовать об его огромном возрасте. Райа говорила, что многие из них живут до полутора тысяч лет, даже больше, и нетрудно было представить себе, что тварь, именующая себя Лайслом Келско, была старой. Он прожил, наверное, тридцать или сорок человеческих жизней, переходя от одной личности к другой, убивая нас тысячами в течение столетий, терзая — открыто или тайно — десятки тысяч, и вся череда этих лет и этих убийств привела его в эту ночь сюда, чтобы прикончить меня. — Слим Маккензи, — проговорил он, сохраняя свой человеческий облик единственно из сарказма, — я арестую тебя в связи с расследованием ряда недавно происшедших убийств... Я не собирался давать им возможность запихнуть меня в патрульную машину и отвезти в какую-нибудь уединенную камеру пыток. Немедленная смерть, прямо здесь и прямо сейчас, была куда привлекательней, чем подчинение, поэтому, не успела тварь закончить свою короткую речь, как я сунул руку в ботинок и ухватился за нож. Я сидел спиной к гоблину и глядел на него, обернувшись так, что он не мог видеть ни руки, ни ботинка. По какой-то причине — думаю, что теперь я понял причину, — я никогда не рассказывал Райе о ноже, так что она не понимала, что я собираюсь сделать, до тех пор, пока я не вытащил оружие из ножен и, встав, одним плавным движением не метнул его. Я был так стремителен, что Келско не успел поднять пистолет и выстрелить в меня. Однако тварь все же выпустила одну пулю в пол, падая с ножом, торчащим из глотки. В этой маленькой комнатке выстрел прозвучал, точно вопль бога. Райа вскрикнула, не столько предупреждая, сколько в шоке, но демон Келско был мертв, когда крик только слетел с ее губ. Когда Келско грохнулся об пол, эхо грохота выстрела все еще звучало в трейлере. Я подскочил к чудовищу, повернул в нем нож, чтобы довести дело до конца, вытащил из тела, откуда забила кровь, встал и повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, что Райа открыла дверь и в комнату входит полицейский из Йонтсдауна. Это был тот же самый офицер, что стоял в углу кабинета Келско, когда Студень, Люк и я пришли туда давать взятку. Как и его шеф, этот коп тоже был гоблином. Он шагнул с верхней ступеньки лестницы, только-только войдя в комнату, и я увидел, как его глаза метнулись к телу Келско, как он дернулся, пронзенный, точно током, внезапным сознанием смертельной опасности, но к этому моменту я уже перехватил нож в правую руку и изготовил его для броска. Метнув лезвие, я рассек кадык демона, и в тот же миг он нажал на спусковой крючок своего «смит-вессона». Но целился он в небо, и пуля разбила лампу слева от меня. Гоблин упал на спину, вывалился через открытую дверь, по ступенькам, в ночь. Лицо Райи было портретом ужаса. Она решила, что теперь я собираюсь убить ее. Она бросилась вон из трейлера и пустилась бежать, спасая свою жизнь. Секунду я стоял там, задыхаясь, не в силах двигаться, переполненный всем происшедшим. Не убийство ошарашило меня; я убивал и прежде — и часто. Не раздавшийся вблизи оклик сделал мои ноги слабыми и ватными — я выходил из тысячи переделок. Пригвоздил меня к месту, обездвижил меня шок от того, как резко изменилось все между мной и Райей, от того, что я потерял, и, возможно, никогда больше не обрету. Любовь казалась мне просто крестом, на котором она распяла меня. Затем мой паралич прошел. Спотыкаясь, я подошел к двери. Вниз по ступенькам. Обогнул мертвого полицейского. Я заметил нескольких балаганщиков, выскочивших на звуки выстрелов. Среди них был Джоэль Так. Райа была примерно в сотне футов отсюда. Она бежала по «улице» между рядами трейлеров, направляясь к дальнему краю луга. Когда она пробегала по озерам темноты, чередовавшимся с потоками света из окон и дверей трейлеров, она из-за стробоскопического эффекта стала казаться нереальной. Как будто призрачная фигура, летящая по фантастическому ландшафту. Я не хотел бежать за ней. Если я настигну ее, мне, наверное, придется ее убить. Я не хотел убивать ее. Мне надо просто уйти. Прочь. Не оборачиваясь. Забыть. Я побежал за ней. Как будто в кошмарном сне, мы бежали, казалось, без цели, среди обступивших нас бесконечных рядов трейлеров. Мы бежали, наверное, минут десять, двадцать, все дальше и дальше, но я знал, что Джибтаун-на-колесах не настолько велик, понимал, что истерика размыла мое чувство времени, и на самом деле не прошло, пожалуй, и минуты, как мы вырвались из окружения трейлеров на открытое поле. Высокая трава стегала меня по ногам, лягушки прыгали прочь с моей дороги, несколько мотыльков разбились о мое лицо. Я бежал так быстро, как только мог, еще быстрее, передвигая ногами вовсю, увеличивая шаги насколько возможно, невзирая на боль от полученных побоев. Ее подстегивал страх, но я неуклонно сокращал расстояние между нами, и к тому времени, как она достигла края леса, я был всего лишь в сорока футах от нее. Она ни разу не обернулась. Она знала, что я там. Хотя до рассвета было уже недолго, ночь была очень темной, а в лесу было еще темнее. Но несмотря на то, что нас слепил этот полог из сосновых игл и ветвей, покрытых листвой, ни один из нас не сбавлял темп. Мы были настолько переполнены адреналином, что казалось, требуем и получаем от своих физических способностей больше, чем когда-либо, потому что интуитивно угадывали самый легкий путь через лес, пробегая то одной, то другой оленьей тропой, проламывались через заграждения подлеска в их самых слабых местах, перепрыгивали с плиты известняка на поваленное бревно, через маленький ручей, вдоль следующей оленьей тропы, словно создания ночи, рожденные для ночной погони, и хотя я по-прежнему был быстрее ее, я все же находился более чем в двадцати футах за ее спиной, когда она выбежала из леса на вершину длинного холма и кинулась вниз... ...на кладбище. Меня занесло, я ухватился за высокий надгробный обелиск и с ужасом уставился на простершееся у меня под ногами кладбище. Оно было большим, хотя и не тянулось до бесконечности, как в том кошмаре, что передала мне Райа. Сотни и сотни прямоугольников, квадратов и шпилей из гранита и мрамора теснились на отлогом склоне холма. Большинство их было в той или иной степени различимо, поскольку у подножья тянулась дорожка, ограниченная двумя рядами газовых ламп, которые бросали мощный свет на нижнюю часть кладбища и создавали светлый фон, на котором виднелись силуэты надгробий на верхней части холма. Снега там, в отличие от сновидения, не было, но дуговые лампы струили беловатый свет, слегка отливавший голубизной, и в этом свете кладбище выглядело замерзшим. На надгробиях были как будто надеты шубы из льда. Ветер качал деревья с достаточной силой, чтобы стряхнуть с ветвей множество семян с пушистыми белыми перепонками, благодаря которым семена легко разлетались. Они кружились в воздухе и опускались на землю, точно снежинки, так что все вокруг было пугающе схоже с зимним пейзажем в наших кошмарах. Райа не останавливалась. Она опять увеличила расстояние между нами и бежала по извилистой тропинке, ведущей вниз и петляющей среди надгробий. Я задумался, знала ли она, что здесь находится кладбище, или же это было для нее таким же шоком, как и для меня. Она бывала на ярмарке в графстве Йонтсдаун в предыдущие годы, так что вполне могла отправиться на прогулку до края луга, могла пройти через лес и выйти на вершину холма. Но если она знала, что здесь находится кладбище, почему же тогда она побежала этой дорогой? Почему она не выбрала другое направление и не сделала по крайней мере крошечной попытки пойти наперекор жребию, который нам обоим был уготовлен в снах? Я знал ответ на этот вопрос: она не хотела умирать... и все же хотела этого. Она боялась, что я настигну ее. И все же хотела, чтобы я настиг ее. Я не знал, что случится, когда я схвачу ее. Но знал, что не смогу просто так развернуться и уйти и не смогу стоять на этом погосте, пока не окостенею и не превращусь в еще одно надгробие. Я побежал за ней. Она не оборачивалась ко мне ни на лугу, ни в лесу, но сейчас повернулась поглядеть, бегу ли я еще, опять побежала, еще раз обернулась и вновь пустилась бежать, правда, не так быстро. На последнем склоне я понял, что она плачет на бегу — ужасный плач, в котором смешались горе и тревога, и тут я окончательно догнал ее, остановил и повернул лицом к себе. Она всхлипывала, и когда наши глаза встретились, я увидел взгляд загнанного кролика. Секунду-другую она вглядывалась в мои глаза, затем тяжело привалилась ко мне, и мне на миг подумалось, что в моих глазах она увидела что-то, что хотела увидеть. Но увидела она в них нечто прямо противоположное, что-то, что ужаснуло ее сильнее прежнего. Она наклонилась ко мне не как возлюбленная, которая нуждается в сочувствии, но как отчаявшийся враг, обнявший меня для того, чтобы быть уверенным, что смертельный удар будет нанесен как можно более точно. Сначала я даже не почувствовал боли, только разливающуюся теплоту, а когда взглянул вниз и увидел нож, что она вонзила в меня, тут же понял, что это происходит не на самом деле, что это просто очередной кошмарный сон. Мой собственный нож. Она вытащила его из глотки убитого полицейского. Я вцепился в руку, держащую нож, и не дал ей повернуть лезвие в ране, равно как не могла она вынуть его и пырнуть снова. Оно вошло мне в тело дюйма на три слева от пупка, и это было лучше, чем если бы она вонзила его по центру, потому что тогда нож проткнул бы мне желудок и кишки, что вызвало бы неотвратимую смерть. Это, конечно, было больно, о господи, еще не очень больно, всего лишь разлившееся по телу тепло превратилось в жгучую жару. Она отчаянно боролась, пытаясь вырвать нож из тела, а я также отчаянно боролся, чтобы наши крепкие объятия не разомкнулись. Мой мечущийся мозг подсказывал только одно решение. Как в том сне, я нагнул голову, поднес губы к ее горлу... ...и не смог сделать этого. Я не мог яростно вонзить в нее зубы, как будто был диким зверем, не мог разорвать ее яремную вену, не мог вынести даже мысли о том, как ее кровь хлынет мне в рот. Она не была гоблином. Она была человеком. Одной из моего рода. Одной из нашего бедного, слабого, несчастного и угнетенного рода. Она познала страдание и одолела его, и если она и делала ошибки, даже страшные ошибки, у нее были на то свои причины. Если я не мог примириться с этим, я мог по крайней мере понять, а в понимании — прощение, а в прощении — надежда. Доказательство подлинной человечности — неспособность хладнокровно убивать своих единоплеменников. Это точно. Потому что если и это не доказательство, тогда на свете нет такой вещи, как подлинная человечность, и мы все — гоблины по сути своей. Я поднял голову. Отпустил ее руку, ту, что держала нож. Она вытащила лезвие из моего тела. Я стоял, опустив руки вдоль тела, беззащитный. Она отвела руку назад. Я закрыл глаза. Прошла секунда, другая, третья. Я открыл глаза. Она выронила нож. Доказательство.Глава 18
ПЕРВЫЙ ЭПИЛОГ
Мы покинули Йонтсдаун, но только потому, что все балаганщики шли на огромный риск, защищая меня и Райю. Многие из них не знали, почему в ее трейлере было убито два полицейских, но им не нужно было знать это либо они и не хотели знать. Джоэль Так сочинил какую-то историю, которой хоть никто и не поверил, но все остались довольны. Они сомкнули вокруг нас ряды с замечательным чувством товарищества, в блаженном неведении того, что встали против более страшного и могущественного врага, чем просто мир «правильных» и Департамент полиции Йонтсдауна. Джоэль запихнул тела тварей — Келско и его подручного — в патрульную машину, отвез ее в укромное место, обезглавил оба трупа и закопал головы. Затем отогнал машину (вместе с безголовыми телами) обратно в Йонтсдаун и сразу же после рассвета припарковал ее на стоянке возле склада. Люк Бендинго подобрал ее и отвез обратно на ярмарку, не ведая, как были изувечены мертвые копы. Прочие гоблины в Йонтсдауне вполне могли поверить, что Келско пал жертвой какого-то маньяка, даже не успев доехать до ярмарки. Но даже если бы они и заподозрили нас, доказать они ничего бы не смогли. Я скрылся в трейлере, принадлежащем Глории Нимз, толстой даме, по доброте с ней не мог сравниться никто, кого я когда-либо знал. Она тоже обладала некоторыми психическими способностями. Она могла передвигать взглядом небольшие предметы, если сосредоточивала на них внимание, и могла находить потерянные вещи при помощи лозы. Она не видела гоблинов, но знала, что Джоэль Так, Райа и я видим их, и благодаря своим способностям, о которых Джоэлю было известно, она поверила нашим рассказам про демонов с большей готовностью, чем другие. Сама Глория сказала: «Господь иногда кидает кость некоторым из тех, кого он увечит. Я думаю, что среди нас, уродов, больше экстрасенсов, чем в целом среди людей, и я думаю, нам было предначертано собраться всем вместе. Но, между нами говоря, милый, я бы с радостью перестала быть одаренной, если бы могла обменять свой дар на то, чтобы стать стройной и красивой!» Ярмарочный врач, излечившийся алкоголик по имени Уинстон Пеннингтон, заходил в трейлер Глории по два-три раза в день, чтобы подлечить мою рану. Никакие из жизненно важных органов и артерий не были задеты. Но у меня развилась лихорадка, тошнота, сильное обезвоживание организма и горячка, и в памяти у меня не много осталось от шести дней, последовавших за схваткой с Райей на кладбище. Райа. Она должна была исчезнуть. В конце концов, многие из демонов знали ее как сотрудничающую с ними и могли начать снова разыскивать ее, чтобы она указывала им тех, кто способен видеть сквозь их маскарадные костюмы. А она больше не желала этим заниматься. Она была совершенно уверена, что только Келско с подручным знали про меня, и теперь, когда они были мертвы, я был в безопасности. Но ей нужно было навсегда исчезнуть. Артуро Сомбра заполнил заявление о ней как о пропавшей без вести в полицию Йонтс-дауна, которая, естественно, не нашла концов. Следующую пару месяцев братья Сомбра распоряжались ее концессиями от ее имени, но под конец компания воспользовалась пунктом контракта об отчуждении собственности, и аттракционы Райи перешли во владение фирмы. А фирма продала их мне. Сделку финансировал Джоэль Так. По окончании сезона я пригнал «Эйрстрим» Райи в Джибсонтон, штат Флорида, и припарковал его возле поставленного на фундамент более крупного трейлера, также принадлежавшего ей. После хитроумной возни с бумагами я стал также владельцем собственности в Джибсонтоне и жил там один с середины октября до того момента, когда за неделю до Рождества ко мне приехала умопомрачительно красивая женщина, чьи глаза были такими же голубыми, как у Райи Рэйнз, чье тело было столь же совершенно вылеплено, но черты лица немного отличались от лица Райи, а волосы были цвета воронова крыла. Она сказала, что ее зовут Кара Маккензи, что она — моя двоюродная сестра из Детройта, которая не виделась со мной сто лет, и что нам надо о многом потолковать. Несмотря на мою твердую решимость понять и простить любимого человека, мне все же надо было избавиться от некоторой нетерпимости и возмущения тем, что она сделала, и мы слишком неловко чувствовали себя в обществе друг друга, чтобы вообще о чем-либо разговаривать. Так было вплоть до Рождества. С этого момента мы не могли закрыть рта. Долгое время мы чувствовали друг друга чужими, мы восстанавливали связи и не ложились в одну постель вплоть до пятнадцатого января. А когда легли, в первый раз это было далеко не так хорошо, как прежде. Но как бы там ни было, к началу февраля мы уже решили, что после всего происшедшего Кара Маккензи больше не моя кузина из Детройта, а моя жена. И в эту зиму Джибсонтон стал свидетелем одной из самых пышных свадеб, какие он когда-либо видел. Возможно, Райа не была так же великолепна, став брюнеткой, может быть, пластическая операция отняла немного красоты у ее лица, но она по-прежнему была прекраснейшей женщиной на свете. И что более важно, она начала избавляться от эмоционально искалеченной Райи — тоже гоблина, но иного рода, жившего внутри ее. Мир продолжал жить как всегда. Это был год, когда они убили в Далласе нашего президента. Это был конец невинности. Исчез определенный жизненный уклад и образ мыслей, и многие, впав в уныние, говорили, что умерла и надежда. Но хотя осенью облетающие листья обнажают ветви, как кости скелета, весна вновь наряжает деревья. Это также был год, когда «Битлз» выпустили свою первую пластинку в Штатах, год, когда «Конец света» Скитера Дэвиса был песней номер один, год, когда «Ронеттс» записали «Будь моей, крошка». А эта зима была зимой, когда мы с Райей вернулись в Йонтсдаун, штат Пенсильвания, на несколько дней в марте, чтобы принести войну на территорию врага. Но это уже другая история. Которая следует ниже.Часть II. ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ
Тропки ночи там и тут Прочь от сумерек бегут.Книга Исчисленных скорбей
Что-то движется в ночи, Недобром дыша. Молчи!Книга Исчисленных скорбей
Шепчет сумрак наверху — Ночь роняет шелуху.Книга Исчисленных скорбей
Глава 19
ПЕРВЫЙ ГОД НОВОЙ ВОЙНЫ
Джон Кеннеди был мертв и похоронен, но эхо его похоронного марша затихало еще очень долго. В течение большей части той серой зимы казалось, что мир предпочел панихиду музыке. Небо нависало ниже, чем когда-либо прежде. Даже во Флориде, с ее безоблачными днями, мы ощущали пасмурность, не видимую глазом. Так что даже в счастье нашей семейной жизни мы с Райей не могли полностью найти убежища ни от мрачного настроения остального мира, ни от памяти о наших собственных недавних ужасах. Двадцать девятого декабря 1963 года одна из американских радиостанций впервые прокрутила запись «Битлз» «Я хочу взять тебя за руку», и к первому февраля 1964 года это была песня номер один в стране. Мы нуждались в этой музыке. Эта мелодия и прочие, в изобилии последовавшие за ней, научили нас вновь понимать значение радости. «Легендарная четверка» из Британии стала не просто музыкантами — она стала символом жизни, надежды, перемен и выживания. В тот год за «Я хочу взять тебя за руку» последовали «Она любит тебя», «Мою любовь не купишь», «Я видел, как она стояла там», «Мне хорошо» и еще более двух десятков других песен — половодье доброй музыки, с которым до сих пор ничто не может сравниться по силе. А нам так было нужно добро — не для того, чтобы позабыть ту смерть в Далласе в ноябре прошлого года, но чтобы отвлечь себя от признаков и предзнаменований смерти и разрушения, множившихся день ото дня. Это был год Резолюции Тонкинского залива, когда конфликт во Вьетнаме перерос в полноценную войну, хотя никто еще и представить себе не мог, насколько полноценной она станет. Не исключено, что это был также год, когда реальная близость ядерного уничтожения наконец-то была похоронена в глубинах национального сознания — потому что эта реальность была выражена во всех областях искусства так, как никогда прежде, особенно в фильмах типа «Доктор Стрэйнджлав» и «Семь дней в мае». Мы ощущали, что движемся по самому краю страшной бездны, и музыка «Битлз» давала нам поддержку — так, насвистывая на кладбище, можно отогнать прочь мрачные мысли о разлагающихся трупах. После обеда, в понедельник, шестнадцатого марта, две недели спустя после нашей свадьбы, мы с Райей лежали на бело-зеленых полотенцах на пляже и негромко беседовали, слушая транзисторный приемник. Примерно треть программы составляла музыка «Битлз» либо их подражателей. Накануне, в воскресенье, пляж был переполнен, но сейчас он находился целиком в нашем распоряжении. Море лениво катило волны, и лучи флоридского солнца, жарящие воду, создавали иллюзию тысяч золотых монет на воде, как будто прибой неожиданно вынес на поверхность воды затонувший испанский галеон. Безжалостные лучи субтропического солнца выбеливали и без того белый песок, а наш загар становился все сильнее с каждым часом. Висящее в вышине солнце превратило мою кожу в шоколадную. У Райи тон загара был богаче, с оттенком золотого. Горячий медовый блеск ее кожи нес в себе такой мощный эротический заряд, что я не мог удержаться от того, чтобы время от времени не протягивать руку и не прикасаться к ней. Хотя волосы ее были теперь черными как вороново крыло, а не светлыми, она все равно осталась золотой девушкой, дочерью солнца, какой показалась мне в тот день, когда я впервые увидел ее на аллее ярмарки братьев Сомбра. Слабый меланхолический настрой, подобный отдаленным звукам едва слышной скорбной песни, окрашивал все наши дни, хотя это вовсе не значит, что мы были печальны (мы вовсе не были печальны) или что мы видели и познали слишком много темного, чтобы быть счастливыми. Мы часто — даже постоянно были счастливы. Меланхолия в умеренных дозах странным образом может действовать успокаивающе, есть в ней некая таинственная сладость. Она создает контраст и тем самым способна придать утонченную остроту счастью, особенно радостям плоти. В эти благоуханные послеобеденные часы понедельника мы наслаждались солнечным теплом и собственным слегка меланхоличным настроением, зная, что, вернувшись в свой трейлер, займемся любовью, и слияние наше будет почти невыносимой полноты. Каждый час по радио в новостях нам рассказывали про Китти Дженовезе, убитую в Нью-Йорке два дня назад. Тридцать восемь ее соседей из Кью-Гарденс слышали ее панические крики о помощи, видели из окон, как нападавший несколько раз пырнул ее, начал красться прочь, затем вернулся и снова пырнул, в конце концов прикончив ее на пороге ее собственного дома. Никто из этих тридцати восьми не пришел ей на помощь. Два дня спустя эта история по-прежнему была на первых страницах новостей, и вся страна пыталась понять причину того, что высветили кошмарные события в Кью-Гарденс, — бесчеловечность, бессердечность и изолированность современных жителей и жительниц городов. «Мы просто не хотели впутываться», — говорили тридцать восемь зрителей, как будто то, что Китти Дженовезе была того же племени, того же возраста и из того же круга, что и они, — как будто все это не было достаточным основанием, чтобы вызвать милосердие и сострадание. Конечно, мы с Райей знали, что кое-кто из тех тридцати восьми почти наверняка был не человеком, а гоблином, расцветающим при виде боли умирающей женщины и эмоционального смятения и вины бесхребетных наблюдателей. Когда закончились новости, Райа выключила радио и сказала: — Не все зло на свете идет от гоблинов. — Да. — Мы и сами способны на жестокость. — Куда как способны, — согласился я. Она помолчала, прислушиваясь к раздающимся вдали крикам чаек и к волнам, мягко разбивающимся о берег. Наконец она заговорила: — Год за годом гоблины плодят смерть, страдание и жестокость и тем самым загоняют доброту, честность и правду все дальше и дальше в угол. Мир, в котором мы живем, становится все более холодным и злобным, главным образом — хотя и не целиком — из-за них, мир, в котором у молодежи все больше дурных примеров для подражания. А это гарантия того, что в каждом следующем поколении сострадания будет меньше, чем в том, что было до него. Каждое следующее поколение будет все более терпимым ко лжи, убийствам и жестокости. Не прошло и двадцати лет после массовых убийств Гитлера, но большинству людей, кажется, безразлично — если они вообще помнят — что тогда происходило. Сталин убил по меньшей мере втрое больше, чем Гитлер, а об этом все молчат. Сейчас в Китае Мао Цзэдун убивает миллионы людей и еще больше их стирает в порошок в рабских трудовых лагерях, а много ли ты слышал возмущенных голосов? И такое положение дел не изменится до тех пор, пока... — Пока что? — Пока мы не сделаем что-нибудь с гоблинами. — Мы? — Да. — Мы с тобой? — Для начала да, мы с тобой. Я остался лежать на спине, закрыв глаза. Пока Райа не заговорила, я чувствовал себя так, словно солнечные лучи струились прямо сквозь меня в землю, как будто я был прозрачным. В этой воображаемой прозрачности я обретал некоторое успокоение и облегчение, свободу от ответственности и мрачных новостей по радио. И вдруг, начав осознавать, что сказала Райа, я почувствовал себя пришпиленным солнечными лучами, неспособным двигаться, пойманным в ловушку. — Мы ничего не можем сделать, — неловко сказал я. — По крайней мере, ничего, что дало бы нам существенный перевес. Мы можем попытаться загонять и убивать поодиночке тех гоблинов, с которыми сталкиваемся, но их же многие миллионы. Убийство нескольких десятков или нескольких сотен не даст подлинного эффекта. — Мы можем сделать больше, чем убивать тех, что приходят к нам, — возразила она. — Мы можем еще кое-что. Я не отреагировал. В двухстах ярдах к северу от нас на пляже возились чайки в поисках еды — мертвых рыбешек, объедков хот-догов, оставшихся от вчерашней толпы. Их отдельные крики, пронзительные и жадные, неожиданно резанули меня холодным, скорбным и одиноким звучанием. Райа сказала: — Мы можем отправиться к ним. Я направил всю свою волю на то, чтобы заставить ее остановиться, беззвучно моля ее замолчать, но ее воля оказалась сильнее моей, а безгласные мольбы не возымели действия. — Они сконцентрированы в Йонтсдауне, — продолжала она. — У них там своего рода гнездо, этакое отвратительное, зловонное гнездо. А должны быть и еще места, подобные Йонтсдауну. Они ведут войну против нас, но все сражения начинают только они сами. Мы могли бы изменить этот порядок, Слим. Мы могли бы дать им бой. Я открыл глаза. Она сидела, нагнувшись надо мной и глядя на меня. Она была невероятно красива и чувственна, но лучащаяся женственность скрывала яростную решимость и стальную волю, как будто в Райе воплотилась некая древняя богиня войны. Мягко разбивающийся о берег прибой звучал как далекая канонада, как эхо далекого сражения. Теплый ветерок скорбно шелестел в пушистых пальмовых листьях. — Мы могли бы дать им бой, — повторила она. Я подумал о матери и сестрах, которые теперь были для меня потеряны из-за моей неспособности втянуть голову и не быть вовлеченным в войну, потеряны из-за того, что я дал бой дядюшке Дентону вместо того, чтобы позволить ему диктовать ход войны. Я протянул руку и коснулся гладкого лба Райи, дотронулся до ее изящно вылепленной макушки, щек, носа, губ. Она поцеловала мою руку. Ее взгляд был прикован ко мне. Она сказала: — Мы нашли друг в друге радость и смысл жизни, нашли больше, чем мы могли ждать для себя. И теперь возникает соблазн сыграть в черепашек, втянуть головы в панцири и наплевать на весь остальной мир. Возникает соблазн — радоваться тому, что у нас есть, и послать к чертям всех прочих. И какое-то время... может, мы и будем счастливы, живя так. Но только какое-то время. Рано или поздно мы не выстоим под тяжестью вины и стыда за свою трусость и эгоизм. Я знаю, о чем говорю, Слим. Вспомни, до недавних пор я так и жила: заботилась только о себе, о собственном выживании. Один кошмарный день за другим, и меня заживо съедало чувство вины. Ты никогда таким не был; у тебя всегда было чувство ответственности, и ты бы не смог избавиться от него, какие бы мысли у тебя ни возникали. И сейчас, когда и я обрела чувство ответственности, я не намерена доходить до того, чтобы отбросить его. Мы не такие, как те люди из Нью-Йорка, которые глядели, как Китти Дженовезе убивают, и ничего не предприняли. Мы просто не такие, Слим. Если мы попытаемся стать такими же, мы мало-помалу возненавидим себя. Мы начнем обвинять друг друга в трусости, ожесточимся и вскоре уже не будем любить друг друга, по крайней мере, так, как любим друг друга сейчас. Все, что у нас есть общего, — и все, что мы надеемся приобрести, — зависит от того, будем ли мы по-прежнему втянуты в эту войну, будем ли извлекать пользу из своей способности видеть гоблинов и будем ли делать то, что должны делать. Я опустил руку на ее колено. Таким теплым было оно... таким теплым. Наконец я сказал: — А если мы погибнем? — По крайней мере это будет не бесполезная смерть. — А если погибнет только один из нас? — Останется второй, чтобы отомстить. — Слабое утешение, — заметил я. — Но мы не погибнем, — сказала она. — Так уверенно это говоришь. — Я уверена. Совершенно. — Хотел бы я быть таким же уверенным. — Можешь. — Как? — поинтересовался я. — Верь. — И все? — Да. Просто верь в победу добра над злом. — Как в Тинкербелле, — сказал я. — Нет, — возразила Райа. — Тинкербелл был порождением фантазии, и его поддерживала одна лишь вера. А мы с тобой говорим о таких вещах, как добро, милосердие и справедливость — а это все не выдумки. Они существуют независимо от того, веришь ты в них или нет. Но если ты в них веришь, тогда они заставят твою веру действовать. А если ты станешь действовать, ты поможешь тому, чтобы зло не одержало верх. Но только если ты станешь действовать. — Именно это с тобой и произошло, — заметил я. Она не сказала больше ни слова. — Ты могла бы продать холодильники эскимосам. Она молча глядела на меня. — Меховые шубы гавайцам. Она ждала. — Лампы для чтения слепым. Она не улыбнулась мне. — Даже подержанные автомобили, — закончил я. С глубиной ее глаз не могло бы соперничать даже море. Позже, уже в трейлере, мы занялись любовью. В янтарном свете прикроватной лампы ее загорелая кожа казалась созданной из бархата цвета меда и корицы, кроме тех мест, где крошечные лоскутки открытого купальника защищали ее от солнца, — там эта безупречная ткань была бледнее и еще нежнее. Когда глубоко внутри ее мое мягкое семя внезапно начало разматываться стремительно-жидкими нитями, казалось, эти нити сшивают нас воедино, соединяют тело с телом и душу с душой. Когда «я» наконец стал мягким, уменьшился в размерах и выскользнул из нее, я спросил: — Когда мы отправляемся в Йонтсдаун? — Завтра? — прошептала она. — Добро, — ответил я. Снаружи опускающиеся сумерки принесли с собой горячий ветер с запада. Он пересек залив, хлестнул по пальмам, зашумел в зарослях бамбука и вздохнул среди австралийских сосен. Металлические стены и крыша трейлера заскрежетали. Она выключила свет, и мы легли рядом во мгле. Ее спина принималась к моему животу. Мы прислушивались к ветру. Может быть, мы были довольны своим решением и выказанной нами отвагой, может быть, мы гордились собой, но мы еще были и напуганы, определенно напуганы.Глава 20
НА СЕВЕР
Джоэль Так был против. Против наших благородных намерений. «Безмозглый идеализм» — так он назвал их. Против поездки в Йонтсдаун. «Больше безрассудства, чем смелости». Против задуманного нами развязывания войны. «Обречено на провал», — сказал он. Тем вечером мы ужинали с Джоэлем и его женой Лорой у них дома — в стоящем на фундаменте трейлере в два раза шире обычных на одной из самых больших стоянок в Джибтауне. Принадлежащий им участок был весь в пышной зелени — банановые пальмы, с полдюжины пестрых разновидностей ползучих растений, папоротники, бугенвиллея, даже несколько кустов жасмина. Глядя на изысканные ряды кустарников и цветов, кто-то мог решить, что внутри жилище Така будет переполнено мебелью и чрезмерно украшено, может, даже в каком-нибудь из тяжелых европейских стилей. Но это ожидание не оправдалось. Их дом нес на себе отчетливый отпечаток модерна: простая, с четкими линиями, почти без украшений современная мебель, две абстрактные картины, выполненные в смелой манере, несколько стеклянных статуэток — но никаких безделушек, никакого беспорядка. Среди цветов доминировали цвета земли — бежевый, песочно-белый и коричневый, единственным цветом, придающим некий акцент этой гамме, был бирюзовый. Я подозревал, что такое строгое убранство, по мнению хозяев, не должно было подчеркивать деформированные черты лица Джоэля. В конце концов дом, полный отполированной и украшенной красивой резьбой европейской мебели — французской, итальянской или английской, — независимо от стиля, непременно трансформировался бы в присутствии хозяина с его крупными размерами и кошмарным обликом и показался бы куда менее элегантным, чем готический дом, воскрешающий в памяти старые темные дома и населенные призраками замки из бесчисленного множества фильмов. Но, по контрасту, среди этой современной обстановки впечатление от необычного лица хозяина странным образом смягчалось. Он как будто был ультрамодерновой, сюрреалистической скульптурой, неотъемлемой частью таких вот чистых, свободных гостиных, как эта. Дом Така не был ни холодным, ни отталкивающим. Длинная стена большой жилой комнаты была сплошь заставлена книжными полками, до отказа набитыми томами в твердых переплетах. Это придавало комнате определенную теплоту, хотя прежде всего сами Джоэль и Лора были источниками дружелюбной, уютной атмосферы, в которую мгновенно попадали гости. Почти все балаганщики, с которыми я когда-либо встречался, приветствовали меня без всякой скрытности, как своего; но даже среди балаганщиков Джоэль и Лора отличались даром особого дружелюбия. В августе прошлого года, в ту кровавую ночь, когда мы с Джоэлем убили и обезглавили шестерых гоблинов на темной аллее ярмарочной площади графства Йонтсдаун, я был удивлен, услышав, что он говорит про свою жену, — я и не знал, что он женат. После этого, до тех пор, пока я не встретил ее, мне было страшно любопытно, что это за женщина, которая вышла замуж за такого мужчину, как Джоэль. Я воображал себе каких угодно спутниц для Джоэля, но ни одна из них не имела ничего общего с Лорой. Во-первых, она была очень красивая, изящная и грациозная. Не такая, что дух захватывает (как Райа), не из тех женщин, при одном взгляде на которых мужчины содрогаются, но, несомненно, красивая и желанная: каштановые волосы, ясные серые глаза, открытое лицо с гармоничными чертами, приятная улыбка. Она обладала уверенностью в себе, присущей сорокалетней женщине, но выглядела не больше чем на тридцать, так что я решил, что ей где-то между тридцатью и сорока. Во-вторых, в ней не было ничего от подстреленной птицы — никакой застенчивости, никакой робости, которые могли бы помешать ей повстречать и очаровать человека, принятого в обществе и куда более физически привлекательного, чем Джоэль. В ней также не было и намека на фригидность, ничего, что позволило бы предположить, будто она вышла замуж за Джоэля именно потому, что из благодарности он будет предъявлять меньше требований физической близости, чем другие мужчины. На самом деле она была очень нежной по своей природе — то и дело прикасалась к собеседнику, обнималась, целовала в щеку, — и были все основания предполагать, что столь раскованная манера в отношениях с друзьями была лишь бледной тенью страсти, которую она испытывала на супружеском ложе. Как-то вечером, в предрождественскую неделю, когда Райа и Лора ходили по магазинам, мы с Джоэлем пили пиво, ели попкорн с сыром и играли в карты. Джоэль употребил достаточно «Пабста», чтобы содержимое этих бутылок пробудило в нем сентиментальность, такую густую и сладкую, что, будь он диабетиком, запросто мог бы свалиться в коме. В этом состоянии он был неспособен говорить ни о чем, кроме своей обожаемой жены. Лора такая добрая (так он сказал), такая славная, любящая, благородная, а еще и умная, мудрая, даже холодную свечку может зажечь без спички. Может, она и не святая (так он сказал), но если в наши дни по земле ходит кто-то ближе к святости, чем она, то ему, Джоэлю, черт возьми, дико хочется узнать, кто ж это такой. Он заверил меня, что ключ к пониманию Лоры — и к пониманию того, почему она выбрала его, — в том, чтобы осознать, что она из тех немногих, кто никогда не обманывается внешним видом — лицом, репутацией — или первым впечатлением. У нее был талант заглядывать в глубь людей — ничего психического наподобие нашего с Джоэлем умения видеть гоблинов под маскировкой, а просто старая добрая проницательность. В Джоэле она разглядела человека, чья любовь и уважение к ней были почти безграничны и который, несмотря на его чудовищное лицо, был добрее и серьезнее большинства мужчин. Как бы там ни было, тем вечером, в понедельник шестнадцатого марта, когда мы с Райей открыли свои намерения объявить войну гоблинам, Джоэль и Лора отреагировали так, как мы и ожидали. Она нахмурилась, серые глаза потемнели от беспокойства. Она дотрагивалась и обнимала нас чаще, чем обычно, как будто каждое физическое соприкосновение было еще одной нитью в паутине, что могла бы привязать нас к Джибтауну и уберечь от нашей опасной миссии. Джоэль нервно расхаживал по комнате, опустив деформированную голову, ссутулив тяжелые плечи. Наконец он сел на скамью, нервно заерзал, снова вскочил и принялся расхаживать — не переставая при этом спорить с нашим планом и пытаясь урезонить нас. Но нас не могла поколебать ни нежность Лоры, ни логика Джоэля, потому что мы были молоды, решительны и в нас горел огонь справедливости. Посреди ужина, когда разговор наконец перешел на другие темы, когда Таки, казалось, неохотно смирились с неизбежностью нашего крестового похода, Джоэль вдруг отложил в сторону нож и вилку, звякнув ими по тарелке, помотал седеющей головой и снова начал дискуссию: — Это, черт возьми, акт самоубийства и ничто иное! Если вы отправитесь в Йонтсдаун, чтобы стереть с лица земли гнездо гоблинов, вы просто совершите двойное самоубийство. — Он задвигал мощной челюстью, похожей на черпак экскаватора, так, словно несколько сот очень важных слов застряли в этом несовершенном костяном механизме, но когда он заговорил опять, то всего лишь повторил: — Самоубийство. — А сейчас, когда вы обрели друг друга, — добавила Лора, протянув руку и ласково коснувшись руки Райи, сидящей напротив нее, — у вас есть причины жить. — Мы вовсе не собираемся войти в город и возвестить о себе, — заверила Райа. — Это же не охота в коррале. Мы собираемся действовать осторожно. Сперва надо будет узнать о них как можно больше, узнать, почему их так много в одном месте. — Мы собираемся весьма хорошо вооружиться, — сказал я. — Не забывайте, у нас есть одно огромное преимущество, — напомнила Райа. — Мы можем видеть их, но они не знают, что мы их видим. Мы будем призраками-головорезами. — Но они знают тебя, — напомнил ей Джоэль. — Нет, — ответила она, помотав головой. Ее волнистые черные волосы переливались под голубым полуночным светом. — Они знают прежнюю меня, блондинку с несколько иными чертами лица. Они считают, что та женщинамертва. В каком-то смысле... так оно и есть. Джоэль расстроенно уставился на нас. Третий глаз в его гранитном лбу был загадочно мутно-оранжевым пятном. Казалось, он полон тайных видений апокалиптического характера. Он прикрыл два остальных глаза и глубоко вздохнул, выражая этим вздохом смирение и печаль. — Почему? Почему, черт возьми? Почему вам так необходимо это безумие? — Мои годы в детдоме, когда я жила у них под пятой, — ответила Райа. — Я хочу отомстить за них. — И за моего брата Керри, — сказал я. — За Студня Джордана, — добавила Райа. Джоэль не открыл глаза. Он сложил руки на столе, словно для молитвы. — И за моего отца, — сказал я. — Один из них убил моего отца. И бабушку. И тетю Полу. — За тех детей, что погибли при пожаре в йонтсдаунской школе, — тихо добавила Райа. — И за тех, кто погибнет, если мы не будем действовать, — сказал я. — Чтобы искупить мои грехи, — сказала Райа. — За все годы, что я была на их стороне. — Потому что, если мы не сделаем этого, — добавил я, — мы будем не лучше, чем те люди, что стояли у окон и глядели, как Китти Дженовезе режут на куски. Мы все сидели и с минуту думали над этим. Ночной воздух струился в окна, прикрытые ширмами, с легким шипением, словно кто-то выдыхал его сквозь сжатые зубы. Снаружи в ночи пронесся сильный порыв ветра, как будто некое создание огромного размера прошло в темноте. Наконец Джоэль сказал: — Но, господи, вас только двое против такого множества... — Это лучше, что нас только двое, — сказал я. — Двоих осторожных чужаков не заметят. Мы сможем соваться повсюду, не привлекая к себе внимания, и тем самым скорее сумеем выяснить, почему так много их собралось в одном месте. А потом... если мы решим, что необходимо уничтожить несколько гоблинов, мы сможем сделать это втихую. В глубоко запавших глазницах под массивным неровным лбом открылись карие глаза Джоэля. Они были бесконечно выразительными, полными понимания, беспокойства, сожаления и, возможно, жалости. Лора Так потянулась через стол, взяла руку Райи в свою, другой рукой дотронулась до моей и сказала: — Если вы отправитесь туда и обнаружите, что попали в беду, из которой не сумеете выбраться в одиночку, мы придем. — Да, — сказал Джоэль с ноткой отвращения к себе самому (я ощутил, что тут он был не вполне искренен), — боюсь, что мы достаточно тупы и достаточно сентиментальны, чтобы прийти. — И приведем других балаганщиков, — добавила Лора. Джоэль покачал головой. — Ну, тут я не уверен. Балаганщики такие люди, которые не слишком хорошо функционируют во внешнем мире, но это, разумеется, не значит, что у них бетон между ушей. Им не понравится соотношение. — Это все не важно, — заверила их Райа. — Мы не собираемся прыгать выше головы. Я добавил: — Мы намерены быть осторожными, как пара мышей в доме, где сотня котов. — С нами все будет в порядке, — сказала Райа. — Не беспокойтесь за нас, — сказал я им. Думаю, я искренне имел в виду именно то, что сказал. Полагаю, я и в самом деле был настолько уверен в себе. Мою необоснованную уверенность нельзя было списать за счет опьянения, потому что я был совершенно трезв.* * *
В ранний утренний час во вторник меня разбудила буря, грохочущая далеко в заливе. Некоторое время я лежал, еще полусонный, прислушиваясь к ритмичному дыханию Райи и к ворчанию небес. Постепенно туманные потоки сна рассеялись, сознание прояснилось, и я вспомнил, что буквально перед пробуждением мне приснился скверный сон и что буря играла в этом сне главную роль. Поскольку прежние сны оказались пророческими, я попытался вспомнить сегодняшний сон, но он ускользал от меня. Смутные образы сна легкими струйками дыма возникали в памяти, петляя и ускользая от меня, точно настоящий дым — извивались и тянулись вверх тем быстрее, чем сильнее я стремился оформить их в четкие, что-то значащие картинки. Хотя я довольно долго напрягал свою память, я смог припомнить лишь странное тесное пространство, длинный, узкий, таинственный коридор, а может, туннель, в котором чернильная темнота словно сочилась из стен, и единственные пятна света — неверного, горчично-желтого — были далеко друг от друга, разделенные угрожающими тенями. Я не смог вспомнить, где находилось то место, что за кошмарные события там происходили. Но даже эти неясные, обрывочные воспоминания вызвали у меня озноб и заставили сердце громко стучать от страха. Буря над заливом приближалась. Вскоре упали первые тяжелые капли дождя. Ночной кошмар отступил еще дальше, где мне было не поймать его, и мало-помалу вместе с ним улегся и страх. Ритмичное постукивание дождя по крыше трейлера вскоре убаюкало меня. Рядом со мной что-то сонно пробормотала Райа. Флоридской ночью, всего за два с половиной дня до поездки в Йонтсдаун, лежа в летнем тепле, но предчувствуя северную стужу, которой не мог избежать, я снова искал сна и нашел его, как грудной младенец находит материнскую грудь, только вместо молока я вновь испил черный эликсир сна. А утром, проснувшись, дрожа и задыхаясь, я, как и прежде, не смог припомнить, что же было в том странном кошмаре, расстроившем, но пока не встревожившем меня.* * *
Джибтаун — это зимняя квартира для балаганщиков из почти всех странствующих шоу в восточной части страны, не только с ярмарки братьев Сомбра. Поскольку балаганщики — начнем с этого — изгои либо неудачники, которые не могут найти своего места в обществе «правильных», в большинстве шоу (не у братьев Сомбра) при найме новых работников и заключении контракта с новыми концессионерами вопросов обычно не задают, так что среди честных неудачников есть несколько — совсем немного — «тяжелых случаев», криминальных личностей. Поэтому в Джибтауне, если знаешь, где искать, и если тебя считают надежным членом общества, можно найти практически все, что пожелаешь. Я желал парочку хороших многозарядных револьверов, два пистолета с запрещенными законом глушителями, дробовик-обрез, автоматическую винтовку, не меньше сотни фунтов пластиковой взрывчатки любого типа, детонаторы со встроенными часовыми механизмами, дюжину пузырьков пентотала соды, упаковку шприцев для подкожного впрыскивания и еще кое-какие товары, которые нелегко приобрести в ближайшем супермаркете. В то мартовское утро во вторник, позадавав с полчаса ненавязчивые вопросы, я вышел на Норланда Бэкверта — Скользкого Эдди, мелкого концессионера, путешествующего с крупной конторой практически весь сезон на Среднем Западе. Скользкий Эдди ничуть не выглядел скользким. Строго говоря, он выглядел высушенным. У него были ломкие волосы песочного цвета. Несмотря на флоридское солнце, он был бледный, как пыль в древней могиле. Кожа была иссушена солнцем, покрыта паутиной тонких морщин, а губы такие сухие, что казалось — они покрыты чешуей. Глаза его были странного цвета бледного янтаря, точно выгоревшая на солнце бумага. Одет он был в хрустящие брюки защитного цвета и в такую же рубашку, поскрипывающую и шелестящую при каждом его движении. Низкий и скрежещущий голос напомнил мне горячий ветер пустыни, шелестящий в мертвых кустарниках. Заядлый курильщик, у которого возле каждого стула, попавшегося мне на глаза, лежала пачка «Кэмела», он казался почти прокопченным, как кусок свинины. Жилая комната в трейлере Скользкого Эдди была тускло освещена и насквозь провоняла затхлым сигаретным дымом. Мебель была обтянута темно-коричневым винилом с имитацией под кожу. Несколько столов из стали и стекла, подходящий к ним кофейный столик, на котором лежали номера «Нэшнл инкуайрер» и несколько журналов по оружию. Лишь одна из трех ламп была зажжена. Воздух был прохладный и сухой. Все окна задернуты плотными, не оставляющими щелей шторами. Если бы не сигаретная вонь, я поверил бы, что это место — подвальный склад, в котором температура, освещенность и влажность тщательно контролировались, чтобы сохранить очень нежные произведения искусства или хрупкие документы. Дождь прекратился к рассвету, но, когда я добрался до жилища Скользкого Эдди, зарядил снова. Стук дождевых капель был здесь странно приглушенным, словно весь трейлер был завернут в тяжелые шторы вроде тех, что висели на окнах. Сгорбившись в коричневом кресле, Скользкий Эдди бесстрастно, не перебивая, слушал, пока я зачитывал ему весь свой длинный и противозаконный список покупок. То и дело он глубоко затягивался, держа сигарету рукой с тонкими пальцами, навек обесцвеченными от пятен никотина. Когда я выложил ему все, что мне надо, он не задал ни единого вопроса, даже во взгляде его выгоревших желтых глаз не появилось ни малейшего интереса. Он просто назвал цену и, когда я вручил половину этой суммы в залог, добавил: — Зайди в три. — Сегодня? — Да. — Ты можешь достать все это дело за несколько часов? — Да. — Мне нужно качество. — Разумеется. — Пластиковая взрывчатка должна быть очень устойчивой, ничего, что было бы опасно брать в руки. — Я с барахлом не работаю. — А пентотал... Он выпустил струю едкого дыма и сказал: — Чем дольше мы будем об этом трепаться, тем труднее мне будет доставить все это барахло сюда к трем часам. Я кивнул, встал и направился к двери. Еще раз обернувшись в его сторону, я спросил: — Тебе не любопытно? — Что? — Для чего мне все это, — пояснил я. — Нет. — Ну должен же ты полюбопытствовать... — Нет. — Будь я на твоем месте, я бы полюбопытствовал, почему люди приходят ко мне с подобными просьбами. Будь я на твоем месте, я бы захотел узнать, во что впутываюсь. — Вот поэтому ты не на моем месте, — ответил он.* * *
Дождь перестал, и вода вскоре впиталась в землю, листья высохли, лезвия травинок, прибитые струями дождя, медленно поднялись из своих смиренных поз. Но небо не прояснилось — оно низко нависало над ровным побережьем Флориды. Сочащаяся влагой масса темных туч, тянувшаяся на восток, казалась гниющей, покрытой прыщами. В тяжелом воздухе не пахло чистотой, как должно было быть после сильного дождя. Странный запах плесени примешивался к запаху сырости, как будто буря принесла с залива какую-то заразу. Мы с Райей собрали три чемодана и погрузили их в наш бежевый автомобиль, на бортах которого красовались металлические панели, выкрашенные под дерево. Уже в те дни Детройт больше не выпускал автомобили с настоящим «деревом». Возможно, это было первым признаком того, что эпоха качества, мастерства и истинности обречена уступить дорогу эпохе подделок, спешки и умелой имитации. Торжественно — а с кем-то и печально — попрощались мы с Джоэлем и Лорой Так, с Глорией Нимз, с Рыжим Мортоном, с Бобом Уэйландом, с мадам Дзеной, с Ирмой и Поли Лорас и с остальными балаганщиками — одним сказали, что отправляемся в небольшую увеселительную поездку, другим — правду. Они пожелали нам удачи и постарались как могли приободрить нас, но в глазах тех, кому была известна истинная цель нашей поездки, мы читали сомнения, страх, жалость и даже ужас. Они не думали, что мы вернемся — или что мы проживем в Йонтсдауне достаточно долго, чтобы выяснить что-нибудь важное о гоблинах или нанести врагу какой-то ощутимый урон. Всех их одолевала одна и та же мысль, хотя они и не дали ей выйти наружу: «Мы больше никогда не увидим вас». В три часа мы завернули к трейлеру Скользкого Эдди, расположенному в дальнем углу Джибтауна. Тот уже ждал нас со всем вооружением, взрывчаткой, пентоталом и прочими товарами, которые я ему заказал. Снаряжение было уложено в несколько потрепанных холстяных мешков с завязывающейся горловиной. Мы сунули их в машину с таким видом, словно таскали грязное белье, которое собирались отвезти в автоматическую прачечную. Райа согласилась сидеть за рулем в течение первого перегона на север. Моей обязанностью было ловить хорошую рок-н-ролльную радиостанцию в приемнике, пока накручиваются мили. Но не успели мы даже съехать с дорожки перед трейлером Скользкого Эдди, как он наклонился и сунул свою пергаментно-жесткую физиономию в открытое окошко с моей стороны. Дыхание, настоянное на сигаретном дыму, вырвалось из него вместе с сухим хрипением: — Если вы там поссоритесь с законом и если они захотят узнать, где вы приобрели то, чего бы вам не следовало иметь, — я надеюсь, вы поступите как достойные балаганщики и не приплетете к этому делу меня. — Разумеется, — резко ответила Райа. Ей открыто не понравился Скользкий Эдди. — Зачем оскорблять нас, вообще поднимая эту тему? Мы что, похожи на парочку профессиональных предателей, которые готовы бросить своих собратьев в костер, лишь бы самим согреться? Мы люди стойкие. Эдди по-прежнему искоса глядел на нас через окно, не вполне удовлетворенный ответом. Он будто чуял, что Райа и в самом деле была раньше предателем своего племени. А ее реакция на его подозрение была вызвана, возможно, не столько неприязнью к нему, сколько чувством вины, от которой она еще не очистилась до конца. Эдди продолжал: — Если у вас все сложится нормально — куда бы вы ни направлялись и что бы ни затевали — и если вам однажды снова понадоблюсь я для закупок, — можете обращаться без колебаний. Но если дела пойдут плохо, я вас больше не желаю видеть. — Если дела пойдут плохо, — так же резко ответила Райа, — ты нас и не увидишь никогда. Его выгоревшие янтарные глаза моргнули — сперва в ее сторону, затем в мою. Я готов был поклясться, что услышал, как его веки двигаются вверх и вниз с тихим, металлическим, скрежещущим звуком — точно заржавленные детали какого-то механизма, трущиеся одна о другую. Он хрипло вздохнул — я почти ожидал, что с чешуйчатых губ слетит облачко пыли, однако мне в лицо ударила всего лишь еще одна прогорклая волна табачного запаха. Наконец он сказал: — Мда. М-да... сдается мне, что я и вправду вас никогда больше не увижу. Райа вырулила с дорожки. Все это время Скользкий Эдди смотрел нам вслед. — Как он тебе показался? — спросила она меня. — Крыса пустыни, — ответил я. — Нет. — Нет? Она ответила: — Смерть. Я поглядел на удаляющуюся фигуру Скользкого Эдди. Неожиданно — возможно, он пожалел о стычке с Райей и предпочитал расстаться на более светлой ноте — он расплылся в улыбке и помахал нам рукой. Это было самое худшее, что он мог придумать, — его худое аскетичное лицо, высохшее, как кости, и бледное, как могильные черви, было не создано для улыбок. В этом оскале, похожем на улыбку скелета, я не увидел ни дружелюбия, ни тепла, ни какой бы то ни было радости — только нечестивый голод Старухи с косой. С этим дьявольским образом, ставшим нашим последним впечатлением от расставания с Джибтауном, путь на северо-восток через Флориду был мрачным, почти унылым. Даже музыка «Бич Бойз», «Битлз», «Дикси Капе» и «Фор сизонз» не могла улучшить нам настроение. Крапчатое небо казалось покрывающей нас шиферной крышей, как будто давящей на мир и грозящей обрушиться прямо на голову. Мы то выезжали из непогоды, то опять въезжали в нее. Временами сверкающий серебром дождь рассекал серый воздух, но светлее не становилось. Дождь делал дорогу словно зеркальной, но из-за него ее покрытие каким-то образом становилось еще чернее. Ручьи расплавленного серебра текли по щебенке придорожных канав, бурлили и пенились над водосточными желобами и дренажными канавками. Когда не было дождя, с ветвей кипарисов и сосен свешивалась тонкая пепельная мгла, придававшая кустарниковому ландшафту Флориды вид торфяников Англии. После наступления темноты мы въехали в туман, местами очень плотный. На том первом отрезке пути мы разговаривали мало, как будто боясь, что все сказанное нами лишь еще больше расстроит нас. Наше настроение было настолько мрачным, что даже прокручиваемый по радио первый хит «Сьюпримз» «Когда свет любви вспыхивает в его глазах» — песня эта вошла в хит-парады полтора месяца назад и была воплощением «развлекухи» — звучал не гимном радости, а поминальной песней. Все остальные мелодии производили на нас то же мрачное впечатление. Мы поели в унылом придорожном кафе, усевшись в закутке у засиженного насекомыми и побитого дождем окна. Все в меню было либо жареное, либо сильно зажаренное, либо зажаренное в сухарях. Один из водителей грузовиков, сидящих на табуретках возле стойки, был гоблином. От него исходили психические образы, и Сумеречным Взглядом я разглядел, что он частенько использовал свой танкоподобный грузовик, чтобы гнаться за неосторожными водителями, сталкивая их с пустынных отрезков флоридских дорог — тараня или спихивая в канавы, где они, запертые в машине, как в ловушке, тонули, либо в болота, где липкая зловонная жижа затягивала их. Я ощутил также, что он может стать причиной гибели многих невинных в ближайшие ночи, может, даже этой ночью, но не почувствовал, что он представляет опасность для нас с Райей. Мне захотелось вытащить нож из ботинка, проскользнуть у него за спиной и перерезать ему глотку. Но, помня о предстоящей нам миссии, я сдержал себя. Где-то в Джорджии мы провели ночь в отделанном вагонкой мотеле возле шоссе, соединяющего штаты, — не потому, что эта гостиница была так уж привлекательна, а потому что усталость внезапно завладела нами в безжизненном пустынном месте, где никаких других удобств найти было нельзя. Матрас был весь в комках, изношенные пружины кровати не давали никакой опоры. Через несколько секунд после того, как погас свет, мы услышали, как по растрескавшемуся линолеуму пола топочут невообразимо крупные водяные клопы. Но мы были слишком измотаны — и слишком напуганы будущим, — чтобы обращать на это внимание. Через пару минут, поцеловавшись, мы уже спали. И снова мне снился длинный туннель теней, еле-еле освещаемый тусклыми, стоящими далеко друг от друга янтарными лампами. Потолок был низкий. Стены были странным образом груботесаными, хотя я не мог распознать материал, из которого они сделаны. И снова я проснулся, трясясь от ужаса и сдерживая бьющийся в горле крик. И опять, как бы я ни старался, не мог припомнить ничего, что происходило в том кошмаре, ничего, что объяснило бы, почему так бешено и тяжело стучит сердце. Светящийся циферблат наручных часов показывал десять минут четвертого. Я проспал всего два с половиной часа, но знал, что больше мне в эту ночь не заснуть. Подле меня, в темноте комнаты, крепко спящая Райа стонала, задыхалась и вздрагивала во сне. Я задумался — не бежит ли она в эту минуту по туннелю теней, что был и в моем кошмаре. Я припомнил другой зловещий сон, который мы оба видели прошлым летом: кладбище на холме, лес надгробий. Тот сон оказался вещим. Если нам снова снился один и тот же кошмар, мы можем быть уверены, что и это окажется предупреждением об опасности. Утром я спрошу у нее, из-за чего она стонала и дрожала ночью. Дай-то бог, чтобы причиной ее дурного сна было что-нибудь более прозаическое, чем у меня: например, жирная еда в придорожной закусочной. А тем временем я лежал на спине в темноте, прислушиваясь к собственному тихому дыханию, к сонному бормотанию и метаниям Райи и к непрестанной деловитой возне многоногих насекомых.* * *
Утром в среду, восемнадцатого марта, мы ехали до тех пор, пока не добрались до приличного ресторанчика на развилке дорог. За вполне съедобным завтраком, состоящим из бекона, яиц, овсянки, вафель и кофе, я спросил Райю о ее сне. — Прошлой ночью? — спросила она и нахмурилась, собирая яичный желток куском тоста. — Я спала как бревно и никаких снов не видела. — Видела, — заверил я ее. — Правда? — И довольно долго. — Не помню. — Ты много стонала. Ерзала, простыни пинала. И не только в эту ночь, а в предыдущую тоже. Она моргнула и замерла, не донеся кусочек тоста до рта. — О, ясно. Ты хочешь сказать... ты сам проснулся от кошмара и увидел, что и мне снится страшный сон? — Верно. — И ты хочешь знать... — Не видели ли мы снова один и тот же сон. — Я поведал ей о странном туннеле, о слабых, тускло мерцающих лампах. — Я проснулся с таким чувством, будто меня что-то преследовало. — Что? — Что-то... что-то... не знаю. — Ну, — сказала она, — если мне и снилось что-нибудь в этом роде, то я не помню. — Она сунула кусок хлеба, пропитанного яйцом, в рот, пожевала, проглотила. — Итак, нам обоим снятся дурные сны. Это вовсе не обязательно должно быть... пророчество. Видит бог, у нас были все причины для плохого сна. Напряжение. Тревога. Учитывая, куда мы направляемся, мы просто обязаны видеть дурные сны. Это ничего не значит. Позавтракав, мы тронулись в долгий путь длиной в день. Мы даже не остановились перекусить — купили крекеров и конфет на заправочной станции, пока наполняли бак бензином. Постепенно субтропическая жара осталась позади, однако погода улучшилась. К тому времени, как мы доехали до середины пути через Южную Каролину, небо очистилось от туч. Странным образом — а может, и не странным, — но этот день с высоким голубым небом казался мне, по крайней мере, не более светлым, чем грязный от дождя день, когда мы покинули залив. Темнота ждала нас в сосновых лесах, которые тянулись по обе стороны шоссе. Этот мрак казался живым, наблюдающим, как будто терпеливо ждущим, пока появится возможность броситься, окутать нас и поглотить. Даже там, где сияющий медью солнечный свет падал в полную силу, я видел надвигающиеся тени, видел неизбежность ночной темноты. Настроение у меня было неважное. Поздно вечером в среду мы остановились в Мэриленде, в более приличном мотеле, чем в Джорджии, — хорошая кровать, ковер на полу и никакой беготни клопов. Мы были еще более усталые, чем накануне, но не заснули сразу. Вместо этого, неожиданно для самих себя, мы занялись любовью. Что еще более удивительно — мы были ненасытны. Все началось с нежных, томных потягиваний, с долгих легких толчков, с легкого напряжения и ленивого расслабления мускулов. Мы лениво поднимались и опускались вверх-вниз, как любовники в старых фильмах — нежно и странно-застенчиво, словно соединялись в первый раз. Но через некоторое время появилась страсть и энергия — неожиданные и на первый взгляд необъяснимые, если вспомнить о долгих часах, проведенных нами за рулем. Изысканное тело Райи никогда не было таким элегантным и чувственно вылепленным, полным и зрелым, таким теплым и гибким, таким шелковистым — таким драгоценным. Убыстряющийся ритм ее дыхания, короткие восклицания удовольствия, резко прерывающееся дыхание и слабые стоны, поспешность, с которой ее руки скользили по моему телу и прижимали меня — все эти выражения ее растущего наслаждения распаляли мое возбуждение. Я буквально начал дрожать от удовольствия, и каждый раз эта приятная дрожь, как электрический разряд, передавалась от меня к ней. Она восходила по лестнице наслаждения до высот, на которых захватывает дух, и, несмотря на мощное извержение, которое, казалось, исторгло из меня кровь и костный мозг вместе с семенем, я ни на гран не утратил возбуждения и твердости и вознесся вместе с нею на вершину эротического и эмоционального наслаждения как никогда прежде. Так же, как бывало с нами и раньше — хотя никогда с такой интенсивностью и силой, — мы страстно занимались любовью, чтобы забыть, перечеркнуть, не поддаться самому факту существования Старухи с косой в черном капюшоне. Мы старались отвергнуть с презрительным смехом реальные опасности, ждущие впереди, и реальные страхи, что были уже с нами. В радостях плоти мы искали утешения, временного мира и силы, которую обретали, соединяясь. А может, мы надеялись к тому же измотать себя настолько, чтобы заснуть без сновидений. Но сны нам приснились. Я обнаружил, что снова нахожусь внутри слабо освещенного туннеля, в ужасе убегая от чего-то, что не мог разглядеть. Паника обретала звук в тяжелом, невыразительном эхе моих шагов по каменному полу. Райа тоже видела сон и с криком проснулась незадолго до рассвета — я к тому времени уже несколько часов не спал. Я обнял ее. Она опять дрожала, но на этот раз не от наслаждения. Она припомнила обрывки кошмара: тусклые, мерцающие янтарным светом лампы, пространства черной как сажа темноты, туннель... Что-то очень плохое должно было произойти с нами в каком-то туннеле. Когда, где, что и почему — этих вещей мы пока не могли предвидеть. В четверг я сел за руль, и мы поехали на север, в Пенсильванию. Райа отвечала за радио. Небо опять скрылось за серо-стальными тучами, дочерна обугленными по краям, точно побитые войной врата небесного царства. Мы свернули с шоссе, соединяющего два штата, на более узкую трассу. Официально весна должна была наступить всего через несколько дней, но здесь, в северо-восточных горах, природа плевать хотела на календарь. Зима до сих пор безраздельно правила в этих местах и собиралась оставаться на троне до конца месяца, если не дольше. Земля, покрытая снегом, начала подниматься, сначала плавно, затем все более резко. Снежные берега вдоль дороги штата становились все выше. С каждой милей дорога делалась все более извилистой. Следуя по ее серпантинному пути, я и сам змеей скользил назад по своей памяти к тому дню, когда Студень Джордан, Люк Бендинго и я ехали в Йонтсдаун, чтобы вручить билеты и деньги городским властям, надеясь смазать рельсы перед ярмаркой братьев Сомбра. Земля таила в себе не меньше дурных предзнаменований, чем прошлым летом. Непостижимо, но несомненно — сами горы казались злом, как будто земля, камень и дерево могли каким-то образом выделять, вынашивать и хранить злобные помыслы и чувства. Потрепанные временем скальные образования, торчащие тут и там из-под одеял снега и почвы, напоминали полустершиеся зубы некоего поднимающегося левиафана, плавающего в глубинах суши, а не моря. В других местах образования вызывали в памяти гребнистые хребты гигантских рептилий. Пасмурный серый свет дня не порождал отчетливых теней, но придавал пепельный оттенок каждому предмету, пока нам не стало казаться, что мы попали в иной мир, в котором не существовало никаких цветов, кроме серого, черного и белого. Высокие вечнозеленые растения торчали, подобно шипам на бронированной рукавице жестокого рыцаря. Голые клены и березы были не очень-то похожи на деревья — скорее на окаменевшие скелеты древней дочеловеческой расы. Бесчисленные дубы, с которых зима сорвала покровы, были искорежены и обросли грибком. — Мы еще можем повернуть обратно, — ровно сказала Райа. — Ты хочешь? Она вздохнула: — Нет. — А на самом деле... разве можем? — Нет. Даже снег не придавал ни капли блеска этим злобным горам. Он не был похож на снег в других, более плодородных и добрых краях. Это не был снег Рождества — снег лыж, санок, снеговиков и снежков. Он покрывал коркой стволы и ветви бесплодных деревьев, но это лишь усиливало их черный, скелетоподобный облик. Этот снег натолкнул меня на мысли о белых кафельных комнатах в морге, где холодные мертвые тела рассекают на части, чтобы установить причину смерти. Мы миновали приметы, памятные мне с прошлого года: заброшенную шахту, полуразрушенный приемник, ржавеющие остовы автомобилей, громоздящиеся на бетонных плитах. Снег закрывал какую-то часть этих предметов, но ни в коей мере не уменьшал их роли в создании проникающей всюду атмосферы отчаяния, уныния и ветшания. Грунтовая — в три полосы — дорога штата была усыпана шлаком и песком, кое-где виднелись белые заплаты соли, которую насыпали рабочие, следящие за дорогами, после последней сильной бури. Покрытие было полностью свободно от снега и льда, ехать было легко. Когда мы миновали дорожный указатель, гласящий, что начинается черта города Йонтсдауна, Райа сказала: — Слим, сбрось-ка лучше скорость. Я глянул на спидометр и обнаружил, что мы несемся со скоростью, миль на пятьдесят в час превышающей допустимую. Я словно бессознательно намеревался пулей пронестись через весь город и вылететь с другой стороны. Я убрал ногу с акселератора, свернул за поворот и обнаружил, что у обочины припаркована полицейская машина — как раз в том углу поворота, где ее нельзя было заметить. Окошко водителя было чуть приоткрыто — ровно настолько, чтобы высунуть наружу радар. Когда мы проехали мимо нее, все еще двигаясь на несколько миль в час быстрее допустимого, я увидел, что коп за рулем был гоблином.Глава 21
ЗИМА В АДУ
Я выругался вслух — хотя мы превышали лимит скорости всего на две-три мили в час, я был уверен, что даже малейшего нарушения будет достаточно, чтобы навлечь на нас гнев власти в этом городе, где правят гоблины. Я беспокойно взглянул в зеркало заднего вида. На крыше черно-белой машины заработана красная мигалка — пульсирующий кровавый свет полосами пересекал заснеженный, белый, как в морге, ландшафт. Он намеревался задержать нас — не слишком многообещающее начало нашей тайной миссии. — Черт, — пробормотала Райа, развернувшись на сиденье, чтобы поглядеть в заднее стекло. Но прежде чем патрульный автомобиль успел выползти на шоссе, другой автомобиль — заляпанный грязью желтый «Бьюик» — вывернул из-за поворота. Его скорость была выше, чем наша, и внимание гоблина-полицейского переключилось на этого — более серьезного нарушителя. Мы, ускользнув от задержания, отъехали прочь, а коп остановил «Бьюик» позади нас. Внезапный порыв ветра поднял миллиард снежных нитей с земли, в мгновение ока соткал из них серебристо-серый занавес и задернул этот занавес на дороге за нашей спиной, скрыв «Бьюик», незадачливого водителя и гоблина-полицейского от моих глаз. — Недолет, — заметил я. Райа не отозвалась. Впереди и чуть ниже перед нами лежал Йонтсдаун. Она опять повернулась лицом вперед, кусая нижнюю губу и глядя на город, в который мы спускались. Прошлым летом Йонтсдаун произвел впечатление мрачного средневекового городишки. Сейчас, в холодных объятиях зимы, он был еще менее привлекателен, чем в тот августовский день, когда я впервые увидел его. В пасмурной дали клубящиеся из труб грязного сталелитейного завода дым и пар были темнее и тяжелее от загрязняющих веществ, чем прежде; они напоминали столбы выбросов из дымящегося вулкана. Несколькими сотнями футов выше серый пар утончался, и его разрывал в клочья зимний ветер, но серный дым тянулся от одной горной вершины к другой. Сочетание темных туч и желтых кислотных дымов придавало небу такой вид, будто ему наставили синяков. И если небо было в синяках, то город под ним был избит, разнесен в клочки, смертельно ранен — создавалось впечатление не просто умирающего в нем общества, но общества умирающих, кладбища размером с город. Ряды домов — многие из них обветшали, все были покрыты пленкой серой грязи, и более крупные строения из кирпича и гранита, в прошлый раз напоминавшие мне средневековые строения. Они не утратили своей анахроничности, но на сей раз — с закопченным снегом на крышах, с грязными сосульками, свешивающимися с карнизов, с желтушной изморозью, испятнавшей стекла под мрамор, — они к тому же казались ряд за рядом стоящими надгробиями на кладбище великанов. А с большого расстояния вагоны в депо вполне могли сойти за огромные гробы. Я чувствовал, что буквально плыву среди психических излучений, и каждый поток в этом Стигийском море был темным, холодным и пугающим. Мы пересекли мост через замерзшую реку. Острые глыбы льда в беспорядке громоздились внизу — под решетчатым металлическим настилом, с той стороны тяжелого железного ограждения. Тормоза в этот раз не запели — они испустили пронзительный, на одной ноте, вопль. На другой стороне моста я резко свернул, нажав на тормоз, и остановил машину. — Что ты делаешь? — спросила Райа, глядя на неряшливый бар и кафе, возле которых я остановился. Это было здание из цементных блоков желчно-зеленого цвета. Тусклая облупившаяся вывеска красного цвета болталась над входом. На окнах не было изморози, но виднелось множество потеков жира и копоти. Она спросила: — Что тебе там потребовалось? — Ничего, — ответил я. — Я... я просто хочу поменяться с тобой местами. Излучения... вокруг меня... отовсюду... Куда ни посмотрю, я везде вижу... странные, страшные тени, не настоящие, тени смерти и грядущего разрушения... боюсь, я не смогу сейчас вести машину. — В тот раз город на тебя так не действовал. — Действовал. Когда я сюда приехал с Люком и Студнем. Но не так тяжело. И я очень быстро взял себя в руки. Я к этому снова привыкну, очень быстро. Но сейчас... я себя чувствую... избитым. Пока Райа перебиралась на соседнее сиденье к баранке руля, я вылез из машины и, неуверенно обойдя вокруг, подошел к другой двери. Воздух был резкий и холодный. В нем пахло нефтью, угольной пылью, парами бензина, жарящимся мясом с решетки в ближайшей закусочной и (я готов был в этом поклясться) серой. Я сел на место пассажира, захлопнул дверцу, и Райа отъехала от тротуара, аккуратно вырулив на полосу движения. — Куда? — спросила она. — Поехали через весь город к предместьям. — И что? — Поищем спокойный мотель. Я не мог объяснить, почему так драматически ухудшилось мое впечатление от города, хотя несколько соображений у меня было. Возможно, по неведомым причинам мои психические способности усилились, паранормальное восприятие стало более чутким. Может быть, груз горя и ужаса города стал неимоверно тяжелее со времени моего предыдущего приезда. А может, я боялся возвращения в это жилище демонов сильнее, чем мне казалось, — тогда мои нервы, должно быть, стали необычайно восприимчивы к темной энергии и бесформенным, но ужасающим образам, исходящим от зданий, машин, людей и всего в беспорядке стоящего по обе стороны улицы. Либо особым зрением, которым позволял видеть мой Сумеречный Взгляд, я мог ощутить, что я сам и Райа — а может, мы оба — погибнем здесь в лапах гоблинов. Как бы там ни было, если это ясновидческое послание и пыталось пробиться ко мне, я, совершенно очевидно, был эмоционально не в состоянии прочесть и понять его. Я мог представить его, но в данный момент не мог подвести себя к тому, чтобы «увидеть» детали столь бессмысленного и пугающего жребия. Когда мы подъезжали к двухэтажному кирпичному зданию школы, где при взрыве нефтяной топки и пожаре погибло семеро детей, я заметил, что обгоревшее крыльцо здания отремонтировано с лета, шиферная крыша приведена в порядок. В это время в школе еще шли занятия — в нескольких окнах я заметил детей. Как и в прошлый раз, мощная волна ясновидческих образов хлынула со стен здания и понеслась в мою сторону с ужасающей силой и реальностью — оккультной реальностью, но оттого не менее смертоносной, столь же реальной для меня, сколь и убийственная волна прилива. Здесь, как ни в каком другом из виденных мною мест, человеческое страдание, мука и ужас могли быть измерены теми же мерками, что и океанские глубины — в десятках, сотнях, даже тысячах морских саженей. Тонкая, холодная струя предшествовала смертоносной волне: раздробленные образы — предвестники плеснули по поверхности моего сознания. Я увидел, как стены и потолки вспыхивают огнем... стекла разлетаются на десятки тысяч смертоносных осколков... плети огня хлещут по классным комнатам, врываясь вместе с воздухом... охваченные ужасом дети в горящей одежде... вопящая учительница, чьи волосы объяты пламенем... почерневший, шелушащийся труп другого учителя мешком валяется в углу, жир под его кожей шипит и пузырится, точно свиное сало на жаровне... В прошлый раз, когда я видел школу, я получил видения и уже происшедшего пожара, и другого, еще ужаснее первого, который только должен был произойти. Но в этот раз я видел только грядущий пожар, тот, что пока не был разожжен, — возможно, потому, что надвигающаяся катастрофа была теперь ближе по времени, чем то пламя, что уже сделало свое дело. Экстрасенсорные картинки, плеснувшие мне в лицо, были более яркими, более страшными, чем все, что я видел прежде, — каждая, словно капля серной кислоты, а не воды, причиняла мне боль, прожигая себе путь в моей памяти и душе: дети в предсмертной агонии, плоть, вздувающаяся, лопающаяся и горящая, как жир свечи; черепа, высовывающие свой оскал из-под дымящихся, плавящихся покровов, некогда таивших их; глазницы, почерневшие и опустошенные голодным огнем... — Что-то стряслось? — озабоченно спросила Райа. До меня дошло, что я дрожу и задыхаюсь. — Слим? Она отпустила акселератор, автомобиль замедлял ход. — Продолжай ехать, — сказал я и вскрикнул, как будто боль умирающих детей стала, пусть в малой степени, моей болью. — Тебе плохо, — сказала она. — Видения. — Чего? — Ради бога... продолжай... ехать. — Но... — Проезжай... школу! Чтобы выдавить из себя эти два слова, мне пришлось пробиваться на поверхность сквозь адскую пелену психических излучений, и это оказалось почти так же тяжело, как пройти через реальное облако густых, удушающих испарений. Затем я рухнул обратно — внутрь, в полное теней царство нежеланных некромантических образов, где невыразимо ужасное и трагическое будущее йонтсдаунской начальной школы настойчиво раскрывалось передо мной во всех кошмарных, кровавых подробностях. Я закрыл глаза, потому что, глядя на школу, я каким-то образом выпускал на свободу картины надвигающейся катастрофы, заключенные в ее стенах, безграничный запас оккультных образов, подобный заряду потенциальной энергии, находящейся в критической точке и грозящей вот-вот перейти в кинетическую энергию. Однако, закрыв глаза, я лишь незначительно уменьшил число видений и не до конца лишил их силы. Главная волна психической радиации уже нависла надо мной и начала падать вниз. Я был тем берегом, о который разобьется это цунами, и когда оно разобьется и отхлынет, береговая линия может оказаться изменившейся до неузнаваемости. Я панически боялся, что, погрузившись в эти кошмарные видения, окажусь сломлен эмоционально и умственно, может, даже сойду с ума — поэтому я решил обороняться тем же способом, что и прошлым летом. Я сжал кулаки, стиснул зубы, опустил голову и огромным усилием воли «освободил» сознание от этих сцен страшной смерти, сосредоточившись на приятных воспоминаниях о Райе: любовь, которую я читал в обращенных на меня чистых, открытых глазах; прекрасные черты ее лица; совершенство тела; наши занятия любовью; сладостное удовольствие от того, что просто держу ее за руку; то, как мы сидим рядом и смотрим телевизор долгим вечером вдвоем... Волна падала на меня, ниже, ниже... Я прижался к мыслям о Райе. Волна обрушилась... Господи! ...с разрушительной силой. Я вскрикнул. — Слим! — немедленно отозвался издалека чей-то голос. Я был пришпилен к сиденью. Меня било, мутузило, колотило, плющило. — Слим! Райа... Райа... мое единственное спасение. Я был в пламени, там, вместе с умирающими детьми, меня переполняли видения обгоревших, пожранных пламенем лиц, высохших почерневших рук, тысяч перепуганных глаз, в которых отражалась пляска трепещущих огней... дым, ослепляющий дым, просачивающийся сквозь горячий, трескающийся пол... я чувствовал запах их горящих волос и поджаривающейся плоти, уворачивался от падающих перекрытий и обломков... слышал жалобные стоны и вопли — их было так много, они звучали так громко, что сливались воедино в жуткую музыку, от которой у меня все заледенело, хотя меня и окружал огонь... эти бедные обреченные души спотыкались о меня — учителя и дети, охваченные безумством, — они искали выход, но двери, на которые они натыкались, необъяснимым образом оказывались заперты, и тут, боже милостивый, каждый ребенок — множество детей — все разом вспыхнули, я бросился к ближайшему из них, стараясь потушить огонь, подмяв ребенка под себя, и вывести его, но я здесь был подобен призраку — неуязвимый для пламени и неспособный изменить происходящее, и поэтому мои бестелесные руки прошли прямо сквозь горящего мальчика, сквозь горящую девочку, к которой я повернулся за ним, крики боли и страха становились все громче, и тогда я тоже закричал, заревел, завизжал от ярости и безнадежности, я рыдал и бранился и наконец выпал оттуда — прочь от этого адского пекла, вниз, в темноту, в тишину, в глубину, в недвижимость, подобную мраморному савану.* * *
Наверх. Понемногу наверх. В свет. Серый, размытый. Таинственные очертания. Затем все прояснилось. Я сидел, скорчившись в кресле машины, взмокший от ледяного пота. Автомобиль находился на стоянке. Райа наклонилась надо мной, ее прохладная рука лежала у меня на лбу. Из глубины ее сияющих глаз, точно косяки рыб, рвались эмоции: страх, интерес, сочувствие, сострадание, любовь. Я чуть выпрямился, а она расслабилась, откинувшись назад. Я по-прежнему чувствовал себя слабым и несколько сбитым с толку. Мы находились на автостоянке возле супермаркета «Акме». Ряды машин, покрытых неряшливой зимней грязью, разделяли невысокие стенки черного от копоти снега, который во время последней бури посбрасывали сюда снегоуборочные машины. Немногочисленные покупатели — кто бегом, кто еле передвигая ноги — брели по стоянке. Их волосы, шарфы и полы пальто трепетали на ветру, посвежевшем с того момента, как я потерял сознание. Некоторые из них толкали расхлябанные тележки на колесиках, используя их не только для перевозки продуктов, но и в качестве опоры, когда поскальзывались на предательски обледеневшем тротуаре. — Расскажи мне, — попросила Райа. Во рту у меня было сухо. Я ощущал на вкус горечь углей обещанной — но еще не свершившейся — катастрофы. Язык присох к небу и сделался страшно неповоротливым. И все же, мало-помалу неразборчиво выдавливая слова, голосом, ставшим как бы раздавленным под огромной тяжестью усталости, я рассказал ей об огненной катастрофе, которая однажды уничтожит несметное количество детей в начальной школе Йонтсдауна. Райа и без того была бледна, беспокоясь за меня, но, пока я говорил, она бледнела все сильнее. Когда я закончил, она была белей грязного йонтсдаунского снега, вокруг глаз пролегли темные тени. Страшная сила ее ужаса напомнила мне, что ей самой довелось узнать, как гоблины мучают детей, в то время, когда она влачила жалкое существование в детдоме, где заправляли они. Она спросила: — Что мы можем сделать? — Не знаю. — Мы можем предотвратить это? — Не думаю. Энергия смерти, которую испускает это здание, настолько сильная...всесокрушающая. Боюсь, пожар неизбежен. Мне кажется, мы не в состоянии ничего сделать, чтобы предотвратить его. — Но мы можем попытаться, — яростно возразила она. Я вяло кивнул. — Мы должны постараться, — настаивала она. — Да, верно. Но сначала... в мотель, куда-нибудь, куда мы можем заползти, закрыть дверь и отгородиться от зрелища этого ненавистного города, хотя бы ненадолго. Она отыскала подходящее место всего в паре миль от супермаркета, на углу не особенно оживленного перекрестка. Мотель «Отдых путника». Она припарковала машину перед офисом. Одноэтажный, около двух десятков номеров. Построен буквой П, в середине — автостоянка. Предвечерний сумрак был настолько густым, что большая оранжево-зеленая неоновая вывеска уже зажглась. Лампы последних трех букв в слове «МОТЕЛЬ» перегорели, а на неоновом изображении мультяшного зевающего лица не было носа. «Отдых путника» был потрепан несколько больше, чем Йонтсдаун в целом, но мы не искали удобств и роскоши. Главное, в чем мы нуждались, была анонимность — она была даже важнее, чем надежное тепло и чистота, а «Отдых путника», судя по его виду, мог предоставить нам именно то, чего мы жаждали. Все еще без сил после сурового испытания, обрушившегося на меня, когда мы просто проезжали мимо начальной школы, чувствуя себя обгоревшим и слабым — невероятно слабым — из-за высасывающей силы жары предвиденного мной пожара, я с трудом выбирался из машины. Арктический ветер казался еще холоднее, чем был на самом деле, потому что он резко контрастировал с воспоминаниями о пламени, все еще шипящем и трепещущем внутри меня, словно нарыв в сердце. Я прислонился к открытой дверце машины, жадными глотками хватая сырой мартовский воздух — он должен был помочь мне, но не помог. Захлопнув дверцу, я чуть не упал. Дыхание перехватило, я зашатался, но устоял и прислонился к автомобилю. Голова кружилась, странная серость расплывалась по краям моего поля зрения. Райа, обойдя кругом машину, пришла мне на помощь. — Снова психические образы? — Нет. Это просто... последствия того, о чем я тебе только что говорил. — Последствия? Я тебя никогда в таком состоянии не видела. — Я себя никогда так не чувствовал, — ответил я. — Они были настолько плохими? — Настолько плохими. Я себя чувствую... взорванным, разбитым... как будто часть меня осталась там, в той горящей школе. Она обхватила меня одной рукой, поддерживая, другой рукой взяла меня под руку. В ней ощущалась ее обычная сила. Я чувствовал себя мелодраматическим дураком, но изнеможение, охватившее всего меня, и будто ватные ноги были вполне реальными. Чтобы не быть разрушенным эмоционально и психически — кусок за куском, — мне нужно будет держаться подальше от школы, выбирать такие маршруты по городу, чтобы эти кирпичные стены не попадались мне на глаза. Тут, как ни в каком другом случае, мое ясновидческое зрение оказывалось сильнее способности переносить чужую боль, которую я ощущал. Если все же понадобится войти в это здание, чтобы предотвратить трагедию, которую я увидел, Райе, возможно, придется заходить внутрь одной. О таком повороте событий я просто не мог думать. Шаг за шагом — пока она помогла мне обогнуть машину и пересечь улицу, чтобы дойти до конторы мотеля, — мои ноги окрепли. Сила понемногу возвращалась ко мне. Неоновая вывеска, подвешенная на осях между двух медных столбов, поскрипывала на полярном ветру. В краткий миг, когда на улице стало относительно тихо, я расслышал стук сталкивающихся друг с другом ветвей кустарников, лишенных листьев и укутанных льдом, скребущих по стенам здания. Когда от двери офиса нас отделяло всего несколько футов и я почти был уже в состоянии передвигаться самостоятельно, мы услышали за спиной на улице могучий рев дракона. Огромный мощный грузовик — грязно-коричневый «Петербилт» с прицепленным к нему трейлером без верха, до краев груженным углем, — выезжал из-за ближайшего угла. Мы оба посмотрели на него, и хотя Райа, как видно, не заметила ничего странного в этом грузовике, мое внимание моментально приковали к себе название и эмблема компании, нарисованные на двери: черная молния в белом круге на черном фоне и слова: «Угольная компания «Молния». Сумеречным Взглядом я различил излучения необычного, тревожного характера. Они не были настолько отчетливыми и настолько разрушительными, как мрачные ясновидческие образы смерти, исходящие от здания начальной школы. Однако, несмотря на отсутствие отчетливости и разрушительной силы, в них была свойственная только им тревожная мощь. Они обдали меня таким холодом, что мне показалось, будто тонкие иглы льда смерзаются у меня в крови и примерзают к стенкам артерий и вен. Психический, пророческий холод, бесконечно более сильный, чем мерзлый зимний воздух марта, исходил от эмблемы и названия этой угольной компании. Я почувствовал, что здесь лежит ключ к разгадке тайны гоблинского гнезда, свитого в Йонтсдауне. — Слим? — окликнула Райа. — Подожди... — Что-то не так? — Не знаю. — Ты весь трясешься. — Что-то... что-то... Я глядел на грузовик, и он начал мерцать, показался прозрачным, затем и вовсе почти бесплотным. И сквозь него, в глубине, я увидел странную, бескрайнюю пустоту, лишенный света, пугающий вакуум. Я по-прежнему отчетливо видел грузовик, но в то же время мне казалось, что я гляжу сквозь него в безграничную темноту — чернее ночи, глубже, чем безвоздушное пространство между далекими звездами. Мне стало еще холоднее. Из огня в школе — во внезапный обжигающий арктический холод, исходящий от грузовика. Йонтсдаун встречал меня психическим эквивалентом хорошего духового оркестра, только оркестр этот играл лишь мрачную, упадочную, нагоняющую уныние музыку. Хотя я и не мог понять, почему угольная компания «Молния» настолько привлекла мое внимание, меня переполнял страх — такой сильный и неприкрытый, что он лишил меня способности двигаться и почти лишил сил дышать — так мог бы чувствовать себя человек, парализованный, но не убитый небольшой дозой яда кураре. В кабине «дальнобоя» сидели два гоблина, замаскированные людьми. Один из них заметил меня и тоже уставился в мою сторону, как будто уловив нечто особенное в том, как пристально я разглядываю его грузовик. Они проехали мимо нас, а он все не спускал с меня взгляд ненавидящих багровых глаз. В конце квартала громадный углевоз проехал на светофор. Однако затем он замедлил скорость и начал отъезжать к обочине. Трясясь всем телом, чтобы стряхнуть с себя обессиливающий страх, сжимавший меня, я сказал: — Быстро. Убираемся отсюда. Райа спросила: — Почему? — Они, — пояснил я, указывая на грузовик — он остановился у тротуара в полутора кварталах от нас. — Только не бегом... нельзя дать им понять, что мы их испугались... но быстро! Не задавая больше вопросов, она помогла мне добраться до машины и скользнула за баранку, пока я устраивался на сиденье. Там, в отдалении, грузовик с углем неуклюже разворачивался по дуге, хотя и нарушал этим правила. Он перегородил движение в обоих направлениях. — Черт, они и впрямь разворачиваются, чтобы поближе взглянуть на нас, — сказал я. Райа завела двигатель, нажала на стартер и мигом выехала со стоянки. Стараясь, чтобы в голосе звучало меньше страха, чем я испытывал на самом деле, я сказал: — Пока они могут видеть нас, двигайся не спеша. Если это возможно, нам бы лучше не выглядеть так, будто мы сматываемся. Она обогнула мотель «Отдых путника», направляясь к выезду с автостоянки, ведущему на боковую улицу. Когда мы сворачивали за угол, я заметил, что грузовик закончил свой маневр на главной магистрали — и затем он исчез из нашего поля зрения. В тот самый миг, когда грузовика не стало видно, необычный пугающий холод пропал, жуткое впечатление от бесконечной пустоты больше не тревожило меня. Но что оно означало? Что это была за бесформенная, абсолютная темнота, которую я видел и перед которой в страхе отступил, когда глядел на грузовик? Во имя всего святого, что затевают гоблины в угольной компании «Молния»? — Прекрасно, — нетвердо произнес я. — Теперь сделай как можно больше поворотов, улица за улицей, чтобы нам снова не попасться им на глаза. Вряд ли они как следует разглядели машину, и я уверен, что они не записали наш номер. Она поступила так, как я предложил, направляясь по бессистемному, петляющему маршруту к северо-восточным предместьям. Ее взгляд то и дело падал на зеркало заднего вида. — Слим, ты ведь не думаешь... что они могли понять, что ты способен видеть сквозь их человеческую маскировку? — Нет. Они просто... ну, не знаю... я думаю, они просто засекли, как пристально я на них смотрю... какой у меня потрясенный вид. Поэтому они что-то заподозрили и захотели повнимательней взглянуть на меня. Их род по натуре подозрителен. Подозрителен и параноидален. Я надеялся, что это так. Я никогда не сталкивался с гоблином, способным распознать мои психические способности. Если некоторые из них обладают способностью вычислять тех из нас, кто видит их, тогда мы — в еще большей беде, чем я полагал, так как теряем наше единственное, тайное преимущество. — Что ты увидел на этот раз? — спросила она. Я рассказан ей о пустоте, об образе бескрайней, лишенной света пустоты, всплывшем в моем сознании, когда я посмотрел на грузовик. — Что это значит, Слим? Встревоженный и усталый, я с минуту не реагировал. Я дал себе время подумать, но и это время не помогло. Наконец я вздохнул и сказал: — Не знаю. Излучения, которые шли от грузовика... они не вышибли из меня дух, но они по-своему были даже более ужасны, чем надвигающийся школьный пожар, который я увидел. Но я не знаю точно, что это означает, что это было точно — то, что я увидел. Разве что каким-то образом... через угольную компанию «Молния», думаю, мы сможем узнать, почему такое множество гоблинов собралось в этом проклятом городе. — Это главное, что ты узнал? Я кивнул. — Да. Разумеется, я был не в том состоянии, чтобы начинать расследование по делу об угольной компании «Молния» до завтрашнего утра. Я чувствовал себя почти таким же тусклым, как это зимнее небо, таким же непрочным, как клочковатые бороды мглы, висящие на зловещих лицах воинов и чудовищ, которых человек с развитым воображением мог углядеть в грозовых тучах. Мне нужно было время, чтобы отдохнуть, восстановить силы, научиться переключать сознание хотя бы с части постоянных фоновых помех, с треском и свечением, исходящих от зданий, улиц и обитателей Йонтсдауна. Через двадцать минут дневной свет уступил место темноте. Можно было предположить, что вечер принесет мантию, которой накроет злобность этого жалкого зловонного городка, придаст ему хотя бы малую толику респектабельности, но это был не тот случай. В Йонтсдауне ночная тьма не была гримом, как была бы в любом другом месте. Она каким-то образом подчеркивала неопрятность, грязь, копоть, мерзость и вонь улиц, приковывала внимание к мрачному, средневековому облику большинства строений. Мы были уверены, что оторвались от гоблинов в «Петербилте», и решили ткнуться в другой мотель — автомобильную гостиницу «Ван Винкл», и вполовину не такую изящную, как ее название. Этот мотель был раза в четыре больше «Отдыха путника», двухэтажный. Окна некоторых комнат выходили во внутренний двор, других — в сад для прогулок — железные столбы, выкрашенные черным, но покрытые пятнами ржавчины и с отстающей краской, алюминиевый навес — окружавший сзади все четыре крыла здания. Изображая усталость после долгой дороги, мы попросили спокойный тихий номер в задней части гостиницы, как можно дальше от транспортного шума, и гостиничный клерк выполнил наши пожелания. Таким образом, мы не только могли наслаждаться тишиной, но и получали возможность припарковать автомобиль так, что его не будет видно с улицы — гарантия того, что нас случайно не засечет один из работников угольной компании «Молния», от которого мы ускользнули. Опасность эта была маловероятна, но со счетов ее никак нельзя было сбрасывать. Комната наша представляла собой коробку с бежевыми стенами, дешевой прочной мебелью и двумя дешевыми гравюрами, изображающими клипера, несущиеся на всех парусах, надуваемых свежим ветром, по волнам бурного моря. Туалетный столик и прикроватные тумбочки были сплошь в ожогах от затушенных о них сигарет, зеркало в ванной помутнело от времени, а вода в душе была далеко не такой горячей, как нам бы хотелось, но мы собирались провести здесь всего одну ночь. Утром мы отправимся на поиски небольшого домика, который могли бы снять, — там у нас будет более надежное и тайное убежище, где мы организуем заговор против гоблинов. После душа я почувствовал себя отдохнувшим достаточно, чтобы рискнуть снова выбраться в город, конечно, с Райей и не дальше, чем до ближайшего кафе, где мы сытно, хотя и просто, поели. Мы увидели девять гоблинов среди посетителей за то время, что мы там находились. Мне приходилось сосредоточивать все внимание на Райе, поскольку один вид их свиных рыл, налитых кровью глаз и извивающихся, как у ящериц, языков мог начисто отбить аппетит. Но даже не глядя на них, я чувствовал их злобу — такую же явную для меня, как холодный пар, поднимающийся от льда. Терпеливо снося эти холодные излучения нечеловеческой ненависти и ярости, я мало-помалу начал учиться отфильтровывать фоновый шум и свист, составляющие теперь неотъемлемую часть Йонтсдауна, и к тому моменту, когда мы вышли из кафе, я чувствовал себя лучше, чем когда мы въехали в этот град обреченных. В гостинице «Ван Винкл» мы перенесли холщовые мешки с оружием, взрывчаткой и прочим незаконным барахлом в свой номер, опасаясь, что за ночь снаряжение могут похитить из машины. И долгое время, в постели, в темноте, мы лежали обнявшись, не говоря ни слова, не занимаясь любовью, просто тесно прижавшись друг к другу. Близость была противоядием против страха, лекарством против отчаяния. Райа наконец уснула. Я слушал ночь. В этом городе ветер звучал не так, как в других местах: хищно. До моего слуха то и дело доносилась отдаленная возня грузовиков, и я задумался, не отгружает ли угольная компания «Молния» свою продукцию из близлежащих шахт круглые сутки. А если да — то почему? Мне показалось также, что в Йонтсдауне чаще, чем в любом другом городе, который я знал, ночную тишину разрывало завывание сирен полиции и «Скорой помощи». Наконец я заснул, и мне приснился сон. Снова наводящий страх туннель. Неверный янтарный свет. Нефтяные пятна густых теней. Низкий, кое-где неровный потолок. Странные запахи. Топот бегущих. Крики, визг. Загадочные причитания. Внезапное, разрывающее слух завывание сирены. Уверенность, от которой перехватывало дух и тяжело стучало сердце, — уверенность, что за мной погоня. Когда я проснулся, не давая вырваться из горла сырому, слизистому крику, Райа немедленно пробудилась тоже. Она хватала ртом воздух и отшвыривала в сторону одеяло, словно освобождаясь от ловящих ее рук врагов. — Слим! — Здесь. — О господи. — Это просто сон. Мы снова обнялись. — Туннель, — сказала она. — Мне тоже. — Я теперь знаю, что это было. — И я. — Шахта. — Да. — Угольная шахта. — Да. — Угольная компания «Молния». — Мы там были. — Глубоко под землей, — добавил я. — И они знали, что мы там. — Они охотились за нами. — И у нас не было выхода наружу, — сказала она и вздрогнула. Мы оба замолчали. Вдали: собачий вой. Случайно ветер донес до нас обрывки другого звука, показавшиеся агонизирующим всхлипыванием женщины. Спустя некоторое время Райа сказала: — Мне страшно. — Я знаю, — ответил я, прижимая ее еще ближе и крепче. — Я знаю. Знаю.Глава 22
СТУДЕНТЫ ЗА РАБОТОЙ ДЬЯВОЛА
На следующее утро, в пятницу, мы сняли домик на Яблоневой тропе, деревенском районе на самой окраине города, у подножия древних восточных гор, невдалеке от главных шахт графства. Дом отстоял от дороги более чем на двести футов. Он находился в конце проезда, покрытого коркой льда и заваленного снегом. Агент по торговле недвижимостью посоветовал нам намотать цепи на колеса, как у него. Деревья — в основном сосны и ели, но немало также кленов, берез и лавров, с которых зима сорвала одежды, — спускались с высящихся над нами крутых склонов, окружавших с трех сторон сад, укрытый белой мантией. День был мрачный, солнечный свет не проникал за край леса. Поэтому тревожная глубокая темнота начиналась сразу за первым рядом деревьев и простиралась в глубь леса, на сколько хватал взгляд, как будто сама ночь, сгустившись, искала там убежище с наступлением рассвета. В доме, уже обставленном мебелью, было три небольших спальни, ванная, гостиная, столовая и кухня — все это в двухэтажной, обшитой досками скорлупе, кровля которой была покрыта асфальтом. Под полом находился темный, сырой, с низким потолком подвал, в котором стояла топка, работающая на нефти. Невыразимо страшные вещи происходили в этой подземной камере. Шестым чувством я улавливал психический осадок от пытки, боли, убийства, безумия, жестокости. Я ощутил это в тот самый миг, когда агент по недвижимости Джим Гарвуд открыл дверь на лестницу, ведущую в подвал. Зло било оттуда ключом — черное, пульсирующее, как кровь из раны. Нечего мне было и спускаться в это проклятое место. Но Джим Гарвуд, серьезный мужчина средних лет с мягким голосом и нездоровым цветом лица, хотел показать нам поближе топку и дать инструкции по пользованию ею. Я не мог придумать никакого предлога, под которым мог бы отказаться, не вызывая его подозрений. Я с неохотой последовал за ним и Райей вниз, в эту яму человеческого страдания, крепко держась за рассохшиеся перила лестницы и стараясь не задохнуться от зловония крови, желчи, горящей плоти, запахов иного времени, которые ощущал только я. Спустившись с лестницы, я намеренно перешел на цепкую походку морского волка, чтобы не упасть в ужасе перед давно прошедшими событиями, которые — по крайней мере, для меня — казались происходящими прямо сейчас. Указывая на шкафы и полки, вытянувшиеся вдоль одной из стен подвала, не ощущая зловония смерти, которое чувствовал я, и не обращая внимания даже на реальные неприятные запахи — черной плесени, грибка, Гарвуд сказал: — Туг масса места для кладовой. — Я вижу, — кивнула Райа. А я видел окровавленную, объятую ужасом женщину — обнаженную, привязанную к угольной топке, стоящей на той же самой бетонной плите, на которой сейчас стояла более современная — нефтяная. Все тело ее было покрыто рваными ранами и синяками. Один глаз почернел и до того распух, что не открывался. Я узнал, что ее зовут Дора Пенфилд. Она боялась, что муж ее золовки Клаус Оркенвольд разрежет ее на куски и вскормит ее плотью пламя топки прямо на глазах у ее перепуганных детей. И в самом деле, именно это с ней и произошло, хотя я отчаянно и успешно прогонял и прогнал от себя ясновидческие образы ее гибели. — Нефтяная компания Томпсона осуществляет поставки топлива раз в каждые три недели зимой, — пояснил Гарвуд, — и несколько реже — осенью. — А сколько стоит заправить полный бак? — интересовалась Райа, мастерски играя роль аккуратной и расчетливой молодой жены. Я же видел шестилетнего мальчика и семилетнюю девочку, подвергавшихся самому разнообразному жестокому насилию — избитых, сломленных. Хотя эти беззащитные жертвы, от вида которых щемило в груди, были давно мертвы, их всхлипы, крики боли и жалобные мольбы о пощаде эхом звучали в коридорах времени, вонзаясь в меня осколками жалобных стонов. Мне пришлось подавить в себе страстное желание заплакать по ним. Я видел также на редкость злобного вида гоблина — самого Клауса Оркенвольда. В его руках появлялись кожаный кнут, стрекало для скота, затем другие кошмарные пыточные инструменты. Он казался наполовину демоном, наполовину мясником из гестапо — носился туда-сюда по своей импровизированной крепостной башне то в облике человека, то полностью трансформировавшись, чтобы еще больше устрашить свои жертвы. Его черты были как будто сотворены из трепещущего оранжевого пламени, свет которого струился из открытой дверцы топки. Каким-то образом я продолжал улыбаться и кивать словам Джима Гарвуда. Каким-то образом я даже умудрился задать пару вопросов. Каким-то образом я выбрался из подвала, не показав своего невероятно подавленного состояния, хотя мне никогда не будет дано узнать, как я сумел убедительно изображать полнейшую невозмутимость, когда на меня обрушивались эти темные излучения. Поднявшись наверх и плотно закрыв дверь подвала, я перестал наконец быть свидетелем страшных дел, которые творились там. С каждым долгим выдохом я очищал легкие от воздуха, пропитанного запахами того давнего жестокого времени. Поскольку местоположение дома идеально подходило для наших целей, обеспечивая нам как удобства, так и уединенность, я решил, что, во-первых, мы его снимем, во-вторых, ноги моей больше не будет в этом подвале. Мы назвались Гарвуду под вымышленными именами — Боб и Хелен Барнуэлл из Филадельфии. Чтобы объяснить наше пребывание в этих местах, мы тщательно разработали легенду, согласно которой мы были парой студентов-геологов. Получив степени — один бакалавра, другой магистра, — мы отправились на шесть месяцев на полевые исследования — собирать для докторских диссертаций материал об особенностях скальных пород в Аппалачах. Это прикрытие должно было объяснить любые маршруты, по которым нам, возможно, придется бродить в горах, чтобы разведать тайну угольной компании «Молния». Мне было почти восемнадцать, а опыта — больше, чем у иного мужчины вдвое старше меня, но, разумеется, я не производил впечатления человека, уже получившего ученую степень и работающего над докторской диссертацией. И все же выглядел я куда старше, чем был на самом деле: не вам мне объяснять — почему. Райа же, которая была старше меня, выглядела вполне зрелой, чтобы быть той, за кого себя выдавала. Ее необычайная, строгая красота и мощная сексуальность — даже после того, как скальпель хирурга изменил черты ее лица, а цвет волос из светлого превратился в иссиня-черный — придавали ей еще более искушенный вид и делали старше, чем она была. Кроме того, нелегкая жизнь, полная трагедий, оставила на ней печать усталости и житейской мудрости, чем трудно было похвастаться в ее годы. Джим Гарвуд не выказал никакой подозрительности на наш счет. В прошлый вторник, в Джибтауне, Скользкий Эдди раздобыл фальшивые водительские права и другие поддельные документы, которые удостоверяли, что мы — Барнуэллы, но не подтверждали нашей связи с университетом Темпл в Филадельфии. Мы рассчитывали, что Гарвуд не будет особо тщательно — если вообще будет — собирать справки о нас, потому что мы снимали дом на Яблоневой тропе сроком всего на полгода. Кроме того, мы платили всю сумму аренды вперед, включая залог на страховку имущества — и все наличными, что делало нас удобными и надежными клиентами. В нынешнее время, когда в каждом офисе стоят компьютеры, когда всего за несколько часов можно получить о человеке всю информацию — от места работы до самых интимных привычек, — проверка нашей легенды была бы чисто автоматическим процессом. Но тогда, в 1964 году, микропроцессорная революция была еще в будущем, информационная индустрия еще трепыхалась в пеленках, и людей чаще всего оценивали по внешним данным. Благодарение богу, Гарвуд не разбирался в геологии и был не в состоянии задать нам профессиональные вопросы, способные выдать нас. У него в офисе мы подписали договор, заплатили деньги и получили ключи. Теперь у нас была база для операций. Мы перевезли свой скарб в дом на Яблоневой тропе. Хотя всего несколько часов назад дом казался вполне пригодным для жилья, сейчас, вернувшись в него полноправным домовладельцем, я ощущал себя неуютно. У меня было чувство, что дом каким-то образом знает, кто мы, что в его стенах шевелится глубоко враждебный ум, что лампы в нем — вездесущие глаза, что дом приветствует нас и что в этом приветствии нет ни капли доброй воли — один лишь страшный голод. Затем мы поехали в город провести кое-какую исследовательскую работу.* * *
Окружная библиотека располагалась во внушительном готическом здании, примыкавшем к зданию суда. Гранитные стены потемнели, покрылись пятнами и мелкими выщербинами из-за многолетних испарений сталелитейного завода, грязи из депо и нечистого дыхания угольных шахт. Зубчатая кромка крыши, узкие зарешеченные окна, углубленный вход и тяжелая деревянная дверь создавали впечатление, что это здание служит надежным складом для чего-то куда более ценного в финансовом отношении, чем книги. Внутри находились широкие, основательные дубовые столы и стулья, где посетители могли читать — хотя и без удобств. Позади столов располагались стеллажи — дубовые полки высотой в восемь футов. Проходы между ними были освещены янтарным светом ламп, подвешенных под эмалированными голубыми плафонами конической формы. Проходы были узкими и довольно длинными. Они сворачивали, образуя лабиринт. Не знаю, почему я подумал о древних египетских гробницах, глубоко скрытых под толщей каменных пирамид, оскверненных человеком двадцатого века, который принес электрический свет туда, где до него горели только масляные лампы да свечи из жира. Мы с Райей бродили среди этих коридоров со стенами из книг, погрузившись в запахи старящейся бумаги и заплесневевших матерчатых переплетов. Мне казалось, будто Лондон Диккенса, арабский мир Бартона и тысячи других миров многих и многих писателей были собраны здесь только для того, чтобы дышать ими, не утруждая себя чтением, точно это были грибы, выбрасывающие едкие облачка спор, которые, если их вдыхать, приносят воображаемые плоды. Мне хотелось взять какую-нибудь книгу с одной из полок и спастись на ее страницах, потому что даже кошмарные мифы Лавкрафта, По или Брэма Стокера казались более привлекательными, чем реальный мир, в котором нам приходилось жить. Но пришли мы сюда главным образом для того, чтобы внимательно проглядеть «Йонтсдаун реджистер», экземпляры которого находились в задней части огромной главной залы, позади полок. Недавние номера газеты хранились в здоровенных папках-скоросшивателях и шли по порядку выпуска, а более старые — на катушках микрофильмов. Мы провели пару часов за изучением событий последних семи месяцев и узнали много интересного. Обезглавленные тела Лайсла Келско и его помощника были обнаружены в патрульной машине на том месте, где Джоэль Так и Люк Бендинго оставили их в ту страшную ночь прошлым летом. Я ожидал, что полиция припишет убийства какому-нибудь проезжему, — так она и поступила. Но, к моему изумлению и ужасу, я узнал, что они произвели арест молодого бродяги по имени Уолтер Демброу. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством в тюремной камере через два дня после того, как во всем сознался и пошел под суд по обвинению в двух убийствах. Повесился. На веревке, которую соорудил из собственной разорванной рубашки. Я почувствовал, как пауки вины пробежали вверх по моему хребту и угнездились в сердце, пожирая меня. Мы с Райей одновременно подняли головы от экрана аппарата для чтения микропленок. Наши глаза встретились. Какое-то мгновение ни один из нас не мог говорить, не считал нужным, не осмеливался говорить. Затем она прошептала: «О боже», хотя поблизости не было никого, кто мог бы услышать наш разговор. Я ощутил прилив слабости. Хорошо, что я сидел, потому что вдруг совсем лишился сил. — Он не повесился, — сказал я. — Нет. Они не стали утруждать его и сделали это сами. — После бог знает каких пыток. Она прикусила губу и ничего не ответила. В отдалении, среди стеллажей, послышались людские голоса. Тихие шаги удалялись по лабиринту, пропитанному запахом бумаги. Я вздрогнул. — В каком-то смысле... это я убил Демброу. Он погиб из-за меня. Она покачала головой. — Нет. — Да. Убив Келско и его помощника, дав гоблинам повод арестовать Демброу... — Он был бродяга, Слим, — резко возразила она и взяла меня за руку. — Думаешь, многие из бродяг выбираются из этого города живыми? Эти твари кормятся нашей болью и страданием. Они с жадностью высматривают жертвы. А самые доступные жертвы — бродяги. Сезонные рабочие, всякие битники в поисках просветления или чего там еще, дети, которые отправляются в дорогу, чтобы найти себя. Выхвати какого-нибудь из них с трассы, избей, замучай, убей его, зарой тело понадежнее — и ни одна душа не узнает, что с ним стало, — или не побеспокоится. С точки зрения гоблинов, это безопаснее, чем убивать местных, и абсолютно так же приятно, так что я сильно сомневаюсь, чтобы они хоть раз упустили случай потерзать и замучить бродягу. Если бы ты не убил Келско с помощником, этот Демброу скорее всего пропал бы без вести по пути через Йонтсдаун, а конец, который был бы ему уготован, наверняка был бы тот же самый. Единственная разница в том, что его использовали в качестве козла отпущения — подходящей кандидатуры, чтобы полиция смогла закрыть дело, которое они не сумели расследовать. Ты за это ответственности не несешь. — А если не я, кто тогда? — несчастным голосом спросил я. — Гоблины, — ответила она. — Демоны. И во имя всего святого, мы заставим их заплатить и за Демброу, как и за всех остальных. Ее слова и уверенность помогли мне почувствовать себя несколько (хоть и не намного) лучше. Сухость книг — о ней напомнил мне шуршащий звук, с которым перелистывал хрупкие страницы невидимый мне любопытный в дальнем углу — передалась и мне. Я думал об Уолтере Демброу, погибшем за мои грехи, и сердце у меня в груди словно ссохлось. Все тело горело, как в огне. Я попытался прочистить горло — раздался сухой, скрежещущий звук. Мы продолжили чтение и узнали, что место Келско занял новый шеф полиции. Имя его поразительным образом было мне знакомо: Оркенвольд, Клаус Оркенвольд. Это был тот гоблин, что некогда почтил своим визитом тот самый дом, который мы сняли на Яблоневой тропе и в котором прежде жила его невестка. Просто так, чтобы поразвлечься, он замучил ее и разрубил на куски, которые затем пожрало пламя топки, — а за ней и двоих ее детей. Я увидел эти кровавые преступления своим шестым чувством, когда Джим Гарвуд настоял на том, чтобы показать нам пропахший плесенью подвал. Позже, в машине, я поведал Райе об этих страшных видениях. И сейчас мы уставились друг на друга с удивлением и пониманием, гадая, какой смысл может иметь это совпадение. Как я уже говорил, я порой страдаю от приступов мрачного настроения, во время которых мне кажется, что мир — это просто место, где без всякого смысла, наобум, происходят разные события и столь же неоправданные, неадекватные реакции на них, место, где нет достойной цели для жизни, где все — пустота, пепел и бессмысленная жестокость. В таком настроении я чувствую себя интеллектуальным близнецом мрачно настроенного автора Книги Екклезиаста. Но сейчас было совсем другое. В тех случаях, когда я бываю в более духовном — не скажу, что в более хорошем — настроении, я замечаю странные, завораживающие примеры из жизни, которые не могу понять, ободряющие проблески тщательного упорядочения вселенной, в которой ничего не происходит случайно. Своим Сумеречным Взглядом я смутно различаю правящую силу, высший порядок или разум, которому мы на что-то нужны — возможно, даже очень нужны. Я чувствую замысел, хотя точная природа и значение его остаются для меня глубокой тайной. И это был как раз такой случай. Мы не просто вернулись в Йонтсдаун по своей воле. Мы были предназначены для того, чтобы вернуться и схватиться с Оркенвольдом — или с системой, которую он олицетворял. В восторженном очерке, посвященном Оркенвольду, репортер «Реджистера» писал о мужестве, с которым этот полицейский перенес череду личных трагедий. Он женился на вдове с тремя детьми — Мэгги Уолш, урожденной Пенфилд — и после двух лет того, что все считали невероятно счастливой семейной жизнью, он потерял жену и усыновленных детей в пламени пожара, охватившего его дом однажды ночью, когда он был на дежурстве. Пожар был таким сильным, что от людей остались только кости. Ни я, ни Райа даже не стали тратить силы, чтобы высказать вслух мнение, что пожар возник не в результате несчастного случая и что, если бы пламя не уничтожило тела, честный коронер обнаружил бы на них страшные ранения, не имеющие отношения к огню. Через месяц после этой трагедии — еще один удар. Партнер Оркенвольда по автомобильному патрулю и его шурин Тим Пенфилд был застрелен грабителем на складе, а того, по счастливому стечению обстоятельств, тут же уложил на месте Клаус. Ни я, ни Райа не высказали вслух очевидного: что шурин Оркенвольда не был гоблином и по какой-то причине начат подозревать Оркенвольда в убийстве Мэгги и троих ее детей, после чего Оркенвольд и подстроил его убийство. «Реджистер» цитировал Оркенвольда, который в те дни заявил: «Право, не знаю, смогу ли я продолжать службу в полиции. Он был не просто моим родственником. Он был моим партнером, моим лучшим другом, лучшим из друзей, которые у меня были, и единственное, о чем я жалею, так это о том, что застрелили его, а не меня». Это была превосходная игра, учитывая, что Оркенвольд наверняка застрелил своего партнера, а вместе с ним и какого-нибудь невинного, на которого мастерски свалил вину. Его быстрое — как и можно было предположить — возвращение к своим обязанностям было преподнесено как еще один признак его мужества и чувства долга. Райа, сгорбившаяся перед аппаратом для чтения микрофильмов, дрожала, обхватив себя руками. Мне не было нужды спрашивать ее о причине озноба. Я потер друг о друга холодные ладони. Зимний ветер рычал как лев и выл по-кошачьи за высокими узкими матовыми окнами библиотеки, но от его звука нам не могло стать холоднее, чем уже было. Мне казалось, будто мы читаем не обычный газетный очерк, но углубляемся в запретные страницы «Книги Проклятых», в которой жуткие злодеяния племени демонов были скрупулезно записаны неким адским писцом. В течение почти полутора лет Клаус Оркенвольд оказывал финансовую поддержку овдовевшей жене Тима, Доре Пенфилд, и двоим ее детям. Но на него обрушился еще один удар судьбы, когда все трое бесследно исчезли. Я знал, что случилось с ними. Я видел — и слышал, и чувствовал — их страшные муки в подвале деревянного дома на Яблоневой тропе, где заправляли призраки. После того как он женился на сестре Тима Пенфилда, а затем замучил и убил ее и ее детей, после того, как он застрелил Тима Пенфилда и свалил вину на какого-то грабителя, Оркенвольду необходимо было стереть с лица земли последних оставшихся в живых членов семейства Пенфилдов. Гоблины — охотники. Мы — добыча. Они без устали преследуют нас по миру, который в их понимании — не больше чем гигантский заповедник. Дальше можно было и не читать. Но я все равно продолжал, как будто, читая ложь «Реджистера», я становился молчаливым свидетелем гибели Пенфилдов, принимал на себя священную обязанность совершить возмездие — как, каким образом, я не мог до конца понять или объяснить. После исчезновения Доры и ее детей было начато следствие, которое тянулось два месяца, пока вину, наконец, не возложили (несправедливо) на Уинстона Ярбриджа, горного мастера, холостяка, одиноко жившего в доме в полумиле от жилища Доры. Ярбридж громогласно заявлял о своей невиновности, и его репутация спокойного человека, постоянно посещающего церковь, должна была помочь ему. Но в конце концов несчастный был погребен под тяжестью улик, собранных следствием — улик, целью которых было показать, как Ярбридж, будучи сексуальным маньяком, тайком проник в дом Пенфилдов, изнасиловал женщину и обоих детей, хладнокровно разрубил их на куски и сжег останки в раскаленной топке, куда насыпал уголь, пропитанный нефтью. В доме Уинстона Ярбриджа было найдено окровавленное нижнее белье, принадлежавшее детям и миссис Пенфилд, — оно было припрятано в контейнере пароварки в чулане. Как и можно было ожидать от маньяка-убийцы, выяснилось, что он сохранил по одному отрубленному пальцу своих жертв — каждый ужасный трофей находился в небольшой баночке со спиртом и помечен этикеткой с именем жертвы. У него было найдено также и орудие убийства, а кроме того, порнографические журналы, предназначенные для садистов. Он заявлял, что все эти чертовы вещи ему подбросили, — так, разумеется, и было. Когда на дверце топки в подвале дома Пенфилдов были обнаружены два отпечатка его пальцев, он заявил, что полиция лжет, указывая место, где эти отпечатки были найдены, — и, конечно, полиция лгала. Полицейские же заявили, что дело это ясное и что злодей Ярбридж — это была эпоха, когда смертные приговоры были широко распространены, — наверняка окончит жизнь на электрическом стуле, — и, разумеется, так и вышло. Оркенвольд лично принимал участие в раскрытии дела этого мерзавца Ярбриджа. Согласно «Реджистеру», он впоследствии сделал головокружительную карьеру блюстителя порядка, произведя неслыханное количество арестов. Общее мнение гласило, что Оркенвольд всячески достоин дальнейшего продвижения по службе в полиции. Его пригодность к этой работе была только подтверждена той быстротой, с какой он привлек этого бродягу, Уолтера Демброу, к суду за убийство своего предшественника. Хоть я и убил шефа Лайсла Келско, это мое деяние не дало никакой передышки несчастным людям в Йонтсдауне. Как оказалось, кошмарная политическая машина гоблинов работала без сучка без задоринки, тут же выдвинув из рядов гоблинов нового мастера пыток, чтобы заменить павшего шефа. Райа на минуту оторвалась от микрофильма и уставилась в одно из высоких библиотечных окон. Лишь бледный свет, слабый, как лунные блики, пробивался сквозь покрытое изморозью стекло, мерцание аппарата для чтения микропленки и то сильнее освещало ее опечаленное лицо. Наконец она произнесла: — А ведь, наверное, кто-то мог бы заподозрить Оркенвольда в том, что он приложил руку к бесконечной череде так называемых трагедий, происшедших вокруг него. — Может быть, — согласился я. — И в обычном городе другой коп, или репортер из газеты, или кто-нибудь еще из властей решил бы повнимательней к нему присмотреться. Но здесь правит его род. Они — полиция. Они контролируют суд, городской совет, мэрию. Скорее всего они владеют также и газетой. Они туго затянули удила на любом учреждении, которое может быть использовано как средство для выяснения правды. Так что правда здесь навеки под запретом. Мы вернулись к катушкам микрофильмов и к переплетенным экземплярам ежедневного «Реджистера» и продолжили исследования. Среди прочего мы установили, что брат Клауса Оркенвольда, Дженсен Оркенвольд, владеет третьей частью угольной компании «Молния». Другими партнерами — каждый владелец одной трети — были некто по имени Энсон Кордэй, являющийся также издателем и редактором единственной городской газеты, и мэр Альберт Спекторски, политик с цветущим лицом, которого я повстречал прошлым летом, когда приехал в город со Студнем Джорданом в качестве «толкача» ярмарки. Паутина власти гоблинов стала явной: и, как я и подозревал, центром этой паутины была, судя по всему, угольная компания «Молния».* * *
Когда наконец с нашим исследованием было покончено, мы вышли из библиотеки и осмелились заглянуть в бюро записи актов гражданского состояния, расположенное в подвале здания суда, находящегося тут же. Это место кишело гоблинами, хотя клерки в регистрационном офисе, занимающие должности, не облеченные никакой подлинной властью, были обычными людьми. Углубившись в громадные книги записей землевладения, главным образом для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, мы нашли там подтверждение своим подозрениям, что дом на Яблоневой тропе, где погибли Пенфилды и где теперь устроились мы, принадлежал Клаусу Оркенвольду, новому шефу полиции Йонтсдауна. Он унаследовал собственность Доры Пенфилд... после того, как убил ее и ее детей. Нашим домохозяином, в чьем доме мы замышляли революцию против демонов, был один из них. Вот он опять, проблеск этого таинственного знака — как будто существует такая вещь, как жребий, как будто наш неотвратимый жребий ведет нас к серьезной, возможно, даже смертельной схватке с Йонтсдауном и его гоблинской элитой.* * *
Мы пообедали в городе, купили кое-какие продукты и вскоре после наступления темноты направились на Яблоневую тропу. Райа вела машину. За обедом мы долго спорили — насколько разумнее было бы найти другое жилье, не принадлежавшее гоблинам. Но все же решили, что вызовем большее подозрение, если выедем из дома сразу после того, как заплатили за аренду, чем если останемся там. Жизнь в таком дурном месте, возможно, потребует от нас большей осмотрительности и осторожности, но мы надеялись, что будем в безопасности — настолько, насколько это возможно для нас в любом другом месте этого города. Я до сих пор помнил о чувстве неловкости, возникшем у меня, когда мы заходили в дом в последний раз, но решил, что причина тому — расшатанные нервы и адреналиновое истощение. Хоть место это и тревожило меня, но никаких предчувствий, что мы можем попасть в беду, поселившись здесь, у меня не возникло. Мы ехали по Западной Дунканноновой дороге и были в двух милях от поворота на Яблоневую тропу. Проезжая на зеленый свет светофора, мы заметили патрульный автомобиль йонтсдаунской полиции, остановившийся на красный свет справа от нас. Газопаровая лампа уличного фонаря бросала блики слабого пурпурного цвета. Они проникали сквозь грязное лобовое стекло автомобиля, давая возможность разглядеть копа, сидящего за баранкой. Это был гоблин. Ненавистное лицо демона было едва различимо под человеческой оболочкой. И тем не менее своим особым зрением я увидел кое-что еще, и на мгновение у меня перехватило дух. Райа проехала уже с полквартала, когда я сумел выдавить из себя: — Тормози! — Что? — Быстро. Тормози у обочины. Выключи габаритные огни. Она выполнила все, как я сказал. — Что-то не так? Мое сердце как будто расправило крылья и забило ими, отчаянно падая вниз. — Тот коп на перекрестке, —сказал я. — Я его заметила, — ответила Райа. — Гоблин. Я развернул зеркало заднего вида так, чтобы глядеть в него, и увидел, что светофор позади нас еще не сменил цвет. Полицейская машина по-прежнему стояла на углу. Я сказал: — Мы должны остановить его. — Этого копа? — Да. — Остановить его... от чего? — От убийства, — пояснил я. — Он собирается кого-то убить. — Они все собираются кого-то убить, — напомнила Райа. — Это их занятие. — Нет, я имел в виду... сегодня вечером. Он собирается убить кого-то сегодня вечером. — Ты уверен? — Скоро. Совсем скоро. — Кого? — Не знаю. Думаю, он и сам пока не знает. Но скоро... может, меньше чем через час он найдет возможность. И ухватится за нее. Позади нас светофор мигнул желтым и красным, и в тот же момент переключился на зеленый в другом направлении, поэтому патрульный автомобиль завернул за угол, направляясь в нашу сторону. — Следуй за ним, — велел я Райе. — Только, ради бога, не слишком быстро. Мы не должны дать ему понять, что он под наблюдением. — Слим, у нас тут более важное задание, чем спасение одной жизни. Мы не можем рисковать всем только потому... — Мы должны. Если мы позволим ему уехать, зная, что он собирается убить невинного человека этим вечером... Патрульный миновал нас, направляясь на восток по Дунканнону. Райа отказалась последовать за его машиной: — Послушай, остановить одно убийство — это все равно что пытаться заделать огромную дыру в плотине куском жевательной резинки. Нам лучше затаиться и заняться расследованием, чтобы обнаружить, как мы сможем нанести удар по всей гоблинской сети здесь... — Китти Дженовезе, — произнес я. Райа уставилась на меня. — Вспомни Китти Дженовезе, — сказал я. Она моргнула. Поежилась. Вздохнула. Нажала на газ и нехотя последовала за копом.Глава 23
СКОТОБОЙНЯ
Он ехал по пригородам, среди ветхих домишек: полуразрушенные тротуары, расшатанные ступени, сломанные перила на крылечках, обветшалые от непогоды и времени стены. Если бы эти строения были наделены даром речи, они бы стонали, горестно вздыхали, хрипели, кашляли и дружно жаловались на несправедливое время. Мы спокойно ехали следом. Еще днем, после подписания договора об аренде, мы приобрели на заправочной станции тормозные цепи. Стальные звенья позвякивали, ударяясь друг о друга, а на больших скоростях пронзительно пели. То и дело дорога трещала под нашей утяжеленной машиной. Коп медленно миновал несколько закрытых лавок — магазин вязаной одежды, магазин обычной одежды, заброшенную станцию техобслуживания, — скользя лучами света мощных фар патрульной машины вдоль затемненных рядов строений в поисках возможных грабителей — кто бы усомнился, но выхватывая одни лишь блуждающие тени, которые кружились, метались и исчезали в дрожащем пятне света. Мы держались примерно на квартал позади него, давая ему возможность сворачивать за угол и пропадать из виду на довольно долгое время, так, чтобы он не заметил, что за ним следует все время одна и та же машина. Наконец его путь пересекся с «загоравшим» водителем, чья машина стояла у обочины возле сугроба, рядом с перекрестком Дунканноновской дороги и Яблоневой тропы. Сломавшийся автомобиль был «Понтиак» четырехлетней давности, покрытый дорожной грязью, въевшейся в краску. Короткие, тупые, грязные сосульки намерзли на заднем бампере. На нем были регистрационные номера штата Нью-Йорк, и эта деталь подтвердила мое ощущение, что здесь-то коп и найдет себе жертву. В конце концов, путешественник, проезжающий через Йонтсдаун, может стать безопасной и легкой добычей, потому что никто не сможет доказать, что он пропал именно в этом городе, а не в любом другом месте на своем пути. Патрульный автомобиль свернул к обочине и остановился возле неподвижного «Понтиака». — Езжай мимо него, — велел я Райе. Привлекательная рыжеволосая женщина, лет около тридцати, в высоких ботинках, джинсах и коротком сером пальто из пледовой ткани, стояла перед «Понтиаком». На ледяном воздухе дыхание вылетало у нее изо рта морозными клубами пара. Капот был поднят, и она с забавным видом уставилась на двигатель. Она сняла одну перчатку, но явно не знала, какое применение найти обнаженной бледной руке. Она с сомнением потянулась к чему-то под капотом и смущенно отдернула руку. С явной надеждой на помощь она поглядела на нас, когда мы показались на перекрестке. На краткий миг я увидел безглазый череп там, где должно было быть ее лицо. В костяных глазницах, казалось, таится огромная, бездонная глубина. Я моргнул. Сумеречным Взглядом я увидел, что в ноздрях и во рту у нее кишат личинки мух. Я снова моргнул. Видение прошло, мы проехали мимо нее. Этой ночью она умрет — по крайней мере, если мы не сделаем ничего, чтобы помочь ей. На углу следующего квартала находился бар-ресторан. Это было последнее освещенное место перед тем, как Дунканноновская дорога поднималась в угольно-черные, покрытые лесом предгорья, окружавшие Йонтсдаун с трех сторон. Райа свернула на автостоянку, припарковала автомобиль рядом с пикапом, к которому был прицеплен туристский трейлер, и погасила фары. С этой позиции, глядя из-под нижних ощетинившихся иглами ветвей большой ели, отмечающей край территории ресторана, мы могли наблюдать за перекрестком Дунканнона и Яблоневой тропы в квартале от нас. Там, перед «Понтиаком», рядом с рыжеволосой, стоял гоблин-патрульный, являя своим видом образец утешителя дамы в беде. — Мы оставили оружие дома, — сказала Райа. — Мы не думали, что война уже началась. Но с сегодняшнего вечера ни один из нас никуда не выходит без оружия, — трясущимся голосом произнес я, все еще не отойдя от видения облепленного личинками черепа. — Но в данный момент, — возразила она, — мы безоружны. — У меня есть нож, — ответил я, коснувшись ботинка в том месте, где скрывалось лезвие. — Не густо. — Хватит. — Может быть. На перекрестке рыжеволосая садилась в патрульную машину, без сомнения, с легким сердцем от того, что нашла помощь в лице улыбчивого и любезного представителя закона. Мимо проехало несколько машин, разбрасывая из-под колес комья снега, куски льда и кристаллы дорожной соли. Однако по большей части Дунканноновская дорога была почти пустынна в этом отдаленном глухом углу города и в этот час, поскольку движение на горные шахты и обратно вниз на сегодня уже закончилось. И сейчас, если не считать патрульной машины, выруливающей с обочины и движущейся в нашу сторону, шоссе было безлюдно. — Приготовься снова ехать за ним, — велел я Райе. Она тронулась в путь, но фары не включила. Мы сжались на сиденьях как можно сильнее, едва высунув головы над приборной доской. Мы наблюдали за копом, точно пара бдительных песчаных крабов во Флориде, чьи глаза-стебельки еле-еле торчат над поверхностью песка. Когда патрульная машина проехала мимо нас, сопровождаемая печальным пением и ритмичным постукиванием своих тормозных цепей, мы заметили, что гоблин в униформе ведет автомобиль. Рыжеволосой было не видно. Она сидела на переднем сиденье рядом с водителем — это все, что мы установили. Но сейчас ее там не было. — Где она? — спросила Райа. — Как только она села в машину, мимо них проехали последние автомобили по Дунканноновской дороге. Их никто не видел, и я готов поклясться, что этот ублюдок воспользовался предоставленным ему шансом. Должно быть, он нацепил на нее наручники, скрутил ее на сиденье. Может, даже огрел ее дубинкой так, что она потеряла сознание. — Может, она уже мертва, — предположила Райа. — Нет, — ответил я. — Поехали. Следуй за ним. Он не стал бы убивать ее так просто, когда может увезти ее куда-нибудь в укромное место и прикончить медленно. Это то, что им нравится — если предоставляется возможность, — долгая, неторопливая смерть, а не внезапная и мгновенная. К тому времени, когда Райа вырулила с ресторанной автостоянки, патрульная машина почти исчезла из виду на Дунканноновской дороге. Вдалеке красные габаритные огни поднимались выше, выше, выше, и на какое-то мгновение показалось, что они подвешены в темном воздухе высоко над нами, затем они исчезли за гребнем холма. Райа нажала на педаль газа, цепи откликнулись отрывистым тяжелым звуком, и мы погнались за патрульной машиной на самой большой скорости. Дунканноновская дорога сузилась с трехполосной до двухполосной проселочной дороги. Мы поднимались вверх, и полуосвещенные сосны и ели — призрачные, странным образом угрожающие, закутанные в свои сутаны и капюшоны из вечнозеленых игл — все теснее сдвигались по обеим сторонам дороги. Хотя мы вскоре сократили разрыв между нами и полицейской машиной до менее чем четверти мили, мы не беспокоились, что гоблин-полицейский засечет нас. Здесь, в предгорьях, дорога вилась серпантином, так что он редко находился в поле нашего зрения больше чем несколько секунд. Это значило, что мы для него были просто парой светящихся вдали фар, и вряд ли он почуял бы в нас опасность. На каждой миле пути с полдюжины проездов — по большей части грязная земля, некоторые посыпаны гравием, еще меньшее число — щебенкой — отходили от дороги и пролегали среди покрытых ледяной коркой деревьев. Надо полагать, они вели к невидимым отсюда домам, поскольку у каждого поворота стоял, как на посту, почтовый ящик. Проехав четыре или пять миль, мы оказались на верхней точке крутого подъема и увидели внизу патрульную машину — она почти до нуля снизила скорость, сворачивая на один из таких проездов. Не снижая скорости, чтобы не выдать себя, мы миновали поворот, где на сером почтовом ящике по трафарету была написана фамилия Хэвендал. Поглядев за ящик, я заметил в глубине туннеля из вечнозеленых деревьев стремительно уменьшающиеся в размерах красные габаритные огни. Они исчезали в прячущей их темноте — такой плотной и глубокой, что на минуту мои чувства дистанции, пространства (и равновесия) словно встряхнули и смешали: мне явственно показалось, что я в самом деле подвешен в воздухе, а патрульный автомобиль едет не по поверхности земли, а прямо подо мной движется вглубь, буравя проход к земному ядру. Райа припарковала машину у дороги в двухстах ярдах от поворота в частные владения — там, где снегоуборочные машины транспортного департамента разгребли от обочины достаточно снега, чтобы обеспечить маневр. Выйдя из машины, мы обнаружили, что с тех пор, как мы покинули супермаркет в городе, стало еще холоднее. Сырой ветер несся с высоких вершин Аппалачей, но ощущение было такое, словно он прилетел из куда более северных краев — из унылой канадской тундры, с пустынь арктического льда. Он обладал острым, чистым, озоновым ароматом, рождающимся на полюсе. На нас были замшевые куртки с подкладкой из искусственного меха, перчатки и утепленная обувь. И все равно нам было холодно. Райа открыла багажник, подняла панель, под которой находилась запасная шина, и достала инструмент, свой формой напоминающий кочергу — один его конец представлял собой ломик, другой — торцевой ключ. Она подержала его на руке, как бы взвешивая. Заметив мой взгляд, она пояснила: — Ну что ж, у тебя есть нож, а у меня вот это. Мы направились к проезду, на который свернула полицейская машина. Этот туннель, образованный нависающими над головой деревьями, был черным и пугающим, как коридоры в ярмарочном балагане. Надеясь, что глаза скоро привыкнут к густому мраку, очень осторожно — места для засады здесь было предостаточно — я направился по узкой грязной тропе. Райа шла бок о бок со мной. Комья смерзшейся земли и небольшие обломки льда хрустели у нас под ногами. Ветер выл в кронах деревьев. Нижние ветви шуршали, терлись друг о друга и тихо потрескивали. Мертвый лес, казалось, имитирует жизнь. Шум мотора черно-белого полицейского автомобиля не долетал до моего слуха. Очевидно, он остановился где-то впереди. Пройдя примерно с четверть мили, я ускорил шаг, затем перешел на бег — не потому, что начал лучше видеть (хотя глаза уже привыкали к темноте), а потому, что внезапно у меня возникло ощущение, что у рыжеволосой осталось совсем немного времени. Райа не стала задавать вопросов, а просто ускорила шаг и побежала рядом. Проезд был длиной примерно около полумили, и когда мы выбежали из обступивших нас деревьев на засыпанное снегом свободное пространство, где ночь была немного светлее, то оказались в пятидесяти ярдах от белого двухэтажного сборного домика. Свет мерцал почти во всех окнах первого этажа. Как бы там ни было, ночью этот домик производил впечатление очень уютного жилья. Лампа над передним крыльцом была включена, являя взору украшенные — почти в стиле рококо — перила с резными балясинами. Опрятные темные ставни тянулись по линии окон. Клубы дыма поднимались из кирпичной дымовой трубы, и ветер уносил их на запад. Полицейская патрульная машина была припаркована перед домом. Я не увидел никаких признаков копа и рыжеволосой. Тяжело дыша, мы остановились там, где траурный задник темного леса еще создавал прикрытие, делая нас невидимыми для любого, кто посмотрит в окно. В шестидесяти-семидесяти ярдах справа от дома находился большой амбар, с краев его двускатной крыши свешивались шапки сияющего снега. Он казался неуместным здесь, в предгорьях, где земля была слишком неровной и каменистой, чтобы ее можно было обрабатывать. Затем в тусклом свете я прочитал вывеску, намалеванную над двустворчатой дверью: «Яблочный пресс Келли». Позади дома, где земля поднималась вверх, рос фруктовый сад — все деревья выстроились ровным рядами, точно солдаты на плацпараде, точно похоронная процессия, с трудом различимая на покрытом снегом склоне холма. Нагнувшись, я вытащил нож из ботинка. — Лучше бы тебе тут подождать, — сказал я Райе. — Чушь. Я знал, что ее реакция будет именно такой, и меня растрогало и ее неизменное мужество, и стремление оставаться рядом со мной даже в минуту опасности. Тихо, как мыши, и так же быстро мы прокрались по краю расчищенного проезда, согнувшись, чтобы использовать для маскировки сугробы старого, грязного снега. Через несколько секунд мы были возле дома. Выйдя на лужайку, нам пришлось двигаться медленнее. Снег был покрыт коркой наста, которая неожиданно громко заскрипела под нашими ногами. Однако, опуская ноги твердо и тихо, мы добились того, что скрип стал приглушенным и вряд ли мог быть услышан в доме. Сейчас резкий ветер — завывающий, шепчущий и бормочущий вдоль карнизов — становился скорее союзником, чем противником. Мы прокрались вдоль стены. В первом окне, сквозь тюлевые занавески, заполняющие щель между тяжелыми занавесями, я увидел гостиную — камин из старого кирпича, часы на каминной полке, мебель в колониальном стиле, отполированный сосновый пол, лоскутные коврики, картинки, развешанные на бледных полосатых обоях. Следующее окно тоже было в гостиной. Я никого не увидел. Никого не услышал. Только многоголосый ветер. Третье окно — столовая. Пусто. Шаг за шагом мы двигались по насту. В глубине дома закричала женщина. Раздался тяжелый удар, что-то треснуло. Уголком глаза я заметил, что Райа подняла свое оружие. Четвертое, последнее на этой стороне, окно открывало вид в странно пустую комнату размером примерно двенадцать на двенадцать футов: только один предмет мебели, никаких украшений, никаких картинок, бежевые стены и бежевый потолок были покрыты полосами и пятнами ржаво-коричневого цвета. Серый, в пятнах линолеум на полу казался еще более выцветшим, чем стены. Странно, что эта комната могла находиться в том же доме, что и чистые, прибранные гостиная и столовая. Это окно, обросшее изморозью по краям, было плотнее прочих закрыто шторами, так что у меня была только узкая щелка, через которую я мог исследовать помещение. Прижавшись лицом к стеклу, выжимая максимальную пользу из щелки между парчовыми занавесями, я все же мог видеть почти семьдесят процентов комнаты — включая рыжеволосую. «Спасенная» из своего сломавшегося автомобиля, раздетая донага, она сидела на жестком стуле с резной сосновой спинкой. Запястья были скованы наручниками за спинкой стула. Она находилась достаточно близко от меня, чтобы я мог разглядеть сеть голубых вен на бледной коже — и крупные мурашки. Ее глаза, глядящие на что-то, находящееся вне моего поля зрения, были расширены, в них застыло испуганное, дикое выражение. Еще один глухой удар. Стена дома содрогнулась, словно с внутренней стороны в нее врезалось что-то тяжелое. Дикий визг. На сей раз не ветер. Я мигом узнал его — визжащий крик разъяренного гоблина. Райа, как видно, тоже распознала его, потому что из ее уст вырвался тихий звук отвращения. В комнате, лишенной мебели, я увидел демона, метнувшегося из дальнего угла. С ним произошла метаморфоза, он больше не скрывался в человеческом обличье, но я знал, что это тот полицейский, которого мы преследовали. Стоя на всех четырех лапах, он двигался с обычной пугающей грацией, на которую его грубые конечности, плечи и бока — все в узлах деформированной костной ткани — казались неспособны. Злобная собачья голова была низко опущена. Острые, как иглы, зубы и клыки ящера были обнажены. Раздвоенный крапчатый язык непристойно скользил взад-вперед по пупырчатым черным губам. Свиные глазки, красные, горящие, полные ненависти, были неотрывно обращены на беспомощную женщину, которая, судя по ее виду, была на грани помешательства. Внезапно гоблин отвернулся от нее и побежал через всю комнату, по-прежнему на всех четырех лапах, как бы намереваясь протаранить головой стену. К моему изумлению, он вместо этого вскарабкался по стене, легко пересек комнату под потолком, быстрый, как таракан, развернулся на смежную стену, пересек ее наполовину и снова очутился на полу, замерев наконец перед связанной женщиной и поднявшись на задние лапы. Зимняя стужа проникла в глубь меня и унесла тепло из крови. Я знал, что гоблины быстрее и проворнее многих людей — по крайней мере, людей, не наделенных моими сверхъестественными способностями, — но мне никогда не доводилось наблюдать подобного представления. Возможно, потому, что я редко видел гоблинов в уединении их жилищ, где они, может быть, постоянно ходят по стенке, — откуда мне знать. А в тех случаях, когда я убивал этот род, я обычно убивал быстро, не оставляя им возможности ускользнуть по стенам и потолкам, оказаться вне моей досягаемости. Я думал, что знаю о них все, но сейчас я снова был поражен. Это обеспокоило и встревожило меня, потому что я не мог не задаться вопросом: какие еще скрытые возможности имеются у них? Еще одна подобная неожиданность, которая свалится мне на голову в самый неподходящий момент, может стоить мне жизни. Я был серьезно и основательно напуган. Но испугался я не только дьявольской способности гоблинов карабкаться на стены, точно ящерица: я боялся еще и за женщину, прикованную наручниками к спинке стула. Спустившись со стены и встав на ноги, гоблин открыл моему взгляду еще кое-что, чего я прежде не видел, — отвратительный фаллос, длинный, около фута, торчащий из чешуйчатого обвислого мешка, в котором он прятался в невозбужденном состоянии. Он был изогнутый, как сабля, толстый и порочно остроконечный. Тварь намеревалась изнасиловать женщину прежде, чем разорвать ее в клочья когтями и зубами. Очевидно, гоблин решил овладеть ею в своем чудовищном облике, а не в обличье человека, поскольку в этом случае ее ужас будет сочнее, ее полнейшая безнадежность приобретет изысканную пикантность. Им не могло двигать желание оплодотворить ее — чужое семя не оплодотворило бы человеческое лоно. К тому же жестокое убийство было неизбежным и очевидным. Почувствовав внезапную болезненную слабость, я вдруг понял, почему в этой комнате не было мебели, почему она так отличалась от остальных комнат в доме и что за ржаво-коричневые пятна слой за слоем покрывали пол и стены. Это была скотобойня, место для разделки туш. И других женщин приводили сюда, выставляли на осмеяние, на забаву, устрашали и унижали, а затем разрывали на куски просто ради удовольствия. Не только женщин. И мужчин. И детей. Неожиданно мне явились отвратительные психические видения предстоящего кровопролития. Ясновидческие образы исходили от забрызганных кровью стен. Они, казалось, проецируют себя на стекло перед моими глазами, как будто окно было экраном в кинотеатре. Невероятным усилием воли я прогнал эти излучения из своего сознания, со стекла, обратно в стены скотобойни. Я не мог поддаться им сейчас. Если видения поразят меня, как удар, я ослабею и не смогу помочь женщине. Отвернувшись от окна, я безмолвно скользнул к углу дома, уверенный, что Райа последовала за мной. По пути я снял перчатки и сунул их в карман куртки, чтобы орудовать ножом со своим обычным умением. Позади дома ветер крепче хлестнул по нам — здесь он скатывался прямо с возвышающейся над домом горы, — лавина ветра, сырого и пронизывающего. За несколько секунд руки у меня замерзли, и я понял, что должен побыстрее проникнуть в тепло дома, иначе утрачу проворство, которое потребуется, чтобы точно метнуть нож. Ступени заднего крыльца обледенели. Лед сковал швы и стыки. Они скрипели и трещали под нашими ногами. С балюстрады свешивались сосульки. Пол крыльца тоже заскрипел под подошвами. Задний вход находился с левой стороны дома. Я открыл алюминиево-стеклянную дверь. Пружинные петли чуть скрипнули. За этой дверью была дверь, ведущая в дом. Она тоже была незаперта. Гоблины редко используют замки, потому что в них генетически заложена ограниченная способность к страху. Кроме того, они почти совсем не боятся нас. Охотник не дрожит перед кроликом. Мы с Райей вошли в идеально прибранную кухню, словно сошедшую с картинки журнала «Домоводство». Теплый воздух благоухал ароматами шоколада, печеных яблок и корицы. Каким-то образом сам порядок на кухне, ее обычность делали ее еще более зловещей. На кухонном столе, справа от входа, стоял на проволочной подставке домашний пирог, а рядом с ним — поднос, полный небольших булочек. Бесчисленное количество раз я видел, как гоблины едят в ресторане. Я знал, что им необходима пища, как и любому живому существу, но я никогда и представить себе не мог, чтобы они выполняли какие-либо человеческие домашние обязанности, вроде выпечки булочек и пирогов. В конце концов, они были психическими вампирами, питающимися нашей физической, умственной и эмоциональной болью, а с учетом отвратительно «сытной» диеты человеческой агонии, которую они себе регулярно позволяли, другая еда казалась излишней. Я и в мыслях не держал представить их сидящими за приятным ужином в своих уютных домах, расслабляясь после дня кровопролития, пыток и тайного терроризма. При мысли об этом мне стало нехорошо. Из пустой комнаты, находившейся через стену от кухни, донеслась череда глухих звуков и ударов, раздался скребущийся звук. Несчастная женщина, очевидно, была уже не в состоянии кричать, потому что я услышал, как она молится — быстрым, дрожащим голосом. Я расстегнул «молнию» на куртке, вынул руки из рукавов, и куртка мягко соскользнула на пол. Громоздкая верхняя одежда сковала бы движение руки, бросающей нож. Сводчатый коридор с тремя запертыми дверями — кроме той, через которую мы пришли, — вывел меня из просторной кухни. Через коридор я увидел прихожую и лестницу дома. Из этих трех дверей одна вела, должно быть, на лестницу в подвал, одна в буфетную. Третья могла быть входом в комнату, в которой я видел демона и женщину в наручниках. Однако мне не хотелось открывать все двери, производя массу шума, пока я не буду точно уверен, что с первой попытки найду за дверью нужную комнату. Поэтому мы бесшумно прошли через кухню, через коридор, в прихожую, где первая дверь слева, наполовину открытая, вела на скотобойню. Я боялся, что женщина заметит меня; если я загляну в дверь, чтобы оценить положение, ее реакция может подать сигнал тревоги гоблину. Поэтому я ворвался в комнату, не зная, где будет находиться моя цель. Дверь с треском врезалась в стену, когда я распахнул ее. Гоблин, громоздящийся над женщиной, обернулся и поглядел на меня. У него вырвалось мерзкое удивленное шипение. С поразительной быстротой его мощный фаллос опал и втянулся в чешуйчатый мешок, а тот, в свою очередь, как бы поднялся, укрывшись в защитной впадине на теле. Держа нож за острие лезвия, я отвел его за голову. Все еще шипя, гоблин прыгнул в мою сторону. В тот же миг моя рука метнулась вперед. Нож полетел. На середине своего прыжка гоблин был поражен в горло. Лезвие вонзилось глубоко, хотя и не с такой точностью, на какую я рассчитывал. Блестящие, раздвоенные, свиноподобные ноздри чудовища задрожали, когда он фыркнул от изумления и ярости. Из рыла хлынула горячая кровь. Он продолжал двигаться. Он врезался в меня. Сильно. Мы оба зашатались и с грохотом ударились о стену. Спиной я прижимался к высохшей крови бог знает скольких невинных, и на миг (прежде чем я решительно заблокировал свое сознание) я ощутил боль и страх, исходившие от жертв в их предсмертных судорогах и присохшие к краске и штукатурке этой комнаты. Наши лица были всего в нескольких дюймах друг от друга. Дыхание чудовища воняло кровью, мертвым мясом, разлагающейся плотью — как будто, питаясь ужасом женщины, он пожирал мясо, подобно хищнику. Зубы, длинные зубы, с которых капала слюна, загнутые и скрежещущие, мерцали в дюйме от моих глаз — эмалированное предвестие боли и смерти. Темный маслянистый язык демона, извиваясь, тянулся ко мне, как змея в поисках добычи. Я почувствовал, как узловатые руки гоблина смыкаются вокруг меня — он словно хотел раздавить меня, прижав к груди. Или же в этом невероятном объятии он вонзит свои ужасные когти глубоко в мою плоть. Отчаянно стучащее сердце, точно молоток, сбило засов, запирающий мои запасы адреналина, и меня внезапно подбросил его мощный прилив в кровь. Я почувствовал себя почти богом — ну, скажем так, напуганным богом. Мои руки были прижаты к груди, поэтому я сжал кулаки и раздвинул локти в стороны, изо всей силы нанеся ими удар в могучие руки гоблина, разрывая объятие, в которое он пытался заключить меня. Я почувствовал, как его когти скользнули по моей рубахе, когда я разорвал захват, и в следующее мгновение услышал, как его твердые костяшки ударились о стену позади меня, когда одна его рука была подброшена вверх. Он вскрикнул от ярости. Этот странный крик прозвучал еще более странно оттого, что звуковые волны, идущие от голосовых связок к губам, проходили через лезвие ножа, пронзившего его глотку, и потому приобретали металлический оттенок, прежде чем сорваться с губ. Вместе с воплем изо рта гоблина выплеснулась струйка крови, запачкавшая мне лицо. Несколько капель попало в рот. Отвращение придало мне сил не меньше, чем страх и ярость, и я оттолкнулся от стены, опрокидывая тварь на спину. Мы споткнулись и упали, я приземлился на него сверху, мигом ухватившись за рукоятку ножа, торчащего из его горла. Свирепо повернув лезвие в ране, я рывком вытащил его и ударил снова, снова и снова — не в силах остановиться, хотя алое сияние в его глазах стремительно слабело, становясь грязно-красным. Его пятки слабо стучали по линолеуму пола. Руки бесполезно хлопали по полу, крепкие когти выстукивали бессмысленный код по доскам настила бойни. Наконец я провел острием лезвия справа налево через всю глотку, разрезал мускулы, вены и артерии. И выдохся — а он испустил дух. Задыхаясь, что-то невнятно бормоча, яростно отплевываясь, чтобы полностью избавиться от крови демона во рту, я поднялся на колени, возвышаясь над умирающим гоблином. Лежа подо мной, он пульсировал и мерцал, подобно ртути, в последней конвульсивной трансформации. Он расходовал скудные запасы оставшейся у него жизненной энергии на то, чтобы вернуться в человеческий облик, как на то был запрограммирован генетиками его род в далекую эру их творения. Кости ломались, трещали, смещались, пузырились и снова затвердевали в бешеной метаморфозе. Сухожилия и хрящи рвались, но тут же вновь связывались в единое целое в иных очертаниях подкожных тканей. Мягкие ткани с влажным чмокающим и хлюпающим звуком искали и обретали новую форму. Женщина в наручниках, Райа и я были так заворожены перевоплощением оборотня, что не подозревали о присутствии второго гоблина до того момента, пока он не ворвался в комнату. Он застал нас врасплох точно так же, как мы застали врасплох первого. Наверное, в этот миг психические способности Райи — меньшие, нежели мои, — сработали лучше моих, потому что, когда я вскинул голову и увидел надвигающегося гоблина, Райа уже замахнулась ломиком, который принесла с собой. Она так яростно взмахнула и так мощно ударила, что я заметил — ей самой трудно удержать ломик в руках, онемевших от удара. Мощное сотрясение чуть не выкрутило ломик у нее из рук. Нападавший гоблин с горящими глазами отшатнулся, взвыв от боли. Он не устоял от удара, но, очевидно, не был ранен достаточно серьезно, чтобы потерять сознание. Он хрипло завизжал и плюнул, как будто его слюна была для нас сильнодействующим ядом. Придя в себя от удара, в то время как Райа все еще пыталась крепко схватить ломик, он набросился на нее с устрашающей быстротой и проворством. Обхватил ее обеими громадными руками. Всеми десятью когтями. Когти захватили большей частью плотную зимнюю куртку. Слава богу, большей частью куртку. Прежде чем он успел выпутать одну руку из ткани куртки, чтобы полоснуть ее по лицу, я вскочил. Ринулся. Два шага, прыжок. Я оказался на его чешуйчатой спине. Стиснул его между Райей и собой. Опустил нож. Сильно. Вколотил лезвие. Вглубь между костистыми деформированными плечами. По самую рукоятку. Глубоко в хрящи. Я не смог выдернуть его, обратно. Внезапно чудище передернулось с нечеловеческой силой. Точно лошадь на родео. Оно стряхнуло меня со спины. Я грохнулся об пол. Боль пронзила позвоночник. Голова ударилась о стену. Предметы расплылись у меня перед глазами. Затем все опять прояснилось. Но с минуту я был слишком ошеломлен и не находил силы подняться. Я видел, что мой нож по-прежнему торчит из загривка гоблина. Райа тоже была отброшена от гоблина, но теперь он снова набросился на нее. Однако она успела перестроиться за секунду. Придумав какой-то план, она шагнула на нападающего, вместо того чтобы уклоняться от него. Она снова воспользовалась своим ломиком — но на этот раз не как дубинкой, не тем концом, на котором был ключ, а острием. Взмахнув ломиком, точно копьем, она ударила им в гоблина, метнувшегося к ней. Толстый железный стержень вонзился в живот гоблину, На этот раз он издал не вой, а ужасный дребезжащий визг. Чудовище ухватилось обеими руками с крупными четырехсуставчатыми пальцами за копье, пронзившее его туловище, и Райа отпустила ломик. Гоблин, шатаясь, сделал несколько шагов назад и столкнулся со стеной, пытаясь вытащить копье из кишок, и в этот момент я оправился достаточно, чтобы подняться на ноги. Я набросился на ненавистную тварь. Обеими руками я ухватился за скользкий от крови ключ на свободном конце ломика. Сейчас, когда потоки крови лились из его тела, мой противник выглядел на весь свой древний возраст. Я вытащил из него ломик и отступил прежде, чем он успел полоснуть меня когтями. Подняв на меня убийственные, но уже тускнеющие глаза, он попытался достать мои руки острыми как бритва когтями. Я начал методично избивать чудовище, чтобы смирить его. Я обрушивал на него ломик до тех пор, пока он не упал на колени, и продолжал бить еще, пока он не рухнул лицом вниз на пол. Но даже тогда я не остановился и все бил, бил, пока не треснул его череп, пока плечи не превратились в пыль, пока локти его не разбились, пока бедра и колени не были переломаны, пока я сам не вспотел настолько, что пот смыл кровь с моего лица и рук, и пока я не вымотался так, что не мог поднять ломик, чтобы нанести еще один удар. Мое тяжелое дыхание эхом отлетало от стен. Райа пыталась парой салфеток вытереть кровь гоблина со своих рук. Первое чудовище — теперь мертвое — вновь обрело свой обнаженный, избитый человеческий облик. Это произошло еще тогда, когда началась схватка со вторым гоблином. Теперь я убедился, что это действительно тот самый коп, которого мы видели. Второй гоблин, после трансформации, оказался женщиной примерно того же возраста, что и полицейский. Может быть, его жена. Или подруга. А в самом деле, мыслят ли они такими категориями, как мужья и жены — или, по крайней мере, любовники? Как они воспринимают друг друга, сталкиваясь ночью в холодной, точно у ящериц, страсти? И всегда ли они ходят по свету парами — и лежит ли в основе их выбора предпочтение, как это в большинстве случаев бывает в нашем роде? Или же их связь служит лишь хорошим прикрытием, помогающим им сойти за обычных мужчин и женщин? Райа срыгнула. Казалось, ее вот-вот вырвет, но она подавила позыв и отшвырнула прочь мокрые от крови салфетки. Встав обеими ногами на спину второму мертвому чудовищу, я обеими руками ухватился за рукоятку своего ножа и вытащил его из хрящеватых плеч твари. Лезвие я вытер о свои джинсы. Обнаженная женщина на стуле отчаянно содрогалась. Ее глаза были полны ужаса, смущения и страха — но боялась она не мертвых гоблинов, а нас с Райей. Еще бы. — Друзья, — хрипло произнес я. — Мы не такие... как они. Она уставилась на меня, не в силах вымолвить ни слова. — Позаботься о ней, — велел я Райе. Я повернулся к двери. Райа спросила: — Куда... — Поглядеть, не осталось ли еще. — Не осталось. Они бы прибежали сюда. — Надо все-таки посмотреть. Я вышел из комнаты, надеясь, что Райа поймет — я оставил их, чтобы Райа успокоила и одела рыжеволосую за время моего отсутствия. Я хотел, чтобы к женщине хотя бы частично возвратились способность соображать, силы, достоинство и самоуважение, прежде чем я вернусь и расскажу ей про гоблинов. За окном столовой ветер то заговорщицки шептал, то жалобно оплакивал кого-то. В гостиной глухо тикали каминные часы. На втором этаже я обнаружил три спальни и ванную комнату. В каждой я слышал, как потрескивают, словно сведенные артритом, чердачные балки, и ветер врезается в конек крыши, ударяет в скаты и подглядывает под карнизы. Гоблинов больше не было. В промерзшей ванной комнате я стащил с себя мокрую от крови одежду и наскоро простирнул ее в раковине. Я не глядел в зеркало над раковиной: не осмеливался. Убийство гоблинов было оправданно. Я не сомневался, что в этом нет никакого греха, и избегал глядеть на свое отражение не потому, что боялся увидеть вину в своих глазах. Однако каждый раз, как я расправлялся с демонами, мне казалось, что их становится все тяжелее убивать. От меня требовалось все больше жестокости, чем прежде, больше ярости. Поэтому после каждой подобной резни мне казалось, что во взгляде у меня прибавилось холодности, стального блеска, который смущал и пугал меня. Коп был примерно моего телосложения, и в шкафу в хозяйской спальне я выбрал одну из его рубашек и пару джинсов. Они подошли прекрасно, как мои собственные. Спустившись вниз, я нашел Райю и рыжеволосую. Они ожидали меня в гостиной. Обе сидели у окна в уютных креслах, чувствуя себя крайне неуютно. Отсюда им был виден проезд, и они могли подать сигнал тревоги при первых признаках приближающегося автомобиля. Снаружи снежные призраки, гонимые ветром, поднимались с земли и спешили прочь, во тьму — смутные фосфоресцирующие фигуры, которых как будто послали с загадочными поручениями. Женщина была одета. Происшедшее не лишило ее рассудка, однако плечи ее поникли, а бледные руки нервно двигались на коленях. Я взял невысокий стул с вышитой подушкой и сел рядом с Райей, взяв ее за руку. Она дрожала. — Что ты ей рассказала? — спросил я Райю. — Кое-что... о гоблинах... что они такое, откуда взялись. Но она не знает, кто мы такие и каким образом можем видеть их в то время, как она не видит. Я оставила это на твою долю. Рыжеволосую звали Кэти Осборн. Ей был тридцать один год, она преподавала литературу в «Барнарде» в Нью-Йорке. Она выросла в небольшом пенсильванском городке в восьмидесяти милях к западу от Йонтсдауна. Не так давно ее отца положили в больницу с легким инфарктом, и Кэти взяла небольшой отпуск, чтобы побыть с ним. Он уже поправлялся, и сейчас она возвращалась в Нью-Йорк. Учитывая кошмарное состояние некоторых участков горных дорог зимой, она ехала без приключений — пока не добралась до восточной окраины Йонтсдауна. Еще студентка, но уже преподаватель, любительница литературы, она была (как она сама сказала) впечатлительной натурой, обладала широким кругозором и питала слабость к хорошо закрученной фантастике. Она прочла некоторое количество литературы по фантастике и романов ужасов — «Дракулу», «Франкенштейна», немного Говарда Лавкрафта, книгу некоего Стерджена про плюшевого мишку, который пил кровь, — и не была, как сказала она, совсем уж неподготовленной к чему-то фантастическому или дьявольскому. И все же, несмотря на ее слабость к фантастике, несмотря на кошмарных тварей, которых она увидела здесь, ей приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы принять рассказ Райи об этих генетически сконструированных солдатах, пришедших из эпохи, забытой историей. Она сказала: — Я знаю, что я не сумасшедшая, и в то же время не устаю спрашивать себя, не сошла ли я с ума. Я знаю, что эти ужасные создания меняют свой облик из человеческого и обратно в человеческий, и все же не перестаю думать: а может, я все это выдумала, или мне почудилось, хотя точно знаю, что не почудилось, а вся эта история про предшествующую цивилизацию, погибшую в великой войне... это слишком много, просто чересчур, вот я уже и заговариваюсь — разве нет? — да, я знаю, что заговариваюсь, но у меня такое чувство, что я вот-вот свихнусь, понимаете? Я не облегчил ее состояния. Я рассказал ей про Сумеречный Взгляд, про не столь мощные психические способности Райи и про тихую войну (до сих пор тихую), которую мы ведем. Ее зеленые глаза затуманились, но вовсе не потому, что она ушла в себя или не выдержала напора информации. Напротив, она дошла до состояния, когда ее незатейливый, разумный мир претерпел такое выворачивание наизнанку и такую встряску, что ее сопротивление, ее нежелание верить в «невозможные» вещи оказалось практически преодолено. Она была так ошарашена, что стала восприимчивой. Затуманившиеся глаза свидетельствовали лишь о том, как отчаянно ее высокообразованная голова работает над тем, чтобы вставить эти новые кусочки мозаики в ее картину мира, претерпевшую сегодня такие глубокие изменения. Когда я закончил, она моргнула, с любопытством покачала головой и сказала: — Как же... — Что? — спросил я. — Как же я теперь смогу вернуться и снова преподавать литературу? Теперь, когда я знаю все эти вещи, как я смогу вести нормальную жизнь? Я поглядел на Райю — может, она знает ответ на этот вопрос, и Райа сказала: — Боюсь, что это будет невозможно. Кэти нахмурилась и собралась ответить, но ее прервал какой-то странный звук. Внезапный пронзительный плач — наполовину детское хныканье, наполовину поросячий визг, смешанный с зудением, какое издают насекомые, — разорвал покой гостиной. Это не был один из тех звуков, которые я связывал с гоблинами, но он, совершенно очевидно, не был ни человеческого происхождения, ни криком какого-либо животного, с которым мне доводилось сталкиваться. Я знал, что этот крик не может исходить от пары гоблинов, которых мы только что убили. Они были, несомненно, мертвы — по крайней мере, в данный момент. Возможно, если оставить им головы на плечах, они и смогут найти обратную дорогу в мир живых, но до того пройдет не один день, неделя, даже не один месяц. Райа в мгновение ока вскочила с кресла, нашаривая что-то, чего никак не могла нашарить, — думаю, она искала ломик. — Что там за шум? Я тоже вскочил на ноги, схватив нож. Сверхъестественный воющий звук, похожий на слияние множества голосов, обладал алхимической способностью превращать кровь в ледяную воду. Если зло во плоти разгуливало по свету в облике сатаны или иного дьявола, тогда это точно был его голос, бессловесный, но злобный, голос всего, что дышит не добром. Он шел из другой комнаты, хотя я не сразу сообразил, идет ли он с этого этажа или сверху. Кэти Осборн поднялась не так быстро, как мы, как будто не слишком желая столкнуться с еще одним ужасом. Она сказала: — Я... я уже слышала именно этот звук, когда была прикована наручниками в той комнате, когда они только-только приступили к пыткам. Но потом так много всего случилось и так быстро, что... я забыла про него. Райа поглядела на пол у себя под ногами. Я тоже посмотрел вниз, потому что понял, что пронзительный шум — точно трепещущий электронный вопль, хотя и куда более необычный — исходит из подвала.Глава 24
ТЮРЬМА И АЛТАРЬ
Полицейский, который теперь лежал мертвый в своей собственной окровавленной скотобойне, носил с собой табельный служебный револьвер — «смит-вессон магнум» 357-го калибра. Я взял его себе на вооружение, прежде чем направился на кухню и открыл дверь, ведущую на лестницу в подвал. Жуткое певучее хныканье эхом отзывалось из глубины этой норы, полной теней, и хоть грубо, но доносило какой-то смысл — настойчивость, гнев, голод. Этот звук был настолько силен и отвратителен, что его, казалось, можно воспринять на ощупь. Мне представилось, что я вижу этот крик, словно влажные спектральные руки, скользящие по моему лицу и телу, — холодное и липкое ощущение. Эта подземная комната не была совсем темной. Мягкие, колышущиеся огоньки — возможно, пламя свечей — трепетали в невидимом мне углу. Кэти Осборн и Райа настояли на том, чтобы сопровождать меня. Райа, само собой, не допустила бы, чтобы я в одиночку встретился с неведомой угрозой, а Кэти боялась оставаться одна в гостиной. Сразу за дверью я обнаружил выключатель. Щелкнул им. Внизу зажегся янтарный свет, более яркий и устойчивый, чем пламя свечей. Завывание прекратилось. Вспомнив про психические испарения давнего человеческого страдания, все еще исходящие от стен подвала в снятом нами доме на Яблоневой тропе,я напряг свое шестое чувство как только мог в поисках нечистых излучений подобного рода и здесь. Я и в самом деле уловил образы и неясные ощущения, хотя они были совсем не такими, как я ожидал, — и не были похожи ни на что, с чем я сталкивался прежде. Я не мог понять их смысл: полуразличимые, странные, туманные формы, которые я был не в состоянии распознать, черно-белые, затененные серым. Они то метались в резком, поспешном ритме, то колыхались, двигаясь медленно, тошнотворно, по-змеиному, внезапно без явной причины вспыхивая пестротой зловещих ярких оттенков. Я ощущал необычайно сильные эмоции, исходившие из тяжело больного сознания подобно нечистотам из поврежденной канализации. Это не были человеческие эмоции — они были извращеннее и темнее болезненных мечтаний и желаний самых худших из людей. Однако это не было полностью похоже и на ауру гоблинов. Это был психический эквивалент гноящейся, гангренозной плоти. Мне казалось, что меня засасывает в выгребную яму хаотичного, полного жажды убийства, внутреннего мира какого-то лунатика. Сумасшествие — и скрытая под ним жажда крови — было таким омерзительным, что мне пришлось спешно выбираться из него и постараться как можно сильнее заблокировать свое шестое чувство, чтобы защитить себя от нежелательных излучений. Должно быть, я слегка пошатнулся, стоя наверху лестницы, потому что Райа положила руку мне на плечо и прошептала: — С тобой все в порядке? — Да. Единственный пролет лестницы был крутым. Большая часть подвального помещения находилась слева, не досягаемая для взгляда. Я мог видеть только небольшой клочок голого пола из серого бетона. Я осторожно пошел вниз. Райа и Кэти последовали за мной. Подошвы наших ботинок глухо стучали по деревянным ступеням. Тонкое, ядовитое зловоние усиливалось по мере того, как мы спускались. Моча, фекалии, застоявшийся пот. Просторный подвал внизу лестницы был лишен всего, что в принципе можно ожидать найти в таком месте, — никаких инструментов, ни дерева для обычных плотницких нужд, ни банок с краской, лаком и политурой, никаких консервированных по-домашнему фруктов или овощей. Напротив, часть пространства была занята алтарем, а в другой находилась большая прочная клетка, сооруженная из железных решеток. Прутья решетки отстояли на пять дюймов друг от друга и тянулись от пола до потолка. Отвратительные обитатели клетки сейчас молча пялились на нас, но, несомненно, именно они были источником той какофонии, что привела нас сюда, в этот богом забытый подвал. Их было трое. Каждый ростом чуть больше четырех футов. Молодые гоблины. Подростки. Они, бесспорно, принадлежали к этому демоническому племени — и все же они были другие. На них не было одежды, по телам шли полосы тени и янтарного света. Они пялились на нас из-за решеток, а в это время с их телами и лицами происходили медленные, непрерывные изменения. Сперва я просто ощутил, что они не такие, как все, не поняв, в чем кроется отличие, но затем быстро сообразил, что их дар перевоплощения вышел из-под контроля. Они, видимо, были заперты, как в ловушке, в сумрачном состоянии непрерывного изменения. Их тела были наполовину телами людей, наполовину — гоблинов, кости и плоть преображались снова и снова, безостановочно. Это, судя по всему, было редким явлением. Они не могли удержаться ни в той, ни в другой форме. У одного человеческая ступня венчала ногу гоблина, а пальцы на руках были отчасти пальцами гоблина, отчасти — человеческого ребенка. Прямо у меня на глазах два пальца, принадлежащих человеку, начали меняться, становясь четырехсуставными пальцами гоблина с ужасными когтями, а несколько гоблинских пальцев приняли вид, более близкий к человеческому. Одна из тварей смотрела на нас тяжелым, злобным взглядом совершенно человеческих глаз на лице, черты которого целиком принадлежали монстру. Но, пока я с отвращением глядел на это мерзкое зрелище, лицо начало приобретать новые очертания, в которых человеческие черты и облик гоблина смешались в новом — еще более кошмарном — сочетании. — Что они такое? — спросила Райа, содрогнувшись. — Думаю, это... деформированное потомство, — ответил я, придвигаясь поближе к клетке — однако не настолько близко, чтобы дать какому-нибудь из них возможность дотянуться через прутья клетки и цапнуть меня. Твари сохраняли молчание, напряженные, внимательные. — Уроды. Генетические калеки, — продолжал я. — У всех гоблинов есть ген метаморфозы, позволяющий им принимать по желанию облик либо человека, либо гоблина. Но эти чертовы твари... они, должно быть, родились с несовершенными генами метаморфозы, весь этот помет — все уроды. Они не могут контролировать свой облик. Их ткани постоянно в состоянии изменения. Поэтому их родители заперли свое потомство здесь, в подвале, точно так же, как в прежние века люди обычно прятали своих детей-идиотов в подвалах или на чердаках. Один из этих корявых выродков зашипел на меня из-за решетки, и двое других тут же оживленно присоединились к нему — низкий, свистящий, угрожающий звук. — Господи боже, — выдохнула Кэти Осборн. — И это не просто физическая деформация, — сказал я. — Они совершенно безумны. Безумны как по человеческим меркам, так и по меркам гоблинов. Безумны и очень, очень опасны. — Ты это чувствуешь... психически? — спросила Райа. Я кивнул. Всего лишь заговорив об их сумасшествии, я оказался уязвим для психических излучений их больного рассудка, которые в первый раз уловил наверху, открыв дверь подвала. Я ощущал желания и потребности, переполнявшие их, и эти желания, хоть и были слишком странными, чтобы я сумел понять их, все же были отчетливо извращенными, кровожадными и омерзительными. Извращенная жажда, безумные страсти, отвратительный, пугающий голод... И снова, так сильно, как только мог, я захлопнул дверцу своего шестого чувства примерно так же, как захлопнул бы заслонку топки печи, и яростное пламя психических излучений медленно угасло, превратившись в слабый огонек. Они перестали шипеть. С хрустящим, потрескивающим звуком их человеческие глаза вспучились, налились горячим красным светом и превратились в яркие глаза гоблинов. На нормальном человеческом лице начало вытягиваться свиное рыло, с хлюпаньем и хрустом, но остановилось на полпути в своем превращении, а затем втянулось обратно в глубь человеческого облика. Один из них издал горлом густой, слизисто-мокрый, кашляющий звук. Я решил, что это своего рода смех — злобный, страшный, но все же смех. Вот из человеческого рта выросли клыки. А вот начала возникать собачья челюсть, тяжелая и жестокая. А вот совершенно человеческий палец превратился в стилет с четырьмя суставами. Непрерывная трансформация оборотней. Конечная цель никогда не достигалась — они не могли принять вид ни человека, ни гоблина, — и, таким образом, самый процесс превращения становился единственной целью и смыслом их существования. Генетическое безумие. Один из троицы кошмарных близнецов просунул гротескно узловатую руку сквозь прутья решетки, протянув ее наружу так далеко, как только мог. Сжатые в кулак пальцы — одни человеческие, другие нет — разжались. Они начали гладить воздух, насыщенный испарениями. Это чем-то напоминало ласку, хотя больше было похоже на то, что тварь пыталась что-то выжать из воздуха. Пальцы, быстрые, как паучьи лапы, по очереди сгибались, распрямлялись и извивались: странная жестикуляция, лишенная смысла. Двое других отпрысков демонов начали носиться по своей просторной клетке — мчались влево, бросались вправо, карабкались по прутьям и камнем срывались обратно на грязный пол — точно безумные обезьяны, хотя в них не было ни капли веселья, присущего акробатическим выкрутасам обезьян. Из-за своей неспособности полностью обрести облик гоблинов они были менее подвижны, чем те демоны, которых мы убили наверху. — В дрожь бросает, как посмотрю на них, — сказала Райа. — Как ты думаешь, часто такое случается — пометы уродов вроде этих? Может ли это быть проблемой для гоблинов? — Может быть. Не знаю. — Я хочу сказать, возможно, их генетическая чистота ослабевает поколение за поколением. Возможно, в каждом новом поколении рождается все больше таких, как эти. В конце концов, их ведь изначально не программировали на воспроизведение. Если то, что мы знаем об их происхождении, — правда, значит способность к воспроизводству вырабатывалась очень долгое время. Так что, возможно, сейчас они утрачивают эту способность... утрачивают из-за мутации, как и приобрели из-за мутации. Это возможно? Или то, что мы видим, — исключение? — Не знаю, — повторил я. — Может быть, ты права. Разумеется, это приятная мысль — о том, что они вымирают и что со временем, через пару сотен лет, их останется небольшая горстка. — Пара сотен лет ни вам, ни мне ничем не помогут, разве не так? — несчастным голосом сказала Кэти Осборн. — В том-то вся и проблема, — согласился я. — Может понадобиться несколько сотен лет, чтобы они перестали существовать. А я не думаю, что они просто так смирились с тем, что им суждено вымереть. Времени у них достаточно, чтобы придумать что-нибудь и забрать в могилу вместе с собой и все человечество. Внезапно самый смелый из уродов убрал свою руку обратно в клетку и вместе со своими братьями-выродками завыл — так же, как они выли, когда мы услышали их наверху. Пронзительное завывание эхом отражалось от бетонных стен — музыка из двух нот, сгодившаяся бы для кошмара, монотонная песня безумных желаний, которую, наверное, можно было бы услышать в Бедламе. Этот вой в сочетании с вонью мочи и кала делал пребывание в подвале почти невыносимым. Однако я не собирался уходить отсюда, пока не исследую другой достойный внимания объект — алтарь. Я никак не мог бы узнать наверняка, что это именно алтарь, но он был именно тем, чем казался. В углу подвала, как можно дальше и от лестницы, и от тюрьмы для выродков, стоял крепкий стол, покрытый голубым бархатом. Две масляные лампы необычной формы — стеклянные шары медного цвета, внутри которых в жидком топливе плавали фитили, — стояли по бокам предмета, который, очевидно, был почитаемой гоблинами иконой. Он стоял на возвышении на каменной отполированной плитке трех дюймов высотой и площадью примерно в один квадратный фут. Икона была керамическая — прямоугольник размером приблизительно восемь дюймов в высоту, шесть в ширину и толщиной дюйма четыре. Предмет очень напоминал кирпич необычных размеров. Он был покрыт блестящей глазурью, благодаря которой темное, ночное сияние прямоугольника приобретало глубину (и таинственность). В центре черного прямоугольника располагался белый керамический круг — дюйма четыре в диаметре. Этот круг делило на две части сильно стилизованное изображение черной молнии. Это была эмблема угольной компании «Молния», которую мы видели накануне на грузовике. Но ее присутствие здесь на возвышении, словно для почитания, со всеми признаками и атрибутами священного символа, указывало на то, что это было нечто более значимое и важное, нежели просто эмблема какой-то компании. Белое небо, черная молния. Что это означало? Белое небо, черная молния. Визг мутантов в клетке был таким же громким, как и прежде, но мое внимание было целиком занято алтарем и центральной вещью на нем, так что на миг их пронзительные вопли совсем перестали меня беспокоить. Я не мог себе представить, как такие создания, как гоблины — сотворенные человеком, а не богом, ненавидящие своего творца и не имеющие к нему ни малейшего почтения, — могли создать религию. Если это и в самом деле был алтарь, тогда что они почитали, чему поклонялись тут? Каким странным богам приносили они дань? И как? И почему? Райа протянула руку, чтобы коснуться иконы. — Не трогай, — сказал я. — А что? — Не знаю. Просто... не трогай. Белое небо, черная молния. Как-то странно, но было что-то неожиданно жалостное и даже трогательное в том, что гоблинам были нужны боги, алтари и иконы, придававшие конкретный облик духовным чувствам. Само существование религии включает в себя понятия сомнения, покорности, понимания правильного и ложного, стремление к каким-то ценностям, достойный восхищения поиск смысла жизни и цели. Впервые я увидел нечто, что позволяло предполагать наличие чего-то общего между человечеством и гоблинами, общее чувство, общую потребность. Но, черт возьми, мой жестокий опыт говорил мне, что эти демоны не знают ни сомнения, ни покорности. Их понимание правильного и ложного было слишком простым для того, чтобы подводить под него философскую базу: правильным было то, что шло на пользу им и во вред нам, ложным было все, что шло во вред им и на пользу нам. Их ценности были ценностями акулы. Смыслом и целью их жизни было наше уничтожение, а для этого им не требовалась ни сложная теологическая доктрина, ни божественное оправдание. Белое небо, черная молния. Глядя на этот символ, я мало-помалу проникался уверенностью, что их религия — если таковая существовала — была не предназначена для того, чтобы сделать их добрее или лучше, чем они были и какими я их обычно видел и воспринимал. Я чувствовал — было нечто чудовищно злое в их неведомой вере, нечто настолько невыразимо жестокое в боге, которому они поклонялись, что по сравнению с их религией сатанизм — со всеми его человеческими жертвоприношениями и потрошением детей — казался почти таким же достойным, как и святая римско-католическая церковь. Я припомнил обширную, холодную, лишенную света пустоту, которую ощутил, когда в первый раз увидел грузовик угольной компании «Молния». Сейчас, глядя на икону на подвальном алтаре, я опять увидел то же самое. Бесконечная тьма. Неизмеримый холод. Безмерная тишина. Бескрайняя пустота. Ничто. Что это была за пустота? Что это значит? Огоньки в масляных светильниках трепетали. Мерзостные безумные создания визгливо выводили в своей тюрьме звуки бессмысленной песни ярости. Вонь в воздухе на миг усилилась. Керамическая икона — сперва объект любопытства, затем изумления, затем размышления, внезапно стала объектом неподдельного страха. Глядя на нее почти завороженным взглядом, я почувствовал, что в ней заключена разгадка тайны скопления гоблинов в Йонтсдауне. Но я понимал также, что жребий человечества — быть заложником философии, силы и замыслов, которые воплотились в этой иконе. — Давайте уйдем отсюда, — сказала Кэти Осборн. — Да, — согласилась Райа. — Пошли, Слим. Уйдем. Белое небо. Черная молния. Райа и Кэти отправились в сарай возле дома поискать пару ведер и резиновый шланг — вещи, которые должны быть под рукой на яблочном прессе даже сейчас, когда сезон уже давно прошел. Если они найдут что искали, они наполнят ведра бензином, слив его из бензобака полицейской машины, и принесут их в дом. Кэти Осборн вся тряслась и выглядела так, словно в любой момент могла свалиться от тяжелой болезни, но все же стиснула зубы (желваки на ее скулах напряглись, она удерживала позывы к рвоте) и сделала все, о чем ее попросили. Она проявила куда больше мужества, способности приспосабливаться и выдержки, чем я мог ожидать от человека, который всю жизнь провел за пределами реальности, в отгороженном от мира убежище науки. А для меня тем временем наступило очередное представление Великого Театра Ужасов. Стараясь не слишком заглядываться на свои изувеченные жертвы или на странную, пугающую тень, которую я отбрасывал, скорчившись словно Квазимодо над их трупами, я выволок обоих мертвых гоблинов из комнаты-скотобойни, по одному — за один раз. Я проволок их через всю кухню, все еще благоухавшую свежеиспеченным пирогом, и столкнул вниз по лестнице в подвал. Спустившись следом за ними, я сволок оба обнаженных трупа к середине подвала. Омерзительные тройняшки в клетке снова замолчали. Шесть глаз, некоторые из них человеческие, а некоторые горящие демоническим алым светом, с интересом глядели на меня. Они не проявили признаков горя при виде убитых родителей. Очевидно, они не были способны на горе или на понимание того, что означают эти смерти для них. Они не проявляли и зла, даже еще не боялись, а просто выказывали любопытство пытливых обезьян. Мне надо было быстро расправиться с ними. Но не сейчас. Мне нужно было на это настроиться. Нужно было закрыть шестое чувство как можно плотнее, ожесточить себя в достаточной мере для малоприятного занятия — безжалостной расправы. Я нагнулся над открытым верхом одной из шарообразных стеклянных ламп на алтаре и задул пламя плавающего в масле фитиля. Взяв лампу, я отнес ее к мертвым гоблинам и вылил горючее на трупы. Очищенное масло придало блеск их бледной коже. Волосы потемнели, когда масло намочило их. Капли масла дрожали у них на ресницах. Тошнотворную вонь мочи и фекалий перекрыл более резкий запах горючего. Наблюдатели в клетке по-прежнему молчали, затаив дыхание. Больше откладывать я не мог. За пояс у меня был заткнут «магнум» 357-го калибра. Я вытащил его. Когда я повернулся к ним и подошел к клетке, их взгляды переместились с трупов на полу на пистолет. Они глядели на него с точно таким же любопытством, какое проявляли по отношению к неподвижным телам родителей, — возможно, чуть настороженно, но без страха. Я выстрелил одному из них в голову. Двое оставшихся уродов отскочили от решетки и забегали взад-вперед по клетке как безумные, вопя куда сильнее и громче, чем раньше, в поисках укрытия. Хоть они и были слабоумными детьми — даже хуже, чем слабоумными: идиотами, живущими в тусклом мире, где не существовало причин и следствий, — но они все же были достаточно сообразительны, чтобы испугаться смерти. Мне потребовалось четыре выстрела, чтобы добить их, хотя это и было просто. Слишком просто. Обычно я получал удовольствие, убивая гоблинов, но эта бойня была мне не по душе. Эти твари были достойны жалости — без сомнения, смертельно опасные, но безмозглые, и не противники для меня. Кроме того, убийство противников, которые сидят за решеткой и не могут оказать сопротивления... ну, это было похоже на то, как поступил бы гоблин, и было делом, недостойным человека. Вернулись Райа и Кэти Осборн, завернутые в куртки, шарфы и ботинки. У каждой в руках было по оцинкованному ведру, на две трети заполненному бензином. Они спускались по подвальной лестнице с большой осторожностью, стараясь не пролить ни капли содержимого ведер на себя. Они поглядели на трех мертвых уродов в клетке — и быстро отвели взгляд. Внезапно меня переполнило чувство, что мы слишком долго пробыли в доме и что каждая лишняя минута нашего пребывания здесь влечет опасность того, что нас обнаружат другие гоблины. — Пора с этим заканчивать, — прошептала Райа, и этим шепотом, в котором вовсе не было явной необходимости, ясно дала понять, что ее опасения тоже растут. Я взял ведро у Кэти и выплеснул содержимое в подвал, щедро поливая трупы. Райа и Кэти отступили к дверям, захватив с собой масляную лампу с алтаря, все еще горевшую, я же тем временем разлил по полу подвала и второе ведро бензина. Судорожно ловя ртом воздух, но вдыхая только бензиновые пары, я заторопился вверх по лестнице, на кухню, где ожидали меня обе женщины. Райа протянула мне светильник. — У меня руки в бензине, — сказал я и быстро прошел к кухонной раковине, чтобы вымыть руки. Через минуту, счистив с себя все пятна, из-за которых я мог бы в один миг вспыхнуть и стать священной жертвой, но не в силах отделаться от ощущения, что мы сидим на бомбе, я взял у Райи лампу и вернулся на лестницу в подвал. Испарения поднимались снизу удушливыми волнами. Хоть я и боялся, что концентрация паров бензина была уже достаточно высокой, чтобы вмиг взорваться, соприкоснувшись с огнем, я все же без колебаний швырнул стеклянную лампу на нижнюю ступеньку лестницы. Медно-желтый стеклянный шар ударился о бетон и разлетелся на куски. Горящий фитиль воспламенил разливающееся масло, загоревшееся переливчатым синим пламенем, а масло воспламенило бензин. Страшное пламя с ревом ожило. Волна жара ударила вверх по ступеням — такая яростная, что мне показалось, что загорелись волосы у меня на голове, пока я, спотыкаясь, отступал на кухню. Райа и Кэти уже отошли к заднему крыльцу. Я быстро последовал за ними. Мы бросились бежать — вокруг дома, мимо припаркованной у переднего крыльца патрульной машины и вдоль проезда длиной в полмили. Еще до того, как мы добежали до края леса, мы увидели пламя пожара, отражающегося на снегу вокруг нас. Когда мы обернулись поглядеть назад, языки огня уже выбрались из подвала сквозь пол на первый этаж. Окна мерцали, точно оранжевые глаза на лице фонаря, вырезанного из тыквы. Затем оконные стекла лопнули с треском, отчетливо слышным в холодном ночном воздухе. Теперь ветер быстро разнесет пламя по всем балкам до самой крыши. Пламя будет таким сильным, что трупы в подвале превратятся в пепел и кости. Если нам хоть немного повезет, власти — все как на подбор гоблины — могут подумать, что пожар возник в результате несчастного случая. Они могут и отказаться от тщательного расследования, которое выявило бы пробитые пулями кости и другие доказательства нечистой игры. Даже если у них и возникнут подозрения и они отыщут то, что начнут искать, у нас все равно будет в запасе день-другой до того, как приступят к поиску убийц гоблинов. Сверкающий снег рядом с домом казался точно залитым кровью. Чуть поодаль оранжево-желтые отсветы и огромные странные тени крутились, сгибались, метались, корчились и трепетали на известково-белом покрове зимы. Первая битва новой войны. И мы ее выиграли. Отвернувшись от дома, мы поспешили вдоль проезда, в туннель, образованный нависшими над дорогой ветвями вечнозеленых деревьев. Отсветы от пожара не доходили сюда, и, хотя тьма мстительно сомкнулась вокруг нас и видимость упала почти до нуля, мы не снизили скорости. Так как эта дорога один раз уже была пройдена нами в противоположном направлении к дому гоблинов, мы знали, что больших препятствий на пути нет. Хотя бежать приходилось вслепую, мы все же испытывали определенную уверенность в том, что не сломаем ноги в какой-нибудь канаве или не споткнемся о цепи, натянутые поперек дороги специально, чтобы не пропустить чужаков. Мы быстро домчались до главной дороги, повернули на север и вскоре добрались до автомобиля. Райа села за руль. Кэти устроилась рядом с ней. Я сел на заднее сиденье, зажав между колен револьвер полицейского. Я почти ожидал, что появятся гоблины и остановят нас, и был готов убрать их без раздумий. Даже после того, как мы проехали не одну милю, я все еще слышал (в памяти) жуткие трепещущие вопли трех выродков — детей гоблинов.* * *
Мы отвезли Кэти на бензозаправочную станцию и проехали с нею и с ремонтником обратно к ее автомобилю. Он моментально определил, что сели батареи — ситуация, к которой он подготовился, положив в кузов своего «Доджа» подходящую новую батарею перед тем, как выехать со станции. Он установил новую батарею прямо там, у обочины — света, который давала лампа, работающая от аккумулятора его грузовика, было более чем достаточно. Когда «Понтиак» Кэти уже был отремонтирован, когда ремонтник уже уехал, получив деньги за свою работу, она посмотрела на нас с Райей, затем опустила свой загнанный взгляд на замерзшую землю у себя под ногами. Резкий ветер гнал маленькие белые облачка выхлопных газов, сбивая их в кучки у бампера машины. — И что теперь, черт побери? — поинтересовалась она дрожащим голосом. — Ты направлялась в Нью-Йорк, — напомнила ей Райа. Та невесело рассмеялась. — А ведь запросто могла бы сейчас направляться на небеса. Мимо проехали пикап и сверкающий новый «Кадиллак». Водители покосились на нас. — Давайте сядем в машину, — сказала Райа, поеживаясь. — Там нам будет тепло. К тому же в машине мы не будем выглядеть так подозрительно. Кэти села за руль и повернулась так, что мне с заднего сиденья был виден ее профиль. Райа села на переднее сиденье рядом с ней. — Я не могу продолжать просто так жить, как будто ничего не случилось, — сказала Кэти. — Но ты должна, — возразила Райа вежливо, но настойчиво. — В этом-то и есть суть жизни — продолжать жить, как будто ничего не произошло. Само собой, не можешь же ты взять на себя роль спасительницы мира — не пойдешь же ты по улицам с мегафоном, крича на всех перекрестках, что демоны выдают себя за обычных людей и разгуливают среди нас. Все сочтут, что ты просто свихнулась. Все, кроме гоблинов. — А уж они в два счета разделаются с тобой, — добавил я. Кэти кивнула. — Я знаю... знаю. — С минуту она молчала, затем жалобно произнесла: — Но... как я могу вернуться обратно в Нью-Йорк, обратно в «Барнард», не зная, кто человек, кто гоблин? Как я теперь смогу хоть кому-нибудь довериться? Как я смогу осмелиться выйти за кого-нибудь замуж, не зная наверняка, кто он? Может, он захочет жениться на мне, только чтобы мучить меня, чтобы иметь собственную игрушку. Ты понимаешь, о чем я, Слим, — так же, как твой дядя женился на твоей тете и принес несчастье и горе всей вашей семье. Как я могу иметь друзей, настоящих друзей, с которыми смогу быть открытой, прямой и честной? Понимаете? Мне хуже, чем вам, потому что у меня нет вашей способности видеть гоблинов. Я не могу отличить их от нас, поэтому мне будет казаться, что каждый — гоблин. И я буду так считать, потому что это единственное безопасное решение. Вы можете видеть их, отличать их от нашего рода, поэтому вы не одиноки, а мне придется быть одинокой, всегда одной, совсем одной, навеки и окончательно одной, потому что, если я доверюсь кому-то, это может означать мой конец. Одна... Что же это будет за жизнь? Все, что она говорила, было очевидным, хотя я до последнего момента не отдавал себе отчет, в какой она ужасной западне. И выхода из этой западни не было, по крайней мере, так казалось мне. Райа посмотрела на меня с переднего сиденья. Я пожал плечами — не от безразличия, а от безнадежности. Кэти Осборн вздохнула и содрогнулась, раздираемая отчаянием и страхом — двумя чувствами, которые нелегко испытывать одновременно. Последнее предполагает надежду, в то время как первое отрицает ее. Помолчав еще с минуту, Кэти сказала: — Я бы могла и мегафон в руки взять и попытаться спасти мир, даже если меня и упрячут в психушку, потому что я в любом случае туда попаду. В смысле... день изо дня, гадая, кто из окружающих меня — один из них, живя в постоянной подозрительности, — однажды за все это придется заплатить. Кстати, даже и ждать недолго. Я быстро сломаюсь, потому что я по натуре экстраверт, мне нужно общение с людьми. Поэтому я очень скоро стану буйным параноиком и созрею для психушки. И меня туда упекут. А вы не думаете, что в штате любого подобного заведения, где люди заперты, беспомощны и легко могут стать игрушкой в руках персонала, должно быть полно гоблинов? — Да, — ответила Райа, припомнив жизнь в детдоме, — несомненно. Да. — Я не могу вернуться. Я не могу жить так, как должна бы жить. — Есть выход, — сказал я. Кэти повернула голову и поглядела на меня, больше с недоверием, чем с надеждой. — Есть одно место, — продолжал я. — Ну конечно, — подхватила Райа. — Братья Сомбра, — сказал я. А Райа пояснила: — Ярмарка. — Стать балаганщиком? — изумленно спросила Кэти. Ее голос выдал легкое отвращение, на которое я нисколько не оскорбился и которое Райа, как я думал, тоже поняла. Мир нормальных всегда поддерживает иллюзию, что его общество — единственно верное. Поэтому он наклеивает на обитателей ярмарки — всех и каждого — ярлыки бродяг, общественных отбросов, неудачников, даже, возможно, воров. Мы, словно настоящие цыгане, пришедшие из Румынии, везде на плохом счету. И уж конечно, никто не станет получать две-три ученых степени в престижных университетах, приобретать глубокие познания в искусстве только для того, чтобы радостно забросить такое хлебное дело, как академическая карьера, ради жизни балаганщика. Я не стал приукрашивать будущее, которое ждет Кэти Осборн, если она станет балаганщиком. Я выложил все как есть, чтобы она знала, на что идет, прежде чем принять решение: — Тебе придется отказаться от преподавания, которое ты любишь, от научной жизни, от положения, которого ты добилась таким упорным трудом. Тебе придется войти в мир, почти такой же чужой для тебя, как древний Китай. Ты постоянно будешь замечать, что поступаешь, как нормальные, а разговариваешь, как простаки, поэтому остальные балаганщики будут с подозрением относиться к тебе, и тебе потребуется год или даже больше, чтобы полностью завоевать их доверие. Твои родные и друзья никогда тебя не поймут. Ты станешь белой вороной, объектом жалости, насмешек и бесконечных пересудов. Может статься, ты даже разобьешь родительские сердца. — Точно, — подтвердила Райа, — зато ты сможешь присоединиться к братьям Сомбра и будешь знать, что среди твоих соседей и друзей нет гоблинов. Слишком многие из нас, балаганщиков, стати изгоями потому, что мы можем видеть гоблинов, и потому нам нужно убежище. Когда кто-то из них приходит к нам не как простак, который решил потратить свои денежки, мы расправляемся с ним быстро и без шума. Так что ты будешь в безопасности. — Настолько в безопасности, насколько это возможно в этой жизни, — добавил я. — И сможешь зарабатывать себе на жизнь. Для начала можешь поработать на нас со Слимом. Я добавил: — Со временем сможешь отложить достаточно денег, чтобы завести пару собственных аттракционов. — Точно, — сказала Райа. — Зарабатывать будешь побольше, чем преподаванием, — уж это точно. А со временем... ну, ты основательно позабудешь мир «правильных», из которого пришла. Он будет казаться тебе очень далеким и даже малореальным, почти что сном, дурным сном. — Она потянулась к Кэти и положила руку на ее руку, успокаивая ее, как женщина женщину. — Я тебе гарантирую, когда ты станешь настоящим балаганщиком, внешний мир будет казаться тебе ужасным и унылым. Ты будешь удивляться, как ты там вообще жила и как ты вообще могла думать, что такая жизнь предпочтительнее, чем жизнь в мире бродячей ярмарки. Кэти кусала нижнюю губу. Она вымолвила: — О боже... Мы не могли вернуть ей ее прежнюю жизнь, поэтому мы дали ей единственную вещь, которую могли дать сейчас: время. Время, чтобы подумать. Время, чтобы приспособиться. Несколько автомобилей проехало мимо нас. Немного. Время было позднее. Уже была глубокая — и холодная — ночь. Большинство людей находились у себя дома, возле камина или в постели. — Боже, я просто не знаю, — промолвила Кэти дрожащим, усталым, нерешительным голосом. Выхлопные дымы смерзались и кристалликами льда оседали на стеклах. Я поглядел в окно, и какое-то мгновение мог видеть только эти замерзающие клубы пара, подвижные и серебристые, в которых как будто непрерывно возникали призрачные лица, пропадали и возникали вновь, голодно глядя на меня. И в этот миг Джибтаун, Джоэль и Лора Так и все мои остальные друзья-балаганщики казались страшно далекими, дальше, чем Флорида, дальше, чем темная сторона луны. — Я совсем растеряна, все смешалось, и мне страшно, — сказала Кэти. — Я не знаю, что делать. Просто не знаю. Учитывая тяжелое испытание, которое ей пришлось пережить в эту ночь, учитывая, что она не разбилась на мелкие кусочки, как это произошло бы с большинством людей, учитывая то, как быстро она оправилась от шока, когда мы с Райей разделались с гоблинами, терзавшими ее, я решил, что она — тот человек, который должен быть с нами, на нашей стороне, на ярмарке. Она не была мягкотелой профессоршей, она обладала недюжинной силой, необычайным мужеством, а нам всегда могли потребоваться люди, сильные умом и сердцем — особенно если однажды мы продолжим и расширим войну с гоблинами. Я почувствовал, что Райа думает точно так же, как и я, и что она молится, чтобы Кэти Осборн присоединилась к нам. — Я просто... не знаю...* * *
Две спальни из трех в доме, который мы сняли, были меблированы, и в одной из них Кэти провела ночь. Она и думать не могла ни о том, чтобы ехать в Нью-Йорк, ни о том, чтобы забросить свою карьеру и всю теперешнюю жизнь вот так сразу, несмотря на наши убедительные доводы. — К утру я все решу, — пообещала она. Ее спальня была самой дальней по коридору от нашей. Она настояла на том, чтобы двери в обеих комнатах остались открыты и мы смогли услышать друг друга ночью, если кто-то из нас позовет на помощь. Я заверил ее, что гоблины не знают о том, что мы находимся среди них. — У них нет причины приходить сюда этой ночью, — успокаивающе сказала Райа. Мы не стали говорить ей, ни что этот дом принадлежит Клаусу Оркенвольду, ни что это новый шериф Йонтсдауна, ни что он гоблин, ни что он замучил и зверски убил троих человек в подвале этого дома. И все же, несмотря на то, что мы пытались ее успокоить и многое скрыли от нее, Кэти оставалась настороженной и даже раздраженной. Она потребовала ночник, который мы соорудили для нее, набросив одну из ее темных блузок на абажур прикроватной лампы. Когда мы оставили ее, я чувствовал себя неспокойно, просто скверно — как будто мы оставляли ребенка на растерзание твари, что живет под кроватью, или чудовища, обитающего в шкафу.* * *
Наконец Райа заснула. Я не мог. По крайней мере, долго не мог. Черная молния. Я не переставал думать об этом изображении черной молнии, пытаясь понять, что бы оно могло значить. И то и дело, подобно зловонию трупов, как будто зарытых под домом, смутная волна психических излучений проникала из расположенного под нами подвала, в котором Оркенвольд убил женщину и двоих детей. И снова во мне возникла уверенность, что это я неосознанно привел нас в это место, что мой ясновидческий дар каким-то образом выбрал именно этот дом из множества сдающихся внаем домов, потому что я хотел — или был обречен — расправиться с Клаусом Оркенвольдом так же, как я расправился до него с Лайслом Келско. В непрестанном вое ветра я мог расслышать какие-то звуки из пронзительных воплей гоблинов-уродов перед тем, как я застрелил их в тюрьме, а затем сжег дотла. Я почти готов был поверить, что они вытащили свои изрешеченные пулями трупы, свои обгоревшие кости из дымящихся развалин дома и выкликали меня, ползком, с трудом, торопливо пробираясь сквозь ночь, безошибочно двигаясь в мою сторону, подобно адским ищейкам, без устали вынюхивающим свою добычу — проклятые и гниющие души. Время от времени мне казалось, что в скрипе и потрескивании стен дома (что было просто естественной реакцией дерева на лютый холод и резкий ветер) я слышу треск пламени, разгорающегося под нами и пожирающего первый этаж — пламени, зажженного, возможно, тварями, которых я сжег в железной клетке. Каждый раз, когда топка с воздухоподдувом издавала свои тихие звуки, я вздрагивал от неожиданности и страха. Рядом со мной Райа стонала во сне. Тот сон, несомненно. Джибтаун, Джоэль и Лора Так и все мои остальные друзья-балаганщики казались так далеки в этот час — и я тянулся к ним. Я думал о них, рисовал себе облик каждого из них и долго вглядывался в него, прежде чем вызвать в памяти другой образ, и сама мысль о них несколько улучшила мое состояние. Потом я сообразил, что тянусь к ним и черпаю мужество из их любви точно так же, как раньше тянулся и черпал мужество из любви матери и сестер. Возможно, это означало, что мой прежний мир, мир семьи Станфеуссов, ушел, ушел навсегда и не вернется ко мне. На подсознательном уровне я, должно быть, уже воспринял это как факт, но до настоящего момента я так ясно не осознавал этого. Ярмарка стала моей семьей, и она была хорошей семьей, самой лучшей. Но была глубокая горечь от понимания того, что скорее всего я никогда больше не вернусь домой, что мать и сестры, которых я любил в юности, были хотя и живы, но уже мертвы для меня.Глава 25
ПЕРЕД БУРЕЙ
Утром в субботу облака были еще зловещее и тяжелее, чем в пятницу. Небо словно опустилось ниже к земле, слишком тяжелое, чтобы удерживаться на более высоком уровне. Яростно фыркающий, задыхающийся и визжащий ветер предыдущей ночи совсем выдохся, однако в наступившей за этим тишине и спокойствии не было ничего хорошего. Странное состояние, ожидание чего-то, жуткая напряженность казались частью засыпанного снегом ландшафта. Вечнозеленые ели и сосны, вырисовывающиеся на фоне шиферно-серого кеба, напоминали часовых, стоящих в мрачном ожидании наступления могучей армии. Другие деревья, лишенные листвы, казались предвестниками дурного — они словно вздымали черные костлявые руки, предупреждая о надвигающейся беде. После завтрака Кэти Осборн уложила свой багаж обратно в машину, намереваясь отправиться в Нью-Йорк. Она собиралась пробыть в городе всего три дня: вполне достаточно для того, чтобы уладить дела с квартирой, отослать уведомление в «Барнард» о своей отставке (она собиралась сослаться на ухудшение здоровья, хотя этот довод и не выглядел слишком убедительным), упаковать свою библиотеку и попрощаться кое с кем из друзей. Сказать «прощайте» совсем нелегко, потому что она будет искренне скучать по этим людям, небезразличным ей, и потому, что они решат, что она помутилась рассудком и начнут — из лучших побуждений, но все равно приятного мало — пытаться переубедить ее. А еще потому, что она не может быть уверена, на самом ли деле они обычные мужчины и женщины, за которых себя выдают. Мы с Райей стояли у ее машины — утренний воздух был тихим, но пронизывающе холодным, — желали ей удачи, стараясь не подать виду, как сильно мы беспокоимся за нее. Мы крепко обняли ее, и затем вдруг обнялись все втроем, потому что теперь мы уже не были тремя чужими людьми, а были неразрывно связаны друг с другом невероятными и кровавыми событиями предыдущей ночи, скованы цепью страшной правды. Для тех из нас, кто узнал об их существовании, гоблины представляют не только угрозу, но также и катализатор единения. По иронии судьбы, они порождают братские, родственные чувства между мужчинами и женщинами, чувства долга, ответственности и общей судьбы, которых без них мы были бы лишены. И если когда-нибудь нам все же удастся стереть их с лица земли, так только потому, что само их существование сплотило нас. — До утра воскресенья, — сказал я Кэти, — я позвоню Джоэлю Таку в Джибтаун. Он будет ждать тебя, и они с Лорой найдут тебе место. Мы уже описали ей Джоэля, так что она, возможно, и будет испугана, но не будет шокирована его уродством. Райа сказала: — Джоэль любитель книг, читает запоем, так что, может быть, у вас будет больше общего, чем ты предполагаешь. А Лора прелесть, просто прелесть. Мы говорили, и слова наши звучали бесстрастно, твердо и чеканно в совершенно спокойном, ледяном утреннем воздухе. Каждое произнесенное нами слово вылетало изо рта в сопровождении белого облачка замерзающего воздуха. Оно было словно выбитым из глыбы сухого льда, и казалось, значение слов передавалось не только звуком, но и рисунком — очертаниями пара. Страх Кэти был так же очевиден, как и ее застывающее дыхание. Не один лишь страх перед гоблинами, но и перед новой жизнью, в чьи объятия она вот-вот должна была попасть. И страх потери прежней, уютной жизни. — До скорого, — дрожащим голосом сказала она. — Во Флориде, — отозвалась Райа. — Под ярким солнцем. В конце концов Кэти Осборн села в свой автомобиль и уехала. Мы глядели ей вслед, пока она не достигла конца проезда, повернула на Яблоневую тропу и исчезла за поворотом дороги. Таким вот образом преподаватели литературы становятся балаганщиками, а вера в добрую вселенную уступает место мрачному осознанию реальности. Его звали Хортон Блуэтт. По его собственной характеристике — старый чудак. Это был крупный, костистый мужчина, чье угловатое сложение бросалось в глаза даже в тяжелой, утепленной куртке лесоруба, в которую он был одет, когда мы увидели его в первый раз. Он производил впечатление силача и был очень подвижен. Единственное, что выдавало его возраст, — легкая покатость плеч, словно согнувшихся под тяжестью лет. На его широком лице больше следов оставила жизнь, проведенная на открытом воздухе, чем время: оно было во многих местах изборождено глубокими складками, а вокруг глаз расходились тонкие паутинки морщинок. Крупный, немного красный нос, крепкий подбородок и крупный рот, всегда готовый раздвинуться в улыбке. Темные глаза были внимательными, достаточно приветливыми и ясными, как у молодого. Он носил красную охотничью шапку с опущенными ушами, завязанными под подбородком, но щетинистые пучки серо-стальных седых волос выбились из своей темницы и в двух-трех местах свешивались на лоб. Мы ехали по Яблоневой тропе, когда заметили его. Предыдущей ночью сильный ветер с гор нанес несколько дюймов рыхлого снега на проезд к его дому, и он орудовал лопатой, демонстрируя презрение к статистике инфарктов за последние годы. Его дом стоял ближе к дороге, чем наш, и проезд поэтому был короче, но дело, за которое он взялся, все равно было неподъемным. Мы намеревались собрать информацию об угольной компании «Молния» не только из газет и других официальных источников, но и от местных жителей, которые могли бы сообщить нам более правдивые и более интересные подробности, чем контролируемая гоблинами пресса. Журналист может обрушивать анафему на слухи и сплетни, но в них порой содержится большая доля правды, чем в официальных версиях. Поэтому мы подъехали к его проезду, остановились, вылезли из машины и представились новыми соседями, которые снимают дом Оркенвольда. Сначала он был вежлив, но не слишком открыт, внимателен и отчасти настороже, как обычно ведут себя сельские жители, сталкиваясь с новоприбывшими. Думая, как разбить лед между нами, я решил действовать интуитивно и сделал то, что делают в Орегоне, встретившись с соседом, занятым тяжелой работой: предложил помочь. Он вежливо отказался, но я был настойчив. — Ерунда, — отрезал я. — Если у человека нет сил на то, чтобы предложить другому свою руку с лопатой, где он собирается брать силы, чтобы взлететь на небеса, когда придет Судный день? Это прозвучало веско для Хортона Блуэтта, и он согласился, поскольку у него имелась вторая лопата. Я сходил за ней в сарай, и мы принялись упорно расчищать себе путь в снегу напроезде, а Райа тем временем болтала то со мной, то с мистером Блуэттом. Мы поговорили о погоде, затем речь перекинулась на зимнюю одежду. Хортон Блуэтт считал, что старые добрые шерстяные куртки были во сто раз лучше и теплее нынешних шмоток эры космоса — стеганых, из теплонепропускающих тканей, которые появились в продаже в последние десять лет, — вот как у него. Если вы полагаете, что мы не могли провести больше десяти минут за обсуждением преимуществ шерсти, значит вы не понимаете ритма сельской жизни и не способны познать удовольствие, которое таит в себе столь приземленный разговор. В первые несколько минут нашего знакомства я заметил, что Хортон Блуэтт часто и шумно фыркает, вытирая свой крупный нос тыльной стороной ладони, одетой в перчатку. Однако он ни разу не высморкался, и я решил, что он либо слегка простужен, либо резкий ветер так действует на него. Наконец это прошло, и только много позже я узнал, что его фырканье и сопение имело скрытую цель. Вскоре мы расчистили проезд. Мы с Райей сказали, что не смеем больше докучать ему, но он настоял на том, чтобы мы зашли к нему в гости выпить горячего кофе и отведать свежеиспеченного домашнего пирога с орехами. Его одноэтажный домик был меньше по размерам, чем тот, что снимали мы, но был в более приличном состоянии, которое поддерживалось почти с навязчивой тщательностью. Куда бы ни упал взгляд, казалось, что туда лишь час назад положили новый слой лака или воска. Хортон надежно и уютно защитился от зимы, установив прочные оконные рамы и дверь на случай непогоды, а также заготовив изрядный запас дров для каменного очага в гостиной, дополнявшего угольную топку. Мы узнали, что он овдовел почти тридцать лет назад и что отточил свое умение хозяйничать до остроты бритвы. Казалось, он особенно гордится своей стряпней. И его крепкий кофе, и превосходный пирог — хрустящие крупные половинки грецких орехов, которых было очень много и в масляном тесте, и в шоколадной глазури, — указывали на высокое мастерство приготовления основательной, домашней, деревенской еды. Девять лет назад, по его рассказу, он уволился из депо. Он очень тяжело переживал смерть своей жены Этты, которая скончалась в 1934 году, однако пустота, оставшаяся в его жизни после ее смерти, стала, должно быть, еще большей после увольнения в 1955-м, потому что с тех пор он стал много времени проводить в этом доме, который они построили вместе еще до Первой мировой войны. Ему было семьдесят четыре года, но он вполне мог сойти за хорошо сохранившегося пятидесятичетырехлетнего мужчину. Единственно, что выдавало его возраст, были искореженные работой, жесткие, чуть страдающие артритом руки... и этот невыразимый дух одиночества, неизменно окружающий человека, вся жизнь которого была связана с работой, которой он больше не занимался. Съев половину своего куска пирога, я сказал, как бы из праздного любопытства: — Удивительно, что в этих холмах до сих пор так много угольных шахт. Он ответил: — Это точно, все роют вглубь и тащат уголь наверх. Я так полагаю, что еще чертовски много народу просто не может себе позволить использовать нефть. — Не знаю... я прикидывал, что запасы угля в этой части штата уже значительно истощены. Кроме того, добыча угля в настоящее время чаще ведется открытым способом, особенно на западе. Они раскапывают его, вместо того чтобы рыть туннели. Так дешевле. — А здесь все туннели роют, — ответил Хортон. — Должно быть, отлично поставлено дело, — заметила Райа. — Каким-то образом им, видимо, удается избегать больших расходов. Я хочу сказать, мы обратили внимание, какие у них новые грузовики. — Ну, эти «Петербилты»... Угольной компании, — добавил я. — Новенькие такие, аккуратные. — Это точно, это единственная угольная компания, оставшаяся в этих краях, и я думаю, что дела у них идут неплохо, потому что поблизости нет конкурентов. Разговоры об угольной компании, казалось, беспокоят его. Впрочем, возможно, мне просто показалось, что он неловко ощущает себя. Я мог приписать ему мое собственное беспокойство. Я собирался развить эту тему и дальше, но тут Хортон позвал своего пса по кличке Ворчун из угла комнаты, чтобы дать ему кусок орехового пирога, и разговор перешел на преимущества беспородных псов перед породистыми. Ворчун был беспородным псом средних размеров, черного окраса с коричневыми пятнами по бокам и вокруг глаз, со сложной и невообразимо запутанной родословной. Кличку Ворчун он получил за необычно воспитанный и молчаливый собачий нрав и отвращение к лаю. Злобу или настороженность он выражал низким, угрожающим ворчанием, а радость — ворчанием значительно более мягким, сопровождаемым частым вилянием хвостом. Ворчун подверг нас с Райей, когда мы вошли в дом, пристальному и тщательному исследованию и в конце концов счел нас заслуживающими доверия. Подобное поведение было вполне нормальным для собаки. Необычным было то, как Хортон Блуэтт исподтишка наблюдал за псом, пока тот обнюхивал нас. Казалось, он придает большое значение мнению Ворчуна, как будто нам нельзя было доверять до тех пор, пока мы не получим одобрения дворняги с клоунской мордой. Ворчун разделался со своим куском пирога и, облизываясь, направился к Райе, чтобы она погладила его, затем перешел ко мне. Он будто понимал, что речь идет о нем и что в глазах каждого из нас он занимает куда более высокое положение, чем все эти породистые чистоплюи с их бумажками от престижных собачьих клубов. Позднее мне представилась возможность вернуться к разговору об угольной компании «Молния», и я обратил внимание на странное название и эмблему компании. — Странные? — переспросил Хортон, нахмурившись. — По-моему, так вовсе не странные. Вы ж понимаете, и уголь, и молния — это виды энергии. А уголь черный — вроде как черная молния. Есть какой-то смысл, разве нет? В таком ключе я не думал над этим, и смысл здесь был. Тем не менее я знал, что эта эмблема — белое небо, черная молния — таит более глубокий смысл, нежели этот, поскольку я видел ее в центре алтаря. Для демонов это был объект почитания и знак особой важности, мистический и могучий. Хотя я, разумеется, не мог ожидать, чтобы Хортон знал, что это нечто большее, чем эмблема корпорации. И снова я ощутил, что разговор об угольной компании «Молния» беспокоит его. Он быстро перевел его в другое русло, чтобы избежать, как мне показалось, дальнейших расспросов на столь деликатную тему. На какое-то мгновение, когда он поднес чашку кофе к губам, руки его задрожали и напиток выплеснулся через край чашки. Возможно, это был лишь кратковременный приступ немощи или еще чего-то, вызванного его возрастом. Может быть, эта дрожь ничего не значила. Может быть. Через полчаса, когда мы отъехали от дома Блуэтта, который стоял на крыльце вместе с Ворчуном, глядя на нас, Райа сказала: — Славный человек. — Да. — Хороший человек. — Да. — Только... — Да? — У него есть секреты. — Какие секреты? — спросил я. — Не знаю. Но даже когда он производит впечатление обычного, прямолинейного, гостеприимного сельского старика, он что-то скрывает. И еще... ну, мне кажется, что он боится угольной компании «Молния».* * *
Призраки. В горах мы были подобны призракам и старались быть такими же бесшумными, как призраки. Наши костюмы привидений состояли из утепленных белых лыжных брюк, белых лыжных курток с капюшонами и белых перчаток. Мы продирались через глубокие, по колено, снежные сугробы среди голых холмов, словно совершали трудный переход из страны мертвых. Подобно призракам, шли мы вдоль узкого ущелья, по которому проходило течение замерзшего ручья, быстро и незаметно пробирались среди холодных теней леса. Страстно желая стать бестелесными, мы все же оставляли следы на снегу и время от времени задевали ветви вечнозеленых деревьев, отчего хрупкий, колючий звук эхом разносился по бесконечным коридорам леса. Мы оставили машину у обочины окружной дороги и прошли пешком около трех миль, пока окольным путем не добрались до устрашающей ограды, тянувшейся по границе владений угольной компании «Молния». В этот день мы намеревались всего лишь провести разведку — поглядеть на главные административные корпуса, выяснить, какое количество транспорта въезжает и выезжает с территории шахт, и отыскать дырку в заборе, через которую смогли бы свободно пробраться на следующий день. Однако, вплотную подойдя к забору, выстроенному на вершине широкого горного хребта, прозванного Старым кряжем, я засомневался, можно ли вообще проникнуть через него, не говоря уже о том, чтобы сделать это легко. Этот крепостной вал высотой в восемь футов был сооружен из секций мошной цепи длиной в десять футов каждая. Цепи были натянуты между железными столбами, прочно утопленными в бетоне. Наверху ограда была увенчана витками самой отвратительной колючей проволоки, которую я когда-либо видел. Хотя лед и покрывал колючки в некоторых местах, все равно любой, кто попытался бы перелезть на другую сторону, попал бы в сотню ловушек сразу, а выдираясь из них, оставил бы там частицы своей плоти. Колючая проволока была намотана в три витка, так что никто не смог бы перелезть через цепи ограды. Произвести подкоп в это время года тоже было невозможно — почва промерзла и стала твердой, как камень. Я подозревал также, что и в более теплые месяцы подкоп уперся бы в какой-нибудь невидимый барьер, углубившийся в землю не на один фут. — Это не просто граница частных владений, — прошептала Райа. — Это полностью оборудованная преградительная полоса, крепостной вал, черт его возьми. — Ага. — Я говорил так же тихо, как и она. — Если он окружает все тысячи акров, принадлежащие компании, значит, эта ограда тянется как минимум на несколько миль. Такая конструкция... черт, она же стоит дикую кучу денег. — Нет смысла возводить ее только для того, чтобы случайные прохожие не забрели на территорию шахт. — Точно. У них тут находится что-то другое, что-то, что им надо охранять. Мы подошли к ограде со стороны леса, но между лесом и оградой лежало пустое пространство. На снегу, покрывавшем этот голый ровный склон, мы видели множество следов ног, тянущихся параллельно ограде. Указав на эти следы, я понизил голос еще сильнее и сказал: — Похоже, что у них даже постоянный патруль вдоль забора ходит. И охрана, ясное дело, вооружена. Нам придется быть очень осторожными, держать глаза и уши открытыми. Мы снова набросили на себя мантии призраков и крадучись направились на юг, чтобы обследовать другие части леса. Мы держали изгородь в поле зрения, но шли достаточно далеко от нее, чтобы не быть замеченными охранниками прежде, чем мы заметим их. Мы направлялись в южную часть Старого кряжа, надеясь оттуда заглянуть вниз, на правление угольной компании. Мы тщательно выяснили путь по подробной карте местности округа, которую купили в магазине спортивных принадлежностей, обслуживающем тех, кто выбирался на выходные на пешие прогулки или устраивал лагерь в лесу. Чуть раньше, на окружном шоссе, проезжая мимо въезда на территорию «Молнии», почему-то единственного, мы не увидели и следа контор. Холмы, деревья и расстояние скрывали от глаз строения. С дороги нельзя было разглядеть ничего, кроме ворот и будки охранника, возле которой все подъезжающие грузовики должны были останавливаться и подвергаться осмотру, прежде чем им разрешалось въехать. Служба безопасности проявляла просто смехотворную бдительность в том, что касалось добычи угля, и мне стало интересно, как они объясняют такую отгороженность от остального мира. Возле ворот мы увидели две машины, и в каждой сидели гоблины. Охранник тоже был гоблином. Сейчас, когда мы пробирались вдоль вершины хребта, лес становился более серьезным препятствием, чем он был до сих пор. На этой высоте лиственные деревья — дубы, клены — уступили место вечнозеленым. Чем дальше мы продвигались, тем больше видели елей и различных пород сосен. Они стояли плотнее, чем раньше, лес на наших глазах будто возвращался в первобытное состояние. Переплетающиеся сучья росли так низко, что порой нам приходилось пригибаться и даже кое-где ползти под живыми, покрытыми иголками решетками, не достающими совсем немного до земли. Под ногами торчали, точно шипы, отмершие сломанные сучья, грозящие пронзить нас насквозь и требующие внимания. В большинстве мест кустарника было немного, потому что не хватало света для его роста. Но там, куда под колючий зеленый полог проникали солнечные лучи, нижний слой растительности состоял из ежевики и вереска, ощетинившегося колючками, острыми, как бритва, и толстыми, как лезвия стилетов. Наконец, в том месте, где гребень опасно сужался у своего южного конца, мы снова приблизились к изгороди. Согнувшись в три погибели возле цепей, мы смогли заглянуть вниз, в небольшую долину шириной примерно сотни четыре ярдов и — это мы узнали по карте — полторы мили длиной. Там, внизу, не было деревьев, что царили на вершинах. Вместо них к небу сотнями тянулись голые лиственные деревья, черные, с остроконечными ветками — точно тысячи огромных окаменевших пауков, лежащих на спине и растопыривших свои застывшие конечности. Со стороны окружного шоссе и главного входа двусторонняя трасса компании выходила из леса на обширную поляну, расчищенную для административных зданий, ремонтных гаражей и мастерских угольной компании «Молния». Дорога эта пересекала поляну и вновь исчезала среди деревьев, уводя к шахте, находящейся в миле отсюда, на северном конце долины. Одно- и двухэтажные здания постройки девятнадцатого века были возведены из камня, потемневшего от времени, от угольной пыли, которую сдувало с проезжавших мимо грузовиков, и от выхлопных газов производства. Сейчас они производили впечатление построенных из угля. Окна были узкие, на некоторых — решетки. Свет флюоресцентных ламп с другой стороны грязного стекла не прибавлял теплоты этим злобным окнам. Шиферные крыши и преувеличенно тяжелые притолоки над окнами и дверными проемами — даже над крупными коробками гаражных ворот — придавали зданиям насупленный и сердитый вид. Мы стояли бок о бок, Райа и я, наше дымящееся дыхание смешивалось в сверхъестественно спокойном воздухе. Мы глядели вниз на работников угольной компании со все возрастающим беспокойством. Мужчины и женщины входили и выходили из гаражей и мастерских, откуда несся непрерывный лязгающий, клацающий и грохочущий шум работавших механизмов. Все они двигались быстро, словно наполненные энергией и решимостью, как будто все до единого стремились принести хозяевам не меньше ста десяти процентов прибыли за свое жалованье. Не было ни одного бездельника или лодыря, никто не прохлаждался на свежем воздухе, наслаждаясь сигаретой, прежде чем вернуться на рабочее место. Даже те, кто был в костюмах и при галстуках, — очевидно, руководящие работники и прочие «белые воротнички», которые могли бы в принципе и не так спешить, а ходить с сознанием своего высокого положения, — даже они сновали между своими автомобилями и мрачными административными корпусами, не останавливаясь, явно горя служебным рвением. Все они были гоблины. Даже на таком отдалении я не сомневался в их принадлежности к этому демоническому братству. Райа тоже почувствовала их истинную сущность. Прошептала: — Если Йонтсдаун — место их гнездования, тогда это — гнездо внутри гнезда. — Улей, черт его возьми, — согласился я. — И все жужжат вокруг него, словно трудовые пчелы. Время от времени грузовик, груженный углем, с ворчанием двигался с севера, пробираясь среди облетевших деревьев по дороге, делящей поляну на две части, в другой конец леса, по направлению к воротам. По другой стороне шли пустые машины — к шахте, на погрузку. Водители и их помощники все были гоблины. — Что они здесь делают? — поинтересовалась Райа. — Что-то важное. — А что? — Что-то, что не обещает ничего хорошего ни нам, ни всему нашему роду. И я думаю, что центр этого вовсе не в тех зданиях. — А где тогда? В самой шахте? — Точно. Мрачный, еле пробивающийся сквозь тучи свет быстро слабел. Приближался ранний зимний вечер. Ветер, которого не было целый день, вернулся, полный энергии, изрядно посвежевший за время своего отдыха. Он свистел среди цепей ограды и гудел в ветвях елей и сосен. Я сказал: — Нам надо будет прийти сюда завтра пораньше с утра и пройти как можно дальше на север вдоль ограды, чтобы взглянуть на саму шахту. — И ты прекрасно знаешь, что будет потом, — мрачно сказала Райа. — Да. — Мы не сможем увидеть достаточно, так что нам придется отправиться внутрь. — Возможно. — Под землю. — Думаю, да. — В туннели. — Ну... — Как во сне. Я ничего не ответил. Она сказала: — И как во сне, они обнаружат, что мы там, и отправятся в погоню за нами. До того, как темнота смогла поймать нас в ловушку на гребне, мы покинули ограду и направились обратно — вниз, по направлению к окружному шоссе, на котором оставили автомобиль. Темнота как будто била ключом из-под корней деревьев, капала соком с тяжелых ветвей сосен и елей, сочилась из каждого спутанного куста. К тому времени, когда мы вышли на открытые места и склоны, мерцающее одеяло снега было светлее, чем небо. Мы разглядели свои собственные старые следы. Они казались ранами на этой алебастрово-белой коже. Когда мы дошли до машины, начал падать снег. Пока что редкие снежинки. Они витками спускались на землю со стремительно темнеющих небес, точно хлопья пепла, слетающие с давно обгорелых балок потолка. Однако в страшной тяжести, повисшей в воздухе, и в лютом холоде скрывалось не поддающееся описанию, но несомненное предзнаменование грядущей сильной бури.* * *
Все время, пока мы ехали домой на Яблоневую тропу, снег шел не переставая. Он падал крупными хлопьями, которые кружили неустойчивые потоки ветра, еще не набравшего полную силу. Снег покрывал дорогу матовой пеленой, и мне почти казалось, что черная щебенка — на самом деле толстый слой стекла, а покрывала снега — просто занавеси, и мы едем по огромному окну, рвем шинами колес занавеси и давим на стекло, хотя оно и толстое. Это было окно, которое, возможно, отделяло этот мир от иного. В любой момент окно могло треснуть, и мы провалились бы в геенну. Мы поставили машину в гараж и вошли в дом через кухонную дверь. Всюду была темнота и тишина. Мы зажигали свет, проходя мимо комнат и направляясь наверх, чтобы переодеться. Потом мы намеревались поужинать. Но в нашей спальне, в кресле, которое он отодвинул в самый затененный угол комнаты, сидел и поджидал нас Хортон Блуэтт. Ворчун был с ним. Я заметил сверкающие глаза собаки за долю секунды до того, как щелкнул выключателем, слишком поздно, чтобы отдернуть руку. У Райи перехватило дыхание. У обоих из нас под утепленными лыжными куртками были пистолеты с глушителем, а у меня был нож, но всякая попытка применить это оружие привела бы к немедленной нашей смерти. Хортон держал в руках дробовик, который я купил у Скользкого Эдди несколько дней назад. Он направил ствол на нас. Разброс дроби из этого ружья способен был уложить нас на месте одним залпом, самое большее — двумя. Хортон отыскал и большую часть остальных вещей, которые мы тщательно спрятали. Это свидетельствовало о том, что он обстоятельно обыскивал дом, пока мы были на Старом кряже. Перед ним по полу были разложены предметы, которые достал для меня Скользкий Эдди: автоматическая винтовка, коробки с патронами, восемьдесят килограммов завернутой в бумагу пластиковой взрывчатки, детонаторы, ампулы с пентоталом соды и шприцы. Лицо Хортона выглядело старше, чем тогда, когда мы в первый раз встретили его днем. Он выглядел почти на свой истинный возраст. Он произнес: — Кто вы такие, ребята, черт побери?Глава 26
ВСЮ ЖИЗНЬ В КАМУФЛЯЖЕ
В свои семьдесят четыре года Хортон Блуэтт не сломался под тяжестью лет и не боялся близости смерти, поэтому он производил устрашающее впечатление, сидя там, в углу, рядом со своим верным псом. Он был крутым и прочным — человек, который безжалостно расправлялся со своими противниками, человек, который ел все, что ни швыряла ему жизнь, выплевывал то, что было не по вкусу, и переваривал остальное, употребляя его на то, чтобы стать сильней. Его голос не дрожал, а рука уверенно лежала на предохранителе дробовика, и глаза не отрывались от нас. Я предпочел бы схватиться с любым мужчиной на полсотни лет моложе Хортона, чем с ним. — Кто? — повторил он. — Кто вы, ребята? Вы не парочка студентов-геологов, которые работают над диссертацией. Этой сказкой потчуйте дурачков. Кто вы на самом деле и что вы здесь делаете? Сядьте оба на край кровати, сядьте лицом ко мне и положите руки на колени, между коленей. Вот так. Правильно. Не делайте резких движений, слышите меня? А теперь рассказывайте мне все, что у вас есть рассказать. Несмотря на очевидно серьезное подозрение, побудившее его пойти на такой экстраординарный шаг, как насильственное проникновение в чужой дом, несмотря на все, что он обнаружил в тайниках, Хортон все еще хорошо к нам относился. Он был очень насторожен, ему были чрезвычайно интересны наши мотивы, но он не считал, что дружеское соседство было уже перечеркнуто тем, что он отыскал. Я чувствовал это все, и, учитывая обстоятельства, я был поражен сравнительно добрым настроением, которое ощутил в нем. Мои ощущения подтверждало и отношение к нам собаки. Ворчун был бдительный, но не открыто враждебный и не ворчал. Хортон, разумеется, застрелил бы нас, сделай мы хоть одно резкое движение. Но он не хотел этого. Мы с Райей рассказали ему практически все о себе и о причинах, побудивших нас приехать в Йонтсдаун. Пока мы говорили о гоблинах, которые скрываются под масками людей, Хортон Блуэтт то и дело мигал и несколько раз пробормотал: «Господи». Почти также часто он повторял: «Ну ты только подумай». Он задал несколько проверочных вопросов, касающихся самых невероятных эпизодов нашего рассказа, но ни разу не подал виду, что сомневается в нашей правдивости или что считает нас сумасшедшими. В свете нашего рассказа, способного разъярить кого угодно, его невозмутимость даже действовала на нервы. Деревенские жители вечно гордятся своим спокойным, сдержанным поведением, так отличающимся от поведения большинства горожан. Но это была деревенская невозмутимость, доведенная до крайности. Через час, когда нам больше не в чем было сознаваться, Хортон вздохнул и положил дробовик на пол возле своего кресла. Поняв намек хозяина, и Ворчун оставил свой наблюдательный пост. Мы с Райей тоже расслабились. Она находилась в более напряженном состоянии, чем я, — возможно, потому, что не могла распознать ауру добрых намерений и доброй воли Хортона Блуэтта. Сдержанной и осторожной доброй воли, но все же доброй. Хортон сказал: — Я сразу определил, что вы особенные, в тот самый момент, когда вы подошли к моему проезду и предложили помочь разгрести снег. — Как? — поинтересовалась Райа. — Унюхал, — ответил он. Я тут же понял, что он не выражается фигурально, что он на самом деле унюхал нашу непохожесть. Я припомнил, что при первой встрече он сопел и фыркал, словно страдая от простуды, но ни разу не высморкался. — Я не могу видеть их так ясно и легко, как это выходит у вас, — сказал Хортон, — но с тех самых годков, когда я был ребенком, встречались мне люди, которые плохо пахли для меня. Не знаю, как это точно объяснить. Это вроде того, как пахнут очень, очень старые вещи, древние вещи: понимаете... как пыль, которая скапливалась сотни и сотни лет где-нибудь в укромной глубокой могиле... но не совсем как пыль. Как спертый воздух, но не совсем как спертый воздух. — Он нахмурился, пытаясь найти слова, чтобы мы поняли. — И в их запахе есть горечь, непохожая на горечь пота или на какой другой запах тела, какой вам доводилось нюхать. Может быть, что-то наподобие уксуса, но не то. Вроде как нашатырный спирт чуть попахивает... нет, нет, тоже не то. У некоторых из них слабый запах, так, пощекочет ноздри, подразнит — зато от других просто смердит. И говорит мне этот запах — он мне всегда говорит одно и то же, с тех пор, как я был сопляком, — что-то вроде: «Держись подальше от него, Хортон, он скверный, очень плохой, следи за ним, будь осторожен, остерегайся, остерегайся». — Невероятно, — сказала Райа. — Это правда, — ответил Хортон. — Я верю этому, — ответила она. Теперь я понял, почему он не счел нас сумасшедшими и почему с такой готовностью принял наш рассказ. Наши глаза говорили нам то же самое, что ему говорил его нос, поэтому в основе своей наш рассказ выглядел для него правдивым. Я сказал: — Выходит так, что вы обладаете своего рода обонятельным вариантом психического дарования. Ворчун гавкнул, словно выражая свое согласие, затем лег и положил голову на лапы. — Уж не знаю, как ты это назовешь, — сказал Хортон. — Все, что я знаю, — это у меня было всю жизнь. С ранних лет я мог доверять своему нюху, когда он говорил мне, что тот или иной — мерзкая гадина. Потому что, как бы они приятно ни выглядели, как бы прилично себя ни вели, я видел, что большинство людей, окружающих их, — соседи, жены, мужья, дети, друзья — всегда выглядят так, словно жизнь с ними обходится круче, чем надо бы. Я хочу сказать... те, которые дурно пахли... они, черт возьми, каким-то образом приносили с собой несчастье, не себе несчастье, а несчастье для других. И слишком уж много их друзей и родных умирали слишком молодыми и слишком страшной смертью. Хотя, разумеется, никогда нельзя было ткнуть в них пальцем и заявить, что они ответственны за это. Приняв как должное то, что она, очевидно, свободна, Райа расстегнула «молнию» на лыжной куртке и выскользнула из нее. Она сказала: — Но вы сказали нам, что унюхали что-то особенное в нас, значит, вы способны распознавать не только гоблинов. Хортон покачал седой головой. — В жизни не мог до того момента, как вас двоих повстречал. Я там мигом уловил какой-то особый аромат в вас, нечто такое, чего раньше никогда не унюхивал. Что-то почти такое же странное, как когда я сталкиваюсь с этими, которых вы зовете гоблинами... только другое. Трудно описать. Почти как такой резкий, чистый запах озона. Понимаете, о чем я толкую... озона, как после сильной грозы, после молний, такой свежий аромат, совсем не противный. Свежий. Свежий аромат, из-за которого возникает ощущение, что в воздухе до сих пор осталось невидимое глазу электричество, что оно потрескивает разрядами, и они идут прямо сквозь тело, заряжая тебя энергией и прогоняя из тебя всю усталость и грязь. Расстегивая куртку, я поинтересовался: — Вы и сейчас чувствуете этот запах, как и тогда, когда в первый раз нас увидели? — Еще бы. — Он медленно потер свой красный нос большим и указательным пальцами руки. — Я, видишь ли, учуял его аккурат в тот момент, как вы открыли дверь внизу и вошли в дом. — Он неожиданно осклабился, гордясь своим необыкновенным даром. — А тогда еще, разнюхивая вас, я сказал себе: «Хортон, эти ребятки непохожи на прочих людей, но это не плохая непохожесть». Нос, он знает. На полу рядом с креслом Хортона Ворчун издал ворчащий звук, идущий из глубины горла, и его хвост мотнулся туда-сюда по коврику. Я понял, что необычайная близость этого человека к своей собаке — и собаки к нему — должно быть, связана с тем, что у обоих самым мощным и надежным из пяти чувств был нюх. Странно. Едва лишь эта мысль пришла мне в голову, я увидел, как человек поднял руку с ручки кресла, чтобы протянуть ее к псу и потрепать его, и пес в тот же самый миг поднял свою тяжелую башку, чтобы его погладили, в то самое мгновение, как шевельнулась рука. Как будто собачье желание ласки и намерение человека приласкать собаку каким-то образом распространяли смутные ароматы, которые каждый из них распознавал и на которые отреагировал. Между ними существовала сложная форма телепатической связи, основанной не на передаче мыслей, а на распространении и быстром понимании сложных запахов. — Ваш запах, — сказал Хортон нам с Райей, — не производил впечатление зла, как в случае с вонью этих... гоблинов. Но он меня не беспокоил, поскольку отличался от всего, что я когда-либо нюхал. А потом вы начали все разузнавать, выведывать у меня информацию, стараясь делать безразличный вид, задавать вопросы об угольной компании «Молния», и это меня не на шутку напугало. — Почему? — спросила Райа. — Потому что, — ответил ей Хортон, — с середины пятидесятых, когда компанию выкупили у прежних владельцев и переименовали, все новые работники «Молнии», с которыми я сталкивался — каждый последний работяга, — смердили до небес! За последние семь-восемь лет я решил, что это дурное место — и компания, и шахты эти, — и я гадал, что за чертовщина там творится. — Вот и мы гадаем, — сказала Райа. — И собираемся это выяснить, — добавил я. — В общем, — закончил он, — я опасался, что вы можете представлять для меня опасность, что вы можете замышлять что-нибудь мерзкое по отношению ко мне, так что мой приход сюда и разнюхивание ваших дел были просто актом самозащиты.* * *
Спустившись вниз, мы все вместе приготовили обед, пустив в ход нехитрые продукты, которые у нас имелись, — пожарили яичницу, порезали колбасу, приготовили жаркое и тосты. Райа забеспокоилась, чем кормить Ворчуна, постоянно облизывающегося, пока кухня наполнялась восхитительными ароматами. Но Хортон сказал: — Ну, мы просто дадим ему четвертую тарелку, то же самое, что сами будем есть. Говорят, это вредно для здоровья собаки, если она ест то же, чем питаются люди. Но я всегда его так кормил, и, глядя на него, не скажешь, что ему эта еда пошла во вред. Поглядите на него — да он рысь догонит и обгонит. Дай ему яичницы, колбасы, жаркого — только тоста не надо. Тост для него слишком сухой. Он любит булочки с черникой, яблоком, особенно с голубикой, если в них много ягод и если они хорошо пропитались. — Жаль, — сказала Райа, явно изумленная. — Булочек-то у нас и нет. — Тогда он уплетет все остальное, а я, как домой вернемся, побалую его пирожком из овсянки или чем-нибудь еще. Мы поставили Ворчуну тарелку на пол возле задней двери, а сами сели за столом на кухне. Снег — по-прежнему кружащийся пышными хлопьями, увеличивающими сугробы лишь на доли дюйма в час, — кругами сыпался из темноты и скользил вдоль окон. Хотя снег был светлым, сильный ветер лепил из него подобия волков, поездов и пушечных залпов в ночи. За ужином мы узнали много нового о Хортоне Блуэтте. Благодаря своему странному дару вынюхивать гоблинов — назовем это хоть «яснонюханьем» — он прожил относительно безопасную жизнь, избегая демонов, если это было возможно, и обращаясь с ними с величайшей осторожностью, если избежать общения с ними не удавалось. Его жена Этта умерла в 1934 году, не от лап гоблинов, а от рака. Ей было сорок лет, когда она умерла, а Хортону сорок четыре, но детей они не имели. Его вина, сказал он, он был бесплоден. Годы, что он прожил с женой, были так хороши, их связь была такой неразрывной, что он так и не нашел другую женщину, которая подошла бы ему и ради которой он захотел бы потушить свет памяти об Этте. Последние тридцать лет он прожил главным образом с тремя псами, последним из которых был Ворчун. С любовью глядя на дворнягу, которая в углу до блеска вылизывала свою тарелку, Хортон сказан: — С одной стороны, я надеюсь, что мои старые кости лягут в гроб прежде, чем он сдохнет, потому что мне будет страшно тяжело хоронить его. Очень тяжело было с первыми двумя — Чертом и Драчуном, но еще тяжелее будет с Ворчуном, потому что это лучший пес, какой когда-либо был. — Ворчун поднял морду от тарелки и помотал головой в сторону хозяина, словно понимая, что его только что похвалили. — С другой стороны, мне бы не хотелось помереть прежде него и оставить его на милость мира. Он заслуживает хорошей жизни. Пока Хортон с нежностью глядел на своего пса, Райа поглядела на меня, а я на нее, и я понял, что она думает почти то же, что и я: Хортон Блуэтт был не просто хорошим человеком, но и необычайно стойким и уверенным в себе. Всю свою жизнь он знал, что мир полон людей, чья цель — причинять боль другим, понимал, что Зло с большой буквы бродит по свету в самых что ни на есть реальных и телесных формах, но он не стал параноиком и не превратился в угрюмого затворника. Жестокая прихоть природы забрала у него горячо любимую жену, но он не ожесточился. Последние тридцать лет он прожил один, если не считать его трех псов, но не стал чудаком, как это происходит с большинством людей, чья основная привязанность — их домашние питомцы. Он был вдохновляющим примером силы, решимости и несокрушимой гранитной крепости человеческого рода. Несмотря на тысячи лет страданий от гоблинов, наш род все еще был в состоянии рождать на свет таких достойных восхищения личностей, как мистер Хортон Блуэтт. Такие, как он, — веский аргумент в пользу нашей ценности как рода. — Ну, — спросил он, переключая свое внимание с Ворчуна на нас, — и какой же будет ваш следующий шаг? — Завтра, — сказала Райа, — мы вернемся на холмы и пройдем вдоль ограды угольной компании «Молния» до тех пор, пока не отыщем места, откуда сможем увидеть вход в шахту и поглядеть, что там творится. — Не хотелось бы вас разочаровывать, но такого удобного места не существует, — сказал Хортон, вытирая последнее пятнышко яичного желтка последним кусочком тоста. — По крайней мере, вдоль периметра. И думаю, что это не случайно. Полагаю, они специально сделали так, чтобы никто не мог увидеть вход в шахты, находясь за пределами их территории. — Вы так говорите, словно ходили и смотрели, — заметил я. — Именно так, — ответил он. — А когда? — Ну, я так думаю, это случилось где-то года через полтора после того, как новые хозяева — гоблины, как вы их называете — завладели компанией, изменили ее название, а затем принялись возводить эту чертову ограду. Я к тому времени уже начал примечать, что многих хороших людей, которые проработали там всю жизнь, мало-помалу стали выбрасывать на свалку раньше времени, до срока отправлять на пенсию. Пенсии, правда, были хорошие, щедрые, чтобы не возмутились профсоюзы. А все, кого нанимали, до последнего работяги, были из той породы, что воняет. Это меня напугало, потому что, ясное дело, это было признаком того, что эти ребята могут распознать своих, что они знают, что они не такие, как мы, и что они собираются группами, чтобы замышлять свои черные дела. Ну и, ясное дело, раз я жил здесь, я захотел знать, что за черные дела замышляются в угольной компании «Молния». Поэтому я поднялся в горы посмотреть и прошел вдоль всей длины этой чертовой ограды. Так я и не смог ничего увидеть и не хотел рисковать и перелезать на другую сторону, чтобы разнюхать там. Как я вам уже сказал, я всегда был очень осторожен с ними, старался держаться от них подальше. Никогда и подумать не мог, что мог бы иметь с ними дело, так что было ясно как день — глупо перелезать через их ограду. Райа выглядела изумленной. Отложив вилку, она спросила: — И что же вы тогда сделали? Просто посадили любопытство на цепь? — Ага. — Так просто? — Вовсе не просто, — ответил Хортон. — Но ведь мы все прекрасно знаем, что именно погубило кошку, не так ли? — Повернуться спиной к такой загадке... для этого нужна была сила воли, — заметил я. — Ничего подобного, — ответил он. — Страх — вот и все, что нужно было. Я перепугался. Просто и незатейливо струсил. — Вы не похожи на человека, который легко или часто пугается, — сказал я. — Только не надо меня идеализировать, сынок. Не тяну я на загадочного старого горца. Я тебе правду сказал — я всю жизнь с подозрением относился к ним и боялся их. Поэтому я втянул голову под панцирь и делал все возможное, чтобы они не обратили на меня внимания. Можно сказать, что я прожил всю жизнь в камуфляже, стараясь сделаться невидимкой, так что я не собираюсь в один прекрасный день напялить ярко-красные штаны и начать размахивать руками, чтобы меня заметили. Я осторожный, потому-то я и дожил до того, что стал сварливым старым чудаком, сохранившим все зубы и все мозги. Ворчун, вылизав дочиста свою тарелку, перекатился на бок и всем своим видом давал понять, что не прочь вздремнуть. Но неожиданно он вскочил и навалился на окно. Положив передние лапы на подоконник и прижав черный нос к оконному стеклу, он уставился наружу. Возможно, он просто взвешивал все «за» и «против» того, чтобы выйти в эту бурную ночь опорожнить мочевой пузырь. А может, что-то там за окном привлекло его внимание. Хотя у меня не было ощущения надвигающейся опасности, я решил, что будет благоразумно быть настороже, прислушиваясь к посторонним звукам, и быть наготове, чтобы действовать быстро. Райа отодвинула в сторону тарелку, взяла бутылку пива, отхлебнула и поинтересовалась: — Хортон, а как вообще новые владельцы шахт объяснили необходимость ограды и прочих мер безопасности, которые они установили? Он обхватил костистыми, изуродованными работой руками свою бутылку. — Ну, до того, как прежние владельцы были вынуждены объявить о продаже компании, на этих землях за один год произошло три смерти. Компании принадлежат тысячи акров земли, и кое-где туннели проходят слишком близко от поверхности, что порождает определенные проблемы. Вроде воронок, которые появляются там, где верхний слой фунта медленно — а иногда и быстро — усаживается, а потом проваливается в пустоты, оставшиеся от шахт глубоко внизу. А еще кое-где есть старые шахтные стволы, совсем обветшалые, которые могут обвалиться прямо под ногами человека и просто проглотить его. Земля разверзается — ам! — как жаба муху глотает. Ворчун наконец оторвался от окна и плюхнулся обратно в угол, свернувшись клубком. Ветер пел за окнами, свистел под карнизами, плясал на крыше. Ничего угрожающего не было слышно. Но я оставался настороже, ловя незнакомые звуки. Откинув свое большое, костистое тело на спинку кухонного стула, Хортон продолжал: — Ну, как бы там ни было, один парень по имени Фрэнк Тайлер, охотясь как-то на оленей на землях угольной компании, оказался настолько невезучим, что провалился в старый заброшенный туннель. Сломал себе обе ноги, так потом говорили. Звал на помощь, все горло небось прокричал, но никто его не услышал. К тому времени, как поисковая группа нашла его, он уже был два или три дня как мертв. За несколько месяцев до того пара местных ребятишек, каждому лет по четырнадцать, отправилась туда поиграть в следопытов — чего ждать от детей? — и с ними вышла та же самая штука. Провалились сквозь потолок старого туннеля. Один сломал себе руку, другой лодыжку. Видно было, что они всячески старались выкарабкаться обратно на свет божий, но у них ничего не вышло. Спасатели нашли их уже мертвыми. Вот, а потом вдова охотника и родители парнишек подали в суд на компанию, и яснее ясного было, что они выиграют дело, причем получат кругленькую сумму. И владельцы компании решили уладить дело без суда, что они и сделали. Но, чтобы заплатить, им пришлось продать свои акции. Райа продолжила: — А продали они свои акции некоему товариществу, состоящему из трех человек — Дженсена Оркенвольда, Энсона Кордэи, владельца газеты, и мэра Спекторски. — Ну, он тогда не был мэром, хотя и стал им впоследствии, это точно, — кивнул Хортон. — И все трое, которых вы назвали, воняли гоблинским духом. — Которым от прежних владельцев и не пахло, — ввернул я. — Точно так, — сказал Хортон. — Прежние владельцы — да, они были людьми и ничем больше — ни лучше, ни хуже, чем большинство прочих, и, уж конечно, не из этих вонючих. В общем, я так думаю — вот почему соорудили эту ограду. Новые владельцы заявили, что не хотят повторения подобных судебных разбирательств. И хоть многие считают, что они переборщили с этой оградой, большинство народа видит в ней добрый знак — чувство социальной ответственности. Райа посмотрела на меня. Ее голубые глаза затуманились от гнева и от жалости. — Охотник... мальчики... это не несчастные случаи. — Да, не похоже, — согласился я. — Убийства, — продолжала она. — Часть плана, направленного на то, чтобы сломать владельцев шахт и заставить их продать компанию, чтобы гоблины могли прибрать ее к рукам для... для того, что они там замышляют, что бы это ни было. — Скорее всего, — кивнул я. Хортон Блуэтт моргнул — на Райю, на меня, на Ворчуна, на бутылку пива у себя в руках, затем вздрогнул — словно моргание спровоцировало ответную реакцию дрожи в мышцах и костях. — Никогда не думал, что мальчики, охотник... Ну, черт возьми, охотник этот был Фрэнк Тайлер, я его знал, и мне и в голову не приходило, что его могли убить. Даже потом, когда уже все было улажено без суда, когда я заметил, что люди, взявшие в свои руки компанию, — все из числа скверных типов. А сейчас, когда вы это заявляете, все кажется чертовски верно. Почему я сам этого раньше не замечал? Неужто на меня помрачение на старости лет находит? — Нет, — успокоила его Райа. — Что-что, но не помрачение. Вы просто не замечали этого, потому что стали чрезвычайно осторожным человеком, но, кроме того, вы еще и порядочный человек. Поэтому, если бы вы заподозрили убийство, вы бы почувствовали себя обязанным что-нибудь сделать. На самом деле, вы, скорее всего, заподозрили правду, но глубоко подсознательно, и не позволили этой мысли проникнуть на уровень сознания, потому что в этом случае вы были бы обязаны как-то действовать. А действия не привели бы ни к чему хорошему — только гарантировали бы убийство вас самого. Я продолжал: — А может быть, вы ничего не заподозрили потому, что вы, Хортон, не можете видеть зло этих тварей, как видим мы. Для вас их чуждая натура очевидна, но не настолько, чтобы вы могли увидеть, насколько они организованы, насколько целеустремленны и безжалостны. — И все же, — возразил он, — думаю, я обязан был заподозрить. Страшно меня нервирует, что этого не произошло. Я извлек из холодильника свежее пиво, открыл бутылки и поставил их на стол. Хотя снежные хлопья мягко ложились на оконное стекло, а ветер все высвистывал на своей флейте леденящую музыку, холодное пиво было нам всем в радость. Некоторое время все молчали. Каждый вел беседу со своими мыслями. Ворчун фыркнул и передернулся, бляшки на его ошейникенестройно зазвякали. Затем он снова опустил голову. Мне подумалось, что пес все это время дремал, но, и отдыхая, был настороже. Наконец Хортон сказал: — Вы твердо намерены поближе взглянуть на шахты. — Да, — ответил я, и Райа сказала: — Да. — И отговорить вас от этого ну никак? — продолжал Хортон. — Нет, — ответила Райа, и я сказал: — Нет. — Осторожности вас, молодых, не научить, — сказал он. Мы согласились с тем, что заражены глупостью молодости. — Ну что ж, — сказал Хортон. — Полагаю, я бы мог вам немного помочь. Полагаю, что я просто должен, потому что иначе они просто сцапают вас, когда вы будете болтаться возле ограды, и развлекутся с вами. — Помочь? — переспросил я. — Как? Он глубоко вздохнул. Ясные темные глаза сделались как будто еще яснее от его решимости. — Не стоит вам утруждать себя тем, чтобы пытаться заглянуть в ствол шахты или на оборудование — выбросьте это из головы. Все равно, скорее всего, ничего ценного не увидите. Сдается мне, что важные вещи — что бы они там ни прятали — находятся глубоко внутри шахт, под землей. — Мне тоже так кажется, — согласился я, — но... Он поднял руку, давая мне понять, чтобы я замолчал, и сказал: — Я могу показать вам путь, как прошмыгнуть к ним, через всю их охрану, в самую сердцевину действующих шахт «Молнии». Вы сможете своими глазами вблизи увидеть, чем они там занимаются. Правда, порекомендовать вам это — то же, что посоветовать положить руки на циркулярную пилу. Я считаю, что вы слишком храбры для самих себя, слишком захвачены романтикой того, что вам кажется благородным делом, слишком быстро решили, что нет вам жизни, если отступите, слишком ошалели, чтобы принять во внимание эти маленькие моторчики самосохранения, которые стучат внутри вас. Мы с Райей заговорили одновременно. И снова он прервал нас, подняв крупную жесткую руку. — Не поймите меня неправильно. Я восхищаюсь вами. Вроде того, как вы восхищались бы идиотом, решившим преодолеть Ниагарский водопад в бочке. Вы прекрасно знаете, что водопаду он ничего не сделает, в то время как водопад вполне может с ним что-нибудь сотворить, но он идет на это, потому что видит в этом вызов. А это — одна из тех вещей, которые отличают нас от животных: наше стремление принимать вызов, держать пари, даже если ставки настолько велики, что мы просто не сможем тягаться, и даже если мы и побьем эти ставки, толку от того все равно не будет. Это вроде как поднимать к небу кулак и потрясать им, угрожая богу, если он не исправит тут же некоторые ошибки творения и не даст нам лучшей жизни. Глупо, может быть, может, даже бессмысленно, но смело и по-своему на пользу. Мы допили по второй бутылке пива каждый. Хортон отказался сказать нам, как он проведет нас в угольную компанию «Молния». Он сказал, что будет пустой тратой времени выкладывать все сейчас, поскольку утром ему все равно придется все нам показать. Он сказал только, чтобы мы были готовы пуститься в путь на рассвете, когда он зайдет за нами. — Послушайте, — сказал я, — мы вовсе не хотим втягивать вас в это дело настолько сильно, чтобы вас засосало вместе с нами. — Тебя послушать, так ты просто уверен, что вас засосет. — Ну, если нас вправду засосет, я не хочу быть ответственным за то, что вы попадете в водоворот. — Не волнуйся, Слим, — ответил он. — Сколько раз вам повторять? Я ношу осторожность, как пиджак. Без двадцати десять вечера он покинул нас, отклонив несколько раз повторенное предложение подвезти его. Он пришел к нам в дом пешком, чтобы не возникла необходимость прятать машину. Теперь он пешком отправится домой. И он упорно повторял, что ждет не дождется этой «маленькой прогулки». — Хороша прогулка, — возразил я. — Путь неблизкий, да еще ночью, да в такой холод... — Ворчун сгорает от нетерпения, — ответил Хортон, — а мне бы не хотелось разочаровывать его. И в самом деле, пес, как видно, чуть не рвался в холод ночи. Он вскочил и поспешил к двери в тот самый миг, как Хортон поднялся со стула. Он вилял хвостом и ворчал от удовольствия. Возможно, причиной его радостного ожидания был не свежий ночной воздух или прогулка. Возможно, после того, как он целый вечер делил с нами общество своего обожаемого хозяина, он радовался, предвкушая, что больше не будет делить его ни с кем. Стоя у открытой двери и натягивая перчатки — мы с Райей в это время тесно прижимались друг к другу на холодном ветру, дувшем из-за его спины, — Хортон пристально поглядел на лениво кружащиеся хлопья снега и сказал: — Небо что твой котел, пытающийся взорваться. Чувствуете, какое давление в воздухе? А когда он взорвется, тут будет настоящий буран, уж это точно. Последний в этом году, последний снег в эту зиму — зато какой! — Когда? — спросил я. Он нерешительно помолчал, будто спрашивая свои старые кости, что они думают про погоду. — Скоро, но не слишком скоро. Снег будет сыпать с перерывами всю ночь, и до утра снег даже на дюйм не поднимется. А потом... потом он придет, сильный буран, где-то до завтрашнего полудня. Он поблагодарил нас за ужин и за пиво — так, словно у нас был обычный соседский ужин и проведенный вместе вечерок. И вместе с Ворчуном шагнул в предгрозовую тьму. Через несколько секунд он исчез из виду. Я закрыл дверь, и Райа сказала: — Старик — это что-то, а? — Что-то, — согласился я. Позже, в постели, когда свет уже был потушен, она сказала: — Знаешь, он сбывается. Тот сон. — Да. — Завтра мы идем в шахты. — Хочешь отменить? — спросил я. — Можем просто вернуться в Джибтаун, домой. — Ты этого хочешь? — спросила она. Я поколебался. Затем: — Нет. — Я тоже. — Уверена? — Уверена. Только... обними меня. Я обнял ее. Она обняла меня. Жребий обнял нас обоих. Мертвой хваткой.Глава 27
ДВЕРИ В АД
Утром, перед рассветом, снежные хлопья все так же нерешительно падали на землю, а приближающийся буран словно застрял в опускающемся все ниже небе. Рассвет тоже пришел с неохотой. Слабая нитка тусклого серого света возникла над неровными зубцами гор, стоящих крепостными валами вдалеке, на востоке. Еще несколько унылых нитей добавил полумрак рассвета — они были ненамного светлее темноты, которую пересекали. К тому времени, когда Хортон Блуэтт приехал на своем полноприводном «Додже»-пикапе, легкая ткань нового дня была все еще настолько тонка, что казалось, вот-вот порвется и улетит с ветром, оставив мир в вечной темноте. Он не взял с собой Ворчуна. Без собаки мне стало грустно. Хортону тоже было грустно. Без Ворчуна старик выглядел каким-то... неполным. Мы все трое удобно разместились в кабине грузовичка, Райа села между Хортоном и мной. Под ногами у нас было достаточно места для двух вещмешков, битком набитых снаряжением, включая и сорок из восьмидесяти килограммов пластиковой взрывчатки. Было место и для наших ружей. Я не знал, сможем ли мы и в самом деле проникнуть в шахты, как нам обещал Хортон. Но даже если мы и попадем внутрь, мы скорее всего обнаружим там что-то, из-за чего потребуется тайком выбраться оттуда и потихоньку убраться, чтобы получить время поразмыслить над обнаруженным и спланировать свой следующий шаг. Вероятность того, что взрывчатка потребуется нам прямо сегодня, была невелика. Однако, основываясь на собственном прежнем опыте столкновений с гоблинами, я был готов к худшему. Фары пикапа пробивали себе туннель в угольно-черной плоти не желающей отступать ночи. Мы проехали по одному окружному шоссе, затем по другому — наверх, в узкие горные долины, куда рассвет-обманщик не дотянулся еще ни одним тусклым мерцающим лучом. Снежинки, крупные, как полудолларовые монеты, кружились в свете фар. Пока немногие снежинки. Эти скромные сокровища скользили по дорожному покрытию, словно монеты, катящиеся по столу. — И мужчиной, и юношей, и ребенком, — сказал Хортон, сидящий за рулем, — всю свою жизнь я прожил здесь. Акушерка приняла меня в домике моих стариков прямо здесь, в этих холмах. Это было в 1890 году — для вас это, должно быть, такая старина, что вы меня спросите — водились ли еще в те дни динозавры. Ну, как бы там ни было, я вырос здесь, изучил эту землю, узнал холмы, поля, леса, горы и овраги так же хорошо, как собственное лицо в зеркале. В этих горах добывают уголь аж с 1830-х, и повсюду полно заброшенных шахт — в некоторые вход закрыли, в другие нет, и так везде. Штука в том, что некоторые шахты связаны друг с другом, так что там под землей существует нечто вроде лабиринта. В детстве я был заядлым спелеологом. Обожал пещеры, старые шахты. Страха не ведал. Может, потому я так бесстрашно и исследовал пещеры, что к тому времени уже узнал, разнюхал всех плохих людей — гоблинов — вокруг меня, понял, что должен быть осторожным в этом большом мире. Всю жизнь быть осторожным. Поэтому я в той или иной степени был вынужден компенсировать обычную для мальчишек тягу к приключениям одинокими блужданиями, в которых доверять нужно было только себе. Сейчас, ясное дело, это совершенная глупость — бродить по пещерам в одиночку. Слишком многое может пойти не так. Это командный спорт, если это вообще можно назвать спортом. Ну, талантами я никогда не блистал и даже в детстве не ведал пресловутого чувства локтя, в общем, я постоянно уходил под землю, стал там завсегдатаем, этакой шахтной крысой. Вот ныне это все, может, и пригодится. Я могу показать вам путь в скалы через заброшенные шахты, которые были прорыты в 1840-е годы. Эти шахты ведут в те, что были сделаны в начале века, а те, в свою очередь, тянутся и выводят в один из самых узких периферийных туннелей шахт «Молнии». Риск адский, сами понимаете. Просто безумие. В жизни бы не посоветовал ничего подобного тем, кто находится в здравом уме, но вы, в конце концов, «сдвинутые». «Сдвинутые» на мести, на справедливости, на том, чтобы просто сделать что-нибудь. Хортон повернул автомобиль со второго окружного шоссе на грязную грунтовую дорогу, расчищенную, но снова немного занесенную снегом. С нее мы свернули на еще менее расчищенную, но все же доступную для езды дорогу. Эта тропа вела вверх по отлогому склону поля, и ее не одолел бы даже полноприводной пикап, если бы ветер не помог нам, сдув весь снег с дороги и развесив его шапками на ветви деревьев. Он остановил машину на вершине холма, как можно ближе к деревьям. — Отсюда пойдем пешком. Я взял тот рюкзак, что потяжелее, Райа — второй, тоже не особенно легкий. У каждого из нас было по заряженному револьверу и по пистолету с глушителем. Револьверы находились в кобурах под мышками, скрытые под лыжными куртками, а пистолеты — в глубоких открытых карманах белых утепленных лыжных брюк. У меня к тому же был дробовик, а Райа взяла автоматическую винтовку. Но даже с таким мощным арсеналом я все равно чувствовал себя Давидом, который со своей трогательной маленькой пращой поспешает по направлению к громадной тени Голиафа. Ночь наконец сжалилась, и рассвет нашел в себе мужество расправить плечи. Однако еще повсюду лежали тени — такие же густые, не спешащие уходить, а дневное небо задыхалось перед бурей и было ненамного светлее, чем ночью. И все-таки воскресенье окончательно утвердилось в своих правах. Я неожиданно вспомнил, что до сих пор не позвонил Джоэлю Таку и не сказал, что к нему должна прибыть Кэти Осборн, бывшая преподавательница литературы из Нью-Йорка, в поисках убежища, дружбы и совета, и что приедет она, возможно, уже во вторник или в среду. Я принялся укорять себя, но вскоре перестал. У меня все еще оставалась куча времени, чтобы переговорить с Джоэлем до того, как Кэти позвонит ему в дверь, — если, конечно, с нами ничего не случится в шахтах. Хортон Блуэтт привез с собой холщовый вещмешок. Он вытащил его из кузова и поволок за собой, пробираясь сквозь сугробы на краю леса. Внутри мешка что-то негромко стучало. Остановившись на краю леса, он сунул руку в мешок. Вынув оттуда моток красной ленты, он обрезал кусок острым перочинным ножом и обвязал его вокруг одного из стволов на уровне глаз. — Чтобы вы смогли сами найти обратную дорогу, — пояснил он. Он быстро увлек нас на извилистую оленью тропу, где не было кустов и только несколько ветвей деревьев могли помешать нашему продвижению. Через каждые тридцать-сорок ярдов он останавливался, чтобы обвязать еще один кусок красной ленты вокруг очередного ствола. Я обратил внимание на то, что, встав возле любой из его меток, можно было разглядеть предыдущую. По оленьей тропе мы спустились вниз, к длинной заброшенной грязной тропинке, что тянулась среди нижней части леса, и прошли немного по ней. Минут через сорок после того, как мы пустились в путь, мы дошли до дна широкого ущелья, Хортон вывел нас на длинный, безлесный участок местности, для связи с которым, видимо, и была сооружена эта дорога. Земля в этом месте была вся покрыта рубцами. Одна из стен ущелья была как бы срезана, а вторая выглядела изжеванной. Крупная, горизонтально идущая шахта пронзала высокий кряж. Вход в шахту был лишь наполовину завален лавиной, сошедшей так давно, что пустоты между камнями уже заполнились грунтом. Относительно крупные деревья росли на камнях, пустив паутину своих корней между беспорядочным нагромождением скальных обломков. Когда мы прошли среди странным образом искривленных, узловатых стволов деревьев, мимо обломка упавшей скалы внутрь горизонтальной шахты, Хортон остановился и вытащил из вещмешка три мощных фонаря. Один он взял себе, два других дал нам с Райей. Лучом своего фонаря он скользнул по потолку, стенам и полу туннеля, в который мы вошли. Потолок находился всего в футе над моей головой, и у меня появилась сумасшедшая уверенность в том, что неровные каменные стены, старательно вырубленные кирками, резцами, лопатами, взрывчаткой и океанами пота в другом столетии, медленно сдвигаются. По стенам тянулись тонкие прожилки угля и чего-то еще, что, возможно, было бледно-молочным кварцем. Массивные, покрытые смолой деревянные подпорки находились на равном расстоянии друг от друга вдоль обеих стен и на потолке, точно ребра на скелете кита. Хотя размеры их впечатляли, их состояние удручало — потрескавшиеся, осевшие, расколовшиеся, кое-где покрытые плесенью. Наверняка они были наполовину изъедены червем, а угловые скрепы нередко вообще отсутствовали. У меня возникло ощущение, что, стоит мне прислониться не к той балке, и потолок в мгновение ока обвалится мне на голову. — Вот эта была, наверное, одной из первых шахт в округе, — сказал Хортон. — Ее рыли почти всю вручную, а вагонетки с углем вывозили наружу на мулах. Металлические рельсы убрали — перенесли в другие шахты, когда эта была выработана, но вы кое-где будете спотыкаться о то, что осталось от некоторых скреп, наполовину утопленных в пол. Глядя на заплесневевшие балки, Райа поинтересовалась: — А это не опасно? — А есть ли вообще что-нибудь неопасное? — вопросом на вопрос ответил Хортон. Глянув на гниющее дерево и на сырые, протекающие стены, он сказал: — На самом деле здесь самое плохое место, потому что вы будете продвигаться от старых шахт к более новым. Но если вы умные ребята, вы будете каждый шаг делать с оглядкой и не навалите никакого груза на любую из этих балок. Даже в новых шахтах — в тех, что существуют всего десяток-другой лет — ну... шахта — это просто пустота на самом деле, а вы же знаете, как говорят, что природа всегда стремится заполнить пустоту. Он извлек из своего вещмешка пару крепких касок и дал их нам, предупредив, что каски надо носить все время, не снимая. — А вы как же? — поинтересовался я, стягивая с головы капюшон лыжной куртки и надевая металлический шлем. — Мне удалось стащить только две каски, — сказал он. — А поскольку я пройду с вами совсем чуть-чуть, то прекрасно обойдусь и без нее. Пошли. Мы последовали за ним в глубь земли. В первые несколько ярдов туннеля в сухие осенние дни нанесло кучи листьев, которые прибило к стенам. Там они насквозь пропитались влагой, стекающей со стен, и под тяжестью собственного веса утрамбовались в плотные массы. Возле входа, куда еще проникало студеное дыхание зимы, гниющие листья и плесень на старых балках замерзли и не пахли. Однако дальше температура поднималась значительно выше точки замерзания; по мере того, как мы продвигались вперед, отвратительный запах усиливался и сгущался. Хортон — мы следом за ним — свернул за угол, в пересекающийся с первым туннель, который был куда просторнее. Его размеры во многом были обусловлены более богатой угольной жилой, залегавшей здесь. Тут он остановился и вытащил из своего вещмешка аэрозольный баллончик с краской. Он сильно встряхнул баллончик. Металлические шарики, предназначенные для того, чтобы краска не ссыхалась, резко загремели, и их стук эхом отозвался от стен. Струей краски он нарисовал на скале белую стрелу в направлении, обратном нашему движению, хотя мы сделали всего один поворот после входа и вряд ли бы заблудились тут. Он был осторожным человеком. Его осторожность произвела на нас впечатление, и, подражая ей, мы с Райей прошли за ним следом сотню ярдов по этому туннелю (еще две белых стрелы), повернули в коридор, который был короче, но еще шире (четвертая стрела), и прошли дальше ярдов пятьдесят, после чего наконец остановились возле вертикального туннеля (пятая стрела), который вел вниз — в самые недра горы. Это отверстие представляло собой просто черный участок поверхности, едва отличающийся по цвету от черного пола туннеля. Оно было практически невидимо до того момента, пока Хортон не остановился на его краю, посветив фонариком вниз. Не сделай он этого, я бы наверняка оступился и свалился прямиком в нижний туннель, сломав при падении шею. Хортон указал лучом фонаря в конец того туннеля, в котором мы стояли. Коридор заканчивался довольно просторным помещением, явно сделанным человеческими руками. — Вот в этом месте пласт угля просто сошел на нет. Но я так полагаю, что у них были основания подозревать, что он повернул вниз и что изрядный кусок его можно извлечь на большей глубине. В общем, они прорыли эту вертикальную шахту примерно на сорок футов, а затем снова перешли на горизонтальную. А теперь еще немного пройдем, до того места, где я вас оставлю одних. Предупредив нас, что железные скобы лестницы, вбитые в стену вертикального туннеля, старые и ненадежные, он погасил свой фонарик и нырнул во тьму. Райа закинула на плечо дробовик и шагнула туда же, куда и Хортон. Я полез замыкающим. По пути вниз, под вихляние ступенек, шатающихся в своих гнездах под тяжестью моего веса, ко мне начали приходить ясновидческие образы из длинной заброшенной шахты. Два, возможно, три человека умерли здесь еще до середины прошлого века, и смерть их была мучительной. Однако я ощущал только обычные несчастные случаи на шахте, ничего дурного. В этом месте гоблины не мучили людей. Спустившись на четыре яруса вниз от первого туннеля, я снова оказался в горизонтальном коридоре. Хортон и Райа уже ждали меня, стоя в жутковатом свете своих фонариков, направленных на пол. В этих более глубоко лежащих отводах шахты массивные просмоленные балки опор были почти такими же старыми, как и на предыдущем уровне, но они находились в несколько лучшем состоянии. Не в хорошем. Не в обнадеживающем. Но по крайней мере стены здесь были не такие сырые, как в верхнем туннеле, а дерево не было скрыто под коркой плесени и сырости. Внезапно я был поражен покоем, царящим в этом глубоком сводчатом туннеле. Тишина была такой тяжелой, что обретала вес. Я просто чувствовал ее холодное, необоримое давление на своем лице и на голой коже рук. Церковная тишина. Кладбищенская тишина. Могильная тишина. Нарушив эту тишину, Хортон продемонстрировал содержимое своего полотняного мешка, развернув его горловиной к нам. Кроме красной ленты, которая нам больше не требовалась, там было два баллона белой аэрозольной краски, четвертый фонарик, завернутые в пластик упаковки запасных батарей, пара свечей и две коробки непромокаемых спичек. — Если у вас возникнет желание выбраться из этой мрачной дыры, то, чтобы найти дорогу, используйте краску, как я вам показал. — Он нажал один из баллончиков и нарисовал стрелу на стене. Она указывала на вертикальную шахту над нашими головами. Райа взяла баллончик, когда он протянул его ей. — Это будет моя обязанность. Хортон продолжал: — Вы, наверное, думаете, что свечи тут на случай, если погаснут фонарики. Нет. У вас достаточно запасных батарей, чтобы хватило на все время. А для чего свечи? Если вы заблудитесь или — не дай бог — провалитесь в пустоты в грунте, а воронка закроет выход, — так вот, что вы тогда делаете? Вы зажигаете свечу и внимательно наблюдаете, куда отклоняется огонек и куда тянется дым. Если где-то есть тяга, огонь и дым непременно отыщут ее, а если есть тяга, значит, должен быть выход наружу, возможно, достаточно широкий, чтобы вы смогли сквозь него протиснуться. Ясно? — Ясно, — ответил я. Он захватил также и еду для нас: две герметичных бутылки апельсинового сока, несколько бутербродов и с полдюжины конфет. — У вас впереди будет целый день блужданий по туннелям, даже если вы просто проберетесь к шахтам «Молнии», посмотрите одним глазком и тут же назад, тем же путем, что пришли. Но, я так подозреваю, вы этим не ограничитесь. В общем, судя по всему, даже если все пойдет нормально, вы вряд ли выберетесь наружу раньше завтрашнего дня. Поесть вам будет необходимо. — Вы просто золото, — искренне сказала Райа. — Вы собирали все это снаряжение вчера ночью... ручаться готова, что на сон осталось всего ничего. — Когда тебе семьдесят четыре, — ответил он, — все равно спишь уже мало, потому что кажется, что это пустая трата времени, которого у тебя и так не много осталось. — Нежность, прозвучавшая в голосе Райи, смутила его. — Я, черт возьми, полезу сейчас наверх, обратно, и через час уже буду дома, а там, если захочу, так и вздремну. Я сказал: — Вы велели нам использовать свечи, если попадем в воронку или заблудимся. Но без вашего руководства мы тут заблудимся ровно через минуту. — С этим не заблудитесь, — сказал он, вытаскивая из кармана куртки карту. — Я ее по памяти рисовал, но память у меня точно стальной капкан, так что не думаю, чтобы на ней было много ошибок. Он нагнулся, мы последовали его примеру. Он развернул карту на полу между нами, взял фонарь и начал скользить лучом по своему творению. Карта походила на один из тех лабиринтов, что печатают на развлекательной страничке воскресных газет. Хуже того, она продолжалась и на обороте листа, и эта часть лабиринта была еще запутанней. — По крайней мере с половину пути, — сказал Хортон, — можете разговаривать так же, как мы сейчас, не опасаясь, что будете услышаны в шахтах, где могут работать гоблины. Но вот тут красная точка... это место, с которого вам, думаю, имеет смысл идти тихо, говорить друг с другом шепотом и только если потребуется. По этим туннелям звуки разносятся на большие расстояния. Глядя на повороты и изгибы лабиринта, я заметил: — Одно очевидно — нам потребуются оба баллона с краской. Райа спросила: — Хортон, вы уверены во всех деталях того, что нарисовали здесь? — Ага. — Я хочу сказать, ну, вы, возможно, провели за исследованием этих шахт большую часть детских лет, но ведь это было давно. Сколько — шестьдесят лет? Он прокашлялся, снова заметно смущенный. — Э-э, ну, не так уж давно. — Он не отводил взгляд от карты. — Видишь ли, после того, как моя Этта умерла от рака, я места себе не находил, был какой-то потерянный и весь был полон этим страшным напряжением, напряжением одиночества и непонимания того, куда катится вся моя жизнь. Я не знал, как от этого избавиться, как укротить свой дух, а напряжение все возрастало и возрастало, и я сказал себе: «Хортон, ради бога, если ты немедленно не найдешь, чем занять время, ты скоро загремишь в комнату с резиновыми стенами». И вот тогда-то я и вспомнил, какой покой я обретал в детстве, шатаясь по пещерам. И я снова взялся за это. Это было в тридцать четвертом, и я бродил по всем этим шахтам и куче естественных пещер каждые выходные почти полтора года. И не далее как девять лет назад, когда подошел мой законный пенсионный возраст, я оказался в такой же точно ситуации и опять отправился в пещеры. Безумное занятие для человека моего возраста, но я не оставлял его еще почти полтора года, пока наконец не решил, что больше не нуждаюсь в этом. В общем, это я к тому, что карта эта основывается на воспоминаниях не более чем семилетней давности. Райа положила свою руку на его. Он наконец поглядел на нее. Она улыбнулась. Он тоже улыбнулся, накрыл ее ладонь своей и легонько стиснул. Даже для тех из нас, кто достаточно везуч, чтобы избегать гоблинов, жизнь не всегда бывает гладкой и легкой. Но неисчислимое множество уловок, к которым мы прибегаем, чтобы пройти труднопреодолимые участки пути, является свидетельством нашего огромного желания выжить и продолжать жить. — Ну, — сказал Хортон, — если вы в скором времени не пуститесь в дорогу, то превратитесь в старых чудаков вроде меня еще до того, как выберетесь обратно. Он был прав, но я не хотел, чтобы он уходил. Могло так случиться, что мы больше не увидимся с ним. Мы знали его меньше суток, сколько хорошего еще могла подарить нам эта дружба, сколько нераскрытых возможностей было в ней! Жизнь, как я, вероятно, уже говорил раньше, это долгое путешествие на поезде, во время которого друзья и любимые неожиданно сходят, оставляя нас продолжать свой путь в постоянно растущем одиночестве. Вот и еще одна остановка на маршруте. Хортон оставил нам вещмешок со всем содержимым, захватил с собой только фонарик. Он полез по вертикальному туннелю, по которому только что вел нас вниз, и ржавые ступеньки заскрипели и зашатались. Добравшись до верха, он закряхтел, выбираясь на пол туннеля. Встав на ноги, он помедлил, глядя на нас. Он словно хотел сказать очень много, но в конце концов просто тихонько окликнул нас: — Ступайте с богом. Мы стояли на дне темной шахты, глядя вверх. Свет фонарика Хортона ослабевал по мере того, как он удалялся. Звук его шагов становился все тише и тише. Он ушел. Мы в молчании, задумчиво собрали фонарики, батареи, свечи, продукты и все остальное и аккуратно упаковали в холщовый мешок. С рюкзаками за плечами, с оружием в руках, таща за собой холщовый мешок, буравя темноту лучами фонариков, мы тронулись в путь, направляясь в глубь земных недр. Я не ощущал никакой близкой опасности, однако сердце у меня тяжело стучало, когда мы направились к первому из множества поворотов. Хоть я и был твердо намерен не отступать, у меня было такое чувство, словно мы вошли в двери ада.Глава 28
ПРОГУЛКА В ПРЕИСПОДНЮЮ
Вниз... Где-то далеко наверху возвышался мрачный свод небес, дрозды носились в океане воздуха, где-то там ветер шелестел в деревьях, снег укутывал землю, падали новые и новые снежинки, но эта жизнь, состоящая из цвета и движения, существовала у нас над головой. Нас разделял многометровый слой сплошной скальной породы — такой, что та жизнь казалась не реальной, а выдуманной — царством фантазии. Единственное, что казалось реальным, был камень — многотонная тяжесть каменной горы — да грязь, да время от времени встречающиеся лужи стоячей воды, да разваливающиеся деревянные столбы с заржавевшими железными скобами, да уголь, да темнота. По пути мы взметали угольную пыль, мелкую, как тальк. Вдоль стен валялись куски угля разной формы и размера — от мелких до больших. Уголь образовывал крошечные островки небольших архипелагов в лужах воды, покрытой шлаком. На поверхности стен очищенные края почти полностью разработанных угольных пластов блестели, точно черные бриллианты, когда на них падал морозно-белый свет фонаря. Некоторые из подземных коридоров были шириной с хорошее шоссе, другие — уже, чем коридоры в доме. Это было потому, что туннели, где действительно шла разработка угля, и туннели, проложенные для разведки пластов, соприкасались. Потолки то поднимались на два, а то и на три наших роста, то опускались так низко, что нам приходилось нагибаться, чтобы продвигаться вперед. В некоторых местах стены были вырублены так тщательно, что производили впечатление отлитых из бетона, а в других были покрыты глубокими зарубками с острыми вершинами. Несколько раз мы натыкались на полусформировавшиеся воронки — в тех местах, где стена, а иногда и часть потолка просели, суживая туннель наполовину, так что иногда нам приходилось ползком пробираться по свободному пространству. Когда мы только вступили в шахты, меня охватило легкое чувство клаустрофобии, и чем дальше мы заходили в этот лабиринт, тем сильней охватывал меня страх. Однако я успешно сопротивлялся ему, думая о мире птиц, взлетающих в вышину, и ветра, качающего деревья, о мире высоко над нами и постоянно напоминая себе, что со мной Райа, потому что у меня всегда появлялись силы от одного ее присутствия. Странные вещи видели мы в молчаливом чреве земли еще до того, как приблизились к территории гоблинов — пункту нашего назначения. Трижды мы наталкивались на груды сломанного и заброшенного оборудования — беспорядочные, но странным образом искусно сложенные металлические инструменты и прочие изделия, предназначенные для специальных шахтерских работ, — все это было для нас таким же загадочным, как оборудование лаборатории алхимика. Их, точно сваркой, скрепило ржавчиной и коррозией. Эти предметы вздымались угловатыми конструкциями, хаотичными только на первый взгляд. Гора была как бы художником, творящим из того, что отбросили прочь захватчики, — она творила скульптуры из их мусора в насмешку над их эфемерной природой и словно желая воздвигнуть монумент своей стойкости. Одна из этих скульптур напоминала крупных размеров фигуру, едва похожую на человеческую, с обличьем демона — создание, украшенное отростками, острыми зазубринами и шипами. Глупо, но у меня возникло беспокойное чувство, что оно сейчас зашевелится с лязгом и клацаньем металлических костей, откроет закрытый пока глаз, созданный из треснувшего стекла допотопной масляной лампы, какими пользовались шахтеры в прошлом столетии, и откроет железный рот, в котором покажутся гнилые зубы искореженных болтов. Мы видели плесень и грибок во всем богатстве их оттенков — желтый, желчно-зеленый, ядовито-красный, бурый, черный, — но большей частью грязные оттенки белого. Некоторые из них были совершенно высохшими и взрывались, если до них дотрагивались, распространяя облака пыли — возможно, спор. Другие были мокрыми. Самые противные виды отталкивающе поблескивали и казались чем-то, что хирург, изучающий иной мир, мог бы извлечь из тела чуждой нам формы жизни. Кое-где стены были покрыты кристаллизовавшимися наростами неизвестного вещества, выделяемого скалами. Один раз мы увидели свои собственные искаженные образы, движущиеся по миллионам этих темных, отполированных граней. В глубокой бездне, на полпути в царство Аида, в могильной тиши, мы обнаружили отсвечивающий белый скелет, который, возможно, принадлежал крупной собаке. Череп лежат в луже черной воды глубиной с полдюйма, челюсти были раскрыты. Мы стояли над ним, и лужа под нашими ногами отражала свет фонариков так, что жуткий свет лился из пустых глазниц. Как могла собака добраться до таких глубин, что она искала, что подтолкнуло ее на столь странное преследование и каким образом она умерла — все это были загадки, которые уже никогда не разрешить. Но само присутствие этого скелета здесь было настолько неуместно, что мы не могли отделаться от мысли, что это — предзнаменование, хоть и не желали вдумываться в его значение. В полдень, почти через шесть часов с того момента, как мы вошли в первый туннель вместе с Хортоном Блуэттом, мы остановились съесть на пару один из бутербродов, что он оставил нам, и отпить немного сока из бутылки. Мы не разговаривали во время нашего скудного обеда, потому что находились уже достаточно близко к действующим шахтам угольной компании «Молния» и наши голоса могли быть услышаны работающими там гоблинами, хотя мы не слышали их присутствия. После обеда мы прошли еще довольно значительное расстояние, прежде чем в час двадцать дня повернули за угол и увидели впереди свет. Горчично-желтый свет. Какой-то пасмурный. Зловещий. Как свет, который мы видели в нашем общем кошмаре. Мы крались вдоль узкого, сырого, осыпающегося, темного туннеля, который пересекался с освещенной шахтой. Хотя мы и двигались с предельной осторожностью, каждый шаг казался ударом грома, а каждый выдох словно вырывался из гигантских кузнечных мехов. На пересечении туннелей я остановился, прижавшись спиной к стене. Прислушался. Подождал. Если Минотавр и обитал в этом лабиринте, он, очевидно, носил ботинки на резиновой подошве, когда бродил по переходам, — тишина здесь была такой же глубокой, каким глубоким был туннель. Свет позволял предположить, что мы, возможно, здесь одни, как и последние семь часов. Я наклонился вперед. Заглянул в освещенный туннель, сначала налево, затем направо. Гоблинов не было видно. Мы сделали шаг из укрытия в пятно желтоватого света, который придал нашим лицам желтушно-восковой оттенок. В правую сторону туннель тянулся всего на двадцать футов, резко сужаясь и обрываясь черной каменной стеной. Ширина левой части туннеля двадцать с лишним футов, а длина с полторы сотни футов, по мере удаления он расширялся примерно до шестидесяти футов. В своем самом широком месте он пересекался с другой горизонтальной шахтой. С кабеля, прикрепленного по центру потолка, свисали электрические лампы, расположенные примерно в тридцати футах одна от другой. Конической формы абажуры над лампочками средней мощности направляли свет точно вниз четко очерченными конусами. Таким образом, между каждыми двумя озерами света было по десять-двадцать футов глубокой темноты. Точно как во сне. Существенным различием между реальностью и кошмаром было лишь то, что лампы не мерцали, а нас пока не преследовали. На этом месте карта Хортона Блуэтта заканчивалась. Мы были полностью предоставлены самим себе. Я поглядел на Райю. Внезапно я пожалел, что взял ее с собой в это подземелье. Но пути назад не было. Я жестом указал на дальний конец туннеля. Она кивнула. Мы вытащили пистолеты с глушителями из глубоких карманов своих теплых брюк. Спустили предохранители. Дослали патроны в патронники, и приглушенное клацанье хорошо смазанного металла шепотом отозвалось вдоль каменных стен, покрытых прожилками угля. Бок о бок мы продвигались вперед бесшумно, насколько только возможно, в сторону широкого конца туннеля, проходя сквозь свет и тень, свет и тень. На пересечении двух горизонтальных шахт я снова, прижавшись спиной к стене, скользнул вперед, бдительно осматривая туннель, соединяющийся с нашим, прежде чем двигаться дальше. Этот тоже был шириной шестьдесят футов, но длина его составляла двести футов, и две трети длины туннеля были справа от нас. Крепежные балки были старыми, но все же поновее тех, что мы видели до сих пор. Учитывая его длину, этот туннель был чем-то большим, нежели предыдущие. В нем был не один, а два ряда янтарных электрических ламп, параллельно висящих под металлическими колпаками. Из-за этого пятна света и тени на полу образовывали подобие шахматной доски. Я решил, что этот коридор пуст и совсем было собрался шагнуть вперед, когда услышал скрежет, клацанье и снова скрежет. Я повнимательнее присмотрелся к шахматной доске. Справа, в восьмидесяти футах от нас, из одного из участков темноты появился гоблин. Он был без одежды в обоих смыслах — на нем не было ни одежды из ткани, ни человеческого облика. Он нес два инструмента, предназначения которых я не знал. То и дело он поднимал к глазам то один из этих инструментов, то второй, поглядывая вверх и вниз на потолок и пол, затем вдоль стен, точно производя замеры или изучая структуру стен. Я повернулся и поглядел на Райю, которая стояла, прижавшись к стене вспомогательного туннеля позади меня. Я прижал палец к губам. Ее синие глаза были широко открыты, и белки их были окрашены в тот же грязно-желтый цвет, что и ее кожа. Странный свет туннеля пятнами ложился на ее белый лыжный костюм и отражался от каски. Из-за этого она казалась золотым идолом, статуей необыкновенно прекрасной богини войны с глазами из священных драгоценных сапфиров. Большим, указательным и средним пальцами я несколько раз повторил движение, как будто нажимаю на поршенек шприца. Она кивнула, очень медленно, чтобы не наделать шуму, расстегнула «молнию» и сунула руку во внутренний карман куртки, куда спрятала упаковку шприцев и одну ампулу пентотала соды. Я еще раз кинул украдкой взгляд из-за угла и обнаружил, что гоблин, занятый своей работой, повернулся ко мне спиной. Он стоял прямо, но чуть наклонившись вперед, и внимательно глядел сквозь линзы на пол у себя под ногами. Он то ли ритмично бормотал что-то, то ли мурлыкал какую-то крайне необычную мелодию. Но в любом случае он производил достаточно шума, чтобы скрыть мое бесшумное приближение. Я выскользнул из вспомогательного туннеля, оставив Райю одну, и начал пробираться к своей жертве, стараясь быть и быстрым, и бесшумным. Если я привлеку внимание чудовища, оно, конечно же, вскрикнет, предупреждая остальных об опасности — моем здесь пребывании. А мне вовсе не улыбалась перспектива бегства по подземному лабиринту с кучей демонов за спиной, наступающих нам на пятки, когда мы не успели даже ничего начать, ничего не добились своим рискованным вторжением в сердце горы. Из тени в свет и снова в тень — так я передвигался. Гоблин продолжал бормотать себе под нос. Восемьдесят футов. Семьдесят. Мое сердце стучало тяжело, с шумом, который для моих ушей звучал так же громко, как звуки бурильных машин и отбойных молотков, которыми некогда разрабатывались угольные пласты в этой шахте. Шестьдесят. Тень, свет, тень... Хоть я и держал пистолет наготове, в мои намерения не входила стрельба. Я хотел наброситься на него, застав полностью врасплох, взять в прочный захват его горло и удерживать его в течение десяти-двадцати секунд, пока не подбежит Райа с пентоталом. Затем мы смогли бы допросить его, вводя по мере надобности дополнительную дозу, поскольку, хотя пентотал соды был в первую очередь успокоительным, к нему иногда прибегали и как к «сыворотке правды» — находясь под его воздействием, человек был не в состоянии лгать. Пятьдесят футов. Я не был уверен, что пентотал будет оказывать на гоблинов такое же воздействие, как и на людей. Однако шансы на успех были велики, поскольку (если не считать их способности к перевоплощению) в целом обмен веществ у гоблинов был практически таким же, как у людей. Сорок футов. Не думаю, что это создание услышало меня. Не думаю также, что оно унюхало меня или почуяло каким-либо иным способом. Но оно прервало свое занятное бормотание и опустило от лица непонятный инструмент, подняв свою омерзительную голову. Оно сразу же заметило меня, потому что в этот самый момент я пересекал один из светлых участков шахматной доски. При виде меня его сверкающие алые глаза вспыхнули ярче. Хотя меня отделяло от чудовища не больше тридцати футов, я все же не смог бы перекрыть оставшееся расстояние одним большим прыжком, напав на него прежде, чем оно успеет подать сигнал тревоги. У меня не было выбора: я выпустил две пули из пистолета с глушителем. Пули вылетели из ствола с мягким звуком, похожим на шипение разъяренного кота. Гоблин отшатнулся назад, в квадрат темноты, и упал замертво. Одна пуля попала ему в горло, вторая — между глаз. Пара выброшенных медных гильз со звоном покатилась по полу. Этот звук напугал меня. Гильзы были свидетельством присутствия здесь, поэтому я побежал за ними, подхватил одну, затем вторую, прежде чем они откатились в тень. Райа уже склонилась над убитым гоблином, когда я подошел к нему. Она щупала пульс, но не находила его. Оборотень уже почти закончил превращаться в человека. Когда исчезли последние черты демона, я увидел, что его маской был молодой парень лет под тридцать. Смерть была мгновенной, и сердце перестало биться через секунду-другую после того, как пули вонзились в тело. Поэтому на полу было совсем немного крови. Я поспешно затер эти улики носовым платком. Райа взялась за ноги гоблина, я ухватил его за руки, и мы отволокли его в дальний угол зала. Там между задней стеной и последней лампой было двадцать футов темноты. Мы спрятали труп, непонятные инструменты, которыми он пользовался, и окровавленные тряпки в самом глубоком углу этого черного тупика. Обнаружат ли сородичи демона его исчезновение? И если да, то как скоро? Поняв, что он исчез, что они предпримут? Начнут обыскивать шахты? Насколько тщательно? Как скоро? Стоя на границе между квадратом тьмы и квадратом света, склонившись поближе друг к другу, мы с Райей переговаривались — настолько тихо, что слух был не так важен, как умение читать по губам. — А теперь? — спросила она. — Мы включили счетчик. — Да, я слышу его. — Если его хватятся... — Возможно, не в ближайшую пару часов. — Возможно, — согласился я. — Может, и больше. — Если они найдут его... — На это уйдет еще больше времени. — Значит, мы продолжаем путь. — По крайней мере хоть немного вперед. Тем же путем, что и зашли сюда, минуя место, где был убит гоблин, мы добрались до другого конца коридора. Он выходил в необъятную подземную залу, сводчатую комнату круглой формы диаметром не меньше двухсот футов, с куполообразным потолком, чья высота в центре составляла тридцать футов. Ряды флюоресцентных ламп были подвешены к потолку на металлических планках, заливая все внизу холодным зимним сиянием. На полу, на площади, большей, чем футбольное поле, гоблины собрали ужасающую гору оборудования: машины со стальными ковшами-челюстями размером с бульдозер, явно предназначенные для того, чтобы жевать скалы и выплевывать булыжники, буры большие и средних размеров, электрические конвейерные линии, которые, установленные в ряд одна за другой, могли бы уносить прочь то, что извергли, не переварив, машины, питающиеся камнем, дюжина подъемников, с полдюжины вагонеток.Во второй половине зала находились высоченные кучи материалов: штабеля бревен, аккуратные пирамиды коротких стальных балок, сотни ощетинившихся стальными прутьями связок арматуры, сотни — если не тысячи — мешков бетона, высокие кучи песка и гравия, катушки толстого электрического кабеля — каждая размером с автомобиль, катушки поменьше с изолированным медным кабелем, по меньшей мере миля алюминиевых вентиляционных труб и многое, многое другое. Оборудование и материалы были сложены в ряды, между которыми оставались широкие проходы. Мы медленно прошли ярдов двадцать по окружности комнаты, заглянув в три из этих улиц (иначе не назовешь), и решили, что место это, видимо, пусто. Мы не увидели ни одного гоблина, не услышали никакого движения, кроме шепота привидений — наших собственных осторожных шагов. Идеальное, сверкающее состояние оборудования, а также запах свежего масла и смазки навели нас на мысль о том, что все машины были сперва промыты и приведены в порядок и лишь затем опушены в эту яму для очередной работы, которая еще не началась, но должна была начаться в ближайшем будущем. Очевидно, гоблин, которого я только что застрелил, был занят какими-то окончательными расчетами, которые требовалось сделать перед началом долгой работы. Я положил руку Райе на плечо, притянул ее к себе так, чтобы касаться губами ее уха, и выдохнул: — Подожди. Давай вернемся туда, откуда пришли. Мы вернулись к устью широкого коридора, в котором я убил гоблина. Там я сбросил с плеч свой громоздкий рюкзак, развязал клапан и вытащил два килограмма пластиковой взрывчатки и пару детонаторов. Освободив взрывчатку от упаковки, я запихнул один кусок в нишу высоко в стене, всего в нескольких футах от того места, где эта шахта переходила в сводчатую комнату. Я поместил взрывчатку значительно выше уровня головы, в тени, где ее вряд ли заметят даже поисковые группы, отправившиеся на розыск пропавшего демона. Второй килограмм взрывчатки я поместил в другой такой же темной нише на противоположной стене таким образом, чтобы два взрыва обрушили достаточно стен и потолка для перекрытия прохода. Детонаторы работали от батареек, каждый с часовым зарядом. Я воткнул по детонатору в каждый из брикетов взрывчатки, но не включил счетчик времени ни на одном из них. Я собирался сделать это, только если мы снова пойдем этим же путем, а по нашему горячему следу будут гнаться враги. Мы вернулись в сводчатый зал и бесшумно пересекли его, внимательно присматриваясь к машинам и материалам, пытаясь понять сущность готовящегося проекта, учитывая оборудование, которое натаскали сюда гоблины. Дойдя до дальнего конца гигантской комнаты и так ни в чем и не разобравшись, мы вышли к трем лифтам. Два из них представляли собой клетки, предназначенные для транспортировки небольших групп гоблинов по большой шахте, вырубленной в скале. Третий — большая стальная платформа, подвешенная на четырех канатах, каждый толщиной с мое запястье. Платформа была достаточного размера для подъема или спуска даже самого крупного оборудования, вроде виденных нами машин. Минуту я стоял в раздумье. Затем, с помощью Райи, вытащил восемь брусов из ближайшего штабеля и уложил их на полу крест-накрест так, чтобы они образовали нечто вроде подставки для ног. Затем я вынул два килограмма взрывчатки из рюкзака Райи и разделил их на три заряда. Взобравшись на эту импровизированную подставку, я прикрепил взрывчатку в углублениях груботесаной скальной породы прямо над дверьми каждого из лифтов. Тень там была неглубокой, и хотя сама пластиковая взрывчатка имитировала скальную поверхность достаточно хорошо, чтобы полностью сливаться с ней, детонаторы были все же заметны. Однако я прикинул, что этот уровень шахты сейчас почти не посещается, так что даже те гоблины, которые могут появиться здесь, вряд ли будут смотреть наверх и пристально изучать камень над дверями. Эти детонаторы я тоже не стал заводить. Деревянные брусья мы вернули на место в штабель, из которого их вытащили. — А теперь? — спросила она. Хоть мы и видели, что, кроме нас, здесь никого нет, она все же говорила шепотом, поскольку мы не знали, могут ли наши голоса быть слышны через шахты лифтов. — Наверх? Это ты задумал? — Да, — ответил я. — Они не могут услышать шум движения лифта? — Могут. Но они скорее всего решат, что это он, тот, которого мы убили. — А если мы нарвемся на них наверху, стоит нам выйти из лифта? — Мы спрячем эти пистолеты и поднимемся наверх, вооруженные дробовиком и винтовкой, — ответил я. — Это даст нам огневую мощь, достаточную для того, чтобы смести любое их количество, которое может оказаться возле этого чертова лифта. Затем войдем обратно в лифт, опустимся сюда и уйдем тем же путем, что и пришли, заведя по дороге детонаторы. Но если мы не нарвемся ни на кого наверху, тогда проберемся подальше в шахту, чтобы выяснить то, что должны выяснить. — А пока у тебя какое мнение? — Не знаю, — обеспокоенно признался я. — Разве что... ну, ясно как день, что ни черта они не уголь тут добывают. Оборудование, которое мы нашли, свезли не для разработки шахт. — Похоже, что они строят крепость, — сказала она. — Похоже на то, — согласился я. Мы достигли преисподней, самого глубокого уровня ада. Теперь от нас требовалось пройти через несколько кругов, расположенных выше нее. И мы очень хотели надеяться, что не встретим ни Люцифера, ни кого-либо из младших демонов.Глава 29
СУДНЫЙ ДЕНЬ
Мотор лифта громко загудел. С выводящим из равновесия скрипом и треском клеть, лишенная дверей, начала подъем. Хотя прикинуть расстояние было нелегко, я рассчитал, что мы поднялись примерно на семьдесят-восемьдесят футов, прежде чем остановились на следующем уровне этой... этого сооружения. Я больше не видел смысла называть этот громадный подземный комплекс шахтой. Угольная компания «Молния», судя по всему, извлекала большое количество угля в других частях горы, но никак не здесь. Здесь они занимались чем-то совершенно иным, для чего их угольные разработки явно служили просто надежным камуфляжем. Когда мы с Райей вышли из лифта, то оказались в конце пустынного туннеля длиной в две сотни футов, с ровными бетонными стенами. Флюоресцентные лампы были вделаны в закругляющийся потолок. Теплый сухой воздух струился из вентиляторных решеток в верхней части скругленных стен, а вытяжные отверстия площадью в квадратный ярд аккуратно забирали охлажденный воздух с прохода. Красные огнетушители большого размера были подвешены на стенах вдоль рядов дверей из вороненой стали, расположенных примерно в пятидесяти футах одна от другой по обе стороны коридора. Аппараты — судя по всему, телефоны внутренней связи — висели рядом с огнетушителями. Все помещение было пронизано духом несравненного мастерства — и зловещей, загадочной цели. Я почувствовал легкую вибрацию каменного пола, как будто гигантские машины трудились над какой-то тяжкой работой в отдаленных залах. Прямо напротив лифта на стене был тот самый — знакомый, но от того не менее загадочный — символ: черный керамический прямоугольник высотой четыре фута и шириной три, вделанный в бетон, в центре его — белый керамический круг двух футов в диаметре, через белый круг — изломанное копье черной молнии. Неожиданно через этот символ я увидел ту же странную, необъятную, холодную, пугающую пустоту, которую ощутил при первом же косом взгляде на грузовик компании «Молния» пару дней назад. Вечное, безмолвное. Ничто, глубину и мощь которого я не в состоянии должным образом передать. Эта пустота словно притягивала меня, как будто она — магнит, а я — железная стружка. Мне казалось, что я могу упасть в этот ужасный вакуум, меня унесет некий водоворот. Мне пришлось силой заставить себя отвести глаза и отвернуться от черной керамической молнии. Вместо того чтобы идти до конца туннеля и исследовать следующую горизонтальную шахту, которая вряд ли предложила бы нашему взору что-нибудь большее, чем эта, я направился к первой двустворчатой двери слева. Ни замка, ни ручки. Я нажал белую кнопку на дверной раме, и тяжелые половинки двери моментально плавно распахнулись со сдавленным шипением сжатого воздуха. Мы быстро вошли внутрь, держа наготове дробовик и автоматическую винтовку, но помещение было темным и, судя по всему, пустым. Я пошарил по внутренней стене в поисках выключателя, нашел его, и мерцающие ряды флюоресцентных ламп ожили. Это было громадное складское помещение. Деревянные ящики громоздились в нем почти до потолка, расставленные аккуратными рядами. На каждом была этикетка производителя-поставщика, так что через несколько минут, быстро пробежавшись между рядами, мы установили, что эта комната полна запасных частей к чему угодно — от токарных станков до фрезерных, от грузоподъемников до радиоприемников. Мы выключили свет, закрыли за собой двери и бесшумно пошли по туннелю от одной комнаты к другой. В каждом помещении мы обнаруживали все новые и новые склады всевозможной продукции: тысячи ламп накаливания и флюоресцентных ламп в штабелях прочных картонных коробок; сотни ящиков, в которых лежали тысячи маленьких коробок, а в них, в свою очередь, покоились миллионы шурупов и гвоздей всех размеров; сотни молотков самых различных форм; гаечные ключи, торцевые ключи, отвертки, плоскогубцы, электродрели, пилы, другие инструменты. В одной комнате размером с собор, отделанной панелями из кедра, отпугивающего моль — от его аромата у нас захватило дух, — ряд за рядом лежали громадные рулоны ткани — шелк, хлопок, шерсть, парусина, — намотанные на специальные стойки, возвышающиеся футов на пятнадцать над нашими головами. В другой комнате хранились медицинские средства и оборудование — ряды мониторов для электрокардиограмм и электроэнцефалограмм, тоже надежно упакованные, чемоданчики со шприцами, повязками, антисептиками, антибиотиками и многое другое. Из этого туннеля мы перешли в другой, точно такой же, тоже пустой и содержащийся в полном порядке. В нем тоже были комнаты, полные припасов. Там были бочонки зерна — пшеница, рис, овес, рожь. Согласно этикеткам, содержимое бочонков было особым способом высушено, а затем запечатано в вакуумную упаковку в азотной среде, чтобы сохранить свежесть продукта по меньшей мере на тридцать лет. Сотни — нет, тысячи — одинаково запечатанных бочонков муки, сахара, яичного порошка, молочного порошка, витаминов и микроэлементов в таблетках и ящиков меньшего размера со специями — корицей, мускатным орехом, мятой и лавровым листом — были запасены здесь. Это обширное сооружение выглядело как гробница фараона, самая грандиозная гробница в мире, полностью обеспеченная всем, что может потребоваться властителю и его слугам — для удобств загробной жизни. Где-то в молчаливых комнатах, до которых мы еще не добрались, должны находиться храмовые собаки и священные кошки, которых милосердно умертвили и любовно завернули в ткань, пропитанную ароматическими маслами, чтобы они отправились в царство смерти вместе со своим царственным хозяином, а где-то — горы золота и бриллиантов, а где-то — служанка или две, сохраняющиеся для сексуальных утех в грядущей жизни, а где-то, разумеется, и сам фараон, мумифицированный, покоящийся на катафалке из чистого золота. Мы вошли в громадный арсенал, где хранилось огнестрельное оружие: опломбированные ящики с пистолетами, револьверами, винтовками, дробовиками, автоматами (все промаслено). Здесь было достаточно оружия, чтобы снабдить им несколько взводов. Боеприпасов я не увидел, но был просто уверен, что где-то в другом месте хранятся миллионы патронов. И я готов был поклясться, что были там комнаты, где хранились еще более смертоносные орудия насилия и войны. В последней комнате этого второго туннеля, как раз перед вторым на этом уровне пересечением туннелей, размещалась библиотека, состоящая самое меньшее из пятидесяти тысяч томов. В ней тоже никого не было. Проходя между стеллажами книг, я припомнил окружную библиотеку в Йонтсдауне. Два этих места были подобны островкам нормальности в бескрайнем море странного. И там, и тут была атмосфера мира и спокойствия — хотя и непрочного мира и хрупкого спокойствия, а в воздухе стоял неприятный запах бумаги и переплетной ткани. Однако подбор книг в этой библиотеке отличался от того, что было в городе. Райа обратила внимание, что здесь не было художественной литературы — Диккенса, Достоевского, Стивенсона, По. Я, в свою очередь, не нашел исторического раздела — были изгнаны Гиббон, Геродот, Плутарх. Точно так же мы не смогли отыскать ни одной биографии кого-нибудь из знаменитых людей, никакой поэзии, юмористической литературы, ни одной книги о путешествиях, по теологии или по философии. Полка за полкой сгибались под тяжестью книг по алгебре, геометрии, тригонометрии, физике, геологии, биологии, физиологии, астрономии, генетике, химии, биохимии, электронике, сельскому хозяйству, животноводству, сохранению почв, инженерному делу, металлургии, принципам архитектуры... С одной этой библиотекой, обладая живым умом и время от времени прибегая к помощи толкового инструктора, можно было научиться, как основать и вести процветающее фермерское хозяйство, отремонтировать автомобиль или самому своими руками построить новый (а также реактивный самолет или телевизор), спроектировать и возвести мост или гидроэлектростанцию, оборудование и завод для выпуска транзисторов, сконструировать доменную печь, сталелитейный цех и фабрику для производства стальных брусов и балок из закаленной стали... Перед нами была библиотека, специально собранная с целью обучить всему необходимому для успешного поддержания всех физических сторон жизни современной цивилизации, но не содержащая ничего, что могло бы дать представление о важнейших духовных ценностях, на которых покоится эта цивилизация: здесь не было ничего о любви, вере, надежде, братстве, истине или о смысле жизни. Обойдя полбиблиотеки, Райа прошептала: — Основательное собрание. — Подразумевала она — «пугающее». Я эхом откликнулся: — Основательное, — но подразумевал «ужасающее». Хотя мы быстро приближались к пониманию темной цели, которой служило все это подземное сооружение, ни один из нас не желал облекать это понимание в слова. Некоторые дикарские племена, хоть и имеют имя для дьявола, отказываются произносить это имя, уверенные, что, сказав его вслух, тем самым немедленно «вызовут» его. Вот так же и мы с Райей не хотели обсуждать, что гоблины замыслили в этой тщательно отделанной яме, опасаясь, что наши слова могут каким-то образом трансформировать их страшные намерения в неотвратимую реальность. Из второго туннеля мы с предосторожностями проследовали в третий, содержимое комнат которого подтвердило наши худшие опасения. В трех огромных комнатах, под рядами специальных ламп, предназначенных, очевидно, для обеспечения фотосинтеза и быстрого роста, мы обнаружили огромные запасы семян овощей и фруктов. Там же стояли большие стальные баки с жидкими удобрениями. Ящики с аккуратными этикетками были полны всех химикалий и минералов, необходимых для выращивания растений без почвы. Ряды длинных неглубоких желобов, пока пустых, ждали, когда их наполнят водой, питательными веществами и рассадой, после чего они станут эквивалентом плодородных полей — только без земли. Учитывая их огромные запасы обработанного и запакованного в вакууме продовольствия, учитывая их подготовку к ведению химического «земледелия» и учитывая, что мы скорее всего видели лишь малую часть их сельскохозяйственных приготовлений, я смело заключил, что они были подготовлены к тому, чтобы кормить тысячи своих сородичей на протяжении нескольких десятилетий, на случай, если грянет Армагеддон и им придется просидеть в этом подземном убежище долгое время. Продвигаясь из комнаты в комнату, из туннеля в туннель, мы то и дело видели их священный символ: белое небо, черная молния. Мне приходилось отворачиваться, потому что всякий раз, как мы натыкались на него, на меня все сильнее обрушивались ясновидческие образы холодной, безмолвной вечной ночи, которую он символизировал. Мне до безумия хотелось прикрепить по куску пластиковой взрывчатки к этим знакам, к этим керамическим иконам, и взорвать их — и все, что они олицетворяют, — разнести на куски, стереть в пыль. Но я не стал тратить на это взрывчатку. Время от времени нам также попадались на глаза трубы. Они выходили из отверстий в бетонных стенах, пересекали участки комнат или коридоров, а затем исчезали в отверстиях в другой стене. Иногда это был один трубопровод, иногда пучок из шести труб разного сечения, тянущихся параллельно друг другу. Все были белого цвета, но на каждой для удобства ремонтных бригад был нанесен символ. Все эти символы легко поддавались расшифровке: вода, электросеть, сеть связи, пар, газ. Это были самые уязвимые места в сердце крепости. Четыре раза я поднимал Райю на руки, и она поспешно прилепляла заряд взрывчатки между трубами и вставляла в него детонатор. Как и с предыдущими зарядами, которые мы установили, мы не завели детонаторы, намереваясь сделать это только на обратном пути. Мы свернули за угол четвертого на этом уровне туннеля. Мы прошли всего двадцать или тридцать футов, когда перед нами неожиданно растворились стальные двери, раздался свист сжатого воздуха, и в пяти-шести футах перед нами в коридор вышел гоблин. В тот самый миг, когда его свиные глазки расширились, когда его влажные мясистые ноздри затрепетали, когда он задохнулся от неожиданности, я шагнул вперед, взмахнул винтовкой и ударил его по голове стволом. Пока тварь падала, я перехватил винтовку и обрушил тяжелый приклад прямо на лоб демона. От этого удара лоб должен был треснуть, но не треснул. Я собирался ударить еще, чтобы разбить его голову в кровавую кашу, но Райа схватила меня за руку и остановила. Светящиеся глаза гоблина потускнели и закатились, и со знакомым тошнотворным хлюпаньем мягких тканей и потрескиванием костей он начал принимать человеческий облик, что позволяло предположить, что он либо мертв, либо без сознания. Райа пробралась вперед и нажала кнопку на дверной раме. Стальные двери с шипением затворились за спиной нашего корчащегося противника. Если в той комнате и были еще гоблины, они, очевидно, не видели, что случилось с этим, лежащим на полу передо мной, поскольку они не выбежали наружу защитить его или поднять тревогу. — Быстро, — сказала Райа. Я понял, что она имела в виду. Это, возможно, был тот шанс, на который мы надеялись, и другого у нас могло больше не быть. Я перекинул винтовку на плечо, ухватил гоблина за ноги и отволок его назад в туннель, из которого мы только что вышли. Райа открыла дверь, и я затащил нашу жертву в одну из комнат, предназначенных для искусственного выращивания растений. Я пощупал пульс. — Живой, — прошептал я. Тварь полностью скрылась внутри тела невысокого пузатого мужчины средних лет с грушевидным носом, близко посаженными глазами и тонкими усиками. Но я, разумеется, видел истинную сущность гоблина сквозь эту маскировку. Он был обнажен — очевидно, здесь, в Аиде, это было модно. Веки его затрепетали. Он судорожно дернулся. Райа извлекла шприц, полный пентотала соды, с иглой для подкожных инъекций, который приготовила заранее. Куском эластичной трубки, какую сестры в больницах используют для этих же целей, Райа перетянула руку пленника так, чтобы прямо над локтевым сгибом на руке вздулась вена. В медно-желтом свете искусственных солнц, подвешенных над пустыми чанами, глаза нашего пленника открылись. Они по-прежнему были мутными и несфокусированными, но чудовище быстро приходило в себя. — Поторопись, — сказал я. Райа выбрызнула несколько капель лекарства на пол, чтобы удостовериться, что в игле не осталось воздуха. (Мы не смогли бы допросить это создание, если бы оно умерло от воздушной закупорки сосудов через несколько секунд после инъекции.) Райа ввела в вену лекарство. Через несколько секунд после этого наш пленник застыл, все его суставы затвердели в неподвижности, мускулы напряглись. Глаза широко распахнулись. Губы раздвинулись, обнажив в гримасе зубы. Все это встревожило меня и подтвердило мои сомнения относительно действия пентотала на гоблинов. Тем не менее я наклонился вперед, глядя прямо в глаза врага — они словно смотрели сквозь меня, — и попытался допросить его. — Ты меня слышишь? Шипение, которое, должно быть, обозначало «да». — Как тебя зовут? Гоблин, не моргая, поглядел на меня и неохотно издал булькающий звук сквозь сжатые зубы. — Как тебя зовут? — повторил я. На этот раз его язык зашевелился, рот чуть приоткрылся, и из него вырвался бессмысленный набор звуков. — Как тебя зовут? — спросил я. Снова бессмысленные звуки. — Как тебя зовут? И снова он издал лишь странный звук, но до меня дошло, что это тот же самый ответ, который он дал на предыдущий вопрос, — не бессмысленные звуки, а многосложное слово. Я почувствовал, что это и есть его имя, но не то имя, под которым он был известен в мире обычных людей, а то, под которым его знали в тайном мире его рода. — Как твое человеческое имя? — спросил я. — Том Таркенсон, — ответил он. — Где ты живешь? — На Восьмой авеню. — В Йонтсдауне? — Да. Это средство не действовало на них как успокаивающее, не сдерживало их, как нас. Но пентотал погружал его в это неподвижное, гипнотическое состояние и, судя по всему, побуждал отвечать правдиво, причем куда более эффективно, чем людей. Гипнотическая пелена заволокла глаза гоблина. Человек бы на его месте уснул и отвечал бы на вопросы, задаваемые ему, вяло и бессвязно, если бы вообще отвечал. — Где ты работаешь, Том Таркенсон? — Угольная компания «Молния». — Чем ты там занимаешься? — Я горный инженер. — Но на самом деле ты ведь не этим занимаешься? — Нет. — А чем ты тут занят на самом деле? Неуверенное молчание. Затем: — Планируем... — Что планируете? — Планируем... вашу смерть, — ответил он. На миг его глаза прояснились, сфокусировавшись на мне, но тут же он опять впал в транс. Я поежился. — Каково назначение этого места? Он не отреагировал. — Каково назначение этого места? — повторил я вопрос. Он испустил еще одну длинную цепочку звуков, которые были лишены для меня какого-нибудь значения, а лишь указывали на значение. Я никогда прежде не думал, что у гоблинов может быть их собственный язык, которым они пользуются, когда нет опасности того, что кто-нибудь из нашего рода может услышать их. Но это открытие не удивило меня. Почти наверняка это был язык людей, на котором разговаривали в том потерянном мире в прежнюю эру, прежде чем цивилизация пала жертвой апокалиптической войны. Немногие из людей, которые пережили тот давний Армагеддон, обратились в дикое состояние и позабыли свой язык, как и многое другое. Но гоблины, которых выжило большее число, помнили его и использовали как свой живой язык. С учетом их инстинкта к искоренению нашего рода, была некая ирония в том, что они должны были сохранять что-то, что порождено человеком, — кроме себя самих. — Каково назначение этого сооружения? — упорствовал я. — ...убежище... — Убежище от чего? — ...тем... — Убежище от темноты? — ...от черной молнии... Прежде чем я успел задать следующий — и очевидный — вопрос, гоблин неожиданно забарабанил пятками по каменному полу, передернулся, моргнул, зашипел. Он попытался дотянуться до меня одной рукой. Хотя его суставы больше не были скованы, они все же оставались непослушны ему. Рука упала обратно на пол, пальцы задрожали, точно сквозь них пропустили электрический ток. Действие пентотала соды быстро заканчивалось. Пока я допрашивал пленника, Райа приготовила еще один шприц. Теперь она воткнула иглу в вену и ввела твари еще дозу. В человеческом теле пентотал сравнительно быстро входил в обмен веществ, и для поддержания нужного состояния требовалось медленное постоянное впрыскивание. Судя по всему, несмотря на некоторую разницу в реакции человека и гоблина, продолжительность действия наркотика была примерно одинакова в обоих случаях. Вторая доза подействовала на существо почти сразу. Глаза его снова затуманились, тело застыло. — Ты сказал, что это убежище? — задал я вопрос. — Да. — Убежище от черной молнии? — Да. — Что такое эта черная молния? Он испустил жутковатое завывание и содрогнулся. Что-то в этом режущем ухо звуке производило впечатление удовольствия, как будто одна мысль о черной молнии вызывала дрожь наслаждения в теле нашего пленника. Я тоже содрогнулся, только от страха. — Что такое черная молния? — повторил я. Глядя сквозь меня на видение невообразимого разрушения, гоблин заговорил. Голос его сочился злобой и прерывался от благоговения: — Белое-белое небо — это небо, обесцвеченное десятью тысячами мощных взрывов, одной ослепительной вспышкой от одного края горизонта до другого. Черная молния — это черная энергия смерти, ядерной смерти, обрушившейся с небес, чтобы уничтожить человечество. Я поглядел на Райю. Она поглядела на меня. То, что мы подозревали, — и то, о чем не осмеливались говорить вслух, — оказалось правдой. Угольная компания «Молния» подготавливала редут, где гоблины смогут найти убежище и надежду пережить еще одну войну, уничтожающую мир, вроде той, что они развязали в ту забытую эру. Нашего пленника я спросил: — Когда начнется война? — Может быть... через десять лет... — Через десять лет с этого года? — ...может быть... — Может быть? Ты хочешь сказать, в семьдесят третьем? — ...или через двадцать лет... — Двадцать? — ...или тридцать... — Когда, черт тебя возьми? Когда? Под человеческими глазами ярко вспыхнули светящиеся глаза гоблина, и в их проблеске была безумная ненависть и еще более безумный голод. — Нет точной даты, — сказал он. — Время... нужно время... время, чтобы построить арсеналы... время, чтобы ракеты стали более изощренными... более точными... Разрушительная сила должна быть такой огромной, чтобы, когда вырвется, не осталось никакого человеческого отродья в живых. Ни одно семя не должно избегнуть сожжения в этот раз. Их нужно счистить... смыть с земли и очистить ее от них и от всего, что они построили... очистить от них и от их дерьма... Он засмеялся горловым смехом, жидким кудахтаньем неподдельного черного удовольствия, и его радость от предвкушения Армагеддона была так велика, что на миг она пересилила обездвижившую его хватку лекарства. Он изогнулся почти сладострастно, дернулся, выгнул спину так, что пола касались только пятки и затылок, и быстро заговорил на своем древнем языке. Меня охватила дрожь — такая неудержимая, что казалось, дрожит каждая клетка моего тела. Зубы у меня скрипнули. Гоблин все сильнее втягивался в свое религиозное видение Судного дня, но эффект лекарства не позволял ему целиком поддаться страстям, бушевавшим в нем. Внезапно, точно плотина эмоций внутри него рухнула, гоблин испустил дрожащий вздох — «А-хх-х-х-х-х-х-х-х» и опорожнил мочевой пузырь. Зловонный поток мочи словно вымыл из организма не только пыл разрушения, но и ослабил действие пентотала. У Райи уже был наготове третий шприц успокоительного. На полу рядом с ней лежали две использованные ампулы, две одноразовые иголки и пластиковая упаковка. Я удерживал тварь на полу. Она вонзила иглу в вену, уже дважды проколотую, и начала нажимать на поршень шприца. — Не все сразу! — бросил я, стараясь удержать тошноту от едкой вони мочи. — Почему? — Мы же не хотим превысить дозу и убить его. У меня еще есть что спросить у него. — Я буду вводить понемногу, — сказала она. Она ввела нашему пленнику примерно четверть дозы — достаточно для того, чтобы он снова застыл. Она оставила иглу в вене, готовая вбрызнуть в гоблина еще наркотик, как только он начнет проявлять признаки выхода из гипнотического транса. Я обратился к пленнику: — Очень давно, в эпоху, о которой люди забыли, в эпоху, когда был создан ваш род, была другая война... — Война, — тихо сказал он, почтительно, словно о самом святом событии. — Война... Война... — В ту войну, — продолжал я, — ваш род строил глубокие убежища вроде этого? — Нет. Мы умирали... умирали вместе с людьми, потому что были творением человека и потому заслуживали смерти. — Тогда зачем строить убежища сейчас? — Потому что... нам не удалось... не удалось... нам не удалось... — Он моргнул и попытался подняться. — Не удалось... Я кивнул Райе. Она впрыснула чудовищу еще немного наркотика. — Почему вам не удалось и что? — спросил я. — ...не удалось стереть с лица земли расу людей... а потом... после войны... нас осталось слишком мало, чтобы уничтожить всех людей, оставшихся в живых. Но на этот раз... о, на этот раз, когда война закончится, когда пламя погаснет, когда с небес упадет весь остывший пепел, когда кислотный дождь и едкий снег перестанет идти, когда радиация станет слабой... — Ну? — поторопил я его. — Тогда, — продолжал он голосом, исполненным священного благоговения, словно пророчествующий религиозный фанатик, — из наших убежищ время от времени будут выходить партии охотников... и наверху они будут выслеживать каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка, оставшихся в живых... и уничтожать всех людей... Наши охотники будут искать и убивать... убивать до тех пор, пока у них не кончатся запасы еды и питья или пока остаточная радиация не убьет их самих. На этот раз нам удастся. Нас выживет достаточное количество для того, чтобы выпускать команду ликвидаторов в течение ста лет, двухсот лет. А когда земля станет совершенно бесплодной и голой, когда от полюса до полюса будет полное молчание и не останется ни малейшей опасности возрождения человеческой жизни, тогда мы уничтожим последнее деяние рук человеческих — самих себя. И тогда все будет черным, очень черным, холодным и безмолвным, и Ничто в своей совершенной чистоте будет царить вовеки. Я больше не мог делать вид, что меня вводит в недоумение безжалостная пустота, которую я воспринимал ясновидением, глядя на символ черной молнии. Я и в самом деле понимал все его ужасное значение. В этом знаке я видел жестокий конец жизни человечества, гибель мира, безнадежность, вымирание. Я обратился к пленнику: — Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты мне говоришь, что окончательная ваша цель — это самоуничтожение всего вашего рода. — Да. После вашего. — Но это же бессмысленно. — Это судьба. Я возразил: — Ненависть, доведенная до такого предела, лишена смысла. Это безумие, хаос. — Ваше безумие, — ответил он мне, неожиданно осклабившись. — Вы вложили его в нас, разве не так? Ваш хаос: вы спланировали его. Райа ввела еще наркотик. Усмешка исчезла с его лица — как на лице человека, так и на морде гоблина, но он продолжал: — Вы... ваш род... вы непревзойденные мастера ненависти, знатоки разрушения... императоры хаоса. Мы только такие, какими нас создали вы. У нас нет никакого потенциала, который бы не предвидел ваш род. И на самом деле... у нас нет никакого потенциала, который не одобрил бы ваш род. Я заставил себя отстаивать ценность человеческой расы, точно и в самом деле находился во чреве ада и передо мной стоял демон, который держал в своих когтистых лапах будущее человечества и мог бы смилостивиться, если я сумею его убедить: — Не все из нас мастера ненависти, как ты назвал нас. — Все, — упорствовал он. — Некоторые из нас добры. — Ни один. — Большинство из нас добры. — Ложь, — ответил демон с той непоколебимой уверенностью, которая (как гласит Библия) отличает сатану и слуг его и служит инструментом, с помощью которого сомнение укореняется в умах смертных. Я сказал: — Некоторые из нас любят. — Любви не существует, — ответил демон. — Ты ошибаешься. Существует. — Это иллюзия. — Некоторые из нас любят, — настаивал я. — Ты лжешь. — Заботятся друг о друге. — Все это ложь. — У нас есть мужество, мы способны к самопожертвованию во имя других. Мы любим мир и ненавидим войну. Мы лечим больных и скорбим по мертвым. Мы не чудовища, черт тебя возьми. Мы воспитываем детей и стремимся дать им лучшую жизнь. — Ваш род омерзителен. — Нет, мы... — Ложь. — Он зашипел, и этот звук выдал нечеловеческую природу под человеческим обликом. — Ложь и самообман. Райа сказала: — Слим, пожалуйста, это бессмысленно. Ты не сможешь переубедить их. Их — не сможешь. То, что они думают о нас, это не просто их мнение. То, что они о нас думают, закодировано у них в генах. Ты не можешь это изменить. Никто не может это изменить. Разумеется, она была права. Я вздохнул. Кивнул головой. — Мы любим, — упрямо сказал я, хотя и знал, что спорить бесполезно. Райа медленно ввела еще пентотала, а я продолжил допрос. Я узнал, что в этой пещере, в которой гоблины надеются пережить Судный день, пять уровней. Каждый уровень лишь наполовину выдается над тем, что находится ниже его. Таким образом, уровни формируют как бы лестницу в центре горы. Как сказал демон, закончено оборудование шестидесяти четырех комнат. Эта цифра ошеломила меня, но не была такой уж невероятной. Они были весьма трудолюбивы — муравейник, не обремененный тягой к индивидуальности — прекрасной, но порой огорчительной чертой рода человеческого. Одно устремление, один метод, одна главенствующая надо всем цель. Никогда не бывает несогласных. Никаких еретиков или отколовшихся групп. Никаких дебатов. Непреклонно, маршем двигались они к своей мечте о вечно безмолвной, бесплодной, погруженной во мрак Земле. Если верить нашему пленнику, они собирались добавить еще не меньше сотни залов к этому убежищу, прежде чем настанет день выпустить ракеты над землей. В течение нескольких месяцев перед началом войны их род ручейками будет стекаться сюда со всей Пенсильвании и из некоторых других восточных штатов. — Есть и другие гнезда, подобные Йонтсдауну, — с удовольствием сказал демон, — где втайне строят такие же убежища, как это. Испуганный его словами, я попытался надавить на него, чтобы выведать, где находятся эти норы, но наш пленник не знал об их местонахождении. Их план заключался в том, чтобы закончить строительство убежищ в то же самое время, когда двигатели ядерного разрушения будут доведены до такого же качественного уровня, что и те, которые были созданы в потерянную эру и погибли в войне. Тогда настанет пора действовать гоблинам, и они нажмут на кнопки катаклизма. Слушая это безумие, я обливался холодным липким потом. Я расстегнул «молнию» на куртке, чтобы впустить немного воздуха и остыть, и ощутил едкий запах страха и отчаяния, исходящий из моего тела. Припомнив деформированных детенышей гоблинов, запертых в клетке в подвале дома Хэвендалов, я спросил его, насколько часто их потомство рождается дефектным, и оказалось, что мои подозрения были правильными. Гоблины, созданные как бесплодные существа, приобрели способность к размножению в результате мутации, но процесс мутирования продолжался и в последние несколько десятилетий как будто ускорился. В результате этого все большее число гоблинов рождались такими же, как те злосчастные твари в клетке. Переменчивый случай забирал у них обратно дар жизнеспособного воспроизводства. Вообще же численность гоблинов сокращалась уже долгое время. Прирост здорового потомства был слишком мал, чтобы восполнять ряды старших — тех, чья невероятно долгая жизнь все же подходила к концу, и тех, кто погибал при несчастных случаях или принимал смерть от рук таких людей, как я. Поэтому, увидев приближение своего собственного — хоть и постепенного — вымирания, они твердо вознамерились подготовить и начать новую войну до конца столетия. После этого срока их уменьшающееся количество может затруднить патрулирование развалин мира после катастрофы и уничтожение тех немногих людей, которые выживут в руинах. Райа приготовила еще одну ампулу пентотала, вопросительно подняв бровь. Я помотал головой. Больше выяснять было нечего. Мы и так узнали слишком много. Она убрала ампулу. Руки у нее тряслись. Отчаяние саваном окутывало меня. Бледное лицо Райи было зеркалом моих собственных чувств. — Мы любим, — сказал я демону, который начал судорожно дергаться и шлепать по полу, слабо двигаясь. — Мы любим, будь ты проклят, мы любим. Затем я вытащил нож и перерезал ему глотку. Показалась кровь. Я не почувствовал радости при виде крови. Мрачное удовлетворение, может быть, но не радость. Поскольку гоблин уже был в человеческом облике, ему не нужно было трансформироваться. Человеческие глаза потускнели, покрываясь изморозью смерти, внутри изменчивой плоти глаза гоблина тоже потускнели, затем потемнели. Когда я наконец поднялся, прозвучал сигнал тревоги. Пронзительное несмолкающее завывание эхом ударялось о бетонные стены. Как в том кошмаре. — Слим! — О черт, — сказал я, и сердце у меня забилось с перебоями. Нашли ли они мертвого гоблина на нижнем уровне убежища, в его могиле из неверных теней? Или они хватились того, чью глотку я только что перерезал, и, не найдя его, что-то заподозрили? Мы поспешили к дверям. Но, подойдя к ним, услышали, как с другой стороны, в коридоре, бегут гоблины, вопя что-то на своем древнем языке. Теперь нам было известно, что в убежище шестьдесят четыре комнаты на пяти уровнях. Враги никоим образом не могли установить, как глубоко мы проникли и где мы находимся, поэтому вряд ли они будут обыскивать эту комнату в первую очередь. У нас было несколько минут, чтобы ускользнуть. Немного, но все же несколько драгоценных минут. Взвыла сирена. Резкий звук обрушился на нас с Райей, точно мощная морская волна. Мы обежали комнату, ища место, где бы спрятаться, не надеясь найти что-нибудь и не находя ничего, пока я не обнаружил одну из решеток, закрывающих вытяжные отверстия в вентиляции, в стене у самого пола. Она была больше квадратного ярда размером и крепилась не болтами, чего я опасался, а простым зажимом. Я потянул зажим, и решетка откинулась наружу на шарнирах. Стенки туннеля сечением в ярд с другой стороны были металлическими, и входящий воздух тек по трубе с тихим глухим шелестом и еще более тихим лязганьем металла. Прижавшись губами к уху Райи, чтобы она услышала меня за воем сирены, я сказал: — Снимай свой рюкзак и пихай его туда. То же самое с дробовиком. Пока сирена работает, можешь не волноваться, что ты шумишь. Но когда не будет этого прикрытия, придется сидеть очень и очень тихо. — Там внутри темно. Мы можем воспользоваться фонариками? — Да. Но когда увидишь свет впереди, идущий через другой люк, выключи фонарь. Мы не можем рисковать — наши фонарики не должны быть заметны через решетку в коридорах. Она нырнула в трубу первой, извиваясь на животе и толкая перед собой ружье и рюкзак. Она заняла большую часть прохода, поэтому свет от ее фонарика еле-еле пробившая, и мало-помалу она исчезла в темноте. Я запихнул свой рюкзак в отверстие, протолкнул его подальше стволом винтовки и вполз сам. Мне с трудом удалось развернуться в этом узком пространстве, чтобы закрыть вентиляционную решетку, дернув достаточно сильно, чтобы зажим с щелчком захлопнулся. Завывание сирены проходило сквозь каждую решетку вытяжки вентиляционной системы, резонируя от металлических труб воздухопровода еще более резко, чем от бетона комнаты, из которой мы только что выбрались. Клаустрофобия, которую я почувствовал, войдя в шахты девятнадцатого века вместе с Хортоном Блуэттом, мстительно вернулась ко мне. Я был почти наполовину убежден, что застряну здесь и задохнусь. Грудь сжало между бешено колотящимся сердцем и холодным металлическим полом трубы. Я почувствовал, как в глубине горла рождается крик, но я задавил его. Мне хотелось вернуться назад, но я двинулся вперед. Ничего не оставалось делать, как двигаться вперед. Неминуемая смерть была позади нас. И даже если бы вероятность встречи со смертью впереди была ненамного меньше, я все равно должен был двигаться вперед, где у нас был шанс, может быть, всего один, но все-таки шанс — выжить. Мы глядели на ад не с той позиции, с какой наслаждаются его зрелищем демоны, — с позиции крысы из стены.Глава 30
ВДАЛИ ОТ ЯРМАРКИ
Назойливое завывание сирены напомнило мне о гонках на мотоциклах в аттракционе «стена смерти» на ярмарке братьев Сомбра. Там использовали такой же звук, чтобы подогреть страсти. Темный лабиринт вентиляционной системы казался балаганом. И в самом деле тайное сообщество гоблинов, в котором все было не так, как в мире «правильных», было своего рода более мрачным подобием замкнутого сообщества балаганщиков. Мы с Райей ползком пробирались по трубам, и я чувствовал себя так, как, должно быть, чувствовал бы себя молодой простак, если бы, набравшись смелости, прокрался на ярмарку после закрытия, намереваясь испытать свое мужество, проникнув в шоу уродов, когда все огни погашены и никто из своих не окажется поблизости и не услышит его вопли. Райа добралась до вертикальной трубы, начинающейся в потолке нашего горизонтального туннеля, и посветила туда лучом фонарика. Я удивился, когда она полезла туда, таща за собой рюкзак за лямки. Но, последовав за ней, я обнаружил, что на одной из стен шахты были небольшие скобы лестницы — для удобства обслуживания системы. За них можно было ухватиться только пальцами, наступая носками ног, но благодаря им все же можно было подниматься без особых усилий. Даже для гоблинов, с их умением разгуливать по стенам и потолкам, было бы затруднительно карабкаться по гладкой металлической поверхности вертикальных труб без подобных опор. Пока я лез, мне в голову пришла отличная мысль — уйти с того уровня сооружения, на котором мы оставили второго мертвого гоблина, потому что, когда труп обнаружат, поиск будет сосредоточен главным образом на той территории. Примерно в пятидесяти-шестидесяти футах над началом подъема мы выбрались из этой шахты на другой горизонтальный уровень, на следующем этаже, и Райа первой двинулась по множествусоединяющихся туннелей. Сирена наконец-то смолкла. В ушах у меня продолжало звенеть еще долго после того, как тревожные сигналы прекратились. У каждого воздухозаборника Райа останавливалась, чтобы поглядеть через решетку в комнату. Когда она начинала двигаться дальше, я занимал ее место и тоже приникал к металлической решетке. Некоторые комнаты были пустыми, темными и тихими. Но большинство помещений обыскивали вооруженные гоблины, охотившиеся за нами. Порой мне не удавалось разглядеть почти ничего, кроме их ног или даже ступней, поскольку через решетки была видна только нижняя часть помещения. Тем не менее, судя по настойчивости их пронзительных голосов и по их осторожным, но торопливым передвижениям, я понимал, что они заняты розысками. С того момента, как мы поднялись на лифте с незавершенного уровня на пятый и начали разнюхивать все вокруг, мы чувствовали вибрацию в полу и стенах туннелей и комнат, через которые проходили. Создавалось впечатление, словно где-то вдалеке массивный механизм перемалывает скалы в булыжники, и мы предположили, что это звук тяжелых горнодобывающих машин в тех отдаленных шахтах, где на самом деле добывают уголь. Когда смолкла сирена, а в ушах у меня перестало звенеть, я обнаружил, что грохот и тряска, слышные в других местах, были различимы также и внутри вентиляционной системы. И в самом деле, по мере того как мы продвигались все дальше, шум становился громче, перерастая из рокота в заунывный грохот. Вибрация тоже становилась все более ощутимой, проходя по стенам трубы, а через них по всему телу. Ближе к концу вентиляционной системы этого уровня мы добрались до вентиляционного отверстия, через которое Райа разглядела нечто, что ее заинтересовало. Более гибкая, чем я, она смогла развернуться в этом узком пространстве без особого шума и стука, и таким образом мы оказались лицом к лицу возле решетки. Мне не нужно было вглядываться, чтобы понять, что источник сильного непрерывного шума находится в комнате с другой стороны решетки, потому что и шум, и тряска достигли здесь своего пика. Когда я все же посмотрел сквозь узкие щели между прутьями решетки, то увидел чугунные основания, на которых находились, судя по всему, крупных размеров станки, хотя видел я слишком мало для того, чтобы определить точно, что же это такое. Также мне представилась возможность вблизи рассмотреть когтистые ступни множества гоблинов. Слишком близко. Остальные были достаточно далеко, чтобы я смог разглядеть, что они вооружены и заняты розысками среди громадных механизмов. Какого бы рода ни был источник шума и вибрации, он не был связан с добычей угля, как мы решили вначале, — в комнате не пахло углем и не было угольной пыли. Более того, не было звуков сверления или дробления. Характер шума был практически тем же самым вблизи, что и на отдалении, только значительно громче. Я не знал, почему Райа остановилась здесь. Но она была очень толковой и сообразительной, и я достаточно хорошо знал ее, чтобы почувствовать, что она задержалась не из простого любопытства. У нее была какая-то идея, возможно, даже план. Я был готов подчиниться ее руководству, потому что ее план был заведомо лучше моего. Должен был быть лучше. У меня вообще не было плана. За несколько минут поисковая партия заглянула во все явные места, где можно было спрятаться в комнате. Гоблины двинулись дальше. Их спорящие голоса смолкли. Они не подумали заглянуть в вентиляционные трубы. Однако вскоре они исправят свою ошибку. Строго говоря, гоблины уже могли быть внутри вентиляционной системы, ползя от шахты к шахте в поисках нас — совсем близко за спиной. Та же самая мысль, очевидно, пришла в голову и Райе, потому что она явно решила, что настало время выбираться из вентиляции. Прижавшись плечом к решетке, она нажала на нее. Зажим ее щелкнул, и решетка открылась. Это был рискованный шаг. Если хоть один член поисковой команды задержался и если в комнате были гоблины-рабочие, враг мог оказаться достаточно близко, чтобы увидеть, как мы вылезаем. Нам повезло. Мы выбрались из вентиляции, вытащили свои рюкзаки, холщовый вещмешок и оружие и закрыли решетку, оставаясь незамеченными. Мы не стали обсуждать решение Райи покинуть вентиляционную систему, поскольку нам пришлось бы повышать голоса, чтобы услышать друг друга за шумом работающих механизмов. Но несмотря на то, что мы не имели возможности посоветоваться, мы действовали слаженно, пробираясь к укрытию — громадному механизму. Мы еще не добрались до цели, когда до меня дошло, где мы находимся. Это была электростанция комплекса, вырабатывающая для него электроэнергию. Шум частично происходил от рядов громадных турбин, приводящихся в движение водой, а возможно, и паром. Комната, похожая на пещеру, выглядела впечатляюще — более пятисот футов в длину и не менее двухсот футов в ширину. Потолок ее находился на уровне примерно шестого-восьмого этажа. В центре помещения в ряд один за другим стояли на чугунных основаниях серо-стального цвета пять генераторов — каждый размером с двухэтажный дом. Вспомогательное оборудование, по большей части столь же гигантских размеров, тесно громоздилось вокруг оснований генераторов. Стараясь постоянно держаться под прикрытием теней, мы прошли через весь зал, прячась то за одним механизмом, то за другим, от ящиков, полных запасных частей, до ряда электрокаров, тележек, которые, очевидно, использовали рабочие для перемещения по залу. На высоте вдоль всех стен и прямо у нас над головой были установлены стальные подвесные леса для эксплуатационных служб и наблюдения. Там же, над головой, с рельсов, утопленных в потолок, свешивался гигантских размеров красный кран. Он, вероятно, мог двигаться из одного угла комнаты в другой для обслуживания любого из пяти генераторов, которому мог потребоваться серьезный ремонт. В настоящий момент он бездействовал. Перебегая от одного прикрытия к другому, мы с Райей не только осматривали все, что находилось внизу, но постоянно внимательно поглядывали на леса. В зале мы увидели гоблина-рабочего, затем еще двух. Оба раза они находились в паре сотен футов от нас, погруженные в свои занятия. Они управляли оборудованием и ни разу не заметили, как мы быстро, по-крысиному, перебегаем из тени в тень. К нашему счастью, в это время никто не работал на лесах под потолком — откуда было бы гораздо проще засечь нас; внизу, где находилось большое количество оборудования и материалов, заметить нас было гораздо сложней. Дойдя примерно до середины комнаты, мы наткнулись на канал тридцати футов в глубину и в ширину. Он тянулся рядом с генераторами через всю комнату. По краям канала шли перила ограждения. На дно канала был уложен трубопровод приблизительно двадцати четырех футов в диаметре, достаточно просторный, чтобы внутри него могли ездить грузовики. И впрямь, шум, доносящийся из трубы, словно указывал, что целые конвои «Петербилтов», «Маков» и других восемнадцатиколесных громадин прямо сейчас с ревом едут там, внутри. На какой-то момент я опешил, но затем догадался, что электроэнергию для всего подземного комплекса вырабатывает подземная река, русло которой заключили в эту трубу и которая вертела лопасти гигантских турбин. То, что мы слышали, было миллионами галлонов воды, льющейся вниз потоком, уходящим, очевидно, в глубь горы. Глядя на ряд генераторов размером с дом, я почувствовал к ним новое почтение и внезапно задался вопросом, для чего гоблинам нужно так много энергии. Они вырабатывали достаточно электричества для того, чтобы его хватало на город, во сто раз больший, чем тот, который строили они. Канал пересекали мосты. Один из них находился всего в десяти ярдах от нас. Однако я подумал, что мы слишком будем на виду и слишком уязвимы, пересекая мост. Райа, видимо, согласилась с этой мыслью, потому что мы, не сговариваясь, одновременно повернули прочь от канала и осторожно направились к центру электростанции, высматривая гоблинов, а также все, что можно было бы использовать в качестве прикрытия. И мы его нашли. Единственно, как мы могли бы выбраться из этого так называемого убежища, было залечь на дно на достаточно долгий срок, чтобы противник подумал, что мы уже ускользнули. Тогда они перестанут искать нас здесь и обратят свое внимание на наземный мир. Они начнут разыскивать нас там и примут все необходимые меры, чтобы никто больше не проник в сооружение тем же путем, что и мы. Так вот, укрытие: бетонный пол очень плавно понижался вблизи отверстий для стока воды, размером в три фута. Гоблины, вероятно, мыли здесь пол, поливая его время от времени из шлангов. Грязная вода стекала через эти отверстия. Настил сливного люка, который мы обнаружили, представлял собой блестящую стальную решетку, утопленную в пол в укромном месте среди машин. Поблизости не было никакого источника света, чтобы пробиться сквозь мглу под решеткой, поэтому я включил свой фонарик и направил луч сквозь решетку. Перекрещенные тени прутьев решетки изгибались и прыгали всякий раз, как я менял направление луча, что затрудняло осмотр, но я разглядел, что вертикальное колено трубы уходит вниз примерно на шесть футов. Далее труба разветвлялась на два горизонтальных уходящих в противоположные стороны трубопровода. Диаметр каждого из них был чуть поменьше, чем у вертикальной трубы, от которой они отходили. Подходяще. У меня возникло ощущение, что у нас уже нет времени. Поисковая группа покинула эту комнату не так давно, но не было гарантии, что она не вернется сюда снова — особенно если мы неразумно оставили следы нашего пребывания в вентиляционной системе, которые отметили наш маршрут до этого места. Если поисковая команда не вернется, тогда кто-нибудь из работников электростанции наверняка рано или поздно наткнется на нас, как бы осторожны мы ни были. Мы вдвоем вынули стальную решетку из отверстия и тихонько положили ее сбоку. Раздался всего лишь короткий скрежет металла, но, учитывая гул текущей в двух шагах отсюда реки и грохот работающих механизмов, вряд ли кто услышал его. Мы положили решетку так, чтобы она на треть нависала над отверстием. Это позволяло ухватить ее изнутри и передвинуть на место. Мы опустили в отверстие снаряжение. Райа скользнула вниз и быстро распихала наши рюкзаки — по одному в каждое горизонтальное ответвление в нижней части основной трубы. Так же она поступила и с оружием — дробовик в одну сторону, винтовку — в другую. Наконец она сама залезла в правую трубу и втащила за собой холщовый мешок. Я спрыгнул вниз, в пустую теперь основную трубу. Дотянувшись до верха, я ухватился за край сливной решетки и попытался подтянуть ее на место без единого звука. Мне это не удалось. В последний момент решетка выскользнула у меня из рук и упала на свое место с тяжелым металлическим лязгом, наверняка слышным по всему залу у меня над головой. Я надеялся только на то, что каждый из гоблинов-рабочих решит, что этот звук произвел другой. Проскользнув задом в левый отвод водосточной трубы, я обнаружил, что она идет не вполне горизонтально, а слегка под уклон, чтобы лучше стекала вода. Сейчас труба была сухой. Очевидно, в последнее время пол не поливали из шлангов. Я глядел на Райю, от которой меня отделяли три фута диаметра вертикальной сливной трубы. Однако темнота здесь была такой плотной, что я не мог разглядеть ее. Достаточно было просто знать, что она там. Прошло несколько минут. Ничего. Если лязганье решетки стока и было услышано, очевидно, большого интереса оно не вызвало. Шум генераторов над головой и непрекращающийся грохот подземной реки где-то позади Райи проникали сквозь пол, под которым проходили трубы, и тем самым этот шум проникал и в сами трубы, что делало беседу невозможной. Нам пришлось бы кричать, чтобы услышать друг друга. А на такой риск мы, ясное дело, пойти не могли. Внезапно у меня возникло чувство, что надо дотянуться до Райи. В тот же миг, как я поддался этому порыву, я обнаружил, что и она тянется ко мне, пытаясь передать сандвич, завернутый в промасленную бумагу, и термос с соком. Она словно бы не была удивлена, когда моя ищущая рука нашла в темноте ее руку. Совершенно слепые, глухие и немые, мы тем не менее могли общаться благодаря невероятной близости, возникшей из нашей любви. Между нами была почти ясновидческая связь, и из нее мы черпали, сколько могли, спокойствие и надежду. Я поглядел на светящийся циферблат своих наручных часов. Пять с минутами пополудни. Воскресенье. Темнота и ожидание. Я вспомнил Орегон. Но утрата семьи действовала слишком угнетающе. Поэтому я стал думать о Райе. О том, как мы веселились в лучшие времена, о том, как я люблю ее, нуждаюсь в ней, хочу ее. Но вскоре мысли о Райе привели меня в возбуждение, а это было чертовски неудобно в моем нынешнем положении в таком тесном пространстве. Тогда я обратился к воспоминаниям о ярмарке и о множестве моих друзей там. Заведение братьев Сомбра было моим убежищем, моей семьей, моим домом. Но, черт возьми, мы были вдали от ярмарки, и надежда вернуться туда была так мала, и это угнетало еще сильнее, чем мысли о том, что я потерял в Орегоне. И я заснул. Я мало спал последние несколько ночей, был измотан целым днем блужданий и открытий и не просыпался девять часов. В два часа утра я безжалостно вырвал себя из сна. Уже через секунду сонливости как не бывало. Какое-то мгновение мне казалось, что разбудил меня страшный сон. Затем до меня дошло, что причиной этого были голоса, проникающие сюда сверху через решетку сливного люка: голоса гоблинов, оживленно переговаривающихся на своем древнем языке. Я протянул руку из своей норы и нащупал в темноте руку Райи, тянущуюся ко мне. Мы крепко сжали руки друг друга, прислушиваясь. Голоса у нас над головой удалялись. Там, в зале электростанции, раздавались звуки, которых я не слышал раньше: более сильный топот, более громкий лязг металла. Не одним ясновидческим чутьем я ощутил, что идет второй обыск электростанции. За прошедшие девять часов они осмотрели весь комплекс от одного конца до другого, не пропустив ни одного коридора. Они обнаружили мертвого гоблина, которого мы допрашивали. Они нашли пустые ампулы из-под пентотала и использованные иглы, лежащие рядом с трупом. Может быть, они даже нашли следы нашего бегства по вентиляционным трубам и узнали, что мы вышли из этих туннелей в помещение электростанции. Не найдя нас нигде больше, они по второму кругу прочесывали этот зал. Прошло сорок минут. Голоса наверху не смолкали. Несколько раз мы с Райей расцепляли руки, но через минуту-другую соединяли их снова. К своему ужасу, я услышал звук шагов, приближающихся к отверстию водостока. Снова несколько гоблинов собрались вокруг этой стальной решетки. Сквозь решетку ударил луч света от фонарика. Мы с Райей мгновенно отдернули руки и, точно черепашки, прячущиеся в панцирь, бесшумно протиснулись назад в свои трубы. Лучи света, рассеченного решеткой, полосами срывали покров с пола вертикальной трубы передо мной — со стыка, где она соединялась с горизонтальными трубами, в которых укрылись мы. Немного можно было увидеть таким образом, поскольку перекрещенные прутья решетки сбивали и смешивали тени. Фонарик со щелчком погас. Все это время дыхание было зажато в моей груди. Я тихонько выдохнул, втянул свежий воздух. Голоса не умолкали. Через секунду послышался скрежет, лязг, тяжелый стук, затем царапающий звук — они подняли решетку с отверстия и сдвинули ее вбок. Фонарик мигнул опять. Он казался ярким, точно прожектор на сцене. Прямо передо мной, всего в нескольких футах от начала горизонтальной трубы, в которой я лежал, луч фонарика освещал дно вертикальной основной трубы с почти сверхъестественной детальностью. Луч казался горячим. Если бы в трубе была сырость, я ничуть не удивился бы, увидев, как она шипит и испаряется в его свете. Каждая царапина, каждое обесцвеченное пятно на поверхности трубы стали ясно видны. Я следил за шарящим лучом в ожидании, затаив дыхание, боясь, что он может наткнуться на что-нибудь, что могли обронить я или Райа, когда тянулись друг к другу в темноте. Может быть, крошку хлеба с сандвича, который она передала мне. Одна-единственная белая крошка, высвеченная на пятнистой поверхности трубы, может означать наш конец. С другой стороны медленно движущегося луча, в горизонтальной трубе, противоположной той, где был я, я заметил лицо Райи, смутно освещаемое отблесками фонарика. Она тоже взглянула на меня. Но, как и я, она была не в состоянии больше чем на секунду отвести глаза от ищущего луча, опасаясь того, что может открыться в любой момент. Внезапно светящееся копье прекратило свое движение. Я напряг зрение, чтобы рассмотреть, что именно остановило внимание гоблина, задержав его руку с фонариком, но не увидел ничего, что могло бы заинтересовать его или возбудить подозрение. Луч по-прежнему не двигался. Гоблины наверху заговорили громче, быстрее. Я пожалел, что не понимаю их языка. И все же мне показалось, что я знаю, о чем они говорят: они собирались спуститься вниз, чтобы заглянуть в ответвления трубы. Что-то необычное привлекло их внимание, что-то не то, и они собирались спуститься, чтобы поглядеть повнимательней. Страх прошел по моему телу — словно задрожала струна арфы, и каждая нота этого глассандо была холодней, чем предыдущая. Я представил себе, как отчаянно, с усилиями отступаю в глубь трубы, слишком стесненный в движениях, чтобы сражаться, а один из гоблинов скользит головой вперед, преследуя меня. Быстрый, как все эти демоны, он вполне сможет вытянуть руки с ужасными когтями и располосовать мне лицо — или выцарапать глаза из глазниц, или разодрать горло — в тот самый миг, как я буду нажимать на спусковой крючок. Наверняка я убью его, но и сам умру в страшных мучениях, как только произведу выстрел, который прикончит моего врага. Когда он увидит меня, неизбежность собственной гибели не остановит гоблина от того, чтобы полезть в трубу. Я видел, насколько их тайное общество похоже на муравейник. Я знал, что для блага сообщества один из них без колебаний пожертвует собой, как муравей без колебаний отдаст жизнь, защищая муравейник. А если мне удастся убить одного, или пятерых, или десятерых из них, они будут продолжать лезть, загоняя меня все дальше вглубь, пока мой дробовик не заклинит или пока я не промешкаю с перезарядкой, и тогда последний из них убьет меня. Луч фонаря снова пришел в движение. Он медленно проскользил вокруг дна вертикальной трубы. Затем еще один раз по кругу. Вновь застыл. В освещенной шахте лениво кружились пылинки. Ну же, давайте, вы, ублюдки, подумал я. Давайте, вперед, пора кончать со всем этим. Щелчок, и фонарик погас. Я напрягся. Неужели они будут спускаться в темноту? Почему? Внезапно они тяжело опустили решетку обратно на место. Все же они не намерены были спускаться. Они уходили, удовлетворившись тем, что нас не было в трубе. Я с трудом верил в это. Я ошеломленно лежал, не дыша от изумления так же, как чуть раньше не дышал от страха. Я протиснулся вперед в темноте и дотянулся до Райи. Она тянулась ко мне. Мы схватили друг друга за руки в центре вертикальной трубы, теперь темной, где всего несколько минут назад так настойчиво шарил луч карманного фонаря. Ее рука была холодна, как лед, но, пока я держал ее, тепло постепенно возвращалось к ней. Я опьянел от радости. Хранить молчание было нелегко — мне хотелось смеяться, кричать, петь. В первый раз с тех пор, как мы покинули Джибтаун, я почувствовал, что туман отчаяния чуть рассеялся, и ощутил, что вдали забрезжил свет надежды. Они обыскали свое убежище дважды и не нашли нас. Теперь они, возможно, и вовсе не найдут нас, потому что решат, что мы ускользнули. Уверившись в этом, они обратят свое внимание на другое. Через несколько часов — это время утвердит их в мысли, что мы улизнули, — мы сможем вылезти из водостока и уйти, заводя попутно детонаторы на зарядах, которые установили ранее. Мы собирались покинуть Йонтсдаун после того, как завершим практически все, что задумали. Мы узнали, для чего существует здесь это гнездо. И мы кое-что сделали с ним — может быть, недостаточно, но все-таки что-то. Я знал, что мы выберемся обратно целыми, невредимыми и в безопасности. Я знал. Я знал. Я просто знал. Порой мое ясновидение подводит меня. Порой бывает так, что темнота нависает надо мной, опускается сверху, но я не вижу эту темноту, как бы пристально ни вглядывался.Глава 31
СМЕРТЬ ТЕХ, КОГО МЫ ЛЮБИМ
Гоблины положили на место решетку сливной трубы и ушли в девять минут третьего утра в понедельник. Я прикинул, что нам с Райей нужно залечь на дно еще на четыре часа как минимум. Иными словами, мы выберемся на поверхность из чрева горы через двадцать четыре часа после того, как вошли в нее, ведомые Хортоном Блуэттом. Я думал, пришла ли снежная буря, стал ли мир наверху белым и чистым. Я думал, спят ли в этот момент Хортон Блуэтт и Ворчун в своем маленьком уютном доме на Яблоневой тропе или бодрствуют, один из них или оба, и думают о нас с Райей. Я находился в более приподнятом настроении, чем за все последние дни, и понял, что моя обычная бессонница покинула меня. Несмотря на то, что я уже насладился девятью часами крепкого сна, я то и дело снова задремывал и просыпался. Порой я засыпан совсем крепко, как будто годы бессонных ночей неожиданно настигли меня. Я не видел снов. Я воспринимал это как доказательство того, что наша судьба изменилась к лучшему. Я был настроен оптимистически, что было нехарактерно для меня. Это было частью моей иллюзии. Когда естественные позывы одолели меня, я отполз подальше, в глубь водосточной трубы, до ее изгиба, где и справил нужду. Вонь от мочи большей частью унесло прочь, поскольку по трубе шел слабый сквозняк, тянущийся в ту же сторону, куда текла бы вода, стремясь к концу водостока. Но хотя слабая струйка неприятного запаха все же поднялась ко мне, я не обратил на нее внимания. Я был в таком хорошем настроении, что на меня произвела бы впечатление лишь катастрофа вселенского масштаба. Наслаждаясь дремотой и в моменты затуманенного бодрствования дотягиваясь до Райи, я окончательно не проснулся вплоть до половины восьмого утра понедельника — на полтора часа позже того срока, на который я запланировал покинуть наше убежище. После этого я еще полчаса пролежал, прислушиваясь к электростанции над головой, чтобы уловить звуки, свидетельствующие об еще одном поиске. Ничего тревожного я не услышал. В восемь часов я дотянулся до Райи, нашел ее руку, сжал ее, затем, извиваясь, вылез из горизонтального водостока на дно вертикальной трубы высотой в шесть футов. Там я уселся на корточки — ровно настолько, чтобы отыскать свой пистолет с глушителем и снять его с предохранителя. Мне показалось, что Райа прошептала: «Осторожно, Слим», но гул подземной реки и грохот работающей электростанции были слишком громкими, чтобы с уверенностью понять, что она говорит. Может быть, я услышал проскользнувшую в ее мозгу мысль — «Осторожно, Слим». Мы уже через столько прошли вместе до этого, становясь ближе друг другу с каждой пережитой опасностью и приключением, что чтение мыслей — больше интуиция, нежели телепатия — ничуть бы меня не удивило. Я встал, прижался лицом к нижней части стальной решетки и искоса поглядел сквозь стальные прутья. Я мог видеть лишь узко очерченный участок пространства. Если бы скорчившиеся гоблины кольцом окружали решетку, находясь всего в футе от нее, я бы не сумел рассмотреть их. Но я ощущал, что путь свободен. Доверившись своему чутью, я сунул пистолет в глубокий карман лыжной куртки и обеими руками поднял решетку, отодвигая ее в сторону с куда меньшим шумом, чем когда закрывал пятнадцать часов назад. Вцепившись в края сточного отверстия, я подтянулся и выкатился на пол электростанции. Я находился в затененном месте между огромными машинами. Гоблинов было не видно. Райа передала мне наше снаряжение. Я помог ей выбраться из трубы. Мы крепко обнялись, затем быстро надели на спины рюкзаки и подхватили дробовик и винтовку. На голову мы опять надели каски. Поскольку нам, видимо, не могло больше пригодиться ничего из содержимого холщового мешка, кроме свечей, спичек и термоса с соком (это мы захватили), я опустил его обратно в трубу, прежде чем положить на место решетку. У нас еще оставалось тридцать два килограмма пластиковой взрывчатки, и, судя по всему, мы вряд ли нашли бы лучшее место для ее применения, чем это, в самом сердце сооружения. Перебежками, от тени к тени, не оставив пока игру в крыс, мы пересекли почти половину гигантской комнаты, успешно уклоняясь от встречи с немногими рабочими электростанции. По пути мы быстро прикрепляли заряды пластиковой взрывчатки. Злобные и опасные крысы — вот какими мы были. Твари, способные прогрызть насквозь обшивку судна и смыться с посудины, идущей ко дну. Единственная разница была в том, что ни одна крыса никогда не будет способна испытать такое сильное удовольствие от своих разрушительных действий, какое испытывали мы. Мы обнаружили двери для техобслуживания в нижней части чугунных оснований двухэтажных генераторов и, проникнув туда, оставили и здесь маленькие гостинцы смерти. Несколько зарядов мы прикрепили на дно электрокаров, которыми пользовались рабочие электростанции, а еще несколько — на всякие механизмы, попадавшиеся на пути. Мы заводили счетчик времени на каждом детонаторе, прежде чем воткнуть его во взрывчатку. Первый мы поставили на час, второй на пятьдесят восемь минут, третий — на пятьдесят шесть минут, поскольку у нас уходило время на то, чтобы найти место, куда припрятать очередной заряд. Мы пытались добиться того, чтобы первый взрыв прогремел одновременно — или хотя бы с небольшим разрывом по времени — с остальными. За двадцать пять минут мы пристроили двадцать восемь килограммов зарядов и оставили детонаторы тикать в них. Затем с оставшимися четырьмя килограммами взрывчатки мы забрались в вытяжную вентиляционную трубу, из которой выскользнули наружу накануне вечером. Мы захлопнули за спиной решетку на шарнирах и с помощью карманных фонариков последовали тем же путем, каким добрались до электростанции. У нас оставалось всего тридцать пять минут, чтобы добраться до пятого этажа, отыскать те четыре заряда, что мы установили накануне, поставить в них детонаторы, спуститься на лифте на уровень, на который вошли в самом начале, установить детонаторы на зарядах, оставленных нами на этом незавершенном этаже, и бежать, следуя белым стрелам, которые нарисовали на стенах старых шахт, — бежать, пока не уйдем на безопасное расстояние от самых сильных обвалов, вызванных по цепной реакции взрывами в убежище гоблинов. Нам надо было двигаться бесшумно и осторожно — и быстро. Все должно было произойти вскоре, но я надеялся, что мы успеем. Путь через вентиляционные трубы оказался более легким и быстрым, чем когда мы двигались в противоположном направлении. Теперь система была нам знакома, и мы знали, куда направляемся. Через шесть минут мы добрались до пятого этажа. Еще через четыре минуты мы достигли вентиляционной решетки в комнате, где хранилось множество оборудования для химического земледелия и где мы допрашивали — и убили — гоблина, звавшегося человеческим именем Том Таркенсон. Комната была темна и пустынна. Труп, оставленный нами, убрали. Находясь позади луча фонарика, я почувствовал себя ужасно на виду, словно добровольно стал мишенью. Я все ждал, что среди пустых чанов вдруг поднимется гоблин и прикажет нам не двигаться. Но мои ожидания не сбылись. Мы побежали к двери. Через двадцать пять минут начнутся взрывы. Очевидно, наше долгое выжидание в водостоке электростанции убедило демонов в том, что нас больше не было среди них, что мы каким-то образом сумели ускользнуть незамеченными, поскольку они, кажется, больше не искали нас. По крайней мере, под землей. (Они, должно быть, с ума сходят, пытаясь выяснить, кто мы, черт возьми, такие, зачем мы пришли и как широко собираемся разнести весть о том, что увидели и узнали.) Коридоры пятого этажа были так же пусты, как и в предыдущий день, когда мы впервые вошли сюда. В конце концов, этот уровень был всего-навсего складом, полностью загруженным и не требующим внимания обслуги. Мы поспешно двинулись от одного длинного туннеля до другого, держа наготове дробовик и винтовку. Останавливались мы только затем, чтобы поставить детонаторы в заряды, которые еще прежде пристроили среди водопроводов и газопровода, а также других труб, пересекающих в некоторых местах туннель или тянущихся вдоль него. Каждый раз, как мы останавливались, нам приходилось класть оружие на пол, чтобы я мог поднять Райю на руках, а она воткнуть детонатор. В эти моменты я чувствовал себя страшно уязвимым, уверенный, что вот сейчас на нас и наткнутся охранники. Никто на нас не наткнулся. Хоть они и знали, что в их убежище проникли нежелательные визитеры, гоблины, очевидно, не подозревали диверсии. Иначе они бы тщательнейшим образом обыскали все в поисках взрывчатки, чтобы обнаружить установленные нами заряды, но этого не случилось. То, что они оплошали, не приняв эту меру предосторожности, указывало на то, что, невзирая на наше проникновение, они чувствовали себя защищенными от возможного нападения. Тысячи лет у них были все основания гордиться, чувствуя свое превосходство. Они смотрят на нас как на животных для игры, как на возвышенных глупцов, и даже еще хуже. Их уверенность в том, что мы — легкая добыча... ну что ж, это одно из наших преимуществ в войне против них. Мы добрались до лифтов, когда до «часа ноль» оставалось девятнадцать минут. Всего лишь тысяча сто сорок секунд, каждую из которых мое сердце отсчитывало двумя ударами. Хотя до этого момента все шло гладко, я испугался, что мы не сможем воспользоваться лифтом без того, чтобы не привлечь к себе нежелательное внимание. Это было бы слишком уж хорошо. Но поскольку старые шахты под нами еще не были оборудованы под убежище для гоблинов, там не было вентиляционных труб. Таким образом, лифт был единственным вариантом. Мы ступили в клетку, и я с трепетом направил лифт на нижний уровень. Пугающий скрип, лязг и грохот сопровождали нас по пути вниз сквозь шахту в толще скалы. Если в нижнем помещении есть гоблины, они наверняка будут настороже. Удача была на нашей стороне. Никто из врагов не поджидал нас, когда мы прибыли в обширную сводчатую комнату, где было собрано оборудование и стройматериалы для следующего этапа строительства убежища. Я опять опустил на пол винтовку и поднял на руки Райю. С ловкостью, которой позавидовал бы специалист-подрывник, она вставила детонаторы в каждый из трех зарядов, которые я спрятал в скальных выемках в стене над тремя лифтами. Семнадцать минут. Тысяча двадцать секунд. Две тысячи сорок сердцебиений. Мы пересекли сводчатую комнату, остановившись четыре раза, чтобы разместить оставшиеся четыре килограмма взрывчатки среди оборудования. Четырнадцать минут. Восемьсот сорок секунд. Мы добрались до туннеля, в котором два ряда ламп, висящих на потолке под коническими абажурами, создали на каменном полу шахматную доску из света и тени, того места, где я застрелил гоблина. В этом туннеле на каждой стене я оставил еще тогда два килограммовых заряда, у входа в зал. Со всевозрастающей уверенностью мы задержались, чтобы завести счетчики в этих последних зарядах. Следующий туннель был последним, в котором горел свет. Мы добежали до его конца и повернули направо, в первую из угольных шахт на плане Хортона (если читать карту с конца, как мы и делали в этот раз). Наши фонарики светили не так ярко, как прежде, лучи неровно подрагивали — от длительного использования они ослабли, однако не настолько, чтобы мы беспокоились из-за них. Кроме того, у нас в карманах были запасные батарейки — и свечи, если дело дойдет до них. Я снял свой рюкзак и бросил его. Райа сделала то же самое. Отныне то немногое, что оставалось там из снаряжения, было нам не нужно. Все, что было нужно, — это скорость. Я перебросил через плечо ремень винтовки. Райа поступила так же с дробовиком. Пистолеты мы засунули в глубокие карманы брюк, служившие нам вместо кобуры. В руках у нас оставались только фонарики, карта Хортона и термос с апельсиновым соком — и со всем этим мы пытались уйти как можно дальше от владений угольной компании «Молния» — настолько, насколько сможем до того, как разверзнется ад. Девять с половиной минут. У меня было такое чувство, будто мы проникли в замок, населенный вампирами, пролезли в башни, где в гробах, наполненных землей, спят те, кто не ведает смерти, но успели вонзить кол в сердце лишь немногим из них, и теперь нам приходится убегать, спасая свою жизнь, так как приближается закат, пробуждающий первые проблески жизни в несметных кровожадных полчищах позади нас. И в самом деле, учитывая снедающую гоблинов жажду напиться нашей болью, сравнение было куда ближе к истине, чем мне бы хотелось. Из тщательно задуманного, сотворенного и поддерживаемого в образцовом порядке подземного мира гоблинов мы все глубже уходили в хаос, созданный человеком и природой, — в старые шахты, которые человек пробил, а природа с неизменной медлительной настойчивостью стремилась участок за участком заполнить вновь. Двигаясь по направлению белых стрел, которые сами нарисовали по пути сюда, мы бежали по туннелям, покрытым плесенью. Мы ползком пробирались по узким проходам, где стены в некоторых местах уже просели. Мы с трудом карабкались вверх по узкой вертикальной шахте, в которой под нашими ногами сломалась пара проржавевших железных скоб-ступенек. На одной из стен рос отвратительный, боящийся света грибок. Он лопнул, когда мы зацепили его, и испустил зловоние тухлых яиц, обляпав слизью наши лыжные куртки. Три минуты. Свет фонариков начал гаснуть. Мы промчались по еще одному заросшему плесенью туннелю, повернули направо на отмеченном нами пересечении шахт, поднимая брызги, пробежались по луже, покрытой тонкой пленкой пены. Две минуты. Около трехсот шестидесяти ударов сердца. Путь занял несколько часов, так что большая часть дороги назад будет еще не пройдена к тому моменту, когда взорвется последний заряд. Однако каждый новый фут, отдаляющий нас от убежища гоблинов, увеличивал — я надеялся на это — наши шансы покинуть зону спровоцированных взрывами обвалов. У нас не было снаряжения, чтобы прокапывать себе путь на поверхность. Быстро тускнеющие карманные фонарики, отчаянно дергающиеся у нас в руках, пока мы бежали, бросали на стены и потолок скачущие, блуждающие тени — стадо привидений, выводок духов, толпу обезумевших призраков, преследующих нас, — эта погоня то бежала по бокам от нас, то уносилась вперед, то снова оказывалась за нашими спинами, хватая нас за пятки. Примерно полторы минуты. Угрожающие фигуры, закутанные в черное, — некоторые из них были выше человеческого роста, — как будто выскакивали из пола перед нами, однако ни одна из них не дотягивалась, чтобы схватить нас. Сквозь некоторые из них мы стремительно проносились, как сквозь столбы дыма, другие таяли, когда мы бежали на них, а третьи сжимались и взлетали под потолок, словно превратившись в летучих мышей. Одна минута. Вечную могильную тишину земли наполнило множество ритмичных звуков: топот наших шагов, затрудненное дыхание Райи, мое отчаянное дыхание, которое было еще громче, чем ее. Эхо всех этих звуков носилось взад-вперед, ударяясь о каменные стены. Какофония синкоп. Я думал, что у нас еще есть в запасе почти минута, но первый взрыв до срока прервал мой отсчет. Он раздался вдалеке, мощный толчок, который я больше почувствовал, чем услышал, но у меня не возникло сомнений относительно того, что это было. Мы добрались до следующей вертикальной шахты. Райа заткнула свой фонарик за пояс так, чтобы луч был направлен наверх, и полезла в темную дыру. Я последовал за ней. Еще один толчок, за которым немедленно последовал третий. Одна из сильно проржавевших железных скоб в шахте сломалась у меня в руках. Я поскользнулся и упал на двенадцать-четырнадцать футов обратно в нижний туннель. — Слим! — Я в порядке, — отозвался я, хотя я приземлился прямо на копчик и боль пронзила позвоночник. Боль пришла и пропала как вспышка, осталась только неприятная пульсация. Мне повезло, что у меня не подогнулась нога при падении. Я бы ее сломал. Я снова полез вверх по шахте, карабкаясь с быстротой и уверенностью обезьяны. Это было нелегко, учитывая пульсирующую боль в позвоночнике. Но я не хотел, чтобы Райа волновалась обо мне, да и вообще о чем бы то ни было, кроме того, чтобы выбраться из этих туннелей. Четвертый, пятый и шестой взрывы потрясли подземное сооружение, которое мы только что покинули. Шестой был куда громче и сильнее всех предыдущих. Стены шахты вокруг нас затряслись, пол два раза тряхнуло, так что мы едва устояли на ногах. Грязь, комья земли и целый дождь каменных обломков сыпались вокруг нас. Мой фонарик мало-помалу совсем потух. Мне не хотелось останавливаться, чтобы заменить батарейку — по крайней мере, не сейчас. Я поменялся фонариком с Райей и пошел вперед, прокладывая путь ее гаснущим фонарем, в то время как серия взрывов — по меньшей мере шесть или восемь — сотрясала лабиринт. Над головой у себя я заметил ветхую потолочную балку, которая громко треснула, — и стоило мне проскочить под ней, как она рухнула на пол позади меня. Крик испуга и ужаса вырвался из моей груди. Я обернулся, приготовившись увидеть самое худшее, но Райа тоже успела проскочить, целая и невредимая. Мое ощущение, что удача не оставит нас, возросло еще больше. Теперь я знал, что мы выберемся отсюда без серьезных увечий. Хотя некогда я отчетливо осознал, что светлее всего бывает как раз перед темнотой, я на мгновение забыл эту истину — и еще не один раз впоследствии буду сожалеть о своей забывчивости. Прямо на падающую балку обрушилась тонна скальной породы. Вот-вот должно было обрушиться еще больше. Поверхность камня шла складками, словно это была мокрая от дождя почва, так что мы снова пустились бежать — бок о бок, потому что туннель был узкий. Звуки обвала у нас за спиной становились все громче и громче, так что под конец я стал опасаться, не обрушится ли весь коридор. Последние оставшиеся заряды пластиковой взрывчатки сдетонировали единым сокрушительным шквалом — мы едва услышали его звук, но почувствовали сильней, чем прежние. Черт возьми, казалось, что содрогается вся гора — ее подножие сотрясала страшная сильнейшая дрожь, которую не могла бы вызвать одна лишь пластиковая взрывчатка. Разумеется, около половины горы было превращено в соты целым веком усердной добычи угля, и гора от этого ослабла. А может быть, наши заряды, сработав, повлекли за собой взрывы нефти и газа внутри убежища гоблинов. Как бы там ни было, все выглядело так, словно Армагеддон обрушился на нас задолго до назначенного часа, и мою уверенность в успехе расшатывала каждая ударная волна, проходящая через каменную толщу. Мы начали кашлять — в воздухе было полно удушающей пыли. Часть ее сыпалась с потолка, но большая часть пыли обрушивалась на нас густыми, клубящимися облаками, которые потоки воздуха выносили из обвалов позади нас. Если мы как можно быстрее не выберемся из зоны, находящейся под воздействием обрушивающегося подземного города, если мы не попадем в устойчивые туннели с чистым воздухом, то задохнемся в пыли — а среди множества смертей, которые я рисовал себе, такой смерти не было. Более того, тускнеющий луч фонаря все хуже пронзал облака пыли. Густой туман мельчайших частиц отражал и преломлял желтый свет. Несколько раз я терял направление и едва-едва не врезался головой в скалу. Прогремели последние взрывы, но процесс разрушения шел вовсю. Гора искала новое положение, которое отпустит давно копившееся напряжение и давление и заполнит пустоты, созданные не природой. С обеих сторон и над нашей головой могучая скальная твердыня начала трескаться и лопаться самым поразительным образом — это был не монотонный грохот, как можно было бы ожидать, а лишенная гармонии симфония странных звуков, как будто протыкались воздушные шары, трескалась скорлупа грецких орехов, разбивались тяжелые глиняные горшки, раскалывались кости, трещали черепа. Скалы глухо гремели и рассыпались, точно кегли под ударами шара, трещали, как целлофан, слышались лязг, грохот и тяжкие удары, как будто сотня кузнецов-здоровяков била сотней кувалд по сотне железных наковален, — и то и дело раздавался чистый, нежный звон, за которым следовало почти мелодичное дребезжание, словно тонкий хрусталь ломается под ударами. Каменная крошка, затем обломки, целые булыжники дождем посыпались нам на головы и плечи. Райа кричала. Я схватил ее за руку, закрыл ее своим телом и пошел сквозь каменный град. Предательский потолок начал обрушиваться все более крупными кусками, некоторые из них были размером с бейсбольный мяч. Они со стуком падали на пол возле нас. Кусок скалы величиной с кулак стукнул меня в правое плечо, другой врезался в правую руку, и я чуть не выронил фонарик. Пара внушительных размеров осколков попала и по Райе. Было, конечно, больно, но мы продолжали двигаться — больше нам ничего не оставалось делать. Я благословлял Хортона Блуэтта за то, что он снабдил нас касками, хотя такая защита оказалась бы бесполезной, если бы вся гора обрушилась на нас. Гора взрывалась внутри, словно Кракатау наизнанку, но, по крайней мере, большая часть обрушивалась у нас за спиной. Внезапно толчки ослабли. Я так долго ждал этого, что в первый момент решил, что мне почудилось. Но еще через десять шагов стало ясно, что самое худшее уже позади. Мы достигли переднего края облака пыли и выбежали на сравнительно чистый воздух, отплевываясь и откашливаясь, чтобы прочистить легкие. Глаза у меня слезились от пыли, и я замедлил шаг, чтобы проморгаться. Желтый луч фонаря непрерывно дрожал и мигал по мере того, как расходовались остатки энергии в батареях, но я разглядел впереди одну из наших белых стрел. Райа снова бежала рядом со мной. Мы промчались по направлению знака, который оставили сами для себя, и завернули за угол в следующий туннель. ...И там один из демонов оторвался от стены, ккоторой прижимался до того, и повалил Райю на пол с пронзительным торжествующим визгом и смертоносным свистом рассекающих воздух когтей. Я швырнул гаснущий фонарик, который хоть и замигал, но не погас, и бросился на того, кто напал на Райю. Падая на тварь, я инстинктивно выхватил нож, а не пистолет. Я глубоко вонзил лезвие ему в поясницу и оттащил гоблина, визжащего от злобы и боли, от Райи. Он дотянулся до меня и вонзил когти одной руки в штанину моих лыжных брюк, раздирая плотную ткань на полоски. Горячая боль обожгла мою правую икру. Я понял, что он разодрал не только мои штаны, но и мою плоть. Я обвил его шею рукой, надавил ему на подбородок, вытащил из его спины лезвие и перерезал горло — серия стремительных действий, выглядевшая как балетные па и занявшая от силы пару секунд. Когда кровь хлынула из распоротой глотки моего врага и тварь начала возвращаться в свое человеческое обличье, я скорее почувствовал, чем услышал, как за моей спиной не то со стены, не то с потолка спрыгивает еще один гоблин. Я откатился от истекающего кровью демона в тот же миг, как вытащил из его тела нож, и второй нападающий грохнулся на своего умирающего собрата, а не на меня. Пистолет выпал из кармана, в который я его засунул, и лежал вне пределов досягаемости, между мной и тем демоном, который только что появился. Тварь качнулась, чтобы посмотреть на меня, вся — горящие глаза, зубы, когти и доисторическая ярость. Я увидел, как напряглись могучие ляжки гоблина, и едва успел метнуть нож, прежде чем он кинулся на меня. Лезвие перевернулось в воздухе всего дважды и вошло ему в горло. Тяжелые сгустки крови ползли по его свиноподобному рылу. Выплевывая кровь, гоблин упал на меня. Хотя от столкновения при падении лезвие пропороло ему глотку насквозь, гоблин все же изловчился и вонзил когти в мою утепленную куртку с обеих сторон прямо над ребрами, не слишком глубоко, однако более чем достаточно. Я отшвырнул от себя умирающее чудовище, не в силах подавить крик боли, когда его когти вырвались из моего тела. Фонарик уже почти погас, но в бледном, точно лунном свете я разглядел третьего гоблина, спешащего ко мне на четырех лапах, чтобы, насколько возможно, быть и менее уязвимой мишенью. Он был достаточно далеко, вероятно, почти в конце туннеля, и, несмотря на его скорость, это дало мне время броском кинуться к пистолету, схватить его и дважды выстрелить. Первый выстрел не достиг цели. Вторая пуля попала в ненавистную свиную харю, выбив один алый глаз. Он качнулся набок, врезался в стену и затрясся в предсмертных судорогах. В тот самый миг, когда фонарик испустил последний дрожащий луч, мигнул и погас, мне показалось, что я увидел четвертого гоблина, карабкающегося, как таракан, по стене. Прежде чем я смог удостовериться в том, что это гоблин, мы погрузились в полную темноту. Боль, словно кислота, жгла располосованную ногу, пронзенные бока горели огнем, так что изящества движений мне явно не хватало. Я не рискнул остаться там, где стоял, когда погас свет — ведь если в самом деле был четвертый гоблин, он будет скрытно продвигаться к тому месту, где видел меня в последний раз. Я перебрался через один труп, затем перелез через второй и наконец нашел Райю. Она лежала на полу лицом вниз. Очень тихо. Насколько я помнил, она не двинулась, не издала ни звука с того момента, когда гоблин обрушился со стены и столкнул ее на пол. Мне хотелось аккуратно повернуть ее на спину, пощупать пульс, назвать ее имя и услышать в ответ ее голос. Но я не мог сделать этого, пока ничего не знал о четвертом гоблине. Согнувшись над Райей, прикрывая ее собой, я посмотрел вдоль неосвещенного туннеля, вскинул голову и прислушался. Гора успокаивалась, и казалось, что, по крайней мере на время, она перестала закрывать свои бреши. Если там, откуда мы пришли, еще и обваливались куски потолка и стен туннелей, эти обвалы были небольшими и шум от них не достигал наших ушей. Было темнее, чем если зажмурить глаза. Темнота была мягкой, лишенной очертаний, сплошной. Против воли я вступил в диалог сам с собой, и пессимист спорил с оптимистом: — Она мертва? — Даже и не думай об этом. — Ты слышишь ее дыхание? — Ради Христа, если она без сознания, ее дыхание может быть совсем неглубоким. Вполне возможно, что с ней все в порядке, просто она без сознания и дышит так слабо, что это невозможно расслышать. Ну, что скажешь? Что скажешь? — Она мертва? — Думай только о враге, черт тебя дери. Если еще один гоблин вообще существовал, он мог появиться откуда угодно. С его умением ходить по стенам у него было большое преимущество. Он мог даже свалиться на меня с потолка, прямо мне на плечи и голову. — Она мертва? — Заткнись! — Ведь если она мертва, какая тебе разница, убьешь ты четвертого гоблина или нет? Какая разница, выберешься ты вообще отсюда или нет? — Мы с ней оба выберемся отсюда. — Если тебе придется возвращаться домой одному, какой смысл тогда возвращаться домой? Если здесь ее могила, это вполне может стать и твоей могилой. — Тихо. Слушай, слушай... Тишина. Темнота была такой полной, такой густой и такой тяжелой, как будто обрела материальность. Мне казалось, что я могу протянуть руку, и ухватить пригоршню темноты, и выжимать темноту из воздуха до тех пор, пока свет не забрезжит хоть откуда-нибудь. Слушая и пытаясь расслышать мягкий стук и скрежет когтей демона по камню, я думал, что же делали гоблины, когда мы наткнулись на них. Возможно, они шли по нашим белым стрелам, чтобы разузнать, каким образом мы проникли в их убежище. До сих пор я не осознавал, что наши указатели были для них так же полезны, как и для нас. Да, конечно же, они не единожды обшарили каждый дюйм своего убежища, и, сделав вывод, что мы ускользнули, вероятно, решили выяснить, как мы ускользнули. Может быть, эта группа поиска прошла по всему нашему маршруту до самого выхода из горы и возвращалась, когда мы столкнулись с ними. Или, может, они пустились в дорогу по нашему маршруту незадолго до того, как мы бросились бежать по нему позади них. Хоть они и застали нас врасплох, у них, очевидно, было всего несколько секунд, чтобы понять, что мы приближаемся. Будь у них больше времени, чтобы подготовиться к встрече, они бы убили нас обоих — или захватили в плен. — Она мертва? — Нет. — Она так тихо лежит. — Она без сознания. — Так неподвижно. — Заткнись. Вот. Скрежет, стук. Я вытянул шею, повернул голову. Больше ничего. Воображение? Я попытался вспомнить, сколько патронов в обойме пистолета. Полная обойма — десять патронов. Два я израсходовал на гоблина, которого убил в воскресенье в туннеле с шахматным освещением. Еще два — на того, которого застрелил здесь. Остается шесть. Хватит с головой. Может, мне и не удастся прикончить оставшегося противника — если он вообще есть — шестью выстрелами, но совершенно очевидно, что я успею выстрелить прежде, чем эта проклятая тварь одолеет меня. Тихий скользящий звук. Напрягать зрение было бесполезно. Но я все же напряг. Чернота, глубокая, как у бога в ботинке. Тишина. Но... вот. Еще один стук. И странный запах. Кислый запах дыхания гоблина. Тик. Где? Цок. Над головой. Я упал на спину, прямо на Райю, выпустил три пули в потолок, услышал, как одна из них рикошетом отскочила от камня, услышал нечеловеческий вопль, но не успел выпустить три оставшихся пули, потому что тяжело раненный гоблин рухнул на пол рядом со мной. Почуяв меня, он взвыл, лягнул, обвил своей необычно сложенной, но чудовищно сильной рукой мою голову, притянул меня к себе и запустил зубы мне в плечо. Он, очевидно, полагал, что впивается мне в шею, чтобы мгновенно убить, но темнота и боль помешали ему. Когда он вырвал из моего тела зубы вместе с куском плоти, у меня оставалось как раз достаточно сил и присутствия духа для того, чтобы ткнуть стволом ему в челюсть, под горло, и выпустить три пули, оставшиеся в магазине, вышибая ему мозги через затылок. Темный туннель завертелся. Я вот-вот мог потерять сознание. Это было совсем не дело. Мог быть и пятый гоблин. Если я отключусь, я могу никогда не очнуться. И мне надо было позаботиться о Райе. Она была ранена. Она нуждалась во мне. Я потряс головой. Укусил себя за язык. Несколько раз глубоко вздохнул, очищая легкие, проясняя мозги. Крепко-крепко зажмурился, чтобы туннель перестал вертеться. Произнес вслух: — Я не отключусь. И отключился.* * *
Так как у меня не было возможности этак между делом поглядеть на часы и засечь точное время, когда я потерял сознание, то приходилось полагаться на чутье, и я решил, что отключился не на очень долго. Минуту, самое большее две. Когда я очнулся, с минуту я лежал и прислушивался, пытаясь уловить шум-сухих-листьев-гонимых-ветром — легкую поступь гоблина. Потом до меня дошло, что, будь в туннеле еще демон, даже минута-другая обморока стали бы для меня последними. Я пополз по каменному полу среди мертвых оборотней, слепо шаря во тьме обеими руками в поисках одного из фонарей, но натыкался только на остывающую кровь. «Повредить источник энергии в аду — грязная работенка», — с легким безумием подумал я. Я чуть не рассмеялся при этой мысли. Но смех прозвучал странным пронзительным звуком, чересчур странным. Поэтому я задушил его в себе. Затем я вспомнил про свечи и спички в одном из внутренних карманов моей крутки. Я вытащил их дрожащими руками. Язычок пламени затрещал и лизнул темноту, отгоняя ее, хотя и недостаточно для того, чтобы я смог осмотреть Райю так внимательно, как было необходимо. Но, по крайней мере, при помощи свечи я отыскал оба фонарика, вынул из них севшие батарейки и вставил новые. Задув свечу и спрятав ее в карман, я подошел к Райе и опустился на колени рядом с ней. Фонарики я положил на пол, направив их яркие лучи таким образом, чтобы они скрещивались над ней. — Райа? Она не ответила. — Пожалуйста, Райа. Тишина. Она лежала совершенно неподвижно. Слово «бледная» было как нарочно создано для того, чтобы описать ее вид. Я увидел начавший темнеть синяк, покрывающий правую сторону ее лба. Он тянулся дальше — до виска и вниз за скулой. В уголке ее рта была кровь. Всхлипывая, я приподнял ей веко, но я не знал, на что, черт возьми, нужно обращать внимание, поэтому попытался уловить ее дыхание, приложив руку к ее ноздрям. Но моя рука так сильно тряслась, что я не мог определить, дышит ли она. Наконец я сделал то, что меньше всего хотел делать: взял ее руку, поднял и обхватил пальцами запястье, чтобы нащупать пульс, который я не мог обнаружить, не мог обнаружить, боже милостивый, не мог. Тут до меня дошло, что я могу увидеть ее пульс — он слабо бился у нее на висках, едва различимыми толчками, но все же бился. Когда я осторожно повернул ей голову набок, то увидел пульс и на шее. Жива. Может быть, еле-еле. Может быть, ненадолго. Но жива. С новой надеждой я осмотрел ее в поисках ран. Ее лыжная куртка была распорота, и когти гоблина проникли ей в левое бедро, откуда вытекла кровь, к счастью, немного. Я боялся искать причину кровотечения у нее изо рта, потому что это могло быть внутреннее кровотечение и ее рот мог быть полон крови. Но крови во рту не было. Рассечена губа, вот и все. В общем, не считая синяков на лбу и на лице, она казалась не задетой. — Райа? Ничего. Мне нужно было вытащить ее из шахты на поверхность прежде, чем начнется следующая серия обвалов, или прежде, чем придет еще одна поисковая партия гоблинов... или прежде, чем она умрет без медицинской помощи. Я выключил один фонарик и сунул его в глубокий удобный карман брюк, где перед этим держал пистолет. В любом случае оружие мне больше не понадобится, потому что, если я снова столкнусь с гоблинами, меня, ясное дело, одолеют прежде, чем я успею уничтожить их всех, независимо от того, каким количеством оружия я буду располагать. Поскольку она не могла идти, я понес ее. На правой икре у меня было три отметины от когтей гоблина. Пять ран на боках — три на левом, две на правом — сочились кровью. Я был избит, ободран, тело болело и горело в сотне мест, но каким-то образом я все же нес Райю. Мы не всегда черпаем силу и мужество из несчастий; иногда они разрушают нас. Не всегда в моменты кризиса у нас бывает приток адреналина и сверхчеловеческих возможностей, но все же это случается достаточно часто, чтобы войти в легенды. В этих подземных коридорах это произошло со мной. Это не был внезапный всплеск адреналина, который придает мужу сил поднять разбитый автомобиль с придавленной женой с такой легкостью, словно поднимает какой-нибудь чемоданчик, не буря адреналина, которая дает матери силы сорвать с петель запертую дверь и пройти через горящую комнату, спасая свое дитя, не ощущая при этом жара. Нет, думаю, это было непрерывное капанье адреналина, длившееся на удивление долго и поступающее аккурат в том количестве, которое требовалось мне, чтобы продолжать путь. Теперь, когда человеческое сердце полностью изучено и поняты основные мотивы поведения, мы знаем, что не собственная неизбежная смерть пугает нас больше всего, заставляет холодеть от страха. В самом деле, нет. Подумайте об этом. Что пугает нас больше всего, что заставляет нас трепетать от ужаса — это смерть тех, кого мы любим. С неизбежностью своей смерти, хоть и печальной, можно смириться, потому что, когда придет смерть, уже не будет боли и страдания. Но когда мы теряем тех, кого любим, страдание живет в нас, пока мы сами не сойдем в могилу. Матери, отцы, жены, мужья, сыновья, дочери, друзья — многих забирает смерть на протяжении всей нашей жизни, и боль утраты и одиночества, которую оставляет в нас уход дорогого человека, — более тяжкая мука, чем краткая вспышка боли и страха перед неведомым, сопутствующая нашей собственной кончине. Страх потерять Райю вел меня по этим туннелям с большей решимостью, чем забота лишь о собственном выживании. Хотя мой мозг и сердце разрывались от эмоций, тело мое было бесстрастной машиной, без устали движущейся вперед — то хорошо смазанной и отлаженно гудящей, то продвигающейся с грохотом, дребезгом и стуком, но постоянно движущейся, без жалоб, без чувств. Я нес ее на руках, как нес бы ребенка, и она казалась мне легче куклы. Когда дошел до вертикальной шахты, я не стал терять время на размышления, как поднять ее на следующий уровень лабиринта. Я просто снял куртки с себя и с нее. Затем, с силой, которую могла бы и не проявить настоящая машина, разорвал плотные куртки по крепко прошитым швам, и рвал их даже там, где швов не было, до тех пор, пока от них не остались только полосы толстой прочной материи. Связав эти полосы вместе, я соорудил веревку-перевязь и пропустил ее у Райи под мышками и между ног, оставив буксирующий конец длиной в четырнадцать футов, заканчивающийся петлей. Взбираясь наверх, я потащил ее за собой. Я поднимался в наклонном положении, упираясь ногами в скобы лестницы на одной стене, а спиной прижимаясь к противоположной. Петлей буксирующего конца я как бы обвязал себе грудь, руки опустил вниз, держась за концы перевязи, чтобы не весь вес Райи приходился на мою грудную клетку. Я был очень осторожен, чтобы она не стукнулась головой о стены или о заржавевшие железные скобы, и плавно поднимал ее, легонько, легонько. Это были чудеса силы, устойчивости и координации, которые позже казались мне феноменальными, но в тот момент достигались автоматически, безо всяких мыслей о трудностях. Мы потратили семь часов на путь внутрь, но это было, когда мы оба были в форме. Возвращение наверняка займет день или даже больше, возможно, пару дней. У нас не было еды, но тут все будет нормально. Мы сможем продержаться без еды день-другой. (У меня даже мысли не возникло, как я буду поддерживать свои силы без пищи. Моя бездумность исходила не из уверенности, что тело, подкачиваемое адреналином, не подведет меня. Нет, я просто был не в состоянии думать о таких вещах, потому что мной руководили чувства — страх, любовь. О практических вещах заботилось мое тело-машина, запрограммированное, поставленное на автоматический ход и не нуждающееся в размышлениях для выполнения своих обязанностей.) Однако позже я все же подумал о воде, потому что без воды тело не сможет функционировать так же просто, как и без еды. Вода — это горючее человеческого механизма, и без нее вскоре начинаются поломки. Термос с апельсиновым соком выпал у Райи из рук, когда гоблин прыгнул на нее со стены шахты, и позднее я потряс его, чтобы выяснить, не разбился ли он. Звон разбитого стекла колбы избавил меня от необходимости открывать крышку и заглядывать внутрь. Теперь все питье, которое у нас было, — это вода из мелких лужиц в некоторых туннелях. Она была в основном покрыта пенкой шлаков и наверняка пахла углем, плесенью и чем-нибудь еще похуже, но я уже не ощущал ее вкуса так же, как не чувствовал боли. Время от времени я опускал Райю и оставлял ее достаточно надолго, чтобы наклониться над каким-нибудь углублением с застойной водой, снять грязь с поверхности и зачерпнуть воду пригоршнями обеих рук. Порой я придерживал Райю, открывал ей рот и поил водой с ладони. Она не шевелилась, но когда вода текла по ее горлу, я приободрялся, видя, как сокращаются и расслабляются мускулы при непроизвольном глотании. Чудо — это событие, измеряемое мгновениями: мелькнувшие в земном материальном мире видения бога, на миг выступившая кровь на стигматах статуи Христа, пара слезинок, выкатившихся из невидящих глаз иконы девы Марии, крутящийся вихрь в небесах. Мое чудо силы длилось многие часы, но не могло продолжаться вечно. Я помню, как упал на колени, поднялся, двинулся вперед, снова упал, чуть не уронив Райю, решил, что мне надо отдохнуть — ради нее, а не ради себя, просто малость отдохнуть, чтобы восстановить силы, — и заснул.* * *
Когда я проснулся, я горел в лихорадке. А Райа была так же неподвижна и молчалива, как и прежде. Дыхание было то еле уловимым, то более отчетливым. Сердце по-прежнему билось, но мне казалось, что ее пульс стал слабее, чем раньше. Я не выключил фонарик, когда уснул. Теперь он горел тускло, умирая. Проклиная собственную тупость, я вытащил запасной фонарик из кармана брюк, зажег его и спрятал гаснущий фонарь в карман. Судя по моим наручным часам, было семь часов, и я решил, что сейчас семь вечера понедельника. Но все же, кто его знает, может, сейчас утро вторника. Мне трудно было определить, как долго я пробирался с Райей через шахты или сколько я проспал. Я нашел для нас воду. Я снова подхватил ее. После этого перерыва я желал, чтобы чудо продолжалось, и оно продолжалось. Однако сила, вливавшаяся в меня, была настолько слабее той, которую я испытывал вначале, что я решил, что бог куда-то отлучился, возложив заботу обо мне на кого-нибудь из младших ангелов, а тот не мог тягаться силенками с творцом. Моя способность блокировать боль и усталость ослабла. Я тяжело продвигался вперед с достойной восхищения безразличностью робота и прошел так немалый путь, но время от времени появлялась боль, такая сильная, что иногда я тихо стонал и пару раз даже вскрикнул. Все чаще боль в измученных мышцах и костях становилась явной, и мне приходилось блокировать это ощущение. Райа больше не казалась мне легкой, как кукла, и порой я готов был поклясться, что она весит тысячу фунтов. Я миновал собачий скелет. Я постоянно оглядывался на него с неловким чувством — мой воспаленный лихорадкой мозг переполняли образы, навеянные этой кучей собачьих костей, преследующие меня. То приходя в чувство, то снова впадая в беспамятство, точно мотылек, порхающий между пламенем и темнотой, я постоянно находился в состоянии, которое до чертиков пугало меня. Не один раз, выйдя из внутренней тьмы, я обнаруживал, что стою на коленях над Райей и неудержимо всхлипываю. Каждый раз мне казалось, что она мертва, но каждый раз я нащупывал пульс — пусть нитевидный, но все же пульс. Порой я приходил в себя и понимал, что, бредя с Райей на руках, я пропустил белую стрелу и прошел пару сотен футов, если не больше, не по тому коридору. Следовательно, приходилось возвращаться и искать правильный путь в лабиринте. Порой я просыпался, бормоча и захлебываясь, лицом в луже, из которой пил. Я был в жару. Горел. Это была сухая, иссушающая жара, и я чувствовал себя таким же, каким был Скользкий Эдди в Джибтауне, — как древний пергамент, как пески Египта, скрипящие и безводные. Какое-то время я то и дело поглядывал на часы, но мало-помалу перестал обращать на них внимание. Это не приносило мне ни пользы, ни успокоения. Я не мог сказать, к какому времени суток относятся показания часов, не знал, утро сейчас или вечер, ночь или полдень. Я не знал даже, какой сейчас день, хотя и решил, что, должно быть, вечер понедельника либо утро вторника. Спотыкаясь, прошел я мимо покрытой ржавчиной кучи давно заброшенного горняцкого оборудования, которое волею случая образовало грубую, неведомую фигуру с рогатой головой, утыканной шипами грудью и острым позвоночником. Я был почти уверен, что ее заржавевшая голова повернулась, когда я миновал ее, что железный рот приоткрылся, а одна рука пошевелилась. Много позже, в других туннелях, мне показалось, что я слышу, как она идет за мной, продвигаясь с огромным терпением, клацаньем и скрежетом, не в состоянии тягаться с моим темпом, но уверенная, что догонит меня благодаря одной лишь настойчивости — и скорее всего так и случилось бы, потому что моя скорость неуклонно снижалась. Я не всегда отдавал себе отчет, когда бодрствую, а когда грежу. Порой, неся, поднимая или осторожно волоча Райю по узким проходам, я думал, что нахожусь в кошмарном сне и что все будет нормально в тот самый миг, как я проснусь. Но, разумеется, я уже бодрствовал и жил в этом кошмаре. Из света сознания во мрак бесчувствия — мотаясь, как мотылек, между двумя этими состояниями, я неуклонно слабел, в голове мутилось, жар усиливался. Я просыпался, и оказывалось, что я сижу у стены туннеля, держа Райю на руках и обливаясь потом. Волосы прилипли к голове, глаза разъедали соленые ручейки, стекавшие по лбу и вискам. Пот сочился со лба, с носа, с ушей, с подбородка. Казалось, я искупался прямо в одежде. Мне было жарче, чем когда я лежал на пляже во Флориде, но жара шла только изнутри. Внутри меня находилась топка, пышущее жаром солнце, запертое в грудной клетке. Когда я пришел в чувство в следующий раз, я все так же был в жару, в невыносимом жару, и в то же время неудержимо трясся, мерз и горел одновременно. Пот был почти закипающим, когда вырывался наружу, но, попав на кожу, мгновенно заледеневал. Я старался не думать о своем состоянии, пытался сфокусироваться на Райе и вновь обрести чудесную силу и выносливость, которые утратил. Осматривая ее, я больше не мог отыскать пульс ни в висках, ни на шее, ни на запястьях. Ее кожа казалась холоднее, чем была раньше. Когда я торопливо поднял ей веко, мне показалось, что с глазом произошло какое-то изменение, там была ужасная пустота. — О нет, — вырвалось у меня, и я снова начал щупать пульс. — Нет, Райа, нет, пожалуйста, нет, — но все так же не мог обнаружить сердцебиения. — Черт побери, нет! Я прижал ее к себе, обнял как можно крепче, как будто мог помешать Смерти вырвать ее из моих объятий. Я укачивал ее, как ребенка, напевал ей, говорил ей, что с ней все будет в порядке, все будет хорошо, что мы снова будем валяться рядом на пляже, что мы снова будем заниматься любовью и смеяться, что мы будем вместе очень и очень долго. Я вспомнил о необычной способности моей матери смешивать различные травы в целебные отвары и припарки. Те же самые травы не обладали медицинскими свойствами, когда их смешивали другие. Исцеляющая сила была в самой маме, а не в истолченных листьях, коре, плодах, корнях и цветах, с которыми она работала. Все мы в семействе Станфеуссов обладали каким-либо особым даром, странные хромосомы вплетались там и тут в наши генетические цепочки. Если моя мать могла исцелять, почему, черт возьми, не могу сделать это и я? Почему на мне лежало проклятие Сумеречного Взгляда, если бог мог так же запросто благословить меня исцеляющими руками? Почему я обречен лишь на то, чтобы видеть гоблинов и надвигающуюся опасность, образы смерти и катастроф? Если моя мать могла лечить, почему не могу я? И поскольку я, совершенно очевидно, был самым одаренным в семье Станфеуссов, почему я не могу исцелять больных даже лучше, чем могла мама? Крепко держа Райю в объятиях, баюкая ее, как баюкают ребенка, я пожелал, чтобы она была жива. Я требовал, чтобы Смерть ушла прочь. Я спорил с этим черным призраком, пытался развеселить его, умаслить, затем прибег ко всей силе убеждения и логики, затем начал молить, но мольбы скоро вылились в резкий спор. В конце концов я угрожал Смерти, как будто существовало что-то, чего могла испугаться Смерть. Безумец. Я был безумцем. Потерявшим рассудок от лихорадки, но также и от горя. Через свои руки я пытался передать ей свои жизненные силы, перелить в нее жизнь из себя, как наливал бы воду из кувшина в стакан. В своем сознании я создал образ ее, живой и смеющейся, сжал зубы, стиснул челюсти, затаил дыхание и пожелал, чтобы этот мысленный образ стал реальностью, и так напрягся над этой странной задачей, что снова упал в обморок. После этого лихорадка, горе и усталость сговорились унести меня подальше в царство бреда. Приходя в себя, я то обнаруживал, что пытаюсь исцелить ее, то тихонько напеваю ей — чаще всего старые мелодии Мадди Холли, строчки в которых странным образом перековеркал бред. Порой я бормотал строчки из старых фильмов с Уильямом Пауэллом и Мирной Лой, которые мы оба так любили и временами говорили друг другу в моменты нежности и любви. Я то гневался на бога, то благословлял его, резко обвинял его в садизме вселенского масштаба, а через мгновение всхлипывал и напоминал ему о его репутации милосердного. Я рассыпался в восхвалениях и в неистовстве, причитал и ворковал, молился и сыпал проклятьями, потел и трясся, но в основном плакал. Помню, как я думал, что мои слезы исцелят ее и вернут к жизни. Безумие. Учитывая обильный поток слез и пота, казалось всего лишь делом времени, когда я полностью ссохнусь, превращусь в пыль и меня унесет прочь. Но в тот момент такой конец был страшно желанным для меня. Просто обратиться в пыль и улететь, рассеяться, как будто я никогда не существовал. Я больше не мог подняться и сделать хоть один шаг вперед, но путешествовал в сновидениях, являвшихся мне. В Орегоне я сидел на кухне дома Станфеуссов и уплетал кусок домашнего яблочного пирога, который испекла мама, и она улыбалась мне, а сестры говорили, как это здорово, что я снова с ними, и как я буду счастлив снова увидеть отца, когда — уже совсем скоро — я присоединюсь к нему в загробном мире и покое. На ярмарочной аллее, под голубым небом, я подходил к силомеру, чтобы представиться мисс Райе Рэйнз и попроситься на работу, но владелицей силомера была какая-то другая женщина, которую я прежде никогда не видел, и она сказала, что никогда не слышала о Райе Рэйнз, что никакой Райи Рэйнз не существует, что я, должно быть, что-то напутал, и в страхе и панике я бегал по всей ярмарке, от аттракциона к аттракциону, в поисках Райи, но никто никогда не слышал о ней, никто, никто. А в Джибтауне я сидел на кухне, пил пиво с Джоэлем Таком и Лорой, и вокруг толпились другие балаганщики, и среди них Студень Джордан, больше не мертвый, и когда я вскочил, протянул руки и с неподдельной радостью обнял его, толстяк сказал мне, что не надо удивляться, что смерть вовсе не конец, чтобы я посмотрел туда, в сторону мойки, и когда я посмотрел, то увидел отца и моего брата Керри — они пили яблочный сидр, и усмехались мне, и говорили: «Привет, Карл, отлично выглядишь, малыш», а Джоэль так сказал: — Господи Исусе, парень, как ты вообще ухитрился столько пройти? Взгляни-ка на эту рану на плече. — Выглядит, как будто укус, — заметил Хортон Блуэтт, нагибаясь поближе с фонариком. — Бока в крови, — огорченно сказал Джоэль Так. А Хортон сказал: — И вот брючина вся намокла в крови. Каким-то образом мои грезы переместились в шахту, где я сидел, держа в объятиях Райю. Все остальные обитатели сна улетучились, кроме Джоэля и Хортона. И Люка Бендинго. Он возник между Джоэлем и Хортоном. — Д-д-держись, С-С-Слим. Мы т-т-тебя отнесем домой. Ты п-п-просто хватайся за н-н-нас. Они попытались взять Райю у меня из рук, и это было непереносимо, хоть это и был всего-навсего сон, поэтому я начал отбиваться. Но сил у меня оставалось немного, и я не мог долго противостоять им. Они забрали ее у меня. Оставшись без этой сладостной ноши, я лишился цели и тяжело опустился вниз, мокрый, как тряпка, и всхлипывающий. — Все в порядке, Слим, — сказал Хортон Блуэтт. — Мы позаботимся. Ты просто лежи и дай нам сделать то, что мы должны сделать. — Пошел на хер, — ответил я. Джоэль Так засмеялся и заметил: — Вот это дух, парень. Это дух того, кто выжил. Остальное я помню плохо. Обрывками. Помню, как меня несли через темные туннели, где лучи фонариков метались взад-вперед, время от времени превращаясь в моей горячке в лучи прожекторов, кромсающих на куски ночное небо. Последняя вертикальная шахта. Два последних туннеля. Кто-то приподнимает мне веко... Джоэль Так, заботливо глядящий на меня... его кошмарное лицо, самое приятное из всего, что я когда-либо видел. Потом я очутился снаружи, на воздухе, где тяжелые серые тучи, которые, казалось, многие века нависали над графством Йонтсдаун, опять закрыли небо, густые и темные. На земле лежал свежий снег, много снега, толщиной в два фута, а то и побольше. Я вернулся мыслями к снежной буре, собиравшейся в воскресенье утром, когда Хортон повел нас в шахты, и только с этого момента начал осознавать, что я не сплю. Буря пришла и прошла, и горы покрывало одеяло свежего снега. Сани. Они захватили с собой две длинных волокуши, с широкими, точно лыжи, полозьями и сиденьем сзади. И одеяла. Великое множество одеял. Они привязали меня ремнем к одним саням, завернув в пару теплых шерстяных накидок. На вторые сани они положили тело Райи. Джоэль сел на корточки рядом со мной. — Не думаю, чтобы ты уже полностью находился среди нас, Карл Слим, но, надеюсь, кое-что из того, что я говорю, просочится в твою голову. Мы пришли сюда поверху, кружным путем, потому что гоблины зорко следят за всеми горными дорогами и тропами с того самого момента, как вы разнесли к чертям угольную компанию «Молния». Нас ждет долгий и трудный путь, и мы должны проделать его так тихо, как только возможно. Ты меня слышишь? — Я видел собачьи кости в глубинах Ада, — сказал я ему, сам удивившись своим словам, — и я думаю, что Люцифер, должно быть, хочет выращивать помидоры химическим способом, потому что тогда он сможет поджаривать души и готовить бутерброды. — Горячка, — сказал Хортон Блуэтт. Джоэль положил мне на лицо руку, как будто этим прикосновением он мог на минуту сконцентрировать мое сознание, распавшееся на куски. — Слушай меня внимательно и запоминай, мой юный друг. Если ты начнешь выть, как ты выл там, под землей, если ты начнешь бормотать или всхлипывать, нам придется сунуть тебе кляп в рот, чего мне очень не хочется делать, потому что тебе трудновато дышать порой. Но мы не можем рисковать и привлекать к себе внимание. Ты меня слышишь? — Мы снова поиграем в крыс, — отозвался я, — как на электростанции, быстро и бесшумно прокрадемся по водостоку. Это, вероятно, прозвучало для него еще большей бессмыслицей, но мне казалось, лучше выразить, что понял сказанное им, я не могу. Обрывки. Я помню, как Джоэль волок меня на санях. Люк Бендинго тащил тело Райи. То и дело на короткие промежутки времени Люка и Джоэля подменял неукротимый Хортон Блуэтт, здоровый, как бык, невзирая на его годы. Оленьи тропы в лесу. Нависающие над головой вечнозеленые деревья, образующие полог — зеленые иглы, часть из которых была покрыта льдом. Замерзший ручей, использующийся в качестве дороги. Чистое поле. Держаться поближе к сумраку на краю леса. Привал. Горячий бульон, который лился в меня из термоса. Темнеющее небо. Ветер. Ночь. С наступлением ночи я понял, что буду жить. Я возвращался домой. Но дом не будет домом для Райи. И что толку в жизни, если я должен жить без нее?Глава 32
ВТОРОЙ ЭПИЛОГ
Сны. Сны о смерти и одиночестве. Сны об утрате и скорби. Большую часть времени я спал. А когда мой сон прерывали, виновен в этом был, как правило, доктор Пеннингтон, тот самый излечившийся алкоголик, который был горячо любимым доктором ярмарки братьев Сомбра и который уже выходил меня однажды, когда я скрывался в трейлере Глории Нимз после убийства Лайсла Келско и его подручного. Док прилежно прикладывал к моей голове пакеты со льдом, делал уколы, внимательно проверял у меня пульс, побуждал меня пить как можно больше воды и — позже — как можно больше сока. Я находился в странном месте: маленькая комната с грубыми дощатыми стенами, с двух сторон не доходящими до деревянного потолка. Грязный пол. Верхняя половина деревянной двери отсутствовала, как будто это была двустворчатая — голландская — дверь, которую плотники не установили полностью. Старая железная кровать. Единственная лампа, стоящая на ящике с яблоками. Стул, на котором сидел доктор Пеннингтон и на который садились остальные, когда приходили проведать меня. В углу стоял переносной электрический обогреватель, его спираль светилась красным. — Ужасный сухой жар, — сказал доктор Пеннингтон. — Очень скверно. Но это самое лучшее, что мы можем сейчас сделать. Мы не хотим, чтобы ты находился в доме Хортона. Ни один из нас не может там ошиваться. Соседи могут заметить множество гостей, начнутся разговоры. Здесь мы должны залечь на дно. Тут даже окна закрашены, чтобы не проникал свет. После того, что произошло на угольной компании «Молния», гоблины из кожи вон лезут, высматривая всех пришлых, всех чужаков. Было бы не дело привлекать к себе внимание. Боюсь, что придется тебе и дальше маяться от жара, хотя в твоем положении это вряд ли пойдет на пользу. Постепенно горячка прошла. Даже когда мой мозг прояснился настолько, что я смог связно говорить, я был слишком слаб, чтобы выговаривать слова, а когда слабость прошла, я некоторое время был еще слишком подавлен, чтобы говорить. Позднее любопытство все же одолело меня, и я хриплым шепотом спросил: — Где я? Док Пеннингтон ответил: — За домом Хортона, в дальнем конце его участка. Стойла. Его покойная жена... она любила лошадей. У них одно время были лошади, до того, как она умерла. Это загон с тремя стойлами и одной большой комнатой с кормушками, и ты находишься в одном из стойл. — Я видел тебя, — сказал я, — и подумал, неужто я во Флориде? Ты приехал со всеми? — Джоэль решил, что, возможно, понадобится врач, умеющий держать язык за зубами, иными словами, балаганщик, иными словами, я. — А сколько вас приехало? — Только мы с Джоэлем и Люком. Я попытался сказать ему, как я благодарен им за все их усилия и за весь риск, на который они пошли, попытался сказать, что я, тем не менее, хотел бы, чтобы меня оставили, дав умереть и присоединиться к Райе там, куда ушла она. Но мое сознание снова затуманилось, и я погрузился в сон. Может быть, чтобы увидеть сны. Готов об этом спорить.* * *
Когда я проснулся, ветер завывал за стенами загона. На стуле возле моей кровати сидел и глядел на меня Джоэль Так. Весь такой большой, с этим лицом и третьим глазом, с той челюстью, как черпак экскаватора, он, казалось, был привидением, духом, стихией, из-за которой и выл ветер. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — Плохо, — хрипло прошептал я. — Голова ясная? — Слишком ясная. — Ну, тогда я тебе поведаю малость того, что произошло. В шахтах угольной компании «Молния» произошла крупная катастрофа. Погибло не меньше пятисот гоблинов. Может, и больше. Может быть, это самая большая катастрофа на шахтах в истории. Прибыла толпа горных инспекторов и чинов безопасности как из штата, так и из федерального правительства, до сих пор идут спасательные работы, но дело дрянь. — Он осклабился. — Разумеется, и инспектора, и чины, и спасатели — все гоблины, тут они соблюли осторожность. Они сохранят в тайне то, над чем на самом деле там трудились. Надеюсь, когда к тебе вернутся силы и голос, ты мне скажешь, что же это было, чем они занимались. Я кивнул. — Славно, — сказал он. — На это уйдет длинный вечер с кучей пива в Джибтауне. Джоэль поведал мне еще много чего. В понедельник утром, немедленно после того, как прогремели взрывы на шахте, Хортон Блуэтт отправился в наш дом на Яблоневой тропе и забрал все наши с Райей вещи, включая и ту взрывчатку, которую мы не смогли захватить в шахты. Он решил, что что-то могло пойти не так и мы могли задержаться с выходом из шахт. И скоро, в поисках диверсантов, навредивших угольной компании «Молния», гоблины-полицейские начнут внимательно приглядываться ко всем приезжим, недавно поселившимся в городе, включая и нынешних жильцов дома Клауса Оркенвольда. Хортон решил, что будет лучше, если дом на Яблоневой тропе будет чист как слеза и все следы нашего там пребывания исчезнут из него прежде, чем власти решат заглянуть туда. Не найдя молодых студентов-геологов, снявших его дом, Оркенвольд попытается связаться с ними через университет, при котором они предположительно состоят. Он обнаружит, что история, которую они преподнесли агенту по недвижимости, — липа, и решит: именно они и были диверсантами, и, что более важно, они покинули графство Йонтсдаун в неизвестном направлении. — Тогда, — продолжал Джоэль, — все уляжется или по крайней мере уйдет в сторону, и тогда для нас будет менее опасно выскользнуть отсюда и направиться обратно в Джибтаун. — Как ты, — у меня сорвался голос, я закашлялся. — Как ты смог... — Ты пытаешься спросить, как я узнал, что тебе нужна моя помощь? Я кивнул. — Это учительница, Кэти Осборн, позвонила мне из Нью-Йорка, — объяснил он. — Это было в понедельник, рано утром. Она собирается прибыть в Джибтаун во вторник вечером, сообщила она, хотя я о ней в жизни ничего не слышал. Она сказала, что ты должен был позвонить мне в воскресенье и все объяснить, но ты не позвонил, и я решил, что случилась беда. Мы с Райей отправились в шахты с Хортоном в такую рань в воскресенье, что я позабыл позвонить Джоэлю. — Я сказал Кэти, чтобы она приезжала, что Лора о ней позаботится по приезде, а затем сказал доку и Люку, что вам с Райей, наверное, нужна помощь балаганщика. У нас явно не было времени, чтобы ехать сюда на машине, поэтому мы отправились к самому Артуро Сомбра. Видишь ли, в чем дело, у него есть разрешение на полеты и собственный самолет. Он привез нас в Альтуну. Там мы наняли машину и покатили в Йонтсдаун, Люк с доком впереди, а я сзади из-за своего лица, которое, если ты еще этого не заметил, просто обречено на то, чтобы привлекать внимание. Мистер Сомбра хотел поехать с нами, но он сам — слишком заметная личность, и мы решили, что без него действовать скрытно будет легче. Он в Мартинсберге, около Алтуны, ждет нас с самолетом, когда мы будем готовы. Кэти Осборн (объяснил Джоэль) сказала ему, где мы с Райей снимаем дом, и, прибыв в Йонтсдаун в понедельник вечером, они трое отправились прямиком на Яблоневую тропу и нашли пустой дом, в котором потрудился Хортон Блуэтт. Узнав о взрывах, прогремевших на угольной компании «Молния» в то утро, и зная от Кэти, что, по нашему с Райей мнению, там находится центр гнезда гоблинов, Джоэль понял, что катастрофа — наших рук дело. Но он не знал, что всех новоприбывших, всех чужаков отслеживают, наблюдают, постоянно допрашивают. Им с Люком и доком чертовски повезло, что им удалось проехать через весь город до Яблоневой тропы, не привлекая к себе внимания полицейского управления, контролируемого гоблинами. — Так что, — продолжал Джоэль, — мы в святой простоте решили, что единственный способ выйти на вас с Райей — это останавливаться у других домов на Яблоневой тропе и говорить с вашими соседями. Мы прикинули, что вы могли вступать с ними в контакт, собирая информацию. И, конечно же, мы встретились с Хортоном Блуэттом. Я оставался в машине, пока док с Люком беседовали в доме с Хортоном. Затем через некоторое время док вышел на улицу и сказал, что, по их мнению, Хортон что-то знает, но будет говорить, только когда поймет, что мы действительно ваши друзья и что единственный способ убедить его в том, что мы друзья, — это доказать ему, что мы балаганщики. И, разумеется, для этого нет ничего лучшего, чем моя бесформенная голова и физиономия — кем же я еще могу быть, как не балаганщиком? Этот Хортон — это что-то, а? Знаешь, что он сказал после того, как долго и внимательно смотрел на меня? Что угодно он мог сказать, и ты знаешь, что он сказал? Я вяло покачал головой. Джоэль, ухмыляясь, продолжил: — Смотрит на меня Хортон, а потом только и говорит: «Ну, думаю, нелегко тебе отыскать подходящую шляпу». И предлагает кофе. Джоэль рассмеялся от удовольствия, но я не мог даже выдавить улыбку. Ничто больше не покажется мне веселым. Заметив мое состояние, Джоэль спросил: — Я тебя утомляю? — Нет. — Я могу уйти, дать тебе отдохнуть и вернуться позже. — Останься, — сказал я, неожиданно почувствовав, что не вынесу одиночества. Крышу загона сотряс мощный порыв ветра. Щелкнул, включаясь, обогреватель. Темная спираль загорелась оранжевым светом, затем красным. Зашумел вентилятор. — Останься, — повторил я. Джоэль положил свою руку на мою. — Добро. Но ты просто лежи спокойно и слушай. Значит, так... после того, как Хортон нас принял, он нам все рассказал о том, как показал вам дорогу внутрь горы. Мы собрались отправиться туда за вами в тот же вечер, но в воскресенье была сильная снежная буря, и в понедельник вечером собиралась еще одна, и Хортон упирал на то, что мы сами себе подпишем смертный приговор, если пойдем в горы в такую погоду. «Подождите, пока прояснится, — сказал он. — Должно быть, именно поэтому Слим с Райей до сих пор не вернулись. Они, наверное, вышли наружу и просто пережидают непогоду, чтобы двинуться домой». Это звучало достаточно разумно. Той ночью мы оборудовали для себя старый загон, затемнили окна, загнали туда наш автомобиль — да он и сейчас тут, правда, прямо за этой вот дверью, — и стали ждать. (К тому времени, конечно, я уже в течение многих часов тащил и вытягивал Райю излабиринта и скорее всего уже дошел до конца тех первоначальных чудес стойкости, вызванных адреналином.) Вторая сильная буря разразилась в понедельник ночью, добавив еще четырнадцать дюймов снежного покрова к тому футу, который намело в воскресенье. Утром во вторник снежный фронт отошел к востоку. И у Хортона, и у Джоэля были полноприводные автомобили, и они решили отправиться в горы на поиск. Но сперва Хортон отправился на разведку и вернулся с плохим известием о том, что все горные дороги в пределах нескольких миль от угольной компании «Молния» кишат «вонючим племенем» на джипах и пикапах. — Мы не знали, что делать, — сказал Джоэль, — и пару часов пережевывали ситуацию. Затем, около часа дня во вторник, мы рассудили, что единственный путь, которым можно проникнуть туда, — по горам, пешком. Хортон предложил взять сани, на случай, если вы ранены, — так и случилось. Несколько часов ушло на то, чтобы все собрать, поэтому мы пустились в путь только в полночь со вторника на среду. Пришлось сделать огромный крюк, в несколько миль, чтобы держаться вдали от любой дороги или дома. До этого старого полуразрушенного входа в шахты мы добрались аж в полночь в среду. Там, как человек осторожный, Хортон предложил спрятаться и наблюдать за шахтой до рассвета, чтобы удостовериться, что вокруг нет гоблинов. Не веря своим ушам, я помотал головой: — Подожди. Ты... хочешь сказать... что было утро четверга... когда вы нашли меня? — Точно так. Я был поражен. Я рассчитывал, что был самое позднее вторник, когда они пришли, словно выйдя из горячечного сна. Значит, я тащил Райю из туннеля в туннель, тревожно щупая ее пульс, целых три дня, прежде чем меня спасли. А сколько же времени она пролежала мертвой в моих руках? По меньшей мере сутки. Осознав, как долго я был в горячке, я неожиданно почувствовал себя еще слабее и полным отчаяния. — Какой сегодня... день? — Мой голос звучал тише шепота, едва ли слышнее, чем выдох. — Мы доставили вас сюда как раз перед рассветом в пятницу. Сейчас воскресенье, вечер. Ты был без сознания почти все три дня, что мы здесь находимся, но ты поправляешься. Ты ослаб, измучен, но ты выкарабкаешься. Бог мой, Карл Слим, я был не прав, когда отговаривал вас ехать. Ты немного бормотал во сне, так что я немножко знаю, что вы там нашли в горе. Это было что-то, чего нельзя было допустить, верно? Что-то, что могло означать смерть для всех нас? Вы славно поработали. Можешь гордиться. Чертовски славно. Я думал, что уже исчерпал лимит слез, отпущенный на одну жизнь, но неожиданно снова заплакал. — Как ты можешь... так говорить? Ты был... прав... так прав. Мы не должны были идти. Он казался ошарашенным, смущенным. — Я был... дураком, — горько сказал я. — Взвалить весь мир... себе на плечи. Не имеет значения, скольких гоблинов я убил... не важно, насколько сильно я повредил их убежище... ничто из этого не стоило того, чтобы потерять Райю. — Потерять Райю? — Пусть бы гоблины владели миром... лишь бы я только смог сделать так, чтобы Райа снова была жива. Самое удивленное выражение снизошло на это искореженное лицо. — Но, мальчик мой, она и так жива, — сказал Джоэль. — Каким-то образом, с твоими-то ранами, ты пронес ее девять десятых пути обратно из этих шахт, сам в бреду, и, очевидно, заставил ее выпить достаточно воды, и поддерживал в ней жизнь до того момента, как мы нашли вас обоих. Она была без сознания до вчерашнего вечера. Она очень плоха, и ей потребуется не меньше месяца, чтобы оправиться, но она не мертва и умирать не собирается. Она в другом конце загона, в постели, в двух стойлах от этого!* * *
Я поклялся, что смогу пройти столько. Загон. Это была ерунда. Я пешком вышел из ада. Я попытался подняться с кровати и отбросил прочь руки Джоэля, когда тот хотел удержать меня. Но когда я попытался встать, то повалился на бок и в конце концов позволил Джоэлю понести меня, как я нес Райю. Док Пеннингтон находился при ней. Синяки у нее на лбу, виске и щеке почернели и выглядели еще ужаснее, чем тогда, когда я видел ее последний раз. Правый глаз потемнел и был налит кровью. Оба глаза словно втянулись в глубь черепа. В тех местах, где ее кожа не обесцветилась, она была молочно-белой, восковой. Мелкие капли пота покрывали лоб. Но она была жива, она узнала меня и улыбнулась. Она улыбнулась. Всхлипывая, я потянулся к ней и взял ее за руку. Я был настолько слаб, что Джоэлю приходилось держать меня за плечи, чтобы я не свалился со стула. Кожа Райи была теплой, мягкой, восхитительной. Она чуть-чуть, еле заметно, сжала мою руку. Мы оба вернулись из ада, но Райа вернулась из куда более отдаленного места. Этой ночью, лежа в постели у себя в стойле, я проснулся от шума ветра по крыше загона и подумал, была ли она мертва. Ведь я же был так в этом уверен. Ни пульса. Ни дыхания. Там, внизу, в шахтах, я думал о способности моей матери исцелять травами и гневался на бога, потому что мой дар, Сумеречный Взгляд, был бесполезен для Райи. Я требовал, чтобы бог ответил мне, почему я не могу исцелять так же хорошо и даже лучше, чем это делала мать. В панике при мысли о Райе я прижимал ее к груди, я пожелал, чтобы жизнь вошла в нее, перелил часть своей жизненной энергии в нее, как перелил бы воду в стакан из кувшина. Свихнувшийся, обезумевший от горя, я собрал воедино все свои психические способности и попытался сотворить волшебство, величайшее из чудес, чудо, до сих пор бывшее под силу лишь богу: зажечь искру жизни. Сработало ли это? Услышал ли меня бог — и ответил ли? Вероятно, мне никогда не узнать это наверняка. Но сердцем я верил, что это я вернул ее обратно. Потому что я призвал на помощь не одно только волшебство. Нет, нет. Была еще и любовь. Огромное море любви. И, может быть, волшебство и любовь вместе смогли сделать то, что одно волшебство сделать бессильно.* * *
Во вторник вечером, через девять с лишним дней после того, как мы отправились в шахты, настало время отъезда домой. Тело все еще отказывалось повиноваться и болело в тех местах, куда вонзились когти и клыки, и я был в два раза слабее обычного. Но я мог ходить, опираясь на палку, и голос улучшился настолько, что я мог часами разговаривать с Райей. У нее случались кратковременные приступы головокружения. В остальном ее выздоровление шло уже быстрее, чем мое. Она ходила лучше, чем я, и ее энергия почти восстановилась. — Пляж, — сказала она. — Я хочу лежать на теплом пляже, чтобы солнце выжарило из меня всю эту зиму. Хочу глядеть на куликов, как они возятся в прибое в поисках пищи. Хортон Блуэтт и Ворчун зашли в загон, чтобы попрощаться с нами. Ему было предложено отправиться вместе с нами в Джибтаун и присоединиться к ярмарке, как уже сделала Кэти Осборн, но он отказался. Как он сам сказал, он — старый чудак, привыкший к такой жизни, хотя порой и чувствующий одиночество, но притерпевшийся к нему. Он все беспокоился о том, что будет с Ворчуном, если он, Хортон, умрет прежде дворняги, и собирался заново составить завещание, оставив пса нам с Райей вместе со всеми деньгами, которые можно будет выручить от продажи его жилища. — Деньги вам понадобятся, — сказал Хортон, — потому что этот бегемот с мохнатой мордой сожрет ваш дом и вас в придачу. Ворчун заворчал, подтверждая эти слова. — Ворчуна мы возьмем, — сказала Райа, — но деньги, Хортон, нам не нужны. — Если вы их не возьмете, — сказал он, — они попадут в лапы правительству, а правительство повсюду наверняка состоит из одних гоблинов. — Они возьмут деньги, — вмешался Джоэль. — Но весь этот разговор — о пустом, знаете ли. Вы еще переживете пару таких Ворчунов, а может, и всех нас. Хортон пожелал нам удачи в нашей тайной войне с гоблинами, но я поклялся, что с меня хватит воевать. — Я свое сделал, — сказал я. — Больше не могу. Все равно мне это не по силам. Возможно, это никому не по силам. Все, чего я хочу, — мира в моей собственной жизни, убежища ярмарки и Райю. Хортон пожал мне руку, поцеловал Райю. Сказать «прощай» было нелегко. Это всегда нелегко.* * *
По пути из города я увидел грузовик угольной компании «Молния» с этой ненавистной эмблемой. Белое небо. Черная молния. Когда я посмотрел на эмблему, ясновидческим чутьем я почувствовал ту же пустоту, что и прежде: безмолвную, темную, холодную пустоту мира после ядерной войны. Однако на этот раз пустота не была совершенно безмолвной, абсолютно темной. Она мерцала дальними огоньками, далеко не такая холодная и не полностью пустая. Очевидно, разрушениями, которые мы сотворили в убежище гоблинов, мы как-то изменили будущее и отложили Судный день. Мы не отменили его полностью. Угроза оставалась. Но она была дальше, чем прежде. Надежда не глупа. Надежда — сон человека, который вот-вот проснется. Через десять кварталов мы миновали здание начальной школы, где я предвидел смерть множества детей в пожаре, устроенном гоблинами. Я нагнулся вперед на заднем сиденье взятой напрокат машины и просунул голову над передним сиденьем, чтобы получше рассмотреть здание. Никакой опустошительной энергии смерти не исходило от здания. Я не видел надвигающегося пожара. Единственными огнями, которые я различал, были отсветы первого пожара, уже происшедшего. Изменив будущее угольной компании «Молния», мы каким-то образом изменили и будущее всего Йонтсдауна. Дети будут гибнуть по-другому, по иным планам гоблинов, но они не сгорят заживо в классных комнатах.* * *
В Альтуне мы вернули прокатный автомобиль и продали машину Райи торговцу подержанными автомобилями. С ближайшего аэродрома в Мартинсберге Артуро Сомбра доставил нас в среду вечером домой, во Флориду. Весь мир казался таким же свежим и ясным, как небо. По пути домой мы мало говорили о гоблинах. Казалось, сейчас не время для разговоров на такую угнетающую тему. Вместо этого мы говорили о приближающемся сезоне. Первое весеннее представление ярмарки должно было состояться в Орландо всего через три недели. Мистер Сомбра сказал нам, что разорвал контракт с графством Йонтсдаун и что другое шоу займет там наше место этим летом и во все последующие годы. — Умница, — сказал Джоэль Так, и все рассмеялись. В четверг, когда кулики на пляже возились в пенных бурунах прибоя, добывая себе обед, Райа спросила: — Ты действительно имел это в виду? — Что? — То, что ты сказал Хортону, что прекращаешь борьбу. — Да. Я не хочу рисковать — я боюсь снова потерять тебя. С этого дня мы будем держать головы низко. Наш мир — это только мы, ты и я, и наши друзья здесь, в Джибтауне. Это будет хороший мир. Маленький, но хороший. Небо было высокое и голубое. Солнце жарило. Ветер с залива приносил освежающую прохладу. Через некоторое время она сказала: — А как насчет Китти Дженовезе, там, в Нью-Йорке, где никто не пришел ей на помощь? Я, не колеблясь, холодно отрезал: — Китти Дженовезе мертва. Мне не понравилось, как прозвучали эти слова, и не понравились прозвучавшие в них смирение и отказ, но я не стал отрекаться от них. В морской дали танкер направлялся на север. Над нами шелестели пальмы. Мимо пробежали, смеясь, двое парнишек в плавках. Позже, хоть Райа и не возвращалась к этой теме, я повторил: — Китти Дженовезе мертва.* * *
Той же ночью я лежал без сна рядом с Райей в нашей постели, думая о некоторых вещах, в которых не улавливал смысла. Во-первых: гоблины-уродцы в клетке в подвале дома Хэвендалов. Почему гоблины оставили своих детей-уродов в живых? Учитывая их поведение, сходное с поведением муравьев, и склонность к непомерно жестоким решениям, было бы естественно для них убить неудавшееся потомство при рождении. В самом деле, они были запрограммированы на то, чтобы не иметь других эмоций, кроме ненависти и некоторого страха, достаточного, чтобы поддерживать инстинкт самосохранения. И, черт возьми, их создатель — человек — не давал им способности любви, сострадания или чувства родительской ответственности. Их усилия для сохранения жизни своему мутированному потомству, даже в убогих тюремных условиях, были необъяснимы. Во-вторых: почему электростанция в том подземном сооружении была такая большая и вырабатывала в сотню раз больше энергии, чем им когда-либо могло понадобиться? Когда мы допрашивали гоблина с помощью пентотала, возможно, он не сказал нам всей правды о назначении убежища и не раскрыл истинных далеко идущих планов демонов. Разумеется, они запасали все, что могло понадобиться, чтобы выжить в ядерной войне. Но, может быть, они не намеревались просто бродить по руинам мира после катастрофы, уничтожая выживших людей, а затем убить себя самих. Возможно, они осмелились думать о том, чтобы искоренить нас и после этого завладеть Землей, выжив с нее своих создателей. А может, их намерения были слишком темными, чтобы я смог понять их, настолько же чуждыми нам по своей цели и средствам, насколько их мыслительные процессы чужды нашим. Всю ночь я боролся с простынями.* * *
Два дня спустя, опять нежась на пляже, мы услышали обычную серию плохих новостей в промежутке между рок-н-роллами. Новое коммунистическое правительство Занзибара заявляло, что оно вовсе не подвергало пыткам и не казнило больше тысячи политзаключенных. На самом деле их освободили, но каким-то образом вся тысяча, как один, судя по всему, пропала по пути домой. Вьетнамский кризис все ухудшался, кое-где слышались голоса, что для стабилизации обстановки нужно послать туда американские войска. Где-то в Айове некто застрелил свою жену, троих детей и двоих соседей, полиция разыскивала его по всему Среднему Западу. В Нью-Йорке снова шла гангстерская война. В Филадельфии (а может, в Балтиморе) двенадцать человек погибли при пожаре многоквартирного дома. Наконец новости кончились, и радио подарило нам «Битлз», «Сьюпримз», «Бич Бойз», Мэри Уэллз, Роя Орбисона, «Дикси Капе», Дж. Фрэнка Уилсона, Инее Фоке, Элвиса, Яна и Дина, «Ронеттс», «Ширела», Джерри Ли Льюиса, Хэнка Бэлларда — все то, что надо, все настоящее и волшебное. Но я как-то не мог включиться в музыку, как включался всегда. В моем сознании, погребенный под музыкой, звучал голос диктора, читающего литанию убийств, увечий, катастроф и войны — что-то наподобие той версии «Безмолвных ночей», которую несколькими годами позже запишут Саймон и Гарфункель. Небо было, как и всегда, голубым. Солнце никогда не грело сильнее, с залива никогда не долетало более приятной прохлады. И все же я не мог выдавить ни капли веселья из всех радостей этого дня. Голос этого чертового диктора все так же эхом отзывался у меня в голове. Я не мог отыскать ручку, чтобы отключить его. Тем вечером мы поели в величайшем из маленьких итальянских ресторанчиков. Райа сказала, что еда была восхитительная. Мы выпили слишком много хорошего вина. Позже, в постели, мы занялись любовью. Мы достигли вершины наслаждения. День прошел великолепно. Утром небо снова было голубым, солнце жарким, бриз освежающим — и снова это все было каким-то плоским, лишенным радости. Во время пикника на пляже я сказал: — Она может быть мертва, но она не должна быть забыта. Разыгрывая невинность, Райа взглянула на меня, оторвавшись от картофельных чипсов, и поинтересовалась: — Кто? — Сама знаешь кто. — Китти Дженовезе, — сказала она. — Черт, — сказал я. — Я в самом деле хочу просто опустить рога, закутать нас в безопасность ярмарки и прожить жизнь вместе. — Но мы не можем? Я покачал головой и вздохнул. — Знаешь, занятное мы племя. По большей части далеко не восторг. И наполовину не то, какими надеялся видеть нас бог, когда сунул руки в глину и начал лепить нас. Но у нас есть два великих дара. Любовь, конечно же. Любовь. То есть сострадание и сочувствие. Но, черт побери, второй наш дар — такое же проклятие, как и благословение. Назовем его совестью. Райа улыбнулась, нагнулась над корзинкой с едой и поцеловала меня. — Я люблю тебя, Слим. — И я люблю тебя. Солнце было превосходное. Это был год, когда несравненный Луи Армстронг записал «Хелло, Долли». Песней номер один года была «Я хочу держать тебя за руку» «Битлз», и Барбра Стрейзанд дебютировала в «Смешной девчонке» на Бродвее. Томас Бергер опубликовал «Маленького большого человека», а Одри Хепберн и Рекс Гаррисон блистали в «Моей прекрасной леди» на голубом экране. Мартин Лютер Кинг-младший и движение за гражданские права были большой новостью. В одном из баров в Сан-Франциско впервые был показан стриптиз. Это был год, когда арестовали Бостонского Душителя, год, когда «Келлогг» предложил булочки «поп-тарт» для вашего тостера, год, когда «Форд мотор компани» продала первый «Мустанг». Это был год, когда «Сент-Луис кардиналз» выиграли в чемпионате по бейсболу у «Янкиз», и это был год, когда полковник Сандерс продал свою ресторанную сеть, но это не был год, когда закончилась наша тайная война с гоблинами.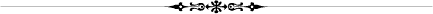
МОЛНИЯ (роман)
Плач новорожденного сливается с погребальными песнопениями.Лукреций
Я не боюсь умереть. Я просто не хочу при этом присутствовать.Вуди Аллен
Американские горы: 1) небольшая гравитационная рельсовая дорога… с крутыми спусками, что позволяет осуществлять стремительное движение вниз вагончиков с любителями острых ощущений.Из словаря издательства «Рэндом Хауз»
Страшной грозой в самый разгар зимы сопровождалось рождение обыкновенной девочки Лоры Шейн. Невозможно было и предположить, что это необычное явление природы хоть как-то связано с появлением двоих неизвестных, проявивших непонятную заинтересованность в судьбе ребенка. Кто эти странные незнакомцы? Какую цель преследуют? Какая тайна связана с ними?
Часть I. ЛОРА
Страстная любовь к вам делает вас сильным; ваша страстная любовь к кому-то делает вас мужественным.Лао-Цзы
Глава 1. Свеча на ветру
1
В ночь, когда родилась Лора Шейн, разразилась сильная гроза и погода была непривычной, о чем люди вспоминали потом долгое время. Среда двенадцатого января 1955 года выдалась холодной, серой и мрачной. В сумерках крупные пушистые снежинки посыпались из низких туч, и жители Денвера почувствовали приближение метели со стороны Скалистых гор. К десяти вечера пронизывающий ледяной ветер подул с запада, завывая на горных перевалах и шумя по диким лесистым склонам. Снежинки уменьшились до размера крупинок наподобие мелкого песка и резко хлестали по окнам уставленного книжными полками кабинета доктора Пола Марквелла. Марквелл, откинувшись в кресле за письменным столом, согревался с помощью виски. Но причиной охватившего его упорного озноба был не холодный сквозняк, а внутреннее оцепенение ума и сердца. За те четыре года, что прошли со дня смерти от полиомиелита его единственного сына — Пенни, Марквелл пил все больше и больше. Вот и теперь, дежуря в ожидании срочных вызовов из окружной больницы, он не удержался и налил себе еще немного виски. В просвещенном 1955 году детей вакцинировали сывороткой доктора Джонаса Солка, и близился день, когда всем детям до единого перестанет грозить паралич или смерть от полиомиелита. Но Ленни заразился в 1951 году, за год до того, как доктор Солк приступил к испытаниям вакцины. Паралич охватил дыхательные мускулы, а бронхопневмония осложнила течение болезни. Ленни был обречен. Низкий рокот с западных гор эхом раскатился в зимней ночи, но Марквелл сначала не обратил на это внимания. Он был столь глубоко погружен в свою постоянную едкую черную тоску, что временами почти не замечал происходящего вокруг. Фотография сына стояла перед ним на столе. Даже по прошествии четырех лет он испытывал муку при взгляде на улыбающееся лицо ребенка. Следовало убрать фотографию со стола, но он продолжал держать ее на виду, потому что непрестанное самобичевание было его методом искупления вины. Никто из коллег Пола Марквелла не подозревал, что он пьет. Внешне он всегда был трезв. Последствия тех промахов, которые он допускал при лечении некоторых пациентов, могли возникнуть и естественным путем. Но он-то знал, что допустил ошибку, и, презирая себя, еще глубже погружался в бездну пьянства. Вновь раздался рокот. На этот раз Марквелл угадал в нем гром, но по-прежнему оставался равнодушным. Зазвонил телефон. Алкоголь сковывал его движения и замедлял реакцию, и он взял трубку только после третьего звонка. — Алло? — Доктор Марквелл? Это Генри Яматта. — Яматта, интерн при окружной больнице, явно нервничал. — Муж только что привез вашу пациентку Джанет Шейн. У нее начались роды. Они с мужем задержались из-за бурана, так что родовая деятельность усилилась. Марквелл пил виски и слушал. Потом, довольный тем, что у него не заплетается язык, спросил: — Она еще в первом периоде? — Да, но у нее слишком сильные и продолжительные для этого периода схватки. Выделение кровянистой слизи из влагалища. — Это обычное дело. Яматта перебил: — Нет-нет, это не обычные выделения. Слизь, или кровянистые вагинальные выделения, была верным признаком начала и первого периода родов. Но Яматта сказал, что схватки у миссис Шейн уже приобрели регулярный характер. Марквелл явно ошибался, убеждая интерна в обычности процесса. Яматта продолжал: — Это не то чтобы кровотечение, но что-то тут не так. Атония матки, узкий таз, общая слабость. — Я не обнаружил никакой патологии, угрожающей беременности, — резко перебил Марквелл. Но в душе он знал, что мог допустить ошибку, если был пьян. — Сегодня дежурит доктор Карлсон. Если до моего приезда что-то случится, он… — Только что привезли четырех пострадавших в дорожных происшествиях. Карлсон занят по горло. Вы нам очень нужны, доктор Марквелл. — Я выезжаю. Буду через двадцать минут. Марквелл повесил трубку, допил виски и взял из кармана мятную конфету. С тех пор как он пристрастился к виски, он всегда имел при себе мятные конфеты. По пути из кабинета в переднюю он развернул обертку и положил конфету в рот. Он был пьян, но собирался принимать роды. Могло случиться, что он окажется не на высоте, тогда конец его карьере, его репутация будет погублена, но ему было все равно. С каким-то извращенным чувством он даже предвкушал катастрофу. Он натягивал пальто, когда раскаты грома разорвали тишину ночи. Дом содрогнулся вместе с ними. Он сдвинул брови и удивленно взглянул на окно рядом с входной дверью. Мелкие сухие снежинки вихрились у стекла, на мгновение, едва утихал ветер, повисали неподвижно, затем снова продолжали свой танец. Всего один или два раза за многие годы он слышал гром во время метели, но всегда в ее начале, и всегда он звучал приглушенно и вдалеке, совсем не так угрожающе, как теперь. Молния блеснула раз, потом другой. Падающий снег странно мерцал в мигающем свете, и на секунду окно превратилось в зеркало, в котором Марквелл увидел призрачное отражение своего лица. Последовавший раскат грома превзошел все предыдущие. Марквелл отворил дверь и остановился, вглядываясь в буйную ночь. Ураганный ветер задувал снег под крышу веранды, наметая сугробы у стены дома. Свежее пышное белое одеяло покрывало лужайку, и ветви сосен с подветренной стороны провисли под тяжестью снега. Вспышка молнии больно ослепила Марквелла. Оглушительный удар грома, казалось, звучал не только в вышине, но исходил из самых недр земли, будто небеса и веси разверзлись, оповещая о наступлении Страшного суда. Две извилистые пересекающиеся блестящие молнии прорезали тьму. Загадочные силуэты подпрыгивали, извивались, корчились вокруг. Каждая вспышка столь причудливо искажала тени перил, балюстрады, деревьев, обнаженных кустов и уличных фонарей, что привычный Марквеллу мир обрел черты сюрреалистического пейзажа: таинственный свет озарял привычные предметы, придавая им странные формы, пугающе меняя их. Светящиеся небеса, гром, ветер и белые набегающие волны бурана ошеломили Марквелла, и он внезапно, впервые за этот вечер, почувствовал, что пьян. Он не мог понять, что это за удивительные световые явления, какие из них настоящие, а какие плод его пьяных галлюцинаций. Осторожно он пересек скользкую веранду до ступенек крыльца, ведущих к заснеженной дорожке, и, прислонясь к столбу, поддерживающему крышу, запрокинул голову, чтобы оглядеть рассекаемое молниями небо. Громовые разряды раз за разом сотрясали лужайку перед домом и саму улицу, отчего вся картина походила на кадры старой киноленты, застревающей в изношенном проекторе. Молния высветила в ночи всего два цвета: собственную ослепляющую белизну и сверкающую белизну снега, темноту беззвездного неба и черных, как чернила, содрогающихся теней. Пока он в изумлении и страхе созерцал удивительные причуды небес, наверху разверзлась еще одна неровная трещина. Притягиваемый землей пылающий конец молнии ударил в железный столб уличного фонаря, и Марквелл вскрикнул от ужаса. В момент контакта ночь обратилась в яркий день, а стекла фонаря вылетели под силой взрыва. В такт разряду у Марквелла застучали зубы, загремели половицы веранды. Холодный воздух на мгновение дохнул озоном и раскаленным железом. Тишина, покой и тьма вернулись на землю. Марквелл проглотил мятную конфету. Изумленные соседи появились на верандах своих домов. А может быть, они там и простояли всю бурю, а он увидел их, только когда воцарилось сравнительное спокойствие обычной метели. Некоторые направлялись через сугробы к пострадавшему фонарю, железный колпак которого полурасплавился. Они переговаривались друг с другом и обращались к Марквеллу, но тот не откликался. Ужасающее зрелище ничуть не отрезвило его. Боясь, что соседи заметят его состояние, он ушел с веранды и скрылся в доме. К тому же у него не было времени, чтобы болтать о погоде. Он должен был позаботиться о роженице, принять младенца. Стараясь совладать с собой, он вытащил из стенного шкафа в передней шерстяной шарф, закутал шею, завязал концы на груди. У него тряслись руки, а пальцы заледенели, он с трудом застегнул пальто. Борясь с головокружением, надел резиновые боты. Он не сомневался, что эта странная молния была каким-то образом связана с ним. Своего рода знак, предзнаменование. «Что за чепуха, — подумал он. — Это виски играет со мной шутки». Но это чувство не покидало его и когда он направился в гараж, поднял дверь и вывел машину; цепи на зимних шинах скрипели и тихо позвякивали на снегу. Когда же он выехал на дорогу и остановился, чтобы выйти и закрыть гараж, кто-то резко постучал в окно рядом с ним. Марквелл испуганно повернул голову и увидел человека, который, согнувшись, пытался рассмотреть его через стекло. Незнакомцу было лет тридцать пять. У него были крупные правильные черты лица. Даже через запотевшее окно было видно, какой это красивый человек. На нем был морской бушлат с поднятым воротником. Пар шел у него из ноздрей, и, когда он заговорил, слова в ледяном воздухе облекались в облачка. — Вы доктор Марквелл? Марквелл опустил окно. — Да, в чем дело? — Вы доктор Пол Марквелл? — Да, да. Я же вам сказал. Но сегодня я здесь не принимаю, к тому же я тороплюсь в больницу к пациентке. Ярко-голубые глаза незнакомца напомнили Марквеллу чистое зимнее небо, отраженное в первом тончайшем ледке замерзающего пруда. Они были неотразимо прекрасны, но он сразу понял, что это глаза опасного человека. Прежде чем Марквелл успел включить скорость и повернуть на улицу, где мог рассчитывать на помощь, человек в бушлате просунул через открытое окно револьвер. — Не делайте глупостей. Дуло револьвера впилось в нежную кожу под подбородком, и доктор с некоторым изумлением осознал, что ему не хочется умирать. А ведь он давно убедил себя, что готов безропотно принять смерть. И вот теперь, вместо того чтобы приветствовать свою волю к жизни, он почувствовал угрызения совести. Ведь принять жизнь означало изменить сыну, с которым он мог соединиться только в потустороннем мире. — Погасите фары, доктор. Вот так. А теперь выключите мотор. Марквелл вытащил ключ из замка зажигания. — Кто вы такой? — Это не имеет значения. — Для меня имеет. Что вам надо? Что вы собираетесь со мной делать? — Подчиняйтесь, и все будет в порядке. А попробуете бежать, я разнесу вашу дурацкую голову. Да еще всажу несколько пуль в ваше мертвое тело, так просто, для развлечения. — Он говорил мягким, неожиданно приятным, но одновременно твердым тоном. — Дайте мне ключи. Марквелл протянул их через открытое окно — А теперь выходите. Постепенно трезвея, Марквелл вылез из машины. Свирепый ветер Обжигал лицо. Он зажмурился, защищая глаза от мелкого снега. — Прежде чем закрывать дверь, поднимите стекло. — Незнакомец стоял вплотную, преграждая путь к спасению. — Вот так, прекрасно. А теперь, доктор, пойдемте в гараж. — Это какое-то безумие. Почему… — Живее. Незнакомец крепко держал Марквелла под руку с левой стороны. Если кто-нибудь и наблюдал сцену из соседнего дома или с улицы, то темнота и падающий снег мешали рассмотреть оружие в руках человека. В гараже Марквелл по указанию незнакомца опустил тяжелую дверь. Взвизгнули холодные несмазанные петли. — Если вам нужны деньги… — Замолчите. Идите в дом. — Послушайте, моя пациентка рожает в больнице. — Если вы не заткнетесь, я выбью вам зубы рукояткой вот этого револьвера, и тогда вы уж наверняка замолчите. Марквелл поверил в угрозу. Незнакомец, как и Марквелл, был футов шести ростом и весил примерно сто восемьдесят фунтов, но производил пугающее впечатление. Его светлые волосы смерзлись, и теперь ручейки сбегали по лбу и вискам; он казался бесчувственным, как ледяное изваяние на зимнем карнавале. Марквелл не сомневался, что в рукопашной схватке незнакомец в бушлате легко одолеет любого противника, не говоря уже о пьяном враче средних лет, который уже давно не в форме.* * *
Боб Шейн задыхался в тесной комнате ожидания при родильном отделении. В комнате был низкий потолок, покрытый звукопоглощающими плитками, тусклые зеленые стены и единственное заиндевевшее окно. В ней было душно. Шесть кресел и два низких столика загромождали узкое пространство. Ему хотелось толкнуть дверь в коридор, добежать до главного входа на другом конце больницы и вырваться наружу на холодный ночной воздух без запаха дезинфекции и болезней. Но он должен был оставаться в комнате ожидания при родильном отделении, чтобы быть рядом с Джанет, если он вдруг ей понадобится. Роды всегда означали страдания, но только не такие мучительные и жестокие, какие уже столько времени терзали Джанет. Врачи не ожидали серьезных осложнений, но и не скрывали своей озабоченности. Боб понял причину своей клаустрофобии Он не боялся давящих стен. Он боялся смерти, смерти жены или еще не родившегося ребенка — или смерти их обоих. Кто-то открыл дверь, и в комнате появился доктор Яматта. Поднимаясь с кресла. Боб натолкнулся на столик, и журналы веером рассыпались по полу. — Как она, доктор? — Все так же. — Яматта был невысок, худощав, с добрым лицом и большими печальными глазами. — Доктор Марквелл скоро будет здесь. — Но ведь вы и так делаете все, что нужно? — Не сомневайтесь. Мы делаем все, что в наших силах. Просто я подумал, что вам будет приятно узнать, что скоро приедет ваш лечащий врач. — Да… Конечно… Благодарю вас. Послушайте, доктор, а я могу ее увидеть? — Пока нет, — отозвался Яматта. — Тогда когда же? — Когда… когда ей станет легче. — Я не понимаю. А когда ей станет легче? Когда, черт возьми, все это кончится? — Он тут же пожалел о своей несдержанности. — Я… простите меня, доктор. Просто… Просто я боюсь. — Понимаю. Я все понимаю.* * *
Внутренняя дверь вела из гаража в дом Марквелла. Они прошли через кухню, зажигая по пути свет. Комки тающего снега падали с их ботинок. Бандит заглянул в столовую, гостиную, кабинет, приемную для больных, затем скомандовал: — Теперь наверх. В спальне Марквелла он зажег одну из ламп. Взял у туалетного столика стул с прямой высокой спинкой, обитый материей с ручной вышивкой, и поставил его посередине комнаты. — Прошу вас, доктор, снимите перчатки, пальто и шарф. Марквелл подчинился, бросая одежду на пол, и по приказанию бандита сел на стул. Незнакомец положил револьвер на комод и вытащил из кармана моток крепкой веревки. Он полез под бушлат и вынул короткий нож с широким лезвием, который он, видимо, держал в ножнах у пояса. Он разрезал веревку на куски, явно намереваясь привязать Марквелла к стулу. Марквелл посмотрел на оружие на комоде, прикидывая, не удастся ли ему схватить револьвер. Встретился взглядом с ледяными голубыми глазами и понял, что его замысел столь же ясен врагу, как простодушная уловка ребенка взрослому. Светловолосый улыбнулся, словно говоря: «Ну давай, чего ждешь». Пол Марквелл хотел жить. Покорно, не сопротивляясь, он позволил незваному гостю привязать себя за руки и за ноги к стулу. Затягивая узлы, но не слишком туго, незнакомец выражал непонятную заботу о своем пленнике. — Я не хочу затыкать вам рот. Вы пьяны, кляп может вызвать у вас рвоту, и вы задохнетесь. Так что придется мне вам поверить. Только не пытайтесь звать на помощь, а то я вас убью на месте. Понятно? — Да. Когда бандит не ограничивался несколькими словами, а держал более продолжительную речь, он говорил с легким акцентом, столь неприметным, что Марквелл не мог определить, из каких он мест. Он съедал окончания некоторых слов, и временами в его произношении проскальзывали еле уловимые гортанные нотки. Незнакомец присел на край постели и положил руку на телефонный аппарат: — Дайте номер больницы. Марквелл удивился: — Зачем вам? — Не ваше дело, давайте номер, и все тут. А не дадите, я не стану его искать в телефонной книге, а выколочу его из вас. Напуганный Марквелл дал номер. — Кто там сегодня на дежурстве? — Доктор Карлсон. Херб Карлсон. — Он надежный человек? — Что вы хотите сказать? — Он лучше вас как доктор или такой же пропойца? — Я не пропойца. Я… — Вы безответственный эгоистичный алкоголик и полная развалина, и вы это знаете. А теперь отвечайте на мой вопрос: Карлсон — надежный человек? Внезапно подступившая к горлу тошнота была лишь частично вызвана чрезмерным потреблением виски; другой причиной была истина, прозвучавшая в словах незваного гостя. — Да, Херб Карлсон — надежный человек. И очень хороший доктор. — А кто сегодня старшая сестра? Марквелл на секунду задумался. — Кажется, Элла Хэнлоу. Точно не знаю. Если не Элла, то Вирджиния Кин. Незнакомец набрал номер окружной больницы и сказал, что он говорит от имени доктора Пола Марквелла. Он попросил к телефону Эллу Хэнлоу. Порыв ветра налетел на дом, загремел плохо запертым окном, засвистел в стропилах и вновь напомнил Марквеллу об урагане. Он смотрел на снег, что валил за окном, и опять им овладело чувство неясного беспокойства. Ночь была до такой степени переполнена событиями — молния, этот непонятный пришелец, — что внезапно он ощутил ее нереальность. Он сделал попытку выпутаться из веревок, притягивающих его к стулу, уверенный, что они» лишь часть пьяного сновидения и распадутся, как паутина, но они не поддались, и от усилия у него закружилась голова. Тем временем незнакомец говорил в трубку: — Это сестра Хэнлоу? Доктор Марквелл не сможет сегодня приехать. Вы говорите, что у его пациентки Джанет Шейн тяжелые роды? Вот как? Да, он знает. Он хочет, чтобы роды принимал доктор Карлсон. Нет-нет, боюсь, он никак не сможет приехать. Нет, не из-за погоды. Просто он напился. Нет, вы не ослышались. Он опасен для больных. Нет… В таком состоянии он не может взять трубку. Сожалею. В последнее время он много пил, но скрывал это, а сегодня он совершенно невменяем. Что-что? Я сосед. Ладно. Благодарю вас, сестра Хэнлоу. До свидания. Марквелл почувствовал злость и одновременно неожиданное облегчение от разоблачения его тайны. — Подонок, ты меня погубил. — Нет, доктор, это вы сами себя погубили. Ненависть к самому себе разрушила вашу жизнь. Из-за этого вас бросила жена. Ваш брак и без того был непрочным, это верно, но вы могли его спасти, будь жив Ленни, и даже после его смерти, если бы вы не ушли целиком и полностью в себя. Марквелл был потрясен: — Откуда, черт возьми, вы знаете, как это было у нас с Анной? И откуда вы знаете о Ленни? Я вас вижу впервые. Откуда вы все обо мне знаете? Не отвечая на вопросы, незнакомец бросил две подушки к изголовью кровати. Положил на покрывало ноги в мокрых грязных ботинках и растянулся на постели. — Что бы вы там ни думали, вы не виноваты в смерти сына. Вы только врач, а не чудотворец. А вот уход Анны — это ваша вина. Как и то, что вы превратились в настоящую угрозу для ваших больных. Марквелл попытался было возражать, но вздохнул и низко опустил голову. — Знаете, в чем ваша беда, доктор? — Скажите, ведь вы все знаете. — Ваша беда в том, что вам все доставалось легко, вы не знали, что такое горе. Ваш отец был богатым человеком, у вас было все, что пожелаете, вы учились в самых лучших школах. И хотя как врачу вам сопутствовал успех, вы никогда не нуждались в деньгах, а проживали наследство. Поэтому, когда Ленни заболел полиомиелитом, вы не знали, как бороться с несчастьем, у вас не было никакого опыта. У вас не было иммунитета против житейских невзгод, а значит, вы не могли им противостоять и впали в отчаяние в самой тяжелой его форме. Марквелл поднял голову и замигал, вглядываясь в незнакомца. — Не понимаю. — Постоянные страдания все-таки кое-чему вас научили, Марквелл, так что, если вы перестанете прикладываться к бутылке и научитесь ясно мыслить, для вас еще не все потеряно. У вас еще есть небольшой шанс исправиться. — А может, я не хочу исправляться? — Боюсь, что тут вы говорите правду. Мне кажется, вы страшитесь смерти, но не знаю, хватит ли у вас мужества, чтобы продолжать жить. Марквелл дышал винным перегаром и мятой. Во рту пересохло, язык распух. Он жаждал опохмелиться. Без надежды на успех он подвигал руками, привязанными к стулу. Наконец, презирая себя за жалостливый голос, но не в силах держаться с достоинством, он прохныкал: — Что вам от меня нужно? — Я не хочу, чтобы вы сегодня ехали в больницу. Я хочу быть точно уверен, что вы не будете принимать роды у Джанет Шейн. Вы превратились в мясника, потенциального убийцу, и на этот раз вас надо остановить… Марквелл облизал сухие губы. — Я до сих пор не знаю, кто вы такой. — И никогда не узнаете, доктор. Никогда.* * *
Никогда прежде Боб Шейн не испытывал такого страха. Он изо всех сил сдерживал слезы, потому что суеверно полагал, что открыто проявлять страх — это значит искушать судьбу, что может навлечь смерть на Джанет и младенца. Сгорбившись, опустив голову, он молил про себя: «Господи, ведь Джанет могла сделать лучший выбор. Она такая красивая, а я — настоящее чучело. Я всего-навсего простой бакалейщик, и моя лавчонка никогда не будет приносить большого дохода, а она все равно меня любит. Господи, она такая хорошая, добрая, скромная… она не должна умереть. Может, Ты хочешь забрать ее потому, что она уже достойна рая. Но я-то еще не достоин и нуждаюсь в ней, чтобы она могла сделать из меня хорошего человека». Дверь отворилась. Боб поднял голову. Доктор Карлсон и доктор Яматта в зеленых больничных халатах вошли в комнату. Их появление испугало Шейна, и он медленно поднялся с кресла. Глаза Яматты никогда не были такими грустными. Доктор Карлсон был высоким солидным мужчиной, который выглядел представительно даже в мешковатой больничной форме. — Мистер Шейн… Я очень сожалею. Очень сожалею, но ваша жена скончалась во время родов. Боб застыл на месте, словно ужасная новость обратила его в камень. Он почти не слышал, что говорит Карлсон. — Слишком узкий таз… одна из тех женщин, которых природа не предназначала для деторождения. Ей нельзя было беременеть. Сожалею… Очень сожалею… все, что было в наших силах… сильное кровотечение… но младенец… Слово «младенец» вывело Роберта из состояния паралича. Он неуверенно шагнул к Карлсону. — Вы сказали «младенец»? — Это девочка, — ответил Карлсон. — Здоровенькая маленькая девочка. Боб считал, что все потеряно. И вот теперь он смотрел на Карлсона, и в его душе зарождалась робкая надежда, что частица Джанет не умерла и что в конце концов он не совсем одинок в этом мире. — Это правда? Девочка? — Да, — подтвердил Карлсон. — Удивительно красивый ребенок. Она родилась с густыми темными волосами. Глядя на Яматту, Боб произнес: — Моя девочка выжила. — Да, — в свою очередь подтвердил Яматта. Горькая улыбка мелькнула у него на губах. — Вы должны благодарить доктора Карлсона. Боюсь, что миссис Шейн была обречена. А в менее опытных руках погибла бы и девочка. Все еще боясь поверить. Боб обратился к Карлсону: — Ребенок… Ребенок выжил, значит, мне есть за что благодарить судьбу. Врачи стояли в неловком молчании. Затем Яматта положил руку на плечо Боба Шейна, словно чувствуя, что тот нуждается в таком прикосновении. И хотя Боб был куда выше и тяжелее хрупкого доктора, он склонился к Яматте. Подавленный горем, он расплакался, и Яматта обнял его.* * *
Хотя незнакомец пробыл у Марквелла еще час, он молчал и не отвечал ни на один его вопрос. Погруженный в свои мысли, он лежал на кровати, уставившись в потолок и почти не двигаясь. По мере того как доктор трезвел, его начала одолевать мучительная головная боль. Как всегда во время похмелья, он испытывал к себе еще более острую жалость, чем та, которая вынуждала его пить. Наконец незваный гость посмотрел на своичасы: — Одиннадцать тридцать, мне пора уходить. — Он поднялся с кровати, подошел к стулу и вытащил из-под бушлата тот самый нож. Марквелл напрягся. — Я немного подрежу веревки, доктор. За полчаса вы сумеете из них выпутаться, если очень постараетесь. А у меня будет достаточно времени, чтобы убраться отсюда подальше. Пока человек, склонившись, подрезал веревки, Марквелл ждал, что лезвие ножа вот-вот вонзится ему между ребер. Но не прошло и минуты, как незнакомец опять спрятал нож и, задержавшись у двери спальни, сказал: — Вы еще можете исправиться, доктор. Не думаю, что у вас на это хватит воли, но, кто знает, может, я ошибаюсь. И он вышел. Минут десять, пока Марквелл старался освободиться от веревок, он время от времени слышал снизу какой-то шум. Видимо, гость искал, чем поживиться. И хотя он казался загадочным, вернее всего, он был обычным взломщиком со странной манерой поведения. В двадцать пять минут после полуночи Марквелл наконец высвободился. От трения веревок у него на запястьях выступила кровь. И хотя уже полчаса снизу не доносилось ни звука, он взял из ночного столика револьвер и осторожно спустился по лестнице. Он направился в кабинет, где принимал больных и где вор наверняка запасся наркотическими средствами; но никто не прикасался к двум белым высоким шкафам, где хранились лекарства. Он поспешил в библиотеку, уверенный, что найдет взломанным свой ненадежный сейф. Но сейф не был взломан. В растерянности он повернулся, чтобы уходить, и вдруг заметил гору пустых бутылок из-под виски, джина, текилы и водки в раковине при баре. Гость задержался лишь для того, чтобы найти запас спиртного и вылить его в раковину. К зеркалу в баре была приклеена клейкой лентой записка. Пришелец написал ее аккуратными крупными печатными буквами: Если вы не прекратите пить, если вы не примиритесь с мыслью о смерти сына, то не пройдет и года, как выстрелом в рот вы разнесете себе мозги. Это не предсказание, а непреложный факт. Сжимая в руках записку и револьвер, Марквелл обвел взглядом пустую комнату, словно незнакомец, как привидение, которое по своему желанию может появляться и исчезать, все еще незримо присутствовал здесь. — Кто вы такой? — спросил Марквелл. — Кто вы такой, черт побери!* * *
В одиннадцать часов на следующее утро, после ранней встречи с директором похоронного бюро по поводу погребения Джанет, Боб Шейн вернулся в больницу, чтобы посмотреть на свою новорожденную дочь. Он надел халат, шапочку, хирургическую маску, тщательно, под руководством сестры, вымыл руки, и только после этого ему разрешили войти в палату для новорожденных и осторожно взять Лору из кроватки. В палате находились еще девять новорожденных. Все они были по-своему хороши, но Боб мог с полной уверенностью и без преувеличения сказать, что Лора Джин была самой хорошенькой. И хотя у ангела в обычном представлении должны быть голубые глаза и светлые кудри, а у Лоры глаза были карие, а волосы каштановые, она была на вид настоящим ангелочком. За все десять минут, пока он держал ее на руках, она ни разу не заплакала, а только моргала, щурилась, зевала и смотрела по сторонам. Она выглядела печальной, будто знала, что лишилась матери и что в этом холодном неприветливом мире они с отцом могут рассчитывать только друг на друга. Большое окно, через которое родные могли наблюдать за новорожденными, занимало всю стену. Пять человек стояли за стеклом. Четверо из них улыбались, показывали пальцами и корчили гримасы, чтобы рассмешить младенцев. Пятым был блондин в морском бушлате, который стоял, засунув руки в карманы. Он не улыбался, не показывал на кого-нибудь из младенцев, не делал гримас. Он пристально разглядывал Лору. Прошло несколько минут, а незнакомец все смотрел на ребенка, и Боб ощутил беспокойство. Это был приятный, привлекательный и даже красивый мужчина, но в его лице угадывалась жестокость и еще что-то такое, чего Боб не мог выразить словами, но сознавал, что этот человек многое повидал и был способен на ужасные поступки. Он вдруг вспомнил сенсационные случаи похищения младенцев и их продажи на черном рынке. Он убеждал себя, что сходит с ума, воображает несуществующую опасность, и все из-за того, что, потеряв Джанет, он теперь страшился потерять и дочь. Но чем дольше светловолосый мужчина созерцал Лору, тем беспокойнее становилось на душе у Боба. Словно почувствовав это волнение, человек поднял на него глаза. Их взгляды скрестились. Взгляд синих глаз незнакомца был необычайно острым, пронизывающим. Страх Боба усилился. Он крепче прижал к себе дочь, словно незнакомец мог вломиться внутрь через окно и схватить ее. Он хотел было позвать кого-нибудь из сестер, чтобы та обратилась к человеку и выяснила, кто он такой. Внезапно человек улыбнулся. Широкая, сердечная, искренняя улыбка преобразила его лицо. В один миг из зловещей фигуры незнакомец превратился в доброжелателя. Он подмигнул Бобу через толстое стекло, выразительно артикулируя, произнес одно-единственное слово: «Красавица». Боб расслабился, улыбнулся, понял, что его улыбку скрывает маска, и кивнул в знак благодарности. Незнакомец еще раз взглянул на Лору, снова подмигнул Бобу и отошел от окна.* * *
Позже, когда Боб Шейн уехал домой, высокий человек в темной одежде приблизился к окну палаты. Его имя было Кокошка. Сначала он разглядывал младенцев, затем отвел взгляд в сторону и увидел свое бесцветное отражение в полированном стекле. Это было широкое плоское лицо с острыми чертами, губы тонкие и плотно сжатые, казалось, что у него их вообще нет. Дуэльный шрам рассекал левую щеку. Темные глаза были невыразительными, будто сделаны из жести, и очень схожи со злобными глазами акулы, охотящейся в темных океанских расселинах. Он развеселился, приметив, как резко его лицо контрастировало с невинными личиками младенцев за стеклом; улыбнулся, что было для него весьма редким проявлением чувств, но его лицо оставалось каменным и выглядело еще более зловещим. Он снова осмотрел палату. Легко отыскал Лору Шейн среди спеленутых детишек: карточка с именем каждого была прикреплена к спинке кроватки. «Почему такой интерес к тебе, Лора? — спросил он себя. — Почему твоя жизнь имеет такую значимость? Зачем все эти усилия, чтобы ты благополучно явилась в этот мир? Может быть, мне стоит тут же убить тебя и разрушить планы предателя?» Он мог без сожаления прикончить ее на месте. Он не в первый раз убивал детей, правда не таких крошечных. Он готов был на любое, самое страшное преступление во имя цели, которой посвятил всю свою жизнь. Девочка спала. Время от времени она причмокивала, ее личико жалобно морщилось, возможно, она печалилась о той спокойной жизни, которую вела во чреве матери. Наконец он принял решение не убивать ее. Еще не пришло время. — Я всегда могу потом прикончить тебя, малышка, — пробормотал он. — Сначала я узнаю, какую роль тебе отводит предатель в своих планах, вот тогда ты распрощаешься с жизнью. Кокошка пошел прочь от окна. Он знал, что расстается с девочкой на целых восемь лет.2
Дожди редки в Южной Калифорнии весной, летом и осенью. Сезон дождей начинается обычно в декабре и завершается в марте. Но в субботу второго апреля 1963 года тучи покрывали небо, а влажность была необычайно высокой. Боб Шейн распахнул дверь своей небольшой бакалейной лавки в Санта-Ана и выглянул наружу: все говорило о том, что приближается последний сильный ливень сезона. Фикусовые деревья в саду дома напротив и финиковая пальма на углу застыли в неподвижном воздухе и опустили листья, словно под тяжестью грядущей бури. Рядом с кассовым аппаратом негромко играло радио. Группа «Бич бойз» исполняла свой новый хит «Американский серфинг». С учетом погоды песня была столь же уместна, как и «Белое Рождество» в июле. Боб посмотрел на свои часы: три пятнадцать. «Дождь хлынет в три тридцать, — подумал он, — и это будет настоящий потоп». Торговля шла хорошо утром, а после обеда он сидел без дела. Сейчас в магазине не было покупателей. Бакалейной лавке, которая была семейным делом, грозила новая сильнейшая конкуренция со стороны сети однотипных магазинов таких компаний, как «Семь-Одиннадцать». Боб планировал расширить кулинарный отдел, увеличить ассортимент полуфабрикатов, но тянул с этим, поскольку кулинария требовала значительных затрат труда. Если надвигающаяся гроза будет очень сильной, то вряд ли стоит рассчитывать на большое число покупателей вечером. Он может пораньше закрыть лавку и повести Лору в кино. Повернувшись, он сказал: — Пойди приготовь лодку, милочка. Лора, погруженная в работу, стояла на коленях у нижней полки как раз напротив кассы. Боб принес со склада четыре картонки консервированных супов, и теперь за дело взялась Лора. Ей было всего восемь, но она была надежной опорой и любила пометать отцу в магазине. Наклеив с помощью «пистолета» ценник на каждую банку, она расставляла их на полке с учетом срока годности товара: новые банки позади еще не проданных. Она неохотно подняла голову. — Лодка? Какая лодка? — Там наверху, в квартире. Лодка в стенном шкафу. Ты только посмотри на небо, она нам может сегодня пригодиться. — Глупышка, — отозвалась Лора. — У нас в стенном шкафу нет лодки. — Хорошенькая голубая лодочка. — Да неужели? В шкафу? Каком еще шкафу? Он начал размещать на металлическом стенде у кассы пачки диетического печенья рядом с пакетами крекеров. — Шкаф в библиотеке, будто ты не знаешь. — У нас нет библиотеки. — Разве? Ну раз так, значит, не в библиотеке. Она в шкафу в жабиной комнате. Лора хихикнула. — Какой такой комнате? — Уж не хочешь ли ты сказать, что ничего не слыхала о жабе? Усмехаясь, она затрясла головой. — В настоящее время у нас снимает комнату достопочтенный и добропорядочный джентльмен из Англии. Джентльмен-жаба находится здесь по поручению Ее Величества. Вспыхнула молния, и в апрельском небе прогрохотал гром. Треск электрических разрядов заглушил песенку «Ритм дождя» группы «Каскады». Лора не обращала внимания на грозу. Она не боялась того, что пугало большинство детей. Она была столь уверена в себе и самостоятельна, что иногда походила на маленькую старушку, облаченную в детское платье. — А почему Королева поручает дела жабе? — Жабы — отличные бизнесмены, — ответил Боб, вскрывая пачку диетического печенья и откусывая кусочек. После смерти Джанет и переезда в Калифорнию, где он начал все сначала, он прибавил пятьдесят фунтов. Он и прежде не ходил в красавцах. А теперь, в тридцать восемь, это был приятно округлый мужчина, у которого оставалось мало шансов вскружить голову женщине. Удача не баловала его и в делах: никто еще не нажил богатства, держа бакалейный магазин в пригороде. Но у него была Лора, и он был примерным отцом, и она всей душой отвечала на его любовь, поэтому ему было все равно, что думает о нем остальной мир. — Да, жабы действительно отличные бизнесмены. А эта семья служит Короне уже столетия. Между прочим, этот джентльмен возведен в рыцарское достоинство. Он сэр Томас Жаба. Молния вспыхнула еще ярче. Раскаты грома стали оглушительными. Лора кончила расставлять товар, поднялась с колен и вытерла руки о белый передник, прикрывавший майку и джинсы. Густые каштановые волосы и большие карие глаза делали ее очаровательной и очень похожей на мать. — А сколько сэр Томас платит за комнату? — Шесть пенсов в неделю. — Он живет в комнате рядом со мной? — Да-да, в той самой комнате, где в шкафу спрятана лодка. Она снова рассмеялась, — Пусть только не храпит. — Он и тебя тоже об этом просит. Изношенный проржавевший «Бьюик» остановился перед магазином, и стоило водителю отворить дверь, как третий всполох молнии расколол темнеющее небо. Словно расплавленная лава, пылающий свет затопил улицу вместе с «Бьюиком» и проезжавшими машинами. Последовавший гром потряс дом от крыши до основания, бушующее небо и земля слились в единое целое, казалось, началось землетрясение. — Вот это да! — Лора бесстрашно приблизилась к окну. Сильный порыв западного ветра закрутил листья и мусор, хотя еще не упало ни капли дождя. Человек, вылезший из потрепанного голубого «Бьюика», изумленно взирал на небо. Одна молния за другой пронзали облака, рассекали воздух, пожаром отражались в стеклах и хроме автомобилей, и каждую из них сопровождал раскат грома, будто некто на небесах изо всех сил колотил по земле мощными кулаками. Следующая молния заставила Боба вздрогнуть от ужаса. Он закричал Лоре: — Милочка, отойди от окна! Она бросилась к нему за прилавок, позволила обнять себя, скорее не из-за своего, а его собственного страха. Человек из «Бьюика» поспешил укрыться в магазине. Показывая на бушующие небеса, он воскликнул: — Вы когда-нибудь такое видели? Вот это да! Гром стих, и вернулась тишина. Пошел дождь. Крупные капли сначала редко ударяли по стеклу, потом хлынули сплошным водопадом, отрезав обитателей маленькой лавки от внешнего мира. Потенциальный покупатель повернулся к Бобу и с улыбкой сказал: — Ничего себе светопреставление. Боб хотел было ответить, но, присмотревшись к клиенту, смолк, почуяв опасность, как олень чует присутствие затаившегося волка. На визитере были разбитые нечищеные высокие ботинки на шнуровке, грязные джинсы и неопрятная куртка; — расстегнутая на груди, из-под которой виднелась заношенная майка. Давно не мытые волосы торчали в разные стороны, а небритое лицо покрывала щетина. У него были воспаленные, налитые кровью глаза. Наркоман, точно наркоман. По пути к прилавку он вытащил из куртки револьвер, и Боб принял это как должное. — Давай кассу, задница. — Сейчас, сейчас, только не волнуйся. Наркоман облизнул растрескавшиеся губы. — Не вздумай поднять тревогу, ублюдок. — Ладно, ладно, твоя взяла. — Одной рукой Боб подталкивал Лору, чтобы спрятать ее за спину. — Оставь девчонку, чтобы я мог ее видеть! Я хочу ее видеть. А ну-ка перестань ее прятать, твою мать, что я тебе говорю! — Ладно, ладно, успокойся. Наркоман был весь напряжение, ощерившись застывшей улыбкой, он заметно трясся всем своим телом. — Так, чтобы я мог ее видеть. Займись кассой и не вздумай шарить под прилавком, искать револьвер, не то я вышибу твои паршивые мозги. — У меня нет оружия, — заверил Боб. Он взглянул на окна, по которым стекали струи дождя, в надежде, что никто из покупателей их не посетит, пока идет налет. Наркоман нервничал и мог уложить на месте первого же, кто откроет дверь. Лора хотела спрятаться за отца, но бродяга предупредил: — А ну стой на месте! Боб сказал: — Ей только восемь… — Она сучка, они все гребаные сучки, и большие, и маленькие… — Его пронзительный голос все время срывался на визг. Судя по всему, он был напуган не меньше Боба, что приводило того в еще больший ужас. И хотя все его внимание было сосредоточено на бродяге и его револьвере, Боб почему-то слышал, как радио играет песню Малыша Дэвиса «Конец света», что звучало для него абсолютно пророчески. Он горячо молил, чтобы песня поскорее кончилась и чтобы вместе с концом света в песне не завершилась и их с Лорой жизнь; подобное суеверие было вполне оправданным для человека под дулом револьвера. — Вот деньги, все что есть, бери. Сгребая деньги с прилавка и засовывая их в карманы грязной куртки, бродяга спросил: — У тебя есть складская комната за магазином? — Зачем тебе? Движением руки наркоман в злобе смел на пол диетическое печенье, леденцы и жевательную резинку. Он приставил револьвер к животу Боба. — У тебя есть склад, задница, я точно знаю. Пойдем-ка туда. У Боба вдруг пересохло во рту. — Послушай, забирай деньги и уходи. Ты ведь за этим пришел. Уходи. Прошу тебя, уходи. Теперь, когда у него в кармане лежали деньги, а Боб был явно напуган, наркоман чувствовал себя более уверенно, хотя еще не смог унять дрожь. Ухмыляясь, он сказал: — Не бойся, я не собираюсь никого убивать. Мне бы только побаловаться с этой маленькой сучкой, а там меня только и видели. Боб клял себя, что не обзавелся револьвером. Лора прижималась к нему, ища защиты, а он ничем не мог ей помочь. По пути на склад он мог бы броситься на бродягу, попытаться вырвать у него револьвер. Но ему мешал лишний вес, он был не в форме. Он не сможет совладать с ним, получит пулю в живот и останется умирать на полу, а мерзкое животное утащит Лору в заднюю комнату и там изнасилует. — А ну пошевеливайся, — нетерпеливо приказал бродяга. — Давай, давай! Раздался выстрел и одновременно крик Лоры, и Боб, защищая, крепко прижал ее к себе, но выстрел предназначался бродяге. Пуля вошла в левый висок, снесла часть черепа, и он с маху рухнул на рассыпанное на полу печенье, крекеры и жевательную резинку; смерть была столь мгновенной, что он не успел нажать на курок собственного револьвера. В ошеломлении Боб взглянул направо и увидел высокого блондина с револьвером в руке. Он явно проник в дом через заднюю служебную дверь и тихо прокрался через складское помещение. А в лавке он без предупреждения застрелил бродягу. Спокойно, без эмоций, словно опытный убийца, он созерцал мертвое тело. — Слава Богу, полиция, — сказал Боб. — Я не полиция. — На человеке были серые брюки, белая рубашка и темный спортивный пиджак, а под мышкой виднелась кобура. Боб в растерянности соображал, не был ли спаситель следующим налетчиком, готовым продолжить начатое предыдущим и столь радикально прерванное мероприятие. Незнакомец поднял голову. Взгляд его ярко-голубых глаз был прямым, проницательным. Боб не сомневался, что видел прежде этого человека, но не мог вспомнить где и когда. Незнакомец посмотрел на Лору: — Как ты себя чувствуешь, дорогая? — Хорошо, — отозвалась она, по-прежнему прижимаясь к отцу. Резкий запах мочи исходил от убитого: в миг смерти он потерял контроль над мочевым пузырем. Обойдя мертвое тело, незнакомец пересек магазин и закрыл на засов входную дверь. Опустил на ней металлическую штору. Он озабоченно посмотрел на широкие окна витрин, по которым непрерывно стекали дождевые потоки, мешая разглядеть что-нибудь снаружи. — Окна, видимо, никак не прикроешь. Надо надеяться, что никто не станет заглядывать внутрь. — Что вы с нами сделаете? — спросил Боб. — Я с вами? Да ничего. Я не псих. Мне от вас ничего не надо. Я просто запер дверь, чтобы мы могли отработать версию, которую вы выдадите полиции. Нам надо уточнить все до мелочи, прежде чем кто-нибудь явится и увидит тело. — Зачем мне версия? Склонившись над трупом, незнакомец вытащил из карманов запятнанной кровью куртки ключи от автомобиля и пачку денег. Выпрямившись, он сказал: — Ладно, я вам объясню: вы должны сказать, что нападавших было двое. Один заинтересовался Лорой, а другой и слышать не хотел, чтобы насиловать маленькую девочку, а хотел поскорее убраться отсюда. Они начали спорить, потом ссориться, второй пристрелил этого ублюдка и скрылся с деньгами. Вы можете говорить убедительно? Боб никак не мог поверить, что они с Лорой спасены. Одной рукой он по-прежнему крепко прижимал к себе дочь. — Я… Я ничего не понимаю. Вы ведь не сообщники. Вы не виноваты, что убили его, ведь, в конце концов, он сам собирался нас убить. Почему бы нам не сказать правду? Возвращая Бобу пачку денег, незнакомец спросил: — Какова же правда? — Вы… вы тут оказались случайно и увидели, что это ограбление. — Я не просто так здесь оказался, Боб. Я охранял вас с Лорой. — Человек вложил револьвер в кобуру под мышкой и взглянул на Лору. Она смотрела на него широко открытыми глазами. Он улыбнулся и негромко пояснил: — Я ваш ангел-хранитель. Нисколько не веря в ангелов-хранителей, Боб спросил: — Вы нас охраняли? Зачем, как долго и где вы прятались? Незнакомец нетерпеливо ответил, и в его голосе Боб впервые заметил легкий неуловимый акцент. — Это моя тайна. — Он взглянул на омываемые дождем окна. — Я не хочу, чтобы меня допрашивала полиция. Так что постарайтесь запомнить эту версию. Боб спросил: — Откуда я вас знаю? — Вы меня не знаете. — Нет, я точно видел вас прежде. — Вы ошибаетесь. Кстати, вам и не надо меня знать. А теперь, ради Бога, спрячьте деньги, чтобы касса была пустой: странно было бы, если бы второй бродяга скрылся без денег. Я отведу его машину за пару кварталов отсюда, так что можете дать полицейским се описание. Да и мое тоже. Это не имеет значения. Снаружи прогремел гром, но теперь это были приглушенные отдаленные раскаты, а не те взрывы, с которых началась буря. Во влажном воздухе медленно крепчал запах крови с привкусом меди, мешаясь с вонью мочи. Почти успокоенный. Боб опирался на прилавок, по-прежнему одной рукой прижимая Лору к себе. Он спросил: — А могу я сказать, что вы помешали грабежу, застрелили этого типа, но не хотели неприятностей и поэтому ушли? Незнакомец нетерпеливо повысил голос: — Как просто: вооруженный человек оказался поблизости при налете и решил разыграть героя? Полиция не поверит в такую за уши притянутую байку. — Но так оно и было… — Только они это не скушают! Послушайте, может случиться, они станут подозревать, что это вы пристрелили наркомана. А так как у вас нет оружия, по крайней мере зарегистрированного, они могут подумать, что у вас был нелегальный пистолет и что вы от него избавились, когда пристрелили этого типа, а потом состряпали историю о Робин Гуде, который явился невесть откуда для вашего спасения. — Я честный торговец с хорошей репутацией. В глазах незнакомца промелькнула грусть, печальное воспоминание. — Боб, вы хороший человек, но вы немного наивны. — О чем вы». Незнакомец поднял руку, призывая к молчанию. — К сожалению, в критических ситуациях репутация человека мало что значит. Большинство людей доброжелательны и готовы поверить вам на слово, но отдельные озлобленные личности могут пойти на все, чтобы уничтожить, погубить других людей. — Его голос упал до шепота, и, хотя он не спускал глаз с Боба, он был далеко отсюда, в иных местах и с иными людьми. — Зависть, Боб, съедает их заживо Будь у вас деньги, они завидовали бы вашему богатству. Нет денег, так они завидуют, что у вас такая добрая, умная, любящая дочь. Они будут завидовать вам только потому, что вы не умираете от зависти к ним самим. Одна из величайших горестей человеческой жизни состоит в том, что люди не находят счастья в своей собственной жизни, а счастливы только бедами других. Боб не мог опровергнуть обвинения в наивности, он знал, что незнакомец говорит правду. Эта мысль заставила его вздрогнуть. После минутного молчания страх исчез с лица незнакомца и сменился выражением озабоченности. — А когда полицейские решат, что вы выдумали этого спасителя Робин Гуда, тогда они начнут думать, что, возможно, бродяга приходил сюда не для грабежа, а потому, что он ваш знакомый, что вы с ним что-то не поделили, а может, даже и запланировали убийство и пытаетесь замаскировать его под грабеж. Именно так у них работает голова, Боб. А если они не смогут вам это пришить, то вылезут из кожи, чтобы отравить вам жизнь. Вы хотите, чтобы Лора прошла через все это? — Нет. — Тогда соглашайтесь. Боб кивнул: — Я согласен. Но кто вы такой, черт побери? — Не имеет значения. Да и времени у нас сейчас нет. — Он зашел за прилавок и наклонился к Лоре, приблизив свое лицо к ее лицу. — Ты поняла, что я сказал отцу? Если полиция спросит тебя, что случилось… — Вы пришли с этим человеком. — Она не глядя махнула рукой в сторону трупа. — Правильно. — Вы с ним дружили, — продолжала она, — но потом стали спорить из-за меня, хотя я не знаю почему, я ничего такого… — Не будем выяснять это, милая, — сказал незнакомец. Лора кивнула. — И вы его застрелили, выбежали на улицу с деньгами, сели в машину и уехали, а я очень испугалась. Незнакомец посмотрел на Боба. — А ей всего восемь лет. — Она умная девочка. — И все же будет лучше, если они не станут на нее слишком давить. — Я им не позволю. — А станут, — сказала Лора, — я буду плакать, и они отвяжутся. Незнакомец улыбнулся. Он так ласково смотрел на Лору, что Боб ощутил беспокойство. Но в нем не было ничего от того маньяка, который хотел утащить Лору на склад; его лицо выражало нежность и расположение. Он погладил ее по щеке. К великому удивлению Боба, в глазах незнакомца появились слезы. Он заморгал, смахивая их. — Спрячьте деньги, Боб. Помните, что я их забрал. Боб осознал, что все еще держит в руках пачку банкнот. Он затолкал ее в карман брюк под широким передником. Незнакомец отпер дверь и поднял металлическую штору. — Береги ее. Боб. Она у нас особенная, — сказал незнакомец и, не закрывая двери, выскочил под дождь, сел в «Бьюик» и стремительно, с визгом шин, тронулся с места. По-прежнему играло радио, но Боб не слышал его с тех самых пор, как звучал «Конец света», перед выстрелом, убившим наркомана. Теперь Шелли Фабарес пела «Джонни-ангела». Вдруг он вновь услышал шум дождя, и не просто как глухой стук и шорох вдали, а действительно услышал, как дождь бешено колотит по окнам и крыше наверху над квартирой. Несмотря на открытую дверь, через которую порывами врывался ветер, запах крови и мочи нестерпимо усилился, и так же внезапно Боб вышел из транса и понял, как близко смерть подошла к его драгоценной Лоре. Твердя ее имя, он подхватил ее на руки, прижал к груди, гладил по голове. Он прижался лицом к ее шее, вдыхал свежий запах кожи, ощущал биение пульса и благодарил Бога за то, что она жива. — Я так люблю тебя, Лора. — Я тоже люблю тебя, папочка. Но теперь нам пора вызывать полицию. — Ты права, — согласился он, неохотно опуская ее на пол. Слезы слепили ему глаза. В растерянности он вдруг забыл, где стоит телефон. Лора уже сняла трубку. Она протягивала се ему. — Хочешь, я сама позвоню, папочка? Номер тут на диске. Давай я позвоню. — Нет, я сам, девочка. — Сдерживая слезы, он взял у нее аппарат и сел на старую деревянную табуретку за кассой. Она положила ему руку на плечо, понимая, что он нуждается в ее прикосновении. У Джанет был сильный характер. Но сила воли и самообладание Лоры не соответствовали ее возрасту, и Боб Шейн удивлялся, откуда это у нее. Может быть, она полагалась на себя оттого, что росла без матери. — Папочка! — Лора, напоминая, пальцем стучала по телефону. — Ты должен позвонить в полицию, ты не забыл? — Да, да. — Задыхаясь от запаха смерти, заполнившего магазин, он набрал номер экстренного вызова.* * *
Задумчиво поглаживая шрам на щеке, Кокошка сидел в машине напротив маленькой бакалеи Боба Шейна. Дождь прекратился. Полиция уже уехала. С наступлением темноты вспыхнули неоновые вывески магазинов и зажглись фонари, но, несмотря на эту иллюминацию, темный, слабо поблескивающий асфальт мостовой и тротуара; казалось, поглощал, а не отражал яркий свет. Кокошка прибыл сюда одновременно со Штсфаном, этим светловолосым и голубоглазым предателем. Он слышал выстрел, видел, как Штефан скрылся на автомобиле убитого, он смешался с толпой зевак по приезде полиции и таким образом был неплохо осведомлен о случившемся в магазине. Он ни на секунду не поверил в абсурдное утверждение Боба Шейна, что Штефан один из сообщников убитого. Штефан был не врагом, а их добровольным защитником и, без сомнения, не открыл им. Кем он в действительности является. Лора была вновь спасена. Но зачем? Кокошка попытался разгадать, какую роль девочка может играть в планах предателя, ни зашел в тупик. Он понимал, что расспросы девочки ничего не дадут: она слишком мала, чтобы ей доверили важную тайну. Причина ее спасения была для нее самой такой же загадкой, как и для Кокошки. Он был уверен, что и отец ничего не знает. Именно девочка, а не отец интересовала Штефана, поэтому Боба Шейна наверняка не посвятили в тайну личности и намерений Штефана. В конце концов Кокошка подъехал к ближнему ресторану, пообедал, а затем, когда уже совсем стемнело, вернулся к магазину. Он поставил машину на боковой улочке в тени широкой кроны финиковой пальмы. В магазине было темно, но в окнах квартиры на втором этаже горел свет. Из глубокого кармана плаща он извлек револьвер. Это был короткоствольный «кольт-агент» тридцать восьмого калибра, компактный, но мощный. Кокошка был неравнодушен к оружию хорошей конструкции и работы, а этот револьвер был ему особенно по руке: это была сама Смерть в стальной оболочке. Кокошка мог бы перерезать телефонные провода в доме Шейнов, тихо взломать дверь, убить девочку и отца и незаметно скрыться, прежде чем на выстрелы прибудет полиция. Он обладал талантом и склонностью к такого рода эскападам. Но, если он убьет их, не зная, почему он их убивает, не понимая, какую роль они играют в планах Штефана, потом может обнаружиться, что их уничтожение было ошибкой. Прежде всего надо выяснить цели Штефана. Он неохотно спрятал револьвер в карман.3
В безветрии ночи дождь прямыми струями падал на город, и каждая капля была неимоверно тяжелой. Дождь громко барабанил по крыше и переднему стеклу небольшого черного автомобиля. В час ночи в этот вторник в конце марта улицы, поливаемые дождем и затопленные на некоторых перекрестках, были пустынными, за исключением военных машин. Штефан избрал окружной путь до Института, чтобы избежать известных ему контрольно-пропускных пунктов, но боялся натолкнуться на вновь выставленные заставы. Его документы были в порядке, а недавно оформленное разрешение избавляло его от соблюдения нового комендантского часа. Тем не менее он не мог допустить обыска машины, где в чемодане на заднем сиденье были сложены медный провод, детонаторы и пластиковая взрывчатка, на которые у него не было официального разрешения. От дыхания запотело стекло, дождь мешал разглядеть смутные очертания призрачных улиц, изношенные щетки плохо сгоняли воду, а затемненные фары ограничивали поле зрения, и он чуть не пропустил узкую мощенную камнем улочку, что была позади Института. Машина резко, с визгом шин, обогнула угол, и ее слегка занесло на скользких булыжниках. Штефан остановился в темноте неподалеку от заднего входа, вышел из машины и взял чемодан с сиденья. Институт помещался в неприметном четырехэтажном кирпичном здании с толстыми решетками на окнах. На всем вокруг лежал мрачный отпечаток, хотя трудно было подозревать, что здание хранит секреты, которые в корне изменят мир. Металлическая дверь на скрытых укрепленных петлях была покрашена в черный цвет. Он нажал кнопку, услыхал звонок внутри и, нервничая, стал ждать ответа. На нем были резиновые сапоги и плащ с поднятым воротником, но он был без шляпы и зонта. Холодный дождь стекал по мокрым прилипшим волосам и проникал за шиворот. Дрожа, он взглянул на узкую щель окна в стене рядом с дверью. Это была прорезь шириной пятнадцать и высотой тридцать сантиметров, закрытая зеркальным стеклом, прозрачным изнутри. Он терпеливо слушал, как дождь стучит по крыше машины, хлещет по лужам и булькает, стекая ручьями в ближайший сток. С холодным бормотанием дождевые струи шевелили листья платанов у обочины. Над дверью зажегся свет. Желтое сияние под цилиндрическим абажуром было сконцентрировано и направлено прямо вниз на него. Штефан улыбнулся зеркальному окну и за ним дежурному, которого он не видел. Свет наверху погас, лязгнули отпираемые засовы, и дверь распахнулась внутрь. Он знал дежурного: Виктор, как там его, тучный человек лет пятидесяти с коротко подстриженными седыми волосами и очками в металлической оправе, за грозным видом которого скрывался мягкий характер и который, подобно курице-наседке, пекся о здоровье друзей и знакомых, — Позвольте спросить вас, господин Кригер, что вы делаете на улице в такой ливень? — Мне не спится. — Мерзкая погода. Да что же вы не входите! Вы можете простудиться. — Я беспокоился, что не кончил работу, и решил закончить ее, раз не сплю. — Вы загоните себя в могилу, честное слово. Штефан вошел в проходную и, пока дежурный запирал дверь, лихорадочно искал в памяти какую-нибудь деталь из личной жизни Виктора. — Судя по вашему виду, ваша жена по-прежнему готовит для вас вкусные запеканки из макарон, помните, вы мне рассказывали. Виктор обернулся и, добродушно смеясь, похлопал себя по животу. — Могу поклясться, она вошла в сговор с дьяволом, чтобы ввести меня в искушение, перво-наперво в грех обжорства. А что это у вас, господин Кригер? Чемодан? Вы переезжаете? Вытирая с лица дождевые капли, Штефан ответил: — Научные документы. Взял их домой пару недель назад, работал с ними по вечерам. — Что, у вас совсем нет личной жизни? — Раз в две недели я выкраиваю для себя двадцать минут. Виктор неодобрительно пощелкал языком. Он подошел к столу, занимавшему треть тесной комнаты, взял трубку и позвонил второму ночному дежурному, который располагался в такой же проходной у главного входа в Институт. По правилам, когда кого-то впускали в здание в нерабочее время, дежурный всегда предупреждал коллегу на другой стороне, прежде всего чтобы избежать ложной тревоги и не застрелить ложного нарушителя. Роясь в карманах в поисках связки ключей, Штефан подошел ко второй, внутренней, двери; вода, стекая с его плаща, замочила истертую ковровую дорожку. Как и наружная дверь, эта тоже была стальной и со скрытыми петлями. Открыть ее можно было только двумя ключами одновременно: один находился у служащего, имевшего на то разрешение, а другой — у дежурного. Деятельность Института была столь необычной и секретной, что ночной дежурный не имел доступа в лаборатории и комнаты, где хранились документы. Виктор положил трубку. — Как долго вы здесь пробудете, господин Кригер? — Часа два. Сегодня еще кто-нибудь работает? — Никто. Вы единственный мученик. А мучеников мало кто ценит. Даю слово, вы себя уморите, а ради чего? Кто о вас вспомнит? — Элиот написал: «Святые и мученики правят из могилы». — Элиот? Он вроде бы поэт? — Т. С. Элиот, да, он поэт. — «Святые и мученики правят из могилы»? Что-то я о нем не слыхал. Он не похож на признанного поэта. Смахивает на подрывной элемент. — Виктор добродушно расхохотался, его явно забавляло нелепое предположение, что его трудолюбивый друг может оказаться предателем. Вместе они отперли внутреннюю дверь. Штефан втащил чемодан со взрывчаткой в холл на первом этаже и зажег свет. — Если у вас войдет в привычку работать по ночам, — сказал Виктор, — то я подкормлю вас пирогами, которые печет моя жена. — Спасибо, Виктор, надеюсь, что это не станет привычкой. Дежурный закрыл металлическую дверь. Автоматически щелкнул замок. Оставшись один, Штефан не в первый раз возблагодарил небо за свою выигрышную наружность: светловолосый, с правильными чертами лица, голубоглазый. Именно поэтому он мог смело внести взрывчатку в Институт, не опасаясь обыска. В нем не было ничего темного, непонятного, подозрительного; он олицетворял идеал, особенно когда его лицо озаряла ангельская улыбка, и таким людям, как Виктор, которые слепо повиновались государству и кому сентиментальный патриотизм мешал разбираться в очень многих вещах, не приходило в голову сомневаться в его преданности родине, людям. Он поднялся на лифте на третий этаж и направился прямо к себе в комнату, включил на столе лампу на высокой гибкой ножке. Сняв сапоги и плащ, он вытащил папку из шкафа и разложил ее содержимое на столе, чтобы создать полное впечатление, что он занят работой. Надо было сделать все возможное, чтобы отвести подозрение, на случай пусть даже маловероятного появления в середине ночи еще одного из сотрудников. С чемоданом в одной руке и заранее приготовленным карманным фонарем в другой он, минуя четвертый этаж, поднялся по лестнице до самого чердака. Свет фонаря озарил толстые стропила с торчащими кое-где плохо забитыми гвоздями. И хотя на чердаке был настил из неструганых досок, его не использовали под склад, и он был пуст, за исключением серого слоя пыли и паутины. Под крутой, крытой черепицей крышей в центре чердака можно было выпрямиться во весь рост, а ближе к краю ему придется работать согнувшись и стоя на коленях. Крыша была всего в нескольких сантиметрах, и ровный гул дождя напоминал рев моторов бесчисленных эскадрилий бомбардировщиков, идущих на бреющем полете. Это был пророческий образ, потому что Штефан верил, что этому городу уготована именно такая неотвратимая участь — разрушение. Он открыл чемодан. Работая с быстротой и ловкостью специалиста-взрывника, он разместил пакеты пластиковой взрывчатки так, чтобы направить силу взрыва вверх и вниз. Взрыв должен был не просто снести крышу, но и разрушить средние этажи, чтобы тяжелая черепица и крыша рухнули вниз, сметая все на своем пути. Он спрятал пластиковые заряды между стропилами и в углах чердака и даже приподнял несколько половых досок и засунул под них взрывчатку. Снаружи буря на мгновение стихла. Но скоро новые зловещие раскаты грома раскололи ночь, и дождь хлынул с еще большей силой. Задул долгожданный ветер, завывая и голося в водостоках и под карнизами; странный заунывный голос, казалось, угрожал городу и одновременно оплакивал его. Заледенев на холодном чердаке, Штефан делал свою тонкую работу дрожащими руками. И, несмотря на дрожь, его внезапно бросило в пот. Он вставил детонатор в каждый заряд и протянул провода от всех зарядов в один из углов чердака. Он присоединил их к одному общему медному проводу и опустил его в вентиляционный колодец, который шел вниз до самого подвала. Заряды и провода были спрятаны достаточно надежно, их нельзя было обнаружить поверхностным взглядом, только открыв дверь на чердак. Но при более внимательном осмотре или использовании чердака Под склад провода и пластик были бы, конечно, обнаружены. Нужно было, чтобы в течение двадцати четырех часов никто не входил на чердак. Это представлялось не такой уж невыполнимой задачей, поскольку он был единственным человеком в Институте, посетившим чердак за многие месяцы. Завтра ночью он привезет сюда второй чемодан и установит заряды в подвале. Два взрыва, сверху и снизу, сокрушат здание, и это единственный путь превратить его» вместе с содержимым, в груду обломков камня и кусков искореженного железа. После взрыва, а за ним пожара тут не останется никаких документов, чтобы продолжить опасные исследования. Большое количество взрывчатки, как бы продуманно он ни обработал и ни разместил ее, повредит дома вокруг Института, и он опасался, что при взрыве погибнут ни в чем не повинные люди. Но другого выхода не было. Он не решился уменьшить количество взрывчатки, оно было необходимо для полного уничтожения всех документов и их копий, иначе работу можно будет быстро возобновить. Этому проекту следовало немедленно положить конец, от этого зависела судьба всего человечества. А ему придется взять на душу гибель невинных людей. За два часа, около трех утра, он закончил работу на чердаке. Он вернулся в свою комнату на третьем этаже и некоторое время сидел за столом. Он не мог уйти, пока не высохнут его влажные от пота волосы и он не уймет наконец дрожь; все это могло вызвать подозрение Виктора. Он закрыл глаза. Представил лицо Лоры. Мысль о ней всегда его успокаивала. Сам факт ее существования умиротворял и поддерживал его.4
Друзья Боба Шейна не хотели, чтобы Лора присутствовала на похоронах своего отца. Они считали, что для двенадцатилетней девочки это будет суровым испытанием. Однако Лора настаивала, она хотела во что бы то ни стало в последний раз попрощаться с отцом, и тут никто не мог ее остановить. Четверг двадцать четвертого июля 1967 года был самым ужасным днем в ее жизни, более печальным, чем вторник, когда умер отец. Безразличие, вызванное шоком, постепенно исчезло, и Лора, пробуждаясь к жизни, с трудом сдерживала и контролировала свои чувства. Она начала понимать, как много потеряла. Она выбрала в своем гардеробе синее платье, потому что у нес не было черного. Она надела черные туфли и синие носки, она беспокоилась насчет носков, потому что они казались ей детскими, несерьезными. Но она никогда прежде не носила нейлоновых чулок и не решилась впервые надеть их на похороны. Она знала, что отец будет смотреть на нее сверху с небес во время службы, и хотела быть такой, какой он привык ее видеть. Ему было бы стыдно за нее, надень она прозрачные нейлоновые чулки: неуклюжий подросток, который старается походить на взрослую девушку. В зале при похоронном бюро, где проходила заупокойная служба, она сидела в первом ряду между Корой Ланс, хозяйкой дамской парикмахерской неподалеку от бакалейной лавки Шейна, и Анитой Пассадополис, которая вместе с Бобом занималась благотворительностью от пресвитерианской церкви св. Андрея. Им обеим было под шестьдесят, и, как добрые бабушки, они старались поддержать Лору, ласково прикасаясь к ней и бросая на нее озабоченные взгляды. Они напрасно беспокоились. Она не собиралась плакать, кричать и рвать на себе волосы. Она понимала, что такое смерть. Это удел каждого. Смертны все без исключения: люди, животные, птицы, растения. Даже древние секвойи, и те в конце концов умирают, хотя они и прожили двадцать или тридцать человеческих жизней, что казалось несправедливым. С другой стороны, прожить тысячу лет деревом куда скучнее, чем сорок-пятьдесят лет счастливым человеком. Отцу было всего сорок два, когда у него остановилось сердце от внезапного приступа, что, конечно, было очень рано. Но так уж устроен мир: слезами горю не поможешь. Лора гордилась своей рассудительностью. Кроме того, смерть не означала конца человеческого существования. Наоборот, смерть была только его началом. За нею следовала другая, лучшая жизнь. Лора верила в это, потому что так сказал ей отец, а отец всегда говорил правду. Отец был самым правдивым человеком и таким добрым, мягким. Когда пастор подошел к кафедре рядом с гробом,Кора Ланс склонилась к Лоре: — Как ты себя чувствуешь, дорогая? — Я? Хорошо, — ответила она, отводя взгляд. Ей не хватало сил, чтобы смотреть кому-нибудь в глаза, поэтому она сосредоточенно изучала окружавшие ее предметы.* * *
Она впервые была в похоронном бюро, и ей здесь не нравилось. Ноги вязли в чересчур пушистом бордовом ковре. Занавеси и обивка были тоже бордовыми, с узенькой золотой отделкой, а лампы венчали бордовые абажуры; невольно казалось, что декоратор помешался на этом цвете, что это был его фетиш. «Фетиш» было новое слово для Лоры. Она слишком часто его употребляла, как всегда, к месту и не к месту она употребляла все новые слова, но тут оно было кстати. Недавно, когда она впервые узнала чудесное словечко «секвестровать» в смысле «лишать» или «изолировать», она использовала его при каждой возможности, пока отец не стал поддразнивать ее: «Как поживает сегодня моя секвестрованная Лора?» или «Картофельные чипсы быстро раскупают, надо разместить их поближе к кассе, а то в этом углу они вроде секвестрованы». Ему нравилось смешить ее сказками о жабе сэре Томми, британском подданном и земноводном, которого он выдумал, когда ей было восемь лет, и чью смешную биографию он чуть ли не каждый день украшал новыми подробностями. В некотором отношении отец был большим ребенком, чем сама Лора, и она обожала его за это. У нее задрожала губа. Она ее прикусила. Изо всех сил. Если она расплачется, значит, она не верит в то, что отец всегда говорил ей о загробной, лучшей, чем эта, жизни. Если она расплачется, значит, он умер, умер окончательно и навсегда, finita. Ей хотелось, чтобы ее подвергли секвестрации в ее комнате над лавкой, чтобы она лежала в кровати, натянув на голову одеяло. Ей понравилась мысль, что слово «секвестрация» может стать ее «фетишем».* * *
Из похоронного бюро они направились на кладбище. Кладбище было без памятников. Бронзовые дощечки на низких мраморных основаниях, установленные на одном уровне с землей, отмечали могилы. Зеленые лужайки на холмах, затененные огромными индейскими лаврами и невысокими магнолиями, можно было спутать с парком, местом игр, смеха и радости, если бы не открытая могила, над которой уже был подвешен гроб Боба Шейна. Прошлой ночью Лора дважды просыпалась от раскатов отдаленного грома, и в полусне ей чудилась вспыхивающая за окном молния; но если в ночной тьме и разразилась гроза не по сезону, то теперь от нее не осталось и следа. Безоблачное небо сияло голубизной. Лора стояла между Корой «Анитой, которые ее обнимали и шептали слова утешения, но ни их слова, ни их жесты не согревали Лору. Холодная тоска росла в ее груди с каждым словом заупокойной молитвы, и ей казалось, что она стоит, продрогнув на ледяном ветру, а не в тени деревьев в жаркое безветренное июльское утро. Представитель похоронной службы включил мотор лебедки. Гроб с телом Боба Шейна начал медленно опускаться в могилу. Не в силах следить за медленным движением гроба, чувствуя, что у нее перехватило горло, Лора отвернулась, вырвалась из заботливых объятий добровольных бабушек и пошла в глубь кладбища. Она была холоднее мрамора; она не могла больше оставаться в прохладной тени. Она замедлила шаги, почувствовав на лице теплые лучи солнца, но и они не согревали ее. Она остановилась на склоне пологого холма и с минуту смотрела вниз, прежде чем заметила человека вдали, на другом конце кладбища, на краю лавровой рощи. На нем были светло-коричневые брюки и белая рубашка, которая, казалось, слабо светилась в тени деревьев, как если бы он был привидением, променявшим свой ночной приют на яркое сияние дня. Он наблюдал за ней и другими участниками похорон у могилы Боба Шейна. Лора не могла разглядеть его лица, но определила, что он высокий, крепкий, светловолосый… и очень ей знакомый. Она заинтересовалась им, хотя не могла объяснить почему. Словно зачарованная, она спустилась вниз по склону, пробираясь между могилами. Чем ближе она подходила к светловолосому человеку, тем более знакомым он ей казался. Сначала он не реагировал на ее приближение, но она чувствовала, что он напряженно ее разглядывает; ощущая на себе тяжесть его взгляда. Кора и Анита звали ее, но она не обращала на них внимания. В непонятном волнении она ускорила шаги, и теперь не более тридцати футов отделяли ее от незнакомца. Человек отступил в призрачную тень под деревьями. Опасаясь, что он ускользнет от нее, прежде чем она хорошенько его рассмотрит, — хотя непонятно, почему ей это было важно, Лора побежала бегом. Подошвы ее новых черных туфель скользили по траве, и несколько; раз она чуть не упала. Трава в том месте, где он стоял, была примята; значит, он не был привидением. Лора заметила легкое движение среди деревьев, белое пятно его рубашки. Она поспешила за ним. Редкая бледная трава росла в тени лавров, куда не проникали лучи солнца. Корни деревьев выступали из-под земли, обманчивые тени уводили в сторону. Она споткнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за ствол дерева, удержалась на ногах, посмотрела по сторонам и обнаружила, что человек исчез. В роще росло не менее сотни деревьев. Их ветви густо переплелись, и солнечные лучи тонкими золотыми нитями пробивались сквозь чащу, словно неведомая пряха распускала небесную материю. Вглядываясь в темноту, Лора пробиралась вперед. Много раз ей казалось, что она его настигла, но всякий раз ее обманывало движение ветвей, игра света и собственное воображение. Подул ветерок, в шуме листьев ей почудились крадущиеся шаги, и она побежала на этот звук, уводивший ее все дальше и дальше. Через несколько минут она вышла из рощи на дорогу, которая пересекала другую часть обширного кладбища. На обочине, блестя на солнце, стояли автомобили, а неподалеку группа людей у другой могилы слушала заупокойную службу. Тяжело дыша, Лора остановилась у дороги, недоумевая, куда исчез человек в белой рубашке и какая сила увлекла ее в погоню за ним. Солнце по-прежнему обжигало все вокруг, ветерок, не успев разыграться, прекратился, полная тишина вновь опустилась на кладбище — Лора ощутила беспокойство. Лучи солнца, казалось, струились сквозь нее, как если бы она была прозрачной, и она чувствовала себя удивительно легкой, почти невесомой, и в то же время испытывала головокружение: она была словно во сне и парила над странным пейзажем. «Сейчас я упаду в обморок», — подумала она. Она оперлась о крыло стоявшей машины, сжала зубы, стараясь сохранить сознание. И хотя ей было всего двенадцать, она редко мыслила или действовала как ребенок, да она никогда и не считала себя ребенком до того момента на кладбище, когда вдруг почувствовала себя совсем маленькой, слабой и беспомощной. Коричневый «Форд» неторопливо ехал по дороге и замедлил движение, приближаясь к ней. За рулем сидел человек в белой рубашке. И тут она вспомнила, почему он казался ей таким знакомым. Налет четыре года тому назад. Ее ангел-хранитель. Она никогда не забудет его лицо, хотя тогда ей было всего восемь лет. Он почти остановил машину и еле двигался, не спуская с нее взгляда. Их разделяло всего несколько футов. Через открытое окно автомобиля можно было рассмотреть каждую черточку его красивого лица, запомнившегося ей в тот страшный день, когда впервые увидела его в магазине. Его ярко-голубые глаза сохранили всю свою притягательность. Их взгляды встретились, она вздрогнула. Он хранил молчание и без улыбки, напряженно рассматривал ее, как бы стремясь сохранить в памяти каждую черточку. Он смотрел на нее, как человек, пересекший пустыню, смотрит на родник прохладной воды. Его молчание и упорный взгляд пугали Лору, но в то же время наполняли душу непонятным спокойствием. Машина проезжала мимо. Она закричала: — Остановитесь! Обретя новые силы, она бросилась за «Фордом». Незнакомец нажал на газ, и «Форд» выскочил за ворота кладбища, оставив ее в одиночестве под палящим солнцем, пока сзади она не услыхала мужской голос: — Это ты, Лора? Она обернулась, но сначала никого не увидела. Голос опять позвал ее по имени, очень негромко, и неподалеку, в глубокой фиолетовой тени индейских лавров, она заметила мужчину. Он был в черных брюках и рубашке, абсолютно неуместных в этот солнечный день. Озадаченная, влекомая любопытством, Лора направилась к человеку; она спрашивала себя, не связан ли он каким-то образом с ее ангелом-хранителем. Она была уже совсем рядом, когда вдруг поняла, что черная одежда была не единственной причиной его дисгармонии с теплым безоблачным летним днем: он дышал зимней стужей, холод исходил от него самого, словно он был создан для жизни за Полярным кругом или в ледяных пещерах высоких заснеженных гор. Она остановилась в двух шагах от него. Он больше ничего не говорил, но смотрел на нее с любопытством. Она заметила шрам на его левой щеке. — Почему именно ты? — спросил ледяной человек и двинулся вперед, протягивая к ней руки. Лора, спотыкаясь, отступила назад, крик застрял у нее в горле. Кора Ланс позвала из рощи: — Лора! Где ты, Лора? Голос Коры спугнул незнакомца, он повернул назад и стал углубляться в заросли лавров, а его облаченная в черное фигура слилась с тенями, будто он был не человеком, а порождением мрака, которое на миг обрело жизнь.* * *
Через пять дней после похорон, во вторник двадцать девятого июля, Лора вернулась в свою комнату над бакалейной лавкой. Она укладывала вещи и прощалась с местом, которое всю жизнь, сколько она себя помнила, было ее домом. Присев отдохнуть на край смятой постели, она вспоминала, какой спокойной и счастливой она была в этой комнате всего несколько дней назад. Множество книг в мягких обложках, большинство о собаках и лошадях, стояло на полке в углу комнаты. Пятьдесят стеклянных, медных, фарфоровых и оловянных фигурок собак и кошек разместились на полках над изголовьем кровати. У нее не было домашних животных, потому что санитарные правила запрещали держать животных в квартире над продовольственным магазином. Она мечтала когда-нибудь завести собаку, а может быть, даже лошадь. Но больше всего она мечтала стать ветеринаром и лечить больных и раненых животных. Отец говорил ей, что она может стать кем угодно: ветеринаром, адвокатом и даже кинозвездой. — Ты можешь стать погонщиком оленей или танцовщицей на проволоке. Выбирай что хочешь. Лора улыбнулась, вспоминая, как отец изображал танцовщицу. Но она также вспомнила, что его больше нет, и ее сердце сжалось от страшного одиночества. Она вытащила все вещи из стенного шкафа, аккуратно сложила одежду и наполнила два вместительных чемодана. В сундук она сложила любимые книги, игры и игрушечного медведя. Кора и Том Ланс составляли опись вещей в небольшой квартире и товаров в бакалейной лавке. Лора должна была переехать к ним, хотя еще не было решено, постоянно или временно. Она нервничала и беспокоилась при мысли о своем неопределенном будущем, но продолжала собирать вещи. Она открыла ящик ночного столика и застыла на месте при виде миниатюрных сапог, крошечного зонтика и кукольного шарфа, которые приобрел отец как доказательство, что сэр Томми действительно снимает у них квартиру., Он упросил своего друга, умелого сапожника, сшить просторные и по ноге сапоги для перепончатых лап. Он купил зонтик в магазине, торгующем миниатюрными игрушками, а клетчатый зеленый шарф с аккуратной бахромой на концах старательно сделал сам. Когда она вернулась домой из школы в день своего девятилетия, сапоги и зонтик стояли в прихожей у двери, а шарф висел на вешалке. — Тише, тише, — прошептал отец, прикладывая палец к губам, — сэр Томми только что вернулся из тяжелого путешествия в Эквадор по поручению Королевы — у нее там алмазные копи, и очень устал. Наверное, будет спать целыми днями. Наверное, его теперь не добудишься. Но он тебя не забыл, сказал, чтобы я пожелал тебе счастливого дня рождения, и даже подарок оставил во дворе. — Подарком оказался новый велосипед марки «Щвинн». Теперь, глядя на эти три предмета, Лора поняла, что умер не только отец. Вместе с ним ушли сэр Томми и многие другие вымышленные персонажи и смешные занимательные выдумки, которыми он ее развлекал. Широкие сапоги, крошечный зонтик и кукольный шарф выглядели так трогательно, что она была готова поверить, что сэр Томми действительно существовал и что теперь он ушел в свой собственный лучший мир. Страдальческий стон вырвался у нее из груди. Она упала на кровать и зарылась лицом в подушку, заглушая громкие всхлипывания: впервые после смерти отца она дала волю своему горю. Она не хотела жить без отца, но должна была не только жить, но жить достойно, потому что каждый ее день будет продолжением его жизни. И хотя она была совсем юной, сознавала, что если она останется добрым, порядочным человеком и будет вести честную жизнь, то частица отца будет жить вместе с нею. Лора понимала, как трудно обрести счастье и смотреть на будущее с оптимизмом. Теперь она знала, как много в жизни внезапных трагедий и перемен. Жизнь может быть то безоблачной и радостной, то вдруг холодной и полной невзгод, и не угадать, когда судьба нанесет удар любимому человеку. Ничто не вечно. А жизнь словно свеча на ветру. Это был тяжелый урок для девочки ее возраста, и она чувствовала себя старой, умудренной. Когда поток теплых слез иссяк, она собралась с силами, ей не хотелось, чтобы Кора и Том заметили, что она плакала. Если мир вокруг суров, жесток и непредсказуем, то нельзя проявлять ни малейшей слабости. Лора бережно завернула сапоги, зонтик и шарф в тонкую бумагу и спрятала пакет в сундук. Разобрав содержимое двух ночных столиков по бокам кровати, она занялась письменным столом и обнаружила на сукне сложенный лист из блокнота с посланием для нее, написанным ясными, красивыми, почти печатными буквами. «Дорогая Лора! Некоторые вещи в жизни предопределены судьбой, и никто не в силах их предотвратить. Даже твой собственный ангел-хранитель. Будь довольна тем, что твой отец любил тебя всей душой и всем своим сердцем, что редко выпадает на долю большинства людей. И хотя ты считаешь, что никогда больше не узнаешь счастья, ты ошибаешься. Придет время, и счастье вернется к тебе. И это не пустое обещание. Это факт». Записка была без подписи, но Лора знала, кто ее написал: тот человек на кладбище, который разглядывал ее из проезжавшей машины и который много лет назад спас ее с отцом от пули убийцы. Никто другой не мог называть себя ее личным хранителем. Она вздрогнула, но не от страха, а потому что необычность и загадочность ее хранителя вызывали в ней изумление и любопытство. Она поспешила к окну спальни и отдернула прозрачную занавеску между тяжелыми портьерами, уверенная, что увидит его у магазина внизу, но там никого не было. Не было там и человека в черной одежде, но она и не ожидала его увидеть. Она почти убедила себя, что второй незнакомец никак не связан с ее хранителем, что другая причина заставила его явиться на кладбище. Тем не менее он знал ее имя… Но, может быть, он слышал, как Кора звала ее со склона холма. Она постаралась выбросить его из головы, потому что не хотела, чтобы он вошел в ее жизнь, как она того страстно желала в отношении ангела-хранителя. Она снова перечитала послание. Хотя она не понимала, кто этот светловолосый человек и почему он ею заинтересовался, записка успокоила Лору. Совсем необязательно понимать, достаточно верить.5
На следующую ночь после того, как он разместил взрывчатку на чердаке Института, Штефан, ссылаясь на бессонницу, вновь явился с уем же чемоданом. В ожидании полночного визита Виктор принес ему в подарок половину пирога, испеченного его женой. Штефан откусывал от пирога по кусочку, пока прятал взрывчатку. Огромный подвал был разделен на две половины, и, не в пример чердаку, в нем ежедневно бывали служащие Института. Нужно было изрядно потрудиться, чтобы надежно укрыть заряды и провода. В одной половине находились шкафы с научными документами и результатами исследований и два длинных дубовых рабочих стола. Шкафы высотою в два метра стояли вдоль двух стен Он спрятал взрывчатку на шкафах, задвинув поближе к стене, где даже самый высокий из сотрудников не мог ее заметить. Он протянул провода за шкафами, хотя ему пришлось пробить небольшое отверстие в стене, чтобы провести детонационный провод в другую комнату Он сделал это в незаметном месте, так что была видна лишь его небольшая часть. Вторая комната служила для хранения канцелярских и лабораторных принадлежностей, в ней также стояли клетки, в которых держали животных: хомяков, белых крыс, двух собак и весьма подвижную обезьяну, которую использовали в первых научных экспериментах и которая осталась жива. Хотя животные были уже не нужны, их держали, чтобы выяснить, не проявятся ли у них с течением времени непредвиденные осложнения в результате проведенных на них необычных опытов. Штефан прилепил мощные заряды в пустых проемах за сложенными коробками и протянул все провода к решетке вентиляционного колодца, в который он прошлой ночью спустил провода с чердака; работая, он чувствовал на себе напряженное внимание животных, словно они догадывались, что им осталось жить всего двадцать четыре часа. Он покраснел от сознания вины, чего, как ни странно, я случилось с ним, когда он планировал гибель сотруднике Института, возможно, потому, что животные были невинными тварями, а этого нельзя было сказать о людях. К четырем часам утра Штефан закончил подготовку взрыва в подвале и свою работу в бюро на третьем этаже. Перед уходом он зашел в главную лабораторию на первом этаже и с минуту созерцал Ворота. Самое главное. Ворота. Множество шкал, манометров и экранов светились мягким оранжевым, желтым и зеленым светом, так как электропитание никогда не отключалось от узла управления. Сами цилиндрические Ворота, длиной в три с половиной и диаметром в два с половиной метра, еле виднелись в полумраке, лишь освещенные приборы бросали неясные блики на их внешнюю полированную стальную облицовку. Он пользовался Воротами множество раз, но все еще испытывал перед ними страх; не столько потому, что они олицетворяли выдающееся научное открытие, сколько потому, что их потенциальные возможности нанести вред были безграничными. В руках опасных людей это были настоящие Врата Ада. Поблагодарив Виктора за пирог и объявив, что он съел все до крошки — на самом деле он большую часть скормил животным, — Штефан вернулся к себе домой. Вторую ночь подряд бушевала буря. Северо-восточный ветер нес с собой дождь. Вода вырывалась из водосточных труб и, пенясь, исчезала в стоках, водопадами обрушивалась с крыш, образовывала озера на улицах и переполняла канавы, и оттого, что город лежал почти в полной тьме, потоки и лужи казались маслянисто-тяжелыми, как нефть. На улицах встречались редкие военные патрули; в своих черных блестящих плащах они казались загадочными существами, которые сошли со страниц старого готического романа Брэма Стокера. Штефан проехал напрямик домой, не объезжая известные ему контрольно-пропускные пункты. Документы у него были в порядке, он совсем недавно получил новое разрешение на передвижение во время комендантского часа, к тому же с ним не было нелегально добытой взрывчатки. Дома он поставил будильник у кровати и мгновенно заснул. Он действительно нуждался в отдыхе, так как днем ему предстояли две трудные поездки и стрельба, много стрельбы. А без ясной головы легко самому получить пулю. Ему приснилась Лора, и он счел это добрым предзнаменованием.Глава 2. Неугасающее пламя
1
Судьба Лоры Шейн с двенадцати до семнадцати лет была подобна судьбе перекати-поля под ветром калифорнийской пустыни: то оно задержится на короткий отдых в минуты затишья, то снова помчится, когда буря сорвет его с места. У нее не было родственников, и она не могла жить у лучших друзей отца Тома и Коры Ланс. Тому было шестьдесят два, а Коре пятьдесят семь, хотя они жили вместе уже тридцать пять лет, у них не было детей, и они не решались взять на себя ответственность за воспитание молодой девушки. Лора их понимала и не сердилась. В тот августовский день, когда она покидала дом Лан-сов в сопровождении сотрудницы Общества попечения о детях округа Оранж, она расцеловала Кору и Тома и объявила, что все будет в порядке. Она весело махала Коре и Тому из машины в надежде, что для них ее отъезд будет «абсолюцией». «Абсолюция» — это слово недавно пополнило ее словарь. Абсолюция — это освобождение от ответственности, это прощение грехов, это освобождение от обязательств. Она хотела получить абсолюцию от обязательства пробивать себе дорогу в этом мире без помощи любящего отца, абсолюцию от обязанности жить дальше во имя его памяти.* * *
Из дома Лансов ее привезли в детский приют Макилрой, который оказался старым хаотичным особняком в двадцать семь комнат, построенным сельскохозяйственным магнатом в дни процветания этой отрасли в округе Оранж. Позже здесь устроили общежитие для взятых под опеку детей, где они временно находились до отправки в приемную семью. Это учреждение мало походило на те, что описывают в книгах. Начать с того, что здесь не было добрых монахинь в длинных черных одеждах. И потом здесь был Вилли Шинер. Лора впервые заметила его вскоре после приезда в приют, когда социальный работник миссис Боумен повела ее в комнату, где ей предстояло жить с сестрами-близнецами Аккерсон и девочкой по имени Тамми. Шинер подметал кафельный пол коридора. Это был крепкий жилистый мужчина лет тридцати, с бледным веснушчатым лицом, зелеными глазами и ярко-рыжей, как медь, шевелюрой. Работая, он улыбался и насвистывал. — Как поживаете, миссис Боумен? — Прекрасно, Вилли, прекрасно. — Миссис Боумен явно симпатизировала Шинеру. — Это Лора Шейц, нашла новая воспитанница. Лора, это мистер Шинер. От взгляда Шинера у Лоры пошли мурашки по коже. Когда он наконец заговорил, то произнес охрипшим голосом и запинаясь: — Кхе-кхе… Добро пожаловать в наш приют. Следуя да миссис Боумен, Лора оглянулась назад на Шинера. Без свидетелей Шинер положил руку на ширинку и демонстративно почесался. Лора больше не оглядывалась. Позже, когда она раскладывала свои жалкие пожитки, стараясь придать уют своей четвертушке комнаты, она, обернувшись, вдруг увидела на пороге Шинера. Она была одна, все другие дети играли во дворе или в комнате для игр. Хищная, злобная улыбка на его лице сильно отличалась от той, какой он одарил миссис Боумен. В свете, падавшем из небольшого окна, его зеленые глаза стали грязно-серыми, будто затянутые катарактой глаза покойника. Слова застряли у Лоры в горле. Она пятилась, пока не наткнулась на стену рядом с кроватью. Шинер стоял неподвижно, опустив руки по швам, сжав кулаки. В приюте не было кондиционеров. Несмотря на распахнутые окна, в комнате стояла тропическая жара. Но Лора не ощущала духоты, пока не увидела Шинера. Теперь майка на ней взмокла от пота. За окнами раздавались смех и крики играющих детей. Они были рядом, но звуки долетали до Лоры как бы издалека. Тяжелое равномерное дыхание Шинера становилось все громче, постепенно заглушая детские голоса. Они долго стояли молча и неподвижно. Потом он резко повернулся и вышел из комнаты. Вся в поту, Лора подошла к кровати и села на край: у нее подкашивались ноги. Изношенная сетка провисла, заскрипели пружины. Постепенно сердце перестало бешено колотиться в груди, Лора оглядела свое новое мрачное жилище и ужаснулась. По четырем углам комнаты стояли узкие железные кровати, покрытые изношенными до дыр покрывалами, с бесформенными плоскими подушками в изголовье. У каждой кровати размещалась исцарапанная, с пластиковым верхом тумбочка, а на каждой тумбочке лампа с железным абажуром. Лоре принадлежали два из восьми ящиков в старом комоде. Она также могла распоряжаться половиной одного из двух стенных шкафов. Изодранные полинявшие занавески бесформенными засаленными тряпками свисали с ржавых карнизов. Весь дом дышал плесенью и запустением; сам воздух в нем пах чем-то неуловимо неприятным, а по комнатам и коридорам бродил Вилли Шинер, словно злой дух в ожидании полнолуния и кровавого шабаша с его участием.* * *
В тот вечер после ужина близнецы Аккерсон закрыли дверь и пригласили Лору сесть вместе с ними в кружок на потертом коричневом ковре, чтобы поделиться секретами. Четвертая соседка по комнате — странная, тихая, как мышка, хрупкая блондинка по имени Тамми — не присоединилась к ним. Положив за спину подушку, она сидя читала в кровати и непрерывно грызла ногти. Лоре с первого взгляда понравились Тельма и Рут Аккерсон. Им недавно исполнилось двенадцать, и они были немного младше Лоры, но казались старше своего возраста. Они остались сиротами в девять лет и жили в приюте уже почти три года. Найти приемных родителей для детей их возраста было трудно, особенно для близнецов, которые не хотели расставаться. Их никак нельзя было назвать хорошенькими, и они были удивительно схожи в своей некрасивости: каштановые волосы без блеска, близорукие карие глаза, широкие лица, грубоватые черты, большие рты. И хотя им не хватало красоты, они возмещали это своим острым умом, энергией и добрым характером. Рут была в голубой пижаме с темно-зеленой отделкой на рукавах и воротнике и в голубых домашних туфлях, а волосы собраны в лошадиный хвост. Тельма была одета в ярко-красную пижаму и пушистые желтые тапочки, на каждой туфле по две пуговицы, как два глаза, а волосы распущены по плечам. С наступлением вечера невыносимая дневная жара спала. До океана было всего десять миль, и легкий бриз приносил прохладу для ночного отдыха. Его слабое свежее дуновение Шевелило старые занавески и проникало в комнату. — Летом здесь скучно, — объявила Рут, когда они уселись в кружок на полу. — Нам запрещено уходить с участка, а он маленький. И еще летом все наши благодетели заняты своим собственным отдыхом, ездят на пляж купаться и не вспоминают о нас. — Вот Рождество — это другое дело, — сказала Тельма. — Весь ноябрь и декабрь — это просто чудо, — сказала Рут. — Верно, — подтвердила Тельма. — Праздники — хорошее время, благодетели вспоминают, что у них всего навалом, а мы, бедные, нищие, бездомные сиротки, носим пальто на рыбьем меху, туфли на картонной подошве и питаемся вчерашней кашей. Вот тогда они присылают кучу всяких вкусных вещей, водят в магазины за покупками и в кино, правда, всегда на дрянные фильмы. — Не такие уж и дрянные, — поправила Рут. — Знаешь, такие фильмы, где никто никогда не напивается. Ну а чтобы там какие-нибудь чувства, так это ни-ни. И чтобы какой-нибудь тип лапал девушку, это тоже исключено. Семейные фильмы. Да от них сдохнешь. — Не обращай внимания на мою сестру, — посоветовала Рут. — Она воображает, что находится в периоде полового созревания. — Так оно и есть! Меня душит желание! — Тельма худенькой рукой схватилась за горло, показывая, как оно ее душит. Рут продолжала: — Отсутствие родительского надзора тяжело сказалось на ней. Она до сих пор не свыклась со своим положением сироты. — Не обращай внимания на мою сестру, — посоветовала на этот раз Тельма. — Она решила пропустить период половой зрелости и прямо из девочки превратиться в старуху. Лора спросила: — А кто такой Вилли Шинер? Близнецы Аккерсон обменялись понимающими взглядами и хором без промедления дали ему характеристику. — У него не все дома, — сказала Рут, а Тельма добавила: — Это подонок. — Его надо лечить, — сказала Рут, а Тельма добавила: — Его надо пару раз хорошенько огреть по голове палкой и еще добавить, а потом навсегда запереть в психушку, Лора поведала им о посещении Шинера. — И он ничего не сказал? — спросила Рут. — Странно. Обычно он говорит: «Какая ты хорошенькая маленькая девочка» или… — Или угощает конфетами. — Тельма скорчила гримасу. — Представляешь себе? Конфеты! У него нет ни капли воображения! Можно подумать, что этот гад учится на брошюрках, которые раздает детям полиция, чтобы предупредить об извращенцах. — Нет, конфет не предлагал. — Лора вздрогнула, вспомнив вдруг изменившийся цвет глаз Шинера и его тяжелое равномерное дыхание. Тельма наклонилась вперед и театральным шепотом спросила: — Похоже, что Бледный Угорь проглотил язык, так зажегся, что позабыл свой репертуар. Может, у него к тебе особая страсть? — Бледный Угорь? — Вот именно, — подтвердила Рут. — А для краткости просто Угорь. — Это прозвище ему подходит, он такой бледный и скользкий, — сказала Тельма. — Могу поклясться, у него к тебе особая страсть. Знаешь, девочка, ты просто обалденная. — Ты ошибаешься, — сказала Лора. — Не прикидывайся, — отрезала Рут. — Посмотри, какие у тебя волосы, а глазищи… Лора покраснела и хотела было запротестовать, но вмешалась Тельма: — Послушай, Шейн, блестящий дуэт сестер Аккерсон в составе Рут и Тельмы не страдает ложной скромностью, но и не терпит хвастовства. Мы режем правду в лицо. Мы знаем свои достоинства и гордимся ими. Мы знаем, что нам не выиграть титул «Мисс Америка», но мы умные, и даже очень, мы этого не отрицаем. А ты потрясающая, и нечего притворяться. — Моя сестра иногда слишком прямолинейна и чересчур красочна в своих выражениях, — извинилась Рут. — А моя сестра, — продолжала Тельма, — пробуется на роль Мелани в «Унесенных ветром». — Она заговорила с преувеличенным южным акцентом и наигранным сочувствием. — Скарлетт у нас добрая. Говорю вам, Скарлетт очень хорошая. Ретт в душе тоже хороший человек, и солдаты-янки тоже хорошие, даже те, что разграбили Тару, сожгли урожай на полях и сшили сапоги из кожи наших младенцев. Лора не могла удержаться от смеха. — Так что брось прикидываться скромницей, Шейн! Ты потрясающая, и все тут. — Ладно, ладно. Я знаю, что я… хорошенькая. — Шутишь. Бледный Угорь свихнулся, когда тебя увидел. — Верно, — поддержала Рут, — ты его просто ошарашила. Он даже позабыл о конфетах. — Подумаешь, конфеты! — подхватила Тельма. — Пакетики леденцов, шоколадки! — Ты, Лора, будь поосторожней, — предупредила Рут. — Он больной человек… — Он ублюдок! — крикнула Тельма. — Помойная крыса! — Он не такой уж плохой, — тихо сказала Тамми из своего угла. Белокурая девочка была такой молчаливой, застенчивой и неприметной, что Лора забыла о ее присутствии. Лора увидела, что Тамми отложила в сторону книгу и сидит на постели, подтянув к груди худые коленки и обхватив их руками. Ей было десять, она была на два года младше остальных и маленькой для своего возраста. В белой ночной рубашке и носках она казалась привидением. — Он и пальцем никого не тронет, — продолжала она неуверенным, дрожащим голосом, как будто высказывать мнение о Шинере было так же опасно, как идти по проволоке без страхующей сетки внизу. — Еще как тронет, да только боится, — сказала Рут. — Он просто… — Тамми кусала губы. — Он просто… одинокий человек. — Нет, милочка, — отозвалась Тельма, — он совсем не одинокий. Он такой самовлюбленный, что ему достаточно своего общества. Тамми отвернулась. Поднялась, сунула ноги в разношенные тапочки и пробормотала: — Скоро отбой. Она взяла с тумбочки косметичку, шаркая, вышла из комнаты и, затворив дверь, направилась к умывальной в конце коридора. — Тамми берет конфеты, — пояснила Рут. Волна отвращения захлестнула Лору. — Не правда. — Нет, правда, — сказала Тельма. — И не потому, что ей хочется сладкого. Она… она запуталась. Ей нужна опора, пусть даже это Угорь. — Но почему? — настаивала Лора. Рут и Тельма вновь обменялись одним из тех взглядов, что позволял им мгновенно и без слов обсудить вопрос и принять решение. Рут сказала со вздохом: — Видишь ли, Тамми нуждается в такой опоре, потому что… потому что этому ее научил отец. Лора подскочила: — Собственный отец? — Не все дети в приюте сироты, — ответила Тельма. — Некоторые здесь потому, что их родители совершили преступление и сидят в тюрьме. А других родные били или… подвергали насилию. Лоре почудилось, что освежающий августовский ветерок, проникавший в окна, превратился в ледяной порыв поздней осени, преодолевший неведомым образом расстояние в несколько месяцев. Лора спросила: — Но Тамми, наверное, это не нравится? — Думаю, что нет, — сказала Рут. — Но ее… — Ее принуждают, — закончила Тельма. — Она не может выбраться. Она запуталась. Они смолкли, занятые ужасными мыслями, и наконец Лора сказала: — Как это страшно… и печально. А мы не могли бы помочь? Сказать о Шинере миссис Боумен или еще кому-нибудь из воспитателей? — Это не поможет, — ответила Тельма. — Угорь станет все отрицать, и Тамми тоже, к тому же у нас нет доказательств. — Но, если Тамми не одна тут такая, кто-то другой… Рут покачала головой. — Большинство теперь в приемных семьях, некоторых усыновили или они вернулись к родным. Двое-трое остались, но они или как Тамми, или до смерти запуганы Угрем, боятся даже рот открыть. — И кроме того, — сказала Тельма, — взрослые не желают этим заниматься. О приюте может пойти дурная слава. Им неудобно, что все это происходит у них под носом. Да и кто поверит детям? — Тельма столь точно передразнила миссис Боумен и ее лживые нотки, что Лора тотчас ее узнала. — Моя дорогая, они ужасны, эти лживые маленькие создания. Шумные, непослушные, надоедливые животные, они способны из озорства запятнать доброе имя мистера Шинера. Вот если бы их можно было держать в бессознательном состоянии, без движения, с помощью лекарств, да еще кормить с помощью внутривенных вливаний, то наша система функционировала бы более эффективно. Да и для них это было бы лучше, дорогая. — Угря оправдают, — сказала Рут, — он вернется на работу и уж найдет способ нам отомстить. Так уже случилось с другим извращенцем, который здесь работал. Мы его звали Хорек Фогель. Бедный Денни Дженкинс… — Денни донес на Хорька Фогеля, сказал Боумен, что Хорек приставал к нему и еще двум мальчикам, и Фогеля отстранили от работы. Но два других мальчика не поддержали Денни. Они боялись Хорька… и еще они страдали этой болезненной тягой к нему. Когда Боумен и Другие воспитатели допрашивали Денни… — Они засыпали его каверзными вопросами, чтобы сбить с толку, — сердито перебила Рут. — Он запутался, сам себе противоречил, и они объявили, что он все это придумал. — И Фогель вернулся на работу, — сказала Тельма. — Он сначала выждал, а потом стал издеваться над Денни, — сказала Рут. — Он его жестоко мучил, и в один прекрасный день… Денни сорвался, закричал и не мог остановиться. Доктор сделал ему укол, и его забрали. Они сказали, что он «эмоционально неустойчивый». — Рут готова была расплакаться. — Мы его никогда больше не видели. Тельма положила руку на плечо сестры. Лоре она сказала: — Рут любила Денни. Он был хороший мальчик. Худенький, застенчивый, скромный, куда уж ему было бороться. Вот почему надо твердо держаться с Угрем. Нельзя показывать, что ты его боишься. А если начнет приставать, кричи что есть мочи. А главное, бей его между ног. Тамми вернулась из умывальной. Не взглянув в их сторону, она сбросила тапочки и забралась под одеяло. И хотя мысль о том, что Тамми поддается Шинеру, вызывала у Лоры омерзение, она скорее сочувственно, чем с отвращением смотрела на девочку. Слабое, одинокое, загнанное существо на провисшей узкой кровати. Что может быть жалостливей этого зрелища? Ночью Лоре приснился Шинер. У него была его собственная человеческая голова, но тело была рядом белого угря, и, где бы Лора ни пыталась скрыться, Шинер, извиваясь, скользил за ней, подползая под запертые двери, обходя препятствия.2
Штефан вернулся из главной лаборатории к себе в комнату на третьем этаже; его тошнило от увиденного. Он сел за стол и закрыл лицо руками, его трясло от злости, отвращения и страха. Этот рыжий ублюдок Вилли Шинер мог когда угодно изнасиловать Лору, избить ее до полусмерти, превратить в неизлечимую калеку. И это не предположение, это станет реальностью, если Штефан не предпримет необходимых мер. Он уже представлял себе последствия: Лора с синяками на лице, распухшими изуродованными губами. Самым ужасным были ее глаза, равнодушные, почти мертвые, глаза ребенка, который никогда больше не узнает радости и надежды. Холодный дождь барабанил по окнам комнаты, и этот громкий звук эхом отдавался у него в груди, будто страшные вещи, свидетелем которых он был, опустошили его до дна, оставив одну оболочку. Он спас Лору от наркомана в магазине отца, и вот на ее пути встал еще один — педофил. Опыты в Институте научили его, что изменить будущее не всегда просто. Судьба противилась нарушению установленной схемы. Возможно, Штефан не мог предотвратить насилие и разрушение Лориной психики; возможно, это было запланированной частью ее жизни и должно рано или поздно случиться. Возможно, он не способен спасти ее от Вилли Шинера, а если он остановит Шинера, в жизни Лоры может появиться еще один насильник. Но не следует отступать. Он вспомнил полумертвые тусклые глаза…3
Семьдесят шесть детей жили в приюте Макилрой, все не старше двенадцати лет; как только им исполнялось тринадцать, их переводили в приют Касвелл-Холл в Анахейме. В отделанной дубом столовой можно было разместить только сорок человек, и детей кормили в две смены. Лора ела во вторую смену, вместе с сестрами Аккерсон. Стоя в кафетерии в очереди между Тельмой и Рут в первое утро своего пребывания в приюте, Лора увидела, что Вилли Шинер является одним из четырех раздатчиков пищи. Лора двигалась вперед вместе с очередью, и Угорь не спускал с нее глаз, не обращая внимания на тех, кого он обслуживал. — Не вздумай показать ему, что боишься, — шепнула Тельма. Лора попыталась твердо выдержать вызывающий взгляд Шинера, но первой опустила глаза. Когда она дошла до него, он сказал: «Доброе утро, Лора» — и положил ей на поднос сладкую булочку, которую приберег для нее. Булочка была раза в два больше других и щедро украшена цукатами и глазурью.* * *
Во вторник, на третий день пребывания Лоры в приюте, ей пришлось выдержать разговор с миссис Боумен в ее кабинете на первом этаже на тему «Как ты тут привыкаешь». Этта Боумен была толстой женщиной, носившей уродливые цветастые платья. Она уснащала свою речь штампами и прописными истинами с той самой лживой интонацией, которую идеально передразнивала Тельма, она задавала множество вопросов, не ожидая на них правдивых ответов. Лора врала, что ей нравится в приюте, и миссис Боумен была в восторге. Возвращаясь к себе в комнату на третьем этаже, Лора встретила на лестнице Угря. Он протирал тряпкой дубовые перила. Новая бутылка полироля для мебели стояла на ступеньке рядом. Лора застыла на месте, и сердце заколотилось у нее в груди: она догадалась, что он ее подстерегает. Он знал, что ее вызывали к миссис Боумен, и рассчитал, каким путем она будет возвращаться к себе в комнату. Они были одни. Каждую секунду мог появиться кто-нибудь из детей или воспитателей, но пока они были одни. Она хотела было повернуть обратив и подняться по другой лестнице, но вспомнила совет Тельмы не уступать Угрю и ее слова, что такие, как он, находят себе добычу среди слабаков. Она приказала себе молча пройти мимо, но ноги словно приросли к ступеням, и она не могла двинуться с места. При виде Лоры Угорь заулыбался. Это была кошмарная улыбка: кожа у него на лице была бледной, губы бесцветными, а желтые кривые зубы усеяны черными пятнами, словно кожа спелого банана. Лицо под непокорной медной шевелюрой напоминало маску клоуна, но не того, которого видишь в цирке, а того, что пугает людей в ночь Хэллоуина[110] и прячет в кармане не хлопушку, а велосипедную цепь. — А ты, Лора, прехорошенькая девочка. Она хотела послать его к черту, но не могла вымолвить ни слова. — Я хочу стать твоим другом, — продолжал он. Собрав последние силы, Лора двинулась вверх по лестнице. Он заулыбался еще шире, видимо считая, что она принимает его дружбу. Сунул руку в карман брюк цвета хаки и извлек оттуда две шоколадки. Лора вспомнила, как Тельма комически описывала глупые и недалекие уловки Угря, и вдруг перестала его бояться. Со своими жалкими шоколадками и плотоядной улыбкой Шинер был карикатурной фигурой, пародией на зло, и она готова была рассмеяться ему в лицо, если бы не мысль о том, что он сделал с Тамми и другими девочками. Она запретила себе смеяться и быстро прошла мимо Угря, презирая его за глупое поведение и нелепую наружность. Когда он понял, что она отвергает и конфеты, и дружбу, он попытался остановить ее, положив руку на плечо. Лора в гневе ее сбросила. — Не смей ко мне прикасаться, псих! Она поспешила вверх по лестнице, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Если она побежит, он поймет, что она все еще его боится. Главное, не проявить никакой слабости, иначе он не оставит ее в покос. Всего две ступеньки отделяли ее от следующей площадки, и она тешила себя надеждой, что одержала победу, что он поражен ее твердостью, как вдруг она услыхала за спиной звук расстегиваемой на ширинке «молнии». Он сказал громким шепотом: — Ты только посмотри на это, Лора. Посмотри, что у меня есть. — В его голосе зазвучали злобные безумные нотки. — Посмотри, что у меня в руке, Лора. Она не оглянулась. Она миновала площадку и пошла вверх по лестнице, твердя себе: «Не смей бежать, не смей, что я тебе говорю». С нижней площадки раздался голос Угря: — Посмотри, Лора, какая у меня большая шоколадка. Такую не купишь. На третьем этаже Лора бегом бросилась в умывальную и долго скребла руки. Ей казалось, она запачкалась, когда сбрасывала с плеча ладонь Шинера. Вечером, когда Лора и двойняшки Аккерсон уселись на пол в соответствии с ритуалом, Тельма чуть не умерла со смеху, услышав рассказ Лоры о том, как Угорь приглашал ееполюбоваться его «большой шоколадкой». Она сказала: — Где еще такого найдешь? Это уникум. И откуда, интересно, он берет свои монологи? Может, «Даблдей» издало «Справочник классических приемов для извращенцев»? — Все дело в том, — озабоченно сказала Рут, — что он не отказался от своих планов, хотя Лора ему не поддается. Не думаю, что он от нее скоро отвяжется, как от других девочек, с которыми у него трудности. Ночью Лора почти не спала. Она думала о своем личном хранителе и о том, когда же он появится, чтобы расправиться с Вилли Шинером. Ей почему-то казалось, что в этот раз она не может на него рассчитывать.* * *
Август был на исходе, и все последние десять дней Угорь неотступно следовал за Лорой, как Луна следует за Землей. Стоило ей и сестрам Аккерсон направиться в комнату для игр, чтобы сыграть в карты или лото, как там немедленно появлялся Шинер и принимался мыть окна, полировать мебель или чинить карниз для занавесок, но при этом он не спускал глаз с Лоры. Если девочки уединялись в отдаленном углу спортивной площадки за домом, чтобы поболтать или сыграть в какую-нибудь свою игру, Шинер вскоре появлялся во дворе, чтобы подстричь кусты или подсыпать под них удобрения. Хотя третий этаж был предназначен только для девочек, мужской персонал имел право входить туда в рабочие дни для уборки или ремонта с десяти утра до четырех часов дня, и в эти часы Лора не чувствовала себя в безопасности даже в своей комнате. Но хуже настойчивости Угря была та пугающая быстрота, с какой росла его темная страсть к Лоре, болезненная тяга, которую выдавали напряженность его взгляда и кислый запах пота, распространявшийся вокруг, стоило ему оказаться в одной комнате с Лорой. Лора, Рут и Тельма убеждали себя, что каждый день бездействия Угря уменьшает угрозу с его стороны, что его нерешительность говорит о том, что Лора для него неподходящая жертва. В глубине души они понимали, что принимают желаемое за действительное, но не осознавали всей опасности, пока однажды в субботу в конце августа они, вернувшись к себе в комнату, не застали Тамми, которая в припадке извращенной ревности уничтожала Лорину библиотечку. Пятьдесят книг в мягких обложках, любимых книг, которые она забрала с собой из квартиры над бакалейной лавкой, хранились у Лоры под кроватью. Тамми вытащила их на середину комнаты и в припадке ярости изорвала на части более половины. Лора в растерянности остановилась, но Рут и Тельма оттащили девочку от кучи книг. Это было для Лоры настоящим ударом: и потому, что это были ее любимые книги, и потому, что их купил отец, а значит, это была ниточка, связывавшая ее с ним; но больше всего потому, что это была ее единственная собственность. Принадлежавшие ей вещи были немногочисленны и убоги, но она внезапно поняла, что они служили ей защитой против жестокости окружающего мира. Тамми потеряла всякий интерес к книгам, как только перед ней возник настоящий предмет ее ненависти. — Ненавижу тебя, ненавижу! — Впервые за время их знакомства Лора видела ее в таком состоянии: бледное худое лицо Тамми покраснело, исказилось от злости. Несмотря на темные круги под глазами, она больше не казалась слабой или несчастной; наоборот, она была само неистовство и ярость. — Ненавижу тебя, Лора, ненавижу! — Тамми, милая, — Тельма пыталась удержать девочку, — ведь Лора не сделала тебе ничего плохого. Тяжело дыша, но уже не вырываясь из рук двойняшек, Тамми крикнула Лоре: — Он только о тебе и говорит, он больше не обращает на меня внимания, только о тебе одной, ненавижу! И что тебя сюда принесло! Ненавижу! Никто не спрашивал, о ком идет речь. Всем было ясно: об Угре. — Я ему не нужна, я никому больше не нужна, я ему нужна только для того, чтобы добраться до тебя. Все Лора, Лора, Лора. Он хочет, чтобы я заманила тебя в укромное местечко, чтобы его не побеспокоили, но я на это ни за что не пойду! Если он своего добьется, мне конец. — Ее лицо побагровело от бешенства. Но ужаснее всего было то глубокое отчаяние, которое скрывалось за ее яростью. Лора выскочила из комнаты и по длинному коридору побежала в уборную. Задыхаясь от отвращения и страха, она упала на колени на разбитые пожелтевшие изразцы перед одним из унитазов, и ее вырвало. Почувствовав облегчение, она долго полоскала рот над раковиной, брызгала в лицо холодной водой. Когда она наконец подняла голову и посмотрела на себя в зеркало, слезы хлынули у нее из глаз. Она плакала не потому, что была одинока и напугана. Она плакала о Тамми. Как же отвратительно жесток этот мир, если десятилетняя девочка дошла до такого падения; если единственным выражением сочувствия взрослых были слова безумца, который ее совратил; если ее единственным богатством было худенькое недоразвитое тело ребенка. Лора понимала, что положение Тамми куда серьезнее, чем ее собственное. Даже лишившись книг, Лора сохранила светлые воспоминания о любящем, добром, нежном отце, чего не было у Тамми. Даже если отнять у нее немногие принадлежащие ей предметы, Лора все равно сохранит ясность ума, а психика Тамми уже изуродована, и, наверное, навсегда.4
Шинер жил в бунгало на тихой улочке в Санта-Ана. Это был один из пригородов, застроенных после второй мировой войны, состоящий из небольших аккуратных домиков, украшенных интересными архитектурными деталями. К лету 1967 года фикусовые деревья сильно разрослись и укрывали своими широкими ветвями стоявшие под ними коттеджи; дом Шинера затеняли еще и разросшиеся кусты азалий и миртов и цветущие красными цветами кусты гибискуса. Близилась полночь, когда Штефан открыл с помощью пластмассовой отмычки замок задней двери и вошел в дом. Осматривая бунгало, он не таясь зажигал свет и не заботился о том, чтобы задернуть занавески. Кухня сияла ослепительной чистотой. На покрытых голубым пластиком прилавках не было ни соринки. Хромированные части кухонных приборов и оборудования. Краны над раковиной и металлические ножки кухонной мебели блестели ярким блеском, не замутненным ни единым отпечатком пальцев. Штефан рассеянно открыл холодильник, не зная, что он ожидает там найти. Разве что доказательства безумия Вилли Шинера, а может быть, одну из жертв его извращенных наклонностей, умерщвленную и замороженную в память прошлых страстей? Ничего подобного там не оказалось. Однако внутренность холодильника вновь подтвердила феноменальную аккуратность Шинера: все продукты хранились в одноцветных пластмассовых коробках. Единственное, что обращало на себя внимание, так это обилие сладостей и в холодильнике, ив шкафах: мороженое, печенье, торты, конфеты, пироги, сдобные булочки и даже крекеры для животных. В шкафах хранились также и многие новинки: новые сорта спагетти и банки овощного супа с лапшой в виде знаменитых героев мультиков. Невольно приходило в голову, что продукты закупал ребенок с деньгами, но без надзора взрослых. Штефан двинулся в глубь дома.5
Столкновение по поводу разорванных книг лишило Тамми последних остатков мужества. Она больше не упоминала Шинера и внешне не проявляла никакой враждебности к Лоре. С каждым днем она все глубже уходила в себя, отводила глаза, все ниже опускала голову, ее голос звучал все тише. Лора не знала, какое из двух зол хуже: подвергаться постоянной угрозе со стороны Бледного Угря или наблюдать, как на глазах тает и без того уже прозрачная Тамми, которая все меньше реагирует на окружающий мир. Но тридцать первого августа, в четверг, эти две тяжелые ноши упали с ее плеч: она узнала, что с завтрашнего дня будет жить в приемной семье в Коста-Меса. Лоре было жаль расставаться с сестрами Аккерсон. Она знала их совсем недолго. Но ничто так быстро и прочно не укрепляет узы дружбы, как общая опасность. В этот вечер, когда они уселись в кружок, Тельма сказала: — Послушай, Шейн, если вдруг попадешь в хорошую семью, к добрым людям, то сиди смирно и наслаждайся жизнью. Если это приличные люди, забудь о нас, заведи новых друзей, живи своей жизнью. Но знаменитые сестры Аккерсон — это значит мы двое — уже прошли через это чистилище, через целые три приемные семьи, так что, если попадешь в паршивое место, не вздумай там оставаться. Рут посоветовала: — Побольше реви и рассказывай всем и каждому, какая ты несчастная. Не можешь плакать, так хоть притворяйся. — Дуйся, — советовала Тельма. — Будь растяпой. Будешь мыть посуду, разбей пару тарелок. Досаждай всем и каждому. Лора удивилась: — И вы шли на это, чтобы вернуться сюда, в приют? — И не только на это, — добавила Рут. — А вам не было стыдно, когда вы били чужую посуду? — У Рут это плохо получалось, — сказала Тельма. — Другое дело я, во мне сидит чертенок, а в нее переселилась душа тихой монашенки из четырнадцатого века, вот только мы еще пока не узнали ее имя.* * *
Прошел всего один день, а Лора уже поняла, что не хочет оставаться в семье Тигель, но решила немного потерпеть, потому что сначала ей казалось, что здесь лучше, чем в приюте. Флора Тигель имела весьма смутное представление о реальной жизни и интересовалась одними кроссвордами. Она проводила все дни до позднего вечера за столом в своей желтой кухне, закутавшись в теплую кофту независимо от погоды, и разгадывала один за другим кроссворды с удивительным упорством, граничившим с идиотизмом. Обычно она обращалась к Лоре только для того, чтобы дать ей указания по дому или заручиться помощью в разгадке особо трудного слова. Миссис Тигель могла спросить, когда Лора мыла посуду: — Семейство кошачьих, слово из семи букв. Лора всегда отвечала одно и то же: «Не знаю». — Не знаю, не знаю, ничего ты не знаешь, — издевалась миссис Тигель. — Можно подумать, девочка, что ты вообще ничего не знаешь. Чему вас только учат в школе? Разве ты не интересуешься языком, словами? Слова для Лоры таили особые чары. Для нее слова были сама красота, каждое словно магический порошок или волшебное зелье, которые можно смешать в одной чаше и получить колдовской напиток. А для Флоры Тигель слова были игральными фишками для заполнения квадратов головоломки, вызывающими раздражение неуловимыми сочетаниями букв. Муж Флоры, Майк, коренастый, с лицом младенца, работал шофером на грузовике. Он проводил вечера в кресле за чтением газеты «Нэшнл энквайрер», впитывая из сомнительных статей бесполезные сведения о внеземных контактах и поклоняющихся дьяволу кинозвездах. Его любовь к такого рода «экзотическим фактам», как он их называл, можно было бы считать безвредной, если бы он был столь же поглощен ими, как его жена кроссвордами; но он часто делился новостями с Лорой и читал вслух наиболее выдающиеся статьи во время ее работы по дому или в те редкие моменты, когда ей удавалось заняться школьными уроками. Статьи казались ей глупыми, нелогичными, бессмысленными, но она не смела заикнуться об этом. Майк не обижался, когда она говорила ему, что его газеты — это макулатура. Он снисходительно смотрел на нее и назидательно, терпеливо — что выводило Лору из себя, — как переучившийся невежественный всезнайка, объяснял ей, как устроен мир. Утомительно долго. С повторами. — Лора, тебе надо учиться. Большие шишки там, в Вашингтоне, все знают об инопланетянах и загадках Атлантиды. Но как бы ни различались Флора и Майк, в одном они сходились: приемыша берут в дом, чтобы заполучить бесплатную домработницу. В обязанности Лоры входили уборка, стирка, глажка и готовка пищи. Их единственный ребенок Хэйзел была на два года старше Лоры и избалована до предела. Хэйзел никогда не готовила, не мыла посуду, не стирала белье и не убирала дом. И хотя ей было только четырнадцать, ногти на ее руках и ногах были идеально накрашены. Если попробовать вычесть из четырнадцати лет число дней, — потраченных ею на прихорашивание перед зеркалом, то ей было бы всего пять лет. — В день стирки, — пояснила она Лоре в первый день ее пребывания в доме, — ты должна в первую очередь отгладить мои платья. И не забудь их развесить в шкафу по цветам. «Да я читала эту книгу и видела фильм, — подумала Лора. — Господи, мне досталась главная роль в «Золушке»!» — Я буду знаменитой кинозвездой или манекенщицей, — продолжала Хэйзел. — Мое лицо, руки и тело — это мое будущее. Я обязана о них заботиться. Когда в субботу, шестнадцатого сентября, в соответствии с установленным порядком Лору навестила социальный работник миссис Инс, тощая до безобразия женщина с заостренным лицом гончей, Лора хотела попроситься обратно в приют. Угроза, которую представлял Вилли Шинер, побледнела перед лицом каждодневного существования в семье Тигель. Миссис Инс пришла точно в назначенный час и застала Флору Тигель за мытьем посуды, чем она занималась впервые за две недели. Лора сидела за кухонным столом и разгадывала кроссворд, который ей сунули в руки, когда раздался звонок. Личная беседа, для которой отводилась часть визита, состоялась в комнате Лоры, однако миссис Инс отказалась поверить, что на Лору взвалили столько работы. — Но, милочка, мистер и миссис Тигель образцовые приемные родители. Глядя на тебя, не подумаешь, что тебя замучили работой. Ты даже Поправилась. — Я не говорю, что меня морят голодом, — сказала Лора. — Но у меня не остается времени на приготовление уроков. Вечером я прямо падаю с ног… — Кроме того, — прервала ее миссис Инс, — приемные родители обязаны не только содержать детей, но и воспитывать их, а значит, учить их хорошим манерам и поведению, формировать их моральные устои и учить честно трудиться. Миссис Инс была безнадежна. Лора вспомнила, как избавиться от неугодных приемных родителей по плану сестер Аккерсон. Она стала кое-как убирать дом. После мытья на посуде оставались пятна и подтеки. Она заглаживала на платьях Хэйзел лишние складки. Гибель большей части ее библиотечки научила Лору глубоко уважать чужое имущество, и она не могла заставить себя разбить тарелку или испортить что-нибудь из вещей Тигелей, но эту часть плана сестер Аккерсон она заменила проявлением презрения и неуважения. Так, Флора, разгадывая кроссворд, попросила дать ей слово из шести букв, означающее «тупица», и Лора предложила: «Тигель». А когда Майк начал рассказывать историю о летающих тарелках, вычитанную в газете, она перебила его, чтобы поведать о людях-мутантах, тайно живущих в подвале в местном супермаркете. Хэйзел Лора посоветовала начать карьеру в кино дублером Эрнста Боргнайна: — Ты его точная копия, Хэйзел. Они обязательно возьмут тебя на работу. Расплата за насмешки не заставила себя долго ждать. Майку не понадобилась палка, ее заменили его мозолистые тяжелые ладони. Он что есть мочи лупил ее по попке, но Лора закусила губу и не позволила себе расплакаться. Флора, которая в дверях кухни наблюдала за экзекуцией, посоветовала: — Довольно, Майк. Как бы не осталось следов. Но Майк остановился только тогда, когда жена схватила его за руку. В эту ночь Лора не спала. Впервые она использовала столь любимые ею слова, всю силу языка, чтобы добиться намеченной цели, и реакция Тигелей показала, что Лора неплохо умеет распоряжаться своим богатством. Еще более волнующей была зародившаяся и еще целиком не осознанная мысль, что у нее есть талант не только защищаться с помощью слов, но и зарабатывать с их помощью на жизнь, например как автор книг, которые она так обожала читать. С отцом она часто говорила о своей мечте стать доктором, балериной, ветеринаром, но ни одна из этих профессий не затронула так глубоко ее душу, как мечта стать писательницей. На следующее утро, когда она спустилась вниз и застала всю семью Тигель за завтраком, она сказала: — Послушай, Майк, я только что обнаружила разумное существо с Марса, которое поселилось у нас в туалетном бачке. — Это еще что такое? — поинтересовался Майк. Лора улыбнулась и ответила: — Это «экзотические факты». Через два дня Лору отослали обратно в приют.6
Гостиная Вилли Шинера была самой заурядной. Штефан опять не мог объяснить, что он тут предполагал обнаружить. Наверное, признаки безумия, но никак не этот чистый, аккуратный дом. Одна из спален была не меблирована, а вот другая явно свидетельствовала о чем-то необычном. Единственной постелью служил лежавший на полу узкий матрац. Наволочки и простыни с яркими рисунками, изображавшими забавных кроликов из мультфильмов, определенно предназначались для детской. По своим размерам ночной столик и комод тоже были рассчитаны на ребенка и украшены по бокам и на ящиках картинками жирафов, кроликов и белок. Кроме того, на полке стояли книги из «Золотой библиотеки для малышей», а также книжки-картинки, мягкие игрушки и другие игры для шести-семилетних. Сначала Штефан подумал, что комната предназначается для соседских детей, что Шинер настолько спятил, что ищет жертву поблизости, хотя опасность здесь для него была особенно велика. Но в доме не было другой кровати, а в стенном шкафу и комоде размещалась мужская одежда. На стенах висело с десяток фотографий в рамках с изображением одного и того же рыжеволосого мальчика, на некоторых он был еще совсем малышом, на других лет шести-семи, но всюду, вне всякого сомнения, это был Вилли Шинер в детстве. Понемногу до Штефана дошло, что вся эта обстановка предназначена для самого Вилли Шинера. Здесь жил психически больной человек. Ночью Шинер совершал удивительное путешествие в прошлое и укрывался в стране своего детства, обретая столь необходимый ему покой. Стоя посередине странной комнаты, Штефан испытывал одновременно печаль и отвращение. Было ясно, что Шинер преследовал детей не столько для сексуального удовлетворения, сколько для того, чтобы впитать их юность, стать вновь молодым, как они; что, предаваясь пороку со всей его грязью и мерзостью, он пытался обрести потерянную невинность детства. Он был в равной степени жалким и презренным, неспособным справиться с грузом взрослой жизни и не менее опасным в своей неполноценности. Штефан невольно содрогнулся.7
Ее кровать в комнате двойняшек Аккерсон теперь занимала другая девочка, и Лору поместили в маленькую комнату с двумя кроватями на третьем этаже возле лестницы. Ее соседкой была девятилетняя Элоиз Фишер, с косичками, веснушками, очень серьезная для своего возраста. — Когда я вырасту, я стану бухгалтером, — объявила она Лоре. — Мне нравятся цифры. Складываешь их и всякий раз получаешь один и тот же результат. Цифры дело надежное, не то что люди. Родители Элоиз торговали наркотиками и получили срок, а она жила в приюте, пока суд не решит, кому из родственников поручить опеку. Как только Лора распаковала веши, она поспешила в комнату близнецов V ворвалась к ним с радостным криком: — Я свободна, свободна! Тамми и новая девочка равнодушно посмотрели на нее, но Рут и Тельма бросились обнимать, что походило на возвращение домой в родную семью. — Ты что, не понравилась своим приемным родителям? — спросила Рут. А Тельма добавила: — Ага, значит, ты воспользовалась планом Аккерсон. — Нет, я их всех поубивала, когда они спали. — Это надежней всего, — согласилась Тельма. Новой девочке, Ребекке Богнер, было одиннадцать. Она и сестры Аккерсон явно не симпатизировали друг другу. Слушая разговоры Лоры и близнецов, Ребекка без конца твердила: «Странные какие», «Ну просто ненормальные» и «Ну совсем психи» с таким превосходством и пренебрежением, что отравляла атмосферу в комнате не хуже ядерного взрыва. На улице Лора и сестры уединились в углу спортивной площадки, чтобы без злых комментариев Ребекки поделиться новостями, что накопились за пять недель отсутствия Лоры. Стояло начало октября, и дни были еще теплыми, но около пяти заметно холодало. Они были в теплых кофтах и сидели на нижних перекладинах гимнастического лабиринта, покинутого младшими детьми, которые умывались, готовясь к ужину. Не прошло и пяти минут, как на площадке появился Вилли Шинер с электрической машинкой для стрижки кустов и принялся подравнивать миртовые кусты неподалеку, не спуская глаз с Лоры. За ужином Угорь занимал свое место в кафетерии, раздавая картонные пакеты с молоком и куски вишневого пирога. Самый большой кусок достался Лоре.* * *
В понедельник Лора пошла в новую школу, где другие дети уже успели за месяц перезнакомиться. Она встречалась на некоторых уроках с Тельмой и Рут, что помогало ей привыкнуть к новой обстановке, но, как видно, постоянные изменения были характерной особенностью жизни в приюте.. Во вторник во второй половине дня, когда Лора вернулась из школы, в коридоре ее остановила миссис Боумен: — Лора, пожалуйста, зайди ко мне в кабинет. На миссис Боумен было платье с цветами по фиолетовому полю, которое резко контрастировало с розовым и желтым орнаментом обоев и гардин. Лора села на стул, обитый материей с розовым узором. Миссис Боумен не села, а стояла за столом, видимо предполагая быстро разделаться с Лорой и заняться другими делами. Миссис Боумен была суетливой и суматошной. — Элоиза Фишер покинула нас сегодня, — объявила миссис Боумен. — И кто опекун? — спросила Лора. — Она хотела жить у своей бабушки. — Именно она и назначена опекуном, — подтвердила миссис Боумен. Элоиз повезло. Надо думать, что будущий веснушчатый бухгалтер с косичками найдет другую опору в жизни, помимо бездушных цифр. — Теперь ты одна в комнате, — продолжала миссис Боумен твердым голосом, — и нигде нет свободного места, так что… — Могу я сделать предложение? Миссис Боумен нетерпеливо нахмурилась и посмотрела на часы. Лора заторопилась. — Я очень дружу с сестрами Аккерсон, а с ними живут Тамми Хинсен и Ребекка Богнер. Но Тамми и Ребекка не ладят с сестрами, и вот… — Мы хотим, чтобы разные дети научились ладить между собой. Жизнь с людьми, которые тебе симпатичны, не способствует выработке характера. Как бы там ни было, отложим это до завтра, сегодня мне некогда. Так вот, мне надо знать, могу ли я на тебя положиться и оставить одну на ночь в этой комнате? — Положиться? — изумилась Лора. — Скажи мне правду, девочка. Я могу оставить тебя одну? Лора не могла понять, что беспокоит социального работника и почему она боится оставить Лору одну на ночь. Может, она думает, что Лора забаррикадируется в комнате и полиции придется взламывать дверь и применять слезоточивый газ и наручники? Лора была одновременно растерянна и оскорблена. — Конечно, можете. Я не маленькая. Все будет в порядке. — Ладно… хорошо. Сегодня ты будешь ночевать одна, а завтра мы что-нибудь придумаем. Покинув многоцветный кабинет миссис Боумен и очутившись в сером коридоре, Лора стала подниматься по лестнице на третий этаж, и вдруг ее осенило: «А как же Бледный Угорь?» Шинер обязательно узнает, что сегодня она ночует одна. Он знал обо всем происходившем в приюте, и у него были свои ключи, он мог войти в приют даже ночью. Ее комната была рядом с лестницей, он мог прокрасться незамеченным и в одно мгновение справиться с нею. Он мог сделать с ней что угодно, обезвредить ее ударом по голове или наркотиком, запихнуть в мешок, утащить с собой, запереть в подвале, и никто не догадается, что с ней произошло. Она повернула обратно, прыгая через две ступеньки, чтобы застать миссис Боумен, но в холле на первом этаже чуть не столкнулась с Угрем. Он был вооружен шваброй и катил оснащенный выжималкой бак на колесах, распространявший хвойный запах дезинфекции. Он ухмыльнулся. Может, это была игра ее воображения, но она не сомневалась: он знает, что сегодня она ночует одна. Ей следовало пройти мимо, дальше, к миссис Боумен, и просить, чтобы ее не оставляли на ночь одну. Но она не могла обвинить Шинера, иначе бы ее ждала участь Денни Дженкинса — неверие воспитателей, погубленная жизнь, — ей нужно было найти вескую причину для перемены своего решения. Ей пришло в голову, а не наброситься ли ей на Угря, толкнуть его в бак с водой, поддать под зад, одним словом, показать, что она не такая слабая и что ему лучше с нею не связываться. Но Угорь был не из породы Тигелей. Майк, Флора и Хэйзел были узколобыми, несносными, невежественными, но сравнительно нормальными людьми. Угорь был ненормальным, и его реакция на нападение была непредсказуемой. Пока она раздумывала, он все шире улыбался, обнажая кривые желтые зубы. На его бледных щеках выступил румянец, и Лора, преодолевая тошноту, поняла, что его душит желание. Она пошла прочь, вверх по лестнице, не решаясь бежать, пока не скрылась у него из виду. Тогда она что было мочи помчалась в комнату двойняшек. — Сегодня ты будешь спать у нас, — сказала Рут. — Правда, тебе придется побыть у себя, пока не кончится вечерняя поверка, — продолжала Тельма, — а потом тихонечко спустишься сюда. Из своего угла, где она, сидя на кровати, делала домашнее задание по математике, Ребекка Богнер сказала: — У нас только четыре кровати. — Я буду спать на полу, — сказала Лора. — Это нарушение правил, — отрезала Ребекка. — Я ведь не сказала, что я против. Я только сказала, что это нарушение правил. Лора думала, что Тамми тоже будет протестовать, но девочка лежала на кровати поверх покрывала, уставившись в потолок, явно погруженная в свои собственные мысли, и не обращала на остальных никакого внимания.* * *
Когда они сидели в облицованной дубом столовой за несъедобным ужином из свиных отбивных, клейкого картофельного пюре и жесткой зеленой фасоли, Тельма сказала: — Хочешь знать, почему Боумен боялась оставить тебя одну? Она боится, что ты покончишь с собой. Лора не могла поверить своим ушам. — Тут были такие случаи, — грустно подтвердила Рут. — Вот отчего они запихивают нас по двое даже в самую тесную комнатушку. Когда слишком часто остаешься одна… от этого все и происходит. Тельма сказала: — Они не разрешили нам жить вдвоем в маленькой комнате, потому что мы близнецы, для них мы как бы один человек. Они думают, стоит нас оставить на минуту одних, как мы тут же повесимся. — Какая чепуха, — сказала Лора. — Конечно, чепуха, — согласилась Тельма. — Подумаешь, повеситься. Удивительные сестры Аккерсон — это мы вдвоем — вынашивают более грандиозные планы. Например, стащить кухонный нож и сделать себе харакири, а вот если достать дисковую пилу… Разговоры велись пониженными голосами, так как по столовой прохаживались дежурные воспитатели. Когда мисс Кейст, главная воспитательница на третьем этаже, постоянно проживающая в приюте, прошла мимо их стола, Тельма прошептала: — Гестапо. Когда мисс Кейст удалилась, Рут сказала: — Миссис Боумен желает нам добра, но она здесь не на своем месте. Если бы она постаралась разузнать, какой у тебя характер, Лора, она бы не беспокоилась, что ты пойдешь на самоубийство. Ты стойкая. Тельма ковыряла вилкой несъедобное месиво. — Тамми Хинсен как-то застали в умывальной с пачкой лезвий, но она так и не решилась перерезать себе вены. Лора вдруг ощутила странность сочетания смешного и трагичного, нелепого и мрачного, пронизывающих их жизнь в приюте Макилрой. То они весело шутили друг с другом, то через секунду обсуждали, кто из девочек способен на самоубийство. Лора отметила, что подобная глубокая мысль не соответствует ее возрасту, решила записать ее в тетрадь, недавно заведенную специально для этого, как только вернется к себе в комнату. Рут наконец проглотила кусок пищи. — Через месяц после случая с Тамми Хинсен они неожиданно провели внеочередной обыск у нас в комнатах, искали опасные предметы. Они нашли у Тамми банку с бензином для зажигалок и спички. Она хотела запереться в душевой, облиться бензином и поджечь себя. — Господи. — Лора представила себе худую беловолосую девочку с землистым лицом и темными кругами под глазами и подумала, что с помощью самосожжения Тамми только хотела ускорить процесс: медленный огонь уже давно сжигал ее изнутри. — Они на два месяца отправили ее в больницу для интенсивного лечения, — сказала Рут. — А когда она вернулась, — подхватила Тельма, — все взрослые твердили, что ей стало лучше, а мы решили, что она такая, как прежде.* * *
Лора встала с постели через десять минут после ночного обхода мисс Кейст. В пижаме, с подушкой и одеялом под мышкой она босиком направилась в комнату сестер. Горела только одна лампа у изголовья Рут. Рут прошептала: — Лора, ты будешь спать на моей кровати. Я уже устроилась на полу. — Давай собирай все с пола и иди обратно на кровать, — откликнулась Лора. Она в несколько раз сложила свое одеяло, расстелила этот самодельный матрац рядом с постелью Рут и устроилась на нем, подложив под голову подушку. Со своей кровати Ребекка Богнер сказала: — Вот увидите, мы нарвемся на неприятность. — Чего ты боишься? — спросила Тельма. — Что они в наказание привяжут нас к столбам во дворе, обмажут медом и оставят на съедение термитам? Тамми уже спала или притворялась спящей. Рут выключила лампу, и наступила тишина. Внезапно дверь со стуком открылась настежь, и загорелся верхний свет. Мисс Кейст в красном халате и с грозным выражением лица влетела в комнату. — Вот оно что! Интересно, что ты тут делаешь, Лора? Ребекка Богнер простонала: — Я же говорила, что мы нарвемся на неприятность. — Вы, мисс, немедленно возвращайтесь к себе в комнату. Быстрота появления мисс Кейст казалась подозрительной, и Лора взглянула на Тамми Хинсен. Беловолосая девочка больше не притворялась спящей. Опершись на локоть, она улыбалась бледной улыбкой. Она явно решила помочь Угрю в его борьбе за Лору, возможно, в надежде вернуть себе его расположение. Мисс Кейст проводила Лору обратно в ее комнату. Лора легла в кровать, и мисс Кейст с минуту смотрела на нее. — Тут жарко. Я открою окно. — Вернувшись к постели, она опять пристально посмотрела на Лору. — Может быть, ты хочешь мне что-нибудь сказать? У тебя все в порядке? Лора подумала, не рассказать ли ей об Угре. А что, если мисс Кейст устроит засаду на Угря, а он вдруг не покажется? Никогда больше Лора не посмеет сказать что-нибудь против Угря, потому что один раз она его уже напрасно обвинила, и тогда никто не станет принимать ее всерьез. Даже если Шинер изнасилует ее, это ему сойдет с рук. — Нет-нет, все в порядке, — сказала она. Мисс Кейст продолжала: — Тельма слишком самоуверенна для девочки ее возраста, она хочет казаться старше своих лет. А если ты такая глупая, чтобы снова нарушить правила ради ночной болтовни, то выбирай себе друзей понадежней. — Да, мэм, — согласилась Лора, только чтобы избавиться от мисс Кейст; как она могла, обманутая мимолетным сочувствием, подумать о том, чтобы довериться этой женщине. Мисс Кейст ушла, но Лора продолжала лежать в кровати и не думала никуда бежать. Она лежала в темноте, уверенная, что через полчаса последует еще одна проверка. Наверняка Угорь до полуночи не выползет из норы, а сейчас было всего десять, так что у нее достаточно времени между следующим посещением мисс Кейст и появлением Угря, чтобы найти для себя безопасное укрытие. Где-то в ночной дали заворчал гром. Лора села на кровати. Ее личный хранитель! Отбросив одеяло, она подбежала к окну. Никакой молнии. Отдаленный грохот стих. А может быть, она ослышалась? Она подождала еще минут десять, но все было тихо. Разочарованная, она вернулась в кровать. Вскоре после десяти тридцати скрипнула дверная ручка. Лора закрыла глаза и глубоко задышала, притворяясь спящей. Кто-то неслышно пересек комнату, остановился возле кровати. Лора дышала медленно, ровно, глубоко, но сердце что есть силы колотилось у нее в груди. Это Шинер. Она знала, что это он. Господи, как она могла забыть, что он ненормальный, что он непредсказуем, и вот теперь он здесь, раньше, чем она ожидала, а в руке у него шприц со снотворным. Он засунет ее в мешок и унесет с собой, словно безумный Санта-Клаус, ворующий детей, вместо того чтобы приносить им подарки. Тикали часы. Прохладный ветерок шевелил занавески. Наконец человек у кровати пошел обратно к двери. Дверь закрылась. Значит, все-таки это была мисс Кейст. Дрожа всем телом, Лора вскочила с кровати, надела халат. Перекинула одеяло через руку и босиком, чтобы не делать лишнего шума, выбежала из комнаты. Она не могла вернуться в комнату Аккерсон. Лора направилась к лестнице, осторожно открыла дверь и вышла на освещенную площадку. Она прислушалась, не слышно ли шагов Угря. Она спускалась с опаской, каждую секунду ожидая встретить Шинера, но благополучно добралась до первого этажа. Продрогнув от холода кафельных плит под босыми ногами, Лора спряталась в комнате для игр. Она не стала зажигать света, ей было достаточно неяркого сияния уличных фонарей, проникавшего через окна и освещавшего контуры мебели. Она прошла между столами и стульями, добралась до дивана и улеглась позади на свернутом одеяле. Она спала урывками, без конца просыпаясь от кошмаров. Ночью старый дом был полон таинственных звуков: скрип половиц наверху, бульканье в ржавых водопроводных трубах.8
Штефан погасил все лампы и ждал в спальне с детской мебелью. В три тридцать утра он услыхал, как Шинер входит в дом. Штефан спрятался за дверью спальни. Через несколько минут Шинер вошел в спальню, зажег свет и направился к матрацу. По пути он издавал странные звуки, нечто среднее между всхлипыванием ребенка и скулежом животного, возвращающегося из враждебного мира под защиту своей норы. Штефан закрыл дверь, и Шинер резко обернулся, напуганный тем, что кто-то нарушил покой его гнезда. — Кто… кто вы такой? Что вы тут делаете?* * *
Из «Шевроле», припаркованного в темноте на другой стороне улицы, Кокошка наблюдал, как Штефан покидает дом Шинера. Он подождал десять минут, вышел из машины, обошел дом, обнаружил сзади открытую дверь и осторожно ступил внутрь. Шинер, избитый, окровавленный, неподвижный, лежал на полу в детской спальне. В воздухе стоял запах мочи. «Когда-нибудь, — подумал Кокошка с мрачной уверенностью и предвкушением садиста, — я еще не так расправлюсь со Штефаном. С ним и с этой чертовой девчонкой. Главное узнать, какую роль он отводит ей в своих планах и почему он скачет через десятилетия, чтобы переделать ее жизнь. Вот тогда-то я устрою такие пытки, что ад покажется раем». Он покинул дом Шинера, На заднем дворе остановился, посмотрел на звездное небо и вернулся обратно в Институт.9
Когда рассвело, но все обитатели приюта еще спали, Лора почувствовала, что опасность миновала; она встала со своего ложа в комнате для игр и вернулась на третий этаж. Все лежало на прежних местах. Ничто не говорило о том, что ночью здесь побывал чужой человек. Измученная, с красными от бессонницы глазами, Лора раздумывала, не преувеличила ли она наглость и дерзость Угря. Она чувствовала себя немного смущенной. Она принялась убирать постель — непреложная обязанность каждого в приюте — и застыла на месте при виде находки, обнаруженной под подушкой. Одной-единственной круглой пачки с леденцами.* * *
В этот день Бледный Угорь не явился на работу. Видимо, всю ночь он готовился к похищению Лоры, и теперь ему надо было выспаться. — Разве такой человек может вообще спать? — удивлялась Рут, когда после школьных занятий они собрались в уголке спортивной площадки. — Его, наверное, совесть заедает? — Рут, милая, неужели ты думаешь, что у него есть совесть? — сказала Тельма. — У всех есть, даже у самых плохих. Такими нас создал Господь. — Шейн, — сказала Тельма, — приготовься к церемонии изгнания злых духов. Наша Рут опять стала жертвой колдовского обмана. Миссис Боумен проявила неожиданную доброту и позволила Лоре жить с сестрами Аккерсон, переселив Тамми и Ребекку в другую комнату. Четвертая кровать пока оставалась незанятой. — Это кровать для Пола Маккартни, — объявила Тельма, когда они с сестрой помогали Лоре с переездом. — Если битлы приедут сюда на гастроли, он может на ней спать. А я буду спать с ним! — Иногда, — заметила Рут, — тебя стыдно слушать. — Чего это ты? Я просто выражаю здоровую сексуальную потребность. — Тельма, ты забыла, что тебе только двенадцать! — в отчаянии воскликнула Рут. — Скоро тринадцать. Теперь всякий день жди прихода месячных. Проснемся утром, а тут столько крови, как после побоища. — Тельма, что ты говоришь! Шинер не пришел на работу и во вторник. На этой неделе у него выходными были пятница и суббота, и в субботу вечером Лора и близнецы в сильном возбуждений обсуждали вопрос, вернется ли Угорь вообще, — возможно, он попал под грузовик или заболел бери-бери. Но в воскресенье утром Шинер стоял на своем месте за раздаточным прилавком. Оба его глаза украшали два черных синяка, у него также была повязка на правом ухе, раздутая верхняя губа и длинная глубокая ссадина на левой скуле; ко всему прочему у него недоставало двух передних зубов. — Вероятно, он все-таки попал под грузовик, — шепнула Рут, когда они двигались в очереди вдоль прилавка. Другие дети тоже не оставили без внимания увечья Шинера, и некоторые посмеивались. Но они боялись, презирали его или питали к нему отвращение, поэтому никто не спросил Шинера, почему он в таком состоянии. По мере приближения к нему Лора, Рут и Тельма смолкли. С близкого расстояния он выглядел еще хуже. Страшные синяки казались совсем свежими, как и отеки; видимо, сначала глаза были почти закрыты. Разбитая губа еще кровоточила. Помимо синяков все его лицо покрывали ссадины и царапины, а обычно бледная кожа казалась серой. Со своей вьющейся медно-красной шевелюрой он являл жалкую нелепую фигуру: неумелый цирковой клоун, который свалился с маху с лестницы, не зная, как приземлиться и уберечь себя от ушибов. Он обслуживал детей, не поднимая головы и не спуская взгляда с молочных пакетов и булочек. Он напрягся, когда к нему подошла Лора, но не поднял глаз. За столом девочки уселись так, чтобы наблюдать за Угрем, о чем они и думать не могли всего час назад. Но теперь он был не страшен, а скорее загадочен. Весь день они не избегали его, а наоборот, преследовали, прикидываясь, что это случайно, и пристально его изучали. Постепенно выяснилось, что он реагирует на присутствие Лоры, но боится даже взглянуть на нее. Он смотрел на других детей, задержался в комнате для игр и тихо побеседовал о чем-то с Тамми Хинсен, но он боялся взглянуть на Лору и держался подальше от нее, как от клетки со свирепыми львами. К концу дня Рут сделала выводы: — Лора, он тебя боится. — Это точно, — подтвердила Тельма. — Может, это ты его исколошматила, Шейн? Может, ты скрываешь, что ты мастер по карате? — Ничего не понимаю. Почему он меня боится? Но она знала почему. Ее личный хранитель. Она думала, ей самой придется заниматься Шинером, но хранитель явился опять и предупредил Шинера, чтобы тот оставил ее в покое. Ей почему-то не хотелось историю об этом загадочном защитнике поведать сестрам Аккерсон. А ведь они были ее лучшими подругами. Она доверяла им. И все же интуиция ей подсказывала, что тайна ее хранителя должна оставаться тайной, что то немногое, что она о нем знала, — нечто сокровенное, и у нее нет права болтать об этом с другими людьми, превращая все в пустую сплетню.* * *
В следующие две недели синяки и ссадины у Шинера поджили, он снял повязку с уха, и все увидели багровые швы, которые держали этот почти оторванный кусок человеческой плоти. Он продолжал сторониться Лоры. Обслуживая ее в столовой, он больше не приберегал для нее лучшие куски пирога или булочки и по-прежнему отводил глаза в сторону. Несколько раз, однако, она ловила издалека его злобный взгляд. Всякий раз он быстро отворачивался, но в его бешеных зеленых глазах она видела нечто худшее, чем предыдущее извращенное чувство, — на этот раз это была ярость. Он определенно винил в избиении ее. Двадцать седьмого октября, в пятницу, она узнала от миссис Боумен, что завтра едет в другую приемную семью. Мистер и миссис Доквайлер жили в Ньюпорт-Бич, впервые участвовали в этой благотворительной программе и были рады принять Лору. — Уверена, что на этот раз вы сойдетесь. — Миссис Боумен стояла за своим столом в ярко-желтом цветастом платье, которое придавало ей сходство с ярким тропическим попугаем. — Надеюсь, у Доквайлеров с тобой не повторится история, которая случилась в семье Тигель. В этот вечер Лора и близнецы старались держаться мужественно и хладнокровно, как и в прошлый раз, принимать приближающуюся разлуку. Но за этот месяц они сблизились еще больше, и Рут с Тельмой стали относиться к Лоре как к родной сестре. Тельма даже раз сказала: «Эти удивительные сестры Аккерсон, Рут, Лора и я» — и Лора впервые за три месяца после смерти отца почувствовала себя желанной, любимой и по-настоящему живой. — Как я люблю вас, девчонки, — сказала Лора. Рут ответила: — Ах, Лора! — И расплакалась. Тельма нахмурилась. — Не успеем оглянуться, как ты уже вернешься. Эти Доквайлеры наверняка какие-нибудь ужасные люди. Вот увидишь, они тебя поселят в гараже. — Я только на это и надеюсь. — Они будут тебя избивать резиновым шлангом… — Я не против.* * *
На этот раз молния, которая преобразила ее жизнь, была доброй молнией, и Лора почувствовала это с самого начала. Супруги Доквайлер жили в просторном доме в дорогом районе Ньюпорт-Бич. У Лоры была спальня с видом на океан. Она была отделана в бежевых и коричневых тонах. Показывая ей комнату в первый раз, Карл Доквайлер сказал: — Мы не знали, какой твой любимый цвет, поэтому оставили все как есть, но мы можем все перекрасить, ты только скажи… Ему было за сорок; большой и грузный, как медведь, с широким помятым лицом, он напоминал ей Джона Уэйна, если бы Джон Уэйн был смешнее на вид. — Может, девочке твоего возраста подойдет розовая комната? — Нет, нет, оставьте все как есть! — воскликнула Лора. Она все еще не могла свыкнуться с неожиданной роскошью, котораяее теперь окружала; она подошла к окну, и перед ней открылся изумительный вид ньюпортской гавани с лодками и яхтами, качающимися на играющей солнечными бликами воде. Нина Доквайлер обняла Лору за плечи. Она была очаровательна и казалась хрупкой фарфоровой статуэткой: матовое лицо, темные волосы и глаза цвета фиалки. — Лора, в твоем деле написано, что ты любишь читать, но мы не знали, какие книги тебе по вкусу, хочешь, пойдем сейчас в магазин, и ты выберешь, что тебе нравится. В магазине Лора выбрала пять книг в мягких обложках, и, хотя Доквайлеры уговаривали ее купить еще, она стеснялась тратить их деньги. Карл и Нина принялись сами рыться на полках, снимать тома и читать Лоре рекламу с суперобложки; они откладывали книги в сторону, стоило Лоре проявить малейший интерес. В какой-то момент Карл на руках и коленках ползал по полу в юношеской секции, разбирая названия на нижней полке: — Послушай, вот тут книга о собаке. Ты любишь книги о животных? А вот о шпионах! — Он был так смешон, что Лора расхохоталась. Они купили сотню книг, целый мешок. Впервые они обедали вместе в пиццерии, где Нина продемонстрировала удивительный талант фокусника, достав из-за Лориного уха кусочек колбасы, который тут же растаял в воздухе. — Потрясающе, — сказала Лора. — Где вы этому научились? — Я была художником по интерьеру, у меня была фирма, но мне пришлось оставить работу восемь лет назад. Из-за слабого здоровья. Я уставала. Но я не привыкла сидеть дома и занялась всеми теми вещами, на которые у меня не хватало времени, когда я работала. Например, научилась фокусам. — Из-за слабого здоровья? — переспросила Лора. Уверенность в завтрашнем дне — вот та хрупкая опора, которой люди пытались лишить Лору. Теперь ей снова грозила эта опасность… Они заметили ее испуг, и Карл Доквайлер сказал: — Не беспокойся. Нина родилась с пороком сердца, это врожденный недостаток, но она проживет дольше, чем мы с тобой, если будет избегать стрессов. — Разве нельзя сделать операцию? — спросила Лора и положила обратно на тарелку кусок пиццы; ее аппетит мгновенно исчез. — Техника операций на сердце постоянно совершенствуется, — сказала Нина. — Подождем еще пару лет. Но, девочка, не надо волноваться. Я о себе позабочусь, особенно теперь, когда у меня есть дочка, которую я могу баловать! — Больше всего на свете мы мечтали иметь детей, — сказал Карл, — но наша мечта не осуществилась. Когда мы решили усыновить ребенка, обнаружилась болезнь Нины, и учреждения, которые этим занимаются, нам отказали. — А как приемные родители мы подходим, — сказала Нина, — так что, если тебе нравится у нас, ты можешь жить с нами всегда, как если бы мы тебя удочерили. Ночью в своей большой спальне с видом на море — теперь это было огромное пугающе темное пространство — Лора сказала себе, что не должна слишком привязываться к Доквайлерам, что болезнь Нины перечеркивала саму возможность надежного будущего. На следующий день, в воскресенье, они отправились покупать Лоре гардероб и потратили бы кучу денег, если бы она наконец не упросила их остановиться. Набив «Мерседес» коробками и пакетами с новой одеждой, они поехали в кинотеатр на комедию с Питером Селлерсом, а после кино пообедали в ресторане, где Подавали гамбургеры и делали умопомрачительные молочные коктейли. Поливая кетчупом жареную картошку, Лора сказала: — Вам здорово повезло, что социальная служба прислала меня, а не какого-нибудь другого ребенка. Карл поднял брови: — Вот как? — Дело в том, что вы хорошие, даже слишком хорошие, а поэтому уязвимые, даже больше, чем сами думаете. Вы легкая добыча. Любой ребенок вас сразу раскусит и воспользуется вашей слабостью. Без всякого снисхождения. Но со мной вы можете быть спокойны. Я никогда не буду злоупотреблять вашей добротой, и вы никогда не пожалеете, что взяли меня к себе. Они в изумлении смотрели на Лору. Наконец Карл повернулся к Нине: — Они нас обманули. Это не ребенок. Они нам подсунули карлицу. В этот вечер в кровати, ожидая, когда придет сон, Лора твердила свое заклинание для самозащиты: «Не люби их слишком сильно, не люби их слишком сильно». Но она уже любила их всем сердцем.* * *
Супруги Доквайлер записали ее в частную школу, где требования были выше, чем в государственных, которые она посещала прежде, но это только ее раззадорило, и она училась еще лучше. Постепенно у нее появились друзья. Она скучала по Тельме и Рут, но утешалась тем, что они должны радоваться обретенному ею счастью. Она даже стала с верой смотреть в будущее и подумывать, что и ей там уготован кусочек счастья. Разве у нее не было личного хранителя? Возможно, даже ангела-хранителя. А если уж кому судьба послала ангела-хранителя, то его ждет впереди любовь, счастье и благополучие. Вот только может ли ангел-хранитель прострелить человеку голову? Или избить его до потери сознания? Пусть так. Все равно у нее был очень мужественный хранитель, ангел или кто другой, а еще любящие приемные родители, и разве можно отказываться от счастья, если оно тебе падает с неба? Пятого декабря, во вторник, Нина пошла к кардиологу, которому она показывалась каждый месяц, поэтому, когда во второй половине дня Лора вернулась из школы, дома никого не было. Она открыла дверь своим ключом и положила книги на столик в стиле Людовика XIV рядом с лестницей. Огромная гостиная была декорирована в кремовых, розовых и бледно-зеленых тонах, отчего казалась уютной, несмотря на свои размеры. Лора остановилась у окна полюбоваться видом и пожалела, что рядом нет Рут и Тельмы; у нее мелькнула мысль, а не могли бы они приехать сюда. Почему бы и нет? Карл и Нина обожали детей. Их любви с избытком хватит для кучи детей, для целой сотни. — Шейн, — сказала она вслух, — ты гений. Она пошла на кухню и приготовила еду, чтобы взять к себе в комнату. Она налила стакан молока, разогрела в духовке булочку с шоколадом, достала из холодильника яблоко, и все время обдумывала, как заговорить с Доквайлерами о сестрах-двойняшках. Идея казалась ей вполне осуществимой, и она не могла обнаружить в своем плане ни сучка ни задоринки. С полными руками она плечом открыла дверь из кухни. Угорь поджидал ее в столовой; он схватил ее и с такой силой швырнул об стену, что у нее перехватило дыхание. Яблоко и шоколадная булочка слетели с тарелки, тарелка выскочила у нее из руки, он выбил стакан молока из другой, и тот со звоном разбился об обеденный стол. Он снова схватил ее и снова швырнул об стену; боль пронзила ей спину, зрение затуманилось, но ей нельзя было терять сознание, и она цеплялась за него из последних сил, хотя все ее тело кричало от боли, не хватало дыхания, она плохо соображала. Где же ты, мой хранитель? Где? Шинер придвинул свое лицо к ее лицу, ужас обострил до предела ее чувства, и она с особой ясностью увидела каждую деталь его искаженной бешенством физиономии: все еще багровые швы в том месте, где ему пришили обратно ухо, черные точки в складках у носа, следы от юношеских прыщей на мучнистого цвета коже. В его зеленых глазах не было ничего человеческого, это были лютые и свирепые глаза дикой кошки. Вот сейчас хранитель оттащит от нее Угря и убьет его на месте. Сейчас. Немедленно. — Теперь ты попалась, крошка. — Его пронзительный голос был голосом маньяка. — Теперь не вырвешься, и ты мне скажешь, кто был этот гад, который меня избил. Я ему оторву голову. Он держал ее за руки выше локтей, и его пальцы больно вцепились в тело. Он поднял ее с пола до уровня своего лица и прижал к стене. Ее ноги болтались в воздухе. — Кто он, эта сволочь? — Он был очень сильным для своего роста. Он оторвал ее от стены и вновь ударил о нее, не опуская на землю. — Скажи мне, детка, или я оторву тебе ухо! Сейчас. Он может появиться в любое мгновение. Боль пульсировала в каждой клетке ее тела, но она сумела втянуть воздух в легкие, хотя этот воздух был его дыханием, вонючим и тошнотворным. — Отвечай мне, детка. Она умрет, ожидая помощи ангела-хранителя. Она лягнула его в ширинку. Это было точное попадание. Он стоял, широко расставив ноги, он не привык, чтобы девочки оказывали сопротивление, поэтому удар был для него полной неожиданностью. Его глаза расширились, на секунду приобрели почти человеческое выражение, и он издал придушенный вопль. Он отпустил руки. Лора полетела на пол, а Шинер попятился, потерял равновесие, упал спиной на обеденный стол, а оттуда на пол, где скорчился на боку на китайском ковре. Почти парализованная болью, шоком и страхом, Лора не могла подняться на ноги. Ватные ноги. Тряпичные. Тогда ползи. Она еще могла ползти. Прочь от него. Изо всех сил. К арке гостиной. В надежде, что там она сможет подняться на ноги. Он ухватил ее за левую щиколотку. Она попыталась вырваться. Не вышло. Ватные ноги. Шинер вцепился в нее. Холодные пальцы. Как у трупа. Он тонко, пронзительно подвывал. Псих. Она попала рукой в мокрое пятно на ковре. Увидела стакан. Верхушка стакана была разбита. Тяжелое дно ощетинилось острыми зазубринами. На них еще висели капли молока. Угорь, все еще хватавший ртом воздух и скорчившийся от боли, держал ее уже за вторую щиколотку. Извиваясь, рывками, он старался добраться до нее. Он по-прежнему тонко подвывал. Как щенок. Сейчас навалится на нее. Придавит к земле. Она схватила разбитый стакан. Поранила палец. Не почувствовала боли. Он отпустил се щиколотки, чтобы обнять за бедра. Она выкрутилась и перевернулась на спину. Как если бы она была угрем. Выставила навстречу разбитый стакан; не для того чтобы ударить, чтобы напугать. Но он уже опускался, падал на нее, и три стеклянных острия вонзились ему в горло. Он попытался откинуться. Схватился за стакан. Зазубрины, отломившись, застряли у него в горле. Давясь, задыхаясь, он прижал ее к полу своей тяжестью. Кровь текла у него из носа. Она попыталась вывернуться. Его ногти царапали ее тело. Он тяжело придавил коленом ее бедро. Она почувствовала его рот у себя на горле. Слегка прикусил кожу. В следующий раз, если она позволит, отхватит кусок побольше. Она забилась под ним. Дыхание свистело и булькало в его изуродованном горле. Она вывернулась. Он сделал попытку ее поймать. Лора ударила его ногами. Ноги теперь работали лучше. Это был верный удар. Она поползла к гостиной. Ухватилась за деревянную арку. Поднялась. Обернулась. Угорь тоже стоял на ногах, вооружившись, как палицей, стулом. Он размахнулся. Она увернулась. Стул с грохотом ударил по раме арки. Шатаясь, она вошла в гостиную, двинулась к прихожей, к выходу, к спасению. Он швырнул в нее стул. Удар пришелся по плечу. Она упала. Несколько раз перевернулась. Взглянула вверх. Он навис над нею, схватил за левую руку. Ее силы убывали. Тьма заволакивала глаза. Он схватил ее за другую руку. Конец. Если бы осколок стекла в горле не перерезал еще одну артерию. Внезапно кровь хлынула у него из носа. Огромной отвратительной массой он свалился на нее. Он был мертв. Она не могла двинуться, вздохнуть, с трудом сохраняла сознание. Сквозь свои нервные всхлипывания она услышала звук открываемой двери. Шаги. — Лора! Ты дома? — Это был голос Нины, сначала оживленный и радостный, потом пронзительный от ужаса. — Лора? Боже мой, Лора! Лора попыталась столкнуть с себя мертвое тело, но это удалось ей только наполовину, зато теперь она могла видеть Нину в арке передней. На мгновение шок парализовал женщину. Не веря своим глазам, она смотрела на кремово-розовую и зеленую, как морская волна, комнату: изысканный декор дополняли многочисленные алые пятна. Взгляд ее фиалковых глаз вновь обратился к Лоре, и она вышла из оцепенения. — Лора, Боже мой, Лора! — Она сделала три шага вперед, остановилась как вкопанная и склонилась, обнимая себя, как будто получила удар в живот. Она издала странный звук: «Ух, ух, ух, ух, ух». Попыталась выпрямиться. Ее лицо исказилось. Она не могла стоять прямо, свалилась на пол и смолкла. Не может быть, чтобы это случилось. Это несправедливо, несправедливо. Испуг и любовь к Нине придали Лоре новые силы. Она выбралась из-под Шинера и быстро поползла к приемной матери. Нина казалась безжизненной. Ее прекрасные глаза были открыты, но смотрели невидящим взором. В поисках пульса Лора положила свою окровавленную руку на шею Нины. Ей показалось, что она его нашла. Слабое, неровное биение. Она схватила подушку с кресла и подложила под голову Нине, потом побежала на кухню, где на телефоне были номера полиции и пожарной охраны. Запинаясь, она сообщила о сердечном приступе у Нины и дала пожарным свой адрес. Вешая трубку, она не сомневалась, что все будет в порядке, ведь она уже потеряла от сердечного приступа одного из родителей, своего отца, и было бы нелепо потерять Нину по той же причине. В жизни случались нелепые вещи, это правда, но ведь сама по себе жизнь не была нелепостью. Жизнь была непонятной, трудной, удивительной, бесценной, загадочной, бедной, но никак не нелепой. Нина должна жить, потому что ее смерть была бы абсурдом. Все еще напуганная и обеспокоенная, но уже чувствуя себя лучше, Лора поспешила обратно в гостиную, стала на колени возле своей приемной матери и обняла ее. Ньюпорт-Бич располагал первоклассной службой «Скорой помощи». Машина приехала через три-четыре минуты после звонка Лоры. Два фельдшера знали свое дело и имели в своем распоряжении все необходимое. Однако через несколько минут они объявили, что Нина мертва; она умерла в тот момент, когда упала на пол.10
Через неделю после возвращения Лоры в приют и за восемь дней до Рождества миссис Боумен вернула Тамми Хинсен на четвертую кровать в комнате Аккерсон. В непривычной беседе с Лорой, Рут и Тельмой миссис Боумен объяснила причину такого решения: — Вы говорите, девочки, что Тамми не уживается с вами, однако у вас ей лучше, чем в других местах. Мы селили ее в Другие комнаты, но другие девочки ее не выносят. Не знаю, что в ней такого, что делает ее парией, но ее соседки в конце концов начинают ее бить. Вернувшись в комнату еще до появления Тамми, Тельма уселась на пол в основной позе йогов: ноги скрещены, пятки упираются в бедра. Она заинтересовалась йогой, когда битлы увлеклись восточной медитацией, и говорила, что, когда она наконец встретится с Полом Маккартни — она считала это своей неотвратимой судьбой, — им будет о чем поговорить, а именно о такой ерунде, как йога. Теперь же, вместо того чтобы заниматься медитацией, она сказала: — Представляете, как бы отреагировала эта корова, если бы услышала от меня: «Миссис Боумен, мы не любим Тамми потому, что она позволяла Угрю все до последнего, да еще помогала ему сладить с другими слабыми девочками, так что для нас всех она враг». Что бы сказала эта туша Боумен, если бы я ей все это выложила? — Она сказала бы тебе, что ты трепло, — объявила Лора, плюхаясь на свою провисшую кровать. — Верно. А потом бы она меня сожрала вместе с потрохами. Можно ли быть толще? Она раздувается с каждым днем. Люди таких размеров просто опасны: это ненасытное всеядное животное способно слопать на десерт вместо шоколадного мороженого целого ребенка. Стоя у окна и глядя вниз на спортивную площадку. Рут сказала: — Несправедливо, что другие девочки так относятся к Тамми. — Жизнь вообще несправедлива, — добавила Лора. — Жизнь не сахар, — подхватила Тельма. — Послушай, Шейн, прекрати разводить философию и выдавать прописные истины. Ты же знаешь, как это навязло у нас в зубах, хуже Бобби Джентри с «Балладой о Билли Джо». Когда час спустя явилась Тамми, Лора нервничала. Ведь она убила Шинера, а Тамми от него зависела. Она ожидала, что Тамми будет ожесточенной и злой, но девочка поздоровалась с ней и улыбнулась искренней, застенчивой и пронизывающе печальной улыбкой. После двухдневного пребывания Тамми в комнате стало ясно, что она сожалела о смерти Угря и потере его извращенной привязанности, но также испытывала облегчение.* * *
После смерти Угря и Нины Доквайлер Лора по вторникам и субботам имела получасовые беседы с психотерапевтом, доктором Буном, который приходил в приют в эти дни. Доктор Бун не понимал, как Лора могла перенести потрясение, вызванное нападением Вилли Шинера и трагической смертью Нины, безо всяких психологических нарушений. Его ставили в тупик рассудительность, с какой она рассказывала о своих переживаниях, и взрослые слова, какими она объясняла свое восприятие событий в Ньюпорт-Бич. Он не учитывал, что Лора выросла без матери, потеряла отца, перенесла много тяжелых и страшных моментов и, что самое главное, горячая любовь отца закалила ее: она была жизнерадостной и неунывающей, сгибалась, но не падала под ударами судьбы. Она говорила о Шинере с полным равнодушием, а о Нине с печалью и любовью, но для психиатра ее спокойствие было скорее видимым, чем реальным. — Значит, ты видишь во сне Вилли Шинера? — спрашивал доктор, сидя рядом на диване в небольшом кабинете, выделенном для него в приюте. — Я только два раза его видела. И то в ночных кошмарах. У всех детей бывают ночные кошмары. — Нина тебе тоже, конечно, снится. Это тоже кошмары? — Совсем нет! Это хорошие сны. Доктор был удивлен. — А когда ты вспоминаешь Нину, тебе грустно? — Да. Но я… Я также вспоминаю, как весело нам было ездить по магазинам, как мы примеряли платья, свитеры. Вспоминаю ее улыбку и смех. — А угрызения совести? Ты чувствуешь себя виноватой в том, что случилось с Ниной? — Нет. Может быть, Нина не умерла бы, если бы я не пришла в гостиную и не привела за собой Шинера, но я не испытываю чувства вины. Я старалась быть хорошей приемной дочерью, и они были счастливы со мной. Просто жизнь преподнесла нам большой сюрприз, но это не моя вина. Сюрприз — это всегда сюрприз, от него не спрячешься. — Сюрприз? — переспросил доктор в недоумении. — Значит, ты считаешь, что жизнь — это череда неожиданностей? Как в немой комедии? — До какой-то степени. — Значит, жизнь — это комедия? — Нет, жизнь — вещь серьезная и смешная одновременно. — Разве это возможно? — Если вы этого не понимаете, — сказала Лора, — то, наверное, вопросы должна задавать я. Лора заполнила целые страницы следующей тетради своего дневника замечаниями о докторе Буне. О неизвестном ангеле-хранителе там не было ни строчки. Она даже старалась не вспоминать о нем. Он ее подвел. А Лора привыкла рассчитывать на него. Усилия, которые он приложил для ее спасения, заставили ее почувствовать себя особенной, и эта мысль служила ей опорой после смерти отца. Теперь она раскаивалась, что посмела надеяться на кого-то, кроме себя, когда речь шла о ее жизни. Она по-прежнему хранила, но больше не перечитывала ту записку, что он оставил на столе после похорон отца. И с каждым днем прошлые подвиги ее хранителя во имя ее блага все более казались вымыслом, нечто вроде сказок о Санта-Клаусе, которым она давно не верила. В день Рождества девочки вернулись к себе в комнату нагруженные подарками, полученными от благотворительных обществ и просто отдельных жертвователей. Вечер завершился пением рождественских песен, и Тамми удивила Лору и близнецов, присоединившись к хору. Она пела негромким, дрожащим голосом. Прошло еще немного времени, и она почти перестала грызть ногти. Она еще не преодолела целиком свою замкнутость, но казалась более спокойной и довольной собой, чем когда-либо прежде. — Теперь, когда нет этого извращенца, — сказала Тельма, — она, смотришь, и оправится.* * *
Двенадцатого января 1968 года, это была пятница, Лоре исполнилось тринадцать лет, но она не отмечала день рождения. У нее не было настроения. В предыдущий понедельник ее перевели из приюта Макилрой в Касвелл-Холл, приют для старших детей в Анахейме, в пяти милях от ее прежнего места обитания. — Жди нас в мае, — успокаивала ее Тельма. — Второго мая нам исполнится тринадцать, и нас только тут и видели. Мы будем снова вместе. Когда воспитательница из Касвелла приехала за ней, Лора не хотела оставлять старое место, но потом подчинилась судьбе.* * *
Приют Касвелл-Холл размещался в старом школьном здании, где классы были превращены в спальни, комнаты отдыха в кабинеты воспитателей. Атмосфера Касвелл-Холла была более казенной, чем в приюте Макилрой. Касвелла был также опасней приюта Макилрой, потому что здесь жили подростки, многие из которых были настоящими малолетними преступниками. В стенах Касвелла можно было достать марихуану и другие наркотики, и среди юношей, а также и девушек часто вспыхивали драки. Возникали группы, как это было и в приюте Макилрой, но только, в Касвелле многие из этих групп по своей организации, действиям и поступкам мало чем отличались от уличных банд. Воровство было обычным делом. Лора очень скоро поняла, что в жизни выживают два типа людей: первые, как она сама, черпавшие необходимую стойкость в той любви, которая некогда выпала на их долю; и вторые, не знавшие этой любви, в чьих душах жила ненависть, и находившие жалкое удовлетворение в драках и проявлениях мести. Они отвергали нормальные человеческие чувства и в то же время завидовали тем, кто был на них способен. В Касвелле Лора все время была начеку, но не дала страху взять над собой верх. Головорезы были страшными и жалкими одновременно, а в своем позерстве и непременных стычках даже смешными. В Касвелле никто не разделял ее мрачный юмор: она не нашла здесь вторых сестер Аккерсон; поэтому она заполняла своими впечатлениями аккуратные тетради дневников. Она ждала, когда сестрам исполнится тринадцать, а пока это был монолог, обращенный к самой себе; это было время самоизучения и обогащения, время дальнейшего знакомства с комическим и в то же время трагическим миром, в котором она жила. В субботу тринадцатого марта Лора читала у себя в комнате, когда вдруг услыхала, как одна из ее соседок, известный нытик Фрэн Виккерт, рассказывает в коридоре о пожаре, в котором погибло несколько детей. Лора не прислушивалась к разговору, пока не уловила слово «Макилрой». Ее мгновенно охватил страх, сердце замерло, руки похолодели. Уронив книгу, Лора выскочила в коридор, испугав собеседниц. — Когда? Когда случился пожар? — Вчера, — ответила Фрэн. — И сколько… сколько погибло? — Не много, кажется, двое, а может, и один человек, но говорят, там стоял запах горелого мяса. Представляете, какой ужас… Лора схватила Фрэн за плечи. — Ты знаешь имена? — Ты что, с ума сошла? — Скажи мне имена! — Я не знаю никаких имен. Господи, да что это с тобой? Лора не помнила, как рассталась с Фрэн, не помнила, как выскочила за ворота приюта и очутилась на авеню Кателла, далеко от Касвелл-Холла. На авеню Кателла располагались торговые склады, в некоторых местах на ней не было тротуаров, и Лора бежала по обочине дороги, а мимо проносились автомобили. От Касвелла до приюта Макилрой было пять миль, и Лора плохо знала дорогу. Но она полагалась на свое чутье и бежала до изнеможения, то замедляя шаг, то снова пускаясь бегом. Наверное, надо было сразу пойти к кому-то из воспитателей в Касвелле и спросить имена детей, погибших на пожаре. Но Лора уверила себя, что ей следует проделать весь трудный путь до приюта Макилрой; что только от этого зависит судьба близнецов Аккерсон; что, позвони она в приют, ей наверняка скажут, что сестер нет в живых; но, если она преодолеет бегом все пять миль, сестры будут целы и невредимы. Это было чистое суеверие, но она поддалась ему. Смеркалось. Когда Лора добралась до приюта, мартовское небо было багряным от заката, а края редких облаков словно охвачены пламенем. С облегчением она увидела, что пожар пощадил фасад старого особняка. И хотя она обливалась потом и еле держалась на ногах, а голова разламывалась от боли, она не замедлила шага, а поспешила дальше. Она встретила шестерых детей в коридоре на первом этаже и троих на лестнице, двое позвали ее по имени. Но она не задержалась, чтобы расспросить их о пожаре. Она должна была увидеть все своими глазами. На последней площадке она почувствовала запах пожара: едкая смолистая вонь от сгоревших вещей, стойкий кислый запах паленого. А когда она открыла дверь в коридор на третьем этаже, она увидела открытые окна по концам коридора, а посередине вентиляторы, которые разгоняли воздух, — насыщенный запахом гари. В комнате Аккерсон была новая некрашеная дверь и новая дверная рама, но стена была обожжена и испачкана сажей. Написанное от руки объявление предупреждало об опасности. Все двери в приюте не имели замков, и Лора, не обращая внимания на записку, настежь распахнула дверь, вошла внутрь и увидела то, чего так страшилась: полное разрушение. Свет позади в коридоре и красный закат в окне недостаточно освещали комнату, но Лора увидела, что из нее вынесли остатки сгоревшей мебели; в комнате не было ничего, кроме страшных следов пожара. — Пол был черным от сажи и обуглился, хотя доски и сохранились. Стены закоптились от дыма. Створки стенных шкафов сгорели до основания, несколько полусгоревших кусков дерева висели на расплавившихся петлях. Окна или вылетели, или были выбиты теми, кто пытался спастись от языков пламени; зияющие оконные проемы были закрыты прозрачным пластиком. К счастью для обитателей приюта, огонь распространялся вверх, а не в стороны и выжег потолок. Лора взглянула вверх, где в темноте виднелись толстые обгоревшие чердачные балки. Она не увидела неба, — значит, пожар удалось потушить до того, как загорелась крыша. Лора дышала тяжело, с трудом, не потому, что не отдышалась после тяжелой дороги, а потому, что страх больно сжимал ей грудь, перехватил горло. И каждый вдох горького угарного воздуха вызывал тошноту. С той самой минуты, когда в Касвелле она услышала о пожаре, она уже знала правду, но не решалась признаться себе в этом. У Тамми Хинсен как-то нашли банку с бензином для зажигалок и спички: она собиралась поджечь себя. Уже тогда, узнав об этом запланированном самосожжении, Лора не сомневалась, что Тамми доведет дело до конца, потому что самосожжение было для нее самой подходящей формой самоубийства: соединение внешнего огня с внутренним, который сжигал ее многие годы. «Боже милостивый, сделай так, чтобы в комнате была одна Тамми, когда начался пожар». Еле держась на ногах от едкого запаха дыма и шока при виде разрушения, Лора выбралась в коридор из опустошенной пламенем комнаты. — Лора, это ты? Лора подняла голову и увидела Ребекку Богнер. Дыхание с хрипом, неровно вырывалось у нее из груди, но она сумела произнести: — Рут… Тельма? Мрачное выражение на лице Ребекки лишило Лору надежды, что близнецам удалось спастись, но Лора повторила дорогие ей имена, и в ее голосе прозвучали просительные, жалобные нотки. — Там, — сказала Ребекка и показала в конец коридора. — Предпоследняя комната слева. С внезапной надеждой Лора бросилась туда. Три кровати в комнате были не заняты, на четвертой лицом к стене кто-то лежал; на тумбочке рядом горела настольная лампа. — Рут, это ты? Тельма? Девочка медленно поднялась с кровати, это была одна из двойняшек, целая и невредимая. На ней было неряшливое, мятое серое платье, волосы не причесаны, лицо опухшее, глаза влажные от слез. Она сделала шаг навстречу Лоре и остановилась, как будто у нее не было больше сил. Лора бросилась к ней и обняла. Девочка положила голову Лоре на плечо и наконец заговорила полным муки голосом: — Лучше бы это была я, Шейн. Почему выбор пал на нее, а не на меня? Сначала, пока она не заговорила, Лора принимала ее за Рут. Отвергая неизбежное, Лора спросила: — А где же Рут? — Ее больше нет. Умерла. Я думала, ты знаешь. Нет больше моей Рут. Лора почувствовала, как что-то внутри у нее сломалось. Потрясение было столь глубоким, что высушило слезы; она онемела, застыла на месте. Они долго стояли без слов, обняв друг друга. Стемнело. Они подошли к кровати и сели на край. Какие-то девочки появились в дверях. Наверное, они жили вместе с Тельмой, но Лора махнула рукой, чтобы они не мешали. Не поднимая глаз, Тельма сказала: — Я проснулась от крика, ужасного крика… и свет был такой яркий, что я не могла смотреть. Вдруг я поняла, что в комнате пожар. Тамми горит. Пылает, как факел. Бьется на кровати в пламени и кричит… Лора обняла се, ожидая, когда она снова заговорит. — Пламя перебросилось с Тамми на стену и побежало прямо вверх, загорелась кровать, потом пол, вспыхнул ковер… Лора вспомнила, как Тамми пела вместе с ними на Рождество и как она постепенно, с каждым днем, обретала душевное равновесие. Теперь стало ясно, что это спокойствие было спокойствием человека, который решил положить конец своим мукам. — Кровать Тамми была ближе всех к двери, дверь загорелась, и я разбила окно возле меня. Я позвала Рут… она… она крикнула, что идет, все заволокло дымом, я ничего не видела. Хэтер Дорнинг, она спала на твоей кровати, подбежала к окну, и я помогла ей выбраться, дым вытянуло через окно, и я увидела, что Рут пытается набросить на Тамми свое одеяло, чтобы сбить пламя, но одеяло тоже загорелось, и я видела, что Рут… Рут… Рут тоже горит. За окном погасли последние фиолетовые лучи. Сгустились тени в углах комнаты. Усилился запах гари. — Я… я хотела прийти к ней на помощь, хотела, но вдруг огонь вспыхнул повсюду, охватил всю комнату, дым пошел такой черный и густой, что я больше не видела Рут, вообще ничего не видела… потом я услыхала сирену, очень громкую, где-то рядом… сирену… я решила, что теперь они успеют спасти Рут, но это была не правда, я себя нарочно обманывала и… я ее бросила там, Шейн. Боже мой, я вылезла из окна и оставила Рут гореть в комнате… — Ты ничем не могла помочь, — успокаивала Лора. — Я ее оставила гореть. — Ты не могла ее спасти. — Я ее бросила. — Тогда бы вы обе погибли. — Я ее оставила гореть.* * *
В мае, когда ей исполнилось тринадцать лет, Тельму перевели в Касвелл и поселили в одной комнате с Лорой. Воспитатели пошли на это, потому что Тельма страдала депрессией, которая не поддавалась лечению. Они надеялись, что дружба с Лорой восстановит ее силы. Долгие месяцы Лора безуспешно боролась с болезнью Тельмы. Ночью Тельму мучили кошмары, а днем она страдала от угрызений совести. Постепенно время залечило раны, хотя рубцы остались навсегда. К ней вернулось ее чувство юмора, и никто не мог ее превзойти в остроумии, но в ней всегда жила печаль. Пять лет они жили вместе в одной комнате в Касвелл-Холле, пока не достигли совершеннолетия и не начали самостоятельную жизнь без опеки государства. В эти годы они пережили вместе немало счастливых часов. Жизнь была снова прекрасной, но не такой, как прежде, до пожара.11
Ворота, через которые можно было переместиться в другое временное измерение, были основным предметом в главной лаборатории Института. Это был массивный цилиндрический механизм длиной в три с половиной и диаметром в два с половиной метра, в кожухе из блестящей стали, облицованный внутри полированной медью. Ворота покоились на медных блоках в полуметре от земли. Толстые электрические кабели выходили наружу, а внутри цилиндра воздух под воздействием неведомых электрических потоков дрожал, как вода. Преодолев время. Ко кошка вернулся к Воротам и оказался внутри цилиндра. В этот день он совершил не одно путешествие, преследуя Штефана в отдаленных временах и местах, и наконец выяснил, почему предатель хотел переделать жизнь Лоры Шейн. Кокошка поспешил к выходу из Ворот и появился в лаборатории, где его поджидали двое ученых и трое его собственных сотрудников. — Девчонка не имеет никакого отношения к козням преступника против правительства и никакого отношения к его замыслу погубить машину времени, — сказал Кокошка. — Она тут ни при чем, это его личные планы. — Теперь, когда мы знаем все о его деятельности и движущих мотивах, вы можете с ним покончить, — сказал один из ученых. — Вы правы, — согласился Кокошка, направляясь к главному пульту программного управления. — Теперь мы знаем все его тайны и можем его ликвидировать. Сев у пульта, Кокошка запрограммировал свое посещение еще одной временной эпохи, где он мог подстеречь предателя; он также принял решение убить Лору. Это не сложная задача, с которой он мог справиться сам, так как на его стороне был элемент неожиданности; кстати, он всегда предпочитал действовать по возможности в одиночку; он не любил делить с кем-либо свое удовольствие. Лора Шейн не представляла опасности для правительства и его намерений изменить будущее мира, но он убьет ее в первую очередь и на глазах Штефана только для того, чтобы разбить предателю сердце, прежде чем вогнать в него пулю. Кокошка любил убивать.Глава 3. Свет во мраке
1
Двенадцатого января 1977 года, в день, когда Лоре Шейн исполнилось двадцать два года, она получила по почте фигурку жабы. На коробке не было обратного адреса, а внутри никакой записки. Она открыла посылку на столе у окна в гостиной своей квартиры, и в лучах яркого солнца этого необычайно теплого зимнего дня заблестела маленькая симпатичная фигурка из керамики. Жаба, размером с мизинец, в цилиндре и с тростью, сидела на цветке лилии. Полмесяца назад университетский литературный журнал напечатал короткий рассказ Лоры «Сказка о земноводном», повествующий о девочке, чей отец сочинял необыкновенные сказки о некой воображаемой жабе, сэре Томми из Англии. Только одна Лора знала, что этот рассказ был не только выдумкой, но и правдой, она и еще кто-то другой, кто догадался, какое значение эта сказка имела для Лоры, и аккуратно, любовно упаковал в коробку ухмыляющуюся жабу в цилиндре. Фигурка была тщательно обернута ватой и перевязана красной ленточкой, а затем упакована в тонкую мягкую бумагу и помещена в картонную белую коробку, опять же на ватной подстилке, а маленькая коробка, в свою очередь, находилась внутри большой, заполненной комками смятой газеты. Посторонний человек не стал бы так стараться, упаковывая простенькую недорогую статуэтку: посылавший явно хотел подчеркнуть свое понимание тех особых душевных переживаний, которые автор вложил в «Сказку о земноводном». В целях экономии Лора снимала квартиру вне университетского городка, в Ирвине, вместе с еще двумя студентками третьего курса, Мег Фальконе и Джули Ишимина, и сначала она подумала, что фигурку прислал кто-то из них, хотя Лора и сомневалась в этом, поскольку ее не связывала с ними особо тесная дружба. Обе девушки были погружены в учебу и собственные дела, да и поселились они вместе только с сентября. Они сказали Лоре, что не отправляли ей посылку и что им незачем ее обманывать. Она подумала, не послал ли ей фигурку профессор Матлин, который помогал советом в выпуске факультетского литературного журнала. Со второго курса она занималась у него в группе литературного творчества, и он советовал ей развивать ее талант и совершенствовать мастерство. Ему особенно понравилась «Сказка о земноводном», так, может, он послал ей фигурку, чтобы выразить свою похвалу? Тогда почему нет ни обратного адреса, ни записки? Зачем такая таинственность? Нет, это не Генри Матлин. У нее было несколько знакомых в университете, но их нельзя было назвать близкими друзьями, Лоре не хватало времени на то, чтобы поддерживать настоящую дружбу. Весь ее день, исключая сон и еду, был до последней минуты поделен между учебой, работой и литературным трудом. Сколько Лора ни старалась, она не могла угадать, кто проявил к ней такое внимание, купил фигурку, старательно упаковал и отправил ее, не указав при этом своего адреса. Это была загадка. На следующий день первое занятие начиналось в восемь, а последнее в два часа дня. Без четверти четыре она подошла на университетской стоянке к своему старому «Шевроле», открыла дверь, села за руль и с изумлением увидела у переднего стекла еще одну фигурку жабы. Фигурка была тех же размеров, что и первая. Она была тоже керамической, ярко-зеленого цвета; жаба лежала на боку, подперев голову лапой. Она задумчиво улыбалась. Лора не сомневалась, что, уходя, она заперла машину, помнила, что открыла дверь, когда вернулась на стоянку после занятий. Таинственному дарителю фигурок, видимо, пришлось немало потрудиться, чтобы открыть машину без ключа, возможно, с помощью проволоки или вешалки для одежды, просунутой через полуоткрытое окно, и оставить свой необычный подарок. Она поместила фигурку полулежащей жабы на ночной столик, где уже находилась жаба в цилиндре и с тросточкой. Этот вечер Лора провела за чтением, лежа в постели. Время от времени она поднимала глаза от книги, чтобы посмотреть на керамические фигурки. На следующее утро, когда она выходила из квартиры, она нашла у дверей маленькую коробочку. Внутри была еще одна тщательно упакованная жаба. Эта была отлита из олова, сидела на бревне и играла на банджо. Лора не знала, что и думать.* * *
Летом Лора каждый вечер работала официанткой в ресторанчике «Гамбургер в деревне» в Коста-Меса, но во время учебного года она была так загружена, что нанималась только на три вечера в неделю. В ресторанчике, популярность которого росла, можно было вкусно поесть за умеренную цену и в довольно уютной обстановке — открытые деревянные балки на потолке, обитые деревом стены, удивительно удобные мягкие кресла, — посетители всегда были довольны, не то что в других местах, где приходилось работать Лоре. Будь тут обстановка победней, а посетители попроще, Лора все равно продолжала бы работать: ей нужно было зарабатывать на жизнь. Четыре года назад, когда ей исполнилось восемнадцать, она узнала, что по завещанию отца имущество после его смерти было продано, а деньги составили особый фонд, который нельзя было употребить для оплаты ее пребывания в приюте Макилрой или Касвелл-Холл. А когда она не смогла воспользоваться деньгами, ей нужно было и платить за учебу в колледже, и нести все повседневные расходы. Отец не был богачом, за шесть лет сумма с процентами составила всего двенадцать тысяч долларов, чего никак не могло хватить на квартиру, еду, одежду и колледж в течение четырех лет, поэтому Лора не могла прожить без заработка официантки. В воскресный вечер шестнадцатого января, когда она уже отработала половину смены, метрдотель провел пожилую пару в одну из кабинок, которую обслуживала Лора. Они заказали пиво и занялись изучением меню. Когда через несколько минут Лора вернулась из бара с затуманенными от холодного пива кружками на подносе, она увидела у них на столе керамическую жабу. Лора чуть не уронила поднос от изумления. Она посмотрела по очереди на мужчину, на женщину, они только улыбались, но молчали, и тогда она сама спросила: — Это вы присылали мне фигурки? Но я вас, кажется, не знаю? Мужчина сказал: — Значит, у вас уже есть такие? — Эта будет четвертой. Если это не вы, то кто же? Ее здесь раньше не было. Откуда она взялась? Мужчина подмигнул жене, и та объяснила Лоре: — У вас, дорогая, есть тайный поклонник. — Кто же он? — Вон за тем столом сидел молодой человек, — сказал мужчина и кивнул на столик, который обслуживала официантка Эми Хепплмен. За столом никого не было; официантка только что кончила собирать грязную посуду. — Вы ушли за пивом, а он тут же к нам подошел и попросил разрешения оставить для вас вот это. Это была рождественская жаба в костюме Санта-Клауса, правда, без бороды, но с мешком подарков за спиной. Женщина спросила: — Вы точно не знаете, кто он такой? — Нет. А как он выглядел? — Высокий, — ответил мужчина. — Очень высокий и крепкий. Волосы каштановые. — Глаза карие, — подхватила жена. — Обходительный. Лора держала фигурку в руках и внимательно ее рассматривала. — Что-то тут не то… тут есть какая-то странность. — Странность? — переспросила женщина. — Что же тут странного. Просто молодой человек в вас влюбился. — Вы так думаете? — удивилась Лора. Лора нашла Эми Хепплмен у прилавка с салатами и попросила поточнее описать клиента. — Он заказал омлет с грибами, жареный хлеб из муки грубого помола и кока-колу, — рассказывала Эми, наполняя две салатницы разными сортами зеленого салата с помощью стальных щипцов. — Разве ты его не видела? — Нет, я его не заметила. — Огромный парень. В джинсах. Рубашка в синюю клетку. У него очень короткая стрижка, но он славненький, если тебе нравятся красавчики. Он мало говорил. Видно, из застенчивых. — Он платил по кредитной карточке? — Нет. Наличными. — Это хуже, — сказала Лора. Она забрала домой рождественскую жабу и присоединила ее к остальным. На следующее утро она нашла еще одну простую белую коробку у дверей квартиры. Она неохотно открыла ее. И нашла внутри стеклянную жабу. Когда после обеда Лора вернулась из университета, Джули Ишимина сидела за столом на кухне, читала газету и пила кофе. — Еще одна, — сказала Джули, показывая на коробку на столе. — Пришла почтой. Лора открыла красиво упакованный сверток. Шестая фигурка оказалась двойной: две жабы в виде перечницы и солонки. Она поставила перечницу и солонку на тот же ночной столик и долго сидела на краю постели, в недоумении рассматривая все увеличивающуюся коллекцию.* * *
В пять часов вечера в тот же день Лора позвонила в Лос-Анджелес Тельме Аккерсон и рассказала ей о жабах. Тельма не получила никакого наследства, и ей нечего было думать о колледже, но она об этом не жалела, потому что ее не интересовала учеба. После окончания средней школы она сразу из Касвелл-Холла переехала в Лос-Анджелес, чтобы попытаться пробиться в мир шоу-бизнеса в качестве дублерши какой-нибудь комической актрисы. Почти ежедневно, с шести вечера до двух утра, она проводила время в комедийных кафетеатрах «Импровизация», «Комедийный магазин» и других, пытаясь заполучить пятиминутное бесплатное выступление, завязывая знакомства (или надеясь их завязать), конкурируя с множеством других молодых комиков на пути к заветному выступлению. Днем она зарабатывала деньги на оплату квартиры, часто меняя работу, причем некоторые ее занятия были весьма странного свойства. Так, она в слишком легкойодежде пела песни и обслуживала столики в подозрительной пиццерии, а в другой раз заменяла в пикетах членов Писательской гильдии Западного побережья, которых их профсоюз обязал участвовать в забастовке, но которые предпочитали заплатить кому-нибудь сотню долларов, чтобы те вместо них таскали плакаты и ставили подписи в списках участников. И хотя они жили всего в полутора часах езды друг от друга, Лора и Тельма встречались обычно, чтобы пообедать вместе и вдоволь наговориться, всего два-три раза в год, потому что у них не было свободного времени. Но, сколько бы месяцев ни прошло между встречами, им казалось, что они никогда не расставались, и они тут же поверяли друг другу свои самые заветные мысли и секреты. — Узы приюта, — как-то сказала Тельма, — крепче, чем узы родных братьев, крепче, чем узы мафиози, даже крепче тех, что связывают сиамских близнецов. Выслушав рассказ Лоры, Тельма спросила: — В чем твоя проблема, Шейн? Сдается мне, что в тебя по уши влюбился застенчивый силач. Многие женщины только об этом и мечтают. — Ты думаешь, это так? Влюбился, только и всего? — А что еще? — Не знаю… Но у меня… какое-то странное чувство — Странное, ты говоришь? Все эти фигурки, по твоим словам, очень миленькие, или я ошибаюсь? Может, есть какая уродливая? Может, какая-нибудь из них держит во рту такой маленький острый ножичек? А может, есть такая, что держит маленький топорик? — Этого нет. — Обезглавленных жаб он пока не присылал, ты уверена? — Нет, но… — Последние несколько лет твоей жизни, Шейн, были вполне спокойными, хотя и не лишенными событий. Ясно, теперь тебе хочется, чтобы этот парень был из числа преступников, кто-нибудь вроде Чарльза Мэнсона[111]. Но тут тебе явно не повезло, бьюсь об заклад, что это самый нормальный мужчина, ты ему нравишься, но он боится к тебе подойти, к тому же он, наверное, очень скромный и, конечно, романтическая натура. Как у тебя с личной жизнью? — У меня нет личной жизни. — Это почему? Ты ведь не девственница В прошлом году у тебя был… — Ты же знаешь, что из этого ничего не вышло. — И с тех пор больше никого? — Никого! Ты думаешь, я развратница? — Ну и ну! Два любовника за двадцать два года жизни, да тебя сам папа римский не причислит к этой категории. А ты лучше успокойся. Расслабься. Перестань терзать себя по пустякам. Живи как живется. Этот твой парень может оказаться принцем из «Золушки». — Наверное… наверное, я последую твоему совету. Наверное, ты права. — И все-таки, Шейн. — Что еще? — На всякий случай тебе стоит вооружиться. Например, револьвером побольше. «Магнум» будет весьма кстати. — Ох уж эти твои шуточки. — Шуточки — это моя профессия.* * *
В следующие три дня кто-то принес к дверям еще двух жаб, и в субботу утром, это было двадцать второе. Лора испытывала в равной мере растерянность, раздражение и страх. Конечно, никакой такой тайный обожатель не станет так долго затягивать игру. Каждая новая жаба была скорее насмешкой, чем подарком. Почти весь вечер накануне она просидела в кресле у окна гостиной, не зажигая света. Сквозь полузадёрнутые шторы она могла видеть ступеньки перед входом. Она поймает его на месте преступления, даже если он явится ночью. В половине четвертого он еще не появился, и Лора задремала. Утром, когда она проснулась, она не нашла у дверей обычного пакета. Приняв душ и быстро позавтракав, Лора спустилась во двор за домом, где под навесом у нее было место для машины. Она собиралась поработать над справочными материалами в библиотеке, и погода располагала к этому. Зимнее небо покрывали низкие серые тучи, и в воздухе чувствовалось приближение бури, что было для Лоры дурным предзнаменованием; тревога еще более усилилась, когда она обнаружила в своей запертой машине еще одну коробку. Она была готова расплакаться от бессилия. Вместо этого она вскрыла пакет. Все прежние подарки были дешевыми — не стоили более десяти-пятнадцати долларов, а за некоторые платили даже не больше трех, но эта фарфоровая фигурка была прекрасной тонкой работы и стоила по меньшей мере пятьдесят. Внимание Лоры привлекла не столько сама статуэтка, сколько коробка, в которой она лежала. Если раньше на коробках не было никаких надписей, то на этой стояло название магазина подарков — «Произведения искусства» — и его адрес на бульваре у Саут-Кост Плаза. Лора поехала прямо по адресу и была у магазина за четверть часа до открытия, подождала на скамье на бульваре и первой вошла в магазин, как только отперли дверь. Владелицей магазина оказалась седая миниатюрная женщина по имени Юджиния Фарвор. — Да, это наш товар, — подтвердила она, выслушав краткое объяснение Лоры и осмотрев фарфоровую жабу, — между прочим, я сама продала ее вчера одному молодому человеку. — Вы знаете его имя? — К сожалению, нет. — Вы можете его описать? — Я его хорошо запомнила из-за его размеров. Очень высокий. Наверное, футов шесть с половиной. Широкоплечий. Прекрасно одет. Серый костюм в узкую полоску и галстук тоже в полоску, синий с серым. Я похвалила костюм, и он сказал, что ему трудно купить для себя одежду. — Он расплатился наличными? — Не помню… нет, пожалуй, он пользовался кредитной карточкой. — А у вас сохранилась копия вашего чека? — Да, мы обычно приходуем чеки только через день или два и потом уже отправляем в банк для оплаты. — Миссис Фарвор провела Лору через магазин, между витрин, заполненных веджвудским фарфором, стеклом и хрусталем Лалик и Уотерфорд, фигурками фабрики Гуммель и другими предметами роскоши. Когда они вошли в ее кабинет, миссис Фарвор внезапно засомневалась, имеет ли она право открывать имя клиента. — А если у него самые невинные намерения, если он просто ваш поклонник, а мне он показался вполне приличным молодым человеком, даже очень хорошим, то тогда я ему все испорчу. Может быть, он пока не хочет вам открываться. Лора приложила все усилия, чтобы понравиться женщине и завоевать ее доверие. Она не помнила, чтобы когда-нибудь говорила так красноречиво или с таким подъемом; она лучше умела выражать свои чувства на бумаге. На ее глазах появились искренние слезы, что удивило саму Лору больше, чем Юджинию Фарвор. Таким образом она заполучила сведения с его кредитной карточки: имя — Даниель Паккард и номер его телефона. Прямо из магазина подарков Лора направилась к телефонной будке на бульваре, чтобы отыскать его имя в телефонной книге. Там оказалось два Даниеля Паккарда, но тот, чей номер телефона она держала в руках, жил на Ньюпорт-авеню в Тастине. Пошел мелкий холодный дождь, и Лора подняла воротник плаща, но у нее не было с собой ни шляпы, ни зонтика; когда она вернулась к машине на стоянку, у нее намокли волосы, и она замерзла. Она дрожала всю дорогу от Коста-Меса до Тастина. Она надеялась застать его дома. Сегодня суббота, и если он студент, то не учится. Если же у него обычная работа с девяти до пяти, то уж наверняка он не в конторе в такой день. Что же касается обычных субботних развлечений, то погода явно исключала всякую возможность отдыха на свежем воздухе. Он жил в одном из восьми двухэтажных одинаковых особняков с галереями в испанском стиле, которые стояли в саду и составляли один жилой комплекс. В поисках его квартиры Лора некоторое время блуждала от дома к дому по извилистым дорожкам под пальмами и эритринами, с которых стекала вода. Когда она наконец нашла ее — это была квартира на первом этаже в самом отдаленном от улицы особняке, — она вымокла насквозь и ее знобило. Раздражение притупило страх и осторожность и усилило злость, и она, не раздумывая, позвонила в квартиру. Он явно не воспользовался глазком, потому что, отворив дверь и увидев Лору, застыл на месте от неожиданности. Он был лет на пять старше ее, и действительно очень большой, в нем было все шесть с половиной футов роста и, наверное, фунтов двести сорок сплошных мускулов. Он был одет в джинсы и светло-голубую майку с короткими рукавами, запачканную какой-то смазкой; его бицепсы производили устрашающее впечатление; Измазанное лицо покрывала темная щетина, а руки были совершенно черные. Осмотрительно держась подальше от двери и от него самого, Лора задала короткий вопрос: — Что все это значит? — Что это значит… — Он переступал с ноги на ногу, заполнив весь дверной проем. — Это значит… — Отвечайте немедленно. Он провел запачканной рукой по своим коротко стриженным волосам и не обратил внимания на печальный результат. Он перевел взгляд с Лоры на окно, за которым дождь поливал двор, и спросил: — Как… как вы меня нашли? — Это не имеет значения. Главное, что я вас не знаю, никогда прежде не видела, а вы мне присылаете этих жаб, вы даже не ленитесь являться ночью, чтобы оставить ваш дар у дверей, вы залезаете ко мне в машину по той же причине, И это продолжается уже Бог знает сколько времени, так не пора ли мне узнать, что все это значит? По-прежнему не глядя на нее и краснея, он сказал: — Вы правы, но я… не решался… думал, еще не пришло время. — Время пришло еще неделю назад! — Вы правы… — Так отвечайте. Что все это значит? Теперь он разглядывал свои запачканные смазкой руки; он тихо сказал: — Видите ли… — Я вас слушаю. — Я вас люблю. Лора в изумлении смотрела на него. Он наконец поднял глаза на нее. Она переспросила: — Вы любите меня? Но вы меня совсем не знаете. Как можно любить человека, с которым даже не знакомы? Он отвел взгляд, снова пригладил волосы грязной рукой и пожал плечами. — Не знаю, но это правда, и я… я… у меня такое чувство, понимаете, что нам суждено вместе прожить нашу жизнь до конца. Холодные дождевые капли стекали с мокрых волос на шею, дальше за ворот и вниз по спине; нечего было и думать о работе в библиотеке, разве можно на чем-то сосредоточиться после подобных безумных разговоров; к этому еще добавлялось глубокое разочарование, что ее тайный обожатель оказался грязным, потным и косноязычным увальнем. Лора сказала: — Послушайте, мистер Паккард, я вам запрещаю присылать мне этих жаб. — Понимаете, я это делал от души. — Я не хочу их получать. Завтра я отошлю вам тех, что вы прислали. Нет, я это сделаю сегодня: Я отправлю их вам сегодня же. Он опять встретился с ней взглядом, удивленно моргнул и сказал: — Я думал, вам нравятся жабы. Раздражаясь, Лора ответила: — Да, мне нравятся жабы. Больше того, я их люблю. Я считаю, что жабы — самые симпатичные создания на земле. В данный момент я сама хотела бы стать жабой, но ваши жабы мне не нужны. Вам понятно? — Да… — Оставьте меня в покое. Паккард. Может быть, каким-то женщинам и нравятся ваши неуклюжие ухаживания и ваша неотразимость потного самца, но только не мне, я могу за себя постоять, не сомневайтесь. Я только на вид слабая, я еще не с такими справлялась. Она повернулась, вышла из дверей под дождь, дошла до машины и поехала обратно в Ирвин. Всю дорогу домой ее била дрожь, и не только от мокрой одежды и холода, но и от сильной злости. Каков нахал! Дома она разделась, закуталась в стеганый халат и сварила себе целый кофейник кофе, чтобы наконец разогреться. Она отпила всего глоток, когда зазвонил телефон. Она взяла трубку на кухне. Это был Паккард. Он говорил так быстро, что фразы сливались в один нескончаемый монолог. — Пожалуйста, не вешайте трубку, вы совершенно правы, я наделал глупостей, я идиот, но дайте мне объяснить: когда вы пришли, я чинил посудомойку, вот почему я был в таком виде, весь перепачканный, потный, она тяжелая, я один ее вытащил из-под прилавка, конечно, хозяин квартиры сам бы ее починил, но, пока все это пройдет через все инстанции, понадобится неделя, а я сам все умею, могу починить что угодно, шел дождь, делать было нечего, вот почему я решил сам заняться починкой, откуда мне было знать, что вы появитесь. Меня зовут Даниель Паккард, вы это знаете, мне двадцать восемь, я служил в армии до семьдесят третьего, три года назад окончил Калифорнийский университет в Ирвине, у меня диплом коммерсанта, теперь работаю биржевым маклером, но занимаюсь по нескольким предметам в университете на вечернем отделении, вот я и прочел ваш рассказ о жабе в университетском литературном журнале, это было здорово, он мне очень понравился, потрясающе написано, я пошел в библиотеку и стал искать в прошлых номерах, что вы еще написали, и прочитал все ваши рассказы до единого, и многие из них действительно на уровне, не все, но многие. Я и не заметил, как в вас влюбился, в человека, который все это написал, потому что эти рассказы такие талантливые и такие жизненные. Как-то вечером я сидел в библиотеке и читал один из ваших рассказов, они не позволяют брать на дом старые номера, так что приходится читать их в зале, и библиотекарь проходила мимо и спросила, нравится ли мне этот рассказ, я сказал, что нравится, и она сказала: «Посмотрите, вот там сидит автор, можете ей сами сказать, как это хорошо написано», и вы сидели за три стола от меня, такая серьезная, сосредоточенная, с кучей книг, и делали выписки, и такая красивая. Я знал, что у вас прекрасная душа, потому что ваши рассказы прекрасны, в них прекрасные чувства, но мне и в голову не приходило, что у вас прекрасная внешность, но я не смел к вам подойти, потому что я не умею разговаривать с красивыми женщинами, становлюсь неуклюжим и связанным, наверное, потому, что моя мать была красавица, но холодная, неприступная, и мне стало казаться, что все красавицы обязательно отвергнут меня, как моя мать, может, все это звучит не правдоподобно, но, наверное, мне было бы легче, если бы вы оказались страшилой. Ваш рассказ навел меня на мысль подарить вам эти фигурки, и я придумал план с тайным поклонником и подарками, чтобы как-то вас расположить, и собирался открыться после третьей или четвертой жабы, честное слово, но все тянул, потому что боялся получить отказ; я понимал, что все это превращается в фарс, одна жаба за другой, но не мог остановиться и расстаться с вами, а рассказать вам все у меня тоже не хватало мужества. Я не хотел вас обидеть, не хотел огорчить, прошу вас, простите меня. Вконец обессилев, он смолк. Лора сказала: — Вот оно что. Он спросил: — Вы согласны со мной встретиться? И Лора неожиданно для себя самой ответила. — Да. — Сначала пообедаем, а потом в кино. — Хорошо. — Встретимся сегодня? Я заеду за вами в шесть. — Хорошо. Положив трубку, Лора минуту постояла, глядя на телефон. Потом сказала вслух: — Шейн, ты что, спятила? — И добавила: — Но он сказал, что мои рассказы такие талантливые и такие жизненные. Она отправилась к себе в спальню и посмотрела на коллекцию жаб на ночном столике. Она сказала: — Он то сдержанный и молчаливый, то болтун. Может, он псих или маньяк, Шейн? — И тут же добавила: — Может, это и так, но он великий литературный критик.* * *
Он предложил пообедать и пойти в кино, и Лора надела серую юбку, белую блузку и коричневый свитер, а он появился в темно-синем костюме, белой рубашке с запонками, синем шелковом галстуке с булавкой; в кармане на груди торчал уголком шелковый платок, черные ботинки были начищены до блеска. Он выглядел так, как будто собрался на открытие сезона в оперном театре. Он имел при себе зонтик и проводил Лору из квартиры до машины, поддерживая ее под правый локоть с такой повышенной галантностью, словно она растает, упади на нее хоть капля дождя, или разобьется на тысячу кусочков, если вдруг поскользнется и упадет. Учитывая разницу в их одежде и значительную разницу в размерах — он был на целый фут выше Лоры и весил в два раза больше, — ей казалось, что у нее свидание с собственным отцом или старшим братом. Лору никак нельзя было назвать миниатюрной, но в его сопровождении и под его зонтиком она чувствовала себя малышкой. В машине он больше молчал, но объяснил это тем, что в такую отвратительную погоду на дороге надо соблюдать особую осторожность. Они пошли в итальянский ресторанчик в Коста-Меса, где Лора бывала раньше и где хорошо кормили. Они сели за столик и только взяли в руки меню — официантка даже не успела спросить их, хотят ли они заказать аперитив, — как Даниель объявил: — Мне здесь не нравится, это не то, что надо, давайте пойдем еще куда-нибудь. Лора удивленно спросила: — Почему? Здесь очень уютно. И кормят здесь прекрасно. — Нет, это не то, что надо. Здесь нет атмосферы, настроения, я не хотел бы, чтобы вы подумали… что… — Он опять запинался, как тогда по телефону, краснел. — Видите ли, это неподходящее место для первой встречи, мне хотелось бы, чтобы это было чем-то особенным. — Он встал из-за стола. — Кажется, я знаю подходящее место, простите, мисс, — теперь он обращался к удивленной официантке, — надеюсь, мы вас не затруднили. — Он уже отодвигал стул Лоры. — Я знаю одно место, где вам наверняка понравится, я там никогда не был, но, говорят, это очень хороший ресторан, отличный. — Они привлекали внимание остальных посетителей, и Лора не стала протестовать. — И это совсем рядом, пара кварталов отсюда. Они сели в машину, проехали два квартала и остановились у невзрачного на вид ресторана в торговом центре. Лора уже знала, что должна ждать, когда он, как подлинно воспитанный мужчина, откроет для нее дверь автомобиля, но, когда он открыл дверь, она обнаружила, что он стоит по щиколотку в воде. — Боже мой, ваши ботинки! В замешательстве она позволила вытащить себя из машины и перенести через лужу, словно она была легче перышка. Он поставил ее на тротуар, а сам, забыв о зонте, пошел вброд, чтобы закрыть машину. Это был французский ресторан, и он выглядел менее привлекательно, чем тот, прежний, итальянский. Их провели через весь зал к столу в уголке рядом с кухней, и намокшие ботинки Даниеля громко скрипели и хлюпали. — Вы схватите воспаление легких, — забеспокоилась Лора, когда они сели и заказали два сухих мартини. — Только не я. У меня хороший иммунитет. Я никогда не болею. Как-то во Вьетнаме во время боя меня отрезали от своих, и я целую неделю просидел один в джунглях под дождем, я отощал, но ни разу даже не чихнул. Пока они пили мартини, изучали меню и делали заказ, он наконец расслабился и проявил себя как рассудительный, приятный и даже веселый собеседник. Но, когда была подана закуска — семга под укропным соусом для Лоры и устрицы в тесте для него, — стало ясно, что готовят здесь плохо, хотя цены были вдвое выше, чем в итальянском ресторане, и, по мере того как подавали блюда, он все более смущался и почти перестал поддерживать разговор. Лора расхваливала все подряд и съедала все до крошки, но ее усилия были напрасны, его нельзя было обмануть. К тому же ни повара на кухне, ни официант не торопились. Когда Даниель наконец расплатился и довел ее до машины, как и прежде, перенеся через лужу, как маленького ребенка, они на полчаса опоздали на сеанс в кино. — Ничего страшного, — успокаивала Лора, — давайте пойдем, а потом задержимся на следующий сеанс, чтобы посмотреть начало. — Ни в коем случае, — отверг он ее предложение. — Разве так смотрят фильм? Вы не получите от него никакого удовольствия. А я хотел, чтобы это был идеальный вечер. — Успокойтесь, — сказала Лора. — Я просто в восторге от всего. Он недоверчиво на нее посмотрел, она улыбнулась, и он вымученно улыбнулся в ответ. — Ничего страшного, если вы не хотите идти в кино, — сказала Лора. — Куда хотите, туда и пойдем. Он кивнул, завел машину и тронулся с места. Они проехали некоторое расстояние, прежде чем она поняла, что он везет ее обратно домой. Провожая ее до дверей, он извинился за испорченный вечер, а она уверяла его, что наслаждалась каждой его минутой. Не успела она вставить ключ в замок, как он помчался вниз по лестнице без прощального поцелуя и не дожидаясь ее приглашения войти. С площадки она видела, как он выбежал на улицу и порыв ветра вывернул наизнанку его зонт. Он вступил с ним в неравную борьбу и пару раз чуть не упал. Уже у машины он наконец овладел ситуацией, но ветер немедленно опять вывернул зонт. В отчаянии он зашвырнул зонт в ближайшие кусты, поднял голову и посмотрел на Лору. К этому времени он вымок с головы до ног, и в бледном свете фонаря Лора видела, что костюм на нем повис, как тряпка. Он был такой огромный, сильный, настоящий Геркулес, но отступил перед пустяком — порывом ветра, водой в лужах, — и это было очень смешно. Лора понимала, что нельзя смеяться, она запретила себе смеяться, но не могла удержаться от смеха. — Вам легко смеяться, Лора Шейн, вы такая красивая! — закричал он снизу. — Да, красивая, Бог тому свидетель. — После этого его машина стремительно исчезла в ночи. Телефон зазвонил в девять тридцать. Он спросил: — Мы еще когда-нибудь встретимся? — Я уж думала, что вы никогда больше не позвоните. — Так, значит, встретимся? — Ну конечно. — Пообедаем, а потом в кино? — Отличное предложение. — Мы больше не пойдем в этот ужасный французский ресторан. Мне стыдно, очень стыдно. — Мне все равно, куда мы пойдем, — сказала Лора, — только обещайте, что мы не станем бегать из одного ресторана в другой. — Кое в чем я твердолобый. Я вам уже говорил… не умею я обращаться с красивыми женщинами. — Ив этом виновата ваша мать? — Точно. Она меня отвергла. И отца тоже. Всегда была холодной как лед. Бросила нас с отцом, когда мне было одиннадцать. — Должно быть, это было тяжелое испытание. — А вы еще красивей, и я до смерти вас боюсь. — Принимаю как комплимент. — Простите, но я и хотел сделать комплимент. Вся беда в том, что вы очень хороши, но ваш талант еще лучше, и это пугает меня еще больше. Разве может такая одаренная личность, как вы, обратить внимание на такое ничтожество, разве только ради смеха? — Позвольте задать вам один вопрос, Даниель. — Называйте меня Дании. — Всего один вопрос, Дании. Какой из вас, к черту, биржевой маклер? У вас что-нибудь получается? — Я первоклассный специалист, — отозвался он с такой искренней гордостью, что Лора поняла: он говорит правду. — Мои клиенты полностью доверяют мне, а мой собственный портфель ценных бумаг вот уже три года повышается в цене на рынке. А что касается моей работы в качестве биржевого аналитика, маклера и консультанта по инвестициям, то тут я не позволю никакому ветру вывернуть наизнанку мой зонтик.2
На следующий день после установки зарядов в подвале Института Штефан предпринял последнее, по его расчетам, путешествие через Молниеносный Транзит. Это была нелегальная поездка в десятое января 1988 года, вне утвержденного плана и втайне от коллег. Когда он прибыл туда, в горах Сан-Бернардино шел слабый снег, но Штефан был по погоде в теплых резиновых сапогах, кожаных перчатках и морском бушлате. Он укрылся в густых зарослях елей, ожидая, когда перестанет вспыхивать ослепительно яркая молния. При очередной вспышке он посмотрел на наручные часы и встревожился, обнаружив, что сильно запаздывает. В его распоряжении было менее сорока минут, чтобы добраться до Лоры, прежде чем она погибнет. Если он задержится и прибудет слишком поздно, то уже не сможет никогда и ничего изменить. И хотя последние блестящие молнии продолжали рассекать облачное небо, а оглушительные раскаты грома все еще отдавались многократным эхом среди далеких вершин и хребтов, он вышел из укрытия и поспешил вниз по склону, покрытому глубокими сугробами, где ноги увязали по колено. Снег был покрыт ледяной коркой, пробиваемой с каждым шагом, что замедляло ход, как будто он брел по глубокой воде. Дважды он падал, и снег набился ему в сапоги, а яростный ветер валил с ног, словно разумное существо, которое решило с ним покончить. К тому времени, как он дошел до конца поля и перебрался через снежный вал на обочине асфальтированного шоссе с двухполосным движением, ведущего в одну сторону к Эрроухед, а в другую в Биг-Бэр, его бушлат и брюки покрылись мерзлым снегом, а ноги заледенели. Он потерял целых пять минут. Недавно прошел снегоочиститель, и шоссе было чистым, если не считать вихрящихся легких снежинок, которые изменчивый ветер крутил над асфальтом то в одну, то в другую сторону. Но чувствовалось, что близится пурга. Снежинки уменьшились в размерах и посыпались гуще. Скоро дорога станет опасной для движения. Штефан заметил на обочине доску: «Озеро Эрроухед, одна миля» и со страхом обнаружил, что находится от Лоры куда дальше, чем предполагал. Прищурившись от ветра, он посмотрел на север и разглядел в мрачной мгле теплое сияние электрических фонарей: одноэтажное здание со стоянкой для автомобилей находилось от него справа, примерно в трехстах ярдах. Он двинулся в этом направлении, опустив голову, спасая лицо от порывов ледяного ветра. Ему нужна была машина. Лоре оставалось жить всего полчаса, и до нее было десять миль.3
В субботу шестнадцатого июля 1977 года, через пять месяцев после их первого свидания и через полтора месяца после окончания колледжа, Лора вышла замуж за Дании Паккарда. Гражданское бракосочетание состоялось в кабинете местного судьи. Гостей, они же и свидетели, было только двое: отец Данни Сэм Паккард и Тельма Аккерсон. Сэм был представительным седым мужчиной ростом около шести футов, но в присутствии сына он выглядел низкорослым. Всю короткую церемонию он проплакал, и Дании без конца поворачивался и спрашивал: — Как ты там, папа? — Сэм кивал головой, сморкался и говорил, чтобы они продолжали, но через секунду снова начинал плакать, и Дании снова о нем беспокоился, а Сэм громогласно, как иерихонская труба, сморкался. Судья сказал: — Послушайте, молодой человек, ваш отец плачет от радости, так что не будем задерживаться, меня еще три пары ждут. Но даже если бы отец жениха не заливался слезами, а жених не был великаном с добрым сердцем младенца, то все равно это была бы незабываемая свадебная церемония из-за присутствия Тельмы. У Тельмы была удивительная прическа, волосы выстрижены клоками, торчавшими в разные стороны, а пряди на лбу покрашены в лиловый цвет. В самый разгар лета, да еще на свадьбу, она надела красные лодочки на высоком каблуке, черные брюки в обтяжку и черную блузку, специально разодранную во многих местах, а вместо пояса подхваченную стальной цепью. Вокруг глаз были густо наложены фиолетовые тени, на губах кроваво-красная помада, в одном ухе серьга, похожая на рыболовный крючок. После церемонии, когда Дании о чем-то договаривался с отцом, Тельма уединилась с Лорой в уголке вестибюля здания суда и объяснила свой странный вид: — Это значит одеться под панка, в Англии это сейчас самое-самое. Здесь еще никто этого не носит, но через пару лет все будут одеты по этой моде. А потом это здорово подходит для моего номера. Я выгляжу пугалом, и стоит мне только появиться на сцене, как публика уже падает от смеха. И мне это тоже очень на руку. Будем говорить прямо, Шейн, годы меня не красят. Господи, если бы уродство считалось болезнью, то я была бы среди первых пациентов. Что касается стиля панк, то у него есть свои преимущества: с помощью косметики поярче и прически почудней можно совершенно преобразить себя, и никто не заметит, какая ты невзрачная, нужно только, чтобы ты выглядела фантастично. Господи, Шейн, какой же он большой, этот твой Данни. Ты много рассказывала о нем по телефону, но никогда не обмолвилась, что он такой огромный. Обряди его в костюм гориллы и дай погулять по Нью-Йорку, снимай все на пленку, и вот тебе готовый фильм ужасов, и не надо тратиться на постройку миниатюрных декораций. Так, значит, ты его любишь? — Я его обожаю, — ответила Лора. — Он не только большой, но и добрый, может, из-за всех жестокостей, что он видел во Вьетнаме, да и сам принимал в них участие, а может быть, потому, что у него всегда было доброе сердце. Он очень ласковый, Тельма, очень внимательный, и потом он считает меня одним из лучших авторов на свете. — А помнишь, когда он одаривал тебя жабами, ты считала его психопатом. — Небольшая ошибка в суждении. Двое полицейских провели через вестибюль молодого мужчину в наручниках по пути в один из судейских залов. Арестованный внимательно оглядел Тельму и сказал: — Эй, детка, может, займемся? — Вот оно, неотразимое обаяние Аккерсонов, — сказала Тельма. — Тебе достался одновременно греческий бог, милый плюшевый мишка и верный раб, а я получаю гнусные предложения от подонков общества. Но если хорошенько подумать, то у меня вообще не было никаких предложений, так что все еще впереди! — Не надо принижать себя, Тельма. Не преувеличивай. Обязательно найдется хороший человек, который поймет, какое ты сокровище. — Это наверняка будет Чарльз Мэнсон, если, конечно, его досрочно выпустят. — Да нет же. Вот увидишь, ты будешь такой же счастливой. Я в этом уверена. Это твоя судьба, Тельма. — Господи, Шейн, ты становишься неизлечимой оптимисткой. А как насчет той молнии? А все те глубокомысленные разговоры, которые мы вели на полу нашей комнаты в приюте, помнишь? Мы тогда решили, что жизнь — это комедия абсурда и что время от времени, для равновесия, она внезапно нарушается моментами трагедии, чтобы по контрасту сделать смешное еще более смешным. — Может быть, это была последняя такая молния в моей жизни, — сказала Лора. Тельма внимательно посмотрела на нее. — Я тебя знаю, Шейн, надеюсь, что этот настрой на счастье не обернется для тебя разочарованием. Надеюсь, ты забыла о прошлом, девочка, да я в этом и не сомневаюсь. Пожелаю только, чтобы в твоей жизни не было больше этих самых молний, — Спасибо тебе, Тельма. — И еще скажу тебе, что твой Дании — редкостный человек, настоящее сокровище. Будь здесь Рут, ей он бы тоже понравился, она была бы от него в восторге. Они обняли друг друга и на мгновение превратились в храбрых и в то же время слабых девочек, внешне самоуверенных, а в душе испуганных перед лицом слепой судьбы, от капризов которой зависела вся их вместе прожитая юность.* * *
В воскресенье, двадцать четвертого июля, Лора и Дании возвращались в квартиру в Тастине из Санта-Барбары, где провели неделю после свадьбы, и сразу же отправились в магазин, чтобы купить что-нибудь поесть, а потом вместе приготовили обед: хлеб из муки грубого помола, мясные тефтели в микроволновой печке и спагетти. Лора отказалась от своей квартиры и переехала к Дании за несколько дней до свадьбы. По совместно разработанному плану они должны были прожить в этой квартире два-три года. Они так долго и подробно обсуждали свое будущее, что теперь оно представлялось им в виде одного слова с большой буквы: «План», как если бы это было специально разработанное где-то на небесах руководство для их семейного союза, в котором точно предусмотрены все детали их совместной жизни. План предусматривал, что только через два-три года они сделают первый взнос для оплаты собственного дома, — это позволит им сохранить в неприкосновенности надежные ценные бумаги, скопленные Дании, — и только тогда они покинут эту квартиру. Они обедали на кухне, откуда открывался вид на королевские пальмы во дворе, залитом золотистым предзакатным солнцем, и обсуждали основу Плана, а именно: Дании работает, а Лора сидит дома и пишет свою первую книгу. — Когда ты станешь страшно богатой и знаменитой, — сказал Дании, накручивая спагетти на вилку, — я брошу работу на бирже и стану распоряжаться нашими финансами. — А что, если я никогда не стану богатой и знаменитой? — Наверняка станешь. — А если меня никогда не напечатают? — Тогда я с тобой разведусь. Лора бросила в него кусочком хлеба. — Злодей. — Мегера. — Хочешь еще тефтелей? — Хочу, если не будешь ими бросаться. — Я уже смягчилась. Правда, у меня вкусные тефтели? — Очень вкусные, — согласился он. — Твоя жена — искусная кулинарка, и это надо отпраздновать. — Полностью поддерживаю предложение. — Давай займемся любовью. Данни поинтересовался: — Прямо тут, за обедом? — Нет, в кровати. — Она отодвинула стул и встала. — Идем. Обед всегда можно разогреть. В первый год они часто занимались любовными играми, и Лора находила в их близости нечто большее, чем сексуальное удовлетворение, нечто гораздо большее, чем она когда-либо ожидала. Сжимая друг друга в объятиях, они становились единым целым, одним человеком, у них было одно тело, одни мысли, одна душа, одна мечта. Да, она любила его всем сердцем, но это чувство единения было больше, чем любовь, или, по крайней мере, отличалось от любви. А когда наступило их первое Рождество вместе, она поняла, что это чувство было чувством принадлежности, чувством семьи, которого она не знала долгие годы; он был ее мужем, а она его женой, и когда-нибудь, через два или три года, в соответствии с Планом, у них родятся дети. Теперь она знала, что ничто на свете несравнимо с умиротворением, которое дает семья. Можно было подумать, что это непрерывное каждодневное счастье, гармония и покой приведут к умственной лени; что для творчества и остроты восприятия ей необходимо равновесие между безоблачными днями и днями тоски и страданий. Но идея, что страдания способствуют успеху творчества, — это заблуждение молодых и неопытных душ. Чем счастливей она становилась, тем успешней шла ее работа. За полтора месяца до первой годовщины их свадьбы Лора закончила свой первый роман «Ночи Иерихона» и отослала рукопись литературному агенту в Нью-Йорке Спенсеру Кину, с которым связалась месяц назад. Через две недели Кин позвонил и сообщил, что будет предлагать ее книгу издателям, что рассчитывает на быструю продажу рукописи и что Лору как писательницу ждет блестящее будущее. С быстротой, которая удивила даже агента, за скромный, но приличный аванс в пятнадцать тысяч долларов книгу приобрело первое же издательство, которому он ее предложил, — издательство «Викинг». Договор был подписан в пятницу, четырнадцатого июля 1978 года, за два дня до годовщины свадьбы Лоры и Данни.4
Строение, которое Штефан увидел с дороги, оказалось рестораном с маленькой гостиницей, стоявшим в тени высокоствольных сосен. Деревья достигали двухсот футов в высоту и были увешаны гроздьями крупных шишек, а кора рассечена глубокими извилистыми бороздами; ветви гнулись под тяжестью выпавшего снега. Одноэтажный дом был построен из бревен, сосны плотно окружали его с трех сторон, и вся крыша была засыпана толстым слоем иголок. Окна запотели или замерзли, и свет изнутри плохо проникал через замутненное стекло. На стоянке у ресторана Штефан обнаружил два джипа, два пикапа и «Форд». Успокоившись, что никто не увидит его из окон, он направился прямо к одному из джипов, попробовал дверь, которая оказалась незапертой, и сел за руль. Он вытащил «вальтер» из кобуры, которую носил под бушлатом, и положил его на сиденье рядом. Ноги ломило от холода, надо было бы вытряхнуть снег из сапог. Но он уже опаздывал, к тому же все было с самого начала запланировано в обрез, он не мог терять ни минуты. Если он чувствовал ступни, значит, они не обморожены; эта опасность пока ему не угрожала. Он не нашел ключей в замке зажигания. Он отодвинул назад сиденье, нагнулся, пошарил под доской приборов, нащупал провода зажигания и через минуту запустил мотор. Он как раз разгибался, когда владелец джипа, дыша пивом, распахнул дверь. — Эй, парень, что ты тут делаешь? На покрытой снегом стоянке не было ни души. Они были одни. Через двадцать пять минут Лора будет мертва. Владелец джипа попытался вытащить его из машины, и Штефан без сопротивления подчинился, по пути схватив с сиденья пистолет; затем всей тяжестью тела он навалился на противника, и человек стал падать на спину, поскользнувшись на обледенелом асфальте. Они вместе рухнули на землю. Штефан оказался сверху и приставил дуло к горлу владельца машины. — Ради Бога, мистер! Не убивайте меня! — Вставай. Поосторожней, черт возьми, никаких резких движений. Теперь, когда они были на ногах, Штефан зашел ему за спину и достаточно сильно ударил его рукояткой пистолета по голове, так что тот потерял сознание, обмяк, упал на землю и больше не двигался. Штефан взглянул на дверь ресторана. Никого. На шоссе не было слышно автомобилей, но, возможно, завывание ветра заглушало шум мотора. Снег усилился; Штефан спрятал пистолет в глубокий карман бушлата и подтащил человека, который не приходил в сознание, к «Форду» поблизости. «Форд» не был заперт, и Штефан втащил его на заднее сиденье, закрыл дверь и поспешил обратно к джипу. Мотор заглох. Он снова соединил провода и запустил его. Он включил скорость и повернул к шоссе; порыв ветра ударил в стекла машины. Снег падал сплошной пеленой, начиналась вьюга. Ветер вздымал с земли вихри снега, и они искрились в свете фар. Гигантские темные сосны сгибались и вздрагивали под напором урагана. Лоре оставалось жить немногим более двадцати минут.* * *
Они отпраздновали заключение договора на издание «Ночей Иерихона» и первую годовщину их удивительно гармоничного брака посещением любимого Диснейленда. Небо было синим, безоблачным; воздух сухим и горячим. Не замечая многочисленные летние толпы посетителей, они плавали на бригантине вместе с пиратами в Карибском море, снимались в обнимку с Микки Маусом, до головокружения крутились в чайных чашках Шляпника[112], заказали свои портреты карикатуристу, ели горячие сосиски, мороженое и бананы в шоколаде на палочках, а вечером танцевали под звуки ансамбля диксиленд на площади Новый Орлеан. С наступлением темноты парк обрел особое волшебство, и они трижды проехались вокруг острова Тома Сойера на старинном пароходе; обнявшись, они стояли у перил на самой верхней палубе, около носа. Данни сказал: — Знаешь, почему нам тут так нравится? Потому что это нетронутый уголок, еще не испорченный влиянием окружающего мира. Совсем как наша с тобой жизнь. Позднее, когда они ели мороженое в Павильоне гвоздик, под деревьями, унизанными яркими фонарями, Лора заметила: — Не так уж это и много… пятнадцать тысяч за целый год работы. — Но, с другой стороны, это уж не такая нищенская плата. — Дании отодвинул в сторону свое мороженое, перегнулся через стол и взял ее руки в свои. — Ты еще заработаешь кучу денег, потому что ты безумно талантлива, но разве деньги это главное? Я хочу сказать, что у тебя есть чем поделиться с людьми. Нет, не то. Я не знаю, как это выразить. В тебе есть что-то особенное, вернее, ты сама особенная. Я это понимаю, но не могу объяснить, одно я точно знаю, что если ты поделишься с другими своей душой, то принесешь радость и надежду множеству людей так же, как ты делаешь счастливым меня, когда я рядом с тобой. Слезы навернулись у нее на глаза, и она сказала: — Я люблю тебя, Дании. «Ночи Иерихона» были напечатаны спустя десять месяцев, в мае 1979 года. Данни настоял, чтобы Лора издала книгу под своей девичьей фамилией, потому что знал, сколько она вытерпела за годы, проведенные в приюте, ради того что бы выполнить завещание отца, а также и матери, которую никогда не знала. Было продано всего несколько экземпляров книги, ее не заметил ни один клуб книголюбов, и издательство «Викинг» передало ее мелкому издателю книг в мягких обложках за незначительную сумму аванса. — Не огорчайся, — успокаивал Лору Дании. — Всему свое время. Все будет хорошо, вот увидишь. У тебя не может быть по-другому. Она уже погрузилась в работу над своим вторым романом под названием «Седрах»[113]. Она трудилась по десять часов в день, шесть дней в неделю и кончила писать книгу в июле. Лора отправила один экземпляр рукописи Спенсеру Кину в Нью-Йорк, а другой отдала Данни. Он был первым читателем романа. В тот день, а это была пятница, он рано ушел с работы и приступил к чтению в час дня сначала в своем кресле в гостиной, затем переместился в спальню, где проспал всего четыре часа, и к десяти часам субботнего утра вернулся в свое кресло в гостиной, уже прочитав две трети рукописи. Он не хотел говорить о книге ни единого слова. — Подожди, когда я закончу. Не стоит тебе раньше времени раздумывать над моими замечаниями, спорить, пока у меня нет о ней полного представления, да и мне это невыгодно, потому что ты наверняка раскроешь мне какую-нибудь сюжетную линию. Она без конца заглядывала в комнату, чтобы посмотреть, как он себя ведет: хмурится, улыбается или остается бесстрастным, а когда он выражал свои чувства, она волновалась, что у него не та реакция на события в книге. К десяти тридцати в субботу она не могла больше оставаться в квартире и отправилась в поход по книжным магазинам, пообедала в ресторане, хотя не была голодна, потом долго изучала витрины, съела замороженный йогурт в вафельном рожке, побродила по магазинам, купила плитку шоколада и съела половину. «Шейн, — сказала она себе, — шла бы ты домой, а то к ужину будешь толще Орсона Уэллса». Когда она ставила машину в гараже, она заметила, что машина Дании отсутствует. Она открыла дверь квартиры, позвала его по имени, но не получила ответа. Рукопись романа лежала в кухне на столе. Она поискала записку. Записки не было. — Боже мой, — сказала она. Книга никуда не годится. Это барахло. Ее только на помойку. Это дерьмо собачье. Бедный Данни отправился куда-нибудь выпить пива, чтобы собраться с духом и посоветовать ей сменить профессию, пока она еще молода, переквалифицироваться, к примеру, в водопроводчика. Тошнота подступила к горлу. Она поспешила в ванную комнату, но тошнота прошла. Она сполоснула лицо холодной водой. Значит, книга точно дерьмо собачье. Придется с этим примириться. Она считала, что «Седрах» совсем неплох, намного лучше «Ночей Иерихона», но, видимо, она ошибалась. Что ж, она напишет еще один роман. Она пошла на кухню и открыла бутылку пива. Она не успела сделать и двух глотков, как в квартиру вошел Дании с большой красивой коробкой в руках. Он торжественно поставил коробку на стол рядом с рукописью и обратился к Лоре: — Это для тебя. Не обращая внимания на коробку, Лора потребовала: — Сначала твое мнение. — Сначала открой подарок. — Господи, неужеликнига такая плохая? И ты хочешь смягчить удар с помощью подарка? Скажи мне прямо. Я не боюсь. Постой! Дай я сяду. — Она взяла стул и села. — Ну, давай, не жалей, я стойкая. — Ты любишь все драматизировать, Лора. — Что ты хочешь сказать? Что это не роман, а мелодрама? — Я не о книге. Я о тебе. И не вообще, а сейчас. Может, ты перестанешь изображать непризнанный талант и откроешь подарок? — Ладно, ладно, если ты настаиваешь и не хочешь говорить, я открою этот проклятый подарок. Лора поставила коробку на колени — подарок оказался тяжелым — и развязала ленту; Дании сел напротив и наблюдал за ее действиями. Судя по упаковке, это было куплено в дорогом магазине, и тем не менее Лора не ожидала такого сюрприза: внутри лежала большая красивая ваза Лалик; она была из прозрачного стекла, за исключением двух ручек, наполовину зеленых, наполовину бесцветных матовых, изображавших жаб, по две с каждой стороны. Лора не могла сдержать восхищения: — Дании, я никогда не видела ничего подобного! Какая красота. — Значит, тебе нравится? — Представляю, сколько это стоит! — Три тысячи. — Дании, это нам не по карману. Мы не можем себе это позволить. — Нет, можем. — Нет-нет, ни в коем случае. Только потому, что я написала никудышный роман, а ты хочешь поднять мне настроение… — Ты написала прекрасную книгу. Я ставлю ей высшую оценку. Четыре жабы за высшее достижение. Мы можем позволить себе эту вазу именно потому, что ты написала «Седрах». Это удивительная книга, Лора, куда лучше, чем предыдущая, в ней вся твоя душа. Это твое зеркало, разве она может быть плохой. От радости Лора бросилась к нему на шею, чуть не уронив вазу в три тысячи долларов.5
Дорогу теперь покрывал слой свежевыпавшего снега. У машины было четыре ведущих колеса, а на них цепи, поэтому Штефан ехал с хорошей скоростью, несмотря на непогоду. И тем не менее он опаздывал. Он рассчитал, что ресторан, где он украл джип, находился в одиннадцати милях от дома Паккардов, стоявшего рядом с шоссе № 330, в нескольких милях к югу от горной гряды Биг-Бэр. Узкая извилистая горная дорога изобиловала крутыми спусками и подъемами, а летящий снег до предела ограничивал видимость, поэтому средняя скорость не превышала сорока миль в час. Он не мог рисковать, увеличивая скорость и пренебрегая опасностью; какой толк будет от него Лоре, Дании и Крису, если он потеряет контроль над управлением машиной и рухнет в пропасть, сбивая ограждение. Но при его нынешней скорости он доберется до их дома с опозданием в десять минут и не застанет их на месте. Он хотел задержать их дома, пока минует опасность. Теперь надо было обдумывать другой план. Под тяжестью снеговых туч январское небо, казалось, опустилось и легло на вершины и ветви громадных сосен, темным строем стоявших по обе стороны дороги Снег налипал на стеклоочистители и превращался в лед; Штефан включил обогреватель и, прижимаясь к рулю, вглядывался в темноту через покрытое инеем окно. Когда он снова взглянул на часы, в его распоряжении оставалось всего пятнадцать минут. Лора, Данни и Крис уже садились в машину. Возможно, они уже выезжают на главную дорогу. Он перехватит их на шоссе, в обрез до встречи со Смертью. Он слегка увеличил скорость, соблюдая осторожность на поворотах, где особенно велика была опасность сорваться в пропасть.6
Пять недель прошло с тех пор, как Данни подарил Лоре вазу, и в этот день, пятнадцатого августа 1979 года, около полудня Лора была на кухне и разогревала себе на обед банку куриного супа, когда позвонил ее литературный агент в Нью-Йорке Спенсер Кин. «Викингу» очень понравился роман «Седрах», и издательство предлагало ей сто тысяч. — Сто тысяч долларов? — изумилась Лора. — Конечно, долларов, — ответил Спенсер Кин. — Не рублей же, что на них купишь. — Господи. — Лора оперлась о кухонный прилавок, ноги не держали ее. Спенсер продолжил: — Лора, дорогая, вы сами должны все решить, но раз они готовы выложить сто тысяч с первого раза, то пусть это будет начальная аукционная цена, а если они не согласны, я предлагаю вам отказаться. — Отказаться от ста тысяч долларов? — Лора не верила своим ушам. — Я отправлю рукопись еще шести-семи издательствам, назначу дату аукциона, и посмотрим, что получится. Хотя я заранее знаю результат; уверяю, Лора, они все будут в восторге от книги, так же как и я. А там кто знает… Это трудное решение, и вам стоит подумать. Как только Спенсер распрощался и повесил трубку, Лора позвонила Данни на работу и рассказала о предложении. Он посоветовал: — Если это их начальная ставка, соглашайся. Иначе отказывайся. — Но, Данни, разве мы можем отказываться? Я езжу на своей машине уже одиннадцать лет, она того гляди развалится. А твоей уже четыре года. — Помнишь, что я сказал тебе об этой книге? Что это зеркало твоей души? — Ты очень добрый, но… — Откажись, Лора. Послушай меня. Тебе кажется, что если ты откажешься от этих тысяч, то бросишь вызов благосклонной к тебе судьбе и тебе вновь понадобится помощь той молнии, о которой ты мне рассказывала. Но ты заработала этот подарок, и судьба не может тебя его лишить. Лора позвонила Спенсеру Кину и объявила о своем решении. Возбужденная, взволнованная и уже сожалеющая о потере ста тысяч, она поспешила в кабинет, села за пишущую машинку и смотрела на лист с начатым рассказом до тех пор, пока до нее не донесся запах куриного супа, который она оставила на плите. Она бросилась в кухню и обнаружила, что суп почти выкипел, а подгоревшая вермишель прилипла к дну кастрюльки. В два десять, то есть в пять десять по нью-йоркскому времени снова позвонил Спенсер и сообщил, что «Викинг» считает эти сто тысяч начальной аукционной ценой. — Значит, вы получите за «Седрах» по меньшей мере сто тысяч. Думаю, что мы проведем аукцион двадцать шестого сентября. Это будет настоящая битва, Лора, вот увидите. Весь остаток дня она изо всех сил подбадривала себя, но не могла избавиться от беспокойства. «Седрах» уже имеет большой успех. Ей нечего беспокоиться, уверяла она себя, но по-прежнему терзалась. Дании пришел с работы и принес бутылку шампанского, букет роз и коробку дорогого шоколада. Они сидели на диване, ели конфеты, пили шампанское и говорили о своем будущем, которое представлялось им абсолютно безоблачным; но беспокойство не оставляло Лору. Наконец она сказала: — Я не хочу шоколада, и мне не нужны шампанское и розы, и деньги мне тоже не нужны. Я хочу тебя. Я хочу в кровать. Они долго любили друг друга. Последние лучи летнего солнца исчезли за окном, пришла ночь, и только тогда они неохотно и благодарно разомкнули объятия. Лежа рядом с ней в темноте, Дании нежно целовал ее грудь, шею, глаза, губы. Ее беспокойство наконец стихло. Но не одни только любовные объятия прогнали страхи. Подлинная душевная близость, искренняя преданность друг другу, неразрывная общность надежд, планов, судьбы — вот что служило все излечивающим лекарством; их объединяло великое доброе чувство, чувство семьи, и это чувство служило надежной защитой от всех жизненных невзгод.* * *
В среду, двадцать шестого сентября, Дании взял свободный день, чтобы быть рядом с Лорой, когда придут вести из Нью-Йорка. В семь тридцать утра, в десять тридцать по нью-йоркскому времени, позвонил Спенсер Кин и сообщил, что издательство «Рэндом Хаус» сделало первое предложение, превысившее начальную сумму. — Сто двадцать пять тысяч, и это только Первая цена. Через два часа Спенсер снова позвонил. — Все ушли обедать, так что пока затишье; Сейчас цена дошла до трехсот пятидесяти тысяч, шесть издательств еще продолжают борьбу. — Триста пятьдесят тысяч? — переспросила Лора. Раздался звон: Данни, который мыл посуду после завтрака, уронил и разбил тарелку. Когда Лора положила трубку и взглянула на Дании, тот сказал: — Если мне не изменяет память, ты, кажется, называла эту книгу дерьмом? Через четыре с половиной часа, когда они, сидя за кухонным столом, безуспешно пытались сосредоточиться на карточной игре и все время ошибались в подсчете очков, Спенсер Кин позвонил еще раз. Данни ловил каждое слово разговора. Спенсер сказал: — Советую вам сесть, Лора. — Я готова ко всему, Спенсер. Мне не нужен стул. Говорите. — Аукцион закончился. Книга досталась издательству «Саймон и Шустер». Один миллион двести двадцать пять тысяч долларов. Потрясенная, растерянная, Лора говорила со Спенсером еще минут десять, но, повесив трубку, не могла вспомнить, о чем шел разговор после объявления цены. Данни вопросительно на нее смотрел, и Лора вспомнила, что он не в курсе дела. Она назвала издательство и сумму. С минуту они в молчании смотрели друг на друга. Потом Лора сказала: — Наверное, теперь мы можем позволить себе ребенка.7
Штефан остановил машину на вершине холма и оглядел те полмили заснеженного шоссе, на котором все должно было произойти. Слева, за встречной полосой, заросший деревьями склон горы круто обрывался у шоссе. Справа узкая, с невысокой насыпью обочина отделяла дорогу от пропасти. И никакого ограждения, которое могло бы спасти от смертельного падения вниз. У подножия холма дорога поворачивала налево и исчезала из виду. Отрезок двухполосной дороги между вершиной холма и этим поворотом был совершенно пустынен. По его часам Лоре оставалось жить всего минуту. В крайнем случае, две минуты. Внезапно он понял, что допустил ошибку, пытаясь перехватить Паккардов, когда уже так сильно запаздывал. Он должен был отказаться от этой идеи и попытаться раньше найти и остановить автомобиль Робертсонов на дороге в Эрроухед. Результат был бы таким же. Теперь было поздно. У Штефана не было времени, чтобы вернуться обратно, и он не мог рисковать и ехать дальше, чтобы перехватить машину Паккардов. Он не знал с точностью до секунды, когда их настигнет смерть, но миг катастрофы стремительно приближался. Если он проедет вперед хотя бы еще полмили, чтобы остановить их перед решающим подъемом, может случиться, что они проскочат мимо, когда он будет разворачиваться, и он не успеет их догнать до столкновения лоб в лоб с грузовиком Робертсонов. Мягко тормозя, он переехал на левую, ведущую вверх, полосу и остановил джип на середине спуска на довольно широкой обочине, так тесно прижавшись к высокой насыпи, что не мог открыть дверь. Он поставил джип на ручной тормоз, перелез на сиденье рядом и вышел из машины с правой стороны. Сердце изо всех сил, до боли, колотилось у него в груди. Колючий снег хлестал в лицо, а ветер на горных склонах свистел и завывал на множество голосов; наверное, это были сестры-парки, которые издевались над его безуспешной попыткой пойти наперекор велению Судьбы.8
Учтя пожелания издательства «Саймон и Шустер», Лора подвергла рукопись «Седрах» небольшой правке и отослала редактору окончательный вариант романа в декабре 1979 года; книга должна была выйти в сентябре 1980-го. Это был напряженный год для Лоры и Данни, и даже такие события, как кризис в связи с захватом заложников в Иране и президентская предвыборная кампания, прошли мимо них, не говоря уже о бесчисленных пожарах, экологических бедствиях, массовых убийствах, наводнениях, землетрясениях и других трагических событиях, переполнявших выпуски новостей. Это был год, когда Лора забеременела. Год, когда они с Дании купили свой первый в жизни собственный дом — четыре спальни, две ванные комнаты и душ, — дом в испанском стиле в пригородном поселке Оранж Парк, и уехали из Тастина. Лора начала работать над своей третьей книгой «Золотой орел», и, когда Дании как-то поинтересовался, как идут у нее дела, она ответила: «Дерьмово», а он одобрил: «Вот и чудесно!» Когда первого сентября Лора получила крупный чек от кинокомпании «Метро-Голдвин-Мейер», которая приобрела права на экранизацию «Седраха», Данни оставил работу в маклерской конторе и стал заниматься финансовыми делами Лоры. В воскресенье двадцать первого сентября, через три недели после поступления в продажу, «Седрах» был двенадцатым в списке бестселлеров в «Нью-Йорк тайме». А пятого октября 1980 года, когда у Лоры родился сын Кристофер Роберт Паккард, вышел третий тираж книги; она занимала твердое и почетное восьмое место в списке «Таймc» и получила, по словам Спенсера Кина, «потрясающе хороший отзыв» на пятой странице книжного обозрения в той же газете. Мальчик увидел свет в два часа двадцать три минуты утра, и роды сопровождались очень сильным кровотечением, несвойственным этому переходу младенцев из тьмы чрева в новый для них мир. Кровотечение и боли не прекратились и днем, вечером потребовалось не одно переливание крови. Однако ночью состояние Лоры улучшилось, и к утру следующего дня, настрадавшаяся и измученная, она уже была вне всякой опасности. На следующий день, в часы посещения, младенца и мать навестила Тельма Аккерсон. По-прежнему облаченная в одежду панков, далеко обогнавшую моду, с длинными волосами на левой стороне головы, с белой прядью, как у невесты Франкенштейна, и короткими, но без белой пряди, на правой стороне, она впорхнула в отдельную палату Лоры, направилась прямо к Данни, обняла его, изо всех сил прижала к себе и объявила: — Господи, какой же ты громадный. Ты определенно мутант. Признайся, Паккард, твоя мать, возможно, была из рода человеческого, а вот отцом у тебя наверняка был гризли. — Затем она направилась к кровати, где Лору поддерживали в сидячем положении три подушки, подложенные за спину, поцеловала ее в лоб, потом в щеку. — Я сначала сходила в палату новорожденных, посмотрела через окно на Кристофера Роберта, очень милый ребеночек. Но вам, братцы, не хватит всех ваших книжных миллионов, чтобы его прокормить, потому что мальчик точная копия папочки, он вам обойдется тысяч в тридцать в месяц. Он вас объест. Лора сказала: — Хорошо, что ты пришла, Тельма. — Неужели я могу пропустить такое событие? Вот если бы я выступала в клубе каких-нибудь мафиози где-нибудь в Байонне в Нью-Джерси, я бы не посмела разорвать контракт, с этими типами шутки плохи, они тебя за это разрежут на кусочки. К счастью, я была к западу от — Я бессердечная, циничная, напористая шлюха. А что касается книги, то шутки в сторону. Это шедевр. Я узнала корову Боумен и Тамми. И этого детского психолога Буна. Имена другие, но все как живые. Ты очень здорово их описала, Шейн. Когда я читала, у меня мурашки бегали по коже, как будто все вернулось обратно, я не могла сидеть дома, выходила на солнышко подышать свежим воздухом. А бывало, хохотала до колик. Каждый мускул, каждый сустав в теле Лоры ныл от боли. У нее не было сил приподняться и обнять подругу. Она просто сказала: — Я люблю тебя, Тельма. — А вот Угря в книге нет. — Я его приберегаю для другого романа. — И меня тоже нет, вот что удивительно, а ведь я самая яркая личность в твоей жизни! — Я хочу посвятить тебе одной целую книгу, — сказала Лора. — А ты не врешь? — Честное слово, нет. Не ту, что пишу сейчас, а следующую. — Послушай, Шейн, обязательно сделай меня красавицей, а не то берегись. Я тебе покажу. — Поняла. Тельма задумалась, потом спросила: — А ты собираешься… — Обязательно. Рут тоже там будет. Они помолчали, держась за руки. Слезы затуманили Лоре глаза, она заметила, что Тельма тоже моргает, чтобы не заплакать. — Не надо, Тельма. Побереги свои сногсшибательные ресницы. Тельма подняла ногу. — Как тебе эти сапожки? Правда, шик? Черная кожа, носы узкие, каблуки в заклепках. Ну прямо настоящая укротительница, а? — Как только ты вошла, я сразу подумала: интересно, сколько мужских особей она успела проучить своей плеткой? Тельма вздохнула и несколько раз шмыгнула носом. — А теперь слушай внимательно, Шейн. Мне кажется, ты недооцениваешь свой талант. Ты умеешь запечатлевать жизнь людей на бумаге, люди уходят, а слова остаются, и их жизнь тоже остается. Ты умеешь выражать чувства, и кто угодно может читать твои книги и переживать вместе с твоими героями; ты трогаешь сердца, напоминаешь нам, что такое человечность, о чем мы теперь так часто забываем.. — У тебя талант, о котором другие могут только мечтать, вот во имя чего ты должна жить. Я знаю, тебе хотелось бы иметь большую семью… троих, четверых детей, ты об этом мечтала'… представляю, как тебе сейчас тяжело. Но у тебя есть Данни и Кристофер и этот удивительный талант, а это немало. — Иногда… мне бывает очень страшно. — Голос Лоры дрогнул. — Чего ты боишься, Лора? — Я хотела иметь много детей… чтобы никто не мог отнять их всех у меня. — Никто никого у тебя не отнимет. — А у меня только Дании и маленький Крис… только двое… это опасно, что-то может случиться. — Ничего не случится. — И тогда я останусь одна. — Ничего не случится, — повторила Тельма. — Всегда что-то случается. Такова жизнь. Тельма прилегла на кровать, вытянулась рядом с Лорой, положила голову ей на плечо. — Когда ты сказала, что роды были тяжелыми… и твой вид, ты такая бледная… я испугалась. У меня есть друзья в Лос-Анджелесе, это верно, но это все типы из шоу-бизнеса. Только ты одна настоящий близкий мне человек, даже если мы редко встречаемся, и когда я подумала, что ты… — Но этого не случилось. — Но могло случиться. — Тельма горько рассмеялась. — Черт возьми, Шейн, если ты сирота, то это навеки, верно? Лора обняла ее и погладила по волосам.* * *
Когда Крису исполнился год, Лора закончила «Золотого орла». Книга вышла спустя девять месяцев, а когда Крису было два года, она возглавила список бестселлеров в газете «Таймc», которую Лора считала наивысшим авторитетом. Данни с таким умением, старанием и осторожностью распоряжался Лориными деньгами, что через несколько лет, несмотря на высокие налоги, они могли стать не просто богатыми — они уже были богатыми по сравнению с большинством людей, — но настоящими богачами. Лора не особенно задумывалась об этом. Она никогда не предполагала, что станет богатой. Когда она размышляла о своем завидном положении, то понимала, что должна радоваться, а если вспомнить, в какой нужде живет большинство людей в мире, то хотя бы испытывать благоговение перед дарами судьбы, но деньги не вызывали у нее ни того, ни другого чувства. Правда, деньги давали чувство надежности; они заставляли верить в свои силы. Лора и Дании не собирались выезжать из своего уютного дома с четырьмя спальнями, хотя могли бы купить целое поместье. У них были деньги, и это все. Деньги — это не главное в жизни, главное — это Данни и Крис и, в меньшей степени, ее книги. С малышом в доме у нее не было больше ни сил, ни желания работать на компьютере по шестьдесят часов в неделю. Крис уже ходил, говорил, совсем не капризничал и не проявлял того самого непонятного упрямства, которым руководства по воспитанию пугали родителей детей в возрасте от двух до трех лет. Умный и любознательный мальчик, он редко выводил ее из себя. Стараясь не избаловать, она отдавала ему свое время в пределах разумного. Ее четвертая книга, «Несравненные сестры Эппелби», была напечатана через два года после «Золотого орла», в октябре 1984-го; это не уменьшило числа читателей, что происходит иногда, когда писатель не публикует по книге ежегодно. По сравнению с прежними этот роман собрал самое большое число предварительных заказов. Первого октября они сидели все вместе в гостиной, ели воздушную кукурузу и смотрели видеозаписи старых мультфильмов; «у-у-ух» — всякий раз приговаривал Кристофер, когда Койот-Бегун в одно мгновение набирал огромную скорость. Вдруг из Чикаго позвонила Тельма вся в слезах. Лора подошла было к телефону на кухне, но преследуемый врагами Койот в соседней комнате пытался взорвать своих недругов, а вместо этого подводил заряд под себя, и Лора сказала Данни: — Я пойду в кабинет. За четыре года после рождения Криса карьера Тельмы развивалась по восходящей линии. Она выступала в нескольких казино в Лас-Вегасе («Послушай, Шейн, должно быть, я очень ничего, если официантки чуть ли не голые, одни сиськи да задницы, а мужчины в публике смотрят не на них, а на меня. С другой стороны, это, наверное, одни гомики»). В последний раз она выступала с номером на большой сцене театра «Метро-Голдвин-Мейер» перед выходом самого Дина Мартина и даже четыре раза участвовала в телевизионном шоу «Сегодня вечером» с Джонни Карсоном. Шел разговор о съемке Тельмы в главной роли в фильме или телевизионном сериале; перед ней открывалась блестящая карьера комедийной кинозвезды. Сейчас она находилась в Чикаго, где готовилась к выступлениям на сцене известного клуба в качестве ведущей актрисы. Услышав плач Тельмы, Лора растерялась: возможно, пришел конец полосе сплошного везения в их жизни. Уже некоторое время она ожидала, что небеса неожиданно обрушатся и застанут их врасплох. Лора опустилась на стул, схватила трубку: — Тельма? Что с тобой, что случилось? — Я… я только что кончила читать твою новую книгу. Лора не могла понять, что в «Несравненных сестрах Эппелби» могло так сильно расстроить Тельму, и вдруг подумала, что Тельме не понравилось что-то в характерах близнецов Кэрри и Сандры. И хотя основные события в книге никак не повторяли ход жизни Рут и Тельмы, сестры Эппелби были, конечно, списаны с сестер Аккерсон. Но обе героини были изображены с таким теплом и благожелательностью, что Тельме нечего было обижаться, и Лора с жаром принялась ей это доказывать. — Да нет, Шейн, я не об этом. — Тельма вставила эту фразу между двумя взрывами рыданий. — Я вовсе не обиделась. Я плачу от того, как это у тебя здорово получилось. Я хочу сказать, что Кэрри Эппелби — это же вылитая Рут, только в книге она у тебя прожила долгую жизнь. Ты ее оставила в живых, Шейн, это куда справедливей того, что случилось с ней в настоящей жизни. Они проговорили еще целый час, вспоминали Рут, но уже без слез, а с глубокой любовью. Несколько раз в комнату заглядывали Дании и Крис — они чувствовали себя покинутыми, — Лора посылала им воздушные поцелуи, но не двигалась с места, потому что это был один из редких моментов, когда вспоминать усопших было важнее, чем заботиться о живых. За две недели до Рождества 1985 года, когда Крису уже исполнилось пять лет, сезон дождей в Калифорнии начался с сильного ливня, который гремел жесткими пальмовыми листьями, сбил последние цветы с бальзаминов и затопил улицы. Из-за дождей Крис не мог выйти поиграть на улицу. Дании уехал, чтобы решить вопрос о возможной покупке недвижимости, и мальчику было скучно без него. Он без конца заходил к Лоре в комнату, и к одиннадцати Лора поняла, что сегодня ей не удастся поработать над книгой. Она отправила Криса на кухню, чтобы он достал из шкафа противень, пообещав испечь для него шоколадное печенье. По пути на кухню она вытащила из комода в спальне, где они хранились в ожидании подобного дня, сапоги для перепончатых лап, крошечный зонтик и кукольный шарф. Она поставила зонтик и сапоги у входной двери, повесила на вешалку шарфик. Позже, когда она ставила в духовку противень с печеньем, она попросила сына посмотреть, не принесла ли почта бандероль, которую она якобы ожидала, и Крис вернулся в большом возбуждении: — Мамочка, иди посмотри! В передней он показал ей на три игрушечных предмета, и Лора пояснила: — Наверное, это вещи сэра Томми. Разве я тебе не говорила, что у нас теперь есть постоялец? Достопочтенный и порядочный джентльмен-жаба из Англии, он здесь по поручению Королевы. Ей было восемь, когда отец придумал сэра Томми, и Лора отнеслась к мифической жабе как к забавной выдумке, но Крису было всего пять, и он подошел к вопросу более серьезно: — А где он будет спать? В свободной спальне? А если к нам приедет дедушка? — Мы сдали сэру Томми комнату на самом верху, — ответила Лора, — и мы не должны его беспокоить или рассказывать о нем кому-нибудь, кроме папы, потому что сэр Томми приехал сюда с тайным поручением от Ее Величества. Широко раскрыв глаза, Крис уставился на Лору, и она с трудом сдерживала смех. У него были карие глаза и каштановые волосы, как у них с Данни, но тонкие черты лица, скорее Лорины, чем отца. И хотя он был совсем маленьким, Лора догадывалась, что ростом он догонит Данни и будет такого же крепкого сложения. Он придвинулся поближе и прошептал: — Этот сэр Томми, он что — шпион? Весь день, пока они пекли печенье, убирали дом или играли в карты, Крис не уставал задавать вопросы о сэре Томми. Лора обнаружила, что сочинять сказки для детей потрудней, чем романы для взрослых. Когда в четыре тридцать домой вернулся Данни и, войдя в переднюю через дверь из гаража, прокричал приветствие, Крис стремительно соскочил со стула в кухне, где они с Лорой играли в карты, и зашикал на отца: — Тише, тише, папочка, сэр Томми спит, он устал после долгого пути, он от Королевы Англии, и он шпионит у нас на чердаке. Данни нахмурился. — Я отсутствовал всего несколько часов, и за это время дом наводнили британские шпионы с перепончатыми лапами, да еще в женской одежде. Ночью Лора была особенно страстной, чем удивила даже себя, и Данни спросил: — Что с тобой сегодня? Весь вечер ты была очень оживленной, веселой. Лора прижалась к нему под одеялом, радуясь соприкосновению с его обнаженным телом. Она сказала: — Не знаю, как это объяснить, просто я чувствую, что я живая, Крис живой, и ты тоже, мы все вместе живые. И потом этот сэр Томми. — Он тебя забавляет? — Да, пожалуй. Но в этом есть что-то большее. Как бы это сказать… почему-то это заставляет меня почувствовать, что жизнь продолжается, идет вперед, что каждый виток повторяется. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Что мы втроем тоже участвуем в этом процессе, и что мы будем жить еще долго-долго. — Согласен с тобой, — ответил Данни, — но я хочу заметить, что если ты всякий раз будешь любить меня с таким энтузиазмом, то меня хватит ровно на три месяца. В октябре 1986 года, когда Крису исполнилось шесть лет, вышел в свет восторженно встреченный критикой пятый роман, «Бесконечная река». Который превзошел по количеству проданных экземпляров любой из предыдущих романов Лоры. Редактор предсказал этот успех: «В нем есть все, что характерно для Лоры Шейн: удивительное сочетание юмора, увлекательного сюжета, острых ситуаций, но в нем нет мрачности, характерной для ее других романов, и поэтому он особенно хорош». Вот уже два года, как Лора и Данни, по крайней мере один раз в месяц, и зимой и летом возили Криса в горы Сан-Бернардино, к озеру Эрроухед и гряде Биг-Бэр, чтобы показать ему, что мир не ограничивается одними сверхцивилизованными городами округа Оранж. Постоянный успех Лоры на ниве писательства и равный успех Дании в области финансов, а также решимость Лоры не только проповедовать оптимизм, но и доказывать это всей своей жизнью убедили их, что время ограничений кончилось, и они купили второй дом в горах. Это был дом из одиннадцати комнат, построенный из камня и секвойи, который стоял на участке в тридцать акров рядом с шоссе № 330, в нескольких милях к югу от Биг-Бэр. Это был куда более роскошный дом, чем тот, в котором они жили в Оранж Парк. Участок был покрыт зарослями можжевельника и длинно-хвойными соснами, скрывавшими их от ближайшего соседа. В первый же уик-энд, когда они лепили снежную бабу, три оленя появились совсем рядом, у кромки леса, и остановились, с любопытством наблюдая за пришельцами. Крис пришел в восторг от оленей и, когда его вечером укладывали спать, был совершенно уверен, что они из упряжки Санта-Клауса. Именно сюда уезжал после Рождества добрый толстый Санта-Клаус, настаивал он, а вовсе не на Северный полюс. Роман «Ветер и звезды» появился в октябре 1987 года и своим успехом превзошел все остальные книги Лоры. Фильм, поставленный по «Бесконечной реке», вышел на экраны ко Дню Благодарения, и зрители заполнили кинотеатры; ни один фильм в этом году не мог сравниться с ним по популярности. В пятницу, восьмого января 1988 года, в приподнятом настроении от того, что «Ветер и звезды» уже пятую неделю подряд возглавляет список бестселлеров в «Таймc», они отправились в горы, как только Крис вернулся из школы. Во вторник на следующей неделе Лоре исполнялось тридцать три года, и они хотели отметить этот день пораньше и только втроем, высоко в горах, где снег как глазурь на праздничном торте, а ветер — веселая музыка. Привыкшие к ним олени в субботу совсем близко подошли к дому. Но Крису уже исполнилось семь, и он прослышал в школе, что Санта-Клаус не настоящий, и теперь для него это были просто обычные олени. Это был прекрасный уик-энд, может быть, самый лучший из тех, что они провели в горах, но им пришлось уехать ранним утром в понедельник, чтобы Крис не опоздал в школу. Поначалу они думали выехать в шесть утра, но случилось так, что в воскресенье к вечеру началась метель, и, хотя всего полтора часа пути отделяли их от теплого побережья, бюро прогнозов обещало здесь к утру снежный покров толщиной в два фута. Чтобы не рисковать и не оказаться в снежном плену и чтобы Крис не пропустил занятия в школе — а они могли застрять на дороге, хотя у «Блейзера» было четыре ведущих колеса, — они закрыли окна и двери своего большого дома и в четыре часа утра выехали на шоссе № 330 и направились к югу. Южная Калифорния — это одно из немногих мест на земном шаре, где за какие-нибудь два часа можно сменить зимний пейзаж на жаркие субтропики, и Лора всегда наслаждалась поездкой и восхищалась этим чудом. Все трое были одеты по-зимнему: шерстяные носки, зимние сапоги, теплое белье, толстые брюки, свитеры и лыжные куртки; но всего через час с четвертью они окажутся в местах с более мягким климатом, где никто не носит зимней одежды, а через два часа — там, где люди ходят по-летнему, с короткими рукавами. Лора вела машину, Дании сидел рядом, а Крис на заднем сиденье. Они играли в шарады, игру, которая всегда развлекала их в пути. Падающий снег засыпал даже те отрезки пути, которые защищали деревья по обеим сторонам дороги, а на открытых участках миллионы быстро летящих снежинок сливались в пелену под резкими порывами ветра или причудливо крутились в потоках воздуха, мешая видеть шоссе. Лора осторожно вела машину, не заботясь о том, что возвращение домой займет не два, а три или четыре часа; они выехали рано, и у них в запасе было сколько угодно времени. В одном месте дорога делала крутой поворот, а за ним шел подъем в полмили, и на обочине подъема, справа, Лора увидела припаркованный красный джип-фургон, а посередине шоссе человека в морском бушлате. Он бегом спускался вниз, размахивая руками, делая им знак остановиться. Наклонившись вперед и вглядываясь в дорогу между быстро работающими стеклоочистителями, Дании сказал: — Похоже, у него что-то сломалось, он просит помощи. — «Блейзер» Паккардов идет на помощь! — объявил Крис с заднего сиденья. Лора сбавила скорость, и человек на дороге изо всех сил замахал руками, предлагая им съехать на обочину. Данни с тревогой заметил: — В нем что-то не то… Дании не ошибался: человек был действительно странным, это был ее личный хранитель. Неожиданная встреча после стольких лет поразила и напугала Лору.9
Штефан только успел вылезти из джипа, когда машина Паккардов выехала из-за поворота у подножия холма. Он бросился навстречу и увидел, что Лора сильно притормаживает, преодолев всего треть подъема, но все еще находится посередине шоссе; тогда, еще лихорадочнее жестикулируя, он стал приглашать ее съехать на обочину и прижаться вправо. Сначала Лора продолжала медленное движение вверх, как бы решая, кто он такой: попавший в беду автомобилист или опасный человек. Но как только она подъехала достаточно близко, чтобы разглядеть его лицо, и, видимо, его узнала, она тут же подчинилась. Прибавив ходу, она обогнала его и резко свернула на обочину, остановившись чуть ниже джипа, и Штефан повернулся и побежал к Лориной машине, резко распахнул дверь. — Боюсь, что оставаться на дороге небезопасно. Сейчас же выходите и поднимайтесь в гору, быстро! Данни было начал: — Послушайте, что это… — Делай что тебе говорят! — закричала Лора. — Крис, выходи немедленно! Штефан схватил Лору за руку и помог выйти из машины. Пока Дании и Крис тоже вылезали из машины, Штефан различил в завывании ветра звук работающего на больших оборотах мотора. Он взглянул вверх на дорогу и увидел грузовик-пикап в четверти мили от них и только начавший спуск вниз, но уже развернутый поперек дороги и беспомощно, с ускорением, скользивший по коварной ледяной глади. Не остановись они по приказанию хранителя, они как раз бы достигли вершины в том самом месте, где грузовик потерял управление. И он бы уже врезался в них.* * *
Рядом с ней Дании, который нес на спине Криса, тоже заметил опасность. Вряд ли теперь, на уклоне, шофер справится с управлением, и грузовик может налететь на джип и «Блейзер». Он еще энергичнее стал карабкаться вверх, крича Лоре, чтобы она торопилась. Лора поднималась вверх, хватаясь руками за корни и ветки, выискивая уступы для ног. Снег был покрыт не просто настом, а наледью, которая проваливалась, обламывалась кусками, и несколько раз Лора, поскользнувшись, чуть не сорвалась вниз, на кромку дороги. Когда она наконец добралась до узкого каменного выступа на высоте пятнадцати футов над дорогой, где ее уже поджидал ее хранитель, а также Дании и Крис, ей показалось, что подъем продолжался не менее часа. От страха она потеряла всякое представление о времени, потому что, когда она вновь посмотрела на дорогу, грузовик по-прежнему скользил по направлению к ним; на расстоянии двухсот футов он повернулся на триста шестьдесят градусов и снова боком заскользил вниз. Он приближался сквозь пелену снега, словно в замедленной съемке, словно сама судьба в виде нескольких тонн стали. В кузове пикапа стояли мотосани, никак не закрепленные, не привязанные цепями; шофер беззаботно понадеялся на силу инерции, которая удержит груз на месте. Теперь мотосани швыряло из стороны в сторону, и они ударялись то о стенки кузова, то о кабину и задний борт, и эти резкие броски все сильнее раскачивали грузовик; казалось, он вот-вот упадет на бок и, переворачиваясь, покатится вниз. Лора увидела шофера, который пытался выправить руль, а рядом с ним кричащую от ужаса женщину и подумала: «Господи, бедные люди!» Словно угадав ее мысли, хранитель крикнул, покрывая шум ветра: — Они оба пьяны, и мужчина, и женщина, и у них нет цепей на колесах! «Если ты столько знаешь о них, — подумала Лора, — то, наверное, ты знаешь, кто они, тогда почему ты их не остановил, почему не спас их тоже?» С ужасающим грохотом грузовик передом врезался в бок джипа, не пристегнутая поясом женщина головой пробила переднее стекло, и ее тело безжизненно повисло наполовину внутри, наполовину снаружи на капоте. Лора закричала: — Крис! — И тут же увидела, что Данни уже снял мальчика со спины и прижал его к себе, чтобы тот не видел происходящего. Но столкновение не остановило грузовик, слишком велика была сила инерции, а шоссе скользким для колес без цепей. Чудовищный удар лишь изменил направление движения: грузовик резко развернуло влево, и он покатился вниз задом наперед: мотосани, сбив задний борт, вылетели из кузова и рухнули на капот «Блейзера», раздробив переднее стекло. Секундой позже зад грузовика ударил в капот машины Паккардов с такой силой, что отбросил ее назад, хотя она стояла на ручном тормозе. И хотя Лора наблюдала картину разрушения из безопасного места, она схватила Данни за руку в ужасе от мысли, что они наверняка были бы изуродованы и даже убиты, если бы остались рядом с машиной. От удара грузовик отбросило в сторону, окровавленное тело женщины упало внутрь кабины, и по-прежнему неуправляемый разбитый грузовик, уже медленней, еще раз развернулся на триста шестьдесят градусов в жутком и грациозном танце смерти и заскользил вниз по снежному накату, наискосок, к противоположной обочине, к неогороженному обрыву и оттуда в пустоту, вниз, в бездну. И хотя Лора не видела всей последующей ужасной картины, она закрыла лицо руками, невольно представляя, как грузовик с его пассажирами покатился вниз по каменистой безлесой стене ущелья, переворачиваясь десятки раз. Шофер и женщина умрут, еще не достигнув его дна. Даже сквозь вой ветра она слышала, как грузовик раз, потом другой ударился о скалу. Но через мгновение грохот падения утонул в диком реве бури. Все еще ошеломленные, они спустились вниз на обочину дороги между джипом и «Блейзером»; кругом валялись куски стекла и металла. Образуя облако пара, жидкость из горячего радиатора «Блейзера» вытекала на замерзшую землю; искореженная машина скрипела под тяжестью мотосаней, прогнувших капот. Крис заплакал. Лора протянула к нему руки. Он бросился к ней в объятия, она подхватила его на руки, и он всхлипывал, прижавшись к ней щекой. Дании, потрясенный, повернулся к их избавителю. — Кто вы… скажите мне, кто вы такой? Лора смотрела на своего хранителя, все еще не веря в его Присутствие. Последний раз она видела его двадцать лет назад, когда двенадцатилетней девочкой в день похорон отца на кладбище заметила, как из рощи лавровых деревьев он наблюдал за церемонией. Но так близко она не видела его целых двадцать пять лет, с тех самых пор, как он убил бродягу в отцовской бакалейной лавке. Но, когда он не помог ей спастись от Угря, когда ей пришлось защищаться в одиночку, она начала терять веру в него, и эта вера почти угасла, когда он ничего не сделал для спасения Нины Доквайлер, не говоря уже о спасении Рут. По прошествии столь долгого времени он превратился в плод воображения, скорее миф, чем реальность, а последние несколько лет она вообще о нем не вспоминала, окончательно перестала верить в него, как Крис перестал верить в Санта-Клауса. Она все еще хранила записку, ту, что он оставил на ее столе после похорон отца. Но она давным-давно убедила себя, что написана она не каким-то волшебным спасителем, а друзьями ее отца, вернее всего, Корой или Томом Ланс. И вот теперь он снова спас ее чудесным образом, и Данни спрашивал, кто он такой, а Лора задавала себе тот же вопрос. Непонятнее всего было то, что он ни капельки не изменился с тех пор, как застрелил наркомана. Ни капельки., Она узнала его сразу, потому что он совсем не постарел, хотя с тех пор прошло столько времени. Он выглядел лет на тридцать пять — сорок. Удивительно, но годы не оставили на нем никаких следов: ни единого седого волоса в светлых волосах, ни единой морщины на лице. В тот страшный день в бакалейной лавке он был одного возраста с ее отцом, а сейчас одного возраста с ней или немного старше. Не успел незнакомец дать ответ на вопрос Данни, как на вершине холма показался легковой автомобиль и стал спускаться вниз, приближаясь к ним. Это был «Понтиак» последней модели с цепями на колесах, которые позвякивали при движении. Водитель определенно заметил разбитые джип и «Блейзер», а также свежие следы от скольжения грузовика, которые еще не уничтожили ветер и снег; он сбавил скорость, и звон цепей тут же превратился в громыхание. «Понтиак» переехал на полосу встречного движения, ту, где стояли разбитые машины. Вместо того чтобы прижаться к бровке, он продолжал ехать против движения и остановился фугах в пятидесяти от них, чуть выше джипа. Водитель стремительно открыл дверь и выскочил из «Понтиака»; это был высокий человек в темной одежде, и в руках он держал предмет, в котором Лора с опозданием узнала автомат. Ее хранитель крикнул: — Кокошка! В тот же миг Кокошка открыл огонь. Более пятнадцати лет прошло со времени войны во Вьетнаме, но Данни отреагировал с быстротой солдата. Пули рикошетом отскакивали от красного джипа перед ним и «Блейзера» позади, но он успел схватить Лору и Криса и прижать их к земле в пространстве между машинами. В укрытии, вне линии огня, Лора увидела, как пуля ударила Данни в спину. Это была одна, а может быть, две пули, и Лора дернулась, как будто они настигли ее, а не его. Данни упал на колени, привалился к бамперу «Блейзера». Лора вскрикнула и, не выпуская Криса, потянулась к мужу. Он еще был жив; стоя на коленях, он повернулся к Лоре. Его лицо стало белым, как падающий вокруг снег, и Лору охватило удивительное и страшное чувство, что она смотрит в лицо призраку, а не живому человеку. — Лезьте под джип, — приказал Данни и оттолкнул прочь ее руку. Он говорил хриплым, булькающим голосом, как будто что-то сломалось у него в горле. — Быстрее! Еще одна пуля пробила ему грудь. Яркая кровь запачкала голубую лыжную куртку. Увидев, что она колеблется, он подполз к Лоре, подтолкнул ее к джипу. Еще одна громкая автоматная очередь расколола зимний воздух. Стрелок наверняка скоро подкрадется к джипу и перебьет их в этом укрытии. Но им некуда было бежать: если они попытаются взобраться вверх по склону, он срежет их очередями задолго до того, как они укроются за деревьями; если они попытаются пересечь дорогу, он расстреляет их еще на этой стороне, помимо того, на другой стороне не было ничего, кроме отвесного ущелья; если же они побегут вниз по дороге, их спины для него будут самой простой мишенью. Снова автоматная очередь. Вылетели стекла. Пули со звоном прошивали металл. Лора поползла к передней части джипа, потянула за собой Криса и вдруг увидела, как ее хранитель протискивается в узкое пространство между машиной и сугробами на обочине. Он спрятался за крылом машины, невидимый человеку, которого назвал Кокошкой. В страхе он утратил всю свою таинственную силу, он больше не был ангелом-хранителем, а просто человеком; более того, он не был спасителем, но вестником Смерти, потому что привел за собой убийцу. Следуя приказу Дании, Лора изо всех сил старалась подлезть под джип. Крис следовал ее примеру, он больше не плакал, он хотел угодить отцу, он не видел, как ранили отца, потому что в тот миг он прижался лицом к груди Лоры. Бессмысленно было прятаться под джипом, Ко кошка все равно их найдет. Если он их нигде не обнаружит, ему хватит смекалки заглянуть под машину, так что они толькооттягивали время, выгадывали самое большее минуту-две жизни. Когда Лора наконец укрылась под джипом и притянула к себе Криса, защищая его, как могла, своим телом, она услышала слова Дании: «Я люблю тебя, Лора». У нее сжалось сердце от муки, потому что эти три коротких слова также означали «прощай».* * *
Штефан втиснулся между джипом и кучами грязного снега на обочине; он не смог вылезти из машины на эту сторону, когда подъехал сюда, но места было достаточно, чтобы спрятаться за задним крылом, в неожиданном для Кокошки месте, откуда ему, возможно, удастся сделать хотя бы один хороший выстрел, прежде чем Кокошка обернется и польет его из автомата. Подумать только, Кокошка. Когда он увидел Кокошку выходящим из «Понтиака», это была самая большая неожиданность в его жизни. Значит, они знали о его подрывной деятельности в Институте. Они также знали, что он встал между Лорой и ее подлинной судьбой. Кокошка воспользовался Молниеносным Транзитом, чтобы ликвидировать изменника, а заодно и Лору. Пригнув голову, Штефан протискивался между джипом и снежной кучей ближе к заднему крылу. Раздалась очередь, и над ним посыпались стекла. Глыбы снега за его спиной во многих местах обледенели и больно впивались ему в спину; но, превозмогая боль, он с силой нажимал на них своим телом, проламывая лед и уминая снег, чтобы продвинуться дальше. Ветер свистел в узкой щели, в которую он забился, завывал между снежной стеной и металлом, и чудилось, что он тут не один, а в компании невидимки, который улюлюкает и гикает ему в лицо. Он видел, как Лора и Крис подползли под джип, но понимал, что это эфемерное убежище обеспечит им безопасность на одно мгновение, а то и меньше. Когда Кокошка доберется до передней части джипа и не обнаружит их там, он обязательно заглянет под машину, пригнется до земли и откроет огонь, который разорвет их на куски в тесной ловушке. А где же Дании? Он крупный, широкоплечий, он слишком велик, чтобы (Втиснуться под джип. Наверное, он ранен и изнемогает от боли. К тому же Дании не из тех, кто прячется при виде опасности, даже опасности такого масштаба. Наконец Штефан добрался до заднего крыла. Осторожно выглянув, он увидел «Понтиак», стоявший против движения примерно в восьми футах от него на идущем вверх полотне шоссе с открытой дверью водителя и включенным мотором. С «вальтером» в руке Штефан отделился от снежной насыпи, зашел за машину сзади, присел на корточки и выглянул из-за левого крыла. Кокошка был посередине дороги и направлялся к джипу, где, видимо, предполагал найти спрятавшихся. Его оружием был «узи» с удлиненной обоймой, выбранный для такого случая как самое современное оружие. Как только Кокошка достиг разрыва между джипом и «Блейзером», он снова открыл огонь, выпустив автоматную очередь слева направо Пули со скрежетом ударялись о металл, пробивали шины, с глухим звуком уходили в снег. Штефан выстрелил в Кокошку. Промахнулся Внезапно, с мужеством обреченного, Дании Паккард бросился на Кокошку, выбравшись из своего укрытия у решетки радиатора джипа, где он лежал, тесно прижавшись к земле, и не попал под последнюю низкую автоматную очередь. Он был ранен самой первой очередью, но был все еще сильным и быстрым, и сначала показалось, что он может схватить стрелявшего и даже его одолеть. Кокошка закончил стрельбу и уже было двинулся дальше, когда увидел приближавшегося к нему Дании и повернулся, чтобы направить на него автомат. Будь Кокошка ближе к джипу, а не посередине шоссе, он не успел бы остановить Дании. — Дании, назад! — закричал Штефан и трижды выстрелил в Кокошку, рискуя попасть в Данни. Но Кокошка сохранял безопасную дистанцию и успел развернуться и направить огонь «узи» прямо на Данни, когда их разделяли три-четыре фута. Очередь отбросила Данни назад. Сразу несколько пуль попали в Данни, но и Кокошка был ранен двумя выстрелами из «вальтера», одна пуля попала ему в левое бедро, другая в левое плечо, однако это было для Штефана малым утешением. Кокошка упал. Уронил автомат, который заскользил по ледяному покрытию. Под джипом плакала и кричала Лора. Штефан, больше не скрываясь за джипом, побежал к Кокошке, лежавшему ниже по склону около «Блейзера». Он поскользнулся на асфальте, с трудом сохранил равновесие. Тяжело раненный, в состоянии шока, Кокошка тем не менее заметил приближение Штефана. Перекатываясь с боку на бок, он пополз к заднему колесу «Блейзера», куда отскочил выпавший из его рук «узи». Штефан на бегу выстрелил еще три раза, но не мог хорошо прицелиться, а Кокошка откатывался все дальше и дальше, и Штефан промахнулся вновь, поскользнулся и с маху упал на одно колено посередине дороги; резкая боль отозвалась в бедре и пояснице. Кокошка, перекатываясь, добрался до автомата. Понимая, что надо торопиться, Штефан встал на оба колена и поднял «вальтер», сжимая его двумя руками. Он был всего в двадцати футах от Кокошки, совсем рядом. Но даже хороший стрелок может промахнуться на таком расстоянии при неблагоприятных условиях, а они были куда хуже: растерянность, неудобный угол прицеливания, сильный ветер, относивший пули в сторону. Внизу на склоне Кокошка лежа открыл огонь, как только дотянулся до «узи», даже не развернув оружие в сторону Штефана, так что первые двадцать выстрелов обрушились на «Блейзер», выпустив воздух из передних шин. Наконец Кокошка направил автомат в его сторону, и Штефан, старательно прицелясь, сделал три последних выстрела. Несмотря на ветер и плохой угол прицеливания, он надеялся на удачу, в случае промаха у него не будет времени на перезарядку. Первая пуля из «вальтера» прошла мимо цели. Кокошка продолжал вести круговой огонь, и пули прошивали капот джипа. Лора и Крис укрывались под машиной, а так как Кокошка вел стрельбу на уровне земли, наверняка отдельные пули попали и под машину. Штефан выстрелил снова. Пуля ударила Кокошку в грудь, и автомат замолк. Следующая и последняя пуля Штефана прострелила Кокошке голову. Это был конец.* * *
Из-под джипа Лора наблюдала за смелой атакой Дании, видела, как он упал навзничь и больше не двигался, и поняла, что он мертв, что на этот раз чуда не будет. Горе захлестнуло, оглушило ее, как волна мощного взрыва, она на мгновение представила себе жизнь, где уже не будет Дании, видение столь ужасающее, что она почти лишилась сознания. Она вспомнила о Крисе, живом, ищущем у нее защиты. Сейчас не время предаваться горю, она позволит себе эту роскошь потом, если останется в живых. Сейчас самое важное сохранить жизнь Крису и, если удастся, не дать ему увидеть изрешеченное пулями тело его отца. Тело Дании загораживало ей часть дороги, но она видела, как пули настигли Кокошку. Она видела, как ее хранитель приблизился к лежавшему на земле убийце, и решила, что самое плохое позади. Внезапно Штефан поскользнулся и упал на одно колено, а Кокошка пополз к брошенному автомату. Снова стрельба. Снова одна за другой автоматные очереди. Она услышала свист пуль под машиной, совсем близко, смертельный свинец, рассекающий воздух с тихим шелестом, который был громче любого другого звука на земле. Тишина после выстрелов была абсолютно полной. Сначала Лора не слышала ни воя ветра, ни тихого всхлипывания сына. Постепенно слух вернулся к ней. Она увидела, что ее хранитель жив, и обрадовалась этому, но в то же время несправедливо возмутилась тем, что он привел за собой Кокошку, а Кокошка убил Данни. С другой стороны, они трое все равно погибли бы в столкновении с грузовиком, не явись ее защитник. Так кто же он такой, в конце концов? Откуда он взялся? Почему он проявляет к ней такой интерес? Лора была напугана, рассержена, потрясена, она была в полной растерянности, не знала, что и думать. Явно страдая от боли, ее хранитель поднялся с колен и, хромая, подошел к Кокошке. Лора пригнулась, чтобы лучше видеть, что происходит на спуске; рядом была неподвижная голова Данни. Она не могла разобрать, что делает ее хранитель, но ей показалось, что он роется в одежде Кокошки. Через некоторое время он, по-прежнему хромая, стал подниматься в гору; он нес что-то, что взял с трупа. У джипа он наклонился и посмотрел на Лору. — Выходите. Все кончено. — Он был бледен и за последние несколько минут постарел по крайней мере на несколько из тех двадцати пяти лет, что прошли со дня их первой встречи. Он откашлялся. В его голосе прозвучало искреннее и глубокое сожаление: — Простите меня, Лора. Очень прошу. Она поползла на животе, ударяясь головой о днище машины. Потянула за собой Криса, чтобы он вылез вместе с ней из-под машины в таком месте, где не увидит мертвого отца. Ее хранитель помог им выбраться. Лора прислонилась к машине и прижала к себе сына. Дрожащим голосом мальчик сказал: — Я хочу к папе. «Я тоже хочу к нему, — подумала Лора. — Ты даже не представляешь, малыш, как я хочу видеть его живым, он мне нужен больше всего на свете».* * *
Метель превратилась в настоящую пургу, и снег не шел, а сыпался с неба, как будто ему никогда не будет конца. День умирал, бледнел свет, и мрачная серость вокруг сменялась загадочной фосфоресцирующей тьмой снежной ночи. В такую погоду люди предпочитают сидеть дома, но Штефан не сомневался, что кто-нибудь скоро появится на дороге. Прошло не более десяти минут, с тех пор как он остановил машину Лоры, но даже на сельской дороге в буран редко бывают такие перерывы в движении. Ему надо было переговорить с ней и скрыться, прежде чем он окажется втянутым в расследование кровавой стычки. Присев перед Лорой и плачущим мальчиком, Штефан сказал: — Лора, мне надо уходить, но я скоро вернусь, дня через два… — Кто вы такой? — резко спросила Лора. — Сейчас нам некогда об этом говорить. — Я хочу знать. В конце концов, я имею на это право. — Согласен, и вы все узнаете через несколько дней. А сейчас нам надо решить, что вы будете говорить, как тогда, в магазине. Помните? — Идите к черту. Он спокойно продолжал: — Это для вашего же блага, Лора. Вы не можете рассказать им правду, потому что она покажется фантастической, вы не станете же это отрицать. Они подумают, что это все вымысел. Особенно если они узнают, как я отсюда исчезну… Если вы им это расскажете, они решат, что вы или сообщница убийцы, или сумасшедшая. Лора свирепо посмотрела на него, но промолчала. Он понимая ее состояние. Возможно, она желала ему смерти, но и этому он находил оправдание. Она вызывала в нем только любовь, сочувствие и глубокое уважение. Он продолжал: — Скажите им, что, когда вы выехали из-за поворота у подножия холма и начали подъем, на дороге было три машины: джип, припаркованный у обочины, «Понтиак» не на своей полосе, против хода движения, там, где он и сейчас, и еще одна машина на левой стороне шоссе. А мужчин… мужчин было четверо, двое из них были вооружены, и вам показалось, что они заставили джип съехать с дороги. Вы просто не вовремя подоспели, вот и все. Они направили на вас автомат, принудили съехать на обочину, а вас всех выйти из машины. В какой-то момент вы услышали, что они упоминают кокаин… что-то связанное с наркотиками, они почему-то спорили о наркотиках и, видимо, охотились на человека в джипе. — Торговцы наркотиками, которые устроили сборище в таком месте? — насмешливо спросила Лора. — Может быть, у них где-то поблизости есть лаборатория, например, домик в лесу для производства кокаина. Послушайте, надо, чтобы ваш рассказ хоть немного походил на правду, этого будет достаточно. Настоящая правда выглядит бессмыслицей, о ней надо забыть. Скажите, что Робертсоны в своем грузовике начали спускаться с холма — не вздумайте называть их по имени — и что остальные три машины перегородили дорогу, грузовик стал тормозить и потерял на льду управление. — Вы говорите с акцентом, — сердито прервала его Лора. — Пусть небольшим, но все равно акцентом. Откуда вы? — Я вам скоро все расскажу, — нетерпеливо отозвался он, оглядывая шоссе, по которому мела поземка. — Клянусь вам, а пока обещайте мне, что согласны на этот обман, что по мере возможности вы разукрасите его дополнительными подробностями и что вы не скажете полиции правду. — Значит, у меня нет выбора? — Нет, — подтвердил он с облегчением, довольный, что она осознает свое положение. Она еще ближе притянула к себе сына и замолчала. Штефан вновь почувствовал боль в онемевших от холода ногах. Ему было жарко во время перестрелки, но теперь он дрожал от холода. Он протянул ей пояс, снятый с Кокошки. — Спрячьте это под курткой. Никому не показывайте. А дома уберите куда-нибудь подальше. — Что это? — Потом объясню. Я попробую вернуться через несколько часов. Вам не придется долго ждать. А пока обещайте, что надежно спрячете его. Не любопытствуйте и не нажимайте на желтую кнопку. — Почему? — Потому что вы не захотите оказаться там, куда вас эта штука отправит. Лора в недоумении посмотрела на него. — Отправит? — Я это тоже объясню, но не сейчас. — А почему бы вам не захватить с собой эту штуку, или как вы там ее называете? — Два пояса на одного — это аномалия, это вызовет нарушения в энергетическом поле, и одному Богу известно, куда я могу угодить при таких условиях. — Ничего не понимаю. О чем вы? — Потом поговорим. Но, если почему-то я не сумею вернуться, вам лучше принять меры предосторожности. — Какие? — Вооружитесь. Будьте начеку. У них нет оснований преследовать вас, если они со мной расправятся. А там кто знает. Может, для того, чтобы проучить, унизить меня. Для них месть — это главное. Ну а если они явятся за вами… их будет целая рота и все вооружены до зубов. — Так кто же они такие, в конце концов? Не отвечая, он выпрямился, сморщившись от боли в правом колене. Он попятился, бросив на нее последний взгляд. Потом повернулся и пошел прочь, оставив ее сидеть на земле, в холоде и под снегом, у разбитого, изрешеченного пулями джипа, рядом с испуганным ребенком и мертвым телом мужа. Медленно он добрался до середины шоссе, где белый от снега асфальт под ногами оказался светлее нависшего над головой темного неба. Лора позвала его, но он не обернулся. Он спрятал под бушлат пустой «вальтер» и нащупал под рубашкой собственный пояс, желтую кнопку на нем — и заколебался. Они послали Кокошку, чтобы его остановить. Теперь они в Институте с нетерпением ждут новостей об исходе поединка. Его арестуют, как только он появится. Возможно, он больше никогда не воспользуется Молниеносным Транзитом, чтобы, как он обещал, возвратиться к Лоре. Искушение остаться было велико. Но, если он останется, они пришлют еще одного убийцу, чтобы с ним расправиться, и до конца своих дней он будет скрываться то от одного, то от другого наемника, беспомощно наблюдая, как невыносимо страшно меняется окружающий мир. С другой стороны, если он вернется, у него есть слабая надежда, что он все-таки сумеет взорвать Институт. Профессор Пенловский и другие сотрудники явно знали о его вмешательстве в естественный ход событий в жизни этой женщины, но, возможно, они не знали о взрывчатке на чердаке и в подвале Института. Если это так и если у него была хотя бы минута, чтобы добраться до своей комнаты, он мог бы включить рубильник и отправить весь Институт со всеми его научными исследованиями к чертям, в ад, где ему самое подходящее место. Но, вернее всего, они обнаружили и обезвредили заряды. И все же пока у него есть хоть малейший шанс положить конец проекту и навсегда закрыть Молниеносный Транзит, он морально обязан вернуться в Институт, даже если он никогда больше не увидит Лору. Смеркалось, и пурга безумствовала все сильнее. На горных склонах над дорогой ветер гудел и голосил в гигантских соснах, чьи ветви грозно и зловеще шумели и качались. Снежинки мельчали и уплотнялись, превращаясь в льдинки, которые, как наждак, царапали землю, словно пытаясь сгладить вершины, холмы и долины, пока земля не станет плоской, как доска. Штефан наконец решился и быстро, три раза подряд нажал кнопку на поясе под рубашкой, вызывая Молниеносный Транзит. Со страхом и сожалением он вернулся в собственное время.* * *
Прижимая к себе Криса, который наконец перестал плакать, Лора сидела на земле у джипа и наблюдала, как фигура ее хранителя удаляется от нее в облаках снега. Он остановился посередине шоссе, долго стоял, повернувшись к ней спиной; затем произошло невероятное. Сначала воздух стал словно тяжелее. Лора почувствовала странное, непонятное давление, как если бы земная атмосфера сжалась под воздействием космического катаклизма; стало трудно дышать. В воздухе распространился какой-то запах, непривычный и в то же время знакомый, и Лора узнала запах горелых электропроводов и тлеющей изоляции, совсем как недавно у нее на кухне, когда испортилась вилка тостера; этот запах мешался со свежим и достаточно приятным запахом озона, который наполняет воздух во время грозы. Давление возрастало, и Лора почувствовала, что ее прижимает к земле, а воздух вокруг дрожал и переливался, как вода. Со звуком гигантской пробки, вылетевшей из бутылки, ее хранитель исчез в розовато-серых зимних сумерках, и одновременно налетел с гудящим шумом мощный порыв ветра, как если бы обширные массы воздуха хлынули вниз, заполняя пустоту. На мгновение Лора задохнулась, очутившись в безвоздушном пространстве. Внезапно страшное давление исчезло, а вместе с ним и запах гари, вновь запахло свежестью снега и сосной, и все вокруг вернулось в свое прежнее состояние. Но только не для Лоры после всего увиденного. Стало совсем темно. Это была самая черная ночь в ее жизни, потому что с ней не было Данни. Лишь один-единственный свет озарял ее трудный путь к далекому призрачному счастью: ее сын, ее Кристофер. Единственный свет во мраке. На вершине холма появился автомобиль. Лучи фар с трудом пробивались сквозь тьму и густую пелену снега. Лора с трудом поднялась на ноги и вместе с Крисом вышла на середину дороги. Замахала руками, прося о помощи. Машина замедлила ход, и Лора подумала, а нет ли в ней еще одного убийцы с автоматом, который выйдет и откроет огонь. Никогда больше она не будет чувствовать себя в полной безопасности.Глава 4. Внутренний огонь
1
В субботу тринадцатого августа 1988 года, через семь месяцев после смерти Дании, Тельма Аккерсон приехала погостить на четыре дня в загородный дом Лоры. Лора была на заднем дворе, где практиковалась в стрельбе по мишени. Из своего «смитт-всссона». Она только что перезарядила револьвер, поставила барабан на место и уже готова была надеть наушники, когда услышала шум машины на покрытой гравием дороге, что вела от главного шоссе к их участку. Она взяла бинокль, лежавший рядом на земле, и внимательно рассмотрела машину на тот случай, если к ним едет нежеланный гость. Когда же она увидела за рулем Тельму, то продолжила стрельбу по поясной мишени, прикрепленной к тюку прессованной соломы. Крис, сидя на траве, вытащил из коробки еще шесть патронов, чтобы передать их Лоре, когда она израсходует последний в барабане. Стояла ясная, сухая и жаркая погода. Множество ярких полевых цветов окаймляли скошенную лужайку там, где она уступала место дикому разнотравью у границы леса. Обычно сюда приходили порезвиться белки и вовсю распевали птицы, но сейчас их распугала стрельба. Знакомые ожидали, что Лора продаст это горное убежище, потому что оно напоминало ей о смерти мужа. А вместо этого она четыре месяца назад рассталась с их домом в округе Оранж и переехала сюда вместе с Крисом. Она считала, что постигшая их в январе трагедия на дороге № 330 могла случиться где угодно. Разве можно винить в ней какое-то место; все дело в Судьбе, в тех таинственных силах, что управляли ее беспокойной жизнью. Она чувствовала, что, не явись ее хранитель, чтобы спасти ей жизнь на той снежной дороге, он вошел бы в ее жизнь в другой кризисный момент там, где был нужен. И тогда в другом месте появился бы тот же Кокошка, вооруженный автоматом, а затем последовал бы тот же ряд бурных трагических событий. Тот их прежний дом гораздо больше напоминал о Данни, чем убежище из камня и секвойи к югу от гряды Биг-Бэр. В горах ей было легче справиться со своим горем, чем в округе Оранж. К тому же, как это ни странно, в горах она чувствовала себя в большей безопасности. В перенаселенном пригороде с его двумя миллионами жителей улицы и дороги всегда были заполнены людьми и машинами, и врагу легко было скрываться в толпе, пока он не решит действовать. А в горах незнакомцы были приметны, особенно если, как у Лоры, дом стоял посередине участка в тридцать акров. Лора не забыла предостережения ее хранителя: «Вооружитесь… будьте начеку… Если они явятся за вами… их будет целая рота и все вооружены до зубов». Когда Лора расстреляла последние патроны и сняла наушники, Крис подал ей еще шесть патронов. Он тоже снял наушники и побежал к цели, чтобы проверить точность попадания. Тюки соломы за мишенью были толщиной в четыре, высотой в семь и длиной в четырнадцать футов. За ними простирались акры их собственного соснового леса, так что не было особой нужды страховаться от шальных пуль, но Лора боялась случайно попасть в кого-нибудь. Крис поставил новую мишень и принес старую. — Мама, у тебя четыре попадания из шести, два смертельных, два тяжелых ранения, но, похоже, ты слишком берешь влево. — Попробуем это исправить. — Ты устала, — сказал Крис. Трава вокруг Лоры была усыпана стреляными медными гильзами; их было штук сто пятьдесят. Руки, плечи, шея ныли от отдачи, но она хотела расстрелять еще целый барабан, прежде чем закончить дневную тренировку. Где-то возле дома Тельма хлопнула дверью автомобиля. Крис опять надел наушники и взял в руки бинокль, чтобы следить за точностью попадания. Лора взглянула на мальчика, и у нее сжалось сердце не только потому, что у него не было отца, но и потому, что казалось несправедливым, чтобы ребенок, которому еще нет восьми, уже знал, как опасна жизнь, и постоянно ожидал нападения. Она прилагала все усилия, чтобы его жизнь была радостной и беззаботной жизнью ребенка. Она по-прежнему сочиняла сказки о сэре Томми, хотя Крис уже не верил в его существование; Лора обзавелась большой библиотекой детской классики и учила сына, что книга одновременно и развлекает, и уводит в мир мечты, скрашивая каждодневное существование; она также старалась превратить стрельбу по мишени в игру, чтобы мальчик забыл о суровой необходимости охранять свою жизнь. Крис опустил бинокль и посмотрел на Лору. Она ему улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Его чудесная улыбка болью отозвалась в ее душе. Лора повернулась к мишени, подняла револьвер, держа его двумя руками, и нажала на спусковой крючок. Когда Лора сделала четыре выстрела, появилась Тельма. Она заткнула пальцами уши и морщилась при каждом выстреле. Лора выпустила две последние пули и сняла наушники, а Крис побежал за мишенью. Эхо выстрелов все еще звучало в горах, когда Лора повернулась к Тельме и обняла ее. — К чему вся эта пальба? — поинтересовалась Тельма. — Может, ты собираешься писать новый сценарий для Клинта Иствуда? А может, сочинишь такую же роль для меня в женском варианте? У меня это здорово получится, этакая бабенция, крутая, безжалостная, с холодной усмешкой, перед которой даже Богарт стушуется. — Хорошо, буду иметь тебя в виду, — сказала Лора, — а вообще, неплохо бы тебе сыграть любовный дуэт в паре с Клинтом. — А ты, Шейн, еще не потеряла чувства юмора. — А как же. Тельма стала серьезной. — Я не поверила глазам, когда увидела, как ты палишь изо всех сил, страшная, как змея с обнаженным жалом. — Самозащита, — отозвалась Лора. — Каждая добропорядочная женщина должна знать кое-какие приемы. — Ты потрудилась не хуже профессионала. — Тельма кивнула на медные гильзы, блестевшие в траве. — И часто ты этим занимаешься? — Три раза в неделю по два часа. Крис вернулся с мишенью. — Привет, тетя Тельма. У тебя, мама, пять попаданий из шести. Четыре смертельных и одно тяжелое ранение. — Смертельных? — удивилась Тельма. — Что, я опять беру влево? — спросила Лора. Крис показал ей мишень. — Лучше, чем в прошлый раз. Тельма вмешалась в разговор: — Послушай, Кристофер Робин, так-то ты меня встречаешь? Крис положил мишень на кучу других, крепко обнял и поцеловал Тельму. Заметив, что панки больше у нее не в почете, он сказал: — Что с вами случилось, тетя Тельма? У вас нормальный вид. — Нормальный вид? Это что — комплимент или оскорбление? Запомни, мальчик, если старушка тетя Тельма и выглядит нормально, то это чистый обман. А вообще-то тетя Тельма величайший комик в мире, образец остроумия, и она очень много о себе воображает. Во всяком случае, панки — это пройденный этап. Тельма помогала им собирать гильзы. — Мама у нас классный стрелок, — гордо объявил Крис. — Еще бы, с такой-то тренировкой. Смотришь, она скоро превратится в мужика, из этой меди можно сделать отличные яйца. Крис спросил, обращаясь к матери: — Как это? — Потом объясню, ты еще маленький, — ответила Лора.* * *
Когда они вошли в дом, Лора закрыла заднюю дверь. На два крепких засова. Опустила на окнах металлические шторы, чтобы никто не мог их видеть. Тельма с интересом наблюдала за ритуалом, но молчала. Крис вставил в видеомагнитофон кассету с приключенческим фильмом и уселся перед телевизором с пакетом воздушной кукурузы и кока-колой. В кухне рядом Лора и Тельма, сидя за столом, пили кофе, и Лора при этом еще разбирала и чистила свой «смитт-вессон». Кухня была просторной и уютной, со шкафами из темного дуба; две стены были из темно-красного кирпича, над плитой блестел колпак медной вытяжки, медные кастрюли висели по стенам, пол был покрыт темно-синей керамической плиткой. Именно в таких кухнях семьи в телевизионных сериалах разрешали свои чепуховые проблемы за какие-нибудь тридцать минут, минус реклама, и постигали вершины трансцендентальной мудрости. Даже Лора сознавала, какое это неподходящее место для чистки оружия, предназначенного в первую очередь для уничтожения человеческих существ. — Ты действительно боишься? — спросила Тельма. — Еще как. — Но Данни убили, потому что вы, по несчастью, оказались свидетелями сборища торговцев наркотиками. Ведь эти люди больше не появлялись? — Не знаю. — Если бы они опасались, что ты их можешь опознать, они давно бы с тобой расправились. — Я не хочу рисковать. — Что же, ты всю жизнь будешь дрожать и бояться, что кто-нибудь нападет на тебя из-за угла? Ну хорошо, пусть у тебя будет револьвер. Может, это и нужно. Но ты не можешь всю жизнь просидеть взаперти, пора выходить на люди. Что ж, ты так и будешь повсюду таскать с собой эту штуковину? — Да, буду. У меня есть разрешение на ношение оружия. — Разрешение вот на эту пушку? — Револьвер всегда при мне в сумочке. — Господи, да как ты сумела получить разрешение? — Мой муж был убит неизвестными людьми при невыясненных обстоятельствах. Преступники пытались убить и меня с сыном, и они до сих пор на свободе. Ко всему прочему я богата и достаточно известное лицо. Странно было бы, если бы я не получила разрешения. Тельма помолчала, отпивая кофе и наблюдая, как Лора чистит револьвер. Наконец она сказала: — Что-то в этом не так, Шейн, ты принимаешь все очень серьезно, ты все время в напряжении. Вот уже семь месяцев, как Данни нет в живых. А ты ведешь себя, как будто это случилось вчера. Ты не можешь постоянно жить на нервах, в состоянии готовности, или как ты там еще это называешь. Ты сойдешь с ума. Станешь параноиком. Пойми, ты не можешь быть начеку до конца своей жизни. — Могу, раз это нужно. — Вот как? А сейчас? Револьвер-то разобран. А что, если какой-нибудь громила, весь в наколке, начнет ломиться в дверь? Кухонные стулья были на колесиках, поэтому, когда Лора стремительно оттолкнулась от стола, она в мгновение ока оказалась у прилавка рядом с холодильником. Молниеносно выдвинула ящик и выхватила оттуда еще один «смитт-вессон». Тельма спросила: — У тебя тут что — целый арсенал? Лора убрала второй револьвер обратно в ящик. — Идем. Я тебе еще кое-что покажу. Тельма последовала за ней в кладовую. Внутри на двери висел полуавтоматический карабин «узи». — Это автомат. На него что, тоже дают разрешение? — Если у тебя есть разрешение федеральных властей, то его можно купить в оружейном магазине, но только полуавтоматический; запрещается переделывать его в автомат. Тельма внимательно посмотрела на Лору, потом спросила: — А этот переделан? — Да, этот полностью автоматический. Но я купила его таким у подпольного торговца, а не в магазине. — Нет, Шейн, тут что-то не так. Это точно. Лора повела Тельму в столовую и показала револьвер, прикрепленный ко дну серванта. Четвертый револьвер находился в гостиной под доской кофейного столика рядом с диваном. Второй переделанный «узи» висел на входной двери в передней. Револьверы также хранились в ящике бюро в библиотеке, в кабинете на втором этаже, в ванной комнате рядом со спальней Лоры и в ночном столике у ее кровати. В спальне был также спрятан третий «узи». В изумлении глядя на «узи», который Лора извлекла из-под кровати, Тельма сказала: — Час от часу не легче. Если бы я тебя не знала, Шейн, я бы решила, что ты свихнулась, помешалась на этих штучках. Но я-то тебя знаю: если ты так напугана, значит, у тебя действительно есть причина. А как к этому относится Крис? — Он усвоил, что их нельзя трогать, и этого достаточно. Ты знаешь, что почти в каждой швейцарской семье кто-то состоит в ополчении, почти все граждане мужского пола проходят военную подготовку, и соответственно у них есть оружие в доме, и при этом у них самое низкое в мире число несчастных случаев из-за неосторожного обращения с оружием. И это потому, что они научились жить с оружием в доме. Детей с самого раннего возраста учат осторожному с ним обращению. Так что не надо беспокоиться о Крисе. Лора спрятала «узи» под кровать, и Тельма спросила: — А теперь скажи, как ты находишь подпольных торговцев оружием? — Ты забыла, что у меня есть деньги. — Значит, за деньги можно купить все, что угодно? Хорошо, пусть это так. И все-таки скажи мне, как такая паинька, как ты, находит такого торговца? Надо думать, они не дают рекламу на доске объявлений в прачечной самообслуживания? — Я написала не одну книгу, Тельма. А чтобы написать роман, нужно изучить множество вещей. Поэтому я знаю, куда мне обращаться, если мне кто-то или что-то понадобится. Они вернулись на кухню; Тельма молча раздумывала. Из гостиной, где Крис смотрел телевизор, доносилась бравурная музыка фильма о приключениях археолога Джонса из Индианы. Лора снова принялась за чистку револьвера, Тельма налила им еще кофе. — А теперь поговорим начистоту, девочка. Если опасность так велика, что нужна куча оружия, то тебе одной явно не справиться. Почему бы тебе не нанять телохранителей? — Я никому не доверяю. Только тебе и Крису, больше никому. И еще отцу Данни, но он живет во Флориде. — Но ты не можешь так жить, одна, в страхе… Лора чистила ершиком дуло револьвера. — Да, я боюсь, и эта вся подготовка меня успокаивает. Всю жизнь у меня отнимали дорогих мне людей, а я ничем не могла помочь и все терпела. Теперь с этим покончено. Теперь я буду защищаться. Пусть только попробуют отнять у меня Криса, они будут иметь дело со мной, и это будет им дорого стоить. — Лора, я понимаю твое состояние. Послушай, представь себе, что ты пришла ко мне на психоанализ, и вот что я тебе скажу: тебя меньше пугает реальная угроза, чем твоя беспомощность перед лицом судьбы. Провидение не обманешь, девочка. Ты не можешь тягаться с самим Господом Богом и надеяться, что выиграешь, потому что у тебя в сумочке револьвер. Ты права, что Данни умер насильственной смертью, и Нина Доквайлер, наверное, была бы жива, если бы кто-нибудь пристрелил Угря, когда он только начинал свои подвиги, но это всего два случая, когда оружие могло спасти дорогих тебе людей. Твоя мать умерла от родов. Твой отец — от сердечного приступа. Рут погибла в огне. Прекрасно, что ты умеешь защищаться с помощью оружия, но ты должна видеть вещи в их настоящем свете, ты должна помнить, что мы только люди, или ты кончишь свои дни в заведении, где обитатели беседуют со стенами и слышат неземные голоса. Не дай Бог, конечно, но что, если Крис заболеет тяжелой болезнью, например раком? Ты, Лора, готова убить всякого, только чтобы его защитить. Но ты со своим револьвером бессильна перед болезнью, и я боюсь, случись что-нибудь, с чем ты не можешь справиться, и тебе конец. Я очень беспокоюсь о тебе, Лора. Лора кивнула, почувствовав прилив благодарности к подруге. — Я знаю, Тельма. Но не стоит волноваться. Тридцать три года я терпела, а теперь я защищаюсь как могу. Напади на меня или Криса тяжелая болезнь, я обращусь к самым опытным врачам, использую все лучшие методы лечения. Ну а если ничто не поможет и Крис, например, умрет от рака, я смирюсь. Борьба не исключает смирения. Я буду бороться, но, если потерплю поражение, склоню голову перед судьбой. Тельма долго смотрела на нее. Потом согласно кивнула. — Вот такого ответа я и добивалась. Ладно, забудем это. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Ты когда покупаешь танк, Шейн? — Его привезут в понедельник. — А как насчет гаубиц, гранат, минометов? — Жду доставки во вторник. А как у тебя насчет фильма с Эдди Мерфи? — Мы договорились обо всем два дня назад. — Вот как. Значит, наша Тельма будет звездой в фильме с Эдди Мерфи? — Ваша Тельма будет участвовать в фильме с Эдди Мерфи. До звезды мне пока далеко. — Ты играла в картинах со Стивом Мартином, Чеви Чейзом, пусть не на первых ролях, но на третьих и четвертых. А в этом фильме у тебя вторая роль. А сколько раз ты была ведущей шоу «Сегодня вечером»? Раз восемь, не меньше. Нет, что бы ты ни говорила, ты звезда. — Скорее звездочка. Как это удивительно, Шейн. Подумай, откуда мы с тобой вышли, из самых низов, из приюта, а добрались до верха. Просто не верится. — Чего же тут удивительного, — заметила Лора. — Превратности судьбы закаляют человека, и он добивается успеха. И выживает.2
Штефан покинул снежную ночь в горах Сан-Бернардино и через мгновение оказался внутри Ворот, на другом конце Молниеносного Транзита. Ворота представляли собой большую трубу, внутренняя поверхность которой была покрыта полированной медью. Труба была длиной в три с половиной и диаметром в два с половиной метра, и через несколько шагов Штефан попал из нее прямо в главную лабораторию Института на первом этаже, где, как он был уверен, его поджидали вооруженные люди. В лаборатории никого не было. Пораженный, он остановился. Его бушлат все еще был запорошен снегом. Не веря своим глазам, он огляделся вокруг. Три стены зала, размером девять на двенадцать метров были покрыты от пола до потолка различными механизмами и приборами, которые гудели и пощелкивали. Почти все лампы на потолке были выключены, и в зале царил мягкий таинственный полумрак. Все эти механизмы обслуживали Ворота и состояли из десятков экранов и шкал, светившихся неярким зеленым и оранжевым светом, так как Ворота, этот транзит во временно пространство, скачок в любую эпоху, функционировали постоянно; сам процесс пуска Ворот был связан с большими трудностями и огромным расходом энергии, но, раз включенные, они действовали без особых усилий и затрат. Теперь, когда основная исследовательская работа по созданию Ворот была завершена, сотрудники Института посещали зал только для технического обслуживания оборудования, а также тогда, когда совершался скачок в другую временную эпоху. Будь условия функционирования Ворот другими, вряд ли Штефан сумел бы предпринять столько тайных самовольных путешествий, чтобы наблюдать за событиями в жизни Лоры, а иногда их даже изменять. Строго говоря, не было ничего удивительного в том, что в лаборатории отсутствовали сотрудники, но сейчас это вызывало подозрение: они отправили Кокошку, чтобы остановить Штефана, и теперь должны были с нетерпением ожидать его возвращения, чтобы узнать, насколько успешным был его визит в снежные калифорнийские горы. Они должны были учитывать, что Кокошка может потерпеть провал, что не он, а кто-то другой вернется из 1988 года, и поэтому Ворота должны были охраняться до полного выяснения ситуации. Тогда где же люди из тайной полиции в черных плащах с подложенными плечами? Где вооруженные агенты, которые должны его арестовать? Он взглянул на большие стенные часы: они показывали одиннадцать часов шесть минут по местному времени. Тут все было в порядке. Он совершил скачок во времени без пяти одиннадцать, а каждое такое перемещение завершалось ровно через одиннадцать минут после своего начала. Никто не мог дать на это ответа, но сколько бы времени путешественник ни провел в другой эпохе, он всегда укладывался в одиннадцать минут. Штефан пробыл в горах Сан-Бернардино почти полтора часа, но потратил на это всего одиннадцать минут своей собственной жизни, одиннадцать минут из своей эпохи. Проведи он с Лорой целые месяцы до того, как нажал желтую кнопку на своем поясе и запустил механизм передвижения во времени, он все равно бы вернулся в Институт всего через одиннадцать минут, и ни минутой больше, после того как его покинул. Так где же, в конце концов, тайная полиция, где вооруженные солдаты и возмущенные коллеги? После того как они узнали, что он вмешивается в жизнь Лоры, после того как они послали Кокошку расправиться с ним и с Лорой, почему они не подождали всего одиннадцать минут, чтобы узнать об исходе поединка? Штефан снял с себя теплые сапоги, бушлат и кобуру и положил их подальше в углу за оборудованием. Он взял оттуда и надел свой белый халат, спрятанный там перед началом путешествия. Растерянный, обеспокоенный, хотя и довольный отсутствием встречающих, он вышел из лаборатории в коридор на первом этаже и отправился на разведку.3
В два тридцать ночи в воскресенье Лора, в пижаме и халате, сидела за компьютером в кабинете рядом со спальней и работала над новой книгой. Свет в комнате исходил от электронных зеленых букв на экране компьютера и маленькой настольной лампы, освещавшей распечатку вчерашних страниц. Револьвер лежал на столе рядом с рукописью. Дверь в темный коридор была открыта. Лора никогда не закрывала ни одной двери в доме, кроме ванной комнаты, потому что закрытая дверь могла помешать ей услышать крадущиеся шаги чужака. В доме была установлена сложная охранная сигнализация, но открытые внутренние двери были дополнительной гарантией. Она услышала шаги Тельмы в коридоре и, когда подруга заглянула в дверь, сказала: — Прости, я, наверное, тебя разбудила. — Да нет. Мы в ночных клубах работаем допоздна. Зато я сплю все утро. А ты как? Ты что, тоже не спишь в это время? — Я вообще плохо сплю. Четыре-пять часов — это уже хорошо. Зачем лежать без сна, лучше встать и поработать. Тельма пододвинула стул, села и положила ноги на стол. Ее любовь к яркой одежде, проявившаяся в юности, стала еще заметней: на ней была свободная шелковая пижама с абстрактным рисунком из красных, зеленых, синих и желтых квадратов и кругов. — Приятно видеть, что ты по-прежнему носишь шлепанцы «зайчики», — заметила Лора. — Это говорит о стабильности твоего характера. — Ты угадала. Я стабильна, как скала. Правда, я не могу больше покупать «зайчики» моего размера, но я нашла выход из положения: покупаю взрослые пушистые домашние тапочки, а к ним пару детских, снимаю с детских глазки и ушки и пришиваю к взрослым. Что ты сочиняешь? — Роман, где одна сплошная черная желчь. — Одним словом, подходящая книга для тех, кто хочет отдохнуть и отвлечься. Лора вздохнула и откинулась на спинку стула. — Эта книга о смерти, о ее несправедливости. Невыполнимая задача, потому что я хочу объяснить необъяснимое. Я хочу объяснить, что такое смерть, идеальному читателю и тогда, может быть, пойму это сама. Я хочу понять, почему мы продолжаем борьбу, почему живем, хотя знаем, что смертны, почему мы сопротивляемся и терпим. Это унылая, мрачная, гнетущая, суровая и жестокая книга. — Ты думаешь, на нее найдется покупатель? Лора рассмеялась. — Может случиться, что ни одного. Но когда писателем завладевает идея… Сначала это внутренний огонь, который согревает и радует тебя, а потом пожирает и опустошает. От него не избавиться, он продолжает гореть. Есть только один способ его потушить — это написать книгу. А когда мне уже невмочь, я переключаюсь на милую детскую книжку о сэре Томасе, которую тоже пишу. — Шейн, ты спятила. — Как сказать, интересно, кто из нас, ты или я, носит «зайчики»? Они болтали о том о сем с откровенностью, подкрепленной двадцатилетней дружбой. Может быть, это было чувство одиночества, теперь более острое, чем сразу после убийства Данни, или это был страх перед неизведанным, но только Лора заговорила о своем личном хранителе. Во всем мире одна Тельма могла поверить этой истории. Тельма слушала ее как зачарованная, она сняла ноги со стола и вся наклонилась вперед, она ни разу не прервала Лору и не выразила сомнения, пока Лора рассказывала обо всем с самого начала, с того дня, когда хранитель убил наркомана, и до его исчезновения на горной дороге. Когда Лора облегчила душу, Тельма спросила: — Почему ты мне раньше о нем не рассказывала, еще в прежние годы, когда мы были в приюте? — Не знаю почему. Во всем этом было что-то… нереальное. Что-то такое, о чем надо было молчать, иначе он больше никогда бы не вернулся. Потом, когда мне самой пришлось спасаться от Угря, когда он ничего не сделал, чтобы спасти Рут, я как-то перестала в него верить. Я никогда не говорила о нем Данни, потому что, когда мы познакомились, мой хранитель стал для меня такой же сказкой, как Санта-Клаус. И вот теперь… он вдруг опять появился. — Тогда в горах он пообещал тебе, что скоро вернется и все объяснит? — Но я его с тех пор не видела. Я жду уже семь месяцев, и мне кажется, что если кто и появится, то не он, а еще один Кокошка савтоматом. Рассказ взбудоражил Тельму, она не могла спокойно сидеть на стуле, как если бы через него пропускали электрический ток. Она встала и заходила по комнате. — А как насчет Кокошки? Полиция что-нибудь выяснила? — Абсолютно ничего. Начнем не нашли никаких документов. Его «Понтиак» оказался краденой машиной, так же как и красный джип. Они проверили всю картотеку отпечатков пальцев, и никаких результатов. А с мертвеца какой спрос. Они не знают, кто он такой, откуда явился и почему хотел нас убить. — Но у тебя самой было достаточно времени, чтобы все это обдумать. Кто он такой, этот хранитель? Откуда он взялся? — Я ничего не знаю. — У Лоры, правда, была идея, которая не давала ей покоя, но казалась безумной и беспочвенной. Она не сказала о ней Тельме не потому, что это была сумасшедшая идея, а потому, что она выходила за рамки рационального. — Не знаю, и все тут. — А где тот пояс, который он тебе оставил? — У меня в сейфе. — Лора кивнула на угол комнаты, где в полу, под ковром, находился сейф. Вместе они приподняли ковер и открыли небольшой цилиндрический сейф диаметром в двенадцать и глубиной шестнадцать дюймов. Внутри лежал один-единственный предмет, и Лора его вытащила. Они вернулись к письменному столу, чтобы рассмотреть загадочную вещь. Лора направила на нее пучок света от лампы на гибкой ножке. Пояс был шириной в четыре дюйма, сделан из эластичной черной ткани, похожей на нейлон, и пронизан замысловатым и странным сплетением медных проводов. Из-за большой ширины пояс застегивался не на одну, а на две тоже медных пряжки. Кроме того, к поясу была прикреплена плоская коробочка размером со старомодный портсигар — четыре дюйма на три и три четверти дюйма толщиной, — и она тоже была сделана из меди. Даже при самом внимательном изучении нельзя было понять, как же она открывается; коробочка была совершенно гладкой, за исключением желтой кнопки диаметром менее одного дюйма в ее левом нижнем углу. Тельма вертела непонятный предмет в руках. — Так что, он сказал, может случиться, если нажать эту желтую кнопку? — Он сказал, чтобы я ни за что на нее не нажимала, а когда я спросила почему, он сказал: «Вы не захотите оказаться там, куда вас эта штука отправит». Они стояли рядом и в свете настольной лампы разглядывали пояс, который Тельма держала в руках. Было уже четыре часа утра, и дом в своем молчании был подобен застывшему мертвому кратеру на поверхности Луны. Наконец Тельма спросила: — И ты никогда не пробовала нажать кнопку? — Нет, — без колебания ответила Лора. — Когда он говорил о месте, где я могу оказаться, у него был ужасный взгляд. Я поняла, что он сам возвращается туда с большой неохотой. Я не знаю, Тельма, откуда он явился, но тот взгляд я запомнила хорошо, это, должно быть, кошмарное местечко.* * *
В воскресенье они в шортах и майках расстелили одеяла на лужайке за домом и устроили себе долгий неторопливый пикник, угощаясь картофельным салатом, холодным мясом, сыром, фруктами, чипсами и булочками с орехами и корицей. Они играли с Крисом, который был особенно доволен, потому что Тельма смешила его незамысловатыми шутками и выходками, на этот раз рассчитанными на восьмилетнего. Когда же Крис приметил на краю лужайки, у опушки леса, прыгающих белок, он решил их покормить. Лора дала ему булочку и посоветовала: — Разломи ее на кусочки и бросай им. Они все равно тебя близко не подпустят. И не уходи далеко от нас, слышишь? — Да, мама. — И не ходи в лес. Понял? Он отбежал футов на тридцать от них и на полпути до опушки стал на колени. Он крошил булку и бросал кусочки белкам, а подвижные осторожные зверьки с каждой подачкой подходили все ближе. — Он славный мальчик, — сказала Тельма. — Для меня самый лучший. — Лора пододвинула к себе «узи». — Крис совсем рядом, — заметила Тельма. — Но он ближе к опушке, чем к нам. — Лора всматривалась в тень под густыми соснами. Тельма взяла несколько чипсов из пакета и сказала: — Пикник с автоматом, такого у меня еще не было. Мне это даже нравится. Отпугивает медведей. — И прочую мелкую живность. Тельма растянулась на одеяле, подперев голову рукой, но Лора сидела, скрестив ноги, в позе индуса. Оранжевые бабочки, яркие, как солнце, порхали в теплом августовском воздухе. — Крис держится хорошо, — заметила Тельма. — Более или менее, — согласилась Лора. — Но был и очень тяжелый период. Он часто плакал, капризничал. Но это прошло. Они очень гибкие в этом возрасте, легко приспосабливаются, примиряются с неизбежным… Боюсь только, что в нем появилась какая-то грусть и он от нее никогда не избавится. — Никогда, — подтвердила Тельма, — это навечно. Грусть на сердце. Жизнь продолжается, он еще будет счастлив и даже временами будет забывать об этой грусти, но она у него навсегда. Тельма следила, как Крис приманивает белок, а Лора смотрела на Тельму. — Ты никак не можешь забыть Рут, правда? — Ни на один день все двадцать лет подряд. Разве ты не скучаешь по отцу? — Конечно, — сказала Лора. — Только это у нас с тобой по-разному. Мы знаем, что наши родители умрут раньше нас, и, даже если они умирают преждевременно, мы можем смириться с этим, потому что мы всегда знали, что это должно случиться. Другое дело, когда умирает муж, жена, ребенок… или сестра. Для нас это неожиданность, особенно если человек умирает молодым. С этим трудно примириться. А когда это твоя сестра-двойняшка… — Когда у нас случается что-то хорошее, например на работе, я всегда думаю о том, как бы радовалась за меня Рут. А ты как, Шейн? Ты как держишься? — Я плачу по ночам. — Пока это нормально. Через год — другое дело. — По ночам я не сплю и слушаю, как бьется мое сердце. Оно такое одинокое. Хорошо, что у меня есть Крис. А значит, и цель в жизни. И еще ты, Тельма. У меня есть ты и Крис, мы как бы семья, верно? — Почему «как бы», мы и есть семья. Мы с тобой сестры. Лора улыбнулась, протянула руку и взлохматила и без того растрепанные волосы Тельмы. — Хотя мы и сестры, — пошутила Тельма, — я не потерплю никаких вольностей.4
В коридорах и через открытые двери кабинетов и лабораторий Штефан видел своих коллег за работой, и никто не обращал на него никакого внимания. Он поднялся на лифте на третий этаж и там у дверей своей комнаты встретил профессора Владислава Янушского, который с самого начала карьеры пользовался поддержкой профессора Владимира Пенловского и был вторым ответственным за исследовательскую работу в области путешествий во времени. Эти исследования первоначально назывались «Проект Метеор», а теперь фигурировали под более подходящим кодовым названием «Молниеносный Транзит». Янушскому было сорок лет, он был на десять лет моложе своего наставника, но выглядел старше энергичного, полного жизни Пенловского. Низенький, толстый, лысеющий, с красным лицом и двумя блестящими золотыми коронками на передних зубах, Янушский выглядел благодушной безвредной фигурой, чему способствовали очки с толстыми стеклами, делавшие его глаза похожими на выпуклые рыбьи за стеклами аквариума. Однако его несгибаемая преданность властям и рвение на службе тоталитаризму начисто лишали его этого комического ореола: Янушский был одним из самых, опасных людей, занятых в проекте «Молниеносный Транзит». — Штефан, мой дорогой Штефан, — воскликнул Янушский, — я давно хочу поблагодарить вас за своевременное предложение, которое вы сделали в октябре, чтобы обеспечивать энергоснабжение Ворот с помощью автономного генератора. Ваша дальновидность спасла проект. Если бы городские службы по-прежнему снабжали нас электроэнергией, мы не вылезали бы из аварий и намного отстали бы от программы. Штефан был в полной растерянности: он вернулся в Институт, ожидая, что его измена раскрыта и что ему грозит арест, а вместо этого его хвалит этот гнусный червяк. Он действительно предложил обеспечивать Ворота энергией с помощью автономного генератора, но не для успешного завершения проекта, а для того, чтобы перебои в городском электроснабжении не мешали его посещениям Лоры. — В октябре мне и в голову не приходило, что возникнет ситуация, когда мы не сможем больше рассчитывать на городские службы, — продолжал Янушский, печально качая головой. — Дестабилизирован весь общественный порядок жизни. На какие только жертвы не идет наш народ, чтобы добиться торжества национал-социализма! — Да, это нелегкие времена, — согласился Штефан, подразумевая совсем иное. — Но мы победим, — с твердой уверенностью произнес Янушский. В его глазах, увеличенных стеклами очков, засветилось хорошо знакомое Штефану безумие. — И в этом нам поможет Молниеносный Транзит. Он похлопал Штефана по плечу и двинулся дальше по коридору. Когда ученый уже был у, лифтов, Штефан его окликнул: — Послушайте, доктор Янушский! Жирный толстый червяк обернулся: — Да, в чем дело? — Вы видели сегодня Кокошку? — Кокошку? Сегодня нет. — Но он в Институте? — Наверное. Вы же знаете, что он не пропускает ни дня и всегда уходит последним. Это образец трудолюбия. Имей мы побольше таких людей, как Кокошка, мы бы не беспокоились о конечной победе. Вам надо с ним поговорить? Я ему передам, если увижу. — Нет-нет, — отказался Штефан. — У меня нет ничего срочного. Не надо отрывать его от дел. Мы все равно увидимся. Янушский проследовал дальше, а Штефан вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Заглянул за шкаф, который он немного передвинул, чтобы тот на треть прикрыл решетку вентиляционного колодца в углу. В узком пространстве позади был почти незаметен пучок медных проводов, выходящих из нижней щели решетки. Провода были присоединены к простому часовому механизму, а он, в свою очередь, включен в розетку на стене за шкафом. Штефану стоило протянуть руку, установить время, и через промежуток от одной до пяти минут, в зависимости от того, какой он выбрал срок, Институт взлетит на воздух. «Что же происходит?» — спросил он себя. Он немного посидел за столом, глядя на квадрат неба в окне: клочки рваных грязно-серых облаков медленно двигались по лазурному простору. Наконец он вышел из комнаты, направился к лестнице и вверх, мимо четвертого этажа, на, чердак. С тихим скрипом отворилась дверь. Он включил свет и вошел в длинное недостроенное помещение, осторожно ступая по дощатому полу. Он проверил три заряда, которые спрятал в стропилах два дня назад. Все было на месте. Ему незачем было проверять заряды в подвале. Он вернулся к себе в кабинет. Явно никто не знал ни о его намерении уничтожить Институт, ни о его попытках спасти жизнь Лоры от целого ряда назначенных судьбой ударов. Никто, кроме Кокошки. Проклятье, но Кокошка знал, иначе он не появился бы со своим «узи» на горной дороге. Но почему Кокошка никому ничего не сказал об этом? Кокошка был сотрудником государственной тайной полиции, настоящим фанатиком, послушным и усердным слугой властей и лично ответственным за охрану Молниеносного Транзита. Если бы Кокошка обнаружил в Институте предателя, он тут же вызвал бы целую армию агентов, чтобы окружить здание, охранять Ворота и подвергнуть допросу всех и каждого. Он просто не дал бы Штефану отправиться на помощь Лоре на горном шоссе, вместо того чтобы потом последовать за ним и ликвидировать и самого Штефана, и всех остальных. Прежде всего он задержал и допросил бы Штефана, чтобы выяснить, есть ли у него сообщники в Институте. Кокошка узнал, что Штефан вмешивается в предопределенный ход событий в жизни Лоры. Он также мог обнаружить или не обнаружить взрывчатку в Институте; скорее всего, что нет, иначе бы он отсоединил провода. Но по непонятным причинам он действовал как частное лицо, а не как полицейский агент. Этим утром он последовал через Ворота за Штефаном и оказался в зимнем январском дне 1988 года, причем его намерения оставались для Штефана полной загадкой. Этому не было объяснения. Но это были факты. Что задумал Кокошка? Возможно, Штефан никогда не найдет ответа. Теперь Кокошка убит на шоссе в 1988 году, и скоро в Институте кто-нибудь его хватится. Сегодня на два часа дня у Штефана было намечено официально запланированное путешествие под руководством Пенловского и Янушского. На час дня Штефан наметил два своих мероприятия: взрыв Института и свой собственный побег. Теперь, в одиннадцать сорок три, он решил ускорить ход событий, прежде чем будет обнаружено исчезновение Кокошки. Он подошел к одному из высоких шкафов, открыл нижний пустой ящик и вытащил его наружу. К задней стенке ящика был прикреплен пистолет «кольт» с девятизарядной обоймой, приобретенный Штефаном в одном из тайных путешествий и потихоньку доставленный в Институт. Из-за другого ящика он вытащил два сверхсовершенных глушителя и еще четыре целиком заряженные обоймы. Сев за стол, он быстро надел один из глушителей на пистолет, снял курок с предохранителя и спрятал другой глушитель и обоймы в карманы халата. Скоро он через Ворота навсегда покинет Институт, но нет гарантии, что взрыв обязательно убьет Пенловского, Янушского и некоторых других ученых. Взрыв разрушит здание и уничтожит все машины и документы, в этом не было сомнения, а что, если выживет кто-нибудь из ведущих научных работников? Пенловский и Янушский хранили все необходимые знания у себя в голове и могли по памяти восстановить Ворота, поэтому, прежде чем пустить часовой механизм, через Ворота покинуть Институт и вернуться к Лоре, Штефан решил убить их и еще одного ученого по имени Волков. «Кольт» с глушителем был слишком велик, чтобы поместиться в кармане халата, и Штефан вывернул карман наизнанку и разорвал нижний шов. Продолжая держать «кольт» в руке, он засунул его в ставший просторным карман, открыл дверь кабинета и вышел в коридор. Сердце бешено колотилось у него в груди. Это была самая опасная часть его плана, потому что существовало множество обстоятельств, которые могли ему помешать, а он должен был еще вернуться в кабинет и включить часовой механизм. Лора была совсем далеко, увидит ли он ее когда-нибудь?5
Днем в понедельник Лора и Крис надели серые тренировочные костюмы, Тельма помогла им разложить толстые гимнастические маты на открытой веранде позади дома; Крис с Лорой уселись рядом и приступили к выполнению дыхательных упражнений. — А когда явится Брюс Ли? — поинтересовалась Тельма. — В два, — ответила Лора. — Он совсем не Брюс Ли, — в который раз поправил Крис. — Вы называете его Брюсом Ли, но ведь Брюс Ли умер. Мистер Такагами приехал точно в два. На нем был темно-синий тренировочный костюм с девизом его школы боевых искусств на спине: МОЛЧАЛИВАЯ СИЛА. Когда его познакомили с Тельмой, он сказал: — Вы очень смешная леди. Мне нравится пластинка с вашими выступлениями. Зардевшись от комплимента, Тельма объявила: — А я вам честно скажу, я не против, если бы в прошлой войне победила Япония. Генри Такагами рассмеялся шутке. — А ведь мы и победили. Сидя в шезлонге и отпивая из стакана чай со льдом, Тельма наблюдала, как Генри обучает Лору и Криса приемам самообороны. Генри было сорок лет, у него было хорошо развитое туловище, мускулистые плечи и руки и крепкие ноги. Он преподавал дзюдо и карате, был экспертом по кикбоксингу, а также обучал приемам самообороны, разработанным им самим на базе различных боевых искусств. Дважды в неделю он приезжал сюда из Ривер-сайда и три часа учил Лору и Криса. Удары ногой, кулаком, тычки, выкрики, выкручивание рук, броски через бедро — всем этим приемам боя Генри обучал осторожно и одновременно настойчиво. Приемы обучения Криса были более легкими, чем Лоры, к тому же Генри устраивал для мальчика частые перерывы, чтобы тот мог передохнуть. К концу занятий Лора, как обычно, взмокла от пота и была на пределе своих сил. Когда Генри уехал, Лора отправила Криса под душ, а они с Тельмой принялись скатывать маты. — Он очень симпатичный, — заметила Тельма. — Генри? Да, очень. — Может, и я займусь дзюдо и карате. — Что, у тебя столько недовольной публики? — Это удар ниже пояса, Шейн. — Все приемы оправданны, когда имеешь дело с грозным и безжалостным противником. На следующий день Тельма возвращалась в Бсверли-Хиллз. Укладывая чемодан в багажник своей машины, она спросила: — Послушай, Шейн, а ты помнишь ту первую семью, куда тебя отправили из приюта? — Ты имеешь в виду семью Тигель? Их было трос: Флора, Хэйзел и Майк. Тельма прислонилась рядом с Лорой к нагретой солнцем двери машины. — Помнишь, ты рассказывала, что Майк увлекался газетами типа «Нэшнл энквайрер»? — Я их так хорошо помню, будто рассталась с ними только вчера. — Так вот, — продолжала Тельма, — я много думала об этой твоей истории, твоем хранителе, о том, какой он вечно молодой, как вдруг исчезает средь бела дня, вспомнила Тигелей, и мне стало смешно. Как мы издевались над старым, выжившим из ума Майком… А теперь ты сама претендуешь на «экзотические факты», да еще какие. Лора улыбнулась. — Может, я тогда напрасно не верила всем этим сообщениям о внеземных пришельцах, которые тайно поселились в Кливленде? — Я вот что хочу сказать… В жизни много чудес и неожиданностей. Правда, многие неожиданности далеко не из приятных, и дни бывают мрачные, невезучие, безысходные. И все равно я сознаю, что мы присланы сюда с какой-то целью, пусть даже не можем разгадать с какой. В этом кроется какой-то смысл. Это не просто так. Не будь в этом смысла, не было бы тайны. Все было бы ясно и понятно, как устройство кофеварки. Лора кивнула. — Да ты слушай меня! Я мучаюсь, выдумываю примитивные философские истины, а в конечном итоге просто хочу сказать: «Не падай духом, девочка». — Ты настоящий философ. — Загадка, — продолжала Тельма. — Тайна. Да ты сейчас в самом центре загадок и тайн, Шейн, и это жизнь. Пусть сейчас небо хмурится, но все равно проглянет солнце. Они стояли у машины обнявшись, без слов, пока не появился Крис с рисунком, который хотел подарить Тельме, чтобы она увезла его с собой в Лос-Анджелес. На рисунке, неумелом, но старательном, был изображен сэр Томми-жаба, стоящий у кинотеатра, где на афише большими буквами было написано имя Тельмы. У Криса на глазах были слезы. — Зачем вам уезжать, тетя Тельма? Останьтесь еще на денечек! Тельма прижала мальчика к себе, потом бережно свернула в трубочку рисунок, как если бы это было бесценное произведение искусства. — Я бы с удовольствием осталась, Кристофер Робин, но не могу. Мои пламенные поклонники требуют, чтобы я сыграла в этом фильме. Я уже подписала обязательство. — Что такое обязательство? — Величайшая движущая сила в мире, — пояснила Тельма, еще раз целуя Криса. Она села в машину, включила мотор, опустила боковое стекло и подмигнула Лоре. — Экзотические факты, Шейн. — Тайны. — Чудеса. Лора показала ей пальцами знак победы. Тельма рассмеялась. — Ты выдюжишь, Шейн. Несмотря на пистолеты, автоматы и прочие штучки, о которых я узнала, я теперь меньше о тебе беспокоюсь. Лора и Крис следили, как машина миновала длинную, покрытую гравием подъездную дорогу и затем скрылась из виду на шоссе.6
Большой кабинет и приемная профессора Владимира Пенловского находились на четвертом этаже Института. Когда Штефан вошел в приемную, в ней было пусто, но из соседнего кабинета доносились голоса. Он подошел к полуоткрытой двери кабинета, распахнул ее настежь и увидел Пенловского, диктовавшего что-то своей секретарше Анне Каспар. Пенловский поднял голову и с легким удивлением посмотрел на Штефана. Должно быть, он заметил напряженное лицо Штефана и, нахмурившись, спросил: — Что-то случилось? — Случилось, и уже давно, — ответил Штефан, — но сейчас мы все уладим. — Недоумение на лице Пенловского усилилось. Штефан вытащил из кармана халата «кольт» и дважды выстрелил ему в грудь. Анна Каспар вскочила со стула, уронив карандаш и блокнот, крик застрял у нее в горле. Штефан не любил убивать женщин, он вообще не любил никого убивать, но выбора не было, и он трижды выстрелил в Анну Каспар; она упала на спину, на стол, так и не успев крикнуть. Ее мертвое тело соскользнуло со стола и повалилось на пол. Выстрелы были не громче шипения рассерженного кота, а звук падающего тела вряд ли мог привлечь чье-нибудь внимание. Пенловский обмяк на стуле, рот и глаза с безжизненным взглядом были открыты. Одна из пуль, должно быть, попала ему в сердце, на рубашке появилось лишь пятнышко крови; кровообращение остановилось в одно мгновение. Штефан, пятясь, вышел из комнаты, закрыл за собой дверь. Он прошел через приемную, вышел в коридор и закрыл за собой и эту дверь. Его сердце вырывалось из груди. Эти два убийства навсегда отрезали его от своей эпохи, от собственного народа. С этого момента жизнь для него была возможна только во времени Лоры. Путь назад был закрыт. Засунув руки и пистолет в карманы халата, он направился по коридору к кабинету Янушского. Он уже подходил к двери, когда оттуда вышли двое сотрудников Института. Они поздоровались, и Штефан приостановился, чтобы проверить, не направляются ли они в кабинет к Пенловскому. В этом случае их тоже ждала смерть. С облегчением он увидел, что они остановились у лифтов. Чем больше трупов он оставит позади себя, тем сильнее риск, что кто-то обнаружит один из них, поднимет тревогу, и он уже не сможет пустить часовой механизм и скрыться через Молниеносный Транзит. Он направился в кабинет Янушского, где тоже была приемная. За столом сидела секретарша, как и Анна Каспар, сотрудница секретной полиции; она взглянула на Штефана и улыбнулась. — Профессор Янушский у себя? — спросил Штефан. — Нет. Он внизу, в справочной, с ним профессор Волков. Волков был третьим человеком, чье достаточно глубокое знакомство с проектом обрекало его на смерть. То, что он и Владислав Янушский находились в одном месте, было удачным стечением обстоятельств. В справочной хранились многочисленные книги, газеты, журналы и другие материалы, которые добывались в путешествиях. В настоящее время создатели Молниеносного Транзита занимались срочным анализом ключевых моментов, перестройка которых вызовет изменения в естественном ходе событий и соответственно желательные изменения в ходе истории. По пути вниз в лифте Штефан поменял глушитель на пистолете на запасной. Первый сгодился бы еще на дюжину выстрелов, прежде чем вышел из строя. Но второй, новый, был дополнительной гарантией. Он также сменил полупустую обойму на полную. Коридор на первом этаже был оживленным местом, люди входили и выходили из лабораторий и кабинетов. Штефан шел, держа руки в карманах, прямо в справочную. Войдя в комнату, Штефан увидел, что Янушский и Волков, склонившись, стоят у дубового стола, рассматривая какой-то журнал и негромко споря. Они взглянули на Штефана и тут же вернулись к своему обсуждению, видимо считая, что он явился сюда за справочными материалами. Штефан всадил две пули в спину Волкову. Ошеломленный Янушский в полной растерянности смотрел на Волкова, который рухнул на стол от удара почти неслышных выстрелов в спину. Штефан выстрелил Янушскому в лицо, повернулся и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Опасаясь, что с ним кто-то заговорит, а ему не хватит самообладания и хладнокровия, он сделал вид, что погружен в свои мысли, что должно было отпугнуть возможных собеседников. Он быстрым шагом, но не бегом, направился к лифтам, вышел на третьем этаже и у себя в комнате, за шкафом, поставил часовой механизм на предельный срок, таким образом в его распоряжении было всего пять минут, чтобы добраться до Ворот и покинуть Институт, прежде чем тот превратится в груду пылающих развалин.7
К началу школьных занятий Лора получила разрешение на то, чтобы Крис обучался дома, где ему будет преподавать официально зарегистрированный учитель. Этим учителем была Ида Паломар, крупная, немного грубоватая женщина, но с добрым сердцем и хороший педагог. К осенним каникулам Лора и Крис привыкли к относительной изоляции, в которой они жили, и не чувствовали себя пленниками. Они наслаждались тем особым чувством близости, которое возникло между ними из-за отсутствия других людей в их жизни. В День Благодарения Тельма позвонила им из Беверли-Хиллз, чтобы пожелать счастливого праздника. Лора взяла трубку на кухне, наполненной вкусным запахом жарившейся индейки. Крис в гостиной читал книгу. — Я хочу поздравить вас с праздником, — сказала Тельма, — и еще пригласить провести рождественскую неделю со мной и Джейсоном. — Кто это Джейсон? — Джейсон Гейне, — сказала Тельма. — Он режиссер фильма, в котором я участвую. Я к нему переехала. — Он-то об этом знает? — Послушай, Шейн, остроты — это моя стихия. — Прости, пожалуйста. — Он утверждает, что любит меня. Ты можешь этому поверить? Представляешь, у него вполне приличная внешность, он только на пять лет старше меня, у него нет каких-либо явных отклонений, он процветающий режиссер, зарабатывает миллионы, ему стоит только поманить пальцем, и к нему пойдет любая молоденькая актриска с хорошенькой мордочкой и фигуркой, а он твердит, что ему нужна только я. Наверное, у него что-то не в порядке с головой, но из разговора с ним ты об этом не догадаешься, он прикидывается нормальным. Говорит, что любит меня, потому что у меня есть мозги… — А он знает, что они у тебя тоже не в порядке? — Ты опять за прежнее, Шейн? Он говорит, что ему нравится мой ум и чувство юмора, и он даже в восторге от моего тела, ну а если он обманывает, то он первый мужчина на земле, который умеет имитировать эрекцию. — У тебя прелестное тело. — Я тоже начинаю думать, что я не такая уж уродина, как мне раньше казалось. Если, конечно, считать худобу каноном женской красоты. Я теперь могу без отвращения смотреть на свое тело в зеркале, но у меня есть мое личико, от него никуда не денешься. — У тебя прелестное лицо, особенно теперь, без зеленых и фиолетовых кудрей. — Тебе легко говорить, Шейн, у тебя другое лицо. Я, наверное, сумасшедшая, что приглашаю тебя. Джейсон только на тебя взглянет и тут же выставит меня за дверь. А все-таки? Вы приедете? Съемки идут в городе и поблизости, и десятого декабря мы закончим основную работу. Потом у Джейсона будет куча дел, он должен монтировать и прочее, но на Рождество мы устраиваем себе каникулы. Мы вас очень ждем. Пожалуйста, приезжайте. — Мне бы очень хотелось познакомиться с человеком, который по достоинству оценил тебя, Тельма, но я не знаю. Здесь… здесь я чувствую себя в безопасности. — Уж не хочешь ли ты сказать, что ты нас боишься? — Ты знаешь, что я хочу сказать. — Ты можешь взять с собой «узи». — А что подумает Джейсон? — Я скажу ему, что ты из левых радикалов или из тех, кто печется о спасении китов, борется с консервантами в продуктах и без конца выкрикивает лозунги, и что ты повсюду возишь с собой «узи» на случай, если вдруг вспыхнет революция. Он поверит. Мы ведь живем в Голливуде, девочка. Что касается политики, то он встречал среди актеров еще не таких психов. Через открытую дверь Лора видела Криса, который свернулся в кресле с книгой в руках. Она вздохнула. — Может, нам действительно надо иногда бывать на людях. Нам будет тяжело вдвоем на Рождество без Данни. Но у меня есть сомнения. — Прошло уже девять месяцев, — мягко сказала Тельма. — Я должна быть начеку. — Согласна. Я не шучу насчет «узи». Если считаешь нужным, возьми с собой весь твой арсенал. Но обязательно приезжай. — Хорошо… приеду. — Вот это здорово! Мне не терпится познакомить тебя с Джейсоном. — Если я не ошибаюсь, ты отвечаешь взаимностью этому сумасшедшему голливудскому соблазнителю? — Я от него без ума, — призналась Тельма. — Я рада за тебя, Тельма. Ты меня не видишь, но я сижу тут и улыбаюсь от счастья, давно мне не было так хорошо. Лора не обманывала. Но когда повесила трубку, тоска по Дании стала совсем невыносимой.8
Пустив часовой механизм за шкафом, Штефан покинул комнату и отправился в главную лабораторию на первом этаже. Часы показывали двенадцать часов четырнадцать минут, и, так как плановое путешествие должно было состояться в два часа, в лаборатории никого не было. Окна были закрыты, и почти все лампы на потолке погашены, как час назад, когда он вернулся из Сан-Бернардино. Многочисленные измерительные приборы и освещенные экраны вспомогательных механизмов сияли зеленым и оранжевым светом. В полутьме блестели металлом Ворота. Четыре минуты до взрыва. Он направился прямо к главному пульту программного управления и установил в нужном положении ручки, переключатели и рычаги, определяя маршрут: Южная Калифорния, хребет Биг-Бэр, восемь часов вечера, 10 января 1988 года, всего несколько часов спустя после убийства Дании Паккарда. Штефан давно сделал необходимые вычисления и записал их на листке бумаги, с которым сверялся при установке механизмов, что позволило сократить время программирования до одной минуты, Если бы он мог отправиться в десятое января еще до столкновения с грузовиком на шоссе и до перестрелки с Ко кошкой, он бы это сделал в надежде спасти Данни. Однако опыт показывал, что путешественник во времени не мог вновь посетить одно и то же место, если его второй скачок близко по времени предшествовал первому; тут срабатывал закон последовательного хода событий, который предотвращал возможность встречи с самим собой в первом путешествии. Штефан мог вернуться к массиву Биг-Бэр после того, как он расстался с Лорой в ту январскую ночь; в этом случае он не рисковал встретиться с самим собой. При программировании Ворот, если возникала возможность подобной встречи, путешественник автоматически возвращался в Институт, не сделав и шага вперед. Это была одна из таинственных загадок передвижения во временном пространстве, которую они открыли и пытались разгадать, но пока безуспешно. Закончив программирование механизма Ворот, Штефан посмотрел на индикатор широты и долготы, чтобы убедиться, что он прибудет именно в район Биг-Бэр. Затем посмотрел на часы, где было зафиксировано время его прибытия, и с ужасом увидел, что они показывают восемь вечера десятого января 1989 года вместо 1988-го. Теперь Ворота доставят его в Биг-Бэр не через несколько часов после смерти Данни, а целый год спустя. До сих пор он был уверен, что не сделал ошибки в расчетах; у него было достаточно времени для работы над вычислениями и перепроверки их в последние две недели. Ему придется исправить ошибку. До взрыва оставалось менее трех минут. Он вытер потный лоб и посмотрел на цифры на листе бумаги — конечный результат долгих вычислений. Он потянулся к контрольной ручке, чтобы стереть настоящую программу и ввести цифры новой, когда в коридоре нижнего этажа раздались встревоженные крики. Похоже, они доносились со стороны справочной. Кто-то обнаружил тела Янушского и Волкова. Снова крики. Топот бегущих ног. Он взглянул на закрытую дверь зала, у него не было времени для перепрограммирования. Ему придется вернуться к Лоре через год после их последней встречи. С «кольтом» в правой руке, Штефан вскочил с сиденья у пульта и бросился к Воротам — трубе из полированной стали диаметром в два с половиной и длиной в три с половиной метра, которая покоилась на медных блоках в полуметре от земли. У него не было времени, чтобы схватить свой бушлат в углу, где он спрятал его час тому назад. Переполох в коридоре усиливался. Когда всего несколько шагов отделяли его от входа в Ворота, дверь зала распахнулась с такой силой, что с грохотом ударила о стену. — Стой, ни с места! Штефан узнал голос, он не мог поверить своим ушам. Он повернулся лицом к преследователю, направив пистолет на человека, ворвавшегося в лабораторию. Это был Кокошка. Это невозможно. Кокошка был мертв. Кокошка последовал за ним к хребту Биг-Бэр вечером десятого января 1988 года, и он убил Кокошку на заснеженном шоссе. В полной растерянности Штефан сделал два выстрела, оба мимо. Кокошка ответил на огонь. Одна пуля попала Штефану в плечо и отбросила его к Воротам, гак что он ударился о край трубы. Он удержался на ногах и сделал еще три выстрела в Кокотку, который в поисках укрытия упал на пол и закатился под стол-До взрыва оставалось менее двух минут. В состоянии шока Штефан не чувствовал боли, но его левая рука повисла как плеть. Черная, непроницаемая мгла стала заволакивать глаза. Неожиданно потухли те несколько ламп на потолке, которые еще горели, и теперь зал был освещен призрачным светом многочисленных шкал и экранов. На мгновение Штефану почудилось, что это результат его слабеющего сознания, его собственная реакция, но вскоре понял, что опять прекратилась подача городской электроэнергии; видимо, по вине саботажников, потому что сирены не возвестили о начале воздушного налета. Кокошка дважды выстрелил из темноты, и вспышка огня выдала его местонахождение; в ответ Штефан выпустил последние три пули, хотя знал, что не сможет достать Кокошку через мраморный верх лабораторного стола. Благодаря небо за то, что Ворота получают электроэнергию от автономного генератора, Штефан отбросил в сторону пистолет и здоровой рукой ухватился за край трубы. Он подтянулся, оказался внутри и изо всех сил пополз вперед, чтобы преодолеть расстояние до той точки, где можно пересечь энергетическое поле и отправиться к месту назначения, в Биг-Бэр, в 1989 год. Пока он продвигался на коленях, опираясь на одну руку, в сумеречном пространстве трубы, его вдруг осеняло, что часовой механизм, соединенный с детонатором, работает от городской электросети. Механизм остановился, когда погас свет. С отчаянием он понял, почему Кокошка не был убит на шоссе в 1988 году. Кокошка еще не совершил этого путешествия. Кокошка только сейчас узнал об измене Штефана, когда обнаружил тела Янушского и Волкова. Еще до возобновления подачи электричества Кокошка обыщет комнату Штефана, обнаружит часовой механизм и обезвредит его. Институт не будет взорван. Штефан задержался, раздумывая, не вернуться ли ему назад. Позади он услыхал голоса: на подмогу Кокошке в лабораторию прибыли агенты службы безопасности. Штефан пополз вперед. А что же Кокошка? Начальнику службы безопасности еще предстоит путешествие на шоссе № 330 10 января 1988 года, где он попытается расправиться со Штефаном. Но, прежде чем погибнет он сам, ему удастся убить лишь одного Дании. Штефан был абсолютно уверен, что непреклонной судьбой Кокошке уготована смерть; но надо было хорошенько обдумать все парадоксы машины времени и выяснить, не может ли Кокошка каким-то образом спастись от пули, хотя Штефан уже видел его мертвым. Сложность и запутанность перемещения во временном пространстве следовало обдумывать на свежую голову. А он был ранен, почти терял сознание и в таком состоянии не мог ясно мыслить. Потом. Он разберется во всем этом потом. Кто-то позади в темной лаборатории начал стрелять внутрь трубы в надежде его убить до того, как он достигнет точки отправления. Он прополз последние сантиметры. Вперед, к Лоре. К новой жизни в неведомом времени. А ведь он надеялся навсегда закрыть мост между эрой, которую он сейчас покидал, и эрой будущего. Ворота будут продолжать функционировать. И его преследователи смогут преодолеть время и явиться в будущее, чтобы убить его, Штефана. Убить Лору?9
Лора и Крис провели Рождество с Тельмой в доме Джейсона Гейнса в Беверли-Хиллз. В особняке в стиле Тюдоров было двадцать две комнаты, и он стоял на участке в шесть огороженных стеной акров, что было невиданным в этом районе, где каждый акр давно стоил фантастические суммы. В сороковые годы, когда дом строил продюсер легких комедий и фильмов на военные темы, все делалось на совесть, и каждая комната отличалась прекрасной и тщательной отделкой, о чем теперь нельзя было даже мечтать, заплатив за это какие угодно деньги. Дубовые потолки были украшены замысловатой резьбой; стекла в окнах со свинцовыми переплетами были цветными или с рисунком, стены особняка толстыми, как в старом, замке, и на широких подоконниках можно было устроиться, как на скамейке; панели над дверями и окнами были также украшены резьбой: виноградные лозы и розовые кусты, херувимы, знамена, скачущие олени, птицы с ленточками в клювах; снаружи наличники были сделаны из гранита, а два окна украшены яркими майоликовыми фруктами в стиле делла Роббиа. Дом окружал содержавшийся в идеальном порядке парк с множеством извилистых, мощенных камнем дорожек среди тропического пейзажа из пальм, фикусовых деревьев, усыпанных ярко-красными цветами азалий, бальзаминов, папоротников, райских птиц и такого разнообразия цветов, что Лоре была знакома лишь половина из них. Лора и Крис приехали в субботу, за день до Рождества, и Тельма сразу повела их показывать дом и парк, после чего они пили какао с крошечными пирожными, испеченными поваром и поданными горничной на просторной веранде, выходящей к плавательному бассейну. — Мне кажется, что я во сне, Шейн. Неужели я та самая девочка, которая целых десять лет провела в паршивых приютах, а теперь живу здесь, как принцесса? Дом производил внушительное впечатление, и невольно казалось, что его хозяин должен держаться самодовольно и с сознанием собственной значимости. Но когда в четыре часа Джейсон Гейне вернулся домой, он оказался скромным и без претензий, что было удивительно для человека, который уже семнадцать лет занимал видное положение в мире кино. Ему было тридцать восемь, он был на пять лет старше Тельмы, очень похож на молодого Роберта Вона и очень симпатичный, так что слова Тельмы, что у него «приличная внешность», были явным преуменьшением. Не прошло и часа, как они с Крисом уединились в одной из комнат, чтобы поиграть в электрическую железную дорогу, которая вместе с макетами игрушечных деревень, полей, лесов, водопадов, мельниц, туннелей и мостов занимала площадь размером пятнадцать на двадцать футов. Вечером, когда Крис уже спал в соседней комнате, Тельма нанесла визит Лоре. В пижамах они уселись на кровати, скрестив ноги, будто снова были девочками, но на этот раз вместо молока с печеньем они ели жареные фисташки и пили шампанское. — Самое удивительное, Шейн, что, несмотря на мое происхождение, я чувствую себя здесь как дома. Я тут своя. Она и выглядела как своя. Хотя в ней вполне можно было признать Тельму Аккерсон, она сильно изменилась за последние месяцы. У нее была хорошая стрижка и прическа; впервые в жизни Лора видела ее загорелой, и она держалась как женщина, а не как клоун, который хочет вызвать смех, а значит, и одобрение каждым своим забавным жестом и гримасой. На ней была менее яркая и более женственная пижама: мягкий струящийся розовый шелк без всякого рисунка. Однако она по-прежнему носила домашние туфли-«зайчики». — «Зайчики», — сказала она, — напоминают мне, кто я такая на самом деле. Носи такие тапочки, и ты не будешь о себе много воображать. Ты сохранишь здравый взгляд на вещи и не будешь строить из себя звезду или богачку, а все оттого, что на тебе эти тапочки. К тому же с ними я чувствую себя уверенней, они такие веселые, самостоятельные, и знаешь, что они говорят? Они говорят: «Что бы с нами ни случилось, мы не пропадем». Если я умру и окажусь в аду, то все вытерплю, если на мне будут «зайчики». Рождественский день прошел как чудесная сказка. Джейсон оказался очень сентиментальным человеком и к тому же настоящим выдумщиком, не хуже ребенка. Он настоял, чтобы все собрались под елкой в пижамах и халатах, все вместе открывали подарки, развязывая ленты и разрывая шуршащую бумагу с возгласами удивления и восторга, все вместе спели рождественские песни и, позабыв о здоровом и полезном каждодневном завтраке, ели печенье, конфеты, орехи, кекс с цукатами и воздушную кукурузу в сахаре. Оказалось, что он был не просто любезным хозяином, когда весь вечер накануне провел с Крисом, играя в поезда, но что он действительно любит и понимает детей, потому что весь следующий день он занимал мальчика играми то дома, то на улице. За один только день Крис смеялся больше, чем за все предыдущие одиннадцать месяцев. Вечером, когда Лора укладывала его спать, он сказал: — Здорово мы провели день, правда, мама? — Очень здорово, — согласилась Лора. — Хорошо было бы, если бы с нами был папочка, — сказал Крис, погружаясь в сон, — мы бы играли (жесте. — Я тоже этого хочу, милый. — И все-таки он был с нами, потому что я о нем вспоминал. Как ты думаешь, мама, я всегда буду помнить, каким он был, даже если пройдет много-много лет? — Я тебе помогу его не забыть, маленький. — Потому что я уже кое-что забыл. Приходится долго вспоминать. Я не хочу забывать, ведь он был моим отцом. Когда он заснул, Лора вернулась к себе в комнату. Она очень обрадовалась, когда через несколько минут к ней для душевного разговора пришла Тельма; без нее она провела бы несколько тяжелых часов без сна. — Если бы у меня были дети, Шейн, — сказала Тельма, забираясь в кровать к Лоре, — как ты думаешь, им разрешили бы жить в обществе или их отправили бы в колонию для детей-уродов, что-нибудь вроде колонии для прокаженных? — Не говори глупостей. — Конечно, у меня есть деньги, чтобы сделать им радикальную пластическую операцию. Одним словом, если они окажутся не совсем той породы, у меня есть деньги, чтобы их очеловечить. — Иногда твое самоуничижение злит. — Извини. Отнеси это на счет того, что у меня в детстве не было опоры в лице папы или мамы. Я, как все сироты, и сильная и слабая сразу. — Она помолчала, потом рассмеялась и сказала: — Хочу тебя удивить. Знаешь, Джейсон хочет на мне жениться. Сначала я подумала, что у него не все дома и что он заговаривается, но он уверяет, что ему не нужен психиатр, хотя у меня есть сомнения на этот счет. А ты что скажешь? — Ты хочешь знать мое мнение? О чем тут вообще говорить? Он удивительный человек, вот тебе мое мнение.Надеюсь, ты его не упустишь? — Боюсь, я ему не пара. — Наоборот, это для тебя все не пара. Выходи за него замуж. — Если у нас ничего не получится, я этого не перенесу. — Если ты не попробуешь, — сказала Лора, — то это будет для тебя не только удар, а трагедия одиночества.10
Как всегда, Штефан испытывал неприятную дрожь, сопровождавшую скачок во времени, непонятную вибрацию, которая пронизывала до мозга костей. Со звуком пробки, вылетевшей из бутылки с шампанским, он оставил позади Ворота и в то же мгновение оказался на крутом покрытом снегом склоне в калифорнийских горах, вечером десятого января 1989 года. Он не удержался на ногах, упал на раненый бок, покатился вниз до конца склона, где и за-, держался у гнилого, лежавшего на земле дерева. Впервые после ранения его пронзила острая боль. Он вскрикнул и повернулся на спину, кусая язык, чтобы не потерять сознание, вглядываясь в беспокойную тьму. Молния зигзагами рассекала небо, и казалось, что свет исходит из рваной раны. В призрачном сиянии снегов и яростных вспышках молнии Штефан разглядел, что находится на лесной поляне. Черные деревья протягивали голые ветви к бушующему небу, словно фанатики-идолопоклонники к беспощадному божеству. Запорошенные снегом сосны в своем торжественном величии напоминали жрецов, шествующих к алтарю. Прибытие в другую временную эпоху всегда сопровождалось нарушением равновесия природных сил и высвобождением огромной энергии. Вне зависимости от погоды в месте прибытия нарушенное равновесие восстанавливалось с помощью грандиозных ударов молнии, отчего воображаемый путь, который в один миг преодолевали путешественники во времени, и носил название Молниеносный Транзит. По причинам, которые никто не мог понять, возвращение в Институт, в собственную эпоху, не сопровождалось небесной пиротехникой. Постепенно, как обычно, мощные вспышки, достойные Апокалипсиса, превратились в отдельные слабые отблески. Через мгновение тишина и тьма воцарились в ночи. По мере отдаления молний у Штефана возрастала боль в плече. Словно все те силы, которые только что разрывали небо, теперь терзали его грудь, левое плечо и руку; страдания становились невыносимыми. Штефан встал на колени, затем, шатаясь, поднялся на ноги, сознавая, как мало у него шансов выбраться живым из леса. Кругом лежала мрачная чернота беззвездной ночи, лишь снег на поляне слабо искрился. Несмотря на отсутствие ветра, зимний воздух сковывал холодом, а вся одежда Штефана состояла из рубашки, брюк и тонкого лабораторного халата. Хуже того, он, возможно, находился далеко от шоссе или какого-то другого ориентира, который помог бы ему определить свое местонахождение. Если сравнивать Ворота с пистолетом, то их точность в преодолении временного пространства была почти абсолютной, что же касалось места прибытия, то тут она была относительной. Путешественник обычно прибывал с точностью до десяти-пятнадцати минут относительно установленного временного срока, но не всегда с необходимой географической точностью. Иногда он приземлялся совсем рядом с нужным местом, а случалось, на расстоянии десяти-пятнадцати миль, как это произошло в тот день, десятого января 1988 года, когда он совершил скачок с целью спасти Лору, Дании и Криса от потерявшего управление грузовика Робертсонов. Во все предыдущие путешествия Штефан брал с собой карту нужного района и компас на случай, если он окажется в таком отдаленном месте, как сейчас. Но на этот раз у него не было ни карты, ни компаса, потому что они оказались в карманах его бушлата, спрятанного в углу лаборатории, а облачное небо не позволяло ему ориентироваться по звездам. Он стоял по колено в снегу в обычных ботинках, без теплых сапог и понимал, что ему надо двигаться, иначе он примерзнет к земле. Он оглядел поляну в надежде на озарение, на проблеск интуиции и в конце концов наобум повернул налево в поисках оленьей тропы или следов других животных, которые бы помогли ему пройти через лес. Вся левая сторона его тела, от плеча до пояса, пульсировала от боли. Он надеялся, что пуля не затронула артерию и что потеря крови была не столь велика; что он успеет добраться до Лоры и в последний раз перед смертью увидит ее лицо, которое он так любил.* * *
Прошел год со дня смерти Дании; годовщина пришлась на вторник, и, хотя Крис ничем не проявлял своих чувств, он понимал значение этой даты. В этот день он был необычайно молчалив. Он был занят своими играми, но на этот раз не изображал голосом звон скрещивающихся шпаг, звук лазерного оружия или шум космического корабля. Позже у себя в комнате он, лежа на кровати, читал комиксы. Он не поддавался ни на какие попытки Лоры нарушить его добровольное затворничество, и это было к лучшему; ей было трудно претворяться веселой, я он мог легко догадаться, какую тяжелую борьбу она ведет, отгоняя печальные мысли, что еще больше увеличило бы его тоску. Тельма звонила за несколько дней до этого, чтобы сообщить, что решила выйти замуж за Джейсона Гейнса; позвонила снова и в этот вечер в семь пятнадцать, просто чтобы поболтать, словно не помнила о грустной дате. Лора взяла трубку у себя в кабинете, где она по-прежнему работала над своей желчно-мрачной книгой, что продолжалось уже целый год. — Послушай, Шейн, догадайся, что со мной случилось! Я познакомилась с Полом Маккартни. Он приехал в Лос-Анджелес для переговоров о записи пластинки, и в пятницу я его встретила на одной вечеринке. Когда я его увидела, он закусывал, у него были крошки на губах, он поздоровался со мной и был просто неотразим. Он сказал, что видел мои фильмы, что я очень талантливая актриса, и вот так мы с ним беседовали, можешь поверить, целых двадцать минут, и тут случилась удивительнейшая вещь. — Ты обнаружила, что ты как-то незаметно раздела его догола. — Что ж, он по-прежнему очень милый, по-прежнему настоящий херувимчик, — помнишь, как двадцать лет назад мы от него в обморок падали, — только теперь у него лицо человека, умудренного опытом и знакомого с жизнью, и еще у него чудесные печальные глаза, и вообще он очень занятный и любезный. Сначала у меня; может, и возникла эта мысль насчет одежды, благо наконец-то подвернулся случай. Но чем дольше мы говорили, тем меньше он походил на божество, а все больше на человека, и, представь себе, Шейн, в какие-то минуты миф растаял и я беседовала с очень хорошим, симпатичным мужчиной средних лет. Что ты на это скажешь? — А что я могу сказать? — Не знаю, — сказала Тельма. — Мне как-то не по себе. Что ж, достаточно двадцать минут поговорить с живой легендой, и ее как не бывало? Я встречалась со многими звездами, и все они в конце концов оказывались обыкновенными людьми, но ведь это сам Пол Маккартни. — Если хочешь знать, его быстрый спуск с Олимпа ничуть не уменьшает его значимости, а вот для тебя этот опыт весьма полезен. Ты начинаешь взрослеть, Аккерсон. — Значит, мне по субботам больше нельзя смотреть старые комедии? — Да нет, смотри на здоровье, только не такие, где швыряют тортами в физиономию. Они распрощались без десяти восемь. Лора почувствовала себя лучше и решила на время оставить мрачный роман и переключиться на сказку о сэре Томми. Не успела она написать и двух фраз, как ночь за окном осветилась ослепительной молнией, столь яркой, что невольно мелькнула мысль о ядерной войне. Раскат грома заставил дом содрогнуться от фундамента до крыши, как если бы в него ударили чугунной чушкой для сноса построек. Испуганная Лора вскочила на ноги, забыв закрепить текст в памяти компьютера. Еще одна молния рассекла ночь, превратив окна в светящиеся телевизионные экраны, а последовавший удар грома был еще сильнее предыдущего. — Мама! Лора обернулась и увидела в дверях Криса. — Все в порядке, — успокоила она. Он подбежал к ней. Она села на стул и взяла его к себе на колени. — Все в порядке. Не надо бояться, дорогой. — А дождя нет, — заметил Крис. — Почему такой гром, а дождя нет? За окном с минуту невиданно яркие молнии чередовались с раскатами грома, потом все смолкло. Сила стихии была столь велика, что Лора вообразила, что, выйди она сейчас из дома, она обнаружит на земле обломки небосвода. Через пять минут после того, как он покинул поляну, Штефан остановился отдохнуть, прислонившись к толстому стволу сосны, ветви которой начинались у него прямо над головой. Он обливался потом от боли и одновременно дрожал от пронизывающего январского холода; он еле держался на ногах, но боялся сесть и погрузиться в бесконечный сон. Под нависшими ветвями громадной сосны он чувствовал себя в объятиях смерти, из которых никогда не вырваться.* * *
Прежде чем уложить Криса в постель, Лора угостила его мороженым с кокосовым орехом и миндалем. Они ели на кухне, и ей показалось, что мальчик немного повеселел. Возможно, это удивительное и непонятное явление природы, завершившее день печальной годовщины, развеяло его мрачные мысли и заставило задуматься о других вещах. Крис без конца говорил о старом фильме, который он видел на прошлой неделе, где молния проникла в лабораторию доктора Франкенштейна по бечевке воздушного змея; о молнии, которая напугала Дональда Дака в мультике Диснея; о грозовой ночи в фильме «Сто один далматский дог», когда щенки пережили страшную опасность. Когда Лора уложила его в постель, поцеловала на ночь и он уже засыпал, мрачное выражение, не сходившее с его лица целый день, наконец исчезло и сменилось слабой улыбкой. Он мгновенно уснул, а она все сидела у его кровати, хотя он больше не нуждался в ее защите и поддержке. Просто ей хотелось побыть рядом с ним. Она вернулась к себе в кабинет в девять пятнадцать и, прежде чем сесть за компьютер, остановилась у окна и посмотрела на покрытую снегом лужайку перед домом, на черную ленту дороги, которая вела к шоссе, на беззвездное темное небо. Что-то в этом буйстве стихии глубоко обеспокоило ее: нет, не то что молнии были несезонным явлением, и не страшная мощь, которая в них таилась, но то, что эта необычная, почти сверхъестественная сила была каким-то образом ей знакома. Она уже видела подобное проявление небесных сил, но не могла припомнить когда и где. Это было странное чувство, и она не могла от него избавиться. Она вошла к себе в спальню, где в стенном шкафу находился контрольный пульт охранной сигнализации, и проверила, включена ли система на всех окнах и дверях. Из-под кровати Лора вытащила «узи» с удлиненным магазином, в котором было четыре сотни новых, сделанных из легкого сплава патронов. Она отнесла «узи» к себе в кабинет и положила на стол рядом со стулом. Она уже приготовилась сесть за работу, когда, напугав ее, молния вновь пронзила небо, а раскат грома заставил вздрогнуть. Еще одна молния, и еще одна, а за ней другая озаряли окна, словно за ними безумствовала злобная толпа бесовского карнавала. Небеса сотрясали вспыхивающие разряды, и Лора поспешила в комнату сына, чтобы его успокоить. К ее удивлению, хотя молнии и гром были куда сильнее прежнего, Крис продолжал спокойно спать; возможно, ему снился сон, где такой же грохот пугал Дональда Дака в одном из его приключений в грозовую ночь. И опить ни капли дождя. Так же внезапно, как и прежде, все стихло, но Лора не могла освободиться от чувства беспокойства.* * *
Странные неясные тени возникали перед ним в темноте, непонятные существа мелькали между деревьями и следили за ним исподтишка, от беспокоили, пугали Штефана, но он знал, что они вымысел, плод его расстроенного воображения, его слабеющего сознания. Он брел вперед, несмотря на холод снаружи и жар внутри, колкие сосновые лапы, колючие кусты, несмотря на то, что ледяная земля под ногами то уходила в сторону, как палуба корабля в качку, то вдруг вертелась, как пластинка на проигрывателе. Боль в плече и груди достигла предела, и в бреду ему чудились невесть откуда взявшиеся полчища крыс, грызущих его тело. Проблуждав с часок — ему он показался днями и годами, хотя это был всего час, потому что еще не наступило утро, — он подошел к опушке леса и вдали, на склоне, за снежным простором поля, увидел дом. Окна слабо светились через опущенные шторы. Он остановился, не веря своим глазам; дом мог оказаться таким же призраком, как те тени из царства мертвых, что кружили перед ним в лесу. Он сомневался в его реальности, но двинулся навстречу миражу. Не успел он сделать несколько шагов, как молния разрезала, вспорола небо. На землю обрушивались удары могучего хлыста, всякий раз наносимые все более безжалостной рукой. Штефан в ужасе застыл на месте, а его тень извивалась и металась вокруг него на снегу. Иногда это была уже не одна, а две тени, потому что две молнии освещали его сразу с двух сторон. Это опытные ищейки преследовали его, преодолев время через Молниеносный Транзит, готовые остановить его прежде, чем он предупредит Лору об опасности. Он оглянулся на чащу, из которой вышел. Под вспыхивающим светом сосны, казалось, прыгали, то приближаясь, то отдаляясь от него. Но преследователей не было видно. Наконец молнии потухли, и он двинулся вперед, к дому. Дважды он падал, с трудом поднимался, снова шел, боясь, что не сумеет подняться, если снова упадет, не сможет громко позвать на помощь. Лора смотрела на экран и пыталась сосредоточиться на сэре Томми, но вместо этого думала о странных молниях; внезапно она вспомнила, когда она прежде видела такое необычайно бурное небо: в тот самый день, когда отец впервые рассказал ей о сэре Томми; день, когда в лавку зашел бродяга; день, когда она впервые увидела своего хранителя, в восьмое лето своей жизни. Она выпрямилась на стуле. Сердце забилось быстро и стремительно. Молния такой огромной силы была предвестницей беды, беды для нее самой. Она не могла вспомнить, видела ли она молнию в день смерти Дании или в день похорон отца, когда на кладбище появился ее хранитель. Но она была твердо уверена, хотя не могла объяснить почему, что сегодняшнее буйство природы имело особый, ужасный для нее смысл: это было предзнаменование, дурное предзнаменование. Она схватила «узи» и обошла верхний этаж, проверяя окна, заглянула в комнату к сыну, чтобы удостовериться, что все в порядке. Затем поспешила вниз, решив обойти нижние комнаты. Когда она вошла в кухню, что-то глухо ударило в заднюю дверь. С возгласом удивления и страха она стремительно обернулась, направив на дверь автомат, готовая открыть огонь. Но этот звук никак не походил на шумную работу взломщика. Это был негромкий удар, скорее робкий стук, который повторился дважды. Ей показалось, что кто-то тихо зовет ее по имени. Затем тишина. Она осторожно приблизилась к двери и прислушалась. Опять ничего. Это была особо укрепленная дверь, стальной лист между двумя дубовыми панелями, поэтому Лора не опасалась выстрела снаружи. И все же она не решалась подойти к двери и посмотреть в глазок: кто-то с другой стороны мог заглянуть внутрь и встретиться с ней взглядом. Когда же наконец она собралась с духом и поглядела в глазок, который давал ей широкий обзор, то увидела человека с раскинутыми руками, лежавшего на спине на бетонном полу веранды, куда он упал; постучав в дверь. «Это ловушка, — подумала Лора. — Ловушка. Западня». Она зажгла свет снаружи и прокралась к одному из окон. Осторожно приподняла одну из пластин металлической шторы. Человек на веранде был ее хранителем. Его ботинки и брюки были покрыты мерзлым снегом. На нем был белый халат; на груди темное пятно крови. Насколько она могла видеть, на веранде и на лужайке позади него никого не было, но она должна была учитывать возможность, что его оставили здесь, чтобы выманить ее из дома. Открыть дверь ночью при таких обстоятельствах было чистым безумием. Но не оставлять же его на веранде. Он был ее хранителем. А что, если он ранен и умирает? Она нажала кнопку отключения сигнализации рядом с дверью, открыла замки и засовы и, озираясь, вышла на холод зимней ночи, держа наготове «узи». Никаких выстрелов. Никакого движения на белеющей снегом лужайке и дальше до самого леса. Она подошла к своему хранителю, опустилась рядом с ним на колени и попробовала найти пульс. Он был жив. Она подняла веко у него на глазу. Он был без сознания. Рана на груди, видимо, была серьезной, но не кровоточила. Занятия с Генри Такагами и регулярные физические упражнения значительно развили ее мускулатуру, но ей не хватало сил, чтобы одной рукой поднять раненого. Лора прислонила автомат к двери и обнаружила, что не может поднять его и двумя руками. Опасно было переносить тяжелораненого, но еще опасней было оставлять его на морозе, не говоря уже о том, что он явно спасался от преследователей. Она волоком втащила его в кухню и положила на полу. С облегчением внесла внутрь «узи», заперла дверь и опять включила охранную сигнализацию. Он был страшно бледным и холодным как лед, поэтому она тут же сняла с него ботинки и носки, покрытые снегом. Когда она разула его левую ногу и принялась за правую, он начал что-то бормотать на непонятном языке, а по-английски он твердил что-то о взрывчатке, каких-то воротах и призраках в лесу. И хотя Лора видела, что он бредит и вряд ли ее понимает, как не понимает его и она, она все же успокаивающе повторяла: — Вот так, лежите спокойно, все будет в порядке, как только мы отогреем вам ноги, я тут же вызову врача. Слово «врач» на мгновение вернуло ему сознание. Он слабо уцепился за ее руку, устремил на нее напряженный испуганный взгляд. — Не надо врача. Надо уходить… уходить отсюда. — Вы не в состоянии куда-либо уходить, — сказала Лора. — Разве только на машине «скорой помощи» до больницы. — Надо уходить. Торопитесь. Они явятся… скоро явятся… Лора взглянула на «узи». — Кто явится? — Убийцы, — горячо настаивал он. — Они убьют меня в отместку. Убьют вас, убьют Криса. Они скоро будут здесь. Очень скоро. В этот момент его взор прояснился и он твердо выговаривал слова. На его бледном, потном от боли лице появилось выражение ужаса. Значит, она не напрасно занималась стрельбой и боевыми искусствами, опасность была реальной, а не выдумкой истеричной женщины. — Хорошо, — согласилась Лора, — мы тронемся в путь, как только я осмотрю рану: возможно, потребуется перевязка. — Нет! Сейчас же. Немедленно. — Но… — Сейчас же, — настаивал он. Его глаза выражали глубокий страх, и она готова была поверить, что убийцы, о которых он твердил, были не людьми, а исчадиями ада — бездушными, жестокими и непреклонными. — Ладно, — согласилась она. — Уходим сейчас. Он отпустил ее руку. Глаза потеряли осмысленное выражение, он начал опять невнятно бормотать что-то, еле ворочая языком. А когда она выходила из кухни, чтобы подняться наверх и разбудить Криса, то услышала, как ее хранитель в забытьи возбужденно твердит о какой-то непонятной «большой черной машине смерти».Часть II. ПОГОНЯ
Долгая привычка к жизни Внушает нам отвращение к смерти.Сэр Томас Браун
Глава 5. Армия теней
1
Лора зажгла лампу и потрясла Криса за плечо. — Одевайся, милый. Быстро. — Что случилось? — сонно спросил он, протирая глаза кулаками. — Сюда вот-вот заявятся плохие люди, нам надо успеть скрыться. Поторапливайся. Крис провел целый год, не только горюя о смерти отца, но и готовясь к моменту, когда обманчиво мирный ход событий будет нарушен новым неожиданным хаосом, что является законом человеческого существования, хаосом, который время от времени вырывается наружу, подобно лаве пробудившегося вулкана, как это случилось в день смерти отца. Крис наблюдал, как его мать становилась первоклассным стрелком, как она собрала целый арсенал оружия, вместе с ней изучал приемы самообороны, и все это время оставался ребенком с детскими понятиями и поведением и на первый взгляд ничем не отличался от своих сверстников, разве только грустью, что было вполне оправданно после смерти отца. Но в час испытаний трудно было представить, что ему всего восемь лет; он не ныл и не задавал лишних вопросов; он не капризничал и не упрямился, а подчинялся во всем. Он отбросил одеяло, быстро соскочил с постели и поспешил к стенному шкафу. — Приходи на кухню, — сказала Лора. — Ладно, мама. Она гордилась тем, что он понимает серьезность положения и не задержит их отъезда, но была опечалена, что в восемь лет он уже понимал, как коротка и жестока жизнь, и в кризисный момент действовал с быстротой и хладнокровием взрослого. На Лоре были джинсы и синяя в клетку фланелевая рубашка, она добавила к этому шерстяной свитер, поменяла ботинки на низком каблуке на высокие теплые резиновые сапоги Лора рассталась с одеждой Дании после его смерти, и у нее не было куртки для раненого человека на кухне. Но у нее было много одеял, и она прихватила пару из бельевого шкафа в коридоре. Потом она вернулась к себе в кабинет, открыла сейф и вытащила оттуда странный черный пояс с медными частями, который ее хранитель дал ей год назад. Она засунула его в свою вместительную, похожую на портфель сумку с ремнем через плечо. Внизу она вытащила из шкафа в передней голубую лыжную куртку и взяла «узи», висевший на двери. Она прислушалась, не доносится ли снаружи людских голосов или звуков автомобиля, но все было тихо. В кухне она положила второй автомат на стол рядом с первым, затем склонилась к человеку на полу, который был без сознания. Она расстегнула его мокрый халат, затем рубашку и увидела пулевую рану на груди. Она была значительно выше сердца, что можно было считать удачей, но он потерял много крови, и вся его одежда намокла от нее. — Мама, я здесь. — Крис стоял в дверях, одетый для холодной зимней ночи. — Возьми один автомат на столе и еще один с двери кладовой и отнеси их в джип. — Это он, — сказал Крис, глядя широко открытыми глазами на Штефана. — Да, это он. Он пришел сюда в таком виде, уже раненный. И еще возьми два револьвера, один здесь в ящике стола, а другой в столовой. И будь осторожен, чтобы — Не беспокойся, мама, — ответил Крис и отправился выполнять поручение. Как можно осторожней Лора перевернула своего хранителя на правый бок — он застонал, но не очнулся, — чтобы убедиться, есть ли пулевое отверстие на спине. Оно там было. Пуля прошла насквозь и вышла наружу под лопаткой. Вся рубашка на спине тоже пропиталась кровью, но ни входное, ни выходное отверстия больше не кровоточили; если и было серьезное кровотечение, то внутреннее, и она не могла его обнаружить или остановить. Под одеждой на нем был такой же пояс. Лора его расстегнула и сняла. Пояс никак не влезал в сумку, и Лоре пришлось вынуть все из ее бокового отделения и засунуть пояс туда. Она снова застегнула рубашку и задумалась, стоит ли снимать с него мокрый халат. Потом решила, что будет трудно стащить рукава. Осторожно поворачивая с боку на бок, она завернула его в серое шерстяное одеяло. Пока Лора закутывала раненого, Крис через внутреннюю дверь, которая соединяла прачечную и гараж, отнес в машину автоматы и револьверы. Потом привез тележку — низкую платформу на колесиках размером два на четыре фуга, забытую года полтора назад грузчиками, которые привезли мебель. Он въехал на ней в кухню, как на скейтборде, и объявил: — Нам надо захватить с собой ящик с патронами, но он слишком тяжелый. Я подвезу его на тележке. Довольная его смекалкой, Лора сказала: — У нас двенадцать патронов в двух револьверах и тысяча двести на три «узи», думаю, этого хватит, что бы ни случилось. Подвези-ка сюда тележку. Быстрее. А я все думала, как нам донести его до джипа. Это выход. Они действовали быстро, словно прошли подготовку именно для такого чрезвычайного случая, и все же Лоре казалось, что они недостаточно спешат. У нее дрожали руки и замирало сердце. Каждую секунду она ожидала стука в дверь. Крис придерживал тележку, пока Лора втаскивала на нее раненого. Сначала они подсунули тележку ему под голову и плечи, чтобы тот не соскользнул на пол. Им пришлось потрудиться, чтобы преодолеть порог между прачечной и гаражом, но в конце концов они ввезли тележку с человеком в гараж, рассчитанный на три машины. «Мерседес» стоял слева, джип справа, место посередине было свободно. Они подвезли тележку к джипу. Крис открыл заднюю багажную дверь. Он расстелил на полу машины небольшой гимнастический мат. — Молодец, — похвалила Лора. Вместе они с трудом втащили человека внутрь. — Неси сюда еще одно одеяло и захвати на кухне его ботинки, — попросила Лора. Когда Крис вернулся, Лора уже устроила своего хранителя в машине. Они закрыли его ноги вторым одеялом и поставили рядом мокрые ботинки. Лора захлопнула багажную дверь и сказала: — А теперь, Крис, садись на переднее сиденье и пристегни ремень. Она поспешила в дом. Сумка с поясами и всеми ее кредитными карточками лежала на кухонном столе; она перекинула ее через плечо. Взяла третий «узи» и уже было Направилась к двери прачечной, но не успела сделать и нескольких шагов, как сильный удар потряс заднюю дверь. Она развернулась, направив на дверь автомат. Снова мощный удар, но стальная основа двери и крепкие засовы не поддавались. И тогда начался настоящий ад. Раздалась автоматная очередь. Лора бросилась к холодильнику и укрылась за ним. Они пытались выстрелами высадить заднюю дверь, она устояла, но тряслась, и пули пробивали стену вокруг укрепленной рамы, оставляя дыры в штукатурке. Раздалась очередь второго автомата, и вылетели стекла на кухне и в соседних комнатах. Металлические шторы заплясали на креплениях. Их планки звенели и гнулись под ударами пуль; осколки стекол кучами засыпали пол и подоконники. Дверцы кухонных шкафов трескались и раскалывались, выстрелы выбивали куски из кирпичной кладки стен, пули рикошетом отскакивали от медной вытяжки над плитой, оставляя вмятины и царапины. Развешанные на крючках медные сковороды и кастрюли отзывались на выстрелы разнообразным звоном. Выстрел погасил одну из ламп на потолке. Наконец одна из металлических штор сорвалась с крепления, и тут же десяток пуль ударили в дверь холодильника, совсем рядом с Лорой. Сердце выскакивало у нее из груди, а прилив адреналина до предела обострил чувства. Сначала она решила бежать к джипу в гараже и попытаться выбраться отсюда, пока они сообразят, в чем дело, но древний инстинкт предков-воинов подсказал ей, что лучше остаться. Она плотно прижалась к стенке холодильника, вне линии огня, надеясь, что ее не заденет рикошетом. «Кто вы такие, черт возьми, почему не показываетесь?» — думала Лора. Стрельба прекратилась, Лора оказалась права, подчинившись внутреннему голосу: после заградительного огня появились сами нападавшие. Они начали штурм дома. Первый из них полез через разбитое окно. Лора вышла из-за холодильника, начала стрелять, отбросив его назад, на веранду. Второй человек, в черном, как и первый, вошел через разбитую раздвижную дверь из гостиной — она увидела его на секунду раньше, чем он ее, — и повернула «узи» в этом направлении, поливая огнем все вокруг: кофеварку, кухонный комбайн, кирпичные стены и, наконец, самого бандита как раз в тот момент, когда он направил на нее свой автомат. Она много упражнялась в стрельбе из «узи», но не в последнее время, и удивилась, как легко он подчинялся любому ее движению. Ее также удивило, что она с неохотой убивает этих людей, хотя они явились, чтобы расправиться с ней и ее ребенком; словно мутный поток сточных вод, тошнота подступила к горлу, и Лора с трудом подавила рвоту. Третий человек появился в дверях гостиной, и она готова была убить его и еще сотню подобных, пусть даже против своей воли, но тот, увидев мертвого товарища, метнулся назад и оказался вне линии огня. А теперь скорее к джипу. Она не знала, сколько было нападавших, может, всего трое, двое из них убиты, и в живых остался лишь один; а может, четверо, дюжина или целая сотня, но, сколько бы их ни было, они, конечно, не ожидали встретить упорное сопротивление и ответный огонь, во всяком случае, не от женщины и ребенка; что же касается ее хранителя, то они знали, что он ранен и не вооружен. Поэтому сейчас они в растерянности, они прячутся, обсуждают положение, планируют последующие действия. Возможно, это ее единственный шанс скрыться отсюда на джипе. Она бросилась через прачечную в гараж. Она поняла, что Крис завел мотор, когда услыхал автоматную стрельбу; голубоватый дым клубился у выхлопной трубы. Она подбежала к джипу, и в то же мгновение поползла вверх гаражная дверь: Крис воспользовался пультом дистанционного управления, как только увидел Лору. Когда она уже сидела за рулем, дверь поднялась на треть. Она включила скорость. — Пригнись! Крис немедленно повиновался, пригнувшись на своем сиденье ниже уровня окна. Лора сняла машину с тормоза. Изо всех сил нажала акселератор, так что педаль ушла в пол, и, сдирая резину с шин, сломав радиоантенну, вырвалась из гаража всего на расстоянии ладони от ползущей вверх двери. Большие шины джипа, хотя и без цепей, имели протекторы, пригодные для зимней езды. Они без труда обеспечивали хорошее сцепление с замерзшей дорогой, разбрасывая гравий и ледяную крошку, которые, как шрапнель, вылетали из-под колес. Слева от них появилась темная фигура — человек в черном, который, утопая в снегу, бежал наперерез через лужайку; его отделяло от них сорок-пятьдесят футов, и он сливался, растворялся в темноте, казался тенью, если бы за воем мотора Лора не различала звук автоматной очереди. Пули ударяли в бока машины, пробили заднее окно, а она все жала на газ, чтобы оказаться вне досягаемости; еще несколько секунд — и они спасены; ветер со свистом врывался в разбитое окно. Она молила, чтобы пуля не попала в колесо, и слышала, как новые очереди стучат по металлу; а может быть, это был гравий, летевший из-под колес. Только когда наконец Лора достигла шоссе, она почувствовала себя в безопасности. Она затормозила перед левым поворотом, взглянула назад и приметила вдалеке зажженные фары в открытом гараже. Значит, убийцы добрались до их дома без машины, каким-то непонятным образом, возможно, они использовали эти странные пояса, и вот теперь на ее «Мерседесе» отправлялись за ней в погоню. Она собиралась повернуть налево и по шоссе, никуда не сворачивая, добраться до скоростной дороги, а по ней до города Сан-Бернардино, где были люди и спасение, где вооруженные автоматами преступники в черном не посмеют открыто на нее напасть и где она найдет врача для своего раненого хранителя. Но, увидев позади свет фар и подчиняясь неосознанному чувству самосохранения, она повернула направо, на север, к озеру Биг-Бэр. Поверни Лора налево, они оказались бы на том самом роковом спуске, где год назад погиб Дании, и Лора интуитивно, почти суеверно почувствовала, что сейчас нет более опасного для них места, чем этот двухполосный спуск длиной в полмили. Дважды судьба назначала им смерть на этом холме: первый раз, когда грузовик Робертсонов потерял управление, и второй раз, когда в них стрелял Кокошка. Лора понимала, что жизнь чередовала положительные и отрицательные моменты и что судьба, если ее хоть раз обманули, стремилась восстановить предопределенный ход событий. И хотя она не могла разумно объяснить, почему им грозит беда, поверни они налево, в глубине души она точно знала, что смерть уже поджидает их на этом пути. Когда они повернули направо и поехали на север, к озеру, по шоссе между стоявших темной стеной хвойных деревьев, Крис выпрямился и оглянулся назад. — Они едут за нами, — пояснила Лора, — но они нас не догонят. — Это они убили папу? — Думаю, они. Но тогда мы о них ничего не знали и не подготовились к встрече. «Мерседес» теперь тоже выехал на шоссе, но они все время теряли его из виду, так как дорога извивалась, поворачивала, то шла вверх в гору, то вниз под уклон. «Мерседес» находился примерно в четверти мили от них, но расстояние сокращалось, потому что у него был более мощный мотор. — Кто они? — спросил Крис. — Не знаю, милый. Не знаю, почему они хотят причинить нам зло. Но я знаю, что это выродки, подонки, я их встречала еще в Касвелл-Холле и точно усвоила, что таким нельзя уступать, надо отвечать ударом на удар, потому что они уважают только силу. — Ну, мама, ты у меня молодец. — И ты, малыш, тоже не подкачал. Это ты здорово придумал завести мотор, когда началась стрельба, а потом открыл дверь. Это, наверное, нас и спасло. «Мерседес» позади еще больше сократил расстояние. Это была модель, которая отлично держала дорогу и на шоссе двигалась куда быстрее джипа. — Мама, они нас догоняют. — Вижу. — И очень быстро. Приближаясь к озеру, Лора догнала развалюху «Додж» — пикап с разбитым задним фонарем, ржавым бампером и множеством наклеек вроде: «Я подвожу только блондинок» или «Машина шефа мафии», которые, по всей видимости, и держали части машины вместе. Пикап пыхтел на скорости тридцать миль, явно не превышая установленного ограничения. Стоило Лоре замешкаться, и «Мерседес» сел бы им на хвост; а вблизи преступники могли пустить в ход оружие. Они находились в зоне запрещения обгона, но Лора видела свободную дорогу впереди и рискнула: изо всех сил нажав на газ, она обошла пикап слева и снова вернулась на правую сторону уже впереди грузовичка. Теперь прямо перед ними ехал «Бьюик» со скоростью сорок миль, и Лора обогнала и его до того, как дорога стала слишком извилистой. — Они отстали! — закричал Крис. Теперь Лора шла на скорости пятьдесят пять миль, что было многовато для некоторых поворотов, но она удерживала джип на дороге, и они уже стали надеяться, что им удастся уйти. Но у озера дорога разделилась на две, и ни «Бьюик», ни старый пикап не последовали за ними к городу Биг-Бэр, оставив их один на один с «Мерседесом», который тут же стал их нагонять. Дома теперь были повсюду, и на склоне справа, и на равнине слева, у озера. Некоторые из них стояли темные, видимо, в них жили только летом или в зимние уик-энды, но окна других светились среди деревьев. Лора знала, что стоит ей свернуть на любую улочку или проезд к дому, как люди тут же придут к ним на помощь. Без колебаний откроют им дверь. Здесь в горах царила атмосфера доверия, и люди не боялись незнакомых ночных гостей. «Мерседес» стремительно приближался, и водитель переключил свет фар с ближнего на дальний и обратно, как бы издевательски говоря: «Эй, Лора, а вот и мы, теперь тебе крышка, а ты думала, мы тебя только попугаем, нет, от нас не уйдешь, так и знай» Если она попробует укрыться в одном из ближних домов, они наверняка последуют за ней и убьют не только ее и Криса, но и приютивших их хозяев. Возможно, преступники не решились бы расправиться с ней в центре Сан-Бернардино или Риверсайда, опасаясь встречи с полицией, но их не испугает кучка здешних зевак, и скольких бы людей они ни убили, они без труда избегнут ареста, нажав желтую кнопку у себя на поясе и скрывшись, как это сделал ее хранитель год тому назад. Лора не имела никакого представления о том, куда они исчезают, но подозревала, что полиции туда не добраться. Она не могла подвергать опасности невинных людей и, не сбавляя скорости, мчалась мимо домов. «Мерседес» был совсем рядом. — Мама… — Я вижу, милый. К сожалению, город Биг-Бэр был городом только по названию. Это был даже не городок, а скорее деревня. Здесь не было лабиринта улиц, где можно было оторваться от преследователей, а немногочисленные полицейские вряд ли справились бы с вооруженными автоматами фанатиками. Несколько машин проехали навстречу. Лора догнала на своей стороне серый «Вольво» и обошла его с опасностью для жизни на участке с плохой видимостью, потому что у нее не было выбора: «Мерседес» шел сзади почти вплотную. Преступники обогнали «Вольво» с таким же безрассудством. — Как там наш пассажир? — спросила Лора. Не отстегивая ремня, Крис повернулся, чтобы посмотреть назад. — Вроде бы ничего. Только его швыряет из стороны в сторону. — Тут я ничего не могу поделать. — Кто он, мама? — Я почти ничего о нем не знаю, — ответила Лора, — но, когда мы выберемся из этой переделки, я тебе кое-что расскажу. Я не говорила тебе об этом, потому что сама мало что понимала и боялась, что это будет опасно для тебя. Но сейчас-то уж куда опасней. Так что я все тебе потом расскажу. При условии, что это «потом» будет. Они уже проехали три четверти пути по берегу озера, выжимая из джипа последнее, с «Мерседесом» на хвосте, когда Лора увидела поворот направо. Это была горная дорога длиною всего в десять миль, которая сокращала путь миль на тридцать, а затем снова вливалась в шоссе № 38 около Бартон-Флэтс. Насколько она помнила, дорога имела твердое покрытие лишь в начале и в конце, а ее основная часть длиной в шесть-семь миль была грунтовой. «Мерседес» не имел четырех ведущих колес, как джип, и хотя у него были зимние шины, на них не было цепей. Вряд ли люди в «Мерседесе» знали, что горная дорога была большей частью немощеной, с рытвинами и колдобинами, покрыта льдом, а в некоторых местах еще и занесена снегом. — Держись! — предупредила Лора Криса. Она нажала на тормоза только в последний момент, при повороте, и скорость была столь велика, что джип занесло, а шины завизжали. Машина задрожала, словно старая лошадь, которую заставляют брать непосильное препятствие. «Мерседес», хотя его водитель не знал о намерениях Лоры, более ловко провел этот маневр. Дорога поднималась все выше, природа становилась все более дикой, «Мерседес» позади шел вплотную. Ближе, еще ближе. Ветвистая молния распласталась на юге небосвода. Не так близко, как когда они были в доме, но тем не менее превратив ночь в день. Даже за ревом мотора Лора слышала раскаты грома. — Мама, что это такое? — спросил Крис, в изумлении наблюдая за разбушевавшейся стихией. — Что происходит? — Не знаю, — ответила Лора; ей пришлось перекрикивать какофонию мотора, работавшего на больших оборотах, и спектакль, который разыгрывался на небе. Шум заглушал стрельбу, но она слышала звонкие шлепки пуль по кузову джипа; одна из пуль попала в спинку переднего сиденья, и Лора не только услышала глухой удар, но и почувствовала сотрясение. Она начала крутить руль то вправо, то влево, делая зигзаги, чтобы затруднить попадание, и у нее закружилась голова от резких поворотов и вспыхивающего света молний. То ли они перестали стрелять, то ли не попадали в цель, только она не слышала больше ударов пуль. К сожалению, при движении зигзагами ей пришлось сбавить скорость, и они стали легкой добычей для «Мерседеса». Она пользовалась боковыми зеркалами вместо зеркала заднего вида. Хотя часть заднего стекла сохранилась, оно было пронизано множеством мелких трещин, что делало его мутным и бесполезным. Они шли бампер в бампер. Как и прежде, молния и гром так же внезапно прекратились, как и начались. Джип взял подъем, и впереди, в середине спуска, кончалась мощеная дорога. Лора перестала метаться из стороны в сторону, прибавила скорость. Когда джип сошел с гудрона, он на секунду замешкался, как бы удивленный переменой качества дороги, но потом уверенно двинулся вперед по замерзшей, покрытой снегом и льдом грязи. Он преодолел несколько колдобин, пересек небольшую долину с нависавшими над дорогой ветвями деревьев и начал подъем на следующий холм. В боковом зеркале Лора видела, как «Мерседес» по грунтовой дороге проехал долину и тоже начал подъем вслед за ними. Но, когда джип достиг следующей вершины, «Мерседес» позади начал вязнуть в грязи. Он скользил, его заносило, огни фар метались из стороны в сторону. Вместо того чтобы повернуть руль вправо, в сторону заноса, водитель дал круто влево. Колеса пошли юзом. «Мерседес» заскользил вправо и назад, пока заднее колесо не попало в канаву у обочины, передние фары теперь светили вверх, под углом к дороге. — Они застряли! — объявил Крис. — Им понадобится полчаса, чтобы выбраться. — Лора миновала вершину и начала следующий спуск по темной горной дороге. Вместо того чтобы радоваться своей удаче или хотя бы испытывать чувство облегчения, Лора по-прежнему терзалась страхом. У нее было предчувствие, что им все еще грозит опасность, а теперь она верила своим предчувствиям больше, чем двадцать лет назад, когда она догадалась, что Бледный Угорь навестит ее ночью в комнате у лестницы, где она была единственной обитательницей и где он оставил ей под подушкой пачку леденцов. Предчувствие было сигналом из области подсознательного, которое непрерывно и активно перерабатывало информацию, в то время как сознательное начало эту информацию начисто отвергало. Что-то было не так. Но что?* * *
Они двигались со скоростью не более двадцати миль в час по узкой, извилистой, неровной, ухабистой и скользкой грунтовой дороге. Некоторое время дорога шла по верху каменистой гряды, лишенной растительности, затем повернула вправо вниз и пошла по дну ущелья, где по обе стороны росли густые мощные сосны с толстыми ветвями. Позади нее хранитель бормотал что-то непонятное в горячечном бреду. Лору беспокоило его состояние, но она не решалась ехать быстрее. Первые две мили, когда они оторвались от своих преследователей, Крис молчал. Потом наконец спросил: — Там, дома… ты кого-нибудь застрелила? Лора ответила не сразу. — Да. Двоих. — Вот и хорошо. Обеспокоенная мрачным удовлетворением, которое прозвучало в этих коротких словах, Лора сказала: — Нет, Крис, убивать — это не такое уж большое удовольствие. Это не для меня. — Они заслуживали смерти, — настаивал он. — Правильно. И все-таки убивать нелегко. Никакого удовлетворения… Только отвращение. И грусть. — Я хотел бы прикончить хотя бы одного из них, — объявил он сквозь зубы с холодной яростью, несвойственной ребенку его возраста. Она взглянула на сына. Тени обострили черты его лица, и в желтом свете от приборной доски он выглядел старше своих лет; она видела лицо взрослого человека, каким оно будет через много лет. Когда дно долины стало слишком скалистым, дорога вновь пошла вверх вдоль уступа горной гряды. Лора не отрывала глаз от неровногопути. — Мы потом поговорим об этом. А сейчас слушай меня внимательно и попытайся понять. В этом мире существует много вредных теорий. Ты знаешь, что такое «теория»? — Немного знаю. Нет… не знаю. — Тогда скажем так: люди верят в разные вредные для них веши. Но существуют две вещи, в которые верят самые разные люди, и это самые плохие, самые опасные, самые вредные изо всех вещей. Некоторые люди считают, что насилие является наилучшим способом разрешения проблем; и они избивают и даже убивают тех, кто с ними не согласен. — Как эти типы, которые гонятся за нами. — Верно. Это именно такие люди. Это самое страшное, потому что насилие в свою очередь порождает еще большее насилие. К тому же, если разрешать споры с помощью оружия, то следует забыть о справедливости, мирной жизни, надежде. Ты понимаешь, что я говорю? — Вроде понимаю. А вторая вредная теория? — Это пацифизм. Прямая противоположность первой. Пацифисты считают, что нельзя поднять руку на другого человека, что бы тот ни совершил или собирался совершить. Если пацифист стоит рядом с родным братом, а брата хотят убить, то он станет уговаривать брата бежать, но не возьмет в руки оружие, чтобы остановить убийцу. — И он позволит убить своего брата? — удивился Крис. — Именно так. Если дело дойдет до самого плохого, то он скорее позволит убить брата, чем нарушит свои принципы и сам станет убийцей. — Это какая-то чепуха. Дорога снова начала спускаться в долину. Низкие ветви сосен царапали крышу машины; комки снега падали на крышу и ветровое стекло. Лора включила стеклоочистители, наклонилась вперед, вглядываясь в дорогу, думая о том, как доходчивее представить свою точку зрения. За прошедший час они видели много жестокого и страшного; впереди их ждали другие подобные испытания, и Лора стремилась к тому, чтобы у Криса было правильное отношение к этим вопросам. Она не хотела, чтобы оружие и грубая сила заменили для него голос разума. С другой стороны, она не хотела, чтобы он подчинился насилию и жил в страхе перед ним, принося в жертву свое достоинство, а в конечном итоге и свою жизнь. Наконец она сказала: — Некоторые пацифисты в душе просто трусы, а другие искренне верят, что можно допустить гибель невинного человека, но не пойти на убийство ради его спасения. Тут они ошибаются, потому что, если ты не борешься со злом, ты становишься его пособником. Такие люди ничуть не лучше тех, кто нажимает на курок. Наверное, тебе это непонятно, и тебе надо хорошенько подумать и во всем разобраться; но важно понять, что можно занимать промежуточную позицию между этими двумя теориями. Старайся избегать насилия. Никогда его не разжигать. Но если кому-то это удастся, то защищай себя, своих друзей, всякого, кто оказался в беде. Мне было неприятно убивать тех людей в доме. Я не чувствую себя героиней. Я не горжусь тем, что их убила, но, с другой стороны, и не стыжусь этого. Я не хочу, чтобы ты гордился мною или думал, что убийство дало мне удовлетворение, что это было своего рода возмездие за смерть твоего отца. Это не так. Крис молчал. Лора спросила: — Тебе трудно разобраться во всем этом? — Нет, просто мне надо подумать. Сейчас у меня это не получается. Потому что я хочу убить всех до одного, тех, из-за кого… из-за кого умер отец. Но я разберусь в этом, мама. Я постараюсь стать другим человеком. Лора улыбнулась. — Я верю тебе, Крис. Во время разговора с Крисом и последовавшего за ним короткого молчания Лору не оставляло чувство, что где-то рядом их по-прежнему подстерегает опасность. Они уже проехали примерно семь миль по горной дороге, и до выезда на шоссе № 38 оставалась миля грунтовой и три мили мощеной дороги. С каждым мгновением в ней росла уверенность, что она что-то упустила и что впереди их ожидает новая беда. Она внезапно остановилась на вершине еще одного холма, перед самым спуском вниз, последним спуском перед выездом на равнину. Она выключила мотор и огни. — В чем дело? — спросил Крис. — Ничего серьезного. Просто мне надо немного подумать, посмотреть, как там наш пассажир. Она вышла из машины и подошла к багажной двери джипа. Открыла ее; осколки стекла посыпались на землю у ее ног. Лора влезла внутрь, легла рядом со своим хранителем и проверила его пульс. Пульс был слабым, пожалуй, слабей, чем прежде, но он был ровным. Она положила ладонь ему на лоб и обнаружила, что он пылает. Она попросила Криса достать фонарь из перчаточного ящика. Приподняла одеяло и осмотрела рану, проверила, не усилилось ли кровотечение. Рана выглядела неважно, но, несмотря на тряску, почти не кровоточила. Она опять закутала его в одеяло, вернула фонарь Крису, вылезла из джипа и закрыла багажную дверь. Лора вытащила остатки заднего стекла и бокового на стороне водителя. Повреждения стали не такими заметными и вряд ли привлекли бы внимание полицейского или кого-либо еще. С минуту она постояла на холодном ветру около машины, глядя на темные деревья и горы, пытаясь найти связь между интуицией и здравыми выводами, основанными на фактах. Почему она была уверена, что впереди ее ждут новые неприятности и что ночь кровавых столкновений еще не кончилась? Ветер рвал в клочья высокие облака и гнал их к западу, но внизу, у земли, воздух был неподвижен. Лунный свет пробивался через неровные разрывы и призрачным светом заливал зимний пейзаж из холмов и долин, темной массы хвойных деревьев и отдельных скалистых вершин. Лора посмотрела вдаль, где через пару миль горная дорога вливалась в шоссе № 38: там все казалось спокойным. Она огляделась вокруг и не увидела на склонах гор Сан-Бернардино ни единого огонька, никаких признаков присутствия человека; везде царили первозданная чистота и покой. Она вновь задала себе те самые вопросы, которые задавала уже целый год и не находила на них ответа. Откуда явились эти люди с поясами? С какой планеты или галактики? Но это невозможно. Они были такими же людьми, как она сама. Может быть» это пришельцы из России? Может быть, пояса служили для переноса материи? Механизмами, подобными камере телепортации в старом фильме «Муха». Это объясняло, откуда у ее хранителя такой акцент, но не объясняло, почему он ни капли не состарился за четверть века; к тому же она не верила, что Советский Союз или какая-либо другая страна занимаются разработкой подобных методов транспортировки материи. Оставалось одно: путешествие во временим пространстве. Лора уже давно раздумывала над таким вариантом, но очень сомневалась в своих выводах и не говорила ничего даже Тельме. Однако если ее хранитель появлялся в ее жизни в решающие моменты, перемещаясь во времени, то он мог совершать эти скачки всего за неделю или за месяц во временим измерении своей эпохи, когда для нее, Лоры, прошли уже целые годы; именно поэтому она не видела у него признаков старения. Она узнает от него правду, а пока должна довольствоваться теорией машины времени. Он явился к ней из неведомого будущего, видимо, весьма неприятного, потому что, говоря о поясе, он заметил: «Вы не захотите оказаться там» — и при этом выглядел подавленным и испуганным. Она не имела ни малейшего представления, отчего такой путешественник во времени является для защиты именно ее, а не кого-то другого от вооруженных наркоманов и потерявших управление грузовиков; эти мысли заводили ее в тупик. Ночь была тихой, темной и холодной. Беда поджидала их впереди. В этом у Лоры не было сомнений, но она не знала, какова эта беда и откуда она придет. Когда она снова села за руль, Крис спросил: — А теперь в чем дело? — Ты увлекаешься всякими там «Звездными войнами», «Звездными путешествиями» и прочими подобными штучками, так, может, ты станешь моим экспертом в этих вопросах и поможешь мне. Ведь я обращаюсь к экспертам, когда пишу книгу. Ты мой эксперт в мире загадочного и неведомого. Мотор был выключен, и только пробивавшийся через облака лунный свет освещал джип внутри. Но она могла разглядеть лицо Криса, потому что ее глаза привыкли к темноте. Он моргнул и удивленно спросил: — О чем ты, мама? — Крис, я тебе уже обещала, что расскажу все, что знаю о раненом человеке, о том, как он и раньше непонятным образом появлялся в моей жизни, но у нас сейчас нет времени. Так что не забрасывай меня вопросами. Хорошо? Просто представь себе, что мой хранитель — им я его считаю — путешествует во времени и прибыл к нам из будущего. Положим, он обходится без тяжелой и неуклюжей машины времени. Положим, вся эта машина находится у него в поясе, который он носит на талии под одеждой, и что, когда он прибывает из будущего, он появляется неизвестно откуда, прямо из воздуха. Ты следишь за моей мыслью? Крис смотрел на нее, широко открыв глаза. — Ты хочешь сказать, что он такой путешественник? — Очень возможно. Мальчик отстегнул ремень безопасности, встал на коленки на сиденье и посмотрел на человека, лежавшего позади. — Ну и ну, уписаться можно. — Учитывая особые обстоятельства, — сказала Лора, — я прощаю тебе непотребное выражение. Крис смущенно взглянул на нее. — Извини. Подумать только, путешественник во времени! На него нельзя было долго сердиться, да она и не сердилась; к нему внезапно вернулась ребяческая способность бурно удивляться и восхищаться, чего она не видела уже целый год, даже на Рождество, когда его партнером в играх был Джейсон Гейне и они от души веселились. Он был охвачен любопытством и нетерпением при мысли о немедленной встрече с таинственным путешественником. Это была одна из светлых сторон жизни: жестокая и беспощадная, жизнь одновременно была загадочной и полной неожиданностей; случалось, эта непредсказуемость граничила с чудом, и свидетели подобных чудес, даже самые отчаявшиеся люди, вновь обретали смысл жизни; пресытившиеся забывали о скуке, а глубоко разочарованные излечивались от тоски и меланхолии. Лора сказала: — Слушай дальше. Когда такой путешественник хочет покинуть наше время и вернуться в свое, он нажимает на кнопку на специальном поясе. — Можно посмотреть на этот пояс? — Успеешь. Помни, ты обещал не задавать много вопросов. — Ладно. — Он еще раз посмотрел на человека сзади, затем сел на место и приготовился слушать дальше. — Он нажимает кнопку, и что происходит? — Он исчезает. — Вот это да! А когда он прибывает из будущего, он тоже неизвестно откуда появляется? — Этого я не знаю. Я никогда не видела его прибытия. Хотя мне кажется, что оно сопровождается молнией и громом. — Ага, та самая молния сегодня! — Да, но не всегда молния. Так вот, положим, он прибывает к нам из будущего, чтобы защитить нас от опасности… — Как тогда с грузовиком. — Мы не знаем, почему он нас защищает, и не узнаем, пока он сам не расскажет. А теперь представь себе, что есть люди в будущем, которые не хотят, чтобы нас защищали. Это уже совсем для нас непонятно. Но одним из них был Кокошка, который застрелил твоего отца… — И типы, которые сегодня напали на наш дом, — продолжил Крис, — они тоже из будущего? — Думаю, что да. Они хотели убить моего хранителя, тебя и меня. Вместо этого мы убили нескольких из них, а двое застряли в «Мерседесе». Так вот, как ты думаешь, малыш, что они теперь предпримут? Ты мой эксперт. Какие у тебя соображения? — Дай мне подумать. Лунный свет тускло отражался в грязном капоте джипа. Внутри становилось холодно; изо рта вырывались облачка пара, и стекла начали запотевать. Лора включила мотор, печку, обогреватель стекол, но не свет. Крис начал: — Видишь ли, поскольку их миссия провалилась, они не будут здесь сшиваться. Они вернутся в будущее, откуда и заявились. — Эти два типа в нашем «Мерседесе»? — Да. Возможно, они уже нажали кнопки на поясах тех, кого ты пристрелила, и отправили трупы обратно в будущее, так что дома мы ничего не найдем, никаких следов того, что там побывали эти люди. Разве что пятна крови. Поэтому те двое или трое, которые застряли в канаве, наверное, отказались от погони и вернулись к себе обратно. — Ты думаешь, их там больше нет? А не может так случиться, что они вернутся пешком в Биг-Бэр, украдут машину и попробуют нас разыскать? — Нет. Это слишком сложно. У них есть способ полегче найти нас, чем рыскать на машине, как обычные бандиты. — Какой же? Крис наморщил лоб и, прищурившись, посмотрел через стекло на снег, сияющую луну и темень впереди. — Видишь ли, мама, когда они потеряли наш след, они нажали на кнопки на поясах и возвратились к себе домой в будущее, а потом снова сюда вернулись, чтобы устроить нам новую ловушку. Они знали, что мы поехали этой дорогой. Вернее всего, вечером они совершили еще одно путешествие в наше время, только еще пораньше, и теперь поджидают нас в конце дороги, как мышь у мышеловки. Да, они наверняка там! Это точно. — Но почему бы им не заявиться сюда еще раньше, раньше первого появления у нас в доме, и напасть на нас еще до того, как мой хранитель нас предупредил? — Это парадокс, — сказал Крис. — Ты знаешь, что это такое? Слишком сложное слово для мальчика его возраста, но Лора ответила: — Да, знаю. Что-либо противоречащее здравому смыслу, но возможное. — Видишь ли, мама, все дело в том, что путешествие во времени нашпиговано всякими возможными парадоксами. Вещами, которых не может быть, которые не должны быть и которые тем не менее имеют место. — Он говорил возбужденным голосом, каким обычно описывал события его любимых фантастических фильмов, но с еще большей горячностью, возможно, потому, что это была реальность, а не вымысел, еще более поразительная, чем выдумка. — Вот если бы ты вернулась в прошлое и вышла замуж за собственного дедушку. Ты была бы тогда собственной бабушкой. Если путешествие во временном пространстве возможно, то возможен и такой вариант, только как ты можешь вообще родиться, если твоя настоящая бабушка никогда не выходила замуж за твоего дедушку? Это парадокс! А если бы ты вернулась в прошлое, встретила свою маму, когда она была еще девочкой, и случайно ее убила? Значит, ты прекратила бы существовать еще до того, как ты родилась? Но если бы ты не родилась, то как бы ты могла вернуться в прошлое? Разве это не парадокс? Лора смотрела на него в полутьме джипа, и ей казалось, что перед ней совсем другой мальчик, не тот, каким был прежде. Она, конечно, всегда знала, что он увлекается космическими историями, как большинство современных детей, независимо от их возраста. Но никогда прежде она по-настоящему не интересовалась, как эти вещи формировали его сознание. Внутреннее воображение американских детей конца двадцатого века было явно богаче фантазии детей любой прошлой эпохи, так как питалось оно не сказками о феях, волшебниках и привидениях, которыми довольствовались прошлые поколения детей; новое поколение научилось мыслить такими отвлеченными понятиями, как пространство и время, на значительно более высоком уровне, чем было их действительное интеллектуальное и эмоциональное развитие. Лоре казалось, что она беседует одновременно с маленьким мальчиком и специалистом по космическим ракетам, которые сосуществовали в одном и том же теле. В некоторой растерянности она спросила: — Но если… если эти люди не сумели убить нас во время первого путешествия сегодня, почему бы им не совершить второе раньше первого и убить нас до появления моего хранителя? — Видишь ли, твой хранитель уже появился во временном потоке, чтобы предупредить нас. Поэтому если бы они вернулись сюда до его предупреждения, то как бы он сумел предупредить нас и как бы мы могли оказаться здесь целыми и невредимыми? Парадокс! Он рассмеялся и захлопал в ладоши, как волшебник, радующийся своей особо удачной выдумке. Он восхищался своей сообразительностью, и у Лоры голова шла кругом от попытки разобраться в этой сложной проблеме. Крис продолжал: — Одни считают, что путешествие во времени вообще невозможно из-за парадоксов. А другие считают его возможным при условии, что путешествие в прошлое не создаст парадоксов. Если это так, тогда наши преследователи не могут совершить второе, более раннее путешествие, потому что двоих из них уже убили во время первого. Они не могут участвовать во втором, потому что они уже мертвы, а это и есть парадокс. Но те типы, которых ты не убила, а также кто-то из новых могут отправиться в новое путешествие и подстеречь нас в конце этой дороги. — Он наклонился, вглядываясь вперед через покрытое грязью стекло. — Вот отчего все эти молнии, когда мы делали зигзаги, чтобы избежать попадания, — это прибывали новые люди из будущего. Могу поклясться, что они поджидают нас где-то на равнине, затаились там, внизу, в темноте. Растирая виски пальцами, Лора сказала: — Но, если мы повернем обратно и избежим ловушки, они догадаются, что мы их перехитрили. И совершат третье путешествие назад во времени, вернутся к «Мерседесу» и прикончат нас, когда мы будем возвращаться тем же путем. Они все равно нас достанут, как бы мы ни поехали. Крис отрицательно покачал головой. — Нет, когда они догадаются, что мы их перехитрили, — это примерно через полчаса, — мы уже проедем мимо «Мерседеса». — Крис не мог спокойно сидеть на месте от возбуждения. — Поэтому, если они задумают третье путешествие назад во времени, чтобы подстеречь нас в начале этой дороги, когда мы будем возвращаться, им это не удастся, потому что мы уже минуем эту дорогу и будем в безопасности. Вот тебе еще один парадокс! Видишь ли, мама, они вынуждены подчиняться правилам игры. Они не могут играть без правил. Правила, вот главное, и тут они накрылись! Никогда за всю ее жизнь у Лоры не было такой сильной головной боли; казалось, что голова раскалывается на части. Чем больше она старалась разобраться во всех этих путешествиях и придумать, как скрыться от банды снайперов из будущего, тем невыносимей становилась боль. Наконец она сказала: — Сдаюсь, я ничего в этом не смыслю. Наверное, мне все эти годы надо было смотреть «Звездные войны» и читать фантастику Роберта Хайнлайна, вместо того чтобы прикидываться взрослой. Вот что я тебе скажу: теперь я во всем полагаюсь на тебя, ты их должен перехитрить. Попробуй разгадать их планы. У них одна цель: убить нас. Как они это могут сделать без этих парадоксов? Сейчас мы немедленно поворачиваем и едем обратно тем же путем, мимо «Мерседеса», и если ты не ошибся, то там нас никто не будет поджидать. Тогда где же? Будет ли это еще сегодня? Продумай все хорошенько и скажи мне. — Хорошо, мама. — Он широко улыбнулся, удобно расположился на сиденье и, закусив губу, погрузился в раздумье об этой новой игре. Жаль только, что это была не игра. Им грозила смертельная опасность. Они хотели ускользнуть от убийц со сверхчеловеческими возможностями и в этой игре полагались всего-навсего на богатое воображение восьмилетнего мальчика. Лора завела мотор, подала назад, нашла на дороге достаточно широкое место для разворота. Они ехали обратно по той же дороге, направляясь к «Мерседесу» в канаве и городу Биг-Бэр. Лора уже ничего не боялась. В этой сложной ситуации было столько неизвестного и неожиданного, что было не до ужаса. Состояние ужаса никак не сравнимо с состоянием счастья или депрессии, ужас — это величайшее напряжение всех жизненных сил, которое не может длиться бесконечно. Ужас — это кратковременное состояние. Иначе он возрастает до таких размеров, что человек теряет разум или умирает, напуганный до смерти; от вопля ужаса может лопнуть какой-нибудь сосуд в мозгу. Лора не кричала и, хота страдала от головной боли, все же надеялась, что сохранит ясное сознание. Просто она погрузилась в омут продолжительного, гнетущего, но не смертельного страха, скорее сходного с чувством постоянного беспокойства. Ну и денек это был! А этот год? А вся жизнь?2
Они проехали мимо застрявшего в канаве «Мерседеса» до самого конца горной дороги и не встретили никаких людей с автоматами. При выезде на шоссе, которое шло вдоль озера, Лора остановилась и посмотрела на Криса. — Ну, что скажешь? — Пока мы в пути, — ответил он. — и пока мы едем в места, где мы прежде никогда не были или редко бываем, нам ничто не грозит. Они не могут нас найти, если не знают, где мы находимся. Тут они на положении обычных подонков, о которых ты имеешь представление. — Что значит «обычных»? Тех, что у Герберта Уэллса? Крис продолжал: — Теперь, когда мы от них ускользнули, они отправятся обратно в будущее и ознакомятся со сведениями о тебе, мамочка, выяснят, какие у тебя дальнейшие планы, где ты можешь снова появиться, ну, например, если ты надумаешь опять поселиться в нашем доме. А если ты спрячешься на годик, напишешь еще одну книгу, а потом выйдешь из подполья, чтобы ее разрекламировать, они подстерегут тебя в книжном магазине, где ты будешь давать автографы, потому что этот факт будет зафиксирован в твоем будущем; они будут точно знать, в какой день и час ты появишься в этом месте. Лора нахмурилась. — Ты хочешь сказать, что я могу скрыться от них на всю жизнь, если я поменяю имя, буду жить в разных местах и никогда и ни при каких обстоятельствах мое имя не будет упоминаться в прессе или документах, а я сама не буду появляться на людях? Что я просто исчезну как личность? — Да, видимо, у тебя нет другого выхода, — подтвердил Крис в восторге от идеи. Он был достаточно сообразительным, чтобы обмануть целую банду пришельцев из другой эпохи, но недостаточно взрослым, чтобы понять, как невыносимо трудно для них будет бросить все, что они имели, и начать жизнь с теми деньгами, что были у них в кармане. В какой-то мере он походил на вундеркинда, необычайно проницательного и талантливого в определенной узкой области, но наивного и ограниченного во всех остальных делах. Что касалось путешествий во времени, то тут его возраст равнялся тысяче лет, но во всем остальном ему шел девятый год. Лора сказала: — Значит, я никогда больше не напишу ни одной книги, потому что для этого надо общаться с редакторами, литературными агентами хотя бы по телефону. А значит, появятся зафиксированные данные об этих телефонных разговорах, и по ним меня можно будет выследить. И я не смогу получать гонорары, потому что, под какими бы именами я ни скрывалась, какие бы разные банковские счета я ни заводила, все равно рано или поздно мне придется самой взять деньги в банке, а это значит, что я оставлю след в виде документа. Как только они его обнаружат в будущем, они придут в банк еще раньше меня и покончат со мной, как только я туда явлюсь. А как мне взять деньги, которые мы уже имеем? Как я могу где-либо выписать чек, чтобы они об этом не узнали? — Она растерянно посмотрела на сына. — Господи, Крис, мы в западне! Теперь пришла очередь Криса растеряться. Он не представлял себе, откуда берутся деньги, как их откладывают на черный день и как трудно их зарабатывать. — Хорошо, несколько дней мы можем просто ездить вокруг, останавливаться в мотелях… — Мы можем останавливаться в мотелях, если я буду платить наличными. Если пользоваться кредитной карточкой, они нас тут же обнаружат. Они прибудут в мотель еще до того, как я предъявлю карточку, и убьют нас. — Верно, значит надо платить наличными. Послушай, мы можем есть в «Макдональдсе»! Это дешево и вкусно.* * *
Они спустились на равнину, оставив позади снежные горы, и благополучно въехали в Сан-Бернардино, город с населением в триста тысяч человек. Лоре был нужен врач для ее хранителя, и не только потому, что он спас ей жизнь, но и потому, что без него она никогда не узнает правды и никогда не выберется из западни, в которую они попали. Она не могла отвезти его в больницу, потому что больницы вели регистрацию пациентов, и таким образом враги могли легко ее обнаружить. Ей необходимо было получить медицинскую помощь тайно, чтобы ей не пришлось называть свое имя и рассказывать что-нибудь о раненом. Незадолго до полуночи Лора остановилась у телефонной будки при заправочной станции Компании «Шелл». Будка находилась на некотором отдалении от станции, что устраивало Лору, боявшуюся, что кто-нибудь заметит разбитые стекла джипа и человека без сознания внутри. Несмотря на возбуждение и на то, что он уже проспал целый час, Крис снова задремал. Раненый тоже спал, но его сон был тревожным и беспокойным. Он перестал бредить, но дышал с трудом, со свистом и хрипом втягивая воздух. Не выключая мотора, Лора оставила джип на стоянке и направилась к будке, чтобы посмотреть телефонный справочник. Она вырвала из него страницы с телефонами и адресами врачей. Получив на заправочной станции карту Сан-Бернардино, Лора начала искать адрес врача, который принимал бы пациентов не в клинике или больнице, а у себя дома, как это делали большинство врачей в прежние времена в маленьких городках и что в настоящее время стало большой редкостью. Она торопилась, понимая, что с каждой минутой промедления у ее хранителя уменьшаются шансы выжить. В четверть второго ночи Лора остановила машину перед белым двухэтажным особняком в — Я живу за два квартала от вас, совсем близко, мой мальчик… отравился. — Она отпустила Криса, он соскользнул на пол и отошел подальше, а Лора уперла дуло револьвера в живот человека. — Не вздумайте звать на помощь, не то я вам выпущу кишки. У нее и в мыслях этого не было, но он явно поверил, молча кивнул. — Вы доктор Бренкшоу? Он снова молча кивнул, и она спросила: — В доме есть еще кто-нибудь? — Никого. Я живу один. — А ваша жена? — Я вдовец. — Дети? — Они взрослые и живут отдельно. — Не вздумайте мне врать. — Я уже давно понял, что ложь не моя стихия, — ответил он. — Правда облегчает жизнь, хотя у меня были из-за этого неприятности. Послушайте, я в халате, а здесь холодно. Вы можете с таким же успехом запугивать меня внутри. Лора переступила порог и вошла в дом, по-прежнему упирая револьвер ему в живот и заставляя пятиться. Крис последовал за ней. — Милый, — шепнула она, — пойди осмотри дом. Без лишнего шума. Начинай со второго этажа и проверь все комнаты. Если кого обнаружишь, скажи, что у доктора срочный случай и что ему нужна их помощь. Крис направился к лестнице на второй этаж, а Лора осталась в передней наедине с Картером Бренкшоу, не опуская револьвера. Где-то поблизости громко тикали старинные часы. — Знаете, — сказал доктор, — я всю жизнь увлекался детективными романами. Лора нахмурилась. — Что вы хотите сказать? — Так вот, сколько раз я читал о том, как прекрасная злодейка держала героя под дулом револьвера. А в конце, когда он обязательно одерживал над ней верх, она сдавалась на волю победителя, подчиняясь неизбежному торжеству мужского начала, и они предавались безудержной страстной любви. Вот я теперь и думаю, раз уж такая штука со мной случилась, я вполне могу предвкушать вторую половину этого миленького приключения, хоть я и староват. Лора с трудом сдержала улыбку; ей не пристало улыбаться с револьвером в руке. — Заткнитесь. — И это все? У вас должен быть репертуар покруче. — Заткнитесь. Заткнитесь же наконец. Он не побледнел ничуть, не дрожал. Он улыбался. Сверху вернулся Крис. — Там никого нет, мамочка. Бренкшоу заметил: — Интересно узнать, у многих ли головорезов есть вот такие сообщники? Мальчик с пальчик, который называет опасного преступника мамочкой. — Вы меня не знаете, доктор. Я способна на отчаянные поступки. Крис скрылся в нижних комнатах, зажигая по пути свет. Лора сказала Бренкшоу: — У меня раненый в машине. — Не сомневаюсь, что это пулевое ранение. — Я хочу, чтобы вы оказали ему помощь, и никому ни слова об этом, если проболтаетесь, мы вернемся и размозжим вам голову. — А это, — заметил он почти весело, — уже совсем великолепно. Вернулся Крис, гася по пути лампочки, которые он включил минуту назад. — Никого нет, мама. — У вас есть носилки? — спросила Лора. Бренкшоу уставился на нее: — У вас что, действительно есть раненый? — Какого бы черта я сюда явилась? — Что-то не верится. Ладно. У него большая потеря крови? — Сначала рана сильно кровоточила, теперь меньше. Но он без сознания. — Если у него не слишком сильное кровотечение, мы можем привезти его сюда на кресле. У меня есть кресло-каталка в кабинете. Могу я набросить пальто? — спросил доктор, показывая на стенной шкаф. — Или такие рискованные гангстерши любят морозить стариков? — Возьмите пальто, доктор, но, черт возьми, не выводите меня из терпения: — Вот именно, — добавил Крис. — Она уже уложила двоих сегодня. — Он изобразил автоматную очередь. — Они и пикнуть не успели, не то что выстрелить. Слова прозвучали так убедительно, что Бренкшоу с опаской взглянул на Лору. — В шкафу одни пальто. Еще зонтики. Галоши. Оружия в нем не держу. — Осторожно, доктор. Никаких резких движений. — Никаких резких движений, я так и знал, что вы это скажете. — Хотя он по-прежнему находил юмор в ситуации, теперь он проявлял тревогу. Доктор Бренкшоу надел пальто и открыл одну из дверей, выходивших в переднюю. Не зажигая света, он провел их через хорошо знакомую ему приемную с несколькими креслами и низкими столиками и дальше в кабинет, где зажег свет и где стояли письменный стол, три стула и шкафы с медицинскими книгами, а оттуда в комнату для осмотра. Лора ожидала увидеть стол для осмотра и оборудование, которое прослужило по меньшей мере лет тридцать, нечто вроде приюта эскулапа с картины Нормана Роквелла, но тут все было абсолютно новым. Даже стоял аппарат для ЭКГ, а в дальнем углу была дверь с предупреждающей надписью «Рентген. Не входить при включенном аппарате». — У вас есть рентген? — удивилась Лора. — А как же. Теперь он не такой дорогой, как прежде. Он есть в каждой клинике. — В каждой клинике, это понятно, но здесь… — Может, для вас я вроде Барри Фитцджеральда, который играет доктора в старом фильме, и я определенно предпочитаю по-старомодному принимать пациентов у себя дома, но лечу их современными методами. Смею заметить, что я более настоящий врач, чем вы преступница… — Смотрите не ошибитесь, — резко оборвала его Лора, хотя уже устала изображать хладнокровную налетчицу. — Не беспокойтесь, — сказал он. — Я буду вам подыгрывать. Так будет веселее. — Крису он сказал: — Когда мы были в кабинете, ты случаем не приметил на столе большую красную керамическую вазу с крышкой? Там полно апельсиновых долек и других конфет, если это тебя интересует. — Спасибо, вот здорово! — Крис не мог сдержать энтузиазма. — А… можно я возьму конфету, мама? — Только немного, — ответила Лора, — не вздумай объедаться. Бренкшоу заметил: — Что касается угощения для маленьких пациентов, то тут я тоже старомоден. Никаких сладостей на сахарине. Какая от них радость? И никакого вкуса… Что же касается зубов, то это не моя забота, а родителей. Разговаривая, он вытащил из угла складное кресло и разложил его посередине комнаты. Лора сказала Крису: — Побудь здесь, малыш, пока мы сходим к машине. — Ладно, — отозвался из соседней комнаты Крис. — Ваша машина стоит на въезде? — спросил Бренкшоу. — Тогда нам лучше выйти через боковую дверь. Так будет менее заметно. По-прежнему направляя на него револьвер, но испытывая чувство неловкости, Лора вышла за доктором из комнаты для осмотра в боковую дверь и обнаружила не лестницу, а спуск. — Это для того, чтобы подвозить больных, — через плечо пояснил Бренкшоу, который толкал перед собой кресло-каталку. Его домашние туфли шаркали по бетону пандуса. Особняк стоял на большом участке, так что соседний дом был на некотором расстоянии. Вместо ольхи, что росла на лужайке впереди, задний двор был засажен фикусовыми деревьями и соснами, зелеными круглый год. Однако, несмотря на их ветви, мрак и неосвещенные окна соседнего дома, Лора опасалась, что их могут заметить. Все вокруг лежало в тишине, какая бывает только между полуночью и рассветом. Даже если бы Лора не знала, что время приближается к двум, она все равно угадала бы его с точностью до получаса. И хотя издалека доносились слабые городские звуки, в этой застывшей неподвижности она невольно чувствовала себя секретным агентом на задании. Они прошли по дорожке вокруг дома, мимо задней веранды и через проход между домом и гаражом, а оттуда к въезду, где стоял джип. Бренкшоу остановился позади джипа и тихо хмыкнул. — Грязь на номерах, — шепнул он. — Весьма убедительный штрих. Лора открыла багажную дверь, и Бренкшоу влез внутрь, чтобы посмотреть на раненого. Лора наблюдала за улицей. Все тихо. Ни души. Но появись сейчас патрульная машина, совершающая свой обычный объезд, полицейские наверняка бы поинтересовались, что происходит у дома всем знакомого старого доктора Бренкшоу… Доктор вылез из машины. — Кто бы подумал, что у вас тут действительно раненый. — Что вы, черт бы вас побрал, все время удивляетесь? Вы что думали, я дурака валяю? — Давайте перенесем его в дом. И побыстрее, — сказал Бренкшоу. Он не мог это сделать один. Лора заткнула револьвер за пояс джинсов, чтобы ему помочь. Бренкшоу не сделал попыток убежать, сбить ее с ног или отнять у нее оружие. Вместо этого, как только они усадили раненого на кресло, он покатил его по дорожке вокруг дома, к пандусу сбоку. Лора взяла один из автоматов с переднего сиденья машины и поспешила за ним. Ей было ясно, что автомат ей ни к чему, но так было спокойней.* * *
Через пятнадцать минут Бренкшоу уже рассматривал готовый рентгеновский снимок на освещенном экране. — Это сквозное ранение. Пуля не застряла, а вышла наружу. Кости тоже не повреждены, так что нам не надо беспокоиться об осколках. — Блестяще, — комментировал Крис из кресла в углу, где он сосал леденец. В комнате было тепло, но он не снял куртку, как и Лора, на случай, если Им придется внезапно покинуть дом. — Он в коме? — спросила Лора. — Да, у него коматозное состояние. Но это не связано с инфицированием раны. Рана свежая, и если мы ее вовремя обработаем, то ему, возможно, вообще не грозит нагноение. Это травматическая кома, вызванная ранением, потерей крови, шоком. Его нельзя было перевозить. — У меня не было выбора. Как вы думаете, он выйдет из комы? — Наверное. В данном случае кома является реакцией организма на ранение, способом сохранить силы и содействовать заживлению. Он потерял не так уж много крови, у него хороший пульс, можно надеяться, что он скоро придет в себя. Глядя на его халат и рубашку, можно подумать, что у него было значительное кровотечение, но это не так, хотя он, конечно, сильно пострадал. Главное, у него не повреждены крупные сосуды, иначе он был бы в тяжелом состоянии. И все же его необходимо поместить в больницу. — Мы уже говорили об этом, — нетерпеливо прервала Лора. — Мы не можем обращаться в больницу. — Хотел бы я знать, какой банк вы ограбили? — шутливо спросил доктор, но на этот раз его глаза смотрели серьезно. Ожидая, когда проявится пленка, он очистил рану, припудрил ее антибиотиком и подготовил повязку. Теперь он достал из шкафа иглу, какой-то незнакомый Лоре инструмент и кетгут и положил все это на стальной поднос, который повесил на край перевязочного стола. Раненый лежал без сознания на правом боку, поддерживаемый несколькими резиновыми подушками. — Что вы собираетесь делать? — спросила Лора. — Эти раны обычно достаточно большие, особенно входное отверстие. Если вы против того, чтобы отправлять его в больницу, и готовы рисковать его жизнью, то я наложу хотя бы пару швов. — Хорошо, только поторапливайтесь. — Вы ждете, что сюда в любую минуту ворвутся агенты ФБР? — Худшего, — ответила Лора. — Я жду куда более худшего. С того самого момента, как они вошли в дом доктора, Лора прислушивалась, ожидая, что вот-вот начнется небесный спектакль с молнией и громом, подобным грохоту копыт гигантских коней всадников Апокалипсиса, а затем последует прибытие новых вооруженных путешественников из другого времени. Пятнадцать минут назад, когда доктор делал рентгеновский снимок, ей показалось, что она слышит глухие раскаты грома. Она поспешила к окну и, вглядываясь в небо, искала отдаленные всполохи, но ничего не увидела сквозь ветви деревьев: либо потому, что небо над Сан-Бернардино было озарено красным отблеском городских огней, либо грома вообще не было… В конце концов она решила, что это был шум реактивного самолета и что она, поддавшись страху, приняла его за явление природы. Бренкшоу зашил рану, обрезал нитку, объявив, что швы рассосутся, и прикрепил повязку к ране с помощью широкой клейкой ленты, которой он несколько раз обмотал грудь и спину раненого. В комнате стоял резкий запах лекарств, от которого у Лоры кружилась голова, но что совершенно не беспокоило Криса. В углу комнаты он с довольным видом сосал очередной леденец. Бренкшоу сделал пациенту укол пенициллина, взял из высокого белого металлического шкафа банку и насыпал из нее капсулы в небольшую бутылочку; затем проделал такую же операцию с другой банкой, насыпав еще одну бутылочку. — Я держу тут кое-какие ходовые лекарства, продаю их малоимущим больным по себестоимости, чтобы они не разорялись на них в аптеке. — Что это такое? — спросила Лора, когда доктор протянул ей две пластиковые бутылочки. — В одной — пенициллин. Давайте ему по капсуле три раза в день во время еды, если только он сможет есть. Думаю, что он скоро придет в сознание. Если нет, то у него начнется процесс дегидрации, и ему потребуется внутривенное вливание жидкости. Его нельзя поить в таком состоянии, он может задохнуться. А в этой — обезболивающее. Давайте только по мере надобности и не более двух в день. — Дайте мне еще этих лекарств. Давайте все, что у вас есть. — Она указала на две большие банки, где хранились сотни капсул. — Они не нужны ему в таком количестве. Он… — Знаю, что не нужны, — прервала его Лора, — но я не знаю, какие еще могут возникнуть проблемы. Возможно, мне или моему мальчику потребуется пенициллин или обезболивающее. Бренкшоу долго и внимательно смотрел на Лору. — Скажите наконец, в какую историю вы попали? Наверное, одну из тех, что вы описываете в ваших книгах? — Давайте мне… — Лора осеклась, пораженная его словами. — Как в моих книгах? В моих книгах! Боже мой, вы меня знаете! — Да, знаю. Я сразу узнал вас, как только увидел на веранде. Я люблю триллеры, и, хотя это не совсем ваш жанр, ваши книги тоже очень увлекательные, я их тоже читаю, ну а на супере всегда ваша фотография. Знаете, мисс Шейн, ни один мужчина не забудет вашего лица, даже если он видел его только на картинке, даже такая старая развалина, как я. — Но почему вы сразу не сказали… — Сначала я подумал, что это шутка. Это ваше театральное появление во мраке ночи, револьвер, этот нарочито грубый разговор, избитые штампы… это нельзя было принимать всерьез. У меня есть друзья, способные на подобную мистификацию, и я подумал, уж не они ли подбили вас на розыгрыш. Указывая на раненого, Лора спросила: — Но когда вы его увидели… — Я понял, что это не розыгрыш, — ответил доктор. Крис поспешил к матери, вытаскивая изо рта конфету. — Мам, если он на нас донесет… Лора вытащила револьвер из-за пояса джинсов. Начала его поднимать, чтобы прицелиться, потом опустила, понимая, что Бренкшоу теперь не запугать; да он и раньше не боялся ее револьвера. Она понимала, что такой человек ничего не боится, что теперь бессмысленно изображать опасную, готовую на все преступницу. На перевязочном столе ее хранитель стонал и пытался приподняться в своем тяжелом сне, но Бренкшоу успокаивающе положил ему руку на грудь. — Послушайте, доктор, если вы скажете кому-то о нашем посещении, если вы не сохраните этот секрет до конца жизни, то это означает смерть для меня и сына. — Вы, конечно, знаете, что по закону я обязан сообщать о любых огнестрельных ранах. — Но это особый случай, — умоляла Лора. — Мы не скрываемся от полиции. — Тогда от кого же? — Мы… мы пытаемся скрыться от людей, которые убили моего мужа, отца Криса. Бренкшоу удивленно и сочувственно по» смотрел на Лору. — Разве ваш муж был убит? — Вы, наверное, читали об этом в газетах, — с горечью произнесла Лора. — Это была сенсация из тех, которыми живет пресса. — Видите ли, я не читаю газет и не смотрю телевизионные новости, — сказал Бренкшоу. — Там одни сплошные пожары, несчастные случаи и сумасшедшие террористы. Настоящих новостей там нет и в помине, одна кровь, катастрофы и политика. — Я вам сочувствую. Если эти люди, которые его убили, кто бы они ни были, хотят теперь убить и вас, вам следует немедленно обратиться в полицию. Лоре был симпатичен этот человек, явно во многом разделявший ее взгляды и представления. Но она чувствовала, что вряд ли уговорит его молчать. — Полиция не может меня защитить, доктор. Никто не может меня защитить, кроме меня самой и еще вот этого человека, которому вы оказали помощь. Наши преследователи жестокие, безжалостные люди, и они могут не подчиняться закону — Бренкшоу покачал головой. — Никто не может не подчиняться закону. — Они могут, доктор. Мне потребуется целый час, чтобы объяснить вам почему, да и тогда вы вряд ли мне поверите. Но умоляю вас, если вы не хотите иметь на своей совести нашу смерть, никому не рассказывайте об этом случае. И не один-два дня, а всю жизнь. — Хорошо, но… Лора понимала, что уговоры бесполезны. Она вспомнила, что он сказал ей тогда в передней, когда она спрашивала его о людях в доме. Он сказал тогда, что никогда не обманывает, что правда вообще облегчает жизнь и что эта привычка у него навсегда. Прошел всего час, и он уже доказал ей, какой он необычайно правдивый человек. Даже сейчас, когда она умоляла его сохранить их тайну, он был не способен на ложь, хотя таким образом мог избавиться от их присутствия в доме. Он смущенно смотрел на Лору и не мог заставить себя солгать. Он исполнит свой долг, как только она покинет дом; он сообщит обо всем в полицию. Полиция будет искать ее в загородном доме, где обнаружит лужи крови, а возможно, и тела путешественников во времени и где они найдут сотни стреляных гильз,разбитые окна, выщербленные пулями стены. Завтра или послезавтра вся эта история будет на первой полосе газет… Возможно, полчаса назад она ошиблась насчет пролетавшего самолета, это все-таки был не самолет-Это был гром, как она сначала и подумала, очень отдаленный, за пятнадцать-двадцать миль отсюда. — Доктор, помогите мне его одеть, — попросила она, указывая на раненого. — Сделайте хотя бы это, раз уж вы решили предать меня потом. Он вздрогнул, как от удара, при слове «предать». Она уже послала раньше Криса на второй этаж, чтобы взять в шкафу у Бренкшоу рубашку, свитер, куртку, брюки, носки и ботинки. Доктор не был таким мускулистым и подтянутым, как ее хранитель, но они имели примерно один размер. На раненом были только запачканные кровью брюки, и Лора понимала, что не успеет одеть его целиком. — Помогите натянуть на него куртку-Остальное я возьму с собой и одену его потом. В куртке ему будет теплее. Доктор неохотно приподнял и посадил на столе раненого, который по-прежнему был без сознания. — Его нельзя перевозить. Не обращая внимания на слова Бренкшоу, Лора натягивала на правую руку раненого вельветовую куртку на теплой подкладке; она сказала, обращаясь к Крису: — Беги в приемную. Там темно. Но не зажигай света. Подойди к окну и хорошенько осмотри улицу, только осторожно, чтобы тебя не заметили. — Ты думаешь, они уже здесь? — испуганно спросил мальчик. — Пока нет, но скоро будут, — ответила Лора, протаскивая левую руку хранителя в рукав. — О чем вы говорите? — спросил Бренкшоу, когда Крис выбежал в кабинет, а оттуда в темную приемную. Лора не ответила. — Давайте перенесем его на кресло. Вместе они подняли раненого со стола, посадили в кресло и пристегнули ремнем на поясе. Лора складывала в узел остальную одежду, обертывала ею банки с лекарством, прежде чем завязать все в рубашку, когда в комнату вбежал Крис. — Мама, они только что подъехали, наверное, это они, целых две машины людей, шесть или восемь человек. Как нам быть? — Черт возьми! — воскликнула Лора. — Теперь нам не добраться до джипа. И мы не можем выйти отсюда через боковую дверь, они нас увидят. Бренкшоу направился в кабинет. — Я вызову полицию… — Нет! — Лора положила узел с одеждой и лекарством, а также свою сумку в ногах раненого и схватила «узи» и револьвер. — Поздно, черт побери! Через минуту они будут здесь, и нам конец. Помогите мне спустить кресло с заднего крыльца. Наконец доктор понял серьезность положения и, не задерживаясь, не вступая в споры, стремительно покатил кресло в холл и дальше в темный коридор. Лора и Крис последовали за ним и прошли через кухню, освещаемую только горящими цифрами часов на духовке и микроволновой печи. Кресло застряло на пороге между кухней и верандой, раненого подбросило, но это были пустяки по сравнению с тем, что ему уже пришлось перенести. Лора перекинула автомат через плечо, засунула револьвер за пояс и быстро сбежала со ступенек. Она подхватила кресло спереди и помогла спустить его на бетонную дорожку. Она вгляделась в темноту, ожидая увидеть вооруженных людей, и шепнула Бренкшоу: — Вам придется уходить вместе с нами. Если останетесь, они вас убьют, так и знайте. И на этот раз доктор промолчал, но последовал за Крисом, который шел впереди по дорожке, ведущей через задний двор к калитке в деревянном заборе. С автоматом в руке, Лора замыкала шествие, готовая в любой момент повернуться и открыть огонь, если услышит шум в доме. Как только Крис приблизился к калитке, она открылась и человек в черном вошел внутрь из проулка за домом; он сливался с темнотой вокруг, за исключением бледного, как луна, лица и белых рук; он был, как и они, поражен неожиданной встречей. Его задача состояла в том, чтобы отрезать им путь сзади. В его левой опущенной вниз руке поблескивал автомат, и он начал поднимать его, чтобы взять на изготовку. Лора не могла стрелять, так как впереди находился Крис, но тот действовал в соответствии с указаниями Генри Такагами, который обучал их столько месяцев. Крис развернулся и нанес удар ногой по руке преступника, выбив из нее автомат, который с мягким стуком упал на землю; потом нанес еще один удар в пах, и со стоном боли человек в черном отступил назад, прислонившись к столбу калитки. К тому времени Лора успела обогнуть кресло с раненым и встала между Крисом и противником. Она повернула «узи» вверх прикладом, подняла его и обрушила на голову незнакомца, снова изо всех сил повторила удар, и человек в черном без звука повалился на газон. Теперь события развивались с головокружительной быстротой, нарастая, как снежный ком: Крис вышел из калитки в проулок, Лора за ним, и они тут же столкнулись со вторым человеком в черном; его глаза были словно черные дыры на белом лице страшного вампира; его нельзя было достать ударом карате, и Лора первой открыла огонь. Ей пришлось вести стрельбу над головой Криса, и очередь ударила вампира в шею и грудь, практически его обезглавив, отбросила назад на асфальт проулка. Бренкшоу появился в калитке, подталкивая перед собой кресло, Лора почувствовала угрызения совести оттого, что вовлекла его в эту историю, но пути назад уже не было. Задняя улочка была узкой, по обеим сторонам стояли заборы и гаражи, мусорные баки для каждого дома; все было погружено в полумрак; на улочке не было фонарей, и свет проникал с больших улиц, пересекавших ее с обоих концов. Лора сказала Бренкшоу: — Отвезите его подальше, через дом или два. Если найдете незапертую калитку, спрячьтесь во дворе, так чтобы вас не было видно. А ты, Крис, или с ними. — А как же ты? — Я задержусь на минутку. — Мама… — Делай, что я тебе говорю! — приказала Лора, потому что доктор уже выкатил кресло в проулок на противоположную сторону. Крис неохотно последовал за ним, а Лора вернулась к калитке лома Бренкшоу. Она увидела, как две темные, еле различимые фигуры, словно тени, мелькнули между домом и гаражом. Они бежали, пригнувшись, один к веранде, другой к калитке, точно не зная, где опасность и откуда доносилась стрельба. Лора вошла в калитку, ступила на дорожку и начала стрелять еще до того, как они ее заметили, поливая огнем заднюю часть дома. И хотя она не могла вести прицельную стрельбу, мишени находились в пределах досягаемости, и они бросились искать укрытие. Лора не знала, сумела ли она попасть в кого-нибудь, и прекратила огонь, потому что даже с обоймой в четыреста патронов и при стрельбе короткими очередями она быстро растратила бы боезапас, а в ее распоряжении был только один «узи». Она отступила к калитке, повернулась и бросилась бегом вдогонку за Бренкшоу и Крисом. Они как раз входили в чужой двор через железные ворота на другой стороне проулка, через два дома от доктора Во дворе Лора обнаружила, что пространство вдоль ограды было засажено миртами, которые образовали густую стену, так что увидеть их из проулка можно было только стоя прямо напротив ворот. Доктор подвез кресло к самому дому. Дол был в стиле Тюдоров, а не викторианский, как у Бренкшоу, но построен по меньшей мере лет сорок-пятьдесят назад. Доктор уже начал огибать дом, двигая перед собой кресло, чтобы выйти напрямик на большую улицу с другой стороны. В домах вокруг начали зажигаться огни. Лора не сомневалась, что десятки людей, прижавшись к окнам, вглядывались в темноту, даже в тех домах, где не включили света, но вряд ли кто мог что-либо рассмотреть. Она догнала Бренкшоу и Криса уже у выхода на улицу и остановила их в тени высоких разросшихся кустов. — Доктор, пожалуйста, подождите здесь с вашим пациентом, — прошептала она. Бренкшоу дрожал от страха, и Лора опасалась, как бы у него не случился сердечный приступ, но он по-прежнему бодрился. — Я подожду. Вместе с Крисом Лора вышла на улицу, где вдоль тротуаров по обеим сторонам дороги стояли десятка два автомобилей. В голубоватом свете фонарей Крис казался бледным, но не испуганным, как доктор Бренкшоу, что немного успокоило Лору; он постепенно привыкал к состоянию ужаса. Она сказала: — Ладно, давай искать незапертую машину Ты с этой стороны, а я с другой. Если найдешь такую, проверь, нет ли ключей в зажигании, если нет, посмотри под сиденьем водителя или за козырьком. — Понял. Герой одного из романов Лоры занимался воровством автомобилей, и при работе над книгой она выяснила, что в среднем один из семнадцати владельцев оставляет ключи в машине на ночь. Лора надеялась, что в таком тихом месте, как Сан-Бернардино, процент будет еще выше; потому что в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и других больших городах только безумец мог проявить подобное легкомыслие, откуда следовал вывод, что если в одних местах число таких людей равнялось нулю, то в других, с более доверчивым населением, оно должно было превышать пропорцию один к семнадцати. Пробуя двери, Лора сначала пыталась следить за Крисом, но потом потеряла его из виду. Четыре из восьми машин оказались незапертыми, но ни в одной из них не оказалось ключей. Вдали завыли сирены. Пожалуй, это спугнет людей в черном. К тому же они, наверное, все еще с осторожностью осматривают проулок за домом Бренкшоу, опасаясь неожиданных выстрелов. Лора смело переходила от машины к машине, не скрываясь и не заботясь о том, что ее могут заметить из соседних домов. Улица была обсажена приземистыми, но с широкой кроной финиковыми пальмами, которые давали много тени. К тому же если кто и пробудился в этот поздний час, то наверняка из своей спальни на втором этаже пытается разглядеть происходящее на соседней улице, у Бренкшоу, где была перестрелка, и не обращает никакого внимания на улицу внизу. Девятой машиной оказался «Олдсмобиль», ключи от которого были спрятаны под сиденьем Лора завела мотор и только успела захлопнуть дверь, как Крис отворил дверь с другой стороны и показал ей на связку ключей — От новенькой «Тойоты», — пояснил он. — Сойдет и эта, — ответила Лора. Вой сирен становился все ближе. Крис швырнул в сторону ключи от «Тойоты», прыгнул в машину, и они подъехали к дому на другой стороне улицы, туда, где в тени кустов их поджидал доктор и где по-прежнему было темно и тихо Возможно, им повезло, и в доме никого не было Они подняли раненого с кресла-каталки и положили на заднее сиденье «Олдсмобиля». Сирены завывали совсем рядом, и патрульная машина на большой скорости промчалась по соседней улице, вспыхивая красными мигалками, в сторону дома Бренкшоу. — Как вы там, доктор? — спросила Лора, захлопнув заднюю дверь машины. Бренкшоу, обессилев, упал на кресло. — Вы боитесь, не случится ли со мной апоплексического удара? Нет, не случится. А что, черт возьми, происходит с вами, девочка? — Некогда объяснять, доктор, надо сматываться. — Послушайте, — сказал он, — может быть, я им ничего не скажу. — Скажете, — ответила Лора. — Вы, может, и думаете, что не скажете, а все равно все выложите. Вот если вы им ничего не скажете, тогда не будет и полицейского отчета и статей в газетах, а без этих письменных свидетельств бандитам не найти меня. — Что за чепуху вы несете? Лора наклонилась и поцеловала его в щеку. — Некогда, доктор. Спасибо за помощь. Да, простите, но мне нужно кресло. Он сложил кресло и спрятал его в багажник. Сирены теперь заливались со всех сторон. Лора села за руль, захлопнула дверь. — Пристегнись, Крис. — Уже сделано, — ответил он. Лора повернула налево, выехала на другую улицу, где несколько минут назад промчалась полицейская машина, подальше от дома Бренкшоу. Если полицейские машины съезжаются на звук автоматных очередей из разных концов города, из разных участков, то они едут каждая своим путем, так что вряд ли на этой улице появится еще один полицейский патруль. Улица была пустынной, и проезжавшие иногда по ней автомобили не были украшены красными мигалками. Лора повернула направо; все удаляясь от дома Бренкшоу, она мчалась напрямик через весь город в надежде найти убежище.3
В три пятнадцать утра Лора была в Ривер-сайде, нашла незапертый «Бьюик» на тихой улице в жилом районе, переместила в него своего хранителя с помощью кресла и бросила «Олдсмобиль». Крис проспал всю эту операцию, и Лора перенесла его на руках из одной машины в другую. Через полчаса, уже в другом месте, измученная и засыпавшая на ногах Лора с помощью отвертки из сумки с инструментами, которая нашлась в багажнике «Бьюика», отвинтила номера с «Ниссана». Она поставила их на «Бьюик», а номера «Бьюика» спрятала в багажник, потому что в конце концов полиция начнет разыскивать «Бьюик» с его собственными номерами. Может пройти дня два, прежде чем владелец «Ниссана» заметит пропажу номеров, и, даже если он сообщит в полицию, это не будет событием, поскольку основное внимание уделяется поиску украденных машин. Номера же частенько снимают подростки, которые считают это безобидной проделкой, или сбивают хулиганы, и поиск номеров не является первоочередной задачей для загруженной полиции, которая с трудом справляется с кучей действительно серьезных и тяжелых преступлений. Этот полезный факт Лора также почерпнула из справочного материала во время работы над одной из своих книг. Она также надела на раненого свитер, шерстяные носки и ботинки, заботясь, чтобы он не простудился. В какой-то момент он открыл глаза, посмотрел на нес, позвал по имени, и ей показалось, что он пришел в сознание, но тут же снова погрузился в забытье, бормоча что-то непонятное. Из Риверсайда Лора направилась в Йорба-Линду в округе Оранж, где в четыре пятьдесят утра остановилась на стоянке у одного из супермаркетов, рядом с заправочной станцией компании «Гудвилл». Она выключила фары, заглушила мотор и отстегнула ремень безопасности Крис, повиснув на своем ремне и привалившись к двери, спал крепким сном. Ее хранитель на заднем сиденье был по-прежнему без сознания, хотя дышал с меньшим хрипом, чем до посещения доктора Бренкшоу Лора собиралась не спать, а только немного отдохнуть, закрыв глаза, чтобы собраться с мыслями; но через минуту погрузилась в сон. Что ей могло присниться, если она убила по крайней мере трех человек, сама была мишенью для выстрелов, выдержала долгую погоню? Разве только сны о смерти, изувеченные тела, кровь и сухой треск автоматных очередей в качестве музыкального сопровождения кошмара. Ей могло присниться, что она лишилась сына, который был лучом света в окружавшей ее тьме, — он и Тельма — она не представляла себе жизни без них. А вместо этого ей приснился Данни, и это был чудесный сон. Данни был живой, и они вместе радовались продаже «Седраха» за миллион долларов; Крис тоже был с ними, и ему было восемь лет, хотя в то время он еще не появился на свет; они праздновали свою удачу в Диснейленде, снимались вместе с Микки Маусом, в Павильоне гвоздик Данни клялся ей в вечной любви, рядом Крис болтал на странном, непонятном языке, которому его научил Карл Доквайлер, сидевший с Ниной и отцом Лоры за соседним столиком, а поблизости удивительные двойняшки Аккерсон ели клубничное мороженое… Она проснулась в восемь двадцать шесть, проспав более трех часов, чувствуя себя отдохнувшей не только после сна, но и той счастливой встречи, которую она извлекла из глубин подсознания. Яркие солнечные лучи проникали с безоблачного неба внутрь машины, вспыхивали бликами на хромированных частях. Крис продолжал спать. Человек на заднем сиденье по-прежнему был без сознания. Лора рискнула дойти до телефонной будки у супермаркета, не упуская из виду машину. Она набрала номер Иды Паломар, учительницы Криса, которая жила в Лейк-Эрроухед, и предупредила ее, что они будут отсутствовать до конца недели. Лора не хотела, чтобы ничего не подозревавшая Ида явилась в изрешеченный пулями и забрызганный кровью дом, где, без сомнения, трудятся в поте лица судебные эксперты. Она не сказала Иде, откуда звонит, хотя не собиралась долго задерживаться в Йорба-Линде. Она вернулась в машину и сидела зевая, потягиваясь и растирая затылок, наблюдая, как ранние покупатели входят в супермаркет. Она проголодалась. Крис проснулся минут через десять, с трудом открыв заспанные глаза, и Лора послала его купить булочек и апельсинового сока на завтрак, не совсем подходящее меню, но обеспечивавшее достаточное количество калорий. — А он? — Крис показал на раненого. Лора вспомнила предупреждение доктора Бренкшоу об опасности обезвоживания. Она также знала, что не может насильно его поить в бессознательном состоянии: он мог захлебнуться. — Хорошо… Возьми еще апельсинового сока. Может быть, я смогу его разбудить. — Когда Крис выходил из машины, она добавила: — Купи что-нибудь на обед, из того, что не порти гея, хлеб и банку арахисовой пасты. Купи еще баллончик дезодоранта и шампунь. Крис ухмыльнулся. — А почему ты запрещаешь мне такое меню дома? — Потому что, если ты не будешь хорошо питаться, у тебя, малыш, перестанут развиваться мозги. — За нами гонятся наемные убийцы, а ты жалеешь, что не взяла с собой микроволновую печку, запас свежих овощей и поливитамины. — Если я тебя правильно поняла, ты считаешь меня хорошей матерью, но чуточку наседкой? Принимаю комплимент и учитываю критику. А теперь иди. Он хотел закрыть дверь. Лора сказала: — Послушай, Крис… — Знаю, — откликнулся мальчик. — Будь осторожен. Когда Крис ушел, Лора завела мотор и включила радио, чтобы прослушать девятичасовые новости. Она услышала сообщения о себе: перестрелка в доме у Биг-Бэр, сражение в Сан-Бернардино Как большинство подобных сообщений, оно было неточным, несвязным и лишенным смысла. Но оно подтвердило, что полиция ищет ее по всей Южной Калифорнии. Репортер объявил, что власти надеются ее скоро обнаружить, так как ее хорошо знают в лицо. Она была глубоко удивлена, когда Картер Бренкшоу признал в ней известную писательницу Лору Шейн. Она не считала себя знаменитостью, она была просто рассказчицей, выдумывала истории, используя все богатство языка, объединяя слова в стройную систему. Она лишь один-единственный раз совершила рекламную поездку при выходе одной из первых своих книг и осталась ею недовольна, считая ее бесполезной. Лора редко принимала участие в телевизионных программах. Она никогда ничего не рекламировала по телевидению, никогда публично не выступала в поддержку политических деятелей и вообще старалась держаться подальше от того театра, каким являются средства массовой информации. В соответствии с традицией она разрешала помещать свою фотографию на суперобложке своих книг, потому что не видела в этом вреда, и теперь, в возрасте тридцати трех лет, она без ложной скромности могла признать, что действительно очень привлекательная женщина, но ей и в голову не приходило, что «ее хорошо знают в лицо», как об этом объявила полиция. Она пришла в отчаяние не только от того, что потеря анонимности делала ее легкой добычей для полиции, но и потому, что статус знаменитости в современной Америке означал потерю самокритичности и резкое обеднение таланта. Мало кто мог оставаться одновременно общественной фигурой и настоящим писателем, а постоянное внимание прессы и телевидения развращали подавляющее большинство литераторов. Лора опасалась этой ловушки не меньше, чем полицейского ареста. Неожиданно и с некоторым удивлением она вдруг осознала, что ее беспокойство о превращении в знаменитость и потере таланта означает, что она все еще верит в свое будущее, как и в то, что напишет еще не одну книгу. Прошлой ночью она не раз клялась себе, что будет сражаться до смерти, бороться до последнего, чтобы защитить сына, и в то же время ощущала полную безнадежность своего положения; их враги обладали не только неограниченной силой, но и были недосягаемы. И вот теперь в ней что-то переменилось, что-то возродило в ней слабый, осторожный оптимизм. Может быть, причиной тому был счастливый сон. Крис возвратился с большим пакетом булочек с орехами и корицей, тремя пакетами апельсинового сока и остальными покупками. Они ели, булочки и пили сок, и им казалось, что они никогда не ели ничего вкуснее. Закончив завтрак, Лора попробовала разбудить своего хранителя. Он не просыпался. Лора отдала Крису пакет апельсинового сока. — Это для него. Будем надеяться, что он скоро проснется. — Если он не может пить, то он не сможет проглотить пенициллин, — заметил Крис. — Ему пока не надо его принимать. Доктор Бренкшоу сделал ему очень сильный укол, лекарство еще действует. Но Лора была обеспокоена. Если он не придет в сознание, они никогда не узнают, почему, они оказались, а теперь и заблудились, в этом опасном лабиринте, из которого им, наверное, никогда не выбраться. — Что будем делать дальше? — спросил Крис. — Остановимся на заправочной станции, отдохнем, помоемся, а потом найдем оружейный магазин и купим патроны для «узи» и для револьвера. Потом… потом мы попробуем найти подходящий мотель, где можем спрятаться и переждать. Если они найдут такое место, то по меньшей мере пятьдесят миль будут отделять их от дома доктора Бренкшоу, где враги обнаружили их в последний раз. Но что такое расстояние для людей, которые преодолевают дни и годы и не измеряют дорогу в милях?* * *
В некоторых районах Санта-Ана и пригородах Анахейма можно было найти подходящий для них мотель. Лора не хотела останавливаться в гостинице «Красный лев», где все новое как с иголочки, все начищено до блеска; или в «Приюте автомобилистов» Говарда Джонсона с цветными телевизорами в номерах, пушистыми мягкими коврами и плавательным бассейном с подогретой водой, потому что такие солидные учреждения подразумевали наличие у клиентов надежных документов и кредитных карточек крупных банков, а Лора страшилась оставлять письменные свидетельства, которые в конечном итоге приведут к ней или полицию, или убийц. Поэтому она искала мотель, который давно не ремонтировался и не отличался особой чистотой, одним словом, какое-нибудь неприглядное место, где рады заполучить любого клиента, берут плату наличными и не задают гостям лишних вопросом. Лора знала, что ей нелегко будет снять номер, и не удивилась, когда в первых двенадцати мотелях их не могли или не хотели принять. Постояльцами этих забытых Богом мест были молодые мексиканки с младенцами на руках или маленькими детьми, цеплявшимися за юбку, и молодые или средних лет мексиканцы в кедах, брюках цвета хаки, фланелевых рубашках и джинсовых или вельветовых куртках; на некоторых были соломенные ковбойские шляпы или бейсбольные кепи, причем все постояльцы глядели по сторонам настороженно и подозрительно. Большинство обветшалых мотелей служили меблированными комнатами для нелегальных иммигрантов, сотни тысяч которых поселились, не особенно скрываясь, в одном только округе Оранж. Целые семьи из пяти-семи человек теснились в маленьком номере, где кишмя кишели тараканы, а вся обстановка состояла из пары стульев и полуразвалившейся кровати, на которой они спали вповалку; за все это и примитивные удобства они платили сто пятьдесят и более долларов в неделю, без белья, горничной или еще каких-либо услуг. И тем не менее они были готовы терпеть эти условия, подвергаясь к тому же безжалостной эксплуатации и получая низкую заработную плату, лишь бы не возвращаться на родину и не жить под властью «революционного народного правительства», которое в течение десятилетий не могло обеспечить им никакого братства, кроме братства нищеты. В тринадцатом по счету мотеле под названием «Синяя птица» владелец, он же и управляющий, все еще был готов обслуживать небогатых туристов и пока не поддался соблазну наживаться, обкрадывая нищих иммигрантов. Несколько номеров из двадцати четырех явно занимали нелегальные иммигранты, но тем не менее в гостинице ежедневно меняли белье, в каждом номере был телевизор и пара запасных подушек в стенном шкафу, не говоря уже о том, что здесь были горничные. Однако тот факт, что портье принял плату наличными, не спросил документов и при этом старался не смотреть Лоре в глаза, свидетельствовал, что не далее чем через год «Синяя птица» станет еще одним примером политической недальновидности и людской алчности в мире, где и без того таких примеров так же много, как могил на старом городском кладбище. Здание мотеля было в форме буквы «п», с автомобильной стоянкой посередине, и номер Лоры находился в правом углу поперечной части дома. Большая веерная пальма поднималась у входа в их комнату, и ее буйному росту не препятствовали ни смог, ни асфальт и бетон; даже зимой она выпустила молодые побеги, словно природа утверждала свое право вернуть себе всю Землю, когда человечеству придет конец. Не прячась, Лора и Крис разложили складное кресло и посадили на него раненого, как если бы они заботились об обычном инвалиде. Полностью одетый и с повязкой под одеждой, он мог вполне сойти за инвалида с парализованными ногами; правда, его голова беспомощно склонилась к плечу, что могло вызвать подозрение. Комната оказалась небольшой, но сравнительно опрятной. Пол покрывал потертый, но чистый ковер, а по углам висело не так уж много паутины. Клетчатое покрывало на кровати истрепалось по краям, и его середину украшали две заплаты, но белье было выглажено и приятно пахло свежестью. Они перенесли раненого с кресла на кровать и подложили ему под голову две подушки. Телевизор с экраном в семнадцать дюймов был прочно привинчен к столу с исцарапанным пластиковым покрытием, а ножки стола были, в свою очередь, привинчены к полу. Крис уселся на один из двух разнокалиберных стульев, включил телевизор и начал крутить треснутую ручку в поисках мультфильмов или вестерна. Он наконец выбрал себе программу с комедийными актерами, но объявил, что «они слишком глупы, чтобы смешить», и Лора подумала, что мало кто из детей его возраста мог сделать подобное замечание. Она села на другой стул. — Почему бы тебе не принять душ? — И надеть ту же самую одежду? — с сомнением спросил Крис. — Знаю, что тебе это кажется глупостью, но все-таки попробуй. Вот увидишь, будешь чувствовать себя лучше, даже в той же одежде. — Зачем мыться, а потом надевать мятую одежду? — С каких это пор ты стал таким франтом, что тебя волнуют подобные мелочи? Он улыбнулся, встал со стула и с ужимками прогарцевал в ванную, изображая безнадежного идиота, который соглашается на подобное мероприятие. — Король с королевой будут шокированы, когда увидят меня в таком виде. — Не беспокойся, мы тебя спрячем, если они прибудут с визитом. Через минуту он выскочил из ванной. — Там в уборной плавает какое-то насекомое. Наверное, таракан, я точно не знаю. — Для тебя важно, какая это разновидность? Может, ты хочешь известить ближайших родственников погибшего? Крис рассмеялся. Господи, как хорошо было слышать его смех! Он спросил: — Что, мне спустить воду в уборной? — Если только ты не собираешься выловить его оттуда, положить в спичечную коробку и похоронить в клумбе под окном. Он снова рассмеялся. — Нет. Мы устроим похороны в море. — Он протрубил отходную и затем спустил воду. Пока Крис мылся, комики исчезли с экрана и начался баскетбольный матч. Лора не смотрела на экран, но шум действовал ей на нервы, и она переключила телевизор на новости на одиннадцатом канале. Некоторое время она наблюдали за раненым, ее пугал его неестественный сон. Несколько раз, не вставая со стула, она немного раздвигала портьеры и оглядывала стоянку мотеля, но никто на всем свете не мог знать, где они прячутся; пока им не грозила никакая опасность. В новостях брали интервью у молодого актера, который нудно и бестолково рассказывал о себе, и скоро Лора заметила, что он почему-то говорит о воде, но она почти дремала, и его настойчивое требование воды показалось ей неуместным и странным. — Мама! Лора открыла глаза, выпрямилась и увидела в дверях ванной Криса. Он только что вышел из-под душа. У него были мокрые волосы, и он был в одних трусах. При виде его худого мальчишеского тела, состоявшего из одних ребер, локтей и коленок, у нее дрогнуло сердце; он выглядел таким слабым и ранимым, таким маленьким и хрупким, что она усомнилась, сумеет ли защитить его, и страх снова зашевелился в ее душе. — Мама, он что-то говорит. — Крис показывал на человека на кровати. — Разве ты не слышишь? Он говорит. — Воды, — хрипло произнес раненый. — Воды. Лора бросилась к кровати и склонилась над ним. Он пришел в сознание. Он пытался сесть, но у него не хватало сил. Его голубые глаза были открыты, и, хотя они были воспалены, их взгляд был пристальным и внимательным. — Пить, — сказал он. Лора позвала: — Крис! Он уже был рядом со стаканом воды в руке. Лора села на кровать рядом с хранителем, приподняла ему голову, взяла у Криса стакан и начала его поить. Она поила его с перерывами, чтобы он не задохнулся. Его губы были обметаны и потрескались, а язык покрыт белым налетом, похожим на пепел. Он выпил треть стакана и знаками показал, что больше не хочет. Лора опустила его голову на подушку, попробовала лоб. Жар спал. Он поворачивал голову из стороны в сторону, стараясь понять, где находится. Хотя он утолил жажду, его голос оставался хриплым, надтреснутым. — Где мы? — Мы в безопасности, — ответила Лора. — Мы нигде не можем быть в безопасности. — Хочу вам сказать, что мы немного разобрались в этой немыслимой ситуации. — Верно, — подтвердил Крис, сидя на кровати рядом с матерью. — Мы знаем, что вы путешествуете во времени. Человек посмотрел на мальчика, с трудом улыбнулся и сморщился от боли. — У меня есть лекарство, — сказала Лора. — Болеутоляющее. — Не надо, — ответил ее хранитель. — Не сейчас. Попозже. Можно еще воды? Лора снова его приподняла, и на этот раз он допил всю воду, что оставалась в стакане. Она вспомнила о пенициллине и положила ему в рот капсулу. Он проглотил ее с двумя последними глотками воды. — Вы из какого времени? — допытывался глубоко заинтересованный Крис, не замечая, что капли стекают с его мокрых волос. — Из какого? — Милый, — остановила его Лора, — ты же видишь, какой он слабый, ему сейчас не до вопросов. — Но это он нам может сказать, мама. Вы из какого времени? Человек посмотрел на Криса, потом на Лору, и в его глазах опять появилось испуганное выражение. — А все-таки, из какого вы времени? Какой это год? Две тысячи сотый? Трехтысячный? Своим хриплым надтреснутым голосом тот ответил: — Одна тысяча девятьсот сорок четвертый. Было видно, что этот короткий разговор утомил его, у него закрылись глаза, а голос звучал все тише; Лора была уверена, что он вновь погружается в забытье. — Какой? — переспросил Крис в растерянности от полученного ответа. — Тысяча девятьсот сорок четвертый. — Не может быть, — удивился Крис. — Берлин, — прошептал раненый. — Он бредит, — пояснила Лора Крису. Усталость брала верх, и его речь звучала невнятно, но он точно произнес: «Берлин». — Берлин? — переспросил Крис. — Вы хотите сказать, Берлин в Германии? Но раненый уже спал, хотя это не было прежнее тяжелое забытье, а сон с легким похрапыванием; за секунду до этого он уточнил: — В нацистской Германии.4
Крис больше не смотрел на экран телевизора, где шла «мыльная опера»; вместе с Лорой они придвинули стулья поближе к кровати, чтобы следить за состоянием спящего человека. Крис уже оделся; мокрые волосы высохли, за исключением прядей на шее. Лоре тоже очень хотелось принять душ, но она не решалась даже на секунду отойти от раненого на случай, если он проснется и заговорит. Они с Крисом беседовали шепотом. — Послушай, Крис, какая мысль пришла мне в голову: если эти люди из будущего, то почему они не были вооружены каким-нибудь необыкновенным оружием, например, лазерным? — Они не хотели, чтобы кто-то догадался, что они из будущего, — объяснил Крис. — Их оружие и одежда не должны их выдавать. Но, мам, он ведь сказал… — Я помню, что он сказал. Но это какая-то чепуха. Если они могли путешествовать в тысяча девятьсот сорок четвертом, то мы об этом наверняка бы знали, как ты думаешь? В час тридцать раненый проснулся и сначала не мог сообразить, где он находится. Он снова попросил воды, и Лора его напоила. Он сказал, что ему стало лучше, хотя он чувствует большую слабость и все время хочет спать. Он попросил, чтобы его подняли повыше. Крис достал из шкафа дополнительные подушки, и вместе с Лорой они подложили их ему за спину. — Как вас зовут? — спросила Лора. — Штефан. Штефан Кригер. Лора тихо повторила имя; это было хорошее имя, не очень звучное, но солидное, как и положено мужчине. Но оно мало подходило ангелу-хранителю, и она невольно улыбнулась при мысли, что после стольких лет, включая два десятилетия, когда она перестала верить в его существование, она по-прежнему ожидала, что его имя будет мелодичным и неземным. — И вы из… — Тысяча девятьсот сорок четвертого, — повторил он. Пот мелкими каплями выступил у него на лбу от усилий держаться в сидячем положении; а может быть, его взволновали воспоминания о тех временах и местах, откуда началось его путешествие. — Берлин в Германии. Знаете, был такой выдающийся польский ученый Владимир Пенловский, некоторые его считали немного сумасшедшим, даже безумцем. Он жил в Варшаве и двадцать пять лет разрабатывал теорию о природе времени, пока Германия и Россия не сговорились о вторжении в Польшу в 1939 году… По словам Штефана Кригера, Пенловский симпатизировал нацистам и приветствовал вторжение гитлеровских войск в Польшу. Возможно, он знал, что получит от Гитлера финансовую поддержку для своих исследований, на что он не мог рассчитывать, когда у власти находились более трезвые умы. Заручившись покровительством самого Гитлера, Пенловский и его ближайший помощник Владислав Янушский перебрались в Берлин, и создали институт исследований природы времени, столь засекреченный, что он не имел официального названия. Его называли просто «Институт». Там в сотрудничестве с немецкими учеными, в равной степени преданными идее и такими же прозорливыми, питаемый обильным потоком средств «третьего рейха», Пенловский проник в тайну времени и передвижения в пространстве дней, месяцев и лет. — Блицштрассе, — сказал Штефан. — «Блиц» — это значит «молния», — подхватил Крис. — Как «блицкриг» — «молниеносная война» во всех этих старых фильмах. — Тут это означает «Молниеносный Транзит», — пояснил Штефан. — Транзит сквозь время. Дорога в будущее. Скорее ее можно было бы назвать «Цукунфтштрассе», или «Дорога в будущее», — рассказывал Штефан, — поскольку Владимир Пенловский не изобрел способа отправлять людей назад в прошлое с помощью созданных им Ворот. Они могли двигаться только вперед, в свое будущее, и возвращаться обратно в свою эпоху. Видимо, существует некий космический механизм, который не дает путешествующим во временном пространстве вмешиваться в их собственное прошлое, чтобы изменить настоящее. Видите ли, если бы они могли двигаться назад во времени, в свое собственное прошлое, то возникли бы… — Парадоксы! — возбужденно воскликнул Крис. Штефан с удивлением посмотрел на мальчика: он не ожидал услышать от него подобное слово. Улыбаясь, Лора сказала: — Как я вам уже говорила, мы довольно долго обсуждали вопрос о вашем появлении, и путешествие во времени показалось нам наиболее логичным объяснением. Что же касается Криса, то перед вами мой собственный эксперт в области загадочного и неведомого. — Парадокс, — согласился Штефан, — одно и то же слово в английском и немецком языках. Если путешествующий во времени сможет возвращаться назад в свое прошлое и влиять на какое-то историческое событие, то подобное изменение будет иметь грандиозные последствия. Оно может изменить то самое будущее, из которого он явился. Значит, он возвратится не в тот мир, который покинул. — Парадокс! — Крис был в восторге. — Парадокс, — согласился Штефан. — Природа явно отвергает парадоксы и не позволяет путешественнику во времени создавать такие прецеденты. И слава Богу. Потому что… представьте себе, что Гитлер направил в прошлое убийцу, чтобы уничтожить Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля задолго до того, как они пришли к власти, что, в свою очередь, привело бы к избранию на эти должности других людей в США и Англии, которые не были бы такими выдающимися личностями и с которыми легче было бы справиться, а это помогло бы Гитлеру одержать победу в сорок четвертом году или даже раньше. Он говорил с большим подъемом, но было ясно, что его силы на исходе, и Лора видела, как он слабел с каждым словом. Пот вновь заблестел у него на лбу, хотя он лежал неподвижно и не подкреплял свою речь жестами. Резче обозначились круги под глазами. Но Лора не останавливала его, не настаивала на отдыхе: она хотела, она была обязана услышать все, что он расскажет; к тому же он вряд ли позволил бы ей прервать повествование. — Предположим, что фюрер направил в прошлое людей, чтобы убить Дуайта Эйзенхауэра, Джорджа Паттона, фельдмаршала Монтгомери, убить их в колыбели, когда они еще были младенцами, уничтожить их и другие выдающиеся военные умы союзников. Тогда и 1944 году ему бы принадлежал весь мир, и в таком случае путешественники во времени возвращались бы в прошлое, чтобы убить людей, которые уже давно мертвы и не представляют опасности. Как видите, это парадокс. Слава Богу, природа не допускает подобных парадоксов, не разрешает путешественнику во времени экспериментировать со своим прошлым, иначе Адольф Гитлер превратил бы весь мир в один концентрационный лагерь и крематорий. Они на минуту замолчали, представляя себе картину подобного земного ада. Даже Крис был взволнован такой перспективой, потому что он был ребенком восьмидесятых годов, когда злодеи в кино и на телевидении обычно изображались в виде безжалостных пришельцев с далекой звезды или нацистов. Свастика, серебряная мертвая голова, черные мундиры СС и этот непонятный фанатик с маленькими усиками особенно пугали Криса, потому что они были частью мира, который он видел по телевидению, он воспитывался на этих передачах, и Лора понимала, что этот мир был для любого ребенка в какой-то мере более реальным и пугающим, чем каждодневная жизнь. Штефан продолжал: — Таким образом, мы в Институте могли двигаться только вперед, и это имело свои положительные стороны. Мы могли преодолевать сразу несколько следующих десятилетий и узнавать, выстояла ли Германия в тяжелые военные годы, и пытаться каким-то образом изменить ход событий. Но, конечно, мы узнали, что Германия не выстояла и «третий рейх» потерпел поражение. И все-таки, располагая такими знаниями о будущем, разве нельзя было попытаться каким-то образом изменить ход событий? Даже в сорок четвертом Гитлер мог еще спасти рейх. И, кроме того, из будущего можно было позаимствовать изобретения, которые помогли бы выиграть войну… — Такие, как атомная бомба! — завершил Крис. — Или сведения о том, как ее создать, — сказал Штефан. — Как вы знаете, рейх уже вел ядерные исследования, и если бы они успели достаточно рано расщепить атом… — То они бы выиграли войну, — продолжил Крис. Штефан попросил воды и выпил полстакана. Он хотел взять стакан здоровой рукой, но она так дрожала, что вода выплескивалась на кровать, и Лора сама его напоила. Когда он вновь заговорил, у него иногда срывался голос. — Поскольку при скачке в будущее путешественник находится вне времени, он перемешается не только во временном пространстве, но также и в географическом. Представьте себе, что он как бы неподвижно завис над Землей, а земной шар под ним продолжает вращение. Это, конечно, не совсем то, что с ним происходит, но это легче понять, чем вообразить его движение в другом измерении. Так вот, он завис над земным шаром, который вращается под ним, и, если расчеты скачка в будущее сделаны к правильно, он может, к примеру, прибыть в Берлин точно в определенную эпоху, в тот же город, который он покинул годы назад. Но стоит ему хотя бы на несколько часов превысить или уменьшить период скачка, как Земля под ним совершит дополнительный поворот и он окажется в другой географической точке. Подобные расчеты по точному прибытию необычайно трудно выполнить в мое время, в 1944 году… — И не представляют никакой трудности в наши дни, когда есть компьютеры, — завершил Крис. Штефан подвинулся на подушках, прижал дрожащую руку к левому раненому плечу, как будто это прикосновение могло уменьшить боль. — Группы немецких ученых в сопровождении людей из гестапо были тайно направлены в 1985 год в различные города Европы и Соединенных Штатов для сбора необходимой информации о производстве ядерного оружия. Документы, которые они хотели добыть, не имели грифа «секретно» и были легко доступны. Они уже располагали результатами своих исследований, и к ним надо было только добавить информацию из учебников и научных публикаций, которые в 1985 году имелись в каждой крупной университетской библиотеке. За четыре дня до того как я в последний раз покинул Институт, эти группы возвратились из 1985 года в март 1944-го и доставили документы, которые позволят «третьему рейху» создать ядерный арсенал к осени 1944 года. Несколько недель уйдет на их изучение в Институте, прежде чем решат, как и где внедрить полученные сведения в немецкую ядерную программу, чтобы не вызвать подозрения в отношении их источников. Именно тогда я понял, что мне надо уничтожить Институт со всеми его документами, а также ведущих ученых, чтобы будущее не оказалось в руках Адольфа Гитлера. С напряженным вниманием Лора и Крис ловили каждое слово Штефана Кригера о том, как он установил заряды в Институте, как в последний день своего пребывания в 1944 году застрелил Пенловского, Янушского и Волкова и как он запрограммировал Ворота времени, чтобы перенестись в современную Америку к Лоре. Но в последнюю минуту произошла авария. Прекратилась подача городской электроэнергии. Английские самолеты впервые бомбили Берлин в январе сорок четвертого, а американские бомбардировщики провели первый дневной налет на город шестого марта. Перебои в подаче электричества стали обычным деломне только из-за бомбардировок, но и из-за саботажников. Именно из-за таких перебоев питание Ворот производилось от автономного генератора. В тот день, когда его ранил Кокошка и он ползком преодолел Ворота, Штефан не слышал шума бомбардировщиков, значит, отключение электричества было делом рук саботажников. — Взрывной часовой механизм тоже остановился. Ворота не были разрушены. Они по-прежнему функционируют, и люди Кокошки могут явиться сюда. А самое главное… они по-прежнему могут выиграть войну. У Лоры опять начиналась головная боль. Она прижала пальцы к вискам. — Но постойте, Гитлеру не удалось создать атомное оружие и выиграть вторую мировую войну, раз мы не живем в мире, где это случилось. Вам нечего беспокоиться. Каким-то образом, несмотря на всю ту информацию, которую они добыли с помощью Ворот времени, им определенно не удалось создать ядерный арсенал. — Вы ошибаетесь, — сказал Штефан. — Пока им это не удалось, но это не значит, что это им не удастся вообще. Как я вам уже говорил, эти люди в Институте в 1944 году не могут изменить прошлое. Они не могут совершить скачок назад и переделать собственное прошлое. Но они могут менять свое будущее и наше с вами тоже, потому что путешественник во временим пространстве обладает такой возможностью, и это зависит от его воли. — Но его будущее — это мое прошлое, — сказала Лора. — И если прошлое нельзя изменять, то как он может сделать это в отношении меня? — Вот так, — заметил Крис. — Вот вам и парадокс. Лора настаивала: — Послушайте, я прожила тридцать четыре года в мире, где нет Гитлера и его наследников, так что Ворота времени ему не помогли. Гитлер проиграл. Штефан не сдавался. — Если бы путешествие во времени было изобретено сейчас, в 1989 году, то прошлое, о котором вы говорите, — вторая мировая война и все последующие события — нельзя было бы изменить. Вы не могли бы их изменить, потому что к вам был бы применим закон природы, который исключает скачки в прошлое и связанные с этим парадоксы. Но Америка не сумела открыть такую вещь, как путешествие во, времени, или узнать, что подобное когда-то было возможно. А сотрудники Института в Берлине в 1944 году способны изменить свое будущее, и, хотя одновременно они будут изменять и ваше прошлое, это никак не противоречит законам природы. И вот тут-то и возникает самый величайший из всех парадоксов и единственный, который по каким-то причинам допускает природа. — Вы хотите сказать, что они могут там у себя создать ядерное оружие на основе данных, которые они заполучили в 1985 году? И выиграть войну? — Да. Если не успеть до этого уничтожить Институт. — И что тогда? Значит, внезапно все вокруг нас изменится и мы окажемся под властью нацизма? — Именно так. Но вы об этом никогда не узнаете, потому что вы будете другим человеком. У вас не будет того прошлого, какое у вас есть сейчас. У вас будет совершенно иное прошлое, и вы будете помнить только его и ничто другое, ничто, что случилось с вами в этой жизни, потому что этой жизни у вас никогда не было. Мир для вас будет таким, какой он есть, и вы никогда не узнаете, что был другой мир, в котором Гитлер потерпел поражение. Страх и отчаяние охватили Лору, жизнь всегда казалась ей хрупкой и ненадежной, но эта перспектива ужасала. Мир вокруг потерял реальность и стал призрачным царством снов; в любое мгновение земля под ногами могла разверзнуться и навсегда ее поглотить. Все более ужасаясь, она сказала: — Если они изменят мир, в котором я выросла, то я никогда не встречу Дании, не выйду за него замуж. — А я могу вообще не родиться, — заметил Крис. Лора потянулась к Крису, положила руку ему на плечо, чтобы успокоить его, да и себя тоже, убедиться, что он действительно существует. — Я сама могу не появиться на свет. Все, что я видела, все хорошее и плохое, что было в мире с 1944 года… все исчезнет, как дом из песка, а вместо этого возникнет другая, новая реальность. — Новая и страшная, — уточнил Штефан, явно утомленный своими усилиями показать, что было поставлено на карту. — И в этом новом мире я, возможно, не напишу ни единой книги. — А если и напишете, — сказал Штефан, — то это будут совсем другие книги, абсурдные произведения мастера, который творит под гнетом деспотической власти, в железных тисках нацистской цензуры. — Если эти типы создадут в 1944 году атомную бомбу, — сказал Крис, — то считайте, что от нас всех осталась одна пыль. — Пыль, пожалуй, — согласился Штефан Кригер. — Исчезнем, не оставив никакого следа, как будто нас и не было. — Нам надо их остановить, — объявил Крис. — Если только нам это удастся, — сказал Штефан. — Но прежде всего мы должны выжить в этой действительности, а это трудная задача.* * *
Штефан попросился в туалет, и Лора повела его в ванную комнату, словно медицинская сестра, привычная к уходу за больным мужчиной. Когда они вернулись обратно и Лора уложила его в постель, она вновь забеспокоилась о его состоянии: он был вялым, потным и совсем слабым. Она в нескольких словах рассказала ему о перестрелке у Бренкшоу, когда он был без сознания. — Если эти убийцы являются из прошлого, а не из будущего, то как они нас находят? Как они могут знать в 1944 году, что через сорок пять лет мы будем в этот день и час у доктора Бренкшоу? — Чтобы обнаружить вас, — объяснил Штефан, — они совершили два скачка. Сначала один в более отдаленное будущее, хотя бы на пару дней вперед, к примеру, в предстоящий уик-энд, чтобы разведать, не появились ли вы где-нибудь к этому времени. Если нет — а вы не появились, — тогда они стали изучать доступную информацию. Такую, как старые номера газет. Они искали сообщения о перестрелке в вашем доме прошлой ночью, и из них узнали, что вы отвезли раненого к доктору Бренкшоу в Сан-Бернардино. Тогда они вернулись обратно в сорок четвертый год и совершили второй скачок, на этот раз рано утром сегодня, одиннадцатого января, и навестили доктора Бренкшоу. — Они так и скачут вокруг нас, — сказал Крис Лоре. — Они могут прыгнуть вперед, чтобы разведать, где мы появились, а потом выбирать во временном потоке самое подходящее место, чтобы нас подстеречь. Это как игра: мы ковбои, а они индейцы, но только индейцы-невидимки.* * *
— А кто такой Кокошка? — спросил Крис. — Тот, что убил моего отца? — Он начальник службы безопасности Института, — ответил Штефан. — Он утверждал, что он родственник известного австрийского художника-экспрессиониста, только это ложь, нашего Кокошку никак нельзя было назвать тонкой натурой. Штандартенфюрер, что значит полковник, — вот кем был Генрих Кокошка, он работал на гестапо и был опытным убийцей. — Гестапо, — в ужасе произнес Крис. — Это ведь секретная полиция? — Государственная полиция, — поправил Штефан. — Широко известная, но действующая втайне. Когда Кокошка появился на той горной дороге в 1988 году, то для меня это тоже было неожиданностью. Мы не видели никакой молнии. Должно быть, он прибыл в отдаленную точку за пятнадцать-двадцать миль от нас, в какую-нибудь другую долину Сан-Бернардино, поэтому мы и не видели молнии. Штефан объяснил, что молния, возвещавшая о появлении людей из прошлого, была тесно связана с местом их прибытия. — После нашей встречи с Кокошкой на дороге я считал, что мои коллеги в Институте уже будут извещены о моей измене, но, когда я туда вернулся, никто не обратил на меня особого внимания. Я не знал, что и думать. Только когда я убил Пенловского и других, когда я в главной лаборатории готовился к последнему скачку в будущее, туда ворвался Генрих Кокошка и ранил меня. Он был жив! Он не умер на той дороге в 1988 году. Только тут я понял, что Кокошка всего несколько минут назад узнал о моей измене, когда обнаружил убитых. Он отправился в 1988 год позанес, чтобы попытаться убить меня и всех вас. Это означало, что Ворота продолжали функционировать, иначе он не мог бы осуществить свой замысел, и что я был обречен на неудачу, когда хотел их разрушить. По крайней мере, в тот момент. — Господи, у меня разламывается голова, — пожаловалась Лора. Что касается Криса, то он прекрасно разбирался во всех сложностях путешествия во времени. Он сказал: — Значит, сначала вы вчера появились у нас дома, а Кокошка после этого отправился в 1988 год и убил моего отца. Вот это да? Значит, мистер Кригер, вы убили Кокошку сорок три года спустя после того, как он ранил вас в лаборатории… и все-таки вы убили его до того, как он ранил вас. Правда, это фантастика, мам? Вот здорово! — Здорово, — согласилась Лора. — А каким образом Кокошка узнал, что вы будете на горной дороге? — Когда он понял, что я убил Пенловского, и после того как мне удалось уйти через Ворота, Кокошка, видимо, обнаружил взрывчатку на чердаке и в подвале. Затем он проверил данные автоматического регистратора, отмечающего все случаи использования Ворот. Проверка этих данных входила в круг моих обязанностей, вот почему никто раньше не обнаружил, что я совершал скачки в вашу жизнь, Лора. Как бы там ни было, сам Кокошка тоже немало попутешествовал, чтобы выяснить, куда я направился; тайно следил за мной, за тем, как я изменяю вашу судьбу. Должно быть, он следил за мной и на кладбище в день похорон вашего отца и когда я избил Шинера, хотя я этой слежки никогда не замечал. Таким образом, из всех моих путешествий в вашу жизнь — и когда я просто наблюдал за вами, и когда я вас спасал — он выбрал момент, чтобы нас убить. Меня он хотел убить, потому что я был изменником, а вас и вашу семью, потому… потому что понимал, как вы мне дороги. «Почему? — подумала Лора. — Почему я дорога тебе, Штефан Кригер? Почему ты вмешивался в мою жизнь, чтобы изменить мою судьбу?» Ей хотелось задать эти вопросы, но ему еще надо было многое рассказать о Кокошке. Он быстро слабел и с трудом следил за ходом своих мыслей. Лора не хотела его перебивать или путать. Он продолжал: — По данным хронометров и графикам пульта программирования Кокошка мог определить время и конечную цель моего путешествия, а именно вчерашний вечер и ваш дом. Видите ли, я хотел вернуться в ту ночь, когда умер Дании, как я вам и обещал, а вместо этого вернулся на год позже, и только потому, что допустил ошибку при вводе в машину моих расчетов. После того как я, раненный, покинул Институт через Ворота, Кокошка, видимо, обнаружил мои расчеты и заметил сделанную мною ошибку. Он знал, где искать меня не только прошлой ночью, но и тогда, когда был убит Данни. Можно сказать, что, когда я явился, чтобы спасти вас от гибели под грузовиком, я привел за собой убийцу Дании. Это моя вина, хотя не явись я, Дании все равно бы погиб при столкновении с грузовиком. Но все-таки вы и Крис остались живы. По крайней мере, на данный момент. — А почему Кокошка не последовал за вами в 1989 год, в наш дом прошлым вечером? Он ведь знал, что вы ранены и будете легкой добычей. — Но он также знал, что я буду его ждать, и боялся, что я вооружен и окажу сопротивление. Поэтому он избрал 1988 год, где я не ожидал его встретить, и его внезапное появление давало ему преимущество. Наверное, Кокошка также предполагал, что если он выследит и убьет меня в 1988 году, то я никогда не вернусь в Институт с той горной дороги и у меня не будет возможности убить Пенловского. Он воображал, что сумеет перехитрить время и аннулировать совершенное убийство и таким образом спасти руководителя Проекта. Но, конечно, это было не в его силах, потому что тогда он изменил бы собственное прошлое, а это невозможно. Пенловский и другие люди уже были мертвы, и ничто не могло их оживить. Если бы Кокошка лучше разбирался в законах перемещения во временном пространстве, он бы знал, что я его убью, когда он последовал за мной в 1988-м, потому что к тому моменту, когда он совершил этот скачок, чтобы отомстить за Пенловского, я уже благополучно вернулся из этой ночи в Институт. Крис спросил: — Как ты себя чувствуешь, мама? — В самый раз принять тройную дозу аспирина. — Я понимаю, что во всем этом трудно сразу разобраться, — продолжал Штефан. — Но вы хотели знать, кто такой Генрих Кокошка. Или, вернее, кем он был. Это он снял заряды, которые я установил. Из-за него и из-за перерыва в подаче электричества остановился часовой механизм взрывателя и Институт по-прежнему стоит на месте. Ворота продолжают функционировать, а агенты гестапо пытаются выследить нас в вашем времени, чтобы убить. — Зачем? — спросила Лора. — Чтобы отомстить, — объяснил Крис. — Неужели они совершают скачок через сорок пять лет, чтобы убить нас ради мести? — удивилась Лора. — Наверное, тут есть что-то другое. — Вы угадали, — ответил Штефан. — Они хотят уничтожить нас, потому что считают, что мы единственные люди, которые могут найти способ уничтожить Ворота до того, как нацисты выиграют войну и изменят свое будущее. И их опасения вполне оправданны. — Но как? — в растерянности спросила Лора. — Как мы можем уничтожить Институт «сорок пять лет тому назад? — Пока не знаю, — ответил Штефан. — Надо подумать. У Лоры были новые вопросы, но Штефан покачал головой. Он окончательно обессилел и скоро снова погрузился в сон.* * *
Крис пообедал бутербродами с арахисовой пастой и другими припасами, купленными в супермаркете. У Лоры не было аппетита. Она рассчитывала, что Штефан проспит несколько часов, и поэтому приняла душ. И сразу почувствовала себя значительно лучше, даже в мятой одежде. Послеобеденное время на телевидении было заполнено всякой чепухой: «мыльные оперы», телевизионные игры, снова «мыльные оперы», повтор сериалов и неизменный Фил Донахью, мелькающий среди публики в студни, пытаясь вызвать у нее понимание и сочувствие к печальной судьбе дантистов-трансвеститов. Она добавила в обойму «узи» патронов» которые купила этим утром в оружейном магазине. Снаружи угасал день, и в вышине возникали и росли кучи темных облаков, пока не закрыли всю голубизну неба. Веерная пальма, рядом с которой стоял похищенный «Бьюик», плотнее сомкнула свои ветви в ожидании бури. Лора расположилась на одном из Двух стульев, положила ноги на кровать, закрыла глаза и немного подремала. Она проснулась от плохого сна: ей пригрезилось, что она не из плоти, а из песка и налетевший ливень стремительно размывает ее тело. Крис спал, сидя на втором стуле, и Штефан на кровати был по-прежнему погружен в спокойный глубокий сон. Пошел дождь, глухо барабаня по крыше мотеля, колотя по лужам на стоянке, отчего возникал равномерный усыпляющий шум. Это был обычный, характерный для Южной Калифорнии дождь, почти что тропический ливень, упорный и бесконечный, без грома и молнии. Иногда тут случались дожди в сопровождении подобной пиротехники, но не так часто, как в других местах. Теперь у Лоры были особые причины благодарить Бога за такие особенности климата, потому что, появись молния и загреми гром, ей пришлось бы раздумывать, что это такое: естественное природное явление или знак прибытия агентов гестапо из другой эпохи. Крис проснулся в пять пятнадцать, а Штефан Кригер спустя пять минут. Оба объявили, что голодны; у Штефана появились и другие признаки выздоровления. Если раньше глаза у него были воспалены и слезились, то теперь эти симптомы исчезли. Опираясь на здоровую руку, он сумел сесть на кровати. Его левая рука, раньше бесчувственная и бесполезная, теперь ожила, и Штефан мог ее сгибать, двигать пальцами и даже сжимать их в кулак. Лоре хотелось вместо обеда получить ответы на свои вопросы, но жизнь, среди прочего, научила ее терпению. Когда этим утром в одиннадцать они подъехали к мотелю, она приметила на другой стороне улицы китайский ресторанчик. С неохотой оставив Штефана и Криса, она вышла под дождь на улицу и направилась к нему, чтобы запастись едой. Она спрятала под куртку свой «смитт-вессон» и оставила «узи» на кровати рядом со Штефаном. Автомат был слишком большим и тяжелым для Криса, а Штефан в случае необходимости мог привалиться к спинке кровати и вести стрельбу одной правой рукой, хотя боль от отдачи в левом плече была бы невыносимой. Она вернулась, мокрая от дождя, и разложила вощеные коробки с пищей для себя и Криса на кровати, а две порции мясного бульона с яйцом для Штефана поставила на столик у изголовья. Запахи в ресторане разбудили ее аппетит, и она накупила еды с избытком: курицу в лимонном соусе, мясо по-кантонски, креветки в тесте, свинину в соевом соусе, печенку с грибами и две коробки риса на гарнир. Пока Лора с Крисом пробовали все блюда подряд с помощью пластмассовых вилок, заливая еду кока-колой, которую Лора взяла в автомате мотеля, Штефан пил бульон. Он думал, что не сможет есть что-то более тяжелое, но после бульона решил попробовать курицу и печенку. Пока они ели, он, по просьбе Лоры, рассказывал о себе. Он родился в 1909 году в немецком городе Гиттелдс в горах Гарца; таким образом, ему было сейчас тридцать пять лет. — С другой стороны, — заметил Крис, — если учесть те сорок пять лет, которые вы перепрыгнули, когда путешествовали во времени из 1944 года в 1989-й, то вам на самом деле все восемьдесят. — Крис рассмеялся довольным смехом. — Да, вы действительно прекрасно выглядите для восьмидесятилетнего старикашки! После первой мировой войны семья переехала в Мюнхен. Отец Штефана, Франц Кригер, уже в 1919 году поддерживал Гитлера и состоял членом Немецкой рабочей партии с того самого момента, как Гитлер начал свою политическую карьеру в этой организации. Вместе с Гитлером и Антоном Дрекслером он разрабатывал платформу, которая позволила в конечном итоге превратить это первоначальное общество для дебатов в настоящую политическую партию, позднее ставшую национал-социалистской. — Я одним из первых вступил в гитлерюгенд, когда его организовали в 1926 году, мне тогда было семнадцать, — рассказывал Штефан. — Не прошло и года, как я уже был в рядах штурмовиков, или СА, коричневорубашечников, боевого кулака партии, точнее, настоящей неофициальной армии. К 1928 году я стал членом СС… — Членом СС! — перебил Крис с ужасом и одновременно некоторым почтением, как если бы речь шла о вампирах или оборотнях. — Вы были членом СС? Вы носили черную форму с серебряной мертвой головой, и у вас был кинжал? — Тут мне нечем хвастаться, — ответил Штефан Кригер. — В те времена я, конечно, очень этим гордился, это ясно. Я был глупцом. Глупцом, который во всем следовал воле отца. Первоначально СС была небольшой элитной группой, и в наши задачи входила охрана фюрера, даже ценою собственной жизни, если бы это понадобилось. Нам было от восемнадцати до двадцати двух, мы были молодые, невежественные и горячие. В свою защиту могу сказать, что я был не таким уж горячим, не то что фанатики, которые меня окружали. Я выполнял волю отца и в те времена совершенно ни в чем не разбирался. Порывы ветра с дождем ударяли в окно, вода громко журчала в водосточном желобе снаружи. После сна и особенно бульона Штефан ожил. Но теперь, вспоминая молодость, проведенную в кипящем котле ненависти и смерти, он вновь побледнел, и его глаза, казалось, еще глубже запали в темных глазницах. — Мне и в голову не приходило выйти из СС, это было завидное положение, да я и не мог этого сделать, не вызвав подозрения, что я потерял веру в нашего обожаемого фюрера. Но с каждым годом, месяцем, а потом и днем я начал испытывать все большее отвращение к тому, что видел, этому безумию, убийствам и террору. Лоре не хотелось больше ни креветок в тесте, ни курицы в лимонном соусе, ни даже просто риса; у нее пересохло во рту. Она отодвинула в сторону коробки с пищей, довольствуясь кока-колой. — Но если вы оставались в рядах СС, то когда же вы получили образование? Когда начали заниматься научными исследованиями? — А, вы об этом, — сказал Штефан. — Но я в Институте не занимался научной работой. У меня нет высшего образования. Правда, в течение двух лет я проходил курс интенсивного обучения английскому языку, чтобы научиться говорить с достаточно хорошим американским акцентом. Я был участником проекта по засылке сотен глубоко засекреченных агентов в Великобританию и Соединенные Штаты. Но я не мог до конца избавиться от немецкого акцента, и поэтому меня не могли использовать; кроме (того, мой отец поддерживал Гитлера с самого начала, поэтому они меня считали очень надежным элементом и нашли для меня другое применение. Я выполнял особые задания фюрера, всякие деликатные поручения, обычно в качестве посредника между враждующими фракциями в правительстве. Это было отличное место для сбора информации, что я и делал с 1938 года. — Вы были шпионом? — возбужденно спросил Крис. — В некотором роде да. Я старался внести хотя бы небольшой вклад в уничтожение рейха, чтобы как-то загладить свою вину за прошлое, когда я ему служил добровольно. Я хотел искупить свою вину, хотя понимал, что это невозможно. И вот осенью 1943 года, когда у Пенловского дела пошли особенно успешно, меня назначили в Институт наблюдателем, личным представителем фюрера. А также в качестве морской свинки, первого человека, которого отправят в будущее. Видите ли, когда пришло время проводить испытания, они не желали рисковать Пенловским, Янушским или Гельмутом Волковым, и даже Миттером или Шенком или еще каким-нибудь ученым, чья потеря могла бы повредить Проекту. Никто не знал, вернется ли обратно человек, как обязательно возвращались животные, и вернется ли обратно целым и невредимым. Крис с серьезным видом кивнул: — Да, конечно, путешествие во времени могло оказаться болезненным, или воздействовать на психику, или еще что-нибудь такое. Как знать? «Действительно, как знать?» — подумала Лора. Штефан продолжал: — Еще они хотели, чтобы тот, кого они посылают, был надежным и мог сохранить в секрете свое задание. Выбор пал на меня. — Офицер СС, шпион и первый хрононавт, — сказал Крис. — Вот это карьера. — Очень желаю тебе, чтобы твоя карьера не была столь бурной, — сказал Штефан Кригер. Затем он смелее, чем прежде, посмотрел на Лору. У него были прекрасные, необычайной голубизны глаза, но в них застыло страдальческое выражение. — Лора… что вы теперь думаете о своем хранителе? Он совсем не ангел, а пособник Гитлера, эсэсовский преступник. — Преступник, нет, ни в коем случае, — сказала Лора. — Возможно, ваш отец, ваша эпоха и ваше общество и попытались сделать из вас преступника, но они не могли лишить вас внутреннего стержня, покорить вашу душу. Вы не преступник, Штефан Кригер. И никогда им не были. Никогда. — Но и не ангел, — сказал он. — До ангела мне далеко, Лора. После смерти, когда Высший Судия увидит, как я запятнал свою душу, мне предоставят местечко в аду. Дождь, что стучал по крыше, был подобен потоку убегающего времени, многим миллионам драгоценных минут, часов, дней и лет, потерянных и невозвратимых, как капли, исчезающие в трубах и ручейках.* * *
Лора собрала остатки пищи и бросила их в мусорный бак позади мотеля, взяла еще три бутылки кока-колы из автомата, по одной на каждого, и наконец решила задать своему хранителю тот самый вопрос, который не давал ей покоя с тех пор, как он пришел в себя. — Почему? Почему такое внимание ко мне, к моей жизни, почему вы хотели мне помочь, почему спасали мне жизнь, приходили ко мне на помощь? Ради Бога, объясните мне, каким образом моя судьба связана с нацистами, путешественниками во времени и судьбой мира? Его третьим путешествием в будущее, объяснил Штефан, было посещение Калифорнии в 1984 году. Он выбрал Калифорнию потому, что два его предыдущих путешествия, две недели в 1954-м и две недели в 1964 году, убедили его, что Калифорния, возможно, будет ведущим культурным и современным научным центром передовой страны мира. Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый, потому что ровно сорок лет отделяли эту эпоху от его собственной. К тому времени он был не единственным человеком, пользовавшимся Воротами; к нему присоединились еще четверо, как только было доказано, что эти скачки в будущее безопасны. Во время третьего путешествия Штефан продолжал знакомство с будущим, изучал в подробностях события в мире в ходе войны и после нее. Он также изучал научные достижения за сорок лет, которые следовало переправить в сорок четвертый год, чтобы помочь Гитлеру выиграть войну; но не потому, что он хотел способствовать успеху этого плана, а потому, что он хотел его саботировать. Его работа включала чтение газет, просмотр телевизионных программ и просто участие в каждодневной жизни американского общества, чтобы глубже познакомиться с эпохой конца двадцатого века. Откинувшись на подушки, он вспомнил это третье путешествие, и его голос звучал без грустных интонаций, совсем по-иному, чем когда он описывал свою мрачную жизнь до 1944 года. — Вы не можете представить, что я почувствовал, когда впервые оказался на улицах Лос-Анджелеса. Если бы я совершил в будущее скачок длиною в тысячу лет, а не в сорок, вряд ли я был бы так поражен. Автомобили. Автомобили повсюду, и великое множество немецких, что означало определенное прощение греха войны, принятие новой Германии, и это меня глубоко тронуло. — У нас есть «Мерседес», — объявил Крис. — Неплохая машина, но мне джип больше нравится. — Автомобили, — продолжал Штефан, — уровень жизни, удивительные достижения повсюду: цифровые часы, домашние компьютеры, видеомагнитофоны, позволяющие смотреть фильмы прямо у себя дома. Даже через пять дней после моего прибытия я не мог опомниться от этого приятного сюрприза и каждое утро ждал новых чудес. На шестой день я проходил мимо книжного магазина в Вествуде и увидел людей, которые ждали, чтобы автор подписал им свою книгу. Я зашел внутрь, чтобы порыться в книгах, а заодно выяснить, какая книга пользовалась таким успехом: это помогло бы мне лучше понять американское общество. И я увидел вас, Лора, вы сидели у стола со стопками вашего третьего романа «Ступени», первого, который имел по-настоящему большой успех. Лора в недоумении наклонилась вперед, подвинулась на самый кончик стула. — «Ступени»? Но у меня нет романа с таким названием. Крис опять понял первым. — Эту книгу ты написала в той, другой жизни, которую ты бы прожила, если бы мистер Кригер не внес в нее коррективы. — Вам было двадцать девять, когда я впервые увидел вас в книжном магазине в Вествуде, — сказал Штефан. — Вы сидели в инвалидном кресле, потому что у вас были искривленные парализованные ноги. Ваша левая рука тоже была частично парализована. — Мама, ты была калекой? — удивился Крис. — Инвалидом? Лора приподнялась со стула, потому что, хотя слова хранителя казались чистой фантазией, она почувствовала, что это была правда. Где-то в самых глубинах души, даже не инстинктом, а неким примитивным подобием чувства, она угадала безошибочность этого образа, увидела себя в инвалидном кресле, с изуродованными безжизненными ногами; возможно, она уловила отдаленное эхо той, иной, искалеченной судьбы. — Вы такой родились, — объяснил Штефан. — Почему? — Я узнал причину значительно позже, после того как подробно изучил вашу жизнь. Врач, который в 1955 году принимал роды в Денвере в Колорадо, был алкоголиком по имени Марквелл. У вашей матери были вообще трудные роды — Моя мать умерла во время родов. — И в той жизни она умерла тоже. Но в той, прежней, жизни Марквелл не сумел хорошо принять роды и повредил вам позвоночник, отчего вы остались инвалидом на всю жизнь. Лора вздрогнула. Словно проверяя, что она действительно избежала той жизни, первоначально уготованной ей судьбой, она поднялась и подошла к окну на своих совершенно здоровых и послушных ей ногах. Штефан сказал Крису: — Когда я увидел ее в тот день в инвалидном кресле, твоя мать была необыкновенно красивой. Она была прекрасна. Конечно, у нее было то же лицо, что и сейчас. Она излучала мужество и была в таком хорошем настроении, словно не замечала своих физических недостатков. Люди, подходившие к ней с книгой, получали не только автограф, но и шутку. Твоя мать была обречена провести всю свою жизнь в инвалидном кресле, но она оставалась остроумной, веселой. Я наблюдал за ней издалека и был очарован и глубоко тронут, такого не случалось со мной никогда прежде. — Она у меня что надо, — заметил Крис. — Мамочка ничего не боится. — Твоя мамочка боится, и еще как, — сказала Лора. — Весь этот сумасшедший разговор напугал твою мамочку до смерти. — Ты никогда ни от чего не убегаешь и не прячешься, — сказал Крис и повернулся, чтобы посмотреть на нее. Он покраснел: мальчикам его возраста не пристало проявлять свои чувства, именно в это время им начинает казаться, что они куда мудрее своих матерей. Обычно подобное открытое выражение восхищения приберегается до той доры, когда ребенку стукнет сорок или когда мать умрет, в зависимости от того, какое событие наступит первым. — Может, ты и боишься, но никогда этого не показываешь. Лора еще девочкой поняла, что те, кто проявляет страх, в первую очередь подвергаются нападению. — В тот день я купил экземпляр «Ступеней», — продолжал Штефан, — и вернулся к себе в гостиницу. Я прочитал роман за ночь, и в некоторых местах он был таким трогательным, что я плакал… А в других таким забавным, что я не мог удержаться от смеха. На следующий день я купил две другие ваши книги, «Серебряные локоны» и «Ночные поля», и они были такими же талантливыми и волнующими, как «Ступени», которые сделали вас знаменитой. Странно было слушать, как ее хвалят за книги, которые она не написала в этой жизни. Но больше, чем содержание этих романов, Лору волновал другой страшный вопрос, который только что пришел ей в голову: — В той, другой жизни, в том, другом 1984 году… была ли я замужем? — Нет. — Но я встретила Дании и… — Нет. Вы никогда не встречали Дании. Вы никогда не были замужем. — А я никогда не родился! — воскликнул Крис. Штефан объяснил: — Нет, все эти вещи случились, потому что я вернулся назад, в прошлое, в Денвер, в 1955 год, и воспрепятствовал тому, чтобы доктор Марквелл принимал роды у вашей матери. Второй доктор, заменивший Марквелла, не мог спасти вашу мать, но он доставил вас в этот мир в целости и сохранности. И с этого момента все изменилось в вашей жизни. Да, я изменял ваше прошлое, но для меня это было будущее, поэтому оно поддавалось изменениям. Спасибо небу за эту особенность путешествия во времени, иначе я не мог бы вас спасти, и вы были бы обречены на жизнь инвалида. Снова налетел ветер и обрушил на окно потоки воды. Лорой овладело прежнее чувство, что комната, где она находится, земля, на которой стоит этот дом, да и вся Вселенная были ненадежны и подвержены внезапным переменам, не более прочны, чем дым, который в любое мгновение может быть развеян дыханием бури. — С тех самых пор я наблюдал за вашей жизнью, — продолжал Штефан. — С середины января до середины марта сорок четвертого я совершил более тридцати тайных путешествий, чтобы узнать, как вы живете. Во время четвертого такого путешествия, когда я отправился в 1964 год, я обнаружил, что вас уже год нет в живых, вас и вашего отца; что вас убил наркоман при нападении на бакалейную лавку. Тогда я совершил путешествие в 1963 год и убил его, прежде чем он сумел убить вас. — Наркоман? — переспросил Крис. — Я потом тебе все расскажу, дорогой. Штефан продолжал: — Можно сказать, что до той самой ночи, когда Кокошка появился на горной дороге, дела у меня шли успешно, и я во многом улучшил и облегчил вашу жизнь. Мое вмешательство никак не лишило вас вашего таланта, и книги, которые вы писали, были ничуть не хуже тех, что вы написали в другой жизни. Это другие книги, но в той же тональности, что и те, прежние. Лора почувствовала, что ее не держат ноги; она отошла от окна и села на стул. — И все-таки почему? Почему вы приложили столько усилий, чтобы улучшить мою жизнь? Штефан посмотрел на Криса, потом на Лору и, опустив глаза, наконец сказал: — Когда я увидел, как вы подписываете книги в этом инвалидном кресле, когда я прочитал другие ваши романы, я вас полюбил… полюбил по-настоящему. Крис задвигался на стуле, явно смущенный проявлением подобных чувств к его матери. — А ваша душа была еще прекрасней вашего лица, — негромко произнес Штефан. Он по-прежнему не поднимал глаз. — Я полюбил вас за ваше великое мужество, может быть, потому, что в моем собственном мире чванливых, надменных фанатиков в черных мундирах я не видел проявлений подлинного мужества. Они совершали чудовищные преступления якобы во имя народа и называли это мужеством. Они были готовы отдать жизнь за извращенный тоталитарный идеал и тоже называли это мужеством, когда на деле это идиотизм, безумие. Я полюбил вас за ваше чувство достоинства, потому что у меня самого его не было, а у вас оно проявлялось в каждом жесте. Я полюбил вас за сострадание, которое проявлялось на каждой странице ваших книг, потому что в моем мире сострадание было редкостью. Я полюбил вас, Лора, и понял, что я могу сделать для вас. Это сделали бы для своих любимых все мужчины на земле, обладай они силой богов. Я постарался избавить вас от самого плохого, что было написано в вашей судьбе. Он наконец поднял глаза. Они были необычайной голубизны и выражали муку. Лора была глубоко ему благодарна. Но она не могла ответить на его любовь, потому что совсем его не знала. И все же его искреннее чувство, его страсть, которая заставила Штефана изменить Лорину судьбу и пересечь бурный океан временив чтобы оказаться рядом с ней, вернули ему тот волшебный ореол, который некогда его окружал в ее глазах. Он снова стал почти что божеством, поднятым на высоту из массы смертных за свою бескорыстную преданность ей, Лоре.* * *
В эту ночь Крис лег спать вместе со Штефаном на скрипучем матрасе. Лора пыталась уснуть, устроившись на двух стульях. Дождь, убаюкивая, непрерывно шумел за окном, и Крис быстро заснул. Лора слышала его спокойное дыхание. Просидев в темноте час без сна, она тихо спросила: — Вы спите? — Нет, — тут же отозвался Штефан. — Данни, — сказала она. — Мой Дании… — Да? — Почему вы… — Не совершил еще одно путешествие в ту ночь 1988 года и не убил Кокошку до того, как он убьет Дании? — Да. Почему? — Потому что… Видите ли, Кокошка принадлежал к эпохе 1944 года, поэтому его убийство Данни и его собственная смерть была частью моего прошлого, которое я не мог переделать. Если бы я предпринял попытку вновь вернуться в ту ночь восемьдесят восьмого, только несколько раньше, чтобы остановить Кокошку, прежде чем он убьет Данни, силы природы немедленно вернули бы меня через Ворота обратно в Институт, и я не сделал бы и шага вперед во времени; закон природы против парадоксов, и он пресек бы в самом начале возможность подобного путешествия. Лора молчала. Штефан спросил: — Вы поняли? — Да. — И вы смирились? — Я никогда не смогу смириться со смертью. — Но мне… мне вы верите? — Пожалуй, верю. — Лора, я знаю, как сильно вы любили Данни Паккарда. Если бы я мог спасти его даже ценою собственной жизни, я бы это сделал не задумываясь. — Я вам верю, — повторила Лора. — Потому что без вас… у меня никогда не было бы Данни. — А Угорь? — спросила Лора. — Судьба стремится восстановить предопределенный ход событий, — сказал Штефан из темноты. — Когда вам было восемь, я застрелил наркомана и спас вас от насилия и смерти, но неумолимая судьба поставила на вашем пути еще одного педофила и потенциального убийцу Вилли Шинера. Угря. Но судьба также решила, что вы будете писательницей, что ваши книги будут нести миру одно и то же послание, как бы я ни менял вашу жизнь. И это положительная сторона вашей судьбы. Есть что-то пугающее и одновременно обнадеживающее в том, что некая сила старается восстановить нарушенные замыслы судьбы… Как если бы во Вселенной была закономерность, нечто такое, что мы можем назвать Богом, несмотря на то что он упорно обрекает нас на страдания. Некоторое время они слушали, как дождь и ветер наводили чистоту снаружи. Лора спросила: — Почему вы не защитили меня от Угря? — Один раз я устроил ему засаду у него дома… — Вы его сильно избили. Я знала, что это вы. — Не только избил, но и предупредил, чтобы он оставил вас в покое. Я пригрозил, что убью его в следующий раз. — Но после этого он стал еще сильнее меня преследовать. Почему вы тогда его не убили? — Я должен был это сделать. Не знаю, почему я его не убил… Наверное, потому, что видел слишком много убийств, сам тоже принимал в них участие… Я понадеялся, что на этот раз обойдусь без крови. Лора подумала о его собственном мире с войнами, концентрационными лагерями и геноцидом и не могла понять его логики, тем более что Шинер вряд ли заслуживал снисхождения. — А когда Шинер набросился на меня у Доквайлеров, почему вы не пришли мне на помощь? — Я снова проконтролировал вашу жизнь, когда вам исполнилось тринадцать, уже после того как вы сами убили Шинера и сохранили себе жизнь, поэтому я решил не возвращаться обратно, чтобы с ним расправиться. — Да, я выжила, — сказала Лора. — А вот Нина Доквайлер — нет. Может быть, если бы она не пришла и не увидела всю эту кровь, мертвое тело… — Может быть, — сказал Штефан. — А может быть, и нет. Судьба по мере возможности держится установленной линии. Поймите, Лора, я не мог защитить вас в каждом отдельном случае. Для этого мне следовало совершить десять тысяч скачков во времени. И такое обширное вмешательство вряд ли было бы для вас благом. Не испытай вы превратностей судьбы, вряд ли вы стали бы женщиной, которую я полюбил. Они замолчали. Лора слушала звуки дождя и ветра. Она слушала биение своего сердца. Наконец она сказала: — Я вас не люблю. — Я вас понимаю. — А, казалось бы, должна. Хотя бы немного. — Вы меня совсем не знаете. — Может быть, я никогда вас не полюблю. — Я знаю. — Несмотря на все то, что вы для меня сделали. — Я понимаю. Но сначала нам надо выдержать все испытания… У нас еще будет время. — Да, — подтвердила Лора. — У нас еще будет время.Глава 6. День сменяет ночь
1
В субботу восемнадцатого марта 1944 года в главной лаборатории на первом этаже Института оберштурмфюрер СС Эрих Клитман и его отряд в составе трех человек, прошедших особую подготовку, был на старте путешествия в будущее с целью уничтожения Кригера, женщины и мальчика. Они были одеты по моде, какой придерживались молодые деловые люди в Калифорнии в 1989 году: черные костюмы в белую полоску от Ива Сен-Лорана, белые рубашки, темные галстуки, черные мокасины, черные носки и темные очки на случай солнечной погоды; им объяснили, что в будущем такая мода называется «властный облик», и хотя Клитман не совсем представлял, что это значит, ему нравилось само звучание этого сочетания. Одежда была куплена во время предыдущих путешествий групп поиска в будущее; таким образом, все члены отряда Клитмана были одеты по современной моде, включая нижнее белье. У каждого в руках был кейс фирмы «Марк Кросс», весьма элегантная модель из телячьей кожи с позолоченными замками. Кейсы также были приобретены в будущем, как и переделанные карабины «узи», запасные обоймы к которым хранились в кейсах. Одна группа поиска из Института находилась на задании в США именно в тот год и месяц, когда Джон Хинкли совершил покушение на Рональда Рейгана. Когда они смотрели по телевидению фильм о покушении, на них огромное впечатление произвело портативное автоматическое оружие, которое агенты секретной службы носили с собой в кейсах. В мгновение ока агенты выхватывали из кейсов автоматы и занимали исходное положение для стрельбы. Теперь, в 1989 году, «узи» был любимым автоматическим оружием не только полиции и армии во многих странах, но также пользовался предпочтением десантников СС, преодолевающих временно пространство. Клитман много практиковался в стрельбе из «узи». Это оружие было объектом его особенно нежной привязанности, какой он никогда не удостаивал никого из живых существ. Единственно, что его беспокоило, так это то, что «узи» был разработан и производился в Израиле и являлся продукцией банды евреев. С другой стороны, буквально через несколько дней новое руководство Института должно было одобрить включение «узи» в эпоху 1944 года; немецкие солдаты, вооруженные им, сумеют более эффективно бороться с ордами получеловеков, которые захотят свергнуть фюрера. Клитман посмотрел на часы на пульте программирования Ворот: прошло семь минут с тех пор, как группа поиска отправилась в Калифорнию, в пятнадцатое февраля 1989 года. В их задачу входило изучение документов, в основном старых газет, чтобы узнать, обнаружила и задержала ли для допроса полиция Кригера, женщину и мальчика в тот месяц, что прошел после перестрелок в доме у Биг-Бэр и в Сан-Бернардино. Затем группа вернется в сорок четвертый и сообщит Клитману день, время и место, где можно застать Кригера и женщину. А так как всякий путешествующий во временна пространстве возвращался после скачка через одиннадцать минут после старта, независимо от того, сколько времени он пробыл в будущем, Клитману и его отряду оставалось ждать всего четыре минуты.2
В четверг, двенадцатого января 1989 года, Лоре исполнилось тридцать четыре года, и они провели этот день в той же комнате в мотеле «Синяя птица». Штефану был необходим еще один день, чтобы пенициллин мог оказать на него наибольшее воздействие. Ему также нужно было хорошенько подумать: необходимо было подготовить план уничтожения Института, и, учитывая сложность проблемы, на это могли потребоваться часы напряженной работы мысли. Дождь прекратился, но небо покрывали низкие тяжелые тучи. Прогноз погоды предсказывал к полуночи еще один ливень. В пять часов они смотрели по телевидению местные новости, где рассказывали о Лоре и Крисе и о загадочном раненом человеке, которого они привозили к доктору Бренкшоу. Полиция по-прежнему разыскивала Лору и единственным объяснением происходящего считала следующую версию: Лору и ее сына преследовали торговцы наркотиками, убившие ее мужа, или потому, что она могла опознать их в полиции, или потому, что она сама каким-то образом замешана в подобной торговле. — Онисчитают, что ты, мама, торгуешь наркотиками? — возмутился Крис, услышав обвинение. — Какие недоумки! И хотя в доме у Биг-Бэр и в Сан-Бернардино не нашли никаких тел, одна сенсационная деталь поддерживала постоянный интерес прессы и телевидения. Репортеры узнали, что в том и другом месте обнаружены большие лужи крови, а за домом Бренкшоу, между двух мусорных баков, нашли человеческую голову. Лора помнила, как она вышла через калитку в переулок позади дома Картера Бренкшоу и столкнулась со вторым вооруженным человеком и как она открыла по нему огонь из «узи». Очередь пришлась ему по голове и горлу, и уже тогда она решила, что такой мощный огонь мог снести ему голову. — Те гестаповцы, что остались в живых, нажали на поясах убитых кнопку возвращения, — пояснил Штефан, — и отправили тела домой. — А почему они оставили голову? — спросила Лора, превозмогая отвращение, но не в силах сдержать любопытство. — Должно быть, она закатилась между мусорными баками, далеко от тела, — сказал Штефан, — а в их распоряжении было всего несколько секунд. Если бы они ее нашли, они положили бы ее на труп, прикрыв сверху руками мертвеца. Вся одежда путешественника во времени и предметы, которые он берет с собой, возвращаются с ним при обратном скачке. Но этот вой сирен и темнота в проулке… У них не было возможности разыскивать голову. Крис, которого должны были бы заинтересовать такие необычные подробности, молча сидел на стуле, подогнув под себя ноги. Возможно, пугающий образ отсеченной головы заставил его почувствовать близкое присутствие смерти глубже, чем вся стрельба, мишенью которой он был уже много раз. Лора обняла его и постаралась убедить, что они вместе преодолеют все трудности и выйдут из испытаний живыми и здоровыми. Ей самой не менее, чем ему, нужна была ласка, в ее подбадривающих словах звучала нотка неуверенности, она подозревала, что вряд ли им удастся благополучно выбраться из переделки. На обед и ужин Лора купила еду в том же китайском ресторане напротив. Накануне никто в ресторане не признал в ней ни известной писательницы, ни беглеца от правосудия, поэтому она чувствовала себя в относительной безопасности. Глупо было бы покупать еду еще где-нибудь с риском быть опознанной. В конце ужина, когда Лора убирала остатки пищи, из ванной появился Крис, несущий в руках два шоколадных торта с желтой свечой на каждом. Он тайком купил торты и свечи в супермаркете еще вчера утром и спрятал их до этого момента. Он нес их с большой торжественностью, и золотые язычки пламени отражались у него в глазах. Мальчик улыбнулся, увидев ее радость и удовольствие. Лора еле сдерживала слезы. Даже посреди страха и опасности он не забыл о дне ее рождения и хотел ее порадовать — в этом заключалась суть отношений между матерью и ребенком. Все трое принялись за торты. Кроме того, Лора из ресторана принесла китайское печенье, где в каждый пакетик была вложена бумажка с предсказанием судьбы. Штефан, который сидел на кровати, опираясь на подушки, открыл свой пакетик первым. — Смотрите, что тут написано, если только это исполнится: «Вы будете жить в мире и изобилии». — Кто знает, может, так оно и будет, — сказала Лора. Она разорвала свой пакетик с печеньем и вытащила бумажку — А вот этого у нас и так в избытке, спасибо: «У вас будет много приключений». Когда же Крис открыл свое печенье, то внутри ничего не оказалось, никаких предсказаний. Лора почувствовала страх, как будто отсутствие бумажки было знаком того, что у Криса нет будущего. Суеверная чепуха. Но Лора не могла подавить неожиданное беспокойство. — Вот возьми, — сказала она, быстро протягивая ему два оставшихся пакетика. — Вместо одной сразу две судьбы. Крис открыл первый, прочитал предсказание про себя, рассмеялся, потом прочитал его вслух: — «Вы достигнете славы и богатства». — Когда ты так разбогатеешь, что тебе некуда будет девать деньги, ты не забудешь свою старенькую мамочку? — спросила Лора. — Конечно, мама. Особенно если ты будешь продолжать для меня готовить. Ты знаешь, как мне нравится твой овощной суп. — Хочешь заставить свою старенькую мамочку платить за твою любовь? Наблюдая за их шутливым препирательством, Штефан Кригер заметил: — Его не разжалобишь, правда? — Пожалуй, в восемьдесят лет он меня заставит полы мыть, — ответила Лора. Крис открыл второй пакетик — «У вас будет хорошая жизнь, полная маленьких удовольствий — книги, музыка, искусство». Ни Крис, ни Штефан не заметили, что две бумажки содержали противоположные предсказания и, таким образом, взаимоисключали друг друга, как бы подтверждая дурное предзнаменование пустого пакета. «Послушай, Шейн, что ты выдумываешь, ты с ума сошла, — сказала себе Лора. — Это всего-навсего печенье. Это не следует принимать всерьез». Позже, когда они погасили свет в комнате и Крис уже спал, Штефан из темноты обратился к Лоре: — Я придумал план. — План уничтожения Института? — Да. Но он очень сложный, и для него потребуется много вещей. Я не уверен, но мне кажется, что многие из этих вещей нельзя купить в магазине. — Я могу достать все, что вам надо, — уверенно сказала Лора. — У меня есть связи. Все, что угодно. — На это уйдет много денег. — А это уже хуже. У меня осталось всего сорок долларов, и я не могу взять деньги в банке, потому что тогда я оставлю письменное свидетельство… — Верно. Это приведет их прямо к нам. Есть ли у вас кто-нибудь, кому вы доверяете и кто доверяет вам, кто даст вам крупную сумму и никому не скажет об этом? — Вы все обо мне знаете, — ответила Лора, — а значит, вы знаете и о Тельме Аккерсон. Но мне бы не хотелось ее в это втягивать. Если что-нибудь случится с Тельмой… — Можно так устроить, чтобы она не подвергалась опасности, — настаивал Штефан. На улице потоком хлынул обещанный дождь. Лора ответила: — Нет. — Она наша единственная надежда. — Все равно нет. — Откуда же мы возьмем деньги? — Попытаемся найти способ, который не потребует больших затрат. — Придумаем мы другой план или нет, нам все равно нужны деньги. Сорока долларов ненадолго хватит. А у меня ничего нет. — Я не стану рисковать Тельмой, — упорствовала Лора. — Я уже говорил вам, что мы можем это сделать без всякого риска, без… — Нет. — Тогда мы проиграли, — произнес он в отчаянии. Лора слушала шум дождя, и он казался ей рокотом бомбардировщиков, криками скандирующей лозунги обезумевшей толпы. Наконец она сказала: — Пусть даже это не опасно для Тельмы, а что, если за ней следит СС? Они наверняка знают, что она самая близкая моя подруга. Моя единственная настоящая подруга. Какая гарантия, что они не отправили в будущее одну из этих групп в надежде, что Тельма приведет их ко мне? — Это слишком трудный и замысловатый способ найти нас, — сказал Штефан. — Они могут послать группы поиска в будущее, сначала в февраль этого года, потом в март и апрель, и так месяц за месяцем, чтобы проверять газеты, пока не обнаружат, где мы впервые проявились. Помните, что каждый из этих скачков продолжается всего одиннадцать минут в их временном измерении, так что это недолго; к тому же этот метод обязательно рано или поздно приведет их к нам, потому что мы не можем прятаться до конца нашей жизни. — Тут надо подумать… Он молча ждал. Потом сказал: — Вы с Тельмой как две сестры. И если в такое время вы не можете обратиться за помощью к сестре, то кто же может рассчитывать на вас, Лора! — Если мы можем заручиться помощью Тельмы и не подвергать ее риску… Тогда, наверное, надо попробовать. — Займемся этим сразу с утра, — сказал Штефан. Всю ночь шел проливной дождь, и во сне Лора видела тучи, низвергавшие воду, блеск молний, слышала оглушительные раскаты грома. В ужасе она пробудилась, но дождливую ночь в Санта-Ана не нарушали эти яркие и громкие предвестники смерти. Это был хотя и сильный, но спокойный дождь, без грома, молнии и ветра. Однако Лора знала, что это ненадолго.3
Механизмы гудели и пощелкивали. Эрих Клитман взглянул на часы. Через три минуты группа поиска возвратится в Институт. Двое ученых, заменивших Пенловского, Янушского и Волкова, стояли у пульта программирования, следя за работой множества циферблатов и шкал. В зале не было дневного света, так как окна были не только зашторены, чтобы не служить наводкой для вражеских ночных бомбардировщиков, но в целях безопасности заложены кирпичом. Воздух был спертый. Стоя в углу главной лаборатории неподалеку от Ворот, лейтенант Клитман с нетерпением предвкушал свое путешествие в 1989 год, и не потому, что будущее было полно чудес, но потому, что возложенная на него задача давала ему, как никому другому, редкую возможность послужить фюреру. Если ему удастся убить Кригера, женщину и мальчишку, он будет удостоен личной встречи с Гитлером, он будет рядом с великим человеком, он прикоснется к его руке и ощутит великую силу германского государства и его народа, его особый путь и предназначение. Лейтенант был готов рисковать своей жизнью десятки, сотни раз, чтобы заслужить личное внимание фюрера, чтобы Гитлер узнал о нем, и не просто как об одном, из офицеров СС, но и как о личности, Эрихе Клитмане, человеке, спасшем рейх от ужасной судьбы, на которую он был уже почти обречен. Клитман не являлся идеалом арийца и остро переживал свои физические недостатки. Его дедушка со стороны матери был поляком, существом отвратительной славянской породы, в результате чего Клитман был только на три четверти арийцем. Более того, хотя остальные две бабушки и дедушка, как и родители Эриха, были голубоглазыми блондинами с нордическими чертами лица, у самого Эриха были карие глаза, темные волосы и тяжелые грубые черты его чужестранного дедушки. Эрих ненавидел свою внешность и старался компенсировать это стремлением быть самым образованным наци, самым храбрым солдатом, самым преданным сторонником Гитлера во всем СС, что было совсем нелегко, поскольку у него имелось множество соперников. Случалось, он сожалел, что судьба выделила его, чтобы нести бремя славы. Но он никогда не сдавался, и вот теперь готов был совершить героический поступок, который заработает ему почетное место в Вальхалле[114]. Он мечтал сам убить Штефана Кригера не только потому, что таким образом он заслужит благосклонность фюрера, но и потому, что Кригер был идеалом арийца, светловолосым, голубоглазым, с настоящими нордическими чертами лица и с прекрасной родословной. Тем не менее, обладая всеми преимуществами, этот отвратительный Кригер решил предать своего фюрера, что выводило из себя Клитмана, зарабатывавшего славу с грузом неполноценных генов. И вот теперь, когда до возвращения из 1989 года группы поиска оставалось немногим более двух минут, Клитман смотрел на троих своих подчиненных, одетых по моде молодых деловых людей другой эпохи, и его охватывала глубочайшая гордость и одновременно нежность, от которых слезы навертывались на глаза. Все они происходили из скромных семей. Унтершарфюрер Феликс Губач, второй по чину в отряде, был сыном алкоголика-токаря и неряхи-матери, которых он презирал. Роттенфюрер Рудольф фон Манштейн был сыном бедного крестьянина и стыдился своего вечного неудачника-отца, а роттенфюрер Мартин Брахер был сиротой. Несмотря на то что они происходили из разных земель Германии, одна черта объединяла этих двух капралов, сержанта и лейтенанта Клитмана теснее, чем кровные узы братства: они твердо верили, что человек должен исповедовать самую искреннюю, самую глубокую, самую нежную привязанность не к своей родной семье, а к государству, родине, вождю, который является олицетворением этой страны: государство — вот твоя единственная семья; этой одной мудрости было вполне достаточно, чтобы сделать их родоначальниками новой расы суперменов. Клитман незаметно утер большим пальцем слезы, которых он не мог сдержать. До возвращения группы поиска оставалась одна минута. Механизмы гудели и щелкали.4
В три часа пополудни, в пятницу, тринадцатого января, белый пикап въехал на поливаемую дождем стоянку мотеля и остановился рядом с «Бьюиком», на котором были номера «Ниссана». Грузовику было лет пять-шесть. Дверь со стороны пассажира была прогнута и покрыта пятнами ржавчины. Владелец явно не торопился ремонтировать автомобиль, потому что некоторые пятна были зачищены и зашпаклеваны, но не закрашены. Лора наблюдала за грузовиком из окна, слегка раздвинув занавески. В одной руке она держала «узи». Фары грузовика моргнули и погасли, остановились стеклоочистители, и через секунду блондинка в мелких кудряшках вылезла из машины и направилась прямо к дверям номера Лоры. Она постучала три раза. Крис стоял у двери в ожидании знака матери. Лора кивнула. Крис открыл дверь и объявил: — Привет, тетя Тельма. Ну и уродский у вас парик. Тельма вошла внутрь, крепко обняла Криса и сказала: — Спасибо за комплимент. А что, если я скажу тебе, что у тебя от рождения самый уродливый носище и что тебе от него не так-то просто избавиться, это тебе не парик? Ну, что ты на это скажешь? Что, отвечай? Крис хихикнул. — Ничего не скажу. Потому что я знаю, что у меня аккуратный носик. — Это ты называешь аккуратным? Боже, ну и самомнение у тебя. Она выпустила его из объятий, взглянула на Штефана Кригера, который занимал один из стульев у телевизора, затем повернулась к Лоре. — Шейн, ты видела, на какой развалюхе я приехала? Ну что, здорово я придумала? Я уже было чуть не поехала на «Мерседесе», но потом сказала себе: «Тельма, — меня зовут Тельма, — так вот, я сказала, Тельма, а что подумают, когда ты подъедешь к этому паршивому мотелю на машине, которая стоит шестьдесят пять тысяч долларов?» Тогда я попробовала одолжить машину у дворецкого, так вы думаете, на чем он ездит? На «Ягуаре». Беверли-Хиллз — это чистый сумасшедший дом. Пришлось мне одолжить грузовик у садовника. И вот я здесь с вами. Как вам эта маскировка? На ней был кудрявый светлый парик, блестевший капельками дождя, очки в роговой оправе, а во рту вставные зубы, от которых у нее образовался не правильный прикус. — А тебе идет, — пошутила Лора. Тельма вытащила изо рта зубы. — Послушай, как только я одолжила колымагу, на которую никто не посмотрит, я подумала и о себе, ведь я звезда и все прочее. А так как газетчики уже докопались, что мы с тобой подруги, и уже приставали ко мне с разными вопросами о тебе, знаменитости и классному стрелку из автомата, я решила прибыть сюда инкогнито. — Тельма бросила сумку и вставные зубы на кровать. — Это все я придумала для одной моей роли в ночном клубе и уже попробовала выступать в таком виде в Лас-Вегасе, всего восемь раз. Это был полный провал, так я не понравилась. Публика меня чуть не разорвала, Шейн, они позвали охранников при казино и требовали, чтобы меня арестовали, они кричали, что таким, как я, нет места на земле… Да, здорово мне тогда досталось, они совсем озверели, Шейн… Она неожиданно смолкла и разразилась слезами. Она бросилась к Лоре и обняла ее., — Когда я узнала о Сан-Бернардино, о стрельбе из автоматов и в каком виде твой дом у Биг-Бэр, я подумала, что ты… или Крис… я страшно беспокоилась… В свою очередь крепко обнимая Тельму, Лора сказала: — Я тебе обо всем расскажу, самое главное, что мы живы и, может быть, даже сумеем выбраться из западни. — Почему ты мне не позвонила, глупышка? — Я тебе позвонила. — Только сегодня утром! Через два дня после того, как о тебе столько написали газеты. Я чуть не сошла с ума. — Прости меня. Надо было сделать это раньше. Я просто не хотела тебя ни во что впутывать. Тельма неохотно разжала объятия. — Дурочка, раз это касается тебя, то, значит, и меня тоже, и никаких разговоров. — Она вытащила бумажную салфетку из кармана замшевого жакета и промокнула глаза. — У тебя есть еще одна? — спросила Лора. Тельма протянула ей чистую салфетку, и они обе высморкались. — Мы, тетя Тельма, были в бегах, — объяснил Крис. — А когда ты в бегах, трудно поддерживать связь с людьми. Тельма глубоко, прерывисто вздохнула и спросила: — Ну, Шейн, показывай, где ты держишь коллекцию отрубленных голов? Может, в ванной? Я слышала, что одну ты забыла в Сан-Бернардино. Как же ты так? Это что у тебя — новое хобби, или ты всегда была неравнодушна к головам, отделенным от туловища? — Я хочу тебя познакомить, — сказала Лора. — Тельма Аккерсон, это Штефан Кригер. — Рада познакомиться, — сказала Тельма. — Простите, что не могу подняться, — сказал Штефан. — Я еще неважно себя чувствую. — Прощаю. Если вы терпите меня в таком виде, то о чем уж говорить. Обращаясь к Лоре, Тельма спросила: — Он тот самый, о ком я думаю? — Да. — Твой хранитель? — Да. Тельма подошла к Штефану и громко расцеловала его в обе щеки. — Не представляю, откуда вы и кто вы такой, Штефан Кригер, наплевать на это, но я благодарна вам за то, что вы столько раз спасали мою Лору. Она присела в ногах кровати рядом с Крисом. — Послушай, Шейн, этот мужчина прямо неотразим. Ты только посмотри, какой это красавчик и силач. Признайся, Шейн, ты, наверное, сама его подстрелила, чтобы он не удрал. Он выглядит настоящим ангелом-хранителем. Штефан смутился, но Тельму нельзя было остановить. — Вы, Кригер, очень интересный мужчина, и вы мне обязательно расскажете о себе. Но сначала вот тебе деньги, которые ты просила, Шейн. Тельма открыла свою объемистую сумку и вытащила оттуда толстую пачку стодолларовых купюр. Разглядывая деньги, Лора сказала: — Тельма, я просила у тебя четыре тысячи. А тут, по крайней мере, в два раза больше. — Тут десять или двенадцать. — Тельма подмигнула Крису. — Когда мои друзья в бегах, у них должно быть первоклассное обеспечение. Тельма слушала рассказ, ни разу не выразив недоверия. Штефан был удивлен, но Тельма тут же пояснила: — Когда поживешь в приюте, многому начинаешь верить. Путешественники из 1944 года? Подумаешь, какое чудо! В приюте я могла бы показать вам даму размером с диван и в платье из обивочного материала, которой государство неплохо платило, чтобы она обращалась с сиротами как с дерьмом. Но это я так, шучу, а в общем, ну и дела. Она была совершенно поражена, узнав, откуда прибыл Штефан, напугана и потрясена, узнав о ловушке, в которой они оказались, но даже в этих обстоятельствах продолжала оставаться прежней Тельмой Аккерсон, которая во всем видела смешную сторону. В шесть часов Тельма снова вставила зубы и вышла на улицу, чтобы купить еды в мексиканском ресторане. Она вернулась с мокрыми от дождя пакетами. — Когда скрываешься от полиции, надо поддерживать силы и хорошо питаться, Они разложили в ногах кровати пирожки, салат, блины из кукурузной муки с начинкой из мяса и сыра под острым томатным соусом. Тельма и Крис устроились в изголовье кровати, Лора и Штефан сидели на стульях. — Послушай, Тельма, — сказала Лора, — тут еды на десятерых. — Я подумала, что тараканам тоже надо кушать. Страшное дело, когда они голодные. Ведь ты не станешь отрицать, что тут есть тараканы? Такое уютное местечко без тараканов — это все равно что гостиница в Беверли-Хиллз без репортеров. Во время еды Штефан изложил свой план, как уничтожить Институт и Ворота. Тельма прерывала рассказ шуточками, но, когда он кончил, она была совершенно серьезна. — Это чертовски опасно, Штефан. Смело, ничего не скажешь, но безрассудно. — У нас нет другого выхода. — Я понимаю, — сказала Тельма. — Чем я могу помочь? Крис на мгновение прекратил поглощать еду. — Вы должны купить нам компьютер, тетя Тельма. Лора сказала: — Персональный компьютер фирмы IBM, их самую лучшую модель, такую, как у меня дома, чтобы я знала, как пользоваться программным обеспечением. У нас нет времени, чтобы изучать другую модель. Я тут все для тебя написала. Я могла бы купить его сама, денег хватит, но я боюсь часто показываться на людях. — И еще нам нужно место для жилья, — сказал Штефан. — Мы не можем здесь оставаться, — вмешался Крис, очень довольный своим участием в разговоре, — особенно если будем работать на компьютере. Попробуй его спрячь, горничная все равно увидит и расскажет всем; подозрительно, что люди с компьютером живут в такой дыре. Штефан сказал: — Лора мне говорила, что у вас с мужем есть один дом в Палм-Спрингс. — У нас есть дом в Палм-Спрингс, квартира в Монтеррее, еще одна в Лас-Вегасе, и я не удивлюсь, если мы окажемся владельцами или хотя бы совладельцами вулкана где-нибудь на Гавайях. Мой муж очень богат. Так что делайте выбор. Любой из домов в вашем распоряжении. У меня к вам одна просьба: не чистите ботинки полотенцами и не гасите окурки в цветочных горшках. — Мне кажется, дом в Палм-Спрингс будет самым подходящим, — сказала Лора. — Ты говорила, что он стоит в уединенном месте. — Он стоит на большом участке, где много деревьев, соседи тоже работают в шоу-бизнесе, все очень занятые люди, так что у них нет привычки захаживать на чашку кофе. Вас там никто не будет беспокоить. — Хорошо, — сказала Лора, — но есть еще другие вопросы. Нам нужна одежда, обувь, еще кое-какие необходимые вещи. Я составила список со всеми размерами и прочим. И, конечно, когда все кончится, я верну тебе деньги, которые ты дала, и то, что ты потратишь на компьютер и остальные покупки. — Не сомневаюсь в этом, Шейн. И еще добавочно сорок процентов. За каждую лишнюю неделю. Не забудь и про твоего сына. Я его тоже беру в оплату. Крис рассмеялся. — Тетя Шейлок. — Посмотрим, как ты будешь вмешиваться в разговоры, когда станешь моим сыном. Лора наконец вздохнула с облегчением. Она въехала на заставленную машинами стоянку и выключила мотор. Стеклоочистители остановились, и дождь ручьями потек по стеклу. Оранжевые, красные, синие, желтые, зеленые, белые, фиолетовые и розовые огни мерцали сквозь водяную пленку, и Лоре казалось, что она внутри старомодного, ярко разукрашенного автоматического проигрывателя, которых было так много в кафе и ресторанах в пятидесятые годы. Крис заметил: — Толстяк Джек добавил еще неона с тех пор, как мы тут были. — Да, похоже, — откликнулась Лора. Они вышли из машины и остановились, глядя вверх на мигающий, сверкающий, вспыхивающий, переливающийся огнями вульгарно пышный фасад «Дворца пиццы» Толстяка Джека. Неоном были обведены контуры здания, крыши, каждое окно и входные двери. Помимо этого, гигантские солнечные очки разместились на одном конце крыши, а на противоположном — огромный неоновый космический корабль был готов к взлету, и раскаленные газы, сверкая и клубясь, вылетали из его сопел. Они уже видели раньше неоновую пиццу диаметром в десять футов, а вот улыбающееся неоновое лицо клоуна было новинкой. Неона было столько, что он расцвечивал каждую каплю падавшего дождя, словно гигантская радуга разбилась на тысячи частиц при свете дня, чтобы продолжать жить и ночью. Каждая лужица сияла многоцветьем. Краски ослепляли растерянного посетителя, но это была только подготовка к тому, что ожидало его внутри, а именно некое подобие хаоса, из которого триллионы лет назад родилась наша Вселенная. Официанты и официантки были наряжены клоунами, привидениями, пиратами, астронавтами, ведьмами, цыганами и вампирами; вокальное трио, наряженное медведями, ходило от стола к столу к восторгу малышей. Дети постарше играли в видеоигры, и звуки игральных автоматов сливались с пением «медведей» и детскими криками. — Сумасшедший дом, — подытожил Крис. Уже при входе их встретил Доминик, младший партнер Толстяка Джека. Этот высокий худой, как скелет, человек был совсем не к месту среди моря бурного веселья. Повысив голос, чтобы перекричать шум, Лора попросила о встрече с Толстяком Джеком и добавила: — Я уже звонила. Я старая знакомая его матери. Это означало, что ей было нужно оружие, а не пицца. Доминик умел, не повышая голоса до крика, перекрывать какофонию. — Мне кажется, что вы у нас уже были. — У вас прекрасная память, — ответила Лора. — Год назад. — Прошу вас, следуйте за мной, — сказал Доминик загробным голосом. Им не пришлось пересекать ресторан с его диким шумом и движением, и это сокращало риск, что кто-либо из посетителей увидит и узнает Лору. Одна дверь из приемного зала вела в коридор, мимо кухни и кладовой, в кабинет Толстяка Джека. Доминик постучал в дверь, провел их внутрь и сказал Толстяку Джеку: — Старые знакомые вашей матери. — И оставил Лору и Криса наедине с хозяином. Толстяк Джек весьма серьезно относился к своему прозвищу и прилагал все усилия, чтобы ему соответствовать. При росте пять футов десять дюймов он весил триста пятьдесят фунтов. Облаченный в огромных размеров серый спортивный трикотажный костюм, который обтягивал его как перчатка, он был точь-в-точь как те фотографии толстяков на магнитах, которые мученики, сидящие на диете, покупали и прикрепляли к дверцам холодильников, чтобы пореже туда заглядывать; да и сам Джек по размерам не уступал самому емкому холодильнику. Он сидел на роскошном крутящемся кресле за большим столом и встал, чтобы их встретить. — Вы слышите этих маленьких зверенышей? — Он обращался к Лоре, игнорируя Криса. — Я специально устроился подальше от них, сделал звуконепроницаемые стены, а их все равно слышно, эти визги, вопли, можно подумать, что рядом преисподняя. — Они дети, что с них спрашивать, — сказала Лора, стоя перед столом вместе с Крисом. — А миссис О'Лири[115] была всего-навсего старушкой с неуклюжей коровой, но она спалила Чикаго, — раздраженно сказал Толстяк Джек. Он откусывал от шоколадного батончика «Марс». Издалека сквозь стены проникал громкий гул детских голосов, и, словно обращаясь к этому невидимому морю. Толстяк Джек сказал: — Чтоб вам подавиться пиццей, чертенята. — Там психушка, — сказал Крис. — А тебя кто спрашивает? — Никто, сэр. У Джека была пятнистая кожа и серые глазки на раздутой морде гремучей змеи. Он сосредоточил внимание на Лоре. — Вы видели мой новый неон? — Клоун новый, верно? — Ага. Правда, здорово? Я сам все придумал, все заказал, а потом ночью мы его поставили, так что утром поздно было протестовать, если кому что не понравилось. Проклятый городской совет взвыл в один голос, да поздно было. Чуть ли не десять лет Толстяк Джек вел судебные тяжбы с комиссией по землепользованию и городским советом Анахейма. Власти протестовали против его безвкусной и кричащей неоновой рекламы, особенно в последнее время, когда началась перестройка района вокруг Диснейленда. Толстяк Джек потратил десятки и сотни тысяч долларов на судебные процессы и штрафы, когда его преследовали в судебном порядке или он сам выступал в качестве истца; он даже провел некоторое время в тюрьме за неуважение к суду. Он давно объявил себя сторонником неограниченной свободы мысли и поведения, а теперь даже анархистом, и не терпел никакого покушения, настоящего или воображаемого, на свои права свободомыслящей личности. Он занимался подпольной торговлей оружием по тем же причинам, по которым сооружал свои неоновые вывески, нарушавшие городские правила: как вызов властям и защита личных прав. Он мог часами говорить о недостатках правительства, причем любого без исключения и по любому поводу, и, когда Лора приезжала к нему с Крисом в прошлый раз, чтобы купить автоматы «узи», ей пришлось выслушать пространные рассуждения о том, что правительство не имеет права принимать законы, запрещающие убийство. Лора не испытывала особой любви к правительству, левому или правому, но Толстяк Джек был ей совсем не по душе. Он выступал против законности любых властей, любых зарекомендовавших себя институтов, даже таких, как семья. После того как Лора отдала Толстяку Джеку список нужных ей вещей, а он объявил цену и пересчитал деньги, он повел ее с Крисом через потайную дверь в стенном шкафу в кабинете вниз по узкой лестнице, на которой, казалось, он вот-вот застрянет, в подвал, где держал запас нелегального оружия. И если его ресторан наверху был олицетворением беспорядка, то в арсенале, наоборот, царил необычайный, почти идеальный порядок. На металлических стеллажах стояло множество коробок с револьверами, пистолетами и автоматами, аккуратно рассортированными по калибру и цене; в подвале «Дворца пиццы» хранилась по меньшей мере тысяча единиц оружия. Толстяк Джек снабдил Лору переделанными «узи». — Очень популярное оружие после покушения на Рейгана, — сказал он. Она также купила «смитт-вессон». Штефан просил раздобыть ему «кольт» с девятизарядной обоймой под патроны «парабеллум» и дулом, приспособленным для глушителя. — Нет такого, — сказал Толстяк Джек, — но я могу вам предложить «кольт» тоже тридцать восьмого калибра, но класса «супер» и тоже девятизарядный, у меня есть два таких, приспособленных для глушителя. И глушители есть, сколько хотите. Он уже сказал Лоре, что не может снабдить ее патронами, и пояснил, доедая шоколадный батончик: — Я не держу патроны или взрывчатку. Я не доверяю властям, но это не значит, что я совсем безответственный. У меня наверху ресторан битком набит орущими маленькими сопляками, и я не могу допустить, чтобы их разорвало на куски, хотя, конечно, без них в мире было бы куда тише. А мой неон, что от него останется? — Хорошо, — согласилась Лора, обнимая рукой Криса, чтобы он никуда не отходил. — А как насчет газа, который у меня в списке? — А вы не ошибаетесь, может быть, вам нужен слезоточивый газ? — Нет. Мне нужен «вексон». Именно это. — Штефан дал ей название газа. Он сказал, что этот газ был одним из видов химического оружия, который Институт надеялся заполучить и перебросить в 1944 год для использования в немецком военном арсенале. И вот теперь, возможно, они используют его против самих нацистов. — Нам нужен газ, который быстро убивает. Толстяк Джек привалился задом к металлическому столу посередине комнаты, на котором он разложил «узи», револьверы, пистолеты и глушители. Стол затрещал. — То, о чем мы сейчас говорим, находится на вооружении армии и очень строго контролируется. — И вы не можете его достать? — Почему же, я могу достать для вас некоторое количество «вексона», — ответил Толстяк Джек. Он отошел от стола, который с облегчением скрипнул, освободившись от тяжелого груза, направился к металлическим стеллажам и, просунув руку между ящиками с оружием, достал из тайника пару шоколадных батончиков «Хэрши». Он не угостил Криса, а спрятал один батончик в карман тренировочных штанов и принялся за другой. — Я не держу здесь эту штуку, это еще опасней взрывчатки. Но, если вам нужно, я достану этот газ завтра к вечеру. — Очень хорошо. — Вам придется раскошелиться. — Знаю. Толстяк Джек усмехнулся. Кусочки шоколада застряли у него между зубами. — На него мало спроса, особенно среди таких, как вы, мелких покупателей. Очень бы хотелось узнать, что вы замышляете. Знаю, что не скажете. Обычно этими нервно-паралитическими и удушающими газами интересуются оптовые покупатели из Южной Америки или с Ближнего Востока. Ирак и Иран часто их применяли в последнее время. — Нервно-паралитические и удушающие… Какая между ними разница? — Удушающий газ действует на дыхательную систему, он убивает в считанные секунды, как только попадет в легкие и систему кровообращения. Им надо пользоваться в противогазе. Что же касается нервно-паралитического, который вы хотите получить, то он убивает еще быстрее, как только попадет на кожу; некоторые его виды, такие, как «вексон», не требуют противогаза или защитной одежды, перед его применением следует принять пару таблеток, которые действуют как своего рода противоядие. — Кстати, я забыла попросить у вас эти таблетки, — сказала Лора. — «Вексон» — самый простой в применении газ. Вы действительно искушенный покупатель, — похвалил Толстяк Джек. Он уже доел шоколадный батончик, и казалось, что за те полчаса, которые Лора и Крис провели с Джеком, он значительно увеличился в размерах. Лоре пришло в голову, что преданность Толстяка Джека идеям анархизма отражается не только на атмосфере его пиццерии, но и на состоянии его тела, которое расползалось, не сдерживаемое никакими общественными ограничениями или соображениями здоровья. Он явно гордился своими размерами, часто похлопывал себя по брюху, почти любовно поглаживал складки жира на боках и гордо и воинственно шествовал вперед, расталкивая все на пути своей огромной тушей. Лора представляла себе, как Толстяк Джек все больше распухает, тянет на четыреста, потом на пятьсот фунтов, а на крыше «Дворца пиццы» разрастаются все выше и выше замысловатые сооружения из неона, пока в один прекрасный день крыша не рухнет под их тяжестью и не погребет под собой Толстяка Джека. — Газ будет у меня завтра в пять часов, — повторил он, складывая «узи», «смитт-вессон», «кольт» и глушители в большую коробку с надписью «К ДНЮ РОЖДЕНИЯ», где раньше, видимо, хранились бумажные колпаки или хлопушки для ресторана. Он закрыл коробку крышкой и сделал знак Лоре нести ее наверх; помимо прочих вещей, Толстяк Джек не верил в такую вещь, как галантность. Наверху, когда Крис открыл для Лоры дверь в коридор и они вышли из кабинета Толстяка Джека, она обрадовалась крику и визгу детей, которые доносились из ресторана. Это были первые за полчаса нормальные человеческие звуки. — Вы только послушайте этих маленьких кретинов, — сказал Джек. — Это не дети, это обезьяны, которые только прикидываются детьми. Он захлопнул за Лорой и Крисом звуконепроницаемую дверь. В машине по пути в мотель Крис спросил: — Когда все кончится… что ты сделаешь с Толстяком Джеком? — Отдам его в руки полиции, — ответила Лора. — Анонимно. — Прекрасно. Он чокнутый. — Он больше чем псих. Он фанатик. — А что такое фанатик? Лора немного подумала, потом сказала: — Фанатик — это псих, который вбил себе в голову идею.5
Лейтенант СС Эрих Клитман наблюдал за секундной стрелкой часов на пульте программирования Ворот, и, когда она подошла к двенадцати, он обернулся и посмотрел на Ворота. В полумраке трубы длиною в три с половиной метра что-то блеснуло, появилась расплывчатая темная тень, которая обрела форму человека, за ним показались еще трое, шествующие один за другим. Группа поиска покинула Ворота и оказалась в зале, где ее встретили трое ученых, следивших за работой пульта. Группа вернулась из февраля 1989 года, и лица всех ее членов сияли улыбкой, отчего сердце Клитмана радостно забилось: значит, они обнаружили Штефана Кригера, женщину и мальчишку, иначе к чему эта радость. Первые два отряда ликвидации, направленные в будущее, — один штурмовал дом у хребта Биг-Бэр, а второй дом в Сан-Бернардино — были сформированы из офицеров гестапо. Их провал заставил фюрера настоять, чтобы третий отряд был отрядом СС, и теперь, судя по улыбкам группы поиска, Эрих сделал вывод, что его отряд, третий по счету, имеет шанс доказать превосходство СС над гестапо. Неудача двух предыдущих отрядов ликвидации была не единственным позорным пятном на репутации гестапо в этом деле. Глава институтской службы безопасности тоже был офицером гестапо, и он явно оказался предателем. Имеющиеся данные свидетельствовали, что два дня назад, шестнадцатого марта, он дезертировал в будущее вместе с пятью другими сотрудниками Института. Вечером шестнадцатого марта Кокошка совершил скачок в будущее в горах Сан-Бернардино с намерением убить там Штефана Кригера до того, как Кригер вернется в 1944 год и убьет Пенловского; таким образом Кокошка планировал спасти уже погибших двух лучших сотрудников Проекта. Но Кокошка так и не вернулся. Некоторые настаивали, что Кокошка убит в 1988 году и что Кригер победил в этом поединке, но это не объясняло, что же случилось в тот вечер с пятью другими людьми из Института: двумя агентами гестапо, поджидавшими возвращения Кокошки, и тремя научными сотрудниками, которые следили за работой пульта программирования Ворот. Все они исчезли бесследно, а вместе с ними и пять поясов; абсолютно все свидетельствовало о том, что шайка изменников в стенах Института пришла к выводу, что Гитлер проигрывает войну даже при наличии необыкновенного оружия, привезенного из будущего, и предпочла дезертировать в другую эпоху, а не оставаться в обреченном Берлине. Но Берлин не может быть обречен. Клитман не желал этому верить. Берлин был новым Римом; «третий рейх» просуществует еще тысячу лет. А теперь, когда СС предоставлена возможность найти и убить Кригера, эта мечта фюрера найдет свое воплощение. Прежде всего следует ликвидировать Кригера, который представлял основную угрозу Воротам и чья казнь была самой неотложной задачей, а потом уже заняться поисками Кокошки и других предателей. Где бы ни укрылись эти грязные свиньи, в каком бы то ни было отдаленном году или месте, Клитман и его собратья по СС сотрут их с лица земли с глубоким презрением и большим удовлетворением. Профессор Теодор Ютнер, директор Института после убийства Пенловского, Янушского и Волкова и исчезновения сотрудников шестнадцатого марта, повернулся к Эриху и сказал: — Видимо, они обнаружили Кригера, оберштурмфюрер Клитман. Готовьте ваших людей к старту. — Мы готовы, профессор, — ответил Эрих. «Готовы к скачку в будущее, — подумал он, — готовы к встрече с Кригером, готовы к славе».6
Четырнадцатого января, в субботу, в три сорок пополудни, спустя немногим более суток, Тельма возвратилась в мотель «Синяя птица» на старом белом пикапе. Она привезла для всех по две смены одежды, чемоданы, чтобы все упаковать, и две тысячи патронов для револьверов и «узи». В пикапе были также персональный компьютер IBM и принтер, разное программное обеспечение, коробка дискет и все прочее, необходимое для работы системы. Хотя Штефан был ранен всего четыре дня назад, он удивительно быстро» поправлялся, но еще не мог поднимать какие-либо предметы, пусть даже самые легкие. Они с Крисом занялись упаковкой чемоданов, а Лора с Тельмой перенесли коробки с компьютером в багажник и на заднее сиденье «Бьюика». Ночью дождь прекратился. Рваные серые облака, словно клочья грязной ваты, покрывали небо. Потеплело, промытый воздух дышал свежестью. Поставив в багажник последнюю коробку, Лора спросила: — И ты ходила за покупками в этом парике и очках, да еще с такими зубами? — Нет, — ответила Тельма, вынимая вставные зубы и пряча их в карман жакета, потому что с ними она шепелявила. — Вблизи кто-нибудь из продавцов мог меня узнать, потому что иногда маскарад привлекает больше внимания, чем собственная физиономия. Но потом, когда я все купила, я нашла на стоянке уголок потише и надела парик и все прочее, чтобы меня кто-нибудь не узнал по дороге; получился прямо вылитый Харпо Маркс. Знаешь, Шейн, меня увлекает вся эта история. Может, я новая Мата Хари? Стоит мне представить, как я соблазняю мужчин, выманивая у них секретные сведения, а потом продаю их иностранным державам, как у меня от страха и удовольствия начинают мурашки бегать по коже. — Это у тебя при мысли о мужчинах, а не о секретах мурашки бегают по коже. Какая из тебя шпионка, ты просто распутница. Тельма отдала Лоре ключи от дома в Палм-Спрингс. — Там нет постоянной прислуги. Мы заказываем уборку дома на фирме за несколько дней до нашего приезда. В этот раз я их, конечно, не вызывала, так что там будет немного пыли, но не грязи, и никаких отрубленных голов, которые ты так любишь оставлять повсюду. — Спасибо, Тельма, ты прелесть. — Там, правда, есть садовник. Но он не работает постоянно, как наш садовник в Беверли-Хиллз. Он приходит только раз в неделю, во вторник, чтобы подстричь газон и подровнять кусты, вырвать кое-какие цветы и посадить новые, чтобы потом прислать нам за это счет. Советую вам в этот день не подходить к окнам и вообще не показываться, пока он не уйдет. — Мы просидим все это время под кроватью. — Если вы заглянете под кровать, то обнаружите там плетки и цепи, но не подумайте, что у нас с Джейсоном отклонения. Плетки и цепи остались после его матери, и мы храним их как память о ней. Они вынесли из комнаты упакованные чемоданы и положили их на заднее сиденье вместе с другими свертками и коробками, которые не поместились в багажнике «Бьюика». После долгих объятий Тельма сказала: — Шейн, у меня сейчас трехнедельный перерыв между выступлениями в ночных клубах, так что, если тебе что-нибудь понадобится, я все время в Беверли-Хиллз. И не буду отходить от телефона. Она с неохотой простилась с ними. Лора с облегчением вздохнула, когда пикап исчез в потоке движения; Тельма была в безопасности и далеко отсюда. Они оставили ключи от номера на конторке при входе в мотель и тронулись в путь; Крис сидел рядом с Лорой впереди, а Штефан на заднем сиденье рядом с кучей вещей. Лора жалела, что они покидают «Синюю птицу», потому что здесь они целых четыре дня были в безопасности, а что-то будет с ними в другом месте. Сначала они остановились у оружейного магазина. Лоре не стоило лишний раз показываться на людях, и Штефан зашел туда, чтобы купить коробку патронов для пистолета. Они не включили такие патроны в список покупок для Тельмы, потому что тогда еще не знали, какой «кольт» им удастся купить для Штефана, и, действительно, новый «кольт» был тоже тридцать восьмого калибра, но «супер». После посещения оружейного магазина они поехали ко «Дворцу пиццы» Толстяка Джека, чтобы забрать два баллона смертоносного нервно-паралитического газа. Штефан и Крис ждали Лору в машине, под неоновыми буквами, которые уже горели, хотя еще только смеркалось, но подлинный неоновый спектакль начинался только с наступлением темноты. Баллоны стояли у Джека на столе. Они были размером с небольшой домашний огнетушитель, но не красного цвета, а из нержавеющей стали, с черепом и скрещенными костями и надписью: «ВЕКСОН (аэрозоль). ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: ОТРАВЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. СМЕРТЕЛЬНО! ХРАНЕНИЕ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГОРАЗРЕШЕНИЯ КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ США», а дальше шло много мелкого шрифта. Толстым, похожим на сосиску пальцем Джек указал на верхушку цилиндра, где был расположен диск размером с полдоллара. — Это часовой механизм, разделенный на минуты, от одной до шестидесяти. Если вы установите время и нажмете кнопку посередине диска, вы можете выпустить газ автоматически, как если бы это была бомба с часовым механизмом. Но если вы хотите выпустить газ вручную, тогда надо поддерживать баллон снизу одной рукой, а другой взяться за рукоятку-пистолет и нажать спусковую скобу. Газ будет выходить под давлением и через полторы минуты заполнит помещение площадью в пять тысяч квадратных футов, и еще быстрее при включенном отоплении или наличии системы кондиционирования воздуха. Под воздействием света и воздуха он быстро распадается на нетоксичные компоненты, но остается смертельным еще от сорока до шестидесяти минут. Всего три миллиграмма на коже убивают за тридцать секунд. — А противоядие? — спросила Лора. Толстяк Джек улыбнулся и постучал по запечатанным синим пластиковым пакетам размером четыре на четыре дюйма, прикрепленным к ручкам цилиндров. — По десять капсул в каждом пакете. Две обеспечивают защиту для одного человека. Инструкция внутри, но меня предупредили, что таблетки надо принимать по крайней мере за час до распыления газа. Они действуют от трех до пяти часов. Джек взял у Лоры деньги и положил баллоны с «вексоном» в картонную коробку с надписью: «СЫР МОЗАРЕЛЛА, ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ». Закрывая коробку крышкой, он засмеялся и покачал головой. — В чем дело? — спросила Лора. — Удивляюсь, — сказал Толстяк Джек. — Такая красотка, образованная, да еще с маленьким мальчиком… Если такие люди, как вы, занимаются подобными темными делишками, то, видно, наше общество разлагается куда быстрее, чем я предполагал. Может, я еще доживу до того дня, когда государство рухнет и воцарится анархия, а единственными законами будут законы, которые отдельные люди устанавливают для себя и скрепляют рукопожатием. Немного подумав, он приподнял крышку коробки, взял несколько зеленых листков бумаги из ящика стола и положил их сверху цилиндров с «вексоном». — Что это такое? — поинтересовалась Лора. — Вы хороший клиент, — пояснил Толстяк Джек, — вот я и даю вам купоны на бесплатную пиццу.* * *
Дом Тельмы и Джексона в Палм-Спрингс стоял в уединенном месте. Кирпичный особняк представлял собой несколько странное, но приятное сочетание испанской и калифорнийской архитектуры; участок в один акр был окружен высокой оштукатуренной стеной, выкрашенной в розовый цвет, с двумя воротами — для въезда и выезда; дорога внутри была в форме подковы. Парк вокруг дома был густо засажен оливковыми и фикусовыми деревьями и различными пальмами таким образом, что оставался открытым только фасад, а с остальных трех сторон деревья загораживали дом от соседей. Простившись с Толстяком Джеком, они выехали из Анахейма, пересекли пустыню и в восемь вечера подъехали к дому Тельмы и Джейсона. Дом и лужайка перед ним были видны до мельчайших подробностей, так как освещались хитроумно расположенными источниками света, управляемыми с помощью фотоэлементов, что обеспечивало одновременно безопасность и радовало глаз. Тельма дала им пульт дистанционного управления, чтобы открыть дверь гаража, и они поставили «Бьюик» в гараж на три машины и вошли в дом через прачечную, предварительно с помощью кода отключив охранную сигнализацию. Этот дом был поменьше, чем особняк Гейнсов в Беверли-Хиллз, — десять комнат и четыре ванных. И всюду, в каждой комнате, чувствовалась талантливая рука Стива Чейса, модного в Палм-Спрингс дизайнера: неожиданное и необычное освещение, сочные, но приглушенные тона — неяркий персиковый, оранжево-розовый, оживляемые кое-где пятнами бирюзового; стены, обитые замшей, потолки из кедра, медные столики, украшенные патиной, столики с верхом из гранита, контрастирующие с уютной мягкой мебелью с самой разнообразной обивкой. Все было элегантно, но вполне пригодно для жизни. Кладовая при кухне была пуста, кроме одной полки, где стояли консервы. Они все слишком устали, чтобы отправиться за покупками, и решили обойтись тем, что было под рукой. Если бы Лора не знала, что дом принадлежит Тельме и Джейсону, она бы тут же догадалась об этом, посетив кладовую, потому что вряд ли на земле можно было сыскать еще одну супружескую пару миллионеров, которые, оставаясь в душе детьми, делали бы запасы консервированных равиоли и спагетти. Крис был в восторге. В морозильнике они обнаружили две коробки мороженого в шоколаде, что и послужило им десертом; ничего другого там больше не было. Лора и Крис расположились на огромной кровати в самой большой спальне, а Штефан ночевал напротив, в комнате для гостей. И хотя Лора включила круговую охранную сигнализацию, которая охватывала все окна и двери, хотя заряженный «узи» лежал на полу рядом с кроватью, а «смитт-вессон» на столике у изголовья и хотя никто на всем свете, кроме Тельмы, не знал, где они находятся, Лора спала урывками. Просыпаясь, она всякий раз садилась на кровати и прислушивалась к шорохам в ночи: не слышны ли крадущиеся шаги или приглушенные голоса. К утру, когда она не могла больше уснуть, она долго смотрела на темный потолок и думала о том, что сказал Штефан дня два назад, когда он объяснял тонкости путешествия во времени и пространстве и те изменения, которые путешественники могут сделать в своем будущем. Судьба стремится восстановить предопределенный ход событий. Штефан спас ее от бродяги в бакалейной лавке в 1963 году, но судьба в конце концов поставила на ее пути еще одного педофила, Вилли Шинера, в 1967-м. Судьба предопределила ей быть сиротой, и, когда она нашла новую семью у Доквайлеров, судьба устроила так, чтобы у Нины случился смертельный сердечный приступ, и Лора вновь вернулась в приют. Судьба стремится восстановить предопределенный ход событий. Чего же ждать теперь? Если следовать предопределению, то Крис вообще не должен был появиться на свет. Попытается ли судьба обречь его на смерть и таким образом приблизить реальный ход событий к тому, что первоначально замышлялось, несмотря на вмешательство Штефана Кригера? Судьба уготовила ей жизнь в инвалидном кресле еще до того, как Штефан под дулом револьвера заставил доктора Пола Марквелла отказаться принимать роды. Теперь судьба может устроить так, чтобы выстрелы гестаповцев повредили ей позвоночник, и, как это было уготовано первоначально, она станет инвалидом. Как долго силы судьбы пытаются повернуть ход событий на прежнюю стезю? Крис живет уже более восьми лет. Достаточно ли этого, чтобы судьба примирилась с его существованием? Она сама прожила тридцать четыре года на ногах, а не инвалидом. По-прежнему ли судьбу волнует это непредусмотренное нарушение порядка? Судьба стремится восстановить предопределенный ход событий. Рассвет уже осветил спальню, а Лора все ворочалась с боку на бок и сердилась неизвестно на кого и на что. Что есть судьба? Какая сила предопределяет ход событий и старается их осуществить? Всевышний? Должна ли она гневаться на Всевышнего или, наоборот, молить Его сохранить жизнь ее сыну, а ее спасти от инвалидного кресла? Или эта сила за спиной судьбы — просто естественный механизм природы, который по своему происхождению не отличается от земного притяжения или магнетизма? Так как она не могла найти виновника своего гнева, на котором можно было выместить чувства, Лора обнаружила, что ее злость постепенно обращается в страх. На первый взгляд они были в безопасности в этом доме. После одной спокойно проведенной здесь ночи они могли быть почти уверены, что их пребывание в доме останется в тайне, иначе убийцы из прошлого наверняка бы уже появились. И тем не менее Лора боялась. Что-то должно было произойти. Что-то очень плохое. К ним приближалась беда, но Лора не знала откуда. Молния. Скоро в небе вспыхнет молния. Печально, но старая поговорка не соответствовала действительности: молния дважды, трижды, сто раз ударяла в одно и то же место, и Лора притягивала ее лучше любого громоотвода.7
Профессор Ютнер ввел последние цифры в пульт программирования Ворот. Он сказал, обращаясь к Эриху Клитману: — Пункт назначения вашего отряда — окрестность Палм-Спрингс в Калифорнии — январь 1989 года. — Палм-Спрингс? — удивился Клитман. — Да. Мы, правда, ожидали, что вы отправитесь в район Лос-Анджелеса или округ Оранж, где ваша одежда молодых деловых людей была бы менее заметной, чем в курортном городе, но и там вы не будете привлекать внимания. Прежде всего, там сейчас зима, так что ваши темные костюмы будут к месту даже в пустыне. Ютнер протянул Клитману листок бумаги, на котором были записаны все необходимые сведения. — Вот где вы найдете женщину и ее сына. Складывая бумагу и пряча ее во внутренний карман пиджака, лейтенант спросил: — А как насчет Кригера? — Группа поиска нигде не нашла упоминания о нем, — ответил Ютнер, — но он должен находиться вместе с женщиной и ее сыном. Если вы его не обнаружите, тогда постарайтесь захватить женщину и мальчика живыми. Можете даже их пытать, чтобы дознаться, где Кригер. Если же случится, что они не заговорят, убейте их. Это может заставить Кригера появиться где-либо в последующем временном потоке. — Мы обязательно найдем его, профессор. У всех четырех — Клитмана, Губача, фон Манштейна и Брахера под костюмами Ива Сен-Лорана были надеты пояса возвращения. Неся в руках кейсы, они зашагали к Воротам, ступили внутрь трубы и двинулись к точке отправления — для этого надо было пройти две трети протяженности туннеля, — после чего они в одно мгновение из 1944-го перенесутся в 1989 год. Лейтенант испытывал страх и одновременно душевный подъем. Он был железным кулаком Гитлера, от которого Кригера не скроют даже сорок пять лет будущего.8
На другое утро после приезда в Палм-Спрингс — это было воскресенье, пятнадцатое января, — они установили компьютер и Лора начала обучать Штефана работать на нем. Правила пользования компьютером IBM и программное обеспечение были достаточно простыми, во всяком случае, для решения их задач, и хотя к вечеру Штефан был еще далеко не экспертом в этой области, он уже понимал, каким образом компьютер функционирует и как он мыслит. Основную работу так или иначе должна была выполнить Лора, которая хорошо разбиралась в системе. Штефан объяснит ей, какие расчеты необходимо произвести, и она использует компьютер для решения многих стоящих перед ними проблем. Штефан намеревался вернуться обратно в 1944 год с помощью пояса возвращения, который он снял с Кокошки. Сам по себе пояс не являлся машиной времени. Такой машиной были Ворота, они были средством транспортировки и постоянно находились в 1944 году. Пояса были настроены на волну временной вибрации Ворот, и, когда путешественник нажимал кнопку на поясе, устанавливалась связь с Воротами и они немедленно возвращали его домой. — Каким образом? — спросила Лора, когда Штефан объяснил назначение пояса. — Как он возвращает вас обратно? — Я не знаю. А вы знаете, как микросхема работает внутри компьютера? Нет. Но это не мешает вам пользоваться компьютером, так же как и мое незнание не мешает мне пользоваться Воротами. Вернувшись в Институт в 1944 год и захватив главную лабораторию, Штефан совершит два решающих скачка из марта сорок четвертого, каждый на расстояние всего в несколько дней от его собственного времени. Эти два скачка придется разработать до мельчайших деталей, чтобы в каждом случае прибыть точно в нужную географическую точку и в точно установленный час. Подобные сложные расчеты нельзя было провести в 1944 году, и не только из-за того, что не существовали компьютеры, но также и потому, что в ту эпоху не было полных и точных данных об угле наклона земной оси и скорости вращения Земли и о других планетарных факторах, влияющих на скачок; вот почему путешественники из Института часто прибывали с опозданием в несколько минут и на расстоянии нескольких миль от намеченного места. При точности, которую обеспечивал компьютер, можно было запрограммировать Ворота так, чтобы доставить Штефана в назначенное место с точностью до ярда и до секунды. Они пользовались книгами, которые привезла Тельма. Это были не только научные и технические работы, но также труды по истории второй мировой войны, с помощью которых они могли установить, где и в какое время находились определенные исторические личности. Помимо времени, необходимого для проведения сложных расчетов, Штефану нужно было время на выздоровление. При возвращении в волчье логово, в 1944 год, даже вооруженный нервно-паралитическим газом и первоклассным оружием, он не сможет избежать гибели, если не будет обладать быстротой и ловкостью. — Две недели, — сказал Штефан. — Думаю, этого будет достаточно, чтобы восстановить подвижность руки. Две или десять недель, это не имело значения, потому что с поясом Кокошки он вернется в Институт всего через одиннадцать минут после того, как Кокошка его покинул. Когда бы Штефан ни стартовал из нынешней эпохи, это не повлияет на срок его возвращения в 1944 год. Лору и Штефана беспокоило только то, что гестапо обнаружит их и направит в 1989 году ударный отряд для их уничтожения прежде, чем Штефан вернется в свою эпоху и осуществит свой план. И это было очень серьезное опасение. С осторожностью, каждую секунду ожидая увидеть внезапный блеск молнии и услышать раскаты грома, они прервали свои занятия и отправились за покупками. Лора, которая по-прежнему была в центре внимания прессы, осталась в машине, а Крис и Штефан пошли в супермаркет. К счастью, обошлось без молний, и они вернулись домой с целым багажником припасов. Разбирая покупки на кухне, Лора обнаружила, что треть всех продуктов составляли закуски и сладости, а никак не еда: несколько сортов мороженого, предпочтение отдавалось шоколадному и миндальному, большие пакеты конфет, картофельные чипсы, соленые крекеры, воздушная кукуруза, арахис, четыре сорта печенья, шоколадный торт и вишневый пирог, коробка пончиков и еще многое другое. Штефан помогал ей разбирать покупки, и Лора заметила: — Вы, наверное, большой сластена. — Вот еще одна замечательная вещь, которая поражает меня в вашем мире, — сказал он. — Только подумать, что нет никакой разницы в питательности между шоколадным тортом и бифштексом. В чипсах столько же витаминов и минеральных солей, сколько и в зеленом салате. Можно есть одни сладости и оставаться таким же здоровым, как те люди, которые питаются рационально. Невероятно! Каким образом удалось этого достичь? Лора обернулась как раз в ту минуту, когда Крис хотел выскользнуть в дверь. — Ах ты маленький мошенник! Крис смущенно заметил: — Ты не находишь, что у мистера Кригера довольно странные представления о нашей жизни? — По крайней мере, я теперь знаю, откуда у него эти представления, — сказала Лора. — Какая низость. И тебе не стыдно? Крис вздохнул и заговорил притворно печальным голосом: — Стыдно. Но я подумал… если за нами гонятся агенты гестапо, то нам надо вволю наесться хотя бы мороженого, потому что, может, мы едим в последний раз. Он бросил исподтишка взгляд на Лору, проверяя, верит ли она в его раскаяние. Слова Криса оправдывали, хотя и не извиняли его проделки; она не могла заставить себя его наказать. Вечером, после ужина, Лора поменяла повязку на ране Штефана. Пуля оставила на груди огромный кровоподтек с входным отверстием посередине и кровоподтек поменьше на спине вокруг выходного отверстия. Кетгут и старая повязка были покрыты засохшими выделениями. Лора осторожно промыла участок кожи вокруг, стараясь очистить его от засохших выделений, но не касаясь струпа; потом надавила на тело пальцами, отчего из раны вышло немного прозрачной жидкости, но не гноя, что говорило бы об опасном инфицировании. Конечно, абсцесс мог образоваться и внутри раны, с внутренними выделениями, но это было маловероятно, так как у Штефана не было температуры. — Надо продолжить принимать пенициллин. — сказала Лора, — и тогда, я думаю, вы скоро выздоровеете. Доктор Бренкшоу неплохо потрудился. В понедельник и вторник Лора и Штефан все время провели у компьютера, а Крис смотрел телевизор, рылся на книжных полках, чтобы найти что-нибудь почитать, рассматривал старые комиксы с приключениями Барбареллы. — Мама, а что такое оргазм? — Ты что читаешь? Дай сюда. И вообще он развлекался потихоньку как мог. Так, он вдруг появлялся в кабинете и стоял с минуту, глядя, как они работают на компьютере. После нескольких визитов он заявил: — В фильмах все куда проще, у них там машина времени, нажмешь пару кнопок на доске управления и готово. И почему только в жизни все куда сложнее? Во вторник девятнадцатого января они не выходили из дома, пока садовник косил газон и подстригал кусты. За четыре дня это был первый чужой человек, которого они видели; никакие коммивояжеры с товарами и никакие Свидетели Иеговы, распространяющие свой журнал, сюда не добирались. — Тут мы в безопасности, — сказал Штефан. — Видимо, о нашем прибытии здесь пресса и телевидение никогда не узнают. Иначе гестапо уж давно бы с нами расправилось. И все же Лора и ночью и днем держала включенной охранную сигнализацию. А ночью ей снились сны о судьбе, которая восстанавливает свои права, о Крисе, выброшенном из потока жизни, о том, как, проснувшись, она обнаружит, что сидит в инвалидном кресле.9
Они должны были прибыть в восемь часов, это оставляло им достаточно времени, чтобы добраться до того места, где группа поиска обнаружила женщину и мальчика, а может быть, и Кригера. Но когда лейтенант Клитман, не успев моргнуть глазом, очутился в эпохе на сорок пять лет позже собственной, он тут же понял, что они опоздали на пару часов. Солнце слишком высоко стояло над горизонтом. Температура была семьдесят пять по Фаренгейту, слишком тепло для раннего зимнего утра в пустыне. Как белая трещина в голубой чаше, первая молния расколола небо. За первой трещиной появились другие, а с ними новые вспышки, словно пьяный хулиган атаковал небесную посудную лавку, неся с собой шум и разрушение. Постепенно грохот стал стихать, и Клитман обернулся, чтобы посмотреть, благополучно ли прибыли вместе с ним фон Манштейн, Губач и Брахер. Они были рядом с ним с кейсами в руках; солнечные очки торчали из нагрудных карманов их дорогих костюмов. Загвоздка была в том, что на расстоянии тридцати футов от лейтенанта, сержанта и двух капралов две немолодые седовласые леди в эластичных брюках и блузках пастельных тонов стояли рядом с белой машиной и в изумлении взирали на Клитмана и его отряд. В руках они держали предметы, похожие на кастрюли. Клитман огляделся и обнаружил, что он и его люди прибыли на автостоянку позади церкви. Кроме белой машины, которая, по всей видимости, принадлежала женщинам, на стоянке были еще две машины, но пустые. Стоянку окружала стена, и, чтобы выбраться отсюда, Клитману и его команде нужно было пройти мимо женщин. Тут следовало действовать решительно, и Клитман направился прямо к женщинам, как если бы не было ничего особенного в том, что они возникли из воздуха; отряд последовал за ним. Словно загипнотизированные, женщины следили за их приближением. — Доброе утро, леди. — Как и Кригер, Клитман учился говорить по-английски с американским акцентом в надежде, что его отправят в страну в качестве секретного агента, но он так и не сумел избавиться от немецкого акцента, несмотря на упорные занятия и практику. Хотя часы у него на руке были поставлены по местному времени, он не мог на них полагаться и поэтому спросил: — Будьте любезны, скажите, пожалуйста, который час? Женщины продолжали молча смотреть на него. — Время? — повторил он. Женщина в нежно-желтом костюме повернула руку, не выпуская кастрюли, посмотрела на часы и сказала: — Сейчас десять сорок. Они опаздывали на два часа сорок минут. Они не могли терять времени на поиски автомобиля с ключами или без ключей, особенно если автомобиль стоял прямо перед ними, да еще с ключами. Клитман был готов убить женщин, чтобы завладеть машиной. Но он не мог оставить их тела на стоянке; как только их найдут, поднимут тревогу и полиция начнет поиски машины. Это будет неприятным осложнением. Придется запихнуть трупы в багажник и взять их с собой. Женщина в нежно-голубом сказала: — Откуда вы, вы что — ангелы? Клитман подумал, уж не выжила ли она из ума. Ангелы в костюмах в полоску? Внезапно он сообразил, что они находятся возле церкви и что они появились чудесным образом, поэтому вполне логично верующие женщины приняли их за ангелов, несмотря на их одежду. Не стоит тратить время на убийство, когда можно обойтись и без него. Он сказал: — Да, мэм, мы ангелы, и Господу нужна ваша машина. Женщина в желтом спросила: — Вот эта моя «Тойота»? — Да, мэм. — Дверь со стороны водителя была открыта, и Клитман положил свой кейс на переднее сиденье. — Мы тут по срочному заданию Господа Бога, вы собственными глазами видели, как мы прибыли сюда с небес, и нам необходимо средство передвижения. Фон Манштейн и Брахер обошли «Тойоту» с другой стороны, открыли двери и сели внутрь. Женщина в голубом сказала: — Ширли, на твою машину пал небесный выбор. — Господь вернет ее тебе, — сказал Клитман, — когда мы завершим наш труд. Вспомнив о нехватке бензина в своей военной эпохе и не зная, как обстоят дела в 1989 году, он добавил: — Сколько бы ни было у вас сейчас бензина в баке, он будет полным, когда мы вернем машину, и полным он будет вечно. Помните, как там в Библии насчет хлебов и рыбы. — Там внутри картофельный салат для церковного обеда, — сказала женщина в желтом. Феликс Губач уже открыл заднюю дверь с левой стороны и обнаружил картофельный салат. Он вытащил его из машины и поставил у ног женщины в голубом. Клитман сел в машину, закрыл дверь, услышал, как Губач захлопнул дверь позади, нашел ключи в замке зажигания, завел мотор и выехал с церковной стоянки. При повороте на улицу он взглянул в зеркало: пожилые леди стояли на том же месте, держа в руках кастрюли, и смотрели им вслед.10
День за днем они уточняли свои расчеты, а Штефан также тренировал левую руку и плечо, чтобы по мере заживления раны она восстановила гибкость и мускулатуру. Они уже провели в Палм-Спрингс почти неделю, и в субботу, двадцать первого января, завершили вычисления и определили точные временные и пространственные координаты, необходимые для скачков, которые Штефан совершит, вернувшись в 1944 год. — Теперь мне надо еще немного времени, чтобы совсем зажила рана, — сказал он, поднимаясь со стула у компьютера и делая вращательные движения левой рукой. Лора сказала: — Прошло одиннадцать дней после ранения. Вы все еще чувствуете боль? — Да. Но не такую сильную, а глухую. И не всегда. Я еще не владею рукой полностью. Надо подождать еще несколько дней. Если к следующей среде, двадцать пятого, все будет в порядке, я вернусь в Институт. Можно и раньше, если дела пойдут лучше, но не позднее двадцать пятого. Этой ночью Лора пробудилась от кошмара. Ей приснилось, что она прикована к инвалидному креслу, а судьба, человек в черной одежде и без лица, стирает имя Криса в Книге Жизни, будто это не более чем рисунок мелом на грифельной доске. Вся в поту, она села на кровати, прислушиваясь к звукам в доме, но не слышала ничего, кроме ровного спокойного дыхания сына рядом с ней. Позже, когда она не могла уснуть, она думала о Штефане Кригере. Он был загадочным человеком, до крайности замкнутым, о котором было трудно составить ясное представление. С той самой среды на прошлой неделе, когда он объяснил, что стал ее хранителем из любви к ней и решил переделать ту жизнь, которую ей уготовила судьба, он больше не говорил о своем чувстве. Он не повторял своего признания, не бросал на нее многозначительных взглядов и не изображал из себя страдающего поклонника. Он открыл ей свою душу и теперь готов был ждать, чтобы она его ближе узнала и все обдумала, прежде чем примет окончательное решение. Она подозревала, что, если потребуется, он готов без звука ждать, ждать целый год. Он был закален в борьбе с превратностями судьбы, и отсюда происходило его великое терпение; Лора понимала подобные вещи. Он был молчалив, очень часто задумчив, а иногда печален, что Лора относила на счет тех ужасов, свидетелем которых он был в далекой Германии. Возможно, причиной этой грусти были его собственные поступки, о которых он теперь сожалел и которые он никогда не сумеет загладить. Ведь он сказал, что ему уже приготовлено место в аду. После того разговора с нею и Крисом в мотеле десять дней назад он больше не упоминал о своем прошлом. Однако Лора чувствовала, что он готов был рассказать ей все — и плохое, и хорошее; что он не хочет ничего скрывать, а просто ждет, когда она вызовет его на откровенность. Несмотря на свою печаль, глубокую и непреодолимую, он обладал чувством юмора. Он хорошо относился к Крису и мог заставить его смеяться, что Лора также засчитывала ему в актив. У него была добрая, сердечная улыбка. Но она не любила его и считала, что никогда не полюбит. Она спрашивала себя, почему она так в этом уверена. Часа два она раздумывала над этим без сна в темной спальне и наконец нашла причину: она не может его полюбить, потому что он не Дании. Дании был единственным, и с ним она узнала идеальную любовь, какая только возможна в этом несовершенном мире. И вот теперь, добиваясь взаимности, Штефан Кригер вступил в вечный поединок с призраком. Она понимала всю сложность ситуации и с грустью сознавала, что обрекает себя на одиночество. В глубине сердца она желала быть любимой и отвечать на любовь, но что касается ее отношений со Штефаном, то он не мог рассчитывать на взаимность, а она — на осуществление своих надежд. Рядом с ней Крис бормотал и вздыхал во сне. «Как я люблю тебя, малыш, — думала Лора, — как сильно я тебя люблю». Ее сын, ее единственный ребенок, другого уже не будет, был для нее всем на свете и на все времена, единственной целью, ради которой стоит жить, Лора знала, что, если что-нибудь случится с Крисом, она не найдет больше успокоения в этом мире, где трагическое и смешное существуют бок о бок; мир станет для нее слишком суровым и мрачным, а потому невыносимым.11
Проехав три квартала, Эрих Клитман остановил белую «Тойоту» на одной из боковых улиц в главном торговом районе Палм-Спрингс. Множество людей прохаживалось по тротуарам, разглядывая витрины магазинов. Некоторые молодые женщины были в шортах и очень открытых блузках, под которыми явно не было лифчиков, и Клитман находил подобную демонстрацию женского тела, невиданную в его эпоху, возмутительной и неприличной. Национал-социалистская рабочая партия фюрера с ее железной властью никогда не допустила бы такого скандального поведения; в случае победы Гитлера мир станет совершенно иным, где воцарятся строгая нравственность и мораль, которые будут неукоснительно соблюдаться, и где под страхом тюрьмы и принудительного перевоспитания не станут больше разгуливать женщины без лифчиков и с голыми руками и ногами, где просто не потерпят этих падших существ. Он наблюдал, как под узкими шортами двигались и покачивались бедра, видел, как колыхались ничем не стесненные груди под тонкими майками, и испытывал жгучее желание немедленно обладать каждой из этих женщин, несмотря на то что это были представительницы низшей расы, которую Гитлер обрек на уничтожение. Рядом с Клитманом капрал Руди фон Манштейн развернул на коленях карту Палм-Спрингс, которую им предоставила группа поиска, нашедшая женщину и мальчика. Он спросил: — Где будет проходить операция? Из внутреннего кармана пиджака Клитман вытащил сложенный лист бумаги, полученный в лаборатории от профессора Ютнера. Он развернул его и прочитал вслух: — В одиннадцать двадцать, в среду утром двадцать пятого января, полицейский службы дорожного патрулирования штата Калифорния произведет арест женщины на шоссе № 111, примерно в шести милях к северу от границы города Палм-Спрингс. Она будет ехать на черном «Бьюике». Мальчик едет с ней и будет задержан для обеспечения его безопасности. Видимо, их сопровождает Кригер, но мы в этом не уверены; он каким-то образом скроется от полицейского, но мы не знаем как. Фон Манштейн уже проложил на карте путь из Палм-Спрингс до шоссе № 111. — У нас осталась всего тридцать одна минута, — объявил Клитман, взглянув на часы на доске приборов. — Этого вполне достаточно, — успокоил фон Манштейн. — Туда езды не более пятнадцати минут. — Если мы приедем туда пораньше, — продолжал Клитман, — мы можем прикончить Кригера еще до того, как он скроется от полицейского. Во всяком случае, нам надо быть там до ареста женщины и ребенка, потому что нам трудно будет до них добраться в тюрьме. Он обернулся, чтобы посмотреть на Брахера и Губача на заднем сиденье: — Задача ясна? Оба кивнули, но сержант Губач вдруг похлопал себя по карману на груди пиджака — А что делать с этими очками? — Как, что делать? — недовольно спросил Клитман. — Может, нам их сейчас надеть? Может, с очками мы будем меньше выделяться из толпы? Я приглядывался к людям на улице, очень многие носят темные очки. Клитман посмотрел на прохожих, стараясь не обращать внимания на полуобнаженных женщин, и увидел, что Губач был абсолютно прав. Кроме того, он заметил, что ни единый мужчина в пределах видимости не был одет по моде «властный облик», которой отдают предпочтение в Калифорнии молодые деловые люди. Возможно, в этот час все молодые дельцы находились в своих конторах. Какова бы ни была причина отсутствия на улице темных костюмов и черных мокасин, Клитман почувствовал, что он и его люди обращают на себя внимание, хотя они и сидели в машине. Так как многие прохожие были в темных очках, Клитман решил надеть свои собственные, чтобы иметь хотя бы нечто общее с местными жителями. Лейтенант надел очки, и его примеру тут же последовали фон Манштейн, Брахер и Губач. — Все в порядке, а теперь в путь, — сказал Клитман. Но, прежде чем он успел снять машину с тормоза и включить скорость, кто-то постучал в окно рядом с ним. Это был полицейский города Палм-Спрингс.12
Лора понимала, что так или иначе их испытания подходят к концу. Они уничтожат Институт или погибнут сами при попытке его уничтожить; она почти достигла того предела, когда желанно любое освобождение от состояния страха, в котором она пребывала. В среду утром, двадцать пятого января, Штефан все еще ощущал боль в плече и руке, но она уже не была такой острой. Он не чувствовал больше онемения, и это означало, что пуля не затронула никаких нервов. Он осторожно упражнял левую руку каждый день, и теперь она работала у него вполсилы, чего было достаточно, как он считал, для осуществления плана. Но Лора видела, что он боится предстоящего путешествия. Он надел на себя пояс возвращения, принадлежавший Кокошке, тот, что Лора захватила с собой из сейфа в тот момент, когда раненый Штефан появился на веранде ее дома. Его страх по-прежнему был заметен, но, как только он застегнул пояс, он обрел твердую решимость, которая взяла верх над беспокойством. В десять часов на кухне они все, включая Криса, проглотили по две капсулы для защиты от воздействия газа «вексон» и запили капсулы апельсиновым соком, обогащенным витамином С Они погрузили в багажник машины три «узи», один «смитт-вессон», один «кольт-супер», снабженный глушителем, и небольшой нейлоновый рюкзак, наполненный книгами. Два стальных баллона со сжатым газом «век-сон» уже лежали там. После изучения руководства Штефан решил, что ему будет достаточно одного баллона. «Вексон» был газом, предназначенным, в первую очередь, для использования в помещении, а именно для уничтожения противника в казармах, убежищах и глубоких бункерах, а не в полевых условиях. На открытом воздухе газ рассеивался слишком быстро, распадался под воздействуем солнечного света и был эффективен в радиусе не более двухсот ярдов. Однако в замкнутом пространстве при полностью открытом клапане один баллон мог за несколько минут заполнить помещение площадью в пятьдесят тысяч квадратных футов, что было вполне достаточно для осуществления плана. В десять тридцать пять они сели в машину и покинули дом Гейнсов, направляясь к шоссе № 111 на границе пустыни, к северу от Палм-Спрингс. Лора проверила, застегнул ли Крис ремень безопасности, и мальчик сказал: — Хорошо бы этот «Бьюик» был машиной времени, тогда бы мы с удобствами въехали в 1944 год. Однажды ночью они уже ездили в пустыню, чтобы выбрать место для старта Штефана. Для расчетов им необходимо было заранее знать точные координаты этого места, чтобы Штефан мог благополучно вернуться к ним после выполнения своего плана в 1944 году. Штефан предполагал открыть клапан на баллоне с «вексоном» перед тем, как нажмет кнопку на поясе, таким образом, газ будет рассеиваться в момент его возвращения в Институт, убивая всех, кто будет находиться на конце Молниеносного Транзита в 1944 году. Но он выпустит какое-то количество отравляющего вещества и в точке своего старта, поэтому было разумнее избрать для этого изолированное место. Улица перед особняком Гейнсов находилась на расстоянии менее двухсот ярдов, и Штефан не собирался лишать жизни случайных прохожих. Кроме того, хотя предположительно газ действовал от сорока до шестидесяти минут, Лора опасалась, что продукты распада могут сохранять пусть не смертельные, но долговременные токсические свойства. Она не хотела отравлять подобными веществами дом Тельмы и Джейсона. День был солнечным, безветренным; небо чистым и голубым. Они проехали всего несколько кварталов и спускались в низину по дороге, обсаженной высокими финиковыми пальмами, когда Лоре показалось, что она увидела странную вспышку света в кусочке неба, отраженном в зеркале заднего вида. Интересно, как выглядит молния в ясном безоблачном небе? Наверное, она менее заметна, чем при тяжелых облаках, потому что она соревнуется с ярким сиянием солнца. Значит, именно так она и должна выглядеть: краткая непонятная вспышка света. Лора затормозила, но «Бьюик» уже спустился в низину, и Лора больше не видела неба в зеркале, а только холм позади. Ей показалось, что она также слышит отдаленный гул, подобный раскатам грома, но и тут она сомневалась, ей мешал шум кондиционера внутри машины. Она быстро съехала на обочину и выключила кондиционер. — Что случилось? — спросил Крис, когда Лора остановила «Бьюик», открыла дверь и вышла наружу. Штефан открыл заднюю дверь и последовал за ней. — Лора, что случилось? Лора вглядывалась в кусок неба между пальмами, прикрываясь от солнца рукой. — Вы слышите, Штефан? В теплом сухом воздухе пустыни замер вдали негромкий рокот. Он сказал: — Наверное, это реактивный самолет. — Нет. Прошлый раз, когда я подумала, что это реактивный самолет, это оказались они. Еще одна последняя вспышка. Лора не видела самой молнии, не видела ветвистого разряда, прорезавшего небо, но только его отражение где-то в высоте, слабую волну света внутри голубого купола. — Это они, — повторила Лора. — Они, — согласился Штефан. — Где-то на пути к шоссе № 111 нас остановит, возможно, полицейский, или мы попадем в аварию, а это значит, что появится письменное свидетельство, а с ним и они сами. Штефан, нам надо поворачивать и возвращаться к Гейнсам. — Бесполезно, — ответил он. Крис вышел из машины с другой стороны. — Штефан прав, мама. Не имеет значения, что мы теперь будем делать. Они прибыли сюда, потому что уже успели заглянуть в будущее и знают, где нас искать, положим, через полчаса, а может быть, и через десять минут. Не имеет значения, вернемся ли мы к Гейнсам или поедем дальше; они уже где-то нас видели, может, даже когда мы еще были в доме. Как бы мы ни меняли наши планы, все равно наши, пути пересекутся. Рука Судьбы. — Пропади все пропадом! — закричала Лора и пнула ногой автомобиль, что было совершенно бесполезно и не принесло ей никакого облегчения. — Что же теперь делать? Как бороться с этими проклятыми путешественниками? Это все равно что играть с чертом в карты, когда у него все козыри. В небесах царил полный покой: никаких молний. Лора продолжала: — Если хорошенько подумать, то вся жизнь — это карточная игра, разве не так? Значит, нечего жаловаться. Садись в машину, Крис. Едем дальше. Вся в напряжении, Лора ехала через пригороды Палм-Спрингс, и ей казалось, что ее душит гаротта. В любую секунду она ждала нападения, хотя знала, что беда придет, когда она будет меньше всего этого ожидать. Без происшествий они доехали до шоссе № 111. Далее путь лежал через почти голую пустыню, до пересечения шоссе № 111 с шоссе № 10.13
В надежде избежать полного провала лейтенант Клитман опустил окно и улыбнулся полицейскому, который постучал по стеклу, чтобы привлечь его внимание, и теперь, согнувшись, заглядывал в машину. — В чем дело? — Разве вы не заметили красную полосу на краю тротуара, когда ставили машину? — Красную полосу? — удивился Клитман, ломая голову, что бы это значило. — Уж не хотите ли вы сказать, сэр, — продолжал полицейский наигранно шутливым тоном, — что вы не видели красной полосы? — Нет, сэр, конечно, я ее видел. — Я так и думал, что вы не способны на ложь, — сказал полицейский, как если бы он хорошо знал Клитмана и не ставил под сомнение его честность, что очень удивило лейтенанта. — Но если вы видели красную полосу, сэр, то зачем вы тут остановились? — А, вот в чем дело, — сказал Клитман, — останавливаться разрешается только у тротуара без красной полосы. Ну конечно. Полицейский в изумлении смотрел на Клитмана. Затем он перенес свое внимание на фон Манштейна, который сидел рядом, затем на Брахера и Губача на заднем сиденье, улыбнулся и кивнул им головой. Клитману не надо было оборачиваться, чтобы понять, что его команда с трудом сдерживает волнение. Атмосфера накалялась. Полицейский наконец опять перевел взгляд на Клитмана, улыбнулся и неуверенно спросил: — Если я не ошибаюсь, ребята, вы проповедники? — Проповедники? — повторил Клитман в растерянности. — У меня дедуктивное мышление, — сказал полицейский, по-прежнему улыбаясь. — Я не Шерлок Холмс. Но у вас на бампере наклейки «Я люблю Иисуса» и «Христос воскрес». В городе как раз проходит конференция баптистов, а вы все в темных костюмах. Вот почему он решил, что Клитман не способен на ложь: он их принял за баптистских пасторов. — Совершенно верно, — немедленно подтвердил Клитман. — Мы прибыли на конференцию, сержант. Извините, что мы нарушили правила. У нас не бывает красной полосы на тротуаре. Если вы… — А откуда вы? — спросил полицейский без подозрения, а наоборот стараясь быть дружелюбным. Клитман многое знал об Америке, но такого рода разговоры могли завести его в тупик. Он припомнил, что баптисты вроде бы происходят с юга страны; он не был уверен, что они есть на севере, западе или востоке, поэтому он попытался припомнить какой-нибудь южный штат. Он сказал: — Я из Джорджии. И тут же сообразил, сколь не правдоподобно такое заявление, произнесенное с немецким акцентом. Улыбка на лице полицейского сменилась выражением недоумения. Он посмотрел на фон Манштейна и спросил: — А вы откуда, сэр? Следуя примеру своего лейтенанта, но с еще более сильным акцентом фон Манштейн объявил: — Из Джорджии. С заднего сиденья, не дожидаясь вопроса, Губач и Брахер хором ответили, как если бы это были магические слова, способные усыпить бдительность полицейского: — Из Джорджии, мы из Джорджии. Улыбка окончательно исчезла с лица сержанта. Он нахмурился и сказал, обращаясь к Эриху Клитману: — Прошу вас, сэр, выйти на минутку из машины. — Конечно, сержант, — согласился Клитман, открывая дверь и заметив при этом, что полицейский отступил назад и положил правую руку на рукоятку револьвера в кобуре. — Но мы опаздываем на молитвенное собрание… На заднем сиденье Губач стремительно открыл кейс и выхватил оттуда «узи», соперничая в быстроте с телохранителями президента. Ему некогда было опускать окно, он прижал дуло к стеклу и открыл огонь по полицейскому, не дав ему времени вытащить револьвер. Стекло вылетело под ударами пуль. Более тридцати пуль попало в полицейского с близкого расстояния, и он упал назад, на спину, на проезжую часть дороги. Завизжали тормоза автомобиля, который остановился в последнее мгновение, чтобы не наехать на тело, а на другой стороне улицы от выстрелов разлетелись стекла витрин магазина мужской одежды. Сохраняя полное хладнокровие и мгновенно оценив обстановку — именно этими качествами солдат СС особенно гордился Клитман, — Мартин Брахер вышел со своей стороны из «Тойоты» и выпустил длинную очередь из «узи», чтобы усилить неразбериху и панику вокруг и дать им возможность благополучно скрыться. Посыпались стекла витрин дорогих магазинов не только на боковой улице, где они стояли, но и на пересечении с Палм-Каньон Драйв. Клитман видел, как пули ударяли в проезжавшие автомобили и, возможно, ранили водителей, а может быть, водители в панике метались из одного ряда в другой; «Мерседес» кофейного цвета налетел на грузовик; ярко-красная обтекаемой формы спортивная машина выскочила на тротуар, содрала кору со ствола пальмы и въехала в витрину магазина подарков. Клитман вновь сел за руль и снял «Тойоту» с тормоза. Он услышал, как Брахер и Губач вскочили в машину, включил скорость и сорвался с места; они помчались к северу от Палм-Каньон Драйв. Клитман сразу же понял, что они едут против течения по улице с односторонним движением. С проклятиями он увертывался от встречных машин. У «Тойоты» были старые рессоры, и ее сильно встряхивало; открылся перчаточный ящик, и его содержимое высыпалосьна колени к фон Манштейну. На следующем перекрестке Клитман свернул вправо. Через квартал, чуть не сбив пешеходов, он промчался на красный свет и повернул налево в улицу, по которой можно было ехать в северном направлении. — В нашем распоряжении всего двадцать одна минута, — сказал фон Манштейн, указывая на часы на доске приборов. — Скажи, куда ехать, — отозвался Клитман. — Я заблудился. — Нет, мы не заблудились, — ответил фон Манштейн, сметая с карты, которую он все еще держал развернутой на коленях, содержимое перчаточного ящика: запасные ключи, бумажные салфетки, пару белых перчаток, маленькие-пакетики кетчупа и горчицы, разные документы. — Мы не заблудились. Скоро мы выедем на Палм-Каньон Драйв в том месте, где начинается двустороннее движение. А оттуда прямо на север, на шоссе № 111.14
Примерно в шести милях к северу от Палм-Спрингс, где пейзаж был особенно голым, Лора съехала на обочину. Она медленно двигалась вперед, пока не нашла место, где насыпь снижалась и была почти на одном уровне с окружающей пустыней. Здесь она покинула дорогу и поехала по равнине. Кроме травы, которая торчала кое-где сухими пучками, и малорослых искривленных мескитовых кустов, еще одним видом растительности здесь было перекати-поле; некоторые перекати-поле были еще зеленые, другие, сухие, катились по пустыне. Зеленые мягко царапали «Бьюик», а сухие подпрыгивали, когда автомобиль проезжал мимо. Твердую глинистую почву местами покрывал песок, и кое-где возвышались песчаные заносы. Как и в прошлый раз, когда они выбирали место для старта, Лора держалась подальше от песка и ехала по серо-розовым обнажениям сланца. Она остановилась на расстоянии трехсот ярдов от шоссе, которое, таким образом, оказывалось вне радиуса действия «вексона» на открытом воздухе, и неподалеку от сухого речного русла шириной в двадцать и глубиной в тридцать футов, естественного сточного канала, образованного внезапными наводнениями, возникающими из-за частых, но кратковременных дождливых периодов в пустыне; в прошлый раз, ночью, им повезло, что они не попали в этот огромный ров. Несмотря на то что молния не сопровождалась появлением вооруженных людей, счет шел на секунды; Лора, Крис и Штефан действовали так, словно за их спиной тикал механизм, неотвратимо приближавший взрыв. Пока Лора вытаскивала из багажника «Бьюика» один из баллонов с «вексоном» весом в тридцать фунтов, Штефан продел руки в ремни небольшого нейлонового рюкзака, наполненного книгами, и закрепил поперечный ремень на груди. Крис отнес один из «узи» на лишенную растительности сланцевую площадку, которая вполне подходила для старта Штефана из 1989 года. Лора последовала за Крисом, а за ней Штефан, державший в правой руке «кольт» с глушителем. К северу от Палм-Спрингс, на шоссе № 111, Клитман выжимал все возможное из «Тойоты», которая сопротивлялась из последних сил. На спидометре машины было сорок тысяч миль, и вряд ли ее пожилая хозяйка когда-либо ездила со скоростью, превышающей пятьдесят миль; поэтому «Тойота» отказывалась подчиняться чрезмерным требованиям Клитмана. Стоило ему повысить скорость до шестидесяти, как машина начинала дрожать и чихать, вынуждая его замедлить ход. Тем не менее через две мили после того, как они выехали из города, они догнали машину дорожного патрулирования, и Клитман догадался, что именно этот полицейский встретится с Лорой Шейн и арестует ее и сына. Полицейский ехал, чуть не дотягивая до пятидесяти пяти в зоне с ограничением в пятьдесят пять. — Пристрели его, — сказал Клитман через плечо капралу Мартину Брахеру, который сидел позади справа. Клитман взглянул в зеркало заднего вида: на дороге за ними никого не было; машины шли лишь по встречной полосе, в южном направлении. Клитман перешел в левый ряд и начал на скорости шестьдесят обгонять патрульную машину. Брахер на заднем сиденье опустил стекло. Сзади слева стекла не было, так как Губач через него расстрелял полицейского в Палм-Спрингс; ветер завывал внутри «Тойоты», хлопал картой на коленях фон Манштейна. Полицейский в машине с удивлением взглянул на них, так как мало кто из автомобилистов решался обгонять патрульную машину, шедшую почти на пределе установленной скорости. Клитман еще сильнее нажал на газ, скорость перевалила за шестьдесят, и «Тойота» опять затряслась и зачихала, неохотно подчиняясь чужим рукам. Полицейский учел откровенное намерение Клитмана нарушить правила и слегка нажал на сирену, которая чуть взвыла и тут же смолкла, что расшифровывалось следующим образом: тормозите и съезжайте на обочину. Вместо, этого лейтенант выжал из протестующей «Тойоты» шестьдесят четыре мили, отчего возникла опасность, что она вот-вот развалится на части; этого было достаточно, чтобы идти немного впереди ошарашенного полицейского. Окно Брахера оказалось рядом с передним окном патрульной машины. Капрал нажал на спусковой крючок «узи». Стекла патрульной машины разлетелись на куски, и полицейский был убит на месте. Он не мог спастись, потому что вне ожидал нападения, и несколько пуль попали ему в голову и грудь. Патрульную машину бросило влево к «Тойоте», и, прежде чем Клитман смог сообразить, в чем дело, патрульная машина, прочертив бок «Тойоте», пошла вправо и выскочила на обочину. Клитман затормозил, отставая от потерявшей управление машины. Четырехполосное шоссе поднималось футов на десять над уровнем пустыни, и патрульная машина вылетела за неогороженный край обочины. Какое-то расстояние она пролетела по воздуху, затем со страшной силой ударилась о землю, отчего разорвались шины. Раскрылись две двери, одна из них на стороне водителя. Клитман перешел в правый ряд и медленно проехал мимо разбитой машины. Фон Манштейн сказал: — Я его вижу, он повис на руле. С ним покончено. Автомобилисты на другой стороне шоссе видели необычный полет машины. Они съехали на обочину, и, когда Клитман взглянул в зеркало, он увидел, что люди выходят из машин и, как добрые самаритяне, спешат на помощь полицейскому. Если кто-то из них и понял причину аварии патрульной машины, то не стал преследовать Клитмана, чтобы отдать его в руки правосудия, и это было весьма разумно с их стороны. Клитман снова увеличил скорость, посмотрел на спидометр и сказал: — Через три мили отсюда этот полицейский должен был бы арестовать женщину и мальчишку. Так что ищите черный «Бьюик». Через три мили.* * *
Стоя около «Бьюика» под горячим солнцем на голой каменистой земле, Лора наблюдала, как Штефан перебросил ремень «узи» через правое плечо. Автомат свободно висел за спиной, рядом с рюкзаком с книгами. — Не знаю, понадобится ли он мне, — сказал Штефан. — Если газ хорошо действует, то мне, наверное, и пистолет не нужен, тем более автомат. — Возьмите его с собой, — серьезно посоветовала Лора. Он кивнул. — Вы правы. Кто знает. — Вам бы еще парочку гранат, — сказал Крис. — Гранаты очень бы пригодились. — Будем надеяться на лучшее, — сказал Штефан. Он снял пистолет с предохранителя и взял его в правую руку, держа наготове. Взяв левой рукой баллон с «вексоном» за удобную, как у огнетушителя, ручку, он поднял его, чтобы посмотреть, выдержит ли такой вес его раненое плечо. — Немного больно, — сказал он. — Тянет у раны. Но ничего, можно вытерпеть. Они разрезали проволоку и освободили спусковую скобу баллона. Штефан положил палец на скобу. Когда он выполнит свою задачу в 1944 году, он сделает последний скачок, обратно в эту эпоху, в 1989 год; по плану он должен вернуться сюда через пять минут после своего старта. Штефан сказал: — Мы скоро увидимся. Не успеете оглянуться, как я уже буду здесь. Лора почувствовала внезапный страх, что он никогда не вернется. Она прикоснулась к его лицу и поцеловала в щеку. — Желаю вам удачи, Штефан. Этот поцелуй не был поцелуем любящей женщины, в нем не было и намека на нежность; это был ласковый поцелуй друга, поцелуй женщины, которая будет вечно благодарна, но не отдаст своего сердца. Она увидела по его глазам, что он это понимает. В глубине души, несмотря на то что он умел шутить, он был грустным человеком, и Лора хотела бы сделать его счастливым. Она жалела, что не может притвориться, что любит его хотя бы немного; к тому же она знала, что он разгадает любой подобный обман. — Хочу, чтобы вы вернулись, — сказала Лора. — Поверьте мне, я очень этого хочу. — Я рад и этому. — Он посмотрел на Криса. — Приглядывай за своей мамой, пока меня нет. — Обязательно, — сказал Крис. — Только она сама это очень хорошо умеет делать. Лора взяла сына за плечо, поставила рядом с собой. Штефан поднял баллон с «вексоном» повыше, нажал на спусковую скобу. Под высоким давлением газ вырвался из баллона с шипением десятка разозленных змей, и Лорой на мгновение овладела паника: а что, если капсулы, которые они приняли, не защитят их от яда и они упадут на землю, корчась в судорогах и конвульсиях, и умрут через тридцать секунд. «Вексон» был бесцветным газом, но он имел свой запах и вкус; даже на открытом воздухе, где он быстро рассеивался, Лора почувствовала запах абрикосов и тошнотворный вкус смеси лимонного сока и прокисшего молока. Но, кроме запаха и вкуса, она не испытывала никаких других неприятных ощущений. Прижимая пистолет к груди, Штефан просунул свободный палец под рубашку и три раза нажал кнопку на поясе возвращения.* * *
Фон Манштейн первым заметил черный автомобиль, стоявший среди широкого простора белого песка и светлых камней на расстоянии нескольких сотен ярдов к востоку от шоссе. Он показал на него остальным. Конечно, на таком расстоянии лейтенант Клитман не мог разобрать, что это за марка, но он был абсолютно уверен, что это именно та машина, за которой они охотились. Три человека стояли рядом с машиной, издали они казались лилипутами, и под ярким солнцем их силуэты дрожали и колебались подобно миражу, но Клитман определил, что двое из них взрослые, а третий ребенок. Внезапно один из взрослых исчез. И это никак нельзя было отнести за счет оптического обмана, создаваемого атмосферой пустыни. Третья фигура так и не появилась снова через несколько мгновений. Она исчезла, и Клитман не сомневался, что это был Штефан Кригер. — Он вернулся,! — воскликнул пораженный Брахер. — Зачем ему возвращаться, — заметил фон Манштейн, — когда все в Институте только и мечтают до него добраться? — Более того, — сказал Губач за спиной лейтенанта. — Он прибыл в 1989 год несколькими днями раньше нас. Значит, его пояс должен был бы вернуть его в ту же точку, в тот же день, когда его ранил Кокошка, ровно через одиннадцать минут после выстрела Кокошки. Однако мы точно знаем, что в тот день он не вернулся. Так что же, в конце концов, происходит? Клитман тоже был обеспокоен происходящим, но у него не было времени во всем разбираться. В его задачу входило убить женщину и ее сына, а если возможно, то и Кригера. Он приказал: — Приготовиться! Сбросив газ, Клитман начал выбирать место для съезда «Тойоты» с шоссе в пустыню. Губач и Брахер еще в Палм-Спрингс достали автоматы из кейсов, теперь и фон Манштейн вооружился «узи». Пустыня почти сравнялась с обочиной шоссе. Клитман повернул направо, вниз по склону, в пустыню и дальше по направлению к женщине и мальчику.* * *
Штефан включил связь с Воротами, и воздух стал тяжелым; Лора почувствовала, как огромный невидимый груз лег на ее плечи. Она сморщилась от запаха перегретых электрических проводов и тлеющей изоляции, смешанного с запахом озона и абрикосовым благоуханием «вексона». Давление усиливалось, запахи тоже, и Штефан покинул эпоху с внезапным громким хлопком. На мгновение у Лоры перехватило дыхание, и тут же в разреженное пространство хлынул поток горячего, чуть горьковатого воздуха пустыни. Крис, который стоял рядом, прижавшись к Лоре, заметил: — Вот это да! Правда, здорово, мама? Лора не ответила, она увидела, как белый автомобиль съехал в пустыню с шоссе № 111. Он повернул к ним и помчался, набирая скорость. — Крис, сейчас же в машину! И пригнись! Крис тоже заметил приближающийся автомобиль и немедленно подчинился приказу Лоры. Она подбежала к открытой двери «Бьюика», схватила с сиденья один из автоматов. Отступила назад, к открытому багажнику, ожидая приближающуюся машину. До нее было ярдов двести, и расстояние быстро сокращалось. Солнечный свет зажигался и вспыхивал на хроме корпуса, сверкал на ветровом стекле. А что, если в машине не немецкие агенты из 1944 года, а ни в чем не повинные люди? Вряд ли, но Лора должна была учитывать и такую возможность. Судьба стремится восстановить предопределенный ход событий. Нет. Ни за что на свете. Когда белый автомобиль приблизился на расстояние в сотню ярдов, Лора дала две длинные очереди из «узи» и с удовлетворением отметила, что пули пробили по меньшей мере две дырки в ветровом стекле. Закаленное стекло мгновенно покрылось сетью трещин. Машина — теперь Лора видела, что это «Тойота», — развернулась на все триста шестьдесят градусов, потом еще на девяносто, поднимая облака пыли и вырвав с корнем несколько зеленых перекати-поле. «Тойота» остановилась примерно в шестидесяти ярдах, капотом к северу, боковой стороной к Лоре. С другой стороны распахнулись двери, и Лора поняла, что пассажиры выбираются из машины так, чтобы она их не видела, пригибаясь к земле. Она снова открыла огонь, не для того, чтобы попасть в кого-то через «Тойоту», но чтобы попытаться пробить бензиновый бак; довольно было одной искры, высеченной пулей при ударе о металл, чтобы вспыхнул бензин и пламя охватило не только машину, но и прячущихся за ней пассажиров. Но она опустошила всю удлиненную обойму «узи», так и не вызвав пожара, хотя наверняка пробила бензиновый бак. Она бросила на землю автомат, рывком открыла заднюю боковую дверь «Бьюика» и схватила второй, целиком заряженный «узи». Она взяла с переднего сиденья «смитт-вессон», не спуская глаз с белой «Тойоты» больше чем на одну-две секунды. Она пожалела, что Штефан не оставил ей третьего «узи». Один из людей за «Тойотой» начал стрелять из автоматического оружия, и теперь уже не было никакого сомнения в том, кто они. Лора укрылась за «Бьюиком»; пули ударяли в открытую крышку багажника, выбили заднее стекло, рикошетом отскакивали от бампера, с резким звуком прочерчивали камни, поднимали облака мягкого белого песка. Она услышала, как несколько пуль пролетели мимо ее головы с тонким пронзительным смертоносным свистом, и начала продвигаться к переду машины, прижимаясь к ее боку, сжавшись в комок, стараясь быть как можно незаметней. Через секунду она была рядом с Крисом, который укрывался у решетки радиатора. Люди у «Тойоты» прекратили стрелять. — Мама, — сказал Крис голосом, полным страха; — Все в порядке, — ответила Лора, убеждая себя в этом. — Штефан будет здесь через пять минут, малыш. У него еще один «узи», это подмога. Не бойся. Нам надо продержаться всего несколько минут. Всего несколько минут.15
В мгновение ока пояс Кокошки вернул Штефана в Институт, и он вошел в Ворота, полностью открыв выпускное отверстие баллона. Он с такой силой нажимал на ручку и спусковую скобу, что у него заныла рука и боль пошла вверх к раненому плечу. Из полумрака трубы ему была видна лишь небольшая часть лаборатории. Он заметил двух мужчин в темных костюмах, которые смотрели внутрь трубы с другого конца. По своему виду они очень напоминали агентов гестапо — все они выглядели одинаково, словно произошли от одних и тех же дегенератов и фанатиков, — и Штефан с облегчением подумал, что им трудно его разглядеть и что хотя бы на мгновение они могут принять его за Кокошку. Штефан двинулся вперед; в левой руке перед собой он держал громко шипевший баллон с «вексоном», в правой — пистолет, и, прежде чем люди в лаборатории осознали опасность, они подверглись воздействию нервно-паралитического газа. Они упали на пол перед Воротами, которые стояли на блоках, и, когда Штефан спустился в лабораторию, они уже корчились в агонии. У них началась сильная рвота. Кровь хлынула из носа. Один из них лежал на боку, дергая ногами и хватаясь за горло; другой, подтянув колени к груди, тоже лежал на боку и пальцами, изогнутыми, словно когти, царапал глаза. Около пульта лежали еще три человека в белых халатах, Штефан знал их всех: Хепнер, Эйке и Шмаузер. Они, словно безумные или больные водобоязнью, царапали себя. Все пятеро умирающих пытались кричать, но у них распухло горло, и они издавали слабые, жалобные, хватающие за душу звуки, похожие на мяуканье страдающих от боли котят. Штефан стоял между ними целый и невредимый, но потрясенный, в ужасе и смятении; через тридцать-сорок секунд они были мертвы. Эти люди стали жертвами сурового правосудия и его оружия — газа «вексон», так, как именно оплачиваемые нацистами ученые впервые синтезировали в 1936 году фосфорсодержащее отравляющее вещество — «нервный» газ «табун». Все последующие нервно-паралитические газы, которые убивают, вызывая паралич нервной системы, основывались на первоначальной химической формуле. Все, включая «вексон». Эти люди в 1944 году были убиты оружием будущего, но это вещество родилось в их собственном бесчеловечном смертоносном обществе. Тем не менее Штефан не получил никакого удовлетворения от этих пяти смертей. В своей жизни он слишком часто видел, как убивают, поэтому даже уничтожение виновных во имя защиты невинных, даже смерть на службе правосудия вызывали у него отвращение. Но он не имел права отступать. Он положил пистолет на лабораторный стол. Снял с плеча «узи» и положил его рядом. Из кармана джинсов он вытащил кусок проволоки, которую использовал, чтобы заблокировать выпускной клапан баллона в открытом состоянии. Он вышел в коридор на первом этаже и поставил баллон с «вексоном» посередине вестибюля. За несколько минут газ распространился по всему зданию через лестничные клетки, шахты лифтов и вентиляционные колодцы. Штефан удивился, увидев, что в вестибюле было включено только ночное освещение и что в других лабораториях на первом этаже тоже, видимо, никого не было. Оставив баллон с газом, который продолжал выходить, он вернулся к пульту программирования Ворот, чтобы узнать время и число, куда его доставил пояс Кокошки. Было одиннадцать минут десятого, вечер шестнадцатого марта. Можно считать, что ему необыкновенно повезло. Штефан ожидал, что вернется в Институт в такой час, когда большинство сотрудников будут на местах: некоторые из них начинали работать рано, в шесть утра, а другие оставались до восьми вечера. Это означало бы, что во всем четырехэтажном здании погибло бы не меньше ста человек, и когда их тела были бы обнаружены, то подозрение пало только на него, Штефана Кригера, который, используя пояс Кокошки, проник в Институт через Ворота, вернувшись из будущего. Стало бы ясно, что он явился не только убить сотрудников, находившихся в здании, но что он замышляет нечто более серьезное, и тогда бы началось настоящее расследование с целью раскрыть его планы и ликвидировать тот вред, который он уже нанес. Но теперь… Если окажется, что в здании почти никого нет, он может попытаться избавиться от нескольких тел, скрыть свое присутствие и направить все подозрения на этих убитых. Через пять минут баллон с газом был пуст. Газ рассеялся по всему зданию, за исключением двух комнат, где находились дежурные и где были свои вентиляционные колодцы. Штефан ходил с этажа на этаж, из комнаты в комнату в поисках новых жертв «вексона». Он нашел мертвые тела только в подвале: это были животные, первые путешественники во времени, и вид их жалких тел опечалил его не меньше, а может быть, и больше, чем тех пятерых, погибших в лаборатории. Штефан вернулся в главную лабораторию, взял пять запасных поясов из белого шкафа и надел их на мертвецов поверх одежды. Он быстро запрограммировал Ворота, чтобы отправить тела примерно на шесть миллиардов лет вперед в будущее. Он где-то читал, что через шесть миллиардов лет старое солнце окончательно потухнет и вспыхнет новое, и он хотел отправить этих пятерых в такое место, где не ни единой живой души и где некому будет использовать их пояса для возвращения обратно. Пребывание с мертвыми в молчаливом пустом здании вызывало неприятное ощущение. Штефан не один раз замирал на месте, уверенный, что слышит крадущиеся шаги. Дважды он прерывал свою работу и отправлялся в то место, откуда слышался воображаемый звук, но безрезультатно. Однажды он оглянулся на одного из мертвецов за своей спиной, ему почудилось, что бездыханное тело приподнимается, пытаясь холодной рукой уцепиться за какой-либо механизм, чтобы выпрямиться во весь рост. Именно тогда он понял, как сильно расстроена его психика теми многочисленными убийствами, свидетелем и участником которых он был на протяжении стольких лет.; Один за другим он перетащил трупы в Ворота, донес их до точки отправления и столкнул в электрическое поле. Перевалившись через невидимую дверь во времени, они исчезли. Они появятся в невообразимо отдаленном будущем на Земле, уже давным-давно холодной и мертвой, где нет даже простейших насекомых или растений, или в пустом безвоздушном пространстве, где некогда существовала планета, пока ее не поглотило взорвавшееся солнце. Штефан был особенно осторожен, чтобы не пересечь точку отправления. Если он внезапно, окажется в безвоздушном пространстве далекого космоса, на временном расстоянии в шесть миллиардов лет, он погибнет, прежде чем успеет нажать кнопку на своем поясе, чтобы вернуться в лабораторию. Когда он наконец избавился от трупов и уничтожил неприятные свидетельства смерти, он почувствовал сильную усталость. Рана на плече болела так же невыносимо, как и в первые дни после ранения. К счастью, сам газ не оставлял никаких видимых следов, а значит, не требовалось никакой работы для их уничтожения; Никто не догадается, что он побывал здесь. Утром все будет выглядеть так, как если бы Кокошка, Хепнер, Эйке, Шмаузер и два агента гестапо решили, что «третий рейх» обречен, и дезертировали в будущее, где есть мир и изобилие. Он вспомнил о животных в подвале. Если он оставит их в клетках, будут проведены исследования, чтобы выяснить причину их смерти, и тогда будет поставлена под сомнение версия, что Кокошка и остальные бежали через Ворота в будущее. Тогда опять главным подозреваемым станет он, Штефан Кригер. Лучше упрятать и животных тоже. Это будет загадкой и не подскажет правды, как это случилось, если найдут их останки. Жгучая пульсирующая боль в плече все нарастала, пока он использовал чистые лабораторные халаты в качестве саванов, складывая животных на них в кучи и перевязывая узлы веревкой. Он отправил их без поясов в то же самое неведомое будущее, за шесть миллиардов лет отсюда. Он взял из вестибюля пустой баллон и бросил его туда же. Наконец он был готов совершить два решающих скачка, которые, как он надеялся, приведут к полному уничтожению Института и неминуемому поражению нацистской Германии. Он направился к пульту программирования Ворот и вытащил из кармана джинсов сложенный лист бумаги; на нем были записаны результаты расчетов, которые они с Лорой производили на компьютере в Палм-Спрингс в течение нескольких дней. Если бы он сумел вернуться из 1989 года с достаточным запасом взрывчатки, чтобы уничтожить Институт, он сделал бы это сам немедленно, сейчас. Но он был нагружен тяжелым баллоном с «вексоном», рюкзаком с книгами, пистолетом» «узи» и вряд ли мог бы унести более сорока-пятидесяти фунтов, что было недостаточно для проведения взрыва. Заряды, которые он установил на чердаке и в подвале, были сняты Кокоткой два дня назад, конечно, по местному исчислению времени. Он мог бы вернуться из 1989 года с парой канистр бензина и попробовать сжечь Институт дотла; но многие важные результаты исследований хранились в несгораемых шкафах, к которым даже он не имел доступа, и только мощнейший взрыв мог разнести их на части и предать их содержимое огню. Он не мог в одиночку разрушить Институт. Но он знал, кто ему может помочь. Сверяясь с цифрами, полученными с помощью компьютера, он запрограммировал Ворота так, чтобы они перенесли его вперед на три с половиной дня, считая с вечера шестнадцатого марта. Что касается географической точки, то она находилась в Великобритании, в самом сердце обширных подземных убежищ под зданиями правительственных учреждений, которые смотрят окнами на парк Сент-Джеймс у Стори-Гейт; именно там во время войны были сооружены бомбоубежища для правительственных учреждений и кабинеты для премьер-министра и других официальных лиц и там находилась Ставка. В частности, Штефан надеялся прибыть в определенную комнату заседаний в семь тридцать утра; только знания и компьютеры, имеющиеся в 1989 году, могли обеспечить проведение сложных вычислений, чтобы определить необходимые точные временные и пространственные координаты для такого скачка. Без оружия, с рюкзаком за плечами, Штефан вошел в Ворота, пересек точку отправления и материализовался в углу комнаты заседаний с низким потолком, посередине которой стоял большой стол, окруженный двенадцатью креслами. Десять из них были пусты. В комнате присутствовало всего два человека. Одним из них был секретарь в английской армейской форме, с карандашом в одной руке и блокнотом в другой. Вторым человеком, который диктовал срочное письмо, был Уинстон Черчилль.16
Скрываясь за «Тойотой», Клитман думал о том, насколько неудачно они оделись для своей миссии; нарядись они в цирковых клоунов, и то они были бы менее заметны. Окружающая пустыня была в основном белой и бежевой, бледно-розовой и персиковой, почти без растительности и больших камней, за которыми можно было бы укрыться. Попытайся они окружить женщину и зайти сзади, они будут так же заметны, как мухи на свадебном торте. Губач, который стоял у капота «Тойоты» и стрелял короткими очередями по «Бьюику», присел за машиной. — Они с мальчишкой спрятались у переда «Бьюика», их не видно. — Скоро здесь будут полицейские, — заметил Брахер, глядя в сторону шоссе № 111 и того места, где благодаря их стараниям потерпела аварию патрульная машина. — Снимите пиджаки, — приказал Клитман, скидывая свой собственный. — Белые рубашки не так заметны. Ты, Брахер, оставайся здесь на случай, если эта сука двинется сюда. Манштейн и Губач, вы заходите справа. Держитесь подальше друг от друга и не покидайте укрытия, пока не нашли следующего. Я буду обходить ее слева, с севера-востока. — Мы как, сразу ее прикончим или будем выяснять, что там задумал Кригер? — спросил Брахер. — Нет, сразу, — ответил Клитман. — Она слишком хорошо вооружена, чтобы ее можно было взять живой. Как бы там ни было, могу поклясться, что Кригер обязательно вернется к ним через Ворота, ждать осталось всего несколько минут, и, если мы покончим с женщиной, нам будет легче справиться и с ним. А теперь идите. Действуйте. Губач, а за ним фон Манштейн выскочили из-за «Тойоты» и, пригибаясь, короткими перебежками начали обходить «Бьюик» справа, с юго-востока. Лейтенант Клитман начал заход слева, с севера; держа в руке автомат, пригибаясь, он побежал к мескитовому кусту; на котором повисло несколько перекати-поле; это было жалкое укрытие, но другого не было.* * *
Лора слегка приподнялась и посмотрела из-за «Бьюика» как раз вовремя, чтобы увидеть двух мужчин в белых рубашках и черных брюках, которые выскочили из-за «Тойоты» и побежали по направлению к ней, обходя ее слева, с юга. Она поднялась и выпустила короткую очередь по первому из них, и тот немедленно спрятался за большим остроконечным камнем. При звуке выстрелов второй человек упал на землю и вжался в неглубокую впадину, которая не скрывала его целиком. Но угол прицеливания и расстояние делали его практически неуязвимым. Лора не хотела впустую растрачивать патроны. Кроме того, пока она смотрела, где спрятался второй человек, третий стрелок открыл огонь по ней из-за «Тойоты». Пули ударяли в «Бьюик» совсем рядом с Лорой, и ей пришлось снова залечь за машиной. Штефан вот-вот вернется, через три-четыре минуты. Это всего мгновение. И это целая вечность. Крис сидел на земле, прижавшись спиной к переднему бамперу, подтянув колени к животу, обхватив себя руками, и заметно трясся от страха. — Держись, малыш, — сказала Лора. Он взглянул на нее, но ничего не ответил. Им много пришлось испытать за последние две недели, но никогда она не видела его таким удрученным. Его лицо было бледным и унылым. Он понял наконец, что эта игра в прятки была игрой только для него одного, что в жизни все обстоит не так просто, как в кино; это было ужасное открытие, и он смотрел на мир с мрачной безнадежностью, которая испугала Лору. — Держись, — повторила она, затем пробралась мимо него к левому переднему крылу и, пригнувшись, стала изучать пустыню справа, к северу от «Бьюика». Ее беспокоило, что кто-то может ее обойти на этом фланге. Этого никак нельзя было допустить, потому что тогда «Бьюик» перестанет служить укрытием, и, если Лора и Крис попытаются бежать, на открытом месте, в пустыне, они будут убиты буквально через несколько секунд. Только «Бьюик» был для них хорошей защитой. Она должна была сохранить эту баррикаду между собой и врагами. На северном фланге никого не было. Пустыня в этом направлении была более неровной, с несколькими невысокими грудами камней, белыми песчаными наносами и множеством углублений в почве, которые она не могла видеть и которые уже сейчас могли служить хорошим укрытием для врага. Но все было неподвижно, кроме трех сухих перекати-поле, которые медленно подпрыгивали в потоках слабого, менявшего направление ветра. Проскользнув мимо Криса, Лора вернулась к правому переднему крылу и увидела двух человек слева, на юге, которые продолжали двигаться перебежками. Они находились в тридцати ярдах от «Бьюика», и дистанция сокращалась с ужасающей быстротой. Хотя первый из нападавших пригибался и двигался зигзагами, второй действовал куда смелее; возможно, он считал, что все внимание Лоры сосредоточено на его товарище. Она его обманула: встав во весь рост, она высунулась из-за машины и дала две короткие очереди. Человек за «Тойотой» открыл огонь, обеспечивая прикрытие, но Лора попала во второго бегущего; удар был настолько сильным, что подбросил его вверх, и он рухнул в куст толокнянки. Он был жив, но явно небоеспособен, а его пронзительные отчаянные крики свидетельствовали о том, что он смертельно ранен. Снова пригнувшись, чтобы не попасть под огонь, Лора почувствовала, что ее губы кривятся в злобной усмешке. Она искренне радовалась боли и ужасу раненого. Но ее пугала собственная жестокость, жажда кровавой мести, хотя это чувство, это состояние первобытной ярости делало ее более изворотливым и хитрым противником. Один выведен из строя. Осталось еще двое, а может, и больше. Скоро здесь будет Штефан. Сколько бы времени ни потребовалось ему для выполнения его задачи в сорок четвертом году, Штефан запрограммирует Ворота, чтобы вернуться сюда вскоре после своего старта. Еще две-три минуты, и он примет участие в бою.17
Случилось так, что премьер-министр смотрел прямо на Штефана, когда тот оказался в комнате, а человек в форме сержанта не заметил Штефана из-за сопровождавших его появление электрических разрядов. Тысячи ярких змеек сине-белого света исходили от тела Штефана, как если бы он сам вырабатывал эту энергию. Возможно, что разряды молнии и раскаты грома сотрясали небо вверху над бомбоубежищем, но некоторая часть неистраченной энергии проникла и сюда, и этот непонятный спектакль заставил сержанта в удивлении и страхе вскочить на ноги. Шипящие электрические змеи побежали по полу, вверх по стенам, сплелись на потолке, а затем исчезли, не принеся вреда; пострадала только большая карта Европы, которая была прожжена в нескольких местах, но не загорелась. — Караульные, сюда! — закричал сержант. Он был цел и невредим и абсолютно уверен, что караул немедленно отзовется на его призыв, поэтому он не сдвинулся с места, а повторил еще раз: — Караульные, сюда! — Прошу вас, мистер Черчилль, — сказал Штефан, не обращая внимания на сержанта. — Вам нечего опасаться. Дверь распахнулась, и в комнату вошли двое английских солдат, один с револьвером в руке, другой вооруженный автоматом. Торопливо, боясь, что его вот-вот застрелят, Штефан продолжал: — Выслушайте меня, пожалуйста, сэр, от этого зависит судьба мира. Во время неразберихи премьер-министр продолжал сидеть в своем кресле в конце стола. Штефану показалось, что в какой-то миг на лице великого человека мелькнуло удивление и даже намек на страх, но, возможно, он ошибался. Теперь премьер-министр, как на всех фотографиях; которые видел Штефан, выглядел непроницаемым и погруженным в свои мысли. Жестом руки он остановил караульных: — Подождите. А когда сержант начал протестовать, премьер-министр сказал: — Если бы он хотел меня убить, он давно бы это сделал. Штефану он сказал: — Это было весьма эффектное появление, сэр. Куда до вас Лоуренсу Оливье. Штефан невольно улыбнулся. Он было вышел из угла и направился к столу, но, заметив, как напряглись караульные, остановился поодаль. — Сэр, уже по самой манере моего появления здесь вы можете сделать вывод, что я не простой связной и что я принес вам необычные вести. Это также в высшей степени секретная информация, которую вы, наверное, не захотите доверить другим ушам, кроме ваших. — Если вы думаете, что я оставлю вас наедине с премьер-министров, — объявил сержант, — то вы сумасшедший! — Возможно, он и сумасшедший, — сказал премьер-министр, — но ему не откажешь в храбрости. Думаю, вы согласитесь со мной, сержант. Пусть караульные его обыщут, и, если у него нет оружия, я уделю ему немного времени, как он того просит. — Но, сэр, вы не знаете, кто он такой. Вы не знаете, что он такое. Вспомните, как он сюда ворвался… Черчилль прервал сержанта: — Я не забыл, как он здесь появился, сержант. И, пожалуйста, помните, что только мы с вами знаем об этом. Надеюсь, что вы будете молчать о том, что здесь видели, так же как о любой другой военной информации, которая считается секретной. Получив выговор, сержант отступил в сторону и со злостью поглядывал на Штефана, пока того обыскивали караульные. Они не нашли оружия, только книги в рюкзаке и бумаги в карманах у Штефана. Они вернули бумаги, а книги сложили посередине длинного стола; Штефана забавляло, что они не проявили никакого интереса к книгам. Неохотно, с карандашом и блокнотом в руках, сержант последовал за караульными из комнаты, выполняя приказание премьер-министра. Когда дверь закрылась за ними, Черчилль показал Штефану на кресло, которое раньше занимал сержант. Они немного посидели молча, с интересом разглядывая друг друга. Потом премьер-министр показал на дымящийся чайник, который стоял на подносе. — Хотите чаю?* * *
Спустя двадцать минут, когда Штефан изложил вкратце только половину своей истории, премьер-министр позвал сержанта. — Мы еще побудем здесь, сержант. Боюсь, мне придется отложить на час совещание Военного кабинета. Пожалуйста, известите об этом всех членов кабинета и передайте им мои извинения. Через двадцать минут после этого Штефан закончил свое повествование. Премьер-министр задал ему несколько вопросов, кратких, но продуманных и по существу. Наконец он вздохнул и сказал: — Наверное, еще рано приниматься за сигару, но не могу себе в этом отказать. Вы составите мне компанию? — Нет, благодарю вас, сэр. Обрезая сигару, Черчилль сказал: — Помимо вашего весьма эффектного появления — что, кстати, ничего не доказывает, помимо существования нового способа передвижения, который не обязательно может быть передвижением во времени, — какие у вас еще есть убедительные доказательства, что все подробности вашего рассказа — это правда? Штефан ожидал подобного вопроса и был готов ответить. — Сэр, именно потому, что я побывал в будущем и прочел часть ваших военных мемуаров, я знал, что вы будете находиться в этой комнате в этот день и в этот час. Более того, я знал, чем вы будете заняты за час до совещания с Военным кабинетом. Затягиваясь сигарой, премьер-министр поднял брови — Вы диктовали письмо генералу Александеру в Италии и выражали озабоченность по поводу битвы за Кассино, которая затягивается и стоит большого числа человеческих жизней. Лицо Черчилля оставалось непроницаемым. Должно быть, его поразили слова Штефана, но он не выдал своих чувств ни кивком головы, ни прищуром глаз. Но Штефан не нуждается в поощрении, потому что он знал, что говорит правду. — В ваших военных мемуарах, которые вы еще напишете, я нашел послание генералу Александеру и запомнил его начало, начало того самого послания, которое вы еще не кончили диктовать сержанту, когда я прибыл сюда: «Я хотел бы, чтобы вы мне объяснили, почему вы избрали этот коридор у монастырского холма Кассино… протяженностью всего в две-три мили, как единственное место для наступления». Премьер-министр снова затянулся сигарой, выпустил дым и некоторое время внимательно разглядывал Штефана. Они сидели совсем рядом, и подобное пристальное изучение нервировало Штефана больше, чем он того ожидал. Наконец премьер-министр заговорил: — Значит, вы почерпнули информацию из того, что я напишу в будущем? Штефан встал с кресла, взял те шесть толстых томов, которые солдаты вытащили из рюкзака, — репринтное издание компании «Хофтон Мифлин» в мягкой обложке, по девять долларов девяносто пять центов за том, — и разложил их перед Уинстоном Черчиллем — Это, сэр, ваш шеститомник «Вторая мировая война», который будет считаться одним из самых точных описаний войны и одновременно выдающимся литературным произведением и историческим трудом. Он хотел было добавить, что главным образом за эту работу Черчилль получит Нобелевскую премию по литературе в 1953 году, но потом решил не открывать это Черчиллю. Жизнь много бы потеряла, если ее лишить подобных приятных неожиданностей. Премьер-министр, не раскрывая, осмотрел передние и задние обложки всех шести томов и даже улыбнулся, когда читал отрывок из рецензии, которая появилась в литературном приложении к газете «Таймc». Затем он раскрыл один из томов и быстро перелистал страницы, не останавливаясь для чтения. — Это не подделка, — заверил его Штефан. — Если вы прочитаете наугад любую страницу, вы узнаете свою собственную неповторимую манеру. Вы… — Мне не нужно ничего читать. Я вам верю, Штефан Кригер. — Он отодвинул книги в сторону и откинулся на спинку кресла. — И, мне кажется, я догадываюсь, зачем вы ко мне явились. Вы хотите, чтобы я организовал воздушную бомбардировку Берлина, объектом которой станет район, где расположен Институт. — Совершенно верно, сэр. И это надо сделать до того, как ученые в Институте закончат изучение материалов, доставленных из будущего, прежде чем они решат, каким образом ознакомить с этой информацией немецкую научную общественность, а это может произойти со дня на день. Вы должны действовать еще до того, как они позаимствуют в будущем нечто такое, что обеспечит им превосходство над союзниками. Я вам дам точные данные о расположении Института. С начала года американские и английские бомбардировщики совершают дневные и ночные налеты на Берлин, так что… — В парламенте были протесты против бомбардировок городов, пусть даже вражеских, — заметил Черчилль. — Это так, но налеты продолжаются. При такой точно установленной цели налет надо проводить только в дневное время. Но если будет нанесен удар вообще по этому району, если будет стерт с лица земли целый квартал… — Несколько кварталов вокруг Института будут превращены в развалины, — сказал премьер-министр. — Мы не можем с такой хирургической точностью проводить операцию. — Я понимаю. И все же, сэр, вы должны отдать приказ о бомбардировке. В ближайшие несколько дней на этот район следует сбросить тонны взрывчатки, больше чем на любой другой район на всем европейском театре военных действий за всю войну. От Института должна остаться одна пыль. Премьер-министр с минуту молчал, размышляя; следил за тонким синеватым дымом своей сигары. Наконец он сказал: — Мне необходимо проконсультироваться с советниками. Я думаю, мы сможем подготовить и осуществить бомбардировку не раньше чем через два дня, двадцать второго числа, а может быть, и двадцать третьего. — Это вполне подходящие сроки, — с облегчением сказал Штефан. — Но не позже. Прошу вас, сэр, ни в коем случае не позже.18
Женщина, сжавшись в комок, спряталась за левым передним крылом «Бьюика» и осматривала пустыню к северу от себя, в то время как Клитман наблюдал за ней из-за переплетения ветвей мескитового куста и повисших на нем шаров перекати-поля. Женщина не видела Клитмана. Когда она передвинулась к правому переднему крылу и повернулась спиной к Клитману, тот немедленно вскочил и, пригнувшись, помчался к следующему укрытию — выщербленному ветром и песком камню. Лейтенант молча проклинал свои черные мокасины, скользкие подошвы которых были мало пригодны для подобного мероприятия. Глупо наряжаться под молодых дельцов или баптистских пасторов, если твоей целью является убийство. Хорошо еще, что пригодились темные очки. Яркое солнце раскалило камни и белый песок; без очков он не видел бы ничего вокруг и, конечно, не раз споткнулся бы и упал. Он собрался было опять нырнуть за какое-нибудь укрытие, когда услышал, что женщина открыла огонь в другом направлении. Она была занята, и он мог продвигаться вперед. Внезапно раздался вопль, такой пронзительный и долгий, что он мало походил на крик человека; он был подобен вою дикого животного, раздираемого когтями хищника. Потрясенный, Клитман спрятался в длинной, узкой каменной впадине, невидимой женщине. Он прополз на животе до конца ложбины и, тяжело дыша, затаился. Когда наконец он немного приподнял голову, чтобы его глаза были на уровне земли, он увидел,что уже обошел «Бьюик» с севера и находится от него на расстоянии пятнадцати ярдов. Если он продвинется еще хотя бы на несколько ярдов, то окажется позади женщины, в отличном положении, чтобы срезать ее очередью.* * *
Вопли стихли. Догадавшись, что человек за ее спиной, на юге, на время притих, напуганный гибелью товарища, Лора опять передвинулась к левому переднему крылу — Еще две минутки, малыш. И все будет в порядке, — сказала она Крису. Пригнувшись, она оглядела северный фланг. Пустыня там по-прежнему казалась необитаемой. Ветер стих, и даже перекати-поле застыли на месте. Если их было только трое, вряд ли они оставили бы одного человека у «Тойоты», в то время как двое других пытались бы обойти ее с одной и той же стороны. Если их трое, то наверняка те двое на южном фланге разделились бы и один начал бы обходить ее с севера. Это означало, что их четверо и даже, возможно, пятеро и что двое скрываются где-нибудь за камнями, песчаными наносами и сухим) кустарником к северо-западу от «Бьюика». Но где?19
Штефан поблагодарил премьер-министра и уже приготовился удаляться, когда Черчилль показал на книги на столе. — Не забудьте их взять. Если вы их оставите, у меня будет большой соблазн заняться плагиатом! — Это не в вашем характере, — ответил Штефан, — вы не способны списывать. — Тут вы ошибаетесь. — Черчилль положил сигару в пепельницу и поднялся с кресла. — Если бы у меня сейчас были эти книги, уже написанные, я бы не удовлетворился публикацией их в нынешнем виде. Я бы наверняка решил, что кое-что следует подправить, и провел бы целые годы, копаясь в этих томах и переписывая только для того, чтобы потом обнаружить, что я лишил их тех самых вещей, которые в вашем будущем сделали их классикой. Штефан рассмеялся. — Я совершенно серьезен, — сказал Черчилль. — Вы говорили, что моя книга будет считаться одним из самых точных описаний событий. Мне этого достаточно. Я напишу ее, как я ухе ее написал, если так можно выразиться, и не буду ничего менять. — Наверное, вы правы, — согласился Штефан. Пока Штефан укладывал шесть томов в рюкзак, Черчилль стоял, заложив руки за спину и слегка покачиваясь. — Мне бы хотелось спросить вас об очень многих вещах в том самом будущем, творцом которого я тоже являюсь. О вещах, которые представляют для меня куда больший интерес, чем успех или неуспех этих книг. — Мне пора, сэр… — Я понимаю, — сказал премьер-министр. — Я не стану вас задерживать. Но ответьте хотя бы на один мой вопрос. Я сгораю от любопытства. Ну, к примеру, что произойдет с Советским Союзом после войны? Штефан задумался, закрывая рюкзак, но потом все-таки решился: — Я очень сожалею, сэр, но должен сказать вам, что Советский Союз будет значительно сильнее Великобритании, равными ему будут только Соединенные Штаты. Черчилль изумился впервые за все это время. — Вы хотите сказать, что эта их ужасная система добьется экономических успехов и процветания? — Нет-нет. Эта система приведет к экономическому краху, но одновременно создаст огромную военную мощь. Все советское общество подвергнется безжалостной милитаризации, а диссиденты будут уничтожены. Говорят, что их концентрационные лагеря могут соперничать с лагерями рейха. Лицо премьер-министра оставалось непроницаемым, но глаза выражали беспокойство. — Сейчас они наши союзники. — Это верно. Возможно, что без них война против рейха окончилась бы поражением. — О нет, мы бы победили, — уверенно произнес Черчилль, — только не так быстро. — Он вздохнул. — Говорят, что политика сводит вместе противоположности, но куда политике до военных союзов. Штефан был готов отправиться в обратный путь. Они обменялись рукопожатием. — Ваш Институт будет превращен в щепки, обломки, пыль и пепел, — сказал премьер-министр. — Даю вам свое слово. — Это все, что мне надо, — сказал Штефан. Штефан засунул руку йод рубашку и три раза нажал на кнопку, включая связь с Воротами. В то же мгновение он оказался в Берлине, в Институте. Он вышел из Ворот и направился к пульту программирования. Часы показывали, что на все путешествие в лондонское бомбоубежище он потратил ровно одиннадцать минут. Плечо по-прежнему болело, хотя и не произошло дальнейшего ухудшения. Но постоянно пульсирующая боль утомила Штефана, и он немного посидел на стуле у пульта, отдыхая. Затем, используя цифры, полученные на компьютере в 1989 году, он запрограммировал Ворота для своего предпоследнего скачка. На этот раз Ворота доставят его на пять дней вперед, в двадцать первое марта, в другое подземное бомбоубежище, но уже не в Лондоне, а в его собственном городе Берлине. Когда все было готово, он без оружия вошел в туннель Ворот. На этот раз он не взял с собой рюкзак с шестью томами Черчилля. Когда он миновал точку отправления, он почувствовал знакомую неприятную дрожь, которая накатывалась волнами и проникала до мозга костей. Находящаяся глубоко под землей комната, куда попал Штефан, освещалась единственной лампой на столе, если не считать вспышек, которыми сопровождалось его прибытие. В этом странном свете он ясно увидел фигуру Гитлера.20
Одна минута, всего одна минута. Лора вместе с Крисом, скорчившись, прижались к «Бьюику». Не меняя положения, она сначала посмотрела в южном направлении, где, она знала, прячется один из противников; затем в северном, где, как она подозревала, прячутся другие. Необычная тишина воцарилась в пустыне. Ни малейшего ветерка, никакого движения. С небес струилось столько света, что трудно было понять, где его больше, там, наверху, или на сухой, пропитанной солнцем земле; где-то вдали выцветшие небеса сливались с выцветшей землей, поглотив разделявшую их линию горизонта. И хотя температура не превышала восьмидесяти градусов, все предметы — кусты, камни, трава и сам песок пустыни — застыли, словно сплавившись в единый пейзаж. Всего одна минута. До возвращения Штефана из 1944-го оставалось не более минуты. Он им поможет, он вооружен «узи», и он ее хранитель. Хранитель. И хотя теперь она знала, кто он и откуда и что в нем нет ничего сверхъестественного, все равно в некоторых отношениях он был для нее всесильным волшебником, способным творить чудеса. Никакого движения на юге. Никакого движения на севере. — Скоро они снова покажутся, — сказал Крис. — Все будет в порядке, малыш, — тихо успокаивала Лора. Не только страх заставлял сильно биться ее сердце, но также чувство утраты, как если бы внутренний голос ей шептал, что ее сын, ее единственный ребенок, который жил наперекор судьбе, был уже мертв, и не потому, что она не сумела его защитить, а потому, что судьбе нельзя перечить. Нет, можно. На этот раз она ей не покорится. Она не расстанется со своим мальчиком. Она не потеряет его, как потеряла стольких дорогих ей людей. Он принадлежит ей, Лоре, а не судьбе. При чем тут-судьба? Ее сын принадлежит только ей. Только ей одной. — Все будет в порядке, малыш. Еще полминуты. Внезапно она заметила какое-то движение на южном фланге.21
В личном кабинете Гитлера в берлинском бункере неиспользованные остатки энергии, шипя, змеились вокруг Штефана, прокладывали сотни ослепительных извилистых дорожек на палу, взбегали по бетонным стенам так же, как в лондонском бомбоубежище. Однако это яркое и шумное зрелище не привлекло караульных из соседних комнат, так как в этот момент город подвергался еще одному налету авиации союзников; бункер сотрясался от взрывов бомб в городе, и даже на такой глубине грохот бомбардировки заглушил характерный шум, сопровождавший прибытие Штефана. Гитлер повернулся к Штефану на крутящемся стуле. Как и Черчилль, он не проявил никакого удивления, хотя, в противовес Черчиллю, он, конечно, знал о работе Института и сразу понял, каким образом Штефан оказался в его личных комнатах. Более того, он знал Штефана как сына своего старого и преданного соратника и как офицера СС, который многие годы работал во имя торжества национал-социализма. И хотя Штефан не ожидал увидеть удивления на лице Гитлера, он все же надеялся, что эти хищные черты исказятся от страха. В конце концов, если Гитлер читал отчеты гестапо о недавних событиях в Институте — а он их, несомненно, читал, — то он знал, что Штефана обвиняют в убийстве Пенловского, Янушского и Волкова шесть дней назад, пятнадцатого марта, и в последовавшем за этим побеге в будущее. Возможно, Гитлер думал, что Штефан тайно совершил это путешествие к нему в бункер шесть дней назад, еще до убийства ученых, и теперь также собирается убить и его. Но если он и был напуган, то хорошо скрывал свой страх; не вставая со стула, он спокойно открыл ящик письменного стола и вытащил оттуда «люгер». Последние разряды электричества еще трещали в воздухе, когда Штефан выбросал руку вперед в нацистском приветствии и как можно громче выкрикнул: «Хайль Гитлер!» Чтобы доказать искренность своих намерений, он опустился на одно колено, как перед церковным алтарем, и склонил голову; в таком положении он был совершенно беззащитен. — Мой фюрер, я пришел к вам восстановить свое доброе имя, а также предупредить вас о существовании предателей в Институте и среди сотрудников гестапо, ответственных за его безопасность. Долгое время диктатор не произносил ни слова. Откуда-то издалека, сверху, взрывные волны ночного налета, проходя сквозь свой земли, сквозь стальные и бетонные перекрытия толщиной в пять-шесть метров, наполняли бункер непрерывным грозным низким гулом. Всякий раз, когда неподалеку взрывалась бомба, три картины, похищенные из Лувра после поражения Франции, подпрыгивали на стенах, а на столе фюрера звенел высокий медный стакан, наполненный карандашами. — Встаньте, Штефан, — сказал Гитлер. — Садитесь. — Он показал на коричневое кожаное кресло, один из пяти предметов меблировки в тесном кабинете. Он положил «люгер» на стол, но не слишком далеко от себя. — Не только ради сохранения вашей чести и чести вашего отца, но и ради чести СС я надеюсь, что вы невиновны. Штефан говорил как можно убедительней, так как знал, что более всего Гитлер ценит в людях уверенность в себе. Одновременно он говорил с подчеркнутой почтительностью, как если бы действительно считал, что находится в присутствии человека, (который является олицетворением духа немецкого народа в прошлом, настоящем и будущем; потому что Гитлеру особо льстило то почтительное преклонение, с которым к нему относились его подчиненные. Это была опасная игра, но это была не первая встреча Штефана с фюрером; у него был опыт общения с этим безумцем, одержимым манией величия, этой гадиной в человеческом обличье. — Мой фюрер, я не убивал Владимира Пенловского, Янушского и Волкова. Это дело рук Кокошки. Это он предал рейх, это я застал его в справочной сразу после того, как он застрелил Янушского и Волкова. Он ранил и меня. — Штефан положил руку на грудь слева. — Если хотите, я покажу вам рану. После ранения я скрылся от него в главной лаборатории. Я был потрясен, я не знал, сколько еще человек в Институте занимаются подрывной деятельностью. Я не знал, на кого я могу положиться, оставался один путь к спасению, и я бежал через Ворота в будущее, прежде чем Кокошка мог меня настичь и прикончить. — Доклад полковника Кокошки несколько по-иному излагает события. В нем говорится, что он ранил вас как раз тогда, когда вы бежали через Ворота, после того как вы убили Пенловского и остальных. — Если это было бы так, мой фюрер, разве я вернулся бы сюда, чтобы снять с себя подозрения? Будь я изменником, который верит в будущее больше, чем в вас, мой фюрер, разве я не остался бы в этом будущем, где мне обеспечена безопасность? Разве я вернулся бы к вам сюда? — А были ли вы там в безопасности, Штефан? — спросил Гитлер и хитро улыбнулся. — Как мне известно, два отряда гестапо, а немного спустя и отряд СС были посланы за вами в это весьма отдаленное будущее. Штефан вздрогнул при упоминании об отряде СС; наверное, это тот самый отряд, который прибыл в Палм-Спрингс примерно за час до его старта и появление которого сопровождалось блеском молнии в безоблачном небе над пустыней. Его беспокойство о Лоре и Крисе усилилось; он знал, что упорство и жестокость СС значительно превосходили способности гестапо. Штефан также понял, что Гитлер оставался в неведении о том, что отряды гестапо были разгромлены женщиной; он считал, что их гибель на совести Штефана, не предполагая, что все это время тот был без сознания. Это было на руку Штефану, и он сказал: — Мой фюрер, да, я расправился с людьми из гестапо, когда они стали меня преследовать, и у меня нет никаких угрызений совести, потому что я знал, что все они изменники, которые решили убить меня, чтобы я не мог вернуться к вам и предупредить об этом гнезде подрывной деятельности в Институте. Если я не ошибаюсь, Кокошка с тех пор исчез и, кажется, еще пять человек из Института. Они не верили в победу рейха, они боялись, что скоро разоблачат их участие в убийствах пятнадцатого марта, поэтому они бежали в будущее, чтобы укрыться в другой эпохе. Штефан приостановился, чтобы дать фюреру осознать все сказанное. Постепенно взрывы наверху прекратились, наступило затишье в бомбардировке; Гитлер внимательно изучал Штефана. Это был тот же испытующий взгляд, что и у Черчилля, только в нем не было честной, открытой, прямой оценки, какая была у премьер-министра. Гитлер оценивал Штефана, как оценивал бы самозваный бог одно из своих творений, выискивая в нем опасные изъяны. И это был злобный бог, у которого не было любви к своим созданиям; его тешило только одно: их безусловное повиновение. Наконец фюрер сказал: — Если в Институте есть предатели, то какую они ставят цель? — Прежде всего ввести вас в заблуждение, — ответил Штефан. — Они снабжают вас ложной информацией о будущем в надежде, что вы допустите серьезные военные промахи. Они убеждают вас, что почти все ваши решения за последние полтора года войны являются ошибочными, но это не правда. Как сейчас показывает будущее, вы проиграете войну в результате самого незначительного просчета. Стоит только немного изменить вашу стратегию, и победа будет на вашей стороне. Лицо Гитлера потемнело, глаза сузились, и не потому, что он подозревал Штефана, а потому, что он внезапно заподозрил всех тех сотрудников Института, которые его убеждали, что в самые ближайшие дни он совершит роковые военные ошибки. Штефан же твердил о его непогрешимости, и безумец был готов вновь поверить в свой гений. — Немного изменить мою стратегию? — переспросил Гитлер. — Каким образом? Штефан быстро перечислил шесть изменений в военной стратегии, которые, по его утверждению, явятся решающими в будущих главных сражениях; на деле они ничего не меняли в исходе сражений, о которых он говорил, да и сами эти сражения никак не определяли последние этапы войны. Но фюрер жаждал верить, что он ближе к победе, чем к полному поражению, и он с готовностью ухватился за совет Штефана, так как план Штефана немногим отличался от того, какой предложил бы сам фюрер. — В самых первых докладах, которые мне представил Институт, я заметил это искажение будущего. Как могло случиться, что до этого я блестяще руководил военными действиями и вдруг стал допускать одну за другой подобные серьезные ошибки? Да, сейчас мы переживаем трудный период, но это не может продолжаться вечно. Высадка союзников в Европе, на которую возлагаются такие надежды, обречена на провал; мы сбросим их в море. — Он говорил почти шепотом, с гипнотизирующей страстностью, знакомой по его многочисленным выступлениям. — На эту неудачную высадку они потратят большую часть своих резервов, им придется отступить по всему фронту, им потребуется много месяцев, чтобы восстановить свои силы и начать новый штурм. За это время мы укрепим свои позиции в Европе, нанесем поражение русским варварам и станем абсолютно непобедимыми! Он перестал шагать по комнате, моргнул, как бы выходя из транса, и сказал: — Так на чем я остановился? Да, день высадки в Европе. В докладах Института говорится, что союзники высадятся в Нормандии. — Это ложь, — сказал Штефан. Наконец они дошли до того самого вопроса, ради которого Штефан совершил свое путешествие в бункер в эту мартовскую ночь. Институт сообщил Гитлеру, что местом высадки станут пляжи Нормандии. В том будущем, которое судьба уготовила для него, фюрер допустит ошибку, считая, что высадка произойдет в другом месте, и не укрепит должным образом район Нормандии. Надо всячески поощрять его придерживаться той стратегии, которой он следовал бы, не существуй на свете Института. Он должен проиграть войну, как это запланировала для него судьба, и задачей Штефана было подорвать его веру в Институт и таким образом обеспечить успех вторжения в Нормандии.22
Клитман сумел преодолеть еще несколько ярдов, обходя «Бьюик» и женщину. Он распластался за небольшим возвышением из белого камня, пронизанного жилами бледно-голубого кварца, в ожидании, когда Губач совершит свой бросок с юга. Это отвлечет женщину, и Клитман выскочит из укрытия и бросится к ней, на бегу стреляя из «узи». Он буквально разрежет ее на куски, прежде чем она успеет обернуться и увидеть лицо своего убийцы. «Давай, сержант, чего прячешься, как трусливый еврей, — в ярости твердил себе Клитман. — Покажись. Вызови огонь на себя». Буквально через секунду Губач выскочил из укрытия, и женщина увидела его. Все ее внимание было сосредоточено на Губаче, и Клитман поднялся из-за камней.23
Сидя в кожаном кресле и наклонившись вперед, Штефан продолжал: — Все это ложь, мой фюрер, все это ложь. Это попытка ввести вас в заблуждение, чтобы вы поверили в высадку в Нормандии. Это основная задача заговора подрывных элементов в Институте. Они хотят заставить вас совершить кардинальный просчет, который не уготован вам будущим. Они хотят, чтобы вы все свое внимание сосредоточили на Нормандии, в то время как настоящая высадка состоится… — В Кале, — закончил Гитлер. — Совершенно верно. — Я всегда считал, что это будет район Кале, севернее Нормандии. Они пересекут Па-де-Кале в самом узком месте. — Вы совершенно правы, мой фюрер, — подтвердил Штефан. — Тем не менее войска все же высадятся в Нормандии седьмого июня… В действительности это произойдет шестого июня, но погода в этот день будет настолько плохой, что немецкое верховное командование не поверит, что союзники решатся на проведение операций при таком бурном море. — Но это будут незначительные силы, чтобы привлечь ваши элитные танковые дивизии на побережье Нормандии, в то время как настоящий фронт будет открыт позже в районе Кале. Эта информация пришлась по вкусу диктатору, который имел свое предвзятое мнение и твердо верил в свою непогрешимость. Он снова сел в кресло и стукнул кулаком по столу. — Вот это действительно похоже на правду, Штефан. Но я видел документы, отдельные страницы истории войны, привезенные из будущего… — Подделка, — ответил Штефан, рассчитывая, что параноик проглотит ложь. — Вместо подлинных документов они вам предъявили подделку, чтобы сбить вас с толку. Если повезет, то обещанная Черчиллем бомбардировка состоится завтра и уничтожит Ворота, всех тех, кто может их воссоздать, и все документы до единого, которые были привезены из будущего. А фюрер будет лишен всякой возможности провести глубокое расследование для выяснения правдивости слов Штефана С минуту Гитлер молча сидел, глядя на «люгер» на столе и напряженно думая. Наверху возобновилась бомбардировка, и картины запрыгали на стенах, а карандаши в медном стакане. Штефан с нетерпением ждал реакции фюрера. — Как вы сюда попали? — спросил Гитлер. — Как вам удалось воспользоваться Воротами? После побега Кокошки и тех пятерых они усиленно охраняются. — Я не пользовался Воротами, — сказал Штефан. — Я явился к вам прямо из будущего, использовав пояс для передвижения во временном пространстве. Это была самая смелая ложь, так как пояс не являлся машиной времени, а только механизмом для возвращения и имел одну-единственную функцию: вернуть его владельца в Институт. Штефан рассчитывал на невежество политиков: они знали обо всем происходящем понемногу, но никогда не изучали глубоко ни одного вопроса. Гитлер знал, что такое Ворота и что такое путешествие во времени, но, конечно, лишь в общих чертах; он не знал подробностей, к примеру, таких, как назначение поясов. Если бы Гитлер понял, что Штефан прибыл к нему после возвращения в Институт с помощью пояса Кокошки, он бы догадался, что Штефан расправился с Кокошкой и пятерыми другими и что они вовсе не дезертиры, и тогда рухнул бы весь сложный вымысел о заговоре в Институте. А Штефану пришел бы конец. Нахмурившись, диктатор спросил: — Вы пользовались поясом без Ворот? Разве такое возможно? У Штефана пересохло во рту, но он старался говорить убедительно — Да, мой фюрер, это совсем просто. Можно так настроить пояс, что он не только будет устанавливать связи с Воротами для возвращения домой, но и позволит перемещаться во времени в соответствии с нашими желаниями. Хорошо, что это так, потому что, если бы я вернулся к Воротам, чтобы потом отправиться сюда, меня бы схватили евреи, которые сейчас их контролируют. — Евреи? — Гитлер был поражен. — Да, мой фюрер. Насколько я понимаю, заговор в Институте организовали сотрудники, которые имеют еврейскую кровь, но скрыли этот факт. Лицо безумца исказилось от внезапной ярости. — Евреи. Всюду, везде. А теперь вот в Институте. Услышав эти слова, Штефан понял, что повернул ход истории на прежний путь. Судьба стремится восстановись предопределенный ход событий.24
Лора сказала: — Крис, тебе лучше спрятаться под машиной. Пока она говорила, человек на юго-западном фланге поднялся из-за укрытия и помчался вдоль края сухого русла по направлению к ней и к небольшому песчаному наносу, за которым можно было спрятаться. Лора вскочила на ноги, зная, что «Бьюик» защитит ее от стрелка за «Тойотой», и открыла огонь. Первые пули взвихрили песок и выщербили камни под ногами бегущего человека, но следующая очередь пришлась ему по ногам. С криком он упал на землю, где его снова настигли пули. Он дважды перевернулся, перевалился через край сухого русла глубиной тридцать футов и полетел вниз на дно Как раз в то мгновение, когда раненый исчез за краем обрыва, Лора услышала стрельбу, но не из-за «Тойоты», а позади, за спиной. Она не успела обернуться, несколько пуль ударили ей в спину, и она упала лицом вниз на каменистую почву пустыни.25
— Опять эти евреи, — со злобой повторил Гитлер. — А как насчет ядерного оружия, которое, как они утверждают, может выиграть для нас войну? — Еще одна ложь, мой фюрер. В будущем была сделана не одна попытка создать такое оружие, и все они оказались неудачными. Это выдумки заговорщиков, чтобы растратить ресурсы и силы рейха. Послышался гул и грохот взрывов. Тяжелые рамы картин стучали по бетонным стенам. Карандаши подпрыгивали в медном стакане. Гитлер смотрел прямо в глаза Штефану, пристально изучая его. — Все-таки если бы вы были изменником, то явились бы сюда с оружием и убили бы меня на месте. Штефан подумывал именно об этом, потому что, только убив Адольфа Гитлера, он смыл хотя бы часть пятна со своей совести. Но это было бы проявлением эгоизма, потому что, убив Гитлера, он круто изменил бы ход истории и подверг огромному риску то будущее, которое уже существовало. Он не мог забывать о том, что его будущее было одновременно и прошлым Лоры; если он будет вмешиваться, чтобы изменить ход событий, установленный судьбой, он может изменить мир к худшему вообще и для Лоры в частности. Что, если он убил бы Гитлера сейчас и, вернувшись в 1989 год, обнаружил совершенно иной мир, в котором по каким-то причинам Лора вообще не появилась на свет? Он мог бы уничтожить этого преступника, но тогда на него легла бы ответственность за тот мир, который возникнет после этого поступка. Здравый смысл говорил, что мир от этого станет только лучше, но он твердо знал, что здравый смысл и судьба — это два взаимоисключающих понятия. — Да, мой фюрер, — сказал Штефан, — будь я изменником, я бы поступил именно так. И меня беспокоит, что настоящие изменники в Институте могут рано или поздно додуматься именно до такого способа покушения. Гитлер побледнел. — Завтра я закрою Институт. Ворота не будут функционировать, пока я не очищу весь Институт от предателей. «Надо надеяться, что бомбардировщики Черчилля тебя опередят», — подумал Штефан. — Мы одержим победу, Штефан, и в этом нам поможет твердая вера в наше великое предназначение, а не какая-нибудь гадалка. Мы победим, потому что это наша судьба. — Да, это наша судьба, — согласился Штефан. — Правда на нашей стороне. На лице безумца появилась улыбка. Под внезапным наплывом чувств, неожиданным по контрасту с прежним настроением, Гитлер заговорил об отце Штефана Франце и днях их молодости в Мюнхене: тайные собрания на квартире Антона Дрекслера, встречи в пивных «Хофбройхаус» и «Эберлброй». Некоторое время Штефан слушал, изображая глубокое внимание, но, когда Гитлер заявил о своей постоянной и неизменной вере в сына Франца Кригера, Штефан поспешил воспользоваться этим моментом. — Моя вера в вас, мой фюрер, непоколебима, а преданность не имеет границ. Он поднялся, вытянул руку в приветствии, а другой нащупал кнопку на поясе под рубашкой и объявил: — Теперь мне надо возвращаться в будущее, мне еще немало придется потрудиться для вашего блага. — Как, вы уходите? — удивился Гитлер, поднимаясь с кресла. — Разве вы не останетесь в вашей собственной эпохе? Почему вы хотите отправиться туда, когда вы сняли с себя подозрения? — Кажется, я догадываюсь, где прячется этот предатель Кокошка. Его надо отыскать и доставить обратно, потому что, наверное, только Кокошка знает имена предателей в Институте и может их открыть. Он быстро отсалютовал, нажал кнопку на поясе и покинул бункер прежде, чем Гитлер успел что-либо сказать. Он возвратился в Институт вечером шестнадцатого марта, в тот самый день, когда Кокошка отправился за ним в погоню в горы Сан-Бернардино, чтобы никогда не вернуться обратно. Штефан сделал все, что было в его силах: он договорился об уничтожении Института и посеял в Гитлере недоверие к любой информации, исходившей оттуда. Он мог бы ликовать, если бы не терзавшая его мысль об отряде СС, который преследовал Лору в 1989 году. Он ввел в пульт программирования Ворот данные, полученные с помощью компьютера, для своего последнего скачка в пустыню в окрестностях Палм-Спрингс, где Лора и Крис ждали его утром двадцать пятого января 1989 года.26
Падая на землю, Лора уже знала, что пуля повредила или раздробила ей позвоночник; она не ощущала никакой боли и вообще не чувствовала своего тела. Судьба стремится восстановить предопределенный ход событий. Стрельба прекратилась. Она могла повернуть голову, и то немного, и когда она это сделала, то увидела Криса, который стоял у «Бьюика», словно парализованный ужасом, как она была парализована пулей, раздробившей ей позвоночник. За спиной Криса, на расстоянии всего пятнадцати ярдов, она увидела человека, который бежал к ним с северного фланга; он был в темных очках, белой рубашке и черных брюках, в руках у него был автомат. — Крис, — хрипло сказала Лора. — Беги! Беги, я тебе говорю! Его лицо исказила гримаса горя, он знал, что оставляет ее умирать. Потом он изо всех сил пустился бегом, так быстро, как только его могли нести детские ноги, на восток, в пустыню; при этом он метался из стороны в сторону, чтобы в него было труднее попасть. Лора увидела, как приближавшийся убийца поднял автомат.* * *
В главной лаборатории Штефан открыл панель, закрывавшую автоматический регистратор путешествий во времени. Катушка с бумажной лентой шириной в два дюйма показала, что сегодня вечером с помощью Ворот был совершен скачок в десятое января 1988 года; это было путешествие, которое Генрих Кокошка предпринял в горы Сан-Бернардино, когда он убил Дании Паккарда. Кроме того, были зарегистрированы еще восемь путешествий в будущее, в год через шесть миллиардов лет: пять человек и три узла с подопытными животными. Были также отмечены и скачки самого Штефана: в двадцатое марта 1944 года, с указанием координат около парка Сент-Джеймс в Лондоне; в двадцать первое марта 1944 года, с точными координатами бункера Гитлера; и пункт назначения скачка, который он только что запрограммировал, но еще не совершил: Палм-Спрингс, двадцать пятое января 1989 года. Штефан оторвал кусок ленты с данными и протянул чистую ленту. Он уже установил часы на пульте таким образом, чтобы они сбросили все сведения и начали с нуля, как только он минует Ворота. Конечно, сотрудники Института заметят, что кто-то трогал записи, но подумают, что это Кокошка и пятеро других беглецов заметали свои следы. Он закрыл панель регистратора и надел рюкзак с книгами Черчилля. Он закинул на плечо «узи» и взял со стола пистолет с глушителем. Быстрым взглядом окинул лабораторию, проверяя, не оставил ли чего-нибудь, что может выдать его присутствие здесь сегодня утром. Компьютерные расчеты он вновь спрятал в карман джинсов. Баллон из-под «вексона» был давно отослан в эпоху потухающего или уже потухшего солнца. Он вошел в туннель Ворот и в приподнятом настроении — чего не случалось с ним уже многие годы — приблизился к точке отправления. Путем манипуляций в духе Макиавелли он запланировал разрушение Института и поражение нацистской Германии, так что наверняка им с Лорой удастся справиться с отрядом эсэсовских убийц, отправившихся в Палм-Спрингс в 1989 год.* * *
— Нет! — закричала Лора, которая, недвижимая, парализованная, лежала на каменистой земле. Вместо крика раздался шепот, потому что у нее не было сил, чтобы набрать в легкие 1 побольше воздуха. Человек опять начал стрелять из автомата, и на мгновение ей показалось, что Крис сумеет уйти от пуль, что, конечно, было несбыточной надеждой, потому что он был всего-навсего маленьким мальчиком, очень маленьким, и детские ноги не могли унести его достаточно далеко; пули легко его настигли, прошив линию поперек узкой спины, он упал лицом в песок и лежал неподвижно, а вокруг расползалась лужа крови. Вся боль, которая жила в ее изуродованном теле и которую она не чувствовала, была не более чем булавочным уколом по сравнению с невыносимой мукой, охватившей ее при виде безжизненного тела сына. Никогда за всю свою жизнь, в самых тяжелых испытаниях, она не знала такой боли. Как если бы все потери, выпавшие на ее долю, — смерть матери, которую она никогда не знала, доброго, ласкового отца, Нины Доквайлер, кроткой Рут и Дании, за которого она отдала бы собственную жизнь, — сосредоточились в этой новой, навязанной судьбой жестокости; она испытывала ужасные страдания от смерти Криса и одновременно переживала заново глубокую муку всех предыдущих потерь. Она была недвижима, парализована, но ее сердце разрывалось от горя, от новых пыток на ненавистном колесе судьбы; она потеряла мужество и не могла больше надеяться или любить. Ее мальчик мертв. Она не сумела его спасти, и вместе с ним умерли все надежды на жизнь и радость. Она была совершенно одинока в холодном враждебном мире и призывала к себе смерть, а вместе с нею забытье, пустоту, покой, конец страданиям и потерям. Она увидела, что к ней приближается убийца. Она сказала: — Убейте меня, прошу вас, прикончите меня. Ее голос был столь слаб, что он вряд ли ее услышал. В чем смысл жизни? Во имя чего она перенесла все многочисленные трагедии? Зачем она страдала и продолжала жить, если впереди ее ждал такой конец? Что за жестокое начало распоряжается Вселенной, начало, которое заставило ее пройти через тяжкие испытания, не имевшие, как оказалось, понятной цели или смысла? Кристофер Робин был мертв. Она почувствовала, как слезы текут по ее лицу, но это все, что она чувствовала физически: горячие слезы и твердый: камень под правой щекой. Через секунду убийца был рядом, остановился над ней, пнул ногой в ребро. Она знала, что он ее ударил, потому что смотрела на свое неподвижное тело и видела, как он толкнул ее ногой в бок, но она абсолютно ничего не почувствовала. — Убейте меня, — прошептала она. Она вдруг страшно испугалась, что судьба постарается слишком точно восстановить ход событий, и тогда она будет жить в инвалидном кресле, от которого ее спас Штефан при рождении. Крис был ребенком, не предусмотренным судьбой, и теперь он прекратил свое существование. Но она — другой случай, потому что судьба предопределила ей жизнь инвалида. Она представила себе свое будущее: живая, но полностью или частично парализованная, обреченная на инвалидное кресло, обреченная на нечто более ужасное — на жизнь-трагедию, жизнь, полную горьких воспоминаний, непрерывных страданий, невыносимой тоски по сыну, мужу и всем другим, кого она лишилась. — Господи, прошу тебя, убей меня. Стоя над ней, убийца улыбнулся и сказал: — Должно быть, я и есть посланец Божий. — Он неприятно расхохотался. — Во всяком случае, твоя мольба не останется безответной. Сверкнула молния, и раскаты грома обрушились на пустыню.* * *
Благодаря вычислениям, сделанным на компьютере, Штефан возвратился в то самое место в пустыне, откуда стартовал в 1944 год, и ровно через пять минут после этого события. Первое, что он увидел в ярком солнечном свете, был эсэсовец, стоявший над окровавленным телом Лоры. Затем он увидел Криса. Убийца немедленно отреагировал на молнию и гром. Он огляделся, разыскивая Штефана. Штефан три раза нажал на кнопку на своем поясе. Мгновенно возросло давление: запах тлеющей электропроводки и озона наполнил воздух. Эсэсовец увидел Штефана, поднял автомат и начал стрелять; сначала пули пролетели далеко, затем засвистели рядом. Еще мгновение, и они бы его настигли, но Штефан со звуком, подобным хлопку, покинул 1989 год и оказался в Институте вечером шестнадцатого марта 1944 года. — Дерьмо, — выругался Клитман, когда Кригер, невредимый, ускользнул, унесенный временным потоком. Брахер бежал к нему от «Тойоты», выкрикивая: — Это был он! Он! — Знаю, что это был он, — сказал Клитман. — А кто же еще? Может, Христос во время Второго пришествия? — Что он замышляет? — спросил Брахер. — Что он делает в Институте, где он шляется, и вообще, в чем тут дело? — Не знаю, — с раздражением ответил Клитман. Он посмотрел на тяжелораненую женщину у своих ног и сказал: — Единственное, что я знаю, так это то, что он видел тебя и твоего мертвого сына и даже не попытался расправиться со мной. Он тут же убрался, чтобы спасти свою шкуру. Что ты теперь думаешь о своем герое? Лора продолжала молить небо о смерти. Отступив назад, Клитман сказал: — Брахер, отойди подальше. Брахер повиновался, и Клитман выпустил очередь из десяти-двадцати пуль, которые все попали в женщину, убив ее на месте. — Мы могли бы ее допросить, — сказал капрал Брахер. — О Кригере, о том, что он тут делает… — Она была парализована, — прервал его Клитман. — Она ничего не чувствовала. Я ударил ее в бок и наверняка сломал ей ребра, а она не вскрикнула. Какую можно выбить информацию из женщины, которая не чувствует боли?* * *
Шестнадцатое марта 1944 года. Институт. Штефан выпрыгнул из Ворот и бегом бросился к пульту программирования; сердце стучало у него в груди, словно кузнечный молот. Он выхватил из кармана листок с цифрами и разложил его на небольшом столе в нише пульта. Он сел на стул, взял карандаш, вытащил блокнот из ящика стола. У него так сильно дрожали руки, что он дважды уронил карандаш. В его распоряжении уже были цифры, с помощью которых он вернулся в пустыню через пять минут после того, как ее покинул. Используя эти цифры для вычислений в обратном порядке, он получит новую комбинацию, которая вернет его в то же самое место на четыре минуты и пятьдесят пять секунд раньше, всего через пять секунд после того, как он в первый раз расстался в пустыне с Лорой и Крисом. Если он будет отсутствовать всего пять секунд, эсэсовцы еще не успеют убить Лору и Криса к моменту его возвращения. Он примет участие в перестрелке и, возможно, повлияет на исход боя. Штефан получил необходимые математические знания, когда его впервые направили в Институт осенью 1943 года. Он мог сделать нужные расчеты. Задача была вполне осуществимой, так как ему не надо было начинать с нуля; ему надо было только уточнить имеющиеся данные и произвести расчеты на несколько минут назад. Но он смотрел на цифры и не мог заставить себя думать, потому что Лора была мертва, и Крис тоже. Без них у него не было ничего. «Ты можешь их вернуть к жизни, — сказал он себе. — Довольно, возьми себя в руки. Ты можешь все остановить до того, как дело примет серьезный оборот!» Он заставил себя взяться за работу и трудился почти целый час. Он знал, что вряд ли кто явится в Институт в такое позднее время и поймает его за этим занятием, но ему слышались шаги в коридоре, топот эсэсовских сапог. Дважды он бросал взгляд на Ворота, почти уверенный, что неведомым образом ожившие пять мертвецов возвращаются из своего изгнания за шесть миллиардов лет вперед, чтобы с ним расправиться. Получив необходимые цифры и дважды их проверив, он ввел их в пульт. С автоматом в одной руке и пистолетом в другой он вошел в Ворота и миновал точку отправления… …и тут же вернулся в Институт. Мгновение он стоял внутри туннеля, удивленный и растерянный. Затем опять переступил через энергетическое поле… …и опять вернулся в Институт. Догадка осенила его столь внезапно и с такой силой, что он согнулся, словно от удара в живот. Он не может вернуться назад раньше, потому что уже побывал в этом самом месте через пять минут после того, как его покинул: если он вернется сейчас, то возникнет ситуация, когда он обязательно увидит свое собственное возвращение в первый раз. Парадокс! Космический механизм ни за что не позволит путешественнику во времени встретить самого себя во временном потоке, подобные попытки всегда оканчивались неудачей. Природа отвергала парадокс. Он услышал голос Криса в жалкой комнате мотеля, когда они впервые обсуждали путешествие во времени — Парадокс! Вот это вещь! Удивительная штука И его заразительный радостный мальчишеский смех. Надо искать выход. Он вернулся к пульту, положил на стол оружие и сел. Пот стекал у него со лба. Он вытер лицо рукавом рубашки. Думай. Он посмотрел на «узи»: не послать ли Лоре хотя бы это. Нет, нельзя. Когда он возвратился к Лоре в первый раз, он был вооружен пистолетом и автоматом; если он пошлет пистолет или автомат обратно на четыре минуты пятьдесят секунд раньше своего первого возвращения, они будут существовать в одном и том же месте дважды, потому что он появился там всего четыре минуты и пятьдесят секунд спустя. Парадокс. А что, если он пошлет ей что-нибудь другое, что-нибудь из лаборатории, какой-нибудь предмет, который он не брал с собой и который поэтому не создаст парадокс? Он отодвинул в сторону оружие, взял карандаш и написал короткую записку на листке в блокноте: «Эсэсовцы убьют вас и Криса, если вы останетесь у машины. Бегите и спрячьтесь». Он остановился, раздумывая. Действительно, где они могут спрятаться на плоской равнине пустыни? Он написал: «Попробуйте в русле реки». Он вырвал листок из блокнота. Потом торопливо добавил: «Второй баллон «вексона». Это тоже оружие». Он поискал в ящиках лаборатории стола мензурку с узким горлом, но не нашел; все исследования здесь были в основном связаны с электромагнетизмом, а не с химией. Он вышел в коридор и продолжил поиски в других лабораториях, пока не нашел нужный ему сосуд. Вернувшись в главную лабораторию, он засунул записку внутрь мензурки, вошел в Ворота и приблизился к точке отправления. Он бросил мензурку в энергетическое поле, как человек на необитаемом острове бросает в море бутылку с запиской. Мензурка не выскочила обратно.* * *
В разреженное пространство с силой хлынул поток горячего, чуть горьковатого воздуха пустыни. Крис, который стоял рядом, прижавшись к Лоре, был в восторге от необычайного зрелища исчезновения Штефана. — Вот это да! Правда, здорово, мама? Лора не ответила, она увидела, как белый автомобиль съехал в пустыню с шоссе № 111. Вспыхнула молния, прогремел гром среди ясного неба, и прямо перед ней внезапно появился стеклянный сосуд, который упал у ее ног и разбился на камнях; среди осколков лежала записка. Крис быстро схватил листок бумаги. С обычной уверенностью, когда речь шла о подобных вопросах, он объявил: — Это от Штефана! Лора взяла у него записку, прочитала, чувствуя, что белая машина повернула и едет по направлению к ним. Она не поняла, как и для чего к ним пришла эта записка, но поверила каждому ее слову. Молния и гром все еще сверкали и гремели в небе, но Лора услышала рев мотора приближавшейся машины. Она подняла голову и увидела, что белая машина ускорила ход. Машина была на расстоянии примерно трехсот ярдов, но водитель изо всех сил нажимал на газ, преодолевая неровности каменистой пустыни. — Крис, возьми оба автомата из машины и жди меня у оврага. Быстро! Крис бросился к открытой двери «Бьюика», а Лора к открытому багажнику. Она вытащила оттуда баллон с «вексоном» и догнала Криса на пути к краю глубокого оврага, где во время ливней бушевал водяной поток, но где сейчас было пересохшее русло. Белая машина была на расстоянии ста пятидесяти ярдов. — Иди за мной, — сказала Лора и повела Криса вдоль края сухого русла. — Нам надо где-то найти спуск. Стены русла спускались вниз на глубину тридцати футов, и это был очень крутой склон. Он был изрезан эрозией,многочисленные почти вертикальные канавы шли вниз к главному руслу, некоторые узкие, шириной всего в несколько дюймов, другие шириной в три-четыре фута; во время ливней вода стекала с поверхности пустыни по этим канавам до самого дна, где и возникала бурная река. В некоторых идущих вниз канавах обнажились камни, в других, укоренившись в стене, разрослись неприхотливые мескитовые кусты. Ярдах в ста белая машина съехала с твердой почвы в песок, в котором увязали колеса, и сразу замедлила движение. Вскоре Лора обнаружила широкую канаву, ведущую прямо вниз до сухого русла, в которой не было ни камней, ни мескитовых кустов. Это был сглаженный водяными струями грязевой желоб шириной в четыре и длиной в тридцать футов. Она бросила баллон с «вексоном» в этот естественный желоб, и тот беспрепятственно съехал вниз до половины спуска, прежде чем остановился. Она взяла один из автоматов у Криса, повернулась лицом к машине и открыла огонь. Она видела, как пули пробили по крайней мере две дырки в ветровом стекле. Закаленное стекло мгновенно покрылось сетью трещин. Машина — теперь Лора видела, что это «Тойота», — развернулась на все триста шестьдесят градусов, потом еще на девяносто, поднимая облака пыли и вырвав с корнем несколько зеленых перекати-поле. «Тойота» остановилась примерно в сорока ярдах от «Бьюика», в шестидесяти от нее и Криса, капотом к северу. С другой стороны распахнулись двери. Лора поняла, что пассажиры выбираются из машины, пригибаясь к земле, чтобы она их не видела. Она выхватила второй «узи» из рук Криса и крикнула: — Спускайся вниз, малыш! Когда съедешь до баллона, толкай его перед собой. Крис заскользил вниз по желобу, влекомый силой притяжения и лишь в некоторых местах помогая себе ногами. В других обстоятельствах подобный опасный трюк вызвал бы возмущение Лоры, но сейчас она только подбадривала Криса. Она вогнала сотню пуль в «Тойоту» в надежде пробить бак и вызвать пожар и таким образом выкурить из-за машины своих преследователей. Но она опустошила обойму без видимых результатов. Когда Лора прекратила стрельбу, раздались очереди со стороны врагов. Но Лора недолго служила им мишенью. Держа перед собой двумя руками второй «узи», она села на край обрыва и последовала вниз за Крисом. Буквально через секунду она была на дне сухого русла. Ветер сдул на дно ущелья сухие перекати-поле. Сучковатые ветки, посеревшие от времени куски дерева от какой-то развалившейся лачуги и отдельные камни лежали на мягкой почве русла. Ни один из этих предметов не мог служить им укрытием от огня, который скоро обрушится на них сверху. — Мама? — вопросительно произнес Крис, словно спрашивая: «А что делать дальше?» У главного русла, несомненно, было множество притоков на всем его протяжении, а у этих притоков свои собственные. Вся эта система представляла собой запутанный лабиринт. Они не могли вечно прятаться в нем, но могли в него углубиться, чтобы выиграть время и устроить засаду. Лора сказала: — Беги, малыш. Сначала по руслу, а как увидишь первый справа приток, поверни туда и жди меня. — А ты что будешь делать? — Я подожду, когда они появятся вон там. — Лора показала на край обрыва. — Может, мне удастся их пристрелить. А теперь иди, иди, говорю тебе. Крис пустился бегом. Спрятав баллон с «вексоном» в небольшое углубление, Лора вернулась к желобу, по которому они спустились вниз. Она нашла еще один почти вертикальный желоб, более глубокий и крутой, в середине которого рос куст. Она спряталась на дне этой впадины, а куст надежно скрыл ее от взглядов сверху. Крис исчез за поворотом притока. Через мгновение Лора услышала голоса. Она ждала, ждала затаившись, чтобы они могли увериться, что их с Крисом здесь нет. Затем она вышла из впадины и полила огнем верх оврага. Четыре человека наверху вглядывались в пространство ущелья, и она убила двоих, но двое других успели отскочить назад, прежде чем их настигли пули. Один из убитых лежал на самом краю обрыва, рука и нога свешивались вниз. Другой скатился до самого дна, потеряв по пути темные очки.* * *
Шестнадцатое марта 1944 года. Институт. Когда мензурка с запиской исчезла из виду и не вернулась к нему обратно, у Штефана были все основания верить, что Лора успела ее получить всего через несколько секунд после его первого старта в 1944 год, до того как была убита. Он снова сел к пульту и принялся за расчеты, которые вернули бы его в пустыню через несколько минут после его последнего старта оттуда. Теперь он мог рассчитывать на успех, так как он появится в пустыне после своего предыдущего торопливого отбытия, и таким образом исключается возможность встречи с самим собой, как исключается и всякий парадокс. На этот раз расчеты не представляли особой трудности, потому что базировались на цифрах, полученных с помощью компьютера, но предполагали уже не прошлое, а будущее. И хотя Штефан знал, что время, проведенное в Институте, не соответствует временной протяженности в пустыне 1989 года, он тем не менее торопился возвратиться к Лоре. Если даже она учла советы в записке, даже если будущее, которое он видел, удалось изменить и Лора осталась жива, ей все равно придется иметь дело с эсэсовцами и она нуждается в помощи. Через сорок минут он закончил необходимые расчеты и запрограммировал Ворота. Он опять открыл регистратор путешествий и уничтожил улики — ту часть ленты, где был зарегистрирован этот скачок. С «узи» и пистолетом в руках, стиснув зубы, чтобы не Застонать от боли в плече, он вступил в Ворота.* * *
Нагруженная баллоном с «вексоном» и «узи», Лора присоединилась к Крису, который спрятался а узком притоке главного русла, примерно в шестидесяти футах от места их спуска. Сжавшись в углу, образованном двумя земляными стенами, Лора следила за главным руслом, по которому они пришли. В пустыне наверху, на краю обрыва, один из уцелевших эсэсовцев столкнул труп вниз, видимо, чтобы проверить, нет ли Лоры на дне и не откроет ли она снова огонь. А когда огня не последовало, они значительно осмелели. Один из них залег на краю с автоматом, прикрывая спуск товарища. Затем тот, что внизу, в свою очередь прикрыл спуск второго. Когда же второй присоединился к первому, Лора, не скрываясь, вышла из расселины и дала длинную очередь. Пойманные врасплох, два ее преследователя даже не открыли ответного огня, а бросились к той впадине, где их прежде подкараулила Лора. Один из них успел добежать до укрытия. Другого она уложила наповал. После чего она вновь скрылась в притоке, подняла баллон с «вексоном» и сказала Крису: — А теперь бегом. Поторапливайся. Они бежали по притоку в поисках еще одного ответвления лабиринта, когда в голубом небе блеснула молния и прогремел гром. — Мистер Кригер! — обрадовался Крис. Он возвратился в пустыню через семь минут после того, как оттуда отбыл для встречи с Черчиллем и Гитлером в 1944 году, и всего через две минуты после своего первого возвращения, когда он видел тела Лоры и Криса, убитых эсэсовцами. На этот раз тел не было, а только «Бьюик» и пробитая пулями «Тойота», которая стояла в другом, по сравнению с прошлым, положении. Все еще не веря, что его план сработал, Штефан поспешил к оврагу и побежал по его краю в поисках живой души, кого угодно, друга или врага. Вскоре он увидел три мужских трупа на дне, на глубине тридцати футов. Но где же четвертый? В отряде СС должно быть четыре человека. Где-то в сети петляющих притоков, разрезавших пустыню, словно ветвистая молния, Лора пытается спастись от последнего из убийц. В стене оврага Штефан заметил вертикальный желоб, которым кто-то уже явно пользовался; он снял со спины рюкзак и заскользил вниз. По пути он касался спиной склона и чуть не кричал от боли в плече. На дне оврага, преодолевая головокружение и тошноту, он с трудом поднялся на ноги. Где-то в лабиринте ходов раздались автоматные очереди.* * *
Лора остановилась при входе в новый приток и сделала Крису знак молчать. Тяжело дыша, она ждала, когда из-за угла, который они только что обогнули, покажется последний убийца. Несмотря на мягкую почву русла, был слышен топот его бегущих ног. Она выглянула, чтобы поймать его врасплох, и сделала несколько выстрелов. Но на этот раз убийца проявлял особую осторожность, он продвигался, пригибаясь, прячась в углублениях стены. Когда огонь выдал расположение Лоры, он пересек приток и спрятался на той же стороне, где брал начало новый ход лабиринта, в котором притаилась Лора; она могла стрелять по нему без промаха, только если бы вышла из своего укрытия. Она решилась на это и нажала на спусковой крючок «узи» — прозвучала всего одна очередь. «Узи» выплюнул последние десять-двенадцать патронов и смолк. Клитман услышал, что у нее кончились патроны. Он выглянул из щели в стене, где прятался, и увидел, как Лора швырнула на землю автомат. Она скрылась в расщелине, где и поджидала его в засаде. Клитман попытался вспомнить, что он видел в ее «Бьюике» в пустыне: револьвер тридцать восьмого калибра, лежавший на сиденье водителя. Ясно, что она не успела его схватить; к тому же, занимаясь этим странным баллоном в багажнике, она вообще могла забыть о револьвере. У нее было два «узи», а теперь ни одного. Но, может, у нее было два револьвера, и она оставила в машине только один из них? Вернее всего, что нет. Два автомата — это понятно, из них можно вести стрельбу на расстоянии и в самых различных условиях. Что же касается револьвера, то тут надо быть опытным стрелком, иначе от него мало толку, разве что при стрельбе с близкого расстояния, не говоря уже о том, что она может сделать всего шесть выстрелов и в результате или убьет противника, или сама погибнет от его руки. Второй револьвер ей совершенно ни к чему. Так что же у нее есть для самозащиты? Этот баллон? Он походил на обыкновенный химический огнетушитель. Клитман двинулся вслед за Лорой.* * *
Новый приток был уже предыдущего. Он был глубиной двадцать пять футов, всего десять футов шириной и постепенно мельчал и суживался по мере того, как, петляя, поднимался к своему началу. Через сотню ярдов он закончился тупиком. Теперь им надо было каким-то образом выбраться отсюда. Обе стороны оврага были слишком крутыми, а почва слишком мягкой, сыпучей, чтобы по ним можно было подняться наверх, а вот скат впереди, в тупике, был более пологим и порос кустами, за которые можно было ухватиться. Но Лора знала, что не успеют они добраться и до середины ската, как их обнаружит преследователь; и в таком положении, между землей и небом, они будут представлять отличную мишень. Значит, вот оно, место, где она даст свой последний бой Запертая в этой большой естественной канаве, словно на дне громадной могилы на кладбище для гигантов, она с тоской смотрела вверх на кусок синего неба. Судьба стремится восстановить предопределенный ход событии. Она спрятала Криса за спину, в нишу тупика. Перед ней открывался проход шириной в пять футов, по которому они пришли сюда и который тянулся на сорок футов до поворота налево. Через одну-две минуты убийца появится из-за поворота. Она опустилась на колени у баллона с «вексоном», чтобы снять проволоку-предохранитель со спусковой скобы. Но проволочная петля была не просто надета на скобу, а много раз намотана и спаяна. Ее нельзя было размотать, ее надо было разрезать, а у нее не было для этого никакого инструмента. Что, если попробовать камень? Острым камнем можно распилить проволоку, если серьезно взяться за дело. — Найди мне камень, — попросила она Криса. — С острым краем. И пока он искал в мягкой наносной почве, смытой с поверхности пустыни, подходящий камень, она изучала механизм для автоматического выпуска газа. Это было несложное приспособление; к примеру, чтобы установить часовой механизм на двадцать минут, надо было так повернуть циферблат, чтобы цифра «двадцать» совместилась с красной отметкой на ободке циферблата; затем следовало нажать кнопку в центре — и начинался отсчет минут. Проблема состояла в том, что механизм можно было установить не менее чем на пять минут. Убийца явится сюда куда быстрее. И все же Лора повернула циферблат до «пяти» и нажала на кнопку, запустившую механизм. — Вот, мама. — Крис протянул ей камень. И хотя механизм тикал, Лора приступила к работе, изо всех сил перепиливая толстую проволоку, препятствующую выпуску газа вручную. Каждые несколько секунд она поднимала голову, чтобы проверить, не появился ли их преследователь, но в узком ходу никого не было.* * *
Штефан шел по следам, отпечатавшимся в мягкой почве. Он не представлял себе, как далеко от него находились Лора и Крис. Они его опережали всего на несколько минут, но, возможно, двигались быстрее, потому что ему мешали боль в плече, усталость и головокружение. Штефан снял глушитель с пистолета, отбросил его в сторону и заткнул пистолет за пояс. Он взял «узи» на изготовку.* * *
Клитман снял и бросил солнечные очки, потому что в лабиринте расселин было много затемненных мест; по мере продвижения вперед коридоры все более сужались, а стены почти смыкались над головой, пропуская все меньше солнечного света. В мокасины набился песок, в них здесь было так же трудно идти, как и наверху по камням пустыни. В конце концов он остановился, снял ботинки и носки и, оказавшись босиком, почувствовал себя значительно лучше. Он недостаточно быстро, как бы ему хотелось, преследовал женщину с мальчиком, частично из-за мокасин, от которых он теперь избавился, но в основном от того, что на каждом шагу оглядывался назад. Он видел молнию, слышал гром и знал, что Кригер вернулся. Вернее всего, Кригер следовал за ним, так же как он, Клитман, шел по пятам за женщиной и мальчиком. Нет, он не отдаст себя на растерзание этому тигру Кригеру.* * *
Часовой механизм отсчитал две минуты. Столько же времени Лора пилила проволоку, сначала тем камнем, который нашел Крис, а потом еще одним, который он ей дал, когда первый рассыпался на куски. Государство не может выпустить марку, которая будет крепко держаться на конверте; не может построить танк, способный всякий раз успешно переправляться через реку; не может сохранить окружающую среду и покончить с нищетой; но оно знает, где купить вот такую толстую проволоку; должно быть, это какой-то неведомый материал, разработанный для космических кораблей «Шаттл», который теперь используется для более прозаических целей; именно такая проволока пригодилась бы Всевышнему, чтобы укрепить пошатнувшиеся столпы, на которых держится мир. Пальцы у Лоры были стерты до крови, камень стал скользким от нее, но она успела перепилить только половину проволоки, когда босой человек в черных брюках и белой рубашке появился из-за поворота узкого коридора в сорока футах от Лоры.* * *
Клитман с опаской продвигался вперед, удивляясь, какого черта она как безумная возится с этим огнетушителем. Неужели она думает, что струя из огнетушителя остановит его, а ее спасет от автоматной очереди? Или, может быть, это не огнетушитель, а что-нибудь другое? После прибытия в Палм-Спрингс два часа назад он столкнулся с несколькими вещами, которые выполняли функции, не соответствующие их внешнему виду. К примеру, эта красная полоса у края тротуара вовсе не означала «ОСТАНОВКА В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ», как он подумал, а «ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ». Откуда ему было это знать? Откуда можно было точно знать, что это за баллон, с которым она возится? Она подняла голову, взглянула на него и опять занялась огнетушителем. Клитман крался по проходу, который так сузился, что в нем с трудом могли бы разойтись два человека. Он бы не стал рисковать, приближаясь к ней, но он не видел мальчишки. А что, если она его спрятала в какой-нибудь расселине по дороге сюда? Тогда ему придется применить силу, чтобы заставить ее заговорить, так как ему приказано уничтожить их всех — Кригера, женщину и мальчишку. На его взгляд, мальчишка не представлял никакой опасности для рейха, но Клитман был не из тех, кто ставит под сомнение приказы.* * *
Штефан увидел пару брошенных ботинок и вывернутые наизнанку носки. Раньше он уже нашел темные очки. Ему никогда не приходилось преследовать человека, который раздевался в процессе погони, и сначала ему стало смешно. Но потом он вспомнил о том мире, который Лора Шейн изображала в своих романах, мире, где смешное переплетается со страшным, где трагическое часто возникает в гуще комического, и внезапно ощутил страх при виде брошенных ботинок и носков именно потому, что они вызывали смех; у него возникла странная мысль, что стоит ему рассмеяться, как это вызовет смерть Лоры и Криса А если они умрут на этот раз, он уже не сможет их спасти, совершив скачок назад во времени и послав еще одну записку после той предыдущей; слишком мал временной разрыв между этими двумя событиями — всего какие-то пять секунд. Даже компьютер не мог бы помочь ему в этом деле. Следы человека вели к входу в один из боковых коридоров. И хотя от боли в плече Штефан покрылся потом и у него кружилась голова, он пошел по следу, как Робинзон Крузо за Пятницей, только с куда большими опасениями.* * *
В отчаянии Лора наблюдала, как эсэсовец приближается к ней из полумрака земляного коридора. Его «узи» был повернут в ее сторону, но по непонятным причинам он не стрелял. Она использовала эту необъяснимую отсрочку, продолжая изо всех сил перепиливать проволоку на спусковой скобе баллона. Даже в этих обстоятельствах она продолжала надеяться, вспомнив строку из собственной книги: «В горе и отчаянии, когда кажется, что наступила вечная ночь, помни, что за ночью всегда идет день; что день сменяет ночь, а тьму сменяет свет; что смерть правит лишь половиной мироздания, другой половиной правит жизнь». Когда убийца был на расстоянии всего двадцати футов, он спросил: — А где мальчишка? Мальчишка, где он? Она чувствовала тело сына за спиной; он сжался в комок у стены. Защитит ли она его своим телом от пуль, и что, если, расстреляв ее, человек удалится, не догадавшись, что Крис забился в темную нишу позади. Часовой механизм на баллоне щелкнул. Нервный газ вырвался на свободу, распространяя густой запах абрикосов в неприятной смеси лимонного сока с прокисшим молоком.* * *
Клитман не видел бесцветного газа, выходящего из баллона, но услышал звук, подобный шипению змеи. Через мгновение он почувствовал, как чья-то рука, словно клещами, сжала ему желудок и вывернула его наизнанку. Он согнулся, поливая рвотой землю и свои босые ноги. Яркий свет вспыхнул где-то позади глаз, болью сдавило лобные пазухи, кровь хлынула из носа. Уже падая на землю, он нажал на спусковой крючок «узи»; понимая, что умирает и уже не управляет своим телом, он последним усилием воли заставил себя упасть на бок, лицом к женщине, чтобы последняя автоматная очередь забрала ее вместе с ним в иной мир.* * *
Вскоре после того, как Штефан вошел в самую узкую часть земляного коридора, где стены вверху почти смыкались, а не расширялись, открывая доступ солнцу, как в других ходах, он совсем близко услышал длинную автоматную очередь и поспешил вперед. Спотыкаясь, наталкиваясь на стены, он наконец по изгибавшемуся коридору вышел в тупик, где сначала увидел труп эсэсовца, отравленного «вексоном». А потом и Лору, которая сидела на земле, поставив между ног баллон, обхватив его окровавленными руками. Ее голова беспомощно повисла, подбородок упирался в грудь; она была вялой и безжизненной, как тряпичная кукла. — Лора, нет, нет, — сказал Штефан изменившимся голосом, который он сам не узнал. — Нет. Она подняла голову, несколько раз моргнула, вздрогнула и слабо улыбнулась. Жива. — Крис? — спросил Штефан, переступая через мертвого человека. — Где Крис? Лора оттолкнула от себя еще шипевший баллон и отодвинулась в сторону. Крис выглянул из темного углубления позади и сказал: — Мистер Кригер, как вы себя чувствуете? Выглядите вы хреново. Извини, мама, но это факт. Впервые более чем за двадцать лет — или впервые за шестьдесят пять, если считать и те годы, которые он перескочил, когда прибыл к Лоре в ее эпоху, — Штефан Кригер почувствовал на глазах слезы. Он и сам был удивлен, так как считал, что жизнь в «третьем рейхе» навсегда лишила его способности проливать слезы. И, что самое удивительное, эти слезы, первые за десятилетия, были слезами радости.Глава 7. И они жили счастливо много-много лет…
1
Час спустя полиция, обследовав район на шоссе № 111, где было совершено нападение на полицейского патрульной службы, и продвигаясь к северу, обнаружила в стороне от дороги пробитую пулями «Тойоту», кровь на песке и камнях на краю оврага, брошенный «узи», а затем и Лору с Крисом, которые вышли из притока поблизости от «Бьюика» с номерами «Ниссана»: полицейские предположили, что ближайшая местность будет усеяна трупами, и не ошиблись. Первые три они нашли на дне оврага, в сухом русле, четвертый был в отдаленном притоке, куда их направила обессилевшая женщина. В последующие дни она охотно отвечала на все вопросы местных и федеральных властей, но никто не был уверен, что она говорит всю правду. Она объясняла, что торговцы наркотиками, которые год назад убили ее мужа, теперь направили наемных убийц, чтобы покончить и с ней самой, так как опасались, что она может их опознать. Они совершили настоящее вооруженное нападение на ее дом около Биг-Бэр, и она была вынуждена бежать; а в полицию не обратилась, потому что считала, что власти не смогут в полной мере защитить ее и сына. Она скрывалась от преступников пятнадцать дней, переезжая с места на место, с того самого вечера десятого января, первой годовщины смерти мужа, когда они с автоматами атаковали ее дом; несмотря на все меры предосторожности, убийцы нашли ее в Палм-Спрингс, устроили погоню за ней на шоссе № 111, заставили съехать с дороги в пустыню и гнались за ней пешком в лабиринте притоков, пока она не расправилась со всеми ними. Эта история, когда одна женщина расправилась с четырьмя опытными стрелками и по крайней мере еще с одним, чья голова была найдена в проулке за домом Бренкшоу, казалась бы не правдоподобной, если бы Лора Шейн не была отличным стрелком, тренированным знатоком боевых искусств и владелицей целого арсенала незарегистрированного оружия, который мог бы вызвать зависть некоторых стран третьего мира. Во время допроса для выяснения, каким образом она сумела заполучить незаконно переделанные «узи» и нервно-паралитический газ, который хранится в армии под строжайшим контролем, она объяснила: — Я пишу книги. Для этого необходима подготовительная работа. Я научилась добывать любую информацию, как и получать все, что мне нужно. После чего она рассказала им о Толстяке Джеке, и полицейский налет на «Дворец пиццы» полностью, и даже более, подтвердил ее слова. — Я на нее не в обиде, — сказал Толстяк Джек репортерам в связи с его привлечением к суду. — Она мне ничем не обязана. Никто из нас никому ничем не обязан, если только сам того не пожелает. Я анархист, мне нравятся такие женщины, как она. К тому же в тюрьму меня все равно не засадят. Я слишком толстый, я могу там умереть, а это жестоко и несправедливо. Лора отказалась открыть имя раненого человека, которого она ночью одиннадцатого января привезла к доктору Бренкшоу и которому тот оказал помощь. Она только сказала, что это ее близкий друг, который находился с ней в доме у Биг-Бэр, когда на них напали преступники. Он, настаивала Лора, был невинным свидетелем событий, чья жизнь будет разрушена если она его втянет в это грязное дело; она также намекнула, что он женатый человек и что у нее с ним роман. Сейчас он выздоравливав после ранения, он почти поправился, но с неге довольно переживаний. Власти оказывали на Лору сильное давление в связи с этим безымянным возлюбленным, но она стояла на своем, и они ничего не могли до биться, особенно если учесть, что она воспользовалась услугами самых лучших адвокатов в стране. Они не могли поверить, что таинственный незнакомец был ее любовником. Потребовалось провести совсем небольшое расследование, чтобы выяснить, что они с мужем, который умер всего год назад, нежно любили друг друга и что она еще не оправилась после потери, так что вряд ли кто мог поверить, что у нее появился любовник, когда она еще продолжает жить памятью о муже. Нет, она не могла объяснить, почему ни у кого из убитых не оказалось никаких документов, или почему они были одеты в одинаковые костюмы, или почему у них не было собственного автомобиля и им пришлось позаимствовать его у двух женщин, приехавших в церковь, или почему они запаниковали в центре Палм-Спрингс и убили там полицейского. На двух телах, на талии, были обнаружены следы, оставленные чем-то вроде пояса, однако сами пояса обнаружены не были, и она тоже об этом ничего не знала. Откуда знать, повторяла она, отчего подобные люди совершают антиобщественные поступки? Это была загадка, которую не могли разрешить самые опытные социологи и эксперты в области криминологии. И если все эти эксперты не могут пролить свет на подлинные причины подобного антиобщественного поведения, то как она может дать ответ на более простой, но очень загадочный вопрос о том, куда девались пояса? Когда же ей устроили встречу с женщинами, у которых похитили «Тойоту», и те утверждали, что преступники были ангелами, Лора их выслушала с явным вниманием, даже любопытством, широко раскрыв глаза, но потом попросила полицию избавить ее от встреч с глупыми фантазерками, проявляющими интерес к ее делу. Ничто не могло ее заставить сказать лишнее. Она была тверже гранита. Она была крепче железа. Она была как сталь. Она упорно стояла на своем. Власти изо всех сил нажимали на нее, но безрезультатно. По прошествии нескольких дней они начали на нее сердиться. После нескольких недель они были в бешенстве. После трех месяцев они ее ненавидели и мечтали наказать за неуважение к ним. Через шесть месяцев они почувствовали усталость. Через десять месяцев им все надоело. Через год они постарались о ней забыть. Ну а тем временем они выискивали слабое звено, и таковым, по их мнению, являлся ее сын Крис. Они не наседали на него так решительно, как на нее, они прибегли к ласке, хитрости, обману, разным уловкам, чтобы заставить мальчика открыть то, что скрывала его мать. Но когда они расспрашивали о неведомом раненом человеке, он в ответ рассказывал им разные истории о героях мультиков и детских фильмов. Когда же они пытались выудить у него подробности событий в пустыне, он долго им рассказывал о сэре Томми-жабе, верном слуге Королевы, который снимал у них в доме комнату. Когда они пытались услышать хотя бы слово о том, где они с матерью прятались и что делали эти шестнадцать дней с десятого по двадцать пятое января, мальчик сказал: — Я все это время проспал, я был в коме, и еще у меня была, как это называется, потеря памяти. В конце концов, в отчаянии от их непонятливости, он сказал: — Видите ли, это наше семейное дело. Разве вы не знаете, что это такое? Я могу говорить об этом только с мамой и ни с кем другим. Если обсуждать семейные дела с посторонними, то скоро у вас не будет дома. Кто вас тогда поддержит? Ситуация для властей еще более усложнилась, когда Лора Шейн принесла публичные извинения всем, чьей собственностью она воспользовалась или чью собственность повредила, скрываясь от преследовавших ее наемных убийц. Семье, у которой она похитила «Бьюик», она подарила «Кадиллак». Владельцу «Ниссана», у которого позаимствовала номера, она подарила новый «Ниссан». В каждом случае возмещение многократно превышало первоначальную потерю, что значительно увеличило число друзей Лоры. Ее книги без конца допечатывались, и некоторые вошли в список бестселлеров в мягких обложках спустя годы после их первого успеха. Ведущие киностудии конкурировали между собой, стараясь заполучить права на те немногие Лорины книги, которые еще не были экранизированы. Ходили слухи, возможно распространяемые ее собственным литературным агентом, но, вернее всего, соответствующие действительности, что многочисленные издательства предлагали ей выплатить рекордно высокий аванс за ее новый роман.2
Весь этот год Штефан Кригер страшно скучал по Лоре и Крису, хотя жизнь в доме Гейнсов в Беверли-Хиллз была весьма приятной. Обстановка была роскошной, еда удивительно вкусной, Джейсон с удовольствием учил его монтировать фильмы в домашней киностудии, а Тельма никогда не теряла чувства юмора. — Послушайте, Кригер, — как-то обратилась она к нему, когда в летний день они сидели у бассейна. — Может, вам хочется быть с Лорой, может, вам надоело здесь прятаться, но учтите все «за» и «против» и прежде всего благодарите Бога, что вы не застряли в своей собственной эпохе, без пластиковых мешков для мусора, микроволновых печей, цветных телевизоров и фильмов с Тельмой Аккерсон. Вам повезло, что вы очутились в таком просвещенном обществе. — Дело в том… — Штефан некоторое время смотрел на блики, которые солнце зажигало на поверхности бассейна. — Боюсь, что за год разлуки я потеряю всякую надежду завоевать ее сердце. — Вы не можете завоевать Лору, герр Кригер. Она ведь не приз на скачках. Такую женщину, как Лора, нельзя завоевать. Она сама решает, когда сдаться, и тут ничего не поделаешь. — Вы меня не слишком обнадеживаете. — Это не моя специальность. — Я знаю… — У меня одна специальность — это смешить. Хотя с моей потрясающей внешностью я, пожалуй, могла бы иметь успех в качестве шлюхи, но разве только в самых отдаленных поселках лесорубов.* * *
На Рождество Лора и Крис приехали погостить у Гейнсов, и подарком Лоры Штефану были удостоверяющие личность документы. Хотя весь год она находилась под пристальным наблюдением различных властей, она сумела окольными путями раздобыть водительские права, удостоверение о социальном страховании, кредитные карточки и паспорт на имя Стивена Кригера. Она преподнесла их ему в рождественское утро. — Все документы в порядке. В «Бесконечной реке» два моих героя скрываются от полиции, им нужны новые документы и… — Я знаю, — сказал Штефан. — Я читал книгу. Три раза. — Три раза одну и ту же книгу? — поразился Джейсон. Они сидели на полу у елки, ели сладости и печенье, пили какао, и Джейсон без конца шутил. — Лора, берегись этого типа. Он явно одержимый. — Ну, конечно, — заметила Тельма, — для вас, голливудских типов, тот, кто прочел хотя бы одну книгу, это уже гигант мысли или по крайней мере психопат. А теперь, Лора, открой нам, как тебе удалось завладеть всеми этими поддельными бумагами, которые не отличаются от настоящих? — Они не поддельные, — сказал Крис. — Они настоящие. — Он прав, — подтвердила Лора. — Водительские права и все остальное зарегистрировано законными властями. Когда я работала над «Бесконечной рекой», я выяснила, что надо делать, чтобы получить новые документы, и разыскала очень интересного человека в Сан-Франциско, у него целая фабрика по производству таких бумаг в подвале под ночным клубом, где выступают ничем не прикрытые девочки. — Что, в клубе нет крыши? — поинтересовался Крис. Лора взлохматила ему волосы и продолжала: — Это еще не все, Штефан, у меня есть для вас две чековые книжки. Я открыла счет на ваше имя в двух банках — «Секьюрити Пасифик» и «Грейт Вестерн Сейвинге». Штефан заволновался. — Я не могу принимать от вас деньги. Я… — Вы спасли меня от инвалидного кресла, вы столько раз спасали мне жизнь, я имею право, когда мне захочется, дарить вам деньги. Ну скажи мне, Тельма, что это за человек? — Он мужчина, — ответила Тельма. — Наверное, это все объясняет. — Волосатый мужественный неандерталец, — продолжала Тельма, — обезумевший от избытка половых гормонов, живущий воспоминаниями о былой охоте на мамонтов. Они все такие. — Мужчины, — сказала Лора. — Мужчины, — подтвердила Тельма. В конце февраля следующего года, через тринадцать месяцев после событий в пустыне около Палм-Спрингс, Лора пригласила Штефана погостить у них с Крисом в доме у Биг-Бэр. Он приехал на следующий день на красивой русской спортивной машине, на покупку которой потратил часть денег, подаренных ему Лорой. Следующие семь месяцев он ночевал в комнате для гостей. Все ночи без исключения. Этого ему было вполне достаточно. Просто быть вместе с ними, день за днем, постепенно становиться своим человеком, членом семьи, этой любви ему было пока достаточно. В середине сентября, через двадцать месяцев после того, как Лора нашла его на пороге раненого и без сознания, она пригласила его к себе в спальню. Через три ночи он нашел в себе мужество прийти.3
В тот год, когда Крису исполнилось двенадцать, Джейсон и Тельма купили загородный дом в Монтеррее, на самом прекрасном побережье в мире, и настояли, чтобы Лора, Штефан и Крис провели с ними август, когда они оба свободны от работы над фильмами. Утренние часы на полуострове Монтеррей были прохладными и туманными, дни теплыми и ясными, ночи, несмотря на сезон, очень холодными, и подобная смена температуры действовала освежающе. Во вторую пятницу месяца Штефан и Крис вместе с Джейсоном отправились на прогулку по пляжу. На камнях неподалеку от берега морские львы грелись на солнце и громко ревели. Машины туристов выстроились бампер к бамперу на дороге, идущей вдоль пляжа; сами они с опаской спускались вниз на песок, чтобы сфотографировать нежившихся на солнце морских львов, которых они почему-то называли тюленями. — С каждым годом, — сказал Джейсон, — тут все больше иностранных туристов. Это настоящее нашествие. И заметьте, это в основном японцы, немцы или русские. Всего полвека назад мы вели против этих трех стран самую большую войну в истории человечества, а теперь они куда богаче нас. Японская электроника и автомобили, русские автомобили и компьютеры, немецкие автомобили и высококачественные станки… Иногда мне кажется, Штефан, что американцы часто лучше относятся к своим прежним врагам, чем к старым друзьям. Штефан остановился, чтобы посмотреть на морских львов, которые вызывали такой интерес у туристов; он думал о той ошибке, которую допустил при встрече с Черчиллем. «Ответьте хотя бы на один мой вопрос. Я сгораю от любопытства. Ну, к примеру, что будет с Советским Союзом после войны?» Старый лис спросил об этом как бы между прочим, как если бы вопрос внезапно пришел ему в голову, как если бы он спросил, изменится ли в будущем фасон мужских костюмов; в действительности же вопрос был глубоко продуман, а ответ представлял для него огромный интерес. Руководствуясь ответом Штефана, Черчилль убедил западных союзников продолжить войну в Европе после поражения Германии. Западные союзники выступили против Советского Союза под предлогом того, что он захватил часть Восточной Европы, заставили Советский Союз отступить за свои границы и в конце концов одержали над ним полную победу; в течение всей войны с Германией Советский Союз получал вооружение и продовольствие от Соединенных Штатов и, как только лишился этой поддержки, через несколько месяцев потерпел поражение. Ведь он уже был истощен войной со своим прежним союзником Гитлером. Современный мир сильно отличался от того, каким его запланировала судьба, и все потому, что Штефан дал ответ на тот вопрос Черчилля. В отличие от Джейсона и Тельмы, Лоры и Криса, Штефан не принадлежал к этому времени; судьба не предназначала его для этой эпохи; годы после окончания войн были для него будущим, в то время как эти же годы для остальных были прошлым; таким образом, Штефан помнил и то будущее, которое некогда было, и то, которое возникло на месте прежнего. Джейсон и Тельма, Лора и Крис не знали другой Вселенной, кроме той, где великие державы жили в мире друг с другом; где не было огромных, готовых к использованию ядерных арсеналов; где демократия царила повсюду, даже в России, мирной и процветающей. Судьба стремится восстановить предопределенный ход событий. Но иногда, к счастью, ей это не удается.* * *
Лора и Тельма сидели в креслах-качалках на веранде и следили, как их мужчины шли вдоль берега по пляжу, пока не исчезли из виду. — Ты счастлива с ним, Шейн? — Он грустный человек. — Но очень хороший. — Он никогда не заменит Дании. — Но Данни не вернуть. Лора кивнула. Они продолжали качаться в качалках. — Он говорит, что я сделала из него нового человека. — Как папа Карло сделал Буратино. Наконец Лора сказала: — Я его люблю. — Я знаю, — ответила Тельма. — Я никогда не думала, что я опять… смогу таким образом полюбить мужчину. — Каким это образом, Шейн? Ты имеешь в виду какую-нибудь новую замысловатую позицию? Очнись, Шейн, ты приближаешься к среднему возрасту, еще немного, и тебе стукнет сорок. Не пора ли образумиться и позабыть о разврате? — Ты неисправима. — Верно. Но я стараюсь исправиться. — А ты как, Тельма? Ты счастлива? Тельма похлопала себя по большому животу. Она была на восьмом месяце беременности. — Я же тебе говорила, что это может быть двойня. — Да, говорила. — Двойняшки, — благоговейно повторила Тельма. — Представляешь, как бы обрадовалась Рут. «Судьба стремится восстановить предопределенный ход событий, — подумала Лора. — И иногда, к счастью, ей это удается». Они некоторое время сидели в согласном молчании, вдыхая чистый морской воздух, слушая, как ветер шумит в соснах и кипарисах Монтеррея. Немного погодя Тельма спросила: — Ты помнишь тот день, когда я приехала к тебе в горы, а ты упражнялась в стрельбе на заднем дворе? — Помню. — Когда ты что было мочи палила по мишеням. Ощерившись, угрожая всем и каждому, кто посмеет тебя потревожить, рассовав повсюду револьверы. Тогда ты мне сказала, что всю жизнь терпела и покорялась судьбе, а теперь этому пришел конец; что ты будешь бороться за свое счастье. Ну и злющая ты была в тот день, Шейн, ожесточенная. — Это правда. — Я знаю, что ты по-прежнему умеешь терпеть. И я знаю, что ты по-прежнему можешь за себя постоять. Мир по-прежнему полон смерти и горя. И несмотря на это, в тебе нет больше ожесточенности. — Это так. — Почему? Открой секрет. — Дело в том, что я узнала еще одну, третью истину. В детстве я научилась терпеть. После гибели Данни я научилась бороться. Я по-прежнему стоик и борец, но теперь я также научилась принимать судьбу. Судьба, она есть. — Звучит как восточная мистическая трансцендентальная чепуха. Судьба, она есть. Господи! Сейчас ты пригласишь меня пропеть мантру, а затем созерцать пупок. — Куда тебе, Тельма, с двойняшками в животе, — заметила Лора, — ты и пупка-то не увидишь. — Нет, увижу, только для этого мне нужно зеркало. Лора рассмеялась. — Я люблю тебя, Тельма. — Я тоже люблю тебя, сестренка. Они молча раскачивались в качалках. Внизу на пляже начался прилив.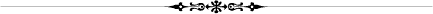
ПОЛНОЧЬ (роман)
Размеренная жизнь маленького курортного городка Мунлайт-Ков неожиданно превращается в кошмар. За короткое время десятки его обитателей становятся жертвами загадочных зверских убийств. «Раскручивая» это дело, тайный агент ФБР выясняет, что убийцы — монстры, созданные «злым гением» ученого-компьютерщика, одержимого маниакальной идеей стать властелином человечества.
Часть I. НОЧЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
Созданья полночи там кружат в темноте под звуки им одним лишь ведомых мелодий.Книга печалей
Глава 1
Шесть миль каждый вечер. Двадцать лет подряд. Джэнис Кэпшоу считала, что выглядит лет на десять моложе в свои тридцать пять именно благодаря этому. Итак, почти каждый вечер часов в десять-одиннадцать на ней уже был спортивный костюм со светоотражающими полосками на груди и на спине, кроссовки «Нью Бэлэнс», на голове — лента для волос. В воскресенье, 21 сентября, Джэнис вышла из дома в десять часов и пробежала четыре квартала по Оушн-авеню, главной улице городка Мунлайт-Ков. Дальше она, как всегда, свернула налево и продолжала бег вдоль побережья по направлению к городскому пляжу. В этот час здесь было пустынно и мрачно — ни машин, ни прохожих. Все было закрыто, кроме двух заведений, где никогда не запирали двери, — таверны «Рыцарский мост» и костела Девы Марии. Городок Мунлайт-Ков в отличие от многих других не делал ставку на туристов. Когда-то размеренность здешней жизни даже привлекала внимание Джэнис, но затем ей иногда стало казаться, что город не просто дремлет, а впадает в летаргию. Янтарь фонарей, оправленный в тень кипарисов и сосен на главной улице, неподвижный воздух и туман, струящийся над мостовой, — больше никого и ничего. Джэнис казалось, что она — последний человек на Земле и только звуки ее шагов и дыхание нарушают тишину, наступившую после Страшного Суда. Когда бежишь утром, перед работой, — совсем не то ощущение, к тому же летом к десяти вечера спадает жара. Но не это было главным для Джэнис. Просто она всегда любила ночь. Это началось еще в детстве, когда она научилась наслаждаться после заката звездным небом, пением лягушек и цикад. Темнота сглаживала острые углы этого мира, приглушала краски. В сумраке наступающей ночи небо поднималось высоко над землей, мир расширялся. Ночь была больше, чем день, и казалось, что в жизни сбудется больше желаний. Теперь путь ее лежал по берегу моря. Лунный свет, переливающийся то золотом, то серебром, в этот вечер почти не заслоняли ни облака, ни туман; она могла видеть все перед собой. Таинственные огоньки плясали на волнах, полоса песка, казалось, сама светилась лунным светом, и даже туман похитил у осенней луны часть ее отблесков. Только здесь, у ночного моря, в одиноком беге вдоль полосы прибоя Джэнис обретала себя. Ричард — ее покойный муж,умерший от рака три года назад, — часто говорил, что по своим биоритмам она даже больше чем «сова». «Из тебя мог бы выйти неплохой вампир, для них ночью — раздолье», — шутил он, а она всегда отвечала: «Во всяком случае, я буду сосать не твою кровь». Видит Бог, она любила его. Сначала, правда, опасалась, что у жены лютеранского пастора будет скучная жизнь, но опасения ни разу не оправдались. Прошло три года, а она вспоминает его каждый день. И каждую ночь. Он был… Внезапно Джэнис почувствовала, что она не одна на пустынном пляже. Это случилось в тот момент, когда она миновала кипарис, росший прямо в центре пляжа между линией берега и холмами. Нет, никаких звуков и движений, кроме собственных, она не заметила, только инстинкт подсказал ей — кто-то нарушил ее одиночество. В первый момент тревоги не возникло, на пляже мог появиться еще один любитель вечерних пробежек. Так бывало изредка, раза два-три в месяц, правда, люди выбирали это время не по своей воле, в отличие от Джэнис. Но когда она остановилась и оглянулась назад, то увидела все тот же пустынный пляж, пену прибоя и мрачные, но знакомые деревья и скалы. Тишину нарушал лишь рокот волн. Для беспокойства не было причин, и Джэнис продолжила бег, восстанавливая свой обычный темп. Через пятьдесят ярдов, однако, краем глаза ей удалось заметить какое-то движение: футах в тридцати слева от нее быстрая тень переместилась из-за кипариса к каменной глыбе и скрылась из виду. Джэнис повернула назад, осторожно пошла к камню. Судя по мимолетному впечатлению, тень была ростом выше собаки, возможно, человеческого роста, что-то еще понять было трудно, слишком быстро все произошло. Глыба, к которой она приближалась, имела футов двадцать в длину и от четырех до десяти футов в высоту — при желании за ней мог спрятаться кто угодно. — Кто здесь? — Джэнис не ждала ответа и не получила его. Страха не было, только беспокойство. Скорее всего ей что-то померещилось. Или на пляж выскочила чья-то собака. Хотя собака подбежала бы к ней. Не видя вокруг никаких признаков опасности, Джэнис испытывала только любопытство. Ночная свежесть давала о себе знать. Она решила пробежаться на месте и подождать развития событий. Кстати, неподалеку у Фостеров была конюшня. Она находилась в двух с половиной милях от южной оконечности бухты, и одна из лошадей вполне могла прибежать оттуда. Судя по росту, даже не лошадь, а пони. Но почему не было слышно топота копыт? Конечно, это была лошадь, надо будет добежать до Фостеров и сообщить им о пропаже. За камнем, куда заглянула Джэнис, ничего не было, лишь лунные тени причудливо затаились возле расщелин. Сущая ерунда. Никакой опасности. Это какой-нибудь любитель бега или случайное животное. В Мунлайт-Кове всегда царило спокойствие. У полиции не было забот, если не считать мелких краж и хулиганства, да еще аварий. В этом городе как будто не доросли до грехов, изнасилований и убийств, которые уже познала остальная часть Калифорнии. Джэнис вернулась к берегу — от сердца отлегло, просто луна и туман сыграли с ней глупую шутку. Туман сгущался, но она решила пробежать до конца свой обычный маршрут, надеясь вернуться на Оушн-авеню еще до того, как белая мгла накроет весь пляж. Ветер, налетевший с моря, набросился на туман и взбил его в плотную молочную пену. В тот момент, когда Джэнис достигла южного края бухты, ветер уже взялся за волны и бросал их одну за другой на волнорез, продолжавший линию берега. На двадцатифутовой высоте волнореза кто-то стоял и взирал сверху на Джэнис. Она увидела этот силуэт во всполохе тумана, в лунном свете. Теперь ужас охватил ее. Черты лица было не различить, хотя незнакомец стоял прямо перед ней. Если туман не обманывал зрение, росту в нем было футов шесть. Но на незримом лице его она видела глаза, и глаза эти внушали ей ужас. Янтарно-желтый блеск их был сродни глазам зверя, вырвавшегося на полночную дорогу в свет фар. Взгляд этих глаз сковал Джэнис. Должно быть, древние идолы — воплощения дьявольского культа — так же светились в лунном свете желтыми углями глаз. Море, беснуясь, старалось коснуться идола тысячами своих рук. Надо было отворачиваться и бежать, но ноги приросли к песку, ночные ужасы крепко вцепились в ее тело. Не сон ли это, не ночной ли кошмар, нельзя ли проснуться от него в своей постели, в тепле и безопасности? В этот миг незнакомец издал странный протяжный вопль, в этом крике жалобная нота смешалась с угрозой, и был холод, холод… Он сдвинулся с места. Спускаясь с волнореза, этот некто приближался к ней на четырех лапах, в движениях была нечеловеческая, кошачья ловкость. Еще секунда — и он настигнет ее. Очнувшись от оцепенения, Джэнис бросилась назад, к спасительному выходу с пляжа, но до него была целая миля. Окружавшие бухту дома с ярко светящимися окнами имели выход прямо к морю, но в такой темноте Джэнис не была уверена, что сможет найти ведущие к ним ступени. На крик она сил не тратила, не надеясь, что кто-то услышит, но опасаясь, что крик может стать последним в ее жизни, стоит лишь слегка ослабить темп. Двадцать лет ежедневного бега спасали ей раньше здоровье, сейчас они могли спасти жизнь. Тело не подводило Джэнис: оно послушно служило спринтерской гонке. Ей бы только добраться до Оушн-авеню, там при свете фонарей на главной улице ей ничто не будет угрожать. С высоты небес вдруг начал изливаться странный пульсирующий свет. Луна подмигивала и посылала в туман все новые призраки, окружавшие Джэнис со всех сторон, бежавшие с нею наперегонки. Погоня все больше походила на сон из-за причуд лунного света, но Джэнис знала: во сне ли, наяву ли, там, сзади, в ее плечо упирается взгляд янтарно-желтых глаз. Уже осталась половина пути до Оушн-авеню, уже она была уверена в близости спасения, как вдруг двановых призрака возникли из тумана. Нет, это были не призраки. Один из них двигался футах в двадцати справа, бежал, как человек, на двух ногах; второй скакал слева на четырех лапах и был еще ближе к ней, роста он был человеческого, но нечеловеческой, звериной была грация его прыжков. Ничего больше не могла разобрать Джэнис, только видела, как светились их глаза. Инстинкт подсказывал Джэнис, что ни один из этих двоих не был незнакомцем с волнореза. Тот, третий, так и бежал сзади. Она знала это и знала — они окружают ее. Ей было не до догадок, можно будет потом подумать об этих странных вещах. Сейчас она просто принимала все как есть; глубоко веря в Бога, она всегда допускала существование неземного и невозможного в этой жизни. Страх, который сковывал ее прежде, теперь придавал ей силы — она ускорила бег. То же самое сделали ее преследователи. Услышав жалобный стон, она с трудом узнала в нем свой собственный голос. К ее ужасу, этому стону стали вторить завывания призраков. Гортанные, протяжные звуки, то низкие, то высокие, казалось, раздавались в предвкушении близкой расправы. Хуже того, в диких воплях Джэнис вдруг разобрала слова, обрывки грязных слов: — Поймаем суку, поймаем суку… Кто же они? Не люди, но говорят и двигаются по-человечески. Так кто же они, если не люди? Сердцу стало тесно в груди. — Поймаем суку… Они все ближе, и ей не вырваться из их тисков. Джэнис бежала, не поднимая глаз, Джэнис бежала, ибо знала — вид преследователей добьет ее, обдаст холодом, бросит на песок. И она была брошена на песок. Кто-то налетел на нее сверху; она почувствовала, что все трое навалились, рвали в клочья одежду, касались ее. Луна исчезла за облаками, и призрачные тени спрятались в темноте. Лицом Джэнис уткнулась в песок, ей удалось издать еще один крик, похожий на стон, она задыхалась. Беспорядочно отбиваясь руками, она с каждой секундой все больше понимала бессмысленность сопротивления. Мрак покрыл землю, луна погасла. С Джэнис сорвали костюм, треск материи отозвался больно в спине, и она вдруг осознала, что грубые руки, занесенные над ней, принадлежат человеческому существу. Тяжесть на мгновение ослабла, из последних сил Джэнис рванулась вперед, но была настигнута вновь. Теперь лицо ее омывал морской прибой. Хаос звуков, стонов, причитаний, лая и воплей поднимался над ночным берегом, и в этом хаосе кружились обрывки слов: — …поймаем ее, поймаем ее… — …хочет, хочет этого, хочет этого… — …теперь, теперь, быстрей, теперь, быстрей, быстрей… С нее сорвали остатки одежды, она уже не понимала, что хотят с ней сделать, насилие это, убийство или ни то, ни другое. Она лишь чувствовала — призраки эти находятся во власти чудовищной, неутолимой жажды, ибо ночь была пронизана этой жаждой так же, как туманом и мраком. Один из них пригнул ей голову, вдавил в песок — морская вода теперь не давала дышать. Она знала, что умрет, что скована и беспомощна, она умрет, и все из-за этих шести миль каждый вечер.Глава 2
В понедельник, 13 октября, двадцать два дня спустя после смерти Джэнис Кэпшоу, Сэм Букер ехал в городок Мунлайт-Ков, сидя за рулем автомобиля, нанятого им в международном аэропорту Сан-Франциско. По дороге он затеял жестокую и слегка забавную игру с самим собой: он начал составлять в уме список причин, по которым ему хотелось бы еще пожить на белом свете. Хотя ехал он уже часа полтора, в голову ему пришли всего четыре вещи: пиво «Гиннес», хорошая мексиканская кухня, Голди Хоун и страх смерти. Густое, темное ирландское пиво нравилось ему всегда и всегда доставляло краткое утешение от жизненных скорбей. Труднее было найти хороший ресторан с мексиканской кухней, значит, и утешиться было труднее. В Голди Хоун он был просто влюблен, вернее, не в нее, а в ее шикарный образ на экране, потому что она на самом деле была красавица и умница, простая и сложная одновременно, и чертовски хорошо умела играть в веселую игру жизни. Правда, шансов лично познакомиться с Голди Хоун у него было в миллион раз меньше, чем найти хороший мексиканский ресторан в калифорнийской дыре, названной Мунлайт-Ковом. К счастью, Голди не была единственной причиной, по которой стоило жить, и Сэм был доволен. На подъезде к городу дорогу обступили высокие сосны и кипарисы, образуя серо-зеленый тоннель, расцвеченный мягкими предвечерними тенями. День был безоблачный, но какой-то странный: небо словно выцвело на солнце, в нем не было той кристально чистой голубизны, к которой он привык в Лос-Анджелесе. И хотя было под двадцать градусов тепла, яркое солнце будто заморозило пейзаж вдоль дороги, и он застыл, скованный, точно зимой. Страх смерти. В его списке это была самая веская причина. Сэму было сорок два, рост пять футов одиннадцать дюймов, вес сто семьдесят футов, здоровье — слава Богу, но он уже шесть раз успел заглянуть в лицо смерти, видел это проклятое дно, и его не тянуло нырять туда снова. На правой стороне дороги появился указатель: ОУШН-АВЕНЮ, МУНЛАЙТ-КОВ, 2 МИЛИ. Сэм не боялся болей, связанных со смертью, терпеть-то он умел. Он не боялся уйти из жизни, не закончив дел; уже многие годы он никуда не рвался, ни о чем не мечтал, цели не было, не было смысла. Но Сэм боялся того, что будет после смерти. Пять лет назад, скорее мертвый, чем живой, лежа без сознания на операционном столе, он был совсем рядом со смертью. Пока хирурги пытались его спасти, он освободился от своего тела и с потолка наблюдал за своими бренными останками. Затем он ощутил себя летящим в тоннеле навстречу ослепительному свету: все было похоже на яркую и страшную рекламную картину — картину смерти. В самый последний момент ловким хирургам удалось затащить его обратно в страну живых, но прежде Сэм успел заглянуть туда, где кончается тоннель. То, что он увидел, напугало его на всю оставшуюся жизнь. Теперь Сэм предпочитал любую передрягу в этой жизни той последней смертельной картине. Вот и въезд на Оушн-авеню. На пересечении дороги с шоссе Пасифик-Коаст еще один указатель: МУНЛАЙТ-КОВ, 0,5 МИЛИ. В закатных лучах показались между деревьев первые дома городка, остатки солнца желтели в их окнах. Форма крыши, обилие деревянных деталей на некоторых домах свидетельствовали о причудах архитектора, занесшего в 40–50-х годах тяжеловесный баварский стиль на калифорнийское побережье, другие постройки представляли собой бунгало во французском стиле со множеством украшений в стиле рококо. Остальные появились в последнее десятилетие, сияли множеством окон и выстроились вдоль берега, словно лайнеры, причалившие к зелени побережья со стороны суши. Сэм пересекал деловой квартал Оушн-авеню, когда его посетило странное чувство — в этом городке что-то было не так. Вроде бы все как обычно — рестораны, таверны, магазины, две церкви, городская библиотека, кинотеатр, но Сэм не мог избавиться от непривычного, холодящего ощущения. Он не мог объяснить себе причин этого чувства, возможно, виновата была печальная игра света и тени на закате осеннего дня. Католический собор выглядел мрачным сооружением, воздвигнутым вовсе не для людей, один из магазинов, казалось, выцвел на солнце до белизны скелетных костей, а окна остальных домов были как бы занавешены белесыми отблесками, будто люди там занимались чем-то запретным. Тени лежали на земле странно резкие, словно их прочертил кто-то по невидимой линейке. Сэм притормозил у перекрестка, и ему представилась возможность рассмотреть вблизи жителей городка. Их было в этом месте человек восемь-десять, но и они поразили Сэма, в них тоже было что-то не так. Люди шли по улице, сосредоточенные на чем-то, куда-то спешили, заведенные какой-то посторонней силой, и их рвение никак не сочеталось с образом сонного приморского городка в три тысячи душ. Сэм вздохнул и поехал дальше по Оушн-авеню, объясняя свои чувства разыгравшимся воображением. Мунлайт-Ков и его обитатели наверняка показались бы ему самыми обычными, если бы он был в этом городке проездом. Сейчас он приехал сюда из-за странных событий, случившихся здесь недавно, и это невольно накладывало на город мрачный отпечаток. Так успокаивал он себя, но была одна вещь, которая опрокидывала все его доводы. В Мунлайт-Кове умирали люди, а официальные версии их смерти никуда не годились. Так вот, у Сэма было предчувствие, что истинная причина их смертей таит в себе нечто необычное и пугающее. За долгие годы он привык доверять своим предчувствиям, это не раз спасало ему жизнь. Сэм припарковал свой «Форд» напротив магазина подарков. К западу от этого места, на краю грифельно-серого моря, бледное солнце опускалось за горизонт, медленно окрашивая небо в грязно-красный цвет. От воды к земле протянулись длинные тонкие щупальца тумана.Глава 3
Крисси Фостер сидела на полу в кухонной кладовке, прислонившись спиной к шкафу с провизией, и рассматривала часы на своей руке. В тусклом свете лампочки, подвешенной под потолком, можно было разглядеть, что за время, проведенное ею в этой маленькой комнате без окон, минутная стрелка успела уже сделать девять кругов по циферблату. Крисси получила эти часы в подарок на день рождения, когда ей исполнилось одиннадцать лет. Это было четыре месяца назад, и тогда они ей страшно понравились, так как это были вовсе не детские часы с персонажами из мультфильмов на циферблате; нет, это были аккуратные, почти дамские часики в позолоченном корпусе, с римскими цифрами, похожие на часы «Таймекс», которые носила ее мать. Но теперь их вид вызывал у Крисси печаль. Эти часы олицетворяли времена счастья и дружбы в их семье, которые миновали навсегда. К грусти, одиночеству и усталости от долгих часов в заточении добавлялся страх. Страх, оставшийся после утренних ужасных событий, когда отец протащил ее через весь дом и запер в кладовке. В тот момент слез и истерики она была на вершине ужаса от происходящего. От того, что стало с ее родителями. Смертельный ужас не мог длиться долго, постепенно он уступил место лихорадке страха, бросающей то в жар, то в холод, то в головную боль и тошноту, — так чувствуешь себя в начале простуды. Что они сделают, когда выпустят ее отсюда? Крисси была вполне уверена в ответе на этот вопрос: они собираются превратить ее в одну из себе подобных. Вот только как они это сделают и в кого же она превратится? Она знала, ее отец и мать уже не были обычными людьми, они были другими, но передать словами это отличие Крисси была не в силах. Последнее обстоятельство ее особенно удручало, слова были ее любимой игрой, она верила в их силу. Читала все, что попадалось под руку: стихи, рассказы, романы, газеты, журналы и даже наклейки на банках с продуктами. Миссис Токава, ее учительница в шестом классе, говорила, что она читает, как десятиклассница. Крисси любила выдумывать и записывать придуманные истории. Решила, когда подрастет, писать романы, как Пол Зиндел или хотя бы как Дэниэл Пинкуотер, хотя больше всего ей нравился Андре Нортон. Теперь было не до слов: воображаемая жизнь, кажется, так и останется лишь ее фантазией. Эта потеря сладкой мечты пугала Крисси не меньше, чем перемены в ее родителях. За восемь месяцев до своего двенадцатилетия Крисси в полной мере постигла непредсказуемость жизни и, конечно, была не готова к этому печальному опыту. Ну нет, она еще постоит за себя. Пусть только попробуют сунуться со своими превращениями. В кладовке вполне можно найти какое-нибудь оружие, стоит только поискать на полках; этим Крисси и занялась, когда слезы высохли. Среди банок, коробок, стирального порошка и всякой всячины нашлось то, что ей было нужно. Великолепная вещь — WD-40 — аэрозоль с машинным маслом. Как раз подходящего размера, можно спрятать на себе. Если застать врасплох и брызнуть в глаза, есть шанс от них удрать. В газетах написали бы крупными буквами: «НАХОДЧИВАЯ ДЕВОЧКА СПАСАЕТ СЕБЯ С ПОМОЩЬЮ БАЛЛОНЧИКА С ОБЫЧНЫМ МАШИННЫМ МАСЛОМ». С WD-40 в руках Крисси была гораздо спокойнее. Перед глазами все время возникал образ отца, когда он запирал ее в кладовке. Такое не забывается — дикие глаза, раздутые ноздри, оскаленные зубы; багровое лицо было искажено злобной судорогой. «Я еще вернусь за тобой, — крикнул он, брызжа слюной, — я еще вернусь!» Он закрыл дверь, использовав вместо засова ножку стула. Когда в доме стало тихо, Крисси попыталась открыть дверь, но она не поддалась ни на миллиметр. Я еще вернусь, я вернусь. Крисси вспомнила ужасного Хайда, описанного Стивенсоном в истории про доктора Джекила. У отца были такие же искаженные черты, глаза, налившиеся кровью. Он сумасшедший — ее отец; он уже совсем не тот человек, каким был когда-то. Еще ужаснее было воспоминание о том, что она увидела, когда пропустила школьный автобус и застала родителей врасплох в холле наверху. Нет. Они не были больше ее родителями. Они были… чем-то иным. Крисси содрогнулась. Встряхнула баллончик с WD-40. Внезапно на кухне послышался шум, хлопнула дверь черного хода. Шаги. Их двое, трое, может быть, четверо. — Она здесь, — голос отца. Сердце Крисси замерло, затем пустилось в галоп. — Быстро не получится, — сказал третий. Крисси никогда раньше не слышала этот низкий, слегка хриплый голос. — Видите ли, с детьми хлопот куда больше. Шаддэк даже не уверен, что мы готовы совершить это с ребенком. Большой риск. — Она должна пройти через обращение, Такер. — Это голос матери, Шэрон, хотя и звучит необычно. В нем совсем нет той мягкости, тех музыкальных нот, нет тех волшебных интонаций, с которыми она когда-то читала Крисси сказки. — Конечно, она должна через это пройти, — согласился незнакомец, которого, очевидно, звали Такер. — Я согласен. И Шаддэк согласен, он за тем и прислал меня сюда. Я просто сказал, что это отнимет больше времени, чем обычно. Понадобится место, где мы сможем связать ее и наблюдать за ней во время обращения. — Можно пройти сюда. Наверху ее спальня. Обращение. Крисси била дрожь, но она поднялась на ноги и встала напротив двери. Снаружи раздался грохот — стул отбросили в сторону. Баллончик был уже наготове, оставалось только нажать на распылитель. Дверь открылась, прямо перед Крисси стоял отец. Алекс Фостер. Крисси пыталась думать о нем просто как об Алексе Фостере. Но тот, кто стоял перед ней, выглядел совсем другим человеком. В нем уже не было ярости; светлые волосы, широкое лицо с крупными чертами, россыпь веснушек на щеках и носу напоминали отца, но глаза… они были чудовищно другими. В них светилось странное желание, острое, жадное. Голод. Да, точно. Отец казался голодным… измученным голодом, снедаемым этим чувством, сжигаемым… но совсем не еды он жаждал. Шестым чувством Крисси осознала эту жажду в напряженных мускулах его лица, эта жажда так распалила его, что, казалось, жар волнами поднимается над ним. Она услышала: «Выходи, Кристина». Крисси сжалась, заморгала, словно собираясь заплакать, притворилась, что дрожит, что напугана, что покорилась. Сделала несколько осторожных шагов. — Ну давай же, давай! — нетерпеливо прикрикнул отец, подгоняя ее. Крисси шагнула за порог и увидела мать — та стояла сбоку и чуть позади мужа. Шэрон была все так же красива — каштановые волосы, зеленые глаза, но в ней уже не осталось ни капли мягкости и материнской ласки. Чужая, с тяжелым взглядом, она несла на себе печать той же испепеляющей жажды, которой был отмечен ее муж. Возле кухонного стола стоял незнакомец в джинсах и клетчатой куртке. Очевидно, это и был Такер, с которым говорила мать. Высокий, худой, угловатый, волосы ежиком. Глаза глубоко спрятаны, нос острый, прямой; тонкие губы, челюсти хищника, готового к расправе с добычей. В руках он держал докторский чемоданчик из черной кожи. Когда Крисси вышла из кладовой, отец шагнул ей навстречу и тут же получил в лицо с расстояния двух футов струю машинного масла. Так же обошлась она и с матерью. Наполовину ослепшие, они пытались схватить ее, но Крисси вывернулась и бросилась вон из кухни. Однако Такер, быстро придя в себя от неожиданности, сумел схватить ее за руку. Развернувшись, она изо всех сил ударила его между ног. Он лишь чуть-чуть разжал пальцы, но Крисси уже вырвалась и устремилась к выходу.Глава 4
Сумрак надвигался на Мунлайт-Ков с востока, виной тому был туман, состоявший словно не из водяных капель, а из пурпурно-дымчатого света. Когда Сэм Букер вышел из машины, в воздухе уже чувствовалась вечерняя прохлада; он был доволен, что от нее его защищал шерстяной свитер, надетый под вельветовую куртку. Включенные фотоэлементом уличные фонари осветили дорогу. Сэм двинулся вдоль Оушн-авеню, заглядывая в окна магазинов, пытаясь прочувствовать вечернюю жизнь города. Мунлайт-Ков, по его сведениям, процветал, безработицы практически не было — благодаря компании «Микротехнология новой волны», которая обосновалась в Мунлайт-Кове лет десять назад, — и все-таки Сэм видел тут и там признаки упадка. Магазин дорогих подарков Тейлора и ювелирный Сэнджера прекратили торговлю; сквозь запыленные витринные стекла он видел лишь пустые полки и прилавки, под ними лежали густые неподвижные тени. Магазин модной одежды «Новые привычки» проводил распродажу перед окончательным закрытием, и, судя по редким покупателям, товар расходился вяло даже за 50–70 процентов от первоначальной цены. За время, пока он прошел два квартала по одной стороне Оушн-авеню и вернулся на три квартала до таверны «Рыцарский мост» по другой, сумерки мягко уступили свое место темноте. Город наполнялся морским перламутровым туманом, сам воздух, казалось, был пульсирующим, светящимся; лиловая дымка легла повсюду, уступая место лишь редкой желтизне фонарей, а сверху на улицы медленно падал глухой мрак ночи. Впереди за три квартала двигалась единственная машина, кроме Сэма, по улице никто не шел. Загадочный свет умирающего дня, его одиночество на пустынной улице наводили Сэма на мрачное сравнение Мунлайт-Кова с городом-призраком, городом мертвых. По мере того как сгущающийся туман все выше взбирался на холмы побережья, все больше казалось, что торговая улица навсегда покинута своими хозяевами, что магазины предлагают на продажу лишь паутину, пыль и тишину. — Сэм, старый черт, не бери в голову, — сказал он себе, — не все так мрачно. — Жизненный опыт превратил Сэма в пессимиста. Жизнь наломала ему бока, и улыбающийся оптимизм был теперь не про него. Щупальца тумана обвили его ноги. Обескровленное солнце едва цеплялось за край морского горизонта. Сэм почувствовал озноб. Он стоял рядом с таверной и решил зайти выпить чего-нибудь. Из трех посетителей таверны ни один не производил впечатления человека, довольного жизнью. За темным виниловым столиком мужчина и женщина средних лет перешептывались, склонившись друг к другу. У стойки парень с бледным лицом сжимал в руках кружку пива, нахмурив брови так, словно увидел в напитке муху. Таверна «Рыцарский мост», в соответствии со своим названием, должна была передавать атмосферу старой Англии. Спинка каждого стула была украшена резными рыцарскими гербами, раскрашенными от руки и, вероятно, срисованными с какой-то геральдической книги. В углу стояла статуя рыцаря в доспехах. Стены были украшены сценами охоты на лис. Сэм уселся на табурет у стойки. Бармен тотчас поспешил к нему, на ходу протирая отполированный до блеска дубовый прилавок. — Что будете пить, сэр? — Каждая черта лица и тела бармена отличалась закругленностью: выпуклый живот, полные руки, густо заросшие волосами; пухлое лицо с маленьким ртом и носом пуговкой; круглые глаза, придававшие его лицу выражение постоянного удивления. — У вас есть «Гиннес»? — спросил Сэм. — Это основа каждого настоящего бара, я бы сказал. Если бы у нас не было пива «Гиннес»… ну, тогда нам следовало бы назвать заведение чайной. — Медовый голос бармена, казалось, закруглял каждое слово. Он вовсю старался угодить. — Хотите ледяного или слегка холодного? Есть любое. — Холодненького. — Правильно! — Возвратившись с «Гиннесом», бармен представился: — Берт Пекем, совладелец этого бара. Аккуратно наливая пиво по краю бокала, чтобы избежать обильной пены, Сэм ответил: — Сэм Букер. Прекрасное место, Берт. — Спасибо, расскажите при случае своим знакомым. Я вообще стараюсь, чтобы здесь было уютно, чтобы был хороший выбор. Совсем недавно мы не жаловались на недостаток посетителей, не в последнее время все словно решили бороться за трезвость или выпивают у себя дома, одно из двух. — Ну, положим, сегодня вечер понедельника. — За последние два месяца мы не набирали и половины клиентов даже в субботу вечером, чего никогда не случалось раньше. — Круглое лицо Берта Пекема сморщилось в гримасе досады. Он не забывал в ходе разговора протирать стойку. — Я не знаю, что с ними стряслось, — может, жители Калифорнии свихнулись на своем здоровье и проводят весь день за аэробикой, едят только проросшие злаки, яичные белки или еще черт знает что, пьют только минералку, сок или, может, птичье молоко. Но послушайте, денек-другой такой жизни, и вас начнет тошнить от этого. Сэм отпил «Гиннес», вздохнул с удовлетворением и произнес: — Это пиво никому не вредит. — Верно сказано. Кровь живей циркулирует. И вообще чувствуешь себя в норме. Да любой пастор должен просто призывать людей выпить в день пару кружек. Но не больше — это закон. — Вероятно, осознав, что чересчур настойчиво полировал стойку, бармен остановился и скрестил руки на груди. — В нашем городе проездом, Сэм? — Да, — солгал Сэм. — Путешествую по побережью от Лос-Анджелеса до Орегона, ищу, где бы осесть, пожить на пенсии. — Пенсия? Шутите? — Ну, почти пенсия. — Но сколько же вам? Сорок? Сорок один? — Сорок два. — Так вы кто? Взломщик? — Нет, просто брокер на фондовой бирже. Вложил хорошие деньги в надежное дело. Теперь наконец могу отдохнуть от беготни и спокойно пожить, управляя своим собственным портфелем ценных бумаг. Хотел бы осесть в спокойном месте, где нет ни смога, ни преступности. Я этого вдоволь навидался в Лос-Анджелесе. — Это правда, что люди делают большие деньги на фондовой бирже? — спросил Пекем. — Мне всегда казалось, что с тем же успехом можно играть в азартные игры. Разве не все разорились на этом деле два года тому назад? — Для человека со стороны это чистая игра со случаем. Но не для брокера. Просто не надо заниматься все время одной только игрой на повышение. Никакой рыночный курс никогда не падает и не поднимается до бесконечности, надо только знать, когда начинать плыть против течения. — Ничего себе — пенсия в сорок два года. — Пекем был явно в восхищении. — Когда я подался в бармены, я думал, что буду обеспечен на всю жизнь. Спросите у моей жены — в прежние добрые времена, когда люди пили, чтобы отпраздновать удачу, забыться в печали, не было лучше дела, чем таверна. А теперь — смотрите, — он показал на почти пустой зал. — Я заработал бы больше, продавая презервативы в монастыре. — Подлейте еще, — попросил Сэм. — Хотя, может быть, добрые времена еще вернутся. Когда Пекем возвратился со второй бутылкой пива. Сэм сказал: — Возможно, Мунлайт-Ков — это именно то, что мне нужно. Я думаю остановиться здесь, присмотреться. У вас есть на примете какой-нибудь мотель? — Из действующих остался только один. У нас никогда не жаловали туристов. Да они к нам и не ехали. До этого лета у нас было четыре мотеля. Теперь три из них закрылись. Не знаю… хорошо ли это, плохо ли, но вроде как наш городок загибается. Как мне кажется, мы не то чтобы теряем население, но мы, черт побери, что-то теряем. — Бармен вновь пустил в ход свою тряпку. — Во всяком случае, попробуйте обратиться в «Ков-Лодж» на Кипарисовой аллее. Это будет последний перекресток на Оушн-авеню; аллея тянется вдоль побережья, возможно, вам достанется вид на океан. Чистое, спокойное место.Глава 5
Крисси Фостер выскочила из нижнего холла через парадную дверь на крыльцо. Она побежала вниз по ступенькам, споткнулась, обрела равновесие, повернула направо и помчалась через двор мимо голубой «Хонды», видимо, принадлежащей Такеру. Она направлялась к конюшне. Сумрак медленно надвигался. Казалось, громом гремели по утоптанной земле ее теннисные туфли. «Надо постараться бежать бесшумно и быстро», — подумала Крисси. Тогда родители и Такер, выбежав во двор, не смогут засечь ее по звуку шагов. Почти все небо обуглилось до черноты, и лишь запад был окрашен темно-красным пламенем, словно весь свет октябрьского дня сжигался на жертвенном огне, разведенном в гигантском очаге — там, у горизонта. От моря поднимался легкий туман, и Крисси надеялась на его скорое превращение в плотную пелену, в убежище для нее, так нуждавшейся в защите. Наконец она добралась до первого из двух длинных зданий конюшни и откатила вбок тяжелую дверь. В нос ударил знакомый и всегда нравившийся ей запах — запах соломы, сена, фуража, конского пота, сухого навоза и упряжи. Она включила ночное освещение — три слабенькие лампочки — достаточно, чтобы все видеть, не тревожа при этом лошадей. По обе стороны от центрального прохода тянулись стойла, по десять слева и справа, несколько любопытствующих лошадиных морд выглянуло из них. Часть животных принадлежала родителям Крисси, но большинство содержалось здесь для других обитателей Мунлайт-Кова и его окрестностей. Под шумное конское дыхание и жалобное посапывание Крисси бежала через всю конюшню к последнему боксу с левой стороны, где стояла серая в яблоках кобыла по кличке Годива. К каждому стойлу можно было добраться и с улицы, но в это холодное время года ворота стойл были наглухо закрыты. Годива была послушной лошадью и особенно дружелюбно относилась к Крисси, но была очень пуглива в темноте, поэтому и речи не могло быть о том, чтобы открывать ворота с улицы и заходить прямо в стойло. Гораздо безопаснее и проще было вывести кобылу через общий выход. Годива уже ждала Крисси. Она вскинула морду, взметнув свою густую белую гриву, и в знак приветствия шумно выдохнула через ноздри воздух. Следя за дверью в конюшню, в которую в любую минуту могли ворваться родители и Такер, Крисси открыла дверцу бокса и выпустила кобылу. — Будь умницей, Годива! О, пожалуйста, сделай одолжение! Надевать седло и уздечку не было времени. Подбадривая лошадь, Крисси провела ее через склад фуража к другому выходу из конюшни, по пути спугнув мышь. Девочка откатила дверь, и внутрь ворвался свежий воздух. Без стремян Крисси ни за что не забралась бы на лошадь. К счастью, в углу стояла подставка, на которой подковывали лошадей. Не отпуская Годиву, Крисси подтащила ногой подставку поближе. В этот момент на другом конце конюшни раздался крик Такера: — Она здесь, в конюшне! — Он уже бежал к ней. Подставка оказалась слишком низкой. Крисси слышала тяжелые шаги Такера, она чувствовала, что он уже совсем рядом, но не поворачивала головы. — Я поймал ее! — крикнул он. Крисси ухватилась за роскошную гриву Годивы, бросила свое тело вверх, изо всех сил пытаясь перебросить ногу и с трудом удерживаясь на боку лошади. Видимо, Крисси причиняла лошади боль, но старушка терпела. Она не билась, не сопротивлялась, словно понимая своим лошадиным инстинктом, что жизнь девочки зависит от ее смирения. Наконец Крисси удалось взгромоздиться на спину Годивы; посадка была неуверенной, но она держалась, сжав колени и уцепившись рукой за гриву. Другой рукой она похлопала лошадь по боку. — Ну, давай же! Вперед! Такер был уже рядом, он схватил ее за ногу, вцепился в джинсы. Глаза его обезумели от ярости, ноздри раздувались, рот искривился в оскале. Крисси ударила его ногой в подбородок, и он разжал пальцы. В то же мгновение Годива рванулась вперед через открытые ворота, в ночь. — Она взяла лошадь! — вопил Такер. — Она на лошади! Серая в яблоках мчалась к поросшему травой склону, который вел к морю. Закат уже заканчивал рисовать свои последние темно-красные отблески на черной глади воды. В планы Крисси не входило выезжать на пляж, она боялась высокого прилива. В некоторых местах пляж был непроходим даже при низком приливе, а еще опаснее были ямы и камни, которые могла таить под собой глубина. Крисси не могла рисковать, видя за спиной погоню. Даже без седла, на всем скаку, Крисси удалось закрепиться на спине лошади, почувствовать себя уверенней. Она вцепилась обеими руками в густую гриву кобылы, используя ее вместо поводьев, и заставила лошадь повернуть влево, от моря. Там был проселок, который выводил в полумиле на местное шоссе, где она могла надеяться на чью-нибудь помощь. Покорная Годива вовсе не возмутилась таким варварским способом управления ею и мгновенно повернула влево, словно послушавшись поводьев и уздечки. Топот копыт эхом отразился от стен конюшни. — Молодец, старушка, — крикнула Крисси, — ты мне нравишься! Они промчались мимо входа в конюшню, и Крисси успела заметить Такера, показавшегося в дверях. Он был явно озадачен, вероятно, думал, что Крисси уже на побережье. Кинулся вслед за ней, но, несмотря на удивительную прыть, сразу отстал. На проселочной дороге Крисси заставила Годиву бежать по обочине. Наклонившись вперед, она припала к шее лошади, боясь упасть; каждый удар копыт отдавался в теле. Слева от себя Крисси увидела свой дом — окна пылали светом, но не гостеприимством. Это был уже не ее дом, это был ад в четырех стенах, и свет в окнах казался ей теперь дьявольскими огнями. Внезапно она увидела кого-то, бегущего ей наперерез. Низкорослое и быстрое существо размером с человека двигалось на четырех лапах, или так ей показалось. Оно было уже ярдах в двадцати и стремительно приближалось. Крисси заметила другую такую же странную фигуру, приблизительно одного роста с первой и бегущую вслед за ней. Хотя из-за света, бьющего из окон, было трудно различить их очертания, Крисси догадывалась, кем они были. Или, вернее, так: она догадывалась, кем они могли быть, но еще не могла обозначить это словами. Сегодня утром она видела их в холле наверху; они были такими же людьми, как она, но теперь перестали быть ими. — Ну давай же, Годива, давай! Даже не понукаемая поводьями, лошадь прибавила ходу; невидимая нить связывала ее и всадницу воедино. Вот они миновали дом и помчались вдоль лугов. Проселок должен был вывести на местное шоссе через полмили к востоку. Годива вовсю использовала мощь своих быстрых ног, ее бешеный бег был столь стремителен и размерен, что Крисси скоро перестала осознавать реальность гонки, ей уже казалось — они скользят над землей, почти летят. Взглянув через плечо, она не увидела своих преследователей, хотя сомнений не было — они там, сзади, среди теней. Закат уже догорел, освещение от окон дома почти исчезло, а луна лишь начинала лить свой свет на холмы на востоке — что-либо увидеть было трудно. Но оказалось, что появился еще и третий преследователь: она увидела свет от фар «Хонды», которую завел Такер. Он уже отъезжал от дома и был от нее в двухстах ярдах. Годива, конечно, легко бы ушла от человека или животного, но с машиной соревноваться ей было явно не под силу. Такер догнал бы ее через несколько секунд. В памяти Крисси отпечаталось его лицо: нависшие брови, острый нос, тяжелый мрамор глубоко посаженных глаз. Он излучал вокруг себя ту же ауру необычной жизненной силы, которую отмечала Крисси в своих родителях, — избыток нервной энергии и странный голодный взгляд. Его никто не остановит, он даже может попытаться сбить Годиву машиной. Но машина не поможет ему на пересеченной местности. Крисси направила лошадь коленями и рукой в сторону от проселка и шоссе. Годива послушалась беспрекословно, и они устремились к лесу, видневшемуся за лугом в пятистах ярдах к югу. Лес стоял темной стеной, лишь слегка выделяясь на фоне чуть менее темного неба. Путь, который им предстояло преодолеть, был знаком Крисси, но больше она надеялась на лошадиное чутье и зрение. — Ну давай же, давай, старушка, — подбадривала, Крисси лошадь. Вихрем мчались они в свежем, неподвижном воздухе. Горячее дыхание Годивы смешивалось с ее собственным и оставляло позади шлейф белого пара. Сердце билось в одном ритме с бешеным топотом копыт. Крисси чувствовала себя слившейся с лошадью, их дыхания, сердца и кровь соединились в одно целое. Она вдруг осознала, что в бегстве от смертельной опасности она открывает для себя какое-то приятное возбуждение. Встреча со смертью или, в ее случае, даже с чем-то пострашнее, чем смерть, оказывается, таит в себе странно возбуждающее чувство, тайно привлекает к себе, причем в такой степени, какой она себе никогда не представляла. Это открытие пугало Крисси не меньше, чем люди, преследующие ее. Крисси плотнее прижималась к Годиве, пытаясь, сжав колени, удержаться и избежать падения при опасных прыжках на неоседланной лошади. Здесь, в поле, она почувствовала надежду на спасение. Лошадь слушалась ее и была выносливой. Когда они проскакали три четверти пути и вблизи замаячил лес, Крисси решила снова повернуть на восток по направлению к местному шоссе… Годива упала. Споткнувшись на норе суслика или кролика, а может быть, на обычной канаве, она рухнула на землю. Попыталась встать и снова упала, испуганно заржав. Крисси боялась, что при падении лошадь придавит ее или сломает ей ногу, но так как на Годиве не было ни стремян, ни прочей упряжи, то девочка слетела с нее, перемахнув через голову, и приземлилась в трех ярдах от лошади. Удар о землю был все же очень чувствителен, она задохнулась и едва не откусила себе язык. К счастью, все обошлось. Годива поднялась первой, опомнившись после падения, и стала топтаться на месте, припадая на переднюю правую ногу, — видимо, растянула сухожилие. Будь нога сломана, ей бы не подняться. Крисси позвала лошадь, ведь Годива могла далеко уйти от места падения. Вместо окрика ее задыхающаяся грудь издала лишь слабый шепот. Лошадь уходила на запад, удаляясь от Крисси. Поднявшись, девочка сообразила, что хромая лошадь ей больше не пригодится, и не стала больше звать ее. Она не пришла еще в себя от удара, задыхалась, но надо было идти вперед, так как, без сомнения, погоня продолжалась. «Хонда» с включенными фарами стояла на обочине дороги в трехстах ярдах к северу. Закатное солнце посылало из-за горизонта свой последний кровавый луч, поле уже погрузилось в темноту. Крисси не могла разобрать, двигаются ли по нему ее преследователи, но понимала, что они уже недалеко и через несколько минут она попадет к ним в лапы. Она повернула на юг, к лесу, прошла шагом десять-пятнадцать ярдов, чтобы размять ноги, нывшие после удара о землю, и наконец побежала.Глава 6
За многие годы своей работы Сэм обнаружил множество уютных гостиниц на калифорнийском побережье. Каждую из них украшала умелая кирпичная кладка, прекрасный подбор деревянных деталей, изысканная линия крыши, наклонные стекла, уютные внутренние дворики, вымощенные камнем. Мотель «Ков-Лодж», несмотря на приятное название, не принадлежал к разряду калифорнийских жемчужин. Это было обычное оштукатуренное здание в два этажа, на сорок комнат. Построено оно было в виде прямоугольника, имелся также пристроенный кафетерий, но не было плавательного бассейна. Все дополнительные удовольствия ограничивались автоматами для продажи льда и напитков, расположенных на обоих этажах здания. Вывеска над мотелем не была ни кричащей, ни ультрамодной — она была невзрачной и простой, а значит, дешевой. Дежурный администратор дал. Сэму ключи от номера на втором этаже с видом на океан, хотя для Сэма это не имело никакого значения. Судя по немногочисленным машинам на стоянке, большая часть номеров пустовала. На каждом из этажей было двадцать номеров, по десять с каждой стороны коридора, который был устлан ярко-оранжевым, режущим глаза нейлоновым ковром. Окна с восточной стороны выходили на Кипарисовую аллею, с западной — на океан. Номер, доставшийся Сэму, был расположен в северо-западном углу здания, обстановка была вполне стандартной: огромная кровать с провисшим матрасом и выцветшим сине-зеленым покрывалом, тумбочки у кровати, прожженные сигаретами, телевизор, журнальный стол, два обычных стула с прямыми спинками, письменный стол, также пострадавший от сигарет, телефон, ванная и одно большое окно, из которого открывался вид на ночное море. В таких номерах обычно кончают жизнь самоубийством неудачливые коммерсанты, оказавшиеся на грани разорения. Сэмраспаковал два своих чемодана, разложив вещи в стенном шкафу и ящиках стола. Затем он сел на край кровати, и взгляд его надолго застыл на телефоне. Сэм собирался позвонить своему сыну Скотту, но связаться с ним из гостиничного номера не мог. Если местная полиция вдруг заинтересуется им, они посетят «Ков-Лодж», проверят его заказы на междугородные разговоры, узнают номера, по которым он звонил, и сопоставят сведения о нем с данными абонентов. Для сохранения инкогнито он может пользоваться телефоном в номере только для звонков по контактному телефону ФБР в Лос-Анджелесе. Он может позвонить туда, и ему ответят: «Страховая компания «Берчфилд», чем мы можем вам помочь?» Если местная полиция пойдет дальше по цепочке, телефонная компания подтвердит, что номер действительно принадлежит «Берчфилд». Это фиктивная компания, брокером которой якобы является Сэм, так что до ФБР им не докопаться. Но пока у него не было информации, телефон можно было оставить в покое. Он позвонит сыну позже, из автомата, когда пойдет на ужин. По правде говоря, его совсем не тянуло разговаривать с парнем. Но надо было. Сэм боялся этих разговоров. Это началось примерно три года назад, когда Скотту было тринадцать, и к тому времени прошел год, как он остался без матери. Если бы Карен была жива, неизвестно, испортился бы характер сына столь быстро и столь бесповоротно. Сэм стал размышлять о собственной роли в трагедии сына. Мог ли он что-то сделать? Был ли этот разрыв с сыном неизбежностью? В чем дело, в каком-то изъяне в личности сына или в предписанной ему свыше судьбе? Или то, что произошло со Скоттом, это прямой результат неумения его отца найти путь к спасению сына? Если бы этот Вилли Ломен попался ему сейчас под руку, его ожидал бы такой же грустный конец, как у неудачливого коммерсанта, потерявшего все. Хотя этот Ломен и не коммерсант вовсе. Пиво «Гиннес». Хорошая мексиканская кухня. Голди Хоун. Страх смерти. Причин, чтобы продолжать жить, наверное, маловато, зато патетики — хоть отбавляй. Хотя не исключено, что этих причин как раз достаточно. Сэм ополоснул лицо и руки холодной водой. Но усталость осталась, ее не смоешь под краном. Сэм достал из чемодана наплечную кобуру из мягкой кожи, надел ее под куртку. Оттуда же появился «смит и вессон» калибра 0,38, полицейский вариант. Сэм зарядил его и положил в кобуру. Куртка была сшита таким образом, чтобы можно было носить под ней оружие — оно нигде не выпирало, а кобура была так упрятана под мышку, что пистолет не заметишь даже при расстегнутой куртке. Он и сам не хуже, чем его куртка — для ношения оружия, был приспособлен для выполнения специальных заданий. Пять футов одиннадцать дюймов роста, не высокий и не коротышка. Весил сто семьдесят фунтов — кости, мускулы, никакого жира, но в то же время с бычьей шеей. На лице тоже не было особых примет: оно не было ни красивым, ни отталкивающим, ни широким, ни узким. Лицо было обычным. Каштановые волосы подстрижены так, что на эту прическу не обратили бы внимания ни в эпоху длинных волос, ни во времена коротких стрижек. Из черт лица выделялись только глаза. Они были серо-голубые с синими отблесками. По словам женщин, таких красивых глаз они никогда раньше не видели. Но это было в те далекие времена, когда он слушал, что ему говорили женщины. Сэм проверил, как пристегнута кобура. Он не предполагал, что пистолет ему сегодня пригодится. Он еще не начал действовать и не будет привлекать к себе внимание; пока он никого не задел, и никто не собирается давать сдачи. И тем не менее с этой минуты ему придется носить оружие с собой. Оставлять его в номере или в арендованной машине нельзя; в случае обыска револьвер обнаружат, и тогда вся легенда полетит к черту. Брокер, ищущий место для отдыха, не может возить с собой револьвер такой модели и в таком исполнении. Это был полицейский вариант. Положив ключ в карман, Сэм отправился на ужин.Глава 7
Заняв свой номер в «Ков-Лодж», Тесса Джейн Локленд долго стояла у широкого окна, не включая света. Она всматривалась в ночной огромный океан, затем перевела взгляд на пляж, на котором, как ей сказали, ее сестра Джэнис привела в исполнение свой полный мрачной решимости замысел самоубийства. Официальная версия ее смерти гласила, что Джэнис отправилась на побережье вечером в одиночку в состоянии глубокой депрессии. Она приняла огромную дозу валиума, запив таблетки кока-колой. Затем она сорвала с себя одежду и поплыла в сторону Японии. Потеряв сознание, она вскоре утонула в холодной океанской воде. — Бред, — тихо сказала Тесса, словно разговаривая со своим туманным отражением в холодном стекле. Джэнис Локленд Кэпшоу всегда была жизнерадостным человеком, неисправимой оптимисткой — эта черта была генетически присуща членам семьи Локлендов. Никогда в жизни Джэнис не плакала от жалости к себе; даже если бы она попыталась это сделать, через минуту она начала бы смеяться над своей слабостью, а через две — убежала бы в кино или на сеанс к психотерапевту. Когда умер Ричард, Джэнис не позволяла своей печали перерастать в депрессию, хотя она так любила его. Что же могло заставить ее потерять контроль над своими эмоциями? Выслушивая версии полицейских, Тесса не испытывала ничего, кроме сарказма. И они хотели, чтобы она в это поверила? С тем же успехом они могли рассказать, что на решение о самоубийстве Джэнис толкнуло плохое обслуживание в ресторане. Почему бы и нет? Или телевизор у нее сломался, и она не посмотрела свою любимую мыльную оперу. Вот это повод! Эти версии ничем не хуже, чем та чушь, которую написали полицейские и коронер[116] в своих отчетах. Самоубийство. — Бред, — повторила Тесса. Из своего окна она могла видеть лишь узкую полоску пляжа внизу, где берег встречался с линией пенистого прибоя. У Тессы появилось желание побывать на пляже, там, откуда ее сестра якобы отправилась в ночное плавание к собственной могиле и куда прилив через несколько дней вернул ее распухшее, искромсанное тело. Тесса отвернулась от окна, зажгла лампу. Потом надела кожаную куртку, перебросила сумку через плечо и покинула номер, закрыв дверь на ключ. Она была уверена — почти подсознательно, — что придя на пляж и встав там, где, возможно, стояла Джэнис, она найдет ключ к разгадке тайны, испытав некое озарение, вспышку интуиции.Глава 8
Когда серебристая луна поднялась над темными холмами на западе, Крисси уже бежала вдоль опушки, высматривая просвет, чтобы, скрывшись в лесу, уйти от преследователей. Вскоре она добежала до камня-пирамиды, так назвали этот камень в два человеческих роста из-за его трехгранной формы с заостренной вершиной; в детстве Крисси воображала, что эту пирамиду построили неведомо как заброшенные в их края египтяне ростом в несколько дюймов. Она часто играла на этом лугу и в этом лесу и была знакома с этой местностью не хуже, чем с комнатами в своем доме, и, конечно, лучше, чем Такер и ее родители. Это давало ей преимущество. Миновав камень-пирамиду, она углубилась в лесной мрак по узкой оленьей тропе, ведущей к югу. Сзади не доносилось никакого шума, и Крисси поэтому не оглядывалась. Однако она подозревала, что, подобно хищникам, ее родители и Такер крадутся за ней бесшумно, чтобы обнаружить себя лишь в последнем броске. Прибрежные леса состояли в основном из различных пород сосны, но изредка попадались и эвкалипты, их алая листва украшала лес в осенние дни, но сейчас листья казались обрывками черного савана. Извилистая тропа привела Крисси к спуску в глубокое ущелье. В этой части леса не было густых зарослей, и деревья пропускали сквозь листву холодный лунный свет, оставлявший свой ледяной узор на земле. Начинающийся туман был слишком тонок, чтобы сдерживать этот бледный поток, но в некоторых местах под густыми ветвями лежал ночной мрак, совсем не тронутый светом. Даже там, где луна освещала путь, Крисси не решалась бежать, так как наверняка вся тропа была изрезана корнями деревьев. Тут и там наклонившиеся ветви образовывали все новые препятствия, но Крисси, не останавливаясь ни на минуту, все шагала и шагала вперед. Как бы вчитываясь в книгу своих собственных приключений, которые она так любила, Крисси начала сочинять. ЮНАЯ КРИССИ УВЕРЕННО ПРОДВИГАЛАСЬ ВПЕРЕД, ОНА БЫЛА САМА ЛОВКОСТЬ И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, И ТЕПЕРЬ ЕЕ НЕ ПУГАЛА НИ НОЧНАЯ ТЬМА, НИ МЫСЛЬ О ЕЕ УЖАСНЫХ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯХ. ЧТО ЗА ЧУДО-ДЕВОЧКА! Уже скоро она спустится на дно ущелья, откуда сможет повернуть на запад к морю или на восток к дороге, туда, где через ущелье перекинут мост. В этом месте, более чем в двух милях от Мунлайт-Кова, почти не было домов, еще меньше их было у побережья, где по закону штата на большей части берега было запрещено строительство. Вряд ли там Крисси кто-нибудь поможет, у дороги же шансов было ненамного больше: машины проезжали редко, а кроме того, там мог оказаться Такер со своей «Хондой». Он мог поджидать Крисси и засечь машину, которую она остановит. Размышляя, в какую сторону повернуть, Крисси спустилась на дно ущелья. Деревья вдоль тропы уступили место густому колючему чапаралю[117]. Над головой нависали ветви гигантского папоротника, в его зарослях всегда запутывался туман с побережья. Ветви задевали Крисси, и она содрогалась от их холодных прикосновений, похожих на касание тысяч крошечных пальцев. На дне ущелья протекал широкий ручей, и Крисси решила передохнуть на его берегу. Некогда глубокое русло сейчас совсем обмелело; вода медленно текла, слабо мерцая в лунном свете. Ночь была безветренной. Беззвучной. Поежившись, Крисси поняла, как холодно в лесу. Джинсы и фланелевая рубашка подходили для октябрьского дня, но не для сырой осенней ночи. Она замерзла, задыхалась, была испугана, не знала, куда бежать, но еще больше сердилась сама на себя за эту слабость тела и духа. В потрясающих приключенческих романах Андре Нортона неустрашимые героини выдерживали куда более длительные погони — а какой там был холод и какие испытания! — и всегда они действовали хладнокровно, быстро принимали решения, и обычно все им удавалось. Подбодрив себя сравнением с героинями Нортона, Крисси начала перебираться через ручей. У самого берега она едва не увязла в глине, намытой со склонов ущелья дождями. Прыжок через ручей не удался — она замочила свои теннисные туфли, на которые к тому же налипла грязь. Крисси не повернула ни на запад, ни на восток, а направилась на юг, карабкаясь вверх по склону ущелья. С этой частью леса она уже была незнакома, но не боялась заблудиться, так как умела отличать запад от востока по движению тумана и положению луны. Крисси рассчитывала через милю достичь обжитого района, где начинались корпуса компании «Микротехнология новой волны» и жилые дома. Там, возможно, ей помогут. Тогда-то и начнутся настоящие проблемы. Ей придется убеждать людей, что ее родители уже больше не ее родители, что они в кого-то превратились, или одержимы, или попали под влияние какого-то духа… или какой-то силы. И еще убедить в том, что они пытались превратить ее в одну из себе подобных. — Да уж, — подумала она вслух. — Задачка. Крисси была сообразительной, ловкой, разумной, но она была всего лишь одиннадцатилетней девочкой. Ей будет трудно заставить кого-нибудь поверить ей. Тут сомнений быть не может. Они будут слушать, кивать головой, улыбаться, а потом позвонят ее родителям, и доводы родителей окажутся для них убедительней ее слов… — Но надо попробовать, — сказала она себе, выбираясь из ущелья. Если не попытаться убедить кого-нибудь, куда ей деваться? Просто сдаться? Ни за что! Позади, с другого склона ущелья, раздался пронзительный крик. Не человеческий крик, но и не крик животного. В ответ на первый вопль раздался второй, затем третий, и эти крики принадлежали разным существам, каждый из них звучал по-своему. Крисси замерла, прислонившись к сосне, под покровом ветвей. Она смотрела назад и слушала, как ее преследователи начали завывать, и их протяжный вой напоминал крики койотов — но был каким-то странным, пугающим. Этот звук леденил душу, проникал под кожу холодной острой иглой, впивающейся в спинной мозг. Их вой скорее всего признак их уверенности: скоро они поймают ее, следовательно — нечего больше таиться. — Кто вы? — прошептала Крисси. По ее подозрениям, они видят в темноте не хуже кошек. Может быть, у них и нюх как у собак? Сердце забилось как сумасшедшее, причиняя боль. Чувствуя себя беззащитной и одинокой, Крисси повернулась спиной к преследователям и продолжила свой путь наверх.Глава 9
Тесса Локленд добралась до конца Оушн-авеню, прошла через пустынную автостоянку и вышла на городской пляж. Ночной бриз с океана уже набирал силу, он нес с собой холод, и Тесса была довольна, что сообразила надеть теплые брюки, шерстяной свитер и кожаную куртку. Она шла теперь по мягкому песку, направляясь к берегу моря, куда уже не проникал свет городских фонарей, мимо искореженного морскими ветрами кипариса, напомнившего ей своими изогнутыми, словно расплавленными линиями скульптуры Эрьзи. У кромки пенистого прибоя она остановилась и устремила взгляд на запад. У молодой луны не хватало света, чтобы осветить широкую бухту; Тессе были видны лишь три линии низких, омытых морской пеной волнорезов, прорезающие ночной мрак. Тесса попыталась представить свою сестру. Вот она стоит здесь, на пустынном пляже, заглатывает тридцать-сорок таблеток валиума, запивает их кока-колой, раздевается и бросается в холодное море. Нет. Кто угодно, но не Джэнис. Чем дольше ходила Тесса вдоль пляжа, тем сильнее становилось ее убеждение в том, что официальные лица из полиции в Мунлайт-Кове либо непроходимые глупцы, либо обманщики. Она вглядывалась в песок, в кипарисы на берегу, в выветренные скалы, освещенные переливчатым светом луны. Конечно, она не искала улик, их уничтожили бы ветер и прилив, даже если бы они и были. Скорее сам ландшафт, сама ночь — с ее мраком, холодным ветром, арабесками густеющего тумана — подскажут ей верный ход рассуждений, и она поймет, что на сомом деле случилось с Джэнис, найдет ключ к разгадке тайны. Тесса занималась всю жизнь документальным кино, в том числе по заказам промышленных фирм. Если ей было трудно понять замысел или значение фильма, она часто находила выход в погружении в атмосферу места, где предполагались съемки. Это помогало найти подходы к теме, к стилистике будущего фильма. Продумывая сцены для фильма о путешествиях в экзотические страны, она часто проводила несколько дней в прогулках по Сингапуру, Гонконгу или Рио просто для того, чтобы почувствовать колорит этих мест. Это помогало больше, чем просмотр литературы или «мозговые атаки», хотя и от этих способов она никогда не отказывалась. Тесса не успела пройти и двухсот футов к югу, как услышала пронзительный, протяжный крик, заставивший ее замереть на месте. Звук доносился издалека, он словно взлетал и падал, а затем исчез. Странный вопль вызвал у нее озноб и недоумение. Похоже на вой собаки, но это явно не собака. В этом звуке были и кошачьи ноты, но для кошки он звучал чересчур громко. Таким мог быть, по ее понятиям, крик пумы, но подобные животные не водились здесь, по крайней мере, их не могло быть вблизи города. Такой же жуткий крик вновь прорезал ночь, когда Тесса собралась продолжить свою прогулку по пляжу. Он доносился — она была в этом уверена — с вершин скал, нависавших над пляжем, с той стороны, где уже почти не было домов. На сей раз крик закончился на протяжной гортанной ноте, похожей на лай огромной собаки, но лишь похожей, не более того. «Кто-то держит на холмах какое-то диковинное животное, возможно, волка или барса», — подумала она. Это объяснение не удовлетворило ее, так как крик не был похож на крик дикого животного, в нем был еще какой-то непонятный, странный призвук. Она ждала, что вопль раздастся снова, но вокруг была тишина. Мрак между тем становился все черней. Туман сгущался, а на половину луны наползла тяжелая туча. Тесса решила вернуться на пляж утром и еще раз все осмотреть. Она поспешила туда, где Оушн-авеню проливала туманный свет своих фонарей. Она даже не отдавала себе отчета в том, что идет очень быстро — почти бежит, пока не покинула берег и не пересекла автостоянку. Позади уже остался целый квартал, и только тогда по своему учащенному дыханию Тесса сообразила, что всю дорогу с пляжа она преодолела бегом.Глава 10
Томас Шаддэк погрузился в темноту, где не было ни холода, ни тепла, где он казался себе невесомым, где ничто не прикасалось к его коже, где он был бесплотным, без мускулатуры и костей, где он лишился малейшей физической сущности. Лишь тонкая нить мысли связывала его с собственной телесной оболочкой, но в глубине подсознания он все-таки ощущал себя человеком — сухопарым мужчиной шести футов двух дюймов роста, ста шестидесяти пяти фунтов веса, с вытянутым лицом, высокими бровями и карими глазами столь яркого оттенка, что они казались почти желтыми. Он также краем сознания понимал, что он раздет и погружен в бассейн самой совершенной в мире сурдокамеры, которая снаружи выглядела как обычный больничный бокс, но была раза в четыре больше. Единственная лампочка малой мощности была выключена, ни один луч света не проникал в помещение. Неглубокий, в несколько футов, бассейн был заполнен десятипроцентным раствором сульфата магния, сообщавшим воде максимум энергетического потенциала. Все параметры камеры регулировались компьютером, температура раствора поддерживалась в диапазоне от 93° по Фаренгейту — температура, при которой тело, погруженное в жидкость, минимально ощущает гравитацию, — до 98° по Фаренгейту, при которых достигается минимальный теплообмен между телом и окружающей средой. Шаддэк не страдал клаустрофобией. Через пару минут пребывания в сурдокамере ощущение замкнутого пространства полностью улетучилось. Теперь он был лишен всякого влияния извне — зрительного, слухового, почти полностью — вкусового; он не ощущал запаха, прикосновений, собственного веса, времени, пространства — теперь он мог позволить своей мысли преодолеть притяжение бренной плоти и устремиться к прежде недосягаемым вершинам творческих озарений, к рассмотрению идей, сложность которых не позволяла к ним подступиться в обычном состоянии. Даже без подавления мешающих раздражителей он был гением. Гением называл его журнал «Тайм», и, значит, это должно быть правдой. Он создал компанию «Микротехнология новой волны», превратив ее из маленькой фирмы с двадцатью тысячами первоначального капитала в гиганта с трехсотмиллионным годовым оборотом, он разработал и внедрил суперсовременную микротехнологию. Однако на этот раз Шаддэк вовсе не собирался концентрироваться на проблемах текущих исследований. Он использовал эту камеру для отдыха, а также для погружения в призрачный мир видений, который всегда околдовывал и возбуждал его. Вот что предстало перед его мысленным взором в этот вечер. Он видел тонкую нить, связывающую его с действительностью, а кроме того, ощущал себя внутри гигантской работающей машины, по своим размерам сравнимой разве что со Вселенной. Видение казалось сном, но было бесконечно ярче и отчетливее любого сна. Он был подобен пылинке внутри освещенного странным светом огромного воображаемого механизма. Он двигался среди массивных перегородок, гигантских опор для вращающихся осей, приводных ремней; миллионы поршней двигались в клапанах и передавали движение гигантским кривошипно-шатунным механизмам, а те, в свою очередь, — маховикам различных размеров. Гудели сервомоторы, грохотали компрессоры, через искрящиеся переключатели и миллионы проводов электрический ток поступал в самые удаленные уголки машины. Но для Шаддэка самым возбуждающим в этой картине было удивительное соединение сложнейшей механики с органической тканью: среди цилиндров, поршней, ремней и алюминиевых патрубков были видны части живого существа, работающие в одном ритме с машиной. Незримый конструктор подключил к механизму человеческие сердца, неустанно пульсирующие, одни из них гнали кровь по артериям, другие — машинное масло. В других частях механизма работали тысячи легких, они служили фильтрами и воздушными насосами; сухожилия и живая плоть сочленяли сложные переплетения труб и шлангов, обеспечивая гибкость и надежность, недоступные для механических соединений. Все самое лучшее от природы и от машины было собрано в единую, совершенную структуру. Очарованный этим совершенством, Томас Шаддэк путешествовал по бесконечным коридорам своей мечты и не понимал — или ему было безразлично, — какая функция у этой машины, что она производит. Он был в возбуждении от эффективности конструкции, продуманности соединений органического и неорганического, и неважно, зачем все это. Всю свою жизнь, сорок один год сознательного существования, Шаддэк боролся против ограниченности человеческих возможностей, используя свою волю и свой ум для того, чтобы подняться над жалким уделом человеческого рода. Он хотел быть выше людей. Он хотел обладать всемогуществом Бога и управлять не только своим будущим, но и будущим всего человечества. Здесь, в сурдокамере, увлеченный зрелищем кибернетического совершенства, он был ближе к желанным метаморфозам, чем когда-либо в реальной жизни, и это придавало ему силы. Однако видения были для него не только интеллектуальным стимулятором и эмоциональной поддержкой, он находил в них и мощный эротический заряд. Плавая в недрах полуорганического существа, видя его толчки и пульсации, он сдавался оргазму, который ощущал не в своих гениталиях, а во всем теле, в каждой его клеточке; он не осознавал, что от оргазма содрогается его тело, он находил удовольствие лишь в ощущениях своего раскрепощенного духа. Темную воду бассейна прорезали несколько беловатых нитей его спермы. Несколько минут спустя таймер сурдокамеры включил внутренний свет, затем раздался приглушенный сигнал срочного вызова. Шаддэка вызывали из его мечты в реальную жизнь Мунлайт-Кова.Глава 11
Глаза Крисси привыкли к темноте, и теперь она могла легче ориентироваться в незнакомой местности. Выбравшись из ущелья, она отправилась через лес на юг, миновав два огромных кипариса, которые возвышались над обрывом. В отличие от своих прибрежных собратьев эти гиганты были прямыми и стройными, морские ветры не искорежили их стволы, не скрутили ветви. Крисси даже прикинула, не спрятаться ли ей в этих ветвях от своих преследователей, но не решилась, так как они могли учуять ее или обнаружить каким-то иным образом, и тогда ей конец — с дерева не убежишь. Вскоре она бегом добралась до лесной поляны, тропа шла под уклон, сюда прорывался ветер с моря и трепал ее волосы. Сквозь туман еще пробивался лунный свет, невысокая сухая трава блестела под ним, будто схваченная заморозками. Отсюда, с этой поляны, она заметила вдалеке, на автомагистрали, фары грузовика, он весь сверкал огнями, как рождественская елка. Но от мысли выйти на шоссе она отказалась сразу — там могли попасться только водители дальних рейсов, которые вообще не знают ее и не поверят ей. Кроме того, по телевидению и из газет она все время узнавала о зверских убийствах на таких дорогах, и в уме сразу же возник заголовок из газеты: ЮНАЯ ОСОБА УБИТА И СЪЕДЕНА КАННИБАЛАМИ В ГРУЗОВИКЕ МАРКИ «ДОДЖ»; ЕЕ СЪЕЛИ С ГАРНИРОМ ИЗ БРОККОЛИ И ПЕТРУШКИ; КОСТИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ СУПА. Местное шоссе было гораздо ближе, но на нем не было видно ни одной машины. Туда тоже не стоит соваться, наверняка наткнешься на Такера с его «Хондой». Опять эти странные крики сзади, и вроде бы воют все три существа. Значит, и Такер с ними. Попробовать все-таки выйти на шоссе? Эти мысли бились у нее в голове, когда она пересекала поляну. Она еще не решила, куда сворачивать, а жуткие крики уже раздались совсем близко. Словно свора гончих псов гналась за ней по следу. Внезапно Крисси споткнулась и поняла, что падает. Показалось, что в бездну. Однако это была всего лишь дренажная канава восьми футов шириной и шести футов глубиной. Слава Богу, она ничего себе не сломала. Злобные завывания становились все громче, теперь в них появился оттенок бешенства и была нота жалости, голода. Крисси попыталась выбраться из ямы и тут заметила слева от себя широкую трубу, которая являлась продолжением канавы. Труба уходила под землю, Крисси размышляла, не воспользоваться ли ей этим ходом? Лунный свет заглядывал в бетонное жерло трубы. По этой трубе, наверное, скатывается дождевая вода с дороги, сообразила Крисси. Надо быстрее решать. Очень мало шансов добраться невредимой до деревьев на другой стороне поляны. В то же время опасно прятаться в трубе — она может загнать себя в тупик, и ей некуда будет деваться. То же самое, что прятаться на дереве. Однако делать нечего — придется рисковать. До входа в трубу было рукой подать. Труба была широкой, фута четыре в диаметре, приходилось лишь слегка пригибать голову. Однако через несколько шагов ей пришлось остановиться: ужасающий смрад перехватил ей горло тошнотой. В тоннеле разлагался чей-то труп. В темноте его не было видно, да это и к лучшему, так как вид вполне мог быть пострашнее запаха. Видимо, какое-то больное животное забрело сюда и погибло. Устремившись обратно, Крисси жадно ловила глотки свежего воздуха. С северной стороны она услышала завывания, от которых буквально волосы вставали дыбом. Они уже совсем близко, в двух шагах от нее. Выбора нет, надо скорее снова бежать в трубу. Одна надежда, что этот смрад собьет их с толку и они не обнаружат ее. Десять ярдов по покатому полу трубы. Вдруг нога попадает во что-то мягкое и липкое. Так и есть, она вляпалась в это месиво, тошнотворный запах ударил прямо в лицо. — О черт! К горлу подступила тошнота, но Крисси пересилила себя. Пройдя дальше по трубе, она долго очищала туфли о бетонный пол. Теперь вперед, и как можно быстрее. Продвигаясь на полусогнутых ногах, пригнувшись, она представила себе, что выглядит как тролль, пробирающийся своим подземным ходом. Через шестьдесят футов она остановилась, присела и взглянула назад, откуда пришла. Круглый вход в трубу светился бледным светом, ночь отсюда казалась не такой темной, как снаружи. Было тихо. Через дренажные решетки, которые находились на поверхности земли, в трубу проникал легкий ветерок, он отгонял смрад к выходу. Воздух там, где она стояла, был пропитан лишь сыростью и плесенью. Тишина охватила ночь. Крисси, затаив дыхание, прислушивалась. Ничего. Она проползла еще несколько футов. Тишина. Стоит ли дальше углубляться в трубу? Может быть, здесь есть змеи? Для них место лучше не придумаешь — тепло, не то что на сыром холодном воздухе. Тишина. Где ее родители? Такер? Ведь всего минуту назад они были совсем рядом, пугающе близко. Безмолвие. Здесь, на прибрежных холмах, водились гремучие змеи, правда, в это время года они уже впадали в зимнюю спячку. Что, если у них здесь гнездо? Зловещая тишина так действовала на нервы, что Крисси захотелось закричать, разорвать это странное молчание ночи. Но пронзительный крик раздался снаружи и прокатился эхом по трубе, отражаясь от стен со всех сторон, словно ее преследователи появлялись одновременно отовсюду, даже из-под земли. Призрачные фигуры нырнули в канаву совсем рядом с трубой.Глава 12
Сэм обнаружил мексиканский ресторан на Серра-стрит, в двух кварталах от мотеля. Судя по аромату, доносящемуся с кухни, готовили здесь неплохо. Смесь запахов служила живой иллюстрацией к книге кулинарных рецептов Хозе Фелициано: мексиканский красный перец, бурлящий, горячий chorizo, сладкое благоухание лепешек, выпеченных из masa harina, сладкий перец, острый режущий запах jalapeno chiles, лука… Семейный ресторан Пересов был столь же непритязателен, сколь и его название. Это было обычное прямоугольное помещение с синими виниловыми кабинками вдоль стен, со столами посередине и кухней в глубине. В отличие от заведения Берта Пекема, бара «Рыцарский мост», здесь не жаловались на недостаток клиентов. Ресторан был заполнен до отказа, пустовал лишь один столик на две персоны, к нему и подвела Сэма девочка-официантка. Официанты и официантки носили джинсы и свитера, правда, на всех еще были белые передники. Сэм не стал спрашивать «Гиннес»: в мексиканских ресторанах его обычно не держали, но зато здесь имелось пиво «Корона», которое вполне подходило к хорошей еде. Еда была очень хорошей. Конечно, не высший класс, но очень недурно для приморского городка в три тысячи жителей. Кукурузные чипсы они готовили сами, сальса была жирной и толстой, а суп из альбондигас был наварист и наперчен так, что Сэма бросило в жар. Когда же подали крабов энчиладас в томатном соусе, он был уже наполовину убежден, что ему стоит переехать на жительство в Мунлайт-Ков, и как можно быстрее, даже если для получения средств на пенсию придется ограбить банк. Когда восхищение от кухни улеглось, он начал обращать внимание на своих соседей по ресторану, а не только на то, что находится у него в тарелке. Не сразу, но он заметил кое-какие странности в посетителях. В зале было на удивление тихо, хотя здесь сидело не менее восьмидесяти-девяноста человек. Хорошие мексиканские рестораны с их изысканной кухней, обилием пива и крепких спиртных напитков всегда были местом для раскрепощения общения. В ресторане Переса, однако, оживление царило лишь за несколькими столиками. Остальные клиенты поглощали пищу молча. Опорожнив бокал и наполнив его снова пивом из принесенной бутылки, Сэм принялся изучать молчаливых едоков. В правой части комнаты, в кабине у стены, сидели трое мужчин средних лет, поглощая такое, энчиладас и гиминчагас, поглядывая на еду, на соседей, в пространство, но храня при этом полное молчание. По другую сторону в кабинке сидели две молодые парочки и уничтожали двойные порции аппетитной снеди с приправами, ни разу не прервавшись для того, чтобы обменяться шуткой или посмеяться. Их увлеченность едой казалась Сэму очень странной, и чем больше он смотрел на них, тем больше в этом убеждался. Люди всех возрастов, сидевшие группами или поодиночке, сконцентрировались на еде. Они ели приправы, супы, салаты, десерт; покончив с этим, они требовали «еще парочку такое», «еще бурито», не забывая заказать мороженое и пирог. Они беспрерывно жевали, по щекам ходили желваки, мощные челюсти не останавливались ни на минуту. Некоторые вообще не закрывали рта. Сэм даже явственно расслышал эту мощную работу челюстей. Люди раскраснелись от перченого соуса, но ни один из них не обронил: «Ух, печет, как огнем!» или «Пальчики оближешь!»; никто не перебросился ни одним словом со своими сотрапезниками. Самое интересное, что на фоне немногочисленных, мирно болтающих друг с другом за едой посетителей ненасытные молчуны совсем не привлекали к себе постороннего внимания. Очень многие не умели вести себя за столом, примерно четвертая часть посетителей ресторанов вызовет шок у преподавателя хороших манер, но маниакальное обжорство у такого множества людей поразило Сэма до глубины души. Вероятно, подумал он, люди наблюдают такую картину каждый день и поэтому из вежливости не обращают на обжор никакого внимания. Может быть, прохладный морской воздух способствует такому зверскому аппетиту? Может быть, какие-то неизвестные ему страницы из истории Мунлайт-Кова могли бы пролить свет на этот странный феномен поведения за столом? Для социолога ответ на подобный вопрос представлял бы несомненный интерес, но у Сэма от вида этих прожорливых существ лишь пропадал аппетит, и он решил не обращать больше на них никакого внимания. Только закончив ужин и положив деньги на стол в уплату счета, он решил еще раз взглянуть в зал, и еще одна деталь поразила его — никто из обжор не пил ни пива, ни крепких спиртных напитков. На их столах стояла только вода со льдом или кока-кола, некоторые пили молоко стакан за стаканом, хотя по их виду никак нельзя было сказать, что они трезвенники. Не будь он полицейским, он не стал бы делать таких категорических выводов, но Сэм-то в этом разбирался, его научили определять наклонности человека. Тут он вспомнил пустовавшую таверну «Рыцарский мост». Что это за религиозная секта, которая учит своих последователей воздерживаться от спиртного и быть невоздержанными в еде? Сэм не припоминал ничего подобного. Он уговаривал себя не обращать внимания на эти странности. Это вполне могла быть простая эмоциональная реакция на необычное поведение нескольких людей. Вот и все. Просто они сидели перед ним, и он принял их обжорство за общую черту всех местных жителей. Он ведь не ходил по ресторану, не заглядывал каждому в лицо. Однако, пробираясь к выходу, он все-таки обратил внимание на столик, за которым сидели три привлекательные, хорошо одетые женщины. Все три были поглощены едой, не разговаривали, уперлись взглядом в свои тарелки; у двух висели кусочки пищи на подбородке, но они не обращали на это никакого внимания; третья ела столь же неопрятно, и кукурузные чипсы усеяли весь ее голубой свитер. Она как будто вскармливала себя, чтобы затем отправиться на кухню, залечь в печь и самой превратиться в пищу. Сэм был счастлив, что выбрался наконец на свежий воздух. Разгоряченный едой и духотой в ресторане, он был бы рад снять с себя куртку, но не мог, так как под ней была спрятана кобура с револьвером. Зато он наслаждался туманом и освежающим ночной воздух ветром, дующим с запада.Глава 13
Крисси увидела, как они спускаются в дренажную канаву, и на мгновение ее посетила надежда — они просто переберутся через препятствие и уйдут дальше к лесу. Но одна из фигур повернула ко входу в трубу. Быстрые, волчьи прыжки. В темноте мелькали лишь тени, Крисси с трудом осознавала, что эти существа — ее отец, мать и Такер. Но кто еще мог за ней гнаться? Проникнув в бетонный туннель, хищник начал вглядываться во мрак. Янтарно-желтые глаза источали сияние. Как далеко может видеть он в темноте? Наверное, видит ее, сидящую в восьмидесяти-ста футах. Для того чтобы различить что-нибудь на таком расстоянии, надо обладать сверхъестественным зрением. Существо смотрело прямо на нее. Но кто сказал, что это не сверхъестественные создания? Может быть, ее родители превратились в оборотней? От этой мысли пот выступил на лбу. Одна надежда, что смрад от трупа собьет их с толку. Хищник осторожно приближался, его туловище закрыло почти весь просвет тоннеля. Он тяжело дышал, звук усиливало эхо. Крисси же старалась почти совсем не дышать, чтобы не обнаружить себя. Неожиданно в тоннеле раздался голос, причитающий, шепчущий; поток слов сливался в одно целое: — Крисси, ты здесь? Ты здесь? Иди, Крисси, ко мне, иди, иди. Ты нужна мне, Крисси, нужна, нужна. Крисси, моя Крисси. Кто может так странно причитать, так выть? Крисси представила себе нечто среднее между волком, ящером, человеком. Наверное, это даже страшнее, чем можно себе вообразить. — Помочь, тебе надо помочь, помочь, иди, иди ко мне, иди. Ты здесь? Здесь? Хуже всего было то, что этот животный, шепчущий голос, несмотря на всю свою странность, кого-то напоминал ей. Да, это был голос ее матери. Он страшно изменился, но это был ее голос. К ужасу Крисси примешивалась боль, которой она сначала не могла понять. Да, это была боль от потери, она потеряла мать и молила, чтобы все вернулось, чтобы рядом с ней была ее прежняя мать. Будь у нее серебряное распятие — такие показывают в фильмах ужасов, — она не побоялась бы, подошла к этому существу и потребовала бы от темных сил покинуть ее мать. Может, распятие и не помогло бы — в жизни все не так просто, как в фильмах, к тому же перемены в ее родителях выглядят гораздо более невероятными, чем все эти чудеса с вампирами, оборотнями и демонами из ада; Но, будь у нее распятие, она попыталась бы. — Смерть, смерть, запах смерти, смрад, смерть. Та, кто недавно была ее матерью, приближалась к месту, где лежал труп животного. Тускло блестящие глаза разглядывали падаль. В тоннель спускался кто-то еще. Звук шагов, такой же жуткий голос. — Она здесь? Она здесь? Что нашла, что? — …енот… — Что, что? — Мертвый енот. Падаль. Крисси вдруг вспомнила, что на том месте могли остаться следы ее ног. — Крисси? — Это второй голос. Голос Такера. Значит, отец ищет ее в другом месте. Оба существа не стояли на месте и странно подергивались. Время от времени раздавалось какое-то странное скрежетание о бетонные стены тоннеля. У них когти? В их голосах была паника. Нет, не паника, они явно ничего не боялись. Звучало бешенство, сумасшествие. Будто какой-то механизм, работающий внутри их на огромных оборотах, вышел из-под контроля. — Крисси здесь? Она здесь? — спрашивал Такер. Его спутница вновь начала вглядываться в темноту тоннеля. «Ты не видишь меня, — думала, умоляла Крисси. — Я невидима». Сверкающие глаза словно потеряли свой блеск, светились теперь тусклым серебром. Крисси задержала дыхание. — Надо найти еду, еду. — Это голос Такера. — Сначала найди девчонку, сначала найди. — Голос его спутницы. Они разговаривали, словно животные, наделенные подобием человеческой речи. — Сейчас, сейчас, жжет, жжет, еда, сейчас. — Такер не унимался. Крисси всю трясло. — Еда, на лугу еда, грызуны, чувствую их, найдем, еда, сейчас, сейчас. — Это опять Такер. Крисси почти не дышала. — Ничего, только падаль, иди, ешь, потом искать, иди. Оба существа покинули тоннель и скрылись. Крисси вздохнула с облегчением. Подождав еще немного, она углубилась дальше в тоннель в поисках бокового ответвления. Ей пришлось пройти двести ярдов, прежде чем она нашла его — это была труба вдвое меньшего диаметра. Она забралась туда ногами вперед, перевернулась на живот. Здесь она проведет ночь. Если они вернутся и попытаются что-нибудь разнюхать, она будет в безопасности, так как сквозняк втлавном тоннеле не донесет до них ее запаха. На сердце у Крисси стало спокойнее. Они не могли обнаружить ее в тоннеле, значит, в них нет ничего сверхъестественного, они не могут все видеть и обо всем знать. Да, они страшно сильные и быстрые, они загадочны и опасны, но они тоже совершают ошибки. Скоро рассвет, и у нее есть шансы выбраться и найти помощь, не попав к ним в лапы.Глава 14
В дверях семейного ресторана Пересов Сэм Букер взглянул на часы. Было 19:10. Он шел по Оушн-авеню и готовил себя к разговору со Скоттом. Мысли об этом оттеснили на задний план все впечатления от ресторана, в котором посетители имели странную склонность к обжорству. На углу Юнипер-лейн и Оушн-авеню рядом с заправочной станцией «Шелл» он нашел телефон-автомат. Часы показывали 19.30. Сэм вставил в аппарат кредитную карточку и набрал номер своего домашнего телефона в Шерман-Оаксе. В шестнадцать лет Скотт решил, что он уже взрослый и будет во время командировок отца оставаться дома один. Сэм был другого мнения и начал приглашать в свое отсутствие Эдну, сестру своей жены. Скотт выиграл поединок — устроил для Эдны сущий ад. Сэм вынужден был отступить, чтобы не подвергать свою родственницу тяжким испытаниям. Тогда он обучил сына способам выживания — двери и окна держать закрытыми, иметь под рукой огнетушитель, уметь спастись из любой комнаты в случае пожара или землетрясения; научил даже стрелять из пистолета. И все-таки Сэм видел в Скотте ребенка. Одна надежда на то, что его уроки не пропали даром. Девятый гудок. Сэм уже собирался повесить трубку (вот и оправдание — не дозвонился), когда на другом конце линии раздался голос Скотта: — Алло. — Это я, Скотт, отец. В трубке гремел тяжелый рок. Когда Скотт включал свою музыку, в окнах дрожали стекла. — Может, сделаешь потише? — попросил Сэм. — Я тебя хорошо слышу, — промямлил Скотт. — А я тебя — нет. — О чем говорить-то, у меня все нормально. — Пожалуйста, сделай потише. — Сэм сделал ударение на «пожалуйста». Раздался грохот — Скотт бросил трубку на стол. Звук уменьшил совсем ненамного, снова подошел к телефону. — Ну? — Как дела? — О'кей. — У тебя все нормально? — Конечно, а как еще может быть? — Я просто спросил. — Если звонишь проверить, не устроил ли я вечеринку, можешь не беспокоиться. Не устроил. Сэм стал считать до трех, чтобы не сорваться на крик. Вокруг телефонной будки закручивался густеющий туман. — В школе все нормально? — Думаешь, я туда не ходил? — Думаю, что ходил. — Ты мне не веришь. — Нет, я тебе верю. — Сэм солгал. — Ты думаешь, что я не был в школе. — Так был или нет? — Был. — Ну и как там дела? — Черт знает что. Дерьмо эта школа. — Скотт, пожалуйста, я же просил тебя не употреблять этих слов в разговорах со мной. — Сэм почувствовал, что помимо своей воли начинает препираться с сыном. — Извини. Сплошное занудство. — Скотт сказал это так, что трудно было понять, относится это к школе или к Сэму. — Знаешь, здесь очень приятные места, — сказал Сэм. Скотт промолчал. — Лес, холмы спускаются прямо к океану. — Ну? Помня о советах семейного врача, с которым он и Скотт встречались вместе и по отдельности, Сэм стиснул зубы, сосчитал до трех и сделал еще одну попытку: — Уже поужинал? — Да. — В школе что-нибудь задавали? — Ничего. Сэм, поколебавшись, решил не реагировать. Доктор Адамски мог быть доволен им — полный самоконтроль и терпимость. На заправочной станции зажглись фонари, в густеющем тумане отблески от них множились и переливались. После паузы Сэм проговорил: — Что сейчас делаешь? — Я слушаю музыку. Парень отбился от рук не в последнюю очередь из-за этой проклятой музыки. Сэму не раз приходила в голову эта мысль. Тяжелый металлический рок с его грохотом, бешенством и какофонией звуков, с его монотонностью был настолько лишен души и тела, что вполне мог сойти за музыку какой-нибудь цивилизации автоматов, перелетевших на покинутую человеком землю. На какое-то время Скотт, правда,переключился на «Ю-ту», но его не устроила в этой группе их тяга к социальным проблемам. Он снова стал слушать «тяжелый металл», причем теперь отдал предпочтение его «черной» разновидности. Эти ансамбли использовали как приманку сатанизм, и вскоре Скотт совсем ушел в себя, замкнулся и ходил мрачнее тучи. Сэм не раз набрасывался на коллекцию пластинок и разбивал их вдребезги, но потом всегда сокрушался, что не сдержал себя. В конце концов, он сам в свои шестнадцать лет увлекался «Битлз» и «Роллинг стоунз», а его родители ругали эту музыку на чем свет стоит и предрекали Сэму и его поколению плохое будущее. Но все обошлось, хотя он и слушал Джона, Пола, Джорджа, Ринго и «Роллингов». Надо быть терпимым. Сэм вовсе не хотел затыкать уши и закрывать глаза, подобно своим родителям. — Ладно, я, пожалуй, пойду, — вздохнул Сэм. Скотт опять промолчал. — Если будут какие-нибудь проблемы, звони тете Эдне. — Нет таких проблем, в которых она могла бы помочь. — Но она любит тебя, Скотт. — Да, я понимаю. — Она — сестра твоей матери и любит тебя как собственного сына. Ты не можешь запретить ей это. — После паузы Сэм набрал побольше воздуха и сказал: — Я тоже люблю тебя, Скотт. — Да? И что мне делать? Умереть от восхищения? — Нет. — Потому что все это — ерунда. — Я говорю как есть. По-видимому, вспомнив одну из своих любимых песен, Скотт пропел:Глава 15
Тело мертвого мальчика лежало в кювете рядом с шоссе к югу от Мунлайт-Кова. На белом как снег лице виднелись капли крови. В свете двух полицейских ламп, установленных на треножниках по обе стороны кювета, его широко открытые глаза не мигая взирали на берег, неизмеримо более далекий, чем побережье находящегося рядом моря. Стоя под одной из ламп, Ломен Уоткинс глядел на маленькое тело, пытаясь заставить себя остаться и засвидетельствовать смерть Эдди Валдоски. Эдди, которому было восемь лет, был его крестником. Ломен учился в колледже с отцом Эдди, Джорджем, а в его мать, Неллу, он был тайно и безответно влюблен вот уже двадцать лет. Эдди был славным мальчиком, способным, любознательным и послушным. Был. А теперь… Весь в синяках, укусах, кровоподтеках, с вывихнутыми руками, со сломанной шеей, он был теперь лишь комком искореженной плоти, в которой погибло его будущее; его огонь потушили, его лишили света, лишили жизни. Из всех страшных случаев смерти, которые Ломену довелось увидеть за двадцать один, год работы в полиции, это был, пожалуй, самым жутким. И в силу его личной привязанности к жертве он должен был бы испытывать горе, если не трагедию. Но его лишь совсем чуть-чуть трогал вид маленького скорченного тела. Печаль, жалость, гнев и другие чувства касались его души, но лишь слегка и мимолетно, так случайная рыбка может задеть хвостом пловца в море. Горя, которое должно было бы терзать его при таких обстоятельствах, он не чувствовал совсем. Барри Шолник, один из офицеров, недавно пополнивших ряды полиции Мунлайт-Кова, встал на край кювета и сделал фотоснимок тела, Сработала фотовспышка, и открытые глаза ребенка на мгновение осветились серебром. Странно, но чем холоднее становился Ломен в своих чувствах, тем сильнее он ощущал потерю чего-то очень важного, и это вызывало в нем смертельный страх. Только что он был напуган своим равнодушием. Он не хотел, чтобы сердце его черствело, но это был необратимый процесс, и скоро, похоже, у него будет мраморное предсердие, а само сердце будет из гранита. Теперь он был одним из Новых людей и во многом отличался от прежнего Ломена. Хотя внешне выглядел по-прежнему — рост пять футов десять дюймов, коренастый, с широким и непривычно добрым лицом для человека его профессии, — но внутри он был уже совсем другим. Великое обращение подарило ему умение контролировать свои эмоции, спокойный и аналитический взгляд на вещи. Все это так. Но нужно ли это — не чувствовать, не переживать? Несмотря на ночной холод, на лбу появились капельки пота. Доктор Йен Фицджеральд не смог приехать, и место происшествия осматривал его помощник вместе с Виктором Калланом, владельцем похоронного бюро, а также еще один офицер полиции — Жюль Тиммерман. Они искали улики, которые мог оставить убийца. Однако сейчас это было больше похоже на спектакль для жителей окрестных домов, собравшихся на обочине дороги. Даже если улики будут найдены, никто не будет арестован за это убийство. Не будет и суда над преступником. Если они найдут убийцу, то будут скрывать его у себя и поступят с ним так, чтобы никто из не посвященных в таинство обращения не смог догадаться о его существовании. Так как, несомненно, убийцей был один из тех, кого Том Шаддэк называет «одержимыми». Они тоже были Новыми людьми, но внутри у них что-то нарушилось. И это — серьезно. Ломен отошел от мертвого мальчика. Он направился по шоссе к дому Валдоски, который виднелся в сотне ярдов к северу. Он не обращал внимания на окружающих, хотя один из них все допытывался у него: «Шеф, что, черт побери, происходит? А, шеф?» Здесь, за городской чертой, дома стояли далеко друг от друга, и огни их окон не могли одолеть ночной тьмы. Пройдя полпути, Ломен почувствовал вдруг страшное одиночество, хотя совсем рядом стояло множество людей. Деревья, искореженные морскими ветрами, склонились над дорогой, их узловатые ветви едва не цеплялись за одежду. Ему почудилось, что там, в темных ветвях, во мраке и тумане, кто-то притаился. Он нащупал рукоятку пистолета в кобуре, висевшей на боку. Ломен Уоткинс был начальником полиции в Мунлайт-Кове уж девять лет. За последний месяц на его территории пролилось больше крови, чем за предыдущие восемь лет и одиннадцать месяцев. Он был убежден, что худшее еще впереди. По его предчувствиям, «одержимых» в городе будет с каждым днем все больше и больше, и от них будет исходить огромная опасность. Шаддэк так не считал. Или не хотел задумываться над этим. Ломен боялся «одержимых» почти так же, как он боялся исчезновения своих чувств. В отличие от счастья, печали, радости и горя, смертельный страх был связан с механизмом выживания, поэтому, по мысли Ломена, расставаться с ним нельзя было ни в коем случае. Это соображение застало его врасплох, как и недавний шорох в ветвях деревьев. «Неужели, — подумал он, — страх будет единственным чувством, которое расцветет в этом прекрасном новом мире, создаваемом нами?»Глава 16
Съев черствый чизбургер, недожаренный картофель и запив все это ледяной водой «Дос Эскис», Тесса Локленд возвратилась из пустынного кафе мотеля «Ков-Лодж» в свой номер. Здесь она забралась в кровать, подложила под спину подушки и набрала номер телефона своей матери в Сан-Диего. Марион ответила после первого же гудка, и Тесса сказала ей: — Привет, ма. — Где ты сейчас, Тиджей? — В детстве Тесса никак не могла решить, как ее называть — первым именем или вторым — Джейн, и в результате мать привыкла звать ее по первым буквам двух имен — Тиджей. — В «Ков-Лодже», — ответила Тесса. — Хорошее место? — Лучшее из того, что можно было найти. В этом городе не слишком опечалены отсутствием первоклассных гостиниц. Если бы не вид на океан, этот мотель недолго бы протянул. Разве что начали бы сдавать номера парочкам и крутить порнофильмы. — По крайней мере чисто? — Вполне. — Если там грязь, я буду настаивать, чтобы ты переехала. — Мамочка, ты же знаешь, я привыкла жить без удобств в командировках. В Латинской Америке мы снимали фильм об индейцах мискито и вместе с ними спали прямо на земле. — Тиджей, дорогая, не говори так никогда. Это свиньи спят на земле. Ты должна говорить, что вы спали в палатках, но никак не на земле. С человеком бывает всякое, но всегда надо сохранять чувство достоинства и стиль. — Ладно, мамуля. Я только хотела сказать, что «Ков-Лодж» — это не подарок, но это лучше, чем спать на земле. — В палатке. — Да-да, в палатке, — поправилась Тесса. Пауза. Затем Марион сказала: — Я должна была поехать в Мунлайт-Ков сразу же после того, как они нашли бедную Джэнис. Я бы запретила кремировать ее. Господи, да они не посмели бы! Я бы запретила и настояла бы на том, чтобы вскрытие произвели люди, пользующиеся доверием. Тебе не пришлось бы этим заниматься. Я так виню себя. Тесса откинулась на подушки и вздохнула. — Мам, не надо взваливать вину на себя. Ты сломала ногу за три дня до того, как нашли тело Джэнис. Ты не могла тогда поехать. Тут нет твоей вины. — Да, было время, когда сломанная нога не остановила бы меня. — Тебе уже не двадцать, мама. — Да, я понимаю, я уже старая, — жалуясь, проговорила Марион. — Иногда я думаю, как летят годы, и мне становится страшно. — Тебе всего лишь шестьдесят четыре, ты выглядишь на пятьдесят и сломала ногу, прыгая с парашютом. Господи Боже мой, неужели ты хочешь, чтобы я жалела тебя, как маленькую? — Пожилые люди всегда ждут от своих детей заботы и жалости. — Ты издеваешься. Никакая ты не пожилая, не надо придумывать. Ты дождешься — я опять уеду далеко-далеко. Неужели ты этого хочешь? — Что ты! Бог с тобой! Слушай, Тиджей, откуда взялось это чертово дерево? Я прыгаю с парашютом тридцать лет и ни разу не приземлялась на деревья. Клянусь тебе, когда я выбирала место для посадки, его там и в помине не было. Хотя своим оптимизмом и жизнелюбием семья Локлендов была обязана в большей степени покойному отцу Тессы Бернарду, все же тут не обошлось и без генов Марион, особенно в том, что касается неукротимости нрава. Тесса перешла к делу: — Сразу после приезда я ходила на пляж, на то самое место, где ее нашли. — Тебе, наверное, было тяжело, Тиджей? — Я справилась с собой. Тессы не было дома, когда случилось горе. Она ездила по провинциям Афганистана, готовясь к съемкам документального фильма о геноциде против афганского народа и уничтожении его культуры. Только почти через две недели после того, как обнаружили тело Джэнис, Марион смогла передать Тессе эту печальную новость. Спустя пять дней, 8 октября, Тесса летела из Афганистана с таким чувством, будто она виновата в смерти сестры. Тяжесть этой вины давила на нее не меньше, чем на Марион, но она сказала правду — она смогла справиться с собой. — Ты была права, мама. Официальная версия никуда не годится. — Что тебе удалось узнать? — Пока ничего. Но я стояла там, где она якобы приняла валиум, где она вошла в воду и где ее нашли через два дня, и могу твердо сказать, что все это ложь с начала и до конца. Я это нутром чувствую, мама. И, так или иначе, я докопаюсь до истины. — Будь поосторожней, дорогая. — Хорошо. — Если Джэнис… убили… — Не бойся. — А если, как мы подозреваем, местной полиции нельзя доверять… — Мама, ты учти, что я выгляжу, как белка из диснеевского мультика, во мне всего пять футов четыре дюйма, я блондинка, голубоглазая и курносая. Так что никто ничего не заподозрит. Ты же знаешь, я всегда пользовалась своей обманчивой внешностью. Сколько мужчин и женщин попались на эту удочку. Они все думали, что я буду плясать под их дудку. Им пришлось потом пожалеть о своей наивности. Вот так-то. — Ты будешь мне звонить? — Конечно. — Если будет какая-то опасность, бросай все и уезжай. — Все будет нормально. — Обещай, что ты не будешь лезть в самое пекло. — Обещаю. Но ты мне тоже обещай, что больше не будешь прыгать с этим дурацким парашютом. — Конечно, я стара для этого. Ну, скажем так, пожилая. Я подберу что-нибудь соответствующее своему возрасту. Кстати, я давно хотела научиться кататься на водных лыжах или на мотоцикле. Помнишь, ты сделала великолепный фильм о мотогонках? — Обожаю тебя, мама. — Люблю тебя больше жизни, Тиджей. — Они заплатят за Джэнис. — Если будет кому платить. Но запомни, Тиджей, Джэнис уже не вернешь, а твоя первая обязанность — сохранить себя.Глава 17
Джордж Валдоски сидел за пластиковым кухонным столом. Его натруженные руки сжимали стакан с виски, было видно, что пальцы дрожат; янтарного цвета жидкость едва не выплескивалась через край. Когда Ломен Уоткинс вошел в кухню и затворил за собой дверь, Джордж даже не поднял головы. Эдди был у него единственным ребенком. Джордж был высоким широкоплечим мужчиной. Из-за глубоко и близко друг к другу посаженных глаз, тонких губ и заостренных черт лица он имел высокомерный, не располагающий к себе вид. Но его внешняя суровость была обманчивой, на деле он был очень отзывчивым, мягким в общении и добрым. — Как дела? — спросил Ломен. Джордж, прикусив нижнюю губу, кивнул, пытаясь показать, что он справляется с этим кошмаром, но его глаза так и не встретились со взглядом Ломена. — Пойду посмотрю, как там Нелла, — сказал Ломен. На этот раз Джордж даже не кивнул в ответ. Ломен прошел через кухню, его тяжелые ботинки со скрипом ступали на линолеумный пол. В дверях из кухни в маленькую столовую он обернулся к своему другу: — Мы найдем этого негодяя, Джордж. Клянусь, мы найдем его. Теперь наконец Джордж оторвал взгляд от виски. Слезы блестели у него на глазах, но он не плакал. Он был гордый человек, у него была ясная голова и сильная воля. Он начал говорить: — Эдди играл там, на заднем дворе, смеркалось, он всегда играл там, мы могли видеть его из любого окна, он был всегда в своем дворе. Когда Нелла позвала его ужинать, уже стемнело. Он не отозвался, не пришел, подумали — пошел к соседским ребятам поиграть и не предупредил, хотя должен был. — Джордж рассказывал это в сотый раз, он не мог остановиться. Как будто от этих бесконечных повторов что-то могло измениться, как будто страшная действительность могла исчезнуть, как исчезает звук с заигранной пластинки. — Начали искать его, не могли найти, сначала и в голову не пришло беспокоиться, даже ругали его, потом забеспокоились, испугались, хотели уже вас звать и тут нашли его там, в канаве, святой Боже, всего изувеченного, в канаве. — Он сделал глубокий вдох, еще один, и сдерживаемые слезы еще ярче заблестели в глазах. — Что за чудовища так с ним обошлись? Утащили его и сделали это, а потом принесли обратно, это ужас — принесли и положили. Мы бы услышали его крик, если бы это произошло здесь… мы бы услышали. Но его утащили, сделали это, потом принесли и положили. Кто мог сделать это, Ломен? Боже, кем надо быть, чтобы сделать такое? — Маньяком. — Ломен сказал то, что уже не раз говорил другим людям, и это во многом было правдой. «Одержимые» и были самыми настоящими маньяками. Шаддэк даже нашел термин для их состояния: психопатический синдром перерождения. — Возможно, это были наркоманы, — добавил Ломен, на этот раз он лгал. Наркотики, если иметь в виду запрещенные лекарственные средства, в деле о смерти Эдди были совсем ни при чем. Ломен еще удивился: как легко он солгал своему лучшему другу, раньше он не был способен на такое. Беззастенчивая ложь — это понятие больше подходило к миру бывших, не прошедших еще через обращение людей. Что касается Новых людей, то для них это устаревшее понятие не будет иметь никакого смысла, так как после завершения процесса Великого обращения набор моральных критериев будет включать в себя только эффективность, целесообразность и максимальную производительность. Так говорил Шаддэк. — Сейчас у нас развелось много этих подонков-наркоманов. У них мозги набекрень. Ни морали, ни цели в жизни, им нужны одни только дешевые встряски. Это наследство эпохи, которую называли иногда «не суйся не в свое дело». Наверняка убийца — один из наркоманов. Клянусь, Джордж, мы найдем его. Джордж снова опустил голову. Отпил из стакана. Затем, обращаясь больше к себе, чем к Ломену, снова начал: — Эдди играл там, на заднем дворе, смеркалось, он всегда там играл, мы могли видеть его из любого окна… Голос его затих. Ломен с явной неохотой отправился на второй этаж, в спальню, посмотреть, как чувствует себя Нелла. Она полулежала на кровати, опираясь на подушки. Рядом с кроватью на стуле сидел доктор Джим Уорфи. Он был самым молодым из трех врачей, практиковавших в Мунлайт-Кове, ему было тридцать восемь. Это был солидный человек с аккуратной бородкой, в очках в металлической оправе и с непременным галстуком-бабочкой. Докторский саквояж стоял на полу у его ног. На шее висел стетоскоп. В данный момент он заполнял необычно большого размера шприц золотистой жидкостью из флакона с лекарством. Когда Ломен вошел, Уорфи обернулся. Их глаза встретились, и они поняли друг друга без слов. Услышав шаги Ломена или догадавшись о его приближении как-то иначе, Нелла Валдоски приоткрыла красные, опухшие от слез глаза. Она сохранила до сих пор свою привлекательность и прекрасные светлые волосы. Грубая природа не могла вылепить такое тонкое лицо, оно могло быть только шедевром гениального скульптора. Мягким, подрагивающим голосом она произнесла его имя: — О Ломен! Обойдя кровать, он приблизился и взял ее руку, протянутую к нему. Рука была влажной, холодной и дрожащей. — Я собираюсь дать ей транквилизатор, — сказал Уорфи. — Ей надо успокоиться, а еще лучше — заснуть. — Я не хочу спать, — отозвалась Нелла. — Я не могу спать. После этого… ни за что… никогда после этого. — Успокойся. — Ломен слегка сжал ее руку. — Доктор Уорфи хочет тебе добра. Тебе будет лучше, Нелла. Много лет Ломен был влюблен в эту женщину, жену своего друга, но ни разу не позволил своему чувству вырваться наружу. Он всегда убеждал себя, что это всего лишь платоническое влечение. Но, глядя на Неллу сейчас, он понимал — за этим влечением всегда была страсть. Правда, тут нужна оговорка — теперь он не чувствовал ничего подобного, все было в прошлом, в его памяти. Любовь, страсть, его приятная меланхолическая привязанность исчезли, как и большинство других эмоций; он помнил о чувстве к Нелле, но оно принадлежало другому Ломену, который давно исчез, испарился, как душа, покинувшая мертвое тело. Уорфи положил шприц на туалетный столик. Засучив рукав сорочки Неллы, он перетянул ее предплечье жгутом, чтобы сделать укол в вену. Ватным тампоном, пропитанным спиртом, он протер место для укола. Нелла повернулась к Уоткинсу. — Что нам теперь делать, Ломен? — Все будет хорошо. — Он пожал ей руку. — Нет-нет. Как ты можешь так говорить? Ведь Эдди умер. Он был таким славным, таким маленьким и славным, а теперь его нет. Хорошо уже не будет. Никогда. — Совсем скоро ты почувствуешь себя лучше, — успокаивал ее Ломен, — ты и не заметишь, как боль пройдет. Все будет выглядеть иначе, чем теперь. Поверь мне. Она заморгала и посмотрела на него, не понимая смысла его слов. Она еще не знала, что собираются с ней сделать. Уорфи вонзил иглу в вену. Нелла содрогнулась. Золотистая жидкость вытекала из шприца, смешиваясь с ее кровью. Она закрыла глаза и тихо заплакала. Плакала о страшной потере. «Возможно, это лучше — не печалиться так, не любить так сильно», — подумал Ломен. Шприц был пуст. Уорфи вынул иглу. Ломен вновь встретился с ним взглядом. По телу Неллы прошла судорога. Для обращения требовалось сделать еще два укола, и, кроме того, кто-нибудь должен был находиться рядом с Неллой в ближайшие два-три часа для того, чтобы она сама не причинила себе вреда. Превращение в Нового человека было мучительным процессом. Неллу вновь сотрясла дрожь. Уорфи повернул голову, и свет от лампы отразился в стеклах его очков, как в зеркалах, придавая ему зловещий вид. С каждым мгновением судороги становились все сильнее и продолжительнее. — Что здесь происходит? — Вопрос прозвучал из уст Джорджа Валдоски, неожиданно появившегося в дверях. Ломен так внимательно всматривался в лицо Неллы, что не расслышал шагов ее мужа. Он сразу поднялся и выпустил руку Неллы. — Доктор считает, что она нуждается… — А к чему эта игла для лошадиных доз? — спросил Джордж, показывая на огромный шприц. Сама игла была вполне обычного размера. — Это транквилизатор, — пояснил Уорфи. — Ей нужно… — Транквилизатор? — оборвал его Джордж. — Похоже, что вы вкололи ей дозу, которая свалит и быка. Ломен вмешался: — Послушай, Джордж, доктор знает, что он… Нелла сползла с подушек и вытянулась на кровати. Ее тело неожиданно напряглось, пальцы сжались в кулаки, челюсти плотно сомкнулись. На шее и висках вздулись вены, было видно, что кровь хлещет по ним с бешеной скоростью. Глаза Неллы закатились, и она погрузилась в сумерки Великого обращения, на грань сознательного и бессознательного. — Что с ней? — воскликнул Джордж. Губы Неллы исказила гримаса боли, она издала странный, хриплый стон. Тело ее выгнулось дугой, касаясь постели лишь плечами и пятками. Казалось, бешеная энергия переполняет ее и не находит выхода. В какое-то мгновение страшная сила, похоже, была готова разорвать ее изнутри. Затем Нелла рухнула на кровать, содрогнулась, и все тело ее покрыл обильный пот. Джордж взглянул на Уорфи, на Ломена. Он чувствовал, что свершается что-то страшное, но не понимал смысла происходящего. — Стой на месте. — Ломен направил на Джорджа свой револьвер, когда тот начал отступать за порог спальни. — Вернись, Джордж, и ложись на кровать рядом с Неллой. Джордж Валдоски застыл в дверях, уставившись на револьвер, не веря своим глазам. — Если попробуешь уйти, — продолжал Ломен, — мне придется застрелить тебя, а мне не хотелось бы, по правде говоря, этого делать. — Ты не посмеешь, — проговорил Джордж, напоминая о десятилетиях их дружбы. — Я сделаю это, — холодно возразил Ломен. — Мне придется убить тебя по необходимости, а потом мы все объясним, рассказав историю, которая тебе вряд ли понравится. Мы объясним, что обнаружили кое-какие несоответствия в показаниях, что нашли улики, доказывающие, что именно ты убил Эдди. Убил собственного сына, чтобы выпутаться из грязной сексуальной истории. Так вот, когда мы предъявили тебе доказательства, ты выхватил у меня из кобуры револьвер, завязалась драка. Ты был убит. Дело закрывается. Джордж потерял дар речи. Услышать такое от человека, которого всегда считал близким и преданным другом! Угроза Ломена была чудовищной. Джордж сделал шаг в комнату. — Вы хотите всем сказать, что я… что я совершил это с Эдди? Но почему? Что ты делаешь, Ломен? Что, черт возьми, ты делаешь? Кого… кого ты покрываешь? — Ложись на кровать, — сказал Ломен. Неллу продолжали сотрясать судороги, нескончаемые, мучительные. Все лицо покрыл пот, волосы перепутались. Глаза были открыты, но она, казалось, никого не видела. Возможно, она была без сознания. Что представало перед ее взором? Неведомое? Закоулки души? Сам Ломен ничего не помнил про момент своего обращения, в воспоминаниях осталась только сжигающая боль. Ели передвигая ноги, Джордж Валдоски приблизился к кровати. — Что происходит, Ломен? Боже, что это? Что с ней? — Все будет хорошо, — сказал Ломен, — это к лучшему, Джордж. Поверь мне, к лучшему. — Что к лучшему? Что, Господи… — Ложись, Джордж. Все будет в порядке. — Что происходит с Неллой? — Ложись, Джордж. Так будет лучше. — Да, будет лучше, — поддержал его доктор. Уорфи закончил набирать золотистую жидкость из второго флакона. — В самом деле, тебе будет легче, — сказал Ломен, — поверь мне. Револьвером он подал знак ложиться и ободряюще улыбнулся.Глава 18
Дом Гарри Талбота был выстроен в функциональном стиле «Баухауза» и радовал глаз красной мореной древесиной и широкими окнами. Он находился в трех кварталах к югу от центра Мунлайт-Кова, на восточной стороне авеню Конкистадоров. Улица была названа в честь испанских завоевателей, стоявших лагерем в этих местах несколько веков назад. Они сопровождали католических священников, основывавших на калифорнийском побережье свои миссии. Иногда Гарри снились сны — он видел себя среди этих солдат, смело продвигающихся на север, в глубь неизведанных территорий, и это были хорошие сны, так как в них он обходился без инвалидной коляски. Большинство домов в Мунлайт-Кове было построено на лесистых холмах вдоль моря, и от дома Гарри как раз начинался спуск по авеню Конкистадоров, так что для человека, единственным занятием которого было наблюдать за горожанами, лучшего места было не сыскать. Из своей спальни на третьем этаже, расположенной в северо-западном углу дома, он мог видеть большую часть улиц между бухтой и авеню Конкистадоров — Юнипер-лейн, Серра-стрит, Рошмор-уэй, а также Кипарисовую аллею. Кроме того, в поле его зрения попадали все улицы, которые пересекали этот район с юга на запад. К северу он мог захватывать взглядом часть Оушн-авеню и даже более удаленные места. Конечно, он видел бы гораздо меньше, если бы его дом не был на один этаж выше остальных, а в спальне не был бы установлен 60-миллиметровый телескоп, дополненный парой хороших биноклей. В понедельник, 13 октября, в 21.30 Гарри сидел на самодельном стуле, поставленном в проеме между западным и северным окнами, и всматривался в окуляр телескопа. Высокий стул имел подлокотники и спинку, как у кресла, четыре крепкие ножки и мощное основание. Оно было необходимо, чтобы стул не опрокидывался, когда Гарри пересаживался в него из инвалидной коляски. На стуле имелись пристежные ремни, похожие на автомобильные, они позволяли ему наклоняться вперед к телескопу без риска упасть на пол. Сама же пересадка из инвалидной коляски в кресло была для Гарри настоящим испытанием. Левая рука и левая нога у него вообще не действовали, а правая нога еле-еле слушалась, так что он мог надеяться только на свою правую руку — слава Богу, хоть ее пощадили вьетконговцы. Но все эти усилия окупали себя, ибо с каждым годом Гарри Талбот все больше увлекался зрелищем, которое открывал ему телескоп. Сидя в своем кресле, он иногда почти забывал о своей инвалидности, так как по-своему тоже участвовал в жизни города. Его любимым фильмом была лента «Окно во двор» с Джимми Стюартом. Он посмотрел ее, наверное, сотню раз. В данный момент Гарри разглядывал задний двор похоронного бюро Каллана, единственного заведения подобного рода в Мунлайт-Кове. Оно находилось на восточной стороне Юнипер-лейн, улицы, параллельной авеню Конкистадоров, но расположенной на один квартал ближе к морю. Гарри наводил свой телескоп между двух домов на противоположной стороне улицы, туда, где за соснами и проходным двором виднелся корпус похоронного бюро. В поле зрения Гарри попадал угол гаража для катафалка, черный ход в похоронное бюро и вход в новое крыло здания, где покойников бальзамировали и готовили для церемонии прощания; здесь находился крематорий. За последние два месяца Гарри довелось наблюдать немало странных сцен возле похоронного бюро. Сегодня, однако, все было спокойно, хотя Гарри не собирался упускать это место из виду. — Муз? Пес поднялся с подстилки в углу и подошел к Гарри. Это был взрослый черный ньюфаундленд, в темноте его практически не было видно. Он лизнул ногу Гарри — правую, ту, которая еще сохраняла чувствительность. Наклонившись, Гарри погладил Муза. — Принеси мне пива, приятель. Муза воспитали в питомнике собак-поводырей, и он всегда был рад услужить хозяину. Он подбежал к маленькому холодильнику в углу. Такие холодильники ставят в ресторанах под стойкой, и их можно открывать при помощи ножной педали. — Не здесь, — подсказал Гарри, — я забыл днем принести упаковку из кухни. Пес уже обнаружил, что в холодильнике нет пива «Курз», и выбежал в холл. Его лапы стучали по деревянному полу. В комнатах не было ковров, так как инвалидная коляска лучше катилась по твердой поверхности. В холле собака нажала на кнопку лифта, и дом сразу же наполнился визгом и скрипом подъемного устройства. Гарри снова склонился к телескопу, наведенному на задний двор бюро Каллана. Туман волнами накатывал на город, его сплошная пелена временами сменялась почти прозрачной дымкой. Однако задний двор похоронного бюро был освещен фонарями, и видимость была отличная; Гарри как будто стоял там, во дворе, между двумя кирпичными башенками, образующими вход с улицы. Если бы не туман, он мог бы даже сосчитать заклепки на стальной двери крематория. Гарри услышал, как сзади раскрылись двери лифта. Судя по звуку мотора, Муз уехал на первый этаж. Гарри надоело наблюдать за погребальной конторой, и он переместил телескоп влево. Здесь было пустое пространство, а за ним открывался вид на дом Госдейлов, он был на Юнипер-лейн. Гарри решил заглянуть в окно гостиной. Правой рукой он вывинтил окуляр и поставил на его место другой, выбрав нужный из тех, что лежали на столике рядом с креслом. Через этот окуляр он мог видеть все, что происходит в гостиной, туман совсем не заслонял зрелища. В данный момент Герман и Луиза Госдейл играли в карты со своими соседями — Даном и Верой Кайзер. Так было у них заведено — каждый вечер понедельника и иногда по пятницам играть в карты. Лифт, судя по прекратившемуся шуму, приехал на первый этаж. Муз, должно быть, сейчас бежит на кухню. Несколько раз в ясные вечера, когда Дан Кайзер сидел спиной к окну, Гарри мог различить, какие карты у него в руке. Иногда его даже подмывало позвонить Герману Госдейлу и сообщить ему все про карты соперника по игре, а заодно дать пару советов. Однако Гарри не осмеливался посвящать людей в тайны своего времяпрепровождения. Ночью он специально гасил свет, чтобы никто не увидел его силуэта в окне. Ведь он незримо присутствовал в жизни этих людей, и они могли не понять его. Люди со здоровыми руками и ногами вообще относятся к инвалидам с предубеждением, им кажется, что паралич рук и ног не может не отразиться на голове. Они наверняка посчитают, что Гарри сует нос не в свое дело; хуже того, они могут принять его за маньяка, страдающего половым извращением. На самом деле ничего подобного не было. Гарри Талбот установил сам для себя строгие правила и неукоснительно их придерживался. Например, он никогда не смотрел на раздетых женщин. В доме напротив жила Арнелла Скарлатти, и однажды он случайно обнаружил, что она любит проводить вечера в спальне, в обнаженном виде слушая музыку, или читая книги. Она включала только маленькую лампу на столике у кровати, шторы не задергивала, так как кровать находилась далеко от окна и практически никто, кроме Гарри, не мог видеть ее. Арнелла была красивой женщиной. Даже сквозь полупрозрачные занавески и в полутьме ее восхитительное тело было открыто Гарри во всех деталях. Пораженный ее наготой, прикованный видом ее роскошного, полногрудого, длинноногого тела, он глядел на нее в течение минуты. Затем, обожженный своей бестактностью и желанием, он отвернул телескоп в сторону. И хотя у Гарри вот уже двадцать лет не было женщины, он никогда больше не вторгался в спальню Арнеллы. Только по утрам он смотрел, как она завтракает в своей скромной кухне на первом этаже, и любовался ее лицом, в то время как она съедала булочку с соком или тосты с яйцами. Она казалась ему настолько прекрасной, что он не смог бы описать ее внешность словами. К тому же, по его сведениям, она была очень порядочной женщиной. Он подозревал, что влюбился в нее, как влюбляется ученик в свою учительницу, но никогда не использовал безответную любовь в качестве оправдания для нескромных взглядов в сторону ее спальни. Так же тактично он поступал и в других ситуациях. Он лишь наблюдал, как его соседи дерутся, как они смеются, едят, играют в карты, болтают, моют посуду и совершают множество других повседневных дел. Он вовсе не хотел узнавать что-то грязное из их жизни или испытывать превосходство. Ему не было нужды в дешевых зрелищах для поднятия духа. Единственное, к чему он стремился, — это стать участником их жизни, присоединиться к ним, пусть без слов и поступков, и ощущать себя вместе с ними одной семьей; он хотел, чтобы появился кто-то, о ком надо заботиться. Через эту заботу он вновь обрел бы былую полноценную жизнь. Вновь заработал мотор подъемника. Значит, Муз дошел до кухни, открыл одну из дверей четырехкамерного холодильника, достал упаковку пива и сейчас возвращается к нему. Гарри Талбот был общительный человек, и, когда он вернулся с войны с одной здоровой рукой и практически без ног, врачи посоветовали ему переехать в пансионат для инвалидов, где он находился бы среди людей и о нем бы заботились. Врачи предупредили его, что он не будет принят в мир здоровых людей; по их словам, он столкнется с неосознанной, но очень болезненной для него жестокостью со стороны большинства этих людей, его будут избегать, и в конце концов от одиночества он можетвпасть в глубокую депрессию. Но Гарри так же упорно стремился к независимости, как когда-то — к общению, и перспектива жить в компании инвалидов и сиделок вовсе не улыбалась ему. Он предпочел полное одиночество. Теперь он жил один, если не считать Муза, редких гостей и приходящую раз в неделю экономку миссис Хансбок (он прятал от нее телескоп и бинокли в стенной шкаф). Большая часть предупреждений врачей о людской черствости оправдалась; однако они не могли представить себе способностей Гарри. Ему удалось преодолеть свое одиночество несколько экзотическим, но невинным способом. Он стал незримым членом семей почти всех своих соседей. Подъемник достиг третьего этажа. Дверь отворилась, и Муз, вбежав в спальню, направился к креслу Гарри. Телескоп был укреплен на движущейся платформе, Гарри откатил его в сторону. Он нагнулся и, погладив собаку по голове, взял у нее из пасти холодную банку, которую Муз держал зубами за нижнюю часть, чтобы не запачкать. Гарри зажал банку в коленях, взял со стола фонарик и, посветив на этикетку, убедился, что пес принес именно пиво, а не кока-колу. Умная собака была приучена различать слова «пиво» и «кока-кола» и редко ошибалась. Правда, иногда она забывала задание по пути на кухню и брала не ту банку. Еще реже Муз приносил совсем посторонние вещи: газету, домашнюю туфлю, коробку с бисквитами для собак, а однажды принес сваренные вкрутую яйца, причем так бережно, что не повредил скорлупу. Как-то он притащил даже щетку из арсенала экономки. В таких случаях Гарри повторял указание, и во второй раз Муз никогда не ошибался. Гарри уже давно решил, что пес не столько ошибается, сколько подшучивает над ним. Они понимали друг друга с полуслова, и Гарри был теперь убежден, что у собак тоже есть чувство юмора. На этот раз без шуток и ошибок Муз принес именно то, что просили. Гарри при виде пива почувствовал жажду. Выключив фонарик, он похвалил собаку: — Хороший мальчик, хороший, славный пес. Муз тихо зарычал от счастья. Он присел и ждал новых указаний. — Ну, иди, Муз. Ложись. Славный пес. Муз разочарованно поплелся на свою подстилку, а Гарри откупорил банку и сделал большой глоток. Потом он поставил пиво на стол, придвинул к себе телескоп и вновь обратился к безмолвному общению с ночью, со своими соседями, со своей большой семьей. Госдейлы и Кайзеры продолжали играть в карты. В окрестностях похоронного бюро двигался лишь клубящийся туман. По улице Конкистадоров, освещенный светом фонарей у дома Стернбека, не торопясь шел Рэй Чанг, владелец единственного в городе магазина по продаже телевизоров и электроники. Он выгуливал свою собаку Джека — золотистого спаниеля. Собака обнюхивала каждое дерево, выбирая, какое пометить. Знакомые издавна сцены спокойной городской жизни очень нравились Гарри, но настроение его резко изменилось, когда он перевел телескоп на дом Симпсонов. Элла и Денвер Симпсон жили в доме кремового цвета с черепичной крышей, выстроенном в испанском стиле. Дом находился на противоположной стороне улицы Конкистадоров на два квартала севернее, как раз возле старого католического кладбища и в одном квартале от Оушн-авеню. Так как ничего на кладбище, за исключением одного дерева, не заслоняло вид на этот дом, Гарри мог без помех, хотя и под углом, созерцать все его окна. Он заглянул в окно кухни. Наведя на резкость, он увидел Эллу Симпсон, которая сцепилась со своим мужем, прижавшим ее к холодильнику; она пыталась вырваться, махала руками и, вероятно, кричала. Гарри ощутил, как дрожь пробежала по его израненному шрапнелью позвоночнику. Он сразу понял, что происходящее в доме Симпсонов связано с другими странными событиями, которые ему довелось наблюдать в последнее время. Денвер работал почтальоном, а Элла возглавляла процветающий косметический салон. Им было чуть больше тридцати. Это была одна из немногих негритянских семей в городе, и, насколько Гарри знал, брак их был счастливым. Серьезная ссора между ними представлялась настолько необычной, что Гарри не мог не вспомнить о других необъяснимых случаях, которым был свидетелем. Элла наконец сумела вырваться из рук мужа, но она успела сделать только один шаг, как он нанес ей сильный удар. Женщина рухнула на пол. Муз, видимо, почуял перемену в настроении своего хозяина. Пес поднял голову и пару раз глухо пролаял. Неожиданно на кухне Симпсонов появились двое новых персонажей. Гарри опознал в них офицеров полиции Мунлайт-Кова, несмотря на то что они были одеты в гражданскую одежду. Это были Пол Готорн и Риз Дорн. Их появление лишь укрепило подозрения Гарри о связи этого события со случаями, в которых насилие странным образом сочеталось с атмосферой заговора и которые он наблюдал из своего окна. Гарри ломал голову, но не мог понять, что происходит в его некогда тихом и спокойном городке. Готорн и Дорн подняли Эллу с пола и взяли ее под руки с двух сторон. Элла, видимо, была в полубессознательном состоянии от жестокого удара мужа. Денвер что-то говорил Готорну, Дорну или своей жене. К кому он обращался — было непонятно, лицо его было искажено гримасой такой ярости, что Гарри вздрогнул. В кухне появился еще один человек, он сразу же направился к окну и задернул шторы. Но Гарри сумел опознать в нем доктора Йена Фицджеральда — старшего по возрасту из трех врачей Мунлайт-Кова. Он практиковал в городе вот уже тридцать лет, и все с любовью называли его док Фиц. Гарри лечился у него и знал его как заботливого врача, однако теперь доктор не был похож на самого себя. Гарри успел вглядеться в его лицо. И поразился перемене — свирепое выражение глаз и напряженные черты лица превращали знакомый облик в неподвижную, зловещую маску. В кухне теперь ничего не разглядеть. Гарри перевел телескоп на другое окно и так припал к окуляру, что ощутил боль. Проклиная туман и свою неловкость, он откинулся в кресле, чтобы дать отдохнуть глазам. Муз забеспокоился. Через минуту зажегся свет в угловой комнате на втором этаже дома Симпсонов. Гарри сразу же переключился на это окно. Это была спальня хозяев дома. Туман все больше ухудшал видимость, но он сумел разглядеть, что Готорн и Дорн внесли Эллу на руках в спальню и бросили на кровать. Вслед за ними в спальню вошли Денвер и док Фиц. Доктор поставил свой черный саквояж на столик у кровати. Денвер задернул шторы на окне, выходившем на улицу Конкистадоров, затем подошел к окну, в которое смотрел Гарри. Какое-то время Денвер всматривался в ночь, и у Гарри возникло странное чувство, будто Денвер видит его, хотя их разделяли два квартала и у Денвера не было телескопа. Гарри уже не раз отмечал такой эффект при своих наблюдениях, но знал, что на самом деле никто его не видит. Все же его пугали эти взгляды глаза в глаза. Наконец Денвер задернул шторы, оставив, однако, промежуток между ними дюйма в два шириной. Гарри била дрожь, все тело покрылось холодным потом. Он пытался подобрать наиболее подходящий окуляр, настроить телескоп на наибольшую резкость, в конце концов ему это удалось. Теперь он как бы незримо присутствовал в спальне, стоял у окна. Туман слегка рассеялся и не создавал помех. Готорн и Дорн держали Эллу за руки и за ноги. Она отбивалась, но силы были неравными. Денвер пытался заткнуть рот жены кляпом из белой материи. Мелькнуло лицо Эллы. Глаза вылезали из орбит. — О, черт! — Гарри сжал пальцы в кулак. Муз встревожился и подошел к хозяину. От отчаянной борьбы одежда на Элле смялась. На блузке расстегнулись пуговицы, юбка задралась выше колен. Несмотря на это, в этой сцене не было ничего, даже близко напоминающего изнасилование. Что бы они ни собирались делать с ней, это выглядело страшнее и загадочнее, чем обычное сексуальное домогательство. Док Фиц встал у кровати, заслонив Эллу. В руках у врача был флакон с золотистой жидкостью, он наполнял ею шприц. Затем он сделал Элле укол. Что это был за укол? Что происходит?Глава 19
Поговорив со своей матерью, Тесса Локленд села в кровати и стал смотреть документальный фильм по Пи-би-эс. Она начала говорить вслух все, что она думает об операторской работе, установке кадра, освещении, монтаже и тексте фильма и вдруг поняла, как нелепо звучат реплики, обращенные к самой себе. Тогда она начала передразнивать критиков телепрограмм. Большинство из них были о себе очень хорошего мнения, строили из себя бог знает что. Один Роджер Эберт — нормальный парень. Несмотря на свое игривое настроение, Тесса понимала, что ее поведение — это чересчур даже для нее, всегда самостоятельной и независимой. Конечно, она была на взводе из-за прогулки по пляжу, на котором погибла сестра, — хотелось разрядки. Однако жизнерадостность Локлендов тоже должна иметь границы. Тесса выключила телевизор и, захватив пакет, решила пройтись по коридору до автоматов для продажи прохладительных напитков и льда. Дверь в свой номер она оставила открытой. Тесса всегда гордилась своей независимостью, свободой от ежедневной рутинной работы с девяти до пяти. Гордость эта казалась ей порой бессмысленной, так как обычно приходилось работать по двенадцать-четырнадцать часов в день вместо восьми, и в своей карьере она не добилась больших постов. Доходами также не приходилось хвастаться. Было несколько очень удачных лент, деньги могли течь рекой и дальше, если бы она захотела. Все сложилось иначе, и с тех пор заработанных денег хватало лишь на жизнь, не более того. Она как-то подсчитала, и оказалось, что в год она в среднем зарабатывает двадцать одну тысячу. Если не подвернется крупный заказ, в следующем году будет еще меньше. Итак, денег мало, и вольному репортеру-документалисту, случись что, никто не поможет, но Тесса все равно считала, что ей повезло в жизни. Дело даже не в благожелательных откликах критиков о ее фильмах, не в природном оптимизме Локлендов. Повезло — это значит, что она могла ни на кого не оглядываться, могла быть самой собой в работе, а следовательно, и в жизни. В конце коридора Тесса открыла тяжелую дверь и очутилась на лестничной площадке, где были установлены автоматы. Автомат по продаже воды был до отказа нагружен кока-колой, пивом, апельсиновой и «севен-ап», но машина для приготовления льда оказалась сломанной. Может быть, на первом этаже повезет больше? Тесса спустилась по лестнице, ее шаги по бетонному полу гулко отдавались в тишине. Звук был протяжный и холодный, словно внутри пирамиды, в царстве незримых духов. Внизу никаких автоматов не было, стрелка указывала, что их следует искать в северном крыле. Пока до них доберешься, одной диет-колы не хватит, придется брать кока-колу с сахаром. Ей показалось, что дверь наверху кто-то открыл. Если это так, то это первый за все время ее пребывания в мотеле признак живой души. До этого она не видела ни одного из постояльцев. Коридор первого этажа был застелен таким же отвратительным оранжевым нейлоновым ковром, как и на втором этаже. Ну и вкусы у них. Глаза бы на это не глядели. Если бы выбор приличного, уютного места зависел от толщины кошелька, она предпочла бы зарабатывать больше денег на фильмах. Но, к сожалению, в Мунлайт-Кове нет других мотелей, так что в данном случае деньгами делу не поможешь, и ей придется созерцать этот оранжевый ужас. После него серый бетон на лестничной клетке подарком покажется, на нем глаз отдыхает. Автомат в этом крыле здания работал. Тесса открыла дверцу и наполнила пакет кусочками льда в виде полумесяцев. Поставила пакет на крышку автомата, стала закрывать дверцу. И тут вновь услышала, как кто-то открыл дверь этажом выше, скрипнули несмазанные петли. Тесса начала опускать четверть долларовые монетки в автомат по продаже кока-колы, ожидая, что кто-нибудь спустится по лестнице. Когда была опущена третья монетка, она сообразила, что звук был какой-то странный — словно кто-то, зная про несмазанные петли, специально придерживал дверь, стараясь не скрипнуть ею. Держа палец на кнопке автомата, Тесса вслушалась. Ничего. Холодная бетонная тишина. Такое же ощущение было у нее на пляже, когда она услышала этот загадочный далекий крик. «Кто-то нарочно ждет, когда я нажму кнопку, и аппарат начнет шуметь. Тогда скрипа петель не будет слышно». Придет же в голову такая сумасшедшая мысль. Многие женщины до смерти испугались бы в такой ситуации. Но не Тесса. Хотя гибель Джэнис и выбила ее из колеи, она не поддастся панике, она знает теперь, где опасность — там, на верхней площадке, — невидимая, затаившаяся. На лестничной клетке было три двери. В одну из них она вошла из коридора. Вторая выходила на задний двор мотеля, и от нее дорожка вела прямо к побережью. Через третью можно было выйти на стоянку машин перед фасадом здания. Тесса решила выйти в коридор, оставив в покое автомат, и быстро и бесшумно выскользнула за дверь. Быстрым взглядом она уловила тень, метнувшуюся в конце коридора. Кто-то стремительно исчез на лестничной клетке в южном крыле. Хлопнула дверь. Итак, по крайней мере, двое мужчин — так она думала — следят за ней. На верхней площадке раздался скрип несмазанных петель. Преследователю, видимо, надоело придерживать дверь. Назад дороги не было. Там она попадет в ловушку. Закричать? Позвать на помощь? А если и в самом деле, кроме нее, в мотеле нет постояльцев? Тогда ее преследователи, распаленные ее криком, начнут действовать в открытую. Кто-то осторожно начал спускаться по лестнице с верхней площадки. Тесса вернулась назад на лестничную клетку и сразу выбежала через дверь, ведущую на стоянку, окунувшись в ночной туман. Пробежав вдоль фасада здания, она остановилась напротив главного входа в мотель. Дверь была открыта, яркий неон расцвечивал вход. За гостиничной стойкой стоял тот самый служащий, который выдал Тессе ключи от номера. Это был мужчина лет пятидесяти, слегка полноватый, гладко выбритый, с аккуратной прической. Его ухоженный вид плохо сочетался с коричневыми вельветовыми брюками и фланелевой рубашкой в красно-зеленую клетку. Он отложил журнал, уменьшил звук в радиоприемнике и вышел навстречу Тессе. Прищурившись, он слушал ее рассказ о случившемся. Тесса никак не могла отдышаться после быстрого бега. — Знаете, у нас городок небольшой, мэм, — сказал он, когда она закончила. — У нас в Мунлайт-Кове всегда очень спокойно. Так что вам не стоит бояться нападений из-за угла. — Но это было на самом деле, — настаивала Тесса, бросая нервные взгляды на туманную дымку, подсвеченную неоном и проплывающую мимо окон. — О, я охотно верю. Просто вам что-то привиделось, послышалось, и вы придали этому слишком большое значение. У нас действительно, кроме вас, есть еще двое постояльцев. Возможно, вы их и испугались, а они всего-навсего хотели взять кока-колу или лед. Так же, как и вы. — Портье улыбнулся тепло, по-стариковски. — Признаюсь, наше заведение выглядит не очень весело, когда мало гостей. — Послушайте, мистер… — Куин, Гордон Куин. — Послушайте, мистер Куин, все было совсем не так. — Тесса почувствовала, что говорит, как склочная и неумная женщина, не будучи таковой на самом деле. — Я не могла перепутать обычных постояльцев с насильниками или хулиганами. Я не истеричка. Эти двое замышляли что-то недоброе. — Ну… ладно. Я думаю, вы ошибаетесь, но давайте все же проверим. — Куин вышел из-за стойки. — Вы пойдете прямо так? — Что значит — так? — Без оружия? Он снова улыбнулся. Тесса опять ощутила, что производит впечатление истерички. — Мэм, — сказал он, — за двадцать пять лет работы я ни разу не встретил постояльца, с которым не смог бы справиться. Его насмешливый, поучающий тон раздражал Тессу, но она не стала пререкаться, а последовала за ним к северному крылу здания. Он был большой, а она — маленькая и чувствовала себя подобно ребенку, которого отец ведет в детскую, чтобы показать, что никакие страшилища не прячутся ни под кроватью, ни в стенном шкафу: Куин открыл дверь на лестничную клетку, и они вошли. Внутри никого не было. Раздавался только слабый гул работающего автомата. На его крышке все так же стоял пакет со льдом, оставленный ею. Куин распахнул дверь в коридор, показал, что никого нет и там. В дверь черного хода он заглянул сам, затем заставил заглянуть Тессу. Она увидела лишь пустынную дорожку, идущую вдоль мотеля и освещенную фонарями. — Вы говорили, что опустили деньги, но не нажали на кнопку? — спросил Куин. — Да. — Что вы хотели взять? — Диет-колу. Он нажал на кнопку, и банка выкатилась из автомата. Протянув ее Тессе, Куин напомнил: — Не забудьте пакет со льдом. Со льдом в руках, с жаром румянца на щеках и возмущением в сердце Тесса проследовала за портье на второй этаж. Здесь тоже никого не было. Только скрипнули несмазанные петли. Дверь в ее номер оставалась открытой. Тесса замялась на пороге. — Давайте проверим, — предложил Куин. Комната, туалет и ванная не вызывали подозрений. — Теперь чувствуете себя лучше? — Я ничего не выдумывала. — Конечно, конечно, — сказал он покровительственным тоном. Когда Куин уже выходил в коридор, Тесса сказала: — Я уверена, они были здесь. Честное слово. Наверное, удрали. Удрали, когда поняли, что я их обнаружила и пошла за подмогой. — Тогда все в порядке, — сказал Куин, — вы в безопасности. Если они удрали, это почти так же хорошо, как если бы их не было вовсе. Тессе пришлось сдержаться, чтобы не добавить к «спасибо» еще что-нибудь. Затем она закрыла дверь. На замке была собачка, она нажала на нее. Закрыла задвижку. Пригодилась и цепочка. Окно не внушало опасений. Она убедилась в этом после тщательного осмотра. Одна из створок открывалась, но надо было разбить стекло и повернуть ручку, чтобы проникнуть в номер с улицы. Кроме того, понадобилась бы лестница. Некоторое время Тесса сидела на кровати, вслушиваясь в тишину мотеля. Теперь каждый звук казался ей странным и пугающим. Существует ли связь между ее приключением и смертью Джэнис, наступившей три недели назад?Глава 20
У Крисси после двух часов пребывания в узкой бетонной трубе начался приступ клаустрофобии. В кладовке, меньшей по размерам, чем труба, она провела гораздо больше времени, но, видно, здесь бетонный мрак и тишина сделали свое дело. Накопилась усталость и натянула нервы до предела. С автострады доносился тяжелый грохот грузовиков; отражаясь от бетонных стен, он превращался для Крисси в вой драконов. Крисси затыкала уши. Грузовики шли то редко, то один за другим, и тогда от неумолчного рева можно было сойти с ума. На нервы действовало и подземелье, в котором она оказалась. Ей уже стало казаться, что она в могиле. Она лежала в темноте и пыталась уловить в редких паузах, когда не было слышно грузовиков, звуки шагов ее преследователей. Она прочла про себя еще один отрывок из книги своих приключений: ЮНАЯ КРИССИ НЕ МОГЛА ЗНАТЬ, ЧТО ЧЕРЕЗ МГНОВЕНИЕ БЕТОННАЯ ТРУБА ВЗОРВЕТСЯ И ЗАПОЛНИТСЯ ЗЕМЛЕЙ, ПРИДАВИВ ЕЕ, КАК БУКАШКУ, И НАВСЕГДА ОТРЕЗАВ ОТ МИРА ЖИВЫХ. И все же лучше пока остаться здесь. Они, должно быть, до сих пор рыщут в округе, рядом с трубой. Здесь все-таки безопаснее. Вот только воображение разыгралось вовсю. Хотя она явно была сейчас в одиночестве, во мраке ей мерещились всякие ужасы: змеи, сотни пауков, тараканы, крысы, колонии летучих мышей-вампиров. Начал мерещиться и призрак какого-то ребенка, потерявшегося давным-давно в этих трубах и здесь погибшего. Его неприкаянная душа бродила где-то рядом, пугая Крисси до смерти. Она понимала, что все это ерунда, что все это ей кажется, но тут ей вспомнились родители, Такер. Они предстали перед ней в образе оборотней. Раздался опять страшный грохот с автострады, и опять к ней подкрадывался призрак ребенка. Надо было выбираться наружу.Глава 21
Покинув гараж, в котором он скрывался от банды наркоманов (так он предполагал, других версий пока не было), Сэм направился на Оушн-авеню. По пути в мотель он зашел в таверну «Рыцарский мост», но лишь затем, чтобы купить упаковку пива «Гиннес». Чуть позднее он уже сидел в своем номере в «Ков-Лодже», пил пиво и раскладывал по полочкам имевшиеся факты расследования. Итак, 5 сентября трое активистов национального профсоюза сельскохозяйственных рабочих — Хулио Бустаманте, его сестра Мария Бустаманте и жених Марии Рамон Санчес возвращались на юг с виноградных плантаций, где они обсуждали с фермерами виды на будущий урожай. Они ехали в светло-коричневом фургоне «Шевроле», машине было четыре года. Остановились поужинать в Мунлайт-Кове. Ужинали в семейном ресторане Пересов, выпили много спиртного (согласно показаниям официантов и посетителей ресторана). На обратном пути при выезде на автостраду не вписались в поворот, машина перевернулась и загорелась. Погибли все трое. История могла бы остаться без продолжения и ФБР не занялось бы расследованием, если бы не множество нестыковок в материалах дела. Во-первых, если судить по отчету полиции Мунлайт-Кова, за рулем в момент аварии находился Хулио Бустаманте. Но достоверно известно, что Хулио не умел водить машину; более того, он не сел бы за руль поздним вечером, так как страдал одной из форм куриной слепоты. Далее свидетели показали, что все трое были в состоянии сильного алкогольного опьянения, притом что люди, лично знавшие Хулио и Рамона, не замечали за ними склонности к выпивке, а Мария Бустаманте вообще никогда к рюмке не притрагивалась. Семьи Санчеса и Бустаманте также были встревожены поведением властей Мунлайт-Кова. Никто из них не был оповещен о смерти родственников до 10 сентября, к тому моменту прошло уже пять дней после автокатастрофы. По словам начальника полиции Ломена Уоткинса, документы пострадавших были уничтожены в огне, а тела настолько обуглились, что их невозможно было идентифицировать по отпечаткам пальцев. Номерные знаки? К сожалению, Ломен Уоткинс не обнаружил их на месте происшествия. В связи с этим, имея в наличии три изуродованных трупа и не имея возможности определить их родственные связи, он дал распоряжения доктору Йену Фицджеральду оформить свидетельства о смерти. Затем тела были кремированы. «Вы же понимаете, у нас нет таких помещений, как в моргах больших городов, — объяснил Уоткинс, — мы не можем хранить трупы длительное время. Неизвестно, сколько времени понадобилось бы для их идентификации. Они могли оказаться иммигрантами-нелегалами, тогда вообще никто не смог бы их опознать». «Великолепно», — мрачно подумал Сэм, откидываясь в кресле и делая большой глоток из банки с «Гиннесом». Три человека погибли в автокатастрофе, их тела были кремированы еще до того, как были оповещены их родственники, еще до того, как к делу подключились специалисты с новейшей аппаратурой для опознания, еще до того, как были подтверждены или опровергнуты заключения полиции и свидетельства о смерти. Были лишь слабые подозрения, что Бустаманте и Санчес пали жертвами в какой-то грязной игре, однако профсоюз был убежден, что это именно так. 12 сентября председатель профсоюза потребовал вмешательства ФБР на основании того, что антипрофсоюзные силы должны нести ответственность за гибель Бустаманте и Санчеса. По закону, ФБР вмешивалось в дела об убийствах только в тех случаях, если подозреваемый пересекал границу штата для совершения преступления, во время совершения или после. Другим поводом для вмешательства, как в данном деле, могло стать убийство, ставшее следствием нарушения гражданских прав жертвы. 26 сентября после нелепых, но рутинных формальностей федеральной бюрократии группа из шести агентов ФБР из его филиала в Сан-Франциско (в том числе три человека из отдела научной экспертизы) отправились в командировку в живописный городок Мунлайт-Ков. Они опросили офицеров полиции, изучили отчеты полиции и коронера, сняли показания со свидетелей из ресторана Переса, обследовали останки «Шевроле», выброшенные на свалку, осмотрели место аварии, надеясь найти хоть какие-то улики. Версия о причастности кого-нибудь из жителей Мунлайт-Кова к антипрофсоюзной деятельности не подтвердилась — в городе совсем не было сельскохозяйственного производства, в гибели активистов никто не был заинтересован. В ходе расследования местная полиция и коронер оказывали бригаде ФБР полную и искреннюю поддержку. Ломен Уоткинс и его люди даже выразили готовность пройти проверку на детекторе лжи. Что и было сделано. Результат — никаких намеков на обман. Коронер также оказался кристально честным человеком. И тем не менее что-то здесь было явно нечисто. Местные власти помогали как-то чересчур усердно. Все шесть агентов почувствовали, что за их спиной местные полицейские посмеиваются и издеваются над ними. Хотя внешне все было в рамках приличий, никто из полицейских не подавал никаких знаков, не подмигивал никому из свидетелей. Если хотите, называйте это подозрение инстинктом фэбээровца. Сэм был уверен, что этому инстинкту надо доверять, так же как хищник доверяет своему чутью в джунглях. Кроме того, нельзя забывать и о других случаях насильственной смерти. В ходе расследования дела Бустаманте — Санчеса агенты подняли отчеты о случаях насильственной смерти за два последних года. Надо было установить, отличается ли обычная процедура в этих случаях от действий полиции в данном деле. Если отличается — значит, полиции есть что скрывать. Результат был неожиданным, ошеломляющим, но совсем в другом смысле. Мунлайт-Ков оказался городом, удивительно безопасным для проживания, если не считать единственной аварии из-за превышения скорости, в которой погиб подросток. Других случаев насильственной смерти за два года не было. Они посыпались один за другим начиная с 28 августа, за восемь дней до гибели Бустаманте и Санчеса. В предрассветные часы 28 августа четыре члена семьи Майзеров стали первыми жертвами этой эпидемии смертей. Это были Мелинда и Джон Майзер, а также их дети — Карри и Билли. Они сгорели заживо в собственном доме, полиция указала в качестве причины пожара неосторожное обращение детей со спичками. Все четыре трупа были настолько обуглены, что их идентификация проводилась на основании исследования зубов. Прикончив первую банку пива, Сэм потянулся за второй, но вдруг заколебался. Работы еще предстояло много. Надо было поломать голову над многими загадками, а пиво совсем этому не способствовало. Сэма, например, интересовал ответ на вопрос: почему ребенок, увидев огонь, не позвал на помощь родителей? Почему он не убежал еще до того, как дым начал распространяться по дому? И, наконец, что могло вызвать настолько быстрый и разрушительный пожар (на бензин и тому подобное никаких указаний в отчете не было), что никто из четырех не спасся, а дом вместе с телами превратился в гору углей еще до приезда пожарных? Снова великолепная, очень чистая работа. Обугленные трупы вроде бы не способствовали установлению истинных причин смерти. Поэтому помощник коронера, он же владелец похоронного бюро Каллан, он же подозреваемый в покрытии чьих-то преступлений, предложил ближайшей родственнице Майзеров кремировать тела ее близких. Возможные улики, таким образом, были уничтожены. — Как все здорово, — сказал Сэм вслух, положив ноги на спинку второго стула. — Какая чистая, добротная работа. Итак, имеется уже четыре трупа. Далее, смерть Бустаманте и Санчеса 5 сентября. Снова огонь. Затем еще более поспешная кремация. Имеется уже семь трупов. 7 сентября, когда пепел Бустаманте и Санчеса еще, должно быть, витал над Мунлайт-Ковом, его житель Джим Арме, двадцати одного года, отправился ранним утром на рыбалку на своей лодке «Мари Леандра» длиною тридцать футов. С тех пор его не видели. И это несмотря на то, что он был опытный рыбак, несмотря на то, что погода была прекрасная и море спокойное. Вероятно, он погиб во время сильного отлива, так как никаких останков на близлежащие пляжи выброшено не было. Имеется, таким образом, уже восемь трупов. 9 сентября, в то время, когда рыбы, возможно, рвали на куски тело Армса, Паулу Паркинс разорвали доберманы. Их было пять. Пауле было двадцать девять, она жила одна, выращивая на продажу сторожевых собак на своей усадьбе в два акра, расположенной на окраине города. Очевидно, один из доберманов набросился на нее, а остальные налетели, почуяв запах крови. Изуродованные останки Паулы, на которые невозможно было смотреть без содрогания, были отправлены в запаянном гробу ее родственникам в Денвер. Собаки были застрелены, проверены на бешенство и сожжены в крематории. Итак, девять трупов. 2 октября, через шесть дней после начала своего расследования, эксперты ФБР эксгумировали тело Паулы Паркинс на кладбище Денвера. Вскрытие показало, что женщина действительно была искусана и исцарапана до смерти при нападении на нее множества животных. Сэм запомнил наиболее интересный абзац из отчета о вскрытии тела слово в слово: «…тем не менее следы укусов, царапин, разрывы кожи и внутренних органов, а также специфические повреждения молочных желез и половых органов не являются в целом характерными для картины, наблюдаемой при нападении собак на человека. Размеры отпечатков зубов и следов укусов не соответствуют размерам зубов среднего добермана или других животных, склонных к агрессивности и способных напасть на человека». И далее — из того же отчета, итоговое заключение о природе существ, совершивших нападение на Паркинс: «Биологический вид неизвестен». От чего же погибла Паулз Паркинс? Через какие страдания и агонию она прошла? Кто пытался свалить все на доберманов? И еще — какие улики, проливающие свет на действительные причины смерти, могли иметься на трупах этих доберманов? Может быть, эти улики опрокидывали версию полиции? Сэм вспомнил о странном, далеком крике, который он слышал сегодня ночью, — крике койота не койота, кошки не кошки. Вспоминал странные, безумные голоса мальчишек, преследовавших его. Как-то все шло одно к другому. Инстинкт фэбээровца. Биологический вид неизвестен. Выбитый из душевного равновесия, Сэм решил успокоить нервы глотком «Гиннеса». Но банка, которую он продолжал держать в руках, была пуста. Он ощутил на губах только холодный металл. Шесть дней спустя после смерти Паркинс и задолго до эксгумации ее тела в Денвере еще два человека покончили счеты с жизнью в Мунлайт-Кове. Стив Хейнц и Лаура Далко, не состоявшие в браке, но жившие вместе, были найдены мертвыми в своем доме на Айсберри-уэй. Хейнц оставил предсмертную записку, очень невнятную по содержанию, без подписи и отпечатанную на машинке, затем убил спящую Лауру из пистолета и застрелился сам. В отчете доктора Йена Фицджеральда этот случай квалифицировался как «убийство-самоубийство», уголовное дело поэтому не возбуждалось. По предложению коронера семьи Далко и Хейнца дали согласие на кремацию несчастных. Одиннадцать трупов. — Черт знает сколько кремаций в этом городе, — произнес вслух Сэм, вертя в руках пустую банку из-под пива. Большинство родственников, насколько ему было известно, предпочитали хоронить своих близких в гробу, независимо от состояния тела. Так было принято в других городах, по крайней мере. На одну кремацию приходилось четыре-пять захоронений. В ходе расследования дела Бустаманте — Санчеса бригада ФБР обнаружила также отчет о самоубийстве Джэнис Кэпшоу. Она приняла большую дозу валиума. Ее тело, истерзанное морем, было выброшено на берег через два дня после ее исчезновения и за три дня до прибытия агентов ФБР в Мунлайт-Ков. Хулио Бустаманте, Мария Бустаманте, Рамон Санчес, четверо Майзеров, Джим Арме, Паула Паркинс, Стивен Хейнц, Лаура Далко, Джэнис Кэпшоу — двенадцать трупов меньше чем за месяц. Это ровно в двенадцать раз больше, чем все количество насильственных смертей в Мунлайт-Кове за предыдущие двадцать три месяца. Если учесть, что в городе живет всего три тысячи жителей, то двенадцать насильственных смертей за три недели — это, согласитесь, чертовски много. Когда начальника полиции Ломена Уоткинса спросили о его мнении на этот счет, он ответил: «Да, это ужасно. Это даже пугает. Но у нас так долго царило полное спокойствие, что это тоже кому-то может показаться странным». Двенадцать смертей от несчастных случаев — это большая цифра, даже если она относится к периоду в два года. Городок-то маленький. Однако бригаде ФБР не удалось обнаружить никаких следов причастности местных властей к этим трагическим случаям. Детектор лжи также подтверждал эту непричастность, ведь ни один из этих людей — Ломен Уоткинс, его офицеры, коронер, его помощник — не дал повода ни для малейшего намека на ложь. И все же… Двенадцать смертей. Четыре человека сгорели на пожаре. Трое — в фургоне «Шевроле». Три самоубийства: два — при помощи оружия, одно — при помощи валиума. Все десять человек кремированы в похоронном бюро Каллана. Один пропал в море — тело не обнаружено. Единственная жертва, доступная для исследования, оказалась искусанной вовсе не собаками, как следовало из отчета коронера, а разорванной неизвестно кем, черт знает кем. Этого было достаточно, чтобы завести дело в ФБР. 9 октября, через четыре дня после возвращения бригады из Мунлайт-Кова, было принято решение послать в город тайного агента, чтобы исследовать на месте важные аспекты дела, которые невозможно прояснить при легальном вмешательстве. На следующий день, 10 октября, в офис ФБР в Сан-Франциско пришло письмо, которое подкрепило решимость ФБР вмешаться в это дело. Сэм запомнил это письмо также наизусть.Джентльмены! Я располагаю информацией, относящейся к ряду случаев со смертельным исходом в городе Мунлайт-Ков. У меня есть основания полагать, что местные власти замешаны в заговоре с целью скрыть преступные действия. Я предпочел бы личный контакт со мной, так как не доверяю местной телефонной сети. Я вынужден настаивать на соблюдении тайны моего обращения к вам, так как являюсь инвалидом войны во Вьетнаме и не имею возможности защитить себя.Письмо было подписано Гарольдом Г. Талботом. Архив армии США подтвердил, что Талбот действительно является инвалидом войны во Вьетнаме. Неоднократно отмечался поощрениями за храбрость. Сэм собирался навестить его завтра с соблюдением всех предосторожностей. Это будет завтра. А пока Сэм раздумывал, может ли он позволить себе выпить вторую банку пива в добавление к тому, что было выпито за ужином. Ночью спать не придется. Упаковка пива лежала на столе перед ним. Он долго смотрел на нее. Пиво «Гиннес». Хорошая мексиканская кухня, Голди Хоун и страх смерти. Мексиканский ужин был у него в желудке, но он уже успел забыть его вкус. Голди Хоун жила где-то на ранчо с Куртом Расселом, которого она, вероятно из-за своей легкомысленности, предпочла заурядному, израненному и потерявшему надежду федеральному агенту. Сэм еще подумал о двенадцати погибших мужчинах и женщинах, об их телах, сожженных дотла в крематории, об убийстве и самоубийстве, о телах, пожираемых рыбами, об искусанной до смерти женщине, и все это привело его к мрачным размышлениям об уделе всякой смертной плоти. Он подумал о своей жене, умершей от рака, он подумал о Скотте и об их телефонном разговоре тоже, и вот тогда он открыл вторую банку пива.
Глава 22
Преследуемая воображаемыми пауками, змеями, жуками, крысами, летучими мышами, скорее всего придуманным ею призраком погибшей девочки и оглушающим ревом грузовиков, Крисси в конце концов выбралась из своего убежища. Далее ей предстоял путь по тоннелю, где опять пришлось пережить несколько неприятных мгновений, перешагивая через останки дохлого енота. Вот и выход. Ночной выход был чист и свеж. Боязнь замкнутого пространства прошла, хотя она была еще в узкой канаве, запечатанной сверху густым туманом. Крисси жадно глотала холодный влажный воздух, стараясь, однако, чтобы шума при этом было как можно меньше. Она вслушалась в ночь и вскоре различила знакомые уже ей крики, они раздавались с поля-, за которым на юге начинался лес. Как и раньше, она ясно различала голоса трех существ. Если ее ищут там, в южной стороне, где начинаются владения компании «Микротехнология», то, значит, ей открыт путь назад, на север, в сторону Мунлайт-Кова. Ясно, что она не может больше оставаться здесь. Ясно, что, направившись на юг, она попадет к ним в лапы. Крисси выкарабкалась из канавы и побежала по той же дороге, которая увела ее от дома вчера вечером. По пути она пересчитывала свои несчастья. Она голодна, так как не поужинала. Она устала. У нее болят мышцы от долгого неподвижного сидения в трубе. И ноги болят. «Так в чем же дело? — спросила себя Крисси, добежав до леса. — Разве лучше, получив от Такера укол, «обратиться» в похожее на него существо?»Глава 23
Ломен Уоткинс покинул дом Валдоски, доктор Уорфи остался наблюдать за обращением Эллы и Джорджа. Недалеко от дома, на шоссе, офицеры полиции и коронер грузили тело мальчика в катафалк. Любопытные жители соседних домов были в шоке от зрелища, представшего их взорам. Ломен сел в свою машину и включил зажигание. Сразу же засветился зеленоватый экран компьютера. Он был укреплен на кронштейне между передними сиденьями. Замигал индикатор, показывая, что в штаб-квартире местной полиции имеется для него срочное сообщение. Такое, которое они решили не передавать по обычной полицейской радиосвязи. Он работал с компьютерной связью уже несколько лет и все же иногда удивлялся, когда в машине зажигался этот зеленоватый экран. Такая техника уже давно появилась в больших городах вроде Лос-Анджелеса, но еще не дошла до маленьких городов. Мунлайт-Ков был исключением. Не из-за того, что местные власти разорились на оборудование для полиции, а благодаря компании «Микротехнология новой волны» — лидеру в области компьютерной связи между базами данных. Компания оснастила полицейское управление и все машины своей техникой, программным обеспечением и непрерывно совершенствовала свои разработки, проверяя их эффективность на практике при помощи полиции Мунлайт-Кова. Это был один из множества путей, посредством которых Томасу Шаддэку удалось проникнуть в местные структуры еще до того, как он достиг тотальной власти в городе при помощи проекта «Лунный ястреб». Тогда Ломену хватило сообразительности увидеть за широким жестом компании нечто большее — благословенный дар свыше. Теперь он убедился в этом сполна. Со своего терминала Ломен мог связаться с центральным компьютером в полицейском управлении на Якоби-стрит, мог получить любую информацию из баз данных или переговорить с дежурным диспетчером так же просто, как и по обычной радиосвязи. Более того, он мог, не выходя из машины, связаться с Департаментом дорожной полиции в Сакраменто и получить любые сведения о номерных знаках, узнать в Управлении тюрем данные по конкретному преступнику. Кроме того, он мог выйти через свой компьютер в национальную информационную сеть правоохранительных органов. Ломен поправил кобуру, так как случайно сел на нее. Набрав на клавиатуре свой опознавательный код, он получил доступ в систему. Еще в середине восьмидесятых почти отпала необходимость бегать высунув язык, чтобы добыть необходимые данные по делу. Теперь только полицейские из телесериалов, вроде Хантера, были вынуждены метаться повсюду в поисках информации, так как это выглядело зрелищнее, чем кропотливая работа с суперсовременной техникой. Компьютер известил Ломена о готовности приема сообщения. Сигнал вызова погас. Конечно, если бы все превратились в Новых людей и удалось бы решить проблему «одержимых», тогда, по всей вероятности, не стало бы преступлений и надобность в полиции отпала бы. В обществе пока существует социальная несправедливость, но в Новом мире все люди будут равны, как равны между собою машины, — у них будут одни и те же цели и желания, не будет необходимости кого-то обгонять и конфликтовать. У большинства преступников есть дефекты в генотипе, их социальная агрессия и объясняется этими дефектами. Здесь тоже картина изменится. За исключением «одержимых», Новых людей можно будет поддерживать в великолепном генетическом состоянии. Так, по крайней мере, считает Шаддэк. Иногда Ломен Уоткинс задумывался о том, как в этом грандиозном плане будет решаться вопрос со свободой. Возможно, ей не найдется места. Порой ему было все равно — будет свобода или ее не будет. Но в какие-то моменты его безразличие… просто пугало его до смерти. Слева направо на экране начали появляться строчки текста, светло-зеленые буквы ярко светились на темном фоне:ДЛЯ: ЛОМЕНА УОТКИНСА ОТ: ШАДДЭКА ДЖЭК ТАКЕР НЕ ДОЛОЖИЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЕЗДКИ К ФОСТЕРАМ. ТЕЛЕФОН ТАМ НЕ ОТВЕЧАЕТ. НЕОБХОДИМО СРОЧНО ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ. ЖДУ ВАШЕГО ОТЧЕТА.У Шаддэка был прямой выход на компьютер управления из его дома на северной оконечности бухты. Он мог оставить сообщение для Уоткинса или любого другого офицера, и никто не мог их прочитать, за исключением указанного адресата. Экран погас. Ломен Уоткинс снял машину с ручного тормоза, нажал на сцепление и помчался к конюшням Фостера, несмотря на то что это место находилось за пределами города и, следовательно, за пределами юрисдикции городской полиции. Он уже давно не обращал внимания на соблюдение границ и правовых норм. Уоткинс оставался полицейским лишь в силу того, что такова была его роль, он будет ее играть, пока весь город не пройдет через Великое обращение. Старые порядки его уже не интересуют, так как он — Новый человек, он выше этого. Его вообще большей частью ничего не интересовало и не тревожило. День за днем, час за часом он терял свои чувства. Оставался лишь страх, который его новое сознание допускало, так как страх был частью механизма выживания. Этот механизм, в отличие от любви, радости, надежды и переживаний, был нужен эффективному организму. И сейчас этот страх был с ним. Он боялся «одержимых». Боялся, что проект «Лунный ястреб» станет известен остальному миру и потерпит крах, похоронив под своими обломками и его. Боялся своего единственного хозяина — Шаддэка. Иногда, в особенно мрачные минуты, он боялся и самого себя, и Нового мира, который грядет.
Глава 24
Муз тихо посапывал в углу темной спальни. Он иногда негромко рычал во сне, должно быть, охотился на кроликов, а может быть, исполнял поручения своего хозяина, ведь он был хорошей служебной собакой. Гарри, наклонившись к окуляру телескопа, наблюдал за служебным двором похоронного бюро Каллана на Юнипер-лейн. Как раз сейчас во двор бюро въезжал катафалк. Виктор Каллан и его помощник Нед Райдок погрузили на тележку тело и повезли его в крематорий. Пластмассовый мешок, в котором лежал труп, был сложен пополам — в нем мог находиться только мертвый ребенок. Дверь закрылась и заслонила от Гарри происходящее. Иногда на окнах морга жалюзи не опускали, и Гарри имел возможность наблюдать, что происходит внутри, вокруг столов, на которых бальзамировали покойников. Он мог видеть даже то, что он не хотел видеть. Однако сегодня жалюзи были опущены. Гарри медленно начал обозревать окрестности похоронного бюро, улицу Конкистадоров, Юнипер-лейн. Он не искал чего-то особенного, просто пробежал взглядом по знакомым очертаниям домов и деревьев и внезапно наткнулся на две очень странные фигуры. Они двигались быстро и скрытно по улице, затем по незастроенной площадке у похоронного бюро. Бежали то на четвереньках, то выпрямившись, но скорее как животные, а не как люди. «Призраки». Сердце учащенно заколотилось. Он уже видел подобное три раза за прошедший месяц и, когда это случилось впервые, не поверил своим глазам. Существа были призрачными, словно сотканными из ночной тени, они так быстро промелькнули, что он подумал, не мерещится ли ему от усталости непонятно что; позже он стал называть их «призраками». Они бежали быстрее кошек. Промчались мимо и исчезли в темноте, прежде чем он успел перевести телескоп вслед за ними. Теперь он искал их на незастроенном участке. В высокой траве и кустах спрятаться было легко, к тому же туман, зацепившись за кустарник, закрыл это место белой пеленой. Вот и они. Две сгорбившиеся фигуры ростом с человека. Одна — чуть светлее, другая совсем темная, почти слившаяся с ночным мраком. Черт лица не разобрать. Они укрылись в тени огромной ели, росшей в середине участка. Дрожащими руками Гарри стал наводить телескоп на резкость. Видно стало чуть-чуть лучше, фигуры начали выделяться из темноты, но деталей было по-прежнему не разобрать. Вот если бы у него был «Телетрон», одна из моделей прибора ночного видения «Стартрон», тогда он бы их разглядел поподробнее. Гарри пользовался такими приборами в армии. Дорогая штука, зато позволяет видеть ночью практически все. Там используется любое слабое излучение — свет луны, звезд, тепловое излучение, оно умножается в восемьдесят пять тысяч раз. Ночь превращается в сумерки или даже в день, но, конечно, не солнечный, а пасмурный. Модель «Телетрон» разработана специально для подключения к телескопу. Обычно для Гарри вполне достаточно лунного света или света из окон, но для наблюдения за «призраками» хорошо бы иметь особую технику. Существа явно выслеживали кого-то, наблюдая то за Юнипер-лейн, то за бюро Каллана. В их движениях была кошачья гибкость. Одно из них взглянуло в его сторону. Гарри увидел глаза — золотистые, излучающие слабое сияние. Таких глаз он прежде никогда не встречал. Лихорадочный страх охватил его, но вовсе не из-за сверхъестественности происходящего. Скорее наоборот, он находил что-то знакомое в этих глазах, что-то лежащее в глубинах подсознания, в памяти предков, дошедшей до него через гены. Никогда со времен Вьетнама он не испытывал такого леденящего, мучительного страха. Муз, очнувшись от сна, почувствовал что-то неладное. Он поднялся и, приблизившись к хозяину, зарычал низко, вопросительно. Кошмарный облик «призрака» промелькнул и снова исчез в темноте. Кроме таинственных янтарных глаз, мало что удалось разглядеть. Обманчивый свет луны скорее мешал, чем помогал. И все же Гарри был ошеломлен, раздавлен увиденным. Муз еще раз пролаял, беспокоясь за хозяина. Не в силах оторваться от телескопа, Гарри восстанавливал в памяти облик существа, возникшего только что перед ним. В нем было что-то от обезьяны, но морда была более вытянутой и более безобразной. Загадочное, невиданное человекообразное существо. В пугающем облике проглядывали волчьи черты и было еще что-то от древних ящеров. Мелькнули вроде бы и звериные челюсти с выступающими клыками. Лунная ночь лишь наполовину выдала свою тайну. К тому же не исключено, что у него разыгралось воображение. Сидя неподвижно в кресле целыми днями, поневоле начнешь выдумывать всякое. «Призраки» внезапно метнулись в черноту ночи. Он едва успел заметить, что они скрылись во дворе дома Клейморов. Гарри начал снова искать их повсюду, в том числе и во дворе школы на Рошмор-стрит, но, кроме тумана, мрака и знакомых очертаний зданий, ничего не обнаружил. Они исчезли так же внезапно, как исчезают воображаемые призраки из комнаты, где спит маленький ребенок, когда включат свет. Гарри оторвал взгляд от телескопа и откинулся в кресле. Муз сразу же поднялся на задние лапы и начал тыкаться в его колени, ища ласки, как будто это он, а не хозяин видел «призраков» и теперь нуждался в утешении. Правая рука Гарри еще дрожала, когда он гладил мохнатую голову ньюфаундленда. Прикосновения к мягкой шерсти успокаивали его самого не меньше, чем собаку. Если ФБР выйдет на него после этого письма, непонятно, говорить ли ему о «призраках». Он, конечно, расскажет им все, что видел, и им это должно пригодиться. Но «призраки»… С одной стороны, он был уверен, что эти странные существа, которые попадались в поле зрения его телескопа уже четыре раза, имеют прямое отношение к событиям последних недель. Но, с другой стороны, людям из ФБР будет трудно поверить в их существование. Они не примут его всерьез, или хуже того, он покажется им сумасшедшим, и тогда они вообще не поверят ни одному его слову. «Разве я не вызываю доверия? — спрашивал себя Гарри, поглаживая Муза. — Разве я сумасшедший?» Неужели он, прикованный двадцать лет к креслу, телескопу и биноклям, выдумал всю эту историю, чтобы приблизить мир к себе, утолить свою жажду эмоций? Неужели он выдумал этот сверхъестественный фантастический заговор и решил, что будет тем, кто покарает заговорщиков? Невероятно, нет, не может быть. Война искалечила его тело, но ум остался ясен и трезв, он даже закалился в непрерывной борьбе с одиночеством. Одиночество — его проклятие, а вовсе не сумасшествие. — «Призраки»! — сказал он Музу. Муз зарычал. — Что же будет дальше? Посмотрю завтра в окно и увижу ведьму, летающую на метле?Глава 25
Крисси вышла из леса у камня-пирамиды, навевавшего ей когда-то фантазии о египтянах карликового роста. Впереди виднелись ее дом и конюшни, свет из окон причудливо переливался в тумане. Она раздумывала, не взять ли в конюшне другую лошадь? А может быть, забежать домой и прихватить там теплую куртку? Поразмыслив, она решила обойтись без лошади: так будет безопаснее. И вовсе не обязательно подражать этим глупым героиням из фильмов, которые то и дело возвращаются на заколдованное место. Крисси повернула на северо-восток, к шоссе. Она продолжала сочинять свою воображаемую книгу: ПОДТВЕРЖДАЯ СВОЮ ПРИРОДНУЮ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, КРИССИ ПОВЕРНУЛА ПРОЧЬ ОТ ПРОКЛЯТОГО МЕСТА И УСТРЕМИЛАСЬ В НОЧЬ, ГАДАЯ, ДОВЕДЕТСЯ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ ВНОВЬ ВЕРНУТЬСЯ В СВОЙ ДОМ, ОБРЕТЕТ ЛИ ОНА В БУДУЩЕМ СВОЮ СЕМЬЮ, СТАВШУЮ ЕЙ НЫНЧЕ ЧУЖОЙ. Она бежала теперь по полю, по сухой осенней траве. Она сознательно выбрала путь по открытому пространству — так было ближе до шоссе. Ближе, но и опаснее. Появись из леса ее преследователи, она не сможет убежать от них, силы слишком неравны. Между тем становилось по-настоящему холодно. Фланелевая рубашка совсем не согревала. Героини Андре Нортона умели выходить и из этих ситуаций — своей магической силой они создавали себе одежду из травы, из растений, теплую одежду — из мелких зверюшек, делая это мгновенно и элегантно, как только они умеют это делать. Надо перестать думать про эти книжки. И без этих сравнений муторно на душе. Для отчаяния было много причин. Она потеряла свой дом. Она одна в этом мраке, ей холодно, ее мучают голод, неопределенность, страх. И в довершение всего за ней гонятся загадочные и опасные существа. Но хуже всего не это… Пусть отец и мать всегда держали ее на расстоянии, не баловали ласками — Крисси любила их. А теперь их нет, возможно, она потеряла их навсегда; после этого непонятного превращения они стали чужими, они умерли для нее. В ста футах от шоссе она услышала гул мотора и увидела огни машины, приближающейся со стороны города. В рассеянном тумане она различила и саму машину — это был полицейский автомобиль; на крыше у него вращались синие и красные огоньки. Машина притормозила и свернула на проселок, ведущий к дому Фостеров. Крисси уже готова была закричать, побежать навстречу машине, так как с детства была приучена видеть в полицейских людей, которые всегда придут на помощь. Она даже подняла руку, но тут сообразила, что если уж она не может доверять своим родителям, то с какой стати ждать понимания со стороны совершенно чужих людей. Пораженная как громом мыслью о том, что полицейские, возможно, уже прошли через «обращение», уготованное ей Такером, что они могут быть такими же, как ее родители, Крисси бросилась на траву, укрылась в ней. Свет фар не достал до нее, машина уже свернула на проселок, а в темноте и тумане увидеть ее было невозможно. Машина медленно двигалась по проселку. Возле автомобиля Такера она притормозила, затем поехала дальше, и туман поглотил ее. Крисси поднялась и побежала вперед. Она решила идти в Мунлайт-Ков по шоссе. Если будут попадаться машины, она будет спрыгивать в канаву или прятаться за деревьями и пережидать их. Она не собирается открывать свою тайну первому встречному. В городе она сразу же пойдет в костел Девы Марии и будет просить помощи у отца Кастелли (он был прогрессивным священником и просил называть его отец Джим, но Крисси не могла заставить себя обращаться к нему так фамильярно). Крисси помогала ему во время летнего церковного фестиваля и изъявила желание прислуживать в алтаре во время мессы в следующем году. Отец Кастелли был очень доволен. Он симпатизирует ей и поверит ее истории, какой бы невероятной она ни казалась. Если же он ей не поверит… тогда она попытается добраться до миссис Токава, ее преподавательницы в шестом классе. Крисси выбралась на шоссе, остановилась и бросила взгляд назад, на свой дом, который на этом расстоянии превратился в несколько светящихся точек в тумане. В ознобе от холода и неизвестности она повернула на юг, к Мунлайт-Кову.Глава 26
Парадная дверь дома Фостеров была открыта. Ломен Уоткинс обошел весь дом, осмотрел нижний этаж, забрался наверх. Все было как обычно, за исключением перевернутого стула на кухне и черного саквояжа, оставленного также Такером, да еще в холле на полу валялся баллончик WD-40. Закрыв за собой парадную дверь, Ломен встал на крыльце и прислушался к ночной тишине. Вечерний ветер с моря уже совсем стих. Воздух был необычайно спокоен. Туман, казалось, погасил все звуки, ввергнув мир в гробовую тишину. Всматриваясь туда, где виднелись конюшни, Ломен позвал: — Такер! Фостер! Здесь кто-нибудь есть? Эхо его крика вернулось к нему. Звук был холодный и одинокий. Никто не ответил. — Такер! Фостер! В одной из конюшен горел свет, и дверь была открыта настежь. Ломен решил пойти туда. На полпути от дома к конюшне он услышал раскатистый крик, донесшийся с юга. Звук был слабый, но он не спутал бы его ни с каким другим. Гортанный вопль, в котором смешались злоба, тоска, возбуждение и жажда. Это был крик «одержимых», вышедших на ночную охоту. Ломен остановился и прислушался, надеясь, что ему почудилось. Вопль раздался снова. На этот раз он смог различить два, может быть, три голоса. Они были далеко, не ближе чем в миле отсюда, так что их вопли не могли быть ответом на его крик. У него похолодела спина от этих звуков. Они вызывали в нем странное желание. Нет. Ломен так сжал кулаки, что ногти вонзились в кожу. Он решил устоять против этой темной силы, накатывавшейся на него из ночной темноты. Надо думать только о работе, у него много дел. Если это крики Алекса Фостера, Шэрон Фостер и Джека Такера — а так скорее всего и есть, — где же тогда девчонка, Кристина? Возможно, ей удалось бежать, когда они готовили ее к обращению. Перевернутый стул, оставленный Такером саквояж и открытая настежь парадная дверь, казалось, подтверждали эту неприятную версию. Преследуя девчонку, охваченные возбуждением от погони, Фостеры и Такер могли уступить дремлющей в них жажде «одержимости», вырождения. Или они уже превратились в «одержимых» в другой ситуации, а на этот раз просто мгновенно сорвались в это состояние. Сейчас они преследуют девчонку там, в лесах к югу отсюда, или уже настигли ее, разорвали на куски и остались в том же «одержимом» состоянии, так как их по-прежнему сжигает этот темный огонь, эта жажда. Ночь была холодной, но Ломена прошиб пот. Он хотел… он жаждал. Нет! Сегодня днем Шаддэк рассказал Ломену, что дочь Фостеров пропустила школьный автобус и, возвратившись домой, застала своих родителей врасплох. Они экспериментировали, по их словам, испытывая свои новые возможности. Таким образом, девчонка должна была пройти через обращение раньше намеченного срока и первой среди детей. Но не исключено, что Фостеры солгали, назвав экспериментированием регрессивные изменения в своем состоянии. Дочь увидела в них «одержимых» и была, вероятно, страшно напугана, не понимая, что с ними произошло. Фостеры не могли сказать правду Шаддэку: такое признание сразу же поставило бы их в число выродившихся, отделило бы навсегда от нормальных Новых людей. Обращение, как его задумал Шаддэк, должно было вывести человека на новые рубежи, это была насильственная эволюция. Однако, приобретая в ходе обращения новые возможности, человек иногда становился жертвой регрессивности, одичания. «Одержимые» попадали в разряд отверженных. Но страшнее всего были «одержимые»-убийцы, они убивали всех подряд, повинуясь только проснувшемуся в них инстинкту хищника, — это были настоящие маньяки, скатившиеся до первобытного уровня. Издалека снова раздались крики. Возбуждение с новой силой охватило Ломена, горячей манящей волной пробежав по его телу. Сбросить одежду, почувствовать землю всеми конечностями и бежать обнаженным и свободным от оков цивилизации, мчаться сквозь ночь длинными, плавными прыжками. Бежать по лугу; в лес, туда, где все исполнено дикой красоты, где дичь только и ждет, когда ее обнаружат, догонят, и сомнут, и разорвут. Нет! Контроль. Самоконтроль. Крики впивались в мозг. Он должен контролировать себя. Сердце тяжело стучало. Крики. Манящие, зовущие, дикие крики… Ломен дрожал, затем начались судороги, он почувствовал, как освобождается от прямой осанки, от оков цивилизации, от ее норм, от ее приличий. Первобытный зверь внутри его жаждал освобождения, той минуты, когда можно будет выпрыгнуть из клетки и начать жить на воле… Нет, это немыслимо. Ноги подкосились, и он упал на землю, но не на четвереньки, чтобы не поддаться искушению, а на бок, застыв в позе зародыша, подтянув колени к туловищу. Он должен сопротивляться до конца. Его плоть раскалилась, он словно лежал на солнцепеке, но жар шел изнутри, из глубины, из миллиардов клеток, из их ядер, стремящихся удержать в сохранности генетический материал, по которому он был создан. Распростертый в холоде и тумане ночи, на лужайке перед домом Фостеров, соблазняемый криками «одержимых», он стремился вновь обрести контроль над своим существом, контроль, который даровало ему обращение. Если он уступит этому искушению, он уже никогда не будет прежним Ломеном Уоткинсом. Он будет лишь «одержимым», который притворяется Ломеном Уоткинсом. Он будет мистером Хайдом, навсегда изгнавшим доктора Джекила из своего тела. Он посмотрел на свои руки, прижатые к груди. В желтом свете от окон дома Фостеров ему почудилось, что его пальцы начинают изменяться. В правой руке он ощутил боль. Он почувствовал, как кости, скрипя, принимают иную форму, суставы расширяются, мизинцы и большие пальцы удлиняются, подушечки на пальцах становятся шире, уплотняются сухожилия, ногти твердеют и превращаются в подобие когтей. Ему страшно, он не хочет этого, он умоляет тело вернуться к изначальному состоянию, к человеческому облику. Он сопротивляется восстанию плоти, ставшей подвижной, словно лава. Сквозь сжатые губы он повторяет свое имя: «Ломен Уоткинс, Ломен Уоткинс, Ломен Уоткинс», — как заклинание, которое может предотвратить дьявольское превращение. Время шло. Прошла, возможно, минута. Или десять? Целый час? Он не знал. В схватке за самого себя он потерял чувство времени. Сознание медленно возвращалось к нему. С облегчением он увидел, что не изменился и все так же лежит на лужайке перед домом Фостеров. Только жар по-прежнему обжигал его изнутри. Пальцы были такими же, как всегда. Какое-то время он вслушивался в ночь. Криков не было слышно, и он благодарил небо за эту тишину. Страх — единственное чувство, оставшееся в полной мере при нем с тех пор, как он стал одним из Новых людей, теперь причинял ему физическую боль, от нее хотелось кричать. Он подозревал, что принадлежит к тем, над кем висит дамоклов меч «одержимости», и теперь это подтвердилось. Поддайся он искушению, и тогда прощай все — и тот старый мир, в котором он жил до обращения, и тот великолепный новый мир, который создавал Шаддэк; он провалился бы в небытие. Но еще страшнее была другая мысль. Он не один такой — он начал догадываться об этом давно, — все Новые люди несли в себе зародыши «одержимости». С каждой ночью «одержимых» становилось все больше и больше. Он поднялся на ноги. Его пошатывало. Внутренний жар исчез, и только остывший пот льдом холодил тело. Ломен Уоткинс шел к своей машине и размышлял. Все ли продумал Шаддэк во время своих исследований и их практического воплощения? Было ли обращение единственно возможным решением? Возможно, в нем заключено страшное проклятие. Если допустить, что «одержимые» не исключение, а, напротив, все Новые люди обречены на вырождение рано или поздно… Он представил Томаса Шаддэка, затворника из башни на северной оконечности бухты. Представил, как тот взирает сверху на город, в котором созданные им звери мечутся в ночном мраке. На Ломена нашло оцепенение. Из детства, из книг, которые он любил читать, всплыл образ доктора Моро, и он узнал в Шаддэке этого мрачного героя Герберта Уэллса. Оживший доктор Моро. Он одержим безумной идеей насильственного соединения человека и машины. Он хочет преобразовать мир. Он, безусловно, охвачен манией величия, в его грандиозных замыслах все человечество переходит на новую, высшую ступень развития. Моро тоже хотел поспорить с Богом и сделать из животного человека. Что, если Шаддэк — не гений, что, если он — маньяк, подобный Моро? Тогда они все пропали. Ломен сел в машину, закрыл дверь. Включил зажигание и обогреватель. Его знобило. Зажегся экран компьютера, сигнализируя о готовности к работе. Проект «Лунный ястреб» — его единственная надежда, независимо от того, удастся он или провалится. Ради спасения проекта необходимо убрать эту девчонку, Кристину. Возможно, ей удалось ускользнуть от Такера и родителей. Надо дать указания о наблюдении за шоссе и северным въездом в Мунлайт-Ков. Девчонку надо перехватить во что бы то ни стало. Скорее всего она попытается обратиться за помощью к одному из Новых людей, начнет рассказывать о своих «одержимых» родителях и сама загонит себя в ловушку. А те, кто еще не прошел через обращение, скорее всего не поверят ей. Но лучше все-таки не надеяться на случай, а действовать наверняка. Надо, кроме того, обсудить с Шаддэком ряд вопросов и решить кое-какие чисто полицейские проблемы. И надо еще раздобыть что-нибудь поесть. Он был зверски голоден.Глава 27
Что-то не так, что-то не так, что-то, что-то. Майкл Пейзер оказался у своего дома на юго-восточной окраине города. Он только что вернулся из леса, он только что спустился с заросших лесом холмов. Он был невидимкой и следопытом. Он был змеей и пантерой. Он был гол, как дикий зверь, и он возвращался с охоты, и кровь запеклась вокруг его рта. Возбуждением усталость. Он два часа гонял по лесу свою добычу. Он осторожно обошел стороной дома соседей, некоторые из них были с ним одной крови, а некоторые — нет. К счастью, дома стоят далеко друг от друга, и не составляет никакого труда перебегать из тени в тень, от дерева к дереву, в высокой траве припав к земле, слившись с ночью. Быстрота и изящество, скрытность и скорость, раскованность и мощь. Все это с ним. А он сам уже на крыльце своего одноэтажного дома, он уже — через незапертую дверь — на кухне. И вкус крови на губах, крови, сладкой крови. Он славно поохотился, и как славно все же вернуться домой, но… Что-то было не так. Боже, как жжет, как жжет изнутри. Он весь переполнен огнем, его обжигает пламя. Огонь требует пищи, требует топлива, топлива. Это нормально, организм в его состоянии потребляет массу энергии, огонь — это нормально, это просто бешеная жажда жизни. Ненормально другое. Он не мог, не мог… Не мог возвратиться в прежнее состояние. Он вошел в темный дом, возбужденный собственным могуществом, игрой мышц. Он мог видеть в темноте почти так же, как дикие звери. Он слонялся во комнатам, он надеялся найти незваного гостя, пришельца, которого можно разорвать, разорвать и искусать, смять и впиться зубами в живую плоть. Но дом был пуст. В своей спальне он лег на пол. Он лежал на боку и умолял свое тело вернуться к своей прежней форме, к прежнему Майклу Пейзеру, к человеку на двух ногах. Он чувствовал в себе это стремление к нормальному облику, в теле он слышал сдвиг, но не более того, а затем все возвращалось назад. Отлив, затем прилив и опять отлив. А потом — все застывало. Все оставалось на месте, никакого возврата. Он в ловушке, он заперт в этом облике, который еще недавно казался воплощением свободы, столь желанной для него. Он уже не стремился к ней, он рад был бы от нее отказаться. Но он в ловушке, он заперт. Его охватила паника. Он вскочил на ноги и выбежал из комнаты. Несмотря на звериную ловкость, он опрокинул по пути напольную лампу, она упала с грохотом и звоном стекла, но он уже бежал дальше — в холл, в гостиную. Он поскользнулся на ковре. Он в тюрьме. Его собственное, изменившее ему тело стало его тюрьмой. Его преображенные кости стали решеткой этой тюрьмы, из этой клетки не выскочишь. Он кружил по комнате, не мог остановиться, и все кружил и кружил в безумии и бешенстве. Занавески трепетали в вихре от его бега, как живые. Он налетел на стол и опрокинул его. Он может бежать сколько угодно, но не в силах сбежать из своей тюрьмы, он несет ее на себе. Нет выхода, нет выхода. Нет будущего. Сердце выскочит сейчас из груди. В ужасе и отчаянии он разметал кипу журналов, сбил со стола стеклянную пепельницу и керамическую вазу, разорвал обивку дивана. Страшная сила требовала выхода и не находила его. Боль, какая боль. Хочется кричать, но нельзя, он уже не сможет остановиться. Еда. Топливо. Топливо для огня. Он вдруг вообразил, что для возвращения в прежнее состояние ему необходимо топливо, необходима энергия для превращения. Ему нужны энзимы, гормоны, сложные органические соединения, и все это — в огромных количествах. За несколько минут ему надо пройти путь, который обычный организм проходит за годы. Ему нужны белки и минеральные вещества, углеводы и много-много всего другого. В приступе голода, жажды Пейзер поспешил на темную кухню. Открыл дверь холодильника — внутри зажегся свет. Он влез туда всем туловищем, обнаружил большой кусок от трехфунтовой упаковки ветчины, отличной ветчины марки «Саран Рэп». Он схватил ее, выбросил тарелку, на которой она лежала, разорвал оболочку, набросился на ветчину и вгрызался, вгрызался в мясо, не в силах насытиться. Он любил сбрасывать с себя одежду и превращаться в дикого зверя сразу же после прихода ночи, как можно скорее. Он устремлялся в лес, который начинался сразу за его домом, поднимался на холмы и там охотился на кроликов, енотов, лис и сусликов. Он разрывал их на части руками, зубами, он утолял жажду, глубокую, внутреннюю жажду, и он обожал эту охоту не только потому, что получал свободу, но еще и потому, что обретал ни с чем не сравнимое ощущение своего всесилия, божественной силы, ощущение, неведомое ему прежде. Это было всепоглощающе, не сопоставимо ни с чем, в том числе и с сексом. Это была власть, дикая власть, власть человека, обманувшего природу, вырвавшегося за отведенные ему пределы, власть ветра и шторма, свобода от всех ограничений, абсолютная власть. И сегодня ночью он утолял эту жажду власти, промчавшись по лесам неуловимым хищником, непобедимым, как сама темнота, но всей его добычи, всей кровавой жатвы не хватило для возврата к облику Майкла Пейзера, разработчика программного обеспечения, бакалавра, владельца «Порше», страстного собирателя фильмов на видеодисках, любителя марафонского бега и поклонника «Перье». Он вгрызался в ветчину, в оставшиеся два фунта. А затем он смел все, что еще было в холодильнике, — кастрюлю холодного супа с мясом, половину яблочного пирога, купленного вчера в городе, пачку масла весом в четверть фунта, жирного, питательного масла, такого подходящего в качестве топлива, четыре сырых яйца и еще много, много чего. Странный огонь внутри его от подбрасываемого топлива не разгорался, а угасал, так как был всего лишь признаком нехватки энергии для жадно поглощающего ее организма. Теперь огонь унимался, пламя гасло и уступало место тлеющим углям. Насытившись, Майкл Пейзер растянулся на полу перед открытым холодильником в месиве из разбитых тарелок, яичной скорлупы и пустых банок. Он снова сжался в клубок и умолял организм вернуться к человеческому облику. Он снова ощутил в себе сдвиг, сдвиг в костях и мышцах, в крови, органах и в коже. Энзимы и гормоны устремились по его венам, но, как и в прошлый раз, превращение прекратилось на полпути, и он покатился назад, в еще более дикое состояние, хотя сопротивлялся изо всех сил, изо всех сил он тянулся и тянулся вверх из бездны. Дверь холодильника захлопнулась, и он снова очутился в темноте. Майкл Пейзер почувствовал, что теперь темнота царит не только вовне, но и внутри его. Он сорвался в крик. Как он и опасался, начав кричать, он уже не мог остановиться.Глава 28
Незадолго до полуночи Сэм Букер покинул «Ков-Лодж». Он был одет в коричневую кожаную куртку, в голубой свитер, в джинсы, на ногах были синие кроссовки. В такой одежде он не будет заметен в темноте, хотя одет он несколько легкомысленно для человека его возраста и стиля. Его внешне ничем не примечательная куртка имела несколько вместительных внутренних карманов, в которые он положил набор отмычек. Он спустился по южной лестнице, вышел через черный ход и некоторое время постоял на дорожке у мотеля. Густой туман выливался с прибрежных холмов, подгоняемый бризом, который наконец нарушил ночное спокойствие. Через несколько часов бриз выгонит туман с берега, и горизонт прояснится. Но к тому времени Сэм уже закончит свою работу и уже не будет нуждаться в прикрытии — он будет спать или, точнее, бороться с бессонницей в номере мотеля. Сэму было немного не по себе. Он еще не забыл, как удирал от компании юнцов на Айсберри-уэй сегодня вечером. Кто они на самом деле — оставалось для него загадкой, он продолжал считать их панками, но больше для самоуспокоения. Странным образом он чувствовал, что понимает, кто они такие, но не мог проговорить это, догадка шевелилась где-то в глубинах его сознания. Он обошел угол здания, прошел мимо кафетерия и через десять минут закоулками добрался до здания на Якоби-стрит. Здесь размещалось муниципальное управление Мунлайт-Кова. Здание было именно таким, каким его описали агенты ФБР из Сан-Франциско, — двухэтажное, в кирпично-красных и белых тонах, с серой крышей, зелеными ставнями на окнах и большими фонарями у главного входа. Здание занимало полквартала на северной стороне улицы, но не особенно выделялось на фоне жилых домов. На первом этаже свет горел даже в этот поздний час, так как там размещалось полицейское управление, работавшее круглые сутки. Притворившись запоздалым прохожим, Сэм медленно прошел вдоль здания. Все спокойно, никто не суетился, и площадка перед управлением была пуста. Сквозь стеклянные двери был виден ярко освещенный холл. Сэм свернул за угол, в глубину квартала. Дорога шла мимо деревьев, кустарника, заборов, гаражей и пристроек, невдалеке стояли мусорные ящики. За зданием муниципалитета находилась ничем не огражденная стоянка для машин. Он притаился за изгородью из вечнозеленого кустарника и начал изучать местность. На стоянке горели две мощные галогенные лампы, в их свете Сэм насчитал двенадцать автомобилей — четыре «Форда» последних моделей, окрашенных в грязно-зеленый цвет, это были машины муниципалитета; рядом с ними — пикап и фургон с гербом города и надписью: «Отдел водоснабжения»; одна поливальная машина, один грузовик и четыре полицейских автомобиля марки «Шевроле». Эта четверка черно-белых автомобилей и нужна была Сэму, так как все они были оснащены компьютерами, имеющими прямой выход на центральный компьютер в полицейском управлении. У полиции Мунлайт-Кова имелось восемь патрульных машин — очень много для маленького прибрежного города, на пять машин больше, чем в других городах с таким же населением. В таком количестве автомобилей явно не было необходимости, к тому же это было дорогим удовольствием для налогоплательщиков. В этом полицейском управлении вообще был избыток снаряжения, причем все оно было самого высокого качества. Агенты ФБР особо отметили этот факт, когда посетили город по поводу смертей Санчеса и Бустаманте. В Мунлайт-Кове было двенадцать офицеров-полицейских на полной ставке и три офицера на неполной плюс четыре технических работника, занятых полный рабочий день. Немало. Кроме того, все эти работники получали большую зарплату, сравнимую с зарплатой полицейских в больших городах побережья. Каждый был одет с иголочки, их офисы прекрасно оборудованы, все великолепно вооружены и, что самое удивительное, имели компьютерное оборудование, которому позавидовали бы даже парни, сидящие у «красной кнопки» в бункерах Стратегического авиационного командования в Колорадо. Сэм убедился, что никто не сидит в машинах и не стоит у стены здания. Жалюзи на окнах первого этажа были опущены, и оттуда не было видно, что происходит на стоянке. Сэм достал тонкие кожаные перчатки и надел их. Он уже готов был двинуться вперед, как вдруг услышал шум позади себя. Осторожно выглянув из-за изгороди, он увидел картонную коробку, которую ветер тащил по улице и ударял обо все, что попадалось на пути. Удар о мусорный ящик и вызвал шум, заставивший Сэма вздрогнуть. По стоянке струился туман. Он был сейчас похож на дым, казалось, что весь город горит, тлеет. Сэм еще раз огляделся и, вынырнув из своего убежища, побежал к ближайшей к нему полицейской машине. Дверцы машины были закрыты. Сэм извлек из внутреннего кармана куртки универсальную полицейскую отмычку, с ее помощью можно было открыть дверь любого автомобиля. Он открыл машину, сел за руль и закрыл дверь как можно тише. От мощных ламп на стоянке было достаточно света, впрочем, Сэм мог работать и на ощупь. Он достал из кармана специальный гаечный ключ — через несколько секунд замок зажигания был снят, и перед ним открылись ведущие к замку провода. Это был самый неприятный момент. Для нормальной работы видеодисплея надо было включить мотор — компьютер был мощный, имел устройство для микроволновой связи и разрядил бы аккумулятор за несколько минут. Туман мог скрыть следы выхлопного газа, но не звук работающего двигателя. Расстояние до здания было восемь футов, изнутри звук не могли услышать. Но если кто-нибудь выйдет подышать свежим воздухом или побежит на вызов, то наверняка заметит неладное. Тогда предстоит схватка, а если вспомнить про участившиеся случаи насильственной смерти в этом городе, шансов на выживание у него — ноль. Затаив дыхание, осторожно выжимая педаль акселератора правой ногой, Сэм освободил провода от изоляции и соединил их. Двигатель завелся сразу, без резкого звука. Экран компьютера зажегся. Компьютерное обеспечение появилось у полиции благодаря компании «Микротехнология новой волны», использовавшей эту возможность для проверки на практике своих разработок. Отрицать превышение расходов на оборудование полиция не может, это слишком бросается в глаза, но подозрительно было то, что тщательно скрывалось участие в щедрой благотворительности держателя контрольного пакета акций компании и ее директора Томаса Шаддэка. Каждый гражданин вправе поддерживать полицию или другие учреждения своими средствами, но почему Шаддэк делает это тайно, избегая огласки? Если человек дает большие деньги на нужды государства и хочет при этом остаться в тени, за этим что-то кроется. В случае с Шаддэком не исключена возможность подкупа полицейских и должностных лиц. Следующий ход рассуждений — полиция в Мунлайт-Кове служит Шаддэку, и в этом случае необычно большое число насильственных смертей за последние недели может иметь прямое отношение к этому противоправному союзу. На экране компьютера в нижнем правом углу появился символ компании «Новая волна». Во время расследования дела Бустаманте — Санчеса один из лучших агентов, Моррис Стейн, оказался в полицейском автомобиле вместе с офицером Ризом Дорном. Дорн в какой-то момент запросил данные из центрального компьютера. Стейн обнаружил, что компьютеры у полицейских были гораздо совершеннее, чем это пытались представить Уоткинс и его помощники. Они явно предназначались не только для полицейской работы, и эти особенности скрывались от посторонних глаз. Так вот, тогда в машине Моррис Стейн запомнил личный код Дорна, с его помощью полицейский получал доступ в компьютерную систему. Во время разговора с Сэмом Моррис сказал: «По-моему, у каждого полицейского в этом проклятом городе есть свой персональный код, но, вероятно, код Дорна должен сработать. Сэм, тебе надо добраться до их компьютеров и просмотреть все меню, все, что можно из них выжать, и чтобы при этом никто не глядел из-за плеча. Может, я сумасшедший, но, по-моему, у них явный перебор с техникой, это очень подозрительно. На первый взгляд вроде обычный город, даже приятный, чистый… но, черт побери, через какое-то время появляется ощущение, что ты под колпаком, куда бы ты ни пошел, Большой Брат следит за тобой повсюду. Честное слово, через пару дней начинаешь понимать, что находишься в маленьком полицейском государстве. За тобой следят очень незаметно, но цепко и упорно. Эти полицейские завязаны в каком-то темном деле, Сэм, они по уши увязли в нем — может быть, это торговля наркотиками или еще что-то, и компьютеры — часть этих махинаций». Персональный код Дорна был 262699, Сэм набрал его на компьютере. Символ «Новой волны» исчез с экрана. После секундной паузы появилось меню.ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ: A. ДИСПЕТЧЕР. Б. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ. B. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ. Г. ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ.По мнению Сэма, первый раздел меню означал возможность компьютерной связи офицеров в машине с диспетчером в управлении. Но ведь существует и обычная радиосвязь. Зачем набирать текст запросов, читать ответы, если то же самое можно сделать быстрее и проще — через переговоры по радиосвязи? Если только… речь не идет о вещах, которые надо скрыть от посторонних ушей, ведь радиообмен, в отличие от компьютерной связи, гораздо легче перехватить. С диспетчером связываться было совсем ни к чему, так как в этом случае пришлось бы вести диалог, прикидываясь Ризом Дорном. А это то же самое, что закричать: «Эй, я здесь, в одной из ваших машин, и как раз сую свой нос в ваши делишки, почему же вы заставляете себя ждать и не бежите сюда?» Сэм выбрал второй раздел и вызвал следующее меню.
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ: A. ЗАДЕРЖАННЫЕ ПОЛИЦИЕЙ. Б. ДЕЛА, НАХОДЯЩИЕСЯ В СУДЕ. B. ДЕЛА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА РАССЛЕДОВАНИИ. Г. АРХИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАДЕРЖАННЫХ ПО ГРАФСТВУ. Д. АРХИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАДЕРЖАННЫХ ПО ГОРОДУ. Е. РЕЦИДИВИСТЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ГРАФСТВЕ. Ж. РЕЦИДИВИСТЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ГОРОДЕ.Просто для того чтобы убедиться, что за строчками меню стоит именно полицейская информация, а не что-то иное, Сэм вызвал подраздел Е.
РЕЦИДИВИСТЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ГРАФСТВЕ. Появилось следующее меню с десятью разделами: УБИЙСТВО, УБИЙСТВО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, ИЗНАСИЛОВАНИЕ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ, ОСКОРБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ, ВООРУЖЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ, КРАЖА СО ВЗЛОМОМ, НОЧНАЯ КРАЖА СО ВЗЛОМОМ, ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ВОРОВСТВА, МЕНЕЕ ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.Сэм вызвал раздел об убийствах и обнаружил в нем трех рецидивистов-убийц. Они жили в пределах графства, отсидев от двадцати до сорока лет за свои преступления. Сообщались их фамилии, адреса, телефоны, фамилии их жертв, краткие сведения по их преступлениям и срокам заключения. Ни один из них не жил в Мунлайт-Кове. Оторвавшись от экрана, Сэм осмотрел стоянку. На ней по-прежнему было пустынно. Струи густого тумана продолжали причудливо извиваться, Сэм ощущал себя словно в батискафе на морской глубине среди белых змеящихся водорослей. Он вернулся к основному меню и запросил раздел В. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ. Оказалось, что и здесь собраны сообщения, которыми обменивались Уоткинс и его офицеры. Речь шла как о полицейских, так и о частных делах. Большинство из них было записано в такой сжатой форме, что Сэм ни за что не взялся бы их расшифровывать, так же трудно было определить и их значимость. Оставался четвертый раздел — ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ. Здесь перечислялись компьютерные сети, на которые можно было выйти через модем, находящийся в полицейском управлении. Выбор был на редкость богатый: ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА, ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ САН-ФРАНЦИСКО, САН-ДИЕГО, ДЕНВЕРА, ХЬЮСТОНА, ДАЛЛАСА, ФЕНИКСА, ЧИКАГО, МАЙАМИ, НЬЮ-ЙОРКА, а также других городов; УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ КАЛИФОРНИИ, УПРАВЛЕНИЕ ТЮРЕМ, ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖБА АВТОМАГИСТРАЛЕЙ и множество других служб, имеющих весьма отдаленное отношение к полиции: АРХИВ АРМИИ США, АРХИВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, АРХИВ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ, АРХИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЛИНИИ ФБР, АРХИВ ФИЛИАЛОВ ФБР (сравнительно новая база данных ФБР); здесь был даже банк данных нью-йоркского отделения ИНТЕРПОЛА, через который можно было выйти на центральный архив этой организации в Европе. Какая нужда у полиции в калифорнийской провинции во всех этих колоссальных банках данных? Но им, видно, и этого мало. Даже прекрасно оснащенное полицейское управление Лос-Анджелеса не имело свободного доступа к некоторым из перечисленных здесь источников информации. Например, только по решению суда полиция могла получить сведения от TRW — компании, поставлявшей информацию о кредитоспособности фирм. Если у полиции Мунлайт-Кова есть такая возможность, то скорее всего это сделано без ведома самой TRW, так как на пользование этим богатейшим архивом надо было получить специальное разрешение. В меню предусматривался даже выход на базы данных ЦРУ в Вирджинии, закрытые для внешнего пользования, а также на секретные архивы ФБР. Сэм был ошеломлен. Он вывел с экрана это меню и вернулся к основному. Сэм смотрел на туман за окном и думал. Во время разговора со Стейном была высказана версия о причастности полицейских к торговле наркотиками и их негласном сотрудничестве с лицами из компании «Новая волна». Однако требовалось проработать и другую версию — о продаже компанией секретной технологии Советам и о подключении к этому делу полиции, которая могла выполнять функцию защиты этой торговли от федерального вмешательства. Эта версия никак не объясняла убийства в Мунлайт-Кове, но тоже требовала проработки. Теперь, после просмотра данных на компьютере, Сэм готов был отбросить как несостоятельные обе версии. Компьютерная сеть из ста двадцати важнейших баз данных никак не вязалась с суетной торговлей наркотиками или с продажей технологии СССР. Они создали компьютерную сеть, больше подходящую для нужд целого государственного аппарата, вернее, для маленькой страны. Маленькой враждебной страны. Эта сеть наделяла ее владельца огромной властью. Словно в этом живописном городке правил человек с манией величия, стремящийся создать в своем городе-государстве плацдарм для захвата огромных территорий. Сегодня — Мунлайт-Ков, завтра — весь мир. «Что же, черт побери, они здесь делают?» — спрашивал себя Сэм.
Глава 29
Теперь она в безопасности. Тесса переоделась в бело-желтую пижаму с улыбающимся лягушонком Кермитом на груди, открыла банку диет-колы и попробовала посмотреть повтор телешоу «Сегодня вечером». Разговоры, которые вел Джонни Карсон с безмозглой актрисой, безмозглым певцом и с безмозглым актером, не вызвали у нее ни малейшего интереса. Диетической кока-колой, по-видимому, придется запивать духовную диету. Чем дальше удалялись от нее подозрительные происшествия этого вечера, тем больше она сомневалась в том, что за ней кто-то следил. Неудивительно — она еще не оправилась после смерти Джэнис, голова забита тревожными предположениями, да тут еще этот проклятый ужин с жирным чизбургером, пережаренным в прогорклом масле. До сих пор ей плохо. Подобно Скруджу, поверившему сначала в привидение Марли, она теперь принялась рассматривать случившееся с ней совсем в другом свете — призраки явились результатом плохо прожаренного мяса, засохшего сыра, недожаренного картофеля. Когда очередной собеседник Карсона начал рассказывать об уик-энде, проведенном на фестивале искусств в Гаване, на котором присутствовал Фидель Кастро — «славный парень, забавный парень, жалкий парень», Тесса встала с постели и пошла в ванную умыться и почистить зубы. Она выдавливала на зубную щеткупасту «Крест» и вдруг услышала, как кто-то проверил дверь в ее номер — не открыта ли. Один шаг — и она уже в крошечном коридоре, в двух футах от входной двери. Кто-то настойчиво крутит ручку. Даже особенно не скрывая своих намерений. Дверь уже ходит ходуном. Тесса бросила зубную щетку и кинулась к телефону. Телефон не работал. Она проверила телефонную розетку, нажала на кнопку вызова — бесполезно. Телефонный коммутатор мотеля не отвечал. Телефон был мертв.Глава 30
Несколько раз Крисси пришлось спрыгивать с дороги, чтобы спрятаться в кусты при приближении машины. Одна из них промчалась в Мунлайт-Ков, это была полицейская машина, и, несомненно, та самая, которая встретилась ей на повороте к ее дому. Крисси ложилась на траву между стеблей молочая и оставалась там до тех пор, пока задние фары машины не превращались в красные точки и не исчезали за поворотом. Вдоль дороги стояло несколько домов. Крисси знала некоторых из их обитателей — Томасов, Стоунов, Элсвиков. Ее тянуло зайти в один из этих домов и попросить о помощи, но она не была уверена, остались ли эти люди такими же добрыми, какими были когда-то. Вдруг они тоже изменились, как и ее родители? Какая-то сверхъестественная или космическая сила захватила власть над людьми в Мунлайт-Кове и его окрестностях, и, как знала Крисси из многочисленных фильмов ужасов и книг-триллеров, если такие силы начинали действовать, то верить уже нельзя никому. Вот отцу Кастелли из костела Девы Марии она может выложить все как на духу, потому что он святой человек и демоны зла не могут взять в плен его душу. Конечно, если все происшедшее — дело рук пришельцев из космоса, отец Кастелли тоже может быть их жертвой, хоть он и священник. В случае если священник тоже окажется одним из них и Крисси удастся от него улизнуть, она пойдет прямо к миссис Токава, своей учительнице. Крисси буквально боготворила ее. Если пришельцы захотят сотворить что-нибудь плохое в Мунлайт-Кове, то миссис Токава первой заподозрит неладное и сумеет защитить себя. Она будет последней, в кого эти монстры вонзят свои крючья. Крючья, или щупальца, или когти, или щипцы, или что там еще у них может быть. Итак, прячась от машин, проскальзывая мимо домов, Крисси медленно приближалась к городу. Лунный серп, изредка появляющийся из-за тумана, уже заканчивал свой путь на небе, скоро он скроется совсем. С запада подул ветер, его сильные порывы трепали ее волосы, и они развевались словно белые языки пламени. Было не очень холодно, около десяти градусов, но при порывах ветра Крисси пробирала дрожь. Единственное утешение — дрожа от холода, она забывала о мучительном голоде. НАЙДЕН БЕСПРИЗОРНЫЙ РЕБЕНОК, УМИРАЮЩИЙ ОТ ГОЛОДА И СМЕРТЕЛЬНО НАПУГАННЫЙ ВСТРЕЧЕЙ С ПРИШЕЛЬЦАМИ ИЗ КОСМОСА, — придумала Крисси новый заголовок для «Нэшнл инкуайрер». Она уже приближалась к пересечению шоссе с Холливел-роуд, радуясь, что осталось совсем немного до города, когда едва не угодила в лапы тем, от кого пыталась убежать. К востоку от шоссе Холливел-роуд поднималась на холмы, проходила под автострадой и заканчивалась около старой, заброшенной колонии «Икар». Колония представляла собой полуразрушенный дом из двенадцати комнат, сарай и остатки дворовых построек. В этом месте в пятидесятых годах группа художников пыталась обосновать коммуну с идеальными общественными отношениями. После этого здесь пробовали устроить конный завод (затея провалилась), воскресный «блошиный» рынок и аукцион (затея провалилась), ресторан с экологически чистыми продуктами (затея провалилась). С тех пор место это приходило в запустение. Детвора считала, что здесь водятся привидения, и поэтому сюда часто приводили тех, кого хотели проверить на храбрость. Если идти по этой дороге в обратную сторону, то вдоль окраины города выйдешь к корпусам компании «Новая волна» и далее — к дому, где жил Томас Шаддэк, компьютерный гений. Дом у него был большой, какой-то фантастической архитектуры. Крисси не собиралась идти по Холливел-роуд ни на запад, ни на восток, для нее это было просто место, где начинается городская черта. В ста футах от пересечения дорог она услышала глухой рев двигателя приближающейся машины, перепрыгнула через кювет и спряталась среди сосен. Из своего убежища она стала следить за машиной, та остановилась на перекрестке, прямо на середине дороги. На перекрестке часто случались аварии, и недавно на нем установили мощный фонарь, так что Крисси могла все прекрасно видеть. Кабина грузовика сбоку была окрашена символом компании «Новая волна», Крисси видела этот символ тысячу раз — бело-голубой круг с гребнем синей волны внизу. В широком кузове грузовика сидели шесть или восемь человек. Сразу, как только грузовик затормозил, из его кузова выпрыгнули двое мужчин. Один из них пошел в северо-западный угол перекрестка и укрылся среди сосен, всего в сотне футов от того места, где стояла Крисси. Второй занял место в противоположном углу перекрестка, спрятавшись в чапарале. Грузовик повернул на юг по шоссе и скрылся из виду. Крисси сообразила, что остальных людей, вероятно, разместят по периметру восточной окраины Мунлайт-Кова, и они будут наблюдать за дорогой. Если учесть, что в таком грузовике может поместиться человек двадцать, значит, и в других местах вокруг города стоят люди. Они окружили Мунлайт-Ков кольцом патрулей. Она почти уверена, что ищут именно ее. Она видела то, что не должна была видеть, — своих родителей в момент превращения, родителей, сбрасывающих человеческое обличье. Теперь ее хотят найти и «обратить», как сказал Такер, пока она не успела предупредить людей о грозящей опасности. Шума грузовика уже не слышно. Над дорогой нависла тишина. Туман крутился и извивался вовсю, но ветер с побережья гнал его к холмам, темневшим вдали. Затем бриз сменился резким ветром, закачавшим верхушки деревьев, засвистевшим в них. Натолкнувшись на дорожный знак, ветер издал одинокий и жалобный звон. Крисси знала, что совсем рядом с ней притаились двое, но не могла их разглядеть. Они хорошо спрятались.Глава 31
Туман все быстрее уплывал со стоянки под напором ветра, и так же быстро проплывали мысли в голове Сэма. Такие тревожные мысли, что не дай Бог. Он довольно хорошо разбирался в компьютерах и знал, что разработчики компьютерных программ могут заложить в них варианты, которые не фигурируют в меню на экране. Он еще раз посмотрел на первое меню — А. ДИСПЕТЧЕР; Б. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ; В. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ; Г. ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ — и нажал на клавишу «Д», хотя варианта «Д» меню не предусматривало. На экране появились слова: ПРИВЕТ, ОФИЦЕР ДОРН. Значит, вариант «Д» все-таки существовал. Сэм проник в секретную базу данных, в которой для получения информации требовалось задавать заранее обусловленные вопросы или действовать по интерактивной системе, то есть просто набирать вопросы на клавиатуре. Если в данном случае предусмотрен первый вариант, то ему придется туго — достаточно ошибиться в одном вопросе-шифре, и компьютер отключится да еще пошлет сигнал тревоги в полицейское управление о том, что неизвестный пытается снять информацию с компьютера Дорна. Сэм осторожно набрал ответ: ПРИВЕТ. ЧЕМ Я МОГУ ПОМОЧЬ? Сэм решил действовать напрямую, по программе «вопрос — ответ». Он набрал слово МЕНЮ. Экран погас, затем опять появился вопрос: ЧЕМ Я МОГУ ПОМОЧЬ? Еще одна попытка: ОСНОВНОЕ МЕНЮ. ЧЕМ Я МОГУ ПОМОЧЬ? ГЛАВНОЕ МЕНЮ. ЧЕМ Я МОГУ ПОМОЧЬ? Компьютер явно понимал только заранее обусловленные вопросы. Придется действовать методом проб и ошибок. Сэм сделал новую попытку: ПЕРВОЕ МЕНЮ. На этот раз его ждала удача. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ: A. ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ «НОВАЯ ВОЛНА». Б. ПРОЕКТ «ЛУННЫЙ ЯСТРЕБ». B. ШАДДЭК. Обнаружена тайная связь между компанией «Новая волна», ее основателем Томасом Шаддэком и полицией Мунлайт-Кова. Непонятно пока, что это за связь и что за ней кроется. Вероятно, нажав на клавишу «В», он сможет связаться с Шаддэком. Такая связь явно предусматривает наличие каких-то тайн, о которых нельзя говорить по обычной радиосвязи. Вот еще одно доказательство сговора Шаддэка с местными властями. Но для него вариант «В» неприемлем, так как Большой Босс сразу раскусит его, если он начнет говорить от имени Дорна. Вариант «А», по всей видимости, даст ему список должностных лиц компании и номера, по которым можно выйти на связь с ними. Это тоже пока ни к чему. К тому же он чувствовал, что время поджимает. Он еще раз оглядел автостоянку, обратив особое внимание на густые тени в тех местах, куда не проникал свет от фонарей. Он сидит в машине пятнадцать минут, и за это время никто не появился на стоянке. Вряд ли удача будет долго сопутствовать ему, надо поторопиться и выжать из компьютера как можно больше, пока ему не помешали. Вариант Б. ПРОЕКТ «ЛУННЫЙ ЯСТРЕБ» был самым загадочным и интригующим, поэтому Сэм нажал на клавишу «Б», и перед ним предстало очередное меню. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ: A. ОБРАЩЕННЫЕ. Б. ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБРАЩЕНИЮ. B. ГРАФИК ОБРАЩЕНИЯ — МЕСТНЫЙ. Г. ГРАФИК ОБРАЩЕНИЯ — ВТОРОЙ ЭТАП. Выбрав вариант «А», Сэм получил список фамилий и адресов. Все перечисленные в нем жили в Мунлайт-Кове, наверху имелся заголовок: 1967, ОБРАЩЕННЫЕ, СОСТОЯНИЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Обращенные? Из кого? В кого? Может быть, эти темные дела имеют отношение к религии? Какая-нибудь новая секта? Или слово «обращенные» используется в переносном смысле? Или это шифр? От этого слова бегут мурашки по коже. Сэм обнаружил, что может просматривать список фамилий в том порядке, в каком они даны, или в алфавитном порядке. Он стал искать фамилии жителей Мунлайт-Кова, которых знал или встречал. Ломен Уоткинс был среди обращенных. Здесь же был Риз Дорн. Берта Пекема, владельца таверны «Рыцарский мост», в списке не было, зато полностью фигурировало семейство Пересов, вероятно, это семья, содержавшая мексиканский ресторан. Сэм проверил, нет ли в списке Гарольда Талбота, ветерана-инвалида, с которым он намеревался встретиться утром. Талбота не было. Озадаченный странным списком, Сэм вернулся к первому меню и решил посмотреть вариант Б. ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБРАЩЕНИЮ. Возникли новые колонки фамилий и адресов, над ними шла надпись: 1104, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБРАЩЕНИЮ. В этом списке он нашел Берта Пекема и Гарольда Талбота. Он также проверил раздел В. ГРАФИК ОБРАЩЕНИЯ — МЕСТНЫЙ, появились три подраздела: A. ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ, 18.00 — ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ, 6.00. Б. ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ, 6.00 — ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ, 18.00. B. ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ, 18.00 — ПОЛНОЧЬ. Часы показывали тридцать девять минут первого ночи, совсем недавно наступил вторник, то есть данный момент относился к первому пункту. Его и выбрал Сэм. Еще один список, озаглавленный: 380, НАМЕЧЕНЫ К ОБРАЩЕНИЮ. На Сэма нашло оцепенение, и он не мог понять его причин. Разве что загадочное слово «обращение» вывело его из равновесия. Оно заставило его вспомнить старый фильм Кевина Маккарти «Похитители трупов». Вспомнилась также группа юнцов, которые гнались за ним несколько часов назад. Они были тоже… обращенные? В этом списке он обнаружил фамилию владельца таверны. Талбота не было. По машине вдруг кто-то ударил. Сэм поднял голову и потянулся за револьвером. Ветер. Это был всего лишь ветер. Резкие порывы налетели с побережья и несколько раз качнули машину, разогнали туман. Затем ветер стих, и туман вновь окутал стоянку, но сердце у Сэма продолжало учащенно биться.Глава 32
Тесса опустила трубку бесполезного телефона, дверная ручка больше не дергалась. Она постояла у кровати, прислушиваясь, затем на цыпочках подошла к двери, приложила к ней ухо. Она различила чьи-то голоса, они раздавались в конце коридора. Необычные голоса, они звучали хриплой скороговоркой. Она не смогла разобрать ни слова. Несомненно, это те самые, которые следили за ней недавно, пытаясь остаться незамеченными. Они вернулись. Каким-то образом им удалось отключить телефон, она не могла позвать на помощь. Сказать кому — не поверят, и тем не менее это факт. Такая целеустремленность с их стороны указывала на то, что они не были обыкновенными грабителями или насильниками. Они наметили ее в жертву, так как она — сестра Джэнис и хочет распутать клубок загадок, связанных с ее смертью. Странно только, как они смогли узнать о ее приезде в город и почему они так спешат, ведь она пока не проявила никакой активности. Только она сама и ее мать были в курсе ее намерений провести собственное расследование обстоятельств гибели Джэнис. Ногам стало холодно, и она почувствовала себя очень неуютно в пижаме. Подошла к шкафу и надела джинсы и свитер. В мотеле жил кто-то еще. Куин сказал, что у них есть еще несколько постояльцев. Два или три человека. Если будет совсем плохо, она закричит, ее услышат, и тогда ее преследователям придется отступить. Тесса достала из шкафа кроссовки, надела их и вернулась к двери. В дальнем конце коридора раздались и сразу смолкли низкие, хриплые голоса, а затем прогремел оглушительный удар, заставивший ее вздрогнуть от неожиданности. За первым ударом последовал второй. Кто-то с треском высаживал дверь. Взвизгнула женщина, крикнул что-то мужчина, но их крики перекрыли другие голоса — услышав их, Тесса содрогнулась от ужаса. Три, а возможно, и четыре голоса звучали непривычно и дико. В коридоре раздавался волчий вой, рычание хищников, вопли и разгоряченный визг, стон неведомых вампиров и другие звуки, принадлежащие, несомненно, животным, а не людям, и тем не менее в гуле можно было различить несколько человеческих слов: «…жажда… жажда… поймаем ее, поймаем… поймаем… кровь, сука, кровь». Прижавшись к двери, подперев ее всем телом, Тесса пыталась убедить себя, что эти слова принадлежат мужчине и женщине, в номер которых ворвались бандиты, но понимала, что это не так, — она явственно слышала сквозь голоса вопли этих людей. Они кричали страшно, невыносимо, это были вопли ужаса и агонии, как будто их избивали до смерти и даже хуже того — выворачивали наизнанку, четвертовали, потрошили. Пару лет тому назад Тесса снимала в Северной Ирландии фильм о бессмысленности террора и имела несчастье прийти на похороны очередной «жертвы экстремизма» — уже не важно, католика или протестанта, та и другая стороны потеряли счет жертвам, — и в этот момент внезапно толпа скорбящих преобразилась в стадо дикарей. Они ринулись из церковного двора на улицу в поисках иноверцев и вскоре наткнулись на двух британских офицеров в штатском, патрулировавших район на обычной машине. Автомобиль оказался окруженным толпой, в нем выбили стекла и выволокли «стражей порядка» на мостовую. Двое помощников Тессы сразу куда-то скрылись, а ее толпа увлекла за собой, и она сквозь окуляр видеокамеры как бы заглянула в ад. Дикие глаза, лица, искаженные ненавистью и злобой. Эти люди забыли о жалости, их обуревала жажда расправы. «Скорбящие» без устали пинали ногами лежащих на земле британцев, били их чем попало, кололи прутьями, швыряли об машину до тех пор, пока не переломали ребра и не раскололи черепа. Они продолжали терзать, рвать их на части, когда те были уже мертвы. С воем и воплями, с ругательствами и лозунгами, превратившимися в бессмысленный набор слов, они, подобно стервятникам, нападали на мертвые тела. Нет, их нельзя было сравнить с земными птицами, они напоминали демонов, слетевшихся, чтобы похитить не столько тела, сколько души жертв. Двое безумных заметили Тессу, вырвали у нее камеру и разбили о мостовую. На мгновение ей показалось, что и ее ждет страшная участь британских офицеров. Перекошенные ненавистью лица потеряли человеческие черты и стали похожи на химер, слетевших с крыш готических храмов и оживших. Эти люди забыли о человечности и позволили разыграться низменным, первобытным инстинктам. «Ради Бога, нет! — кричала она. — Ради Бога, пожалуйста». Возможно, упоминание Бога или просто звук человеческого голоса, обыкновенного, не переродившегося в звериный вопль, остановил их, и они застыли в нерешительности. Она воспользовалась этой паузой, чтобы вырваться из их рук и броситься сквозь клокочущую, обезумевшую от крови толпу прочь — к своему спасению. То, что она слышала сейчас в конце коридора, было очень похоже на звериный вой той толпы. Или даже хуже.Глава 33
Пот застилал глаза даже при выключенном обогревателе. Каждый порыв ветра вызывал дрожь. Сэм переключился на подраздел «Б», в котором перечислялись люди, подлежащие обращению в период от шести часов сегодняшнего утра до восемнадцати часов. Список предваряла надпись: «450, НАМЕЧЕНЫ К ОБРАЩЕНИЮ». Гарри Талбота не было и в этом списке. В подразделе «В» с шести вечера до завтрашнего утра намечалось 274 обращения. Фамилия Гарри Талбота была указана в этом третьем и последнем списке. Сэм сложил числа, указанные в каждом из списков, — 380, 450, 274 — получилось 1104, то самое число, которое указывалось в разделе о количестве жителей, не прошедших через обращение. Если сложить это число с числом уже обращенных — 1967, то получится 3071; вероятно, это все население Мунлайт-Кова. То есть когда часы пробьют полночь в последний раз, весь город пройдет через обращение, что бы это слово ни значило. Сэм вывел с экрана последний подраздел и уже собирался выключить мотор и выбираться из машины, когда на экране появилось слово «ТРЕВОГА». Его охватило отчаяние — значит, они обнаружили постороннего, вторгшегося в их базы данных; возможно, он сам по незнанию наткнулся на скрытую в системе защиту. Но вместо того, чтобы бежать из машины, он застыл, прикованный к экрану, снедаемый любопытством. ПРОВЕРКА ТЕЛЕФОНОВ УКАЗЫВАЕТ НА ПРЕБЫВАНИЕ В МУНЛАЙТ-КОВЕ АГЕНТА ФБР. НОМЕР, С КОТОРОГО ПРИШЕЛ ЗВОНОК: ТАКСОФОН У ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ «ШЕЛЛ» НА ОУШН-АВЕНЮ. Получается, что тревога объявлена из-за него вовсе не потому, что он сидит сейчас в их патрульной машине и пытается проникнуть в секреты проекта «Лунный ястреб». По всей видимости, эти негодяи связаны с телефонной компанией и ее банком данных. Они периодически проверяют, кто куда звонил, причем даже из телефонов-автоматов. Таксофонами можно спокойно пользоваться при выполнении задания в обычных условиях. Но здесь — особый случай. Местная полиция просто помешалась на вопросах безопасности и на головоломной технике. В этом убеждаешься, когда сталкиваешься с их безумным стремлением контролировать буквально всех подряд. ВРЕМЯ ЗВОНКА: 19.30, ПОНЕДЕЛЬНИК. 13 ОКТЯБРЯ. Слава Богу, они не проверяют звонки ежеминутно или ежечасно. Компьютер отслеживает звонки, видимо, по программе каждые шесть или восемь часов. Иначе они выследили бы его сразу после разговора со Скоттом. В графе «НОМЕР АБОНЕНТА» появился номер его домашнего телефона, его фамилия и адрес в Шерман-Оаксе. Затем по экрану поползли следующие строки: ЗВОНИЛ: СЭМЮЭЛ Г. БУКЕР. ФОРМА ОПЛАТЫ: ТЕЛЕФОННАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА. ТИП КАРТОЧКИ: КАРТОЧКА С ОПЛАТОЙ СО СЛУЖЕБНОГО СЧЕТА. СЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН: В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛУМБИЯ. Теперь они начнут проверять мотели по всему округу, но так как он остановился в «Ков-Лодже» — единственном мотеле в городе, то их поиски займут не много времени. Сэм быстро прикинул, успеет ли он добежать до мотеля, взять свою машину и домчаться до ближайшего города, Абердин-Уэлса. Оттуда он мог бы дозвониться в офис ФБР в Сан-Франциско с неконтролируемого телефона. У него уже есть достаточно оснований для серьезных подозрений, и он вправе попросить о вмешательстве федеральных властей и начале углубленного расследования. Слова, появившиеся на экране, показали, что с этой затеей он уже опоздал, — его перехватят еще до выезда из города. Если он попадет к ним в руки, то местная статистика «случайных» смертей пополнится еще одним мрачным эпизодом. Кроме того, они знают теперь его домашний адрес, и Скотту тоже угрожает опасность. Пусть не сейчас, но, возможно, завтра. ТЕКСТ ДИАЛОГА: УОТКИНС: ШОЛНИК, ТЫ НА СВЯЗИ? ШОЛНИК: ДА. УОТКИНС: ПРОВЕРЬ «КОВ-ЛОДЖ». ШОЛНИК: Я КАК РАЗ РЯДОМ. Итак, один из офицеров, Шолник, уже едет проверять, снял ли Сэм номер в «Ков-Лодже». И выходит, легенда о преуспевающем брокере в поисках тихого городка для отдыха полетела в тартарары. УОТКИНС: ПЕТЕРСОН? ПЕТЕРСОН: НА СВЯЗИ. Вероятно, им нет необходимости каждый раз печатать свои фамилии. Компьютер идентифицирует каждого и перед каждой репликой впечатывает фамилию. Легко, просто и удобно. УОТКИНС: ПРОДУБЛИРУЙ ШОЛНИКА. ПЕТЕРСОН: БУДЕТ СДЕЛАНО. УОТКИНС: НЕ УБИВАЙТЕ ЭТОГО ПАРНЯ, МЫ ЕГО СНАЧАЛА ДОПРОСИМ. Полицейские общались между собой по компьютерной связи, избегая таким образом перехвата информации. Даже по коротким репликам, не видя своего противника в лицо, Сэм понял, что перед ним серьезный враг, по своей осведомленности в происходящем готовый потягаться с самим Господом Богом. УОТКИНС: ДАНБЕРРИ ДАНБЕРРИ: ШТАБ-КВАРТИРА НА СВЯЗИ. УОТКИНС: ЗАБЛОКИРУЙТЕ ОУШН-АВЕНЮ, ЗАКРОЙТЕ ВЫЕЗД НА АВТОСТРАДУ. ДАНБЕРРИ: БУДЕТ СДЕЛАНО. ШАДДЭК: ЧТО НОВОГО ПО ДОЧЕРИ ФОСТЕРОВ? Сэм глазам своим не поверил, когда увидел на экране фамилию Шаддэка. Вероятно, сигнал тревоги сработал на компьютере у него дома и разбудил его. УОТКИНС: ПРОДОЛЖАЕМ ПОИСКИ. ШАДДЭК: НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ОНА ВСТРЕТИЛАСЬ С БУКЕРОМ. УОТКИНС: ГОРОД ОЦЕПЛЕН ПАТРУЛЯМИ, ОНА БУДЕТ СХВАЧЕНА, КАК ТОЛЬКО ПРИБЛИЗИТСЯ К ГОРОДУ. ШАДДЭК: ОНА СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЕТ. Сэм читал о Томасе Шаддэке в газетах, в журналах. Парень был своего рода знаменитостью, компьютерным гением и несколько не от мира сего. Пораженный этим знаменательным диалогом, доказывающим прямую связь между знаменитостью и купленной им полицией, Сэм не сразу уловил смысл предыдущих реплик в разговоре Уоткинса и Данберри: ДАНБЕРРИ: …ШТАБ-КВАРТИРА НА СВЯЗИ… ЗАБЛОКИРУЙТЕ ОУШН-АВЕНЮ… БУДЕТ СДЕЛАНО. Он только сейчас сообразил, что офицер Данберри сидит в штаб-квартире, то есть в здании муниципального управления, и в любую минуту может выйти на стоянку и сесть в одну из четырех патрульных машин. — О черт! — Сэм потянулся к проводам зажигания и отсоединил их друг от друга. Мотор заглох, и экран компьютера погас. Через долю секунды Данберри распахнул дверь черного хода и выбежал на стоянку.Глава 34
Когда крики в коридоре утихли, Тесса вышла из оцепенения и снова попробовала позвонить. Телефон по-прежнему был отключен. Где же Куин? Если его нет в вестибюле, то, вероятно, он спит в одном из помещений мотеля. Он не мог не слышать этой свистопляски. А если он заодно с ними? Они выломали одну дверь. Не будет ли ее дверь еле-дующей? Тесса схватила стул и продела одну из ножек в ручку двери, заблокировав ее. Ее частное расследование причин смерти Джэнис не имеет никакого отношения к тому, что творится за дверью, — это факт. Они напали в первую очередь на людей, никак не связанных с Джэнис. Какой-то кошмар. В мотеле бесчинствует банда маньяков. Возможно, они свихнулись на религиозной почве, как шайка Мэнсона. Двое невинных людей уже убиты, им ничего не стоит ради собственного удовольствия убить и ее. В дурном сне не увидишь такого. Пусть сон исчезнет, пусть исчезнут эти стены, этот бред. Стены стояли прочно, все вокруг было слишком ярко и отчетливо для сна. Тесса прислушалась. Снова раздались голоса. Но не в конце коридора, а рядом с ее дверью. Вот уже совсем близко. Взглянуть бы на них хоть краешком глаза, посмотреть, что они из себя представляют. Между порогом и дверью была щель шириной в полдюйма. Тесса легла на ковер перед дверью и, припав к нему щекой, попыталась что-нибудь разглядеть. Кто-то быстро прошагал мимо ее двери, настолько быстро, что она не разглядела ничего, кроме очертаний ступ; ней. Их вид поверг ее в смятение. Маньяки из толпы в Северной Ирландии, жертвой которых она едва не стала, были людьми из повседневного, привычного мира. Сейчас ей открылось нечто иное, она словно переместилась в другое измерение, в мир сверхъестественного. Ступни были темные, кожистые, поросшие шерстью, широкие, плоские, подозрительно длинные. Пальцы на ногах — вытянутые, с несколькими суставами, почти такие же длинные, как пальцы на руках. Удар в дверь. Оглушительный грохот. Тесса отступила назад. В коридоре гудели голоса — дикая смесь животных воплей с обрывками исковерканных слов. Тесса подбежала к окну, открыла задвижку и распахнула одну из створок. Еще один удар в дверь. Можно оглохнуть от грохота. Дверь благодаря стулу еще держится, но надолго ее не хватит. Сидя на подоконнике, Тесса взглянула вниз. В тумане, желтом от света фонарей, футах в двадцати внизу виднелась дорожка. Можно прыгать. Они крушили дверь. Дерево трещало. Тесса оттолкнулась от подоконника. Приземление было удачным — она даже не упала. Наверху, в ее номере, треск ломаной двери смешался со скрежетом замка, выворачиваемого с мясом. У северного крыла мотеля Тесса остановилась. Ей показалось, что кто-то скрылся за углом при ее приближении. Это скорее всего клочья тумана, подгоняемые ветром, но она решила не рисковать и повернула назад. Когда она добежала до другого угла здания, эхо разнесло громогласный грохот — дверь ее номера рухнула; вслед за этим послышались завывания стаи, предвкушающей добычу.Глава 35
Сэм не мог выбраться из патрульной машины, не обратив на себя внимания Данберри. У полицейского был выбор из четырех машин, следовательно, шансы Сэма остаться незамеченным были равны семидесяти пяти из ста. Сэм сполз как можно ниже с сиденья и наклонился вправо, спрятавшись за передней панелью автомобиля. Данберри подошел к машине, стоящей рядом. Сквозь боковое стекло Сэм видел, как Данберри открывает дверь соседней машины. Только бы он не обернулся: одного взгляда будет достаточно, чтобы обнаружить незваного гостя. Полицейский сел за руль своей машины, и у Сэма вырвался вздох облегчения. Завелся мотор, и Данберри выехал со стоянки. На аллее он дал полный газ, завизжали шины, и машина унеслась на огромной скорости. Неплохо было бы еще раз включить зажигание и проверить, чем сейчас заняты Уоткинс с Шаддэком. Но теперь за Сэмом шла охота, скоро полицейское управление может зажужжать, как растревоженный улей. Им незачем знать, что он проник в их секреты и подслушал разговоры по компьютерной связи. Пусть думают, что он не в курсе их дел, проще будет ускользнуть от них. Исходя из этого, Сэм потратил несколько секунд на приведение в порядок замка зажигания. Затем он вышел из машины и захлопнул дверь. По аллее возвращаться было опасно, могла встретиться полицейская машина. Сэм нашел узкий проход за стоянкой, нырнул в него, отворил калитку во двор одного из жилых домов. Владельцы дома в викторианском стиле, видимо, очень нерегулярно подстригали свою живую изгородь, и теперь она высилась мрачным силуэтом на фоне неба, напоминая семью уродов из, мультфильма Гэхана Уилсона. Обойдя дом, Сэм вышел на Пасифик-драйв, он был в одном квартале от Оушн-авеню. Ночную тишину не нарушал вой сирен, не было слышно криков и топота ног. Сэм понимал, что растревожил чрезвычайно опасного зверя, и эта многоголовая гидра выслеживает его сейчас по всему городу.Глава 36
Майкл Пейзер не знал, что делать, не знал; он был в панике, в панике и ужасе. Из-за этого мысли в голове смешались, а ему так нужно было мыслить ясно и четко, по-человечески. Он был сейчас в зверином облике, его мозг судорожно работал, но он не мог проследить за простейшим ходом мысли. В его нынешней ситуации мгновенная реакция, мысль-инстинкт не годились, ему надо было обдумать проблему со всех сторон. Однако, как он ни старался, он не мог сосредоточиться. Ему удалось подавить мучительный, непрекращающийся крик и подняться с пола. Он выбежал в столовую, оттуда — в гостиную, затем в холл, в спальню, отворил дверь в ванную комнату. Он бежал все время на четвереньках, но на пороге ванной ему удалось наполовину выпрямиться. Вцепившись в край раковины, он уставился в зеркало. При слабом свете луны из крошечного окошка он различал лишь свое призрачное отражение, не более того. Ему необходимо поверить в свое возвращение к человеческому облику, необходимо отбросить все мысли о безысходности. Да-да, надо верить, верить, верить, несмотря ни на что. Несмотря на то, что он не может до конца выпрямиться, несмотря на свои звериные лапы, несмотря на странную посадку головы на плечах, несмотря на свое неузнаваемое тело. Надо верить. — Зажги свет, — сказал он себе. И не мог сдвинуться с места. — Зажги свет. Он боялся. — Надо зажечь свет и взглянуть на себя. Руки не могли оторваться от раковины. — Зажги свет. Не в силах сдвинуться с места, он прилип к зеркалу, пытаясь что-то разглядеть в неясном отражении, но не видел ничего, кроме янтарных, мерцающих глаз. — Включи свет. Он издал стон страдания и ужаса. Шаддэк, внезапно вспомнил он. Шаддэк, он должен рассказать все Шаддэку. Том Шаддэк должен знать, что делать. Шаддэк был его надеждой, возможно, единственной надеждой. Шаддэк. Он сумел разжать пальцы, отцепился от раковины, встал снова на четвереньки и побежал в спальню, к телефону. По пути он то пронзительно тонким, то гортанным, хриплым голосом повторял, словно заклинание, имя: «Шаддэк, Шаддэк, Шаддэк…»Глава 37
Тесса Локленд нашла себе убежище в прачечной самообслуживания, открытой круглые сутки. Она находилась в четырех кварталах от мотеля «Ков-Лодж» и совсем рядом с Оушн-авеню. Люминесцентные лампы давали яркий свет, не оставляющий теней. Прачечная была пуста. Тесса села на неудобный пластиковый стул напротив машин для сушки белья и стала смотреть на их стеклянные круглые окна, словно надеясь отыскать там объяснение случившемуся с нею. Она — режиссер документального кино, у нее наметанный глаз, она чувствует атмосферу, колорит места. На ее профессиональный взгляд, этот город пронизан темнотой, смертью и мрачными тайнами. Нет сомнений, фантастические существа из мотеля дали о себе знать в первый раз во время ее прогулки по пляжу. Ее сестра пала их жертвой, она уверена в этом. Отсюда и настойчивость властей, уговаривавших Марион согласиться на кремацию. Огонь должен был уничтожить следы нападения этих тварей. Полиция боялась, что тайное станет явным во время вскрытия. Приметы того, что местная полиция замешана в темных делах, она видела и на улицах Мунлайт-Кова — закрытые магазины, вялая торговля никак не вязались с рассказами о процветании и отсутствии безработицы. Тесса припомнила странный вид прохожих — торжественный и чересчур деловой, удивительный для маленького сонного города. Все это она заметила и оценила. Не было только ответа на вопрос: зачем полиции надо было скрывать истинную причину смерти Джэнис? Почему город погружается в депрессию? Что за существа свирепствовали в мотеле? Она видела все, но не могла объяснить происходящее. В прачечной пахло стиральным порошком, отбеливателем, ароматизаторами. Было прохладно. Тесса пыталась сообразить, что делать дальше. От мысли разгадать причину смерти Джэнис она не отказывалась, но теперь, трезво оценивая свои силы, она понимала, что вести игру в одиночку больше нельзя. Ей нужна помощь, и она надеялась получить ее от властей округа или штата. Но первым делом надо выбраться из Мунлайт-Кова целой и невредимой. Возвращаться в «Ков-Лодж» за своей машиной опасно. Эти… существа могут быть еще там или следить за мотелем из зарослей кустарника, притаившись среди теней, из которых был соткан весь город. Мунлайт-Ков, Кармель, другие города калифорнийского побережья были построены на месте густых прибрежных лесов. Тессе всегда очень нравился Кармель из-за удивительного сочетания творений человека и природы. Два творца трудились над этим городом рука об руку и не мешая друг другу. В отличие от Кармеля, Мунлайт-Ков не вызывал восхищения своей обильной зеленью и искусной игрой ночных теней, напротив, за внешним лоском города отовсюду проглядывала его суть — непонятная, дикая, первобытная, полная подозрений и угроз. За каждым деревом таились неизвестность и смерть. Может быть, город не произвел бы на Тессу такого мрачного впечатления, будь он весь пронизан светом, как эта прачечная, в которой она укрылась от опасности. Полиция уже наверняка появилась в мотеле, чтобы выяснить причину шума и крика. Тессе незачем было встречаться со стражами порядка. Они явно были в сговоре с преступниками. Начнут расспрашивать об убийстве соседей по мотелю, могут узнать в ней сестру погибшей Джэнис. Если попытаться скрыть интерес к этой трагедии, это вызовет у них еще больше подозрений. Они скрывают истинную причину смерти Джэнис и не остановятся перед самыми крайними средствами, чтобы убрать назойливую сестру убитой. О машине, оставленной возле мотеля, придется забыть. Идти же пешком из города ночью чертовски опасно. Возможно, ей повезет, и она остановит на трассе нормального водителя, а не наткнется на очередного маньяка, но до трассы еще надо добраться по шоссе, идущему сквозь лес. Существа, выломавшие дверь в ее номере, наверняка чувствуют себя привольно за городом, вдали от людей. Конечно, они могут напасть и в городе, прямо на улице.. Ни здесь, в прачечной, ни в лесу она не будет чувствовать себя в безопасности. Когда рушатся устои и пробуждаются первобытные инстинкты, нет покоя нигде, даже на ступенях храма. В этом Тесса убедилась в Северной Ирландии, и не только там. Все же она предпочитает свет тьме, населенной мрачными тенями. Она переступила через порог реального мира и вступила в иные, враждебные пределы. В этом сумеречном пространстве лучше держаться поближе к свету, подальше от мрака. Итак, что делать дальше — неясно. Остается только сидеть в этой прачечной и ждать рассвета. При дневном свете можно решиться на долгий путь до автострады. Пустые стеклянные окна-глаза машин для сушки белья продолжали созерцать ее, сидящую на неудобном пластиковом стуле напротив. Осенний мотылек без устали бился о пластмассовую панель, подвешенную под люминесцентной лампой.Глава 38
Увидев, что проникнуть в Мунлайт-Ков по шоссе не удастся, Крисси повернула назад и направилась к лесу. Она осторожно перебегала от дерева к дереву, стараясь не привлечь внимания патрулей. Удалившись от оцепления на сотню ярдов, она почувствовала себя уверенней. Скоро за деревьями показался одноэтажный дом с большой лужайкой перед ним; в ночной темноте его силуэт был едва различим. Темные окна, полная тишина вокруг. Ей необходимо хоть какое-нибудь убежище, чтобы обдумать свое положение и укрыться от ночного пронизывающего холода. Крисси решила, что таким убежищем может стать гараж, стоящий неподалеку от дома. Она прошла к нему по обочине дороги из гравия, бесшумно ступая по траве. Только бы в доме не было собак. Только бы боковая дверь гаража была открыта. Так и есть. Крисси вошла в гараж и закрыла за собой дверь. СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ КРИССИ ФОСТЕР ПРОНИКЛА В ПОМЕЩЕНИЕ ПРОТИВНИКА ПРОСТЫМ И ОДНОВРЕМЕННО ХИТРОУМНЫМ СПОСОБОМ — ЧЕРЕЗ БОКОВУЮ ДВЕРЬ, — сочинила она. В слабом свете луны, проникавшем в гараж через два узких окошка, хромированные детали машин и их стекла тускло блестели. В гараже было две машины. На ощупь, протянув, словно слепая, руки вперед, Крисси приблизилась к одной из них, открыла дверь и села на сиденье водителя. Так же, на ощупь, она начала обшаривать всю кабину — открыла «бардачок», заглянула в карманы на дверях и под сиденья. Она искала еду, надеясь, что хозяин машины оставил в кабине какую-нибудь ерунду — конфету или пакетик орехов. В последний раз ей удалось перекусить в кладовке, с тех пор прошло десять часов. Желудок требовал пищи. На бутерброд или банку с джемом она, конечно, не рассчитывала, но, обнаружив только жвачку и несколько драже витаминов, Крисси была разочарована. Она надеялась на большее, роясь в мусоре, обрывках бумаг и запчастях от машины. Прекрасный заголовок: ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА. В СТРАНЕ ВСЕОБЩЕГО ИЗОБИЛИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ТРАГЕДИЯ. ЮНАЯ ЛЕДИ НАЙДЕНА МЕРТВОЙ В ГАРАЖЕ. «МНЕ БЫ ТОЛЬКО ПАКЕТИК ОРЕХОВ», — НАПИСАЛА ОНА КРОВЬЮ НА СТЕНЕ. Во второй машине ей повезло больше: она нашла два шоколадных батончика с начинкой из миндальных орехов. СПАСИБО, ГОСПОДИ! КРИССИ. ТВОЯ ПОДРУЖКА. Первую шоколадку она съела в один миг, вторую ела медленно, откусывая по маленькому кусочку, наслаждаясь начинкой, тающей во рту. За едой она прикидывала, как ей попасть в Мунлайт-Ков. К тому времени, когда от шоколадки осталась одна бумажка — ЮНАЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ШОКОЛАДА НАЙДЕНА МЕРТВОЙ В ГАРАЖЕ. СМЕРТЬ НАСТУПИЛА ОТ УКУСОВ ГИГАНТСКИХ ОС, — план был готов. Время, когда она обычно ложилась спать, прошло давным-давно, она была измотана ночью, полной страшных событий, и хотела одного — поспать пару часов, пока чувство голода чуть-чуть утолено шоколадом. Крисси зевнула и вытянулась на сиденье. Тело ныло от усталости, свинцово-тяжелые веки давили на глаза, словно какой-то заботливый могильщик положил на каждое из них по монете. Этот зловещий образ, пришедший ей в голову, мигом отбил всякую охоту ко сну. Она выбралась из машины. Хорошенькое дело — заснуть и проспать до утра, когда кто-нибудь, открыв дверь машины, столкнется с тобой нос к носу. А если это будет один из «обращенных», тогда пиши пропало. Крисси вышла из гаража. На нее сразу набросился холодный ветер. Вернувшись на шоссе, она повернула на север. Миновала два дома, перелесок и вышла к следующему дому, также одноэтажному, с крышей из деревянной дранки и стенами из бруса. Она знала людей, живших в этом доме, — мистера и миссис Юлейн. Миссис Юлейн заведовала кафетерием в школе, а ее муж работал садовником, у него было много клиентов в Мунлайт-Кове. Каждое утро мистер Юлейн въезжал в город на своем белом грузовике, в кузове которого лежало все, что нужно садовнику: газонокосилка, ножницы для обрезки кустарника, грабли, лопаты, мешки с мульчей и удобрениями. Он высаживал миссис Юлейн у школы — в это время ученики только начинали подтягиваться на занятия, — а сам ехал дальше по своим делам. Не попробовать ли спрятаться в кузове грузовика, среди садового инвентаря? Грузовик стоял в гараже, гараж был открыт. Люди в сельской местности до сих пор доверяли друг другу, и это хорошо. Но плохо то, что этой доверчивостью могут воспользоваться пришельцы, которые вот-вот обратят всех жителей в свою веру. Крошечное окно в гараже было расположено на той стороне, которую не было видно из дома Юлейнов, поэтому Крисси решила включить свет в помещении. Забравшись в кузов, она перелезла через инструменты и обнаружила у самой кабины, среди пакетов с удобрениями, кипу пустых холщовых мешков, в которые мистер Юлейн загружал скошенную траву. Часть мешков послужит в качестве матраса, часть — заменит одеяло, здесь она будет спать спокойно, к тому же вряд ли патруль при въезде в Мунлайт-Ков заметит ее в этом укромном углу. Она вылезла из кузова, погасила свет и вернулась в свое убежище. Получилось довольно уютное гнездышко. Правда, жестковато. От мешков исходил запах прелого сена, а их плотная ткань вскоре согрела продрогшую девочку, и она впервые за много часов избавилась от знобящего чувства холода. МРАК СГУЩАЛСЯ (сочиняла она), ЮНАЯ КРИССИ, ЗАРЫВШИСЬ В МЕШКИ, ПАХНУЩИЕ СЕНОМ, СКРЫВАЛАСЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ ОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ — ВОЗМОЖНО, ОТ ОБОРОТНЕЙ, — У КОТОРЫХ НЮХ БЫЛ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У ГОНЧИХ ПСОВ.Глава 39
Сэм решил передохнуть на игровой площадке школы Томаса Джефферсона, расположенной на Паломино-стрит, в южной части города. Он уселся на качели и, слегка раскачиваясь, размышлял, куда ему двигаться дальше. Не было и речи о том, чтобы покинуть Мунлайт-Ков на автомобиле. Если он пойдет за своей машиной в «Ков-Лодж», то будет наверняка арестован полицией. Угонять чужую машину не было смысла: судя по компьютерному диалогу между Уоткинсом и Данберри, дорога на автостраду блокирована. Они закрыли все выезды из города. Он мог пойти пешком, пробраться по закоулкам на окраину города и затем через лес выйти на автостраду. Но Уоткинс упомянул о патрулях, которые должны были «перехватить дочь Фостеров». Сэм был в хорошей форме, но в последний раз он скрывался от противника на открытой местности во время службы в армии, участвуя в боевых действиях. Это было двадцать лет назад. Если патрули на самом деле расставлены вокруг города, то не исключено, что он напорется на один из них. Он не прочь рискнуть, но не хочет попасть к ним в лапы, не вызвав подмогу из ФБР. Что толку, если он пополнит список жертв несчастных случаев? ФБР придется посылать нового агента, тот, возможно, докопается до истины, но будет слишком поздно. Качели слегка раскачивал ветер. Сэм вспомнил о графиках обращений, увиденных им на экране дисплея. Через двадцать три часа все жители города пройдут через обращение. Сэм не понимал, во что обращают этих людей, но само слово ему ужасно не нравилось. Он чувствовал, что, когда процесс обращений будет завершен, раскрыть тайну Мунлайт-Кова будет не легче, чем разгадать китайскую головоломку. Итак, первым делом надо найти телефон и дозвониться до Бюро. Не имеет значения, перехватят его звонок или нет. Ему нужна связь на полминуты, максимум на минуту, и тогда ему обеспечена мощная поддержка. Останется только пару часов поводить за нос полицейских, потом в город нагрянут агенты ФБР. Он не пойдет ни к кому из жителей, чтобы позвонить из телефона. Он не доверяет им. Моррис Стейн сказал, что у него после двух дней пребывания в городе началась мания преследования — ему казалось, что за ним следят из-за каждого угла. Сэм достиг этой стадии через несколько часов, а потом мания преследования переросла в чувство постоянной настороженности. Такого чувства он не испытывал с тех пор, как покинул вьетнамские джунгли двадцать лет назад. Ему нужен телефон-автомат. Другой, не тот, с которого он звонил в прошлый раз. Он в розыске, и ему не стоит маячить там, где его засекли. Гуляя по городу после ужина, он запомнил расположениенескольких телефонов-автоматов. Встав с качелей, Сэм поднял воротник куртки, сунул руки в карманы и пошел через школьный двор к выходу на улицу. Интересно, где сейчас эта девочка, о которой упоминал Шаддэк в разговоре с Уоткинсом? Кто она? Что могла видеть? Нет ли здесь ключа к разгадке тайны? Во всяком случае, она, наверное, могла бы объяснить, что кроется за словом «обращение».Глава 40
Стены, казалось, истекали кровью. На их бледно-зеленой поверхности ярко выделялись красные пятна, от которых во все стороны расходились кровавые брызги. Войдя в номер на втором этаже мотеля «Ков-Лодж», Ломен Уоткинс почувствовал при виде картины бойни дурноту… но одновременно и странное возбуждение. Труп мужчины был распростерт возле кровати, он был зверски искусан и истерзан. Еще страшнее выглядело тело женщины, которую бросили в коридоре, ее останки окрасили кровью оранжевый ковер. В номере стоял запах крови, желчи, фекалий и мочи — этот запах был уже хорошо знаком Ломену, ведь число жертв «одержимых» росло от недели к неделе, изо дня в день. Однако в этот раз, как никогда раньше, он испытывал, кроме отвращения, какое-то неуловимо приятное чувство. Он даже дышал, не зажимая нос, не отдавая себе отчета в том, что привлекательного он находит в этом отвратительном смраде. Он не мог перебороть себя и не хотел отвернуться и уйти, как не может оставить свежий след собака, почуявшая дичь. И все же что-то внутри его протестовало, он был напуган непривычной реакцией, и, когда звериный зов стал совсем нестерпимым, у него кровь застыла в жилах от ужаса. Барри Шолник, офицер, которого Ломен направил в «Ков-Лодж» на поиски Сэмюэла Букера и который вместо него обнаружил в мотеле пару трупов, стоял у окна, уставившись на тело мертвого мужчины. Он провел на месте преступления полтора часа — достаточно для полицейского, чтобы привыкнуть к виду жертв и не обращать на них внимания. Однако Шолник не мог отвести взгляда от растерзанного тела и окровавленных стен. Какая-то магнетическая сила притягивала его к этим останкам, заставляла впиваться глазами в картину бойни. «Мы в ужасе от внешнего облика «одержимых», мы в ужасе от их преступлений, — думал Ломен, — но в то же время мы, как это ни странно, завидуем им, их абсолютной свободе». Неведомая внутренняя сила толкала его — он предполагал, что остальные Новые люди испытывают такие же ощущения, — присоединиться к «одержимым». Опять, как совсем недавно у дома Фостеров, ему придется призвать на помощь контроль над собственным телом, дарованный ему через обращение, не для самосовершенствования, а для борьбы с искушением, соблазном дикой свободы. Его тянуло опуститься туда, где нет вопросов о цели и смысле бытия, туда, где не нужна упорная работа ума, туда, где все определяют лишь органы чувств, туда, где добиваются удовлетворения, не останавливаясь ни перед чем. Боже, это значит быть свободным от оков цивилизации, от высот мысли! У Шолника вырвался низкий, гортанный звук. Ломен, оторвав взгляд от мертвого тела, взглянул на своего подчиненного. В карих глазах Шолника горел огонь безумия. «Неужели я так же бледен, как он? Неужели у меня так же безумно сверкают глаза?» Их взгляды на мгновение встретились, Шолник сразу отвел глаза, словно шеф застал его за каким-то запрещенным занятием. Ломен почувствовал, как учащенно бьется его сердце. Шолник отвернулся к окну. Он вглядывался в ночное море, пальцы были сжаты в кулак. Ломен дрожал. Сладкий, искушающий запах. Запах охоты, запах убийства. Ломен вышел в коридор. Вид мертвого женского тела — полуобнаженного, истерзанного — не принес ему облегчения. Над трупом склонился Боб Тротт, один из новичков, недавно пополнивших штат полиции. Огромного роста, с грубыми чертами лица. На губах у него застыла кривая, недобрая усмешка. Ломен вспыхнул, глаза его налились сверкающим блеском. Он резко бросил: — Тротт, за мной. — И прошел в конец коридора, в комнату с выломанной дверью. С явной неохотой Тротт последовал за ним. Когда Ломен входил в пустой проем, в коридоре появился еще один полицейский, Пол Амберли. Он по приказу Ломена ходил в офис мотеля, чтобы уточнить фамилии постояльцев. Амберли доложил: — Ключи от двадцать четвертого номера были выданы чете Дженкс, Саре и Чарльзу. — Амберли было двадцать пять лет, он был долговязым, мускулистым, неплохо соображал. Вероятно, из-за узкого, вытянутого лица и глубоко посаженных глаз он напоминал Ломену лису. — Они приехали сюда из Портленда. — Кто записан в этом, тридцать шестом? — Тесса Локленд из Сан-Диего. Ломен наморщил лоб. — Локленд? Амберли повторил фамилию по буквам. — Когда она приехала? — Сегодня вечером. — У этой вдовы священника, Джэнис Кэпшоу, — сказал Ломен, — девичья фамилия тоже была Локленд. Помнится, когда я связывался с ее матерью, я набирал номер в Сан-Диего. Настырная старая хрычовка. Миллион вопросов. Битый час уговаривал ее согласиться на кремацию. Она говорила, что ее вторая дочь за границей, черт знает где, и вернется только через месяц, чтобы разобраться с вещами сестры и с ее завещанием. Значит, это она и есть. Ломен и оба полицейских вошли в номер Тессы Локленд. В распахнутое окно врывался ветер. Пол был усеян обломками мебели, разорванными простынями, стеклом от разбитого телевизора, но следов крови не было. Они уже искали тело и не нашли его, очевидно, обитательница номера успела выпрыгнуть в окно, прежде чем «одержимые» выломали дверь. — Итак, Букер скрылся, — размышлял вслух Ломен, — следует предположить, что он видел «одержимых» или слышал их крики. Он, следовательно, знает, что здесь происходит что-то неладное. Он не понимает смысла происходящего, но он знает достаточно… пожалуй, даже слишком много. — Можете быть уверены, он сейчас из кожи вон лезет, чтобы дозвониться в свое проклятое Бюро. Ломен тоже был в этом уверен. — Теперь нам придется разбираться и с этой шлюхой Локленд. Она наверняка разнюхала, что ее сестра не покончила жизнь самоубийством, а убита теми же тварями, которые напали на чету из Портленда. — Логично, — сказал Амберли. — Если она пойдет в полицию, то попадет прямо к нам в руки. — Как знать, — усомнился Ломен. Он начал разгребать ногой хлам, валявшийся на полу. — Помогите мне найти ее сумочку. Дверь выламывали, вряд ли у нее было время на сборы. Тротт обнаружил сумочку между кроватью и столиком. Ломен вытряхнул содержимое на матрас. Он осмотрел бумажник, проверил отделение с кредитными карточками и фотографиями и обнаружил то, что искал, — водительское удостоверение. Там перечислялись приметы Тессы Локленд — рост пять футов четыре дюйма, вес сто четыре фунта, блондинка с голубыми глазами. Ломен показал фотографию Тротту и Амберли. — Да она милашка! — сказал Амберли. — Не отказался бы попробовать такую, — добавил Тротт. Ломен содрогнулся, услышав эти слова. Он, как это ни дико, не мог понять, имеет ли в виду Тротт постельное знакомство или он выражает свое подсознательное желание впиться в эту женщину зубами так же, как сделали это звери с приезжими из Портленда. — Теперь известно, как она выглядит, — сказал Ломен, — это поможет нам в поисках. Грубые черты лица Тротта были неспособны выражать утонченные эмоции вроде восхищения или сочувствия, но звериный голод и тягу к насилию они передавали великолепно. — Вы хотите, чтобы мы притащили ее сюда? — Да. Она вряд ли поняла, что здесь произошло, но кое-что ей может быть известно. Она слышала, как убивают соседей, и, возможно, видела «одержимых». — Не исключено, что «одержимые» спрыгнули в окно вслед за ней и догнали ее, — предположил Амберли. — Надо осмотреть окрестности мотеля, возможно, мы найдем ее тело. — Действуйте, — согласился Ломен. — Если не найдете тело, ее все равно придется найти и доставить сюда. Вы позвонили Каллану? — Так точно!.. — отрапортовал Амберли. — В мотеле необходимо навести порядок, — продолжал Ломен. — Мы должны продержаться до полуночи, к этому времени все жители города пройдут через обращение. После этого мы сможем спокойно приступить к поиску и ликвидации «одержимых». Тротт и Амберли взглянули на Ломена, затем обменялись взглядами между собой. В их глазах Ломен прочел, что они тоже осознают дремлющее в них чувство «одержимости», что они тоже испытывают тягу к беззаботному первобытному существованию. Ни один из них не осмеливался говорить вслух об этих вещах, так как это было бы равносильно признанию в том, что проект «Лунный ястреб» — это чистой воды авантюра и все они обречены.Глава 41
Майкл Пейзер услышал в трубке длинный гудок и начал набирать номер, нажимая на клавиши, которые были слишком малы и слишком близко расположены друг к другу для его широких пальцев с длинными когтями. Неожиданно он понял, что не может звонить Шаддэку, что не посмеет разговаривать с Шаддэком, несмотря на их давнее, двадцатилетнее знакомство. Они учились вместе в Стэнфорде, именно Шаддэк помог ему пробиться, сделать карьеру. Он не мог ему звонить, так как в этом случае он вычеркнет себя из общества обычных людей, он превратится в подопытного кролика, которого будут пристально изучать, ставить на нем опыты. Или его просто уничтожат, чтобы он не мешал процессу обращений в Мунлайт-Кове. От отчаяния Пейзер застонал. Он сорвал телефон со стены и бросил его в зеркало. Посыпались осколки. Последняя разумная мысль, которая промелькнула в его мозгу, касалась Шаддэка. Он представал в виде зловещего врага, он утратил черты друга и наставника. Возникший страх снова бросил его в темную пропасть отчаяния, в объятия тех сил, которым он давал волю, когда выходил на охоту. Он то медленно бродил по комнатам, то снова начинал метаться, не отдавая себе отчета в причинах своего возбуждения или уныния, он двигался, повинуясь инстинкту, а не голосу разума. Пейзер помочился в углу гостиной, обнюхал лужу и отправился на кухню в поисках еды. Время от времени разум его просветлялся, и он пытался заставить свое тело вновь принять человеческий облик, но старания его были тщетны, и он вновь проваливался во тьму животного состояния. Иногда из тумана сознания даже выплывала ирония по поводу злой шутки судьбы, обещавшей ему превращение в сверхчеловека, а обратившей его вместо этого в дикого зверя. Но и эту мысль он мог удержать лишь на долю секунды, сознание с легкостью отказывалось от непомерной тяжести рассуждений. И в период помрачения разума, и в редкие мгновения просветления он вспоминал о мальчике, Эдди Валдоски, о мальчике, славном мальчике, и дрожь проходила по его телу при воспоминании о крови, сладкой крови, горячей крови, хлещущей во мраке холодной ночи.Глава 42
Несмотря на жуткую физическую и моральную усталость, Крисси не могла уснуть. Ворочаясь на жестких мешках в кузове грузовика мистера Юлейна, она мучилась бессонницей, страстно желая забыться сном. Что-то мучило ее, какое-то забытое чувство, и неожиданно она расплакалась. Зарывшись лицом в колючую ткань мешка, она рыдала. Слезы, которых никто не видел у нее на щеках многие годы, сейчас лились ручьем. Она оплакивала свою мать и своего отца, которых, возможно, потеряла навсегда, которых отняла у нее не смерть, а какая-то злобная, грязная, сатанинская сила. Она оплакивала свою несостоявшуюся юность — е конными прогулками, с книгами — все было безвозвратно разрушено. Она оплакивала еще одну, невыразимую словами потерю, потерю наивной веры в торжество добра над злом. Ни одна из героинь приключенческих книг, которыми она восхищалась, не позволяла себе так распускаться — Крисси не знала, как отнестись к собственным рыданиям. В конце концов плач так же свойствен человеку, как и заблуждения, и, возможно, она нуждалась в этих слезах, чтобы как-то доказать самой себе, что она не подвержена чудовищному влиянию, превратившему ее родителей в подобие зверей. Рыдая, она была прежней Крисси. Плач доказывал, что никто не похитил ее душу. Она уснула.Глава 43
Сэм обнаружил телефон-автомат на заправочной станции «Юнион-76», в одном квартале к северу от Оушн-авеню. Станция не обслуживала клиентов. Окна покрывал толстый слой пыли, торопливой рукой намалеванная надпись «ПРОДАЕТСЯ» на одном из окон словно говорила, что владельца не очень волнует, будет ли продана станция, он и надпись-то оставил просто так — для порядка. Около бензоколонок ветер намел целые сугробы из сухих листьев и хвои. Телефон был укреплен на стене напротив входа и виден с улицы. Сэм открыл дверь и вошел в помещение. Дверь он захлопывать не стал, так как опасался, что замкнет контакт и в помещении автоматически зажжется свет; который может привлечь внимание полицейских. Телефон не работал. Он опустил монету, надеясь, что это поможет, но в трубке не появилось никакого сигнала. Нажал на рычаг, монета выскочила обратно. Еще попытка, и снова неудача. Возможно, телефон отключили, когда закрывали заправочную станцию, так как расходы на долевой основе несли телефонная компания и владелец станции. Второй вариант — телефон отключила полиция, используя свое влияние на телефонную компанию. Они узнали о приезде в город федерального агента с секретной миссией и пошли на крайние меры с целью предотвратить любые его контакты с внешним миром. Не исключено, что он все-таки переоценивает их возможности и его ждет удача у следующего телефона-автомата. Во время своей прогулки после ужина Сэм проходил мимо прачечной самообслуживания. Случайно он заметил за большими стеклянными окнами телефон-автомат, установленный на стене, возле машин для сушки белья. Он покинул «Юнион-76» и, стараясь держаться в тени, пошел к тому месту, где находилась прачечная. Туман уже начинал рассеиваться, хотя Сэм предпочитал, чтобы он подольше оставался на улицах. На одном из перекрестков он едва не налетел на полицейскую машину, патрулировавшую центр города. Ему удалось вовремя спрятаться за угол, полицейский за рулем в это время смотрел в другую сторону. Сэм попятился назад и оказался под аркой, сзади была дверь с медной пластинкой, извещавшей, что в этом здании практикуют два адвоката, один дантист, врач и хиропрактик. Если патрульная машина свернет налево и проедет мимо него, полицейский его заметит. Если же машина поползет дальше по Оушн-авеню или свернет направо, у него есть шанс остаться незамеченным. Прижавшись спиной к двери в ожидании того момента, когда еле-еле ползущая машина достигнет перекрестка, Сэм имел возможность еще раз оценить, как удивительно тихо и пустынно на улицах Мунлайт-Кова в половине второго ночи. Обычно на улицах городов, маленьких и больших, даже в этот поздний час можно встретить полуночников — прохожих, запоздалых автомобилистов, словом, хоть какие-то признаки жизни, если не принимать во внимание полицейские патрули. Машина свернула направо и теперь удалялась от него. Опасность миновала, но Сэм не двигался с места, мысленно прослеживая свой путь от мотеля на стоянку у полицейского управления, затем на «Юнион-76» и, наконец, сюда, на этот перекресток. Он не мог припомнить ни одного дома, из окон которого звучала бы музыка, где работал бы телевизор, не было слышно смеха и шума ночного застолья. Ни одна парочка не целовалась в припаркованных автомобилях. Немногочисленные таверны и рестораны были закрыты, в кинотеатрах не было поздних сеансов, и, если не считать его самого и полицейских патрулей, Мунлайт-Ков можно было принять за город-призрак. Гостиные, спальни и кухни населяли призраки или роботы, прикидывающиеся днем нормальными людьми, а ночью — отключающиеся с целью экономии энергии, чтобы не расходовать ее зря на создание иллюзии жизни. Сэма все больше беспокоило слово «обращение» и его значение в свете загадочного проекта «Лунный ястреб». Он вышел из своего укрытия, свернул за угол и поспешил по ярко освещенной улице к прачечной. Он увидел телефон сразу же после того, как распахнул дверь. Сэм уже дошел до середины зала, в котором машины для сушки белья занимали правую сторону, в середине стояли стиральные машины, а вдоль левой стены тянулись столы со стульями, когда вдруг понял, что он здесь не один. На одном из стульев сидела хрупкая блондинка в потертых джинсах и синем свитере. Ни одна из машин не работала, и рядом с блондинкой не было видно корзины с бельем. Сэм был настолько ошарашен ее видом — видом живого человека, обычного человека в этой погребальной ночи, — что остановился и уставился на нее. Она сидела на краешке стула и была явно напугана. Глаза округлились от страха. Руки сжимали колени. Она затаила дыхание. Осознав, что он напугал ее, Сэм сказал: — Извините. Наверное, у него дикий взгляд, он похож на сумасшедшего, поэтому он добавил: — Не бойтесь, я не причиню вам никакого вреда. — Они все так говорят. — Кто они? — Имейте в виду, со мной лучше не связываться. Сэм был в замешательстве. — Почему? — Вам не поздоровится. — Правда? — У меня черный пояс. — Она встала со стула. Впервые за много дней по лицу Сэма расползлась улыбка. — Вы владеете карате? Женщина смотрела прямо ему в глаза, бледная, дрожащая. Когда она заговорила, в ее голосе звенела нешуточная угроза: — Эй, ты, мерзавец, выбирай — или ты прекращаешь свои шуточки, или ты станешь инвалидом на всю жизнь и будешь ходить, как мешок с костями. Пораженный ее воинственным настроем, Сэм вновь припомнил свое первое впечатление от ночной посетительницы прачечной. Ни сумки для белья, ни коробки со стиральным порошком поблизости не было и в помине. — А в чем, собственно, дело? — Ни в чем, но советую вам не приближаться ко мне. Он прикинул, может ли она знать, что полицейские охотятся за ним. Бредовое предположение. Откуда она может знать про это? — А что вы вообще здесь делаете, вроде стирать вы ничего не собираетесь? — Какое ваше дело? Вы что, владелец этой прачечной? — Нет. Но и вы мне можете не рассказывать, что вы хозяйка этой машины. Она продолжала разглядывать его. Он тоже не отрывал от нее глаз, убеждаясь, что встретился с чрезвычайно симпатичной особой. У нее были пронзительно-голубые глаза цвета июльского неба, чистая, дышащая летним теплом кожа. Она казалась неведомой гостьей на этом темном октябрьском побережье, занесенной случайным ветром в прачечную самообслуживания в полвторого ночи. Кроме ее удивительной красоты, он заметил испуг, оставивший темные круги под ее глазами и горькие складки у рта. Причиной этого испуга явно был не он. Будь он верзилой шести футов роста, с револьвером в одной руке и ножом в другой или татуированным рокером, ворвавшимся в прачечную с наркотическим бредом про сатану на губах, ее страшная бледность и круги под глазами были бы вполне объяснимы. Но он был всего-навсего Сэмом Букером, основным преимуществом которого перед другими агентами была внешность обычного человека из толпы, невзрачного и безобидного. Не понимая причин ее страшной тревоги, он сказал: — Вот телефон. — Что? Он показал на телефон-автомат. — Да, — сказала она, как будто подтверждая, что это действительно телефон-автомат. — Просто зашел позвонить. — А-а. Не сводя с нее глаз, он подошел к телефону, опустил монету, но сигнала не было. Он вернул монету, попробовал еще раз. Опять неудача. — А-а, черт! — выругался он. Блондинка направилась к выходу. На полдороге она остановилась и оглянулась, словно опасаясь, что незнакомец набросится на нее, если она захочет выйти из прачечной. От пребывания в Мунлайт-Кове у Сэма страшно развилось чувство подозрительности. Он стал видеть врага в любом встретившемся прохожем. И вдруг он понял, что необычное поведение этой женщины в точности напоминает его собственное. — Вы ведь не местная жительница? Вы не из Мунлайт-Кова? — Нет, а что? — Я тоже не местный. — Что из этого? — Вы видели что-то необычное? Она уставилась на него. Он пояснил: — Что-то произошло, вы видели нечто необычное, вы этим страшно напуганы, и, даю руку на отсечение, у вас были на то серьезные причины. Она посмотрела на него, словно собираясь бежать куда подальше. — Подождите, — быстро проговорил он. — Я из ФБР. — Его голос слегка дрогнул. — Я на самом деле оттуда.Глава 44
Томас Шаддэк был «совой» и работал по ночам, предпочитая спать днем. Он находился в данный момент в своем кабинете, отделанном панелями из тикового дерева, и разрабатывал на компьютере один из аспектов проекта «Лунный ястреб». Позвонил Эван, его ночной секретарь, и сказал, что Ломен Уоткинс просит принять его. — Я приму его в башне, — ответил Шаддэк. — Скажите ему, что я скоро буду там. В последнее время Шаддэк предпочитал ходить дома в шерстяном тренировочном костюме. В шкафу у него висело их штук двадцать на выбор — десять черных, десять серых и одна пара цвета морской волны. В таком костюме было удобно работать, кроме того, он экономил свое время — не надо было отдавать распоряжения про особый костюм каждый день, да он и не любил особенно наряжаться. Он никогда не следил за модой. К тому же он был довольно неуклюже скроен от природы: широкие ступни, длинные худые ноги, выступающие вперед колени, руки плетьми, костлявые плечи — он был неимоверно худ, и любая одежда, даже сшитая лучшими портными, не была ему к лицу. Она висела на нем, как на вешалке, или подчеркивала его худобу до такой степени, что он казался воплощением образа Смерти; сходство с мрачным обликом усугублялось его мучнисто-белой кожей, почти черными волосами, заостренными чертами лица и желтизной глаз. Он надевал эти тренировочные костюмы, даже когда посещал заседания руководства компании. Если вы гений в своей области, люди ждут от вас необычных выходок. А если у вас на счету сотни миллионов долларов, вам простят все, что угодно. Его ультрасовременный, из железобетона, дом на берегу моря, у северной оконечности бухты, был еще одним выражением его просчитанного образа нонконформиста. Три этажа здания напоминали слоистый пирог — все слои разной толщины, самый толстый — вверху, самый тонкий — в середине; все они были разной конфигурации, и при дневном свете здание имело вид авангардной скульптуры. Ночью, в сиянии сотен окон, скульптура превращалась в фантастический космический корабль, доставивший пришельцев — покорителей Земли. Башня, о которой упомянул Шаддэк, являла собой еще одно необычное сооружение, водруженное на крыше его необычного дома. Возвышаясь на сорок футов, она располагалась не по центру. Форма ее была не круглой, а овальной, в ней не было ничего общего с теми башнями, в которых принцессы ждали возвращения своих принцев из дальних странствий или в которых монахи держали и пытали своих недругов. Нет, башня эта скорее напоминала конусообразную башню субмарины. На ее вершине находилась просторная комната со стенами из стекла, туда можно было добраться на лифте или по спиральной лестнице, обвивающей шахту лифта. Шаддэк выждал десять минут, чтобы заставить Уоткинса подождать его. Так надо для порядка. Затем решил поехать наверх на лифте. Лифт был отделан изнутри под цвет темной латуни, так что, несмотря на небольшую скорость, Шаддэк ощущал себя летящим вверх в гильзе, скользящей в стволе гигантского ружья. Он добавил эту башню к проекту, представленному архитектором, буквально в последний момент, но она стала его самым любимым местом во всем здании. Отсюда открывался бесконечный простор спокойного или штормящего моря, моря, сверкающего под солнцем или залитого ночной мглой. На юго-востоке перед ним и под ним открывался вид на Мунлайт-Ков; его чувство превосходства приятно подогревалось этой выигрышной перспективой творений чуждых ему людей. Из этой комнаты всего четыре месяца тому назад он увидел ястреба на фоне луны третий раз в жизни, другие почитали за счастье увидеть такой знак хотя бы однажды. В этом знаке он прочел свое будущее — стать самым могущественным человеком всех времен и народов. Лифт остановился. Раздвинулись двери. Когда Шаддэк вошел в комнату, озаренную непонятно откуда льющимся светом, Ломен Уоткинс вскочил с кресла и почтительно произнес: — Добрый вечер, сэр. — Садитесь-садитесь, — мягко, даже жеманно приветствовал Шаддэк начальника полиции, дав интонацией, однако, понять, что это он, Шаддэк, решает, в каком тоне будет протекать беседа — в официальном или непринужденном. Шаддэк был единственным ребенком в семье Джеймса Рэндольфа Шаддэка, бывшего в свое время выездным судьей в Фениксе, а ныне — покойного. Семья была не так чтобы очень состоятельной, но твердо держалась на уровне зажиточных представителей среднего класса. Если добавить к этому уважение, которое снискал отцу статус судьи, то можно сказать, что семья Шаддэков была одной из первых семей Феникса. Отец пользовался не только уважением, он обладал и властью над согражданами. И в детстве, и в юности Том не переставал удивляться, как его отец — судья и политик местного масштаба — умел добиваться на своем посту не только материального благополучия, но и контроля над людьми. Именно эта способность контролировать окружающих, преумножая тем самым свою власть, притягивала Тома к отцу, возбуждала интерес к механизмам власти с самых ранних лет. Ныне сам Том Шаддэк обладал властью над Ломеном Уоткинсом, над всеми жителями Мунлайт-Кова. Это была власть его миллионов долларов, власть главного работодателя, власть политика, держащего в своих руках все нити политической жизни. Огромной властью наделил его также проект «Лунный ястреб», названный так в честь видения, открывшегося ему трижды. Однако границы его власти простирались куда шире, чем власть его отца в качестве судьи и искусного политика. Дело в том, что он распоряжался жизнью и смертью людей — в буквальном смысле этих слов. Если через час он решит, что они должны умереть, то к полуночи все жители города будут мертвы. При этом он сам будет недосягаем для их мести, так же недосягаем, как Господь Бог, низвергающий громы и молнии на творения своих рук. Освещение проникало в комнату из ниш, устроенных между стеклянными стенами и потолком. Скрытые лампы изливали достаточно света, мягко поглощаемого ковром, и не давали отсветов на огромных стеклянных стенах. Однако, если бы ночь была ясной, Шаддэк выключил бы и этот свет, чтобы ничто не отбрасывало теней и не мешало бы ему созерцать лежавшие внизу его владения. На сей раз он оставил лампы включенными, так как за окном плыл молочно-белый туман и мало что можно было разобрать при свете тонкого серпика луны, застывшего в небе. Шаддэк пересек комнату; мягкий ворс черного ковра приятно щекотал его босые ноги. Он уселся в кресло напротив Ломена Уоткинса, их разделял низкий стол из белого мрамора. Полицейский был всего на три года старше Шаддэка, внешне он был полной противоположностью своему собеседнику. Рост пять футов десять дюймов, полный, с круглыми плечами и массивным загривком. Лицо было широким и добродушным. Его голубые глаза на мгновение встретились с желто-карими глазами Шаддэка, затем Ломен отвел взгляд и стал рассматривать свои мускулистые руки, лежащие на коленях. Пальцы впились в плотную ткань брюк. Сквозь ежик волос просвечивала загорелая лысина. Явная покорность Уоткинса нравилась Шаддэку, но он был еще больше доволен, что его собеседник охвачен страхом. Об этом страхе можно было догадаться по дрожи пальцев, которую Уоткинс пытался скрыть, и по затравленному выражению глаз. Проект «Лунный ястреб» поднял Уоткинса над другими людьми, но для Шаддэка он был всего лишь подопытным животным, основой для эксперимента, с подключенными электродами, в полной власти экспериментатора. Если можно так сказать, Шаддэк был создателем Уоткинса, он представал перед ним в образе всемогущего Бога. Откинувшись в кресле, скрестив руки на груди, Шаддэк вдруг ощутил, как его охватывает желание. Нет, он вовсе не был гомосексуалистом, его возбуждала вовсе не плоть, а чувство безграничной власти над этим человеком. Власть давала Шаддэку куда более богатые ощущения, чем любые сексуальные стимуляторы. Даже подростком, разглядывая снимки обнаженных женщин в эротических журналах, он был увлечен вовсе не созерцанием обнаженной груди, изгибов плоти и стройных ног, его влекло чувство господства над этими женщинами, желание видеть их у своих ног, желание распоряжаться их жизнью. Если женщина смотрела со снимка с чувством страха в глазах, это возбуждало его куда больше, чем томные взгляды. С тех пор он реагировал на насилие куда сильнее, чем на сладострастие, и его возбуждение не зависело ни от пола, ни от возраста, ни от физической привлекательности человека. Ему надо было только, чтобы в его присутствии человек дрожал от страха. Довольный покорностью полицейского, Шаддэк спросил: — Вы разыскали Букера? — Нет, сэр. — Почему? — Его уже не было в «Ков-Лодже», когда Шолник прибыл туда. — Он должен быть найден. — Мы найдем его. — Он тоже должен пройти через обращение. Не для того, чтобы он держал язык за зубами… а для того, чтобы у нас был свой человек в ФБР. Вот это будет удача. Его неожиданный приезд сюда может обернуться большой выгодой для нашего проекта. — Да, наверное, но есть, к сожалению, новые неприятности. «Одержимые» напали на постояльцев этого мотеля. Куин либо захвачен ими, убит и брошен где-то… либо сам превратился в «одержимого» и скрылся вместе с остальными… сейчас они, видимо, празднуют удачную охоту, они любят купаться в море при этой чертовой луне. Шаддэк слушал отчет полицейского с возрастающей тревогой. Уоткинс закончил свой рассказ, поерзал на краешке кресла и добавил: — Я чертовски боюсь этих «одержимых». — Да, они приносят нам много беспокойства, — согласился Шаддэк. Ночью четвертого сентября они загнали одного из «одержимых», Джордана Кумбса, в кинотеатр на главной улице города. Кумбс работал техником в компании «Новая волна». Однако этой ночью в нем не осталось ничего, что позволяло бы назвать его человеком. Это была скорее взбесившаяся человекообразная обезьяна, но и это понятие не передавало устрашающего образа этого существа. Термин «одержимые», изобретенный Шаддэком, годился только для тех, кто никогда не встречался с этими существами лицом к лицу. Вид этих созданий был неописуемо ужасен. Все попытки полицейских захватить Кумбса живым провалились, он был слишком разъярен и опасен, поэтому, чтобы не рисковать жизнью, им пришлось размозжить ему голову выстрелом из револьвера. Уоткинс произнес: — Беспокойство — не то слово. Дело обстоит куда хуже. Они… маньяки. — Я знаю, что они маньяки, — нетерпеливо перебил его Шаддэк. — Я сам обозначил их состояние как «маниакальный синдром перерождения». — Но они получают удовольствие от убийства. Шаддэк нахмурился. Он не смог предвидеть появление «одержимых» и отказывался признать, что их число не так уж ничтожно на фоне сотен удавшихся обращений. — Что же, ничего удивительного, если они получают от этого удовольствие, это вполне вписывается в картину их примитивного образа. Нам просто следует переловить их и уничтожить. Если посмотреть на цифры, число «одержимых» составляет ничтожную часть от тех, кто успешно прошел через обращение. — Возможно, их не так уж мало. — Уоткинс говорил неуверенно, опасаясь встретиться глазами с Шаддэком, не любившим плохих новостей. — Судя по последним случаям насилия, из тысячи девятисот обращенных на данный момент человек пятьдесят-шестьдесят превратились в «одержимых». — Глупости! Откуда вы взяли эти цифры? Признать, что «одержимых» много, было для Шаддэка равносильно признанию своего поражения. Если он не смог предвидеть результатов своих опытов, перенесенных из лаборатории на улицы Мунлайт-Кова, значит, его титанические усилия по созданию нового человека пропали даром. Он не мог допустить и тени таких сомнений. Всю свою жизнь он стремился все к новым и новым вершинам власти и был близок к своей цели. Он уже не мог отступить назад. С юных лет он отказывал себе в определенных желаниях, так как знал, что если он поддастся искушению, то пойдет против закона и вынужден будет расплачиваться за свою слабость. Долгие годы сдерживания своих побуждений привели к тому, что внутреннее напряжение стало невыносимым, требовало выхода. Он направил внутреннюю энергию в русло изнуряющей работы, сконцентрировавшись на усилиях, которые не вызывали общественного осуждения. По иронии судьбы, эти усилия привели к открытиям, способным в будущем вообще освободить его от всякой оглядки на кого бы то ни было и дать волю долго сдерживаемым инстинктам, не опасаясь наказания. Он не мог отступить назад не только потому, что это шло наперекор его природе, но и из чисто практических соображений. Он начал круто менять мир вокруг себя. По его воле около двух тысяч Новых людей шагали по земле, они отличались от обычных людей так же, как кроманьонцы отличались от своих примитивных предков — неандертальцев. Он не в силах был уничтожить сделанное, ведь ученые и инженеры тоже не могут остановить технический прогресс, вызванный их открытиями. Уоткинс покачал головой. — Простите… но я думаю, что это вовсе не глупости. «Одержимых» пятьдесят-шестьдесят человек. Или даже больше. Может быть, намного больше. — Если хотите убедить меня, приведите доказательства, назовите фамилии. Вы можете назвать хоть одну конкретную фамилию, кроме Куина? — Я думаю, Алекс и Шэрон Фостер. А также один из ваших — Такер. — Это невозможно. Уоткинс рассказал, что он обнаружил в доме Фостеров, а также упомянул о криках, доносившихся из леса. Шаддэк с большой неохотой думал о том, что один из его приближенных может превратиться в «одержимого». Если он не может быть уверенным в своем ближайшем окружении, то как он сможет управлять огромными массами людей? — Фостеры, возможно, среди «одержимых». Но не Такер. Но даже вместе с ним получается четыре человека. Только четыре. Кто остальные, по-вашему? Ломен смотрел на туман, причудливо растекающийся по стеклам. — Сэр, я думаю, не все так просто… Я имею в виду вообще эту проблему. Если власти штата или страны узнают о наших делах, если они поймут, что мы здесь делаем, они в один момент положат этому конец. Разве не так? Кроме того, мы, обращенные, ничем не отличаемся внешне от обычных людей. — Что из этого? — Ну… здесь та же самая проблема, которую приходится решать в отношении «одержимых». В дневное время они ничем не отличаются от других Новых людей. Их внутренний порок внешне никак не проявляется. Возбуждение, согревавшее Шаддэка, ослабло. Критический настрой Уоткинса начал раздражать его. Он встал и подошел к окну. Сунув руки в карманы костюма, он всматривался в отражение своего вытянутого, волчьего лица, в свой призрачный облик. Взглянул на отражение глаз и сразу же перевел взгляд вдаль, туда, где морские ветры ткали из ночной мглы плотную пелену тумана. Шаддэк стоял спиной к Уоткинсу, не желая, чтобы тот догадался о его смятении. Он избегал также встречи с отражением своих глаз, так как не хотел признаться себе, что их уже пронзили холодные иглы страха.Глава 45
Сэм настоял, чтобы они присели на стулья, расставленные вдоль стены, — там их никто не увидит с улицы. Тесса согласилась, но держалась настороженно. Он объяснил ей, что направлен в город с секретной миссией и поэтому не может предъявить свое удостоверение. Он продемонстрировал ей также все содержимое своего бумажника: водительские права, кредитные карточки, читательский билет из библиотеки, билет из видеотеки, фотографии своего сына и своей покойной жены, выигрышный купон на бесплатную пачку шоколадного печенья в любом из магазинов «Миссис Филдс», а также фотографию Голди Хоун, вырванную из журнала. Интересно, носят ли с собой маньяки купоны на бесплатное печенье! Чуть позже, когда Тесса рассказала ему историю своих злоключений в «Ков-Лодже» и ответила на многочисленные вопросы, она начала доверять ему. Для человека, прикидывающегося агентом ФБР, он был слишком серьезен и настойчив. — Так вы видели, как кого-нибудь убивают? — Я же говорю вам — их убили, — настаивала Тесса. — Если бы вы слышали их крики, у вас тоже не было бы никаких сомнений. В свое время меня угораздило попасть в Северную Ирландию, в толпу маньяков, я видела своими глазами, как они насмерть забили двух человек. В другой раз на металлургическом заводе при мне в лицо нескольким рабочим попал расплавленный металл. Я снимала индейцев мискито в Центральной Америке и видела, как на них сбрасывают бомбы с начинкой из металлических игл — они пронзают тело насквозь. И везде я слышала, как кричат люди перед смертью. Так вот, то, что я слышала в мотеле, было еще страшней. Он посмотрел на нее долгим, изучающим взглядом. Затем произнес: — По вашему виду не скажешь… — Что я много повидала в жизни? — Именно. — Я выгляжу неопытной? Наивной? — Да. — Это моя беда. — Но, признайтесь, иногда такая внешность очень помогает? — Иногда, — призналась Тесса. — Слушайте, вы ведь наверняка что-то знаете. Скажите мне, что творится в этом городе? — С местными жителями что-то произошло. — Что? — Не знаю. Они перестали ходить в кино, например. Закрылся городской театр. Их больше не интересуют предметы роскоши, дорогие подарки; магазины, торгующие этими товарами, также закрыты. Они не пьют шампанское… — Сэм усмехнулся. — Все бары в городе на грани разорения. Кажется, единственная вещь, которая их еще интересует, — это еда. И убийства.Глава 46
Продолжая стоять у окна, спиной к Ломену, Шаддэк сказал: — Ладно, Уоткинс, вот что мы сделаем. В компании весь персонал уже прошел через обращение, я дам вам сотню своих сотрудников, они помогут полиции. Вы можете располагать ими по своему усмотрению, с этой минуты они в вашем распоряжении. С их помощью, я надеюсь, вам удастся схватить живьем одного из «одержимых». Не забудьте также про Букера. Новые люди не нуждались во сне. Дополнительный контингент мог начать действовать немедленно. Шаддэк добавил: — Они смогут патрулировать улицы пешком или на машинах, не привлекая особого внимания. Возможно, вам даже удастся отловить всех «одержимых». Если вы притащите сюда один экземпляр в состоянии регрессии, я смогу тщательно изучить его и разработать тесты. Протестировав всех Новых людей, мы выявим «одержимых». — Я не считаю, что должен заниматься этим делом. — Это дело полиции. — Нет, уверяю вас. — Вы по долгу службы выслеживаете обычных убийц. Это почти то же самое. — Шаддэк говорил раздраженно. — Здесь можно применять те же методы. — Но… — Что еще? — Среди тех людей, которых вы мне дадите, тоже могут попасться «одержимые». — Исключено. — Но… как можно быть уверенным? — Я сказал — это исключено, — резко оборвал Шаддэк, все так же глядя в окно, в ночь и туман. Оба некоторое время молчали. Затем Шаддэк вновь заговорил: — Вы должны сделать все, чтобы найти этих проклятых уродов. Все — вы слышите? Мне нужен хотя бы один из них, я должен обследовать его еще до того момента, когда весь Мунлайт-Ков пройдет через обращение. — Я думаю… — Говорите. — Видите ли, я думаю… — Продолжайте, продолжайте. Так что вы думаете? — Простите… но нельзя ли приостановить процесс обращений до того момента, когда мы выясним, что происходит с людьми? — Нет! Черт бы вас побрал! — Шаддэк повернулся к Уоткинсу и впился в него взглядом. Полицейский заерзал на кресле. — «Одержимые» — это мелочь, это ерунда. Что вы можете знать об этой проблеме? Разве вы разработали модель нового человека, нового мира? Это сделал я. Я мечтал об этом, я видел все это как наяву. Я положил все свои силы, нервы, мозг, чтобы эта мечта воплотилась в реальность. И я знаю, что эта аномалия не свидетельствует ровным счетом ни о чем. Поэтому процесс обращения пойдет по установленному графику. Уоткинс опустил взгляд на свои руки и заметил, как побелели суставы пальцев. Шаддэк продолжал говорить, меряя комнату босыми ногами. — Теперь у нас достаточно доз для всего оставшегося населения города. Фактически сегодня вечером мы начали новый, последний этап обращений. Сотни людей будут обращены к рассвету, остальные к полуночи. До того момента, пока все до единого в этом городе не станут обращенными, сохраняется опасность провала операции в случае, если кто-то выдаст нашу тайну внешнему миру. Теперь, когда мы решили проблему производства биочипов, мы должны быстро закрепиться в Мунлайт-Кове, тогда мы сможем действовать уверенно, имея позади надежный тыл. Вам это понятно? Уоткинс кивнул. — Вы понимаете, что я говорю? — Да-да, сэр. Шаддэк вернулся к своему креслу и сел. — Вернемся к тому, о чем вы мне говорили по телефону, к делу этого Валдоски. — Эдди Валдоски, восьми лет. — Уоткинс говорил и смотрел на свои руки. Он делал какие-то механические, неконтролируемые движения, словно выкручивал, выжимал невидимую тряпку. — Найден мертвым в начале девятого вечера. В кювете у шоссе, ведущего в город. Он был… изуродован… искусан, выпотрошен. — Вы полагаете, это работа «одержимых»? — Я уверен в этом. — Кто обнаружил тело ребенка? — Его родители. Отец. Мальчик сначала играл во дворе, а затем… он исчез после захода солнца. Они начали его искать, не могли найти, испугались, вызвали полицию и продолжали поиски… мы уже мчались туда, но они обнаружили его тело до нашего приезда. — Как я понимаю, Валдоски еще не проходили через обращение? — К тому моменту — нет. Но сейчас они уже обращены. Шаддэк вздохнул с облегчением. — Было бы гораздо меньше хлопот с этим ребенком, если бы они были среди обращенных. Начальник полиции поднял голову и нашел в себе смелость взглянуть прямо в глаза Шаддэку: — Но мальчика-то не оживишь. — Ломен уже не сдерживал себя. — Конечно, это трагедия. К сожалению, нельзя было предвидеть, что небольшая часть Новых людей выродится в «одержимых». Но не забывайте: каждый шаг на пути прогресса человечества требовалжертв. — Он был славный мальчик, — произнес полицейский. — Вы знали его? Уоткинс заморгал. — Я учился в колледже с его отцом, Джорджем Валдоски. Я был крестным отцом Эдди. Тщательно подбирая слова, Шаддэк сказал: — Ужасно. Мы найдем урода, который сделал это. Мы переловим их всех и уничтожим. Однако нас может утешить то, что Эдди умер за великое дело. Уоткинс посмотрел на Шаддэка с нескрываемым изумлением. — Великое дело? Что Эдди мог знать о великом деле? Ему было восемь лет. — И тем не менее. — Шаддэк заговорил голосом, не допускающим возражений. — Эдди погиб из-за неожиданного побочного эффекта процесса обращения, он стал одним из участников великого исторического события. — Шаддэк знал, что Уоткинс был патриотом, гордящимся своей родиной, и подозревал, что это чувство гордости не оставило его и после обращения. — Послушайте меня, Ломен. Во время Войны за независимость погибли не только колонисты, но и женщины, дети. Неважно, что их смерть была случайной, они стали мучениками во имя победы, они стали в один ряд с солдатами. Так всегда бывает во время революции. Самое главное, что, благодаря и им в том числе, справедливость торжествует, они отдали жизнь за святое дело. Уоткинс смотрел в сторону. Шаддэк встал, обошел стол и подошел к нему. Глядя на склоненную голову полицейского, положил руку ему на плечо. Уоткинс съежился в кресле. Продолжая держать руку на его плече, Шаддэк заговорил с истовостью проповедника. Он не был, однако, горячим, страстным религиозным проповедником, обжигающим сердца верующих, он был холодным апостолом логики, разума. — Помните о том, что вы принадлежите к числу Новых людей. Это означает не только превосходство в силе и выносливости над обычными людьми, это означает не только стойкость к любым недугам и умение восстанавливаться так, как об этом лишь мечтают жалкие экстрасенсы. Это означает также необычайную ясность ума, высшую рациональность мысли. Если вы с этой высоты посмотрите на смерть Эдди, то цена, которую он заплатил своей смертью, не покажется вам слишком большой. Не следует попадать в плен к своим чувствам, Ломен, это не к лицу Новому человеку. Мы создаем мир, который будет эффективным, предсказуемым и стабильным в первую очередь благодаря тому, что мужчины и женщины будут иметь власть над своими чувствами, они будут просчитывать каждую ситуацию с аналитической непредвзятостью компьютера. Взгляните на смерть Эдди Валдоски как на одно из событий в потоке великих свершений во имя торжества Нового мира. Тогда вы сможете переступить пределы эмоциональных ограничений человека, а переступив их, вы обретете неведомое вам прежде чувство покоя и умиротворения. Когда Шаддэк закончил, Ломен Уоткинс поднял голову и посмотрел на него. — Там действительно будет царить умиротворение? — Да. — И когда будет завершено обращение, установится братство между людьми? — Да. — И настанет покой? — Вечный.Глава 47
Дом Талбота на улице Конкистадоров оказался трехэтажным, из красной мореной древесины, с большими окнами. Он стоял на холме, и к крыльцу вели каменные ступени. Ни на улице, ни вдоль ступеней, ведущих к дому, не были включены фонари, и Сэм был весьма доволен этим обстоятельством. Тесса Локленд стояла рядом с ним, она не отставала от него ни на шаг во время их пути от прачечной к дому Талбота. Сэм позвонил в дверь, сквозь свист ветра в ветвях деревьев он расслышал мелодию звонка за дверью. Оглядываясь назад, на улицу Конкистадоров, Тесса сказала: — Иногда этот город кажется моргом, в котором нет никого, кроме трупов, но потом… — Что потом? — …потом, несмотря на тишину и неподвижность, начинаешь ощущать заряженность этого города какой-то энергией, которая затаилась в нем; словно под улицами, под землей спрятана мощнейшая машина… словно каждый дом начинен Техникой. Какой-то тайный механизм застыл наготове и ждет, когда удастся схватить кого-нибудь и протащить через зубчатые колеса и шестерни. Это был верно схваченный образ Мунлайт-Кова, у Сэма город вызывал именно такое чувство, но он не мог выразить его словами. Он еще раз позвонил в дверь и сказал: — Мне всегда казалось, что киношникам не обязательно даже быть грамотными. — В Голливуде действительно работает масса безграмотных людей, но я — вольный стрелок-документалист, поэтому мне дозволено иметь собственные мысли, при условии, конечно, что я не буду выходить за определенные рамки. — Кто там? — раздался металлический голос, удививший Сэма. Он только сейчас заметил домофон, из которого и раздался этот голос. — Кто там? Ответьте, пожалуйста. Сэм склонился к домофону. — Мистер Талбот? Гарольд Талбот? — Да. Кто говорит? — Сэм Букер. — Сэм старался говорить тихо. — Извините, что разбудил вас, я приехал в ответ на ваше письмо от восьмого октября. Талбот молчал. Затем домофон щелкнул и снова раздался голос: — Я нахожусь на третьем этаже. Мне придется долго спускаться. Я пошлю к вам Муза. Пожалуйста, отдайте ему свое удостоверение, он принесет его мне. — У меня нет с собой удостоверения ФБР, — шепотом сказал Сэм. — Я нахожусь здесь инкогнито. — А водительские права у вас есть? — Есть. — Этого будет вполне достаточно. — Домофон отключился. — Кто такой Муз? — спросила Тесса. — Черт его знает, — ответил Сэм. Они ждали почти минуту, чувствуя себя очень неуютно на просматриваемом с улицы крыльце. Им пришлось еще раз удивиться, когда из маленькой дверцы, которую они сначала не заметили, выскочила собака и завиляла хвостом у их ног. Сэм даже не сразу понял, что это собака, он отступил на шаг назад и едва не свалился с крыльца. Тесса наклонилась, чтобы погладить собаку, и прошептала: «Муз?» Вместе с собакой на крыльцо попал квадратик света, затем дверца захлопнулась, и черная шерсть животного слилась с темнотой. Сэм почесал у собаки за ухом, она лизнула ему руку. — Так это тебе я должен отдать свое удостоверение? Собака еле слышно гавкнула, как бы давая положительный ответ. — Но ты же его съешь, — засомневался Сэм. Тесса возразила: — Нет, он не станет. — Вы думаете? — Муз — славная собака. — Я ему не доверяю. — Такая у вас работа. — Да? — Никому не доверять. — Это к тому же в моей натуре. — Доверьтесь ей, — стояла на своем Тесса. Сэм отдал собаке свой бумажник. Муз осторожно взял его зубами и побежал в дом через дверцу в нижней части входной двери. Прошло еще несколько минут. Сэм боролся с зевотой. Было уже два часа ночи, и он подумывал, не добавить ли к своему списку пятую причину: жить стоило ради хорошей мексиканской кухни, пива «Гиннес», Голди Хоун, из-за страха смерти и еще ради того, чтобы выспаться. Заснуть бы мертвым сном. Послышался звон цепочек и грохот задвижек, дверь отворилась вовнутрь, и они увидели мягко освещенный холл. Гарри Талбот ждал их, сидя в своей коляске, одетый в синюю пижаму и зеленую куртку. Его голова была слегка наклонена в левую сторону, это было одно из следствий ранения. Гарри был красивый мужчина, но к лицу уже подкралась ранняя старость, легли морщины, слишком глубокие для сорокалетнего. Густые волосы наполовину поседели, глаза смотрели устало. На взгляд Сэма, Гарри в молодости был силачом, но паралич ослабил его мускулы. Одна рука лежала на коленях ладонью кверху, пальцы были скрючены, недвижимы. Он был живым монументом утраченным надеждам, перегоревшим мечтам, он был мрачным оттиском памяти о войне, отпечатавшимся на жизни человека. Когда Тесса и Сэм вошли и закрыли за собой дверь, Гарри протянул им свою здоровую руку и сказал: — Боже, как я рад вас видеть! Улыбка удивительно преобразила его лицо. Она была яркой, широкой, теплой улыбкой человека, благословенного Богом. Муз вернул Сэму бумажник. В целости и сохранности.Глава 48
Простившись с Шаддэком, Ломен Уоткинс должен был поехать в полицейское управление, чтобы отдать распоряжения относительно сотни людей, откомандированных с «Новой волны». По дороге он, однако, остановился у своего дома на Айсберри-уэй. Дом был скромный, двухэтажный, с тремя спальнями, во французском стиле, окрашенный в бело-голубые тона. Со всех сторон его окружали сосны. Ломен на секунду задержался, выйдя из машины и оглядывая свой дом. Он всегда любил его как убежище от всех тревог, но сейчас искал и не находил в себе этого чувства. Он помнил, сколько счастья было у него связано с этим домом, с его семьей, но он не мог оживить память об этом счастье. Здесь, в этом доме, часто раздавался смех, но это было давно, а сейчас воспоминания об отзвучавшем смехе были неспособны пробудить даже слабую улыбку. К тому же в последнее время он улыбался через силу, он терял чувство юмора. Интересно, что радость и смех были в его жизни совсем недавно, не далее как в этом августе. Все улетучилось буквально за два месяца после обращения. Теперь это казалось далеким-далеким прошлым. Забавно. Хотя теперь в этом нет ничего забавного. Ломен вошел в дом — на первом этаже стояла кромешная тьма. В пустынных комнатах воздух был неподвижный, затхлый. Он поднялся на второй этаж. Из-под двери спальни Денни в темную прихожую пробивался слабый свет. Он вошел к сыну и увидел его сидящим за столом, перед компьютером. Большой экран компьютера мерцал в темноте. Денни продолжал не отрываясь смотреть на экран. Мальчику было восемнадцать лет, он уже не был ребенком; поэтому он прошел через обращение вместе со своей матерью, вскоре после самого Ломена. Сын был красавцем-парнем, на два дюйма выше отца. В школе у него все шло хорошо, а показатели по интеллектуальным тестам были такие высокие, что Ломена это даже несколько пугало. Он всегда гордился своим Денни. Сейчас, стоя рядом с сыном, он пытался отыскать в себе эту гордость, но не находил ее. Виной тому был вовсе не Денни, он-то как раз остался молодцом. Но гордость, как и многие другие чувства, являлась препятствием для раскрепощенного разума Новых людей, она мешала сосредоточиваться на эффективной мыслительной деятельности. Денни был компьютерным фанатиком еще до обращения, одним из тех ребят, которые сами себя называют хэкерами. Для этих ребят компьютеры не только инструмент для работы, не только средство для игр и развлечений, но и способ жизни. После обращения ум и способности Денни были поставлены на службу «Новой волны». Ему установили дома более мощный компьютер и связали через модем с суперкомпьютером, стоящим в управлении компании. Эта громадина, судя по описанию Денни, содержала четыре тысячи миль проводов и тридцать три тысячи быстродействующих процессоров. Суперкомпьютеру дали название «Солнце», возможно, потому, что все исследования в компании проводились на базе этого компьютера и, образно говоря, вращались вокруг него, как планеты вокруг Солнца. На экране компьютера сменяли друг друга огромные массивы информации. Слова, числа, графики и таблицы появлялись и исчезали в темпе, при котором лишь Новые люди с их сверхвысокой работоспособностью и способностью концентрироваться могли разобраться в значении тех или иных данных. Ломен тоже был не в состоянии так работать с компьютером, поскольку он не прошел специальный курс в компании «Новая волна». К тому же у него не было ни времени, ни необходимости вникать в тонкости этой профессии. Денни же поглощал низвергающуюся на него информацию легко, не напрягаясь, он даже не прищуривался, глядя на экран. Пройдя через обращение, парень как бы частично превратился в машину, это позволяло ему без труда вести диалог с другой машиной — компьютером. Никто из обычных людей не был способен на это. Ломен знал, что его сын занимается исследованиями по проекту «Лунный ястреб». В дальнейшем он должен войти в состав исследовательской группы, которая беспрестанно оттачивала технику и программное обеспечение по этому проекту, добиваясь того, чтобы каждое новое поколение обращенных поднималось над предыдущим, превосходя его в эффективности. По экрану текла бесконечная река информации, Денни смотрел на нее, не мигая. Обычный человек не смог бы выдержать такого напряжения. Отсветы от экрана танцевали на стенах, прозрачные тени бродили по комнате. Ломен положил руку на плечо сына. Денни не повернул головы. Его губы беззвучно шевелились, он разговаривал сам с собой, не обращая никакого внимания на присутствие отца. В момент очередного откровения Шаддэк однажды поделился с Ломеном своей идеей о непосредственной связи между компьютером и человеком. Предполагалось, что компьютер будет подключаться к человеческому телу через разъем в области позвоночника. Ломен не понимал, зачем это нужно, и Шаддэк ему объяснил: «Новые люди — это мост между человеком и машиной, Ломен. Но придет день, когда человек сможет перейти через этот мост, он превратится в одно целое с машиной, только тогда человечество сможет стать полностью эффективным, только тогда его можно будет полностью контролировать». — Денни, — тихо позвал Ломен. Мальчик не отвечал. Подождав еще немного, Ломен вышел из комнаты. В другой стороне коридора находилась спальня Ломена и его жены. Грейс лежала на кровати, свет был погашен. Обращение изменило и Грейс, начать хотя бы с того, что теперь она могла видеть в темноте. Даже при выключенном освещении она различала контуры мебели, рисунок обоев. Для нее, для Ломена ночь из черной превратилась в серую. Ломен сел на край кровати. — Привет. Грейс молчала. Он провел рукой по ее длинным каштановым волосам. Пальцы коснулись ее щек, и он понял, что она плакала. Она плакала. Это открытие потрясло его, так как никогда прежде он не видел Новых людей плачущими. Сердце забилось сильней, но на этот раз из-за воспрянувшей в нем надежды. Неужели чувства все же остаются, не умирают до конца? — Что с тобой? — спросил он. — Почему ты плачешь? — Я боюсь. Надежда сразу погасла. Это страх довел ее до слез, страх и связанное с ним отчаяние, а он уже знал, что эти чувства являются частью Нового мира, но никак не прежнего. — Чего ты боишься? — Я не могу уснуть, — ответила Грейс. — Но ты же не нуждаешься в сне. — Разве? — Конечно. Никто из нас больше в нем не нуждается. Обычным людям сон был необходим, так как биологическое устройство их тел было крайне несовершенно. Во время ночного отдыха восстанавливалась энергия, утраченная во время дневной деятельности, удалялись шлаки, накопившиеся в результате этой деятельности. Организм Новых людей был великолепно отрегулирован. Природное несовершенство заменила тончайшая настройка всех органов. Каждая система, каждый орган, каждая клетка работала во много раз эффективнее, отходов от жизнедеятельности было гораздо меньше, и они удалялись быстрее, ежечасно очищая и омолаживая организм. Впрочем, Грейс знала обо всем этом не хуже его. — Мне так хочется поспать, — призналась она. — Это всего лишь привычка, от нее надо отвыкать. — Дни теперь тянутся неимоверно долго. — Скоро ты перестанешь это замечать. В Новом мире будет много дел. — Каких именно? — Шаддэк нам расскажет о них. — И все же… — Наберись терпения. — Я боюсь. — Потерпи. — Мне так не хватает сна. — Мы в нем не нуждаемся, — сказал Ломен, проявляя терпение, которого он ждал от Грейс. — Мы не нуждаемся в сне, — сказала она с загадочным видом, — но мы к нему стремился. Они помолчали. Затем она взяла его руку и поднесла ее к своей обнаженной груди. Он попробовал вырвать руку, так как боялся того, что могло случиться, что уже случалось не раз, когда они занимались любовью, уже будучи Новыми людьми. Нет, любовью это нельзя было назвать, это был секс. В этом занятии не было ничего, кроме физических ощущений, не было нежности и сопереживания. Они совокуплялись, толкали и притягивали друг друга, сгибались и разгибались, пытаясь достичь максимального раздражения нервных окончаний. Не заботясь об ощущениях партнера, они думали только о себе, о своем удовлетворении. Они пытались восполнить пробелы в своей эмоциональной жизни чувственными удовольствиями, прежде всего едой и сексом. Однако, лишившись эмоций, их близость становилась… пустой, лишенной смысла, и они компенсировали пустоту невоздержанностью. Простая трапеза превращалась в пиршество; пиршество превращалось в обжорство. Вместо близости возникало безумное, скотское соитие. Грейс опрокинула его на кровать. Он не хотел этого, но не мог ей отказать. Буквально был не в состоянии отказаться. Разгорячённо дыша, дрожа от возбуждения, она сорвала с него одежду и легла на него. С губ ее срывались странные нечленораздельные звуки. Возбуждение Ломена разгорелось, и он набросился на нее, ворвался в нее, теряя ощущение пространства и времени, существуя только для того, чтобы разжигать пламя в своей плоти, раздувать его до нестерпимого жара, влажного жара, распалять себя до того момента, когда все тело охватят языки пламени. Он менял позы, наваливался на нее своей тяжестью, вколачивал себя в ее тело, в нее, в нее, он готов был разорвать ее, его это мало волновало. Она обхватила его, впилась в него ногтями, расцарапала его до крови. Он тоже не жалел ее, ведь кровь так возбуждает, запах крови, сладкой крови, манящий запах крови. Они не боялись поранить друг друга, так как поверхностные раны сами собой заживлялись за несколько секунд, ведь они были Новыми людьми, раны затягивались, и они снова впивались друг в друга. Они хотели только одного — отдаться во власть стихии, дать волю диким инстинктам, дремавшим внутри их, отбросить все запреты цивилизации и вспомнить о зове своей животной природы. Они стремились сдаться в плен этой дикой силе и ощутить первобытную сладость совокупления, ощутить, как пустота сменяется примитивным смыслом. А после соития они отправятся вместе на охоту, будут охотиться и убивать, будут быстрыми и невидимыми, будут кусать и рвать добычу, впиваться зубами в живую кожу, из-под которой брызнет кровь, сладкая кровь. И текли кровь и сперма… Ломен долго не мог понять, где он находится. Когда он пришел в себя, то обратил внимание на дверь — она была приоткрыта. Денни мог увидеть их, если бы вышел в коридор; он наверняка слышал их крики. Однако Ломен, как ни старался, не чувствовал в себе ничего, кроме равнодушия. Скромность и стыд пали жертвами Великого обращения. Полностью опомнившись, он почувствовал, как страх подкрался к сердцу. Он быстро ощупал себя — лицо, руки, грудь, ноги, — чтобы убедиться, что он не изменился. В пылу соития он мог скатиться в состояние одичания и на пороге оргазма рисковал превратиться в «одержимого». Опасения, к счастью, не оправдались. Однако он весь был покрыт запекшейся кровью. Ломен включил ночник. — Выключи, — сразу попросила Грейс. Он хотел убедиться, что и жена выглядит так же… по-прежнему. Нет, жена тоже не превратилась в «одержимую». Только на теле ее виднелось несколько глубоких царапин. Он выключил свет и сел на край кровати. Раны и порезы благодаря обращению затягивались буквально на глазах. Иммунная система мгновенно уничтожала болезнетворные вирусы и бактерии. Шаддэк предполагал, что со временем возросшие возможности человеческого организма позволят Новому человеку жить сотни лет. Конечно, они могли умереть от глубокого ранения, затронувшего сердце или легкие. Но при повреждении других органов, даже жизненно важных для организма, сохранялась возможность для выживания. Им было, безусловно, далеко до машин, у которых можно заменить любую деталь, но они были ближе к совершенству, чем обычные люди. Жить сотни лет… Иногда Ломену становилось дурно от такой перспективы. Жить сотни лет, не зная ничего, кроме страха и физических ощущений… Он поднялся с кровати, прошел в ванную и принял душ, чтобы смыть с себя кровь. Он не смел взглянуть на себя в зеркало. Вернувшись в спальню, он достал из шкафа запасной мундир и оделся. Грейс по-прежнему лежала в кровати. — Мне так хочется уснуть, — снова сказала она. В голосе ее опять были слезы. Он вышел и закрыл за собой дверь.Глава 49
Они решили побеседовать на кухне, которая очень понравилась Тессе, так как напоминала ей о детстве и юности. В ту пору их семья любила собираться за кухонным столом, чтобы поболтать за ужином. Кухня объединяла их, она согревала. Даже самые мучительные проблемы решались просто, если их обсуждали на теплой кухне, среди ароматов кофе и горячего шоколада, к которым полагались домашнее печенье или кекс. Здесь было всегда уютно и спокойно. Кухня в доме Гарри Талбота была очень просторной, так как проектировалась для инвалида, пользующегося коляской. Вокруг стола, стоящего в центре, были широкие проходы, сам стол был низкий, так же как и столы вдоль стен, — все сделано для удобства сидящего в коляске Гарри. В остальном кухня была вполне обычной: шкафы, выкрашенные в мягкий кремовый цвет, бледно-зеленая керамическая плитка, слабо урчащий в углу холодильник. Жалюзи на окнах можно было опускать нажатием кнопки на одном из столов, что Гарри и сделал. Подняв телефонную трубку, Сэм убедился, что отключена телефонная связь во всем городе, а не только одни телефоны-автоматы. Гарри усадил Сэма рядом с Тессой, а сам стал варить им кофе в кофеварке. — Замерзли, наверное? — заметил он. — Горячий кофе вам не помешает, я думаю. Тесса и не собиралась отказываться, она действительно замерзла и была вымотана бессонной ночью. Она только подивилась тому, как Гарри, несмотря на свои увечья, ловко исполнял роль гостеприимного хозяина, застигнутого врасплох незваными гостями. Управляясь одной здоровой рукой и выказывая при этом удивительную сноровку, Гарри достал упаковку булочек с корицей, большой кусок шоколадного кекса из холодильника, посуду и бумажные салфетки. От помощи, предложенной Тессой и Сэмом, он вежливо и с улыбкой отказался. Тесса почувствовала, что за этим вовсе не стоит желание что-то доказать себе или другим. Просто Гарри нравится принимать у себя гостей, пусть даже в этот поздний час и при столь необычных обстоятельствах… Вероятно, гости его не балуют своими визитами. — К сожалению, сливок нет, — извинился Гарри, — есть только пакет молока. — Великолепно, — успокоил его Сэм. — Боюсь, молочника из тонкого фарфора у меня тоже не найдется, — снова извинился Гарри, ставя на стол пакет с молоком. Тесса непроизвольно стала набрасывать в уме сценарий документального фильма про Гарри, про мужество, необходимое для сохранения своей личности в тяжелейших условиях инвалидности. Ее творческая натура давала о себе знать, несмотря на испытания, через которые ей пришлось пройти совсем недавно. Впрочем, Тесса уже давно осознала, что натура художника прорывается сквозь любые обстоятельства, глаз оператора и режиссера не закроешь крышкой, как объектив кинокамеры. Смерть сестры окрашивала ее дни скорбью, но образы, планы фильмов продолжали посещать ее, она отмечала удобные углы для съемок, интересные детали. Даже в пекле войны, спасаясь с афганскими беженцами от советских самолетов, на бреющем полете пролетавших над их головами, она думала только о съемках, только о том, как она будет монтировать этот материал, когда вернется домой. Ее съемочная группа работала всегда так же увлеченно, как и она. Поэтому Тесса и теперь не чувствовала себя виноватой, не видела ничего зазорного в том, что она смотрит на все, даже на трагедию, взглядом художника, для нее это было естественно, это было частью творчества и самой жизни. Коляска Гарри имела подъемное устройство, позволяющее ему садиться за обычный стол. Он занял место рядом с Тессой. Муз лежал в углу, посматривая на них изредка, поднимая голову, словно заинтересовавшись каким-то поворотом в их разговоре — хотя, вероятнее, его больше интересовал запах шоколадного кекса. Но ньюфаундленд не позволял себе приблизиться и выпрашивать подачку, и Тесса была поражена его дисциплинированностью. Когда с кофе и булочками было покончено, Гарри произнес: — Вы сказали, Сэм, что вас привело сюда не только мое письмо, но и все эти так называемые несчастные случаи. — Он перевел взгляд на Тессу, и, так как сидел от нее по правую сторону, его вечно наклоненная влево голова придала его лицу выражение подозрительности или по крайней мере скептицизма. Ничего подобного на самом деле не было, о чем ясно поведала его теплая улыбка. — А как вы попали сюда, мисс Локленд? — Зовите меня Тессой, Гарри. Так вот… моей сестрой была Джэнис Кэпшоу… — Вдова Ричарда Кэпшоу, лютеранского священника? — переспросил Гарри с удивлением. — Совершенно верно. — Знаете, они же часто навещали меня. Я не был их прихожанином, но они не обращали на это внимания. Мы стали с ними друзьями. Даже после смерти мужа Джэнис заглядывала ко мне время от времени. Ваша сестра, Тесса, была удивительно милым человеком. — Гарри поставил на стол чашку и протянул Тессе руку. — Она была моим другом. Тесса пожала руку Гарри. Ладонь была жесткой, ее пожатие было сильным, словно вся сила парализованного тела выразилась в этом жесте. — Я видел, как они несли ее тело в крематорий похоронного бюро Каллана, — сказал Гарри. — Я видел это в свой телескоп. Я, знаете ли, наблюдатель. Так уж сложилось, из этого состоит моя жизнь. Я наблюдаю. — Гарри слегка покраснел, чуть сильнее сжал руку Тессы. — Я вовсе не подглядываю. Не подумайте чего плохого. Это для меня… как участие в жизни. Я, конечно, много читаю, у меня большая библиотека, я размышляю над многими вещами, но, понимаете, только наблюдение дает мне чувство жизни, реального в ней участия. Мы потом пойдем, посмотрим, как я там все устроил. Мне кажется, вы поймете меня. Я надеюсь на это. Так вот, я видел, как они переносили тело Джэнис той ночью… хотя я догадался о том, что это была именно она, только два дня спустя, когда в местной газете появился рассказ о ее гибели. Я не мог поверить, что она умерла так, как там было написано. До сих пор не верю. — Я тоже в это не верю, — сказала Тесса. — Именно поэтому я и приехала сюда. С неохотой Гарри отпустил руку Тессы. — Столько мертвых тел за последнее время, и большая часть из них кремирована ночью, причем почти всегда поблизости дежурили полицейские. Согласитесь, это странно для такого спокойного города, как этот. Сэм ответил: — Двенадцать смертей от несчастных случаев или самоубийств меньше чем за два месяца. — Двенадцать? — переспросил Гарри. — Вы не знали, что их так много? — О нет, их гораздо больше. На лице Сэма застыло удивление. Гарри договорил: — Я насчитал двадцать таких случаев.Глава 50
После ухода Уоткинса Шаддэк вернулся в свой кабинет и сел перед компьютером. Он вышел на связь с «Солнцем» — суперкомпьютером «Новой волны» — и продолжил разработку очередной проблемы, связанной с проектом «Лунный ястреб». Часы показывали половину третьего ночи, но он собирался поработать еще несколько часов, а спать пойти не раньше чем на рассвете. Спустя несколько минут «зазвонил телефон прямой связи. Вплоть до ареста Букера компьютер телефонной компании будет соединять только абонентов, прошедших через обращение. Остальные никуда позвонить не смогут, для них линии связи будут отключены. А всем, кто звонит в Мунлайт-Ков, голос с магнитофонной ленты будет вежливо объяснять, что линия находится в ремонте и будет восстановлена через сутки. Таким образом, Шаддэк заранее знал, что звонящий ему по телефону принадлежит к числу обращенных и, кроме того, входит в его ближайшее окружение. На дисплее телефонного аппарата высветился номер абонента, и Шаддэк понял, что ему звонит Майкл Пейзep. Он взял трубку и произнес: — Шаддэк слушает. Звонивший тяжело дышал прямо в трубку, но не сказал ни слова. Шаддэк нахмурился. — Алло? Снова ничего, кроме дыхания. — Майкл, это ты? В конце концов в трубке раздался хриплый, гортанный голос, срывающийся на визг, а временами — на шепот. Голос Пейзера, но какой-то изменившийся, необычный: — …что-то не так, не так, что-то не так, не могу измениться, не могу… не так… не так… Шаддэку совсем не хотелось признавать в говорившем Майкла Пейзера, слишком странно, дико звучал голос. Он спросил: — Кто это? — …жажда, жажда… жажду, хочу, я жажду… — Кто это? — переспросил сердито Шаддэк, но в сознании вертелся другой вопрос: «Что происходит?» Звонивший издал звук, в котором были боль, ярость, отчаяние, все это вместе смешалось в один кошмарный вопль. Затем раздался грохот упавшей трубки. Шаддэк положил трубку своего телефона, повернулся к компьютеру и, выйдя на связь с полицией, послал срочное сообщение для Ломена Уоткинса.Глава 51
Сидя в кресле в темной комнате третьего этажа и склонившись к окуляру телескопа, Сэм Букер изучал служебный двор похоронного бюро Каллана. Ветер, стучащий в окно и раскачивающий деревья, почти унес из города туман, оставив на улицах лишь его обрывки. Фонари возле бюро были погашены, и в темноте был различим свет, пробивающийся сквозь опущенные жалюзи. Несомненно, там, в крыле, где находился крематорий, кипела работа, жгли трупы погибших в «Ков-Лодже». Тесса устроилась на краю кровати, позади Сэма, и гладила Муза, положившего голову ей на колени. Рядом в коляске сидел Гарри. При свете карманного фонарика он изучал тетрадь, в которую записывал свои наблюдения за необычными событиями, происходившими в последнее время возле похоронного бюро. — Первый случай — по крайней мере из тех, что я заметил, — произошел ночью 28 августа, — рассказывал Гарри. — Было двадцать минут двенадцатого. Они привезли сразу четыре трупа, использовали катафалк и машину «скорой помощи». Машины сопровождала полиция. Тела были упакованы в пластиковые мешки, поэтому я ничего не могу о них сказать, но полицейские, санитары и служащие морга были явно чем-то… встревожены. Это было написано на их лицах. Они боялись чего-то. Они то и дело озирались, оглядывали окрестности, словно опасались, что кто-то увидит, чем они занимаются. Это ведь странно, не правда ли? Они же занимались своим обычным делом. Так вот, позже я прочитал в местной газете о семье Майзеров, погибшей в огне, и понял, кого привезли той ночью в похоронное бюро. По моим предположениям, они вовсе не сгорели при пожаре, так же как причиной смерти вашей сестры было совсем не самоубийства. — По всей вероятности — нет, — сказала Тесса. Не отрываясь от телескопа, Сэм заметил: — Майзеры фигурируют в моем списке. Этот несчастный случай всплыл, когда расследовали дело Бустаманте — Санчеса. Гарри прокашлялся и продолжал: — Через шесть дней, третьего сентября, в морг вскоре после полуночи привезли еще два трупа. На этот раз это выглядело еще более дико, так как их доставили не на катафалке и не на «скорой помощи». Две полицейские машины заехали задним ходом во двор бюро, и из них выгрузили тела, завернутые в окровавленные лохмотья. — Вы сказали — третьего сентября? — переспросил Сэм. — В моем списке нет никого на эту дату. Санчес и Бустаманте погибли пятого сентября. Свидетельство о смерти с датой «третье сентября» не выписывалось. Значит, они скрыли этот случай со смертельным исходом. — В местных газетах не было в эти дни никаких сообщений о чьей-либо смерти, — добавил Гарри. — Кто же они — эти двое? — спросила Тесса. — Возможно, это были приезжие, которых угораздило остановиться на ночлег в Мунлайт-Кове и которые попали в какую-то ловушку, — предположил Сэм. — Смерть этих людей можно было скрыть, никто не смог бы узнать, где они погибли. Для всех, кто этим заинтересовался бы, они просто исчезли где-нибудь в пути. — Тела Санчеса и Бустаманте привезли ночью пятого числа. — читал по тетради Гарри. — Затем, седьмого сентября, появилось тело Джима Армса. — Но Арме, судя по бумагам, исчез в море. — Сэм оторвался от телескопа и взглянул на Гарри. — Они привезли его тело в морг в одиннадцать часов вечера. — Гарри наклонился над тетрадью. — Жалюзи на окнах были подняты, и я мог заглянуть в зал морга и видеть все так ясно, как вижу в этой комнате. Я видел тело… это было кровавое месиво. И лицо тоже было все изуродовано. Через пару дней, когда в газете сообщили об исчезновении Армса, я понял, что именно его отправили в печь крематория той ночью. Спальня была окутана мраком, лишь тонкий луч фонарика освещал страницы открытой тетради. Белые листы, казалось, сами излучали свет, словно Гарри держал в руках священную — или демоническую — книгу. Свет, отраженный белыми страницами, лежал причудливым отблеском на лице Гарри, делая его старше, чем он был на самом деле. Каждая морщина на этом лице несла память о пережитых болях и минутах отчаяния. У Сэма старый солдат вызывал глубокую симпатию. Вовсе не жалость. Разве можно испытывать жалость к человеку, проявившему такую силу воли? Зато Сэму бросались в глаза горечь и одиночество замкнутого мира, в котором жил Гарри. А соседи? Хороши, нечего сказать. Что им стоило поделиться хоть частью их семейного тепла с Гарри? Пригласить иногда на ужин, на какое-нибудь торжество. Это ведь они виноваты в том, что он избрал такой замысловатый способ участия в жизни общества. Сэма доводила до отчаяния мысль о разобщенности людей, об их неспособности преодолеть эту отчужденность. С горечью он вспомнил о неладах с сыном, и еще одна боль стала саднить его душу. Обращаясь к Гарри, Сэм сказал: — Так вы сказали, что вместо тела Армса увидели кровавое месиво? — Оно все было истерзано, исполосовано. — То есть он не утонул? — Утопленники выглядят по-другому. — Исполосовано… вы именно это хотели сказать? — спросила Тесса. Сэм понял, что она вспомнила о людях — крики которых она слышала в мотеле, и о своей сестре. Гарри помолчал, затем заговорил: — Знаете, я видел тело этого несчастного, распростертое на столе в морге, за несколько минут до того, как его отправили в печь. Он был… выпотрошен. Почти обезглавлен. Страшно… растерзан. Он выглядел так, словно подорвался на противопехотной мине и был разорван на куски ее осколками. Некоторое время они сидели молча, осознавая весь ужас картины, открывшейся тогда перед взором Гарри, один Муз казался невозмутимым. Тесса гладила его за ушами, он тихо урчал от удовольствия. Иногда совсем неплохо быть одним из «братьев наших меньших», подумал Сэм. Жить, как подсказывают органы чувств, ни о чем не задумываться. Или взять тот же компьютер — другую крайность… совершенный электронный мозг, холодный расчет, и никаких тебе чувств. Никто, кроме людей, не несет на себе двойное бремя интеллекта и чувств, это страшно усложняет жизнь; вы либо постоянно думаете о своих чувствах вместо того, чтобы действовать инстинктивно, либо стараетесь понять, какое чувство вы должны испытывать в данной ситуации. Ваши мысли и суждения неизбежно окрашены эмоциями — причем некоторые из них находятся на уровне подсознания, и вы не можете даже до конца понять, почему вы приняли то или иное решение, так или иначе поступили. Чувства затуманивают ваш разум, но если вы попытаетесь разобраться в них, то они ускользают от вас. Глубоко чувствовать и одновременно ясно мыслить — это то же самое, что проехать на одноколесном велосипеде по проволоке, натянутой на головокружительной высоте, да еще при этом жонглировать шестью гимнастическими булавами. — После газетного сообщения об исчезновении Армса, — продолжал Гарри, — я ждал опровержения, но его не было. Тогда-то я и начал понимать, что странные события в похоронном бюро Каллана не просто странные, а связаны с какими-то темными делами. И полицейские тоже приложили к ним руку. — Паула Паркинс тоже была разорвана на куски, — вспомнил Сэм. Гарри кивнул. — Предположительно, своими собственными доберманами. — Доберманами? — переспросила Тесса. Во время их разговора в прачечной Сэм рассказал ей, что смерть ее сестры была лишь одним звеном в цепи загадочных самоубийств и смертей в результате несчастных случаев, но в детали он не вдавался. Теперь он коротко поведал ей историю смерти Паркинс. — Конечно, ее собаки тут ни при чем, — согласилась Тесса. — Она погибла, когда на нее напали те, кто убил Армса и моих соседей по этажу в «Ков-Лодже». Гарри Талбот впервые слышал о трагедии в мотеле. Сэму пришлось рассказать ему об этом и о том, как они с Тессой встретились в прачечной. На лице Гарри застыло странное выражение. Обращаясь к Тессе, он сказал: — Э-э… а вы не разглядели, как выглядели эти существа? Может быть, хоть краем глаза? — Я видела только ступню одного из них через щель под дверью. Гарри начал фразу, оборвал ее и замолчал, погрузившись в какие-то свои размышления. Он что-то знает, подумал Сэм. Он знает что-то, чего не знаем мы. По какой-то причине Гарри не был готов поделиться тем, что он знал, поэтому он вновь обратился к чтению вслух записей из своей тетради. — Через два дня после смерти Паулы Паркинс в морг привезли еще одно тело, это было в половине десятого вечера. — Одиннадцатого сентября? — спросил Сэм. — Да. — Свидетельств о смерти с такой датой нет. — В газетах тоже ничего не было. — Продолжайте. Гарри перешел к следующему случаю: — Пятнадцатого сентября… — Это были Стив Хейнц и Лаура Далко. Предположительно, он убил ее, затем застрелился сам, — перебил Сэм. — По всей вероятности, мы должны были поверить, что произошла ссора между любовниками. — Еще одна поспешная кремация, — отметил Гарри, — а двумя Днями позже два новых трупа были доставлены в морг после часа ночи, когда я уже собирался ложиться спать. — Никаких официальных данных об этих людях, — сказал Сэм. — Возможно, опять случайные приезжие, свернувшие с автострады, чтобы поужинать? — предположила Тесса. — Или кто-нибудь из жителей округа, проезжавших по загородному шоссе? — Они вполне могли быть местными жителями, — заметил Гарри. — Я имею в виду тех, кто не живет постоянно в городе, у кого нет своего жилья. Такие люди приезжают, уезжают, и если вы сочините, что кто-то из них внезапно уехал на заработки, то их соседи вам запросто поверят. Либо эти соседи уже принадлежат к «обращенным» и сами участвуют в сокрытии преступлений, подумал Сэм. — Затем ночь двадцать третьего сентября, — читал Гарри по своей тетради. — Должно быть, это было тело вашей сестры, Тесса. — Да. — К тому времени я уже понял, что необходимо сообщить кому-нибудь об увиденном мной. Кому-нибудь из властей. Но кому? Я не доверял местным властям, так как видел полицейских, доставлявших трупы, о которых не было потом никаких упоминаний в газетах. Сказать шерифу нашего округа? Но он скорее поверит Уоткинсу, чем мне, разве не так? Черт возьми, люди думают, что у инвалидов все немножко не в порядке — не в порядке с головой, я имею в виду, — они почему-то путают физические недостатки с недостатками умственными, путают не всегда осознанно, допускают, во всяком случае, такую мысль. Отсюда предубеждение, отсюда высокая вероятность того, что мне не поверят. И кроме того, согласитесь, сам рассказ звучал бы дико — какие-то мертвые тела, тайные кремации… — Гарри помолчал, нахмурился. — И то, что я — ветеран, имею награды, это тоже для них не причина, чтобы мне верить. Война давно кончилась, для многих это уже история. На самом деле… они наверняка повернули бы дело так, что оказалось бы — во всем виновата война. Они называют это «вьетнамский синдром», послевоенный стресс. У бедного старого Гарри шарики за ролики зашли — разве не видно? — от этой ужасной войны — вот что они сказали бы. Все это Гарри говорил спокойно, без надрыва. Но слова, произнесенные им, были словно поверхность воды, под которой скрываются глубины, — для Гарри это были глубины боли, одиночества, отчужденности. Когда он снова заговорил, стало заметно, как он волнуется, несколько раз голос его срывался: — И еще я должен признаться, что одной из причин моего молчания был… страх. Я не понимал, черт побери, что происходит. Я не знал, какие ставки в этой игре. Они вполне могли заставить меня замолчать, просто сунули бы в печь крематория в одну из ночей. Вы думаете, если я потерял на войне ноги-руки, то мне уже нечего терять?! Но это не так, совсем не так. Для меня жизнь, возможно, даже дороже, чем для целых и невредимых, вот как. Мое неподвижное тело сковало меня, я провел последние двадцать лет вне круговорота жизни и имел достаточно времени для того, чтобы полной мерой познать мир, его красоту и сложность. В конце концов мои увечья привели меня к тому, что я стал гораздо больше ценить жизнь, любить ее. Поэтому я боялся, что они придут ко мне и убьют меня, я не решался рассказать об увиденном. Боже праведный, если бы я заговорил раньше, если бы я раньше связался с ФБР, возможно, удалось бы спасти жизни многих людей. Возможно… удалось бы спасти вашу сестру. — Не терзайте себя, — сразу же сказала Тесса. — Если бы вы поступили по-другому, вас бы, несомненно, уже превратили в пепел в крематории Каллана, а затем развеяли бы по ветру. Судьба моей сестры была предрешена, вы ничего не могли изменить. Гарри кивнул, затем выключил фонарик, комната погрузилась в темноту, он явно еще не дочитал свои записи в тетради. Сэм догадался, что благородный душевный порыв Тессы вызвал у Гарри слезы, и он не захотел, чтобы их увидели. — Двадцать пятого, — продолжал Гарри, не заглядывая в тетрадь, — в четверть одиннадцатого в крематорий было доставлено еще одно тело. Странно было то, что на этот раз оно было привезено не на катафалке, не на полицейской машине и не на машине «скорой помощи». Труп привез Ломен Уоткинс… — Это начальник местной полиции, — объяснил Сэм Тессе. — …но он приехал на своей личной машине и был одет в гражданскую одежду, — продолжал Гарри. — Они выгрузили тело. Оно было завернуто в одеяло. Жалюзи в ту ночь также были подняты, и я мог все ясно видеть в телескоп. Я не узнал, кто это был, зато состояние, в котором находилось тело, было мне уже знакомо — то же самое я видел, когда привезли Армса. — Он был разорван в клочья? — спросил Сэм. — Да. Затем в город приехала бригада из ФБР по поводу дела Бустаманте — Санчеса. Когда я прочитал об этом в газете, я воистину испытал облегчение, так как надеялся, что все тайное станет явным и мы наконец-то получим объяснение случившемуся. Но вскоре в крематорий Каллана привезли еще два мертвых тела. Это было ночью четвертого октября… — Наша бригада в тот момент была в городе, — удивился Сэм. — Это была как раз середина срока их командировки. За все время их пребывания в городе не выписывалось ни одного свидетельства о смерти. Так вы говорите, что это произошло у них под носом? — Ну да. Мне даже не надо уточнять по тетради, я помню эти события совершенно отчетливо. Трупы привезли на прицепном фургоне, принадлежавшем Ризу Дорну. Это местный полицейский, но в ту ночь он был без формы. Они забросили трупы в крематорий, сквозь жалюзи я видел, как они засовывают в печь оба тела. Они страшно спешили. Затем седьмого октября вновь была суматоха возле похоронного бюро, но ночью был густой туман, и я не могу ручаться, что это было связано с новыми жертвами. И наконец… нынешняя ночь. Труп ребенка. Маленького ребенка. — Плюс еще двое убитых этой ночью в «Ков-Лодже», — добавила Тесса. — Всего получается двадцать две жертвы, а не двенадцать, из-за которых приехал Сэм. Этот город превратился в настоящую бойню. — Жертв может быть даже больше, чем мы думаем, — сказал Гарри. — Как это? — Учтите, что я наблюдаю за этим местом отнюдь не каждый вечер, а если и смотрю туда, то лишь время от времени в течение вечера. Кто знает, сколько еще случаев я упустил из виду, сколько мертвых тел превратилось в пепел, когда я не смотрел в ту сторону. Обуреваемый мрачными мыслями, Сэм снова приник к окуляру телескопа. Служебный двор похоронного бюро был темен и пустынен. Он медленно поворачивал телескоп вправо, просматривая участок к северу от крематория. — Но зачем этих людей убивали? — спросила Тесса Никто не мог ей ничего ответить. — И кто их убивал? — задала она еще один вопрос. Сэм оглядел кладбище на улице Конкистадоров, затем решительно вздохнул, поднял голову и рассказал им о своих приключениях на Айсберри-уэй. — Я подумал, что это могли быть ребята, хулиганы, но теперь я полагаю, что мне попались те же существа, которые убили соседей Тессы в «Ков-Лодже», те же существа, которых она мельком разглядела через щель под дверью. Он почувствовал, как Тесса содрогнулась от ужаса, задав вопрос: — Но кто же они такие? Гарри Талбот раздумывал. Наконец он решился: — Они — «призраки».Глава 52
Не включая сирен, с погашенными фарами на последнем участке пути Ломен Уоткинс подъехал к дому Майкла Пейзера в десять минут четвертого утра. Его сопровождали еще две машины с пятью полицейскими, все были вооружены. Ломен надеялся, что им придется применять оружие только для устрашения. Когда они в прошлый — и единственный — раз столкнулись с «одержимым» Джорданом Кумбсом (это случилось четвертого сентября), они не были готовы к схватке с освирепевшим существом, и им пришлось для защиты собственной жизни расстрелять его в упор. Шаддэку для исследований достался только труп. Он был вне себя — у него отняли шанс детально изучить психологию и физические функции одного из этих выродившихся маньяков. Пули с усыпляющим веществом в данном случае не возымели бы никакого действия, так как «одержимые» были людьми, прошедшими через обращение, а это предполагало полное изменение механизма обмена веществ. Организм не только мгновенно сам залечивал свои раны, но и мгновенно нейтрализовал и выводил из себя все токсины, к которым относились и усыпляющие препараты. Утихомирить «одержимого» можно было, только положив его под капельницу, но рассчитывать на такой вариант не приходилось. Одноэтажное бунгало Майкла Пейзера имело два выхода — с западной и с восточной стороны, содержалось в прекрасном состоянии и было расположено на участке в полтора акра, на котором росло несколько высоких эвкалиптов, еще не потерявших своих листьев. Свет во всем доме был погашен. Ломен послал двух человек наблюдать за окнами, расположенными в торцах здания. Еще один остался стеречь дверь парадного входа. Сам Уоткинс, взяв с собой двух оставшихся полицейских — Шолника и Пенниуорфа, обогнул дом и поднялся по ступенькам черного хода. Ветер уже разогнал туман, видимость была хорошей. Но тот же ветер, воющий и стонущий в ветвях деревьев, создавал такой шум, что за ним нельзя было услышать никаких других звуков. Это могло помешать им, когда они будут отлавливать Пейзера. Пенниуорф встал слева от двери, Шолник — справа. Оба они имели при себе полуавтоматические винтовки. Ломен попробовал открыть дверь. Она не была заперта. Он распахнул ее и отступил назад. Его помощники вошли в темную кухню друг за другом, с винтовками наготове. Они знали, что могут стрелять в Пейзера только в крайнем случае, но не собирались погибать ради того, чтобы доставить Шаддэку это существо живым и невредимым. Через мгновение один из них нащупал на стене выключатель. После этого в кухню вошел Уоткинс. Он был вооружен револьвером. Пол был усеян пустыми кастрюлями, разбитыми тарелками, валялись открытые консервные банки, разорванные упаковки из-под томатного соуса, белели яичная скорлупа и крошки хлеба. Один из кухонных стульев был повален набок, остальные разломаны, видимо, ударами о стену, так как часть плитки со стен осыпалась и лежала на полу. Через широкий проем была видна столовая с большим столом, окруженным стульями. Слева, рядом с холодильником, была дверь. Барри Шолник осторожно приоткрыл ее. На полках по сторонам узкого прохода стояли банки с консервами. Из прохода ступеньки вели вниз, в подвал. — Подвал проверим позже, — негромко скомандовал Ломен, — сначала обойдем весь дом. Шолник, стараясь не шуметь, поднял с пола стул и продел одну из ножек в ручку двери, ведущей в подвал. Теперь никто не смог бы оттуда выбраться, пока они будут осматривать дом. Они постояли на пороге столовой, прислушиваясь. Снаружи завывал ветер. Где-то в доме хлопало окно. Сверху доносился скрип, на крыше плохо закрепленная деревянная кровельная дранка хлопала при каждом порыве ветра. Полицейские поглядывали на Ломена, ожидая приказаний. Пенниуорфу было двадцать пять лет, но он выглядел на восемнадцать. Его молодое лицо было таким свежим и простодушным, что он напоминал скорее не полицейского, а разносчика религиозных брошюр. Шолник был на десять лет старше своего товарища и имел гораздо более грозный вид. Ломен знаком показал, куда идти. Они вошли в столовую и включили свет. В комнате никого не было, поэтому они двинулись дальше — в гостиную. Пенниуорф щелкнул выключателем, и зажглась бронзовая люстра — единственный предмет в комнате, который не был разбит. Обивка на диване и на стульях была изорвана в клочья, по всей комнате валялись обрывки поролона, словно куски ядовитого гриба. Книги были сметены с полок и разодраны. Керамическая ваза, несколько стеклянных украшений и кофейный столик из стекла были разбиты вдребезги. Кто-то оторвал дверцы от подставки под телевизором и нанес сокрушительный удар по его экрану. Здесь вовсю разгулялась чья-то слепая ярость и дикая сила. В комнате стоял сильный запах мочи… и чего-то еще менее противного и менее знакомого. Вероятно, это был запах существа, устроившего этот разгром. Пахло потом и еще чем-то, от чего Уоткинса начало мутить и к сердцу подобрался безотчетный страх. Слева был проход, ведущий к спальням и ванным комнатам. Ломен на всякий случай держал его под прицелом. Двое помощников Ломена вышли в коридор. В правой стене помещался встроенный шкаф. Шолник встал напротив двери шкафа с ружьем наготове. Пенниуорф, стоящий сбоку, резко открыл дверь. В шкафу была только одежда. Пока они выполнили самую легкую часть своей работы. Теперь им предстояло осмотреть коридор, в который выходили три двери; одна из них была наполовину распахнута, а две остальные слегка приоткрыты. Свет нигде не горел. Развернуться в узком коридоре было очень трудно, зато у того, кто мог затаиться в темноте, были прекрасные возможности для нападения из-за угла. Гудел ветер. Сквозь шум дождя доносилась его мрачная, на низкой ноте, мелодия. Ломен никогда не был командиром, который посылает своих подчиненных на опасное задание, а сам отсиживается в безопасном месте. И хотя он избавился после обращения от чувства гордости, самоуважения, долга, так же как и от многих других чувств, у него еще сохранились привычки, связанные с долгом, даже скорее не привычки, а инстинкты, и сейчас он действовал так же, как и в начале своей карьеры. Он первым шагнул в коридор, в который выходили две двери с левой стороны и одна с правой. Быстро и бесшумно он приблизился к дальней двери с левой стороны — к той, которая была наполовину открыта; он толкнул ее вовнутрь и, до того момента, когда дверь, ударившись о стену, снова закрылась, успел заметить, что в ванной комнате никто не прячется. Пенниуорф взял на себя первую дверь с левой стороны. Он вошел и нащупал на стене выключатель. В этот момент к нему присоединился Уоткинс. Комната, очевидно, служила хозяину кабинетом, здесь имелись два стола, пара стульев, шкафы и по стенам — полки до потолка, заставленные книгами, корешки которых слабо поблескивали. Тут же были установлены два компьютера. Ломен проскользнул в дверь и взял на прицел стенной шкаф. Пенниуорф осторожно раздвинул в стороны его зеркальные дверцы. Никого. Барри Шолник оставался в коридоре, держа под прицелом дверь комнаты, которую они еще не» обследовали. Когда Ломен и Пенниуорф присоединились к нему, Шолник раскрыл дверь настежь дулом своего ружья. В комнате было темно. Шолник отступил назад: он был уверен, что из этой темноты навстречу ему кто-то вылетит. Однако все было спокойно. Он помешкал на пороге, затем шагнул в комнату и, щелкнув выключателем, вскричал: «О Боже!» В одно мгновение он вновь оказался в коридоре. Взглянув через плечо полицейского в комнату, Ломен увидел адское создание, распростертое на полу у противоположной стены. Это был «одержимый», и несомненно, Пейзер, но он выглядел несколько не так, как Джордан Кумбс. Кое-что было похоже, но не все. Вместе с Шолником Ломен шагнул через порог. — Пейзер? Существо, сидящее в дальнем углу, заморгало, начало двигать своим кривым ртом. Шепчущим, гортанным, звериным, получеловеческим голосом оно забормотало: — Пейзер, Пейзер, Пейзер, я, Пейзер, я, я… В этой комнате также пахло мочой и ощущался еще другой, более сильный запах — острый, мускусный. Ломен сделал еще несколько шагов по комнате. Пенниуорф следовал за ним. Шолник оставался в дверях. Ломен остановился в двенадцати футах от Пейзера, а Пенниуорф зашел сбоку и встал рядом с винтовкой наготове. Джордан Кумбс, которого они четвертого сентября загнали в пустой кинотеатр, тоже имел звериный облик, он отдаленно напоминал гориллу своим коренастым и мощным телом. Внешность Майкла Пейзера была менее безобразной; его тело, распростертое в углу, напоминало скорее волка, чем обезьяну. Бедра были расположены по отношению к спинному хребту так, что они не давали ему возможности стоять или сидеть прямо. Верхняя часть ног была короткой, а голени — длинными. Все тело было покрыто шерстью, но не очень густой, это было непохоже на настоящую звериную шкуру. — Пейзер, я, я, я… Лицо Кумбса отдаленно напоминало человеческое или скорее лицо человекообразной обезьяны, у него были развитые надбровные дуги, плоский нос и мощные челюсти с широкими, острыми зубами, как у бабуина. Чудовищно измененная голова Майкла Пейзера скорее походила на волчью или собачью морду; рот и нос были вытянуты вперед, образуя волчью пасть. Надбровные кости напоминали обезьяньи, но были еще массивней, из-под них выглядывали налитые кровью глаза, посаженные очень глубоко. Но взгляд этих глаз, полный отчаяния и ужаса, был поистине человеческим. Подняв руку, указывая ею на Ломена, Пейзер проговорил: — Помоги мне, помоги мне, что-то не так, не так, помоги, помоги… Ломен уставился на эту преображенную руку с ужасом и изумлением, вспоминая, как начала изменяться его собственная рука, когда он испытывал это дикое искушение у дома Фостеров. Удлиненные пальцы, широкие, грубые суставы. Острые когти вместо ногтей. По своей ловкости эти конечности напоминали человеческую руку, но в остальном выглядели совершенно сверхъестественно. Дерьмо, подумал Ломен, эти руки, эти руки. Я уже видел их когда-то в кино или по видео, мы тогда взяли посмотреть кассету с фильмом «Вой». Роб Боттин. Так звали мастера по спецэффектам, который создал, оборотня для этого фильма. Он запомнил эту фамилию, так как Денни в то время был без ума от всяческих спецэффектов. Руки, протянутые сейчас к нему, больше всего напоминали лапы оборотня из фильма «Вой». С ума можно сойти от таких мыслей. Жизнь повторяет фантазию. Фантазия воплощается в реальность. Как будто в последнем десятилетии двадцатого века научно-технический прогресс достиг такого предела, при котором стало возможным воплощение не только мечты о лучшей жизни, но и всех кошмаров. Пейзер представал в виде дурного, страшного сна, который воплотился в реальность, но от этого сна нельзя пробудиться, это создание не исчезнет, как исчезают чудовища из плохих снов. — Чем я могу тебе помочь? — осторожно спросил Ломен. — Пристрелите его, — посоветовал Пенниуорф. — Нет! — резко возразил Уоткинс. Пейзер поднял обе свои лапы вверх и некоторое время смотрел на них, как будто только что увидел. Он зарычал, но рычание тут же сменилось на тонкий и жалобный стон. — Измениться, не могу измениться, не могу, пробую, хочу, хочу, не могу, пробую, не могу… Шолник, стоявший в дверях, заговорил: — Господи, да он попался, он в ловушке. А я-то думал, что «одержимые» могут возвращаться в нормальное состояние, когда захотят. — Так и есть на самом деле, — сказал Ломен. — Но этот-то не может, — возразил Шолник. — Он и сам об этом говорит, — поддержал товарища Пенниуорф, его голос звучал тревожно. — Он говорит, что не может измениться. — Не знаю, не знаю, — сказал Уоткинс. — Я хочу сказать, что другие «одержимые» могут изменяться, когда захотят. Если бы дело обстояло иначе, мы давно бы уже всех их переловили. Но они снова в какой-то момент превращаются в обычных людей и ходят по улицам как ни в чем не бывало. Пейзер, казалось, не замечал присутствия полицейских. Он разглядывал свои руки, издавая резкие гортанные звуки. Таким образом он, вероятно, выражал свое отчаяние. В какой-то момент руки начали видоизменяться. — Смотрите, смотрите, — вырвалось у Ломена. Ломену никогда прежде не доводилось наблюдать такое превращение; он был охвачен любопытством, смешанным с удивлением и ужасом. Когти исчезали на глазах. Плоть внезапно превратилась в подобие податливого воска: она бугрилась, словно закипая изнутри, она пульсировала, но виной тому была вовсе не кровь в венах, нет, это выглядело неестественно, пугающе; плоть принимала новые формы, словно над ней трудился невидимый скульптор. Ломен даже расслышал хруст костей — невидимая сила расщепляла их и соединяла вновь. Плоть плавилась и затвердевала с отвратительным чавкающим звуком. Кисти рук уже стали напоминать человеческие. Вслед за кистями начали изменяться запястья и предплечья, вся рука теряла форму волчьей лапы. Борьба человеческого духа с дикой природой отражалась на лице Пейзера, дух побеждал; первобытный образ уступал место человеческому облику. Впечатление было таким, будто чудовище-Пейзер был лишь отражением, а истинный Пейзер лишь сейчас оборачивался к ним лицом. Ломен Уоткинс не был ни ученым, ни специалистом по микротехнологиям, он был всего лишь полицейским с высшим образованием. Несмотря на это, он понял, что столь быстрое и кардинальное превращение не могло произойти лишь за счет резко ускорившегося обмена веществ и способностей Новых людей к самозаживлению. Какие бы огромные количества гормонов, энзимов и других активных веществ ни произвел организм Пейзера, их все равно было бы недостаточно для преобразования костей и соединительной ткани за столь короткое время. Такой процесс мог бы занять дни, недели, но не считанные секунды. Это было физически невозможно. Тем не менее это произошло. Значит, Майкл Пейзер был во власти иной, таинственной и пугающей силы, которая по своему могуществу превосходила возможности биологических процессов. Неожиданно процесс превращения остановился. Ломен мог видеть, что Пейзер изо всех сил рвался к обретению человеческого обличья, он скрипел зубами, напрягал свои полуволчьи-получеловечьи скулы, в глазах его застыло выражение отчаяния и железной решимости, но ничто не помогло ему. Долю секунды он колебался на грани спасения. Казалось, еще немного усилий, еще один рывок, и он достигнет того предела, за которым дальнейшее преображение пойдет уже автоматически, без чудовищного напряжения воли, подобно водному потоку, несущемуся вниз. Но он не смог достичь этого предела. Пенниуорф издал низкий, сдавленный звук, он словно переживал с Пейзером его отчаяние. Ломен мельком взглянул на своего помощника. Лоб Пенниуорфа покрыла испарина. Ломен ощутил, что он тоже вспотел, капли пота стекали по его левой щеке. В бунгало было тепло — время от времени включался и отключался масляный радиатор, но вовсе не жар от него вызывал у них испарину. То был холодный пот ужаса, который давал о себе знать еще и стесненным дыханием, и спазмом в горле. Ломен задыхался, он словно только что пробежал стометровку. Раздался крик Пейзера — пронзительный, отчаянный. Он снова начал терять человеческие черты. Опять послышался хруст перестраиваемых костей, опять плавящаяся плоть с хлюпаньем принимала новую форму — дикая природа возрождалась на глазах; спустя некоторое время Пейзер вновь предстал перед ними в том образе, в котором они застали его, — в образе адского создания. Создание, хоть и было адским, отличалось завидной силой и необычным, гармоничным в своем роде, телосложением. Хищная посадка большой головы была вроде бы неуклюжей по сравнению с человеческой, мощный загривок казался грубее человеческой шеи, но все существо в целом, несомненно, обладало неповторимой звериной фацией. Они смотрели друг на друга и молчали. Пейзер съежился на полу, втянув голову в плечи. Шолник, продолжавший стоять в дверях, нарушил молчание: — Господи, он — в ловушке. Скорее всего Майкл Пейзер пал жертвой какого-то технологического сбоя, возникшего в процессе его обращения в Нового человека, но Ломену все казалось, что Пейзер просто не в силах преодолеть соблазн, скрывавшийся в образе дикого, не подвластного никому существа. Он хочет вернуться к самому себе, у него еще есть для этого возможности, но другое, более острое желание пересиливает, не пускает его наверх, тянет вниз — к примитивной, но возбуждающей животной жизни. Пейзер поднял голову и посмотрел на Ломена, затем на Пенниуорфа, затем на Шолника и снова уставился на начальника полиции. Его поза уже не выражала отчаяния. Ужас и затравленность исчезли с лица. Казалось, его перекошенная пасть смеется над ними, глаза дикаря, пугающие и притягивающие одновременно, пронизывали их взглядом. Пейзер поднес руки к лицу, согнул свои длинные пальцы, когти клацнули друг о друга, он рассматривал их с изумлением, если звери могут изумляться. — …охота, охота, охота, погоня, убивать, кровь, кровь, жажда, жажда… — Как же, черт побери, мы сможем взять его живым, если он не собирается сдаваться? — голос Пенниуорфа звучал странно, он говорил тихо и невнятно. Пейзер с отсутствующим видом почесал у себя внизу живота. Он снова скользнул взглядом по Уоткинсу, затем по окну, сквозь которое в комнату заглядывала ночь. — Я чувствую… — Шолник не договорил. Пенниуорф также не мог связать двух слов: — Если мы… ну, мы можем… У Ломена все сильнее сжимало грудь. Что-то немыслимое творилось с горлом, он весь обливался потом. Пейзер издал тонкий, воющий крик; такого крика Ломен никогда прежде не слышал. Это было выражение жажды, тоски по чему-то, но одновременно и вызов, бросаемый животным в ночь, утверждение своей силы и уверенности в своей хитрости и могуществе. Звук от этого крика должен был резать слух, но вместо этого Ломен испытывал то самое неизъяснимое чувство искушения, которое охватило его у дома Фостеров, когда он услышал вой трех «одержимых», доносящийся из ночной мглы. До боли сжав челюсти, Ломен собрал все свои силы, чтобы и на этот раз устоять перед адским соблазном! Пейзер вновь закричал, а затем принялся бормотать: — Бежать, охотиться, свободен, свободен, жажда, со мной, идем, идем, жажда… Ломен понял, что помимо его воли рука с револьвером опускается вниз. Теперь ствол был направлен не на Пейзера, а в пол. — …бежим, бежим, свободны, жажда… Из-за спины Ломена раздался судорожный, победный вздох облегчения. Он обернулся и увидел Шолника — тот бросил на пол свою винтовку. Лицо и руки его помощника начали слегка изменяться. Он сорвал с себя свой черный китель, отбросил его в сторону и разодрал на себе рубаху. Его щеки и скулы словно расплавились и потекли вперед, а брови ушли назад. Он превращался в зверя.Глава 53
Когда Гарри Талбот закончил свой рассказ о «призраках», Сэм снова склонился к телескопу. Он переместил его влево и остановился взглядом на пустыре, на котором Гарри в последний раз видел этих тварей. Не то чтобы он искал там кого-то, нет, он вовсе не предполагал, что «призраки» вернутся на то же самое место и именно в то время, когда он туда смотрит. И конечно же, среди теней, в траве и кустарнике не осталось никаких следов их пребывания, никаких указаний на то, откуда они взялись и зачем появились здесь. Возможно, Сэм пытался просто привязать фантастический образ «призраков» к действительности, связать воедино в своей голове обезьяноподобных волков и этот пустырь, связать, чтобы представить их себе и понять, какую тактику избрать при столкновении с ними. У Гарри было что добавить к сказанному. Как если бы они сидели у камина, слушая страшные истории, он рассказал им о том, что увидел в доме Симпсонов, о том, как Денвер Симпсон, док Фиц, Риз Дорн и Пол Готорн набросились на Эдду Симпсон, поволокли ее наверх и насильно сделали ей укол при помощи огромного шприца с золотистой жидкостью внутри. Гарри показал Сэму, где находится дом Симпсонов. В этом доме к тому времени все было спокойно, свет погашен. Тесса продолжала сидеть на кровати, поглаживая пса. Она включилась в разговор: — Все это явно каким-то образом связано между собой: все эти «случайные» трагедии, этот укол, эти… «призраки». — Да, это все взаимосвязано, — согласился Сэм. — А узел всех этих связей находится в компании «Новая волна». Теперь была его очередь рассказывать. Он поведал им о том, что ему удалось обнаружить при работе с компьютером в полицейской машине. — «Лунный ястреб»? — удивилась Тесса. — Обращения? В кого же они обращают этих людей? — Не знаю. — Не в… «призраков» же? — Нет, я что-то не вижу в этом никакого смысла, а кроме того, по моим подсчетам, около двух тысяч человек в этом городе прошли… были обработаны, превращены черт знает в кого. Если этих «призраков» так много и они свободно бегают повсюду, то мы бы натыкались на них на каждом шагу, город был бы похож на огромный зоопарк для чудовищ из Диснейленда. — Две тысячи! — воскликнул Гарри. — Это две трети всего населения. — Остальных они предполагают обработать к полуночи, — добавил Сэм. — Через двадцать один час все будет закончено. — Я догадываюсь, что и я буду в их числе? — спросил Гарри. — Да. Я увидел вашу фамилию в их списках. Вы намечены к обращению в последней группе, в период от шести часов сегодняшнего вечера до полуночи. То есть до того момента, когда они придут за вами, остается четырнадцать с половиной часов. — Голова идет кругом, — сказала Тесса. — Да, — согласился Сэм. — Полное безумие. — Неужели это происходит наяву? — спросил Гарри. — Если же это сон, то почему у меня на голове волосы дыбом встают?Глава 54
— Шолник! Барри Шолник не обращал на Ломена никакого внимания. Он сорвал с себя рубашку, отбросил в сторону ботинки, он был во власти безумия. — Барри, ради Бога, остановись! — прокричал Пенниуорф. Он был бледен и еле держался на ногах. Его взгляд метался от Шолника к Пейзеру, и Ломен догадывался, что Пенниуорф находится во власти того же искушения, которому уже поддался Шолник. — …бежать, свобода, охота, кровь, жажда… У Ломена от этих слов было такое ощущение, словно кто-то вбивал ему в голову гвоздь, он отдал бы все, только бы не слышать их снова. Нет, это не было болевое ощущение, наоборот, слова эти возбуждали, казались чарующей мелодией, проникающей внутрь его, пронзающей душу. Именно поэтому ему было страшно, он боялся этого искушения, этого соблазна, который мог заставить его сбросить бремя ответственности и забот, отказаться от усложненной жизни разумного существа в пользу животного существования, физических удовольствий. Там, на свободе, не будет никаких запретов, будет только инстинкт охоты, чувство голода и сексуальное удовлетворение. Там не будет раздумий, там все будет зависеть только от силы мышц, не надо будет ломать голову, портить себе нервы, переживать. — …жажда, жажда, жажда, жажда, убивать… Тело Шолника теперь было по-звериному изогнуто, кожа превращалась в шкуру. — …иди, быстрей, быстрей, охота, кровь, кровь… По мере того как лицо Шолника изменялось, его рот растягивался почти до ушей, придавая ему вид древнего ящера с вечно оскаленными зубами. Ломен испытывал невыносимую боль в груди, его сжигал невидимый огонь, жар шел изнутри его тела, организм вырабатывал энергию, необходимую для перерождения. «Нет!» Пот лился ручьями. «Нет!» Комната словно превратилась в жаровню, он чувствовал, как его тело вот-вот начнет плавиться, он сгорит, от него останется лишь горсть пепла. — Я хочу, я хочу, я хочу, — заладил Пенниуорф, яростно мотая головой, он явно стремился отказаться от наваждения, нахлынувшего на него. Из глаз текли слезы, он дрожал, лицо было белым как мел. Пейзер поднялся с пола и пошел к двери. Движения его были ловкими и быстрыми, и, несмотря на то что он двигался в полусогнутом состоянии, он был выше Ломена. Он завораживал и пугал одновременно. Шолник завыл. Пейзер оскалил свою пасть, показал Ломену свои устрашающие клыки, словно говоря: «Либо ты присоединишься к нам, либо погибнешь». С криком, в котором слились отчаяние и радость, Нейл Пенниуорф выронил из рук свою винтовку и поднес ладони к лицу. При этом будто произошла алхимическая реакция — лицо и руки начали видоизменяться. Внутренний жар у Ломена дошел до точки кипения, он прокричал что-то нечленораздельное, в его крике не было ни радости Пенниуорфа, ни победной судороги Шолника. Будучи еще в силах контролировать свои действия, он поднял руку с зажатым в ней револьвером и прицелился в Пейзера. Выстрел пришелся в грудь «одержимого», тот отшатнулся к стене, забрызгав ее кровью. Пейзер свалился на пол, вопя от боли, хватая ртом воздух, он крутился на полу, как полупридавленное насекомое. Вероятно, его легкие и сердце не получили значительных повреждений. Если кислород еще продолжал поступать в кровь, а сердце разгоняло кровь по всему организму, он мог уже начать самозаживляться; неуязвимость «одержимого» была, пожалуй, выше, чем у сказочного оборотня, ведь оборотня можно было убить серебряной пулей, а «одержимый» даже после пулевого ранения мог вскоре встать на ноги и вновь броситься в атаку. Страшный жар волна за волной накатывал на Ломена, каждая новая волна была горячей предыдущей. Боль от огромного давления уже была не только в груди, она разлилась по всему телу. Оставалось всего несколько секунд, в течение которых он мог сохранять свой разум для действий и волю для сопротивления. Он подскочил к Пейзеру, приставил револьвер к его тяжело вздымающейся груди и выстрелил еще раз. Пуля на этот раз попала прямо в сердце. Тело Пейзера подпрыгнуло на полу при выстреле. Лицо «одержимого» исказила судорога, затем он замер с пустотой в глазах и с оскалом, обнажившим нечеловечески широкие, острые, загнутые клыки. Из-за спины Ломена раздался угрожающий крик. Обернувшись, он увидел того, кто некогда был Шолником. Два новых выстрела поразили нападавшего в грудь и в живот. Упав на пол, помощник Ломена пополз к двери в коридор. Нейл Пенниуорф лежал на полу возле кровати, согнувшись и обхватив колени руками. Он что-то бормотал, но это уже не были слова об охоте, жажде и крови; он повторял имя своей матери, повторял раз за разом, словно это заклинание могло спасти его от дьявольского наваждения. Сердце Ломена билось так, что казалось — кто-то бьет в барабан в соседней комнате. Ему чудилось, что все тело его сотрясается вместе с этим чудовищным биением сердца и с каждым ударом он медленно и страшно преображается. Ломен пошел вслед за Шолником, нагнулся над ним и приставил дуло револьвера к его спине, к тому месту, где, он полагал, у этого существа находится сердце, и нажал на курок. Когда револьвер коснулся Шолника, тот издал угрожающий крик, но не смог повернуться и выхватить револьвер, так как ослабел от потери крови. Крик оборвался вместе с выстрелом. В комнате пахло горячей кровью. Запах ее был так сладок и притягателен, что Ломен снова почувствовал страшную тягу к перерождению. Ломен прислонился к столику у стены и закрыл глаза, пытаясь совладать с собой. Он крепко сжал обеими руками свой револьвер — не для дальнейшей обороны, в нем больше не оставалось патронов, а только потому, что это было творение человеческих рук, инструмент, созданный цивилизацией. Этот предмет напоминал ему о том, что он — человек, венец прогресса, и он не должен бросать все, что создано и накоплено цивилизацией, ради примитивных наслаждений и прихотей животного. Но запах крови был так сладок и так возбуждал… Отчаянно стараясь удержать себя от искушения, он начал вспоминать все, что он потеряет, если поддастся ему. Он вспомнил о Грейс, своей жене, вспомнил о том, как он когда-то любил ее. Теперь любви не было, все Новые люди обходились без этого чувства. Воспоминания о Грейс не могли спасти его. Видение их недавнего, животного спаривания мелькнуло у него в мозгу; Грейс не была уже для него любимой женщиной, она была самкой, и оттого воспоминание об их совокуплении лишь разжигало в нем пламя искушения и толкало на край пропасти, из которой уже не выбраться человеком. Он снова попал в водоворот, его затягивало вниз, в пучину. Так чувствует себя оборотень, глядя в ночное небо, в котором поднимается из-за горизонта полная луна. В его существе шла яростная борьба: …кровь… …свобода… Нет. Разум, знание. …охота… …убийство… Нет. Постигать, учиться. …еда… …бежать… …охотиться… …насиловать… …убивать… Нет. Нет. Музыка, искусство, язык. Его охватило отчаяние. Он старался заглушить зов этих страшных сирен голосом разума, но это не помогло. Тогда он вспомнил о Денни, о своем сыне. Он пытался вызвать в себе любовь к сыну, восстановить ее в своем сердце, чтобы она помогла ему, но вместо этого находил лишь слабый отсвет этой любви во мраке своей души. Способность любить отлетела от него на огромное расстояние, как звездная материя от центра Вселенной после Большого взрыва; его любовь к Денни была теперь так далеко во времени и в пространстве, что стала похожей на далекую звезду, свет от которой едва заметен и которая не в силах никого согреть. И все же это слабое мерцание чувства постепенно начало помогать ему воссоздавать в себе человека, homo sapiens, он перестал стремиться быть существом, бегущим неизвестно куда на четырех лапах. Бешеный ритм его дыхания слегка ослаб. Сердце билось как сумасшедшее, ударов сто двадцать в минуту, но все-таки не так, как прежде. Сознание прояснилось, но еще не до конца, так как одуряющий запах крови продолжал искушать Ломена. Ломен отпустил свою опору и приблизился к Пенниуорфу. Его помощник все еще пребывал на полу, скорчившись на боку. Лицо и руки несли кое-какие следы перерождения, но человеческие черты преобладали. Вероятно, воспоминания о матери помогли ему так же, как тонкая ниточка любви к сыну помогла Ломену. Ломен разжал свои пальцы, крепко сжимающие револьвер, и потрогал Пенниуорфа за плечо. — Пойдем, нам надо выйти отсюда, парень, надо уходить от этого запаха. Пенниуорф понял, чего от него хотят, тяжело поднялся с пола. Он облокотился на руку Ломена, и они покинули комнату, в которой остались двое убитых «одержимых», прошли по коридору и оказались в гостиной. Вонь от человеческих испражнений, стоявшая здесь, перекрыла запах крови, который просачивался сюда из спальни. Им стало легче. Теперь даже эта вонь не показалась им такой ужасающей. Ломен усадил Пенниуорфа в кресло, это была единственная вещь из мягкой мебели, не разорванная в клочья. — Сейчас вроде полегче? Пенниуорф посмотрел на Ломена, помедлил, затем кивнул. С его лица и рук исчезли все признаки зверя, хотя кожа оставалась еще дряблой, но она продолжала возвращаться в нормальное состояние. Пенниуорф словно пережил тяжелую болезнь; по всему лицу шли красные пятна и полосы, от углов рта тянулись два красных шрама. Но даже эти следы исчезали прямо на глазах у Уоткинса, и Нейл Пенниуорф стремительно возвращался к человечеству. По крайней мере в физическом смысле. — Уверен, что легче? — Да. — Оставайся здесь. — Слушаюсь. Ломен вышел в прихожую и отворил входную дверь. Полицейский, стоявший на страже у двери, был так напуган стрельбой и криками, доносившимися из дома, что едва не выстрелил в своего начальника. — Что там произошло? — спросил он у Ломена.. — Соединись по компьютерной связи с Шаддэком, — приказал Ломен. — Он должен немедленно приехать сюда. Прямо сейчас. Мне необходимо увидеться с ним.Глава 55
Сэм задернул тяжелые синие шторы, а Гарри включил настольную лампу. И хотя свет от нее был слишком слаб, чтобы разогнать темноту, он тем не менее неприятно ударил Тессе в глаза, покрасневшие от усталости. Она смогла теперь рассмотреть комнату, в которой они сидели. Мебели в ней было совсем мало: стол, стоящий рядом с креслом, телескоп, длинный туалетный столик в восточном стиле, пара тумбочек около кровати, маленький холодильник в углу, широкая кровать с регулируемым наклоном, как у больничной койки. На кровати не было покрывала, зато она была вся завалена подушками и застелена простынями яркой расцветки, узор на них состоял из множества пятен и полос красного, оранжевого, пурпурного, зеленого, желтого, синего и черного цветов. Впечатление было такое, будто над тканью потрудился сумасшедший и слепой художник-абстракционист. Гарри заметил, что Тесса и Сэм с любопытством поглядывают на эти простыни, и сказал: — Знаете, с этими простынями была целая история, но прежде надо дать кое-какое пояснение. Моя экономка, миссис Хансбок, приходит один раз в неделю и покупками для меня практически не занимается. Поэтому я посылаю Муза каждый день на улицу, иногда даже просто за газетой. Я ему на спину надеваю… ну, что-то вроде перекидной сумки. В эту сумку я кладу записку и деньги, и Муз идет в одну из ближайших лавочек, он уже к ней привык, в другие мы ездим только вместе. Продавец этой лавочки Джимми Рамис — мой хороший приятель. Джимми читает мою записку, кладет пакет молока, конфеты или что-нибудь еще в эту сумку, туда же кладет сдачу, и Муз приносит все это домой. Муз — отличная собака, на него можно положиться, умница. В собачьем питомнике их великолепно дрессируют. Этот пес никогда не погонится за кошкой, если у него на спине в сумке газета или пакет молока для меня. Пес приподнял голову с колен Тессы, оскалил пасть и шумно засопел как бы в благодарность за похвалу. — Однажды собака вернулась с продуктами, которые я заказывал, но, кроме них, в сумке оказались вот эти самые простыни и наволочки. Я сразу позвонил Джимми Рамису, мол, что это такое, а он отвечает, что он слышать не слышал ни о каких простынях. Но я-то, кажется, понял, в чем тут дело. Отец Джимми является владельцем не только этой лавочки, в которой работает его сын, но и еще одного магазина. Там он устраивает распродажи по сниженным ценам тех товаров, которые не нашли спроса. Они распродают всякую ерунду центов за десять, самое большее — за доллар. Так вот, видно, эти простыни никто не стал покупать даже там, а Джимми увидел эту идиотскую расцветку и решил надо мной подшутить. Правда, по телефону он отпирался: «Гарри, если бы я что-нибудь знал об этих простынях, я бы тебе сказал, но я не знаю, клянусь». Тогда я ему: «Уж не хочешь ли ты сказать, что Муз пошел и купил эти простыни на свои деньги?» А он: «Так он же мог стянуть их где-нибудь». Я стою на своем: «Хорошо, но как пес мог так аккуратно запаковать их в сумку?» Джимми отвечает: «Гарри, честное слово, не знаю, но твой Муз — такая умная собака, черт побери, вот только со вкусом у него не все в порядке». Тесса заметила, с каким удовольствием расписывает Гарри эту историю, и сразу поняла, в чем тут дело. Ведь, с одной стороны, собака для Гарри была одновременно ребенком, братом и другом, и Гарри радовался, когда люди хвалили Муза за его сообразительность. Но еще важнее для Гарри было то, что эта маленькая шутка сблизила его с людьми, он хоть чуть-чуть, но поучаствовал в жизни города. В его отшельнической жизни было слишком мало таких эпизодов. — Да ты действительно умная собака, — сказала Тесса Музу. — В общем, я решил попросить миссис Хансбок постелить их на кровать. Просто так, шутки ради. А потом они мне даже чем-то понравились, — закончил свой рассказ Гарри. Поправив шторы на окнах, Сэм вновь уселся в кресло и, повернувшись к Гарри, заметил: — В жизни не видел таких веселых расцветок на простынях. Они не мешают вам спать по ночам? Гарри засмеялся в ответ. — Нет, я не страдаю бессонницей. Сплю детским сном. Люди ведь почему плохо спят? Они тревожатся за свой завтрашний день, боятся того-сего. Но со мной-то самое плохое уже произошло. А некоторые не спят, потому что думают о своем прошлом, о том, что не сбылось в их жизни. Это тоже не для меня, честно говоря, я просто не осмеливаюсь думать об этом. — Когда он сказал это, улыбка сошла с его лица. — Так что теперь? Что мы будем делать дальше? Осторожно убрав с колен голову Муза, Тесса встала и стряхнула с джинсов клочки собачьей шерсти. Она начала размышлять вслух: — Итак, телефоны отключены, значит, Сэм не может позвонить в Бюро, а если мы попробуем выйти из города пешком, то рискуем наткнуться на полицейский патруль или на «призраков». Значит, по-моему, у нас остается два варианта: первый — найти радиолюбителя, который согласится передать сообщение по своему радиопередатчику, второй — выбраться из города на машине. — Не забудьте — дороги перекрыты патрулями, — напомнил Гарри. Тесса продолжала — Я это себе представляю следующим образом: мы захватываем грузовик, достаточно большой и тяжелый, прорываемся через заграждения на автостраду и выезжаем за пределы их юрисдикции. Даже если мы попадем в руки полиции округа, это будет хорошо, так как Сэм может попросить их связаться с ФБР и подтвердить его полномочия. Тогда они уже будут действовать на нашей стороне. — Так-так, и кто же из нас федеральный агент? — спросил Сэм. Тесса почувствовала, что ее лицо покрывает румянец. — Извините. Просто, видите ли, режиссер документального кино почти всегда одновременно является еще и продюсером, и директором съемочной группы, а зачастую и сценаристом. Поэтому снять хороший фильм можно только тогда, когда хорошо отработаны все технические вопросы, а это приучает к планированию деятельности, к разработке разных вариантов. Я вовсе не хотела наступать вам на любимую мозоль. — Ну что вы, наступайте-наступайте, ради Бога. Сэм сказал это с улыбкой, и Тессе его улыбка понравилась. Она даже сразу прониклась к нему симпатией. Сэм был внешне совсем непримечательным мужчиной, ни красавцем, ни уродом, он был «человеком с улицы». Без особых примет, но обаятельным. Тесса догадывалась, что какие-то проблемы гложут его душу, и скорее всего это не связано с событиями в Мунлайт-Кове. Эта печаль была спрятана глубоко и, возможно, была связана с какими-то личными потерями, с какой-то внутренней обидой, а может быть, с общим пессимизмом, который вызывает постоянный контакт с преступной средой. Улыбка, однако, совершенно преображала лицо Сэма. — Вы на самом деле собираетесь прорываться на грузовике? — спросил Гарри. — Это возможно только как крайнее средство, — пояснил Сэм. — Для этого понадобится мощная машина, ее еще надо найти, а потом придумать, как угнать, — это отдельная операция. Кроме того, те, кто блокирует дороги, могут быть вооружены мощным оружием, возможно, автоматами. Даже на тяжелом грузовике прорываться под огнем очень опасно. Конечно, в ад можно отправиться и на танке, но где гарантия, что танковая броня защитит вас от дьявола? Так что лучше не соваться туда без крайней необходимости. — Так куда же нам тогда деваться? — поинтересовалась Тесса. — Первым делом надо отдохнуть, — предложил Сэм. — Есть у меня на примете один вариант, как связаться с Бюро. Я уже прикидывал, как лучше это сделать, но, честное слово, утро вечера мудренее. Всего два часа хорошего сна, и появятся бодрость духа и свежесть мысли. Тесса тоже страшно устала и выбилась из сил, но после всего, что случилось в «Ков-Лодже», она все же была удивлена тому, что ее клонит в сон. Ведь там, у двери своего номера в мотеле, слушая стоны жертв и дикие крики убийц, она полагала, что ей теперь вовеки не удастся заснуть.Глава 56
Шаддэк прибыл к дому Пейзера в четыре часа утра. Для ночной поездки он выбрал не «Мерседес», а большую машину с кузовом «универсал» угольно-черного цвета с матовыми стеклами. В этой машине между сиденьями, там, где обычно размещается кондиционер, был установлен компьютер. Так какночь обещала быть беспокойной, Шаддэк посчитал нужным быть все время на связи и держать в руках нити паутины, раскинувшейся над Мунлайт-Ковом. Он припарковал машину напротив дома на стоянке. Когда Шаддэк шел к входной двери, со стороны океана донесся глухой шум. Сильный ветер, изгоняющий туман на восток, принес с запада шторм. Пару часов назад косматые тучи закрыли небо и погасили звезды, которые лишь едва блеснули в краткой паузе между густым туманом и грозой. Ночь была темной и мрачной. Шаддэка пробирала дрожь, несмотря на то что поверх шерстяного спортивного костюма он накинул пальто. Возле дома стояли автомобили с полицейскими. Из-за запыленных стекол машин их лица казались бледными, а Шаддэку было приятно думать, что полицейские смотрят на него с почтением и страхом. Он ведь был в какой-то степени божеством, создавшим их заново. Ломен Уоткинс ждал его в гостиной. В комнате был полный разгром. Нейл Пенниуорф сидел на единственном из уцелевших кресел; его била дрожь, и он избегал встречаться взглядом с Шаддэком. Уоткинс мерил комнату шагами. На его мундире виднелись следы крови, но было видно, что сам он цел и невредим; если у него и были легкие ранения, то они уже подверглись самозаживлению. Скорее всего кровь на мундире Уоткинса принадлежала кому-нибудь другому. — Что здесь произошло? — спросил Шаддэк. Оставив этот вопрос без ответа, Уоткинс обратился к офицеру: — Идите в машину, Нейл. Посидите там вместе с другими. — Слушаюсь, сэр, — отозвался Пенниуорф. Он продолжал сидеть в кресле, нагнувшись и разглядывая свои ботинки. — Все будет в порядке, Нейл. — Хотелось бы. — Я вас не спрашиваю, а говорю как есть — все будет нормально. У вас достаточно сильная воля, чтобы сопротивляться. Вы это только что доказали. Пенниуорф кивнул, поднялся с кресла и направился к двери. — Что все это значит? — поинтересовался Шаддэк. Уоткинс направился к выходу в коридор и проронил: — Пойдемте со мной. — Его голос звучал холодно и жестко, в нем слышались гнев и страх, но почти совсем не было того подобострастного почтения, с которым он обращался к Шаддэку с тех пор, как в августе прошел через обращение. Шаддэку эта перемена в Уоткинсе явно не понравилась, он нахмурился и нехотя, но все же пошел за ним. Полицейский остановился перед закрытой дверью и обернулся к Шаддэку. — Вы говорили мне, что благодаря введению в организм этих… биочипов наша биологическая эффективность многократно возросла. — Вы ошиблись в термине. Это вовсе не биочипы, это микросферы чрезвычайно малых размеров. Несмотря на проблему «одержимых» и другие трудности, возникшие при реализации проекта «Лунный ястреб», Шаддэк продолжал гордиться своими разработками. Неполадки можно устранить. Все помехи можно вывести за рамки системы. Он все еще остается гением в своем деле. Это не самообман, это ясно как божий день. Он — гений… Обычный микрочип из кварца, открывший эру компьютерной революции, был размером с человеческий ноготь и содержал около миллиона элементов, отпечатанных на нем методом фотолитографии. Самый маленький элемент на этой пластинке был в сто раз тоньше человеческого волоса. Прорыв в области рентгеновской литографии, связанный с использованием гигантских ускорителей частиц — синхротронов, позволил отпечатывать на каждой пластинке до миллиарда элементов, каждый из которых был в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Резкая миниатюризация микрочипов была одним из основных путей для увеличения быстродействия компьютеров, улучшения их параметров и возможностей. Микросферы, разработанные «Новой волной», по своему размеру составляли одну четырехтысячную от обычного микрочипа. На каждой из сфер было до четверти миллиона элементов. Это стало возможным благодаря новым технологиям рентгеновской литографии, позволившим размещать элементы на малых поверхностях, которые к тому же не обязательно должны были быть совершенно плоскими и ровными. Обращение обычных людей в Новых началось с введения в их организм сотен тысяч таких микросфер, которые разносились током крови по всему телу. Несмотря на то, что эти микросферы были предназначены для активного взаимодействия с организмом, биологически они были абсолютно инертны, и по этой причине иммунная система человека их не отторгала. Существовало много разновидностей микросфер. Некоторые из них предназначались для поддержки сердца и размещались на стенках сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу. Особые микросферы обслуживали печень, легкие, селезенку, головной мозг и многие другие органы. Они образовывали колонии возле соответствующих органов и были сконструированы так, что при соприкосновении соединялись в единый комплекс. Эти комплексы, разбросанные по всему телу, в общей сложности обеспечивали работу пятидесяти миллиардов микроэлементов, что во много раз превышало возможности самых мощных суперкомпьютеров 80-х годов. Можно сказать, что с введением в организм этих микросфер в теле человека начинал работать сверхмощный суперкомпьютер. Мунлайт-Ков и его окрестности постоянно находились в поле микроволновой связи, которую обеспечивали огромные антенны-тарелки, размещенные на крыше главного здания компании «Новая волна». Часть возможностей этой связи использовалась для обеспечения полицейской компьютерной системы, а другая часть обслуживала и подпитывала энергией микросферы, находящиеся в организме каждого Нового человека. Небольшое число микросфер было изготовлено из особого материала и служило в качестве преобразователей и распределителей энергии. Когда человек получал третью дозу микросфер, сферы — преобразователи энергии начинали получать энергию микроволновых волн, превращать ее в электрическую и распределять по всем комплексам микросфер. Этой энергии хватало с избытком, система была очень экономичной. Другим видом специальных микросфер были микросферы памяти. Они присутствовали в каждом комплексе, часть из них уже имела записанную программу, которая была готова к использованию сразу же после того, как в систему поступало электропитание. Шаддэк обратился к Уоткинсу: — Я уже давно убедился, что главной проблемой, осложняющей человеческую жизнь, является эмоциональность. Поэтому я освободил вас от этого бремени и сделал здоровее не только в духовном плане, но и в физическом тоже. — Каким образом? Я ведь так мало знаю о механике обращения. — Если говорить коротко, каждый из вас сейчас представляет собой кибернетическую конструкцию, то есть частично вы являетесь людьми, а частично — сложной электронной системой. Но вам вовсе не обязательно добиваться понимания этих вещей, Ломен. Вы ведь пользуетесь телефоном, но вряд ли смогли бы сами собрать телефонный аппарат. То же самое — с компьютером, находящимся внутри вас, вы можете не знать его устройства, но можете им пользоваться. В глазах Уоткинса появился страх. — Я пользуюсь им… или он пользуется мной? — Конечно, нет, он не пользуется вами. — Конечно… Шаддэк пока не понимал, что могло привести Уоткинса в состояние такой сильной тревоги. Тем большим был его интерес к тому, что могло быть в спальне, на пороге которой они остановились. Шаддэк, однако, чувствовал необходимость успокоить Ломена, так как от возбужденного полицейского исходила какая-то опасность. — Ломен, поймите, все эти комплексы микросфер внутри вас ни в коем случае не обладают разумом. Эта система не способна на интеллектуальные усилия. Она всего лишь служанка. Она просто защищает вас от эмоционального яда. Сильные чувства — ненависть, любовь, зависть, ревность и множество других — периодически дестабилизируют биологические функции организма. Медицинские исследования показали, что эмоции стимулируют выработку определенных химических веществ, а эти вещества, в свою очередь, влияют на функционирование того или иного органа, снижая или повышая его эффективность, но в любом случае выбивая из колеи. Шаддэк был убежден, что человек, подверженный эмоциям, никогда не может быть абсолютно здоровым и никогда не сможет ясно мыслить. Микросферный компьютер, ставший одним целым с каждым из Новых людей, постоянно контролировал все органы их тела. При обнаружении различных аминокислотных соединений и других химических веществ, вырабатываемых в определенном эмоциональном состоянии, этот компьютер сразу же начинал посылать импульсы в мозг и прочие органы. Эти импульсы гасили возбуждение, уничтожая если не саму эмоцию, то по крайней мере ее неблагоприятные последствия. В то же время компьютер стимулировал производство в организме большого количества веществ, способных успокоить эмоциональное возбуждение, таким образом, воздействие оказывалось не только на следствие, но и на причину. — Я избавил вас от всех эмоций, кроме страха, — продолжал Шаддэк, — страх вам необходим для чувств; самосохранения. Теперь, когда ваше тело не боится эмоциональных отравлений, вы можете мыслить свободно. — Насколько я успел заметить, я пока не стал гением. — Вы просто не смогли проследить, как расширяются ваши возможности, но наступит день, когда вы сделаете поразительные открытия. — Когда же этот день наступит? — Тогда, когда ваш организм полностью очистится от эмоционального шлака, накопившегося за всю вашу жизнь. И не забывайте к тому же, что ваш внутренний компьютер, — Шаддэк похлопал слегка Уоткинса по плечу, — запрограммирован на то, чтобы стимулировать выработку организмом таких аминокислотных соединений, которые предохранят стенки ваших сосудов от склеротических изменений, уничтожат раковые клетки в момент их появления — словом, сделают все необходимое, чтобы вы были во много раз здоровее любого обычного человека и жили бы также гораздо дольше. Шаддэк предполагал, что у Новых людей ускорятся процессы заживления, но он был поражен той фантастической скоростью, с которой шло заживление ран. Он пока не мог до конца понять механизмы, при помощи которых ткани могли формироваться столь быстро, и сейчас был занят разгадкой именно этой тайны проекта «Лунный ястреб». Заживление, безусловно, не могло происходить без значительных энергетических затрат, в эти моменты обмен веществ чудовищно ускорялся, запасы организма расходовались за считанные минуты, и человек, мгновенно похудевший, обливающийся потом, испытывал зверский аппетит. Уоткинс нахмурился и стер дрожащей рукой пот со лба. — Я могу понять, как за две минуты заживляется рана, но какая сила позволяет нашим телам полностью менять свою форму, превращаться во что-то немыслимое — вот этого я понять не могу. Ясно, что даже целые юры химикатов, о которых вы говорите, не могут расплавить наши тела и вновь их воссоздать в другом виде за несколько минут. Так что же с нами происходит? На мгновение Шаддэк встретился взглядом с глазами Уоткинса, отвернулся, закашлялся и сказал: — Послушайте, я вам все объясню чуть позже. Сейчас я бы хотел посмотреть на Пейзера. Надеюсь, вам удалось утихомирить его, не причинив ему большого вреда. Шаддэк уже шагнул к двери, чтобы открыть ее. В этот момент Уоткинс схватил его за руку и остановил. Шаддэк был в шоке. Он не позволял никому прикасаться к себе. — Уберите руку. — Почему наше тело способно настолько быстро изменяться? — Я же сказал, я объясню вам это позже. — Нет. — Уоткинс был настроен так решительно, что его лицо прорезали волевые морщины. — Я должен получить ответ сейчас. Я боюсь и не могу отвечать за себя. В этом состоянии я не могу действовать нормально, Шаддэк. Посмотрите на меня. Я в шоке. Чувствую, еще немного, и меня разнесет на куски. На миллионы кусков. Вы не знаете, что произошло здесь недавно, иначе вы, наверное, чувствовали бы себя так же. Мне надо знать — в чем причина этих мгновенных превращений? Шаддэк неохотно проронил: — Я как раз сейчас работаю над этой проблемой. От удивления Уоткинс разжал пальцы и выпустил его руку: — Как? Вы… хотите сказать, что не знаете причин? — Это явление было неожиданностью для меня. Я уже начал разбираться в причинах. — Шаддэк лгал. — Но предстоит еще много работы. — Он пока только предполагал, что процессы превращения имеют в своей основе те же механизмы, которые позволили Новым людям с феноменальной скоростью заживлять свои раны. — Получается, что вы подвергли нас этому эксперименту, не просчитав всех его последствий? — Я всегда видел в этом проекте спасение для людей, великий подарок судьбы, — нервно обронил Шаддэк. — Ни один ученый не в состоянии предугадать все побочные эффекты. Главное в этом деле — быть уверенным в том, что благо, которое принесет открытие, перевесит все его неприятные моменты. — Но оказалось, что неприятные моменты перевесили все преимущества. — Уоткинс говорил, задыхаясь от возмущения в такой степени, в какой позволяли его сдерживающие механизмы. — Боже, как вы осмелились проделать это с нами? — Я старался для вашего же блага. Уоткинс посмотрел Шаддэку в глаза, затем распахнул дверь в спальню и произнес: — А теперь взгляните на это. Шаддэк шагнул через порог комнаты, ковер которой, а местами и стены были густо забрызганы кровью. От страшной вони он поморщился. Шаддэк считал все человеческие запахи отвратительными, вероятно, потому, что они напоминали о несовершенстве человеческого организма по сравнению с машиной. Постояв у первого трупа, который лежал лицом вниз у самой двери, он заметил и второе тело в углу комнаты. — Значит, их было двое? Здесь было двое «одержимых», и вы убили обоих? У меня было целых две возможности изучить их психологию, а вы не оставили мне ни одной? Уоткинс не собирался оправдываться. — Ситуация была критической. Иначе поступить мы не могли. Его возмущение достигло высшего предела, доступного Новым людям, возможно, это запретное чувство подпитывалось страхом, который не мог быть подавлен. — Когда мы вошли, Пейзер был уже в состоянии вырождения, — объяснил Уоткинс. — Мы искали его по всему дому и наткнулись на него здесь. Уоткинс в деталях описывал происходящее, а в душе Шаддэка нарастало тревожное предчувствие, которое он старался скрыть и которое даже пытался отогнать от себя. Когда он заговорил, в голосе его был только гнев и ни капли обеспокоенности: — Вы хотите сказать, что оба ваших человека — Шолник и Пенниуорф — превратились в «одержимых», вы хотите сказать, что и вы сам — «одержимый»? — Да, Шолник действительно превратился в «одержимого». Насколько я понимаю, Пенниуорф пока избежал этой участи благодаря тому, что он изо всех сил сопротивлялся искушению. Точно так же сопротивлялся я. — Уоткинс упрямо выдерживал взгляд своего босса, не отводя ни на секунду глаз, это еще больше раздражало Шаддэка. — Я сейчас говорю вам о тех же вещах, о которых говорил несколько часов тому назад у вас в кабинете. Каждый из нас, да-да, буквально каждый из нас потенциально является «одержимым». Это вовсе не исключение из правил, это правило для Новых людей. Вы вовсе не создали нового и лучшего человека, так же как не создал его и Гитлер в ходе своих расовых экспериментов. Вы не Господь Бог; вы всего лишь доктор Моро. — Вы не смеете разговаривать со мной в таком тоне! — возмутился Шаддэк, вспоминая про себя, кто такой доктор Моро. Эта фамилия что-то напоминала ему, но он не мог припомнить, что именно. — Когда говорите со мной, не забывайте, кто перед вами. Уоткинс понизил голос, вспомнив, что Шаддэк мог уничтожить любого Нового человека так же просто, как задуть свечу. Однако он продолжал говорить напористо и не вкладывал в интонации никакого уважения к собеседнику. — Вы так и не сказали о том, что вы думаете по поводу самой неприятной новости. — Какой именно? — Разве вы не слышали, что я вам сказал? Я сказал, что Пейзер попал в ловушку. Он не смог вернуть себя в прежнее состояние. — Я очень сомневаюсь, что он на самом деле застрял в этом одичалом состоянии. Новые люди способны полностью контролировать свой организм, они делают это даже лучше, чем предполагалось. Если он не смог вернуться к человеческому облику, значит, он имел какие-то проблемы с психологией. Возможно, на самом деле он не очень-то и хотел превращаться обратно в человека. Уоткинс некоторое время молча смотрел в глаза Шаддэку, затем покачал головой и произнес: — Вы просто не можете понять суть. Речь идет об одном и том же. Какая, к черту, разница, виноваты микросферы или психология? Что бы там ни было, результат один и тот же — человек попал в ловушку, он оказался заперт в тюрьме, в шкуре зверя. — Еще раз говорю вам — не смейте разговаривать со мной в подобном тоне. — Шаддэк произнес эти слова твердо, надеясь, что повторение приказа подействует так же, как при дрессировке собаки. Несмотря на превосходство в интеллектуальном и психологическом плане, Новые люди оставались все же людьми, и в той степени, в которой они были людьми, они уступали в эффективности машине. Компьютер достаточно запрограммировать один раз, с этого момента он будет действовать по программе и уже не отклонится от нее. Шаддэк пока не знал, возможно ли усовершенствовать Новых людей до такой степени, что они будут функционировать так же четко и безотказно, как средняя машина IBM PC. Хотя Уоткинс обливался потом, был бледен и взгляд его блуждал, он все-таки представлял опасность для Шаддэка. Когда полицейский сделал пару шагов, чтобы приблизиться к нему, Шаддэк испугался и попятился, но держался при этом весьма уверенно и не спускал с Уоткинса глаз, следя за ним, как за опасным зверем. — Взгляните на Шолника, — сказал Уоткинс, показав носком ботинка на лежащее тело. Ногой он перевернул его навзничь. Даже изуродованный пулевыми ранениями, забрызганный кровью, Шолник нес на себе следы страшного перерождения. Особенно ужасно выглядели глаза: они были янтарно-желтыми с черными зрачками, причем зрачки были не круглой, а овальной формы, как у змеи. За окном прогрохотал гром, удар был еще сильнее, чем тот, что услышал Шаддэк, когда подходил к дому. Уоткинс прервал молчание: — Вы объясняли мне, что «одержимые» добровольно поворачивают в обратную сторону по лестнице эволюции человеческого рода. — Именно так. — Вы объясняли, что в наших генах записана вся история эволюции человеческого рода, что в нас еще есть следы наших далеких предков, и «одержимые» каким-то образом нашли доступ к этому генетическому материалу и охотно преобразились в существ, от которых когда-то произошел человек. — Вы можете дать другое объяснение? — Ваша версия худо-бедно подходит, если взять случай с этим беднягой Кумбсом, которого нам пришлось пристрелить, загнав в кинотеатр. Он действительно был чем-то средним между человеком и обезьяной. — Моя версия великолепно все объясняет. — Но, Господи, посмотрите на Шолника. Взгляните на него! Когда я выстрелил в него, он уже наполовину превратился в какое-то чудовище, в нем было еще что-то от человека, но частично он, черт… он напоминал нечто среднее между ящерицей и змеей. Вы, может быть, станете рассказывать мне, что мы произошли от рептилий, что в наших генах сохранилась память о наших предках-ящерах, живших миллионы лет назад? Шаддэк резко вынул руки из карманов, они сразу же выдали своей дрожью его тревожное состояние. — Да будет вам известно, первые живые существа появились в воде, затем они начали понемногу выползать на сушу — они представляли собой рыб с подобием ног, — так вот от этих существ и произошли первые рептилии, а уж от рептилий в ходе долгой эволюции произошли млекопитающие. Если даже наш генетический материал и не содержит фрагменты генов этих рептилий — а я думаю, что содержит, — то в нас наверняка сохранилась генетическая память о первых этапах эволюции, она закодирована в таком виде, который мы пока не можем познать. — Вы просто заговариваете мне зубы, Шаддэк. — А вы, видно, решили во что бы то ни стало вывести меня из себя. — Да бросьте вы! Лучше подойдите сюда, ко мне, приглядитесь к Пейзеру. Он ведь был вашим давним другом, не так ли? Посмотрите, посмотрите внимательней, кем он был в момент своей смерти. Пейзер лежал на спине, без всякой одежды, одна нога подогнута, другая выпрямлена, рука была прижата к груди, на которой виднелось несколько пулевых ранений. И лицо, и тело — хоть в нем, несмотря на волчью пасть и клыки, и можно было еще узнать Майкла Пейзера — все-таки больше напоминало ужасающее призрачное чудовище, человека-волка, оборотня, персонажа то ли сказочного карнавала, то ли старого фильма ужасов. Кожа у существа была грубой и толстой. Местами ее покрывала густая шерсть. В лапах чувствовалась огромная сила, клыки выглядели устрашающе. Любопытство Шаддэка пересилило его отвращение и страх, он подобрал полы своего пальто, боясь замазать их кровью, и приблизился к телу Пейзера, чтобы получше его рассмотреть. Уоткинс подошел с другой стороны и склонился над телом. В ночи прокатился новый удар грома; мертвец, лежащий перед ними, широко открытыми глазами смотрел в потолок, во взгляде его было истинно человеческое выражение, никак не сочетавшееся с уродливой призрачной внешностью. — Теперь вы мне станете рассказывать, что на каких-то этапах эволюции наши предки были собаками или волками? — спросил Уоткинс. Шаддэк ничего не ответил. Уоткинс не сдавался. — Вы, может быть, скажете, что в нас есть гены собак и мы можем при желании воспользоваться этими генами, чтобы воссоздать себя в их образе? Или я должен поверить в то, что Господь Бог в свое время взял ребро доисторической собаки Лэсси и создал из него мужчину, чтобы затем из его ребра создать женщину? Шаддэк из любопытства дотронулся до руки Пейзера, которая была явно предназначена для охоты и убийств, как штык солдатского ружья для атаки и рукопашного боя. Рука была холодна как лед. — Это нельзя объяснить с биологической точки зрения, — продолжал Уоткинс, глядя в глаза Шаддэку. — Пейзер не мог обрести этот волчий образ, опираясь на гены, на генную память, которая якобы у него сохранилась. Каким же образом произошло превращение? Тут дело вовсе не в ваших биочипах. Тут что-то другое… гораздо более странное. Шаддэк в знак согласия кивнул головой. Ему пришло в голову удачное объяснение, и он не мог сдержать возбуждения. — Да, здесь что-то гораздо более странное, но, кажется, я… понимаю, в чем здесь дело. — Ну так скажите мне. Мне важно это понять. Чертовски важно. Я должен понять все до тонкостей. Прежде, чем это случится со мной. — Есть теория о том, что форма является функцией сознания. — Это как? — Если проще, мы — такие, какими представляем себе самих себя. Я не имею в виду под этим популярные представления из области психологии о том, что можно стать тем, кем ты хочешь стать, если ты достаточно самолюбив. Речь совсем о другом. Я имею в виду нашу физическую сущность, я говорю о том, что в нас заложен потенциал безграничного развития, что мы способны преодолеть морфологический стаз, продиктованный нашим генетическим материалом. — Я ни черта не понял. Шаддэк выпрямился. Снова засунул руки в карманы пальто. — Давайте я объясню по-другому: согласно этой теории, сознание наделено самой большой силой во всей Вселенной, оно может изменять физический мир по своему желанию. — Ну, вас занесло. — И тем не менее. — Это мне напоминает экстрасенса, который усилием воли гнет ложки и останавливает часы. — Эти люди в большинстве своем просто шарлатаны. Но если серьезно, то в нас действительно заложены большая сила и власть над собой. Мы просто не знаем пока, как добраться до рычагов этой власти, так как в течение миллионов лет мы позволяли физическому миру господствовать над нами. Во имя порядка, по привычке, из-за боязни хаоса мы отдавались во власть физического мира. Но то, что мы видим здесь, — сказал он, указывая на Шолника и Пейзера, — это куда более сложно и удивительно, чем сгибание ложки усилием воли. Как я понимаю, Пейзер чувствовал тягу к перерождению по причинам, которых я не знаю. Возможно, это было просто желание острых ощущений… — Желание острых ощущений, — голос Уоткинса понизился, он стал говорить спокойно, даже как-то обреченно, в его словах чувствовался такой страх и отчаяние, что Шаддэку вновь стало не по себе. — Да, животная сила — это возбуждает. Это — животная жажда. Ты чувствуешь животный голод, животное вожделение, жажду крови — и тебя неудержимо влечет ко всему этому, потому что это кажется таким… простым, таким могучим, таким естественным. Это называется свобода. — Свобода? — Свобода от ответственности, от тревог, от бремени цивилизации, от обязанности ломать себе голову над проблемами. Это искушение влечет к себе неудержимо, ты видишь в этом новом существовании легкость и привлекательность. — Уоткинс явно говорил о своих собственных ощущениях в тот момент, когда его тянуло превратиться в примитивное существо. — Когда ты превращаешься в животное, мир сужается под твои органы чувств, для тебя существует лишь боль и удовольствие, и нет необходимости размышлять. Ты как будто сливаешься с природой. Шаддэк молчал, пораженный страстью, с которой Уоткинс — будучи в жизни очень сдержанным человеком — говорил об искушении. Раздался новый раскат грома, самый сильный по сравнению с предыдущими. Задрожали стекла. Шаддэк сочинял на ходу новую теорию: — Итак, важно отметить, что, когда Пейзер почувствовал необходимость превращения в зверя, в хищника, он не мог регрессировать по человеческой генетической линии. Так как, по его мнению, волк, очевидно, олицетворял хищника, он и решил превратиться в нечто подобное волку. — Вот так, значит, — скептически хмыкнул Уоткинс. — Да, вот так. Хотя это трудно себе представить. Превращение в данном случае представляет собой большей частью ментальный процесс. Хотя, конечно, оно влечет и физические изменения. Но мы не можем говорить о полном изменении материи… речь идет только о биологических структурах. Базовые нуклеотиды остались прежними, но порядок считывания с них генной информации кардинальным образом изменился. Структурные гены были превращены в операторные усилием воли… Голос Шаддэка сорвался, возбуждение смешалось со страхом и не дало возможности продолжать, он задыхался. Проект «Лунный ястреб» вел к результатам, которых он не мог и предполагать. Неожиданные открытия были источником как радости, так и нарастающей тревоги. Радости — в силу того, что ему удалось дать человеку способность изменять свою физическую форму, а может быть, и материальную сущность простым усилием воли. Тревогу вызывало то обстоятельство, что он не был уверен, что ему удастся проконтролировать Новых людей в смысле использования ими своих новых возможностей. — Я сделал вам хороший подарок — благодаря компьютерной поддержке и освобождению от эмоций вы можете теперь направить силы своего разума на управление собственной материальной сущностью. Ваше сознание может управлять формой. Уоткинс мотнул головой. Мысль Шаддэка явно не называла у него восторга, наоборот, пугала его. — Возможно, Шолник и Пейзер хотели стать теми, кем они стали. Но, черт побери, я этого никогда не хотел. Когда меня охватило это искушение, я чуть с ума не сошел от такой перспективы. Я не хотел меняться. Это как бы нашло на меня… так, наверное, полная луна действует на оборотней. — Нет-нет, — стоял на своем Шаддэк. — На самом деле подсознательно вы хотели измениться, Ломен, и, без сомнения, частично хотели этого и осознанно. О вашем желании в какой-то степени свидетельствует хотя бы тот факт, что вы говорили об искушении очень образно и возбужденно. Вам удалось воспротивиться, так как превращение было неприемлемо для вас в большей степени, чем сохранение своего обычного образа. Если бы вы утратили страх пред превращением… или если бы новый образ Стал для вас более привлекательным… тогда баланс нарушился бы в другую сторону и вы бы изменились. Но здесь не может быть никакого влияния внешних сил. Это вопрос вашей собственной воли. — Тогда почему Пейзер не смог вернуться к человеческому образу? — Как я уже говорил и как вы предполагали, он не очень-то и хотел этого. — Он был в ловушке. — Никто его не принуждал. Уоткинс взглянул на уродливое тело «одержимого». — Что вы с нами сделали, Шаддэк? — Вы не поняли моих объяснений? — Что вы сделали с нами? — Вы не цените дара, которым теперь наделены. — Под даром подразумевается страх, заменивший нам все остальные чувства? — Нет. Просто теперь ваш разум свободен и вы способны полностью контролировать вашу физическую сущность. — Шаддэк говорил с жаром. — Есть только одна вещь, которой я не понимаю. Почему все без исключения «одержимые» избрали для себя способ примитивного существования. Ведь вы, несомненно, имеете все возможности для совершенствования. Вы можете свободно развиваться, превосходить остальных людей во всем, становиться выше, чище, здоровее. Возможно, в какой-то момент вы сможете превратиться в существ, воплощающих в себе чистый разум, свободный от всякой телесной оболочки. Почему же Новые люди избрали вместо этого путь вырождения? Уоткинс оторвал взгляд от мертвого тела и взглянул на своего повелителя. Глаза Уоткинса словно вобрали в себя черную тень смерти и выглядели погасшими, полумертвыми. — Какой толк обладать божественной властью, если ты не можешь при этом испытывать простых человеческих радостей? — Разве? Вы можете позволить себе все, что угодно, — Шаддэк явно был озадачен. — Мы не можем любить. — Как вы сказали? — Мы не можем любить, ненавидеть, радоваться. Мы можем только испытывать страх. — Зачем вам эти чувства? Вы освободились от страшного бремени, избавившись от них. — У вас, безусловно, гениальная голова, — продолжал Уоткинс, — но вы, видимо, не можете понять меня, так как ваша душа… изуродована, искалечена. — Я не позволю вам говорить со мной, как с… — Я просто пытаюсь объяснить вам причины, по которым предпочтение отдается примитивным формам жизни. Причина проста — для думающего существа не может существовать наслаждений без чувств. Если вы отказали человеку в чувствах, если вы отказали человеку в наслаждениях, он ищет состояния, в котором сложные чувства отделены от наслаждений. Он находит то, что искал, если превращается в безмозглое и дикое животное. — Чепуха. Вы просто… Уоткинс грубо перебил Шаддэка: — Выслушайте меня, ради Бога. Даже доктор Моро, насколько я помню, выслушивал то, что ему говорили существа, которых он создал. С лица Уоткинса сошла бледность. Глаза ожили, загорелись, в них даже появился какой-то звериный блеск. Он стоял всего в двух шагах от Шаддэка и, казалось, написал над ним, хотя на самом деле ростом был ниже своего шефа. Чувствовалось, что он напуган, страшно напуган — и очень опасен. Уоткинс продолжал: — Вот вам пример — сексуальная жизнь. Для того чтобы получать удовольствие в сексе полной мерой, необходимо, чтобы в отношениях двоих присутствовала любовь или по крайней мере какая-то взаимная симпатия. Конечно, если человек имеет какие-то психические отклонения, он может получать удовольствие в сексе, реализуя свое стремление к превосходству или насилию, — для ущербного человека даже отрицательные эмоции могут быть приятными. Но когда у человека в сексе не возникает вообще никаких эмоций, это становится бессмысленным, это превращается в животный инстинкт, в механические движения. В окнах спальни сверкнула молния, страшный раскат грома, казалось, встряхнул дом. Яркая вспышка на мгновение затмила слабый свет ночника. При этом необычном свете Шаддэку показалось, что с лицом Уоткинса что-то случилось… черты его странно исказились. Но после вспышки молнии Уоткинс вновь стал похож на самого себя, возможно, Шаддэку просто почудилось. Уоткинс говорил и не мог остановиться: страх развязал ему язык. — Впрочем, это относится не только к сексу, но и к другим физическим наслаждениям. К еде, например. Да, я еще могу ощущать вкус шоколада, когда я его ем. Но я уже не переживаю той гаммы удовольствий, которую я испытывал прежде, до обращения. Вы замечали в себе эту перемену? Шаддэк не ответил на вопрос Уоткинса и надеялся, что ничем не выдаст свою тайну — ведь он не стал проходить через обращение. Он ожидал, что в процессе эксперимента удастся получить больше данных и усовершенствовать болезненную операцию превращения. Он не без оснований опасался, что Уоткинс весьма отрицательно отнесется к тому, что их создатель и повелитель не стал принимать дара, которым благословил своих подданных. Уоткинс продолжал: — Вы знаете, почему меня теперь не радует еда? Прежде вкус шоколада, например, был для меня связан с тысячами разных воспоминаний. Я подсознательно помнил, когда я впервые попробовал его, я помнил, что нам его давали в детстве по праздникам. Это создавало особое настроение. Но когда теперь я чувствую этот вкус, у меня нет никаких дополнительных ощущений. Я помню, какое настроение у меня было прежде, но теперь его нет и в помине. Вкус шоколада больше ни с чем у меня не ассоциируется. У меня внутри пустота, у меня украли чувства. У меня забрали все чувства, кроме страха, и теперь мир окрасился в серый цвет, в серый, мертвенный цвет, словно я уже вошел в царство мертвых. Неожиданно левая часть головы Уоткинса начала распухать. Скулы налились и стали широкими. Изменилась форма ушей, они стали вытягиваться в длину. В страхе Шаддэк попятился назад. Уоткинс наступал на него, все время повышая голос, он начал проглатывать некоторые звуки, но голос его звучал твердо, наполненный скорее не злобой, а страхом, беспокойством и мрачной решимостью: — Какого черта мы должны стремиться к каким-то там высшим формам, ведь там будет еще меньше удовольствий для тела и для души? Наслаждение интеллектом — это еще не все, Шаддэк. Жизнь гораздо богаче. Если в ней не останется ничего, кроме интеллекта, она станет невыносимой. Лоб Уоткинса прямо на глазах уходил назад, он словно плавился, подобно снегу на солнце, вокруг глаз проступали мощные очертания костей. Шаддэк уперся спиной в стенной шкаф. Уоткинс продолжал наступать и бросать слова прямо в лицо Шаддэка: — Боже праведный! Разве вы еще не поняли? Даже человек, прикованный к больничной койке, парализованный, имеет в жизни кое-что еще, кроме интеллектуальных радостей. Никто не отнимал у него чувств, никто не оставлял его наедине со страхом и чистым интеллектом. Нам нужны удовольствия, Шаддэк, удовольствия, удовольствия. Без них жизнь ужасна, бессмысленна. — Остановитесь, Уоткинс. — Вы сделали эмоциональную разрядку невозможной для нас, в дополнение к этому мы не можем теперь наслаждаться плотскими радостями, так как они ничто, если нет никаких чувств. Человеку нужны радости и для души, и для тела, поймите это. Ладони Уоткинса стали шире, суставы пальцев словно опухли, вместо ногтей показались коричневатые острые когти. — Вы не контролируете свое тело, — предупредил Шаддэк. Уоткинс, казалось, не слышал его, он говорил теперь каким-то странным, чужим голосом из-за того, что рот его тоже менял свою форму: — Именно поэтому нас так тянет в дикое животное состояние. Мы бежим куда глаза глядят от вашего интеллекта. Да, в зверином образе нам дано узнать лишь плотские удовольствия, радость плоти, плоти… но, по крайней мере, мы забываем о том, что потеряли, нас ничто не отвлекает, наше удовольствие правит бал, мы купаемся в нем, таком глубоком и сладком. Вы сделали нашу жизнь невыносимой, пустой, вы превратили ее в мертвечину… поэтому нам ничего не остается, как только деградировать душой и телом… чтобы найти смысл в нашем существовании. Мы… нам хочется бежать сломя голову из страшной клетки, от бессмысленной жизни, которой вы наградили нас. Люди — не машины. Люди… Люди… Люди — не машины. — Вы — «одержимый»! Боже, Ломен! Уоткинс остановился и застыл, словно парализованный. Затем замотал головой, как будто пытаясь сбросить с себя наваждение. Он поднял руки, посмотрел на них и закричал от ужаса. Он увидел себя в зеркале стенного шкафа, и крик его превратился в хриплый и дикий вопль. В тот же момент Шаддэк ощутил запах крови, наполнявший комнату. В голове промелькнула мысль о том, что Уоткинс тоже чувствует этот запах, и его этот запах не раздражает, а, наоборот, возбуждает. Еще раз сверкнула молния, грянул гром. Следом хлынул ливень, застучал в окна. Уоткинс перевел взгляд на Шаддэка, поднял руку, как будто намереваясь ударить его, затем повернулся и побежал вон из комнаты в коридор, подальше от сладкого запаха крови. В коридоре Уоткинс упал на колени, затем повалился на бок. Свернувшись в клубок, сотрясаемый судорогой, изрыгая вопли и ругательства, он бесконечно повторял: — Нет, нет, нет.Глава 57
Ломену Уоткинсу удалось остановиться на самом краю пропасти. Почувствовав, что снова владеет собой, он сел на полу и прислонился к стене. Уоткинс был весь в испарине и ощущал зверский голод. Он истратил всю свою энергию на борьбу со страшным искушением. Он испытывал чувство облегчения, но одновременно — чувство пустоты, он словно был в сантиметре от заветного плода, но не смог его сорвать. Откуда-то доносился глухой шуршащий звук. Сначала Уоткинс подумал, что у него шумит в голове, что нервные клетки гибнут в мозгу, раздавленные страшным напряжением борьбы. Однако он тут же сообразил, что это всего-навсего дождь, стучащий по крыше. Уоткинс открыл глаза, но сначала не мог ничего видеть: перед глазами плыли круги. Затем возник Шаддэк, он стоял в другом конце коридора, в дверном проеме. Худой, с вытянутым лицом, со светлыми, почти как у альбиноса, волосами, с желтыми глазами, закутанный в свое темное пальто, он напоминал призрак пли даже само воплощение смерти. Если бы он на самом деле был смертью, Уоткинс с удовольствием поднялся бы и устремился навстречу. Шаддэк не был смертью. Поэтому Уоткинс оставался на полу, ожидая, когда к нему придут силы. Он крикнул Шаддэку: — Больше никаких обращений! Вы должны прекратить ваш эксперимент! Шаддэк молчал. — Так вы что, не собираетесь останавливаться? Шаддэк впился глазами в Уоткинса. — Вы сумасшедший, — сказал Ломен, — вы — полный кретин. К сожалению, у меня только две возможности — подчиниться вам или… застрелиться. — Никогда больше не говорите со мной в таком гоне. Никогда. Не забывайте, кто я такой для вас. — Я-то помню, кто вы такой, — парировал Ломен. Он сумел наконец подняться на ноги, но стоял нетвердо. — Именно вы сделали это со мной. Сделали без моего согласия. Поэтому имейте в виду — когда я не смогу удержаться от искушения и превращусь в «одержимого», я больше не буду бояться вас. Так вот, тогда я напрягу свою память, чтобы вспомнить, где вы находитесь, и приду к вам. — Угрожаете, Ломен? — спросил Шаддэк. Он явно не ожидал таких слов от Уоткинса. — Нет, — пояснил Ломен, — слово «угроза» здесь не подходит. — Я вам советую одуматься. Помните — если со мной что-либо случится, компьютер «Солнце» выдаст команду, которую примут микросферы в вашем организме, и… — …и тогда в одно мгновение все мы умрем, — закончил Уоткинс мысль Шаддэка. — Да, я знаю об этом. Вы мне об этом уже говорили. Если умираете вы, остальные умирают вместе с вами, так же как те фанатики в Джонстауне много лет назад. Они отправились на тот свет вслед за своим пастором Джимом Джонсом. Вы — наш Джим Джонс, Джим Джонс технотронной эры с сердцем из кварца и головой, набитой микросхемами. Нет, я вовсе не угрожаю вам, ваше преподобие, слово «угроза» — слишком сильное слово. Человек, угрожающий кому-либо, должен ощущать свою власть над другими, он должен пылать гневом. Я — один из Новых людей. Я не могу испытывать ничего, кроме страха. Мне ведом лишь страх. Страх. Нет, это не угроза. Ничего подобного. Это — мое обещание. Запомните, Шаддэк. Шаддэк шагнул в коридор. Казалось, вместе с ним по коридору движется поток холодного воздуха. Когда Шаддэк приблизился к нему, Уоткинс почувствовал озноб. Они долго смотрели друг другу в глаза. Наконец Шаддэк нарушил молчание: — Вы будете продолжать делать то, что я вам прикажу. — У меня нет выбора, — ответил Уоткинс. — Вы сделали из меня человека, у которого никогда нет выбора. Я, несомненно, полностью в вашей власти, но меня удерживает вовсе не почтение к вам, а страх. — Тем лучше, — сказал Шаддэк. Он отвернулся от Ломена и пошел по коридору к гостиной и затем — к выходу из дома, в ночь, в дождь.Часть II. РАССВЕТ В ПРЕИСПОДНЕЙ
Я не мог расстаться с мыслью о том, что я причастен к неправедным и страшным делам. У меня было ужасное чувство бессилия.Андрей Сахаров
Власть развращает, но в еще большей степени лишает рассудка; люди, причастные к власти, теряют дар предвидения и приобретают опасную торопливость в своих действиях.Уилл и Ариэль Дюран
Глава 58
Перед рассветом, проспав всего час, Тесса Локленд очнулась от прикосновения чего-то холодного, затем почувствовала, что ее правую руку лижет горячий, шершавый язык. Во время сна рука свисала с кровати и почти доставала до пола. Кто-то пробовал ее ладонь на вкус. Тесса в одно мгновение вскочила с кровати, не в состоянии даже вздохнуть от ужаса. Ей только что снилась бойня в «Ков-Лодже», снились увиденные мельком твари, с их скользящей и быстрой походкой, с их угрожающими клыками и изогнутыми, острыми, словно бритва, когтями. Ей показалось, что ночной кошмар воплотился в реальность, что чудовища захватили дом Гарри и прикосновение к ее руке есть не что иное, как игра с жертвой, за которой последует неожиданная, зверская хватка. Но это был всего лишь Муз. Она смогла различить неясный силуэт собаки в слабом свете, проникавшем из-под двери, ведущей в коридор второго этажа. Можно было перевести дыхание и успокоиться. Муз положил передние лапы на матрас, он был явно не прочь забраться на кровать. Слабо повизгивая, он требовал к себе внимания. Тесса хорошо помнила, что, войдя в комнату, закрыла за собойдверь. Она уже не раз убеждалась в сообразительности Муза и не удивилась тому, что собака оказалась в спальне. Ведь все двери в доме Гарри имели не круглые ручки, а рукоятки, которые можно было поворачивать, нажимая на них рукой или лапой. — Скучно тебе? — спросила Тесса, почесывая ньюфаундленда за ушами. Пес заскулил и придвинулся к ней ближе. В окно застучали тяжелые капли дождя. Дождь был сильный, слышно было, как его струи рассекают листву деревьев, окружавших дом. От порывов ветра дрожали стекла. — Как бы ни было тебе скучно, приятель, я чертовски хочу спать. Так что придется тебе отправляться восвояси. Она перестала гладить пса. Муз понял, что от него требуется. Он снял передние лапы с кровати, нехотя побрел к двери, оглянулся, вышел в коридор и, постояв на распутье, свернул налево. Слабый свет из коридора был едва заметен, но раздражал Тессу. Она встала и закрыла дверь. Еще не дойдя до кровати, она поняла, что ей уже не удастся быстро уснуть. Одной из причин было то, что она не раздевалась ко сну — на ней были джинсы, рубашка и свитер, — она сняла только кроссовки и поэтому чувствовала себя довольно неуютно. Если она разденется, решила она про себя, то будет еще хуже, так как станет чувствовать себя совсем беззащитной и вообще не сможет заснуть. После того, что случилось в мотеле, Тесса хотела быть постоянно наготове. Кроме того, она занимала единственную свободную спальню в доме — была, правда, и вторая, но в ней не было мебели, — где матрас и стеганое покрывало издавали запах плесени: комнатой не пользовались много лет. Это была спальня отца Гарри, ему же когда-то принадлежал и весь этот дом. Талбот-старший скончался 17 лет назад, через три года после возвращения Гарри с войны. Тесса просила Гарри не беспокоиться насчет ее и не застилать постель. Она лежала поверх покрывала и могла, если станет холодно, забраться под него. Ей действительно стало холодно, она накрылась покрывалом, и в нос ударил еще более сильный запах плесени. Сквозь шум дождя она услышала, как включился мотор лифта. Вероятно, Муз отправился на второй этаж. Интересно, он всегда по ночам бродит по дому? Несмотря на страшную усталость, Тесса не могла заснуть, она была слишком встревожена событиями нынешней ночи. Надо было обдумать множество серьезных вещей. Нет, она думала не о бойне в «Ков-Лодже». И не о тех несчастных, чьи обезображенные трупы поспешно сжигали в крематории. Не о Пауле Паркинс, разорванной в клочья какими-то неизвестными существами. Не об ужасных ночных преследователях. Конечно, все эти мрачные образы не могли не влиять на ход ее мыслей, но по большей части они были лишь фоном для ее размышлений о своей собственной жизни. Ощутив дыхание смерти, Тесса более чем когда-либо осознавала свое бессилие перед мрачной гостьей. Жизнь не могла быть вечной. За работой, в суете дней, эта истина часто забывалась. Теперь она не могла не думать об этом, ее мучили мысли о том, не напрасно ли она прожила свои годы, не растратила ли их даром. Да, работа доставляла ей радость. Да, она была счастливой женщиной, для Локлендов с их врожденным чувством юмора было просто глупо чувствовать себя несчастными. Но, если говорить честно, следовало признать, что она не получила от жизни того, чего действительно хотела. И если она будет продолжать жить так, как жила, то она этого и не получит. А хотелось ей всего-навсего иметь свою семью, знать, что есть место на свете, которое принадлежит только ей. Конечно, эта мечта пришла из ее детства и юности в Сан-Диего. Она безумно любила свою сестру Джэнис, сама купалась в материнской и отцовской любви. Счастье и покой, вынесенные ею из юности, позволили Тессе достойно перенести нужду, отчаяние и страх, которые встретились ей на жизненном пути, когда она только начала работать над своими фильмами. Первые два десятилетия ее жизни были наполнены радостью, эта радость перевешивала все плохое, что случилось потом. Лифт тем временем поднялся на второй этаж, затем через некоторое время с грохотом и лязгом снова отправился вниз. Забавно — Муз настолько приучился пользоваться лифтом, что уже совсем не ходит по лестнице, хотя это было бы для него быстрей. У собак, оказывается, есть свои привычки. В детстве у нее тоже были собаки, сначала великолепный золотистый спаниель по кличке Барни, а затем ирландский сеттер Микки Финн… Джэнис вышла замуж и покинула родительский дом шестнадцать лет тому назад. Тессе тогда исполнилось восемнадцать. Это был переломный момент в их жизни. С той поры начался распад, который со слепой неумолимостью разрушал их уютную дружную семью. Через три года умер отец Тессы; вскоре после его похорон и она уехала из отчего дома на съемку своего первого фильма. Она не забывала наведываться к матери, заезжала к сестре, но лучшие годы, увы, уже миновали. Теперь вот и Джэнис ушла из жизни. Когда-нибудь наступит час Марион, это даже не зависит от того, бросит она или нет свои прыжки с парашютом. Больше всего на свете Тессе хотелось воссоздать семейное счастье со своим мужем и детьми. В двадцать три года она вышла замуж за человека, у которого, как оказалось, стремление иметь детей было гораздо сильнее, чем любовь к жене. Когда они узнали, что детей у них никогда не будет, он ушел от нее. Приемные дети его не устраивали. Ему нужны были свои, рожденные от него. От свадьбы до развода прошло четырнадцать месяцев. Тессе тогда было очень плохо. После этого Тесса с головой ушла в работу и снимала так много, как никогда раньше. Она со свойственной ей принципиальностью понимала, что мир, который она запечатлевала своей кинокамерой, должен был заменить ей семью. Она старалась вместить сложнейшие проблемы в тесные рамки тридцати, шестидесяти или девяноста минут, она старалась показать за это время весь мир, сведенный к своей сути, к семейному масштабу. Все это, конечно, так. Но этой ночью, мучаясь бессонницей в доме Гарри Талбота, Тесса понимала и то, что в своей работе она никогда не найдет полного удовлетворения. Ей необходимо переиграть свою жизнь, снова начать искать свое счастье. Конечно, нельзя быть полноценным человеком без любви ко всему человеческому роду, но эта абстрактная любовь может быстро превратиться в пустую и бессмысленную, если рядом нет близких, нет собственной семьи. Ибо только в семье человек изо дня в день доказывает через отношение к конкретным людям свою любовь к человечеству. Да, она была «своей» в мире кино, но ей страшно не хватало теплого общения с близкими людьми. Одиночество и покинутость Тессы были сродни этой покинутой комнате, в которой она сейчас вспоминала свою жизнь, вдыхая пыль и запах плесени. Но как же начать эту новую жизнь, как начать ей, уже давно не ходившей на свидания, искавшей утешения только в работе, ей, женщине тридцати четырех лет? Она ведь так долго запрещала себе даже думать о подобных вещах. Она вновь ощутила себя в тупике, она помнила это состояние по тому дню, когда ей сказали, что у нее никогда не будет детей. И конечно, в эти мгновения мучительный поиск выхода из одиночества был для нее куда важнее вопросов о странных существах на улицах города. Близкое знакомство со смертью может иногда вызвать удивительные мысли. Через какое-то время усталость заглушила боль, саднящую ее душу, и она погрузилась в сон. Засыпая, она успела подумать, что Муз, вероятно, неспроста приходил в ее комнату, возможно, он хотел предупредить ее о какой-то опасности. Хотя скорее всего, случись что, он бы залаял. Успокоившись, Тесса заснула.Глава 59
Шаддэк, покинув дом Пейзера, вернулся в свой ультрасовременный особняк на северной оконечности бухты. Дома он пробыл недолго. Он приготовил для себя три сандвича с ветчиной, завернул их в фольгу и уложил в переносной холодильник вместе с несколькими банками кока-колы. Холодильник он поставил в багажник своего автомобиля, туда же положил одеяло и подушку. Из оружейного шкафа в своем кабинете он взял револьвер «смит и вессон», «магнум-357» и двенадцатизарядный полуавтоматический карабин «ремингтон», а также целую кучу патронов к этому оружию. Вооружившись таким образом, он отправился под проливным дождем в путь, чтобы, не покидая города и его окрестностей, следить за развитием ситуации по компьютерной связи. Он хотел дождаться того момента, когда первая фаза проекта «Лунный ястреб» будет закончена. Этот момент должен был наступить в полночь, через девятнадцать часов. Угроза Уоткинса действовала ему на нервы. В машине он чувствовал себя спокойнее, так как теперь Уоткинсу было бы трудно найти его и привести свои угрозы в исполнение. Когда в полночь процесс обращения будет закончен, Шаддэк сможет действовать более решительно. Тогда-то он и разберется с полицейским. Уоткинс будет схвачен и окажется в наручниках еще до того, как превратится в «одержимого». После этого Шаддэк сможет доставить его в свою лабораторию и досконально изучить его физиологию и психологию. Он должен обязательно найти причины чумы, поразившей его подопытных. Объяснения Уоткинса Шаддэка не устраивали. Нет, говорил он себе. Новые люди вовсе не хотят отказываться от своих новых возможностей. Если принять версию Уоткинса, то придется признать, что проект «Лунный ястреб» — это вовсе не спасение человечества, а проклятие для него. Тогда труд всей его жизни окажется не только напрасным, но и вредоносным. Таких мыслей Шаддэк допустить не мог. Создатель и хозяин Новых людей считал себя равным Богу по силе и власти. С какой стати он должен отказываться от своей роли? Покой влажных от дождя предрассветных улиц нарушали лишь машины патрулей — полицейских и гражданских. В каждой из машин сидели по два человека, они обшаривали город в надежде отыскать Букера, Тессу Локленд, дочь Фостеров или кого-нибудь из «одержимых». И хотя никто из патрульных не мог видеть Шаддэка сквозь затемненные стекла машины, он все равно был уверен, что люди узнают его по марке автомобиля. Многих из этих людей Шаддэк знал, они работали в компании «Новая волна» и попали в число сотни патрульных всего несколько часов назад по его приказу. За мокрыми от дождя ветровыми стеклами их бледные лица, казалось, существовали сами по себе, вне тел, на этих лицах было написано полное безразличие, это были маски манекенов или роботов. Город прочесывали и пешие патрули, но они скрывались в тени домов или держались темных переулков. Шаддэк не увидел ни одного из них. На улицах города Шаддэку встретились две бригады людей, ответственных за обращение жителей. Они быстро и деловито переходили от дома к дому. Всякий раз после очередной процедуры они вводили данные о вновь обращенных в компьютер сопровождавшей их машины. Таким образом, на центральном пункте, находившемся в штаб-квартире компании «Новая волна», всегда имелись самые свежие сведения о ходе обращения жителей города. На одном из перекрестков Шаддэк включил свой компьютер и увидел на экране последнюю информацию об эксперименте. До итоговой цифры на данном этапе недоставало всего пяти человек. Бригады слегка опережали график. Ливень, подстегнутый западным ветром, серебром засверкал в свете фар. Деревья дрожали, словно охваченные страхом. Шаддэк не останавливался ни на минуту, он кружил в ночи подобно неведомой птице, предпочитающей охотиться на своих жертв в ненастную погоду.Глава 60
С Такером во главе они охотились и убивали, кусали и рвали на части, кромсали на куски и кусали, убивали и поедали свою добычу. Они пили кровь, кровь сладкую и густую, сладкую и теплую, вкусную кровь, они пили кровь, утоляя жажду своей плоти, охлаждая жар, который терзал их изнутри. Кровь, только кровь. Постепенно Такер дошел до понимания одной интересной закономерности в своем состоянии — чем дольше он в нем находился, тем меньше обжигало его изнутри пламя, тем легче ему было оставаться в своем примитивном образе. Что-то подсказывало ему, что в этой легкости есть какая-то опасность для него, но мозг Такера в его нынешнем состоянии не был способен анализировать сложные впечатления. Итак, они кружили по полям и холмам в лунном свете, кружили и гнали дичь, они были свободны в этом лунном свете и тумане, в тумане и ветре, и Такер был у них вожаком. Они останавливались лишь затем, чтобы убить и разорвать на куски добычу, или для того, чтобы совокупиться с самкой, которая обнаружила для себя в этих грубых соитиях новое, незнакомое, возбуждающее удовольствие. Начался дождь. Стало холодно. Ливень хлестал вовсю. Грохотал гром, и молния разрезала небо. Краем сознания Такер помнил о том, что собой представляют эти яркие зигзаги, прочерчивающие небо. Но все о них он был не в силах вспомнить и был напуган, он прятался от них в чаще леса, он таился вместе со своей стаей в тени деревьев, пока не смолкали раскаты грома. Такер начал искать место, где можно будет укрыться от бури. Он помнил, что им следует вернуться туда, откуда они пришли, туда, где есть сухие и светлые комнаты, но он не мог точно вспомнить, куда именно надо идти. Кроме того, путь назад означал конец их свободе и обретение прежнего облика. Он не хотел этого. Не хотели этого и самец с самкой, сопровождавшие его. Они хотели снова и снова кружить по полям, снова гнать дичь, убивать и рвать на куски и быть свободными, свободными. Если они пойдут назад, они потеряют эту свободу. Именно поэтому они двинулись вперед, пересекли шоссе, поднялись на холмы, избегая по пути редких жилых домов. Наступал рассвет, он пока едва брезжил, но Такер чувствовал, что до того, как он наступит, им надо найти укрытие, убежище — место, где они смогут свернуться клубком, прижавшись друг к другу, где они смогут разделить на троих темноту и тепло, темноту и тепло, они разделят там тепло, и кров, и память о совместной охоте. Там они будут в безопасности, там им не будет страшен мир, ставший для них чужим, там им не надо будет возвращаться в человеческий облик. Когда снова наступит ночь, они вновь отправятся на охоту и начнут убивать свою добычу, кусать и рвать ее на части, и, воз-можно, наступит день, когда на Земле будет много таких, как они, тогда они уже не будут в меньшинстве и смогут охотиться при свете дня, но этот момент еще не настал, пока не настал. Им встретилась по пути заброшенная дорога, и Такеру показалось, что он знает это место, и эта дорога вскоре приведет их к тому месту, где они смогут найти столь желанное для них убежище. Он пошел по этой дороге, она вела через холмы, он подбадривал своих компаньонов низким раскатистым рыком. Через несколько минут они вышли к дому, заброшенному строению, превратившемуся уже в полуразвалины. Окна в доме были выбиты, входная дверь едва держалась на заржавевших петлях. В пелене дождя виднелись и прочие строения, сарай рядом с домом был почти разрушен, другие пристройки к дому имели не менее жалкий вид. Между окнами второго этажа на стене дома виднелась надпись, а под ней еще одна. Обе они были выведены от руки и явно сделаны в разное время и разными людьми. Такер понимал, что эти надписи должны что-то означать, но не мог их прочитать, хотя и старался вспомнить язык тех существ, к которым он когда-то принадлежал. Двое других членов стаи тоже подошли к дому. Они уставились на черные буквы на белом фоне. Неясные символы в пелене дождя. Странные загадочные знаки.КОЛОНИЯ «ИКАР»И под этой надписью вторая:
РЕСТОРАН НАТУРАЛЬНЫХ БЛЮД В БЫВШЕЙ КОЛОНИИ «ИКАР»Над разрушенным сараем имелась еще одна надпись: «БЛОШИНЫЙ РЫНОК», но и она ни о чем не говорила Такеру, и спустя мгновение он решил не тратить больше времени на разглядывание букв. Самым главным для них было то, что поблизости нет людей, в воздухе совсем не чувствовалось их запаха. Таким образом, убежище, в котором они так нуждались, было наконец перед ними, здесь будет их укрытие, их нора, их тепло и мрак, тепло и мрак, покой и мрак.
Глава 61
Сэм устроился на ночлег в гостиной первого этажа. Он постелил себе на диване, взяв у Гарри лишь подушку и одеяло. Он хотел быть поближе к входной двери, чтобы проснуться при малейшем шуме. По графику, который Сэм просмотрел в полицейской машине, Гарри Талбота не должны беспокоить до вечера сегодняшнего дня. Вряд ли они станут изменять свой график только из-за того, что в городе появился агент ФБР. Но меры предосторожности все же следовало принять. У Сэма часто бывала бессонница, но в эту ночь она его не беспокоила. Сбросив башмаки и вытянувшись на диване, он пару минут вслушивался в шум дождя и пытался отключиться от беспокойных мыслей. Вскоре сон пришел к нему. Ему в эту ночь снились сны. Они редко ему снились. Он видел во сне Карен, свою умершую жену, и, как всегда в этих ночных кошмарах, она была высохшей и обескровленной, она была на последней стадии рака, когда ей уже не помогали никакие лекарства. Он понимал, что должен спасти ее. Но не мог ничего сделать. Он чувствовал себя беспомощным, жалким и страшно испуганным. Но он не проснулся от этого кошмарного сна. Потом во сне он переместился в какое-то темное и заброшенное здание. Оно было похоже на отель, изображенный на одной из картин Сальвадора Дали: коридоры этого отеля были всяк на свой лад; одни очень короткие, другие — столь длинные, что конца их не было видно; стены и полы были расположены по отношению друг к другу под совершенно немыслимыми углами, двери в номера были все разных размеров, некоторые были так малы, что в них могла протиснуться только мышь, другие были вполне обычного размера, прочие же больше подошли бы для гиганта ростом футов в тридцать. Неведомая сила заставила Сэма заглянуть в некоторые из комнат отеля. В них он обнаружил много знакомых людей, которых он знал по своей прошлой и нынешней жизни. В нескольких комнатах ему повстречался Скотт, их разговоры между собой оставили у Сэма тяжелый и неприятный осадок, все они заканчивались совершенно беспочвенными оскорблениями со стороны Скотта. Еще хуже было то, что в этом кошмаре сын представал перед Сэмом то шестнадцатилетним юнцом, то десятилетним мальчиком, то ребенком пяти лет. Но в любом возрасте он был чужим, холодным, враждебным, он просто задыхался от злобы. «Что с тобой, этого не может быть, ты ведь ребенком был совсем другим?» — спрашивал его Сэм, а тот в ответ разражался площадной бранью. Во всех комнатах, где обитал Скотт, стены были увешаны огромными плакатами с рок-певцами стиля блэк-метал, облаченными с ног до головы в кожу, увешанными металлическими цепями. На лбу и на запястьях у каждого были татуировки — символы сатанизма. Мигающий и странный свет заполнял эти комнаты. В темном углу кто-то притаился. Скотт явно знал о существовании этого незнакомца и не боялся его, но Сэму он внушал необъяснимый страх. После этого кошмара он также не проснулся. В других комнатах этого немыслимого отеля он обнаруживал умирающих людей — всегда одних и тех же — Арни Тафта и Карла Сорбино. Они были агентами ФБР, он работал вместе с ними, их застрелили у него на глазах. Вместо двери в одну из комнат вела автомобильная дверца, если точнее — сверкающая дверца голубого «Бьюика» 54-й модели. Войдя внутрь, он обнаружил в этой огромной комнате с серыми стенами переднее сиденье от автомашины, приборную доску и рулевое колесо. Других частей от машины не было, предметы валялись на полу, словно останки какого-то доисторического животного. На месте водителя сидела женщина в зеленом платье, она сидела спиной к Сэму. Он, конечно, сразу узнал ее и хотел выйти из комнаты, но ноги ему не подчинялись. Его словно притягивало к этой женщине. Он сел на сиденье рядом с ней и неожиданно превратился в мальчика семи лет, именно столько было ему в тот день, когда произошла эта катастрофа на шоссе. Он заговорил, но своим взрослым голосом, он сказал: «Привет, мам». Она обернулась, и он увидел, что правая сторона ее лица была вдавлена, один глаз вытек, из рваной раны торчала кость. Сквозь разорванную щеку виднелись сломанные зубы, поэтому улыбка на лице матери превратилась в отвратительный оскал. Неожиданно они оказались в настоящей машине, они перенеслись в свое прошлое. Навстречу им по скоростной трассе мчался пьяный водитель на грузовике. Белый грузовик уже пересекал желтую разделительную линию и на бешеной скорости приближался к ним. Сэм закричал: «М-а-а-а-м!» — но она не смогла отвернуть машину в сторону, так же как не смогла сделать этого тридцать пять лет тому назад. Встречный грузовик налетел на них, словно притянутый магнитом, и всей своей огромной массой врезался лоб в лоб в их «Бьюик». Наверное, так чувствуешь себя, если находишься внутри бомбы в тот момент, когда она взрывается: страшный вой и скрежет разрывающегося металла. Все вокруг стало черным. Когда он вынырнул из этой черноты, то обнаружил, что находится внутри изуродованного корпуса автомашины. Он сидел скорчившись, лицом к лицу со своей погибшей матерью, и прямо перед ним была пустая глазница ее глаза. Он начал кричать. Этот кошмар не был последним. На этот раз он очутился в больнице, возможно, он попал туда после автомобильной катастрофы, это был первый случай, когда он пережил клиническую смерть, всего в его жизни было шесть подобных случаев. При этом, однако, он уже не был ребенком, он был взрослым. Через несколько мгновений он понял, что перескочил в другой период своей жизни, — ему делали срочную операцию по поводу огнестрельного ранения в грудь. Это было как раз после той самой перестрелки, в которой погиб Карл Сорбино. В то время как бригада хирургов, склонившись над его телом, пыталась спасти ему жизнь, он воспарил над своей телесной оболочкой и взирал на них сверху. У него не было при этом страха, а только изумление перед происходящим. Все происходило в точности так же, как когда-то в действительности. Затем он попал в тоннель, он летел сквозь него к удивительному сиянию, на тот свет. На этот раз он знал, что ждет его там, так как уже не раз переживал это в своей жизни. Он испытывал ужас, он не хотел сталкиваться с этим вновь, он не хотел заглядывать туда. Но его несло все быстрей и быстрей через тоннель, он пролетел через него пулей, и ужас его становился все невыносимее. Ожидание того момента, когда он вынужден будет заглянуть на тот свет, было несравнимо ужаснее всех его перебранок со Скоттом, ужаснее изуродованного, одноглазого лица его матери, ему становилось все страшнее (все быстрее и быстрее он летел). Наконец его страх стал совсем невыносимым, и он начал кричать (он летел еще быстрее), он кричал (все быстрее полет) и кричал… На этот раз кошмар заставил его проснуться. Он сел на диване и заглушил крик, прежде чем тот вырвался у него из горла. Секундой позже Сэм понял, что он не один в комнате. В темноте кто-то двигался. Он автоматически выхватил свой револьвер из кобуры, лежавшей на полу рядом с диваном. Это был Муз. — Ну-ну, приятель. В ответ пес ласково зарычал. Сэм протянул руку, чтобы погладить собаку, но ньюфаундленд уже удалялся от дивана. Из-за того, что ночь была не слишком темной, окна выделялись на черном фоне стены в виде темно-серых прямоугольников. Муз направился к одному из окон, положил лапы на подоконник и уткнулся носом в стекло. — Хочешь, чтобы тебя выпустили на улицу? — спросил Сэм, хотя прекрасно помнил, что выпускал пса на десять минут, прежде чем пошел ложиться спать. Собака никак не отреагировала на его слова, а продолжала стоять у окна в напряженной позе. — Что-то происходит? — поинтересовался Сэм и, задавая вопрос, уже знал на него ответ. Быстро и бесшумно он пересек темную комнату. Наткнулся на какую-то мебель, но на пол ничего не упало, и вот он уже у окна, рядом с собакой. Дождливая ночь, казалось, достигла своей самой беспроглядной предрассветной черноты, но Сэм уже привык к темноте и мог видеть, что вызвало беспокойство собаки. Футах в тридцати от окна находилась боковая стена соседнего дома. В небольшой ложбине между домами беспорядочно росли кустарник и несколько сосен, послушно гнувшихся под напором сильного ветра. Сэм сразу же заметил двух «призраков», так как они двигались навстречу ветру и выделялись среди покорно клонившихся в другую сторону деревьев. Они находились футах в пятнадцати от окна и направлялись к улице Конкистадоров. И хотя Сэм не мог разглядеть в подробностях их облик, он отчетливо видел по особой посадке их головы и шаркающей, но грациозной походке, что это были отнюдь не обычные люди. В какой-то момент они остановились возле большой сосны, и один из них взглянул на дом Талбота. Сэм увидел слегка сверкающие, необычайные, янтарного цвета глаза. На какое-то мгновение Сэм застыл на месте, охваченный не столько страхом, сколько изумлением. Затем он сообразил, что существо смотрит прямо в окно дома, как будто увидев его там. Неожиданно «призрак» повернул к дому Талбота. Сэм присел на корточки у окна и прислонился к стене, он также прижал к полу собаку. Та, вероятно, каким-то образом чуяла опасность, так как ни разу не залаяла и не заскулила, она полностью доверилась Сэму, легла на пол и растянулась на нем, положив голову на лапы. Мгновением позже сквозь шум ветра и дождя Сэм услышал торопливые шаги за стеной. Это был мягкий, шаркающий звук. Затем кто-то стал царапать стену. Сэм держал свой револьвер наготове в правой руке, чтобы отразить нападение, если «призрак» вздумает разбить окно и проникнуть в комнату. Несколько секунд прошли в тишине. Время текло медленно. Левой рукой Сэм поглаживал Муза по спине. Он чувствовал, как собака дрожит. Тук-тук-тук. Неожиданный звук удивил Сэма, он предполагал, что существо уже исчезло. Тук-тук-тук. Существо стучало в стекло, как бы проверяя, насколько прочно оно, или вызывая человека, который прятался в доме. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук-тук.Глава 62
Такер со своими компаньонами укрылся от ветра и дождя на ветхом крыльце старого дома. Полусгнившие половицы громко скрипели под их шагами. На одном из окон хлопала на ветру единственная уцелевшая ставня, остальные уже давно сгнили и отвалились. Такер попытался объяснить, куда он ведет своих товарищей по стае, но найти и произнести нужные слова оказалось делом необычайно трудным. Помимо гортанных возгласов, хрипов и лая, он смог выдавить из себя только отдельные слова: «…здесь… прятаться… здесь… спокойно». Второй самец, по-видимому, полностью потерял дар речи, так как не мог произнести ни слова. С явным усилием самка отозвалась: «…спокойно… здесь… дом». Такер взглянул на своих товарищей по стае и понял, что они очень изменились внешне за время их ночных приключений. Вчера вечером самка напоминала кошку — своими повадками, телом, кошачьими ушами и острыми зубами, которые она ощеривала, если шипела от ярости, гнева или любовного желания. Черты кошки еще сохранились, но теперь она стала больше походить на Такера, на волка — крупная голова сужалась спереди, напоминая скорее волчью, а не кошачью морду. Ноги тоже похожи на волчьи, а ступни как будто образовались в результате скрещивания человека и волка, передние же конечности представляли собой нечто среднее между рукой и лапой, но на них имелись когти, куда более длинные и опасные, чем волчьи. Второй самец, который раньше странным образом совмещал в себе черты какого-то насекомого и гиены, теперь тоже был ближе по своей внешности к волчьему обличью Такера. С общего молчаливого согласия Такер стал вожаком их маленькой стаи. Подчиняясь его воле во всем, его компаньоны переняли и его внешний вид как образец для подражания. Он понял, что это важный момент в их нынешнем существовании, возможно, это даже общий закон их новой жизни. Такер не увидел в этой способности постоянно изменять свой внешний вид никакой опасности для себя. На дальнейшие рассуждения у него не хватило терпения. Его больше беспокоил насущный вопрос поиска убежища. — …спокойно… сюда… здесь. Он провел их через сломанную дверь в прихожую старого дома. Штукатурка в комнате покрылась трещинами и местами полностью осыпалась, сквозь нее виднелась дранка, напоминающая кости полуразложившегося тела. В гостиной с голых стен свешивались лохмотья обоев, как будто старый дом сбрасывал свою кожу в процессе превращения не менее страшного, чем то, которое пережил Такер и его товарищи по стае. Такер решил произвести осмотр дома, и это обследование обратилось для него в целую цепь открытий. Сопровождаемый своими компаньонами, он обнаружил в темном углу столовой целую кучу каких-то поганок, в другой комнате на стене слабым светом светилась плесень. На полу повсюду был крысиный помет, валялась иссохшая тушка птицы, очевидно, залетевшей в разбитое окно и сломавшей себе крыло. В кухне на полу лежал полусгнивший труп пришедшего сюда умирать койота. Во время обследования дома Такер понял, что это место, конечно, не является идеальным для убежища. Комнаты были слишком большими, и в них гуляли сквозняки, так как стекла в окнах были выбиты. И хотя в воздухе совсем не ощущалось человеческого запаха, он догадывался, что люди изредка все же забредают сюда, и это может послужить причиной для беспокойства. Надежное убежище все же было найдено, когда Такер обнаружил на кухне люк в подвал. По скрипучим ступенькам они спустились в темное подземелье. Здесь не было холодных сквозняков, пол и стены были сухими, а воздух чистым, с запахом известки, так как стены подвала были покрыты штукатуркой на известковом растворе. Видимо, случайные прохожие редко заглядывают в подвал, подумал Такер, если же кто-то из них рискнет спуститься сюда… что ж, тем хуже для него, он попадет в ловушку, из которой ему не выбраться. Это было прекрасное, лишенное окон укрытие. Такер пробежался по периметру подвала, его когти стучали и царапали пол. Он обнюхал углы и обследовал полуразвалившуюся печь. К его удовлетворению, ничто не внушало беспокойства. Они могут свернуться здесь на полу и отдыхать, будучи уверенными, что никто их не обнаружит, а если даже и обнаружит, то незваному гостю не поздоровится, они отрежут ему путь к отступлению и расправятся с ним. В таком глубоком, темном и спокойном месте они могут превратиться в кого захотят и никто их не увидит. Последняя мысль поразила Такера. Превратятся в кого захотят? Он не понимал, откуда возникла эта мысль и что она означала. Он просто неожиданно почувствовал, что, вырождаясь в «одержимых», они запустили какой-то механизм, который не в силах контролировать и который теперь зависит от какой-то примитивной части их мозга. Такера охватила паника. Он до этой ночи уже неоднократно превращался в «одержимого», и ему всегда удавалось возвращаться в человеческий облик. Но теперь… Страх лишь на одно мгновение сковал его, так как он не мог долго сосредоточиваться на одной мысли, он даже не мог теперь вспомнить, что означает слово «одержимый». Тем более что его в этот момент отвлекла самка, пожелавшая совокупиться с ним. Вскоре все три тела сплелись в один клубок, они царапали друг друга, содрогались и сливались в одно целое. Их протяжные возбужденные крики наполняли пустой дом подобно голосам привидений, поселившихся в заколдованном месте.Глава 63
Тук-тук-тук. Сэма так и тянуло подняться, взглянуть в окно и наконец-то оказаться лицом к лицу с загадочным существом, ему не терпелось увидеть его вблизи. Но, принимая во внимание опасные повадки этих тварей, надо было учитывать и возможность нападения и перестрелки. Это наверняка привлекло бы внимание соседей, а затем и полиции. Сэм не мог лишить себя надежного укрытия, ему просто было некуда отсюда идти. Он только крепче сжал рукоятку револьвера, держа другую руку на спине Муза, и продолжал сидеть под подоконником и прислушиваться к звукам с улицы. Он слышал голоса, но слов разобрать было нельзя, так как сквозь стекло проникало только несвязное бормотание. К первому голосу присоединился второй, они, вероятно, спорили о чем-то. Затем последовало молчание. Сэм прислушивался, ожидая, что после паузы опять раздадутся голоса или стук в стекло, но ничего не было слышно. Наконец, когда его ноги уже начали затекать, он убрал свою руку со спины Муза и, поднявшись, выглянул в окно. Он был готов к тому, что увидит ужасную тварь, прижавшуюся своей безобразной мордой к стеклу, но за окном никого не было. В сопровождении собаки Сэм обошел одну за другой все комнаты первого этажа, заглядывая в окна, выходившие на разные стороны. Не было бы ничего удивительного, если бы эти существа попытались проникнуть в дом, разбив окно. Но, если не считать дождя, стучавшего по крыше и с журчанием бегущего по водостокам, в доме стояла полная тишина. Сэм решил, что «призраки» ушли и их интерес к дому Талбота был всего лишь случайностью. Они явно не охотились именно за ним, а просто заметили его фигуру в окне и решили разобраться, не представляет ли он для них опасности. Как только они убедились, что человек прячется за толстым стеклом, они решили, что не стоит рисковать, поднимая шум в центре города. Эти существа явно предпочитали действовать скрытно и тихо. Если они и издавали свои странные, протяжные крики, разносящиеся эхом по городу, то только тогда, когда на них накатывало какое-то особое настроение. И именно по этой причине они нападали в основном на людей, живших где-нибудь на отшибе. Сэм возвратился в гостиную, засунул револьвер в кобуру и вытянулся на диване. Муз сел на полу рядом с ним и некоторое время смотрел на Сэма, словно удивляясь, как это можно так спокойно лежать и спать после того, что произошло. — Пойми, приятель, некоторые мои сны куда страшнее того, что мы видели сегодня ночью, — объяснил Сэм. — Если бы меня можно было так просто напугать, я действительно надолго лишился бы сна. Собака зевнула, встала, пошла в прихожую, нажала на кнопку лифта. Загудел мотор, и лифт унес Муза наверх. Ожидая, когда его снова посетит сон, Сэм старался думать о чем-нибудь приятном, о чем-нибудь таком, что он с удовольствием увидел бы во сне: хорошая мексиканская кухня, слегка охлажденное пиво «Гиннес» и Голди Хоун. В идеале ему хотелось бы увидеть во сне, как он идет с сияющей от счастья Голди Хоун в лучший мексиканский ресторан. Там они ужинают, пьют «Гиннес» и смеются до упаду. Но все вышло иначе. Ему приснился его отец-алкоголик, в чьи руки он попал в возрасте семи лет, когда его мать погибла в автомобильной катастрофе.Глава 64
Согревшись под мешками, сложенными в кузове грузовика, Крисси спала так крепко, что проснулась только тогда, когда дверь гаража с грохотом и скрипом отворилась. Она едва не вскочила во весь рост от неожиданности. Вовремя вспомнив о том, где находится, она зарылась поглубже в мешки, служившие ей одеялом. Крисси старалась ничем не выдать себя. По крыше гаража стучал дождь. Потоки дождя устремились по водосливу вниз, и журчание падающей воды напоминало шипение тысячи свиных бифштексов на огромной сковородке. Крисси вновь почувствовала голод. Она умирала от голода, слушая это шипение. — Ты взяла коробку с моими бутербродами, Сара? Крисси не могла точно утверждать, что этот голос принадлежит мистеру Юлейну, она знала его плохо, но через секунду стало понятно, что это был именно он, так как она услышала голос Сары Юлейн, ее она очень хорошо знала. — Эд, я бы хотела, чтобы ты вернулся домой после того, как подбросишь меня до школы. Возьми выходной. Какая радость от работы в такую погоду? — Да, косить траву я сегодня действительно не смогу, — отвечал Эд, — но у меня есть много другой работы. Я просто надену в этом случае свою непромокаемую куртку. В ней никакой дождь не страшен. Если бы у Моисея была такая куртка, когда он переправлялся через Красное море, ему точно не пришлось бы просить помощи у Господа Бога. Крисси приходилось дышать через плотную, пропитанную запахом травы мешковину. В какой-то момент у нее защипало в носу, она страшно испугалась, что чихнет. ГЛУПАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДЕВЧОНКА ЧИХНУЛА, ОБНАРУЖИВ ТЕМ САМЫМ СЕБЯ ПЕРЕД КРОВОЖАДНЫМИ ПРИШЕЛЬЦАМИ: ОНА БЫЛА СЪЕДЕНА ЗАЖИВО: «ЭТО БЫЛ ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК, — ПРИЗНАЛАСЬ КОРОЛЕВА ПРИШЕЛЬЦЕВ, — А НУ-КА, ДОСТАВЬТЕ СЮДА ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ТАКИХ ЖЕ МАЛЕНЬКИХ ОДИННАДЦАТИЛЕТНИХ ДЕВЧОНОК». Открывая дверь в кабину грузовика, в паре футов от того места, где сидела Крисси, Сара сказала: — Ты доиграешься со своим здоровьем, Эд. — Ты считаешь, что я хрупок, как фиалка? — игриво спросил Эд, открывая дверцу с другой стороны. — Нет, я думаю, ты больше похож на увядший старый одуванчик. Эд засмеялся. — Ты была обо мне такого же мнения вчера вечером? — Да, представь себе. Но все дело в том, что ты — мой увядший старый одуванчик, и я вовсе не хочу, чтобы ты в какой-то момент разлетелся в пух при сильном порыве ветра. Хлопнула одна дверца, за ней — вторая. Крисси была уверена, что ее не заметили. Она откинула с головы мешковину, зажала пальцами нос и стала дышать ртом до тех пор, пока у нее не перестало щипать в носу. Эд Юлейн завел мотор, дал ему прогреться, затем начал задним ходом выезжать из гаража. Крисси слышала сквозь шум мотора, как он переговаривается с женой, слов разобрать было нельзя, но, по всей видимости, они продолжали подшучивать друг над другом. На лицо Крисси упали холодные капли дождя, она вновь натянула на себя мешковину, оставив для дыхания лишь узенькую щелочку. Теперь не страшно, даже если она чихнет, шум дождя и гул мотора заглушали все остальные звуки. Обдумывая подслушанный ею разговор и слушая, как мистер Юлейн хохочет в кабине грузовика, Крисси в какой-то момент решила, что может довериться этим людям. Если бы они были пришельцами, они бы не стали так глупо шутить и обмениваться фривольностями. Они могли, конечно, прикидываться перед кем-нибудь, чтобы показать, что они и есть настоящие Сара и Эд Юлейн, но здесь был не тот случай, они разговаривали с глазу на глаз, и им не было никакой необходимости разыгрывать спектакль. А настоящие пришельцы, если рядом нет обычных людей, не прошедших через это загадочное превращение, могли говорить, наверное, только о… ну, скажем, о планетах, которые они уже захватили, о погоде на Марсе, о ценах на топливо для своих «летающих тарелок» или о том, как быстрее взять под свой контроль жителей Земли. Кто их знает? Одно ясно — они ну никак не могли разговаривать так, как разговаривали супруги Юлейн.. Но, с другой стороны… Не исключено, что эти пришельцы из космоса брали Эда и Сару Юлейн под свой контроль только по ночам и, может быть, они еще не привыкли полностью к исполнению роли человеческих существ. Возможно, они специально говорят между собой как люди, чтобы потом оказаться незамеченными в обществе настоящих людей. Ясно как день — если они обнаружат Крисси, они тотчас выпустят свои щупальца и клешни, и тут — одно из двух: либо они съедят ее живьем, без всяких приправ, либо засушат, приклеят на тарелку и возьмут эту тарелку на свою планету, чтобы там повесить ее на стенку своей кухни. Или другой вариант — они вытащат у нее мозги и будут использовать их в космическом корабле как микропроцессор для своей космической кофеварки. Когда нападают инопланетяне, надо держаться настороже и действовать крайне осмотрительно. Крисси решила придерживаться своего первоначального плана. Пластиковые мешки с удобрениями, черноземом и приманкой для улиток, стоявшие по бокам ее гнездышка, частично защищали ее от косого дождя, но влага постепенно пропитывала лежащую сверху мешковину. Когда ткань промокла насквозь, Крисси почувствовала, как вода проникает под одежду, заставляя ее дрожать от холода. Время от времени Крисси высовывалась из-под мешков, чтобы проверить, где они едут. Когда она увидела, что они свернули с местного шоссе на Оушн-авеню, она скинула с себя мокрые мешки и выбралась из своего убежища. В задней части кабины имелось окошко, и, обернувшись, любой из супругов Юлейн увидел бы Крисси. Мало того, мистер Юлейн мог увидеть ее в зеркало заднего обзора, так как Крисси даже не особенно пряталась, готовясь спрыгнуть в тот момент, когда грузовик будет проезжать мимо костела Девы Марии. Крисси продвигалась поближе к заднему борту машины, перебираясь через садовый инвентарь. Она припала к мокрым доскам, дрожа от холода под проливным дождем. Грузовик пересек Шаста-уэй, это был первый перекресток после въезда в город. Они ехали теперь через деловую часть города, до церкви оставалось еще четыре квартала. К удивлению Крисси, на тротуарах не было видно прохожих, а на проезжей части — машин. На часах было 7.03, в это время жизнь в городе обычно уже начиналась. Вероятно, дело еще в плохой погоде, люди не хотят выходить на улицу без крайней необходимости. Но возможно и другое объяснение: пришельцы уже контролируют большинство жителей города, и им больше нет необходимости прикидываться, что они ведут обычную человеческую жизнь; весь город в их власти, и теперь осталось только разыскать тех, кто еще не попал под их контроль. Думать о таком развитии событий было слишком тяжело для Крисси. Когда до церкви оставался всего один квартал, Крисси начала перебираться через заднюю стенку кузова. Она перенесла через борт сначала одну ногу, потом другую и, ухватившись руками за край, встала на задний бампер грузовика. Сквозь окошко в кабине она могла видеть спины супругов Юлейн. Обернись кто-нибудь из них, взгляни мистер Юлейн в зеркало — и ей не миновать неприятностей. Кроме того, ее мог заметить и случайный прохожий, в этом случае ей точно прочитали бы нотацию: «Ты куда это забралась, тебе что, жить надоело?» Но прохожих, к счастью, нигде не было видно, она доехала до следующего перекрестка без приключений. Заскрипели тормоза, мистер Юлейн остановился у перекрестка на красный свет. Воспользовавшись моментом, Крисси спрыгнула на асфальт. Мистер Юлейн свернул на перекрестке налево. Он поехал к школе Томаса Джефферсона на Паломино-стрит, в которой работала миссис Юлейн и в которую, будь все как обычно, пришла бы вскоре и Крисси. Но сейчас она перебежала на другую сторону улицы, прошлепала через лужу и взбежала по ступенькам парадного входа костела Девы Марии. Она торжествовала победу. Несмотря на преграды, она сумела добраться до святого места. Оставалось только повернуть массивную ручку из бронзы и открыть резнуюдверь в храм. Крисси помедлила на пороге и оглянулась на город. Окна магазинов, офисов и квартир, запотевшие до белизны, напоминали глаза, пораженные катарактой. Тонкие деревца гнулись под напором ветра, старые деревья подрагивали, точно в страхе, все остальное вокруг застыло в неподвижности. Ветер налетал порывами, иногда он переставал гнать дождь на восток и превращал его в водяную пыль, нависшую над Оушн-авеню, так что, если бы Крисси на мгновение забыла о холоде, ей могло бы показаться, что она находится в городе-призраке посреди пустыни, по улицам которого бродят злые духи, сотканные из пыли и песка. Из-за угла на перекресток выползла патрульная полицейская машина. В ней сидели двое полицейских. Они не смотрели в ту сторону, где стояла Крисси. Крисси уже пришла к выводу, что доверять полиции не следует. Она открыла входную дверь и проскользнула внутрь, не дожидаясь того момента, когда полицейские обратят на нее внимание. Вступив в церковный придел, украшенный дубовыми панелями, и вдохнув запах благовоний, Крисси почувствовала себя в безопасности. Она вошла через арку в алтарь, опустила пальцы в мраморную чашу со святой водой, перекрестилась и прошла по центральному проходу к четвертому ряду скамей. Здесь она встала на колени, снова перекрестилась и села на скамью. Жаль, что на полированной поверхности дерева сразу же появились мокрые пятна, но ничего нельзя было поделать, с ее одежды вода текла ручьем. Месса шла своим чередом. Кроме Крисси, в храме присутствовали лишь двое верующих, что само по себе было удивительно. Крисси обычно ходила с родителями только к воскресной мессе, в будний день она в последний раз была в церкви много лет назад и плохо помнила, сколько тогда было народу. Но скорее всего пришельцы и тут оставили свой след. Они наверняка не верят в Бога или, что еще хуже, верят в какого-нибудь демона по имени Яга или Скогблатт. К удивлению Крисси, мессу служил не отец Кастелли, а молодой священник, недавно назначенный в приход. Его звали отец О'Брайен. Имя его было Том, и, подражая отцу Кастелли, он иногда призывал прихожан называть его отцом Томом. Молодой священник был приятным человеком — может быть, не таким приятным и веселым, как отец Кастелли, но Крисси он нравился, хотя она ни за что не могла заставить себя называть его столь фамильярно. Ведь если быть последовательной, тогда и папу римского следует величать папой Джонни. Родители Крисси часто вели разговоры о переменах в церкви, о том, что она стала менее официальной, они относились к этому с одобрением. Но Крисси уважала традиции и иногда жалела, что не родилась в те времена, когда мессы служили на латыни, когда они были таинственными и торжественными, когда в службу не входил глупый и пошлый ритуал «дарования мира», совершаемый самими прихожанами и обращенный к их соседям по церковным скамьям. Однажды Крисси присутствовала на службе в соборе в Сан-Франциско, там она была на каникулах. Мессу служили на латыни, по старым канонам, и Крисси просто влюбилась в этот обряд. Понятно, когда делают более совершенные самолеты, превращают черно-белое телевидение в цветное, спасают человеческие жизни с помощью более эффективных лекарств и медицинской техники, заменяют грампластинки на компакт-диски — все эти перемены нормальны и желательны. Но в жизни есть вещи, которые нельзя менять, так как в них люди ценят именно их неизменность. Если живешь в мире, где все постоянно меняется, то обязательно должно быть место, где царят мир и покой. Эта мысль казалась Крисси настолько естественной, что она не могла понять восторга ее родителей перед изменениями в церкви. Впрочем, взрослые иногда бывают такими недалекими. Крисси посидела и послушала мессу примерно две минуты, то есть ровно то время, в течение которого ей надо было прочитать молитву и попросить благословения у Пресвятой Девы Марии. За эти минуты она также успела убедиться, что отца Кастелли в церкви не было — он иногда любил сидеть на скамье, как простой прихожанин, — не было его и у алтаря. Крисси встала еще раз на колени, перекрестилась и пошла назад, к выходу из церкви. Там мягко мерцали лампы, спрятанные за янтарно-желтыми стеклами. Крисси открыла входную дверь и собиралась уже шагнуть за порог. Вниз по Оушн-авеню спускалась еще одна полицейская машина, но уже другая, не та, что она видела недавно. Эта была поновее, и в ней сидел только один полицейский. Машина двигалась медленно, полицейский словно высматривал кого-то на улицах. Когда полицейский автомобиль пересекал перекресток у костела Девы Марии, ему навстречу выполз еще один автомобиль. Это был обычный «Шевроле» синего цвета. Необычным было то, что люди в этой машине вели себя точно так же, как полицейские, — они явно высматривали кого-то. Разъезжаясь на перекрестке, водители двух машин не обменялись никакими знаками, но Крисси почувствовала, что они заняты одним и тем же делом. И полицейские, и люди в штатском кого-то усиленно искали. «Они ищут меня», — подумала Крисси. Они охотятся за ней, так как она слишком много знает. Так как она вчера утром видела у себя дома своих родителей, обратившихся в пришельцев. Так как она была теперь препятствием для их планов установить контроль над всей человеческой расой. Так как пришельцы, возможно, хотят попробовать, какая она на вкус, если приготовить ее с гарниром из марсианского картофеля. До сих пор Крисси видела только, как пришельцы берут людей под свой контроль, но ни разу не наблюдала, как они расправляются с людьми, пожирая их. И все же она продолжала думать, что аппетит у пришельцев отнюдь не вегетарианский, они наверняка лакомятся человеческим мясом. Крисси просто чувствовала, что так оно и есть. Когда машины разъехались в разные стороны, она приоткрыла дверь пошире и вышла наружу. Внимательно осмотрелась, нет ли поблизости других патрулей. Никого не было видно, и она свернула за угол здания. Здесь она также проверила, нет ли опасности, и направилась к жилому дому пастора. Этот двухэтажный кирпичный дом был украшен по фундаменту гранитными плитами и выглядел весьма солидно. Разросшиеся у входа деревья прикрывали своей кроной Крисси от дождя, но она уже все равно вся промокла до нитки. Когда она ступила на порог дома, ее теннисные туфли при каждом шаге отвратительно чавкали. Крисси уже собиралась нажать на кнопку звонка у входной двери, но ее вновь стали одолевать сомнения. Ей стало вдруг казаться, что она хочет переступить порог дома, над которым уже властвуют пришельцы, — мысль была довольно дикой, но полностью сбрасывать со счетов такую возможность было бы неразумно. Кроме того, она сообразила, что отец О'Брайен неспроста читает утреннюю мессу, возможно, он подменил отца Кастелли, дав ему отдохнуть, а она своим приходом в ранний час нарушит отдых пастора. ЮНАЯ КРИССИ, — продолжала сочинять девочка, — БЫЛА, БЕЗУСЛОВНО, ОЧЕНЬ ХРАБРОЙ И СООБРАЗИТЕЛЬНОЙ. НО ЕЕ ОБОСТРЕННАЯ ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ В ВОПРОСАХ ЭТИКЕТА СЫГРАЛА С НЕЙ ЗЛУЮ ШУТКУ. В ТО ВРЕМЯ КАК ОНА, СТОЯ НА КРЫЛЬЦЕ ДОМА ПАСТОРА, РАЗМЫШЛЯЛА О ПОДХОДЯЩЕМ ПРЕДЛОГЕ ДЛЯ СТОЛЬ РАННЕГО ВИЗИТА, КРОВОЖАДНЫЕ ДЕВЯТИГЛАЗЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ УЖЕ ПРИМЕТИЛИ ЕЕ И, НЕОЖИДАННО НАПАВ СЗАДИ, СЪЕЛИ ЕЕ НА МЕСТЕ. К СЧАСТЬЮ, ОНА БЫЛА ПОЧТИ МЕРТВОЙ ОТ УСТАЛОСТИ И НЕ ПОЧУВСТВОВАЛА, КАК ЖЕСТОКО ОНИ РАСПРАВИЛИСЬ С НЕЮ, СМЕРТЬ ЕЕ БЫЛА БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ И МГНОВЕННОЙ. Крисси позвонила. Два раза. Мгновение спустя за причудливо изломанным декоративным стеклом, составлявшим верхнюю часть двери, показалась уродливая, призрачная фигура. Крисси уже была готова бежать со всех ног куда глаза глядят, но вовремя сообразила, что это всего лишь искаженная декоративным стеклом фигура пастора. Отец Кастелли открыл дверь и застыл от удивления при виде ранней гостьи. Он был одет в черные брюки, в черную рубашку и в серый кардиган, так что, слава Богу, похоже, она не разбудила его. Пастор был невысокого роста, примерно пять футов семь дюймов, плотного телосложения, но не толстяк, его черные волосы уже поседели на висках. Его орлиный нос не мог создать впечатления суровости: все остальные черты лица были удивительно мягкими и придавали их обладателю — очень добродушный и сердечный вид. Он моргал явно от удивления — Крисси впервые видела его без очков — и наконец вымолвил: — Крисси? После этого на его лице появилась знакомая улыбка, и Крисси поняла по ней, что наконец-то попала туда, куда надо. — Ну же, рассказывай, что тебя привело сюда в такую погоду? — Он заглянул за дверь и увидел, что на крыльце больше никого нет. — А где же твои родители? — Святой отец, — начала Крисси, не удивившись тому, что голос ее дрогнул, — я должна поговорить с вами. Улыбка исчезла с лица пастора. — Что-нибудь случилось? — Да, святой отец. Все очень плохо. Ужасно, ужасно плохо. — Заходи же, заходи в дом. Да ты промокла до нитки! — Он провел ее в прихожую и закрыл дверь. — Милая девочка, так в чем же дело? — Пришельцы, святой отец, — выдохнула Крисси, дрожа то ли от холода, то ли от страха. — Проходи скорей на кухню, — предложил пастор. — Это самая теплая комната в доме. Я как раз приготовил завтрак. — Я боюсь, что на ковре останутся следы от моих туфель, — сказала Крисси, указывая на красивую ковровую дорожку, устилавшую коридор. По сторонам от нее виднелся начищенный дубовый паркет. — Об этом не беспокойся. Это старый ковер, он существует для того, чтобы по нему ходили. Этим надо пользоваться. Будешь пить со мной какао? Я всегда готовлю себе на завтрак большой кофейник хорошего какао. Крисси, испытывая неизмеримую благодарность, пошла вслед за пастором по мягко освещенному коридору, в котором чувствовался запах лимона, сосновой смолы и чуть-чуть — ладана. Кухня в доме пастора была очень уютной. Чистый пол из зеленоватого линолеума. Стены выкрашены в мягкий салатный цвет. Кухонные шкафы были из темного дерева с белыми фаянсовыми ручками. Поверхность столов была из серой и зеленой пластмассы. Здесь имелась вся необходимая кухонная техника — холодильник, плита, микроволновая печь, тостер, электрическая открывалка для банок — все как в обычной кухне. Это удивило Крисси, хотя тут не было, в общем-то, ничего удивительного. Священникам ведь тоже надо что-то себе готовить. Ведь не просить же Бога о том, чтобы он даровал им кусок хлеба с маслом и кофейник с горячим какао. Запахи на кухне были восхитительные. Закипал кофейник с какао. Жарились тосты. На плите на небольшом огне поджаривалась колбаса. Отец Кастелли предложил Крисси устраиваться на одном из пластмассовых стульев, окружавших стол, и стал расставлять перед ней тарелки, достал чашку; он суетился вокруг нее, словно она была цыпленком, а он — заботливой наседкой. Он поднялся наверх, принес два чистейших, пахнувших свежестью полотенца и предложил: — Одним полотенцем вытри волосы, а в другое завернись, как в шаль. Сейчас ты живо у меня согреешься. — Пока Крисси выполняла его распоряжения, пастор снова сбегал наверх, за аспирином. Положив таблетки на стол, он стал наливать ей апельсиновый сок. — Апельсиновый сок — это именно то, что тебе сейчас надо. В нем полно витамина С. Аспирин с витамином С — это как бы двойной удар — он вышибет простуду из организма еще до того, как она там устроится. — Пастор повернулся к ней с бокалом сока в руке, и ей показалось, что он смотрит на нее с чувством жалости и понимания. — Дорогая девочка, так что же заставило тебя подняться так рано? — Казалось, пастор не расслышал ее слов о пришельцах. — Нет, подожди, расскажешь все за завтраком. Ты ведь не откажешься позавтракать со мной? — Нет, я просто умираю от голода. Со вчерашнего вечера мне не удалось перехватить ничего, кроме двух шоколадных батончиков. — Кроме двух шоколадных батончиков? — Пастор вздохнул. — Шоколад, конечно, дарован нам Богом, но его часто использует дьявол, чтобы ввергнуть нас в грехи чревоугодия. — Он погладил себя по круглому животу. — Я, конечно, тоже люблю поесть, но я никогда, ни-ког-да, — он подчеркнул это слово, — не предавался греху чревоугодия. К тому же, видишь ли, есть только один шоколад вредно, от него портятся зубы. Поэтому… у меня на сковородке — хорошая порция жареной колбасы, нам двоим вполне хватит на завтрак. Я как раз собираюсь еще поджарить себе пару яиц. Будешь яичницу? — Да, с удовольствием. — А тосты будешь? — Конечно. — Вот еще булочки с корицей. А вот — горячее какао. Крисси выпила аспирин, запила его соком. Готовя яичницу, пастор оглянулся и еще раз внимательно посмотрел на Крисси: — С тобой все в порядке? — Да, святой отец. — Точно? — Да, сейчас я чувствую себя гораздо лучше. — Я очень рад, что за завтраком у меня такая приятная гостья. Крисси допила апельсиновый сок. Пастор продолжал: — Когда отец О'Брайен приходит после мессы, он ничего не ест. Говорит, что всегда, когда волнуется, не хочет ничего есть. — Отец Кастелли прищелкнул языком. — У всех молодых священников бывают желудочные колики, когда они начинают служить в приходе. Несколько месяцев у них дрожат коленки, как только они всходят на алтарь. Это ведь не так просто — отслужить мессу, молодые священники всегда боятся что-нибудь перепутать, они… они, наверное… думают, что тем самым они оскорбят Бога. Но дело в том, что Бога оскорбить не так-то легко. Если бы он был таким слабонервным, он бы давно перестал нянчиться с человеческим родом. Тогда они приходят после мессы и готовы съесть за завтраком целого быка. Крисси понимала, что пастор говорит обо всем подряд только для того, чтобы как-то успокоить ее. Он наверняка заметил, насколько она измотана. Он хочет просто подбодрить ее, чтобы потом поговорить в спокойной обстановке. Она и не возражает против этого ни капельки. Ей действительно необходимо, чтобы ее поддержали. Отец Кастелли продолжал заниматься приготовлением завтрака. Он поставил на стол всю необходимую посуду и снова обратился к Крисси: — Ты, девочка, выглядишь не просто испуганной, ты как будто только что видела призрака. Но теперь тебе надо успокоиться. Конечно, даже взрослые люди иногда боятся чего-то, но надо понять, что мы сами создаем для себя большинство наших страхов. Если мы можем их создать, значит, мы в состоянии также и избавиться от них. — В моем случае это не очень просто, — возразила Крисси. — Посмотрим. Пастор разложил яичницу с колбасой по тарелкам. Для Крисси впервые за целые сутки мир вокруг приобрел нормальные черты. Когда отец Кастелли предложил приступить к завтраку, Крисси с облегчением вздохнула. Ей страшно хотелось есть.Глава 65
Шаддэк обычно ложился спать на рассвете, поэтому во вторник рано утром он поминутно зевал и протирал глаза. Он кружил по городу в поисках места, где он смог бы поспать в машине несколько часов. Только бы поблизости не было Ломена Уоткинса. Уже начинался день — серый, мрачный: солнце лишь изредка проглядывало сквозь тучи и слепило глаза. Ему пришла в голову мысль отправиться к дому Паулы Паркинс, той женщины, которая пала жертвой «одержимых» в сентябре. Ее участок размером в полтора акра находился на окраине города, в самой необжитой его части. Родственники из Колорадо выставили его на продажу через местное агентство по торговле недвижимостью, но предложение не нашло покупателя. Шаддэк заехал во двор, поставил машину в пустой гараж, выключил двигатель и закрыл массивные ворота. Он вынул банку кока-колы, съел бутерброд с ветчиной. Стряхнул крошки. В задней части кузова были сложены одеяла, Шаддэк улегся на них и погрузился в сон. Бессонницей он никогда не страдал, возможно, потому, что был уверен в своем жизненном предназначении, в своей судьбе и не тревожился за завтрашний день. По его глубокому убеждению, все должно было развиваться по плану, разработанному им самим. На жизненном пути ему постоянно попадались приметы, говорившие о его незаурядности, знаки судьбы сулили ему успех в любом из начинаний. Впервые он узнал о приметах от Дона Ранингдира. Ранингдир — что значит «Бегущий Олень» — был индейцем, Шаддэк так и не смог понять, какого племени, и служил садовником в доме отца Шаддэка в Фениксе. Он брался, впрочем, за любую работу. Бегущий Олень был ловким и быстрым во всем. Обветренное лицо, стальные мускулы, натруженные руки. Яркие, маслянисто-черные глаза излучали удивительную энергию. Многие не выдерживали этого взгляда и опускали глаза… или, наоборот, не могли пошевельнуться, как бы этого ни хотели. Индеец начал присматриваться к юному Томми Шаддэку, позволяя ему время от времени выполнять вместе с ним ту или иную работу по хозяйству. Отца и матери Томми в это время не бывало дома, и никто не знал, что мальчик проводит время с человеком явно не его круга. Получалось так, что Томми в возрасте от пяти до двенадцати лет все свое свободное время проводил с индейцем. Родителям было не до сына. В памяти Томми очень отчетливо отпечатался день, когда Бегущий Олень обратил его внимание на одну примету — змею, впившуюся в собственный хвост… Томми было тогда лет пять. Он ползал среди своих игрушек фирмы «Тонка» на заднем дворе их большого дома в Фениксе. Но больше, чем игрушки, его интересовал индеец, подстригавший кустарник большими садовыми ножницами. Стояла полуденная жара. Индеец снял с себя рубашку, на загорелом теле перекатывались мощные мускулы. Мальчик завороженно смотрел на сильное мужское тело. Судья Шаддэк, отец Тома, был худощавым, бледным мужчиной, его сын телосложением пошел в отца и был чрезвычайно худ. На тот момент Бегущий Олень работал у них всего две недели, но даже за это время Томми почувствовал необъяснимую тягу к этому человеку. Бегущий Олень просто иногда улыбался ребенку и рассказывал сказки о койотах и гремучих змеях и о других животных пустыни. Иногда он называл Томми «Маленький Вождь», это было первое прозвище, которое мальчик получил в своей жизни. Мать всегда называла его Томом или Томми, отец обращался к нему торжественно — Томас. Так вот, в тот жаркий день он играл в свои игрушки, но с каждой минутой все больше отвлекался, пока не бросил их совсем и не уставился на Бегущего Оленя как завороженный. Неизвестно, сколько времени продолжалось это оцепенение. Он очнулся от голоса Бегущего Оленя, звавшего его. — Маленький Вождь, подойди сюда, взгляни, что здесь происходит. Эти слова поразили его, он не мог произнести ни звука. Руки и ноги ему не повиновались. Он словно обратился в камень. — Иди же, иди сюда, Маленький Вождь. Ты должен это увидеть. Томми удалось в конце концов подняться на ноги, он выбежал на лужайку и приблизился к кустарнику, окружавшему плавательный бассейн, туда, куда звал его Бегущий Олень. — Это большая редкость, — торжественно произнес индеец и указал на зеленую змейку, лежавшую у его ног на горячем от солнца бетонном обрамлении бассейна. В страхе Томми отпрянул назад. Однако индеец схватил его за руку, притянул к себе и сказал: — Не бойся, это всего лишь безобидный уж. Он тебя не укусит. Но он здесь не случайно, он послан сюда, чтобы подать тебе знак. Широко открытыми глазами Томми глядел на семнадцатидюймовую змею, свернувшуюся буквой О. Хвост змеи оказался в ее пасти, она словно пожирала сама себя. Змея была совершенно неподвижна, ее остекленевшие глаза смотрели не мигая. Томми подумал, что она мертва, но, по твердому убеждению индейца, это было не так. — Это верная и очень важная примета. О ней знают все индейцы, — пояснил Бегущий Олень. Он присел на корточки перед змеей и заставил мальчика сесть с ним рядом. — Это знак, — прошептал он, — знак свыше, он послан великими духами. Он имеет особое значение для детей, значит, и для тебя тоже. Это очень важная примета. Не отрывая изумленных глаз от змеи, Томми спросил: — Примета? Что ты говоришь? Это не примета. Это змея. — Нет, это предзнаменование, предупреждение. Это знак свыше, — сказал Бегущий Олень. Они сидели на корточках перед змеей, и Бегущий Олень давал Томми объяснения своим пронизывающим, вкрадчивым голосом. Он ни на секунду не выпускал руки мальчика. Прямые лучи солнца жгли каменный край бассейна, горячий воздух волнами поднимался вверх. Змея лежала настолько неподвижно, что казалась изумрудным колье с двумя рубинами — глазами. Спустя мгновение Томми вновь впал в оцепенение, а голос Бегущего Оленя все змеился вокруг его головы, проникал в череп и оплетал мозг. Мало того, Томми уже казалось, что говорит с ним вовсе не индеец, а сама змея. Он неотрывно глядел на нее и почти не замечал присутствия Бегущего Оленя, так как слова змеи завораживали и манили, переполняли его чувства и захватывали всю его душу, несмотря на то, что он даже не мог полностью понять их смысл. «Это знак судьбы, — шептала ему змея, — знак власти и судьбы, ты будешь обладать огромной властью, куда большей, чем твой отец, ты будешь человеком, которому будут подчиняться, которому будут поклоняться. Ты будешь смело смотреть в будущее, так как сможешь творить его собственными руками. Ты будешь иметь все, мир будет принадлежать тебе. Но до той поры, когда ты подрастешь, этот знак судьбы должен стать нашей тайной. Никто не должен знать о нем, о том, что я принесла его тебе. Если люди узнают о твоем высоком предназначении, они наверняка убьют тебя, перережут тебе глотку, вырвут тебе сердце, закопают тебя глубоко в землю. Наследник высокого престола, земной Бог должен до поры до времени оставаться в тени. У тебя нет другого выхода, если ты хочешь достичь вершины власти. Тайна. Пусть это будет нашей тайной. Я — змея, пожирающая сама себя, я исчезну в самой себе, и никто не узнает о послании, которое я принесла тебе. Доверяй только этому индейцу, больше никому». Никому. Никогда. Томми упал в обморок на краю бассейна и пролежал в постели два дня. Врач не мог понять, что случилось с ребенком. Ни высокой температуры, ни воспаленных гланд, ни тошноты, ни ломоты в суставах, вообще не было никакой боли, никаких жалоб. Ребенка охватил какой-то странный недуг, ослабивший его до такой степени, что он не мог удержать в руках даже книгу, не мог смотреть телевизор. У мальчика пропал аппетит. Он спал по четырнадцать часов в сутки, а когда не спал, был в полузабытьи. «Возможно, небольшой солнечный удар, — сказал доктор, — если он не оправится за два дня, мы заберем его в больницу для обследования». В то время, когда отец находился в суде или встречался с адвокатами, а мать Тома была в клубе или на одном из благотворительных обедов, индеец незаметно проскальзывал в дом и проводил у постели мальчика минут по десять-пятнадцать. Он что-то нашептывал Томми своим мягким, удивительно ритмичным голосом. Мисс Карваль, прислуга и нянька Тома, конечно, знала, что ни миссис Шаддэк, ни судья не одобрили бы этих ежедневных свиданий индейца с мальчиком. Но у мисс Карваль было доброе сердце, и ей было не по нраву холодное отношение четы Шаддэков к собственному сыну. Кроме того, ей нравился Бегущий Олень. Она закрывала глаза на его визиты к мальчику, так как не видела в них ничего дурного. Она только попросила, чтобы Томми не проболтался родителям о том, что он проводит время с индейцем. Как раз тогда, когда ребенка уже собирались класть в больницу, он выздоровел, и солнечный удар был оставлен в качестве диагноза. С тех пор Томми не расставался с индейцем ни на минуту все то время, пока родителей не было дома. Когда мальчик начал ходить в школу, он прибегал домой сразу же после уроков; от приглашений своих товарищей прийти к ним в гости и поиграть он отказывался: ему было гораздо интереснее провести пару часов с индейцем до того времени, когда родители возвратятся домой. Неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом индеец приручал Томми, учил его разбираться в приметах, которые на разные лады предсказывали мальчику великое будущее. Цветы клевера с розеткой из четырех листьев под окном спальни Томми. Дохлая крыса, плавающая в бассейне. Хор пиликающих сверчков из-под письменного стола Томми, когда он однажды вернулся из школы. Несколько раз в его вещах неожиданно появлялись монеты: он то находил по одному пенни в каждом из своих башмаков, то в карманах брюк оказывались десятицентовики, а однажды в яблоке, которое Бегущий Олень очистил для него, оказался целый серебряный доллар. Индеец рассматривал монеты с благоговейным трепетом, считая их появление одной из самых важных примет. — Об этом — молчок, — заговорщически прошептал индеец, когда в ночь перед девятой годовщиной Томми услышал у себя под окном тихий звон колокольчиков и сказал наутро об этом индейцу. На рассвете того же дня он увидел, как на поляне перед его окном горит свеча, но когда он тихо, чтобы не разбудить родителей, выбрался из дома, то свечи уже не было на прежнем месте. — Всегда храни молчание об этих приметах, иначе люди догадаются, что Провидение благоволит к тебе, поймут, что ты будешь властвовать над ними, и убьют тебя, пока ты еще ребенок, пока ты еще слаб и беззащитен. — Кто эти люди? — Люди, все, кто живет вокруг тебя, — загадочно пояснял Бегущий Олень. — Кто, например? — К примеру, твой отец. — Не может быть. — Да-да, именно он, — шептал индеец, — он же обладает властью. Ему нравится властвовать над другими, нравится, что его все боятся, что ему все покоряются. Ты же видишь, как люди кланяются ему, пресмыкаются перед ним. Томми действительно отмечал про себя подобострастие, с которым люди всегда обращались к его отцу. Особенно этим отличались друзья отца по местному политическому клубу. Пару раз Томми видел, какими выразительными и, наверное, более искренними взглядами обменивались эти люди за спиной отца. Они восхищались, даже преклонялись перед отцом, но за глаза боялись его и презирали. — Твоему отцу нужна вся власть без остатка, он не поделится ею ни с кем, даже со своим собственным сыном. Если он узнает, что тебе уготована огромная власть, большая, чем досталась ему… никто не сможет тебя спасти. Даже я не смогу. Будь семейная жизнь Шаддэков хоть чуть-чуть душевнее, теплее, может быть, Томми стал бы возражать индейцу, стал бы защищать своего отца. Но отец говорил с сыном всегда свысока, он никогда не был ласков с ним, поэтому Томми было просто неведомо, что такое отцовская нежность. Время от времени индеец приносил для мальчика сладкие гостинцы. Он называл их «леденцами из сока кактуса». В бумажке всегда было два кусочка; каждый из них брал по одному, и они наслаждались угощением, сидя во внутреннем дворике во время обеденного перерыва у индейца или прогуливаясь по усадьбе вокруг дома. Вскоре после того, как леденец растворялся во рту, мальчиком овладевало странное ощущение. Он чувствовал необычайную радость. Он не шел. Он летел. Цвета вокруг становились гораздо ярче, приятнее. Индеец тоже преображался на глазах. Его волосы становились угольно-черными, кожа приобретала бронзовый блеск, зубы начинали сверкать белизной, в глазах появлялась беспросветная темнота. Всякий звук — стрекот кузнечиков, шум самолетов, заходящих на посадку в аэропорт Феникса, жужжание насоса возле бассейна — все превращалось в музыку; мир переполнялся звуками, но все мелодии лишь вторили голосу Бегущего Оленя. Все запахи становились резче: цветы, скошенная трава, машинное масло начинали благоухать. Даже запах пота от тела индейца казался приятным. Тело Бегущего Оленя пахло свежеиспеченным хлебом, сеном. Томми мало что запоминал из речей, произнесенных индейцем в эти моменты, но отдельные места из монологов Бегущего Оленя врезались в память, словно индеец вколачивал их в детское сознание. Речь шла большей частью о примете, связанной с появлением силуэта ястреба на фоне лунного диска. «Если великие боги пошлют тебе знак лунного ястреба, знай, что тебя ждет огромная власть, ты будешь выше всех людей на свете. Ты будешь непобедим. Непобедим! Но помни, тот, кто увидит этот знак на небе, должен доказать, что он достоин великой участи, великие духи будут ждать от тебя доказательств». Эти слова отпечатались в мозгу Томми навсегда. Обычно спустя примерно час после этих бесед Томми приходил в себя и шел в свою комнату отдохнуть. В такие дни его сны были необычайно красочны, наполнены плещущей через край жизнью, и в них всегда присутствовал Бегущий Олень. Сны и пугали и успокаивали одновременно. Однажды в дождливый субботний день ноября, в тот год, когда Томми исполнилось десять лет, он сидел за верстаком, стоявшим в углу их большого гаража на четыре машины. Он наблюдал, как индеец чинит электрический нож, которым судья пользовался раз в год, чтобы разделать индейку для рождественского ужина. В воздухе была приятная прохлада и сырость, очень необычная для тех широт, где расположен Феникс. Индеец и Томми поговорили о дожде, о приближающихся праздниках, о школьных делах Томми. Приметы и их роль в человеческой судьбе, конечно же, не были единственной темой их разговоров, и за это Томми любил индейца. Бегущий Олень был, кроме всего прочего, очень благодарным слушателем. Индеец закончил ремонт электрического ножа и включил его в сеть. Нажал на выключатель. Лезвие задвигалось взад-вперед с такой скоростью, что край его стал неразличим для глаз. Томми зааплодировал. — Видишь? — спросил индеец, подняв нож повыше. Он повернул его лезвием к свету, лившемуся от ламп под потолком. Яркие отблески полетели от движущегося с огромной скоростью лезвия, оно словно резало свет на мелкие кусочки. — Что я должен увидеть? — спросил Томми. — Нож, Маленький Вождь. Это — машина. Простенькая, но все же машина. Конечно, не такая сложная, как автомобиль, самолет, электрическая инвалидная коляска. Ты знаешь, кстати, что мой брат… он парализован… он вынужден постоянно пользоваться такой коляской. Ты знал об этом, Маленький Вождь? — Нет. — Один из моих братьев умер, второй — парализован. — Бедняга. — Вообще-то, он мне не родной брат, а двоюродный, но другого у меня нет. — Как это случилось? Почему? Индеец словно не слышал вопроса. — Этим ножом режут индеек, их можно прирезать и простым ножом, но человек изобрел для своего удобства вот эту хитрую штуку. Скажу тебе, что вообще все машины устроены хитрее и умнее, чем сам человек. Индеец слегка опустил нож и повернулся к Томми. Он держал перед собой стрекочущее лезвие и смотрел поверх него в глаза Томми. Мальчик почувствовал, что впадает в состояние, напоминающее то, в котором он находился, когда съедал сладости, изготовленные из сока кактуса. — Белый человек верит в могущество машин, — заговорил индеец, — он считает, что машины надежнее и умнее человека. Если ты действительно хочешь преуспеть в мире белых людей, Маленький Вождь, ты должен стать почти таким же, как машина. Ты должен стать неутомимым и сильным, как машина. Ты должен неумолимо идти к своей цели, не позволяя никаким чувствам и желаниям отвлекать тебя от ее достижения. Индеец медленно приблизил жужжащее лезвие к лицу Томми, мальчик не мог оторвать глаз от сверкающего металла. — Вот этим лезвием я мог бы отрезать твой нос, вырезать тебе губы, отрезать скулы и уши… Томми хотел соскользнуть со стула и броситься бежать. Он не мог сдвинуться с места. Он почувствовал, что индеец сжал его руку в своей руке. Но даже если бы никто его не удерживал, он все равно не смог бы убежать. Он был парализован. И не только страхом. Что-то странно манящее было в этих страшных минутах: угроза смерти вызывала в нем удивительное чувство… возбуждения. — …я мог бы вырезать круг на твоей голове, снять с тебя скальп, обнажить твой череп. Ты умер бы от потери крови или от другой причины, но… Лезвие было уже меньше чем в двух дюймах от кончика носа Томми. — …но машина продолжала бы работать… Остался один дюйм. — …нож продолжал бы жужжать и резать… Осталось полдюйма. — …потому что машины не умирают. Томми уже чувствовал легкий-легкий ветерок от движущегося лезвия. — …машины неутомимы и надежны. Если ты хочешь чего-нибудь достичь в мире белых людей, Маленький Вождь, ты должен стать таким же, как машина. Индеец выключил нож. Положил его на верстак. Томми сидел недвижим, как камень. Наклонившись к нему, индеец сказал: — Если ты хочешь стать великим, если ты хочешь понравиться великим духам, если ты хочешь исполнить их волю, когда они пошлют тебе знак лунного ястреба, тогда тебе надо стать решительным, неутомимым, холодным, расчетливым, непреклонным — словом, таким, как машина. После этого случая, чаще всего в те моменты, когда они вместе делили сладкую, одурманивающую трапезу, они часто говорили о надежности и неутомимости машин. Томми рос и мужал, но в его снах чаще появлялись не сексуальные образы, а лунный ястреб и еще какие-то загадочные люди, у которых внутри было полно транзисторов, проводов и переключателей. Томми исполнилось уже двенадцать лет. На дворе стояло лето. В один из жарких дней мальчик узнал, что случилось с двоюродными братьями его друга-индейца. По крайней мере, он узнал кое-что из их жизни. Остальное он дорисовал в своем воображении. В тот день индеец и он сидели во внутреннем дворике, завтракали и любовались радугой, которая то возникала, то пропадала в брызгах фонтанчиков, орошавших водой лужайку перед домом. Томми до этого несколько раз спрашивал о судьбе братьев индейца, но никогда не получал ответа. На этот раз Бегущий Олень, взглянув на видневшиеся вдали туманные вершины гор, сказал сам: — Я открою тебе мой секрет. — Я слушаю. — Этот секрет, так же как и знаки, подаренные тебе судьбой, надо хранить от всех в тайне. — Обещаю. — Тогда слушай. Несколько молодых людей, вчерашних школьников, напились допьяна и отправились гулять. Может быть, они искали женщин, может быть, просто приключений. Случайно на автостоянке они встретились с моими братьями. Жена одного из братьев тоже была там. Подвыпившие белые люди начали издеваться над индейцами, начали приставать к жене моего брата. Они вбили себе в голову, что она должна непременно пойти с ними. Началась драка. Их было пятеро против двоих индейцев. Они забили одного из них насмерть железными прутьями. Второй брат остался инвалидом на всю жизнь. Жену брата они увели с собой и изнасиловали. Томми потерял дар речи после этого откровения индейца. Через несколько минут, справившись с собой, он произнес: — Я ненавижу белых людей. Индеец улыбнулся. — Я говорю серьезно, — настаивал Томми, — А что потом было с этими парнями? Их посадили в тюрьму? — Нет, о чем ты говоришь? — Индеец рассмеялся прямо в лицо Томми. Смех был очень горький. — У них родители — очень важные персоны. У них у всех — мешки денег. Они все могут. Судья просто отпустил их детишек «за недостаточностью улик». — Если бы их судил мой отец, он бы точно посадил их в тюрьму. — Думаешь? — ехидно спросил индеец. — Он бы ни за что их не отпустил. — Уверен? Томми замялся. — Ну да… я уверен. Индеец молчал. — Я ненавижу белых людей, — повторил Томми, желая скорее угодить индейцу, а не выразить то, что было у него на душе. Индеец снова рассмеялся и потрепал Томми по плечу. Лето кончалось. Однажды в августе на закате душного дня индеец подошел к Томми и прошептал торжественным и зловещим голосом: — Сегодня в небе взойдет полная луна, Маленький Вождь. Вечером ты пойдешь на задний двор и будешь смотреть на нее. Мне кажется, что именно сегодня перед твоим взором появится наконец тот самый знак, самый важный из всех знаков. Стемнело, в небе взошла полная луна. Томми вышел во двор и встал на краю бассейна, на том самом месте, с которого он семь лет назад увидел змею, пожирающую собственный хвост. Он долго смотрел на луну, в воде красовался овальный желтый диск ее отражения. Луна была идеально круглой, она висела низко над землей и казалась огромной. Вскоре во внутренний двор вышел судья. Он позвал Томми, тот ответил, но не сразу: — Я здесь. Судья встал рядом с ним на край бассейна. — Что ты здесь делаешь, Томми? — Жду. — Чего ты ждешь? Именно в этот момент Томми увидел ястреба на фоне лунного диска. На протяжении многих лет он слышал о том, что однажды увидит это зрелище, он был готов его воспринять, он понимал, что это означает для него. И вот — свершилось — ястреб застыл в своем полете на желтом круге луны. — Он там! — закричал Томми, забыв в это мгновение о том, что нельзя доверять тайну знаков судьбы никому, кроме индейца. — Что там? — не понял судья. — Разве ты не видишь? — Это просто луна. — Ты плохо посмотрел, ты не увидел это. — Что «это»? Непонимание отцом важной приметы только еще раз убедило Томми в его собственной исключительности и в том, что этот знак судьбы был послан именно ему. В этот момент он вспомнил о предупреждении индейца. Он быстро нашел выход из положения: — Я видел только что… падающую звезду. — Так ты стоишь здесь, чтобы понаблюдать за падающими звездами? — Это метеориты, — затараторил мальчик, — видишь ли, сегодня ночью Земля должна пройти через метеоритный пояс, так что их должно быть много. — С каких это пор ты стал увлекаться астрономией? — Я вовсе и не увлекаюсь ею, — пожал плечами Томми, — я просто хотел посмотреть, как это выглядит. Оказалось, довольно невыразительно. Томми повернулся и пошел к дому. Судья отправился вслед за ним. На следующий день, в среду, мальчик рассказал индейцу о знаке лунного ястреба, увиденном им накануне. — Вот только я не получил никакого послания от великих духов. Я не знаю, каких доказательств они хотят от меня. Индеец в ответ улыбнулся и долго, мучительно долго молчал. Затем произнес: — Маленький Вождь, поговорим об этом во время обеденного перерыва. По средам мисс Карваль не приходила, и Томми с индейцем были в доме одни. Они сели во внутреннем дворе дома. У индейца ничего с собой не было на обед, он принес только леденцы из сока кактуса. Томми такое угощение вполне устраивало. Уже давно мальчик полюбил эти леденцы, но не за их вкус, а за действие, которое они оказывали на него. За долгие годы он так пристрастился к этой сладости, что уже не мог без нее обходиться. Вскоре Томми оказался в уже ставшем для него привычным состоянии наркотического опьянения, краски дня сразу стали ярче, а звуки — отчетливей. Он ощущал восхитительные запахи природы, мир, казалось, раскрылся перед ним во всей своей красоте. Они проговорили с индейцем около часа, и после этой беседы Томми понял, чего хотят от него великие духи, — они хотели, чтобы он через четыре дня, в воскресенье, убил своего отца. — В воскресенье у меня, как обычно, будет выходной, — сказал Бегущий Олень, — поэтому я, к сожалению, не смогу поддержать тебя в эти мгновения. Но ведь именно этого и хотят от тебя великие духи — они хотят, чтобы ты смог доказать свое право на власть в одиночку, безо всякой поддержки. Но у нас, к счастью, есть еще несколько дней на подготовку, так что в воскресенье ты будешь чувствовать себя во всеоружии. — Да, конечно, — ответил в полусне Томми, — конечно, мы все подготовим. Вечером этого дня отец Томми пришел позже обычного, так как после заседаний в суде встречался со своими коллегами по политической деятельности. Жалуясь на ужасную жару, он сразу прошел к себе наверх, чтобы принять душ. Мать Томми пришла на полчаса раньше, чем отец. Она сидела в кресле в гостиной, положив ноги на низкую подставку, и читала последний выпуск журнала «Город и деревня». Миссис Шаддэк потягивала из бокала то, что она называла «маленьким коктейлем перед ужином». Она даже не подняла головы, когда муж крикнул ей сверху, что он пришел домой. Как только отец поднялся к себе, Томми пошел на кухню и достал из ящика стола остро отточенный нож, которым изредка пользовался мясник, приходивший к ним для разделки туш. Индеец в это время работал в саду, косил траву на газоне. Томми прошел в гостиную, подошел к матери и поцеловал ее в щеку. Она была удивлена таким знаком внимания со стороны сына, но еще больше ее удивил нож в его руке. Он ударил ее этим ножом в грудь — три раза. Потом поднялся с окровавленным ножом в руках наверх и вонзил его в грудь своего отца, когда тот выходил из душа. После этого Томми пошел к себе и снял с себя одежду и ботинки. На ботинках крови почти не было, несколько пятен было на джинсах, рубашка же была вся залита кровью. Он наскоро умылся, смыл с себя следы крови и переоделся. Потом аккуратно завернул окровавленную одежду в полотенце и отнес ее в кладовку, он собирался убрать ее из дома позднее. Спустившись вниз, он даже не посмотрел в ту сторону, где лежало на полу тело его матери. Он прошел прямо в кабинет отца и достал из ящика револьвер. В кухне Томми выключил свет, вечерний закат еще освещал часть кухни, но в углах было темно. Нож он положил на холодильник, стоявший в углу. Револьвер Томми пристроил на сиденье стула, стул слегка задвинул под стол, так, чтобы оружия не было видно, но его легко можно было бы достать в любой момент. Затем Томми вышел во двор и позвал индейца. Тот не услышал его крика из-за шума газонокосилки, но, случайно взглянув на дом, увидел, что мальчик машет ему рукой. Он выключил мотор и с удивлением на лице подошел к дому. — Что случилось, Томас? — спросил он; индеец знал, что и судья, и миссис Шаддэк уже были дома. — Мать зовет тебя, она хочет, чтобы ты ей в чем-то помог, — объяснил Томми. — Она попросила, чтобы я тебя разыскал. — Ей нужна моя помощь? — Да. Она сейчас в гостиной. — А что случилось? — Ну, она хочет, чтобы ты помог ей… она тебе скажет, это долго объяснять. Индеец пошел вслед за Томми на кухню, они прошли мимо холодильника, направляясь к двери в гостиную. На пороге Томми резко остановился, повернулся к индейцу и сказал: — Чуть не забыл, мать сказала, что тебе понадобится нож, возьми вот этот, на холодильнике. Индеец обернулся, увидел на холодильнике нож и взял его в руку. Глаза его расширились от ужаса. — Маленький Вождь, на этом ноже кровь. Здесь кровь… Томми к этому моменту уже схватил револьвер со стула. Когда индеец обернулся к нему, он, держа револьвер обеими руками, нажал на спусковой крючок и не отпускал его до тех пор, пока не кончились патроны. Отдача была настолько сильной, что он едва удержался на ногах. По крайней мере два выстрела достигли цели, а одна из пуль попала индейцу в горло. Индеец рухнул на месте. Нож выпал у него из руки иотлетел в сторону. Ботинком Томми подтолкнул нож поближе к телу индейца. Томми понял послание великих духов совсем иначе, нежели его наставник. Великие духи хотели, чтобы он освободил себя от всех, кто имел хоть малейшую власть над ним, он должен был освободиться от отца, от матери, от индейца. Только тогда он сможет выполнить свое великое предназначение — стать властелином над людьми. Он просчитал все три убийства с расчетливостью компьютера и привел свой план в исполнение хладнокровно и аккуратно. Он не чувствовал никаких угрызений совести. Никакие переживания не мешали ему осуществлять дьявольский замысел. Он лишь слегка трусил и был чуть-чуть возбужден, но в то же время чувствовал как бы душевный подъем, однако эти отголоски чувств не отвлекали его от дела. Томми оглядел тело индейца, затем подошел к телефону, набрал номер полиции и, срываясь в истерику, рассказал, что их слуга-индеец из чувства мести только что убил его отца и мать и он, Томми, минуту назад застрелил индейца из отцовского револьвера. Он нарочно говорил так, чтобы сначала никто не смог бы понять его, он бился в истерике, и из него приходилось вытягивать каждое слово. В течение нескольких минут полицейские пытались успокоить его, чтобы получить от» него адрес места трагедии. Он готовил эту сцену в течение дня и очень старался. Ему теперь было даже приятно, что у него получается так убедительно. Затем Томми вышел из дома и сел на землю у входа. Он рыдал все время до приезда полиции. Плач у него получался даже лучше, чем истерика. От плача ему становилось легче. Ястреба на фоне лунного диска он видел еще два раза в течение своей жизни. Он видел этот знак тогда, когда он хотел его видеть, когда он нуждался в поддержке великих духов, когда ему надо было знать, идет ли он по правильному пути. Больше он никогда никого не убивал: в этом просто не было необходимости. Его бабушка и дедушка со стороны матери взяли мальчика к себе — он стал жить в другом районе Феникса. Его новая семья не отказывала ему ни в чем, они словно боялись, что после пережитой трагедии любой отказ будет воспринят им особенно остро, доставив ему новые страдания. Он был единственным наследником своего отца, к этому добавлялись солидные суммы страховок его родителей. Ему было обеспечено отличное образование, у него имелся большой стартовый капитал, чтобы начать свое дело после окончания университета. Перед ним открывались неограниченные возможности. И благодаря Бегущему Оленю он еще имел преимущество перед другими в том, что касается знания примет, указывающих на его великое предназначение. Он знал, что ему предсказана огромная власть над людьми. Только сумасшедшие убивают без необходимости. Но за редким исключением убийство является не самым эффективным способом решения проблемы. Сейчас, свернувшись на заднем сиденье своего автомобиля, Шаддэк снова вспомнил, что он баловень судьбы и ему не случайно было дано увидеть три раза великий знак — ястреба на фоне лунного диска. Он выкинул из головы все свои страхи перед Ломеном Уоткинсом и все свои сомнения относительно своего проекта. Он зевнул и погрузился в сон. Ему снился все тот же сон. Огромная машина. Наполовину металлическая, наполовину — из живой человеческой плоти. Раздавался мерный перестук поршней. Человеческие сердца-насосы без устали перекачивали кровь — топливо для гигантского механизма. Кровь и топливо, металл и кости, пластмасса и мышцы, провода и нервы.Глава 66
Крисси никогда раньше не думала, что священники так много едят. Стол на кухне пастора ломился от еды: на нем стояло огромное блюдо с жареной колбасой, яичница, гора бутербродов, упаковка булок с корицей, булки с джемом, кастрюля с картофелем, фрукты и большой кофейник с какао, а также молоко. Конечно, отец Кастелли был крупным мужчиной, но Крисси всегда считала, что священники воздерживаются от излишеств и отказывают себе во всем, что касается еды и питья, точно так же как они отказываются от женитьбы. Если пастор за каждой едой съедает столько, сколько он съел сейчас, то он должен весить в два раза больше, быть в два раза толще. Куда там, он должен весить в три раза больше! За завтраком Крисси рассказывала пастору о пришельцах, взявших под свой контроль ее родителей. Зная предрасположенность отца Кастелли к объяснению всех причин через духовные понятия и чтобы его заинтриговать, Крисси все время напирала на то, что душами ее родителей овладел дьявол, хотя ей больше была по душе версия о нашествии космических пришельцев. Она пересказала пастору все, что она видела вчера утром у себя дома, описала свое заточение в кладовке, поведала о погоне, которую устроили за ней Такер и ее родители, превратившиеся в неведомых существ. Священник время от времени реагировал на ее рассказ возгласами удивления и обеспокоенности и несколько раз требовал от Крисси подробностей. При всем при этом он ни разу не прервал своей трапезы. Он поглощал еду с таким аппетитом, что это поневоле производило отталкивающее впечатление. Крисси была поражена не только его обжорством, но и формой, в которой это обжорство выражалось. Пару раз яичный желток попал ему на подбородок, и, когда Крисси набралась храбрости, чтобы указать ему в вежливой форме на его упущение, он пошутил и стер желток салфеткой. Но минутой позже желток снова оказался у него на подбородке. Скатерть возле тарелки пастора была вся усыпана крошками, крошки усеивали также весь перед его рубашки… Крисси уже начала подозревать, что пастор обречен на Божью кару, так же как обречен на нее всякий, кто предается греху чревоугодия. Но она вовсе не изменила своего отношения к отцу Кастелли, она, наоборот, прониклась к нему уважением за то, что он ни разу не усомнился в достоверности ее рассказа. Он слушал ее с интересом и крайне внимательно, он выражал свое беспокойство, и в его возгласах иногда даже проскальзывал страх. — Крисси, я тебе скажу так. О пришельцах сняты, наверное, тысячи фильмов, написаны десятки тысяч книг, и я всегда считал, что эти книги и фильмы — плод человеческого воображения, а значит, Бог вложил эти фантазии в человека. Так что, почему бы и нет? Разве может кто-нибудь утверждать, что эти пришельцы ни в коем случае не могли приземлиться в нашем городе? Я всегда смотрел фильмы про пришельцев, мне они очень нравились, но, признаюсь тебе, я никогда не думал, что могу сам оказаться в ситуации, которую видел в кино. — Отец Кастелли говорил совершенно искренне, он относился к Крисси как к равной. Пастор еще продолжал поглощать пищу с неослабевающим аппетитом, а Крисси уже отставила тарелку и закончила свой рассказ. На кухне было тепло, она быстро согрелась и обсохла, только ее туфли оставались мокрыми. Крисси почувствовала большое воодушевление, когда нашла наконец понимание и поддержку. — Так что мы будем делать, святой отец? Наверное, нам надо звонить и вызывать войска, как вы думаете? — Да, наверное, надо вызывать войска и еще — морскую пехоту, — сказал пастор, помолчав. — В таких делах морская пехота может быть эффективней. — Вы думаете… — Что, милая моя? — Вы думаете, у нас есть какой-нибудь шанс… хоть крошечный шанс спасти моих родителей? Ну, чтобы они стали такими, как прежде? Пастор положил булочку, которую уже собирался проглотить, и, протянув освободившуюся руку через стол, взял Крисси за руку. Ладонь у пастора была вымазана в масле, но девочка восприняла этот жест одобрения с благодарностью, ей очень нужна была поддержка в эти минуты. — Конечно же, ты снова обретешь своих родителей. — Отец Кастелли говорил с чувством. — Можешь мне верить — так и будет. Крисси прикусила губу, чтобы не расплакаться. — Так и будет, — повторил пастор. Неожиданно его лицо стало меняться, надуваться. Но не так, как надувается воздушный шарик: на лице вздувались лишь отдельные части, под кожей словно ходили желваки, оно все пульсировало. — Так и будет! Крисси была в шоке и не могла даже крикнуть от ужаса. Она не могла сдвинуться с места. Страх сковал ее, заморозил так, что она не могла ни моргнуть, ни перевести дыхание. Она даже слышала, как скрипели, смещаясь, кости, плоть словно расплавлялась, чтобы через минуту принять новую форму. Этот процесс сопровождался отвратительными чавкающими звуками. Голова пастора совершенно изменила свою форму, частично сместившись назад, в этой голове уже мало что напоминало человека, это была голова моллюска, неизвестного насекомого, в ней было также что-то от шакала, глаза сверкали яростью, налились кровью. Крик наконец вырвался из груди Крисси: — Нет! — Сердце билось как сумасшедшее. — Нет-нет, убери руки, отстань, пусти меня! Рот пастора стал широким, губы растянулись до ушей, во рту виднелись два ряда устрашающих зубов, огромная пасть словно усмехалась. — Нет, нет! — Крисси попыталась подняться на ноги. Пастор продолжал удерживать ее за левую руку. Его голос стал похож на тот, которым переговаривались между собой Такер и ее родители, преследуя Крисси вчера вечером. — …жажда, жажда… хочу… дай мне… дай… жажда… Пастор, правда, выглядел совсем иначе, нежели ее родители, но пришельцам вовсе и необязательно быть похожими. Существо, сидящее напротив, раскрыло пасть, и Крисси с ужасом увидела, что с верхних зубов чудовища свешиваются нити тягучей, желтоватого цвета слюны. В глубине рта плясало нечто, отдаленно напоминающее язык, но больше похожее на чертика на пружинке, выскочившего из табакерки. Казалось, внутри одной пасти существует вторая, меньшего размера, но с не менее острыми и устрашающими зубами. Отец Кастелли начинал напоминать какое-то странно знакомое существо — что-то вроде чудовища из фильма «Пришельцы». Он не был его точной копией, но явно напоминал этот персонаж. Крисси как будто попала из реальной жизни в фильм ужасов, несомненно, именно такие фильмы любил пастор. Может быть, пастор принял именно ту форму, какую хотел? Может быть, он хотел предстать перед Крисси именно в образе чудовища из космоса, чтобы поддержать версию о нашествии пришельцев на город? Это было похоже на дурной сон. Тело пастора также принимало другую форму — это было заметно по одежде. В некоторых местах рубашка обвисла — плоть под ней, видимо, расплавилась и переместилась в другое место, в других местах, наоборот, натянулась, вероятно, там возникли формы, несвойственные человеческому телу. Часть пуговиц отлетела, не выдержав давления. Лопались швы, воротник рубашки оторвался и упал на деформированную грудь существа. Крисси задыхалась, из ее горла вырывался непрерывный истеричный крик, она безуспешно пыталась освободиться от мертвой хватки чудовища. Ей удалось встать на ноги, отшвырнуть стул в сторону, но вырваться она не могла. Его пальцы словно приклеились к ее руке. Руки пастора тоже, в свою очередь, начали меняться. Пальцы удлинились, на концах у них появилось нечто вроде когтей. — …жажда… хочу, хочу… жажда… Правой рукой Крисси схватила со стола кухонный нож, размахнулась и со всей силой опустила его на руку пастора, в то место, где она еще сохраняла человеческую форму. Крисси надеялась, что нож пригвоздит руку к деревянной поверхности стола, но лезвие пронзило лишь плоть чудовища. Вопль пастора был столь оглушительным и резким, что казалось, в окне задрожали стекла. Чудовищная рука хищника разжалась. Крисси была свободна. К счастью, ей вовремя удалось отдернуть руку, так как через мгновение его лапа вновь попыталась схватить ее, но лишь скользнула по кончикам пальцев. Дверь-, ведущая из кухни, была позади пастора. Через нее нельзя было пройти, не повернувшись к нему спиной. С криком ярости и стоном пастор выдернул нож из раны и отбросил его в сторону. Своей чудовищно изменившейся рукой он сбросил тарелки с остатками еды. Рука продолжала удлиняться, на ней стал появляться чешуйчатый покров, напоминающий панцирь насекомого. «Пресвятая Мария, Матерь Божья, помолись за меня, Пречистая Матерь, помоги, непорочная, замолви за меня слово, прошу тебя», — молила Крисси. Пастор схватил стол за край и отшвырнул его в сторону, словно он ничего не весил. Стол разлетелся в куски, ударившись о холодильник. Теперь ничто не отделяло Крисси от пастора. От существа, которое когда-то было пастором. Крисси попробовала сделать пару шагов к двери. Существо сразу же метнулось в сторону, преграждая ей путь. Крисси повернула в другом направлении, как бы намереваясь прорваться к окну. Обман удался — когда она снова ринулась к двери, чудовище уже не могло дотянуться до нее своими длинными лапами. «Вероятно, бегает он быстро, — сообразила Крисси. — Быстрее, чем я». Она слышала за спиной топот его ног. Только бы добежать до двери, ведущей из дома, только бы вырваться на улицу. Возможно, там она будет в безопасности. Крисси полагала, что это существо не станет преследовать ее на виду у всех. Наверняка еще не все жители города попали под влияние пришельцев, и он не осмелится показаться в таком виде, не осмелится напасть на нее. Ей бы только добраться до двери и сделать еще пару шагов. Она пробежала уже две трети пути, она уже ждала, что вот-вот когти разорвут сзади ее рубашку, но в этот момент дверь открылась и на пороге возник второй священник, отец О'Брайен. Он шагнул в дом и застыл в изумлении. Крисси сразу же поняла, что и этому священнику нельзя доверять. Живущий в доме, захваченном пришельцами, не мог не заразиться от них. Неважно, как это называть — зараза, влияние, контроль, — в любом случае отец О'Брайен был опасен. Нельзя было двигаться ни вперед, ни назад. Направо идти также было невозможно, так как там за гостиной наверняка был тупик — во всех смыслах этого слова. Нельзя было терять ни минуты. Крисси повернула к двери, ведущей на лестницу. Она стала быстро подниматься на второй этаж… Внизу хлопнула дверь. На повороте лестницы она услышала, как два священника бегут за ней. На верхней площадке имелось несколько дверей, ведущих в спальни. Крисси помчалась в конец коридора и влетела в одну из спален. В спальне стояла кровать, шкаф для белья, тумбочка, шкаф с книгами. На стене висело распятие. Крисси захлопнула за собой дверь, но запирать ее не стала, не было времени и не было смысла — ее все равно вышибут. Повторяя: «Мария, Матерь Божья, Мария, Матерь Божья», задыхаясь от бега, Крисси подбежала к окну, задернутому зелеными шторами. Она раздвинула шторы, в стекло хлестал дождь. Ее преследователи были уже в коридоре, и шаги глухо отдавались по всему дому. Крисси схватилась обеими руками за ручку на окне и попыталась поднять раму вверх. Рама не сдвинулась с места. Крисси крутила задвижку, но ничего не помогало. В коридоре хлопали дверьми, они проверяли все комнаты подряд. Возможно, раму покрасили и краска склеила створки окна, не исключено, что виновата была и сырая погода — дерево разбухло, и раму заклинило. Крисси отступила от окна. За спиной у нее с треском распахнулась дверь, и кто-то торжествующе завопил. Не оглядываясь назад, Крисси закрыла лицо руками и бросилась из окна. У нее в голове мелькнула мысль о смерти. Только бы внизу был газон. Если там внизу тротуар или железная ограда — это конец. Звон разбитого стекла еще не успел стихнуть у нее в ушах, как она оказалась на крыше крыльца всего в двух футах ниже окна. Это было действительно чудо. Она даже не обрезалась о стекло. Крисси, повторяя свою молитву, осторожно перебиралась к краю крыши. Мокрая черепица была скользкой. Вот уже она на краю. Девочка стала сползать вниз, держась за желоб для дождевой воды, который предательски прогибался под тяжестью ее тела. Крисси взглянула на окно, из которого она только что выпрыгнула. Из него уже выбиралось на крышу существо, напоминающее огромного волка. Крисси прыгнула вниз. Она приземлилась на садовую дорожку, больно ударившись левым боком, зубы лязгнули друг о друга с такой силой, что она едва не лишилась их. Она также сильно ушибла себе руку. Но времени на то, чтобы плакать от боли, не было. Крисси только застонала и, превозмогая боль, повернула от дома к выходу на улицу. Ей не повезло. Она попала на задний двор дома. С правой стороны была тыльная стена костела Девы Марии, с других сторон двор был окружен кирпичной оградой высотой футов в семь. Из-за этой стены и высоких деревьев, росших вдоль нее, Крисси не могла видеть соседних домов, а если она не видела соседей, то, значит, и они не могли видеть ее, даже выглянув из окна. Именно изолированностью этого двора от остального мира и можно было объяснить тот факт, что оборотень, выбравшийся из окна, собирался преследовать ее и дальше, хотя на улице было уже совсем светло. В какую-то секунду у нее возникла мысль — не вбежать ли обратно в дом, а затем выйти на улицу через парадный подъезд, но она сразу отбросила ее, спросив себя: «Разве это не безумие?» Звать на помощь тоже не было смысла. Ей не хватало воздуха даже для того, чтобы просто нормально дышать, не говоря уже о громком крике. Ей надо было просто держаться, чтобы не упасть в обморок. Но даже если она закричит, чтобы позвать на помощь, она не может быть уверена, что люди поймут, куда бежать. К тому времени, пока ее найдут, она уже будет разорвана в клочья или обращена в себе подобных по их обряду. Секунды, которые она потратит на крик, будут дорого ей стоить. Вместо того чтобы кричать, она, прихрамывая, побежала к стене, огораживающей двор. Она понимала, что ей, с ее поврежденной рукой, не забраться так высоко, но могло повезти, если найдется подходящее дерево, росшее у стены. Она залезла бы наверх по веткам и затем спрыгнула бы на улицу или в соседний двор. Сквозь шум дождя она расслышала, как позади рычит ее преследователь, и решила обернуться. Существо, напоминающее огромного волка, совсем недавно было отцом О'Брайеном; на нем висели лохмотья рубашки, другой одежды не было и в помине. Оно уже спускалось с края крыши. Вот наконец и подходящее дерево. В тот момент, когда она его увидела, Крисси заметила еще один путь для спасения — калитку в юго-западном углу стены. До этого она была не видна, так как ее загораживал кустарник. Теперь она его обогнула, и калитка оказалась прямо перед ней. Крисси набрала в легкие побольше воздуха и изо всех сил припустилась вперед. Подбежав к калитке, она откинула задвижку и выбежала в проход между двумя домами. Она сразу свернула влево от Оушн-авеню, по направлению к Якоби-стрит. Она бежала, не останавливаясь, почти до конца квартала, не решаясь обернуться назад. Когда она все же обернулась, то увидела, что ее никто не преследует. Итак, она дважды едва не угодила в лапы пришельцев, и оба раза ей удавалось спастись. Она знала, что в третий раз чуда может и не произойти.Глава 67
Около девяти утра, проспав всего четыре часа, Сэм Букер проснулся от звона посуды, раздававшегося из кухни. Он поднялся с дивана, протер заспанные глаза, надел ботинки, нацепил на плечо кобуру и спустился на первый этаж. Тесса Локленд тихо напевала какую-то мелодию и расставляла на сервировочном столике тарелки, чашки, ложки и ножи, готовя все для завтрака. — Доброе утро. — Она буквально просияла, когда Сэм вошел в кухню. — И что же в нем доброго? — спросил Сэм. — Ну хотя бы то, что за окнами шумит дождь, — ответила Тесса. — Я люблю дождь, люблю, когда в воздухе свежесть и чистота. — А меня дождливая погода всегда угнетает. — Разве плохо — сидеть на теплой, сухой, уютной кухне, когда за окном ливень? Сэм прикоснулся к своему подбородку — у него уже была порядочная щетина. — По-моему, здесь несколько душновато. — А вы не считаете, что у нас еще один повод для того, чтобы радоваться, — мы ведь остались в живых после этой кошмарной ночи. — Да, это радует. — Боже праведный! — Тесса поставила на столик тостер и подняла взгляд на Сэма. — У вас в ФБР все такие? — Какие? — Ну такие занудные. — Я себя к занудам не отношу. — У вас такое кислое выражение лица, что у меня во рту уже оскомина. — Просто жизнь состоит не из одних только радостей. — Разве? — В жизни есть трагедии, есть много обычной, черной работы. — Да, но разве в ней нет радостей, нет праздников? — У вас в кино все такие? — Какие? — Ну такие беспечные. — Я вовсе не беспечная. Вам показалось. — Точно? — Точно. — Мы заперты наглухо в городе, в котором нормальную жизнь как будто отменили навсегда, в котором людей разрывают на части какие-то неизвестные существа, в котором ночью по улицам бродят «призраки», в котором какой-то компьютерный гений сумел полностью извратить законы биологии человека. Кроме того, учтите, что у нас очень хорошие шансы быть убитыми или обращенными к полуночи. Я вхожу в кухню с этими мыслями в голове, и что же я слышу — вы насвистываете мелодию «Битлз» и сияете от счастья. — Это вовсе не мелодия «Битлз». — Да? — Это из «Роллинг стоунз». — Какая разница? Тесса вздохнула. — Послушайте, если вы хотите помочь мне съесть этот завтрак, помогите мне сначала его приготовить, а не стойте в дверях с сердитым лицом. — О'кей, что надо делать? — Во-первых, подойдите к интерфону и свяжитесь с Гарри, наверное, он уже не спит. Скажите, что завтрак будет готов… минут через сорок. На завтрак будут блинчики, яйца и жареная ветчина. Сэм нажал на кнопку интерфона и сказал: «Привет, Гарри». Гарри сразу же ответил, он уже проснулся. Гарри пообещал, что спустится вниз через полчаса. — Чем еще помочь? — спросил Сэм Тессу. — Достаньте из холодильника молоко и яйца, но только, ради Бога, ни в коем случае не открывайте упаковку. — Почему? Тесса засмеялась. — От вашего кислого лица прокиснет молоко. — Очень смешно. — Разве нет? Накрывая на стол, разбивая яйца в стеклянные тарелки, чтобы затем быстро приготовить для каждого яичницу на жаровне, давая указания Сэму, что откуда принести, нарезая лук и ветчину, Тесса не переставала напевать песни из репертуара Патти ла Белле и «Пойнтер Систерс». Сэм знал, что именно она поет, потому что Тесса все ему объясняла. Она объявляла название перед каждой песней подобно заправскому диск-жокею. В результате Сэм получил небольшой музыкальный урок. Тессе хотелось поднять ему настроение. Напевая, она пританцовывала, выделывая замысловатые телодвижения и прищелкивая в такт пальцами. Она просто жила этой музыкой. Тесса великолепно развлекала сама себя, но Сэм понимал, что она хочет и его увлечь этой музыкой, этим танцем. На душе у Сэма было тяжело, и он не мог избавиться от этой тяжести. Так что, когда Тесса улыбнулась ему, он не ответил на ее улыбку. Однако как чертовски хороша была эта женщина! Правда, у нее не было прически, она не пользовалась утром косметикой, на одежде виднелись мятые складки, но весь этот бесшабашный вид даже добавлял ей очарования. Время от времени она переставала петь, чтобы спросить о чем-нибудь Сэма, но начинала снова напевать и пританцовывать уже в тот момент, когда он еще продолжал отвечать на ее вопрос. — Так вы придумали, как нам выбраться из этой ловушки? — Есть одна мысль. — Патти ла Белле, «Новый стиль», — прервала она Сэма, назвав следующую песню. — Так что, эта ваша мысль? Это, наверное, большой-большой секрет? — Нет. Но мне прежде надо поговорить с Гарри, получить от него кое-какие сведения. Я вам расскажу за завтраком. По указанию Тессы Сэм в это время нарезал большой кусок чеддера тонкими ломтиками. Тесса вновь прервала пение и спросила: — Что вы имели в виду, когда говорили, что в жизни есть трагедии, есть много обычной, черной работы? — Просто так оно и есть. — Но в жизни есть немало поводов для веселья… — Нет. — …в жизни есть красота… — Нет… — …надежда… — Это только слова. — Это на самом деле существует. — Нет, этого нет. — Да. — Нет. — Почему у вас столько скепсиса? — Это мой взгляд на вещи. — Откуда у вас такой взгляд? — Что же вы ко мне так пристали? — «Пойнтер Систерс», «Нейтронный танец». — Тесса пропела отрывок из этой песни, пока выбрасывала скорлупу и очистки от лука в мусорное ведро. Затем она вновь оборвала мелодию и переспросила: — Так что же должно было случиться с вами, если вы теперь повсюду видите одни трагедии и черную работу? — Вам будет неинтересно слушать. — Нет, рассказывайте. Сэм закончил нарезать сыр и положил нож на стол. — Вы действительно хотите об этом знать? — На самом деле, рассказывайте. — Начать с того, что моя мать погибла в автомобильной катастрофе, когда мне было семь лет. Я сидел рядом с ней в машине, когда это случилось. После катастрофы меня не могли вытащить из машины в течение часа, и все это время я находился лицом к лицу со своей мертвой матерью, я видел перед собой ее разбитую голову и вытекший глаз. После этого я долго лежал в больнице, а выйдя оттуда, оказался в доме моего отца, с которым мать уже давно развелась. Это был настоящий сукин сын, он пил без просыпу, а когда был более или менее трезвым, колотил меня или привязывал к стулу на кухне и оставлял на много часов. Я уже не мог терпеть и справлял свою нужду прямо под себя. Тогда он приходил и бил меня уже за это. Сэм удивился, откуда у него нашлись эти слова, внутри словно рухнули какие-то барьеры, изливалось все то, что накопилось за долгие годы неослабевающего контроля над своими чувствами. — Так вот, когда я закончил школу, я ушел из отцовского дома, зарабатывал сам себе на жизнь и на продолжение учебы, снимал комнату, спал в комнате, кишащей тараканами. Наконец я добился чего хотел — пошел в ФБР, так как мне хотелось хоть где-нибудь, хоть редко, но видеть в жизни торжество справедливости, я хотел сам участвовать в ее установлении. Наверное, такое стремление было у меня по причине того, что сам я со справедливостью почти совсем не сталкивался. На работе я понял, что справедливость торжествует в лучшем случае в половине всех дел. Преступники в основном выходят сухими из воды, как бы ты ни старался; они в большинстве своем очень сообразительные ребята, а те, кто с ними борется, никогда не могут позволить себе неразборчивость в средствах борьбы, и в этом они сразу проигрывают перед преступниками, которые не гнушаются ничем. Кроме того, если ты — агент ФБР, то изо дня в день сталкиваешься с дном общества, с подонками, и от этого цинизм только прибавляется, ты уже перестаешь верить людям, доверять им. Сэм говорил быстро, он даже начал задыхаться. Тесса давно уже прервала свое пение. Он продолжал говорить, почти не следя за собой, не контролируя свои чувства. Его речь сливалась в одну бесконечную фразу. — Я женился. Карен была прекрасной женщиной, вы бы сразу с ней сошлись, если бы познакомились, ее все боготворили. Но она заболела, у нее обнаружили рак, она умирала очень тяжело, это было ужасно, страшнее, чем когда показывают это в фильмах, у нее была жуткая агония. Тогда же я потерял сына. Нет-нет, не подумайте плохого, он жив, ему сейчас шестнадцать, а было девять, когда умерла мать. Но он жив только физически и интеллектуально, эмоционально он мертв, он сжег свое сердце, у него внутри холод, ничего, кроме холода. Он без ума от компьютеров и телевидения, и еще он без конца слушает «блэк-метал». Вы знаете, что такое «блэк-метал»? Это музыка в стиле «тяжелый металл», к которой добавлен сатанизм. Моему сыну очень нравится сатанизм, так как он освобождает человека от всяких моральных обязательств, он говорит, что все относительно, что его отчужденность — это хорошо, что его эмоциональная холодность — это хорошо, что, если тебе хорошо, значит, все идет нормально. Вы знаете, что он мне однажды заявил? Тесса покачала головой. — Он мне сказал так: «Люди — это пыль. Люди в счет не идут. Вот вещи — это важно. Деньги — это важно. Ликер, который я пью, — это важно. Стереоплейер, который я слушаю, — это важно. Все, от чего я ловлю кайф, — важно. А сам я — ничего не значу». Он объясняет мне, что ядерные бомбы страшны только потому, что они могут уничтожить вещи, а не потому, что они могут уничтожить людей, — люди ведь, по его понятиям, это — пыль, люди — это грязные твари, которые только и делают, что портят все вокруг. Вот так он думает. Вот во что он верит. Он говорит, что может доказать мне в два счета, что он прав. Он говорит мне: «Посмотри, к примеру, на толпу людей, окруживших на автосалоне последнюю модель «Порше», посмотри на их лица. Они восхищаются машиной, они думают о машине, им наплевать на людей, наплевать друг на друга. Им наплевать на труд, вложенный в эту машину, им наплевать на людей, создавших этот автомобиль. Для них «Порше» существует как дар природы, он как бы вырос из земли сам собой. Им совсем неинтересно, как инженеры создавали эту машину, им неважно, как ее собирали рабочие. Для них живой является машина, она для них живее людей. Они питаются энергией от этой машины, от ее изящных линий, их возбуждает власть над ней, когда они садятся за руль. Поэтому машина становится для них куда важнее любого человека». — Это полный бред, — убежденно сказала Тесса. — Но я слышу это от своего сына, я знаю, что это чушь, я пытаюсь его переубедить, но у него есть на все готовый ответ, он считает, что ему уже все на свете известно. Иногда я задумываюсь над таким вопросом… если бы я был другим, если бы у меня была другая жизнь, может быть, тогда я мог бы привести какие-то другие, более убедительные аргументы? Может быть, тогда я смог бы спасти своего сына. Сэм замолчал. Он понял, что дрожит. Некоторое время на кухне стояла тишина. Затем Сэм произнес: — Вот поэтому я и говорю, что в жизни много трагедий и много черной работы. — Простите меня, Сэм. — В этом нет вашей вины. — И вашей тоже нет. Сэм завернул оставшийся сыр в пергамент и отнес его в холодильник. Тесса в это время готовила тесто для блинчиков. — Но ведь у вас была Карен, — сказала она, — в вашей жизни были и любовь, и красота. — Да, были. — Но тогда… — К сожалению, все это в прошлом. — Все на свете кончается. — Именно об этом я и говорю. — Но это же не значит, что мы не должны радоваться тому, что послала нам судьба. Если все время смотреть в будущее со страхом и ждать конца радостных дней, то никогда не удастся познать радость до конца. — Именно об этом я и говорю, — повторил Сэм. Тесса перестала мешать тесто и повернулась к Сэму. — Но здесь же и кроется ваша ошибка. Я хочу сказать, что в жизни есть много поводов для радости, для веселья, для удовольствий… но если мы не пользуемся этими поводами, если мы все время со страхом смотрим в будущее, то у нас не остается никакой памяти о радостных днях, никакой поддержки в трудные времена, у нас не остается надежды. Сэм слушал Тессу, любуясь ее красотой и жизнелюбием. Но вслед за этим его посетили мысли о том, как она будет выглядеть, когда состарится, заболеет, умрет, и после этих мыслей он уже не мог смотреть на нее. Он отвернулся и уставился в окно. — Извините, Тесса, я, кажется, расстроил вас. Но вы сами просили, чтобы я вам все рассказал. Вы же хотели знать, почему у меня такое кислое выражение лица. — О, от вас не только оскомина, — сказала Тесса, — вы пошли еще дальше — от такой кислоты сводит челюсти. Сэм слегка вздрогнул. Они вновь принялись за приготовление завтрака.Глава 68
Спасшись от священников-оборотней, Крисси то бежала, то шла пешком примерно в течение часа, на ходу обдумывая, куда ей теперь податься. Сначала она собиралась пойти в школу и рассказать все своей учительнице — миссис Токава. Но теперь, после неудачной попытки разговора с пастором, Крисси не решалась довериться и учительнице. Она предполагала, что пришельцы первым делом взяли под контроль тех, кто занимал хоть какую-нибудь официальную должность в городе. Со священниками все было ясно, полиция тоже наверняка уже в руках пришельцев, так что логично было предположить, что и школьные преподаватели пали жертвой инопланетян. Скитаясь по улицам, Крисси то проклинала дождливую погоду, то благодарила небо за дождь. Туфли, куртка и джинсы были мокрыми насквозь, и от холода ее трясло мелкой дрожью. Но при всем при этом радовало то, что люди сидели в такую погоду по домам и ей не приходилось каждую минуту прятаться. В добавление к дождю ветер принес с моря туман, правда, не такой густой, как предыдущей ночью, но он все же служил дополнительным укрытием для нее на улицах города. Гроза давно прошла, Крисси могла идти спокойно, не опасаясь молний, которых она всегда боялась. ЮНАЯ ОСОБА СОЖЖЕНА ЗАЖИВО УДАРОМ МОЛНИИ И СЪЕДЕНА ЗАТЕМ КРОВОЖАДНЫМИ ПРИШЕЛЬЦАМИ; ПОСЛАНЦАМ ИЗ КОСМОСА ПОНРАВИЛИСЬ ЖАРЕНЫЕ ЛОМТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЯСА; ОНИ ЗАЯВИЛИ: «НАМ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ОТРАБОТАТЬ НАИБОЛЕЕ УДОБНУЮ ФОРМУ РАЗДЕЛКИ НА ЛОМТИКИ И ПРОДУМАТЬ ВОПРОС, ДОБАВЛЯТЬ ЛИ К ЭТОМУ БЛЮДУ ЛУК». Крисси старалась двигаться по городу как можно быстрее, особенно внимательно она смотрела по сторонам, когда перебегала через улицу, так как ей время от времени попадались машины; сидевшие в них бледнолицые люди озирались все время по сторонам — это были, безусловно, патрульные машины. Дважды она едва не натыкалась на них, и ей с трудом удавалось отскочить в сторону, чтобы притаиться где-нибудь за забором. Примерно через четверть часа после того, как она покинула церковный двор, она заметила, что патрульных машин стало значительно больше. Но особенно опасными были пешие патрули. Они ходили по улицам в своих дождевиках, и, попадись она им на глаза, ей пришлось бы совсем туго. То и дело приходилось застывать за деревом или нырять в тень. Она пряталась за мусорные ящики, под раскидистые ели, чьи лапы стелились по самой земле. Несколько раз она заползала под машины и пережидала там, пока патруль пройдет мимо. Но даже в этих убежищах она не чувствовала себя в безопасности. Она опасалась, что кто-нибудь из оборотней-пришельцев выследит ее и вызовет полицию. Сейчас она выбралась на пустырь, простиравшийся по Юнипер-лейн от похоронного бюро Каллана до одного из соседних домов. Здесь рос кустарник, который стал для нее очередным убежищем. Крисси уже начала сомневаться, удастся ли ей найти в городе кого-нибудь, кто сможет ей помочь. В первый раз за все время опасных приключений ее начала покидать надежда. Посреди поляны росла огромная ель, она накрывала своими огромными ветвями и тот кустарник, в котором укрылась Крисси. Здесь было сухо, дождь не проникал через густые ветви, и, что еще важнее, здесь никто не мог ее заметить с улицы или из окон близлежащих домов. Тем не менее почти каждую минуту Крисси поднимала голову и оглядывала окрестности, чтобы убедиться, что ей не угрожает опасность. В какой-то момент ее внимание привлек высокий дом с большими окнами на улице Конкистадоров. Это был дом Талбота. Крисси сразу же вспомнила человека в инвалидной коляске. Он был у них в школе Томаса Джефферсона, когда во время Дня поминовения для школьников устроили несколько лекций. Большая часть этих лекций ничем не запомнилась Крисси, но именно лекция человека в инвалидной коляске произвела на нее большое впечатление. Он говорил им о страданиях инвалидов и об удивительных способностях, которые эти люди развивают у себя. Сначала этот человек вызвал у Крисси острое чувство жалости, ей было жалко его, говорившего с жаром, но прикованного к коляске, с парализованными ногами и одной из рук, повисшей плетью, с головой, постоянно склоненной набок и трясущейся. Но потом она вслушалась в то, о чем он говорил, и поняла, что этот человек с прекрасным чувством юмора вовсе не несчастен, и поэтому было бы оскорбительным жалеть его. После лекции осталось время для вопросов, и этот человек с большой охотой рассказал им о многих подробностях своей жизни, о ее радостях и печалях, так что в конце концов Крисси стала смотреть на него с нескрываемым восхищением. И еще у него была рядом великолепная собака по кличке Муз. Теперь, вглядываясь в дом этого человека из-за веток и высокой травы, Крисси думала, не пойти ли ей в этот дом в надежде найти помощь. Она легла на сухую траву и стала обдумывать этот вариант спасения. Безусловно, паралитик в инвалидной коляске — это человек, которым пришельцы займутся в самую последнюю очередь, если вообще займутся. Крисси сразу же после этой мысли стало стыдно за себя. Она почему-то отнесла инвалида к людям второго сорта. А чем он хуже других в глазах пришельцев? Хотя, с другой стороны… с какой стати пришельцы станут возиться с инвалидом? С какой стати они будут обращать на него внимание? В конце концов, они же пришельцы, они же пришли сюда, они здесь чужие. Мало ли какие у них там ценности. Они распространяют свою заразу или сеют свои семена или еще что-то среди людей, они пожирают людей, так с какой стати им церемониться с инвалидами? Глупо ждать от них этого, они же не джентльмены, помогающие старушкам переходить через улицу. Гарри Талбот. Чем больше Крисси думала о нем, тем сильнее становилась ее уверенность в том, что именно этот чело-век мог не попасть под контроль кровожадных пришельцев.Глава 69
Отпустив последнюю едкую реплику в адрес Сэма, Тесса смазала сковородку маслом, поставила ее на включенную плиту и приготовила блюдо для готовых блинчиков. После этого голосом, по которому Сэм сразу понял, что она не оставит попыток убедить его пересмотреть свой мрачный взгляд на жизнь, она сказала: — Так скажите… — Может быть, уже хватит об этом? — Нет. Сэм вздохнул. Она продолжала: — Если вы всегда пребываете в унынии, то почему вы… — …Не покончите самоубийством, хотите сказать? — Ну хотя бы. Сэм горько усмехнулся. — Когда я уехал сюда из Сан-Франциско, я играл сам с собой в одну мрачную игру — пытался подсчитать те причины, по которым мне еще стоит жить. Я насчитал таковых четыре и думаю, что это не так уж мало, вот поэтому я пока не собираюсь расставаться с жизнью. — Так какие же это причины? — Первая — хорошая мексиканская кухня. — Да, я бы тоже не стала с этим расставаться. — Вторая — пиво «Гиннес». — Я предпочитаю «Хейнекен». — Хорошее пиво, но оно не может оправдать существование. «Гиннес» — может. — Какова третья причина? — Вы знакомы с Голди Хоун? — Что вы! Я и не хочу с ней знакомиться, боюсь разочароваться. Я имею в виду ее экранный образ, идеальную Голди Хоун. — Выходит, она — девушка вашей мечты? — Она для меня значит даже больше. Она… ну, как вам сказать… она совершенно не измучена жизнью, несломлена ею, она полна любви, она счастлива, она невинна… она — сама радость. — Вы надеетесь когда-нибудь встретить ее? — Шутите? Тесса продолжала расспросы: — Знаете что? — Что? — Если вы когда-нибудь на самом деле встретите Голди Хоун, если она вдруг подойдет к вам на каком-нибудь вечере и скажет что-нибудь смешное, что-нибудь остроумное и захохочет, то вы, может статься, и не узнаете ее. — Не беспокойтесь, я ее обязательно узнаю. — Нет, у вас не получится. Вы будете так поглощены своими мыслями о несправедливости, о пороках общества, о трагедиях и черной работе, что вы просто упустите момент. У вас перед глазами будет туман из ваших мрачных мыслей, вы ее просто не увидите сквозь этот туман. Ну ладно, а какая четвертая причина? Сэм замялся. — Страх смерти. Тесса от удивления даже заморгала. — Я не понимаю. Если жизнь настолько ужасна, то почему надо бояться смерти? — Дело в том, что я уже не раз в своей жизни находился в состоянии клинической смерти. Последний раз это было, когда мне делали операцию, извлекали пулю из грудной клетки. Вот тогда-то я чуть было не сыграл в ящик. Я почувствовал, как поднимаюсь над собственным телом, взлетаю к потолку, смотрю сверху на хирургов, а затем лечу со страшной скоростью по темному тоннелю к источнику ослепительного света. Одним словом, мне удалось досмотреть кино до самого конца. Тесса была явно под впечатлением этого рассказа. Ее голубые глаза расширились от изумления. — Что же было дальше? — Я увидел то, что находится там, за гранью жизни. — Вы говорите серьезно, не шутите? — Совершенно серьезно. — Вы хотите сказать, что видели то, что будет явлено нам после смерти? — Да. — Там Господь Бог? — Да. Пораженная, Тесса произнесла: — Но если вы знаете, что Бог существует, что мы идем к нему через всю нашу жизнь, значит, у жизни есть смысл, значение. — Ну и что? — Я хочу сказать, что в основе мрачного взгляда на жизнь, в основе депрессии у многих людей лежит именно непонимание смысла собственной жизни. Поэтому большинству из нас не хватает именно того опыта, который пережили вы. Испытай мы то же самое, у нас не было бы сомнений в смысле жизни. Мы тогда не боялись бы никаких трудностей, мы знали бы, что есть высший смысл, что существует жизнь после жизни. Так что вам не на что жаловаться, мистер. Почему вы не пересмотрели после этого свой взгляд на жизнь? Разве вы безголовый болван? — Болван? — Отвечайте на мой вопрос. В это время загудел мотор лифта — Гарри вызвал его на третий этаж. — Сейчас спустится Гарри, — заметил Сэм. — Отвечайте на мой вопрос, — повторила Тесса. — Скажем так: то, что я там увидел, не прибавило мне оптимизма. Я бы даже сказал, что увиденное напугало меня до смерти. — Да? Не мучайте меня, скажите. Так что там, на том свете? — Если я скажу вам, вы будете считать меня сумасшедшим. — Вам нечего терять. Я уже считаю вас сумасшедшим. Сэм вздохнул, тряхнул головой и в душе пожелал, чтобы этот разговор кто-нибудь прервал. Как же ей удалось так ловко вывернуть его наизнанку? Лифт, судя по звуку, уже поднялся на третий этаж. Тесса отошла от кухонного стола и приблизилась к Сэму. — Так признавайтесь, что вы увидели там, не тяните. — Вы не поймете. — Я вроде не идиотка. — О, я вовсе так не считаю. Вы, конечно, поймете, что я там увидел, но вам трудно будет представить, что это значит для меня. — Сами-то вы понимаете значение того, что видели? — О да! — торжественно произнес Сэм. — Так вы скажете мне все по доброй воле или мне придется взять со стола нож и начатьвас пытать? Лифт уже спускался вниз. Сэм с надеждой посмотрел в холл. — Я в самом деле не хотел бы говорить об этом. — Так не хотите? — Нет. — Вы видели Бога, но не хотите об этом говорить? — Именно так. — Вообще-то те люди, которым посчастливилось встретиться с Богом, после этого только об этом и говорят. Эти люди основывают целые религии, они начинают говорить с миллионами людей о своей встрече. — Но я… — Я всегда считала, и это, наверное, действительно так и есть, что люди, пережившие клиническую смерть, пересматривают свой взгляд на жизнь и уже не могут жить как прежде. Эти люди всегда меняются к лучшему. Если прежде человек был пессимистом, он становится оптимистом. Атеисты становятся искренне верующими. Меняется система ценностей, люди начинают любить жизнь как таковую. Они просто начинают светиться от счастья! А вы не изменились. Да что там, вы стали еще мрачнее, еще холоднее. Лифт остановился на первом этаже. — Сейчас войдет Гарри, — предупредил Сэм. — Скажите, что вы там увидели? — Может быть, я скажу вам, — пообещал Сэм, удивляясь, что у него откуда-то появилась необходимость раскрыть перед этой женщиной всю душу, — но в другое время и в другом месте. Я скажу вам, что я видел. Но не теперь, после. В кухню вбежал Муз, он повизгивал от радости и бросался ко всем целоваться. Вслед за ним вкатил на своей коляске Гарри. — Доброе утро, — приветствовал он Сэма и Тессу. — Как вы отдохнули? — спросила Тесса и подарила Гарри такую лучезарную улыбку, что Сэм сразу пожалел, что она была адресована не ему. Гарри ответил: — Спал как убитый, но при этом благодарил Бога за то, что до сих пор жив. — Что будете есть? Блинчики? — Да, съел бы сразу целое блюдо. — Яичницу? — Из дюжины яиц. — Тосты? — Да, парочку десятков. — Как приятно, когда у мужчины хороший аппетит. Гарри продолжал шутить: — Целую ночь бегал наперегонки и очень проголодался. — Бегали? — Во сне. За мной гонялись «призраки». Гарри достал из нижнего шкафа упаковку еды для собаки и наполнил до краев миску Муза, стоявшую в углу кухни. Тесса подошла к плите, попросила Сэма присмотреть за яичницей и сама начала перекладывать на блюдо первую порцию поджаристых блинчиков. Спустя минуту снова начался ее сольный концерт. — Патти ла Белле, «Веселись и ни о чем не думай», — объявила Тесса и вновь запела и закружилась в танце. — Эй, — подключился Гарри, — если нужна музыка, я сейчас все устрою. Он подъехал на коляске к радиоприемнику, который был вмонтирован в один из шкафов, включил его и настроил на волну музыкальной станции. Зазвучала песня «Я понял все, осушив бокал». Это была старая песня, ее авторами были Глэдис Найт и Пипе. — Ну, теперь все в порядке, — сказала Тесса и начала выделывать такие па, что Сэм совершенно не мог понять, как она при этом умудряется еще и выпекать такие аппетитные блинчики. Гарри хохотал и заставлял свое кресло крутиться на месте в такт танцевальной мелодии. Сэм пытался их урезонить: — Послушайте, разве вы не понимаете, что в этом городе вот-вот наступит конец света? Гарри и Тесса продолжали веселиться, не обращая ровным счетом никакого внимания на его реплику. Сэм понял, что иного отношения к себе он и не заслуживает.Глава 70
Обходными путями, под дождем, в тумане, прячась за каждым кустом, Крисси вышла на аллею, ведущую к улице Конкистадоров. Она проникла на задний двор дома Талбота через калитку в ограде и стала перебегать от дерева к дереву. Крисси едва не наступила на собачье дерьмо — Муз был прекрасной собакой, но и у него были недостатки. В конце концов она добралась до заднего крыльца дома. За окном звучала музыка. Это была какая-то давно вышедшая из моды мелодия, ее часто исполняли еще в те времена, когда ее родители были совсем молодыми. Они говорили Крисси, что очень любят эту песню. И хотя Крисси не могла припомнить название песни, она вспомнила название группы — это был ансамбль Джуниора Уолкера «Олл Старз». Прикинув, что музыка вместе с шумом дождя должна заглушить все остальные звуки, девочка смело шагнула на крыльцо дома и на корточках подобралась к ближайшему окну. Она замерла под окном, пытаясь расслышать, о чем говорят в доме. Слышался оживленный разговор, смех, иногда кто-то подпевал мелодии, звучавшей из радиоприемника. Вряд ли пришельцы ведут себя так. Скорее подобным образом могут вести себя совершенно обычные люди. Разве станут инопланетяне слушать музыку Стиви Уандера, «Фор Топе» или «Пойнтер Систерс»? Вряд ли. Музыка пришельцев наверняка представляет собой что-то вроде звуков охотничьих рожков средневековых рыцарей в сопровождении лая охотничьих собак. Это, должно быть, что-то совершенно безумное. Крисси осторожно заглянула в окно через просвет между портьерами. Она увидела мистера Талбота, сидящего в своем кресле. Муз лежал на полу рядом с ним. В комнате находились также еще двое — незнакомые Крисси мужчина и женщина. Мистер Талбот отбивал такт своей здоровой рукой по подлокотнику инвалидной коляски, а Муз отчаянно вертел хвостом, явно не попадая в такт музыке. Второй мужчина перекладывал яичницу со сковородки на тарелку, он то и дело поглядывал на женщину, видимо, не одобряя ее немыслимого танца, но все же слегка притопывая правой ногой в ритме танца. Женщина с удивительной ловкостью перебрасывала поджаристые блинчики со сковородки на блюдо, в то же самое время она ни на секунду не переставала пританцовывать, она изгибалась всем телом, она дьявольски хорошо умела двигаться в танце. Крисси опустилась вновь на корточки и стала обдумывать увиденное. Для обычных людей такое поведение было бы нормальным, но пришельцы вряд ли стали бы так заводиться от старой музыки, готовя свой завтрак. Крисси ни за что не поверила бы, что пришельцы — вроде этих оборотней-священников — имеют хоть какое-нибудь чувство юмора или ритма. Они, несомненно, заняты исключительно тем, что высматривают очередную жертву или изобретают новые рецепты приготовления блюд из несовершеннолетних. Тем не менее Крисси решила подождать и посмотреть сначала, как эти люди ведут себя за столом. По репликам Такера и ее родителей вчера в лесу и по манерам фальшивого отца Кастелли она поняла, что пришельцы — обжоры, каких свет не видывал, каждый из них ест за пятерых. Если Гарри Талбот и его гости не станут сметать все со стола, как саранча, то она, пожалуй, сможет довериться им.Глава 71
Ломен Уоткинс задержался в доме Пейзера, чтобы проследить за уборкой помещений и переносом тел «одержимых» в катафалк, присланный из похоронного бюро Каллана. Он остался в этом доме, так как не без оснований опасался за своих людей, которые, не выдержав искушения от запаха крови, могли бы потерять свой человеческий облик, а он потерял бы столь нужных ему исполнителей его воли. Ломен знал, что все они, включая и его самого, все время балансируют на грани падения в бездну безумного превращения. По той же причине он поехал сопровождать катафалк до похоронного бюро и успокоился только тогда, когда трупы Пейзера и Шолника сгорели дотла в пламени печи крематория. После этого он проверил по компьютерной связи, как продвигаются дела с поисками Букера, Тессы Локленд и Крисси Фостер, и дал новые указания патрулям. Сообщение из дома пастора Кастелли пришло к нему, когда он уже был у себя в офисе; Ломен сразу же отправился на место происшествия, чтобы из первых уст услышать рассказ о неудачной попытке поймать девчонку. Он услышал массу оправданий, большей частью весьма неуклюжих. Судя по всему, священник и его помощник не смогли удержаться и превратились в «одержимых», чтобы позабавиться с девчонкой. Им, наверное, не терпелось пощекотать себе нервы, устроив охоту на нее. Заигравшись, они ее и упустили. Конечно же, их невозможно теперь заставить признаться в этом прегрешении. Ломен сразу же дал указания усилить патрули в районе костела, но это ничего не дало. Девчонка словно сквозь землю провалилась. Однако если уж она попала в город, а не пошла по направлению к автомагистрали, то у них появлялись хорошие шансы поймать ее и обратить еще до захода солнца. В девять часов утра Ломен заехал к себе домой на Айсберри-уэй, чтобы позавтракать. После того как он едва не превратился в «одержимого» в залитой кровью комнате в доме Пейзера, он чувствовал, что мундир на нем висит мешком. Он потерял несколько фунтов веса, когда его организм вырабатывал энергию для превращения, а потом — для противодействия этому превращению. В его доме было темно и тихо. Денни скорее всего опять сидит у себя наверху, уткнувшись в свой компьютер. Грейс, должно быть, ушла на работу. Она преподавала в школе Томаса Джефферсона, ей необходимо было делать вид, что все идет как обычно, ведь в Мунлайт-Кове еще не завершился процесс всеобщего обращения. На данный момент ни один ребенок в возрасте до двенадцати лет еще не был обращен. Причиной тому были трудности, с которыми столкнулись инженеры компании, определявшие дозу, необходимую для несовершеннолетних. Буквально несколько часов назад проблему удалось решить, так что к полуночи все дети в городе должны будут пройти через эту болезненную процедуру: Ломен постоял на кухне, прислушиваясь к шуму дождя и тиканью часов. Налил в стакан воды, выпил, налил второй: организм после ночных происшествий был очень сильно обезвожен. В холодильнике было полно еды: ветчина, ростбиф, половина жареной индейки, блюдо с бифштексами, куриные отбивные, колбаса, копченое мясо. Организм Новых людей требовал пищи, богатой белками, он совершенно не мог обходиться без мяса. Ломен достал из шкафа хлеб, из холодильника — ростбиф, ветчину и банку горчицы. Он нарезал хлеб, мясо, намазал ломти мяса сверху горчицей и стал есть, откусывая большими кусками. Глотал, почти не прожевывая. Еда не доставляла ему теперь такого удовольствия, как прежде: запах еды, ее вкус вызывали только животное возбуждение, хотелось рвать пищу на куски зубами, не прибегая к помощи рук. Ломен пытался остановить себя, но это ему не удалось, он теперь пожирал завтрак совершенно по-животному. Он впал в какое-то полубессознательное состояние, загипнотизированный ритмом, в котором двигались его челюсти. В какой-то момент разум его прояснился, и он понял, что минуту назад достал из холодильника куриные отбивные и проглотил их, даже не заметив, что мясо было сырым. После этого он вновь продолжал бессознательно поглощать пищу. Закончив с едой, Ломен пошел наверх проведать Денни. Он открыл дверь. На первый взгляд все вокруг было точно так же, как вчера вечером. Жалюзи на окнах опущены, портьеры задернуты, только экран компьютера светился зеленоватым светом. Денни сидел перед компьютером, погруженный в цифры, проплывавшие по экрану. В этот момент Ломен увидел нечто такое, что заставило его задрожать от ужаса. Он закрыл глаза. Подождал. Открыл глаза. Нет, ему не показалось. Он почувствовал, что пол уходит у него из-под ног. Он хотел бы выбежать из комнаты в коридор, захлопнуть за собой дверь и, забыв, что он видел, убежать куда глаза глядят. Но ноги словно приросли к паркету, он не мог отвести глаз в сторону. Денни отсоединил клавиатуру от компьютера и положил ее на пол. Потом снял с компьютера переднюю панель. Руки Денни держал на коленях, но Ломен вряд ли смог бы назвать их руками. Пальцы страшно изменились, они удлинились, и на их концах вместо ногтей появились провода, по виду похожие на медные жилы. Они змеились и исчезали во чреве компьютера. Денни уже не нуждался в клавиатуре. Он стал частью компьютерной системы. Через компьютер и модем он напрямую связал себя с центральным электронным мозгом компании «Новая волна». Он стал одним целым с компьютером «Солнце». — Денни? Его сын перешел в иное состояние, он не уподобился «одержимым». Он устремился не в прошлое, а в будущее, воплощая мечту Шаддэка. — Денни? Мальчик не отвечал. — Денни? От того места, где стоял компьютер, до Ломена донеслись звуки, похожие на пощелкивание и гудение какого-то электронного устройства. Ломен заставил себя войти в комнату и приблизиться к столу. Он посмотрел на своего сына и содрогнулся. Нижняя челюсть у Денни отвисла. По подбородку текла слюна. Денни прирос к компьютеру настолько крепко, что, по всей видимости, забыл о еде и других естественных надобностях; он мочился под себя. Глаза исчезли. На их месте появилось нечто, напоминающее две блестящие, как зеркала, сферы. В этих сферах отражались цифры, бегущие по экрану компьютера. Пощелкивание и гудение, как теперь ясно понимал Ломен, исходили вовсе не от компьютера, эти звуки издавал Денни.Глава 72
Яичница удалась на славу, блинчики были выше всяких похвал, дымящийся кофе был крепок ровно настолько, насколько это требовалось для полного удовольствия. За едой Сэм изложил друзьям свое понимание ситуации. — Начнем с того, что ваш телефон, Гарри, все так же отключен, я уже проверял его сегодня утром. Рисковать жизнью, прорываясь из города пешком или на автомобиле, пока не стоит, они надежно блокировали все выходы из города, этот вариант мы оставим на самый крайний случай. Насколько я понимаю, кроме нас, в этом городе никто не видит ничего странного… или сверхъестественного в событиях этих дней. Никто не собирается поднимать тревогу. Кроме нас и еще этой дочери Фостеров, о которой я узнал из переговоров полицейских по компьютерной связи. — Если речь на самом деле идет о ребенке, — вмешалась Тесса, — даже если она подросток, у нее почти нет шансов на спасение. Как это ни печально, но мы должны иметь в виду и самый трагический исход. Сэм согласился с оценкой Тессы. — Если такой же исход постигнет нас, когда мы попытаемся выбраться из города, то уже никто не сможет поднять тревогу. Поэтому мы должны выбрать вариант, связанный с наименьшим риском. — По-моему, при любом действии риск меньше, чем при бездействии, — высказал свою точку зрения Гарри. Он расправлялся с остатками яичницы, помогая себе кусочком хлеба. Гарри удивительно ловко орудовал своей единственной здоровой рукой. Сэм полил блинчики кленовым сиропом и понял, что у него не на шутку разыгрался аппетит. Перед смертью не наешься, подумал он, а вслух сказал: — Видите ли, Гарри… весь этот город — не что иное, как огромная паутина. — Паутина? — Ну да. Паутина из компьютерной связи. Компания «Новая волна» оснастила этой связью местную полицию, а полиция оплела паутиной весь город. — Они и для школ не пожалели компьютеров, — вспомнил Гарри, — я читал об этом в газетах весной или в начале лета. Компания оснастила компьютерами и программным обеспечением обе наши школы — начальную и среднюю. Они назвали это «жестом гражданской солидарности». — Звучит весьма зловеще, если знаешь, к чему это привело, — вмешалась в разговор Тесса. — Да, это была дьявольская затея. Тесса продолжала: — Видимо, эти люди действовали с дальним прицелом. Они помогли своей техникой полиции, затем школе, а конечной целью было привязать и тех и других покрепче к компании «Новая волна» и затем следить за каждым их шагом. Сэм, разделавшись с блинчиками, положил вилку на стол. — Если я не ошибаюсь, примерно одна треть горожан работает в «Новой волне»? — Да, примерно так, — согласился Гарри. — Мунлайт-Ков очень разросся после того, как здесь десять лет назад обосновалась эта компания. По сути дела, весь город попал в зависимость от нее: компания не только дает работу, она во многом определяет жизнь в городе. Сэм сделал несколько глотков кофе, по крепости не уступающего бренди. — Треть всего населения… значит, так — это примерно сорок процентов всех взрослых в городе. Гарри поддакнул: — Да, где-то так. — Если все сотрудники компании посвящены в тайны этого заговора, можно предположить, что они первыми прошли через… обращение. — Это однозначно, — кивнула Тесса. — Эти люди наверняка помешаны на компьютерах, так что дома они есть у всех, могу поспорить. Никто спорить не стал. — Несомненно также, что все эти компьютеры через модемы связаны с компанией и сотрудники могут работать дома по вечерам или в выходные дни. Сейчас, когда до полного обращения всех жителей остались считанные часы, я думаю, что сотрудники компании работают круглые сутки, даже ночью им надо обрабатывать поступающие данные. Если Гарри подскажет, кто из его соседей работает в «Новой волне»… — Таких несколько, — перебил его Гарри. — …Тогда я мог бы незаметно проникнуть в один из этих домов. Если хозяин на работе, можно попытаться выйти на связь с внешним миром через его телефон. — Погодите, погодите, — вмешалась Тесса, — вы же сами начали с того, что все телефоны в городе отключены. Сэм пояснил: — Нам известно только одно — отключены телефоны-автоматы и домашний телефон Гарри. «Новая волна» контролирует компьютер на телефонной станции. Значит, они могут выбирать, какую линию отключить, а какую нет. Бьюсь об заклад, что они не отключили телефоны у тех, кто прошел через это… обращение. Им ведь обязательно нужна телефонная связь. Именно сейчас, когда все ждут окончания игры и работают сутками. Ставлю два против одного, что они отключили только телефоны-автоматы в гостиницах и у тех людей, кто еще не стал в ряды обращенных.Глава 73
Ужас пронизал Ломена Уоткинса насквозь, наполнил его существо до такой степени, что, казалось, еще чуть-чуть, и он, подобно перенасыщенной влагой туче, прольется на землю ливневым дождем. Он был в ужасе от себя, от того, в кого он превратился. Он боялся не только за своего сына, ставшего одним целым с компьютером. Он боялся своего сына, боялся до смерти, ему было страшно прикоснуться к нему. По экрану с бешеной скоростью проскакивали огромные потоки информации, казалось, зеленые волны накатываются на экран одна за другой. В глазах Денни, подобных двум шарикам ртути, отражался прибой из цифр, букв, графиков и таблиц. Глаза не моргали. Ломен вспомнил слова Шаддэка, сказанные им в доме Пейзера. Шаддэк тогда убедился собственными глазами в ошибочности своей теории о генетической регрессии «одержимых». Пейзер в своем новом образе больше всего походил на волка, а волк явно не был в числе предков человека. Шаддэк сразу изобрел новую теорию, согласно которой новый человек приобретает способность усилием воли изменять свой внешний облик. Новые люди не могли мириться с полным отсутствием эмоциональных переживаний и искали способы компенсировать этот недостаток, превращаясь в примитивные существа. Исходя из этой теории, можно предположить, что его сын стремился именно к этому, желанному для него, но столь нелепому образу. — Денни? Молчание. Никаких звуков теперь не стало слышно. Даже пощелкивание и гудение прекратились. Металлические провода, тянущиеся от пальцев Денни к компьютеру, время от времени подрагивали, словно через них толчками пульсировала какая-то загадочная жидкость, подобная человеческой крови, соединяя механическую и органическую части единого механизма. Ломен чувствовал, как сердце бешено колотится, как бы пытаясь вырваться на волю. Он и сам бы сейчас убежал из этой комнаты на край света, но ноги его приросли к полу. Он весь взмок. Он чувствовал, что бешеный расход энергии вскоре превратит в ничто те огромные запасы калорий, которые он проглотил за завтраком. Он судорожно пытался сообразить, что ему надо теперь сделать. Первой в голову пришла мысль позвонить Шаддэку и попросить его о помощи. Шаддэк, возможно, понимает, что произошло с его сыном, и сможет, запустив обратный процесс, вернуть ему Денни. «Если бы это было так», — опомнился Ломен. Он ведь прекрасно понимал, что проект «Лунный ястреб» вышел из-под контроля и пути этого эксперимента неисповедимы, в том числе и для самого Томаса Шаддэка. Кроме того, Шаддэка вряд ли смутит то, что произошло с Денни. Он будет, наоборот, восхищен, он будет вне себя от восторга. Он увидит в этом нелепом превращении воплощение своей мечты о слиянии человека и машины. Он ведь стремился к этому всю жизнь. В ушах Уоткинса до сих пор звучали слова Шаддэка, сказанные им в залитой кровью комнате в доме Пейзера: «…есть только одна вещь, которую я не понимаю. Почему все без исключения «одержимые» избрали для себя способ примитивного существования? Ведь все вы, несомненно, имеете возможности для совершенствования. Вы можете свободно развиваться, превосходить остальных людей во всем, становиться выше, чище, здоровее…» На взгляд Ломена, все в случае с его сыном было иначе. Уродливые пальцы-провода и глаза-экраны вовсе не свидетельствовали о переходе в новую, высшую форму существования. Это была просто еще одна из форм вырождения, она была ничем не лучше, чем волчья стать Майкла Пейзера или пародия на обезьяну Кумбса. Подобно Пейзеру, Денни принес в жертву интеллектуальную индивидуальность для того, чтобы убежать от действительности; просто вместо того, чтобы стать одним из членов примитивного стада, он выбрал для себя стадо более возвышенное — компьютерное. Денни принес в жертву последнее, что делало его человеком, — свой разум и превратился в примитивное существо, не сравнимое по сложности с человеческой личностью. С подбородка Денни на его рубашку сполз сгусток слюны, оставив на ткани мокрый след. «Ведом ли тебе страх, Денни? — подумал Ломен. — Наверняка тебе уже неведома любовь. Так же, как и мне. Но боишься ли ты чего-нибудь?» Конечно же, нет. У машин нет чувства страха. Обращение лишило Уоткинса всех чувств, кроме страха, теперь все его дни и ночи превратились в бесконечную череду страхов и беспокойств. Но, несмотря на все это, он начал со временем испытывать противоестественную любовь к страху, он даже лелеял его в себе, так как именно страх был тем чувством, которое роднило его с прошлым. Если у него отнимут и страх, он полностью превратится в машину. В его жизни тогда не останется ничего человеческого. Денни принес в жертву это свое последнее и потому бесценное чувство. В его жизни остались только логика, аксиомы, бесконечные цепи математических расчетов, бесконечная обработка и толкование фактов. И если Шаддэк не ошибается в своем прогнозе о продолжительности жизни Новых людей, то непомерно длинные, серые дни Денни растянутся на долгие столетия. Внезапно Денни снова начал издавать странные «электронные» звуки. Они, отражаясь, от стен, наполнили комнату. Эти звуки напоминали какие-то мрачные возгласы и крики, которые могли бы, вероятно, издавать обитатели океанских глубин. Если Шаддэк появится здесь и увидит Денни, он совсем свихнется от радости и уже не сможет остановиться. Он будет изо всех сил пытаться превратить всех остальных Новых людей в подобие Денни. Он захочет иметь целую армию кибернетических монстров. От такой перспективы у Ломена зашевелились волосы на голове. Электронное существо вновь смолкло. Ломен достал из кобуры револьвер. Руки его дрожали. По экрану еще быстрее помчались волны цифр и символов, эти же волны мчались в сферах-глазах Денни. Не отрывая взгляда от существа, которое совсем недавно было его сыном, Ломен пытался вызвать в себе те чувства, которые он когда-то испытывал к Денни: отцовскую любовь, гордость за его успехи, надежды на счастливое будущее своего ребенка. Он пытался восстановить в памяти их поездки на рыбную ловлю, вечера у телевизора, книги, которые они вместе читали, долгие часы совместной работы над сложными заданиями для школы. Он хотел вспомнить то Рождество, когда Денни получил в подарок свой первый велосипед, тот день, когда Денни впервые привел в дом свою подружку — дочку Талмаджа… Ломен был в состоянии воссоздать картины тех дней до мельчайших подробностей, но они не согревали его. Он понимал, что он должен что-то чувствовать, если собирается через минуту застрелить своего собственного сына, он должен ощущать еще что-то, кроме страха, но у него ничего не получалось. Если бы в нем осталось еще хоть чуть-чуть человечности, он был бы в состоянии проронить слезу, хотя бы одну-единственную. Но его глаза были сухими, в них не было слез. Внезапно на лбу у Денни появился какой-то странный нарост. Ломен вскрикнул и от удивления попятился назад. Сначала ему показалось, что нарост превращается у него на глазах в червя, так как поверхность отростка разделяется на сегменты и маслянисто поблескивает. Отросток был толщиной с карандаш. Но, по мере того как он удлинялся, Уоткинс все больше убеждался в том, что новообразование не имеет ничего общего с живой природой, а скорее относится к технике — на конце у этого странного провода имелся электрический разъем. Подобно отвратительному пресмыкающемуся, этот отросток раскачивался перед лицом Денни, удаляясь от него все дальше. В конце концов он коснулся компьютера и остановился. «Денни сам пожелал, чтобы все произошло именно так», — напомнил Ломен сам себе. Дух повелевал материей, генетика здесь была ни при чем. Сила воли воплощалась в материальную силу, речь не шла о биологическом безумии. Денни стремился к этому превращению, иной он не представлял себе свою жизнь. Если он не мог иначе, разве был кто-нибудь в состоянии помешать этому? Отвратительный червеобразный отросток проник во внутренности компьютера, исчез в них и, вероятно, замкнул свои контакты там, где нужно, связав Денни с машиной в еще более прочную пару. Раздался ужасающий «электронный» возглас. Ни губы, ни язык Денни при этом не шевельнулись. У Ломена кровь застыла в жилах. Страх Ломена перед решительным шагом был разрушен другим страхом — страхом бездействия. Он сделал несколько шагов вперед, приставил револьвер к правому виску Денни и два раза нажал на спусковой крючок.Глава 74
Крисси сидела, сжавшись в комок, на заднем крыльце дома Талбота. Время от времени она осторожно заглядывала в окно кухни, в которой трое людей что-то оживленно обсуждали, забыв про свой завтрак. Постепенно Крисси убеждалась, что этим людям вполне можно довериться. Она могла слышать сквозь оконное стекло за неумолчным шумом дождя лишь обрывки их разговора. Однако даже по этим обрывкам Крисси поняла, что эти люди обсуждают трагические события в городе. Она поняла также, что двое незнакомцев прячутся в доме у мистера Талбота и скрываются, возможно, от тех же самых существ, от которых скрывается она сама. Она даже услышала, что они разрабатывают план, как связаться с внешним миром. Крисси решила, что в дверь стучать не стоит. Дверь была массивная, в верхней части у нее не было стекла, так что обитатели дома не могли видеть, кто стучит. Крисси к тому же понимала, что нервы у этих людей на пределе. Неожиданный стук в дверь может довести их до инфаркта, или, чего доброго, они схватятся за ружья и разнесут дверь в щепки, а вместе с дверью достанется и Крисси. Вместо этого Крисси просто поднялась во весь рост и постучала в окно. Мистер Талбот от удивления вскинул голову и повернулся к окну, в тот же момент мужчина и женщина вскочили со стульев, словно куклы, которых дернули за веревочки. Муз залаял. Все трое, а также и собака замерли, уставившись в окно. Если судить по выражению их лиц, то можно было подумать, что за окном находится не одиннадцатилетняя девочка, а маньяк, вооруженный стальной цепью, с маской на безобразном лице. Вероятно, здесь, в городе, кишащем кровожадными пришельцами, даже маленькая, промокшая до нитки, изможденная девочка могла напугать взрослых людей, видящих опасность на каждом шагу. И в надежде рассеять их страх она прокричала сквозь оконное стекло:, — Помогите мне! Помогите мне, пожалуйста!Глава 75
Машина завыла. Две пули, выпущенные в висок, раскроили ее череп и сбросили тело на пол. Провода, тянувшиеся от пальцев, порвались. Червеобразный отросток лопнул. Машина корчилась на полу в страшнейших судорогах. Ломен мог думать о теле, распростертом на полу, только как о машине. Он не мог думать о нем как о своем сыне. Это было бы невыносимо. Лицо умирающего было искорежено выстрелами, превращено в асимметричную, сверхъестественную маску. Глаза, минуту назад сверкавшие серебром, сейчас почернели. Казалось, что кто-то вместо шариков ртути поместил в глазницы две капли черной нефти. В трещине, рассекавшей череп пополам, Ломен увидел вместо серого вещества мозга сплетение проводников и какое-то подобие электронных плат, похожих на керамические пластинки. Из раны вытекала кровь и струился голубоватый дым. Машина взвыла еще громче. Но на этот раз «электронный» крик донесся не со стороны умирающего тела, а из компьютера, стоящего на столе. Звук был странным, в нем слышалось что-то жалобное, человеческое. Впечатление было такое, что в компьютере осталась часть разума Денни. Поток цифр и символов на экране вдруг остановился. Вместо него весь экран стало заполнять одно-единственное слово, повторенное тысячи раз:НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ…В этот момент Ломен осознал, что Денни, его сын, умер лишь наполовину. Разум, живший в теле мальчика, угас, а часть его, переселившаяся в компьютер, продолжала жить. Именно эта часть стонала сейчас металлическим голосом машины. На экране появились другие слова:
Я ПОТЕРЯЛ СЕБЯ, Я ПОТЕРЯЛ СЕБЯ, Я ПОТЕРЯЛ СЕБЯ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ…Ломен почувствовал, как стынет его кровь, он никогда раньше не знал, что на сердце может быть так холодно. Он попятился назад от лежащего на полу тела и прицелился в компьютер на столе. Он расстрелял в него все патроны, первым же выстрелом разбив стекло экрана. Вокруг сразу стало темно. Электронный мозг компьютера был уничтожен. Из него вылетели тысячи искр. Погасла последняя искра, и комната погрузилась в полную темноту. В помещении стоял запах горелой изоляции. Ломен выбрался из комнаты на лестничную площадку, постоял, привалившись к стене, и начал спускаться вниз. Он перезарядил свой револьвер и положил его в кобуру. На улице все так же шел дождь. Ломен сел в машину и включил зажигание. — Шаддэк, — произнес он вслух.
Глава 76
Тесса, не теряя ни минуты, взяла на себя заботу о Крисси. Она отвела ее наверх, оставив Гарри, Сэма и Муза в кухне, и первым делом помогла девочке снять с себя мокрую одежду. — Э, да у тебя зуб на зуб не попадает, крошка. — Мое счастье, что я их не лишилась нынешней ночью. — Да у тебя вся кожа синяя, как у индейки. — Мое счастье, что ее с меня не содрали. — Я заметила, что ты хромаешь. — Да, я растянула лодыжку. — Ты уверена, что это всего лишь растяжение? — Да, ничего серьезного. А кроме того… — Я знаю, — перебила ее Тесса, — твое счастье, что у тебя еще есть лодыжки. — Да, я именно это хотела сказать. Так как, насколько я знаю, пришельцам человеческие лодыжки очень по вкусу, они для них то же самое, что для некоторых людей — куриные ножки. Крисси села на край кровати, закутавшись в шерстяное покрывало, и ждала, пока Тесса достанет из бельевого шкафа кусок ткани и из коробки для шитья несколько английских булавок. — Рубашки, которые носит Гарри, для тебя слишком велики, так что я приспособлю для тебя вот эту ткань. А пока твоя одежда будет сушиться, мы спустимся вниз, и ты расскажешь Гарри, Сэму и мне все, что с тобой произошло. — Это было настоящее приключение, — начала Крисси. — По тебе заметно, что пришлось несладко. — Из этих приключений могла бы получиться целая книга. — Ты любишь книги? — Да, очень. Краснея, но решив вести себя достойно и не капризничать, Крисси сбросила с себя покрывало и позволила Тессе закутать ее в кусок ткани. Тесса при помощи булавок соорудила что-то вроде римской тоги. Пока Тесса трудилась над ее нарядом, Крисси продолжала рассуждать: — Я, наверное, когда-нибудь напишу книгу о том, что случилось со мной в этот день. У нее будет название «Нашествие пришельцев» или «Гнездо королевы пришельцев». Второе название мне меньше нравится, я его возьму, только если где-нибудь действительно обнаружится гнездо «королевы пришельцев». Я не знаю, может быть, им и гнезда не нужны, может быть, они размножаются как-то иначе, не так, как змеи или насекомые. Может быть, они устроены как растения? Кто знает? Если окажется так, я назову книжку «Семена из космоса», «Растения из невесомости» или «Мерзкие марсианские мухоморы». Правда, хорошо, когда в названиях книг есть аллитерация? Аллитерация. Вам нравится это слово? Мне — очень. Я вообще люблю красивые слова. Конечно, можно найти и более поэтичное название для книги, например: «Корни пришельцев» или «Листья пришельцев». Послушайте, что я поняла — если они в самом деле растения, то мы спасены — их начнут есть какие-нибудь жуки или червяки, у них, у пришельцев, ведь еще нет иммунитета против вредителей растений. Помните, именно так случилось с марсианами в романе «Война миров». Тессе совсем не хотелось разубеждать девочку и говорить ей, что враги спустились вовсе не со звезд. Ей очень нравилось слушать рассуждения Крисси. Тесса вдруг заметила, что левая рука Крисси тоже пострадала. Вся ладонь была расцарапана, на ней запеклась кровь. — Это произошло, когда я спрыгнула с крыши над крыльцом дома пастора, — объяснила Крисси. — Ты прыгала с крыши? — Да. Представьте себе, это было так захватывающе. Это чудо-юдо, этот волк полез в окошко вслед за мной, и мне уже некуда было деваться. Я прыгнула и растянула себе лодыжку, а потом бежала через весь двор до калитки от этих тварей. Вы знаете, мисс Локленд… — Называй меня просто Тесса. Крисси никогда не называла взрослых по имени. Она какое-то время молчала, словно собираясь стоять на своем. Но потом решила, что отказывать в такой просьбе — это все-таки грубо, и продолжила: — Хорошо… Тесса. Так вот. Я до сих пор так и не поняла, что же пришельцы собираются с нами делать, если мы попадем к ним в лапы. Может быть, они любят почки и для этого убивают людей? А может, они вовсе и не людоеды? Может быть, они просто запускают каких-нибудь особых насекомых в уши людей и эти насекомые пробираются в человеческий мозг, и он становится управляемым на расстоянии? В любом случае я правильно сделала, что спрыгнула с крыши и не попалась в лапы этим пришельцам. Закончив с тогой, Тесса повела Крисси вниз. По пути она зашла в ванную комнату и заглянула в аптечку, чтобы выбрать какое-нибудь лекарство для расцарапанной ладони Крисси. В аптечке нашелся пузырек с йодом, пластырь и несколько ватных тампонов, которые пролежали здесь так долго, что упаковочная бумага успела пожелтеть. Но вата внутри осталась белоснежной, йод от времени также не пострадал. Крисси села на край ванны, закуталась в тогу и стоически терпела, пока Тесса обрабатывала ей рану. Она не заплакала, даже не пискнула от боли. Но рот у нее не закрывался: — Так получилось, что вообще-то я падала с крыши два раза в своей жизни. Наверное, мой ангел-хранитель спасает меня и следит, чтобы я не разбилась. Первый раз я падала с крыши полтора года назад. Это было весной. Птицы, кажется, это были скворцы, построили гнездо на крыше конюшни. А мне обязательно нужно было посмотреть, как выглядят птенцы в гнезде. Так вот, когда родителей не было дома, я взяла лестницу и, дождавшись, когда мама этих птенцов улетела, быстренько забралась на самый верх. Ну, скажу вам, зрелище. Эти птенцы, оказывается, пока они еще не обросли перьями, уроды уродами. Конечно, не такие страшные, как эти пришельцы, но все равно лучше на них не смотреть. Они все какие-то морщинистые, у них на голове только клюв и глаза, а крылья — как сломанные руки. Если бы у людей младенцы выглядели такими уродами, я думаю, человеческая раса давно бы вымерла: никто бы не захотел видеть перед собой такое создание. Тесса продолжала смазывать ладонь Крисси йодом, пытаясь скрыть улыбку. В какой-то момент она исподтишка взглянула на Крисси и увидела, что девочка зажмурилась и скорчила гримасу, стараясь не выдать криком, как ей больно. — Так вот, вскоре вернулись папа и мама — скворцы, — продолжала Крисси. — Они увидели, что я добралась до их гнезда, и начали кричать и бросаться на меня. Я до такой степени испугалась, что сорвалась с лестницы и упала вниз. И совершенно, ну ни капельки не ушиблась, но упала прямо в кучу конского навоза. Вот уж тоже мало приятного, скажу вам. Я, конечно, люблю лошадей, но они были бы в тысячу раз прият-, нее, если бы научились для таких дел пользоваться картонками, как кошки. Тесса была от этой девочки просто без ума.Глава 77
Сэм навалился на стол локтями и внимательно слушал рассказ Крисси Фостер. Да, конечно, Тесса слышала крики «призраков» во время бойни в «Ков-Лодже» и мельком видела ноги одного из них. Гарри тоже не раз видел их, но на достаточно большом расстоянии, сквозь туман и ночью. Сэму тоже довелось увидеть двух «призраков» нынешней ночью через окно. Однако Крисси была единственной из присутствующих, кто встречался с ними лицом к лицу и неоднократно. Но не только это привлекало внимание Сэма. Он был также увлечен ее живыми манерами, хорошим чувством юмора и богатством мимики. Девочка, совершенно очевидно, обладала немалой силой духа, у нее была не по годам сильная воля, без которой ей ни за что не удалось бы выжить нынешней ночью и утром. При всем при этом она сумела сохранить очаровательное впечатление непосредственности, ее воля вовсе не ожесточила ее. Она была из тех детей, глядя на которых понимаешь, что для жалкого человеческого рода еще не все потеряно. Когда-то и его Скотт был таким ребенком. Именно поэтому Сэм любовался Крисси Фостер. Он видел в ней своего потерянного сына. Таким, каким он был до… превращения. Он смотрел на Крисси и слушал ее с таким острым чувством невозвратимой потери, что эта боль отдавалась в сердце и перехватывала горло. Он словно ожидал не только услышать от девочки нужную ему информацию, но и получить от нее ответ на вопрос, почему его собственный сын потерял разом и всю надежду, и всю свою непосредственность.Глава 78
Спрятавшись в темноте подвала бывшей колонии «Икар», Такер и его стая не смыкали глаз, так как совсем не нуждались в сне для пополнения сил. Они просто лежали, свернувшись клубком. Время от времени Такер и другой самец совокуплялись с самкой, и во время этих соитий они, не жалея друг друга, царапались до крови. Им просто надо было ощущать запах свежей крови, чтобы удовлетворять свои инстинкты. Темнота и замкнутость их бетонного убежища-склепа привели к тому, что Такер постепенно стал плохо ориентироваться в пространстве и времени. Он почти ничего сейчас уже не помнил о той части своей жизни, которая предшествовала вчерашнему превращению в зверя и ночной охоте. Он почти не осознавал себя как индивидуальность. Нельзя слишком выделяться, когда стая выходит на охоту, еще меньше причин для этого, если прячешься в темном уютном убежище. В этом замкнутом пространстве они были прежде всего стаей, единым организмом, в котором ни одна из частей не имела права на самостоятельность. Перед внутренним взором Такера проплывали образы диких, сливающихся с тенями существ, которые крадутся по ночным лесам и лунным полянам. Время от времени человеческие видения также появлялись в его сознании, но эти образы лишь пугали его, и он отгонял их подальше, чтобы вновь погрузиться в атмосферу охоты, погони и соитий. В этом мире насилия он переставал быть собой и принадлежал только своей стае. Он был лишь одним из краев одной большой тени, он был лишь одним отростком большого организма. Ему не надо было думать ни о чем, у него было только одно желание — чтобы его существование длилось дольше и дольше. В какой-то момент он понял, что он уже выскользнул из своей волчьей формы, которая стала для него слишком тесной. Он уже больше не хотел быть вожаком стаи, в этой роли было слишком много ответственности, надо было хоть немного, но думать. А он хотел не думать совсем. Просто быть. Существовать. Ограничения любой физической формы казались ему нестерпимыми. Он чувствовал, что второй самец и самка следили за его вырождением и брали с него пример. Он чувствовал, как плавится его плоть, как растворяются его кости, как его внутренние органы и сосуды теряют свои формы и функции. Он опустился по лестнице эволюции, миновав стадию первобытной обезьяны, миновав стадию примитивных существ, выползших из моря на сушу миллионы лет тому назад, он опускался все ниже и ниже, пока не превратился в жидкую пульсирующую массу, в суп из протоплазмы, содрогающийся в темном подвале бывшей колонии «Икар».Глава 79
Ломен позвонил в дверь резиденции Шаддэка, ему открыл Эван, дворецкий. — Извините, мистер Уоткинс, но господина Шаддэка нет дома. — Где он? — Не знаю. Эван был уже обращен в Нового человека. Ломен хотел действовать наверняка и выстрелил ему сначала два раза в голову, а затем два раза в грудь. Теперь дворецкий лежал на полу в прихожей, мозг и сердце его были уничтожены. Или правильнее было бы называть их процессором и насосом. В каких терминах нужно было говорить об этих существах? В терминах биологии или механики? Насколько они приблизились к машинам? Ломен прикрыл входную дверь и переступил через тело Эвана. Он дозарядил свой револьвер и обыскал весь огромный дом комнату за комнатой, этаж за этажом. Он искал Шаддэка. Ломен надеялся, что им будет двигать всепоглощающее чувство мести, он будет сгорать от ярости, и успокоение придет только тогда, когда он увидит Шаддэка мертвым у своих ног. Но всех этих чувств он так и не испытал. Смерть его сына не расплавила лед в его сердце. Он не испытывал ни раскаяния, ни ярости. Им двигало лишь одно чувство — чувство страха. Он хотел убить Шаддэка, прежде чем сумасшедший гений превратит его в нечто еще более ужасное. Если он убьет Шаддэка, который постоянно находится на связи с суперкомпьютером «Новой волны» — по этой связи передается телеметрическая информация о сердечном ритме его шефа, — то суперкомпьютер«Солнце» выдаст команду на уничтожение. По микроволновой связи эта команда будет принята всеми микросферами, внедренными в тела Новых людей. Каждая из этих микросфер в то же мгновение выполнит программу, направленную на остановку сердца у своего хозяина. Все «обращенные» в Мунлайт-Кове погибнут мгновенно. Вместе со всеми погибнет и он, Ломен. Но теперь Ломена это не волновало. Страх перед его нынешней жизнью перевешивал страх смерти. Он боялся превратиться или в «одержимого», или во что-то не менее, по его понятиям, безобразное — в человека-компьютер, в улучшенную копию его сына Денни. Он ясно представлял себе, каким он будет, — сверкающие ртутью шарики глаз, червеобразный отросток, тянущийся от его лба к компьютеру. Ломен почувствовал, что сходит с ума, ему хотелось бежать, удрать из своего тела, из той оболочки, которую он вынужден носить на себе. Убедившись, что дома Шаддэка нет, Ломен решил отправиться в его офис в компании «Новая волна». Вероятно, творец нового мира укрылся там, чтобы нарисовать новые картины ада, который он почему-то все время называл раем.Глава 80
Сэм собрался выходить в начале двенадцатого. Тесса вышла на заднее крыльцо дома вместе с ним и закрыла за собой дверь, оставив Гарри и Крисси на кухне. Деревья за домом были высокими, и соседи никак не могли заметить их, укрывшихся в тени под крышей крыльца. — Послушайте, — начала она, — вам нет никакого смысла идти одному. — Напротив, в этом есть очень большой смысл. Воздух был сырым и холодным. Тесса поплотнее закуталась в свою куртку и сказала: — Я бы могла звонить в звонок у парадного входа и отвлекать внимание хозяина, а в это время вы проникли бы в дом с заднего входа. — Я не хочу подвергать вас опасности. — Я позабочусь о себе сама. — То, что вы вполне самостоятельная, я знаю. — Так пойдемте вместе? — Нет, я всегда буду действовать в одиночку. — Да, вы, кажется, возвели свое одиночество в жизненный принцип. Сэм усмехнулся: — Надеюсь, мы не будем сейчас вновь затевать перебранку о том, что такое жизнь — сплошное удовольствие или ад на земле? — Что вы, Сэм. Мы вовсе не бранились с вами, а немного поспорили. — Хорошо-хорошо. Но поймите, я ведь не случайно специализируюсь на нелегальных операциях, у меня в этом деле большой опыт. Я привык работать в одиночку, Тесса, мне не нужен помощник еще и по той причине, что я не хочу видеть впредь, как люди умирают у меня на глазах. Тесса поняла, что последняя фраза Сэма относилась не только к его коллегам по работе, убитым на заданиях, но и к его умершей жене. — Оставайтесь здесь с Крисси, — продолжал Сэм, — и постарайтесь уберечь ее при любых обстоятельствах. Она, кстати, во многом такая, как и вы. — Что вы сказали? — Она одна из тех, кто умеет радоваться жизни. Она влюблена в жизнь, по-настоящему влюблена, что бы с ней в этой жизни ни случилось. Это редкий и бесценный дар. — Но ведь вы тоже умеете это делать? — Нет, я никогда не умел. — Но черт бы вас побрал с вашим пессимизмом, ведь каждый человек рождается со способностью радоваться жизни. Вы не потеряли эту способность, уверяю вас. Вы просто забыли, где она спрятана в вас, вы обязательно вновь ее найдете. — Берегите Крисси, — повторил Сэм, спускаясь с крыльца под нескончаемый дождь. — Не забудьте, что вы обязательно должны вернуться целым и невредимым. Вы же обещали рассказать мне, что ждет нас там, в конце тоннеля, на том свете. Так что придется вам вернуться живым. Сэм уже шел к калитке, исчезая в серебристых потоках дождя и в облаках густого тумана. Тесса смотрела ему вслед и понимала, что, даже если он никогда не расскажет ей о том свете, она все равно будет ждать его возвращения. Для этого появилось много других, сложных и удивительных причин.Глава 81
Дом Кольтрана был вторым по счету от дома Талбота, если идти к югу по улице Конкистадоров. Двухэтажный дом. Покатая крыша из деревянной черепицы. Вместо заднего крыльца в доме был крытый внутренний дворик. Сэм прокрался вдоль задней стены дома и под стук дождя по крыше, напоминающий треск поленьев в камине, проник во внутренний двор, а из него — через стеклянные двери — в мрачную прихожую. Следующая дверь вела в кухню. На пороге кухни Сэм вытащил свой револьвер из кобуры. Конечно, в дом можно было попасть и с парадного входа, позвонив в звонок, это, по крайней мере, не вызвало бы у обитателей дома никаких подозрений. Но, чтобы проделать это, требовалось выйти на улицу. Там его могли заметить не только соседи, но и патрули, о которых упоминала Крисси. Сэм постучал в дверь. Четыре коротких удара. Никто не ответил. Сэм снова постучал, погромче, затем забарабанил со всей силой. Если бы кто-нибудь был дома, ему наверняка ответили бы из-за двери. Если никто не отвечает, это означает только одно — Харли и Сью Кольтран сейчас на работе, ведь они — служащие компании «Новая волна». Дверь в кухню была закрыта. Сэм надеялся, что не на ключ. Свои инструменты Сэм оставил у Гарри дома, с собой у него была только тонкая металлическая пластинка. В телевизионных спектаклях задвижку на двери часто открывают, используя пластмассовую кредитную карточку, но этот нехитрый инструмент очень ненадежен и часто трескается, если его просовывают в дверную щель. Сэм предпочитал старые проверенные способы. Он осторожно ввел пластинку в щель между дверью и дверной рамой, продвинул ее под язычок замка и давил до тех пор, пока задвижка не вышла. Слава Богу, дверь не была заперта на ключ. Сэм надавил на нее, и она, слегка скрипнув, легко отворилась. Сэм вошел в кухню и прикрыл за собой дверь, проследив за тем, чтобы она снова не захлопнулась. Если ему придется спасаться бегством, то времени на возню с дверью лучше не терять. В кухне было темно, лишь слабый свет дождливого дня проникал в окно. При этом свете казалось, что поли плитка на стенах были выполнены из какого-то серого однородного материала. Минуту Сэм стоял неподвижно, прислушиваясь. Слышно было только тиканье настенных часов. По крыше стучал дождь. Волосы сбились Сэму на лоб, он рукой убрал их назад. Когда он сделал шаг, его промокшие ботинки предательски заскрипели. Он направился прямо к телефону, который был укреплен на стене над боковым кухонным столиком. Он поднял трубку — гудка не было. Однако телефон не был отключен, в трубке что-то попискивало, раздавались щелчки, слабые гудки — все это вместе сливалось в какую-то мрачную неземную мелодию, музыку электронных устройств. Сэм почувствовал, что на него повеяло холодом. Он осторожно, стараясь не шуметь, положил трубку на рычаг. Сэму пришла в голову мысль о том, что такие сигналы, возможно, слышны в телефонной трубке, если кто-то использует эту линию для компьютерной модемной связи. Может быть, кто-то из супругов Кольтран работает сейчас дома и находится на компьютерной связи с компанией «Новая волна»? Шестым чувством Сэм понимал, что происхождение этих звуков имеет какое-то иное, невероятное объяснение. Дверь из кухни вела в столовую. Два больших окна в столовой были завешены полупрозрачными занавесками, от них сумрак в комнате становился совсем густым. Шкаф, стол и стулья казались не предметами, а лишь тенями от вещей. Сэм вновь стал вслушиваться в тишину. Никаких звуков. Дом был выстроен в классическом калифорнийском стиле, в нем не было холла на первом этаже. Из одной комнаты в другую вели проходы с арками без дверей. Через один из таких проходов он вошел в гостиную, где, слава Богу, на полах было сплошное ковровое покрытие, и его хлюпающие ботинки не издавали почти никаких звуков. В гостиной было чуточку светлее, чем в других комнатах дома, но и здесь серый цвет преобладал над всеми остальными. Часть окон гостиной выходила на парадное крыльцо, и в них не стучал дождь. Но дождь вовсю заливал окна с северной стороны комнаты, и слабый свет из этих окон разбивался на множество черных точек, скользивших вниз. Сэму казалось, что по стеклу ползут тысячи амеб, казалось, вот-вот, и они переползут на него и он ощутит на своей коже тысячи скользких прикосновений. Это освещение и скверное настроение создавали ощущение какого-то старого черно-белого кино. Словно он попал на старый фильм ужасов. В гостиной никого не было, но неожиданно из какого-то помещения первого этажа донесся громкий звук — по всей видимости, из комнаты, находившейся в юго-западном углу дома. Там, за небольшим холлом, как заметил Сэм, была дверь. Сначала это был вопль, заставивший его вздрогнуть, за этим воплем последовал крик, который не мог быть ни голосом человека, ни ревом машины, это было нечто среднее, это был какой-то металлический возглас, в котором слышались ужас и отчаяние. Вслед за ним раздались глухие пульсирующие звуки, словно где-то билось сердце и его удары усиливались мощным усилителем. Затем вновь наступила тишина. Сэм поднял револьвер, он готов был выстрелить в любой предмет, который сдвинется с места. Но все вокруг было неподвижно, ничто не нарушало тишины. Этот вопль, этот странный крик ни в коем случае не могли издавать «призраки», которых он видел прошлой ночью из окна дома Гарри и которых описывала им Крисси. До этой минуты он больше всего опасался встречи именно с такими существами. Но теперь столкновение с новым чудовищем пугало еще больше. Сэм выжидал. Больше не было слышно ни звука. У него было необъяснимое чувство, что кто-то прислушивается к его шагам так же внимательно, как он прислушивается к шорохам в доме. Сэм уже начал подумывать, не вернуться ли ему в дом Гарри, чтобы разработать новый план связи с ФБР. Мексиканская кухня, пиво «Гиннес» и фильмы с Голди Хоун — особенно «В полном разгаре» — теперь казались ему бесценными сокровищами, они были сейчас для него не надуманным смыслом существования, а удовольствиями настолько изысканными, что у него не было слов, чтобы описать их. Единственной причиной, которая не позволила ему покинуть этот чертов дом, была Крисси Фостер. Он вспомнил ее сверкающие чистые глаза. Ее непосредственное детское лицо. Ее оживление и выразительность, с которыми она пересказывала свои приключения. Да, он, наверное, потерял Скотта, и, наверное, уже поздно что-то исправить. Но Крисси была еще жива в самых разных смыслах этого слова — она была жива физически, умственно, эмоционально, — и ее жизнь зависела от него, от Сэма. Никто другой не сможет спасти ее от обращения. До наступления полуночи оставалось чуть меньше двенадцати часов. Сэм прошел через гостиную и вышел в коридор. Он прижался спиной к стене в нескольких шагах от полуоткрытой двери в комнату, из которой доносились странные звуки. В данный момент там раздавалось какое-то пощелкивание. Сэм напрягся и приготовился действовать. Звуки были негромкими и мягкими. Они совсем не были похожи на скрежет когтей по стеклу, который он слышал прошедшей ночью. Звук был похож скорее на щелканье контактов многочисленных реле, на звук от падения множества костяшек домино: щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк… Снова стало тихо. Держа револьвер обеими руками, Сэм ступил на порог комнаты и толкнул дверь ногой. Он шагнул в комнату и сразу же занял удобную позицию для стрельбы. Жалюзи на окнах были опушены, и комната освещалась только светом от двух компьютерных экранов. На экранах были фильтры, они превращали изображение в черный текст на янтарно-желтом фоне. Из-за этого все предметы в комнате, на которые падал свет, как бы светились золотом. Перед терминалами спиной друг к другу сидели два человека. — Не двигаться! — выкрикнул Сэм. Люди за компьютерами никак не отреагировали. Они были настолько неподвижны, что сначала Сэм подумал, что они мертвы. Необычное освещение в комнате с непривычки резало глаза. Когда глаза привыкли к этому свету, Сэм увидел, что люди за компьютерами не только неподвижны, но и мало чем напоминают обычных людей. Холодная волна ужаса судорогой прошла по его телу. Голый человек, не обращающий никакого внимания на Сэма, был, по всей вероятности, Харли Кольтраном. Он сидел в рабочем вращающемся кресле на колесиках перед компьютером в правой части комнаты и был соединен с компьютером посредством двух кабелей в дюйм толщиной. Эти кабели, казалось, состояли из какого-то органического, телесного материала и светились как живые в янтарном свете экрана. Они тянулись от компьютерного блока, с которого была снята передняя панель, прямо в грудную клетку мужчины, под его ребра, они сливались с кожей в одно целое. Они пульсировали. — Боже праведный, — прошептал Сэм. Руки ниже локтя, казалось, были полностью лишены плоти и кожи, от них остались только сверкающие золотом кости. Эти кости торчали из локтевого сустава подобно рычагам механического робота. Клеммы на концах костей плотно удерживали кабели. Когда Сэм приблизился к Кольтрану, то увидел, что и суставы, из которых торчали кости, были не похожи на человеческие, кости были скреплены жестко и даже армированы металлическими прутьями. Сэм с ужасом наблюдал, с какой страшной силой вибрируют кабели. Если бы не захваты-руки, эти кабели давно порвались бы. Беги отсюда. Это шептал ему внутренний голос, он уговаривал его уходить, и как можно скорей. Но этот голос не принадлежал взрослому Сэму Букеру, это был голос Сэма-ребенка. Душа своим детским голосом призывала его спасаться, она звала его вырваться из этого ужаса. Крайняя степень ужаса, подобно машине времени, в одно мгновение перенесла его на много лет назад, в то забытое, но невыносимое состояние, в котором дети проводят часть своего детства. Уходи отсюда, беги, беги, уходи отсюда. Сэм изо всех сил старался не поддаться искушению. Он хотел понять. Что здесь происходит? Что случилось с этими людьми? Почему? В какой связи это находится с «призраками», которые бродят по ночам в городе? Очевидно, что, открыв какие-то новые микротехнологии, Томас Шаддэк нашел способ изменять радикально и навсегда биологию человека. Общая картина была Сэму ясна, но, зная только это и больше ничего, он был подобен человеку, знающему, что в море водится рыба, но ни разу не видевшему ее. Под поверхностью факта скрывались глубины, полные тайн. Уходи отсюда. Ни мужчина, ни женщина, казалось, не замечали его присутствия в комнате. Непосредственная опасность ему, видимо, не угрожала. «Беги», — шептал ему перепуганный насмерть мальчуган. По янтарному полю экрана нескончаемым потоком» двигались цифры, символы, графики, таблицы самых разных типов и степеней сложности. Харли Кольтран неотрывно следил за ними, упершись взглядом в мигающий экран. Глаза его, однако, не имели ничего общего с глазами обычного человека, так как у Харли Кольтрана их вообще не было. Их сменили своеобразные сенсорные устройства: крошечные кристаллы из рубинового стекла, узлы тонких проводников, керамические пластинки с вафельным рисунком на поверхности. Сэм держал револьвер в правой руке. Он больше следил за предохранителем, а не за спусковым крючком, он боялся, что, потеряв над собой контроль, начнет стрелять. Грудная клетка человека-машины мерно вздымалась и опускалась. Рот был приоткрыт, и из него ритмично вырывался теплый воздух. На висках и на шее мужчины было заметно биение частого пульса. Однако пульсирующие узелки были расположены не только там, но и в других местах, совершенно несвойственных обычному человеку: в центре лба, на скулах, в четырех точках на груди и на животе, на предплечьях. Сосуды в этих местах как бы приподнялись из плоти и выступали на поверхности кожи темными пульсирующими островками. По всей видимости, вся сосудистая система существа изменила свое строение и свойства, чтобы обслуживать новые функции организма. Еще более диким было то, что эти пульсы бились явно с разной частотой, словно у этого организма было два сердца. Из полуоткрытого рта человека-машины раздался чудовищный вопль. От неожиданности Сэм вздрогнул и тоже вскрикнул. Это были те самые звуки, которые он слышал в гостиной и которые привели его сюда, но он раньше предполагал, что их может издавать только компьютер. Сэм поморщился от электронного свиста, звеневшего в ушах, и внимательнее посмотрел на «глаза» человека-робота. Датчики явно были включены. Рубиновые кристаллы светились каким-то внутренним светом, и Сэм предположил, что они зафиксировали его присутствие, подобно приборам ночного видения или каким-то иным способом. А может быть, он ошибается, и Кольтран вовсе не замечает его, так как благодаря своему превращению он переместился в иную систему координат, и в этой системе Сэм не имеет никакой ценности, никакого значения. Вопль стал стихать, затем внезапно прекратился полностью. Не соображая, что он делает, Сэм поднял револьвер и с расстояния в восемнадцать дюймов прицелился в лицо Харли Кольтрана. Он сам не заметил, как снял револьвер с предохранителя и положил палец на спусковой крючок, готовясь к выстрелу. Он колебался. В конце концов, Кольтран оставался, пусть в малой степени, человеком. Никто не знает, насколько добровольно он принял этот ужасный образ. Может быть, в этом превращении он нашел для себя счастье? Сэму было явно не по себе в роли судьи, не менее трудно давалась ему и роль карающего меча. Ведь сам он считал, что человеческая жизнь на земле ненамного отличается от ада, и, следовательно, он не мог не допускать, что Кольтран нашел из этого недостойного существования пусть странный, но выход. Полуорганические поблескивающие кабели-сосуды, соединяющие человека с машиной, сокращались и подрагивали. Они бились, удерживаемые лишь захватами-руками. Изо рта человека-машины вырывалось дыхание, в котором странным образом смешались запахи жареного мяса и перегретой изоляции. Датчики-глаза сверкали и поворачивались в своих гнездах-глазницах. На лице Кольтрана, позолоченном отсветами с экрана, застыла маска, неподвижность которой нарушали лишь несколько пульсирующих точек. Пульсы на скулах и висках напоминали спрятавшихся под кожей насекомых. Содрогнувшись от отвращения, Сэм нажал на спусковой крючок. В замкнутом пространстве выстрел прозвучал как удар грома. Голова Кольтрана откинулась назад, затем упала на грудь, истекая кровью и выпуская из себя едкий дым. Кабели-сосуды продолжали сокращаться в том же ритме, словно через них все время перекатывалась какая-то таинственная жидкость. Сэм чувствовал, что Кольтран продолжал жить. Он прицелился в экран компьютера. Внезапно одна из костлявых лап-захватов Кольтрана выпустила кабель. Со стуком и хрустом костей она мгновенно вытянулась вверх и вцепилась в запястье Сэма. Сэм закричал от боли. Его крику вторили электронные пощелкивания, гудки и свисты. Адская рука обхватила запястье с такой силой, что костяные пальцы Кольтрана начали разрезать кожу. Сэм почувствовал, что манжета его рубашки пропитывается теплой кровью. Он лихорадочно начал соображать, что нечеловеческой силы робота достаточно для того, чтобы перекусить era руку и сделать его инвалидом. Если же этого не произойдет, то железный захват перекроет кровообращение в его руке, и он выпустит из пальцев револьвер. Кольтран тем временем пытался поднять свою простреленную голову. Сэм вспомнил в эту минуту изуродованное лицо своей матери, ее зловещий, немой, застывший оскал… Он ударил ногой по креслу Кольтрана, надеясь, что оно покатится и его мучитель оторвется от источника своей силы. Но колеса кресла были заблокированы. Хватка стала еще сильней, и Сэм застонал, у него помутилось в глазах. Он, однако, заметил, что Кольтрану удается, пусть медленно, но поднимать голову вверх. «Господи, я не хочу видеть это обезображенное лицо!» Сэм собрал все свои силы и правой ногой ударил три раза подряд по кабелям-сосудам, связывающим Кольтрана с его компьютером. Кабели оборвались и с хлюпающим звуком отвалились от тела Кольтрана; он обмяк в кресле. В тот же момент мертвая хватка костяной руки ослабла, и, освободив кисть Сэма, рука-клемма со стуком упала на подлокотник кресла. В комнате продолжали раздаваться затухающие удары электронного сердца, их сопровождало еще какое-то странное гудение. Сэм был в шоке; он схватил левой рукой свое правое запястье, как будто это могло хоть немного смягчить боль. Неожиданно что-то схватило его за ногу. Сэм увидел, что кабели, оборванные им только что, превратились в подобие змей, они были все еще подключены к компьютеру и получали из его недр энергию. Они увеличились: выросли в длину в два раза. Один из них обвился вокруг его левой лодыжки, а второй вокруг правой голени. Сэм попытался вырваться. Это ему не удалось. «Змеи» поползли вверх по его ноге. Сэм понял, что они стремятся добраться до не защищенной одеждой кожи в верхней части его туловища, они хотят установить контакт с его плотью и таким образом и его превратить в часть компьютерной системы. Револьвер был наготове. Сэм вновь прицелился в экран. На экране больше не было потока цифр и символов. Вместо них там появилось лицо Кольтрана. На нем вновь сверкали датчики-глаза, и казалось, он смотрит с экрана на Сэма и говорит с ним: — … жажда, жажда… хочу… жажда. Сэм не понимал происходящего, но сознавал, что Кольтран все еще продолжал жить. Он не умер — во всяком случае, смерть тела Кольтрана еще не означала его полной смерти. Какая-то часть человека еще оставалась там, в компьютере. Словно подтверждая это, Кольтран расплавил стекло экрана, и оно приняло форму его лица. Стекло как будто мгновенно превратилось в желатин, и Кольтран выступил своим стеклянные лицом из компьютера, решив больше не прятаться в нем. В это трудно было поверить. Тем не менее это происходило на глазах у Сэма. Харли Кольтран, по всей видимости, обладал способностью видоизменять материю усилием своей воли, своего разума, который теперь существовал отдельно от его тела. Сэма сковал ужас. Он был не в состоянии нажать на спусковой крючок. Мир раскололся, и через трещину хлынул кошмарный поток злого умысла, ничем не ограниченного в своих возможностях. Этот обвал грозил разрушить другой мир, тот, который был хорошо известен Сэму и который он — неожиданно для себя — полюбил самой горячей любовью. Одна из «змей» доползла ему до пояса и сумела пробраться под свитер. Сэм почувствовал страшную боль, как будто до него дотронулись раскаленным добела железным прутом. Эта боль вывела его из оцепенения. Сэм выстрелил в компьютер два раза. Первым выстрелом он разрушил экран компьютера, взорвал лицо Кольтрана, которое, несмотря на удивительные превращения, так и осталось обычным стеклом. Второй выстрел пришелся на основной блок компьютера, микропроцессор был разрушен, и вместе с ним прекратилась жизнь электронного чудовища-Кольтрана. Щупальца-«змеи» упали на пол. Они корчились словно в конвульсиях и уменьшались в размере. Комнату по-прежнему наполняло электронное гудение, пощелкивание и свист, правда, мало-помалу звуки стихали. Сэм обернулся. Женщина, сидевшая раньше спиной к нему, теперь поворачивалась лицом. Черные блестящие «змеи» растягивались, позволяя ей поворачиваться в кресле. Женщина, так же как и ее муж, была обнаженной, все тело ее свидетельствовало о чудовищном превращении, которое она добровольно претерпела. Вместо глаз у нее также появились электронные датчики, но иного рода. Это были большие, раза в три крупнее обычных человеческих глаз, хрусталики из красноватого стекла, глазные впадины также расширились до этого размера. Вероятно, эти датчики были способны воспринимать весь спектр излучений, и Сэм понял, что его увидели. Все тело женщины было пронизано сосудами, лежащими прямо у поверхности кожи; можно было разглядеть все сплетения, все пульсирующие точки. Она напоминала какое-то странное учебное пособие, тем более что некоторые сосуды были предназначены явно не для крови, и жидкость, струившаяся в них, просвечивала сквозь стенки сосудов то зеленым, то желтоватым цветом, мерцающим в темноте. Не успел Сэм опомниться, как произошло следующее — прямо на поверхности ее лба вдруг возникла и помчалась на него «змея» толщиной с карандаш. «Змея» вонзилась в лоб Сэма над правым глазом. Он почувствовал, как она просверливает его кожу. Правый глаз залила кровь. Но два его выстрела раздались почти одновременно с ударом «змеи». Он не промахнулся. Первый выстрел поразил женщину в грудь, второй разнес на куски компьютер. Искры взлетели к потолку и погасли. «Змея» обмякла и свалилась на пол, не успев подключить его мозг к компьютерной системе. Сумрак в комнате лишь слегка нарушался полосками света, проникавшими сквозь щели в жалюзи. Сэму ни с того ни с сего пришла на ум фраза, сказанная специалистом по компьютерам во время одного из семинаров в ФБР: «Компьютеры работают более эффективно, если они соединены между собой: при этом происходит параллельная обработка данных». Он истекал кровью. Отступив к двери, Сэм щелкнул выключателем и включил торшер. Он начал заряжать свой револьвер, не теряя из виду тела электронных чудовищ. В карманах куртки еще оставались патроны. В комнате было на удивление тихо. Ничто не двигалось. Сердце Сэма колотилось так, что, казалось, оно вот-вот вырвется из грудной клетки. Два патрона упали на пол, так как руки продолжали дрожать. Сэм не осмелился нагибаться, чтобы подобрать их. Он был почти убежден, что если он хоть на секунду ослабит внимание, то одно из чудовищ воспользуется этим, чтобы с быстротой молнии подлететь к нему и атаковать его своими щупальцами-«змеями». Сэм услышал, что на улице идет дождь. После утреннего затишья вновь начинался ливень. За шумом дождя вряд ли кто-то услышал выстрелы. Сэм, во всяком случае, очень надеялся на это. Если же он ошибается, ему, очевидно, придется вскоре снова вступить в перестрелку. Сэм стер со лба кровь, убедился, что вполне хорошо видит правым глазом. Но правая рука продолжала болеть. Если будет надо, он может стрелять и левой, их этому учили. Зарядив револьвер, Сэм подошел к столу, на котором стоял дымящийся компьютер Кольтрана, отсоединил телефон от модема и подключил его напрямую к телефонной розетке. Он поднял трубку и с удовлетворением услышал, что линия работает. Во рту пересохло. Сэм боялся, что не сможет говорить, когда ему ответят. Он набрал номер отделения ФБР в Лос-Анджелесе. Раздались щелчки, затем наступила пауза. После нее голос с магнитофонной ленты произнес: «К сожалению, телефонные разговоры по этой линии в настоящий момент невозможны». Сэм повесил трубку, вновь поднял и повторил набор. «К сожалению, телефонные разговоры по этой линии…» Сэм бросил трубку. В Мунлайт-Кове, как теперь стало ясно, работали далеко не все телефонные линии. И ясно было также, что даже с работающих телефонов можно было позвонить лишь по определенным номерам. По разрешенным номерам. Местная телефонная компания, по сути дела, превратилась в коммутатор для особого рода людей — для «обращенных». Он стоял в раздумье у телефона, когда услышал какое-то движение сзади него. Кто-то старался подкрасться незаметно. Сэм мгновенно обернулся. Сью Кольтран находилась в трех футах от него. Она уже не была прикована к компьютеру, а через один из кабелей подсоединена к электророзетке. Сэму шли на ум совсем уже нелепые мысли: «Да, доктор Франкенштейн, настали совсем другие времена, теперь уже не нужны ваши ухищрения, не нужен антураж из грома и молний: теперь мы просто подсоединяем чудовищ к розеткам, энергию для них дает государственная энергетическая компания». Сью Кольтран издала крик, похожий на вопль доисторического зверя, и бросилась на Сэма. Вместо пальцев на руках у нее были странные шипы, напоминавшие разъемы для компьютера, но гораздо острее, они выглядели как когти. Сэм упал на бок, столкнувшись с креслом, в котором сидел труп Харли Кольтрана, и в падении выстрелил в чудовище, летевшее на него. Все пять пуль ушли одна за другой. Три первые опрокинули Сью Кольтран навзничь. Две последние попали в стену и вырвали из нее куски штукатурки; Сэм расстрелял все патроны, так как не смог снять пальца со спускового крючка. Она попыталась подняться вновь. Почти как вампиры, которых не убьешь пулей, подумал Сэм. Ему надо было иметь под рукой нечто, что соответствовало бы серебряным пулям для оборотней. Сосуды чудовища все еще продолжали светиться, в некоторых местах из-под кожи вылетали искры, видимо, пули замкнули какие-то контакты. В револьвере уже не оставалось патронов. Сэм пошарил в своих карманах. Патронов не было. «Уходи отсюда», — сказал внутренний голос. Раздался еще один электронный вопль, оглушительный, режущий. Чудовище снова выпустило в направлении Сэма двух «змей», но они не долетели до него — видимо, энергия у существа была уже на исходе, — а втянулись обратно, словно щупальца в тело моллюска. Сью Кольтран тем не менее медленно поднималась с пола. Сэм отполз к двери и нашарил на полу два патрона, которые выронил, когда перезаряжал оружие. Он затолкал их в барабан револьвера. — …ж-а-а-а-ж-д-а-а… …ж-а-а-а-ж-д-а-а… Она уже поднялась на ноги и шла к нему. Сэм, держа револьвер обеими руками, тщательно прицелился и выстрелил ей в голову. «Надо выключить ее процессор, — подумал он с мрачным юмором, — она не остановится, пока он работает. Если вывести из строя процессор, она превратится в набор деталей». Сью Кольтран рухнула на пол. Свет в рубиновых глазах погас, они почернели. Она уже не шевелилась. Неожиданно из ее черепа вырвались языки пламени. Сэм подбежал к розетке, к которой было подключено существо, и ударом ноги вышиб из нее кабельный разъем. Робот-женщина продолжала гореть. Сэм не мог допустить, чтобы в доме начался пожар. Если в сгоревшем доме обнаружат трупы, то все соседние дома будут обысканы. Сэм уже собирался набросить на горящую голову какую-нибудь тряпку, как горение прекратилось. В комнате стоял запах гари и еще чего-то, что не поддается определению. Сэм едва держался на ногах. Его тошнило. Он сжал зубы и собрал всю свою волю. Отчаянно хотелось бежать из этой комнаты куда глаза глядят, но Сэм заставил себя задержаться еще на одну минуту и выдернуть из сети вилки обоих компьютеров. Они, конечно же, окончательно вышли из строя, но он из суеверия опасался, что если у компьютеров будет хоть какая-то возможность получать энергию извне, то она возродит их снова подобно тому, как это произошло в фильме про доктора Франкенштейна. В дверях комнаты Сэм остановился, оперся спиной о косяк, чтобы дать отдых гудевшим от напряжения ногам, и бросил еще один взгляд на трупы чудовищ электронного века. Он почему-то думал, что после смерти они вновь обретут свой нормальный образ, так же как оборотни в фильмах после того, как их поразит серебряная пуля. Но так бывает только в кино. Здесь же не было ничего сверхъестественного. Человек сам для себя устроил этот ад, обойдясь без помощи злых духов и ночных призраков. Кольтраны остались после смерти такими, какими были до нее, — чудовищами, состоящими наполовину из плоти, наполовину из металла; наполовину из крови, наполовину из кремния. Сэм не понимал, каким образом они превратились в тех, кем явились его взору, но он с трудом вспомнил, что для таких существ есть особый термин. Их называют киборгами — людьми, чья жизнь зависит или поддерживается тем или иным электронным или механическим устройством. Киборгами являются люди, носящие на себе электронные стимуляторы сердечного ритма, и это им на благо. Киборгами являются люди, потерявшие функцию обеих почек, — они постоянно нуждаются в гемодиализе при помощи специального аппарата, но эта помощь им на благо. В случае же с Кольтранами понятие киборга было доведено до абсурда. Достижения кибернетики обернулись для них кошмаром: не только их физиология, но и их разум стали зависеть и, возможно, даже определяться машиной. Сэм начал задыхаться. Он покинул задымленную комнату и, пройдя через весь этаж, вновь оказался у кухонной двери, через которую он вошел в дом. На всем пути к этой двери он каждую секунду ожидал услышать за спиной этот странный получеловеческий, полумашинный голос, кричащий о своей «ж-а-а-ж-д-е-е». Он боялся, что, оглянувшись, вновь увидит за собой одного из Кольтранов, которому удалось восстановиться благодаря остаткам электроэнергии в аккумуляторах.Глава 82
У главных ворот компании «Новая волна», расположившейся на северной границе Мунлайт-Кова, всегда дежурил охранник с эмблемой компании на нагрудном жетоне. Он наклонился к въезжавшей в ворота полицейской машине и, узнав Ломена Уоткинса, не стал его даже останавливать. Уоткинса здесь хорошо знали еще с тех времен, когда в городе не было ни одного Нового человека. Штаб-квартира компании была расположена в здании, сама архитектура которого подчеркивала мощь, престиж и преуспевание «Новой волны». Комплекс зданий проектировал один из самых модных архитекторов. Он был явно неравнодушен к скругленным углам и не оставил на домах ни одной прямой стены, все вертикальные части сооружений представляли собой сочетание вогнутых и выгнутых поверхностей. Два огромных трехэтажных здания были построены в две очереди с перерывом в четыре года, украшены по фасаду ракушечником, имели большие затемненные стекла и прекрасно вписывались в окружающую местность. Из тысячи четырехсот служащих компании примерно тысяча были жителями Мунлайт-Кова. Остальные обитали в близлежащих районах округа. И все они, и те и другие, конечно же, попадали в поле действия микроволновой антенны — тарелки, расположенной на крыше главного здания. Объезжая здания компании, чтобы поставить свою машину на стоянку, Ломен подумал: «Нет никаких сомнений — Шаддэк превратился в нашего преподобного Джима Джонса. Он может в любой момент потянуть за собой в небытие всех своих последователей. Это фараон наших дней. Если он умирает, все, кто служил ему при жизни, должны умереть, чтобы продолжать служить ему в ином мире. Дерьмо. Да никто уже давным-давно не верит в эту загробную жизнь. Впрочем, нет. Люди, верующие в Бога, верят и в загробную жизнь, это вселяет в них надежду. Но для этой веры необходимо иметь хоть какие-то человеческие чувства». Новые люди верили в Бога точно так же, как они верили в Санта-Клауса. Единственное, во что они действительно верили, — это во всесилие техники и кибернетическое будущее человечества. Возможно, некоторые из них не верили даже в это. Ломен относился к таким людям. Он уже не верил ни во что — и это пугало его до смерти, так как прежде он верил очень во многое. Уровни прибылей и продаж у компании «Новая волна», как и число ее служащих, были очень высокими даже для микротехнологической промышленности. Ее решимость платить сколько угодно за талантливые мозги была видна хотя бы по большому количеству автомобилей престижных марок на ее автостоянке. Здесь были «БМВ», «Порше», «Корветы», «Кадиллаки», «Севильи», «Ягуары», а также последние модели японских автомобилей, напичканные самыми передовыми разработками. На этот раз на стоянке была примерно половина от общего количества автомобилей. Возможно, владельцы второй половины работали на дому, используя модемную связь. Сколько их было, таких, как Денни? Поставленные рядами автомобили на мокрой эстакаде напоминали Ломену правильные ряды могильных камней на кладбище. Все эти совершенные машины, весь этот холодный металл, все эти сотни ветровых стекол, отражающих плоское серое осеннее небо, вдруг показались ему знаком предсказания скорой смерти. Ломену открылось на этой стоянке будущее всего этого города: неподвижность и жуткая вечная кладбищенская тишина. Если власти за пределами Мунлайт-Кова прознают о случившемся в этом городе, если вдруг окажется, что практически все Новые люди превратились в «одержимых», если выяснится, что проект «Лунный ястреб» имеет катастрофические последствия, то средством спасения будет не сильнодействующий наркотик, как у преподобного Джима Джонса из Джонстауна. Этим средством станут электронные команды на уничтожение, которые будут приняты микросферами каждого Нового человека, переведены на язык команд управления и доведены до трагического исхода. Все Новые люди погибнут одновременно, и в одну минуту Мунлайт-Ков превратится в кладбище для непогребенных. Ломен ехал через всю стоянку, он направлялся на место, зарезервированное для руководителей компании. Ломен размышлял: «Если ждать того момента, когда Шаддэк убедится в провале своего проекта и захочет сам увести с собой в могилу тысячи обращенных, это может иметь последствия, очень выгодные для компьютерного гения. Он подаст это так, что мир изумится степени его власти над людьми, над их жизнью и смертью. Другие маньяки в разных странах сделают из него героя, кумира. Они захотят повторить его эксперимент. Именно на это будет рассчитывать Шаддэк при провале своего проекта. Если же проект «Лунный ястреб» закончится успешно, то Шаддэку, возможно, удастся обратить всех людей на Земле. Тогда он воистину станет хозяином мира. Но он не хочет проигрывать при любом исходе дела. Даже если он умрет, то умрет, покрытый славой гения, он оставит после себя легенду, в которую поверят многие тысячи других безумцев. Они тоже захотят стать Гитлерами электронной эры». Ломен выруливал на стоянку для директоров. Он вытер пот с лица. Руки его дрожали. Ему безумно хотелось бросить все свои планы и отдаться во власть сладкой, примитивной свободы. Но ему удалось и на этот раз преодолеть искушение. Он продолжал анализировать ситуацию: «Единственный способ разрушить легенду о гении — это убить Шаддэка еще до того, как он покончит жизнь самоубийством. Конечно, в этом случае и он, и все остальные Новые люди тоже умрут, но мир будет знать о том, что Джим Джонс новой эры погиб от руки одного из своих последователей. Это сразу же очертит границу власти Шаддэка, он уже не будет считаться гением всех времен и народов. Это будет ущербное божество, он разделит участь доктора Моро, и его проект будет выглядеть жалкой попыткой одного из многих маньяков, потерпевших неудачу». Ломен с разочарованием обнаружил, что на стоянке нет ни одной из машин, принадлежавших Шаддэку. Может быть, его подвез до работы один из его заместителей или он поставил машину в другом месте? Ломен припарковал свой автомобиль на место, предназначенное для самого Шаддэка, и выключил двигатель. Револьвер был у него в кобуре. Он еще раз проверил, заряжен ли он. Еще по дороге от дома Шаддэка до штаб-квартиры компании, остановившись на обочине, Ломен написал записку, которую собирался положить на труп Шаддэка. В ней он подробно объяснил, почему ему пришлось убить своего создателя. Когда труп обнаружат люди из внешнего мира, им станет понятно, что произошло в Мунлайт-Кове. Он убьет Шаддэка вовсе не потому, что считает себя таким благородным. Самоотверженность невозможна без глубоких чувств, а он их начисто лишен. Он убьет Шаддэка только для того, чтобы тот не узнал ничего о Денни. Если Шаддэк узнает, что соединение человека и машины в одно существо возможно и уже осуществилось на практике, то он найдет способ проделать то же самое с другими, он найдет способ превратить их всех в некие придатки к компьютерам. Вместо глаз — шарики ртути… Слюна из постоянно открытого рта… Червеобразный отросток, выросший изо лба мальчика и стремящийся слиться с компьютером… Эти холодящие кровь образы, дополненные десятками других, не менее страшных, вновь и вновь возникали в мозгу Ломена Уоткинса. Он убьет Шаддэка только для того, чтобы самому не стать подобием Денни. Развенчание легенды о Шаддэке-гении будет всего лишь полезным побочным эффектом его рационалистичного поступка. Ломен положил револьвер обратно в кобуру и вышел из машины. Он вбежал в парадный подъезд главного здания компании сквозь крутящиеся стеклянные двери, повернул направо и подошел к столу дежурного секретаря. Обстановка в приемной была ничуть не менее роскошной, чем в самых знаменитых электронных компаниях Силиконовой долины, которая находилась к югу от Мунлайт-Кова. Здесь было много мрамора, много полированной бронзы, хрусталя. Все должно было говорить о процветании «Новой волны». В этот день в приемной дежурила Дора Ханкенс. Он был знаком с ней едва ли не с детства, она была на год старше его. Когда он учился в колледже, у него пару раз были свидания с ее сестрой. Дора посмотрела на Ломена, но не сказала ни слова. — Шаддэк у себя? — спросил он. — Нет. — Точно? — Да. — Когда будет? — Спроси у его секретаря. — Да, я, пожалуй, поднимусь наверх. — О'кей. Ломен вошел в лифт и нажал на кнопку, чтобы ехать на третий этаж. Ему вспомнился его разговор с Дорой Ханкенс незадолго до того, как они оба прошли через обращение. Они тогда просто поболтали ни о чем, спросили друг друга о семейных делах, обсудили погоду. Теперь такой разговор между ними невозможен. Разговор ни о чем — это удовольствие, которое теперь им недоступно. «Обращенные» не видят в обмене любезностями никакого смысла. Ломен помнил, что такие разговоры были частью его прежней жизни, но не мог вспомнить, для чего они были нужны и почему когда-то доставляли удовольствие. Офис Шаддэка находился в северо-западном крыле третьего этажа. В первой комнате его офиса располагалась приемная, устланная бежевым ковром от Эдварда Филдса, здесь стояла кожаная мебель фирмы «Рош Бобуа», середину комнаты занимал стол из темной бронзы с крышкой из дюймового полированного стекла. Единственным предметом искусства была картина Яспера Джонса, это была не копия, а оригинал. «Что же станет с художниками в наступающем Новом мире?» — подумал Ломен Уоткинс. Он приблизительно знал, что с ними будет. Они останутся без работы. Ведь искусство — это чувства, выраженные с помощью кисти, красок, холста, с помощью слов или музыкальных звуков. В Новом мире не будет чувств, а значит — не будет и искусства. А если оно и будет, то родится новый жанр — искусство страха. Произведения писателей будут изобиловать словами и образами, выражающими мрак и ужас. Композиторыбудут создавать только похоронные марши. Художники будут предпочитать черную краску всем другим. Вики Ланардо, секретарша Шаддэка, сидела за своим столом. Она безо всяких приветствий сообщила Ломену, что босса нет на месте. Дверь в кабинет Шаддэка была открыта. Свет был выключен. Помещение освещали лишь слабые отблески серого дня, пробивавшиеся сквозь жалюзи. — Когда он будет? — Не знаю. — У него что-нибудь назначено на сегодня? — Нет. — Вы знаете, где он сейчас? — Нет. Ломен покинул приемную. Он обошел другие комнаты третьего этажа, но никаких следов пребывания Шаддэка не обнаружил. Очевидно, «великий человек» решил следить за последним этапом обращения горожан из своего автомобиля. «Он боится меня, — подумал Уоткинс, — он испугался, когда я пригрозил застрелить его. Он боится меня и поэтому отсиживается в машине или в каком-нибудь убежище, где его трудно найти». Ломен вышел из здания, сел в свою машину и отправился на поиски своего создателя.Глава 83
Сэм сидел на скамейке в ванной комнате первого этажа, а Тесса вновь играла роль медсестры, которую недавно ей уже пришлось исполнять для Крисси. Но раны Сэма были куда серьезней. На лбу у него, над его правым глазом, была рана величиной с цент. В центре ее кожа была содрана до самой кости. Тесса зажала кровоточащую рану тампоном, затем обработала ее йодом и наложила повязку из ваты и марли. Но даже после всех этих процедур на марле проступило бурое пятно крови. Пока Тесса обрабатывала раны, Сэм рассказывал о том, что с ним приключилось: — …И если бы я не выстрелил ей в голову, тогда бы… если я помедлил бы еще мгновение, я думаю, этот отросток, не знаю, как еще его назвать, он бы просверлил мой череп и вонзился бы мне в мозг. Она подсоединилась бы ко мне так же, как она была подсоединена к своему компьютеру. Крисси уже переоделась в высохшие джинсы и рубашку и стояла у дверей ванной комнаты с побелевшим от ужаса лицом и ловила каждое слово из рассказа Сэма. Гарри сидел в своей инвалидной коляске рядом с ней. Муз на сей раз расположился у ног Сэма, видимо, собака сочла, что сейчас поддержка нужна именно ему, а не Гарри. Сэма от пережитого знобило. Этот озноб явно не был следствием долгого пребывания под дождем. Он не мог сдержать дрожь, и время от времени было слышно, как его зубы выбивают частую дробь. Чем дальше рассказывал Сэм, тем больше его озноб передавался Тессе, и в какой-то момент она тоже начала дрожать. Кожа на запястье правой руки Сэма была глубоко разрезана с двух сторон, когда Харли Кольтран своим костяным зажимом схватил его руку с револьвером. Слава Богу, важные сосуды не пострадали. Тесса быстро смогла остановить кровотечение. Правда, на запястье остались кровоподтеки, но с ними ничего нельзя было поделать. Сэм жаловался на боль в суставе, его рука плохо действовала, однако, по мнению Тессы, серьезной травмы сустава не было. — …Впечатление такое, что они каким-то образом получили возможность управлять своей физической формой, — продолжал Сэм свой рассказ. — Они, судя по всему, способны превращаться в кого угодно. Похоже, что Крисси была права, когда предположила, что один из этих священников захотел и тут же превратился в персонаж из фильма ужасов… Крисси подтвердила кивком головы сказанное ею ранее. — Я хочу сказать, что наблюдал собственными глазами, как они превращались непонятно в кого, выпускали из себя эти змеевидные отростки. Правда, надо добавить, что эта их власть над собственным телом и то, что они хотели сделать с собой, — все это больше похоже на дурной сон. Рана на животе Сэма была третьей и последней. Так же, как и рана на лбу, она представляла собой кружок вырванного мяса и кожи величиной с монету в один цент. Но в отличие от первой, как бы просверленной чем-то острым, эта была похожа скорее на ожог от прикосновения раскаленного металла. Вероятно, именно поэтому кровотечения из раны почти не было. Гарри задал Сэму вопрос: — Как вы считаете, эти люди сами захотели превратиться в тех, в кого превратились, или их каким-то образом принудили к этому машины? — Не знаю, — признался Сэм, — думаю, нельзя исключить ни того, ни другого. — Но каким образом это могло произойти? Как возможно произвести такие глубокие изменения в человеческом организме? И каким образом связать то, что произошло с Кольтранами, с этими «призраками» на улицах? — Черт бы меня побрал, если я знаю, как ответить на эти вопросы, — ответил Сэм. — Каким-то образом все это связано с «Новой волной». Должно быть так. Никто из нас не обладает достаточными знаниями в области микротехнологии, чтобы вести серьезный разговор на эту тему. Это пока кажется нам чудом, чем-то сверхъестественным. Единственный способ разобраться в происходящем состоит в том, чтобы связаться с внешним миром и получить оттуда помощь. Если мы изолируем Мунлайт-Ков, осмотрим все лаборатории, все документы компании «Новая волна», мы, вероятно, сможем восстановить всю картину, так же как пожарные эксперты восстанавливают картины по оставшемуся после пожара пепелищу. — Пепелище? — повторила Тесса. Сэм уже встал, и она помогала ему надеть рубашку. — Эти ваши слова о пожаре, пепелище, да и все остальное звучит так, словно нас отдаляют от взрыва, от катастрофы считанные часы. Вы так на самом деле считаете? — Да, я так считаю, — твердо ответил Сэм. Он попытался застегнуть пуговицы на рубашке одной рукой, но понял, что ничего из этого не выйдет. Тесса начала ему помогать. Она почувствовала, что Сэма все так же бьет озноб. Он продолжал: — Я делаю такой вывод, так как они не случайно заметают следы… не случайно в городе бродят по улицам странные существа… все это признаки катастрофы, они пытаются что-то поправить, но у них ничего не получается, и они оказываются все ближе к краю пропасти. Сэм задыхался; он сделал паузу, набрал в грудь побольше воздуха. — То, что я увидел в доме Кольтрана, никак не могло быть кем-то запланировано. Люди сами на такое не решатся, и никто не может их заставить пойти на это. Эксперимент явно вышел из-под контроля, эти люди сошли с ума, все встало с ног на голову. Если подобное происходит и в других домах города, то, клянусь Богом, в течение ближайшего времени та бомба, которую задумали создать в «Новой волне», взорвется прямо у них под ногами, хотят они этого или нет. Этот взрыв, эта катастрофа уже разносит город на куски, и мы с вами находимся едва ли не в центре этого взрыва. Тесса отметила про себя не только бледность и озноб Сэма. С того момента, как он вернулся и она начала обрабатывать его раны, его словно подменили, это был совсем другой человек. Он и вел себя по-другому, был ни с того ни с сего нежен и ласков. Тессу такая перемена озадачила и даже напугала. Сэм обнял Тессу за плечи и стал успокаивать ее, говоря, что с ним все в порядке, когда она с ужасом увидела рану на его лбу. Он, казалось, был до смерти рад увидеть их всех живыми и… не изменившимися за время своего отсутствия. Он крепко обнял также и Крисси, словно она была его родной дочерью, и стал ей повторять: «Все будет нормально, все будет хорошо». Он видел, что девочка дрожит от страха. Потом Сэм схватил здоровую руку Гарри и долго не отпускал ее. Когда Тесса перевязывала его раны, он несколько раз дотрагивался до ее рук и даже один раз коснулся своей ладонью ее щеки, словно не веря, что человеческая кожа может быть такой живой и теплой. С такой же нежностью он прикоснулся к рукам Крисси. Насколько заметила Тесса, до своего возвращения из дома Кольтрана Сэм был абсолютно не склонен к телячьим нежностям. Он был сдержанным, волевым, холодным, он даже устанавливал какую-то дистанцию при общении с другими. Но за короткое время он преобразился, под влиянием увиденного словно треснула скорлупа его замкнутого мира, и он открылся, ему был необходим теперь живой человеческий контакт. Раньше он даже не включал это понятие в список из мексиканской кухни, пива «Гиннес» и фильмов с Годди Хоун. Тесса здраво рассудила, что толчок, приведший к такой перемене в поведении, должен быть настолько страшным, что его можно сравнить разве что с обращением к Богу больного человека на смертном одре. Может быть, Сэм стал сомневаться в возможностях их спасения из города? А может быть, возмещая сейчас то, чего был лишен в течение долгих лет своей одинокой жизни, он считает это своего рода исповеданием грехов перед бесконечной и беспросветной чернотой, которая уже распростерла над ними свои крылья.Глава 84
Шаддэк проснулся. Он опять видел во сне милую его сердцу картину слияния живой природы человека с наивысшими достижениями техники. Гигантское создание из плоти и металла обладало невероятной мощностью и было предназначено для каких-то тайных, неведомых пока Шаддэку целей. Этот сон всегда освежал его и придавал сил. Шаддэк выбрался из машины и потянулся. Он нашел в гараже необходимые инструменты, взломал дверь дома Паулы Паркинс и принял душ. Вернувшись в гараж, он открыл ворота. Выехал на улицу, где можно было без помех принимать сообщения, поступавшие по спутниковой связи. Дождь не прекращался, рытвины на проселочной дороге были заполнены водой. По воздуху уже протянулись нити тумана, они предвещали приход с моря густой пелены, которая, вероятно, будет еще более плотной, чем вчерашним вечером. Он съел еще один бутерброд с ветчиной и запил его кока-колой из холодильника. Одновременно он наблюдал на дисплее компьютера, как продвигается работа по проекту «Лунный ястреб». До шести часов вечера необходимо было обратить четыреста пятьдесят человек. Сейчас было только 12.50. Тремстам девяти жителям уже были сделаны инъекции микросфер. График обращения выполняли с опережением. Шаддэк проверил, как идет процесс поиска Сэмюэла Букера и Тессы Локленд. Ни тот, ни другая не были обнаружены. Шаддэка вроде бы должно было тревожить их исчезновение. Но теперь, выспавшись, он смотрел на вещи весьма оптимистично. Ведь он видел великий знак, он видел ястреба на фоне лунного диска целых три раза, и у него не было сомнения, что в конце концов он достигнет всех намеченных целей. Дочь Фостеров тоже нигде не могли найти. Но и это его не тревожило. Возможно, ночью ей попалось на пути одно из этих чудовищ. Иногда «одержимые» тоже могут приносить пользу. Не исключено, что Букер и Локленд также пали жертвой этих созданий. Будет забавно, если окажется, что «одержимые» — единственное слабое звено проекта, которое могло послужить серьезной помехой, — вдруг окажут ему неоценимую услугу, сохранив в тайне от остального мира проект «Лунный ястреб». Шаддэк пытался связаться по компьютерной связи с Такером, разыскивал его и на работе, и дома, но нигде не мог найти. Может быть, Уоткинс был прав в своих предположениях? Может быть, Такер действительно, подобно Пейзеру, превратился в «одержимого» и не смог вернуться обратно в человеческий образ. Возможно, он скитается сейчас по лесам, пойманный, как в ловушку, в свой звериный образ? Выключив компьютер, Шаддэк вздохнул. После того как все население города пройдет через обращение, первый этап эксперимента еще не будет закончен. Останется еще одна операция. Надо будет кое-кого уничтожить, очиститься от скверны.Глава 84
В подвале бывшей колонии «Икар» три тела превратились в одно целое. Этот единый организм не имел четких форм, был начисто лишен костей, каких-либо отличительных черт или частей тела. Он представлял собой полужидкую массу пульсирующей материи, в которой не было ни сердца, ни мозга, ни каких-либо других органов. Это был первичный организм, сгусток белка, без мозга, но соображающий, без глаз, но видящий, без ушей, но слышащий, без желудка, но голодный. Комплексы сложнейших электронных микросфер полностью растворились и исчезли в нем. Компьютерная сеть не могла больше существовать в полностью изменившейся внутренней среде, и, с другой стороны, сам организм не нуждался больше в поддержке своих функций при помощи дополнительных устройств. Связь с компьютером «Солнце» полностью прекратилась. Если передатчик из штаб-квартиры компании пошлет сигнал об уничтожении, то он не будет принят организмом и это существо останется жить. Таким образом, избежать смерти извне удалось, упростив свое строение до предела. Из трех отдельных сознаний возникло одно. Оно было затемнено и упрощено точно в такой же степени, в какой было упрощено тело, в котором оно обитало. Это существо уже не обладало памятью, так как память невозможна без понимания последствий событий, контактов с другими, а последствия — плохие или хорошие — предполагают ответственность за свои действия. Именно ответственность была пожертвована в первую очередь, когда существо стало выходить из звериного состояния. Другой причиной исчезновения памяти было то, что память может причинять боль, боль от жизненных потерь. Таким же образом была принесена в жертву способность смотреть в будущее, строить планы, мечтать. Теперь у этого существа уже не было ни прошлого, ни будущего. Оно жило только настоящим временем, ничего не чувствуя, ни о чем не беспокоясь. Осталась только одна потребность. Потребность выжить. А для того чтобы выжить, необходима была одна вещь — пища.Глава 86
Посуда от завтрака была убрана еще тогда, когда Сэм сражался в доме Кольтрана с чудовищами, которые частично были людьми, частично компьютерами и частично зомби — а также, насколько он мог понять, еще и какими-то нагревательными устройствами, так как они здорово обожгли Сэма. Теперь, когда раны Сэма были перевязаны, они вновь вчетвером собрались за кухонным столом, чтобы обсудить план дальнейших действий. Муз устроился рядом с Крисси и так смотрел на нее своими живыми карими глазами, как будто обожал ее больше жизни. Крисси не могла отказать ему в поглаживании и почесывании за ушами, чего, собственно, Муз и добивался. — Величайшей проблемой нашего века, — начал торжественно Сэм, — является решение вопроса о том, как совместить пользу и вред технологического прогресса. Можем ли мы доверить компьютеру переделку нашего мира, нашей жизни без риска оказаться в какой-то момент в его власти? — Сэм посмотрел в сторону Тессы, ища поддержки. — Это не такой уж простой вопрос. Тесса ответила: — Я тоже не считаю, что здесь все просто. Иногда у нас, у людей, появляется какая-то необъяснимая, слепая вера в машины, вера в то, что едва ли не все, что выдает компьютер, — это истина в последней инстанции… — Люди забывают старую поговорку, — съязвил Гарри, — собака лает, ветер носит. — Вот именно, — согласилась Тесса, — иногда, когда мы получаем от компьютера результаты анализа, мы почему-то относимся к ним так, как будто машина не может ошибиться. Но это очень опасно, потому что с этим компьютером мог работать маньяк, сумасшедший, именно он мог ввести в компьютер данные. — Кроме того, — добавил Сэм, — у людей есть склонность, нет, даже скорее потребность ставить себя в зависимость от машин. — Точно-точно, — поддержал его Гарри, — есть у нас у всех такая чертова привычка отбрыкиваться от ответственности как только можно. Эта привычка заложена в наших генах, тут не может быть никаких сомнений. Если человек и добивается чего-нибудь в своей жизни, то только благодаря тому, что он умеет иногда побороть в себе эту привычку. Я подозреваю, что именно отвращение к долгу внушил человеку дьявол, когда совращал Еву яблоком из райского сада. В этой привычке — корень любого зла. Крисси заметила, что этот поворот разговора по-настоящему увлек Гарри. Он здоровой рукой при помощи рычага приподнял свое кресло-коляску повыше. Обычно бледное его лицо раскраснелось. Руку свою он сжал в кулак и смотрел прямо на него, словно в кулаке у него было зажато нечто чрезвычайно ценное, словно он ухватил за хвост идею и не хотел упускать ее до тех пор, пока не изложит все, что думает по этому поводу. Гарри рассуждал так: — Почему люди воруют, убивают, лгут и мошенничают? Потому, что они безответственны перед другими людьми. Политики стремятся к власти, и они всегда на коне, когда курс, проводимый ими, привел к успеху. Но где они, если их политика потерпела крах? Они — в кустах, они — в тени. В мире полным-полно людей, которые обязательно хотят научить вас жить, научить, как построить рай на земле, но где они, когда их идеи оказываются никуда не годными? Где они, когда их идеи заканчиваются Дахау или ГУЛАГом? Когда все кончается обычным убийством людей, как это было в Юго-Восточной Азии, откуда нам пришлось с позором убраться. Эти политики отворачиваются, прячут глаза, они хотят показать, что никоим образом не отвечают за бойню, за катастрофу. Гарри вздрогнул, и Крисси вздрогнула вместе с ним, хотя она не была до конца уверена, что поняла весь смысл его слов. — Боже мой, — воскликнул Гарри, — достаточно задуматься над этим один раз, и эта мысль приходит к тебе снова и снова, тысячи раз. Я впервые задумался над вопросом об ответственности людей за содеянное, пожалуй, только на войне. — Вы имеете в виду войну во Вьетнаме? — спросила Тесса. Гарри кивнул. Он не спускал глаз с собственного кулака. — На войне, для того чтобы выжить, надо ежеминутно быть ответственным. Ответственным за себя, за каждый свой шаг. А также за своих товарищей по оружию, ведь на войне одному не выжить. Наверное, война хороша только одним — она приучает тебя разбираться в людях, ты начинаешь понимать, что разница между хорошим и плохим человеком состоит в основном в том, насколько они способны отвечать за свои слова и поступки. Поэтому я не жалею, что побывал на войне, пусть даже мне это стоило очень многого. Зато я выучил самый важный в жизни урок, я научился отвечать за все, что делаю. Я до сих пор мучаюсь, когда думаю о людях, которым мы должны были помочь, придя с оружием во Вьетнам, и которым мы помочь не смогли. Я не сплю ночью, когда думаю о расстрелянных, о похороненных в братских могилах. Я плачу, так как эти люди зависели и от меня тоже, ведь и я тоже ответствен за то, что их бросили на произвол судьбы. Наступило молчание. Крисси почувствовала, как что-то сжимает до боли ее грудь, такая боль возникала у нее в школе, когда учитель — любой учитель, по любому предмету — начинал рассказывать что-то такое, чего она еще не знала и что меняло ее взгляд на жизнь. Такое случалось нечасто, но всегда это чувство было и пугающим, и влекущим к себе одновременно. Сейчас она ощущала то же самое, но сильнее в сто раз любого открытия в стенах школы. Тесса прервала молчание. — Гарри, мне кажется, нельзя так казнить себя. Гарри поднял взгляд на Тессу. — Если ты начинаешь за что-то отвечать, то никакая мера ответственности не будет слишком большой. — Он улыбнулся. — Я знаю, Тесса, на самом деле вы все понимаете душой. Просто не хотите признаться в этом. Гарри перевел взгляд на Сэма и продолжал: — Некоторые, впрочем, совсем не усваивают такого урока, даже побывав на войне. Я иногда встречаюсь с другими ветеранами вьетнамской войны и не вижу в них понимания. Я стараюсь избегать таких людей, хотя это, наверное, несправедливо. Но я не могу ничего с собой поделать. Зато, если я встречаю человека, который усвоил главный урок войны, я доверяю такому человеку, как самому себе. Я такому человеку доверяю всей душой, хотя в нашем случае, кажется, покушаются именно на ответственность и хотят отнять ее навсегда. Я верю, что вы, Сэм, спасете нас. — Гарри разжал свой кулак. — Я не сомневаюсь в этом ни минуты. Тесса была в недоумений. Она обратилась к Сэму: — Разве вы были во Вьетнаме? Сэм кивнул. — Да, я был во Вьетнаме после института. После возвращения я поступил в ФБР. — Вы ничего об этом не рассказывали. Сегодня утром, когда мы готовили завтрак, вы перечисляли мне трагедии, которые заставили вас переменить взгляд на жизнь. Вы назвали смерть вашей жены, гибель своих коллег, проблемы с сыном, но вы не упоминали о войне. Сэм посмотрел на свое перебинтованное запястье и после паузы ответил: — Война — это такая вещь, о которой мне тяжело говорить. ( — Звучит странно. — Совсем не странно, — вмешался Гарри. — Это действительно такая вещь, которую трудно вынести и о которой тяжело говорить. Сэм сказал: — Если бы я не разобрался в своих ощущениях, в своем военном опыте, я бы, наверное, продолжал много и часто рассказывать о войне. Но я разобрался. Я по-нял. И теперь для меня говорить о войне с человеком, с которым я познакомился совсем недавно… это тяжело, поймите. Тесса посмотрела на Гарри и спросила: — Вы поняли, что Сэм был во Вьетнаме? — Да. — Просто поняли по каким-то признакам? — Ну да. Сэм выпрямился. — Клянусь, Гарри, я сделаю все, чтобы мы выбрались отсюда. Но прежде я должен разобраться в тех силах, против которых мне придется действовать. Корень зла, очевидно, в компании «Новая волна». Надо понять, что они задумали и каким образом можно помешать их планам осуществиться. Не поняв этого, мы не сможем ничего сделать. В этом месте разговора Крисси почувствовала, что уже ничего не понимает в разговоре взрослых, хотя все услышанное было безумно интересным, а некоторые вещи ужасно хотелось понять. Крисси решила, что настал и для нее момент сказать свое слово. — Вы точно уверены, что они не пришельцы? — Мы уверены, — ответила с улыбкой Тесса, а Сэм ласково провел рукой по ее волосам. — Просто я подумала, — продолжала Крисси, — что инопланетяне могли приземлиться на территории компании «Новая волна» и использовать эту территорию как свою базу. Может быть, они хотят превратить нас всех в подобие компьютеров, как это случилось с Кольтранами. Мы будем чем-то вроде рабов для них. Это больше похоже на правду, чем моя первая версия об их ужасной прожорливости. Ведь у пришельцев, наверное, все в организме построено по-другому, у них, наверное, и желудок другой. С какой стати им питаться живыми людьми? У них ведь может от этого начаться изжога или даже понос. Сэм, сидевший рядом с Крисси, взял руки девочки в свои и бережно сжал их, стараясь не причинить боль ее поцарапанным ладоням. — Крисси, мне кажется, ты слишком близко приняла к сердцу то, что сказал Гарри… — О да, — с жаром ответила девочка, — я не пропустила ни слова. — Ну тогда ты поймешь и меня, когда я скажу, что сваливать на пришельцев из космоса все эти ужасы — это тоже одна из форм ухода от ответственности. А ведь на самом деле в этих ужасах виноваты люди, да-да, люди и их реальная и колоссальная способность причинять вред другим. Конечно, трудно поверить, что кто-нибудь, даже сумасшедший, мог захотеть, чтобы Кольтраны превратились в тех, в кого они превратились, но это, к сожалению, так и есть. Если мы будем относить все эти события на счет пришельцев, Бога, дьявола, троллей или кого-нибудь еще, то мы не сможем до конца понять ситуацию и не сможем найти из нее выход. Понимаешь? — Да, почти. Сэм улыбнулся. У него была очень хорошая улыбка, только он редко улыбался. — Я думаю, ты понимаешь даже больше, чем «почти». — Да, больше, чем «почти», — согласилась Крисси. — Конечно, было бы лучше, если бы во всем оказались виноваты пришельцы. Мы бы обнаружили их гнездо, их убежище, сожгли бы его, взорвали бы их корабль, и с этим было бы покончено. Но если виноваты не пришельцы, а люди — примерно такие же, как мы, — тогда, наверное, окончательно покончить с этим удастся очень и очень не скоро.Глава 87
Ломен Уоткинс исколесил весь город из конца в конец в поисках Шаддэка. Дождь не переставал, а отчаяние Ломена нарастало с каждой минутой. Он снова посетил дом Шаддэка и выяснил, что в гараже отсутствует угольно-черный автомобиль с матовыми стеклами. Однако и это уточнение ни к чему не привело, Шаддэк как сквозь землю провалился. Повсюду, где он появлялся, ему попадались бригады обращения и патрули. Они действовали скрытно, и, вероятно, «необращенные» не замечали их работы, но Уоткинс своим профессиональным взглядом всюду отмечал их присутствие. На северном и южном въездах в город, а также в начале Оушн-авеню подчиненные Уоткинса заворачивали обратно машины тех, кто хотел попасть в город. Выхлопные газы от двигателей, работающих на холостом ходу, смешивались с клочьями тумана, уже начинавшими подниматься с побережья. Красно-голубые сигнальные фонари подсвечивали хвосты дыма и тумана, и казалось, что на асфальт стекают потоки крови, то ярко-красной — артериальной, то черной — венозной. Желающих въехать в город было совсем немного, так как Мунлайт-Ков не был ни главным городом округа, ни торговым центром для сельских жителей. Кроме того, он находился там, где заканчивалось местное шоссе, и никто не выбирал эту дорогу для транзитного проезда в другие города. Тех, кто все же хотел попасть в город, заворачивали обратно, рассказывая одну и ту же историю о выбросе токсических веществ в окрестностях Мунлайт-Кова. Если люди настаивали на въезде, то их задерживали и отправляли в изолятор. Они должны были находиться там до того момента, пока не будет принято решение — расстрелять их или обратить в Новых людей. Со времени введения карантинного режима прошло немного времени, и из небольшого числа желающих въехать в город лишь шесть человек было задержано и помещено в изолятор. Шаддэк выбрал весьма удачное место для проведения своего эксперимента. Мунлайт-Ков был относительно изолированным городом, и въезд в него можно было легко контролировать. Ломен подумывал и о том, не приказать ли ему разблокировать город и не отправиться ли в Абердин-Уэлс, где он смог бы рассказать обо всем местному шерифу. Тогда проект «Лунный ястреб» будет раскрыт и прекращен извне. Он уже не боялся гнева Шаддэка, или своей смерти, или… вернее, так, он боялся этого меньше, чем превращения в подобие Денни. Ломен был скорее согласен попасть в руки шерифа и правосудия, даже в руки ученых, которые захотят разрезать его на куски для своих исследований, чем оставаться в городе и в какой-то момент превратиться либо в «одержимого», либо в придаток компьютера. Но тут Ломен осознал, что офицеры просто не выполнят его приказ и не выпустят его из города, так как боятся Шаддэка до смерти и его слово для них — закон. Они боятся своего создателя больше, чем кого-либо другого, так как не видели Денни в образе компьютера и не знают, что превращение может быть столь страшным и необратимым. Как звери доктора Моро, они были послушны Закону и не осмеливались — по крайней мере, до сих пор — ослушаться своего создателя. Возможно, они постараются помешать Уоткинсу, предающему проект «Лунный ястреб», и его попытка вырваться из города закончится смертью или заключением в тюремную камеру. Если его задержат или убьют, он никогда не сможет отомстить Шаддэку. Ломен представил себя сидящим за решеткой, представил, как издевательски улыбается Шаддэк по ту сторону прутьев камеры, как эти прутья превращаются в компьютер и его соединяют в одно целое с машиной. Глаза — как шарики ртути… Ломен продолжал кружить по городу, поглядывая по сторонам сквозь заливаемое дождем ветровое стекло. Дворники мерно стучали, как бы отсчитывая минуты. Времени до полуночи оставалось все меньше. Ломен был подобен человеку-пуме, вышедшему на охоту. Он охотился на своего создателя, на доктора Моро, в джунглях на острове, название которому было Мунлайт-Ков.Глава 88
Поначалу белковое тело довольствовалось поглощением всякой мелочи, до которой оно могло дотянуться своими щупальцами. На полу, на стенах оно переловило всех жуков, пауков, червяков. Названия этих насекомых студнеобразное существо уже не помнило, но это не мешало ему всасывать их в свою утробу. Вскоре, впрочем, все насекомые, все черви в подвале были уничтожены. Существу все больше хотелось есть. Оно пыталось переползти в другое место, но из этих попыток ничего не вышло, ткани уже утратили всякую память о структурах, необходимых для передвижения. Сознание, все еще теплившееся в этой желеобразной, массе, было уже не способно на понимание своего места в природе, но у него еще сохранялась возможность слегка изменять свое строение в зависимости от потребностей. Внезапно на теле существа возникло несколько отверстий, напоминавших рот, но лишенных губ и зубов. Из этих отверстий вырвался звук, который по своей частоте не был бы воспринят человеческим ухом. В пространстве между перекрытием подвала и полом первого этажа сновали десятки мышей, они искали себе еду, строили свои гнезда. Услышав звук из подвала, они замерли как вкопанные. Существо ощущало этих мышей не как животных, а как теплые точки чего-то, что годится в пищу. Ему нужна была пища, оно нуждалось в еде. Эту нужду и пыталось выразить существо своим протяжным криком на высокой ноте. У мышей этот звук вызывал судороги. Они начинали хвататься за свою мордочку передними лапками, как будто на нос им попала паутина, и пытались избавиться от ее липких нитей, счесывая их со своей шерстки. На чердаке Дома обитала небольшая колония из восьми летучих мышей. Они также отреагировали на звуки из подвала. Они сорвались с потолка, на котором висели, и начали метаться по чердаку, меняя углы полета и едва не разбиваясь о стены. Существо из подвала ничего не получило в ответ на свой крик. Крик был услышан, но должного действия на животных не произвел. Бесформенное существо замолчало. Его многочисленные отверстия-рты закрылись. Летучие мыши, постепенно успокаиваясь, одна за другой возвращались на свои места для отдыха. Мыши также преодолели шок и отправились по своим делам. Пару минут спустя белковое существо снова начало издавать звуки, но в другой тональности. Летучие мыши слетели со своих мест и начали кружиться по чердаку с такой бешеной скоростью, что постороннему наблюдателю могло бы показаться, что их не восемь, а как минимум сотня. Хлопанье крыльев летучих мышей заглушило стук дождя по крыше. Мыши опять присели на задние лапки и навострили уши. Те, кто находился поближе к источнику звука, задрожали от ужаса, словно увидев готовую к прыжку кошку. С писком летучие мыши устремились с чердака в пустую комнату второго этажа и продолжили там свой бесконечный танец. Две мыши начали подползать к открытой двери кухни, но на пороге замерли, не зная, что делать дальше. Существо из подвала утроило мощность своего зова. Одна из мышей на пороге кухни упала замертво, из ее ушей сочилась кровь. Летучие мыши начали ударяться о стены комнаты, их радары были парализованы. Существо из подвала несколько уменьшило громкость крика. Летучие мыши спускались все ниже и вскоре оказались в кухне на первом этаже, где стали кружиться над мышами, число которых в кухне все увеличивалось. Внизу, в подвале, у существа образовался один огромный рот из множества маленьких. Летучие мыши одна за другой начали пикировать в эту пасть, исчезая, словно игральные карты в рукаве шулера. Они сразу же тонули в кипящей протоплазме и растворялись в концентрированных пищеварительных кислотах. Целая армия мышей и четыре крысы покинули свои убежища и торопливо устремились вниз по ступенькам подвала, падая друг на друга и возбужденно попискивая. Они все стали добычей прожорливой белковой массы. После всей этой суматохи в доме вновь установилась тишина. Существо заглушило свой зов. Зов сирены. Ненадолго.Глава 89
Офицер полиции Нейл Пенниуорф получил приказ на патрулирование северо-западного сектора Мунлайт-Кова. В своей машине он был в одиночестве, так как даже с учетом усиления из служащих компании «Новая волна» людей не хватало, каждый патрулировал достаточно большой район города. В данный момент одиночество даже радовало Пенниуорфа. Он опасался, как бы с ним не повторилась история, которая произошла в доме Пейзера, когда он едва не поддался искушению при запахе крови и при виде переродившегося компьютерщика. Нейл тогда избежал полной потери своего облика… но был на грани бездны. Если он еще раз увидит кого-нибудь из «одержимых», то не исключено, что спастись ему не удастся. Но одиночество одновременно и пугало его. Он уже устал от беспрестанной борьбы с искушениями, с желанием сбросить с себя оковы обычного человеческого поведения, бремя ответственности, и его все больше тянуло покончить со страданиями. Если он не выдержит и это с ним произойдет в одиночестве, без поддержки извне, ему будет совсем плохо. Пенниуорф физически чувствовал страх, который сжимал ему грудь железными обручами. Было трудно дышать. Ему стало казаться, что его автомобиль, уменьшаясь в размерах, также начинает сжимать его со всех сторон. Мерное щелканье дворников превратилось в бьющие по ушам удары. От них можно было оглохнуть. Пенниуорф несколько раз останавливал автомобиль, открывал дверцу и выбирался наружу, под дождь, чтобы втянуть в себя освежающий воздух. С каждым разом, однако, и мир вокруг машины становился все меньше, сжимался. Пенниуорф остановил машину на Холливел-роуд в полумиле к западу от компании «Новая волна» и вышел из машины. На этот раз лучше ему не стало. Серые тучи закрывали горизонт со всех сторон. Полупрозрачный занавес из тумана и дождя отделял от полицейского весь остальной мир. Воздух был перенасыщен влагой. Дождь уже заполнил до краев все канавы на обочине дороги, он лился рекой с каждой ветки, с каждого листа, стучал по мостовой, по крыше автомобиля, дождь хлюпал, хлопал, бил по щекам. Казалось, его потоки направлялись на Пенниуорфа какой-то посторонней силой, которая стремилась этим водопадом из капель бросить его на землю, поставить на колени. Оставалось только лезть обратно в машину, что он с удовольствием и сделал. Он понял в эту минуту, что его угнетала вовсе не теснота в машине и не одуряющий бесконечный ливень. Его угнетало само существование в образе Нового человека. Так как из чувств ему остался только страх, то он чувствовал себя загнанным в угол, в узкое пространство, где он не мог нормально двигаться. Он задыхался вовсе не от внешнего воздействия, он задыхался от внутреннего напряжения, от того, что Шаддэк сотворил с ним. Все это означало, что для него нет никакого выхода. Ему оставалось только превратиться в «одержимого». Нейл больше не мог терпеть, больше не мог жить этой жизнью без чувств. Но его также ужасала мысль о перерождении в какое-то примитивное существо. Выхода не было. Нейл был совершенно истощен мыслями о своем несчастье, но забыться и ни о чем не думать тоже был не в состоянии. Он был в ловушке. В конце концов он нашел способ хоть чуть-чуть отвлечься — включил дисплей бортового компьютера и стал просматривать сообщения, попавшие в эфир за последние часы, и следить за ходом обращения в городе. Это занятие постепенно настолько увлекло его, что мрачные мысли начали улетучиваться, а приступ клаустрофобии закончился так же неожиданно, как и начался. Нейл еще подростком увлекся компьютерами, но это увлечение не превратилось в манию. Конечно же, все началось с компьютерных игр, затем родители подарили сыну недорогой компьютер. Подзаработав немного денег во время летних каникул, Нейл купил себе модем. И хотя на телефонную связь с отдаленными абонентами он почти не выходил из-за высокой платы и не мог поэтому пользоваться гигантскими базами данных в больших городах, он все-таки почувствовал преимущества высоких технологий. Сейчас, сидя в своем автомобиле на Холливел-роуд и глядя на экран компьютера, Нейл любовался этим творением человеческого разума. В этой штуке все было логично, все было предсказуемо и лишено каких бы то ни было противоречий и страданий. Этот компьютерный уютный мир был разительно несхож с внутренним миром человека — неважно какого, Нового или Прежнего. В первом случае царила логика, железный расчет. Причины и следствия, побочные эффекты были глубоко проанализированы, и всему было найдено свое место. Здесь было только два цвета — черный и белый, если и появлялся серый цвет, то он был строго отмерен по количеству и качеству. Здесь не было расплывчатых чувств, здесь были строгие факты. Мир, созданный из цифр и символов, очищенный от жизненной шелухи, казался куда привлекательней реального мира с его холодом и жарой, с его тупыми и острыми углами, с его кровью и смертью, болью и страхом. Вызывая одно меню за другим, Нейл все глубже погружался в дебри проекта «Лунный ястреб». Его интересовали не столько цифры и символы, сколько сам процесс работы с компьютером. Экран компьютера стал казаться ему уже не электронно-лучевой трубкой для отображения информации, а окном в иной мир. В мир фактов. В мир, лишенный мучительных противоречий… и ответственности. В этом мире не было места для чувств, здесь существовали только знание или незнание, избыток информации или ее недостаток. Чувства — это удел тех, кто создан из плоти и крови. Итак, перед ним открылось окно в другой мир. Нейл прикоснулся к экрану. Ему очень хотелось, чтобы окно отворилось и он смог бы через него проникнуть в мир логики, порядка и умиротворенности. Пальцами он начал чертить круги по излучающей тепло поверхности экрана. Ни с того ни с сего он вспомнил о девочке Дороти, которую могучий ураган перенес вместе с ее собачкой Тотошкой из скучной равнины в Канзасе в волшебный сказочный мир. Вот если бы и его какой-нибудь электронный ураган унес в лучший мир… Пальцы прошли сквозь стекло экрана. Нейл в страшном испуге отдернул руку. Стекло нигде не было повреждено. По экрану продолжали бежать волны цифр и символов. Нейл попытался убедить самого себя, что происшедшее с ним минуту назад было не более чем галлюцинацией. Но все было слишком реально. Он посмотрел на пальцы. Ни одной царапины. Нейл перевел взгляд на ветровое стекло машины. Дворники были выключены, и дождь заливал стекло, искажая окружающий пейзаж, делая его странным, загадочным. Разве может здесь когда-нибудь установиться порядок, логика, умиротворенность? Он осторожно прикоснулся пальцами к экрану. Стекло было твердым. Снова возникли мысли о желанном, чистом, спокойном компьютерном мире — и в тот же момент пальцы прошли сквозь экран, как сквозь масло, на этот раз рука оказалась за стеклом по самое запястье. Стекло как бы раздвинулось и охватило руку со всех сторон. Цифры и символы, продолжая бежать по экрану, лишь слегка изменили свой путь, они теперь огибали его кисть. Сердце забилось как сумасшедшее. Он испытывал боязнь и страшное искушение одновременно. Нейл попробовал пошевелить пальцами по ту сторону стекла. Он их не ощущал. Возможно, они непонятным образом растворились или были отрезаны? Тогда, вытащив свою руку наружу, он зальет всю машину кровью. Тем не менее Нейл вытащил ее из-под стекла. Кисть была целой и невредимой. Но что-то случилось с ней, она изменилась. На внешней стороне ее появились многочисленные проводники из медного сплава и оптического волокна. В этих стеклянных волокнах бился мерцающий, непрерывный пульс. Нейл посмотрел на внутреннюю сторону кисти. Подушечки пальцев и ладонь напоминали стеклянную поверхность электронно-лучевой трубки. На ней светились цифры и символы. Он сравнил эти данные с данными, мелькающими на экране, и увидел, что они повторяют друг друга. Когда один блок информации на компьютере сменил другой, то же самое произошло и на его ладони. Внезапно он понял, что превращение в зверя — это не единственный выход для него, что он может запросто войти в мир компьютерной памяти и логики и остаться там, полностью расставшись с чувствами. Это открытие пришло к нему как озарение, он не смог бы додуматься до этого путем рассуждений. Теперь он знал о своей способности принимать любую форму — свойстве, о котором не догадывался даже Шаддэк, превращая его в Нового человека. Он попробовал поднести руку не к экрану, а к электронному блоку компьютера. Рука все так же легко прошла сквозь металл в электронное нутро. Подобно призраку, он мог проникать теперь сквозь любые преграды. Нейл почувствовал, как вверх по его руке ползет какой-то странный холодок. Вместо цифр на экране появились загадочные светящиеся знаки. Холод добрался до плеча и начал расползаться по грудной клетке, подниматься к голове. Нейл глубоко вздохнул. Что-то случилось с его глазами. Он не понимал, что именно. Он мог бы посмотреть в зеркало заднего обзора, но не стал. Он просто закрыл свои глаза и позволил им превращаться в то, во что требовалось при втором и гораздо более полном превращении. Это новое состояние манило к себе куда сильнее, чем образ «одержимых». Он не мог устоять. Холод полз по его лицу. Рот, губы в одно мгновение онемели. В голове также произошли изменения. Он стал отчетливо видеть, как устроен его мозг, так же отчетливо, как он видел окружающий мир. Его тело как бы отделилось от него, он перестал получать информацию от органов чувств, он не мог бы сейчас сказать, холодно в машине или тепло. Чтобы определить температуру, ему надо было предварительно провести ряд вычислений. Его тело превратилось в обычный корпус для машины, снабженный датчиками и предназначенный лишь для предохранения и обслуживания функционирующего в нем вычислительного устройства. Внутри черепа воцарился холод. Словно десятки, сотни, тысячи маленьких холодных пауков оплели своей ледяной паутиной его мозг. Нейл вдруг вспомнил, что девочка Дороти в какой-то момент обнаружила, что волшебная страна Оз — нечто иное, как воплощенный кошмар, и решила во что бы то ни стало вернуться домой в Канзас. Алиса также поняла, что в кроличьей норе, в Зазеркалье, царят безумие и ужас… Миллионы холодных пауков. Внутри его черепа. Миллиард. Холод, холод. Они плетут паутину.Глава 90
Ломен Уоткинс продолжал кружить по городу в поисках Шаддэка. На одной из улиц дорогу перед машиной перебежали двое «одержимых». Ломен к этому моменту был в южной части города, на Паддок-лейн. Здесь были частные владения с большими участками земли, и многие жители держали лошадей. Возле домов или за ними виднелись небольшие конюшни. Дома отделяли от дороги изгороди и ухоженныелужайки. Парочка «одержимых» выскочила на дорогу из-за живой изгороди. Они мчались на четвереньках, одним прыжком перемахнули через канаву и скрылись в кустарнике по другую сторону улицы. Огромные сосны, росшие вдоль дороги, создавали тень, но Ломен все-таки сумел разглядеть «одержимых» достаточно подробно. Эти существа не были похожи ни на одно из известных Ломену животных, они скорее напоминали монстров из фильмов ужасов: в них было что-то от волка, что-то от кошки и что-то от древних ящеров. Они двигались необычайно легко, в них чувствовалась огромная звериная сила. Одно из существ повернуло к нему голову, и он увидел сверкнувшие красноватым блеском глаза. Ломен притормозил, но не стал останавливать машину. Проблемы задержания и опознания «одержимых» его больше не волновали. Он уже понял, что «одержимым» может стать любой из обращенных. А остановить этот процесс можно только одним способом — устранив Шаддэка. Вот этим-то он и будет заниматься. Однако появление «одержимых» вызвало у Ломена беспокойство. Они вышли на охоту в неурочное время, часы показывали половину третьего дня. До сих пор «одержимые» охотились только по ночам и действовали всегда скрытно, очевидно, в какой-то степени стыдясь появления на улице в столь непривычном виде. Если дело дошло до того, что оказались отброшенными и эти запреты, значит, проект «Лунный ястреб» терпит крах и скатывается к хаосу. Процесс распада развивается с невероятной скоростью. Город-жертва Мунлайт-Ков уже не просто балансирует на краю пропасти, он летит в нее, и катастрофы не избежать.Глава 91
Они снова собрались вместе в спальне Гарри на третьем этаже. Полтора часа прошли в спорах, в сравнении разных вариантов. Освещение они не включали. Свет серого дня делал комнату мрачной, под стать их настроению. — Итак, мы остановились на том, что есть только два реальных способа выйти на связь с внешним миром, — подвел Гарри итог споров. — Но и в том и в другом случае, — сказала Тесса с сожалением, — всем придется выходить из дома и здорово помотаться по городу, прежде чем мы найдем то, что нужно. Сэм при этом напоминании вздрогнул. Тесса и Крисси, сняв туфли, сидели на кровати, прислонившись к ее спинке. Крисси не отходила теперь от Тессы ни на шаг, у нее сработал инстинкт цыпленка, только что вылупившегося из яйца: такой цыпленок всегда льнет к той наседке, которая ближе к нему, независимо от того, мать она ему или нет. Тесса продолжала: — Это будет посложнее, чем пройти до соседнего дома к Кольтранам. Так что придется дожидаться сумерек. — Вы думаете, днем ничего не получится? — переспросил Сэм. — Ну да. К тому же к вечеру будет густой туман. Тесса говорила совершенно искренне, хотя и понимала, как опасно затягивать исполнение задуманного. За то время, пока они будут дожидаться сумерек, масса людей пройдет через обращение. Мунлайт-Ков превратится в место, где все будет чужим, где на каждом шагу будет подстерегать опасность. Тесса повернулась к Гарри и спросила: — В какое время сейчас темнеет? Гарри, как обычно, сидел в своем кресле-коляске. Муз уже вернулся от Сэма к хозяину и, просунув голову под рукоятку кресла, положил ее Гарри на колени. Собаке эта поза была явно неудобна, но она терпела ее из-за надежды на короткую ласку, почесывание за ушами и доброе слово. Гарри ответил: — Сейчас темнеет примерно к шести часам. Сэм сидел у телескопа, но в данный момент им не пользовался. Он уже просмотрел недавно все окружающие улицы и увидел, что в городе прибавилось суматохи, то и дело проезжали патрульные машины, проходили пешие патрули. По мере того как число необращенных уменьшалось, заговорщики из «Лунного ястреба» действовали все более открыто, не боясь привлечь к себе лишнее внимание. Посмотрев на часы, Сэм продолжал рассуждать: — По правде говоря, мне совсем не по душе сидеть тут и ждать еще три часа, пока стемнеет. Чем быстрее мы выйдем на связь, тем больше людей мы спасем от… ну от того, что с ними хотят сделать. — Если вас схватят именно из-за того, что вы не дождались сумерек, — прервала его Тесса, — тогда не будет вообще никаких шансов спасти хотя бы кого-нибудь. — Тесса права, — молвил Гарри. — Конечно, — подхватила Крисси, — ведь если они не пришельцы, это еще не значит, что с ними будет легче бороться. Надежду на то, что удастся для связи с внешним миром воспользоваться телефоном, пришлось оставить. Все включенные телефоны имели строго ограниченный набор абонентов. Но Сэм сообразил, что любой компьютер, подсоединенный через модем к компьютеру в «Новой волне», — Гарри говорил, что этот компьютер прозвали «Солнцем», — может вывести его на междугородную связь. Таким образом удастся обойти запреты на телефонные разговоры с внешним миром и заслоны на выходах из города. Прошлой ночью Сэм при работе с полицейской ЭВМ заметил одну вещь. Компьютер «Солнце» мог устанавливать связь с огромным числом компьютеров, в том числе с теми, в которых содержались общедоступные и секретные базы данных ФБР. Если удастся связаться с «Солнцем», а через него с компьютером в ФБР, то на экране в одном из управлений Бюро появится его просьба о помощи, а печатающее устройство распечатает эту просьбу на бумаге. Сэм и его друзья, конечно же, понимали, что сбой может произойти и в этом варианте. Если заговорщики не смогли предусмотреть все до мельчайших деталей, то им ничего не стоило отключить компьютерную связь вслед за телефонной. В этом случае у них не остается никаких надежд. По вполне понятным причинам Сэму вовсе не хотелось входить опять в дома сотрудников компании «Новая волна». Он боялся вновь встретиться с монстрами, подобными Кольтранам. Итак, оставалось только два способа связаться через компьютер с «Солнцем». Во-первых, Сэм мог попробовать еще раз залезть в одну из полицейских машин и воспользоваться компьютером. Но теперь сделать это будет гораздо сложнее. Полицейские были начеку, а кроме того, вряд ли где-нибудь стояли пустующие машины. Они задействовали все силы для поиска Сэма и Тессы, и даже если какая-то машина и стоит у полицейского управления, то туда лучше не соваться, там сейчас наверняка самое беспокойное место в городе. Во-вторых, можно было воспользоваться компьютерами в средней школе на Рошмор-уэй. «Новая волна» подарила их школе не столько из-за благотворительности, сколько для того, чтобы покрепче завязать связи с местными властями. Сэм считал, и Тесса его поддерживала, что при помощи этих компьютеров можно будет связаться с ЭВМ «Солнце». Но сложность состояла в том, что Центральная средняя школа на Рошмор-уэй находилась в двух кварталах западнее дома Гарри. В обычное время до нее запросто можно было дойти за пять минут, но сейчас, когда патрули встречаются на каждом шагу и в каждом из домов сидит неприятель, пройти этот короткий путь будет не легче, чем пересечь минное поле. — Кроме всего прочего, — сказала Крисси, — учтите, что занятия в этой школе и сейчас еще продолжаются. Вы же не можете войти в класс во время урока и поработать на компьютере. — Не надо еще забывать о том, — добавила Тесса, — что учителя наверняка были среди первых, когда началось это проклятое обращение. — Когда заканчиваются занятия? — поинтересовался Сэм. — В нашей начальной школе — в три часа, а у них — в средней — обычно на полчаса позже. — Стало быть, в три тридцать, — заключил Сэм. Гарри посмотрел на часы. — До конца занятий осталось сорок семь минут. Но ведь после них бывают еще всякие кружки, разве нет? — Как не бывать, — подхватила Крисси, — у них там и свой ансамбль есть, и футбольная секция. Да еще наверняка куча всяких кружков. — До которого часа все длится? — Я знаю, что ансамбль начинает репетицию без четверти четыре, а заканчивает без четверти пять, — пояснила Крисси, — у меня есть подружка на год старше меня, она у них тоже играет. А я умею играть на кларнете. Я тоже к ним пойду на будущий год. Если, конечно, ансамбль будет существовать. И если следующий год настанет. — Итак, примерно часам к пяти в школе никого не останется. — Есть еще футболисты. Они мяч гоняют допоздна. — Сегодня дождь, вряд ли тренировка состоится. — Да, наверное. — Если и так придется ждать до пяти или до половины шестого, — предположила Тесса, — не лучше ли подождать еще немного и выйти на улицу под покровом темноты? Сэм кивнул. — Да, так будет разумней. — Сэм, вы забыли еще об одной вещи, — сказал Гарри. — О чем? — Вскоре после того, как вы уйдете, возможно, около шести часов, они придут сюда, чтобы обратить меня. — О Господи, я совсем упустил это из виду, — опомнился Сэм. При этих словах Муз снял голову с колен хозяина. Он сел рядом, выпрямился, уши его встали торчком, как будто он уже услышал звонок или стук в дверь. — Я считаю, что вам действительно лучше подождать до темноты, тогда шансов на успех у вас будет значительно больше, — сказал Гарри, — но, кроме того, вам надо будет увести с собой Крисси и Тессу. Опасно оставлять их здесь. — Мы и вас заберем с собой, Гарри, — сразу же вмешалась Крисси, — и вас, и Муза. Я не знаю, обращают ли они собак, но на всякий случай мы должны позаботиться и о Музе. В этом случае нам не придется потом мучиться угрызениями совести из-за того, что его превратили в машину или во что-нибудь еще. Муз заворчал. — А Муз случайно не залает? — спросила Крисси. — Не хотелось бы, чтобы он залаял в самый неподходящий момент. Конечно, можно надеть ему на морду повязку из ваты и марли, это будет немного жестоко и обидно для собаки, она ведь поймет, что мы ей не доверяем до конца. Ей, конечно, не будет больно, повязка будет мягкой, и кроме того, мы потом загладим свою вину, угостим Муза сочным бифштексом… Девочка вдруг почувствовала, что вокруг нее установилось какое-то торжественное молчание, и сама тоже замолчала. Она взглянула на Гарри, на Сэма, попыталась найти поддержку в глазах Тессы, сидящей рядом с ней. Небо за окном почернело из-за Тяжелых туч, и в комнате стало еще темнее. Но Тесса еще могла во всех деталях рассмотреть выражение лица Гарри Талбота. Она понимала, как ему тяжело скрывать свою боль, хотя видела на его лице искреннюю улыбку. Только в глазах остался отблеск печали. Обращаясь к Крисси, Гарри произнес: — Я не смогу пойти с вами, моя родная. — О, — выдохнула Крисси. Она снова посмотрела на Гарри, затем на его кресло-коляску. — Но вы же приходили к нам в школу, вы же выходите иногда из дома, разве нет? Ну что вам стоит, попробуйте, прошу вас. Гарри улыбнулся. — Да, у меня в подвале есть гараж, туда даже опускается лифт. Но дело в том, что я больше не езжу на машине, так что гараж стоит пустой. Правда, я могу выехать из дома на кресле-коляске и на ней передвигаться по тротуару. — Ну конечно же! — воскликнула Крисси. Гарри посмотрел на Сэма и продолжал: — Вот только далеко я не смогу уехать, у нас же большинство улиц проложено по холмам. Тормоза у коляски есть, но мотор не потянет. — Мы будем вас подталкивать, — искренне предложила Крисси, — мы вам будем помогать. — Милая девочка, невозможно проскользнуть через три квартала оккупированной территории и одновременно протащить с собой инвалида в коляске, — твердо заявил Гарри, — ведь вам надо прятаться за каждым кустом и ни в коем случае не появляться на улице, а мне, наоборот, только одна дорога — по мостовой. — Но мы сможем нести вас. — Нет, — сказал Сэм, — мы не сможем этого сделать. Если мы хотим добраться до школы и передать сообщение в Бюро, то нам надо быть очень подвижными, ведь путь туда наверняка будет полон опасностей. Извините нас, Гарри. — Вам незачем просить прощения, Сэм, — возразил Гарри. — Я сам все продумал и решил. Я никогда не соглашусь быть обузой, не соглашусь, чтобы меня тащили через полгорода, как мешок с цементом. Крисси была явно опечалена. Она соскочила с кровати и умоляюще смотрела то на Сэма, то на Тессу, глазами призывая придумать хоть какой-нибудь способ спасения Гарри. Небо за окнами продолжали закрывать черные уродливые тучи. Дождь на время стих, но Тесса чувствовала, что вслед за короткой паузой ливень хлынет с новой силой. Мрак на улице и в душах всех четверых углублялся. Муз тихонько подал голос. В глазах у Крисси блеснули слезы, она не могла смотреть на Гарри. Отойдя к окну, девочка стала всматриваться в соседний дом. Однако она держалась в отдалении от стекла, чтобы не быть замеченной с улицы. Тессе хотелось каким-то образом утешить ее. Не меньше этого ей хотелось подбодрить Гарри. Больше того, ей хотелось, чтобы… вообще все плохое кончилось. Тесса привыкла на своей работе крутиться как белка в колесе. Фильм должен быть снят, а для этого необходимо сделать то-то и то-то — таков был ее принцип. Она всегда знала, как решить проблему, как выйти из трудного положения, как заставить кинокамеру снимать фильм даже тогда, когда все замыслы летят к черту. Но сейчас она споткнулась. У нее уже бывало так в жизни, когда обстоятельства были сильнее ее. С фильмами было проще. Может быть, именно по этой причине она отдала предпочтение профессиональной карьере и махнула на себя рукой в плане личной жизни. Несмотря на все семейные радости в детстве. Повседневная жизнь с ее бесконечными взлетами и падениями не поддавалась никакому анализу, была непредсказуема, ее нельзя было разложить по полочкам, рассчитать наперед, как документальный фильм. Жизнь оставалась жизнью, она была огромной и богатой… а фильмы вмещали в себя только основное, только суть. Наверное, Тессе было легче схватывать суть, чем выбираться из лабиринта проблем. Природный оптимизм Локлендов, всегда выплескивающийся через край, и сейчас не оставил ее, хотя и не проявлялся очень ярко. Гарри нарушил молчание: — Все будет в порядке. — Вы так считаете? — спросил Сэм. — Да. Я же, вероятно, последний в их списках, — пояснил Гарри, — вряд ли они будут особенно беспокоиться об инвалидах и слепых. Даже если кто-нибудь из нас знает о проекте «Лунный ястреб», у нас нет возможности выбраться из города и обратиться за помощью. Тут рядом — на Пайн-крест — живет миссис Сагерян. Она слепая. Я думаю, нас с ней обратят в последнюю очередь, скорее всего ближе к полуночи. Вот увидите. Могу даже поспорить. Так что, если вам удастся добраться до школы, связаться с Бюро и вызвать сюда подмогу, то у нас есть шанс спастись. Я это и имею в виду, когда говорю, что все будет в порядке. Крисси повернулась к Гарри, на щеках у нее были слезы. — Вы действительно так считаете, мистер Талбот? Вы думаете, они не придут сюда раньше полуночи? Голова Гарри, постоянно склоненная набок, сотрясалась от нервного тика. Сейчас это было особенно заметно. Тесса, которая была ближе к Гарри, чем Крисси, увидела, как хозяин дома хитровато подмигнул. Крисси, наверное, не обратила внимания на этот знак. — Милая девочка, если я что-то выдумываю, то пусть меня поразит молния сию же секунду. За окном с новой силой грянул ливень, но ни грома, ни молнии на этот раз не было. — Вот видишь, — улыбнулся Гарри. Крисси явно изо всех сил хотела заставить себя поверить Гарри. Тесса, однако, понимала, что шансов на спасение у него очень мало. Маленькая надежда сохранялась, но такой вариант развития событий больше походил на удачно найденный сюжетный ход в сценарии. В жизни, как она уже не раз убеждалась, все случается не так, как задумываешь. Но отчаянно хотелось поверить в его спасение, особенно в эти страшные минуты, когда стрелка неумолимо двигалась к шести часам — времени начала последнего этапа обращений.Глава 92
Всю вторую половину дня Шаддэк провел в гараже Паулы Паркинс. Дважды он открывал дверь гаража, выезжал на улицу и отслеживал по компьютерной связи работу по проекту «Лунный ястреб». Он был доволен темпами обращений. Механизм проекта работал как часы. Это он, Шаддэк, придумал его, воплотил в жизнь, запустил в работу. Теперь все детали механизма крутились без его вмешательства. Долгие часы сидения в автомобиле Шаддэк посвятил раздумьям о том времени, когда проект «Лунный ястреб» будет реализован в масштабах всей планеты. Люди в их прежнем облике перестанут существовать, и тогда слово «власть» приобретет новый смысл. Никто никогда не обладал той властью, которой будет обладать он. Он будет властелином всей планеты Земля, он будет осуществлять тотальный контроль над каждым человеком на этой планете. Переделав людей, он сможет запрограммировать их на выполнение нужных ему задач. Все человечество будет одной огромной машиной, неустанно работающей и подвластной только ему. Это будет воплощение его мечты. Шаддэк так размечтался, что его, как и во сне, стало охватывать животное желание. Да, на свете есть много ученых, которые искренне хотели бы поставить технологический прогресс на службу человечеству, помочь людям вырваться из круга мелочных забот и подняться к звездам. У него, у Шаддэка, другой взгляд на эти вещи. По его мнению, единственной целью технологического рывка должно стать сосредоточение тотальной власти в одних руках — в его собственных. Все предыдущие борцы за переустройство мира опирались в своей борьбе на политическую власть, которая всегда имела в качестве решающего аргумента силу оружия. Гитлер, Сталин, Мао, Пол Пот и другие обретали власть через запугивание и массовые убийства, пробираясь к трону через реки крови, и все до одного потерпели поражение. У них не было оружия, которое приведет к власти Шаддэка, — оружия в виде электронных мозгов. Разящий меч сильнее слова, однако микропроцессор все-таки сильнее многомиллионных армий. Если бы все эти гении современности знали, что он задумал совершить, если бы они знали о его мечте завоевать мир, они наверняка сочли бы его сумасшедшим. Но ему наплевать на то, что о нем думают. Они ни черта не смыслят в таких делах. Они не знают, кто он такой. Они не знают, какой великий знак послала ему судьба — знак лунного ястреба. Он был сыном неба. Своих приемных родителей он уничтожил сам, и тот факт, что он не понес за то никакого наказания, лишний раз доказывает его особое положение в мире. К нему неприменимы человеческие законы. Его истинными родителями являются великие духи, они бестелесны, но могущество их безгранично. Они защитили его от людской кары за убийство, так как на самом деле это было вовсе не убийство, а священная жертва, угодная великим духам. Это было доказательство его веры и преданности. Никто из этих гениев не поймет его, потому что они не понимают одной вещи — мир вертится вокруг него одного, мир существует только потому, что существует он. Если же он, Шаддэк, умрет, что кажется совсем уж невероятным, тогда и весь мир перестанет существовать. Он — центр мироздания. Только его существование имеет смысл. Ему поведали это великие духи. Великие духи шептали ему это и во сне, и наяву на протяжении более чем тридцати лет. Он — сын неба, сын великого знака — знака лунного ястреба. Приближался вечер, и Шаддэка охватывало возбуждение при одной мысли, что вскоре наступит финал первого этапа великого проекта. Он с трудом сдерживал себя, ему хотелось покинуть свое убежище. Конечно, Ломен Уоткинс продолжал представлять опасность для него, но сейчас это не казалось Шаддэку серьезной причиной для затянувшейся игры в прятки. События, происшедшие прошлой ночью в доме Майкла Пейзера, уже не казались ему столь трагичными, это был всего лишь эпизод, он уверен, что проблема «одержимых» вскоре будет решена. Его гениальность — это следствие его прямого контакта с великими духами, и нет таких препятствии на свете, которые нельзя было бы преодолеть с их благословения и при их помощи. Угрозы Уоткинса уже не казались серьезными, он вспомнил их сейчас скорее с иронией. Он — сын великого знака — знака лунного ястреба. К своему величайшему изумлению, Шаддэк понял, что забыл об этой истине, и поэтому испытал испуг и смятение. Впрочем, Иисус тоже испытывал смятение и страх, ему тоже пришлось бороться с демонами. Для Шаддэка гараж Паулы Паркинс стал Гефсиманским садом, здесь он уединился, чтобы отогнать от себя последние сомнения. Он — сын лунного ястреба. В половине пятого Шаддэк распахнул ворота гаража. Завел машину и выехал на улицу. Он — сын лунного ястреба. Шаддэк свернул на шоссе и направился к городу. Он — сын лунного ястреба, именно ему предназначена корона неземного света, и в полночь он наконец взойдет на трон.Глава 93
Пак Мартин — а полное его имя было Паккард, так назвала его мать в честь любимой автомобильной марки отца — жил в фургоне на юго-восточной окраине города. Фургон был старый, его корпус-был здорово потрепан, и краска вся потрескалась, как эмаль на старой вазе. В нескольких местах проступали пятна ржавчины, а сам фургон уже давно был снят с колес и поставлен на бетонные блоки, покрывшиеся за долгие годы мхом. Пак знал, что многие жители Мунлайт-Кова считают его фургончик бельмом на глазу у города, но Паку до их мнения не было никакого дела. К фургончику было подведено электричество, имелись в нем и печка на мазуте, и примитивный туалет с умывальником, и Паку было всего этого вполне достаточно. В фургончике тепло, сухо и есть куда положить несколько бутылок пива. Чем не дворец? Что немаловажно, за вагончик была выплачена уже вся сумма. Двадцать пять лет назад он получил наследство от своей матери, так что никаких долгов за ним не было. Оставшаяся часть денег лежала в банке, но Пак редко трогал эту сумму. Ведь с нее каждый месяц набегали проценты — долларов триста, а кроме того, он получал пенсию по инвалидности, которую заработал, неудачно упав, через три недели после призыва в армию. Единственное дело, которым Пак занимался в своей жизни, было чтение и запоминание всех симптомов серьезной травмы спины. Эти знания он блестяще использовал, когда добивался для себя инвалидности на военно-врачебной комиссии. Пак был создан для того, чтобы отдыхать. Он понял это еще в детстве. Между работой и им самим не было ничего общего. Получалось так, что он должен был родиться в богатой семье, но что-то там в небесах не заладилось, и он оказался сыном официантки, которая крутилась всю жизнь, чтобы накопить небольшое наследство. Однако Пак и не думал никому завидовать. Каждый месяц он покупал себе со скидкой дюжину ящиков дешевого пива в магазинчике рядом с автострадой. У него был свой телевизор, у него изредка была на обед колбаса, а иногда и жареная картошка, так что он ни в коем случае не считал себя обиженным. В этот вторник часам к четырем Пак уже хорошенько нагрузился пивом, он уютно сидел в своем продавленном кресле и смотрел по телевизору спортивное шоу, в котором его интересовали в первую очередь стройные ножки его участниц, а уже во вторую очередь — «заковыристые» вопросы ведущего. Ведущий задал очередной вопрос: «Так что вы выбрали? Вы выбрали ящик с номером один, с номером два или с номером три?» Отвечая на вопрос ведущего, Пак сказал: «Я лично выбрал бы вон ту, смазливенькую». Именно в этот момент кто-то постучал в дверь. Пак даже не подумал вставать и не отозвался на стук. Друзей у него не было, так что гостей он никогда не ждал. Если кто и забегал к нему, то это были либо люди из благотворительных организаций, либо блюстители чистоты, которые предлагали ему прибраться возле фургончика. Ни тех, ни других он на дух не переносил. В дверь снова постучали. Пак ответил тем, что увеличил громкость телевизора. Стук стал требовательнее. — Убирайтесь куда подальше! — крикнул Пак. В ответ дверь начали буквально выламывать, раскачивая весь фургончик. — Какого черта? — возмутился Пак. Он поднялся с кресла и выключил телевизор. В дверь перестали ломиться, но Пак услышал какие-то странные скребущиеся звуки с другой стороны двери. Внезапно весь фургончик заскрипел, как бывало иногда при сильном ветре. В этот день ветра не было. «Ребятишки балуются», — подумал Пак. Он решил, что это проделки детей Эйкорнов, которые жили неподалеку, на другой стороне автострады. Детишки были отпетыми хулиганами, и место им было в музее криминалистики. Они однажды уже подкладывали самодельные взрывные устройства под фургончик Пака и разбудили его среди ночи страшным грохотом. Скрежет у двери прекратился, но теперь пара чьих-то ног начала топать по крыше. Это уже было слишком. Слава Богу, крыша у фургончика пока не протекала, но дождь и ветер сделали свое дело, и под тяжестью пары мальчуганов крыша запросто могла прогнуться или развалиться на части. Пак открыл дверь и вышел на дождь, выкрикивая ругательства. Но когда он взглянул на крышу, то увидел на ней вовсе не соседских ребят. То, что он увидел, больше всего напоминало монстра из фильмов ужасов пятидесятых годов. Чудовище было ростом с человека, у него были огромные челюсти и страшные, переливающиеся, как у стрекозы, глаза. По бокам рта торчали угрожающие клыки. При всем при этом удивительное существо сохраняло какие-то человеческие черты, и Пак по этим чертам понял, что перед ним не кто иной, как преобразившийся Дэрил Эйкорн, отец хулиганистых детишек. «Ж-а-а-ж-ж-д-а-а», — протяжно завыло существо голосом, наполовину человеческим, наполовину животным. Оно ринулось навстречу Паку и одновременно выпустило из своего безобразного тела остро отточенное жало. Еще до того, как это мертвое жало пронзило живот Пака насквозь, он понял, что те дни, когда он вольготно попивал пиво, ел бутерброды с колбасой и жареную картошку, те вечера, когда он смотрел телевизионные шоу, — все это закончилось для него навсегда. Четырнадцатилетний Рэнди Хэпгуд прошлепал через заполненную до краев придорожную канаву и остановился, как бы выжидая, не пошлет ли ему природа какое-нибудь более серьезное испытание. Он специально не стал надевать ни плащ, ни калоши, так как в такой одежде и обуви нельзя выглядеть настоящим парнем. Точно так же нельзя надеяться на успех у девчонок, если ты таскаешься под дождем с зонтиком. И хотя на всем пути под дождем на шею Рэнди не бросилась еще ни одна девчонка, он считал, что это не беда и они в какой-то момент все равно по достоинству оценят его мужественность и поймут, что он выгодно отличается от всех этих молокососов, которые сейчас сидят по домам. Рэнди уже промок до нитки, и вид у него был довольно-таки жалкий, но он бодро насвистывал и не подавал виду, что ему холодно. Без двадцати пяти закончилась репетиция ансамбля в Центральной школе, и Рэнди направлялся домой. Репетицию, кстати, сократили из-за плохой погоды. На крыльце дома Рэнди скинул с себя мокрую куртку и чавкающие теннисные туфли. — И в-о-о-т я з-д-е-е-сь! — протяжно завопил Рэнди, подражая девчонке из фильма «Полтергейст». Из дома никто не отозвался. Но, судя по всему, родители были дома. Свет в окнах горел, да и входная дверь была открыта. В последнее время родители очень часто работали дома. Они сейчас разрабатывали какой-то программный продукт для «Новой волны» и проводили целые дни напролет за своими компьютерами на втором этаже дома. При этом, естественно, им не было никакой необходимости ходить на работу. Рэнди взял из холодильника банку кока-колы, откупорил ее, сделал пару глотков и отправился наверх, чтобы высушить одежду и заодно рассказать Питу и Марше, как он провел этот день. Он никогда не называл своих родителей папой и мамой, и ему это очень нравилось — они были ребята что надо. Иногда Рэнди даже казалось, что они уж чересчур по-свойски ведут себя с ним. У них была машина «Порше», они всегда на полгода опережали любую моду и всегда готовы были говорить с Рэнди на любые темы. Любые, включая секс, причем настолько раскованно, как будто они были ребятами из его класса. Если он когда-нибудь встретит настоящую блондинку, которая будет вешаться ему на шею, он скорее всего поостережется приводить ее в дом, так как побоится, что его отец покажется ей более настоящим парнем, чем он сам. Ему даже иногда хотелось, чтобы Пит и Марша были толстыми, неряхами и ужасно старомодными и чтобы они с глупым упорством настаивали на обращении к ним, как к папе и маме. Ему с лихвой хватало соперников в школе, вовсе ни к чему было иметь их еще и в семье. Добравшись до верхней площадки лестницы, Рэнди вновь позвал родителей: — Я обращаюсь к вам со словами героя Америки, Джона Рэмбо, я говорю вам: «Й-о-о!» И на этот раз ответа не было. В тот момент, когда Рэнди подошел к открытой двери кабинета, у него начали дрожать коленки. После приступа страха Рэнди, однако, не остановился, так как созданный им самим образ юного супермена не позволял ему признаться в своем страхе. Рэнди переступил через порог, готовый высказать родителям все, что он думает об их молчании в ответ на его приветствие. Он был совсем не готов к тому, что он увидел, и застыл на месте, как будто пораженный молнией. Пит и Марша сидели за противоположными концами стола, их компьютеры были обращены друг к другу задними стенками. Глагол «сидеть» в данном случае не подходил к их положению в пространстве — они были буквально привязаны к стульям проводами, которые тянулись от них не только к компьютерам, но и к полу под их ногами. Трудно было сказать, откуда начинались эти провода — или из их тел, или из их компьютеров. Лица еще с трудом можно было опознать, но по большей части и на них уже началось странное соединение металла с живой плотью. У Рэнди перехватило дыхание. Но ноги вдруг вновь стали ему послушны, и он попятился назад. Рэнди услышал, как сзади него захлопнулась дверь. Он закричал. Прямо из стены по направлению к нему потянулись щупальца — наполовину из живой плоти, наполовину металлические. Вся комната показалась ему внезапно ожившей по воле злых духов, за каждой стеной чувствовалось присутствие какого-то организма или машины. Щупальца оказались весьма ловкими. Они обернулись вокруг тела Рэнди, связали ему руки, приподняли над полом и понесли навстречу родителям. И Пит, и Марша продолжали оставаться в своих креслах, но на компьютеры они больше не смотрели. Они уставились на Рэнди своими сверкающими, зеленоватыми глазами, которые, казалось, кипели в глазницах. Рэнди застонал. Он попытался вырваться, но щупальца крепко удерживали его. Пит открыл рот, и оттуда вылетело полдюжины серебристых шариков. Они со скоростью пули вошли в грудь мальчика. Тело Рэнди взорвалось от боли. Но эта обжигающая боль длилась лишь пару секунд, а потом сменилась ощущением страшного холода, этот холод начал разливаться по всему телу, подниматься к лицу. Рэнди попытался вновь застонать, но не смог издать ни звука. Щупальца через несколько секунд начали втягиваться в стену, увлекая за собой Рэнди и прижимая его спиной к штукатурке. Холод к этому моменту уже разлился по всей голове и продолжал проникать в ноги и руки. Еще одна попытка застонать. На этот раз он услышал звук своего голоса. Это было похоже на высокочастотное гудение электронного устройства. Во вторник, во второй половине дня Мэг Хендерсон оделась потеплее, натянув на себя, кроме шерстяных брюк и спортивного свитера, еще и джемпер. Она села на своей кухне у окна, поставила перед собой бокал сухого вина, тарелку с крекерами и ломтиками сыра и начала читать роман Рекса Стаута о Ниро Вульфе. Все романы о Вульфе она прочитала много лет назад, но сейчас решила перечитать их заново. Возвращаться к знакомым книгам было приятно, так как люди в них всегда оставались прежними. Вульф был, как всегда, гениален и слыл гурманом. Арчи оставался человеком действия. Фриц по-прежнему готовил так, что пальчики оближешь. Никто из них не постарел с тех пор, как они расстались в прошлый раз, и ей ужасно хотелось именно в этом не отставать от любимых героев. Мэг было восемьдесят лет, она на них и выглядела с точностью до минуты, уж себя-то не обманешь. Недавно она посмотрела в зеркало и не узнала себя, хотя вот уже много десятилетий видела перед собой это лицо. Лицо было чужим. Может быть, она ожидала увидеть на нем отсвет своей молодости, так как в душе она продолжала оставаться молоденькой девчонкой. К своему счастью, она не ощущала своих восьмидесяти лет. Конечно, кости были уже старыми, а тонус мышц — такой же, как у этого забавного существа из третьей части «Звездных войн», которую она смотрела по видео на прошлой неделе. Но, слава Богу, ее не мучили артрит и другие старческие болезни. Она жила по-прежнему в своем доме на Конкорд-серкл, старой кривой улочке, которая начиналась и заканчивалась на Серра-авеню. Она и Фрэнк купили этот домишко лет сорок назад, когда оба работали учителями в школе Томаса Джефферсона, в те времена, когда там же располагались начальные классы. Тогда Мунлайт-Ков был совсем маленьким городом. Четырнадцать лет назад она стала вдовой и живет с тех пор в своем домике одна. Она благодарна Создателю за то, что может иногда выходить за покупками, поддерживать свой дом в чистоте и готовить себе сама. Еще больше она благодарна за то, что ей удалось сохранить ясность ума. Она боялась склероза или инсульта больше, чем инвалидности, так как эти недуги, оставив в неприкосновенности ее тело, отнимут у нее память и изменят ее как личность. Она старалась сохранить гибкость ума, перечитывая уйму книг самого разного рода, беря напрокат целые стопки видеофильмов и любой ценой избегая просмотра этих оглупляющих развлекательных программ по телевидению. В половине пятого вечера Мэг уже дочитала роман до середины. В конце каждой главы она отвлекалась и смотрела в окно на дождь. Она любила все, что Господь Бог посылал на землю, — бури, ветры, холод, жару, так как разнообразие и крайности проявлений Божьего творения делали мир столь неповторимым и прекрасным. Она как раз смотрела на дождь, превратившийся недавно из проливного в моросящий, когда увидела в окно три широкие, темные и чудовищные фигуры. Они появились возле деревьев в задней части двора, футах в пятидесяти от того окна, у которого она сидела. Фигуры остановились на мгновение, возле их ног закрутился туман, и Мэг показалось, что они возникли из этого тумана и вот-вот исчезнут. Но, вместо того чтобы исчезнуть, они побежали прямо юее дому. Когда три чудовища приблизились и Мэг разглядела их, она похолодела от страха. Это было нечто невообразимое, невиданное, их можно было сравнить разве что с ожившими химерами, спустившимися с крыш готических соборов. Мэг поняла в этот момент, что начинается самое страшное — инсульт, причем в очень тяжелой форме. Правда, она никогда не думала, что инсульт может начаться с таких диких галлюцинаций. Сомнений не было — вслед за галлюцинациями последует разрыв сосуда, питающего кровью мозг. Этот сосуд с хрупкими стенками уже судорожно пульсирует. Мэг все ждала, когда же ее мозг пронзит страшная взрывная боль, ждала, что правую или левую сторону ее тела сведет судорогой, которая обернется параличом. Даже в тот момент, когда одна из химер, разбив окно, осыпав битым стеклом стол, смахнув со скатерти бокал с вином, бросилась на Мэг, свалила ее со стула, впилась в нее зубами и когтями, даже в этот момент Мэг продолжала удивляться тому, как странно начинается у нее инсульт. Только жуткая боль не удивляла ее. Она всегда знала, что смерть не бывает без боли. Дора Ханкенс, дежурный секретарь приемной в компании «Новая волна», привыкла, что все сотрудники компании покидают здание к половине пятого. Официально рабочий день заканчивался в пять часов, но многие уходили гораздо раньше, так как у каждого был дома персональный компьютер и отрабатывать восьмичасовой рабочий день именно в стенах компании было необязательно. С тех пор, как все сотрудники прошли через обращение, надобность в приказах и правилах отпала сама собой, так как все работали ради одной цели — ради создания Нового мира. Всех подталкивал вперед страх перед Шаддэком, и страх этот был столь велик, что заменял все остальные стимулы. В 16.55 еще ни один из сотрудников не прошел мимо нее к выходу. Дора насторожилась. В здании было подозрительно тихо, несмотря на то что сотни людей продолжали работать в своих кабинетах и лабораториях на всех трех этажах. Впечатление было такое, будто все бесследно исчезли. Ровно в пять часов ни один человек не покинул здание, и Дора решила выяснить, что происходит. Она вышла из-за стойки, прошла по холлу и открыла дверь, за которой начинался коридор, где размещались рабочие кабинеты. Открыв дверь первого кабинета с левой стороны, Дора вошла в комнату, где работали восемь женщин-секретарей. Они вели делопроизводство у тех руководителей среднего звена, у которых не было собственных секретарш. Все восемь женщин сидели за компьютерами. В мерцающем зеленоватом свете Дора без труда увидела, что люди и машины переплелись в одно неразделимое целое. Страх был единственным чувством, которое Дора испытывала в последние недели. Она думала, что уже познала все оттенки и степени страха. Но сейчас ужас перешел все мыслимые пределы. Из стены справа от нее вылетел отросток, состоящий большей частью из металла, но гибкий, как живая змея. «Змея» пронзила голову одной из секретарш, ни капли крови при этом не пролилось. Еще одна «змея» выскочила из головы другой секретарши, какое-то время «змея» покачивалась, словно подчиняясь неслышной мелодии, затем с немыслимой скоростью устремилась к потолку, проскочила через перекрытие и исчезла в комнате этажом выше. Дора поняла, что все компьютеры и люди в «Новой волне» слились в единое целое, и все огромное здание превратилось в гигантский компьютерный центр. Дора хотела бежать куда глаза глядят, но не могла сдвинуться с места — возможно, потому, что понимала бессмысленность всяких попыток спасения. Несколько мгновений спустя Дора включилась в общую компьютерную систему. Бетси Солдонна аккуратно прикрепляла к стенду плакат. Стенд висел на стене городской библиотеки и призывал юных читателей больше читать приключенческую литературу. Это мероприятие являлось частью Недели чтения увлекательных триллеров. Бетси была помощником библиотекаря. По вторникам она работала одна, так как ее начальница — библиотекарь Кора Дранкер — брала в этот день выходной. Бетси была с Корой в хороших отношениях, но поработать одной тоже было приятно. Кора любила поговорить, и ни одна пауза в работе не обходилась без ее многословных замечаний о развитии сюжета в ее любимых телепередачах. Бетси не мыслила себе жизни без книг и готова была часами говорить только о них. Кора, хотя и была заведующей библиотекой, книг почти никогда не читала. Бетси оторвала четвертый кусочек скотча и приклеила последний угол плаката к стене. Она отошла на пару шагов назад и залюбовалась своей работой. Этот плакат она нарисовала сама. Было чем гордиться. На плакате мальчишка и девчонка, держа в руках книги, смотрели на них широко раскрытыми глазами. Волосы у них от изумления стояли дыбом на голове. Брови у девчонки подскочили вверх, уши у мальчишки встали торчком. Над их головами по плакату шла надпись: КНИГИ — ЭТО АТТРАКЦИОН, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ, В НИХ ТЫ НАЙДЕШЬ НЕМАЛО УВЛЕКАТЕЛЬНОГО И УДИВИТЕЛЬНОГО. Сзади, из-за полок с книгами, вдруг послышался необычный звук — не то чей-то кашель, не то стон. Вслед за этим звуком раздался грохот книг, падающих с полок. Кроме Бетси, в библиотеке в этот момент находился только Дейл Фой. Дейл уже три года как был на пенсии, когда-то он работал кассиром в одном из супермаркетов. Он ничего не читал, кроме триллеров, все время искал какие-нибудь новенькие книги в этом жанре и без конца жаловался, что теперь нет таких хороших писателей, как раньше. Выше всех он ставил Джона Бучена. Вторым шел Роберт Льюис Стивенсон. Бетси вдруг подумала, что у мистера Фоя случился сердечный удар, он, вероятно, позвал ее на помощь и, чтобы не упасть, схватился за полку с книгами и опрокинул ее на себя. Она представила, как он бьется в агонии, ловит ртом воздух, лицо у него синеет и глаза выкатываются из орбит. На губах появляется кровавая пена… Многие годы ежедневного чтения отточили воображение Бетси до такой степени, что оно стало острым, как бритва. Она побежала в глубь комнаты, просматривая ряды между полками книг и выкрикивая: — Мистер Фой, мистер Фой, что с вами? В самом крайнем проходе, у стены, на полу валялись книги, но мистера Фоя рядом с ними не было. Не помня себя от удивления, она повернулась, чтобы еще раз пробежать мимо полок, и тут увидела… Мистера Фоя было очень трудно узнать. И хотя Бетси Солдонна обладала богатым воображением, она не смогла бы представить себе чудовище, в которое превратился старик, и те ужасы, которые он уготовил ей. Следующие мгновения были наполнены кошмарами из сотен триллеров, но, в отличие от книг, впереди не было никакого счастливого конца. Из-за того, что темные штормовые тучи закрыли все небо, сумерки спустились на Мунлайт-Ков раньше обычного. Казалось, весь город включился в празднование Недели чтения увлекательных триллеров. Для очень и очень многих жителей этот сумрачный день обернулся бесчисленными ужасами и приключениями. Мрачный аттракцион под открытым небом работал без перерыва.Глава 94
Сэм осветил фонариком все углы чердака. Пол казался прочным, лампы под потолком не было. Здесь ничего не хранилось, зато имелось много пыли, паутины и огромное количество мертвых, высохших пчел, которые летом понастроили тут свои гнезда, а к осени умерли от холода или от каких-то инсектицидов. Сэм остался вполне доволен увиденным. Он вернулся к люку, спустился по лестнице вниз, в кладовку, расположенную в спальне, куда Гарри складывал старую одежду. Немало этой одежды пришлось вынести, чтобы установить лестницу. Тесса, Крисси, Гарри и Муз ждали Сэма у двери кладовки, свет в спальне еще не зажигали. Сэм успокоил их, сказав: — Ну, все в порядке. — Я туда не лазил с тех пор, как ушел на войну, — пояснил Гарри. — Там, конечно, грязновато, много паутины, но зато вы будете в безопасности. Если вы не в самом конце списка и они придут раньше, то, не обнаружив вас дома, они никогда не полезут на чердак. Ведь никому в голову не придет, что инвалид с одной здоровой рукой может забраться туда. Сэм не был до конца уверен, что так оно и будет, но для успокоения Гарри и своего собственного он не мог придуматьничего лучшего. — Я смогу взять туда Муза? — Возьмите пистолет, о котором вы упоминали, а Муза лучше оставьте здесь, — сказала Тесса, — он может залаять в самый неподходящий момент. — Вы думаете, Муз будет здесь в безопасности… когда они придут? — поинтересовалась Крисси. — Я уверен в этом, — успокоил ее Сэм. — Их не интересуют собаки, их интересуют только люди. — Вам лучше подняться наверх, Гарри, — поторопила Тесса, — уже двадцать минут шестого. Мы тоже не будем здесь долго задерживаться. В комнате становилось темно, черные тени наполняли ее так же быстро, как вино кроваво-красного цвета наполняет хрустальный бокал.Часть III. ИМ ПРИНАДЛЕЖИТ НОЧЬ
Монтгомери сказал мне, что Лоу: к вечеру почувствовал странную усталость; но вскоре животное вновь обрело прежнюю силу; в сумерках им овладел дух приключений; оно осмеливалось на такие вещи, на которые никогда бы не решилось при свете дня.Г. Уэллс «Остров доктора Моро»
Глава 95
На холмах, окружавших со всех сторон бывшую колонию «Икар», было множество мышиных и сусликовых нор. Все их обитатели, а с ними и лисы в какой-то момент выбрались из-под земли и застыли, дрожа под дождем, вслушиваясь в странный звук, доносящийся из здания бывшей колонии. Несколько белок и барсуков также перестали суетиться в ближайшей роще и замерли, как статуи. Первыми не выдержали птицы. Они, несмотря на дождь, вылетели из своих гнезд на деревьях и под крышей старого сарая. С криками они поднялись в воздух, закружились над домом, а затем начали одна за другой влетать в разбитые окна колонии. Стрижи, ласточки, воробьи, ястребы устремлялись в дом, словно подхваченные вихрем. Некоторые промахивались и ударялись о стены, падали замертво или бились в судорогах на земле. Звук услышали все животные и птицы в радиусе двухсот футов от дома, однако подчинились зову первыми только те, кто находился совсем близко. Кролики, белки, койоты, лисы и барсуки ползли, прижавшись к мокрой земле, стремясь приблизиться к источнику блаженного звука. Некоторые из них были хищниками, некоторые — травоядными, но сейчас все были заодно. Это зрелище напоминало сцену из диснеевского мультфильма, в которой звери и птицы, увлеченные волшебной музыкой, ползут к ногам сказочника, чтобы послушать его чудесные истории. Однако сказочника в бывшей колонии «Икар» не было, и музыка, притягивающая зверей и птиц, не предвещала своим холодным звучанием ничего хорошего.Глава 96
Пока Сэм поднимал Гарри на руках на чердак, Тесса и Крисси напряглись изо всех сил, толкая кресло-коляску в гараж в подвальной части дома. Это было нелегкой задачей, так как коляска была тяжелой и довольно-таки внушительной по своим размерам. В конце концов им удалось установить ее у ворот гаража, чтобы создать впечатление, будто Гарри, пересев из коляски в какую-то машину, уехал. — Вы думаете, нам удастся навести их на ложный след? — спросила с беспокойством Крисси. — Во всяком случае, есть шанс, что они попадутся на эту удочку, — ответила Тесса. — Может быть, они даже подумают, что Гарри уехал еще вчера, когда город не был заблокирован. Тесса кивнула, хотя в душе понимала — как, наверное, и Крисси, — что надежда на благополучный исход была очень слабой. Если бы Сэм был по-настоящему уверен в надежности убежища на чердаке, он настоял бы на том, чтобы Крисси спряталась там же, а не брал бы ее с собой в грозовую кошмарную жуть сумеречного города. Тесса и Крисси поднялись на третий этаж на лифте! Здесь их уже поджидал Сэм, только что закрывший люк на чердак и убравший лестницу из кладовки. Муз сидел рядом и внимательно наблюдал за развитием событий. — Уже пять часов сорок две минуты, — объявила Тесса, посмотрев на часы. Сэм вешал на место перекладину для одежды, которую пришлось убрать, когда устанавливали лестницу. — Помогите-ка мне занести обратно одежду, — попросил он Тессу и Крисси. Одежда была свалена в кучу на кровати. Выстроившись в цепочку, все трое вскоре переправили вещи на их место в кладовке. Тесса заметила, что сквозь марлю повязки на правой руке Сэма опять сочилась кровь. От тяжелой работы рана снова открылась. И хотя она была далеко не смертельной, ее не мешало бы обработать, так как теперь только от Сэма, от его ловкости и сосредоточенности зависели их шансы на спасение. Закрывая дверь кладовки, Сэм сказал: — Боже, как же не хочется оставлять его здесь. — Уже пять часов сорок шесть минут, — напомнила Тесса. Она надела свою кожаную куртку, а Крисси — непромокаемый плащ Гарри, который был ей сильно велик. Сэм в это время заряжал свой револьвер. Весь запас патронов из своих карманов он израсходовал в доме Кольтранов. К счастью, у Гарри имелось два пистолета, он их забрал с собой на чердак, а патронами поделился с Сэмом. Теперь оружие было в кобуре, и Сэм направился к телескопу, чтобы осмотреть улицы, ведущие к школе. — Они еще не утихомирились, — заключил он по результатам осмотра. — Много патрулей? — уточнила Тесса! — Да. Но, к нашему счастью, дождь льет как из ведра. И туман с каждой минутой все гуще. Из-за непогоды сумерки продлятся, по всей видимости, недолго и скоро уступят место ночной темноте. Так думал Сэм, глядя, как быстро исчезают последние проблески серого дня, как кромешная мгла раскидывает свои крылья над утопающим в дожде городом. — Пять часов пятьдесят минут, — напомнила Тесса. Крисси добавила: — Если мистер Талбот в начале их списка, они могут заявиться сюда с минуты на минуту. Оторвавшись от телескопа, Сэм скомандовал: — Ну что же, пошли. Он вышел первым, Тесса и Крисси последовали за ним. Вниз спускались по лестнице. Муз воспользовался лифтом.Глава 97
Шаддэк в этот вечер чувствовал себя беззаботно, как когда-то очень-очень давно в детстве. Непрерывно кружа по городу, от моря к холмам, от Холливел-роуд к Паддок-лейн, он не мог вспомнить, когда в последний раз был в таком прекрасном настроении. Он отдал приказ патрулям расширить зоны патрулирования, он хотел быть уверенным в том, что в нужный момент каждый квартал будет под контролем. Вид всякого здания, любого прохожего, бредущего под дождем, словно подогревал его, он знал, что через несколько часов он станет хозяином этой местности и этих людей, он будет повелевать их жизнью и смертью. Его переполняло удивительное возбуждение, ожидание праздника, такого чувства он не испытывал с самого детства, с тех пор, как мальчишкой ожидал наступления Рождества. Город Мунлайт-Ков был воистину царским подарком, и через несколько часов, когда наступит его праздник, он получит этот подарок и сможет играть в эту игрушку столько, сколько ему заблагорассудится. Он будет играть в те игры, в которых столь долго сам себе отказывал, но о которых он так давно мечтал. Настанет час праздника, и он не откажет себе ни в какой прихоти, так как любая кровавая или преступная игра будет доступна ему, никто не сможет ни помешать ему, ни осудить его. И, подобно ребенку, залезшему в карман отцовского пальто в поисках мелочи на мороженое, Шаддэк так увлекся заманчивыми перспективами, что совершенно забыл о возможности провала эксперимента. С каждой минутой угроза со стороны «одержимых» казалась ему все менее вероятной. О Ломене Уоткинсе он забыть не мог, но причина, по которой он провел целый день в гараже Паулы Паркинс, совершенно вылетела у него из головы. Более тридцати лет неослабного самоконтроля, беспощадной мобилизации всех физических и умственных возможностей, начавшейся еще тогда, когда он уничтожил своих родителей и Бегущего Оленя, тридцать лет отказа себе во всех прихотях и сосредоточенности только на работе привели его наконец к воплощению его мечты. Он не имел права ни на какие сомнения. Сомневаясь в своем предназначении или результатах своей деятельности, он тем самым ставит под сомнение свое священное призвание и оскорбляет великих духов, благоволящих к нему. Он не может теперь оглядываться назад, поэтому должен отбросить всякие мысли о неудачном исходе эксперимента. В разыгравшейся вовсю стихии он видел и чувствовал присутствие великих духов. Он чувствовал, как они неслышно и невидимо скользят по улицам города. Они спустились сюда, чтобы присутствовать и приветствовать его восхождение на трон. Пьянящих сладостей из сока кактуса он не ел с того дня, когда убил отца, мать и индейца, но способность к моментам яркого озарения он сумел пронести сквозь все эти годы. Они; эти моменты, накатывали на него всегда неожиданно. Казалось бы, вот только что он был здесь, в своем привычном мире, и вдруг — он уже в другом измерении, в каком-то параллельном мире, в котором все кажется гораздо ярче и сочнее, в котором любой предмет приобретает новые качества, в котором сам он кажется себе невесомым, словно воздушный шарик. Там, в этом волшебном мире, с ним говорят великие духи. Особенно часто такое с ним случалось в первый год после убийства, видения посещали его чуть ли не по два раза в неделю. Постепенно частота озарений уменьшалась, но сила их не убывала никогда. Эти полуобморочные состояния, длившиеся от полутора-двух до шести-восьми часов, не могли не заметить те, кто был рядом с ним в годы детства и юности, — родственники, учителя в школе. Из-за этих состояний к нему сложилось особое отношение — его жалели и прощали, так как считалось, что все это — следствие моральной травмы, полученной в детстве. Вот и сейчас, в бесконечной поездке по городу, он медленно впадал в столь знакомый ему «кактусовый» транс. На этот раз переход из одного мира в другой не был таким неожиданным, как обычно. Сейчас он словно медленно-медленно погружался в новое состояние. Шаддэк почему-то осознавал, что на этот раз он не будет в какой-то момент отброшен назад, в свой обычный мир. Отныне он будет обитателем обоих миров, он станет равным великим духам, ему будет доступна и заоблачная высота их разума, и земная конкретность существования. Он даже начал подозревать, что переживает в данный момент какой-то особый вид обращения, в тысячи раз более глубокий, нежели тот, через который прошли жители Мунлайт-Кова. В столь экзальтированном состоянии все окружающее казалось Шаддэку необычным. Мерцающие огни на мокрых от дождя улицах представлялись отблесками роскошных бриллиантов, рассыпанных по мостовой. Серебряные, расплавленные нити дождя поражали своим совершенством. Вечернее небо также не жалело мрачных, но торжественных красок. На перекрестке Паддок-лейн и Сэдлбек-драйв он случайно дотронулся до своей груди и ощутил под рукой миниатюрный корпус телеметрического устройства, которое он постоянно носил на надежной шейной цепочке. Он был так увлечен своими мыслями, что не сразу вспомнил, какое назначение было у этого предмета. Эта секундная забывчивость показалась ему также полной смысла. Ведь эта штука играла чрезвычайно важную роль не только в его собственной жизни. Прибор регистрировал и тут же передавал в эфир биение его сердца. Приемное устройство находилось в штаб-квартире компании «Новая волна» и было способно принимать сигнал с передатчика в радиусе пяти миль. Связь не прерывалась и тогда, когда Шаддэк находился в помещении. Если же сигнал о сердцебиении будет отсутствовать больше, чем в течение одной минуты, компьютер «Солнце» выдаст команду на уничтожение. Ее мгновенно примут микросферы, ответственные за ликвидацию, имеющиеся в теле каждого из Новых людей. Пару минут спустя, на Бастенчерри-роуд, когда он вновь дотронулся до прибора, его опять посетило загадочное чувство забытья. Ему показалось, что практическое назначение прибора уходит куда-то на задний план, а на первый выходит его магическая суть. Ведь в принципе любой человек на земле мог генерировать этот могущественный ритм, определяющий жизнь и смерть тысяч людей. Но этот прибор достался ему, и теперь разыгравшееся воображение Шаддэка-ребенка рисовало ему прибор в виде магического амулета, дарованного ему свыше великими духами. Это было еще одно свидетельство его способности обитать одновременно в двух мирах, одной ногой он стоял в мире обычных людей, другой — в обиталище великих духов, божеств, явившихся к нему когда-то из простой кактусовой тянучки. Воспоминание о детстве словно включило машину времени, и Шаддэк вновь окунулся в ту пору, когда ему было семь лет и когда он был без ума от индейца по кличке Бегущий Олень. В то время он был всего лишь ребенком. А индеец был полубогом. А потом ребенок был усыновлен божественным знаком лунного ястреба и получил власть над всем миром, над всеми людьми. Шаддэк продолжал кружить по городу, и мысли его были заняты фантазиями о том, что он хотел бы себе позволить… и с кем он хотел бы это совершить. Время от времени он тихо посмеивался и даже повизгивал от восторга, подобно маленькому и злому ребенку, посадившему в банку муравьев и поджигающему их спичками. Его глаза сверкали, видя, как муравьи корчатся в пламени.Глава 98
Сэм, Тесса и Крисси решили еще немного переждать на кухне, пока последние проблески осеннего дня погаснут в небе. Муз крутился тут же, его хвост взлетал вверх так, что казалось, еще немножко — и он пойдет кружиться по кухне отдельно от хозяина. Наконец Сэм сказал: — Теперь пора. Держитесь возле меня. Делайте только то, что я скажу, никакой самодеятельности. Возле двери к выходу они обменялись долгими понимающими взглядами, не говоря ни слова, обнялись. Тесса поцеловала Крисси в щеку, то же самое сделал Сэм, Крисси, в свою очередь, расцеловалась с ними. Ей не надо было объяснять, почему это вдруг все стали такими чувствительными. Ведь все они были людьми, настоящими людьми, а для людей очень важно выражать свои чувства. А им — особенно важно, так как до полуночи осталось совсем немного времени, и неизвестно, доживут ли они до нее в человеческом образе. Может быть, им никогда уже не суждено испытывать простые человеческие чувства, поэтому эта возможность проявить их была воистину бесценной. Кто знает, какие чувства испытывают эти загадочные ночные «призраки»? Да и кому это интересно? Наверное, никому. Впрочем, нет, этот вопрос будет интересовать их самих, если они не смогут связаться с внешним миром и попадут в лапы этих «призраков» или патрулей. Тогда, в тот последний момент, им бы очень пригодились знания о психологии их врагов хотя бы для того, чтобы попрощаться друг с другом навеки. Наступила минута, когда Сэм, открыв дверь, вывел их на крыльцо. Крисси вышла из дома последней и стала закрывать дверь. Муз даже и не пытался увязаться вслед за ними. Он был слишком умной собакой для таких дешевых трюков. На прощание, однако, он просунул в дверь морду и попытался лизнуть руку девочки. Она боялась, что прищемит ему нос, но Муз вовремя отпрыгнул, и дверь захлопнулась. Сэм повел их с крыльца дальше — через двор, по направлению к соседнему дому с южной стороны. Света в этом доме не было. Крисси, конечно, надеялась, что там никого нет, но воображение все равно рисовало ей образы страшных чудовищ, которые сейчас следят за ними из окон и облизываются в предвкушении добычи. Крисси казалось, что дождь стал холоднее, чем был, когда она бежала из дома священников, но скорее всего это было обманчивое впечатление, ведь она только что вышла из теплого, сухого дома. Было темно, только на западе еще просматривалась тонкая полоска серого заката. Холодные потоки воды с небес будто вколачивали эти остатки света в землю, освобождая место для непроглядного мрака. Еще на пути от дома Гарри до изгороди соседнего дома Крисси убедилась в достоинствах непромокаемого плаща, она уже не обращала внимания на его необъятные размеры, она просто чувствовала себя в нем как ребенок, играющий в переодевание во взрослые вещи. Изгородь была невысокой, они без труда перемахнули через нее. За первой изгородью была вторая, Крисси перелезла через нее и пошла по двору. Только минуя дом с черными окнами, Крисси сообразила, что они проходят мимо дома Кольтранов. Хорошо еще, что света в окнах не было, потому что, если бы он был включен, это означало бы очень неприятную вещь — кто-то обнаружил труппы Кольтранов. Эти ожившие монстры теперь мерещились Крисси повсюду — то они шли за ней по пятам, то стояли у окон и следили за каждым ее шагом. В какой-то момент ей почудилось, что скрипнула дверь. Кольтраны же не могли просто так пропустить мимо своего дома того, кто их победил, и двух его спутниц. Крисси все время ждала, что роботы погонятся за ними, лязгая своими стальными лапами. Они представлялись ей в виде персонажей из старых фильмов ужасов — с радарами, крутящимися на голове, и с клубами пара, вырывающимися из трубок на животе. Крисси представила себе все это и даже замедлила шаг. Тесса, шедшая вслед за ней, едва не натолкнулась на фантазерку и знаком дала понять, что задерживаться им здесь не стоит. Крисси поспешила и вскоре догнала Сэма. На этот раз изгородь была довольно высокой, к тому же по верху шли зубья из стальных прутьев. Сэм помог девочке перебраться через нее. Одной ей пришлось бы плоховато. Крисси на вертеле — хорошенькое дельце. В окнах следующего дома горел свет, и Сэм залег в кустах, чтобы решить, куда двигаться дальше. Крисси и Тесса спрятались рядом с ним. Крисси все-таки умудрилась слегка оцарапать руку о колючую изгородь, но она, сжав зубы, терпела боль и не жаловалась. Раздвинув кусты, Крисси тоже стала наблюдать за домом, находящимся всего в двадцати футах от нее. На кухне собрались четверо его обитателей, они вместе готовили ужин. Двое из них, судя по всему, были мужем и женой, с ними был мужчина с сединой в волосах и девочка-подросток. Интересно, успели их обратить или еще нет. Крисси подозревала, что нет, но удостовериться в этом не было никакой возможности. Раз уж «роботы» и «призраки» могут принимать человеческий облик в любой момент, то тут надо держать ухо востро и не доверять никому, даже своим лучшим друзьям… или родителям. Надо, в общем, вести себя так же, как при нашествии инопланетян. — Даже если они выглянут в окно, они нас не увидят, — сказал Сэм. — Пошли. Крисси послушно поднялась из-за кустов и побежала вслед за Сэмом через лужайку к соседнему дому, благодаря Бога за то, что туман, скрывавший их от посторонних глаз, с каждой минутой сгущался. По всей видимости, перед ними теперь был последний дом в этом квартале, дальше начиналась улица Бергенвуд-уэй, которая вела вниз, к улице Конкистадоров. Когда они уже миновали большую часть лужайки и приближались к изгороди, из-за поворота на Бергенвуд-уэй свернула машина и медленно двинулась вниз по улице. Повинуясь знаку Сэма, Крисси легла на мокрую землю, так как поблизости не было никакого кустарника для укрытия. Времени на поиски убежища не оставалось, машина приближалась, и дальний свет от фар мог запросто вырвать их силуэты из темноты. К счастью, на этой улице не было фонарей, а в небе уже погасли остатки заката. По мере того как машина подъезжала на самой малой скорости — то ли из-за того, что была плохая погода, то ли из-за того, что в ней находился патруль, — ее фары все больше расплывались в тумане, который как бы загорался изнутри желтоватым пламенем. Клубящиеся облака света наверняка искажали для шофера все находящиеся по сторонам дороги предметы. Когда автомобиль был уже меньше чем в квартале от того места, где прятались Сэм и его спутницы, пассажир на заднем сиденье зажег фонарик и начал освещать им лужайки перед домами на противоположной стороне Бергенвуд-уэй. Если они решат проверить и другую сторону, они наверняка их обнаружат. — Отползаем назад, — прошипел Сэм, — ползите, не поднимая головы. Машина была уже совсем близко. Крисси ползла по земле вслед за Сэмом, который направлялся к близлежащему дому. На взгляд Крисси, в том месте, куда он полз, не было никакого кустарника, а заднее крыльцо дома не имело даже ограды, за которой можно было бы укрыться. Возможно, Сэм предполагал спрятаться от патруля за углом дома, но Крисси не понимала, как они с Тессой успеют доползти до того спасительного поворота. Она оглянулась. Свет фонарика по-прежнему блуждал по лужайкам на противоположной стороне, но фары уже освещали лужайку ближайшего дома. До того места, с которого они только что отползли, машине оставалось проехать несколько футов. Крисси поторапливалась изо всех сил, но когда она наконец выбралась с травы на цементированную дорожку, то с ужасом увидела, что Сэм пропал. Она замерла, не зная, что делать. Сбоку раздался шепот Тессы: — Сюда, на ступеньки, скорее, здесь погреб. Через несколько метров она действительно увидела под собой бетонные ступени. Сэм был уже внизу, он сидел на корточках на площадке перед дверью в погреб, едва ли не по пояс в воде. Крисси также сползла в холодную лужу, следом — Тесса. Несколько секунд спустя луч фонарика заплясал на стене над их головами. Они застыли в своих позах и разогнулись только через минуту после того, как машина миновала дом. Крисси все боялась, что их услышат в доме, дверь распахнется и из-за нее на них вылетит какой-нибудь очередной оборотень-робот, он будет гудеть и выть, а в пасти у него клыки будут перемешаны с клавишами. Он крикнет им своим ужасным голосом что-нибудь уж совсем несусветное, вроде: «Если вы хотите, чтобы вас убили, нажмите клавишу «ВВОД ИНФОРМАЦИИ» и ждите результата». Легче стало только тогда, когда Сэм прошептал: — Можно идти. Они пересекли лужайку и вышли к Бергенвуд-уэй. На этот раз улица была совершенно пустынна. Как и говорил Гарри, вдоль Бергенвуд-уэй тянулся вымощенный камнем кювет. Гарри помнил его еще с тех времен, когда играл в нем, будучи ребенком. По его словам, кювет был около трех футов в ширину и примерно футов пять в глубину. Сейчас по кювету бежала дождевая вода, она едва поблескивала в темноте и слегка журчала. По сравнению с улицей, открытой всем взорам, путь по кювету был более безопасен. Они прошли несколько ярдов вверх и обнаружили железные скобы для спуска в кювет. Гарри говорил, Что такие скобы имелись через каждые сто футов на открытых участках кювета. Сэм спустился первым, за ним последовали Крисси и Тесса. Сэм пригнул голову так, чтобы его не было заметно с улицы. Тессе из-за ее роста пригибаться почти не пришлось. Крисси вполне могла двигаться в полный рост. Иногда неплохо быть одиннадцатилетней, особенно тогда, когда спасаешься бегством от оборотней, кровожадных пришельцев, роботов или нацистов. За прошедшие сутки Крисси убедилась, что возраст очень ей помог спастись от первых трех видов чудовищ, нацисты ей еще не попадались, но кто знает, что может быть дальше. Мирно журчащая вода оказалась страшно холодной, когда Крисси погрузилась в нее по колени. Течение было настолько быстрым, что приходилось делать усилия, чтобы удержаться на ногах. Вода толкала ее, сбивала с ног, словно сама была живым существом, поставившим себе целью утопить всякого, кто посмеет помешать ей стекать по кювету. Удержать равновесие на месте было трудно, но реально, но как долго сможет она идти, не падая в воду? Наклон кювета увеличивался с каждым шагом, камни на дне были скользкими, так что, если бы не эта ночь ужасов, кювет вполне мог бы соперничать в качестве аттракциона с водными горами в «Диснейленде». Если она упадет, то течение наверняка вынесет ее к подножию холма, где, по словам Гарри, вода из кювета уходит в подземную часть тоннеля. Гарри еще говорил, что над спуском есть решетка из железных прутьев, но Крисси по своей привычке выдумывать всякие ужасные истории тут же вообразила жуткий конец их ночного путешествия. Они споткнутся, поток унесет их вниз и сбросит через тоннель прямо на песок пляжа или, если будет прилив, — в открытое море. Ей не составило никакого труда вообразить, как она будет кувыркаться, захлебываясь в мутной воде, расцарапывать в кровь пальцы, пытаясь схватиться за камни, и страшная сила воды будет все быстрее тянуть ее на дно, и мучения ее закончатся только тогда, когда, переломав ей кости, вода выбросит ее бездыханное тело на холодный песок пляжа… Да, она могла вообразить все это очень ярко, но ей как-то вдруг расхотелось заниматься сочинительством страшных историй. К счастью, Гарри предусмотрел и эту опасность и снабдил Сэма необходимым снаряжением. Сэм размотал длинный кусок крепкой веревки из гаража Гарри и обвязал один конец вокруг пояса, а другой передал Крисси и Тессе, если кто-нибудь из них упадет, то другие наверняка удержат его на веревке и не дадут скатиться вниз по потоку. Так, во всяком случае, предполагал Гарри. Надежно привязавшись друг к другу, они начали спуск по кювету. Сэм и Тесса пробирались по нему, пригнувшись, чтобы их не было видно с улицы, а Крисси особое внимание обращала на ноги, каждый раз ощупывая ногой камни. Она напоминала себе самой маленького тролля, в этой роли ей уже приходилось выступать не так давно, когда она пряталась в бетонном тоннеле от родителей и Такера. Помня советы Сэма, она в зависимости от силы течения то натягивала рукой веревку, то отпускала ее. По натяжению веревки, тянувшейся от нее к Тессе, она чувствовала, что та делает то же самое. Они двигались по направлению к тому месту, где кювет переходил в тоннель. Вода сбегала по тоннелю к морю, минуя под землей не только перекресток Бергенвуд-уэй с улицей Конкистадоров, но и два следующих квартала. Тоннель выныривал из-под земли только на Рошмор-стрит. Крисси время от времени посматривала через плечо Сэма вперед и не могла сказать, чтобы ей очень нравилось то, что она там видела. Там, впереди, уже маячил бетонный круглый вход в тоннель, футов пять в диаметре, то есть ровно такого размера, чтобы рабочие могли войти туда, если возникнет засор. Но Крисси, конечно, пугали не столько размеры тоннеля, сколько непроглядная мгла его бетонной пасти. У Крисси по коже поползли мурашки. Тоннельный мрак был чернее самой ночи — это была абсолютная чернота, она как бы входила в бездонную пасть какого-то доисторического чудовища. Где-то там, выше их голов, по Бергенвуд-уэй медленно ползла машина, еще одна двигалась по улице Конкистадоров. Фары машин расцвечивали клубы тумана, но их свет практически не доходил до края кювета, не говоря уже о тоннеле. Сэм вошел во мрак тоннеля и мгновенно скрылся из виду. Крисси шагнула за ним без малейшего сомнения, хотя поджилки у нее, надо признаться, несколько дрожали. Теперь они двигались еще медленней, так как дно было скользким и покатым и каждый шаг таил в себе опасность. У Сэма был с собой фонарик, но он, по всей вероятности, опасался включать его у входа в тоннель. Отблеск света мог привлечь внимание патрулей. В тоннеле было темно, как в желудке у кита. Крисси, конечно, не знала, как там у кита в желудке, но предполагала, что там нет никакого освещения. Это сравнение показалось ей подходящим, так как вода под ногами была ужасно похожа на желудочный сок, и казалось, она вот-вот начнет растворять ее теннисные туфли и джинсы. И когда Крисси подумала об этом, она поскользнулась и упала. Наверное, она наступила на какую-нибудь противную водоросль. Крисси пыталась удержать равновесие, но все тщетно — она ушла под воду и почувствовала, как течение тянет ее вперед. Слава Богу, ей удалось сдержать крик. Звук, усиленный трубой тоннеля, мог оказаться очень громким. Задыхаясь и выплевывая холодную воду, попавшую в рот, Крисси почувствовала, как всем телом ударилась о ноги Сэма, и с ужасом поняла, что тот тоже падает. Опять в голове закружились ужасные образы их кошмарной гибели, померещились их окровавленные тела, распростертые у конца тоннеля, на пустынном пляже, где их долго-долго не смогут обнаружить.Глава 99
В могильной темноте тоннеля Тесса только по звуку поняла, что Крисси свалилась в воду. Она сразу же остановилась, пошире расставила ноги и крепко ухватилась за спасительную веревку. Веревка мгновенно натянулась как струна — Крисси не удержалась, и течение поволокло ее вниз. Сэм что-то проворчал, и Тесса поняла, что Крисси налетела прямо на него. Веревка на мгновение ослабла, но затем вновь натянулась до предела. Это означало, что Сэм изо всех сил пытается удержаться на ногах, но это ему удается с большим трудом. Если течение повалит с ног и Сэма, то веревку дернет так, что Тесса упадет, и тогда все пропало. Впереди раздавался громкий плеск. Сэм опять тихо выругался. Тессе показалось, что уровень воды поднялся. Через мгновение подозрение превратилось в уверенность — вода уже хлестала ее выше колен. Но самое ужасное — то, что она не могла ничего увидеть в этом беспросветном мраке, не могла понять, что происходит с ее спутниками. Вот еще один сильный рывок веревки, еще один… Боже, когда же этому конец? Сэм, ради Бога, не упади! Дрожа от напряжения, почти теряя равновесие, понимая, что они находятся на волосок от гибели, Тесса как могла откинулась назад, стараясь помочь своим друзьям. Она попыталась перехватить веревку и подтянуть ее хоть чуть-чуть к себе, но из этого ничего не вышло. Она молила Бога, чтоб он дал ей сил удержаться на ногах. Веревка все сильнее тянула ее вперед, она до боли врезалась в поясницу. С другой стороны, сзади, с каждой минутой все нарастал напор воды. Ноги заскользили по камням. В голове замелькали, словно при ускоренной киносъемке, воспоминания, обрывки мыслей, некоторые из них никогда раньше не приходили ей в голову. Она вдруг остро поняла, как хочется жить, выжить во что бы то ни стало, но не эти мысли поразили ее больше всего. Больше всего ее удивило не менее острое желание взять к себе в дом Крисси, удочерить ее, зажить тихой, спокойной жизнью рядом с этой удивительной девочкой. И это при том, что родители Крисси были живы, наверняка сохранялась небольшая возможность того, что их можно вернуть в человеческий образ. Но такой поворот событий вызывал сейчас протест в душе Тессы. Ей хотелось забрать девочку к себе. Кроме того, в ней вспыхнуло острое желание быть вместе с Сэмом, проводить вместе с ним все свои ночи. Что это с ней? Вроде всего несколько часов назад он казался ей лишь одним из многих тысяч ему подобных. Разве что в его отчаянном одиночестве был какой-то импульс привлекательности. Он заинтриговал ее своими четырьмя смыслами жизни. Но могла ли она стать пятым смыслом? Или заменить Голди Хоун? Только сейчас, на краю гибели, Тесса вдруг осознала, как близки ей стали эти двое. Ноги все сильнее скользили по камням. Возможно, причиной были водоросли, которые облепили бетонное дно тоннеля. Тесса изо всех сил пыталась найти точку опоры. Впереди негромко ругался Сэм. Слышно было, как кашляет Крисси. Уровень воды в центральной, самой глубокой части тоннеля уже составлял восемнадцать-двадцать дюймов. Секунду спустя веревка вновь натянулась до предела, затем провисла. Впечатление было такое, что веревка оборвалась. Сэм и Крисси, вероятно, боролись сейчас с течением, уносившим их вниз. Шум бурлящей воды эхом разносился по всему тоннелю, в ушах Тессы звучал бешеный ритм собственного сердца, но за всей этой музыкой ужаса она не слышала почему-то самых страшных криков — криков Сэма и Крисси. Ее спутники, вероятно, сбитые с ног и гибнувшие, почему-то молчали. Затем снова раздался кашель Крисси. Всего в нескольких футах от нее. Мелькнул свет фонарика. Сэм зажег его, заслонив рукой мощный луч. В этой вспышке света Тесса увидела Крисси, выбравшуюся на край бурного потока и вцепившуюся в стенку тоннеля обеими руками. Сэм стоял посередине потока, широко расставив ноги. Вода бурлила и пенилась, огибая его ноги. Он стоял лицом к Тессе. Стало ясно, что веревка не оборвалась, просто она резко провисла, когда Сэму и Крисси удалось обрести равновесие. — Все в порядке? — шепотом спросил Сэм у Крисси. Крисси в ответ кивнула, она продолжала выплевывать воду, попавшую в рот. Девочка поморщилась, кашлянула и сказала: — Угу. Сэм повторил свой вопрос, обращаясь к Тессе. Тесса хотела ответить, но не смогла. В горле стоял комок. Она сглотнула, откашлялась. Волна небывалого облегчения прокатилась по всему ее телу, вмиг смыв страшную тяжесть в груди. Тесса вздохнула и сказала: — О, да, все в порядке, в полном порядке.Глава 100
Сэм почувствовал облегчение только тогда, когда они без приключений добрались до конца тоннеля. Целую минуту он стоял у выхода и, не помня себя от счастья, смотрел в небо. Правда, из-за тумана неба практически не было видно, но это не имело никакого значения — после долгого пути в грязной воде даже туманная ночь, полная опасностей, казалась не такой уж страшной. Поток воды, хлеставший из тоннеля, теперь больше напоминал разбушевавшуюся реку. То ли на холмах вовсю разошелся ливень, то ли где-то дала сбой система дождевого стока. Вода доходила Крисси до пояса, из тоннеля в кювет обрушивался настоящий водопад. Вода опять грозила сбить их с ног. Сэм обернулся, подошел к Крисси, взял ее за руку и сказал: — С этой минуты не отпущу тебя от себя ни на шаг. Крисси только кивнула в знак согласия. Ночь была темной-претемной, и Сэм мог лишь угадывать силуэт девочки, стоявшей от него в нескольких дюймах. Фигура Тессы вообще была неразличима во мраке. Не выпуская руки Крисси, Сэм повернулся и посмотрел, куда им двигаться дальше. После подземной части тоннеля, по словам Гарри, должен был начаться открытый участок, вымощенный камнем. Гарри ребенком частенько тайком от родителей играл со своими друзьями в этих местах и знал их как свои пять пальцев. Да поможет Бог непослушным детям! Следующий тоннель должен был находиться через квартал от того места, где они стояли. Этот последний участок трубы заканчивался на западной окраине города, на берегу моря. По всей видимости, к концу трубы была приделана решетка, которая задерживала крупные предметы, смытые дождевыми потоками с улиц. Попадание в эту трубу грозило им верной смертью. Сэм отнюдь не собирался рисковать. Надо сделать так, чтобы полностью исключить опасность падения в этот бешеный поток. Спастись из наклонной трубы было совершенно нереально. Сэм даже думать о таком варианте не хотел. Ему всю жизнь казалось, что он подводит других людей. Когда он попал в автокатастрофу вместе со своей матерью и она погибла, а он — нет, Сэм, будучи еще совсем ребенком, начал терзать себе душу, он вдруг вообразил, что, поведи он себя чуть иначе, мать его была бы спасена. Затем он попал в руки отца — алкоголика и садиста и долгие годы мучился тем, что никак не может угодить вечно недовольному, но близкому человеку. Дальше — больше. Он, подобно Гарри, постоянно корил себя за то, что бросил на произвол судьбы тех вьетнамцев, за которых воевал. Головой он понимал, что решение о выводе войск из Вьетнама принимали люди, стоящие куда выше его, и этим людям было глубоко все равно, что думает об их решении Сэм Букер, но он не мог ничего с собой поделать — на сердце осталась постоянно ноющая рана. Агенты ФБР, погибшие в операции, в которой и он участвовал, также частенько снились ему, и ему казалось, что в их глазах был упрек, хотя там, в перестрелке, он никак не мог спасти их. Он чувствовал себя виноватым и в смерти Карен, несмотря на то, что все окружающие крутили пальцем у виска, когда он говорил им об этом. Ему казалось, что если бы он любил ее еще сильнее, она бы нашла в себе силы победить страшную болезнь. В потере собственного сына, Скотта, он также упрекал только себя, хотя одному Богу ведомо, почему так случилось. Крисси крепко сжала его руку. Он в ответ тоже слегка сжал ее ладонь. Эта девочка казалась ему сейчас совсем маленькой. Днем, на кухне у Гарри, они вели разговор о том, что такое ответственность людей за свои поступки. Теперь Сэм вдруг почувствовал, что отвечает за все полной мерой, чувство ответственности превращается для него в какое-то наваждение, хотя так не может быть, он совершенно согласен со словами Гарри о том, что обязательства человека перед другими, особенно перед близкими, никогда не могут быть чрезмерными. Вот уж никогда бы не подумал, сказал сам себе Сэм, что смысл жизни можно понять, стоя по пояс в грязной воде, спасаясь бегством от каких-то немыслимых чудовищ. Ну, на свете еще не то бывает, Сэм также понял, что его проблема вовсе не в том, что он с охотой взваливает на себя любую ношу жизненных неурядиц и трагедий. И не в тяжести этой ноши — нет. Его проблема в том, что он позволил своему обостренному чувству ответственности разрушить его волю к жизни и к преодолению неудачи, трагедии — такова жизнь. Иногда виноват сам человек, иногда — его судьба, то, что ему на роду написано. Но из трагедий надо научиться выходить, надо не только продолжать жить, но и уметь радоваться этой продолжающейся жизни. Надо не позволять несчастьям перечеркивать всю дальнейшую жизнь. Отказ от радостей жизни — великий грех, если ты веришь в Бога, и большая глупость, если ты — неверующий. Это все равно, что с гордым видом во всеуслышание заявить: «Да, людей в жизни постигают несчастья, но я отказываюсь от этой жизни, чтобы меня миновали и ее несчастья. Я вроде как уже не человек, а какое-то неземное существо, мое место где-то между ангелами и Богом». Теперь Сэм ясно понимал, почему он потерял Скотта — потому, что сам утратил любовь к жизни, перестал ей радоваться и ему просто нечем было поделиться с мальчиком, нечем было остановить его, когда он начал скатываться в пропасть отрицания всего и вся. Если бы в этот момент Сэм начал перечислять составляющие смысла жизни, он насчитал бы их гораздо больше четырех. Он насчитал бы их сотни. Тысячи. Все эти мысли пронзили его мозг в долю секунды, в тот момент, когда он сжимал ладонь Крисси; время словно замедлило свой бег, чтобы дать ему возможность воспринять все, что подарили ему эти мгновения. Сэм еще понял, что даже если ему не удастся спасти Тессу и Крисси, а удастся спастись самому, то он все равно научится, хоть и с трудом, радоваться дарованной ему жизни. И, несмотря на безысходность этой темной ночи, Сэм едва не рассмеялся. Оказывается, для того, чтобы понять смысл жизни, надо оказаться в кошмаре, в котором оказались они сейчас. Этот кошмар всколыхнул истины, лежавшие на дне его сознания, эти истины всплыли на поверхность и оказались не такими уж сложными для восприятия. Он мог дойти до них и раньше, во время предыдущих жизненных испытаний, но случилось так, что он воспринял их только теперь. Он был благодарен судьбе за них и не жалел, что пришлось так долго ждать ответа на вопрос о смысле жизни. Ведь истины только с первого взгляда кажутся простыми. Да-да, он, конечно, сможет жить дальше, даже если случится трагедия и он потеряет Крисси и Тессу, но, черт побери, он не собирается терять их. Да провались он на этом самом месте, если он их потеряет. Да будь он проклят, если с ними что-то случится. Сэм пошел вперед, крепко держа Крисси за руку и благодаря небо за то, что дно у кювета не было скользким. Течение было по-прежнему сильным, и, чтобы легче передвигать ноги, он старался их почти не поднимать, а шел, шаркая подошвами по дну. Уже через минуту они дошли до очередной лестницы из стальных скоб, надежно укрепленных в стене каменного кювета. Тесса тоже подошла и ухватилась за металлическую скобу. Какое-то время они стояли, не веря возможности избавления из водяного плена. Дождь к этому времени слегка утихомирился. Сэм начал подниматься по скобам наверх. Следя за тем, чтобы не наступить на руки Тессе и Крисси, он осторожно высунул голову на улицу. Вдоль улицы двигались клубы тумана. Больше никакого движения не было. Кювет, из которого они сейчас выбрались, огибал здание городской средней школы. В нескольких футах от того места, где находился Сэм, виднелась спортивная площадка, за ней в тумане едва просматривалось само здание школы, слабо освещенное несколькими фонарями. Территория школы была огорожена забором из стальной сетки высотой примерно футов в девять. Но Сэма это не пугало. В любом заборе есть калитка.Глава 101
Гарри сидел на чердаке своего дома, надеясь на лучшее, но готовясь к самому худшему. Он сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Света он не зажигал; из соображений безопасности Сэм разместил его в дальнем конце чердака, подальше от люка. На чердаке не было ни мебели, ни угла, за который можно было бы спрятаться. Если кто-нибудь, не удовлетворившись осмотром хозяйской спальни, заглянет в кладовку, увидит люк, принесет лестницу и с нее посмотрит на чердак, то, может быть, он удовлетворится тем, что разглядит в темноте? Может быть, увидев при свете вспышки фонарика паутину, он выключит его и спустится вниз? Нет, конечно, на это надеяться не стоит. Если кому-нибудь придет в голову осматривать чердак, он не успокоится, пока не осмотрит все углы. Но хотя эти надежды были большей частью самообманом, Гарри все равно лелеял их. К надеждам он относился с особым чувством, он воистину умел с ними обращаться, ведь большую половину его жизни именно они поддерживали в нем веру в жизнь. Вообще-то он чувствовал себя здесь довольно уютно. Готовясь к долгому пребыванию на неотапливаемом чердаке, он с помощью Сэма натянул на себя пару свитеров, теплые штаны и носки. Забавно — люди думают, что человек ничего не чувствует своими парализованными конечностями. Да, такие случаи тоже бывают, когда ноги или руки полностью лишаются нервных окончаний. Но ведь травмы позвоночника бывают самыми разными, чувствительность неподвижных ног может пострадать в разной степени. Гарри, хотя и не мог двигать ногами и одной рукой, тем не менее ощущал ими холод или тепло. Укусы комаров он тоже чувствовал — это была не боль, а ощущение какого-то неприятного прикосновения. Чисто в физическом смысле Гарри, конечно, чувствовал гораздо меньше, чем раньше. Но он научился многое ощущать через эмоции. Из-за инвалидности все его чувства обострились до предела. Человеческих контактов не хватало, но он научился компенсировать этот недостаток. Помогали книги. Книги расширяли сузившийся до размеров комнаты мир. И у него был телескоп. Но больше всего помогала его неослабевающая воля, желание вести полноценную жизнь. Эта железная воля сохраняла его душевноездоровье. Если вскоре наступит его последний час, он сам без горечи и сожаления задует свечу своей жизни. Он, конечно, хотел бы еще пожить, но важнее было то, что ему удалось уже сделать в жизни. Подводя итоги, Гарри чувствовал, что не зря прожил жизнь, он оказался достоин этого бесценного дара. У него с собой два пистолета. Если они вздумают прийти сюда, он разрядит в них сначала всю обойму из одного, а затем расстреляет все патроны, кроме последнего, из барабана второго. Последний патрон он оставит для себя. Он не взял на чердак запас патронов. В перестрелке однорукий инвалид не сможет быстро перезарядить оружие и станет легкой добычей для пули. Дождь перестал стучать по крыше. Кончился совсем или это очередная передышка? Хорошо бы снова увидеть солнце. По правде говоря, его больше волновал Муз, а не он сам. Бедная несчастная собака бродила там внизу в одиночестве. Только бы эти «призраки» или их создатели не причинили ему вреда. А если случится так, что хозяину собаки не суждено дожить до утра, то пусть хоть псу повезет и он не будет долго скитаться бездомным.Глава 102
Мунлайт-Ков казался Ломену Уоткинсу из окна его машины городом мертвых. И в то же время — городом, в котором кишмя кишит какая-то загадочная жизнь. Если судить его по меркам обычного маленького городка, то Мунлайт-Ков сейчас скорее напоминал город-призрак из пустыни Мохаве, а не оживленное курортное место. Магазины, бары и рестораны были закрыты. Даже всегда шумный семейный ресторан Пересов теперь был пуст, свет был погашен, никто в городе не выказывал желания распахивать свои двери перед клиентами. Да и самих клиентов не было видно, по дождливым улицам лишь изредка проскакивали бригады, занимающиеся обращением, или пешие патрули. Патрульные машины составляли абсолютное большинство на проезжей части. Но при всем при том город исподволь бурлил какой-то тщательно скрываемой жизнью. Несколько раз Ломену встречались призрачные, быстрые фигуры, проскальзывающие в тумане и мраке по улицам. И хотя двигались они скрытно, Ломен отметил про себя их возросшее число и более наглое поведение, раньше эти существа никогда не позволяли себе перебегать дорогу прямо перед движущейся машиной. Иногда Ломен останавливался, чтобы повнимательней рассмотреть их. Оборотни смотрели на него, укрывшись в тени деревьев, и сверкали оттуда желтыми, зелеными или красными светящимися глазами. Они словно оценивали возможность нападения на полицейскую машину. Ломен смотрел на них, и его опять охватывало искушение, хотелось бросить все и, выскочив из машины, присоединиться к ним. Он нажимал на газ и уезжал, не дожидаясь, когда одна из сторон не выдержит напряжения. Время от времени в окнах домов мелькали странные отблески света, двигались силуэты самых немыслимых форм. Когда он видел их, сердце его начинало учащенно биться и ладони становились влажными от пота. У него и в мыслях не было останавливаться и выяснять, кто поселился в этих домах, так как он почти наверняка знал, что встретит там подобие его несчастного сына Денни, слившегося в одно целое с компьютером. Он каким-то шестым чувством понимал, что эти существа в тысячи раз опасней «одержимых». Итак, он находился теперь в самом эпицентре мира по Лавкрафту. В этом мире царили первобытные и космические силы, а человеческий род был не более чем подопытным стадом. В этом мире христианство с его Божьей благодатью заменила языческая вера в богов, непрерывно враждующих между собой в борьбе за власть. Во всем — в тумане, в воздухе, в трепещущих деревьях, даже в ядовитом свете уличных фонарей — чувствовалось, что ничего хорошего не случится этой ночью… а, наоборот, может произойти все самое ужасное, самое немыслимое. Ломену много раз попадались книги Лавкрафта. Он, правда, предпочитал этому писателю другого — Луиса Ламура, так как последний не фантазировал и был реалистом, но этой ночью именно Лавкрафт пришел ему на ум. Ведь теперь Ломен не по книгам, а на собственном опыте убедился, что человек способен создать собственными руками на земле такой ад, который не способен придумать на бумаге никакой писатель, работающий в жанре триллера. Мир Лавкрафта воплотился в городе с такой силой, с какой над городом на протяжении последних суток бушевал ливень. Отчаяние и ужас были ощутимы почти физически. Ломен ни на секунду не забывал о заряженном револьвере, лежащем на переднем сиденье рядом с ним. Шаддэк. Он должен найти Шаддэка. Он остановил машину на пересечении Юнипер-лейн с Оушн-авеню. Одновременно с ним другая полицейская машина тоже затормозила на Юнипер-лейн с противоположной стороны перекрестка. На Оушн-авеню не было видно ни одной машины. Ломен опустил стекло со своей стороны и медленно тронулся на перекресток. Он сразу же взял на прицел своего револьвера водителя другой машины, который должен был проехать всего в футе от него. По номеру машины он сразу определил, что водителем должен быть Нейл Пенниуорф. Но когда он рассмотрел, кто сидит за рулем, то обомлел. Он увидел нечто весьма отдаленно напоминающее Нейла и вообще человека. Даже в слабом свете от приборной доски и от бортового компьютера он сумел разглядеть это существо довольно подробно. Изо лба Пенниуорфа выходили два толстых кабеля, напоминающие те, что он видел у Денни. Один из них тянулся к компьютеру, другой исчезал в приборной доске. Форма головы Нейла также изменилась, на месте глаз виднелись какие-то сенсоры, отливающие металлическим блеском. Плечи полицейского стали гораздо шире и превратились в подобие прямоугольных плеч робота. Рук Пенниуорфа не было заметно на рулевом колесе, казалось, у него вообще отсутствовали руки; Ломен подозревал, что Пенниуорф стал одним целым не только с компьютером, но и со своим автомобилем. Голова Пенниуорфа начала медленно поворачиваться в сторону Ломена. В его глазницах на месте глаз непрерывно мигали желтые индикаторы. Ломен вспомнил слова Шаддэка о том, что Новые люди, освобожденные от бремени эмоций, смогут до бесконечности расширять потенциал своего мышления, они даже будут способны осуществлять при помощи силы своей мысли контроль над материей. Их собственное сознание будет определять их внешний облик: чтобы убежать из мира, лишенного эмоций, они могут превратиться в кого угодно. Только одно превращение им недоступно — превращение в таких людей, какими они были до обращения. Существование в качестве киборга обеспечивало свободу от страха, а так как Пенниуорф страдал от этого чувства, он и нашел выход из положения, спасение для себя именно в этом ужасающем образе. Но что он чувствовал теперь? Какая цель у него была в его новой жизни? Оставался ли он в этом новом образе добровольно или попал в ловушку и не мог из нее выбраться, подобно Пейзеру? Ломен нащупал рукой револьвер на соседнем сиденье. Прямо из двери машины Пенниуорфа выскочил полуметаллический-полуорганический кабель, впечатление было такое, что он не пробил изнутри дверь, а мгновенно образовался из ее материала. Острый конец кабеля со звоном пробил стекло автомобиля, в котором находился Ломен. Револьвер выскользнул из руки Ломена, так как все его внимание было поглощено кабелем-змеей, влетевшим в его машину. Кабель не разбил стекло, а за одно мгновение высверлил в нем небольшое отверстие, достаточное для того, чтобы проникнуть в кабину. Еще мгновение, и эта «змея» коснется лица Ломена. Он заметил, что на конце кабеля есть разъем с металлическими контактами, напоминающими зубы. Каким-то чудом ему удалось увернуться от укуса «змеи» и до упора нажать педаль акселератора. Машина взревела и, прижав Ломена к сиденью, рванула с места на полной скорости. Несколько секунд кабель растягивался между двумя машинами, зубы-контакты успели оцарапать Ломену нос. Затем «змея» неожиданно прекратила атаку и, выскользнув из машины Ломена, исчезла в автомобиле, оставшемся стоять на перекрестке. Ломен мчался на полной скорости до конца Юнипер-лейн. Из-за дыры в стекле его сопровождал высокий непрерывный свист. Самые худшие предчувствия Ломена сбывались у него на глазах. Новые люди, не пожелавшие становиться «одержимыми», выбирали другой, не менее страшный образ, и наверняка Шаддэк будет поощрять их к этому второму варианту — адскому сочетанию человека и машины. Надо немедленно найти Шаддэка. Надо уничтожить творца этого ада и обезвредить созданных им демонов.Глава 103
Крисси шла вслед за Сэмом по спортивной площадке, за спиной она слышала дыхание Тессы. Трава на площадке была местами вытоптана до земли, липкая грязь громко хлопала под ногами. Такие же звуки, наверное, издают инопланетяне, когда передвигаются по незнакомой планете, обмениваясь сигналами при каждом шаге. Да ведь это она сама, Крисси, была сейчас инопланетянкой в городе, ведь это она была не такой, как все остальные жители Мунлайт-Кова. Они прошли уже две трети пути по площадке, когда раздался дикий крик, прорезавший ночь, словно лезвие топора, раскалывающего сухое полено. Нечеловеческий крик то затухал, то взлетал вновь на высокой ноте, крик был страшен, но уже знаком им — это был крик тех, кого Крисси еще совсем недавно считала инопланетянами. Дождь перестал, но воздух был перенасыщен влагой, и в этом воздухе далекий неземной крик звучал ясно и чисто, будто существо, издавшее его, находилось в двух шагах. Это ощущение превратилось в прямую угрозу, когда далекому крику стали вторить другие, доносившиеся с соседних улиц — с Паддок-лейн и с Холливел-роуд. Казалось, весь город исходил страшным криком, весь он, от холмов до побережья, кишит оборотнями. Крисси поневоле пожалела о том, что они покинули грязный, холодный, но защищенный со всех сторон кювет. На открытой местности она чувствовала себя ужасно незащищенной. Когда крики замолкли, раздался еще один, на этот раз рядом, совсем близко от них. — Скорее, нам надо как можно скорее попасть вовнутрь, — поторопил Сэм Крисси и Тессу. Крисси уже почти совсем расхотелось подражать героиням Андре Нортона. Измученная холодом, страхом и нечеловеческой усталостью, она сама к себе начала испытывать необычайную жалость. И еще она опять проголодалась. Приключениями она сыта по горло. Ей хотелось скорее оказаться в теплом доме, читать интересные книжки, ходить в кино и есть пирожные с кремом. Сейчас она явно не на своем месте. Настоящая героиня приключенческого романа давно бы изобрела сотню способов, как превратить местных чудовищ в невинные машины для мойки автомобилей, после чего благосклонно приняла бы предложение горожан стать коронованной особой в королевстве Мунлайт-Ков. Все трое уже добежали до края спортивной площадки, обогнули кусты и поспешили через пустынную стоянку для машин к заднему двору школы. Никто на них не нападал. Благодарю тебя, Господи! Твоя верная Крисси. Снова раздался дикий вопль. Кажется, Бог тоже иногда любит пошутить. Со стороны двора у школьного здания имелось шесть дверей. Они переходили от двери к двери. Сэм проверял каждую из них и внимательно осматривал замки дверей, зажигая фонарик, который он на всякий случай прятал в рукаве своей куртки. У Крисси создалось впечатление, что он был не способен открыть ни одну из них, хотя она всегда считала, что агент ФБР может при необходимости открыть любой самый сложный замок за одну минуту при помощи булавки или расчески. Сэм также не пропустил ни одного окна и провел возле каждого довольно много времени, исследуя то, что было за стеклом, при помощи фонарика. Он рассматривал не столько комнаты за окнами, сколько устройство замков и оконных рам. У самой последней двери, у которой в отличие от остальных имелось стеклянное окошко в верхней части, Сэм остановился, выключил фонарик, с победным видом взглянул на Тессу и начал ей нашептывать: — Я не думаю, что здесь есть сигнализация. Возможно, я ошибаюсь, но я не вижу никаких датчиков на стеклах и никаких контактов на замках окон и дверей. — Разве других систем сигнализации не бывает? — шепотом спросила Тесса. — Конечно, есть и другие, например, системы, использующие радарные устройства или фотоэлементы. Но они, пожалуй, сложноваты для школы, да и чувствительность у них явно не для такого типа заведений. — Ну так что мы теперь делаем? — Теперь я разбиваю стекло на этой двери. Крисси ждала, что Сэм достанет из кармана и наклеит на стекло специальную бумагу, чтобы смягчить звук от удара. Так всегда поступали детективы из книжек. Но Сэм в отличие от них просто повернулся боком к двери, локтем выбил стекло из рамы. Раздался жуткий звон и грохот. Наверное, Сэм забыл захватить с собой эту специальную бумагу. Сэм просунул руку в образовавшуюся дыру, нащупал защелку и открыл замок. Он вошел в дверь первым. Крисси направилась вслед за ним, стараясь не наступать на битое стекло. Сэм опять включил фонарик. Теперь он уже не прикрывал луч рукавом, но старался, чтобы свет от фонаря не попадал на окна. Они находились в длинном вестибюле. В нем стоял устойчивый запах какого-то дезинфекционного средства с хвойным ароматом. Вероятно, вестибюль настолько часто обрабатывали этим средством, что запах его пропитал стены и пол. Такой же запах всегда стоял в вестибюле той школы, где училась Крисси, но уж чего она не ожидала, так это встретить его здесь. Она всегда считала среднюю школу каким-то священным, таинственным местом, но сейчас начала в этом сомневаться, потому что какая же таинственность может присутствовать в школе, которую обрабатывают тем же дезинфицирующим средством, что и начальную? Тесса бесшумно закрыла за ними дверь. Они стояли у двери и прислушивались. Была полная тишина. Они пошли по вестибюлю, заглядывая в классные комнаты и лаборатории в поисках компьютерного класса. Вот и переход в другую часть здания. На повороте они опять постояли некоторое время, вслушиваясь в тишину. Ничто не нарушало безмолвия. И мрака. Единственным источником света во всем здании был карманный фонарик Сэма. Он держал его в левой руке, в правой у него был револьвер. — Кажется, здесь никого нет, — нарушил он молчание. Это было, похоже на правду. Крисси сразу стало почему-то легче, спокойнее. Но, с другой стороны, если Сэм и вправду считает, что здесь никого нет, то почему он не спрятал револьвер?Глава 104
Объезжая свои владения в предвкушении полуночи, до которой оставалось еще пять часов, Шаддэк целиком погрузился в состояние веселого ребячества. Теперь, когда победа была у него почти в кармане, он мог сбросить с себя маску взрослого человека, тем более что без нее он чувствовал себя значительно лучше. В сущности, он никогда и не был по-настоящему взрослым, он на всю жизнь в эмоциональном плане остался двенадцатилетним ребенком. Ведь именно в этом возрасте ему был явлен великий знак лунного ястреба, этот знак был впечатан в него. С тех пор он как сокровище хранил эмоциональное состояние тех дней, не позволяя ему исчезать или изменяться с возрастом. Но теперь притворяться не было никакого смысла. С одной стороны, Шаддэк, прекрасно зная о своем эмоциональном отставании от других людей, считал это своим большим преимуществом. Двенадцатилетний ребенок добивается воплощения своей мечты с большей решимостью, чем взрослый. Но, с другой стороны, это было его слабым местом. Он был сосредоточен только на одном — на своей Великой Мечте. В этом смысле он был маньяком. Но если бы не его неуклонное стремление к цели, проект «Лунный ястреб» вряд ли осуществился бы. Его победа была предопределена его непохожестью на других. Итак, он мог быть теперь ребенком, он мог больше не скрывать свой эмоциональный возраст, он мог позволить себе все, что угодно, взять все, что захочет, нарушить любой закон. Именно в этом возрасте у человека появляется стремление к свободе от законов, переходный возраст толкает подростка на преступление. Но он был не простым нарушителем законов. Он был ребенком, вкусившим кактусовой сладости. Она оставила в нем след на всю жизнь. Он был ребенком, который знает, что он — Бог. Способность любого ребенка к жестокости меркла перед жестокостью Бога. Чтобы побыстрее пролетело время, оставшееся до полуночи, Шаддэк придумывал, что он сможет совершить, обладая абсолютной властью, с той минуты, когда весь город попадет под его контроль. От некоторых из этих мыслей его бросало в дрожь. Он испытывал и возбуждение и отвращение одновременно. Он проезжал по Айсберри-уэй, когда обнаружил, что у него в машине находится индеец. Да-да, он повернул голову и, к своему удивлению, обнаружил, что Бегущий Олень сидит рядом с ним на переднем сиденье. Шаддэк остановил машину прямо посредине улицы и уставился на индейца, не веря своим глазам, изумленный и испуганный. Однако в сидящей фигуре индейца не было ничего угрожающего. Он сидел молча, не поворачивая головы, и смотрел перед собой, словно что-то увидел за лобовым стеклом. Постепенно Шаддэк стал понимать, что происходит. Дух индейца теперь принадлежал ему так же, как ему принадлежала машина, на которой он ездил по городу. Великие духи даровали ему дух индейца в качестве вознаграждения за то, что ему удалось довести до конца проект «Лунный ястреб». Так что теперь он, а не Бегущий Олень был хозяином положения, и индеец сможет говорить только тогда, когда к нему обратится Шаддэк. — Привет, Бегущий Олень, — сказал он. Индеец взглянул на него. — Привет, Маленький Вождь. — Ты теперь принадлежишь мне. — Да, Маленький Вождь. На одно мгновение Шаддэку показалось, что он сошел с ума и Бегущий Олень — не более чем плод его больного воображения. Но дети в переходном возрасте не задерживаются на одной мысли слишком долго, и эта мысль ушла из головы так же быстро, как и пришла. — Ты будешь делать только то, что я тебе скажу, — предупредил он Бегущего Оленя. — Слушаюсь. Чрезвычайно довольный, Шаддэк снял ногу с тормоза и поехал дальше. В свете уличных фонарей он увидел одно из пресловутых желтоглазых существ: «одержимый», встав на колени, пил воду из лужи. Шаддэк решил не обращать на увиденное никакого внимания, и, как только существо исчезло с проезжей части, мысль о нем улетучилась из головы хозяина города. Исподволь взглянув на индейца, он спросил: — Знаешь, что я собираюсь сделать в скором времени? — Что, Маленький Вождь? — Когда проведу через обращение всех, не только жителей Мунлайт-Кова, а всех жителей Земли, когда у меня не будет соперников, я потрачу часть своего времени на то, чтобы отыскать твоих оставшихся в живых родственников, всех твоих братьев, сестер, даже двоюродных. Я разыщу всех детей вашего рода, всех до одного. И все они заплатят страшную цену за твои преступления. Я на самом деле… заставлю их платить. — Голос Шаддэка сорвался на визгливую ноту, он хотел подавить ее, но ничего не получилось. — Я убью всех мужчин твоего рода, я разрежу их живыми на куски. Я скажу им, что убиваю их из-за тебя, и они будут проклинать тебя и твое имя, они пожалеют, что ты когда-то появился на свет. А женщин твоего рода я изнасилую, я заставлю их стонать от боли, слышишь? Потом я их тоже убью. Что ты думаешь об этом? А? — Если тебе будет так угодно, Маленький Вождь. — Да, черт побери, мне будет так угодно. — Значит, ты сделаешь это… — Да, черт возьми, я это сделаю. Шаддэк был поражен до глубины души, когда почувствовал, что у него на глазах выступили слезы. Он остановил машину на перекрестке. Индеец молчал. — Скажи, что ты был не прав. — Я был не прав, Маленький Вождь. — Ты был чудовищно не прав. — Я был чудовищно не прав. Шаддэк достал из кармана носовой платок и вытер слезы. Он улыбался, глядя на ночной город. Вздохнул облегченно. Посмотрел на Бегущего Оленя. Индеец смотрел перед собой и молчал. Шаддэк проговорил: — Но, конечно, без тебя я никогда бы не стал избранником великих духов.Глава 105
Компьютерный класс школы находился на первом этаже, в самом центре здания. Окна выходили во внутренний двор, и поэтому Сэм безо всяких опасений включил верхний свет. Класс напоминал лингафонный кабинет с компьютером в каждой кабинке. Тридцать компьютеров были расположены рядами перед столом преподавателя. Оглядев этот компьютерный рай, Тесса сказала: — «Новая волна» не поскупилась, верно? — Наверное, правильнее сказать «не растерялась», — добавил Сэм. Он прошел по рядам, отыскивая взглядом телефонные розетки и модемы, но ничего подобного не обнаружил. Тесса и Крисси в это время стояли у двери класса и следили за темным вестибюлем. Сэм сел за один из компьютеров и включил его. На экране возникла эмблема «Новой волны». Если нет модемов, то напрашивается вывод, что компьютеры были даны школе просто для рекламы и участие школьников в компьютерной практике и работе над проектом «Лунный ястреб» не предусматривалось. Эмблема исчезла, и на экране появилось первое меню. Так как компьютеры имели жесткие диски с большим запасом памяти, то их программы были готовы к работе сразу после включения. Меню предусматривало выбор из следующих позиций: A. ТРЕНИРОВКА (1 ВАРИАНТ) Б. ТРЕНИРОВКА (2 ВАРИАНТ) B. РАБОТА С ТЕКСТОВЫМ РЕДАКТОРОМ Г. ПРОГРАММА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Д. ПРОЧЕЕ Сэм заколебался, но не потому, что не знал, на какую клавишу нажать, а потому, что вдруг испугался. Он инстинктивно начал бояться прикосновений к компьютеру, вспомнив, что произошло в доме Кольтранов. Скорее всего люди сами, по своей инициативе, слились с компьютерами, но ведь в принципе был возможен и другой вариант — компьютеры взяли под свой контроль людей. Хотя это кажется совершенно невероятным. От Гарри он знал, что людей обращали через инъекции, но Сэм все равно не мог какое-то время заставить себя прикоснуться к клавишам. Наконец он выбрал пункт «Д»: A. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Б. МАТЕМАТИКА B. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Г. ИСТОРИЯ Д. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Е. ПРОЧЕЕ Сэм нажал «Е». Появилось третье меню, за ним еще несколько. Сэм нажимал клавиши до тех пор, пока не обнаружил пункт «НОВАЯ ВОЛНА». Когда он выбрал эту позицию, на экране появился текст: ПРИВЕТ, УЧЕНИК. ТЫ НАХОДИШЬСЯ В КОНТАКТЕ С СУПЕРКОМПЬЮТЕРОМ КОМПАНИИ «МИКРОТЕХНОЛОГИЯ НОВОЙ ВОЛНЫ» МЕНЯ ЗОВУТ «СОЛНЦЕ» Я ГОТОВ РАБОТАТЬ С ТОБОЙ. Значит, школьные компьютеры были напрямую связаны с «Новой волной». Модемы были ни к чему. ТЫ ХОЧЕШЬ ПРОСМОТРЕТЬ МЕНЮ? ИЛИ СРАЗУ УТОЧНИШЬ КРУГ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ? Помня о том, что меню только одной полицейской службы составляли сотни наименований, Сэм решил не терять времени и сразу напечатал: ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНЛАЙТ-КОВА. На экране появилась надпись: ДАННЫЙ ФАЙЛ ЗАСЕКРЕЧЕН. НЕ ПЫТАЙСЯ ПРОНИКНУТЬ В НЕГО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВАШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Сэм сообразил, что у преподавателей должны быть свои персональные коды для доступа в систему. Набирать их наудачу не имело смысла, там могли быть миллиарды комбинаций. Сэм решил воспользоваться еще раз известным ему кодом офицера полиции Дорна. Он набрал 262699. На экране появилась надпись: ПРИВЕТ, ОФИЦЕР ДОРН. Сэм еще раз вызвал базу данных полицейского управления. На этот раз он получил в нее доступ. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ A. ДИСПЕТЧЕР Б. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ B. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ Г. ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ Он нажал «Г». На экране появился список федеральных компьютерных сетей, с которыми он мог связаться с помощью модема. Ладони сразу стали влажными. Сэм боялся совершить какую-нибудь ошибку, так как каждый шаг в этом проклятом городе был сравним с шагом по минному полю. Он покосился на Тессу. — Все в порядке? Она еще раз выглянула в темный вестибюль, затем кивнула ему. — Вроде да. Получается? — Да, кажется… — Он снова припал к компьютеру и шепотом попросил: — Пожалуйста… Он пробегал взглядом длинные списки баз данных. Наткнулся на «КОД ФБР». Это было название одной из самых последних и самых засекреченных баз данных Бюро. Она находилась в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и была организована только в прошлом году. Никто из рядовых агентов и сотрудников региональных отделений не имел к ней доступа. Она была самой засекреченной. Все еще ожидая какого-нибудь подвоха, Сэм набрал на клавиатуре «КОД ФБР». После паузы на экране появилась цветная эмблема ФБР, под ней была надпись «КОД». Следом на экране начали высвечиваться вопросы: «НОМЕР ВАШЕГО УДОСТОВЕРЕНИЯ? ФАМИЛИЯ? ДАТА РОЖДЕНИЯ? ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ В ФБР? ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ ВАШЕЙ МАТЕРИ? — и когда Сэм ответил на все эти вопросы, он получил доступ в систему. — Попал! — воскликнул он, забыв о предосторожности. Тесса не поняла его возгласа. — Что-нибудь случилось? — Я попал в основную базу данных ФБР в Вашингтоне. — Да вы настоящий хэкер, — похвалила его Крисси. — Нет, просто повезло, и я попал, куда надо. — Что теперь? — Я сейчас буду вызывать дежурного оператора. Но сначала я хочу передать привет всем отделениям ФБР, по всей стране, чтобы повсюду сели за компьютеры и записали то, что я передам. — Привет? Из меню «КОД ФБР» Сэм выбрал пункт «Е» — НЕМЕДЛЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ПО ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ. Он собирался отправить послания в каждое из отделений ФБР, а не только в отделение в Сан-Франциско, откуда он надеялся получить самую быструю помощь. Ведь все-таки оставалась небольшая вероятность того, что оператор в Сан-Франциско пропустит сообщение, несмотря на то что Сэм дал посланию заголовок «БОЕВАЯ ТРЕВОГА». Если же сообщение примут повсюду, то в штаб-квартиру посыплются вопросы, и тогда уже точно из Сан-Франциско двинется помощь. БОЕВАЯ ТРЕВОГА. МУНЛАЙТ-КОВ, КАЛИФОРНИЯ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ПОГИБШИХ. ПОЛОЖЕНИЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ. В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ВРЕМЕНИ ВОЗМОЖНЫ СОТНИ ЖЕРТВ. КОМПАНИЯ «НОВАЯ ВОЛНА» ПРИЧАСТНА К ЗАПРЕЩЕННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ НАД ЛЮДЬМИ. ОНА НАХОДИТСЯ В СГОВОРЕ С МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПОПАЛИ ПОД ЭТОТ ЭКСПЕРИМЕНТ. ПОВТОР: ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА СТАЛО ЖЕРТВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТА. СИТУАЦИЯ ОПАСНА ДО ПРЕДЕЛА. ЖИТЕЛИ ГОРОДА СКЛОННЫ К КРАЙНИМ ФОРМАМ НАСИЛИЯ. ПОВТОР: КРАЙНИЕ ФОРМЫ НАСИЛИЯ. НЕОБХОДИМ НЕМЕДЛЕННЫЙ КАРАНТИН ГОРОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ АРМЕЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛЬНЫХ СИЛ ФБР. Сэм также сообщил, что он находится в здании школы на Рошмор-уэй, чтобы силы поддержки знали, где его искать, хотя он и сомневался, что он с Крисси и Тессой будут укрываться именно здесь. Сэм подписался под сообщением. Конечно, это сообщение не даст полной картины всего, что происходит в городе, но, по крайней мере, заставит их прибыть сюда не мешкая и в полной готовности. Он нажал клавишу «ПЕРЕДАЧА», но затем подумал и вместо этого слова ввел другую команду — «ПЕРЕДАЧА С ПОВТОРОМ». Компьютер спросил: КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ? Сэм напечатал: 99. Потом дал команду «ПЕРЕДАЧА» и нажал клавишу «ВВОД». КАКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ? — спросила машина. ВСЕ, — напечатал Сэм. Экран погас, затем появилась надпись: «ИДЕТ ПЕРЕДАЧА». В этот момент все лазерные принтеры системы «КОД» по всей стране распечатывали первый из девяноста девяти экземпляров сообщения. Весь ночной дежурный персонал ФБР вскоре будет стоять на голове, и работа закипит. Сэм едва не закричал от восторга. Но необходимо было сделать еще одну вещь. Ведь они еще не выбрались из этого страшного города. Сэм быстро вернулся к основному меню системы «КОД» и набрал вариант «А» — ДЕЖУРНЫЙ НОЧНОЙ ОПЕРАТОР. Через пять секунд он уже был на связи с сотрудником, обслуживающим эту систему в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне. На экране высветился номер удостоверения агента и его фамилия с именем АННА ДЕНТОН. Сэм чувствовал огромное удовлетворение, используя сверхвысокую технологию для нейтрализации Томаса Шаддэка, компании «Новая волна» и проекта «Лунный ястреб». Итак, Сэм начал разговор по компьютерной связи с Анной Дентон, он собирался рассказать ей во всех подробностях об ужасных событиях в городе Мунлайт-Ков.Глава 106
Хотя Ломена Уоткинса уже не интересовали полицейские проблемы, он каждые десять минут включал свой компьютер, чтобы быть в курсе происходящих событий. Он также предполагал, что Шаддэк выдаст свое местонахождение, выйдя на связь с полицейским управлением. Тогда его удастся засечь, и он не уйдет от возмездия. Оставлять компьютер постоянно включенным Ломен боялся. Не то чтобы он опасался каких-то действий со стороны машины, нет. Просто он считал, что нахождение вблизи включенной машины может подействовать на него так же, как нахождение вблизи «одержимых», — он поневоле начнет испытывать искушение. Вот и теперь он свернул на обочину Холливел-роуд, включил компьютер и приготовился следить за каналом обмена информацией, когда на экране появилось слово «ТРЕВОГА». Ломен отдернул руку от клавиш, словно его ударило током. Компьютер выдал: «СОЛНЦЕ» ТРЕБУЕТ ВЫЙТИ С НИМ НА ДИАЛОГ. «Солнце»? Суперкомпьютер «Новой волны»? С какой стати он вторгся в систему связи полицейского управления? Желая определить вмешательство в диалог других офицеров полиции, Ломен отреагировал на запрос и напечатал: К ДИАЛОГУ ГОТОВ. ТРЕБУЮТСЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ, — попросил компьютер. Ломен напечатал: «ДА», что должно было означать — ПРИСТУПАЙТЕ. Суперкомпьютер умел сам составлять вопросы. Первым был таков: ЗАПРЕЩЕНЫ ЛИ ДО СИХ ПОР ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО МЕЖДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ? ДА. ПОДПАДАЮТ ЛИ НОМЕРА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ «СОЛНЦА», ПОД ЭТО ЗАПРЕЩЕНИЕ? Ломен не понял и напечатал: ВОПРОС НЕЯСЕН. Суперкомпьютер терпеливо объяснил, что в его распоряжении имеется несколько телефонных линий, по которым он связывается с базами данных по всей стране. Ломен знал про это, поэтому напечатал: «ДА». Компьютер повторил вопрос. Если бы Ломен интересовался компьютерами так же, как Денни, он бы все понял сразу. Но Ломен опять сконфуженно напечатал «ПОЧЕМУ?», что означало «ПОЧЕМУ ВОЗНИК ТАКОЙ ВОПРОС». В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОДЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ СВЯЗИ. КЕМ ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ? СЭМЮЭЛОМ БУКЕРОМ. Ломен рассмеялся бы, если бы мог. Агент ФБР все-таки нашел выход из положения, и скоро эксперимент бесславно закончится. Прежде чем Ломен успел спросить компьютер о подробностях, в левом верхнем углу экрана появилась фамилия Шаддэка — это означало, что «доктор Моро» наблюдал за диалогом с машиной и решил вмешаться. Ломен согласился на роль наблюдателя. Шаддэк запросил более подробную информацию. Компьютер ответил: ПОЛУЧЕН ДОСТУП В СИСТЕМУ «КОД ФБР». Ломен представил изумление Шаддэка. Следующим шагом его хозяина был запрос: КАКИЕ РЕШЕНИЯ ВОЗМОЖНЫ? Он явно нуждался в совете компьютера, для того чтобы справиться с ситуацией. Суперкомпьютер представил пять вариантов решений, пятым вариантом было «ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЯЗИ». Секундой позже компьютер доложил: СВЯЗЬ С СИСТЕМОЙ «КОД ФБР» ОТКЛЮЧЕНА. Ломен надеялся, что Букер успел все-таки передать свое сообщение и вывел Шаддэка и его проект на чистую воду. На экране появился новый вопрос Шаддэка: НАЗОВИТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БУКЕРА. ГДЕ НАХОДИТСЯ КОМПЬЮТЕР, С КОТОРЫМ ОН РАБОТАЕТ? ДА. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНЛАЙТ-КОВА, КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС. Ломен находился в трех минутах езды от этой школы. Интересно, где сейчас находится Шаддэк? Но в любом случае он помчится в школу, чтобы не дать Буккеру разрушить его грандиозный замысел или в крайнем случае — отомстить за то, что уже непоправимо разрушено. Важно одно — теперь он, Ломен, знает, где найти своего создателя.Глава 107
Сэм провел шесть обменов по компьютерной связи с Анной Дентон, когда связь отключилась. Экран погас. Хотелось верить, что это произошло из-за неполадок на линии, но Сэм почти наверняка знал, что это не так. Он встал так резко, что стул с грохотом свалился на пол. Крисси подпрыгнула от неожиданности, а Тесса спросила: — Что? Что случилось? — Они узнали, где мы, — объяснил Сэм, — и сейчас едут сюда.Глава 108
Гарри услышал, как внизу у двери зазвонил звонок. Сердце екнуло. Он почувствовал, что теряет самообладание. В дверь позвонили еще раз. Последовала долгая пауза. Они ведь знали, что в доме живет инвалид, и давали ему время добраться до двери. Раздался третий звонок. Гарри взглянул на часы. 19.24. От того, что они не поставили его в конец своего списка, он не испытывал никакого облегчения. Звонок звонил теперь не переставая. Наконец раздался лай Муза.Глава 109
Тесса сжала руку Крисси в своей руке. Вместе с Сэмом они выбежали из компьютерного класса. Батарейки в фонарике уже успели разрядиться, так что теперь луч света освещал лишь то, что находилось в паре шагов от них. Да и сам путь по коридорам школы, казавшийся до этого таким простым, теперь в страшной спешке представлялся запутанным лабиринтом. Они проскочили через перекресток четырех коридоров, выбежали в один из них, и только через двадцать ярдов Тесса поняла, что они выбрали не то направление. — Мы же вошли не с этой стороны, — напомнила она Сэму. — Не имеет значения, — отозвался Сэм, — мы можем выйти через любую дверь. Еще через десять ярдов луч фонарика уперся в стену, это был тупик. — Давайте сюда! — закричала Крисси, увлекая за собой Тессу и поворачивая обратно в темноту коридора. Им оставалось или последовать за ней, или бросить ее на произвол судьбы.Глава 110
Шаддэк сообразил, что им лучше не врываться в школу со стороны фасада, а незаметно проникнуть с тыльной стороны — индеец был в этом полностью с ним согласен, — и они обогнули здание школы, чтобы попасть на задний двор. Шаддэк медленно ехал вдоль здания, осматривая окна и двери, в надежде отыскать следы взлома. Последняя дверь с тыльной стороны находилась почти у самого угла здания, и Шаддэк уже начинал поворачивать, когда заметил на ней в свете фар выбитое стекло. — Здесь, — сказал он Бегущему Оленю. — Да, Маленький Вождь. Шаддэк остановил машину возле двери и взял с заднего сиденья двенадцатизарядный полуавтоматический винчестер. Кроме того, он разложил по карманам еще десяток патронов к нему, после чего вылез из машины и направился к двери.Глава 111
Раздалось четыре мощных удара, и Гарри показалось, что он услышал звон разлетающегося вдребезги стекла. Неистово залаял Муз. Его лай звучал подобно лаю самой злобной овчарки. Вероятно, пес собирался стоять насмерть, защищая дом и хозяина, несмотря на добрый по природе нрав. «Не делай этого, милый, — подумал Гарри. — Не лезь в герои. Отползи куда-нибудь в угол и спрячься там, пропусти их, пускай входят, а если протянут руку, лучше лизни ее и не…» Собака коротко заскулила и смолкла. «Нет!» — подумал Гарри, и боль, горькая боль подступила к горлу. Он потерял не только собаку, он потерял лучшего друга. Оказывается, Муз тоже знал, что такое долг. В доме наступила тишина. Они, вероятно, обыскивали первый этаж. Горечь и страх покидали Гарри, им овладела ярость. «Муз. Черт побери, бедный безобидный Муз». Он чувствовал, как раскраснелось от гнева его лицо. Он готов был убить их. Гарри поднял с пола свой пистолет и крепко сжал его в здоровой руке. Они еще долго будут искать его, но с оружием в руках он чувствовал себя спокойнее. В армии он всегда занимал первые места и по винтовочной стрельбе, и по стрельбе из пистолета. Как давно это было. Он не стрелял даже в тире вот уже двадцать лет, с того момента, когда в далекой и прекрасной азиатской стране его сделали инвалидом на всю жизнь. Но оружие он по старой солдатской привычке содержал в полном порядке, и теперь оно его не подведет. Какой-то щелчок. Загудел мотор подъемника. Они поднимаются на лифте.Глава 112
Пройдя полпути по коридору, ведущему к нужной двери, Сэм услышал вой сирены с улицы. Полицейская машина где-то совсем рядом, но нельзя было пока определить, приближается она с фасада или с тыльной стороны здания. Крисси явно была растеряна. Она остановилась и спрашивала Сэма: — Где это? Где? Раздался крик Тессы, стоявшей сзади них: — Сэм! Дверь! Через мгновение Сэм понял, что она имеет в виду: дверь, через которую они вошли в здание, — до нее было ярдов тридцать — отворилась. Вошел человек. Автомобильная сирена продолжала выть снаружи, звук ее становился все ближе — на помощь вошедшему в здание спешила подмога. Мужчина, чья фигура темным силуэтом возникла в дверном проеме, был высокого роста, выше шести футов. Больше о нем пока ничего нельзя было сказать. Сэм выстрелил. Он не знал, стреляет ли он во врага — в конце концов, все в этом городе были сейчас их врагами, — он только понял, что первый выстрел пришелся мимо цели. Рука дрогнула, по всей видимости, из-за того, что поврежденное запястье после всех приключений в тоннеле страшно болело, боль охватила всю руку до плеча. Он с трудом удерживал пистолет. Грохот от его выстрела, гулко разнесшийся по коридору, смешался с грохотом ответного выстрела. Это был явно не пистолетный, а винтовочный выстрел. К счастью, стрелок оказался не слишком метким. Он, вероятно, прицелился выше, чем нужно, не приняв во внимание отдачу, и пуля ушла в потолок. Второй выстрел был не точнее первого, стрелок из-за неопытности слишком сильно опустил винтовку, и пуля ударила в пол. Сэм, конечно же, не стал дожидаться на одном месте исхода этой неумелой пальбы. Он схватил Крисси и втолкнул ее в одну из комнат с левой стороны как раз в тот момент, когда раздался второй выстрел со стороны входной двери. Тесса влетела в комнату вслед за ними. Она захлопнула за собой дверь и прислонилась к ней спиной, как если бы она была суперженщиной из мультфильмов, которой не страшны пули. Сэм сунул ей в руки фонарик. — С моим запястьем мне понадобятся две руки для стрельбы. Тесса осветила комнату, в которую они попали. Это был класс для репетиций школьного оркестра. Справа от двери виднелись стулья с пюпитрами для нот, слева — помост для дирижера. По бокам комнаты имелись две двери, они вели в соседние комнаты. Крисси не понадобилось уговаривать Тессу скрыться в одной из них. Сэм прикрывал их, пятясь и держа на прицеле дверь, через которую они вошли. Звук сирены, доносившийся с улицы, смолк. Значит, теперь против них будет действовать не один, а уже несколько человек.Глава 113
Те, кто вошел в дом, уже обыскали два первых этажа и сейчас добрались до спальни на третьем. Гарри слышал, как они переговариваются друг с другом, но содержание разговора понять не мог. Он с нетерпением дожидался момента, когда они обнаружат в кладовке люк на чердак и поднимутся к нему: ему очень хотелось пристрелить хотя бы одного-двух. Отомстить за Муза. После двадцати долгих лет, проведенных в положении жертвы, Гарри не мог не стремиться к тому, чтобы хоть в последний раз в жизни проявить свое бесстрашие и мужество. Пусть Муз всего лишь пес, они вскоре узнают, как дорого им придется заплатить за убийство его друга.Глава 114
В сгущающемся тумане Ломен заметил патрульную полицейскую машину, стоящую рядом с автомобилем Шаддэка. Он припарковал свою машину впритык к полицейской, в этот момент офицер Пол Амберли открыл дверцу и выбрался наружу. Амберли был стройным, худощавым мужчиной, он считался одним из лучших полицейских в управлении, хотя работал там совсем недолго. Сейчас он произвел на Ломена впечатление не офицера полиции, а мальчишки-школьника — на лице у него было выражение панического ужаса. Когда Ломен тоже вышел из машины, Амберли подошел к нему. В руке он сжимал пистолет. Ему явно было не по себе. — Где остальные? Где они? Ведь была объявлена общая тревога? — Где остальные? — переспросил Ломен. — Послушай, Пол. Только послушай, что творится в городе. Со всех сторон раздавался нестройный хор диких воплей и воя, словно волчья стая перекликалась с другой стаей или выла на луну, время от времени выплывающую из-за облаков. Ломен подошел к багажнику своей машины и открыл его. В наборе снаряжения каждого полицейского автомобиля имелся двадцатизарядный карабин, который никогда не использовался в мирном и тихом курортном городке. Компания «Новая волна», однако, снабдила полицейских и этим оружием, необходимым разве что для разгона вооруженных демонстраций. Ломен вытащил этот карабин из багажника. Амберли приблизился к нему. — Вы хотите сказать, что все остальные полицейские, кроме вас и меня, превратились в «одержимых»? — Послушайте, что творится в городе, — предложил еще раз Ломен, прислонив карабин к бамперу машины. — Но это же безумие! — не мог поверить Амберли. — Вы хотите сказать, что весь проект полетел в тартарары, что все пропало? Ломен достал коробку с патронами и начал заряжать карабин. — Вы не чувствуете искушения, Пол? — Нет! — выкрикнул Амберли. — Нет, я не чувствую, я ничего не чувствую. — А я чувствую, — признался Ломен, — я чувствую искушение постоянно. Мне чертовски хочется сбросить с себя всю одежду и превратиться в животное, превратиться и просто бежать куда глаза глядят, быть свободным, охотиться, убивать. — Нет, у меня никогда такого не было, никогда. — Врете вы, Пол, — убежденно сказал Ломен, поднимая заряженный карабин. Он выстрелил в Амберли в упор, размозжив полицейскому голову. Он не мог доверять молодому офицеру, не мог повернуться к нему спиной. Он не верил тому, что можно удержаться от искушения в этом обезумевшем городе. Ломен раскладывал по карманам патроны, когда услышал выстрел, донесшийся из здания школы. Кто из них стрелял? Букер или Шаддэк? Борясь с чувством страха и подавляя в себе искушение, Ломен стремительно вошел в здание.Глава 115
Томас Шаддэк ясно различил звуквыстрела из темноты. Он не придал этому большого значения, ведь в конце концов они были на войне. Чтобы убедиться в этом, достаточно было выйти на улицу и послушать, как по всему городу от холмов до побережья раздаются бешеные крики сражающихся на этой войне. Шаддэка больше интересовал Букер, возможность расправиться с ним, с ним и еще с этой стервой Локленд, и еще с этой девчонкой Крисси Фостер. Он пока не мог сообразить, каким образом они оказались рядом друг с другом. Итак, война. Поэтому он сразу повел себя так, как ведут себя герои боевиков, — он пинком отворил дверь и сразу выстрелил в темноту. В ответ не раздались стоны раненых. Он понял, что промазал, поэтому выстрелил во второй раз и опять ничего не услышал. Шаддэк понял, что они где-то спрятались. Он прошел по коридору до открытой двери, нащупал выключатель и включил свет. Он находился в классе, служившем для репетиций школьного оркестра. По всей видимости, они ушли отсюда через одну из боковых дверей, и когда он понял это, то разозлился, страшно разозлился. Он стрелял в человека всего один раз в жизни, это было в Фениксе, когда он убил индейца из револьвера своего отца; он стрелял тогда в упор и не мог промахнуться. Но он был уверен, что, если снова возьмет в руки ружье, у него не будет промахов. В конце концов, он же видел, как стреляют в кино, во всех этих ковбойских фильмах, в боевиках, они просто прицеливаются и нажимают на курок. Оказалось, что все гораздо сложнее. И зачем они врут в этих своих фильмах? Ведь на самом деле, когда стреляешь, винтовка подпрыгивает у тебя в руках, как живая. Теперь он знает, как надо стрелять, и при следующих выстрелах он возьмет себя в руки, он больше не промахнется. Он отправит их на тот свет, когда они снова окажутся у него на мушке. Они еще пожалеют о том, что вынудили его гнаться за ними, а не умерли тогда, когда он этого захотел.Глава 116
Дверь из репетиционного класса вывела Сэма, Тессу и Крисси в коридор, вдоль которого располагалось десять комнат для индивидуальных занятий музыкой. Они все были разделены особыми, звукопоглощающими перегородками. В самом конце коридора виднелась еще одна дверь. За ней находился большой зал, он служил для репетиций школьного хора. На одной из стен кто-то из школьников нацарапал поющих ангелов с крылышками и приписал снизу: «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ХОР». В этот момент они снова услышали выстрел, им показалось, что стреляли на улице. Вслед за этим выстрелом раздались еще два — оба прозвучали, видимо, из репетиционного класса для оркестра. В той комнате, в которой они сейчас находились, также имелось две двери, одна вела «в кабинет руководителя хора и, следовательно, заканчивалась тупиком. Они ринулись через вторую дверь в коридор, освещенный красными лампочками с надписью «ЛЕСТНИЦА». Это значило, что этим коридором нельзя было попасть к выходу на улицу. — Бери с собой Крисси и беги! — крикнул Тессе Сэм. — Но… — пыталась возразить она. — Бегите вдвоем наверх. Все двери на первом этаже они наверняка перекрыли. — Что ты задумал… — Я вас прикрою, — отрывисто сказал Сэм. Дверь в комнату для хора с треском распахнулась, и прозвучал еще один выстрел. — Бегите! — зашипел Сэм.Глава 117
Гарри услышал, как скрипнула дверь кладовки. На чердаке было холодно, но он обливался потом, словно попал в сауну. Зря он напялил на себя второй свитер. «Убирайтесь отсюда, — подумал он, — убирайтесь». Но вслед за этой мыслью возникла вторая. Какого черта! Идите сюда, идите сюда, ребята. Посмотрим, кто кого. Или вы думаете, что мне жизнь дорога?Глава 118
Сэм присел на одно колено в коридоре рядом с комнатой для хора. В такой позе ему легче было стрелять, не так мешала боль в правой кисти. Он оставил дверь приоткрытой, через эту щель он держал на прицеле всю комнату. Он увидел, как в дверном проеме возникла фигура. Высокий мужчина. Лица не различить. Но он кого-то определенно напоминал. Мужчина явно не видел Сэма. Он, однако, двигался с предосторожностями, выпустил из своего карабина несколько пуль, прежде чем войти в комнату. Он собирался выстрелить еще раз, но вместо этого послышался только щелчок спущенного курка. Мужчина передернул затвор, но патроны кончились. Такой поворот резко поменял планы Сэма. Он вскочил на ноги, вбежал в комнату. Надо было во что бы то ни стало опередить этого человека, не дать ему включить свет. Сэм сделал несколько выстрелов. После второго или третьего выстрела мужчина взвизгнул как-то по-мальчишески, голос у него оказался тонким и визгливым. В тот же момент он выбежал в коридор и скрылся из виду. Сэм выбежал из комнаты вслед за ним, на ходу нашаривая левой рукой в кармане патроны, а правой поворачивая барабан револьвера в поисках пустых гнезд! Перед тем как выйти в коридор, ведущий к репетиционному залу оркестра, он прижался к стене и дозарядил револьвер. Ударом ноги Сэм растворил дверь и бросил взгляд в коридор, освещенный лампами дневного света. В коридоре никого не было. Следов крови на полу тоже не было видно. Проклятие. Его правая рука почти онемела. Запястье распухло, повязка насквозь пропиталась кровью. Если он и дальше будет так же плохо стрелять, останется только одно — подойти к этому негодяю и попросить его встать вплотную к дулу револьвера. По обеим сторонам коридора шли комнаты для занятий юных музыкантов, и все двери этих комнат были закрыты. Дверь в репетиционный зал была распахнута настежь, и там горел свет. Мужчина мог находиться в любой из десяти комнат. Но, где бы он ни находился, он имел достаточно времени на перезарядку своего карабина. Значит, момент для преследования был уже упущен. Сэм стал пятиться назад, он отступил за порог двери и почти закрыл ее, когда заметил высокую фигуру, показавшуюся в дверях репетиционного зала в сорока футах от него. Это был Шаддэк. Раздался выстрел. Дверь с усиленной звукоизоляцией оказалась непреодолимой преградой для пуль. Сэм повернулся и побежал через комнату к двери в коридор и дальше — по лестнице наверх — туда, где его должны были ждать Тесса и Крисси. Он нашел их на верхней площадке, они сидели на полу, слегка освещенные красным табло-указателем «ЛЕСТНИЦА». На нижней лестничной площадке распахнулась дверь, и в нее вошел Шаддэк. Сэм спустился на несколько ступенек, перегнулся через перила, вгляделся в полумрак и, заметив своего преследователя, сделал два выстрела. Шаддэк снова взвизгнул, как ребенок. Он прижался к стене так, что его совсем не стало видно. Сэм не понял, задела ли пуля его преследователя или нет. Возможно. Он только знал, что ему не удалось морально подавить Шаддэка — тот продолжал красться вдоль стены вверх по лестнице. Когда этот негодяй доберется до поворота лестницы, он выскочит из-за угла и будет стрелять вверх, пока в обойме у него не кончатся патроны. Сэм осторожно стал отступать назад. Ему показалось в красноватом свете от указателя, что на лице у Тессы и Крисси была… кровь.Глава 119
Тихий звон. И скрежещущий звук. Звон. Скрежет. Скрежет, звон. Гарри понял, что это за звуки. Они передвигают вешалки с одеждой по металлической перекладине. Как они могли догадаться? Черт бы их побрал, они, наверное, учуяли его. Может быть, по запаху пота. Может быть, чертово обращение обострило их обоняние? Звон и скрежет внезапно прекратились. Секундой позже он услышал, как они снимают перекладину, чтобы поставить в кладовке лестницу.Глава 120
Фонарь почти совсем перестал светить, и Тесса несколько раз встряхнула его, чтобы элементы питания внутри корпуса поплотнее прижались друг к другу и дали бы еще хоть немного света. Они обнаружили в коридоре дверь, которая вела в школьную химическую лабораторию. Здесь стояли столы с белыми мраморными крышками, высокие деревянные стулья и стальные раковины. Прятаться было негде. Они осмотрели окна, надеясь на то, что под ними окажется крыша какой-нибудь пристройки. Ничего подобного. Под окнами была голая стена, а внизу бетонная дорожка. В конце лаборатории была дверь, через которую они попали в небольшую, площадью футов в десять, комнату, которая служила складом химических препаратов для школьных опытов. Препараты были упакованы в запечатанные коробки и банки, на одних из них имелись наклейки с черепом и двумя перекрещенными костями, а на других — надпись «Опасно», выполненная красными буквами. По мысли Крисси, некоторые из этих веществ можно было бы использовать в качестве оружия, но у них не было времени даже на беглый осмотр содержимого этого склада, не говоря уже о смешивании каких-нибудь взрывчатых компонентов. Кроме того, Крисси не считала себя очень уж успевающей по химии, а сейчас вообще плохо соображала, что к чему. Так что, если даже она возьмется за первую же банку, где гарантия, что та не взорвется прямо у нее в руках. По выражению лица Сэма Крисси поняла, что он тоже не выражает оптимизма по поводу обнаруженных ими запасов. Следующая дверь вела во вторую лабораторию, которая, судя по всему, являлась кабинетом биологии. На стенах висели плакаты по анатомии. В этой комнате так же, как и в предыдущей, не было места, куда можно было бы спрятаться. Тесса прижала Крисси к себе и, умоляюще глядя на Сэма, прошептала: — Что теперь? Ждать здесь и надеяться, что он не найдет нас? Или бежать? Но куда? — Я думаю, нужно найти какой-нибудь выход отсюда. Нет ничего хуже, чем сидеть и ждать своей смерти. Тесса, соглашаясь, кивнула. Сэм пошел вперед, туда, где за рядами столов и стульев виднелась дверь в коридор. Тесса и Крисси последовали за ним. Сзади, то ли из складского помещения, то ли из химической лаборатории, донесся слабый, но ясно различимый щелчок. Сэм остановился, пропустил мимо себя Тессу и Крисси и взял на прицел дверь, ведущую из склада. Тесса, схватив Крисси за руку, подбежала к двери в коридор и, повернув ручку, открыла ее. Шаддэк вышел из темноты коридора в круг света от гаснущего на глазах фонарика Тессы и приставил дуло своего карабина к ее животу. — Вот теперь-то вы у меня поплачете, — сказал он, подергиваясь от возбуждения.Глава 121
Они откинули крышку люка внизу. Столб света из люка осветил стропила, но его не хватало, чтобы вырвать из темноты угол чердака, в котором, скрестив перед собой свои неподвижные ноги, сидел Гарри. Парализованную руку он держал у себя на коленях, а в здоровой сжимал пистолет. Сердце билось сильнее, чем тогда, на войне в далекой азиатской стране. Живот сводила судорога. В горле пересохло до такой степени, что трудно было дышать. Ужас сковал все тело. Но, Боже праведный, он чувствовал себя живым! Со скрипом и стуком они установили лестницу.Глава 122
Томми Шаддэк приставил дуло своего винчестера к животу Тессы и едва не проткнул ее насквозь: он был готов выпустить ей кишки. Но в этот момент он увидел, как она хороша, и понял, что, пожалуй, не стоит убивать ее, по крайней мере — не сейчас, не сразу, прежде она должна будет сделать все, что он захочет, все, что он ей прикажет сделать. А если она откажется, он просто разнесет ее на куски из своего винчестера. Да-да, она принадлежит ему, и ей же будет лучше, если она сама поймет это. Если же нет — ей придется пожалеть, горько пожалеть. Затем он заметил девчонку рядом с ней, хорошенькую девчонку лет десяти-двенадцати, и это возбудило его еще больше. Он сначала проделает все с девчонкой, а затем с этой бабой, он заставит их делать это по-всякому, так, как он захочет, а захочет он многого — всего. Он будет наслаждаться, причиняя им боль, это его право, они Не посмеют отказать ему, хозяину мира, ведь в его руках отныне находится вся власть, ведь именно он видел великий знак лунного ястреба целых три раза. Он толкнул свою жертву дулом в живот, и она послушно попятилась в комнату, увлекая за собой девчонку. Букер стоял посреди комнаты, на его лице была растерянность. Томми Шаддэк скомандовал ему: — Брось свой револьвер и отойди от него на три шага, иначе я выпущу кишки из этой стервы. Клянусь, я это сделаю, ты не успеешь выстрелить. Букер медлил. — Брось револьвер! — завопил Шаддэк. Фэбээровец бросил револьвер на пол и отступил от него на несколько шагов. Продолжая держать карабин у живота женщины, Шаддэк заставил ее повернуться и включить свет в классе. — О'кей, теперь вы все, — продолжал командовать Шаддэк, — сядете на стулья, да-да, вот на эти. И не вздумайте шалить. Он отошел от женщины и взял их всех на прицел. В глазах у этих людей был страх, и это привело Шаддэка в прекрасное расположение духа. Томми был теперь возбужден, очень возбужден, так как он решил, что сначала убьет Букера, он убьет его на глазах у этой бабы и этой девчонки. Он будет убивать его медленно, он первым делом выстрелит ему в ноги, заставит его упасть и покорчиться на полу, затем выстрелит ему в живот, но так, чтобы Букер еще помучился. Он заставит этих двух смотреть на все это, чтобы они поняли, с кем имеют дело. Они имеют дело с Томми Шаддэком, а он захочет очень многого. Они должны быть благодарны, что он оставил их в живых, он заставит их благодарить его, они сделают все, что он пожелает, они на коленях будут благодарить его. Он сделает с ними все, о чем он мечтал все эти тридцать лет, все, в чем он себе отказывал эти тридцать лет. Он выпустит прямо здесь накопившуюся за эти годы энергию, прямо здесь, этой ночью…Глава 123
С улицы через слуховые окна чердака проникли странные, чудовищные звуки, чьи-то дикие голоса словно перекликались друг с другом, сливались в невообразимый хор. Это было похоже на то, что врата ада распахнулись и оттуда в Мунлайт-Ков ринулась вся нечистая сила, вся ее неисчислимая рать. Гарри очень переживал за Сэма, Тессу и Крисси. В кладовке возились, устанавливая лестницу. Вот один из команды по обращению жителей начал подниматься по ней наверх. Интересно, на кого они похожи? На обычных людей, вроде дока Фица и его помощников? Или на «призраков»? Или на тех людей-роботов, о которых рассказывал Сэм? Первый уже выглянул из люка на чердак. Это был доктор Уорфи, самый молодой из врачей в этом городе. Сначала Гарри собирался пристрелить его сразу, прямо на лестнице, но потом раздумал, так как не хотел впустую тратить патроны и решил подождать, пока доктор подойдет поближе. Уорфи был без фонарика, он в нем просто не нуждался. Поднявшись на чердак, он сразу посмотрел в угол, где сидел Гарри, и сказал: — Каким образом вы догадались, что мы придем к вам, Гарри? — У инвалидов очень развита интуиция, — саркастически отозвался Гарри. В центральной части чердака можно было запросто ходить, не пригибая головы. Уорфи успел сделать всего четыре шага, когда Гарри дважды выстрелил в него. Первый выстрел был неудачным, второй поразил доктора в грудь. Уорфи откинулся назад и тяжело свалился на голые доски чердака. Он лежал на полу всего несколько мгновений, потом поднялся, сел на корточки, откашлялся и встал на ноги. Кровь залила весь перед рубашки. Рана была тяжелой, но заживала буквально на глазах. Гарри помнил слова Сэма о том, что Кольтраны за несколько минут воскресали из мертвых. «Главное — уничтожить их процессор», — вот что говорил Сэм. Гарри прицелился в голову Уорфи и сделал еще два выстрела, но с такого расстояния и под таким углом у него не было никаких шансов попасть в цель. Он замешкался, понимая, что патронов в пистолете осталось мало — всего четыре. Из люка показался второй мужчина. Гарри выстрелил в него, стремясь хотя бы запугать его. Человек продолжал подниматься, не обратив на выстрел никакого внимания. Осталось три патрона. Держась на почтительном расстоянии, Уорфи принялся уговаривать Гарри: — Мы не сделаем вам ничего плохого. Я не знаю, что вы слышали о проекте, я не знаю, как о нем отзывались, но поверьте, это совсем-совсем не плохо… Голос у него сорвался, он склонил голову, как бы прислушиваясь к нечеловеческим крикам, доносившимся с улицы. Странное выражение жажды, тоски по чему-то отразилось на его лице, это можно было разглядеть даже при слабом свете, лившемся из открытого люка. Уорфи, видимо, пытался стряхнуть с себя наваждение, он снова вспомнил, что должен играть роль доктора, уговаривающего пациента принять горькое лекарство. — Это совсем не больно, Гарри. А для вас это вообще будет спасением. Вы снова сможете ходить, Гарри. Вы будете полностью здоровым человеком. И все из-за того, что обращение даст вам новые возможности. Вы забудете про свой паралич. — Нет уж. Цена дороговата. — Какая цена, Гарри? — спросил Уорфи, протягивая к Гарри руки и демонстрируя ему свои ладони. — Посмотрите на меня. Разве мне пришлось что-то платить, чем-то жертвовать? — А как насчет души? — поинтересовался Гарри. В этот момент из люка на чердак выбрался третий мужчина. Второй внимательно прислушивался к крикам с улицы. Он громко скрежетал зубами, изо всех сил сжимал челюсти и часто-часто моргал. Неожиданно он поднял руки и закрыл ими лицо, словно увидел что-то ужасное. Уорфи заметил, что с его помощником происходит нечто странное. — Вэннер, с вами все в порядке? Руки Вэннера начали… меняться. Запястья как будто распухли, пальцы удлинились, все это произошло в течение нескольких секунд. Когда Вэннер опустил руки, стало ясно, что на лице тоже начался процесс изменений. Скулы вытянулись вперед, словно у оборотня-волка. Ткань рубашки лопнула на груди под давлением трансформирующейся плоти. Вэннер раскрыл рот, вместо зубов у него были клыки. — Жажда… — прокричал Вэннер, — жажда, жажда… — Нет! — завопил Уорфи. Третий мужчина, только что выбравшийся из люка, теперь катался по полу, превращаясь прямо на глазах в нечто среднее между отвратительным насекомым и доисторической рептилией. Гарри не задумываясь выпустил все оставшиеся пули в «насекомое», отбросил пистолет в сторону и, схватив револьвер, сделал еще три выстрела из него. Одна из пуль попала чудовищу в голову. Оно забилось в агонии, скатилось к люку и исчезло. Вэннер полностью превратился в подобие волка и словно создал сам себя по образу и подобию какого-то персонажа из фильма. Гарри вспомнил, что когда-то видел этот фильм ужасов, там действовали именно такие оборотни. Вэннер издал страшный крик, он будто вторил воплям, доносившимся с улицы. Уорфи яростно срывал с себя всю одежду, она мешала ему превращаться в существо, не похожее внешне ни на Вэннера, ни на «насекомое». Вероятно, его новый образ воплощал одно из тех существ, в которых он давно хотел превратиться. В барабане револьвера Гарри оставалось всего три патрона, и один из них он должен был оставить для себя.Глава 124
Когда им каким-то чудом удалось спастись в тоннеле, Сэм обещал самому себе, что научится стойко переносить жизненные утраты и трагедии. Одна из этих трагедий разыгрывалась сейчас, и надо было выполнять обещание. Да, он не имел права на отчаяние сейчас, когда от его действий зависела жизнь Крисси и Тессы. Если ничего другого придумать не удастся, он бросится на карабин Шаддэка в тот момент, когда тот будет нажимать на спусковой крючок. Но понять, когда этот момент наступит, было очень трудно. Шаддэк был явно не в себе. В таком состоянии он запросто мог нажать курок в паузе между своими отрывистыми, нервными, мальчишескими смешками, он мог его нажать как бы непроизвольно. — А ну-ка встань со стула, — скомандовал в этот момент Шаддэк, обращаясь к Сэму. — Что? — Ты что, не слышишь, я тебе говорю — встань со стула. Ложись на пол. Вот здесь. И без глупостей, я стреляю без предупреждения. — Шаддэк дулом ружья показал, куда ложиться. — Встань и ложись на пол сию же минуту. Сэм не спешил выполнять указание, так как понимал, что Шаддэк хочет отделить его от Тессы и от Крисси только затем, чтобы пристрелить. Он еще немного помешкал, затем сполз со стула, так как ничего другого не оставалось. Он медленно пошел вдоль столов к тому месту, на которое указал Шаддэк. — Ложись, — скомандовал Шаддэк. — Ты должен лечь вот здесь на полу, распластавшись. Опускаясь на одно колено, Сэм скользнул рукой во внутренний карман своей куртки и вытащил оттуда металлическую пластинку, ту самую, которой он открывал замок в доме Кольтранов. Незаметным движением руки он отбросил железку от себя в сторону. Пластинка отлетела к окну и по пути достаточно громко звякнула об один из мраморных лабораторных столов. Сумасшедший сразу же направил свой карабин в сторону окна. С громким криком, в котором ярость смешалась с решимостью, Сэм взвился с места и бросился к Шаддэку.Глава 125
Тесса сгребла Крисси в охапку и оттащила ее к стене рядом с дверью — подальше от дерущихся мужчин. Они присели там на корточки, надеясь таким образом избежать попадания случайной пули. Сэму удалось схватить Шаддэка еще до того, как тот развернул карабин в его сторону. Он взялся за створ оружия левой рукой, а слабеющей правой вцепился Шаддэку в кисть. Затем он резко толкнул его, стараясь свалить на пол. Шаддэк от неожиданности вскрикнул, а Сэм в ответ удовлетворенно оскалил зубы, на одно мгновение напомнив Шаддэку этим оскалом тех, кто сейчас выл там, на улице. Тесса увидела, как Сэм ударил Шаддэка коленом между ног. Его противник взвыл от боли. — Так его, Сэм! — одобрительно выкрикнула Крисси. Пока Шаддэк корчился от боли, согнувшись пополам, Сэм вырвал карабин из его рук и отступил назад. В это же самое мгновение в комнату ворвался человек в полицейской форме, также вооруженный карабином. — Нет! — закричал он с порога. — Бросьте оружие! Шаддэк — мой!Глава 126
Существо, которое совсем недавно было Вэннером, двигалось сейчас прямо на Гарри. Из пасти его вырывался низкий рев, с клыков стекала желтоватая слюна. Гарри выстрелил дважды, обе пули поразили цель, но существо продолжало двигаться. Раны заживлялись прямо на глазах у Гарри. Остался один патрон. Гарри вложил ствол револьвера себе в рот, ощутив на губах кисловатый вкус горячей стали. Чудовищное, похожее на волка существо нависло над ним. Огромная голова была раза в три крупнее обычной человеческой, она была непропорционально большой по отношению ко всему остальному телу. Пасть занимала большую часть этой головы, а острые зубы — большую часть пасти. Они напоминали скорее не волчьи клыки, а зубы акулы. Вэннер не ограничился приданием себе образа одного из хищных первобытных животных, он создал нечто, никогда не существовавшее, но превосходящее все создания природы своей свирепостью. Когда Вэннер очутился всего в трех футах от Гарри, последний вытащил револьвер изо рта, промолвил: «Черта с два» — и выстрелил прямо в голову чудовища. Существо откинулось назад и рухнуло на пол. Процессор был уничтожен. Гарри готов был уже возликовать по случаю победы, но вовремя понял, что бой не закончен. Уорфи тоже превратился во что-то немыслимое и был явно в состоянии транса при виде кровавой схватки на чердаке и при звуках диких воплей, доносящихся с улицы. Он уставился своими огромными, похожими на стрекозиные глазами на Гарри, и на мерцающей зеркальной поверхности этих глаз Гарри воочию увидел ненасытный голод фантастического существа. Патронов у него не осталось.Глава 127
Сэм оказался под прицелом у полицейского, и ему ничего не оставалось, как бросить на пол карабин, который он только что вырвал из рук Шаддэка. — Я на вашей стороне, — вымолвил полицейский. — На нашей стороне в этом городе никого нет, — возразил Сэм. Шаддэк жадно ловил ртом воздух и пытался выпрямиться во весь рост. На полицейского он смотрел с нескрываемым ужасом на лице. С холодной расчетливостью, которая поразила Сэма, без тени каких-либо чувств на лице, полицейский прицелился из своего карабина в Шаддэка, не представляющего в данный момент никакой угрозы, и выстрелил четыре раза. Шаддэк, словно нокаутированный гигантом, отлетел на несколько футов назад и распластался у стены. Полицейский отбросил свой карабин и кинулся к убитому. Он разорвал ворот его шерстяной рубашки и снял с шеи Шаддэка странный предмет, выполненный в виде прямоугольного медальона на золотой цепочке. Он поднял над головой свою добычу и произнес: — Шаддэк мертв. Биение его сердца больше не звучит в эфире, и компьютер «Солнце» начинает прямо сейчас передавать программу нашего уничтожения. Через тридцать секунд мы все обретем покой. Вечный покой. Сэм подумал, что полицейский предупреждает их о какой-то неведомой смертельной опасности, что в руках он держит что-то вроде бомбы. Он метнулся к двери и увидел, что Тесса восприняла слова полицейского тоже с опаской. Она вытолкнула Крисси в коридор. Но даже если это была бомба, то она оказалась совершенно бесшумной, и радиус действия ее был настолько мал, что от нее пострадал только полицейский. Его лицо скорчилось в страшной судороге. Сквозь стиснутые зубы он успел прошептать: «Боже». Это было не восклицание, а скорее мольба или, может быть, попытка описать то, что он увидел в последние мгновения своей жизни, так как сразу же после этого слова он безо всяких видимых причин упал замертво.Глава 128
Первое, что отметил про себя Сэм, когда они вышли через уже знакомый им черный ход здания школы, было абсолютное безмолвие ночи. Диких воплей людей-призраков не было слышно ни с какой стороны. В замке зажигания большой черной машины торчали ключи. — Придется тебе вести машину, — попросил Тессу Сэм. Запястье его руки страшно распухло. Боль была дергающей, и каждый ее укол эхом страдания отдавался по всему телу. Сэм сел на переднее сиденье рядом с креслом водителя. Крисси уютно устроилась у него на коленях. Сэм обнял ее и прижал к себе. Она была сейчас непривычно молчаливой. Конечно, она была измотана последними событиями до полуобморочного состояния, но Сэм чувствовал, что главная причина ее молчания заключалась совсем в другом. Тесса распахнула дверцу со стороны водительского кресла, села за руль и включила зажигание. Ей не надо было объяснять, куда сейчас ехать. По дороге к дому Гарри они обнаружили, что улицы города усеяны трупами — нет, не обычных мужчин и женщин, а каких-то странных существ, будто сошедших с полотен Иеронима Босха, — фантасмагорических, скорченных. Они ехали медленно, объезжая эти распластанные тела, и пару раз им даже пришлось выезжать на тротуар, чтобы не наехать на целое стадо этих существ, пораженных в одно мгновение, вероятно, той же невидимой силой, которая отправила на тот свет и полицейского. Шаддэк мертв. Биение его сердца больше не звучит в эфире, и компьютер «Солнце» начинает прямо сейчас передавать программу нашего уничтожения… Крисси не выдержала страшного зрелища и уткнулась лицом в куртку Сэма. Сэм пытался убедить себя, что все эти создания — не более чем призраки, игра его воображения, что подобное совершенно невозможно в реальной жизни, даже если в эту жизнь вмешается сверхвысокая технология или колдовство. Он все ожидал, что чудовища исчезнут, когда их закрывали ненадолго клочья тумана, но туман отступал, а «призраки» продолжали лежать на мостовой, на тротуарах, на лужайках возле домов. Теперь, когда он погрузился в мир ужаса и уродства, он не мог поверить, что был настолько глуп, что провел несколько лет бесценной жизни в апатии, не был способен оценить всю красоту мира. Иными словами, он оказался круглым дураком. Скоро рассветет, настанет новый день, и он уже не пройдет равнодушно мимо красивого цветка, теперь он сумеет увидеть его красоту, чудо Божьего творения, которое никогда не удастся превзойти человеку, как бы он ни старался. — А теперь скажешь? — прервала его мысли Тесса. Они уже подъезжали к дому Гарри. — О чем ты? — Скажешь, что ты видел там? После смерти. Что ты видел там, на том свете, что тебя так сильно напугало? Сэм нервно рассмеялся. — Я был просто идиотом. — Возможно, — сказала Тесса. — Скажи, и я уж решу сама. — Ну, это трудно будет объяснить словами. Это ведь больше было похоже на какое-то озарение, чем на видение, я увидел это скорее душой, чем глазами. — Итак, что это было за озарение? — Я понял тогда, что с уходом из жизни наша жизнь не кончается, — сказал Сэм. — Там начинается для нас либо жизнь в ином измерении, мы проживаем их одну за другой, и жизням этим нет конца… либо мы заново появляемся на свет в нашем мире, но уже в образе другого человека. Я не знаю, как это объяснить, но это понимание озарило всю мою душу, я понял все это, когда достиг конца тоннеля и увидел сверкающий свет. Тесса взглянула на него. — И это тебя напугало до смерти? — Да. — То, что мы живем вечно? — Да. Потому что я в тот момент воспринимал жизнь в сером цвете. Видишь ли, для меня она вся была лишь цепью трагедий, непроходящим ощущением боли. Я к тому времени потерял способность ценить красоту этой жизни, поэтому мне совсем не хотелось умирать и начинать все сначала, по крайней мере, мне не хотелось приступать к новой жизни раньше времени. Ведь в этой жизни я уже успел закалиться, притерпеться к боли, и, по моему мнению, это было лучше, чем начинать все сначала, снова быть ребенком и страдать, страдать. — Стало быть, четвертым смыслом бытия был вовсе не страх смерти? — Получается так. — Это был страх перед новой жизнью? — Да. — А теперь? Сэм задумался. Крисси еще плотнее прижалась к нему. Он провел рукой по ее мокрым волосам. Наконец он произнес: — Теперь мне чертовски хочется жить снова и снова.Глава 129
Гарри услышал внизу какой-то шум — сначала гул подъемника, затем шаги в спальне на третьем этаже. Он напрягся, предвидя, что на второе чудо за сегодняшнюю ночь ему рассчитывать уже не придется, и тут услышал голос Сэма. Сэм был, вероятно, в кладовой. — Я здесь, Сэм. Живой. Все в порядке. Через несколько секунд Сэм был уже на чердаке. — Как Тесса? Крисси? — встревоженно спросил Гарри. — Они остались внизу. С ними все нормально. — Слава Богу. — Гарри глубоко вздохнул, словно только что освободился от веревок, стягивавших его грудь и мешавших дышать. — Поглядите-ка на этих чудищ, Сэм. — Глаза б мои на них не глядели. — Может быть, Крисси была права, когда говорила о нашествии инопланетян. — Нет, тут что-то более замысловатое, — заметил Сэм. — Что же? — спросил Гарри у Сэма, который в этот момент нагнулся к ногам Гарри и стащил с них уродливое мертвое тело доктора Уорфи. — Разрази меня гром, если я знаю, — ответил Сэм. — Я даже не уверен, что мне хочется узнать всю правду. — Мы ведь, кажется, вступаем в такую эпоху, когда люди начинают сами создавать новую реальность. Наука дает нам понемногу все больше и больше возможностей для этого. Раньше считалось, что это полное сумасшествие. Сэм промолчал. Гарри продолжал развивать свою мысль: — Возможно, создавать что-то новое человеку не стоит. Возможно, обычный порядок вещей — это наилучший вариант из всех возможных. — Трудно сказать. Ведь если смотреть с другой стороны, то существующий порядок вещей тоже требует постоянных изменений, улучшений. Я думаю, пытаться изменить его все-таки стоит. Нам только следует молить Бога, чтобы во главе этих процессов не оказался человек, подобный Шаддэку. С вами все в порядке, Гарри? — Да, спасибо, все хорошо, — Гарри усмехнулся, — за исключением, конечно, того печального факта, что я как был, так и остался инвалидом. Видите то уродливое существо, которое было недавно доктором Уорфи? Оно уже схватило меня за горло и собиралось перегрызть его, как вдруг что-то произошло, и оно упало замертво. Раз, и нет его. Разве это не чудо? — Это чудо произошло не только здесь, что-то случилось во всем городе, — объяснил Сэм. — Такое впечатление, что все эти уроды подохли именно в тот момент, когда умер Шаддэк… это каким-то образом связано между собой. Ну, давайте потихонечку спускаться вниз, подальше от этих ужасов. — Сэм, они убили Муза. — Черта с два. Вы думаете, с кем там сейчас возятся Тесса и Крисси? Гарри не верил своим ушам. — Но я же слышал… — Похоже, что кто-то из них ударил его ногой в голову. У него на морде большой кровоподтек и кожа содрана. Возможно, на какое-то время пес потерял сознание, но, слава Богу, кажется, обошлось без сотрясения мозга.Глава 130
Крисси ехала в багажном отсеке большого черного автомобиля вместе с Гарри и Музом. Гарри обнял ее своей здоровой рукой, а Муз пристроил голову ей на колени. Понемногу Крисси начинала приходить в себя. Конечно, она уже не была такой, какой была когда-то, и, возможно, возврата назад, к прежней Крисси, уже не будет никогда, но все-таки ей стало сейчас лучше. Она ехала к парку, который начинался у подножия Оушн-авеню, в восточной части города. Тесса въехала прямо на газон и здесь остановила машину. Сэм открыл заднюю дверь машины так, чтобы Гарри и Крисси могли, сидя на одеялах, следить за тем, что они с Тессой будут делать. Сэм сразу же отправился на близлежащие улицы. На них он осматривал стоящие тут и там машины и заводил их. Он и Тесса затем перегоняли их в парк и ставили так, чтобы получился большой круг. Моторы они не глушили, у каждой из машин были включены фары. Сэм объяснил, что подмога прибудет на вертолетах, и такой освещенный круг будет для них идеальной посадочной площадкой даже при сильном тумане. Фары двадцати машин действительно светили настолько ярко, что внутри круга было светло почти как днем. Крисси стало совсем легко от этого света. Еще до того, как посадочная площадка была окончательно готова, на окрестных улицах начали появляться люди. Их было совсем немного, и в их образе не было ничего необычного — ни клыков, ни когтей, ни жал, как у насекомых. Они двигались прямо, не сгибаясь, — все у них было в норме, судя по их внешности. Но Крисси уже научилась тому, что нельзя полностью полагаться на внешность человека, когда хочешь составить о нем суждение. Внутри, в душе, под оболочкой может быть все, что угодно, даже такое, что может поразить видавших виды издателей журнала «Нэшнл инкуайрер». Даже собственным родителям не всегда можно доверять. Но вот про последнее Крисси старалась не думать. Она не осмеливалась думать о том, что стало с ее родителями. Она понимала, что та слабая надежда, которую она лелеяла в душе, была самообманом, но все равно изо всех сил цеплялась за нее. Люди, бродившие сначала вдалеке, постепенно начали приближаться к парку, в котором Сэм и Тесса уже заканчивали последние приготовления. На лицах этих людей была написана полная растерянность. Чем ближе они подходили, тем больше росла тревога в душе Крисси. — Они совершенно безобидны, — успокаивал Гарри девочку, гладя ее по голове своей здоровой рукой. — Разве можно быть в этом уверенным? — Ты же видишь, они дрожат от страха, того гляди нало… О, прости, я бы не хотел, чтобы ты училась таким выражениям. — Наложить в штаны — это вполне литературно, — успокоила его Крисси. Муз заскулил и заерзал у нее на коленях. Возможно, он испытывал такую же боль, какую испытывают каратисты, разбивающие кирпичи собственной головой. — Ну да, — продолжал Гарри. — Они же испуганы до смерти, почти так же, как недавно были напуганы мы сами. И потом — ты когда-нибудь видела, чтобы эти уродливые чудовища кого-то боялись? Крисси подумала и сказала: — Да, видела. Например, тот полицейский, который застрелил мистера Шаддэка в школе. Он был очень напуган. У него в глазах был такой страх, какого я, пожалуй, никогда в своей жизни ни у кого не видела. — Все же это совершенно безобидные люди, скажу я тебе, — Гарри продолжал успокаивать Крисси, по мере того как люди подходили все ближе. — Это наверняка те люди, которых собирались обратить до полуночи, но не успели. Наверняка кое-кто еще забаррикадировался в домах и боится выходить на улицу. Они, вероятно, думают, что мир сошел с ума, что в город ворвались инопланетяне, как и ты совсем недавно думала. Кроме того, если бы они были «призраками», они бы не стали вести себя так застенчиво. Они бы уже давно набросились на нас и отъели бы у нас носы или еще какие-нибудь лакомые части тела. Эти разъяснения немного успокоили Крисси и даже заставили ее слегка улыбнуться. Но секундой позже Муз вдруг резко вскинул голову, зарычал и попытался встать на ноги. Люди, окружившие автомобиль, вскрикнули в один голос, и Крисси услышала голос Сэма: — Что за чертовщина? Тогда она отбросила одеяла, в которые была закутана, и вылезла из машины. Гарри, встревоженный, все спрашивал: — Что там? Что-то случилось? Сначала Крисси не могла понять, что вызвало такую панику, но потом она увидела животных. Они мчались через парк — там были полчища мышей, несколько огромных крыс, с десяток разномастных кошек, дюжина собак и примерно полдюжины белок, вероятно, только что соскочивших с деревьев. Еще большее количество мышей и крыс вылезло из водостока на соседней с парком улице. Вся эта орда катилась через парк по направлению к шоссе, ведущему из города. Крисси вспомнила, что когда-то читала о чем-то подобном — это был рассказ о леммингах. Время от времени количество леммингов в определенном районе становится слишком большим, и тогда животные бегут сломя голову прямо к побережью моря, бросаются в воду и тонут. Эти бегущие по парку животные явно напоминали леммингов, они бежали, не видя ничего перед собой, кроме какой-то призрачной цели. Муз выпрыгнул из машины и присоединился к бегущим животным. — Муз, стоять! — закричала Крисси. Муз словно споткнулся о летящий вслед ему крик девочки. Он повернул морду, затем снова вытянул ее по направлению к шоссе, как будто там находилось что-то неумолимо притягивающее его. Он снова побежал вслед за стаей. — Муз! Муз снова споткнулся на бегу, на этот раз он даже упал, но сразу поднялся и бросился вперед. Каким-то шестым чувством Крисси поняла, что она была права в своей догадке про леммингов, эти животные также стремились навстречу своей гибели, правда, они бежали в другую сторону, удаляясь от моря, они бежали к какой-то иной, но более страшной смерти, и эта смерть была наверняка связана со всеми другими ужасами, происходящими в последнее время в городе. Если она сейчас не остановит Муза, то не увидит его больше никогда. Собака убегала все дальше. Крисси устремилась вслед за ней. Она была на пределе своих сил, измотана, каждое движение давалось с огромным трудом, кроме того, ее сковывал страх, но она продолжала бежать вслед за собакой, так как никто, кроме нее, судя по всему, не понимал, что ньюфаундленд несется навстречу своей гибели. Ни Сэм, ни Тесса, несмотря на то что они были великолепными друзьями, не понимали этого. Они продолжали стоять на месте, разинув рты от удивления. Поэтому Крисси вовсю работала ногами, воображая себя Самой Юной Чемпионкой в марафонском беге. (Она бежит, а с трибун доносится: «Крисси! Крисси! Крисси!») На бегу она не переставала кричать Музу, чтобы тот остановился, так как каждый раз, когда он слышал ее голос, то сбивался с темпа, спотыкался, и дистанция между ними понемногу сокращалась. Они уже миновали парк, и Крисси едва не свалилась в ров, шедший вдоль шоссе. Но вот наконец Муз оказался совсем близко, Крисси бросилась на него, схватила его за ошейник. Он слегка зарычал на нее, она с укоризной сказала ему: «Ну что ты, Муз!» Он даже попытался один раз укусить ее, но вовремя одумался. Правда, поводок пес все время натягивал до предела. Крисси держала его изо всех сил, но он все же протянул ее несколько футов по шоссе, а когда ей удалось развернуть его к парку, то пес время от времени упирался так, что когти скрежетали об асфальт. Муз явно стремился последовать за стадом разных животных, устремляющихся куда-то по шоссе. К тому времени, как Муз наконец позволил отвести себя обратно в парк, к Крисси присоединились Сэм и Тесса. — Что происходит? — спросил Сэм. — Они все спешат навстречу своей гибели, — объяснила Крисси. — Я же не могла позволить Музу погибнуть вместе с ними. — Навстречу гибели? Откуда ты знаешь? — Я чувствую. А разве… могут быть другие причины? Они стояли во мраке и тумане на шоссе, наблюдая, как в ночи исчезают нескончаемые вереницы мелких грызунов. Тесса промолвила: — Действительно, разве могут быть другие причины?Глава 131
Туман постепенно рассеивался, но видимость была еще плохой — не больше четверти мили. Стоя вместе с Тессой в середине круга, около десяти часов Сэм услышал рокот вертолетных двигателей, еще до того, как стали видны бортовые огни. Туманная дымка искажала все звуки, и трудно было сказать, с какой стороны подлетают вертолеты, но Сэм предполагал, что они будут двигаться с юга, вдоль побережья, причем над морем, так как в этом случае нет опасности наткнуться в тумане на скалы. На вертолетах было установлено современное навигационное оборудование, они могли лететь при полном отсутствии видимости. У пилотов наверняка имелись приборы ночного видения, так что они запросто смогут увидеть все, что происходит внизу, с высоты футов в пятьсот. Так как ФБР работало в тесном взаимодействии с армией, особенно с морской пехотой, то Сэм довольно хорошо представлял, как будут развертываться события. Наверняка будет задействована разведка морской пехоты с обычным набором средств для подобных операций: один вертолет СН-46 с группой захвата из двенадцати человек — они обычно набирались из спецподразделений морской пехоты; их будут сопровождать две «Кобры». Тесса крутила головой во все стороны и спрашивала: — Где они? Я их не вижу. — Ты их и не увидишь, — объяснил Сэм, — до того момента, пока они не зависнут прямо над нами. — Они что — летят без огней? — Нет, у них есть специальные ультрафиолетовые бортовые огни, их почти невозможно заметить с земли, затопилоты видят в их свете с помощью приборов ночного видения все как на ладони. Если бы речь шла об угрозе со стороны террористов, то СН-46, который официально называли «Морским рыцарем», а за глаза — «Лягушкой», должен был лететь в сопровождении «Кобр» куда-нибудь на северную окраину города. Три отделения разведки, по четыре человека в каждом, должны были бы прочесать город и определиться в ситуации. Но так как в сообщении Сэма не было никакого упоминания о террористах и вообще само оно звучало довольно странно, то силы быстрого реагирования стали действовать по упрощенному варианту. Вертолеты кружили сначала над городом, время от времени опускаясь на высоту двадцати-тридцати футов от верхушек деревьев. Порой можно было различить в ночном небе их необычные сине-зеленые огни, но ни их размера, ни формы нельзя было разобрать; благодаря фибергласовым стеклам вертолеты казались спускающимися аппаратами пришельцев из какого-то иного мира. В конце концов вертолеты стали кружить над круглой площадкой. Они не стали снижаться сразу же. Мощные лопасти слегка разогнали туман, а прожекторы высветили и людей, окруживших со всех сторон посадочный круг, и уродливые тела, усеивающие окрестные улицы. «Кобры» остались в воздухе, а СН-46 мягко приземлился прямо в середину освещенного круга. Люди, высыпавшие из вертолета, больше напоминали космонавтов, а не морских пехотинцев, так как, исходя из сообщения Сэма, были готовы действовать в обстановке, сложившейся после применения биологического оружия. Лейтенант Росс Далгуд, лицо которого под стеклянным забралом скафандра казалось чересчур уж ребяческим, подошел прямо к Тессе и Сэму, назвал свое звание и фамилию и приветствовал Сэма также по фамилии — вероятно, ему показали его фотографию, перед тем как они вылетели на задание. — Так что здесь, биологическая катастрофа, агент Букер? — Не думаю, — ответил Сэм. Лопасти вертолета к этому моменту перестали оглушительно свистеть и теперь громко шелестели над ними. — Так вы не знаете, что здесь произошло? — Не знаю, — признался Сэм. — Наша группа — это только первый эшелон, — пояснил Далгуд. — Остальные идут за нами, здесь скоро появятся подразделения регулярной армии и ваши коллеги из ФБР. Они двигаются по шоссе и скоро будут здесь. Далгуд, Сэм и Тесса прошли через проход между машинами к одному из трупов, лежащих на тротуаре. — Когда я увидел это с вертолета, то не поверил своим глазам, — поделился лейтенант. — Придется поверить им сейчас, — сказала Тесса. — Что за чертовщина? — воскликнул Далгуд. Сэм ответил коротко: — «Призраки».Глава 132
Тесса очень переживала за Сэма. Без него, втроем, они вернулись в дом Гарри примерно в час ночи, после того как их три раза опросили люди в защитных комбинезонах. Несмотря на пережитый ими ночной кошмар, им удалось заснуть и частично восстановить свои силы. Но Сэму пришлось провести без сна всю ночь. Он не вернулся даже к тому времени, когда они заканчивали завтрак, то есть к одиннадцати часам утра. — Он, наверное, думает, что он семижильный, — сказала Тесса. — А на самом деле это не так. — Ты уж не забывай про него, — сказал Гарри. — Я и не забываю. — Я имею в виду, что ты должна о нем заботиться. — Я?.. Ну, не знаю. — Зато я знаю. — И я тоже знаю, — добавила Крисси. Сэм вернулся только к часу дня, мрачный, с серым от усталости лицом. Тесса приготовила ему постель, и Сэм рухнул в нее, раздевшись только наполовину. Тесса села на стул у кровати и стала смотреть на него спящего. Время от времени Сэм ругался и что-то бормотал во сне. Он произносил ее имя, имя Крисси и несколько раз — имя Скотта. Это выглядело так, как будто он потерял их всех в каком-то диком месте и теперь окликал, стараясь найти. Люди в защитных комбинезонах пришли за ним уже в шесть часов вечера, ему удалось поспать всего пять часов. Он опять ушел на всю ночь. К тому времени все мертвые тела немыслимых существ были собраны с улиц города, запакованы в пластиковые мешки и уложены в холодильные камеры для последующего вскрытия патологоанатомами. Этой ночью Крисси и Тесса легли спать на одной кровати. Они лежали без сна в полумраке, в комнате горел лишь ночник, который они соорудили из обыкновенной настольной лампы, накинув на нее полотенце. Девочка после долгой паузы промолвила: — Их нет. — Кого? — Моих родителей. — Я уверена, они найдутся. — Они умерли. — О, прости, Крисси. — Ну что вы, что вы, вы — такая славная. — Крисси заплакала в объятиях Тессы. Позже, уже засыпая, она проговорила: — Вы же немного разговаривали с Сэмом. Он не сказал, куда бежали те животные вчера вечером? Это… удалось выяснить? — Нет, — ответила Тесса, — пока ничего не понятно. — Меня это почему-то очень беспокоит. — Меня тоже. — Я имею в виду, что чем скорее они это выяснят, тем лучше. — Я тоже так считаю, — согласилась Тесса. — Я тоже имела в виду именно это.Глава 133
К утру четверга группа технических специалистов ФБР с помощью привлеченных консультантов просмотрели большую часть электронных данных по проекту «Лунный ястреб» и пришли к выводу, что данный проект был направлен на осуществление программы контроля над человеческим организмом с помощью вживления в него специальных препаратов. Применение этих методов вызвало глубокие изменения в физиологии жертв эксперимента. Пока еще не было ясно, каким образом все это происходило, почему микросферы могли провоцировать столь кардинальные превращения живых организмов. Было ясно только одно — никакие бактерии, вирусы или другие биологические объекты экспериментаторы не использовали. Речь шла о применении только технических средств. Армейские подразделения, обеспечивающие карантин, продолжали охранять город от нашествия журналистов и любопытных, но уже могли не надевать специальное обмундирование, чему и были несказанно рады. Не меньше радовались этому и те специалисты ФБР и ученые, которые работали в самом городе. Хотя Сэм еще не закончил всех своих дел в городе, он, Тесса и Крисси собирались покинуть Мунлайт-Ков в пятницу утром. По ходатайству властей штата симпатичный судья любезно и без проволочек предоставил Тессе права временного опекунства над Крисси. Все трое зашли попрощаться к Гарри, и вскоре вертолет ФБР унес их из города. Для того чтобы данные исследователей феномена были объективными, в городе была установлена информационная блокада. Сэм осознал, насколько велик интерес прессы к городу, только тогда, когда они пролетали над автомагистралью. Вдоль нее были припаркованы сотни машин, десятки камер устремили свои объективы в небо, когда их вертолет пролетал над дорогой. — На других дорогах вокруг города творится то же самое, — объяснил пилот вертолета, — репортеры спят прямо на земле, чтобы, как они говорят, не прозевать тот момент, когда откроют доступ в город. — Им незачем волноваться, — прокомментировал Сэм. — Для посторонних, в том числе для прессы, город откроют не раньше, чем через несколько недель. Вертолет доставил их в международный аэропорт Сан-Франциско, где их уже ждали билеты на самолет до Лос-Анджелеса. В аэропорту Сэм успел заметить несколько броских заголовков на газетных стендах:ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ПРИЧИНА ТРАГЕДИИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. СУПЕРКОМПЬЮТЕР СОШЕЛ С УМА.Все это было, конечно, полной чепухой. Суперкомпьютер «Новой волны» вовсе не был системой искусственного интеллекта. Пока такой системы не было создано нигде на земле, несмотря на то, что тысячи ученых боролись за право первыми создать искусственный, думающий мозг. Суперкомпьютер вовсе не сошел с ума, он просто обслуживал определенные программы, как и всякий обычный компьютер. Перефразируя Шекспира, Сэм подумал: «Ошибки кроются не в технологиях, а в нас самих». В эти дни, однако, многие проклинали творцов новой компьютерной техники — точно так же, как столетия назад представители менее развитых культур проклинали пророков новых религий. Тесса обратила внимание Сэма на другой заголовок:
СЕКРЕТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПЕНТАГОНА — ПРИЧИНА ТАИНСТВЕННОЙ ТРАГЕДИИ.Пентагон был излюбленным «козлом отпущения» в некоторых кругах, его почти обожали за возможность приписать ему все мыслимые и немыслимые грехи, так как точное наименование источника всех зол всегда делало жизнь более простой и легкой для понимания. Для тех, кто предпочитал такой образ мыслей, Пентагон был просто находкой, он был как старый добрый Франкенштейн, пугавший, но зато очень удобный для понимания. Крисси вытащила из кучи газет специальный выпуск самой крупной иллюстрированной газеты, с первой до последней страницы заполненный комиксами о событиях в Мунлайт-Кове. Она показала Тессе и Сэму на центральный заголовок:
ИНОПЛАНЕТЯНЕ ПРИЗЕМЛИЛИСЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КАЛИФОРНИИ. ЧУДОВИЩНЫЕ ЛЮДОЕДЫ НАВОДНИЛИ ГОРОД.Все трое посмотрели друг на друга, а потом дружно рассмеялись. Крисси смеялась впервые после многих мрачных дней. Это был, конечно, смех сквозь слезы, и в нем чувствовалась слишком большая доля иронии для девочки одиннадцати лет, это был, пожалуй, даже меланхолический смех, но главное, что она все же наконец рассмеялась. Услышав этот смех, Сэм почувствовал себя гораздо лучше.
Глава 134
Джоэл Ганович, репортер информационного агентства ЮПИ, вот уже несколько дней кочевал по периметру Мунлайт-Кова, перебираясь от одного дорожного поста к другому. Он приехал сюда уже в среду утром. Ночи он проводил прямо на земле, забираясь в теплый спальный мешок, в качестве туалета использовал окрестные леса, а еду ему приносил безработный столяр из Абердин-Уэлса. Никогда еще ему не доводилось так сильно привязываться к сюжету, о котором нужно было делать репортаж. И непонятно, почему так произошло. Да, конечно, это самое необычайное событие за последнее десятилетие, возможно даже, ничего подобного вообще никогда раньше не случалось, но почему он так глубоко влез в это дело? Он был буквально одержим желанием докопаться до истины. Его собственное поведение было для него загадкой. И он был не единственным журналистом, потерявшим сон из-за событий в этом крохотном городишке. Хотя вся история трагедии в Мунлайт-Кове была подробно изложена для журналистов в ходе четырехчасовой пресс-конференции еще в четверг вечером, хотя репортеры уже не по одному разу опросили те двести человек, которым удалось выжить, им все казалось мало, хотелось еще и еще большего. Ужасная смерть всех жертв эксперимента — а их насчитывалось около трех тысяч, гораздо больше, чем в Джонстауне, — произвела на читателей газет и зрителей телепрограмм такое сильное впечатление, что они были готовы слушать и читать про подробности трагедии бесконечное число раз. К пятнице интерес к теме не только не ослаб, а, наоборот, усилился. Но Джоэл чувствовал, что публику интересует не масштаб трагедии и не ее мрачные подробности. В этой истории было еще нечто, хватающее за душу. Итак, в десять часов утра в пятницу Джоэл сидел на своем скатанном спальном мешке на краю поля, тянущегося вдоль шоссе. Он находился всего в десяти ярдах от северного контрольно-пропускного пункта в Холливел. Джоэл радовался теплому октябрьскому утру и размышлял как раз об удивительной притягательности для людей той истории, которая совсем недавно потрясла этот городок. Он начинал думать, что причина тут скорее не в относительно современной проблеме конфликта человека и машины, а в вечных вопросах о долге и праве, о прогрессе и варварстве, о вере и неверии, разрывающих душу каждого человека. Джоэл продолжал об этом думать и тогда, когда встал и пошел вдоль края поля. Все эти глубокие мысли как-то разом улетучились при ходьбе, и он пошел вперед еще более решительным шагом. Он шел не один. Около сотни других журналистов все, как один, бросили свои занятия и пошли на восток с необычайной решимостью. Не обращая никакого внимания на пересеченную местность, они стали подниматься по холмам к небольшой роще. Те, кто остался на месте и не отправился на неожиданную прогулку, смотрели на уходящих во все глаза, а затем начали окликать их, задавать друг другу недоуменные вопросы. Никто из ушедших и не подумал отозваться на крики. Джоэлом овладело необъяснимое и неодолимое желание пойти в определенном направлении. Там, подсказывал ему внутренний голос, его ждет спокойствие и уверенность, там, в этом месте, не надо будет ни о чем беспокоиться, в том числе и о завтрашнем дне. Он не знал, как будет выглядеть это место, но был уверен, что сразу узнает его, как только увидит. Он стремился вперед, испытывая возбуждение, зов, тягу… Жажда. Белковое тело, находящееся в подвале бывшей колонии «Икар», испытывало жажду. Оно не погибло, когда скончались остальные детища проекта «Лунный ястреб», так как все микросферы внутри организма полностью растворились в кислотах еще тогда, когда существо почувствовало тягу к освобождению от какой-либо формы. Но даже если бы команда на уничтожение была принята, это ничего не изменило бы — у белкового тела отсутствовало сердце. Жажда. Жажда была столь сильной, что заставляла вибрировать, содрогаться все тело существа. Жажда, возведенная в абсолют, стала высшим законом существования. Жажда. Все бесчисленные рты на поверхности аморфного тела были открыты. Существо посылало в окружающий мир сигналы, они были неуловимы для человеческого уха, а предназначены для непосредственного восприятия через мозг. И эти сигналы были услышаны. Скоро странная жажда будет утолена. Полковник Левис Таркер, дежурный офицер армейского штаба, расквартированного в парке у подножия Оушн-авеню, получил срочное сообщение от сержанта Спермонта, ответственного за пропускной пункт на северной окраине города. Спермонт сообщал, что только что лишился нескольких своих людей, которые, покинув посты, ушли в восточном направлении, в одно мгновение превратившись в подобие зомби. С ними вместе на восток подались около сотни журналистов, располагавшихся лагерем рядом с пропускным пунктом. — Что-то происходит, — доложил сержант Таркеру. — Кажется, у этой истории появляется продолжение. Таркер немедленно связался с Ореном Вестремом, представителем ФБР, с которым необходимо было координировать все армейские аспекты операции. — У истории есть, по всей видимости, продолжение, — доложил Таркер Вестрему. — Я полагаю, эти любители прогулок выглядят весьма и весьма странно, у Спермонта не хватило даже слов, чтобы описать их поведение. Я знаю этого сержанта, он хотя и держится молодцом, но напуган страшно. Вестрем, в свою очередь, поднял в воздух специальный вертолет ФБР. Он коротко обрисовал ситуацию пилоту вертолета Джиму Лоббоу и добавил: — Спермонт хочет попытаться с помощью своих оставшихся людей задержать этих сумасшедших. Попробуйте разузнать, куда их черт понес и зачем. Если будет необходимость, помогите этим людям с воздуха. — Все будет сделано, — заверил Лоббоу. — Вы давно заправлялись горючим? — Баки полны до краев. — Отлично. Джим Лоббоу ничего на свете так не любил, как летать пилотом на своем вертолете. Он был женат три раза, и все три брака закончились разводом. Любовниц у него было столько, что можно сбиться со счета, но даже связь, не отягощенная узами супружества, не устраивала его. У него был сын от второго брака. Джим видел его раза три в год, и то не больше чем в течение одного дня. Сам он и вся его семья были католиками, но религия тоже не могла притянуть душу пилота. Воскресной мессе он всегда предпочитал сон, так как другой возможности выспаться не было. Он несколько раз пробовал себя в качестве предпринимателя, но все его задумки были заранее обречены на провал, при одной мысли о многочасовой беготне по делам у него опускались руки. Зато в качестве пилота вертолета ему не было равных. Он мог взлететь в любую погоду, и не было такой площадки, на которую он не смог бы приземлиться. По приказу Вестрема он направил свой вертолет прямо к шоссе на северной окраине города. В мгновение ока он оказался над пропускным пунктом, который находился всего в миле с небольшим от парка, где была стоянка вертолетов. Он сразу заметил, что солдаты у пропускного пункта машут руками в восточном направлении, в сторону холмов. Лоббоу направил машину в указанную сторону и вскоре уже летел над головами людей, торопливо карабкающихся на покрытые густым кустарником холмы. Они шли напролом, и в их неудержимом стремлении вперед проглядывало безумие. Выглядело это все как сцена из фантастического фильма. Джим почувствовал, как у него зашумело в голове. Сначала он подумал, что возникла неисправность в наушниках. Он снял их. Шум не исчез. Джим понял в какой-то момент, что это вовсе и не шум, а просто странное ощущение. — И как прикажете это понимать? — спросил Джим у самого себя. Он попытался сбросить с себя наваждение. Люди внизу тем временем начали поворачивать на юго-восток, он полетел туда же, опережая их, пытаясь отыскать какую-то точку на местности, к которой они могли стремиться. Он увидел ее в то же мгновение. Это был полуразрушенный дом в викторианском стиле, рядом находились руины большого амбара и прочие, никуда уже не годные постройки. Это забытое Богом место почему-то влекло его к себе. Он сделал над ним один круг, затем второй. Вдруг в его голове неизвестно откуда возникла мысль, что в этой старой развалине он может наконец обрести свое счастье, свободу, здесь ему не надо будет ни о чем беспокоиться, не надо будет думать о своих неудавшихся браках, о деньгах на содержание сына. Через холмы к дому уже приближались люди, их было больше сотни, они уже не шли, а бежали, спотыкаясь, но не останавливаясь ни на минуту. Джим понимал теперь, почему они спешат сюда. Он кружил над старой развалюхой и все сильнее убеждался, что нет на земле места более желанного, чем это, именно здесь он найдет утешение от всех жизненных невзгод. Он страстно желал этой свободы, он никогда в жизни не испытывал такого сильного желания. Джим поднял свой вертолет вверх и затем бросил его по спирали вниз, к дому, к волшебному дому, ведь он должен был попасть туда, непременно должен был. Поэтому он направил свой вертолет прямо на крыльцо, туда, где на съеденных ржавчиной петлях болталась входная дверь, ему нужно было туда, за эти стены, прямо в сердце этого дома, он бросил свой вертолет в сердцевину… Жажда! Бесчисленные ротовые отверстия бесформенного существа пели песнь жажды, и существо знало, что эта жажда вскоре будет утолена. В предвкушении этого момента тело существа содрогалось от возбуждения. Затем откуда-то сверху к этим судорогам добавилась вибрация, страшная вибрация. Затем жара. Существо никак не отреагировало на этот жар, так как не имело ни нервных окончаний, ни сложных систем реагирования на боль. Этот жар не имел для существа никакого значения, за исключением того, что этот жар не был пищей и не мог утолить жажду. Сгорая в этом пекле, корчась в нем, существо еще пыталось допеть свою песню о жажде, но ревущее пламя уже поглотило бесчисленные ротовые отверстия, и вскоре существо затихло навсегда. Джоэл Ганович очнулся и обнаружил, что находится в двухстах футах от разрушенного дома, из которого вырываются языки пламени. Пожар был в самом разгаре, пламя поднималось на сто футов в небо, вместе с ним вверх ползли клубы черного дыма. Стены дома, сгорая, рушились вовнутрь, дом словно уничтожал сам себя. Нестерпимый жар опалил лицо Джоэла, заставил его отбежать назад, хотя он и находился на порядочном расстоянии от дома. Удивительно было, как это небольшое деревянное строение могло дать столько пищи для огня. Он посмотрел на свои руки. Они были исцарапаны в кровь. Брюки были разорваны на правом колене, а в спортивных туфлях хлюпала жидкая грязь. Джоэл огляделся вокруг и, к своему изумлению, обнаружил, что возле него стоят еще десятки людей в таком же плачевном виде, как и у него самого. Он решительно не помнил, чтобы кто-нибудь уговорил его принять участие в массовом забеге по пересеченной местности. Дом между тем продолжал гореть, и в этом не было никаких сомнений. Если от него что-нибудь и останется, так это подвал, полный горячих углей и пепла. Джоэл поморщился и потер лоб. Что-то случилось с ним. Что-то… Он же был репортером, а все репортеры страшно любопытны. Что-то случилось, и он должен выяснить, что именно. Случилось что-то неприятное. Очень неприятное. Но, слава Богу, все это позади. Джоэл почувствовал озноб.Глава 135
Когда они вошли в дом Сэма в Шерман-Оаксе, то первым делом услышали, как на втором этаже, сотрясая стекла, на всю мощь ревет музыка. Сэм стал пониматься по лестнице, приглашая Тессу и Крисси следовать за ним. Они чувствовали себя неловко, но Сэм очень хотел, чтобы они присутствовали при его разговоре с сыном. Дверь в комнату Скотта была открыта. Парень лежал на кровати в черных джинсах и в джинсовой куртке. Ноги он положил на подушки, очевидно, так ему было удобнее любоваться на плакаты, развешанные над изголовьем кровати. На плакатах были изображены исключительно «звезды» «тяжелого металла», у некоторых из них руки были по локоть в крови, они были одеты в черную кожу и увешаны цепями. Они походили на вампиров, только что напившихся человеческой крови, один из вампиров держал в ладонях нечто, напоминающее белых отвратительных личинок. Скотт не слышал, что кто-то вошел. Он, пожалуй, не услышал бы и взрыва бомбы, разорвись она в соседней ванной комнате. Он не слышал ничего, кроме своей музыки. Сэм сначала замешкался, не зная, правильно ли он поступает. Он вслушался в слова песни, еле слышные за громкой музыкой. Оказалось, что певец советовал своим слушателям убить родителей, выпить из них кровь, а потом «сжечь все к чертовой матери». «Отличная песня, — подумал Сэм. — То, что надо». Он наконец решился. Нажал на клавишу и выключил проигрыватель компакт-дисков на середине песни. Уязвленный, Скотт так и подпрыгнул на кровати. — Эй! Сэм достал компакт-диск из проигрывателя, бросил его на пол и растоптал. — Эй, ты сбрендил, что ли? На полках открытого шкафа было расставлено около полусотни компакт-дисков. Сэм рукой смахнул их на пол. — Эй, кончай шутить, — взвился Скотт, — ты что делаешь? — То, что собирался сделать уже давно. Скотт в этот момент заметил Тессу и Крисси, стоявших у двери. — Черт, а это еще кто такие? — Это мои друзья, черт. Сознательно вводя себя в раж, Скотт вскочил с кровати и заорал: — Какого дьявола им здесь нужно? Сэм рассмеялся. Он чувствовал почти что радость от того, что делает, от того, что он наконец понял, в чем состоит его долг перед сыном. Он ответил: — Такого дьявола — они пришли сюда вместе со мной. — И снова рассмеялся. Сэм сначала пожалел, что заставил Крисси смотреть на это зрелище, но потом, взглянув на девочку, заметил, что она не только не смущена, а, наоборот, хихикает. Он понял, что никакие ругательства и сцены ссор не могут ее удивить после того, что она пережила. После всего, что они видели в Мунлайт-Кове, подростковый нигилизм Скотта выглядел просто смешным и даже отчасти невинным увлечением. Сэм забрался на кровать и начал срывать со стены плакаты. Скотт заорал на него во всю глотку. Покончив с плакатами на этой стене, Сэм спрыгнул на пол и направился к противоположной. Скотт попытался его удержать. Сэм осторожно отодвинул сына в сторону и продолжил начатое дело. Скотт ударил его сзади. Сэм никак не отреагировал на удар, только оглянулся. Лицо Скотта пылало, ноздри раздувались, в глазах сверкала ненависть. Сэм улыбнулся и обхватил сына обеими руками. Поначалу Скотт даже не понял, что произошло. Он подумал, что отец хочет схватить его, чтобы наказать, поэтому начал изо всех сил вырываться. Но внезапно его осенило — Сэм буквально прочитал это на его лице, — что отец просто обнимает его. Да-да, его чертов старик обнимается с ним, да еще делает это в присутствии посторонних. Когда парень понял это, он начал вырываться уже всерьез, он крутился и извивался, отталкивая Сэма. Такой дружеский жест просто никак не укладывался в его представление о мире, как о джунглях, где хищники убивают друг друга. Еще в меньшей степени он был готов сделать ответный жест. «Да, именно в этом дело, — подумал Сэм, — именно в этом причина отчуждения сына. Скотт просто боится ответить на чью-то любовь, он боится, что его обманут… или он опасается, что это чувство повлечет за собой слишком большую ответственность». На одно мгновение парень даже ответил на его объятия. На одно мгновение он превратился в прежнего Скотта, он сбросил с себя панцирь цинизма и неведения. Что-то доброе осталось, видно, в его душе, что-то такое, что могло его спасти. Но сразу же после этого Скотт вновь принялся ругать отца на чем свет стоит. Сэм в ответ на ругательства прижал сына к себе еще крепче и начал говорить ему, как он любит его, как он его отчаянно любит. Он говорил об этом совсем по-другому, не так, как тогда по телефону, когда его самого мучила безысходность. Теперь он видел выход, и поэтому голос его то и дело срывался от волнения, он повторял свои слова вновь и вновь, он требовал, чтобы его обращение было услышано. На глазах у Скотта появились слезы, Сэма не удивило, что сам он тоже начал плакать. Наверное, плакали они по разным причинам, так как Скотт продолжал вырываться, хотя и не так активно, как раньше. Сэм удерживал сына в своих объятиях и говорил ему: — Послушай, сынок, ты ведь все равно начнешь рано или поздно заботиться обо мне. Да-да, так и будет. Ты поймешь, что я тоже забочусь о тебе, и будешь отвечать заботой на заботу, причем не только по отношению ко мне. Ты будешь заботиться о себе, но и не только о себе, ты почувствуешь, что ты к этому способен, что забота о других людях может приносить необычайное удовольствие. Ты будешь заботиться о той женщине, которая сейчас стоит в дверях, о той девочке, которая стоит рядом с ней. Ты научишься заботиться о ней, как о родной сестре. Ты сможешь избавиться от адской машины, которая мучает тебя изнутри, и научишься любить и быть любимым. К нам приедет один человек, у него всего одна здоровая рука и парализованные ноги, но он верит, что жизнь — стоящая штука. Может быть, он согласится пожить у нас немного, ты приглядись к нему, попробуй сам понять, почему он такой, почему он так любит жизнь. Может быть, он объяснит это тебе лучше и понятней, чем я. У этого человека есть собака, что за собака, скажу я тебе, она тебе очень понравится, уверяю тебя, уж собака-то точно тебе понравится. — Сэм засмеялся и сильнее обнял Скотта. — Уж собаке ты не скажешь: «Отвяжись от меня», она этого не поймет, а если поймет, то ты не дождешься от нее ни послушания, ни любви. Так что тебе поневоле придется сделать первый шаг и стать внимательней к ней. Может быть, потом ты станешь внимательней ко мне, полюбишь и меня, потому что в общем-то мы с этим псом похожи — я буду для тебя улыбчивым старым псом, мешающимся под ногами, требующим к себе внимания существом, которое просто стыдно обижать. Скотт перестал вырываться. Может быть, он просто выдохся, устал. Сэм вовсе не был уверен в том, что ему удалось укротить ярость, клокотавшую в его сыне. Наверное, он сделал всего лишь первый, маленький шаг. Когда-то Сэм допустил, чтобы в их жизнь просочилось зло, зло безысходности и отчаяния, затем он заразил этим злом своего сына, и теперь вырвать это зло с корнем будет нелегким делом. Им предстоят долгие месяцы борьбы с этим злом, может быть, это растянется даже на целые годы. Надо только крепче сжимать сына в объятиях и не отпускать его. Сэм посмотрел через плечо Скотта и увидел, что Тесса и Крисси переступили порог комнаты. В их глазах, на которых тоже выступили слезы, он увидел такое нужное ему сейчас понимание и готовность к долгой борьбе за спасение Скотта. Самое главное, что борьба началась. И это здорово.
НЕХОРОШЕЕ МЕСТО (роман)
Всяк виденья свои созерцает, Всяк расслышит особенный гимн, Душу всякого отягощает Грех несходный, грех, чуждый другим. Злое сонмище там разгулялось — Бесов злее не знает и ад. Но любовь, благостыня и жалость Также в душах заблудших гостят.Книга Печалей
Совершенно фантастическое дело расследуют частные детективы — супруги Бобби и Джулия Дакота. Кровавый вурдалак — двуполый маньяк, наделенный сверхъестественной способностью к телепортации и излучению разрушительной биоэнергии, преследует своего брата, чтобы расквитаться с ним за убийство их матери-ведьмы. Удастся ли им вычислить и уничтожить убийцу, сеющего смерть и разрушения на своем пути?
Глава 1
Стояла удивительно тихая, мертвая ночь. Переулок походил на пустынный безветренный берег, на который пришелся «глаз» торнадо: один ураган миновал, другой еще не начинался. В неподвижном воздухе висел легкий запах гари, но дыма нигде не было видно. Фрэнк Поллард очнулся. Он лежал ничком на холодном тротуаре, раскинув руки. Вставать не спешил: надо сперва разобраться, что с ним. Прищурился. Перед глазами колыхалось густое марево. Он глубоко вздохнул и поморщился от едкого запаха гари. Вокруг сгрудились тени — бесформенные, словно фигуры в балахонах. Постепенно марево перед глазами растаяло, но в тусклом желтоватом свете, падавшем сзади, Фрэнк ничего толком не разглядел. Даже большой мусорный бак неподалеку при этом сумеречном освещении сперва показался ему каким-то фантастическим сооружением, словно обломком неведомой цивилизации. Где он? Как он сюда попал? Ведь он потерял сознание лишь на несколько секунд — сердце колотилось, как будто он только что мчался, спасаясь от погони. Ветер и светлячки… Эти слова на миг вспыхнули в его мозгу. Фрэнк не понял, к чему они относятся. Он попытался собраться с мыслями, но в голове заворочалась тупая боль. Болело над правым глазом. Ветер и светлячки… Фрэнк тихо застонал. Из толпы теней между ним и мусорным баком выпрыгнула одна, гибкая и юркая. Маленькие, но яркие зеленые глазки взглянули на него с ледяным любопытством. Фрэнк в испуге вскочил на колени. Из груди вырвался сдавленный крик — будто глухо всхлипнул музыкальный инструмент. Зеленоглазый соглядатай прыснул в сторону. Кот. Самый обыкновенный черный кот. Фрэнк с трудом встал, но тут же споткнулся о какой-то предмет и чуть не упал. Нагнувшись, он осторожно потрогал то, что попало ему под ноги. Это была сумка из мягкой кожи, набитая до отказа и очень увесистая. Похоже это его багаж. Его или не его? Фрэнк взял сумку, добрел до мусорного бака и прислонился к ржавому металлу. Тут он огляделся. По сторонам переулка тянулись оштукатуренные жилые дома в два этажа. Во всех окнах темно. Машины жильцов расположились на крытых стоянках. На углу квартала горел фонарь. От него и разливалось это зловещее и загадочное желтое сияние, больше похожее на свет от газового рожка, чем от электрической лампочки. Фонарь стоял довольно далеко, и осмотреть переулок как следует не удавалось. Фрэнк перевел дух, сердце забилось ровнее. И вдруг его как током ударило: он же ничего про себя не помнит! Знает только, что его зовут Фрэнк Поллард, — и все. Сколько ему лет, где он живет, чем зарабатывает на жизнь, куда и зачем шел — все вылетело из памяти. От этого открытия у него перехватило горло, затем сердце вновь заколотилось, и он с шумом выдохнул воздух. Ветер и светлячки… Что же она значит, эта чертова фраза? Боль над правым глазом расползлась по всему лбу. Фрэнк лихорадочно озирался. Найти бы хоть какую-нибудь зацепку — знакомый предмет или вид, — чтобы вновь обрести себя в этом мире, от которого он так внезапно оказался отринут. Однако все вокруг оставалось чужим и безучастным. Тогда Фрэнк принялся рыться в памяти, отчаянно пытаясь вспомнить хоть что-нибудь о себе, но в памяти поселился мрак еще гуще того, что окутывал ночной переулок. Запах гари постепенно рассеялся. Теперь до Фрэнка долетал слабый, но тошнотворный смрад гниющих отбросов из мусорного бака. В представлении Фрэнка этот смрад связывался со смертью. Мысли о смерти вызвали у него смутное воспоминание, что за ним кто-то — или что-то — гонится и хочет его прикончить. Но кто этот преследователь и зачем ему дался Фрэнк, оставалось только гадать. Казалось, про погоню подсказал ему инстинкт, а не память о реальных событиях. Налетел короткий порыв ветра. И снова все стихло. Как будто мертвая ночь захотела раздышаться, ожить, но у нее хватило сил лишь на один судорожный вздох. Скомканный газетный лист прошуршал по мостовой и замер возле правой ноги Фрэнка. Еще один порыв. Газета унеслась прочь. И опять мертвое безмолвие. Что-то неладно. Фрэнку показалось, что эти короткие порывы — предвестие беды: их насылает какая-то темная сила. Он инстинктивно чувствовал, что на него вот-вот обрушится громадная тяжесть и раздавит как муху. Фрэнк поднял голову. В кромешной бездонной темноте зловеще сияли далекие звезды. Нависшая тяжесть была незрима. Ночь снова вздохнула. На этот раз порыв сильнее. Повеяло сыростью. Фрэнк был одет в джинсы и фланелевую рубаху в синюю клетку и с длинными рукавами, на ногах кроссовки и белые спортивные носки. Неплохо бы еще куртку. Фрэнк зябко поежился. И дело не в студеном воздухе — легкий ночной холодок скорее бодрил. Но Фрэнка пронизывал холодом сгустившийся в душе страх. Ветер прекратился. Снова повисла тишина. Надо убираться отсюда, и побыстрее. Фрэнк отлепился от мусорного бака и, спотыкаясь, побрел по переулку. Фонарь остался позади, впереди чернел мрак. Фрэнк и сам не знал, куда идет, главное — подальше от этого опасного места. Лишь бы найти надежное укрытие. Да и есть ли оно, такое укрытие? И опять налетел ветер. Теперь он принес чуть слышный леденящий душу свист, как будто вдалеке кто-то играл на флейте из кости диковинного животного. Еще несколько шагов — и походка Фрэнка выправилась, а глаза привыкли к мутной темноте. Наконец он остановился. Справа и слева виднелись покрытые светлой штукатуркой арки с коваными железными воротами. Фрэнк подошел к левой арке и подергал ворота. Заперты только на задвижку. Он открыл их и вздрогнул от скрипа петель. Не хватало, чтобы этот скрип услышал преследователь. Преследователь не показывался, но Фрэнк точно знал, что за ним гонятся. Это было чутье зайца, который знает, что за ним по пятам бежит лиса. Сзади опять налетел ветер. Как и в прошлый раз, Фрэнк услышал невнятную, путаную мелодию далекой флейты. Она не давала ему покоя, терзала, усиливала страх. За черными железными воротами начиналась дорожка, обсаженная японской таволгой и кустарником. Фрэнк прошел между двух жилых домов и очутился в полутемном дворе. По углам двора тускло светили дежурные лампы. Дома были двухэтажные. Вдоль первого этажа тянулся крытый проход, вдоль второго — балкон с железными перилами, на этот балкон под козырьком, крытым черепицей, выходили двери квартир. Темные окна смотрели на травянистый газон, клумбы азалий, агавы, пальмы. Тени пальмовых листьев распластались на скупо освещенной стене, неподвижные, как орнамент на каменном фризе. Но вот защебетала таинственная флейта, налетел новый, более сильный порыв ветра, и тени пустились в пляс. Расталкивая их, по штукатурке метнулся изломанный черный силуэт. Это Фрэнк стремглав пробежал через двор. Другая дорожка, другие ворота — и он выбрался на другую улицу перед жилым комплексом. На этой улочке фонарей не было. Тут безраздельно царил мрак. На сей раз ветер оказался упорнее и крепче. Когда же он внезапно стих, а с ним вместе оборвался нескладный щебет флейты, осталась только давящая пустота, словно ветер унес последние остатки воздуха. У Фрэнка заложило уши, как при резком перепаде высоты. Он бросился через пустынную улицу к стоящим у обочины автомобилям и только на бегу почувствовал, что с воздухом все-таки ничего не произошло. Лишь четвертая машина оказалась незапертой. Это был «Форд». Фрэнк сел за руль, но дверь не закрыл, чтобы в машине было хоть чуть-чуть светлее. Обернулся и еще раз посмотрел на жилые дома. Дома, погруженные во мрак, спали мертвым сном. Дома как дома. Отчего же их вид вызывает такую тревогу? Вокруг ни души. И все же Фрэнк знал: преследователь близко. Он порылся под щитком управления, вытянул пучок проводов и, соединив пару, завел мотор. Лишь потом он сообразил, что действует, как матерый угонщик: уж не сказывается ли преступное прошлое? Нет, психология не та. Он не чувствует, что нарушил закон, не думает о полиции с ненавистью и страхом. Наоборот, он был бы только рад, если бы поблизости появился полицейский и помог отделаться от преследователя. Нет-нет, какой он преступник! Он — человек, вымотанный долгим бегством от жестокого и неутомимого врага. Фрэнк протянул руку, чтобы закрыть дверь. В ту же секунду возле него темноту разорвала короткая синяя вспышка. Стекла в обеих дверях со стороны водителя разлетелись вдребезги. Крохотные осколки закаленного стекла дождем посыпались на заднее сиденье. Передняя дверь была открыта, поэтому стекла брызнули не на Фрэнка, а на асфальт. Фрэнк резко захлопнул дверь и сквозь пустую раму взглянул на хмурые дома. Никого. Он включил передачу, снял машину с тормоза и изо всех сил нажал на акселератор. Рванув с обочины, он ненароком задел задний бампер стоявшей перед ним машины. В ночи раздался пронзительный скрежет металла. Но невидимый противник снова дал о себе знать. На миг машину снова Озарила синяя вспышка. Ни с того ни с сего по лобовому стеклу разбежались тысячи трещин. Фрэнк отвернулся, крепко зажмурился, чтобы уберечь глаза, и выжал педаль акселератора, не глядя вперед. Лучше попасть в аварию, чем остановиться: преследователь времени терять не станет. Стекло лопнуло. Осколки осыпали голову Фрэнка, но не поранили: по счастью, это было безопасное стекло. Фрэнк чуть-чуть приоткрыл глаза. В лицо бил ветер. Машина проехала уже полквартала. На перекрестке Фрэнк слегка притормозил и резко свернул вправо, на освещенный проспект. Не успел «Форд» выехать на него, как на хромированных поверхностях заиграли сапфировые огни святого Эльма. Задняя покрышка лопнула. Через долю секунды лопнула вторая. Пуля? Но Фрэнк не слышал никакого выстрела. Машина качнулась, ее занесло влево, начало водить. Фрэнк мертвой хваткой вцепился в руль. Передние покрышки лопнули одновременно. Машина снова качнулась, завиляла. Но передние покрышки лопнули очень кстати: автомобиль перестало сносить влево, и Фрэнк сумел совладать с управлением. Но ведь никто же не стрелял! «Что происходит?» — гадал Фрэнк и чувствовал, что знает ответ. В этом-то и весь ужас: Фрэнк действительно знал, что за таинственная сила расправляется с автомобилем. Но разгадка пряталась в самой глубине его подсознания. И еще он знал, что спасти его может только чудо. Новая вспышка. Брызнуло заднее окно. В Фрэнка полетели мелкие, но острые осколки безопасного стекла. Несколько стекляшек угодили в затылок, застряли в волосах. Фрэнк все-таки выбрался на проспект. Машина шла на ободах. Хлопанье рваной резины и скрежет металла по асфальту перекрывали свист встречного ветра. Фрэнк взглянул в зеркало заднего вида. Ночь простиралась вокруг, как безбрежный океан мрака, и в этот мрак, словно морской конвой, уходили два ряда уличных фонарей. После поворота спидометр показывал тридцать миль в час. Фрэнк постарался довести скорость до сорока, но под капотом что-то лязгало и гремело, тарахтело и выло, двигатель чихал. Выжать из такой машины больше тридцати никак невозможно. Едва он проехал полпути до следующего перекрестка, как фары погасли. Лампочки в них не то лопнули, не то перегорели. Ничего, фонарные столбы хоть и далеко друг от друга, но дорогу видно неплохо. Двигатель чихнул раз-другой, «Форд» начал терять скорость. На перекрестке Фрэнк проскочил на красный свет. Он что было сил выжимал педаль акселератора, но все впустую. Теперь отказало управление. Липкими от пота руками Фрэнк крутил руль. Машина не слушалась. Как видно, соскочили шины. Стальные обода, царапая по асфальту, высекали золотые и бирюзовые искры. Ветер и светлячки… Вот привязалась проклятая фраза! Двадцать миль в час. «Форд» несло к правой обочине. Фрэнк ударил по тормозам. Не работают. Машина вылетела на тротуар, звонко чиркнула о фонарный столб и врезалась в огромную финиковую пальму перед белым бунгало. В холодном ночном воздухе раскатился звук удара. В окнах бунгало вспыхнул свет. Фрэнк распахнул дверь машины, схватил с соседнего сиденья кожаную сумку и выскочил из машины, разбрасывая осколки стекла. Прохладный воздух казался обжигающе ледяным. Это потому, что по лбу Фрэнка ручьями тек пот. Даже губы были соленые. Хозяин бунгало открыл дверь и вышел на порог. В соседнем доме тоже зажегся свет. Фрэнк оглянулся. Словно прозрачное облако яркой сапфировой пыли пронеслось по улице. В фонарях на протяжении двух кварталов лопнули лампы, как будто кто-то врубил неимоверное напряжение. Осколки, сверкая, как ледяное крошево, рассыпались по асфальту. В сумраке Фрэнк смутно различил невдалеке высокую фигуру. Незнакомец шел прямо на него. А может, это просто игра воображения? Хозяин бунгало побежал к пальме, в которую уткнулся «Форд». Он что-то говорил, но Фрэнк не стал слушать. Схватив сумку, он бросился наутек. Он не задумывался, от кого убегает, чего так боится, где искать убежища. Главное — бежать. Если он промедлит хоть секунду — ему конец.Глава 2
В заднем отсеке автофургона не было окон. В полумраке светились крохотные разноцветные точки — красные, синие, зеленые, белые индикаторы аппаратуры для электронного наблюдения. Экраны двух дисплеев заливали помещение зеленымполусветом, сидящему в отсеке казалось, что он находится внутри подводной лодки. Роберт Дакота, в бежевых брюках, бордовом свитере и туфлях для спортивной ходьбы, сидел на вращающемся стуле возле двух экранов. Ногой он отбивал ритм, правой рукой самозабвенно дирижировал невидимым оркестром. На Бобби были стереонаушники, возле губ — маленький микрофончик. Он слушал классическую джазовую композицию Каунта Бейси «Джамп в час ночи» — шесть с половиной минут блаженства. Вот пианист Джесс Стейси подхватил рефрен, вот трубач Гарри Джеймс начал свое блистательное соло, за которым следует самый знаменитый финал в истории свинга. Бобби совсем растворился в музыке. Однако при этом он глаз не сводил с дисплеев. Правый был с помощью коротковолновой связи подключен к компьютерной системе корпорации «Декодайн», перед зданием которой и стоял автофургон. На дисплее было видно, чем занимается в этом здании в час ночи Том Расмуссен. А занимался он темными делишками. Дело в том, что Расмуссен добрался до файлов группы по разработке программного обеспечения, создавшей новую, сверхсовершенную программу обработки текстов под названием «Кудесник». Правда, у компьютерной твердыни «Декодайна» тоже были свои разводные мосты, рвы и крепостные валы: файлы «Кудесника» надежно защищены кодами. Но Расмуссен был докой по части защиты данных, взять любой электронный бастион для него плевое дело. Если бы «Кудесник» разрабатывался не на внутренней компьютерной системе «Декодайна», отрезанной от окружающего мира, Расмуссен пробился бы к файлам с помощью модема или телефонной связи. Самое удивительное, что он уже пять недель работал в «Декодайне» ночным сторожем. На работу он устроился по поддельным документам. Фальшивка оказалась очень искусная — сразу не распознать. Сегодня Расмуссену удалось преодолеть последнее препятствие. Еще немного — и он выйдет из здания с пачкой флоппи-дисков, за которые конкуренты охотно выложат кругленькую сумму. «Джамп в час ночи» закончился. — Стоп, музыка, — скомандовал Бобби в микрофон. Получив акустический сигнал, проигрыватель отключился, и теперь Бобби мог переговариваться по той же связи с Джулией, своей женой и компаньоном. — Как ты там, малышка? Джулия вела наблюдение из машины в конце автостоянки за зданием корпорации. Музыку она слушала вместе с мужем. — Тромбон — чудо, — вздохнула она. — Да, Верной Браун на этом концерте в «Карнеги-холл» показал класс. — А как тебе Крупа на ударных? — Нектар для слуха. А уж возбуждает… Так бы и нырнула с тобой в постель. — Мне не до постели. Бессонница. И потом, ты забыла, что мы сейчас частные детективы? — Мне куда больше нравится роль любимой женщины. — А как же хлеб насущный? На одну любовь не проживешь. — Я тебе заплачу. — Ишь ты! И много? — Ну, в пересчете на хлеб насущный… полбатона. — Да я стою целого батона! — Вообще-то, тебе настоящая цена — батон, два рогалика и булочка из отрубей. Бобби любил ее красивый грудной голос, перед которым не устоит ни один мужчина. В наушниках он звучал прямо как ангельское воркование. Живи она в тридцатые-сороковые годы — эпоху биг-бендов, — из нее вышла бы отличная джазовая певица. Конечно, если бы у нее еще был слух. Пританцовывает она что надо, а вот поет так, что уши вянут. Когда, слушая старые записи Маргарет Уайтинг, сестер Эндрюс, Розмари Клуни или Марион Хаттон, Джулия начинала подпевать, Бобби выскакивал из комнаты: он слишком любил музыку. — Что там Расмуссен поделывает? — спросила Джулия. Бобби взглянул на левый дисплей, подключенный к камерам внутреннего наблюдения в здании корпорации. Расмуссен думал, что ему удалось вывести камеры из строя, но он ошибался: за ним следили уже не одну неделю, все его махинации записывались на видеопленку. — Томми торчит у терминала в кабинете Джорджа Аккройда. Аккройд был директором проекта «Кудесник». Бобби перевел взгляд на другой дисплей, подключенный к компьютеру Аккройда, и добавил: — Только что переписал последний файл «Кудесника» на свою дискету. Расмуссен выключил компьютер в кабинете Аккройда. Правый дисплей в отсеке автофургона погас. — Есть, — сказал Бобби. — Теперь «Кудесник» у него в кармане. — Гад ползучий. Вот небось торжествует. Бобби склонился к левому дисплею и внимательно рассматривал черно-белое изображение Расмуссена у компьютера. — Похоже, улыбается, — сообщил он. — Скоро ему будет не до улыбочек. — Хочешь пари? — предложил Бобби. — Как по-твоему, что он станет делать дальше? Дождется конца дежурства и преспокойно уйдет или смоется прямо сейчас? — Сейчас. Или чуть позже. Побоится, что его застукают с флоппи-дисками. А сейчас тишь да гладь. — Пари не получится. Я тоже так думаю. Человек на экране монитора зашевелился, но с кресла не встал. Он только устало откинулся на спинку, зевнул и протер глаза. — Отдыхает. Собирается с силами, — рассказывал Бобби. — Давай-ка еще послушаем музыку, пока он прохлаждается. — И правда, — согласился Бобби и скомандовал: — Музыка. Зазвучала пьеса Глена Миллера «В ударе». В сумрачном кабинете Аккройда Том Расмуссен встал, опять зевнул, потянулся и направился к большому окну, выходившему на Майклсон-драйв — улицу, где стоял автофургон Бобби. Если бы Бобби перебрался в кабину водителя, он бы мог полюбоваться на темный силуэт в окне, за которым стоит настольная лампа. Это Расмуссен смотрел на ночной город. Но Бобби остался на месте: ему и на мониторе все хорошо видно. В наушниках по-прежнему звучала мелодия Глена Миллера. Знаменитое место: оркестр снова и снова повторяет одну и ту же фразу, все тише, тише, почти совсем затихает — и вдруг, грянув во всю мощь, начинает пьесу заново. Расмуссен отвернулся от окна и бросил взгляд на камеру под потолком. Он глядел прямо в глаза Бобби, как будто чувствовал слежку. Ухмыльнувшись, он двинулся к камере. — Стоп, музыка, — сказал Бобби. Оркестр Миллера моментально замолк. — Что он задумал? — удивился Бобби. — Что-нибудь серьезное? — спросила Джулия. Расмуссен с той же ухмылочкой остановился прямо перед камерой. Он достал из кармана листок бумаги, развернул его и поднес к объективу. На бумаге заглавными буквами было напечатано: «ПОКА, ПРИДУРОК». — Да, дело серьезное, — пробормотал Бобби. — Очень? — Что-то не пойму. И тут же понял: да, очень. В ночи загремели выстрелы — Бобби расслышал их даже в наушниках. Стенки фургона были пробиты бронебойными пулями. — Бобби! — крикнула Джулия, услышав в наушниках стрельбу. — Сматывайся, малышка! Гони! — заорал Бобби. Он сорвал наушники, бросился навзничь и вжался в пол.Глава 3
Фрэнк Поллард перебегал от улицы к улице, от переулка к переулку, срезал путь по газонам возле спящих домов. В одном дворе на него бросилась огромная черная собака с желтыми глазами. Она с лаем погналась за ним, а когда он примерился перемахнуть через дощатый забор, ухватила за штанину. Сердце заходилось, в горле першило от сухого холодного воздуха. Ныли ноги. Сумка, точно набитая железом, оттягивала правую руку. Каждый шаг отдавался в запястье и плечевом суставе глухой болью. Но Фрэнк не останавливался, не оборачивался. Он знал, что по пятам следует неутомимое чудовище. Один взгляд назад — и Фрэнк обратится в камень. Он перебежал через улицу, на которой в этот час не было ни одной машины, и припустил по дорожке, ведущей к другому жилому комплексу. Через ворота он влетел во двор, в центре которого находился пустой бассейн со скошенными, потрескавшимися цементными бортиками. Двор не освещался, но глаза Фрэнка уже привыкли к темноте, а то бы он непременно свалился в бассейн. Где же укрыться? Найти бы помещение, в котором жильцы стирают белье. Если взломать замок, можно отсидеться там. Бегство давалось Фрэнку нелегко: он был грузноват и здорово выбился из сил. Ему позарез надо было передохнуть, а заодно собраться с мыслями. Пробегая мимо дома, Фрэнк заметил, что кое-где двери квартир на первом этаже открыты, криво висят на сломанных петлях. Стекла окон выбиты, а те, что уцелели, потрескались; в некоторых зияли дыры. Трава на газонах пожухла, как ветхий пергамент, засохли кустарники, увядшая пальма угрожающе покосилась. Дома были заброшены и ожидали сноса. Фрэнк поднялся по разрушающимся цементным ступеням и очутился в дальнем конце двора. Оглянулся. Человек — или нелюдь, — который его преследовал, все не показывался. Задыхаясь, Фрэнк вскарабкался на балкон второго этажа и принялся искать незапертую квартиру. Наконец он увидел распахнутую дверь. Дверь покоробилась, петли ходили с трудом, но почти без скрипа. Фрэнк проскользнул внутрь и захлопнул дверь. Его обступила смолистая, бездонная темнота. В окна лился мертвенно-серый сумрак, но от этого в комнате не было светлее. Фрэнк напряг слух. Тишина. Такая же бездонная, как мрак квартиры. Фрэнк крадучись двинулся к ближайшему окну, которое выходило на балкон и во двор. В раме торчало лишь несколько острых осколков. Битое стекло хрустело и позвякивало под ногами. Осторожно, стараясь не продрать кроссовки и не шуметь, Фрэнк приблизился к окну. Замер. Опять прислушался. Ни звука. Из-за зубчатых осколков в раме потянуло холодом — словно в квартиру потекло ледяное естество недовоплотившегося призрака. В сумраке изо рта Фрэнка вылетали бледные струи дыхания. Мертвая тишина стояла уже десять секунд. Двадцать. Тридцать. Минуту. Неужели спасся? Фрэнк отвернулся было от окна и тут услышал шаги. В другом конце двора. На дорожке, ведущей с улицы. Жесткие подошвы постукивали по цементу, стук глухим эхом отлетал от оштукатуренных стен. Фрэнк застыл на месте. Он дышал ртом — боялся, что преследователь, чуткий, как рысь, услышит его сопение. Во дворе незнакомец остановился. После долгого затишья опять раздались шаги. Эхо множилось. Понять на слух, куда направляется незнакомец, было теперь трудно. Кажется, медленно идет по кромке бассейна к лестнице, по которой Фрэнк взобрался на второй этаж. Шаги стучали четко, мерно, деловито, как часы, отсчитывающие секунды до назначенного часа, когда стальное лезвие гильотины ухнет вниз.Глава 4
Пули просаживали металлические бока автофургона. От каждого выстрела машина взвизгивала, как живая. Стреляли очередями. Стояла такая неистовая пальба, будто машину обстреливали из двух пулеметов. Бобби Дакота лежал на полу и возносил к небу исступленные молитвы в надежде, что Всевышний обратит на него внимание. Сыпались осколки металла. Экран компьютера разлетелся вдребезги, за ним второй. Индикаторы погасли, и отсек освещался только снопами янтарных, зеленых, багровых и серебристых искр, рассыпавшихся из электронной аппаратуры и кабелей, изувеченных пулями со стальной оболочкой. Битое стекло, щепки, обломки пластмассы, обрывки бумаги носились в воздухе, летели в Бобби. Но страшнее всего был грохот. Бобби казалось, что его заточили в огромную железную бочку и банда ражих громил, очумевших от наркоты, молотит по ней цепями. Бобби так их и видел, этих амбалов с крепкими шеями, шерстистыми бородищами и яркими татуировками на предплечье, изображающими жуткий человеческий череп. Какое там «на предплечье» — на лице! Здоровенные, как Тор, бог викингов, только глаза горящие, шалые. Бобби вообще отличался живым воображением. Он считал это своим достоинством. Но, сколько он ни ломал голову, как выйти из этой переделки, воображение не помогало. Пальба не прекращалась. Бобби удивлялся: как это в него до сих пор не попали. Он точно ковер расстелился на полу и мечтал совсем расплющиться. Только, как ни пластайся, задницу не убережешь: все равно заденут. Собираясь на задание, он даже не вспомнил об оружии — не тот случай. По крайней мере, на первый взгляд. В «бардачке» лежал револьвер, но туда не сунешься. Да и что такое револьвер против пары автоматов? Стрельба смолкла. Тишина после адского грохота и треска показалась такой плотной, что Бобби решил, что он оглох. В отсеке пахло горячим металлом, перегоревшими приборами, горелой изоляцией, бензином. Должно быть, пробили бензобак. Двигатель все еще пыхтел, а из развороченного оборудования брызгали искры. Так… Шансов взлететь на воздух у него куда больше, чем выиграть в лотерею пятьдесят миллионов долларов. Надо сматываться. Но как? Если он выскочит из фургона, то угодит прямо под автоматный огонь — противники только того и ждут. Лежать на полу в темном отсеке и надеяться, что нападавшие уйдут, даже не полюбопытствовав, как он там? Но фургон того и гляди вспыхнет, как костер, в который плеснули горючего, и Бобби изжарится за милую душу. Бобби вообразил, как он выпрыгивает из фургона, падает, сраженный автоматной очередью, и судорожно дергается на асфальте в предсмертной агонии, точно поломанная марионетка на спутавшихся ниточках. Но еще яснее он представлял, как с него слезает кожа, опаленная языками пламени, как пузырится и дымится плоть, мигом вспыхивают волосы, плавятся глаза, чернеют зубы, как огонь пожирает его язык, выжигает горло, добирается до легких… Беда с этим живым воображением. Внезапно он почувствовал, что начинает задыхаться от паров бензина. Бобби приподнялся. Тут снаружи донесся гудок автомобиля и рычание мотора. К фургону полным ходом мчалась какая-то машина. Раздался крик, вновь загремели выстрелы. Бобби опять растянулся на полу. Что за черт? Кого это там несет? И вдруг понял: Джулию, вот кого! Джулия иногда действовала внезапно, как сама природа, — налетала как буря, разила как молния, раскалывающая грозовое небо. Ведь он же велел ей убираться! А она, значит, не послушала. Так бы и дал ей пинка, но нет: грех пинать такую славную попку.Глава 5
Фрэнк попятился от разбитого окна, стараясь ступать одновременно с человеком во дворе: если под ногами звякнет битое стекло, тот не услышит. Фрэнк сообразил, что комната, в которой он находится, была когда-то гостиной. Теперь тут пусто — если не считать осколков, оставленных жильцами или попавших сюда после их отъезда. Поэтому Фрэнку удалось прокрасться через комнату в прихожую без лишнего шума и ни на что по дороге не наткнуться. В прихожей было темно, словно в логове хищника. Пахло плесенью и мочой. Фрэнк поспешно прошел мимо какой-то двери и, повернув направо, оказался в другой комнате. Подошел к окну, за которым виднелась пустая улица в свете фонаря. В этом окне стекло было выбито напрочь, даже осколки не торчали из рамы. За спиной раздался шорох. Фрэнк едва сдержал крик. Обернулся и уставился в темноту. Ложная тревога. Должно быть, вдоль стены, по сухим листьям или обрывкам бумаги шмыгнула крыса. Всего-навсего крыса. Фрэнк прислушался. Никаких шагов. Впрочем, сейчас его отделяют от незнакомца стены и, возможно, глухая поступь преследователя сюда не долетает. Он еще раз выглянул в окно. Внизу раскинулся газон, сухой, как песок, и такого же цвета. Не лучшее место для приземления. Фрэнк бросил вниз сумку, и она тяжело шлепнулась на газон. Содрогаясь при мысли о прыжке, Фрэнк вскарабкался на подоконник, ухватился за пустую раму и замер в нерешительности. Порыв холодного ветра пахнул ему в лицо, взъерошил волосы. Самый обычный сквозняк, а не потустороннее дуновение, которое доносило неземные и нестройные звуки флейты. И вдруг за спиной Фрэнка гостиную, прихожую и его нынешнее убежище озарила синяя вспышка. Грянул взрыв, задрожали стены. Воздух, взбитый ударной волной, сгустился. Входная дверь разлетелась в щепки — Фрэнк слышал, как они посыпались на пол в прихожей. Фрэнк выпрыгнул из окна. Он приземлился на ноги, но колени подогнулись, и он упал на пожухлую траву. В тот же миг из-за угла показался огромный грузовик с деревянными бортами. Водитель плавно переключил скорость и поехал по улице мимо дома. Фрэнка он не заметил. Фрэнк поднялся и, подхватив сумку, кинулся к грузовику. После поворота машина еще не набрала скорость. Фрэнк одной рукой уцепился за откидной задний бортик, подтянулся и вскочил на бампер. Водитель прибавил газу. Фрэнк проводил взглядом обветшалый дом. Окна чернели, как пустые глазницы. Загадочное синее мерцание не повторялось. На следующем углу грузовик свернул направо и нырнул в дремотный сумрак ночи. Фрэнк из последних сил цеплялся за кузов. Из-за сумки он мог держаться только одной рукой. Но бросить сумку нельзя: вдруг ее содержимое поможет узнать, кто он, откуда, от чего убегает.Глава 6
Бежать? Спасаться? Значит, Бобби думает, что она вот так бросит его в беде и пустится наутек? «Сматывайся, малышка! Гони!» Чего это он раскомандовался, как будто она забитая покорная женушка, а не полноправный компаньон по сыскному агентству? Она, между прочим, опытный детектив и сама решит, что ей делать. Выдумал тоже — держать ее на подхвате. Как будто она не сумеет принять бой, если придется жарко. Зла на него не хватает. Джулия вспомнила симпатичное лицо мужа: веселые голубые глаза, курносый нос, веснушки, пухлые губы, густые медово-золотистые волосы почти всегда всклокочены, как у только что проснувшегося малыша. Так и съездила бы по этому курносому носу — не очень сильно, только чтобы в голубых глазах выступили слезы. Вот тебе «беги и спасайся!». «Тойота» Джулии притаилась в плотной тени большого индийского лавра в дальнем конце стоянки за корпусом корпорации. Как только Бобби почуял неладное, Джулия завела двигатель. Выстрелы в наушниках еще не прозвучали, а она уже переключила скорость, отпустила ручной тормоз, врубила фары и до упора отжала педаль акселератора. Джулия все звала и звала Бобби, но он молчал. Из наушников неслась только дикая пальба. Потом и она оборвалась. Джулия сорвала наушники и швырнула на заднее сиденье. «Беги и спасайся»! Скажите, пожалуйста! На выезде со стоянки она отпустила акселератор и одновременно левой ногой нажала тормозную педаль. «Тойота» скользнула на дорожку, идущую вокруг здания, и съехала под уклон. Не дожидаясь, пока машина выровняется, Джулия ударила по газам. Взвизгнули шины, взревел мотор. Урча, завывая, грохоча, машина рванулась вперед. Бобби, наверно, нечем отстреливаться. Он вообще легкомысленно относился к оружию и брал его на дело только в тех случаях, когда им что-то могло угрожать. А наблюдение за «Декодайном» на первый взгляд вполне безобидное занятие. Правда, иногда и в делах по промышленному шпионажу приходится держать ухо востро, но такой размазни, как Том Расмуссен, бояться было нечего. Тихий компьютерщик, жадный до денег и умный, как дрессированный пес, который декламирует Шекспира, расхаживая по канату. Не страшнее, чем какой-нибудь трусливый растратчик из банка. Вернее, так казалось поначалу. Зато Джулия прихватывала оружие на каждое дело. Бобби был оптимист, она — пессимистка. Бобби полагался на здравый смысл и благоразумие противника. Джулия же подозревала, что любой с виду нормальный человек может на поверку оказаться законченным психом. В ее машине к крышке «бардачка» был изнутри прикреплен крупнокалиберный «смит-вессон», а на сиденье рядом лежал «узи» и два запасных магазина по тридцать патронов в каждом. Услышав стрельбу в наушниках, Джулия поняла, что «узи» — это то, что надо. «Тойота» буквально летела вдоль торца здания. На углу Джулия резко крутанула руль влево. Машина чуть не встала на два колеса, но все-таки устояла и выскочила на Майклсон-драйв. У обочины перед корпусом «Декодайна» Джулия увидела автофургон Бобби, а на проезжей части — другой автофургон, темно-синий «Форд» с распахнутыми дверями. Два типа, очевидно, выскочившие из «Форда», стоя метрах в пяти от машины Бобби, расстреливали ее из автоматов с такой яростью, будто палили не в человека внутри, а сводили какие-то личные счеты с самим автофургоном. Завидев «Тойоту», они поспешно перезарядили автоматы. Лучше всего подскочить прямо к ним, бросить «Топоту» рядом с их автофургоном и, выскользнув из машины, под ее прикрытием продырявить шины «Форда», а потом задержать этих субчиков до приезда полиции. Нет, не выйдет: времени мало. Они уже вскидывают автоматы. От вида пустынных ночных улиц, залитых желтым, цвета мочи, светом фонарей, Джулии было не по себе. Здесь, в центре города, располагались только банки и здания фирм — ни одного жилого дома, ресторана, бара. Казалось, город находится не в Калифорнии, а где-нибудь на Луне. Или всех жителей истребила чудовищная эпидемия. В живых осталось лишь несколько человек. Как же быть? Чтобы действовать по всем правилам, нужно время, а его в обрез. Помощи ждать неоткуда. Остается одно: бить на неожиданность. Изобразить из себя камикадзе. Вместо оружия пустить в ход машину. Убедившись, что «Тойота» полностью ей послушна, Джулия вдавила педаль акселератора до самого пола и помчалась прямо на автоматчиков. Те открыли огонь, но Джулия уже пригнулась на сиденье и слегка наклонилась в сторону, чтобы не высовываться из-за приборного щитка. Рукой она более или менее крепко сдерживала руль. Пули долбили по машине и с визгом отскакивали. Ветровое стекло разлетелось. Мощный толчок. «Тойота» наскочила на одного из нападавших. Джулия стукнулась о рулевое колесо, поранила лоб. Зубы щелкнули с такой силой, что заныли челюсти. Она слышала, как тело автоматчика ударилось о передний бампер и рухнуло на капот. Кровь струилась по лбу Джулии, капала с правого виска. Джулия резко нажала тормоз и выпрямилась. Из провала на месте ветрового стекла на нее взглянули широко раскрытые глаза мертвеца. Его лицо застыло перед рулевым колесом: осколки зубов, рваные губы, рассеченный подбородок, ввалившиеся щеки, один глаз выбит. Сломанная нога просунулась в машину и свисала с приборного щитка. Джулия отпустила тормозную педаль. От толчка безжизненное тело скатилось с капота и исчезло под колесами. «Тойота», вздрогнув, остановилась. Сердце Джулии почти выскакивало из груди. Силясь сморгнуть кровь, обжигавшую правый глаз, она схватила с соседнего сиденья «узи», открыла дверь и, пригнувшись, вылетела из машины. Второй автоматчик уже сидел в синем «Форде». Он нажал педаль газа, впопыхах забыв отпустить ручной тормоз. Раздался визг тормозов, задымились колодки. Джулия дала две короткие очереди по колесам с одной стороны автофургона. Но беглец и не думал останавливаться. Он наконец переключил скорость и пытался улизнуть на спущенных колесах. Улизнуть? Ну уж нет. Этот гад, не дай бог, убил Бобби. Упустишь его сейчас — потом ищи-свищи. Джулия нехотя вскинула «узи» и разрядила весь магазин в окно «Форда». Машина прибавила ходу, потом вдруг пошла медленнее, мотнулась вправо. Теряя скорость, «Форд» описал широкую дугу и замер у обочины. Мотор продолжал работать. Из «Форда» никто не вышел. Не спуская с него глаз, Джулия полезла к себе в машину. Взяла с сиденья запасной магазин. Перезарядила «узи». Тихо-тихо приблизилась к «Форду» и распахнула дверцу. Осторожность оказалась излишней: человек за рулем был мертв. Джулия протянула руку и выключила двигатель. Ее мутило. Она бросилась к изрешеченному автофургону Бобби. В уши ей несся шорох ветра в густых кустах, растущих вдоль улицы, тихо шелестели и пощелкивали листья пальм. Потом она расслышала рокот двигателя автофургона и почуяла запах бензина. — Бобби! — крикнула она. Она еще не добежала до автофургона, как вдруг задняя дверь скрипнула и Бобби вылез из машины. С него сыпалось битое стекло, щепки, обрывки бумаги. Он тяжело дышал. Конечно, там, в отсеке, и воздуха-то, наверное, не осталось, только бензиновые пары. Вдали заревели сирены. Бобби и Джулия поспешили прочь от фургона. Не прошли они и нескольких шагов, как ударило оранжевое пламя и бензиновая лужа на асфальте заполыхала. Огонь охватил автофургон. Отойдя подальше от неистового пламени, супруги окинули взглядом изувеченные машины и посмотрели друг на друга. Вой сирен приближался. — У тебя кровь, — сказал Бобби. — Лоб немного поцарапала. — Немного? — Ерунда. Ты-то как? Бобби глубоко вздохнул: — Цел и невредим. — Не врешь? — Нет. — В тебя не попали? — Даже не задели. Повезло. — Бобби. — Что? — Если бы тебя убили, я бы не вынесла. — Не убили же. Я жив-здоров. — Ну и слава богу. И вдруг Джулия лягнула мужа в щиколотку. — Ой! Ты что? Джулия лягнула его в другую ногу. — Джулия! Обалдела? — Попробуй только еще раз вякнуть, чтобы я бежала и спасалась! — Что-что? — Мы с тобой работаем на равных, понял? — Но… — Я ничуть не глупее тебя, и реакция у меня не хуже… Бобби покосился на мертвеца посреди улицы, на «Форд», в кабине которого виднелся труп, и кивнул: — Что есть, то есть. — И силы не меньше… — Знаю, знаю. Только не лягайся. Джулия перешла к делу: — Как нам быть с Расмуссеном? Бобби поднял глаза на корпус «Декодайна». — А ты думаешь, он еще там? — Со стоянки только один путь — на Майклсон-драйв. Оттуда он не выезжал. Если он не удрал на своих двоих, то наверняка притаился в здании. Надо его брать, пока не утек с этими дискетами. — На дискетах все равно туфта, — усмехнулся Бобби. В «Декодайне» Расмуссен попал под подозрение с того же дня, как пришел устраиваться на работу: сыскное агентство «Дакота и Дакота», которое по контракту обеспечивало безопасность корпорации, сразу заметило, что удостоверение личности Расмуссена — мастерски выполненная липа. Однако администрация «Декодайна» решила принять Расмуссена на службу, чтобы установить, кому он должен передать файлы «Кудесника». Мошенник явно работал на кого-то из главных конкурентов «Декодайна», и корпорация намеревалась подать на таинственного нанимателя Расмуссена в суд. Расмуссену дали возможность действовать под бдительным оком телекамер, которые, как он считал, ему удалось испортить. Мошенник разгадал код файлов и получил доступ к нужной информации. Ему и тут не препятствовали: Расмуссен не знал, что настоящие файлы защищены секретными командами и информация, которую он получает, — полная ахинея. Пламя с ревом и треском пожирало автофургон. По стеклянному фасаду корпуса, по пустым черным окнам сновали и змеились причудливые отблески огня, словно хотели взметнуться на самый верх и застыть на крыше каменными химерами. Повысив, голос, чтобы не заглушали сирены и рев пожара, Джулия сказала: — Значит, зря мы надеялись, что он клюнул на нашу удочку и поверил, будто камеры испорчены. На самом деле он знал про слежку. — Выходит, так. — Но раз он такой дошлый, то у него могло хватить ума докопаться до команды, блокирующей копирование, и добраться до файлов. Бобби нахмурился. — Верно. — Тогда у него на дискетах настоящие файлы «Кудесника». — Все равно я туда не пойду. Ну его к черту. Сколько можно лезть под пули? Вдали из-за угла показалась полицейская машина и помчалась к месту происшествия. Выла сирена, крутилась «мигалка», и по улице перекатывались волны то синего, то красного света. — Вот и профессионалы явились, — облегченно вздохнула Джулия. — Спихнем остальную работу на них, а? — Нет, дело-то поручено нам. Мы и обязаны довести его до конца. Для частного детектива профессиональный долг превыше всего, забыла? Иначе что бы сказал про нас Сэм Спейд?[118] — А пошел этот Сэм Спейд в голубую даль! — А что сказал бы Филип Марло?[119] — Пошел этот Филип Марло в голубую даль! — А что скажут наши клиенты? — Пошли эти клиенты в голубую даль! — Радость моя, обычно посылают в другое место. — Знаю. Но я все-таки леди. — Это уж точно. Полицейская машина затормозила прямо перед ними. Позади из-за угла с воем выехала еще одна. С другого конца Майклсон-драйв неслась третья. Джулия положила «узи» на асфальт и во избежание недоразумений подняла руки вверх. — Как же я рада, что ты жив, Бобби. — Опять будешь лягаться? — Пока не буду.Глава 7
Уцепившись за кузов грузовика, Фрэнк Поллард проехал кварталов десять. Водитель его не замечал. По дороге Фрэнку на глаза попался плакат: «Добро пожаловать в Анахейм». Значит, он в Южной Калифорнии, догадался Фрэнк, но, как ни силился, не мог вспомнить, живет он в этом городе или нет; Судя по легкому холодку, стояла зима: по здешним меркам и такой холод — уже мороз. Фрэнк встревожился: оказывается, он не помнит, какое сегодня число и даже какой сейчас месяц! Грузовик сбавил ход. Собравшись, Фрэнк спрыгнул с бампера и ступил на дорожку, которая вела через район торговых складов. Под звездным небом, освещенные тусклыми дежурными лампами, теснились громады из рифленого железа. Одни были совсем недавно покрашены, на других выступала ржавчина. Фрэнк с сумкой в руке миновал склады и вышел на улицу, на которой выстроились обветшалые бунгало. За деревьями и кустарниками здесь, как видно, никто не присматривал. Неухоженные пальмы свесили сухие листья, в сумраке белели полураскрытые бутоны роз на чересчур разросшихся кустах, терновник растопырил почти безлистые от старости ветки, бугенвиллея густо оплела крыши и ограды, выпустила тысячи непокорных и неугомонных отростков. Кроссовки Фрэнка тихо ступали по тротуару. Он шел мимо ряда фонарей, и его тень то ложилась перед ним, то вырастала сзади. На обочинах у домов стояли автомобили — большей частью старые модели. Потрепанные, с пятнами ржавчины. Где-нибудь, глядишь, и оставлен ключ зажигания. Впрочем, можно завести машину и без ключа. Но стоит ли? На шлакоблочных оградах и стенах заброшенных домов-развалюх мерцали надписи на испанском языке, выведенные светящейся краской, — работа местного хулиганья. Угонять у таких машины себе дороже. Эти, если поймают, полицию звать не станут: или голову прострелят, или нож в горло. А Фрэнк нынче и так уже оказался на волосок от гибели. И он двинулся дальше. Пройдя десяток кварталов, он обнаружил, что здесь и дома попристойнее, и машины получше. Фрэнк стал присматриваться к автомобилям, прикидывая, какой легче увести. Осмотрев десять машин, он остановил выбор на новеньком зеленом «Шевроле», стоявшем под уличным фонарем. Машина была не заперта, под водительским сиденьем обнаружился ключ. Цель у Фрэнка была одна: убраться как можно дальше от того заброшенного квартала, где его чуть не настиг таинственный преследователь. Он завел машину, включил обогреватель и выехал из Анахейма. Доехав до Санта-Аны, он свернул на юг, на Бристол-авеню, ведущую в Коста-Меса. По дороге он не переставал удивляться: до чего знакомые улицы! Здания, торговые центры, парки — да он их как будто уже не раз видел. Однако вид их ни о чем Фрэнку не напоминал: память по-прежнему была окутана густой пеленой. Кто он? Где живет? Чем зарабатывает на хлеб насущный? Какая напасть ему угрожает? Как он оказался глухой ночью в темном переулке? Часы в машине показывали 2.48. Но и в такое позднее время на крупной магистрали недолго нарваться на дорожную полицию. Поэтому, проезжая через Коста-Меса, Фрэнк старался держаться подальше от центра. Через Ньюпорт-Бич он тоже проехал по юго-восточной окраине. Лишь в Корона-дель-Мар он выехал на Главное Тихоокеанское шоссе и не сворачивал с него до Лагуна-Бич. Продвигаясь на юг, машина все глубже и глубже уходила в туман. Лагуна-Бич — живописный курортный городок, облюбованный художниками, — расположился на склонах каньона и пологих холмах, уступами спускающихся к океану. Город почти совсем утонул в плотном тумане. При такой видимости Фрэнку пришлось сбросить скорость до пятнадцати миль в час, хотя на шоссе было пусто: редко-редко попадется случайная машина. Фрэнк поминутно зевал, глаза слезились. Наконец он свернул с шоссе и остановил машину в переулке возле двухэтажного коттеджа с темными окнами. Такие коттеджи с островерхими крышами строят обычно на Восточном побережье, а здесь, в Калифорнии, он выглядел чужаком. Фрэнк решил остановиться в мотеле. Для этого надо было проверить, есть ли у него деньги или кредитная карточка. Заодно — впервые за эту ночь — можно взглянуть на свое удостоверение личности. Он порылся в карманах джинсов. Пусто. Фрэнк включил свет в машине, поставил на колени кожаную сумку и открыл ее. Сумка была доверху набита туго перетянутыми пачками сто- и двадцатидолларовых банкнот.Глава 8
Липкий сизый туман постепенно редел. А ближе к побережью и сейчас, наверное, клубится вязкая, почти комковатая муть. Без пальто, в одном свитере в такую ночь зябко, но Бобби согревала мысль, что он чудом избежал верной гибели. Прислонившись к полицейской машине перед зданием «Декодайна», он наблюдал, как Джулия расхаживает взад-вперед, засунув руки в карманы коричневой кожаной куртки. Он мог любоваться ею часами. А ведь они женаты уже семь лет, живут, работают и проводят досуг вместе, вместе круглые сутки, семь дней в неделю. Бобби не имел обыкновения шляться с дружками по барам или пропадать на футболе. Да и много ли найдешь дружков его возраста — Бобби было далеко за тридцать, — которые, как и он, увлекались бы биг-бендами, массовым искусством тридцатых-сороковых годов, классическими диснеевскими комиксами? Джулию тоже никогда не тянуло к подружкам. Ведь и ей было бы нелегко найти подруг лет тридцати, разделяющих ее увлечения: биг-бенды, мультфильмы компании «Уорнер бразерс», боевые искусства, стрельба. Но, хотя супруги ни на миг не расставались, им вдвоем не было скучно. Бобби даже не представлял себе подруги интереснее и соблазнительнее. — Чего они там копаются? — возмущалась Джулия, поглядывая на сиявшие в тумане размытые прямоугольники — освещенные окна корпуса. — Потерпи, радость моя, — успокаивал Бобби. — Чего ты хочешь от простых полицейских? Не всем же работать такими темпами, как агентство «Дакота и Дакота». На Майклсон-драйв было выставлено оцепление. Здесь собралось целых восемь полицейских машин, в том числе автофургоны. В холодной ночи сквозь треск помех дребезжали металлические голоса — это полицейские переговаривались по радио. Один сидел за рулем автомобиля, двое караулили у дверей корпуса, все остальные — не считая оцепления — искали Расмуссена в здании. Тем временем криминалисты фотографировали место происшествия, что-то измеряли, погружали тела убитых в машину. — А что, если он все-таки удерет с этими дискетами? — тревожилась Джулия. — Не удерет. — Я понимаю, почему ты так спокоен. «Кудесник» был разработан на внутренней компьютерной системе, у которой нет выхода за пределы «Декодайна». Но ведь у корпорации есть и другая система, с модемами и прочими причиндалами. Вдруг Расмуссен со своими дискетами догадается ею воспользоваться? — Это невозможно. Внутренняя система, на которой разработан «Кудесник», отличается от внешней. — Расмуссен мастак. — И потом, на ночь внешняя система блокируется. — Расмуссен мастак, — повторила Джулия. Она по-прежнему прохаживалась взад-вперед. Ссадина на лбу от удара о рулевое колесо больше не кровоточила, но была еще свежей. Джулия вытерла лицо тряпкой, и все же под правым глазом и на подбородке оставались следы крови. Кровь, ссадина… У Бобби прямо сердце сжималось. Страшно подумать, что с ней могло случиться. И с ним тоже. Однако ссадина и кровь, как ни странно, только подчеркивали ее прелесть: из-за них она выглядела более хрупкой и поэтому была ему еще Дороже. Да, Джулия действительно красавица. Может быть, только на его вкус, ну и пусть. Чужой вкус — он и есть чужой. От влажного ночного воздуха ее пышные каштановые волосы слегка закучерявились и все-таки сохраняли свой обычный блеск. Широко поставленные глаза цветом напоминали полусладкий шоколад, а нежная, от природы смуглая кожа — кофейное мороженое. И как всегда сладко целовать эти пухлые губки! Всякий раз, как Бобби бросал на нее случайный взгляд или думал о ней в ее отсутствие, у него в воображении непременно возникало что-нибудь съестное: каштаны, шоколад, кофе, сливки, сахар, масло. Бобби и сам диву давался, однако понимал, что в этом странном наборе сравнений кроется глубокий смысл: Джулия дает ему жизненные силы, насыщает даже лучше, чем еда. В конце обсаженной пальмами дорожки, у дверей корпуса, послышался оживленный разговор. Джулия обернулась. Бобби тоже. Полицейский, обыскивавший здание, что-то докладывал охранникам. Один из охранников поманил Бобби и Джулию. — Нашли-таки этого Расмуссена, — сообщил он. — Хотите с ним повидаться и проверить дискеты? — Хотим, — ответил Бобби. — Непременно, — добавила Джулия. Сейчас привычная хрипота в ее голосе звучала не чувственно, а сурово.Глава 9
То и дело посматривая, не показался ли поблизости ночной полицейский патруль, Фрэнк Поллард переложил пачки денег из сумки на соседнее сиденье. Пятнадцать пачек двадцатидолларовых купюр и одиннадцать стодолларовых. Судя по толщине, в каждой пачке около сотни бумажек. Фрэнк прикинул: всего выходит сто сорок тысяч. Он понятия не имел, что это за деньги, откуда они взялись. Фрэнк расстегнул «молнию» бокового кармашка на сумке. Еще одна неожиданность. В кармашке лежал бумажник. Ни денег, ни кредитных карточек Фрэнк в нем не обнаружил, зато нашел документы, позволяющие установить личность владельца: карточка социального обеспечения и водительские права, выданные в Калифорнии. Вместе с бумажником был в кармашке и паспорт гражданина Соединенных Штатов. С фотографий на паспорте и на водительских правах смотрел один и тот же человек: круглолицый кареглазый шатен лет тридцати, с оттопыренными ушами, ямочками на щеках и смущенной улыбкой. Тут Фрэнк спохватился, что забыл, как выглядит он сам. Он повернул к себе зеркальце заднего вида. В зеркальце отражалась только часть лица, но сомнений не оставалось: на фотографиях изображен он, Фрэнк Поллард. Однако на документах значилось имя Джеймса Романа! Фрэнк расстегнул второй кармашек. Еще один паспорт, еще одна карточка социального обеспечения и водительские права, тоже калифорнийские. Снова фотографии Фрэнка. Но документы выданы на имя… Джорджа Фарриса. Имя Джеймса Романа ничего ему не говорило. О Джордже Фаррисе он тоже не имел представления. А Фрэнк Поллард, которым он себя почитает, — и вовсе загадка: человек, начисто забывший свое прошлое. — Ну и вляпался я в историю, — пробормотал Фрэнк. Ему хотелось услышать звук собственного голоса, чтобы хоть так удостовериться, что он человек, а не бесплотный дух, который, вопреки зову смерти, не желает отлетать в мир иной. Туман окутывал машину, скрывал ночной город за окнами. Жгучее одиночество охватило Фрэнка. Куда податься, у кого искать защиты? У человека без прошлого нет и будущего.Глава 10
На третьем этаже Бобби и Джулия в сопровождении полицейского по фамилии Макгарт выйти из лифта. В коридоре на сером блестящем линолиуме, прислонившись к стене, сидел Том Расмуссен в наручниках, которые короткой цепью соединялись с ножными кандалами. Том нахохлился и надул губы. Подумать только! Прохвост, который чуть не утащил программу, стоящую десятки, если не сотни миллионов, который без зазрения совести подал из окна сигнал прикончить Бобби, — и вдруг дуется, как мальчишка, только потому, что ему не дали улизнуть. Он сморщил свою крысиную мордочку, выпятил нижнюю губу, а в светло-карих, до желтизны, глазах стояли слезы, как будто он готов разреветься от первого грубого слова. Джулия рассвирепела. Ах, как ей захотелось дать ему в челюсть, чтобы зубы повылетали. Пусть он их проглотит и еще разок пережует свою последнюю жратву. Найти его оказалось легче легкого: он прятался в стенном шкафу за грудой коробок. Очевидно, когда Джулия на «Тойоте» ринулась в бой, Расмуссен, наблюдавший за нападением из кабинета Аккройда, растерялся. Ее появление спутало все карты. Джулия припарковала машину на стоянке «Декодайна» еще днем; из корпуса разглядеть автомобиль, стоявший в тени лавра, было невозможно. Увидев, как Джулия расправляется с первым автоматчиком, Расмуссен не бросился наутек, так как побоялся, что внизу его поджидает еще кто-нибудь. Потом он услышал вой сирен и понял, что бежать поздно. Оставалось укрыться внутри в надежде, что полиция ограничится поверхностным осмотром и решит, что он уже удрал. Гений по части компьютеров, Расмуссен в острых ситуациях совершенно терял голову, и находчивость, которой он гордился, изменяла ему. Расмуссена караулили два хорошо вооруженных полицейских. При ослепительно ярком свете, заливающем коридор, вид у них был пренелепейший: угрюмые дюжие молодцы в бронежилетах, поигрывая оружием, стерегут дрожащего, сжавшегося в комок человечка, который вот-вот расплачется. Один из полицейских был знаком Джулии: до службы в полиции города Ирвина он вместе с ней работал департаменте шерифа. Звали его Самсон Гарфьюсс. Толи его родители, выбирая сыну имя, проявили редкостную прозорливость, то ли он сам решил доказать, что не зря носит имя библейского силача, но Самсон Гарфьюсс действительно был рослый и крепкий детина. Он протянул Джулии открытую коробку с четырьмя маленькими флоппи-дисками. — Эти? — Вроде они, — Джулия взяла коробку и передала Бобби. — Мне надо спуститься на второй этаж в кабинет Аккройда, включить компьютер и проверить, что на них записано, — сказал Бобби. — Валяйте, — разрешил Самсон. — Вам придется пройти со мной, — обратился Бобби к Макгарту, полицейскому, который их сопровождал. — Не спускайте с меня глаз. Надо, чтобы кто-то подтвердил, что я не мухлюю. А то еще эта мразь, — Бобби кивнул в сторону Тома Расмуссена, — скажет, будто я на него наклепал: взял чистые диски и сам сделал копии. Когда Бобби и Макгарт на лифте спустились на второй этаж, Джулия присела на корточки перед Расмуссеном и спросила: — Знаешь, кто я? Расмуссен взглянул на нее и промолчал. — Я жена Бобби Дакоты. Того самого Бобби, в которого палили твои бандюги. По твоему приказу моего Бобби чуть не пристрелили. Расмуссен, опустив глаза, уставился на свои скованные руки. — Будь моя воля, знаешь, что бы я с тобой сделала? — продолжала Джулия. Она растопырила пальцы с наманикюренными ногтями, поднесла их к лицу Расмуссена и угрожающе пошевелила. — Для начала схватила бы тебя за горло,прижала к стенке и всадила бы в твои зенки два остреньких ноготка. Глубоко-глубоко. До самого мозга. А то у тебя извилины не в ту сторону повернуты, вот я и разверну их как надо. — Ну уж это вы слишком, — встревожился напарник Самсона по фамилии Бердок. Его можно было бы назвать просто гигантом, не будь рядом Самсона. — А что такого? — фыркнула Джулия. — У него в башке такой кавардак — никакой тюремный психиатр не поможет. — Ты, Джулия, и впрямь полегче на поворотах, — предупредил Самсон. Расмуссен бросил на нее быстрый взгляд. Их глаза встретились лишь на миг, но Расмуссен понял, что от этой разъяренной фурии добра не жди. Краска негодования и стыда на его по-детски обиженной мордочке сменилась бледностью. — Уберите эту сумасшедшую стерву! — крикнул он Самсону. Однако грозного окрика не получилось: визгливый голос Расмуссена дрожал. — Она не сумасшедшая, — возразил Самсон. — По крайней мере, врач ее сумасшедшей не признает. Нынче не так-то просто объявить кого-то психом. Чуть что — сразу крик: гражданские права, гражданские права! Так что насчет сумасшедшей — это ты погорячился. — Большое спасибо, Сэм, — сказала Джулия, не сводя глаз с Расмуссена. — Как видишь, со второй частью обвинения спорить я не стал, — добродушно добавил Самсон. — Да-да, я заметила. Она по-прежнему сверлила Расмуссена взглядом. Каждого человека одолевают свои страхи. В каждой душе поселяется особый, только по ее форме отлитый страх. Джулия прекрасно знала, чего боится Том Расмуссен больше всего. Его пугала не высота, не темнота, не замкнутое пространство. Он не боялся ни кошек, ни собак, ни насекомых; он не страшился толпы и нормально переносил путешествия по воздуху. Согласно объемистому досье Расмуссена, которое агентство «Дакота и Дакота» собрало за последние месяцы, Тому не давала покоя боязнь слепоты. Сидя в тюрьме — а в тюрьме Расмуссен побывал уже дважды, — он каждый месяц проверялся у врача: ему все казалось, что он стал хуже видеть. Он то и дело подозревал у себя то сифилис, то диабет, то другие болезни, которые, если их запустить, могут привести к потере зрения. На свободе он с той же регулярностью показывался окулисту в Коста-Меса. Прямо помешался на слепоте. Сидя перед Расмуссеном на корточках, Джулия взяла его за подбородок. Расмуссен замотал головой. Джулия повернула его лицо к себе, вытянула два пальца и ногтями царапнула ему щеку. Легонько, не до крови. На бледной коже вздулись две красные полоски. Расмуссен издал вопль. Он попытался ударить Джулию, но от страха руки не слушались, а цепь, соединяющая кандалы и наручники, была слишком коротка. — Чего ты руки распускаешь? — взвизгнул Расмуссен. Джулия снова выставила два пальца и поднесла к его лицу. На этот раз направила прямо в глаза. Расмуссен заморгал, захныкал, стал вырываться, но Джулия крепко держала его за подбородок. — Мы с Бобби живем вместе уже восемь лет, семь лет женаты. Лучшие годы моей жизни. И вдруг ты на нашу голову. Вздумал прихлопнуть моего мужа как муху. Острые ноготки приближались к глазам Расмуссена. Все ближе и ближе. Расмуссен подался назад и уперся затылком в стену. Дальше некуда. Ногти были уже совсем рядом. — Полиции запрещено жестокое обращение, — пробормотал Расмуссен., — Я в полиции не служу. — Зато они служат, — Расмуссен показал глазами на Самсона и Бердока. — Эй, оттащите от меня эту припадочную! Вам же хуже будет — засужу к чертовой матери! Острые ноготки коснулись ресниц. Расмуссен мгновенно отвел взгляд от полицейских и вновь уставился на Джулию. Его прошиб пот, дыхание участилось. Джулия еще раз скользнула ногтями по его ресницам и улыбнулась. Черные зрачки его светло-карих глаз расширились. — Ну вы, кретины! Я ведь и правда засужу, слышите? Вылетите из полиции за милую душу… Ноготки опять прошлись по ресницам. Расмуссен зажмурился. — Вот увидите! Вытряхнут вас из мундиров, отберут значки — и за решетку. А в тюрьме бывшим полицейским хана, сами знаете. Их там калечат, убивают, насилуют! Голос его забирал все выше, выше. Последнее слово он выкрикнул уже тонким, ломающимся голоском подростка. Джулия покосилась на полицейских. Самсон наблюдал эту сцену без осуждения, почти снисходительно; казалось, он не возражал бы и против более крутых мер. Бердока происходящее немного коробило, но он, видимо, решил пока не вмешиваться. Джулия коснулась ногтями век Расмуссена. Тот попытался еще крепче зажмуриться. — Я по твоей милости чуть не осталась без Бобби, а ты у меня за это останешься без глаз. — Совсем рехнулась! Джулия нажала посильнее. — Уймите вы ее! — взвыл Расмуссен. — Ты хотел сделать так, чтобы я больше никогда в жизни не увидела мужа, ну а я сделаю так, что тебе вообще нечем будет видеть. — Что тебе надо? — Пот градом катился по лицу Расмуссена; казалось, он тает на глазах, как свечка, брошенная в костер. — Кто тебе позволил убить Бобби? — Позволил? Как это — позволил? Никто. Я сам… — Сам бы ты и пальцем его тронуть побоялся, если бы не твой хозяин. — Да просто я знал, что он за мной следит! — заголосил Расмуссен. Из-под прижатых век тонкими ручейками потекли слезы. — Я его еще неделю назад приметил. Смотрю — все время сидит в разных грузовиках и фургонах. А на одном фургоне, рыжем, герб округа. Ну и что мне оставалось делать? Не мог же я послать все к черту — деньжищи-то какие. А «Кудесник» почти у меня в руках. Что же мне — ждать пока твой Бобби меня повяжет? Я только потому и решил его убрать, ей-богу! — Так я и поверила. Ты всего-навсего компьютерный жулик, продажная тварь, слизняк. Какой из тебя убийца? Кишка тонка. Сам бы ты ни за что не пошел на мокрое дело. Это тебе шеф велел. — Нет у меня никакого шефа! Я сам на себя работаю. — Но ведь тебе кто-то платит. Джулия надавила покрепче — уже не концами, а щитками ногтей. С перепугу Расмуссену все равно покажется, что эти острые концы пронзают тонкую кожицу век. Наверно, сейчас у него в глазах вспыхивают и рассыпаются разноцветные звезды. Может быть, ему даже немного больно. Недаром он так дрожит, что звенят цепи на ногах, а из-под век текут слезы. Расмуссен будто бы порывался поскорее выговорить заветное имя и одновременно силился его удержать. — Делафилд, — наконец выпалил он. — Кевин Делафилд. — Кто такой? — спросила Джулия, все так же держа его за подбородок и не убирая ногтей от его век. — Он из корпорации «Микрокрест». — Так это он тебя нанял? Расмуссен боялся пошевелиться, чтобы ненароком не напороться на острые ногти. — Он самый. Делафилд. Псих недоделанный. Хочет подставить свою корпорацию. Его там, дескать, не ценят. Они знать не знают, откуда он получает данные. А когда эта история выплывет наружу, «Микрокрест» здорово подзалетит. Ну пусти же. Чего тебе еще надо? Джулия отпустила его. Расмуссен мгновенно открыл глаза, прищурился и, убедившись, что со зрением все в порядке, облегченно разрыдался. Джулия поднялась. В тот же миг открылись двери лифта и появились Бобби и сопровождавший его полицейский. Бобби уставился на Расмуссена, потом перевел взгляд на Джулию и укоризненно пощелкал языком. — Ай-ай, радость моя. Да ты у меня расшалилась. Что же тебя никуда вывести нельзя? — Просто мы с мистером Расмуссеном немного побеседовали. Только и всего. — Я вижу, на мистера Расмуссена ваша беседа произвела неизгладимое впечатление, — заметил Бобби. Расмуссен, скорчившись и закрыв лицо руками, содрогался от рыданий. — Мы кое о чем поспорили, — объяснила Джулия. — О кино? О книгах? — О музыке. — Ну-ну. — И крута же ты на расправу, — тихо произнес Самсон. — Он чуть не убил Бобби, — коротко ответила Джулия. — Да нет, по-моему, крутой приемчик иной раз очень даже к месту, — кивнул Самсон. — В меру крутой. Но сегодня ты перегнула палку. — Перегнула, — согласилась Джулия. — Еще как перегнула, — вмешался Бердок. — Теперь этот субчик как пить дать станет жаловаться по начальству. — На что жаловаться? — удивилась Джулия. — У него ни царапинки. Действительно, даже легкие царапины на щеке Расмуссена были уже почти незаметны. Если бы не слезы и пот да не судорожные всхлипы, никто бы не догадался, что Расмуссену пришлось туго. — Все просто, — объяснила Джулия Бердоку. — Я его расколола точно так же, как раскалывают алмаз: нашла слабую точку и слегка ударила. Он ведь, как и всякий подонок, судит о других по себе. Окажись мы в его положении, он бы с нами не церемонился. Конечно, я не собиралась выкалывать ему глаза. Но он решил, что я обойдусь с ним так же, как он обошелся бы со мной, будь я на его месте. Так что я всего-навсего сыграла на его бредовом представлении о людях. Психология. На что же ему жаловаться? На психологический прием? Джулия повернулась к Бобби и спросила: — Что оказалось на дискетах? – «Кудесник». Вся программа целиком. Вот что он, оказывается, переписывал, когда я за ним наблюдал. А потом началась стрельба, и на запасную копию ему не хватило времени. Раздался звонок лифта, и на табло загорелась цифра, обозначающая этаж. Когда лифт поднялся, из него вышел следователь полиции Джил Дейнер, которого Дакоты хорошо знали. Джулия взяла у Бобби коробку с дискетами и вручила Дейнеру. — Вещественное доказательство. Улика номер один. Сможете теперь довести дело до конца? Дейнер ухмыльнулся: — Да уж постараюсь, мэм.Глава 11
Осмотрев багажник угнанного «Шевроле», Фрэнк Поллард, он же Джеймс Роман, он же Джордж Фаррис, обнаружил войлочную сумку с инструментами. Фрэнк достал отвертку и снял номерные знаки. Машина поднялась выше по склону, с полчаса колесила в тумане по еще более тихому району города и наконец остановилась в темном переулке. Фрэнк поменял номерные знаки стоящего тут «Олдсмобиля» и своего «Шевроле». Если повезет, хозяин «Олдсмобиля» хватится номеров не раньше чем через пару дней, а то и недель. А до того времени Фрэнк может ездить без опаски: полиция, которая, должно быть, разыскивает «Шевроле», по номеру его не узнает. К тому же завтра ночью Фрэнк бросит эту машину — либо угонит другую, либо купит новую, денег в сумке предостаточно. От усталости Фрэнк еле на ногах стоял, однако в мотель не поехал. Появиться в мотеле в полпятого утра и спросить комнату — значит наверняка привлечь к себе внимание, а как раз это Фрэнку ни к чему. И вид у него после ночных похождений весьма подозрительный: щеки небриты, лохматые сальные волосы свалялись, джинсы и фланелевая ковбойка измяты и перепачканы. Нет уж, лучше отоспаться в машине. Фрэнк отправился на юг, в Лагуна-Нигель. Там на тихой улочке он поставил машину под раскидистой финиковой пальмой, перебрался на заднее сиденье и, согнувшись в три погибели, устроился на ночлег. Он чувствовал, что сейчас ему нечего бояться. Неведомый враг далеко. Для Фрэнка наступила передышка, и он может не вздрагивать от ужаса, ожидая, что страшный преследователь вот-вот заглянет в окно. Хватит ломать голову над тем, как к нему попала сумка с деньгами, хватит теряться в догадках насчет своего настоящего имени. Все равно ответа сейчас не найти: от усталости ум за разум заходит. Однако мысли о таинственных происшествиях в Анахейме не давали ему уснуть. Зловещие порывы ветра. Жуткое журчание флейты. Брызги стекла, лопнувшие колеса, отказавшие тормоза, полетевшее управление… Чье появление предвещал синий свет, озаривший пустую квартиру? Кто это так настойчиво преследует Фрэнка? Кто? А может, вернее было бы спросить — что? Во время бегства из Анахейма Фрэнку некогда было размышлять над этими загадочными событиями, но теперь они не шли у него из головы. Чутье подсказывало, что он избежал столкновения с какой-то сверхъестественной силой. Больше того: он как будто знает, что это за сила. Знает, но в глубине души хочет отделаться от каких-то страшных воспоминаний, приказывает себе стереть их из сознания. Наконец усталость взяла свое и отогнала мысли о странных событиях. Сон окутал его, и последнее, что сверкнуло в его сознании, была фраза из трех слов, с которой он очнулся в пустынном переулке: «Ветер и светлячки…»Глава 12
Возни оказалось много. Бобби и Джулия ввели полицейских в курс дела, помогли убрать изувеченные машины, переговорили с тремя только что появившимися служащими охраны и вернулись домой, когда уже светало. Их подвезли на полицейской машине. Только дома Бобби вздохнул с облегчением. Этот дом — просторный типовой коттедж в псевдоиспанском стиле — они купили два года назад. Они выбрали его в основном потому, что он показался им удачным капиталовложением. Дом был совсем новенький, сам район, где он стоял, стал застраиваться лишь недавно. Это угадывалось даже ночью — по окружающей растительности. Кусты только начинали разрастаться, а деревья едва дотягивались до карнизов. Бобби отпер дверь и пропустил Джулию. Гул шагов по паркету в прихожей глухо отозвался в гостиной, подчеркивая ее пустоту. Обстановкой дома Дакоты, в сущности, не занимались — сразу видно, что они не намерены оставаться тут на всю жизнь. В гостиной, столовой и двух спальнях вовсе не было мебели, ковер и занавески самые дешевые. На прочие мелочи быта Дакоты тратиться не стали. Какой смысл выбрасывать деньги на обустройство, если Бобби и Джулия считают этот дом лишь временным пристанищем на пути к Мечте? Мечта. Именно так — с большой буквы. Ради Мечты супруги шли на любые жертвы, экономили на одежде, отказывали себе в удовольствии лишний раз пойти в отпуск или купить шикарную машину. Не щадя сил, они упорно превращали сыскное агентство «Дакота и Дакота» в солидное предприятие, которое потом можно выгодно продать. Немалая часть дохода шла на расширение агентства. Чем только не поступишься ради Мечты. Во всем доме обставлены были только кухня, общая комната и закуток между ними, где супруги обычно завтракали. Да еще большая спальня на втором этаже. Только эти комнаты они и обжили. В кухне на покрытом коричневой плиткой полу стояли бежевые стойки, как в баре, и шкафы из темного дуба. Но, хотя Дакоты и здесь сэкономили на обстановке, в кухне было уютно. Чувствовалось, что кухня живет обыденной кухонной жизнью: тут лежит сетка с полудюжиной луковиц, там стоят бутылочки со специями и разложены кухонные принадлежности, с потолка свисают медные котелки, на подоконнике поспевают три зеленых помидора. Джулия обессиленно прислонилась к стойке, словно ноги ее не держали; — Выпить хочешь? — предложил Бобби. — С утра пораньше? — Я не про то. Молоко, сок? — Нет, спасибо. — Проголодалась? Джулия покачала головой. — Мне бы только доползти до постели. Вымоталась как не знаю что. Бобби обнял ее, крепко прижался щекой к ее щеке и спрятал лицо в ее волосах. Джулия обвила его руками. Так они и стояли, не произнося ни слова. Ласковое тепло, которым они согревали друг друга, изгоняло последние остатки страха. Страх и любовь неотделимы, Открыв душу для любви, становишься уязвим, уязвимому же всегда страшно. Любовь к Джулии наполнила жизнь Бобби смыслом, и теперь он боялся: если, не дай бог, с Джулией что-то случится, то и сама жизнь окажется бессмысленной и ненужной. Не разжимая рук, Бобби слегка отодвинулся и внимательно посмотрел в лицо жены. Следов крови не осталось. Ссадина на лбу уже затянулась тонкой желтой корочкой. Однако о ночных злоключениях напоминала не только ссадина. Смуглое лицо Джулии никогда не бледнело, но в минуты тревоги ее кожа цвета корицы со сливками приобретала явственный серый оттенок. Именно этот оттенок, вызывавший в памяти мраморные надгробия, лежал на ее лице сейчас. — Ну чего ты? Все обошлось, — успокоил он жену. — У меня этот кошмар и сейчас в глазах стоит. Я еще долго в себя не приду. — Да после таких приключений об агентстве «Дакота и Дакота» будут ходить легенды! — Не хочу я быть никакой легендой. Легенды — мертвечина. — Ну а мы станем живой легендой. От клиентов не будет отбоя. Чем лучше пойдет дело, тем скорее толкнем агентство, а там и Мечта в кармане, — он нежно поцеловал ее в уголки губ. — Ладно. Надо позвонить в лавочку и надиктовать Клинту на автоответчик дальнейшие указания. — Да, позвони. А то ведь только завалимся спать — начнутся звонки. Бобби еще раз поцеловал ее и подошел к телефону, висевшему возле холодильника. Набирая номер, он слышал, как Джулия идет по коридору, ведущему в комнату для стирки. Едва за ней закрылась дверь туалета, в трубке послышался голос: — Вас приветствует агентство «Дакота и Дакота». В настоящее время никого… Помощник Бобба и Джулии, Клинт Карагиозис, получил имя в честь киноактера Клинта Иствуда: его родители, греки, поселившиеся в Соединенных Штатах, сделались поклонниками Иствуда сразу после его первого появления на телеэкране. Клинт Карагиозис был неоценимым сотрудником: ему можно было доверить любое дело. Бобби по телефону в двух словах описал события в «Декодайне» и рассказал, как действовать дальше. Повесив трубку, он пошел в общую комнату, включил проигрыватель и поставил компакт-диск Бенни Гудмена. Грянул «Стомп Кинга Портера». При первых же звуках мертвая комната ожила. В кухне Бобби достал из холодильника банку эггнога[120] и два стакана. Эту банку он купил еще две недели назад к Новому году — они тогда встречали его вдвоем, по-семейному. Но банка с тех пор так и стояла в холодильнике не открытая. Бобби налил оба стакана до половины. Он слышал, как Джулию в туалете тошнит. Хотя она уже часов десять ничего не ела, сейчас ее прямо выворачивало наизнанку. Долго же она крепилась: Бобби всю ночь боялся, что на нее вот-вот накатит приступ рвоты. Из бара в обшей комнате он достал бутылку белого рома, щедро разбавил эггног и осторожно размешал ложечкой. За этим занятием его застала Джулия. Лицо у нее было совсем серое. — Нет-нет, не нужно. Я пить не буду, — запротестовала она. — Я лучше знаю, что тебе нужно. Я экстрасенс. Угадал же я, что тебя после наших ночных приключений блевать потянет. Вот теперь и слушайся меня. Бобби подошел к мойке и сполоснул ложку. — Нет, правда, Бобби, я не могу, — упиралась Джулия. Даже музыка Гудмена не помогла ей встряхнуться. — Желудок успокоится. К тому же если ты сейчас не выпьешь, то потом не уснешь, — он взял Джулию за руку и повел ее в общую комнату. — Так и будешь ворочаться и терзаться из-за меня, из-за Томаса, — Томасом звали брата Джулии, — из-за всех на свете. Они опустились на диван. Люстру Бобби не зажег. В комнату падал только свет из кухни. Джулия подобрала под себя ноги и, повернувшись к Бобби, попивала эггног. Глаза ее сияли мягким отраженным светом. Комнату заливали звуки одной из самых пленительных песен Гудмена — «Твое нежное письмо». Пела Луиза Тобин. Бобби и Джулия слушали. Наконец Джулия прервала молчание: — Бобби, ты не думай, я сильная. — Я знаю. — Это только кажется, будто я надорвалась. — Я так и понял. — Меня мутит не из-за стрельбы, не из-за того типа, которого я сшибла «Тойотой». Даже не от мысли, что я чуть тебя не лишилась… — Знаю, знаю. Все из-за того, как ты обошлась с Расмуссеном. — Этот крысенок, конечно, мразь первостатейная, но даже с ним нельзя так поступать. Я совершила гнусность. — А что тебе оставалось? Нам позарез надо было выяснить, на кого он работает. Иначе мы не раскрыли бы дело. Джулия сделала еще глоток и уставилась в стакан, словно надеялась обнаружить в белой жидкости ответ на мучивший ее вопрос. Вслед за Луизой Тобин вступил Зигги Элман: сладострастное соло трубы. Потом — кларнет Гудмена. Нежные звуки превратили безликое стандартное жилище в самый романтический уголок на земле. — Сегодняшняя выходка с Расмуссеном… это только ради Мечты, — продолжала Джулия. — Ведь «Декодайну» же важно узнать, кто подослал Расмуссена. И все-таки одно дело — пристрелить противника в честном бою, и совсем другое — вот так, подло, припереть к стенке. Бобби положил руку ей на колено. Колени у нее загляденье. Бобби не переставал удивляться, откуда в этой изящной, хрупкой женщине такая сила, воля, выносливость. — Оставь, — убеждал Бобби. — Если бы ты не взяла Расмуссена за жабры, то пришлось бы мне. — Нет, Бобби, ты бы так не поступил. Ты вспыльчивый, хитрый, решительный, но есть черта, которую ты никогда не позволишь себе переступить. А то, что я сегодня совершила, — это уже за чертой. И не надо меня утешать пустой болтовней. — Ты права, — признался Бобби. — У меня бы рука не поднялась. Но я тебя не осуждаю. «Декодайн» — золотое дно. Завали мы это дело, у нас из-под носа ушел бы солидный куш. — Неужели ради Мечты мы способны на все? — Конечно, нет. Мы же ни за что не станем пытать детишек раскаленными ножами, или сталкивать с лестницы ни в чем не повинных бабулек, или насмерть забивать новорожденных щенят стальными прутьями. По крайней мере без достаточных на то оснований. Джулия рассмеялась, но как-то невесело. — Послушай, — сказал Бобби, — ты ведь на самом деле добрая душа. И то, что ты крепко прижала Расмуссена, — это вовсе не от жестокости. — Твоими бы устами да мед пить. — Ну, мед не мед, а выпить еще вот этой штуки тебе бы не помешало. — Да ты знаешь, сколько в ней калорий? Я же буду толстая, как носорожиха. — А что? Носороги такие симпатяги. — Бобби взял у нее стакан и вышел на кухню наполнить его. — Я носорожиков люблю. — Что, и в постель бы с носорожихой лег? — Непременно. Любимого тела должно быть много. — Она тебя раздавит. — Ну уж нет. В постели с носорожихой мое место сверху.Глава 13
Золт искал себе жертву. Стоя в темной гостиной незнакомого дома, он дрожал от нетерпения. Кровь. Ему нужна кровь. Золт искал себе жертву. Он знал: мать осудила бы его, но голод заглушал укоры совести; Его настоящее имя было Джеймс, однако мать — эта нежная, беззаветно любящая его женщина, сущий ангел — неизменно называла его «золотко». Не Джеймс, не Джимми, а «золотко», «золотце мое». К шести годам это прозвище закрепилось за ним окончательно, хотя и в несколько сокращенном виде. Сейчас ему уже двадцать девять, но он по-прежнему откликается только на это имя. Многие считают убийство грехом. Золт думал иначе. Есть люди, от рождения питающие пристрастие к крови. Такими создал их Господь, дабы они истребляли неугодных Ему. Таков неисповедимый замысел Божий. Грешно убивать лишь тех, кого Всевышний и мать не предназначили тебе в жертву. Именно этот грех и собирался совершить Золт. Он испытывал мучительный стыд, но совладать с собой был не в силах. Золт напряг слух. В доме стояла тишина. Призрачные очертания обступивших его вещей напоминали фигуры неведомых животных. Дрожа и задыхаясь, Золт пробрался через столовую, кухню, общую комнату и медленно двинулся по коридору. Тихо, чтобы не разбудить спящих. Не шел, а плыл, словно бесплотный дух. У подножия лестницы он замер и, затаив дыхание, в последний раз попытался побороть жажду крови. Бесполезно. Его пронизала дрожь. Он вздохнул и стал подниматься на второй этаж, где, по его расчетам, спали хозяева дома. Мать поймет его, простит. Она с детства внушала ему, что убийство — дело праведное. Но только если оно совершается для блага их семьи. Когда же Золт, уступая соблазну, убивал без серьезной причины, мать приходила в неописуемую ярость. Телесно она его не наказывала, но уже ее немилость была самой страшной карой. Она надолго переставала с ним разговаривать, и от этого гнетущего молчания грудь наливалась болью, казалось, сердце судорожно сжимается и вот-вот совсем остановится. А мать смотрела на него невидящими глазами, как будто его уже нет в живых. Стоило братишке или сестренкам заговорить о нем, мать перебивала: «Это вы про своего покойного брата, про Золта? Вспоминайте его сколько угодно, только не при мне, только не при мне. Слышать не хочу об этом выродке. Какой же он был негодник! Все делал наперекор матери, все хотел повернуть по-своему. Нет-нет, даже имя его при мне не произносите: меня от него прямо тошнит». Изгнанный за непослушание из мира живых, Золт лишался даже места за обеденным столом и, пока остальные ели, стоял в углу и смотрел на них, как случайно залетевший призрак. Мать не удостаивала его улыбкой, не бросала укоризненных взглядов, гладила мягкими теплыми руками по голове и по лицу, не позволяла прижаться к себе и положить усталую голову на грудь. И если обычно Золт отходил ко сну под звуки ласкового голоса матери, который нашептывал ему сказки, напевал нежные колыбельные, то в пору опалы он вынужден был сам пробираться в страну сновидений и спал беспокойно. В такие дни он начинал понимать, что такое ад. Но нынче ночью совсем особый случай. Мать поймет, почему сегодня Золт не в силах удержаться, и простит. В конце концов она всегда его прощала, ведь она любила сына той же любовью, какой Господь любит своих чад, — любовью совершенной, всепрощающей и милосердной. Посчитав, что Золт уже получил свое, она вновь замечала его, одаривала улыбкой, заключала в объятия, и Золт, снова ощутив материнскую ласку, начинал понимать, что такое рай. Теперь ее душа на небесах. Прошло уже семь долгих лет. Боже, как ему плохо без матери! Но она и сейчас видит его. И когда она узнает, что он опять не устоял, то очень огорчится. Золт взбирался по лестнице, перешагивая через ступеньки и держась поближе к стене, чтобы под ногами случайно не скрипнула рассохшаяся доска. Но, несмотря на свое крупное сложение, двигался он легкой плавной походкой, и ступеньки не издали ни звука. Наверху он снова замер и прислушался. Все тихо. Лампочка пожарной сигнализации источала блеклый свет. В полумраке коридора Золт разглядел пять дверей: две справа, две слева, одну в дальнем конце. Он подкрался к первой двери, осторожно открыл, проскользнул внутрь и прижался к двери спиной. Хищное желание обуревало его, но он все-таки выждал время, чтобы глаза привыкли к темноте. В окна сочился слабый свет далекого уличного фонаря. Золт различил зеркало — матовый прямоугольник отраженного света. Под ним туалетный столик. А вот и кровать. На кровати под светлым, чуть ли не сияющим в темноте одеялом кто-то лежал. Неслышно ступая, Золт подошел к кровати, приподнял одеяло и застыл, прислушиваясь к мерному посапыванию. Аромат духов смешивался с благоуханием нежной теплой кожи и запахом шампуня. Девочка. По запаху Золт легко мог отличить девочку от мальчика. Кажется, подросток. Не будь снедавшая его страсть так неистова, Золт стоял бы над постелью еще долго: мгновения перед убийством бывают восхитительнее, чем само убийство. Театральным жестом, словно фокусник, срывающий покрывало с пустой клетки, в которой по мановению волшебной палочки оказывается голубь, Золт откинул одеяло и бросился на спящую. Девочка тут же проснулась. От неожиданности она не успела набрать в грудь воздуха и крикнуть. Не дав ей опомниться, Золт широченной ладонью зажал ей рот и впился в щеки крепкими пальцами. — Молчи, а то убью, — зашипел он, почти касаясь губами нежного детского уха. Девочка испуганно замычала, забилась, но Золт крепко прижимал ее к матрасу. На ощупь это действительно еще девчонка лет двенадцати. Может, пятнадцати, но уж никак не старше. С такой справиться сущий пустяк. — Мне тебя убивать ни к чему, — шептал Золт. — Просто я тебя хочу. Сделаю, что задумал, и уйду. Золт лукавил. Секс вообще его не занимал. Более того, вызывал у него омерзение. Отвратительная слизь, бесстыдное соприкосновение органов, из которых люди мочатся… Брр. И то, что другие способны этим гнусным актом наслаждаться, убеждало Золта, что мужчины и женщины суть падшие создания, а мир — средоточие греха и безумия. Девочка не то поверила, что он не хочет ее смерти, не то обомлела от страха, но сопротивляться перестала. Может быть, она просто задыхалась — ведь Золт навалился на нее всем телом, а весил он немало. Девочка дышала носом: по руке, которой он зажимал ей рот, то пробегал холодок — вдох, то из трепещущих ноздрей струилось тепло — выдох. Золт почти совсем привык к темноте. Он еще не вполне отчетливо различал лицо девочки, но хорошо видел горящие испугом глаза. Девочка оказалась блондинкой: даже в тусклом свете, падавшем из окна, ее волосы ярко отливали серебром. Свободной рукой Золт отвел волосы и обнажил ей шею справа. Сполз чуть-чуть пониже, подбираясь к горлу, и приник губами к молодой плоти. Губы ощутили упругое биение пульса. Золт зубами впился в нежную кожу и почувствовал во рту вкус крови. Девочка извивалась и билась, но Золт налег на нее изо всех сил. Жадные губы не отрывались от раны. Густая сладкая жидкость била ключом, он не успевал глотать ее. Однако вскоре поток начал убывать. Девочка сопротивлялась все слабее, слабее и наконец совсем затихла. Так и лежала недвижимая, будто груда скомканных простыней. Золт поднялся и включил ночник. Ему нравилось рассматривать лица своих жертв — если не до заклания, то хотя бы после. Он с любопытством заглядывал им в глаза, не безжизненные, а умудренные, сподобившиеся узреть тот далекий край, куда отлетают души. Он и сам дивился собственному любопытству. Ведь когда он съедает бифштекс, у него не появляется желание взглянуть на корову, из мяса которой его приготовили. Чем же эта девчонка — и прочие людишки, кровью которых он питался, — лучше коровы? Однажды Золту приснился сон: он только что оторвался от истерзанного горла очередной жертвы, и вдруг она, уже мертвая, обратилась к нему с вопросом: откуда у него эта странная прихоть — непременно увидеть ее лицо? Золт затруднялся ответить. Тогда она подсказала: может, это оттого, что в глубине души он боится при свете увидеть у мертвеца свое собственное лицо, покрытое смертельной бледностью, свои собственные остекленелые глаза? «Чутье нашептывает тебе, что ты и сам уже мертв и подвержен тлению. Ты догадываешься, что после смерти твои жертвы больше похожи на тебя, чем при жизни». Это был только сон, к тому же слова покойной были сущей нелепицей, и все-таки Золт проснулся с пронзительным криком. Не правда, он не мертв — он жив, полон бодрости и сил! И аппетит у него превосходный, хоть и возбуждает его не совсем обычная еда. Однако слова покойницы запали ему в душу. Порой — в такие вот мгновения — Золт вспоминал их, и его охватывала тревога. Но он и сейчас, по своему обыкновению, постарался выбросить их из головы. Лучше приглядеться к девочке на кровати. Девочке было лет четырнадцать. Золт залюбовался своей жертвой. Какой изумительный цвет лица. Кожа гладкая, словно фарфор. Интересно, на ощупь она тоже такая? Губы полуоткрыты, словно их нежно разжала девчоночья душа, покидающая тело. И чудесные ясные голубые глаза — такие огромные на детском личике и широкие, как зимние небеса. Наглядеться на эту красоту было невозможно. Сокрушенно вздохнув, Золт выключил ночник. Он постоял еще немного, снова привыкая к темноте и обоняя пряный аромат крови. Потом вышел в коридор. Дверь за собой не закрыл. Комната напротив была пуста. Зато в соседней Золт уловил затхлый запах пота и услышал храп. На кровати спал парнишка лет семнадцати-восемнадцати. Не очень крупный, но и не мелкий. Однако повозиться с ним пришлось больше, чем с его сестрой. К счастью, он спал на животе, и, когда Золт откинул одеяло и бросился на него, лицо парня оказалось прижато к подушке и крикнуть он не сумел. Завязалась яростная, но короткая борьба. Парень быстро задохнулся. Золт рывком перевернул тело на спину и с криком впился в обнаженную шею. Этот крик был самым громким звуком, прозвучавшим в комнате за время борьбы. Когда Золт открыл дверь в четвертую комнату, за окном уже занимался свинцовый рассвет. По углам теснились тени, однако ночная мгла уже отхлынула. В жидком утреннем сумраке предметы еще не обрели свою естественную окраску и переливались разными оттенками серого цвета. На огромной двухспальной кровати лежала симпатичная блондинка лет под сорок. Одеяло на другой половине кровати было не смято: вероятно, муж здесь не живет или в отъезде. На тумбочке Золт обнаружил наполовину пустой стакан воды и пластмассовый пузырек, к которому приклеен ярлычок с рецептом. Золт взял пузырек и прочел ярлычок. Успокаивающие таблетки. На рецепте стояло имя женщины: Розанна Лофтон. Золт глядел на спящую, и в душе у него пробуждалась застарелая тоска по материнской ласке. Жажда крови все не утихала, но брать эту женщину силой Золт не хотел. Вонзить в нее зубы и мгновенно высосать кровь — это не доставит ему никакого удовольствия. Нет, он хотел пить ее кровь капля по капле. Он мечтал приложиться к этой женщине, как прежде прикладывался к матери, когда она даровала ему эту милость. В минуты особого к нему расположения мать делала у себя на ладони неглубокий надрез или колола палец, потом позволяла свернуться калачиком у себя на коленях и целый час, а то и больше посасывать кровь. Какой покой, какое неизъяснимое блаженство! В такие часы весь мир со всеми его скорбями переставал для Золта существовать. Ибо материнская кровь — непорочная, чистая, как слезинка святого, — не сравнится ни с какой другой. Конечно, из маленькой раны много не высосешь, но эти капли были для него дороже и насыщали лучше, чем целые потоки крови из чужих вен. В жилах лежащей перед ним женщины течет не такая амброзия. И все же, если закрыть глаза и предаться воспоминаниям о тех днях, когда мать была еще жива, может быть, ему удастся хоть немного насладиться тем дивным покоем… и уловить хоть далекий отголосок того волнения. Не скидывая одеяла, Золт осторожно прилег на кровать и растянулся рядом с женщиной. Ее тяжелые веки затрепетали, она открыла глаза и взглянула на Золта. Ни один мускул на ее лице не дрогнул — наверно, ей казалось, что она еще спит. — Мне нужна только твоя кровь, — тихо произнес Золт. Отрешенное спокойствие, навеянное таблетками, как рукой сняло. В глазах женщины отразился ужас. Золт встревожился. Сейчас она все испортит: зайдется криком, станет сопротивляться, и тогда уже невозможно будет вообразить, что это его мать, добровольно отдающая кровь сыну. Золт поднял тяжелый кулак и ударил ее по шее сбоку. Потом еще раз. Потом два раза в лицо. Женщина без чувств опустилась на подушку. Золт забрался под одеяло, прижался к ней, взял ее за руку и впился зубами в ладонь. Лежа с ней на одной подушке, он смотрел ей в лицо и каплю по капле высасывал из раны кровь. Наконец он закрыл глаза и попытался представить на ее месте свою мать. И отрадный покой действительно снизошел на него. Но, хотя он давно не испытывал такого блаженства, ласковое тепло лишь обтекало его душу, не проникая внутрь. Там, внутри, было по-прежнему темно и холодно.Глава 14
Всего несколько часов сна — и Фрэнк Поллард пробудился на заднем сиденье угнанного «Шевроле». Утреннее солнце светило так ярко, что он зажмурился. Отдохнул он плохо, все тело затекло и ныло. В горле пересохло, а глаза были воспалены, словно он не спал несколько дней. Фрэнк спустил ноги на пол, сел и откашлялся. Тут он почувствовал, что руки у него онемели. Оказывается, он сжимал их в кулаки — причем, как видно, давно, потому что разжать их удалось не сразу. А когда наконец Фрэнк с усилием разжал правую руку, сквозь пальцы посыпалось что-то черное. Фрэнк удивленно уставился на черный порошок, осыпавший его джинсы и кроссовки. Потом поднял руку и принялся внимательно разглядывать прилипшие к ладони крошки. По виду и запаху — песок. Черный песок? Где он его набрал? Фрэнк разжал левую ладонь. И там песок. Фрэнк совсем растерялся. Выглянув в окно, он обвел взглядом жилой район, в котором остановился на ночлег. На лужайках из-под травы кое-где проглядывала темная земля, почва на грядках присыпана опилками, а под кустарниками — толстый слой щепок. Ничего общего с песком, который он зажимал в кулаках. Лагуна-Нигель стоит на берегу Тихого океана. Может, это песок с широких прибрежных пляжей? Но на здешних пляжах песок белый, а не черный. Онемевшие пальцы постепенно отошли. Фрэнк откинулся на спинку сиденья и еще раз посмотрел на черные песчинки, прилипшие к потной ладони. Песок, пусть даже черный песок, — штука вполне безобидная, но Фрэнк почему-то перепугался так, будто руки у него перепачканы не песком, а свежей кровью. — Что за черт? Да кто же я такой? Что со мной происходит? — спросил он вслух. Ему определенно нужна помощь. Но к кому обратиться?Глава 15
Над Санта-Аной разгулялся ветер. Бобби был разбужен шелестом листьев за окном. Ветер свистел под карнизами, сотрясал крышу, кедровые доски кровли и стропила потрескивали и поскрипывали. Щурясь спросонья, Бобби покосился на цифры, светящиеся на потолке, — 12.07. Дакотам порой приходилось работать по ночам, поэтому, чтобы отсыпаться днем, они установили на окнах светонепроницаемые жалюзи, и в спальне царила непроглядная тьма, а на потолок, как на экран, проецировалось изображение электронных часов. Светло-зеленые цифры маячили в вышине, словно загадочное послание из иных миров. Бобби прикинул: они с Джулией легли уже под утро и тут же уснули. Значит, сейчас двенадцать дня, а не ночи. Он проспал шесть часов. Лежа без движения, он гадал, проснулась Джулия или нет. — Проснулась, — сказала Джулия. — Ты что, умеешь читать мысли? Вот ужас. — Никакой не ужас. Я же тебе жена. Бобби потянулся к ней. Джулия охотно дала себя обнять. Поначалу им было достаточно и такой близости. Но затем на них разом накатило единое желание. Они поняли друг друга без слов. Тела их сплелись. Зеленоватое свечение на потолке было слишком слабым, Бобби не мог разглядеть Джулию. И все же он ее видел — руками. Видел восхитительную кожу, гладкую и теплую, видел точеные груди, видел изгибы, придававшие телу рельефность, видел упругие мускулы и переливчатую их игру. Так, должно быть, слепой ощупью постигает идеал красоты. Мир за стенами дома вздрагивал при каждом порыве ветра; вздрагивало при каждом чувственном порыве тело Джулии. Наконец Бобби, не в силах больше сдерживать тугой напор, вскрикнув, выпустил из себя эту своевольную силу, и в тот же миг раздался натужный вскрик ветра. Хлопая крыльями, пронзительно пища, метнулась из-под карниза приютившаяся там птица. Теперь они лежали рядом в темноте, дыша друг другу в лицо, касаясь друг друга чуть ли не с благоговением. Разговаривать не хотелось, да и не нужны тут слова: они только все испортят. Алюминиевые жалюзи слегка вибрировали на ветру. Скоро Бобби ощутил, как любовное послечувствие сменяется необъяснимой тревогой: беспросветный мрак давит на него, воздух становится удушливым и вязким, как сироп. В голову полезли прямо-таки дикие мысли. Ему вдруг показалось, будто он только что обнимался вовсе не с Джулией — на ее месте была не то какая-то воображаемая женщина, не то сгусток этого самого мрака. А Джулию под покровом темноты будто бы унесла некая неведомая сила, и теперь ему никогда ее не найти. Чушь, бред. И все-таки он приподнялся на локте и зажег бра над кроватью. Джулия лежала рядом на высокой подушке и улыбалась. Безрассудные опасения Бобби несколько развеялись. Он облегченно вздохнул (оказывается, у него даже дыхание перехватило). Но хотя Джулия была с ним, цела и невредима — если не считать ссадины на лбу, — Бобби еще не совсем успокоился. — Что с тобой? — спросила, как всегда, проницательная Джулия. — Ничего, — солгал он. — Голова болит? Плеснул в эггног слишком много рома? Нет, похмелье ни при чем. Бобби никак не мог отделаться от странного предчувствия, что скоро лишится Джулии, что какой-то выходец из враждебного мира уже тянется к ней… Оптимист по натуре, Бобби обычно не был подвержен мрачным предчувствиям, поэтому он и принял свою безотчетную щемящую тревогу так близко к сердцу. — Бобби, — Джулия нахмурилась. — Да, голова болит. Он склонился к ней и ласково поцеловал в оба глаза. Потом еще раз — чтобы она не разглядела его лица и не прочла в нем плохо скрытого беспокойства. Встав с постели, Дакоты приняли душ, оделись и наскоро позавтракали у кухонной стойки: оладьи с земляничным джемом, один банан на двоих и по чашке черного кофе. В агентство сегодня решили не наведываться. Переговорив по телефону с Клинтом Карагиозисом, Бобби убедился, что дело «Декодайна» близится к благополучному концу и что их личное присутствие в агентстве не обязательно. В гараже их дожидался «Судзуки Самурай» — маленький полноприводной спортивного типа грузовичок. При виде его Бобби повеселел. В свое время, собираясь его купить, Бобби убеждал Джулию, что это стоящее приобретение: машина сгодится и для работы, и для отдыха, к тому же цена приемлемая. На самом деле машина приглянулась ему потому, что водить ее — одно удовольствие. Джулия видела мужа насквозь, но «Самурай» и ей пришелся по душе — по той же причине. На этот раз, когда Бобби предложил ей сесть за руль, она решила не лишать его удовольствия вести машину самому. — Я вчера наездилась, — объяснила она, пристегивая ремень с кобурой. Ветер взметал и разносил по улицам сухие листья и стебли, обрывки бумаги и прочий мусор. На востоке вздымались вихри. Из каньонов вырывались стремительные ветры — в здешних местах их так и прозвали «санта-ана», по имени гор, где они возникают. Ветры обдували сухие, ощетинившиеся чахлым кустарником склоны холмов, которые еще не разровняли неугомонные местные строители, чтобы усеять тысячами однообразных деревянных оштукатуренных коттеджей, воплощающих калифорнийскую мечту. Беспорядочные могучие волны воздушного океана гнули деревья и катились на запад — туда, Где плескался настоящий океан. Туман совсем рассеялся, день стоял такой ясный; что с холмов можно было разглядеть остров Санта-Каталина в двадцати шести милях от побережья. Джулия поставила компакт-диск Арти Шоу. По машине разлилась звучная, упруго ритмичная мелодия. Саксофоны Лесли Робинсона, Хэнка Фримена, Тони Пастора и Ронни Перри сочно выводили свои партии. Музыка словно оттеняла буйное неистовство ветров Санта-Аны. Выехав за пределы округа, Бобби повернул на юг, а потом на запад, к прибрежным городам Ньюпорт, Корона-дель-Мар, Лагуна-Бич, Дана-Пойнт. Он старался выбирать удобные асфальтированные шоссе, проходящие вдали от главных магистралей. Тут кое-где попадалисьдаже апельсиновые рощи, которые прежде покрывали весь округ и которые теперь покорно уступают место все новым и новым дорогам и торговым центрам. Чем ближе к цели путешествия, тем оживленнее Джулия болтала и балагурила. Но Бобби знал, что это напускная беспечность. Всякий раз, как они отправлялись навестить ее брата Томаса, Джулия изо всех сил старалась призвать на помощь всю свою веселость. Она любила брата, но после каждой встречи с ним сердце у нее обливалось кровью, и она заранее взбадривала себя шутками и прибаутками. — На небе ни облачка, — заметила Джулия, когда они пронеслись мимо «Ранчо Ирвина», старого предприятия, занимавшегося упаковкой фруктов. — Славная погода, а, Бобби? — Да, денек на славу. — Наверно, ветер унес все тучи в Японию. Над Токио небось все небо затянуто. — Угу. И теперь калифорнийский мусор сыплется на линзу. Ветер швырнул навстречу машине сотни красных лепестков бугенвиллей. На миг показалось, будто «Самурай» обдало малиновой метелью. То ли из-за разговора о Японии, то ли по какой другой причине от этого лепесткового вихря повеяло Востоком. Бобби ничуть не удивился бы, если бы увидел на обочине в узорчатой тени женщину в кимоно. — Тут даже ветер красивый, — сказала Джулия. — Все-таки мы счастливые, правда, Бобби? Это же счастье — жить в таком изумительном уголке, правда? Музыканты Арти Шоу исполняли «Френези» — свинг, в котором есть где развернуться струнным. Слушая эту песню, Бобби каждый раз воображал себя героем фильма тридцатых-сороковых годов. Вот сейчас за углом он повстречает старинного приятеля Джимми Стюарта или Бинга Кроссби, и они отправятся куда-нибудь позавтракать в компании с Кери Грантом, Джин Артур и Кэтрин Хэпберн. И пойдет потеха. — Ты сейчас в каком фильме? — спросила Джулия. Ничего от нее не скроется! — Пока не соображу. «Филадельфийская история», что ли. Когда «Самурай» въехал на стоянку интерната Сьело-Виста, Джулия была уже в прекрасном расположении духа. Она вылезла из машины и с улыбкой окинула взглядом полоску, где сходились небо и океан, словно в жизни не видела картины восхитительнее. Панорама и впрямь радовала глаз: Сьело-Виста стоял на крутом обрыве в полумиле от океана, а внизу раскинулись широкие пляжи калифорнийского Золотого Берега. Бобби стоял рядом с женой, слегка втянув голову в плечи и зябко поеживаясь на холодном порывистом ветру. Собравшись с духом, Джулия взяла Бобби за руку и сжала ее. Они направились в корпус. Сьело-Виста был частным интернатом, поэтому он даже внешне отличался от стандартных казенных заведений такого рода. Интернат помещался в бледно-розовом двухэтажном здании в испанском стиле. Углы здания, дверные и оконные рамы были облицованы белым мрамором. Входные и балконные двери тоже были выкрашены в белый цвет, а дверные проемы сверху выгибались изящными арками. Над дорожками для прогулок тянулись решетчатые своды, увитые бугенвиллей и пестревшие лиловыми и желтыми цветами. Листья неумолчно шелестели на ветру. Пол внутри здания был устлан серым линолеумом в розовую и бирюзовую крапинку. Вдоль основания светло-розовых стен шла широкая белая полоса, а поверху — лепнина с растительным орнаментом. В такой обстановке и дышится легко и безмятежно. В холле Джулия остановилась, достала расческу и привела в порядок встрепанные ветром волосы. Потом супруги, на минуту задержавшись у стола дежурной в уютной приемной для посетителей, отправились в комнату Томаса, которая находилась на первом этаже в северном крыле здания. В комнате стояли две кровати. Кровать Томаса — та, что ближе к окнам, — была пуста. Кресло тоже. Томас склонился над рабочим столом, который он обычно делил со своим соседом по комнате Дереком, и вырезал из журнала фотографию. Внешность Томаса озадачивала: вроде бы здоровяк — и в то же время заморыш, массивный — и в то же время хрупкий. Физически он был крепок, а вот душой и разумом немощен, и этот внутренний недуг так и просвечивал сквозь его массивное тело. Коренастый крепыш с короткой шеей, округлыми литыми плечами, относительно короткими руками и широкой спиной смахивал на гнома. Но только фигурой: лицом он даже отдаленно не напоминал добродушного и лукавого сказочного персонажа. Черты его были изуродованы вследствие страшной генетической ошибки, биологической трагедии. Услышав шаги, Томас обернулся. — Жюль! — воскликнул он, бросил ножницы и вскочил, едва не опрокинув стул. — Жюль! Жюль! Томас был одет в мешковатые джинсы и фланелевую рубашку в зеленую клетку. Он выглядел лет на десять моложе, чем ему было в действительности. Джулия выпустила руку Бобби и, раскрыв объятия навстречу брату, вошла в комнату. — Здравствуй, родной. Томас двинулся к ней, едва переставляя ноги, словно ботинки у него были подбиты железом. Брат был десятью годами моложе Джулии, ему было двадцать, но ростом значительно ниже ее. Даже профан в медицине, взглянув на его лицо, безошибочно узнал бы все признаки болезни Дауна: тяжелый выпуклый лоб, кожные складки у внутренних углов глаз, из-за которых они казались по-восточному раскосыми, вдавленная переносица; уши сидели чересчур низко на непропорционально маленькой голове. Прочие детали лица, пухлые, бесформенные, говорили о замедленном умственном развитии. На таких лицах как бы навечно застыло выражение тоски и одиночества. Но сейчас лицо Томаса цвело блаженной лучистой улыбкой. При каждом появлении сестры он преображался. «Черт возьми, а ведь она и на меня так действует», — подумал Бобби. Слегка наклонившись, Джулия обняла брата и долго не выпускала. — Ну, как живешь? — спросила она. — Хорошо, — ответил Томас. — Я живу хорошо. Он выговаривал слова невнятно, и все-таки их можно было разобрать. В отличие от других жертв болезни Дауна Томасу еще повезло: его толстый язык не был изборожден складками, не торчал изо рта и более-менее свободно ворочался во рту. — А где Дерек? — В приемной. У него гости. Он придет. У меня все хорошо. А у тебя? — Чудесно, голубчик. Просто замечательно. — И у меня замечательно. Я тебя люблю, Жюль. — Томас так и сиял. Только в присутствии сестры его обычная застенчивость пропадала. — Я тебя очень люблю. — И я тебя, Томас. — Я боялся… ты не придешь. — Я ведь тебя не забываю, правда? — Правда. — Томас наконец отпустил Джулию и бросил взгляд на дверь. — Здравствуй, Бобби. — Привет, Томас! Выглядишь молодцом. — Правда? — Гадом буду. Томас хихикнул. — Бобби смешной, — сказал он Джулии. — А меня-то когда обнимут? — не унимался Бобби. — Так я и буду стоять, растопырив руки, пока меня не примут за вешалку? Томас нерешительно отошел от сестры. Они с Бобби обнялись. Томас и Бобби прекрасно ладили, и все же Томас еще стеснялся зятя. Он с трудом привыкал ко всему новому и за семь лет еще не совсем освоился с новым членом семьи. «Но он меня любит, — внушал себе Томас. — Наверно, так же сильно, как я его». Привязаться всей душой к человеку, страдающему болезнью Дауна, не так трудно. Надо только не ограничиваться естественной жалостью, а приглядеться к больному повнимательнее. Приглядишься — и поневоле оценишь их восхитительное простодушие и милую непосредственность. Иногда, чувствуя себя белыми воронами, они робеют и замыкаются, но, как правило, они искреннее и откровеннее многих нормальных людей: никакой оглядки на условности, никакого лицемерия. Прошлым летом, на пикнике, устроенном для обитателей интерната в честь Дня независимости, мать одного пациента сказала Бобби: «Вот смотрю я на них — какие же они добрые, ласковые. Наверно, они любезнее Господу, чем мы». И сейчас, обнимая Томаса и заглядывая в его добродушное пухлое лицо, Бобби понимал, насколько она права. — Мы тебя оторвали от стихотворения? — спросила Джулия. Томас оставил Бобби и заковылял к рабочему столу. У стола Джулия листала журнал, из которого Томас вырезал картинки. Томас взял со стола альбом — четырнадцать таких альбомов с его произведениями стояли в книжном шкафу у кровати, — раскрыл и показал Джулии. На развороте рядами были наклеены картинки. Ряды напоминали строки, которые складывались в четверостишия. — Это вчера. Вчера кончил, — объяснил Томас. — До-о-олго делал. Трудно. Теперь получилось… получилось. Лет пять назад Томас увидел по телевизору какого-то поэта. Поэт ему очень понравился, и Томас решил сам писать стихи. Надо сказать, что отставание в развитии психики при болезни Дауна выражается по-разному; у одних это отставание очень значительно, у других проявляется в более легкой форме. Тяжесть заболевания у Томаса была чуть выше средней, но даже при таких умственных способностях он научился писать только свое имя. Однако это его не остановило. Он попросил Джулию привезти бумагу, клей, ножницы, альбом и старые журналы. «Всякие журналы, чтобы с красивыми картинками… И некрасивыми… Всякие». Вообще Томас редко докучал сестре просьбами, а уж она, если брат чего попросит, готова была горы свернуть. Скоро у него появилось все, что нужно, и Томас взялся задело. Из журналов «Тайм», «Ньюсуик», «Лайф», «Хот род», «Омни», «Севентин» и множества других он вырезал фотографии или детали фотографий и, словно из слов, складывал «строки», заключающие какой-то смысл. Одни «стихи» были короткие, всего из пяти картинок, другие состояли из нескольких сотен фотографий, которые образовывали аккуратные «строфы», или чаще из чередования нестройных «строк» — что-то вроде свободного стиха. Джулия взяла альбом, села в кресло у окна и принялась разглядывать новые «сочинения». Томас замер у стола и, волнуясь, не сводил с нее глаз. В «стихах» не прощупывался сюжет, картинки подбирались без видимой связи, и все же нельзя сказать, что в этой веренице образов не было ни складу ни ладу. Церковный шпиль, мышка, красавица в изумрудном бальном платье, луг, пестрящий маргаритками, банка ананасового сока, полумесяц, горка блинчиков, с которой стекают капли сиропа, рубины, сверкающие на черном бархате, рыбка с разинутым ртом, смеющийся малыш, монахиня за молитвой, женщина, рыдающая над изуродованным телом любимого на поле боя в какой-то богом забытой стране, цветастая пачка леденцов, вислоухий щенок, еще одна монахиня в черном одеянии и белом крахмальном апостольнике… В заветных коробках для вырезок лежали тысячи подобных картинок. Из них Томас и складывал свои «стихи». Бобби как-то сразу проникся прихотливой гармонией этих «стихов», ощутил зыбкую, неуловимую соразмерность, оценил бесхитростные, но веские сочетания образов, угадал их внятный, но непостижимый ритм. И за всем этим открывалось неповторимое видение мира — вроде бы немудреное, но никак не поддающееся осмыслению. С годами «стихи» Томаса становились все удачнее и удачнее, хотя для Бобби они по-прежнему оставались загадкой и он сам не мог разобраться, чем именно новые «стихи» лучше прежних. Видел, что лучше, — и все тут. Джулия подняла глаза от альбома. — Чудесно, Томас. Прямо хочется… выбежать на улицу, встать на траве под голубым небом… или танцевать… или закинуть голову и смеяться. Читаешь и думаешь: «До чего же здорово жить на свете!» — Угу, — промычал Томас и захлопал в ладоши. Джулия отдала альбом Бобби. Тот присел на край кровати и тоже начал «читать». Самое поразительное, что «стихи» Томаса никогда не оставляли читателя равнодушным. Они нагоняли страх, навевали грусть, заставляли то мучиться, то изумляться. Бобби не понимал, в чем тут секрет, откуда у «стихов» это странное свойство. Они отзывались в самых потаенных уголках души, достигали сфер более глубинных, чем подсознание. — Ну ты и талантище, — похвалил Бобби со всей искренностью, чуть ли не с завистью. Томас покраснел и потупился. Он поднялся и поспешно зашаркал к тихо гудящему холодильнику у дверей в ванную. Обитателей интерната кормили в общей столовой, там же им подавали напитки и закуску, которую они заказывали сверх меню. Но больным, которые в силу умственных способностей могли поддерживать порядок в комнате, позволяли обзавестись холодильником и хранить там любимые лакомства и напитки: пусть привыкают к самостоятельности. Томас достал из холодильника три банки кока-колы, одну протянул Бобби, другую Джулии, с третьей вернулся к рабочему столу и опять опустился на свой стул на колесиках с прямой спинкой. — Ловите нехороших людей? — спросил он. — А как же, — отозвался Бобби. — Из-за нас тюрьмы набиты под завязку. — Расскажите. Джулия в кресле подалась вперед, Томас на стуле подкатился к ней, его колени коснулись ее колен. Джулия принялась живописать события прошлой ночи в «Декодайне». Она приукрасила поведение Бобби и выставила его настоящим героем, а свое участие в деле чуть-чуть притушевала. Не столько из скромности, сколько из-за Томаса: узнай он, какой опасности подвергалась сестра, он бы насмерть перепугался. Томас вовсе не хлюпик — иначе он, не дослушав историю до конца, лег бы на кровать, уткнулся в стенку, свернулся бы калачиком и больше не вставал. Томас сильный, и все-таки гибели Джулии он бы не пережил. Сама мысль, что такое могло произойти, подкосила бы его. Поэтому Джулия описала свою, отчаянную атаку на автомобиле и перестрелку как забавное происшествие, захватывающее, но, не страшное. Тут уж не только Томас — даже Бобби заслушался. Понемногу Томас начал уставать и терять нить рассказа. — Я наелся, — сказал он. Это означало, что он узнал сразу так много нового, что в голове не помещается. Вот так же и с миром за стенами интерната: Томасу этот мир очень нравится, и хотелось бы в нем пожить, но уж больно он яркий, цветастый, шумный, целиком его не вместишь, разве что понемножку. Бобби вынул из шкафа более ранний альбом и, присев на кровати, разглядывал «стихи» в картинках. Томас и Джулия забыли про кока-колу. Они по-прежнему сидели, соприкасаясь коленями, то встречались взглядами, то отводили глаза. Они вместе, они рядом. Джулии эти свидания дороги не меньше, чем Томасу. Мать Джулии погибла, когда девочке было двенадцать лет. Через восемь лет — за два года до ее замужества — умер отец. В то время двадцатилетняя Джулия работала официанткой — зарабатывала на учебу в колледже и на однокомнатную квартирку, которую она снимала вместе с другой студенткой. Денег у родителей никогда не водилось, однако они не хотели расставаться с сыном, и Томас постоянно жил при них, хотя на уход за ним шел почти весь их скудный заработок. После смерти отца оказалось, что квартира на двоих — для себя и для Томаса — Джулии не по карману. К тому же Томас совершенно не приспособлен к самостоятельной жизни, и ухаживать за ним Джулии некогда. Оставалось одно: поместить его в казенное заведение для умственно отсталых детей. Томас зла на сестру не держал, зато сама она не могла себе этого простить: ей казалось, что она предала брата. Джулия собиралась стать криминологом, но на третьем курсе бросила колледж и подалась в академию шерифов. Чуть больше года она работала помощником шерифа, потом встретила Бобби, и они поженились. К тому времени она еле сводила концы с концами, отказывала себе во всем и откладывала большую часть жалованья в надежде когда-нибудь купить маленький дом и поселиться там вместе с Томасом. Вскоре после замужества, когда сыскное бюро Дакоты стало именоваться «Дакота и Дакота», супруги взяли Томаса к себе. Работать им приходилось во внеурочное время, а за Томасом требовался постоянный присмотр: некоторым даунам удается овладеть навыками самостоятельной жизни, но Томас не из их числа. Нанять опытных сиделок, чтобы они работали в три смены? Такая роскошь обойдется дороже, чем прекрасный уход в частном интернате вроде Сьело-Виста. Впрочем, если бы можно было найти надежных помощников, Дакоты за деньгами бы не постояли. В конце концов, поняв, что заниматься делом, ухаживать за Томасом и жить своей жизнью становится невозможно, Роберт и Джулия поместили Томаса в Сьело-Виста. Это было идеальное заведение, но Джулию снова стали мучить укоры совести: опять она предала брата! Не утешало и то, что в Сьело-Виста брат не знает никаких забот и живет припеваючи. Судьба Томаса тоже связана с Мечтой. По-настоящему Мечта осуществится только тогда, когда у супругов будет достаточно свободного времени и денег, чтобы взять Томаса к себе. — Томас, а что, если нам пойти погулять? — предложила Джулия. Бобби оторвался от альбома. Томас и Джулия все так же держались за руки. После слов Джулии Томас еще крепче вцепился в ее руку. — Покатаемся на машине, — продолжала Джулия, — съездим на море. По пляжу побродим. Купим мороженое, а? Томас встревоженно посмотрел в окно, на заключенный в раму кусочек голубого неба, на котором сновали и резвились белые чайки. — Не-е, там плохо. — Что ты, родной, просто немного ветрено. — Я не про ветер. — А то бы развлеклись. — Там плохо, — повторил Томас и пожевал нижнюю губу. Иногда Томас был не прочь совершить такую прогулку, а иногда и слышать о ней не хотел, словно сам воздух за стенами интерната — чистый яд. И уж если он превращался в затворника, то никакими уговорами его нельзя было выманить на улицу. — Хорошо. Может, в следующий раз, — сдалась Джулия. — Может, — Томас уставился в пол. — Сегодня правда плохо. Я… чувствую… плохо. По коже холодно. Бобби и Джулия заводили разговор то о том, то о сем, но Томас уже наговорился. Он молчал, не смотрел в глаза и даже вида не показывал, что слушает. Повисла пауза. Наконец Томас произнес: — Посидите еще. — Мы не уходим, — уверил его Бобби. — Я не разговариваю… но я не хочу… чтобы вы ушли. — Мы знаем, малыш, — успокоила Джулия. — Я… вас люблю. — Я тебя тоже, — Джулия взяла толстопалую руку брата и поцеловала костяшки пальцев.Глава 16
Купив в магазине электробритву, Фрэнк Поллард зашел в туалетную комнату станции техобслуживания, побрился и умылся. Потом он завернул в торговый центр, купил чемодан, нижнее белье, носки, две рубашки, джинсы и кое-какие мелочи. На стоянке у торгового центра, где слегка покачивался на ветру угнанный «Шевроле», он сложил покупки в чемодан. Затем он поехал в один из мотелей Ирвина и, предъявив удостоверение личности на имя Джорджа Фарриса, снял комнату. Задаток уплатил наличными: кредитной карточки у него не было, зато наличности целая сумка. Что дальше? Отсидеться в окрестностях Лагуна-Бич? Нет, долго оставаться на одном месте опасно. Бог знает, почему он так решил: вероятно, сказывается опыт. А может, он так давно удирает, что бегство уже вошло в плоть и кровь, отучило от оседлой жизни. Комната мотеля, просторная и чистая, была обставлена со вкусом по последней моде Юго-Западного побережья: светлое дерево, плетеные кресла с подушками, украшенными бледно-розовыми и голубыми узорами, серо-зеленые портьеры. С этой обстановкой никак не вязался крапчатый коричневый ковер — видно, владелец мотеля посчитал, что на ковре такого цвета пятна и потертости не очень бросаются в глаза. Этот цветовой контраст создавал странное, жутковатое впечатление: казалось, светлая мебель не стоит на полу, а парит над ним. Фрэнк почти весь день просидел на кровати, откинувшись на подушки. Работал телевизор, но Фрэнк не обращал на него внимания. Он все пытался заглянуть в темный провал, зиявший в памяти. Но все напрасно: воспоминания неизменно начинались с прошлой ночи, когда он очнулся в переулке. И над этими воспоминаниями колыхалась странная, невыразимо зловещая тень. Может статься, оно и к лучшему, что в памяти удержалось так мало. Без посторонней помощи не обойтись. Но не к властям же обращаться: невесть откуда взявшиеся деньги и документы на чужое имя обязательно вызовут подозрение. Фрэнк взял с тумбочки телефонный справочник и пробежал список частных сыскных агентств. Частный детектив… Ископаемая профессия. На ум приходят старые фильмы с Хэмфри Богартом. И как это парень в плаще и надвинутой на глаза шляпе поможет ему вернуть память? Наконец заунывный вой ветра сморил Фрэнка, и он погрузился в сон, которым обделила его прошлая ночь. Через несколько часов он проснулся. Солнце уже клонилось к закату. Фрэнк стонал и задыхался, сердце бешено колотилось. Он сел, свесив ноги с кровати, и вдруг обнаружил, что руки залиты багровой жидкостью. Джинсы и рубашка в крови. Чья это кровь? Его? Да, но не только. Едва ли из глубоких царапин на обеих руках могло натечь столько крови. Лицо саднило. Фрэнк пошел в ванную и взглянул в зеркало. Две длинные царапины на правой щеке, одна на левой, одна на подбородке. Непонятно, как его угораздило так изодраться во сне. Уж не напали ли на него, пока он спал? Или, обезумев от приснившегося кошмара, он сам себя расцарапал? Не похоже: он бы тут же пробудился. И не снились ему никакие кошмары! Выходит, это случилось в минуты бодрствования, а потом он как ни в чем не бывало улегся на кровать и опять заснул. Причем это происшествие тут же выскочило у него из памяти — как и все обстоятельства прежней жизни. Не на шутку перепугавшись, Фрэнк вернулся в комнату, обшарил кровать и шкаф. Он и сам не знал, что ищет. Труп, должно быть. Ничего. От мысли об убийстве у него в глазах потемнело. Да не способен он на убийство! Разве что защищаясь. Кто же расцарапал ему лицо и руки? Чья это кровь? Он опять пошел в ванную, скинул окровавленную одежду, свернул и туго обвязал. Умылся, вымыл руки. Потом достал кровоостанавливающий карандаш, который купил сегодня вместе с бритвенными принадлежностями, и обработал царапины. Мельком поймав в зеркале свой затравленный взгляд, Фрэнк тут же отвел глаза. Не выдержал. В комнате он переоделся и взял с туалетного столика ключи от машины. Страшно подумать, что может оказаться в «Шевроле». Фрэнк повернул ручку двери и вдруг сообразил, что ни на створке двери, ни на дверной раме нет следов крови. Если он сегодня днем уходил, а потом вернулся весь в крови, то неужели, прежде чем завалиться в постель, он нашел в себе силы тщательно стереть кровь с двери? Такого самообладания от него трудно ожидать. И куда он дел тряпку, которой вытирал дверь? В безоблачном небе сияло еще яркое закатное солнце. Прохладный ветер колыхал листья пальм, в воздухе стоял шелест, а порой, когда толстые черешки листьев ударялись друг о друга, раздавался жесткий стук, словно щелкали деревянные зубья. На бетонной дорожке возле корпуса пятен крови не видно. В машине тоже. И на грязной резиновой подстилке в багажнике ничего. Стоя у открытого багажника, Фрэнк озирал корпуса мотеля и автомобильные стоянки. Через корпус от него молодой человек и девушка лет двадцати выгружали багаж из черного «Понтиака». Другая пара с дочуркой школьного возраста спешила по крытой дорожке в сторону ресторана. Нет, трудно поверить, что Фрэнк ухитрился среди бела дня незамеченным выйти из корпуса, совершить убийство и так же незамеченным, в одежде, перепачканной кровью, преспокойно вернуться обратно. Возвратившись в комнату, Фрэнк подошел к кровати и осмотрел смятое одеяло. На нем действительно были багровые пятна. Но, если бы на него напали в постели (как — одному богу известно), крови натекло бы куда больше. Конечно, будь это только его кровь, было бы неудивительно, что она залила лишь рубаху и джинсы. И все-таки расцарапать себе одну руку, потом другую, потом обеими руками впиться в лицо и при этом не проснуться — такого просто быть не может. Да, вот еще что. Царапины оставлены острыми ногтями. А у Фрэнка ногти тупые, обкусанные до самой мякоти.Глава 17
Из интерната Сьело-Виста «Самурай» отправился на юг. На пляже между Корона-дель-Мар и Лагуна-Бич Бобби оставил машину на стоянке и вместе с Джулией пошел к океану. Перед ними раскинулся зеленовато-голубой простор с нежными серыми прожилками. Там, где глубже, поверхность темнела; там, где катились волны, пронизанные лучами низкого сочного солнца, мягко переливались многоцветные блики. Вал за валом накатывался на берег, ветер срывал с волн накипавшую пену. Серфингисты в черных плавательных костюмах гребли на своих досках к взбухающей волне — прокатиться напоследок. Их товарищи в таком же облачении расположились у павильонов; кто пил горячие напитки из термосов, кто прохладительные из банок. Больше на пляже никого не было: загорать в такой день холодно. Бобби и Джулия набрели на невысокий холм, куда не долетали брызги прибоя, и уселись на жесткую траву, которой местами оброс песчаный, обожженный солью склон. Джулия первой нарушила молчание: — Вот в таком местечке и заживем. Больно вид хорош. Дом должен быть небольшой. — Конечно, большой нам ни к чему. Гостиная, спальня для нас, спальня для Томаса. Ну, может, еще уютный кабинетик с книжными полками. — Столовая не нужна. А вот кухню я хочу большую. — Ага. Чтобы как жилая комната. Джулия вздохнула. — Музыка, книги, домашняя стряпня — а то мне уже надоело питаться как попало, на бегу. Куча свободного времени. Будем втроем посиживать на террасе и любоваться океаном. То, о чем они говорили, тоже относилось к Мечте: скопить — причем не только ценой строгого самоограничения — столько, чтобы обеспечить себя на двадцать лет вперед, уйти на покой и купить дом на побережье. Бобби и Джулию сближало еще одно: оба понимали, что жизнь коротка. Эта истина, конечно, известна всем, но многие предпочитают от нее отмахнуться, будто впереди у них череда бесчисленных «завтра». Если бы они всерьез задумывались о смерти, они бы не волновались так за исход футбольного матча, не следили, затаив дыхание, за перипетиями телевизионной мелодрамы, не принимали близко к сердцу трескотню политиканов. Они бы поняли, что подобные заботы — ничтожные пустяки перед лицом той бесконечной ночи, в которую рано или поздно уходит каждый. Им было бы жаль тратить драгоценные минуты на очереди в магазинах или попусту убивать время в обществе болванов и зануд. Возможно, за этим миром открывается другой, возможно даже, что существует рай, хотя рассчитывать на это не стоит — рассчитывать можно лишь на небытие. И если окажется, что это ошибка, тем приятнее будет, что обманулся в своих ожиданиях. Бобби и Джулия не склонны были предаваться унынию. Они умели наслаждаться жизнью не хуже других, но в отличие от многих не хватались из страха перед неизведанным за хрупкую надежду на бессмертие души. Размышления о смерти вызывали у них не тревогу и отчаяние, а твердую решимость не растрачиваться на пустяки: куда важнее сколотить средства, чтобы обеспечить себе долгую семейную жизнь в тихой заводи. Ветер играл каштановыми волосами Джулии. Щурясь, она наблюдала, как солнце все ниже склоняется к кромке далекого горизонта, по которой все гуще растекается медовое золото. — Я знаю, почему Томас не хочет выбираться из интерната, — сказала она. — Он боится людей. Их так много. Вот маленький домик на тихом безлюдном берегу — это как раз для него. Я уверена. — Все будет так, как мы задумали, — успокоил ее Бобби. — Пока агентство окончательно встанет на ноги и мы его продадим, цены на Южном побережье здорово подскочат. Но к северу от Санта-Барбары тоже есть красивые места. — Побережье большое. — Бобби обнял жену. — Найдем местечко и на юге. Поживем еще в свое удовольствие. Жизнь не вечна, но мы-то молоды. Нам ведь жить да жить. И тут ему вспомнилось предчувствие, которое промелькнуло у него нынче утром, — страх, что какая-то темная сила из мира, бушевавшего ветрами, похитит у него Джулию. Солнце уже вплавлялось в кромку горизонта. Медовое золото сгустилось, море окрасилось оранжевым, потом кроваво-красным. Высокая трава шуршала на ветру. Бобби оглянулся. По склону между стоянкой и пляжем сбегали маленькие песчаные вихри, словно бледные призраки, с наступлением сумерек покинувшие кладбище. На востоке над миром нависла стена мрака. Стало холодно.Глава 18
Весь день Золт проспал в комнате, где прежде спала его мать. Комната сохраняла ее запах. Два-три раза в неделю Золт сбрызгивал белый кружевной платок ее любимыми духами «Шанель № 5» и клал его на ночной столик рядом с серебряными щетками и гребешками, чтобы каждый вздох напоминал о матери. Иногда, очнувшись от сна, чтобы поправить подушку или подтянуть одеяло, он ловил этот аромат и снова погружался в сон, как будто знакомый запах, подобно транквилизатору, навевал блаженную дрему. Спал он обычно в тренировочных брюках и футболке. Найти пижаму по размеру ему никак не удавалось, а ложиться в постель нагишом или даже в нижнем белье было стыдно. Он стеснялся собственной наготы и тогда, когда его никто не видел. Весь день светило бесстрастное зимнее солнце, но оба окна спальни были снаружи прикрыты полотняными навесами с цветочным узором, а внутри задернуты розовыми гардинами. Изредка просыпаясь, Золт таращил слипающиеся глаза во тьму, откуда сочилось жемчужно-серое свечение зеркала и поблескивали серебряные рамочки фотографий на тумбочке. Одурманенный сном и благоуханием духов, которыми он совсем недавно окропил платок, Золт без труда представлял, что безмерно любимая мать сидит рядом в кресле-качалке, смотрит на него и стережет его сон. Он окончательно проснулся перед самым заходом солнца и лежал, закинув руки за голову и устремив взгляд в балдахин над кроватью. В темноте он ничего не видел, но воображение и так рисовало ему знакомый купол из ткани, расписанной бутонами роз. Золт думал о матери, о лучших — теперь безвозвратно ушедших — годах своей жизни. Потом в голову полезли мысли о девочке, мальчишке и женщине, которых он убил вчера. Золт попытался вспомнить вкус их крови, но воскресить его в памяти так же явственно, как образ матери, не удалось. Включив ночник, Золт оглядел такую знакомую, такую родную комнату. На, обоях, на постельном покрывале, на жалюзи красовались бутоны роз, гардины и ковры были розовые. Темный стол красного дерева. Туалетный столик. Высокий комод. На подлокотники кресла-качалки наброшены два вязаных шерстяных платка — один цвета лепестков розы, другой — зеленый, цвета листьев. Золт прошел в ванную по соседству со спальней, запер дверь и проверил, надежно ли. Ванная освещалась только флюоресцентными панелями над раковиной, маленькое окошко под потолком Золт давным-давно закрасил черной краской. Золт погляделся в зеркало. Ему нравилось собственное лицо. Он пошел в мать. Те же светлые, почти белые волосы, те же голубые, цвета морской волны глаза. Только вот форма лица… У Золта оно топорное, крепко сбитое. Нет и намека на очаровательную миловидность матери. Разве что губы такие же пухлые, как у нее. Он разделся, стараясь не глядеть на свое тело. Крутые плечи, крепкие руки, широкая грудь, мускулистые ноги — это, конечно, здорово, но от одного вида половых органов его воротит. Он прямо заболевает. Чтобы не прикасаться к этому гнусному месту, он даже мочился сидя. А в душе, намыливая промежность, надевал особую рукавицу, которую сшил из двух махровых мочалок. После душа Золт натянул темно-серые брюки и черную рубашку, надел спортивные носки и кроссовки и нерешительно покинул свое надежное убежище — бывшую комнату матери. Спустилась ночь. В коридоре на втором этаже тускло светили две слабые лампочки в люстре, покрытой пылью и растерявшей половину хрустальных подвесок. Слева вниз убегали ступеньки лестницы, справа шли комната сестер, комната, в которой раньше жил Золт, и еще одна ванная. Все двери стояли нараспашку, в комнатах темно. Дубовый пол поскрипывал под ногами, ветхая ковровая дорожка почти не заглушала шума шагов. Золт давно подумывал привести дом в божеский вид. Может, даже раскошелиться на новые ковры и краску для ремонта. Но дальше планов дело не шло: ведь в комнате матери он и так поддерживает безупречную чистоту и порядок, а тратить время и деньги на уход за всем домом ни к чему. Что до сестер, то у них не было ни желания, ни привычки заниматься хозяйством. По ступенькам зашуршали десятки мягких лапок. «Кошки», — догадался Золт и остановился подальше от лестницы, чтобы ненароком не наступить какой-нибудь на лапу и хвост. Кошки высыпали в коридор и окружили Золта. Последний раз, когда Золт их пересчитывал, их было двадцать шесть. Одиннадцать черных, две ярко-рыжие, остальные шоколадные, табачно-бурые, темно-серые. Между ними затесалась только одна белая. Сестры Лилли и Вербена питали слабость к темным кошкам: чем темнее, тем лучше. Гибкие твари мельтешили вокруг Золта, наступали на кроссовки, терлись об ноги, обвивали хвостами щиколотки. Тут были две ангорские кошки, абиссинская, мальтийская, домашняя бесхвостая, пестрая, но большей частью беспородные полукровки. Зеленые, желтые, голубые, серебристо-серые глаза смотрели на Золта с любопытством. Кошки не урчали, не мяукали, просто молча наблюдали за ним. Вообще Золт недолюбливал кошек. Ему приходилось терпеть их под боком не только потому, что сестры души в них не чаяли, но и потому, что сестры и кошки как бы срослись душами. Прикрикнуть на кошку, ударить ее — все равно что поднять руку на сестру. А этого он никогда себе не позволит: мать на смертном одре строго-настрого завещала заботиться о сестрах. Разведав, что происходит в коридоре, кошки дружно повернули обратно. Помахивая хвостами, напрягая переливчатые мышцы, распушив шерсть, они как одна хлынули вниз по лестнице. Когда Золт вслед за ними спустился на первый этаж, кошки свернули за угол и пропали. Он миновал темную, затхлую общую комнату. Пахнуло плесенью из кабинета, где ветшали на полках любимые книги матери — сентиментальные романы. Проходя через полутемную гостиную, он слышал, как под ногами хрустит сор. Лилли и Вербену он нашел на кухне. Сестры были близнецами. Светловолосые, белокожие и голубоглазые, они походили друг на друга как две капли воды: та же гладкая кожа, те же блестящие лбы, те же высокие скулы, прямые носы и точеные ноздри. Губы у обеих от природы были такие красные, что сестры обходились без губной помады, а их маленькие ровные белые зубки напоминали кошачьи. Золт и так и этак пытался полюбить сестер — ничего не получалось. Однако, памятуя о матери, он не мог и не любить их, поэтому успокоился на том, что просто жил с ними под одной крышей, не питая к ним никаких родственных чувств. Сестры были донельзя худощавые, хрупкие — можно сказать, болезненно хрупкие — и бледные, как подземные жители, которым нечасто доводится бывать на солнце. Собственно, они и в самом деле редко выходили из дому. Их тонкие руки всегда были ухоженны: сестры холили себя с утра до вечера — ни дать ни взять кошки. Золту казалось, что пальцы у них чересчур длинные, неестественно гибкие и проворные. В общем, у сестер ни малейшего сходства с матерью — крепкой, полнокровной женщиной с ярким лицом. Уму непостижимо: такая цветущая женщина, а дочери — бледная немочь. В углу просторной кухни сестры уложили одно поверх другого шесть хлопчатобумажных одеял, чтобы кошкам было где полежать в свое удовольствие. Однако и сами Лилли и Вербена порой часами просиживали на подстилке вместе с кошками. Вот и сейчас Золт застал их на полу в окружении своих любимиц. Кошки сгрудились вокруг, забрались к сестрам на колени. Лилли подравнивала ногти сестры наждачной пластинкой. На Золта они даже не взглянули: ведь они уже поздоровались, прислав к нему кошек. На памяти Золта — он был на четыре года старше близнецов — за все двадцать пять лет своей жизни Вербена не проронила ни слова. Не то не умела, не то не хотела, не то стеснялась говорить в его присутствии. Лилли тоже молчунья, но при необходимости могла подать голос. Видно, сейчас ей просто не о чем разговаривать. Золт задержался возле холодильника и посмотрел на сестер, сосредоточенно склонившихся над левой рукой Вербены и занятых только ее ногтями. Пожалуй, он судит их слишком строго. Кое-кому их странная наружность пришлась бы по душе. На его вкус они слишком худосочны, а другой мужчина скажет, что руки и ноги у них изящные, соблазнительные. Ведь находят же соблазнительными ноги балерин и руки акробаток. И кожа, мол, у них молочно-белая, и груди пышные. Не ему, Золту, об этом судить: он, слава богу, знать не знает, что такое похоть. Одевались сестры очень легко — лишь бы чуть-чуть прикрыть наготу, а то Золт рассердится. Зимой они так протапливали дом, что в комнатах стояла невыносимая духота, и сидели босиком, в майках и шортах, а то и просто в трусиках — вот как сейчас. Только в комнате матери было прохладно: там Золт отопление выключал. Будь их воля, близнецы расхаживали бы по дому вовсе без одежды. Лилли лениво, томно обтачивала ноготь Вербены. Сестры не сводили с него глаз, будто в изгибе ногтя или в его лунке заключена вся мудрость. Из холодильника Золт достал кусок консервированного окорока, швейцарский сыр, горчицу, маринованные огурцы и пакет молока. Хлеб лежал в буфете. Золт отодвинул стул с решетчатой спинкой и сел за пожелтевший от времени стол. Когда-то столы, стулья и шкафы здесь сияли глянцевитой белизной, однако после смерти матери их ни разу не перекрашивали. С годами краска желтела, трескалась, углы и углубления покрывались серым налетом. Обои с цветами маргариток замусолились, кое-где отошли швы, а ситцевые шторы, пыльные и грязные, болтались как тряпки. Золт сделал себе два бутерброда с сыром и ветчиной и запил молоком прямо из пакета. Вдруг все двадцать шесть кошек, которые вальяжно развалились вокруг сестер, вскочили, направились к двери и чинно, одна за одной, вышли через отверстие в створке. Наверно, на двор. Лилли и Вербена не желают, чтобы весь дом провонял кошачьей мочой. Закрыв глаза, Золт припал к пакету молока. Жаль, что холодное. Когда оно теплое — комнатной температуры или чуть теплее, — оно по вкусу слегка напоминает кровь, только не такое терпкое. Минуты через две кошки вернулись. Вербена лежала на спине, положив голову на подушку и закрыв глаза. Губы ее беззвучно шевелились, словно она разговаривала сама с собой. Теперь она протягивала сестре другую руку, и Лилли продолжала самозабвенно обтачивать ей ногти. Вербена раскинула свои длинные ноги так широко, что Золт мог запросто скользнуть взглядом между ее смуглых ляжек. На ней была лишь майка и тонюсенькие трусики персикового цвета, которые не только не скрывали раздвоенный бугорок между ее ног, а, напротив, делали его еще заметнее. Кошки гурьбой кинулись к Вербене и облепили ее — как видно, они больше пеклись о пристойности, чем их хозяйка. На Золта они бросали укоризненные взгляды, точно знали, куда он смотрит. Золт опустил глаза и уставился на рассыпанные по столу крошки. Внезапно Лилли произнесла: — Тут был Фрэнк. Золт вздрогнул от неожиданности. Сперва его поразили не слова сестры, а то, что она вообще нарушила молчание. И вдруг смысл сказанного сотряс душу, как гул медного гонга, по которому ударили деревянным молотком. Откинув стул, Золт взвился из-за стола. — Тут? В доме?! Вербена и кошки, исполненные дремотного безразличия, на шум даже головы не повернули. — Возле дома, — ответила Лилли, не отрываясь от ногтей сестры. Она говорила очень тихо, почти шептала, но голос ее был полон сладострастия. — Подкрался со стороны миртовой изгороди и что-то вынюхивал. Золт глянул в чернеющую за окнами ночь. — Когда? — Часа в четыре. — Так что же вы меня не разбудили? — Он появился ненадолго. Как всегда. Появится на одну-две минуты и исчезает. Боится. — Ты его видела? — Я знаю, что он приходил. — И ты его не задержала? — Задержишь его, как же, — раздраженным, но тем же сладострастным шепотком прошелестела Лилли. — Но кошки на него так и бросились. — Исцарапали? — Не сильно. Слегка. Он убил Саманту. — Кого? — Саманту. Нашу киску. Золт не знал ни одну кошку по имени. Он вообще их не различал: ходят стаей, двигаются как по команде, даже мысли у них, кажется, общие. — Он убил Саманту. Размозжил ей голову о каменный столб у ворот. — Лилли наконец подняла глаза. Золту показалось, что они светлее, чем обычно, — цвета голубоватого льда. — Я хочу, чтобы ты с ним разделался, Золт. Разделался так же, как он разделался с нашей кошечкой. Пусть он нам и брат… — После того что он сделал, он нам не брат! — прорычал Золт. — Пришиби его, Золт. Так же, как он пришиб бедняжку Саманту. Раскрои ему башку. Разбей череп, чтоб мозги потекли. Золт слушал этот тихий голос как завороженный. Иногда — в такие вот минуты — похотливые нотки в голосе сестры звучали особенно внятно. Он не просто ласкал слух, он вползал в сознание, обволакивал мозг, точно дымка, точно туман. — Бей его, терзай, круши. Переломай кости, выпусти кишки, вырви глаза. Он еще пожалеет, что прибил Саманту. Золт стряхнул оцепенение. — Можешь не беспокоиться. Доберусь до него — убью. Но не из-за кошки. Из-за матери. Забыла, как он с ней обошелся? Семь лет я не могу отомстить за мать, а ты лезешь со своей кошкой. Лилли осеклась, нахмурилась и отвернулась. Кошки отхлынули от лениво раскинувшейся Вербены. Растянувшись бок о бок с сестрой, Лилли слегка повернулась, приникла к ней грудью и положила голову ей на грудь. Их обнаженные ноги сплелись. Вербена в полузабытьи принялась ласково поглаживать шелковые волосы сестры. И снова кошки облегли сестер, прильнув к каждой тепло»! складке их тел. — Здесь был Фрэнк, — повторил Золт, обращаясь скорее к себе, чем к сестрам, и руки его сжались в кулаки. Ярость взметнулась в его душе, словно вихрь в далеком океане, грозящей перерасти в неистовый ураган. Нет-нет, предаваться ярости нельзя, надо взять себя в руки. Ярость расшевели темную страсть. Убийство Фрэнка угодно матери, ведь Фрэнк предал родных, и смерть его — на благо семьи. Но, если Золт, обуреваемый безоглядной ненавистью к брату, не сумеет его разыскать, он уже не в силах будет противиться заветному желанию и опять убьет кого попало. И мать на небесах вознегодует, на время отвернется от него, откажется признавать в нем сына. Устремив взгляд в потолок, в незримое небо, где в чертогах Господних пребывает теперь мать, Золт пообещал: — Я не поддамся искушение. Сдержусь. Непременно сдержусь. Он покинул сестер с их кошками, вышел из дома и направился к миртовой изгороди поискать у каменных опор ворот, где Фрэнк убил Саманту, следы брата.Глава 19
Бобби и Джулия поужинали в кафе «Оззи» и перебрались в бар по соседству. Тут играла музыка и пел Эдди-Дей, певец с гибким, бархатнымголосом. Музыканты наяривали современные мелодии, но попадались и вещицы пятидесятых — начала шестидесятых. Это, конечно, не джаз биг-бенд, но ранний рок-н-ролл отдаленно напоминал свинг. Бобби и Джулия вполне могли танцевать под такие мелодии, как «Мечтательный влюбленный», румба, «Ла бамба», ча-ча-ча, не говоря уже о песнях в стиле диско — в репертуаре Эдди Дея имелись и они. Так что супруги не скучали. После посещения Сьело-Виста Джулия не упускала возможности потанцевать. Разрядочка что надо; отдаешься музыке, следишь за ритмом, стараешься не сбиться. А все остальное можно выбросить из головы Горе, угрызения совести как рукой снимает. А уж как Бобби любит танцевать, особенно под свинг! Крутишься, прыгаешь, меняешься местами с партнершей. Слушаешь музыку — и забываешь обо всех невзгодах, танцуешь — и душа радуется. И заживают понемногу душевные раны. Пока музыканты отдыхали, Бобби и Джулия за столиком на краю танцевальной площадки пили пиво. Болтали обо всем, кроме Томаса, но разговор так Или иначе возвращался к Мечте. К примеру, как обставить бунгало на побережье. Слишком тратиться на мебель они не собирались, но перед двумя раритетами эпохи свинга устоять не мели. Это горка в стиле арт деко из мрамора и бронзы работы Эмиля Жака Рульмана и, конечно же, музыкальный автомат фирмы «Вурлицер». — Модель 950, добавила Джулия. — Потрясная штука. На ней такие стеклянные трубочки с водой, и в них пузырьки. А на передней панели — прыгающие газельки. — Таких автоматов выпустили всего четыре тысячи. Все из-за Гитлера. «Вурлицеру» пришлось переходить на военную продукцию. Кстати, пятисотая модель тоже ничего. И семисотая. — Да, ничего. Но с девятьсот пятидесятой не сравнить. — По стоимости тоже. — И ты станешь мелочиться, когда речь идет об идеале красоты? — Это «Вурлицер-950» — идеал красоты? — удивился Бобби. — Ну да. А что же еще? — Мой идеал — это ты. — Ты очень любезен. Но от «Вурлицера» я не отступлюсь. — А я, по-твоему, как — идеал красоты? — подмигнул Бобби. — Ты, по-моему, просто упрямец, который не позволяет мне купить «Вурлицер-950». — Игра уже начала забавлять Джулию. — Может, лучше возьмешь «Сибург»? Или «Паккард Плеймор»? Нет? Ладно, ну а «Рокола»? — Да, «Рокола» — это неплохо, — согласилась Джулия. — Заведем себе и «Роколу». И «Вурлицер-950». — Соришь деньгами, как подгулявший матрос. — Я рождена для роскоши. Это аист напутал: нет чтоб доставить меня к Рокфеллерам. — Ты бы не прочь с этим аистом посчитаться, а? — Посчиталась уже. Много лет назад. Зажарила и съела на Рождество. Очень вкусно, и все же Рокфеллершей я так и не стала. — Ну как ты, развеселилась? — уже серьезно спросил Бобби. — До чертиков. И пиво тут ни при чем. Не знаю, с чего это, но сегодня мне так хорошо. Все непременно будет, как мы задумали, Бобби. Скоро мы бросим работу и станем жить-поживать в своем бунгало на берегу. Улыбка сползла с лица Бобби. Он нахмурился. — Чего ты куксишься, кисляй? — Ничего. — Я же вижу. Ты сегодня весь день сам не свой, только стараешься виду не показывать. Какая муха тебя укусила? Бобби отхлебнул пива. — Видишь ли, — наконец отважился он, — тебе кажется, что все будет замечательно, а мне кажется, что все будет очень даже скверно. У меня дурные предчувствия. — У тебя? У мужичка-бодрячка? Бобби продолжал хмуриться. — Занялась бы ты пока бумажной работой. Отдохни от стрельбы. — С какой стати? — Я же говорю: дурные предчувствия. — Какие еще предчувствия? — Что я могу тебя потерять. — Я тебе потеряю!Глава 20
Повинуясь невидимой палочке дирижера-ветра, дружный шепот миртовых листьев то крепчал, то затихал. Густая живая изгородь, с трех сторон окружавшая участок, где стоял дом, возвышалась метра на два и вымахала бы еще выше, если бы Золт пару раз в год не подстригал ее электрическими садовыми ножницам. Золт отворил невысокую железную калитку между двумя каменными столбами и вышел на усыпанную гравием обочину дороги. Слева на холмы, петляя, взбегало двухполосное асфальтовое шоссе. Справа это шоссе спускалось к далекому побережью. Вдоль него — коттеджи с земельными участками; чем ниже по склону, тем меньше участки. В городе — раз в десять меньше, чем владение Поллардов. Рассыпанные по склону огоньки к западу роились все гуще и вдруг через несколько миль натыкались на черную преграду: дальше — ни зги. Эта преграда — ночное небо и кромешная ширь холодного и бездонного океана. Золт шел вдоль высокой живой изгороди. Наконец чутье подсказало: вот то место, где стоял Фрэнк. Золт поднял руки и поднес широкие ладони к трепещущей листве, как будто листья могли сохранить какие-то следы присутствия Фрэнка. Ничего. Раздвинув ветви, Золт оглядел дом. Ночью он будто вырастает. Словно в нем не десять комнат, а все восемнадцать, а то и двадцать. В окнах на фасаде — темным-темно, и лишь в задней половине светилось окно кухни. Если бы не этот желтый свет, пробивающийся сквозь грязные ситцевые занавески, можно было бы подумать, что в доме никто не живет. Прихотливая отделка карнизов местами разрушилась, местами совсем обвалилась. Крыша террасы провисла, перекладины перил сломаны, ступеньки прогнулись. Даже при скудном свете низкого месяца видно, что дом давно пора покрасить: старая краска шелушилась, кое-где она до того истончилась, что стала прозрачной, как кожа альбиноса. Там, где она осыпалась, проглядывает дерево — ни дать ни взять потемневшие кости. Золт попытался угадать, что у брата на уме. Почему Фрэнк то и дело возвращается? Он же боится Золта, и не без оснований. Сестер тоже. С домом у него связаны страшные воспоминания. Ему бы бежать отсюда без оглядки, а он так и вьется вокруг. Ищет чего-то, а чего — сам, наверно, не знает. В сердцах Золт отпустил ветки и двинулся дальше. Постоял у одного каменного столба, потом у другого. Где же это Фрэнк отбился от кошек и размозжил голову Саманте? Ветер заметно умерился, но уже успел высушить кровь на камнях. В темноте ее не разглядишь. Все же Золт не сомневался, что сумеет отыскать место убийства. Он ощупал шершавый камень столбов сверху донизу, со всех четырех сторон, прикасаясь к ним осторожно, словно боясь наткнуться на раскаленное место. Но все напрасно: после убийства прошло слишком много времени. Теперь даже его удивительный дар не поможет обнаружить смутный след ауры брата. По растрескавшейся, идущей под уклон цементной дорожке Золт поспешил обратно в дом. После ночной прохлады в кухне было особенно душно. Лилли и Вербена по-прежнему сидели на подстилке в кошачьем углу. Вербена щеткой расчесывала льняные волосы сестры. — Где Саманта? — спросил Золт. Лилли склонила голову набок и недоуменно воззрилась на него. — Я же сказала. Убили. — Тело где? — Здесь, — Лилли развела руками, указывая на кошек, которые свернулись и разлеглись вокруг. — Которая Саманта? — спросил Золт. Кошки лежали неподвижно, поди разбери, где тут труп. — Все. Все они теперь Саманта. Вот оно что. Этого-то Золт и боялся. Стоило какой-нибудь кошке протянуть ноги, и близнецы рассаживали всю свору вокруг мертвого тела и отдавали безмолвный приказ приступить к трапезе. — Черт! — вырвалось у Золта. — Саманта жива. Она вошла в нас, — продолжала Лилли своим обычным шепотком, в котором теперь проскальзывала мечтательная истома. — Кошки нас не покидают. Когда кошечка или котик умирают, они делаются частью каждой из нас, и мы становимся сильнее. Сильнее и чище. И всегда будем вместе. Интересно, участвовали в этом пиршестве сами сестры? Да тут и спрашивать не надо. Лилли с нескрываемым удовольствием облизала уголки влажных губ, будто смакуя лакомство. Вербена тоже облизнулась. Золту иной раз казалось, что близнецы — существа какой-то особой породы. Он никак не мог до конца уразуметь их повадки. Лица и взгляды сестер никогда не выдавали их мысли и чувства. А это неизменное молчание Вербены? Непостижимые, как их кошки. Что так привязывало сестер к кошкам — Золт мог только догадываться. Эта взаимная приязнь имела те же истоки, что и многочисленные способности Золта: и то и другое — щедрый дар бесконечно любимой матери. Поэтому Золт не смел усомниться, что эти отношения чистые и благотворные. Но сейчас Золт был готов прибить Лилли. Знала же, что Фрэнк прикасался к телу кошки, — и не сохранила. А как бы оно сейчас пригодилось Золту! Мало того, Лилли даже не удосужилась его разбудить, когда появился Фрэнк. Прямо руки на нее чешутся. Ее счастье, что она Золту сестра, а сестру он тронуть не дерзнет. Сестер ему ведено всячески оберегать. Мать все видит. — Куда дели объедки? — спросил Золт. Лилли махнула рукой на дверь. Золт включил наружный свет и вышел на заднее крыльцо. На некрашеных досках, словно диковинные игральные кости, были раскиданы позвонки и обгрызенные ребра. В том месте, где располагалась входная дверь, под прямым углом к стене, образуя с ней внутренний угол, шла другая стена. Таким образом, крыльцо было открыто лишь с двух сторон. В самом углу Золт обнаружил кусочек хвоста Саманты и обрывки шерсти — их загнал туда ночной ветер. На верхней ступеньке валялся изувеченный череп. Золт схватил его и спустился на нестриженую лужайку. Ветер, который с вечера все стихал и стихал, неожиданно совсем прекратился. В студеном воздухе любой звук разносится далеко-далеко, но сейчас ничто не нарушало ночного безмолвия. Стоило Золту прикоснуться к любому предмету — и он безошибочно определял, кто последним держал его в руках. Более того, порой он даже мог сказать, где находится этот человек сейчас, и, отправившись туда, неизбежно убеждался, что ясновидческий дар его не подвел. Вот и теперь Золт надеялся, что прикосновение к тельцу кошки, убитой Фрэнком, поможет проясниться его внутреннему взору и он снова сумеет напасть на след брата. Но на пустом разбитом черепе Саманты не осталось ни клочка плоти. И внутри и снаружи он был дочиста объеден, вылизан, высушен ветром и походил на обломок окаменевших останков доисторического животного. Перед внутренним взором Золта предстал не Фрэнк, а Лилли и Вербена со своими кошками. Золт с отвращением отшвырнул искореженный череп. Неудача еще сильнее распалила его ярость. Он чувствовал, как в душе пробуждается темное желание. Только бы не дать ему набрать силу… Но устоять перед ним в сотни раз труднее, чем перед женскими чарами и прочими грешными соблазнами. Как он ненавидит Фрэнка! Из года в год, вот уже семь лет он исходит, захлебывается этой ненавистью. А сегодня вечером он проспал прекрасную возможность уничтожить врага. От этой мысли можно сойти с ума! Желание… Золт рухнул на колени в косматую траву. Он скорчился, сжал кулаки, стиснул зубы. Камнем надо стать, камнем — неподъемной тяжестью, которую не способно сдвинуть с места никакое, даже самое властное желание, самая свирепая жажда, самая отчаянная страсть. «Дай мне силы!» — умолял он мать. Снова поднялся ветер. Неспроста. Дьявольский это ветер. Хочет столкнуть его с пути истинного. Золт упал ничком, впился пальцами в податливую землю и зашептал святое имя матери. Розелль. Исступленно повторял он это имя, уткнувшись лицом в траву, в грязь, повторял снова и снова, чтобы заклясть ростки темного желания. Тщетно. Золт разрыдался. Встал. И отправился на охоту.Глава 21
Фрэнк зашел в кинотеатр. Он просидел весь сеанс, рассеянно глядя на экран и думая о своем. Потом поужинал в «Эль торито». Не разбирая вкуса еды, он уплетал лепешки с мясом и рис, будто бросал уголь в топку. Часа два он без толку колесил то по центральным районам округа, то по южным окраинам. Только на ходу он чувствовал себя в безопасности. Наконец он вернулся в мотель. Мыслями он снова и снова обращался к воздвигнутой в памяти стене мрака, силясь обнаружить хоть малюсенькую щелочку. Кажется, найдись в этом мраке хоть какой-то просвет — стена рухнет. Но темнота была плотная, непроглядная. Фрэнк выключил свет. Однако ему не спалось. С чего бы это? Ветер Санта-Аны улегся, шум не мешает. Может, ему не дает покоя кровь на одеяле? Правда, крови натекло всего ничего, и к тому же она уже высохла, но все-таки кровь. Фрэнк зажег лампу, включил отопление, скинул одеяло и вновь попытался уснуть. Нет, не спится. В том-то и дело, внушал себе Фрэнк. Все его беды от того, что он не высыпается. Отсюда и потеря памяти, и чувство одиночества, заброшенности. Так-то оно так, и все же Фрэнк понимал, что лукавит: не хочет назвать главную причину своей бессонницы. А главная причина — страх. Куда он забредет во сне? Что станет там делать? Что окажется у него в руках после пробуждения?Глава 22
Дерек спал. Мирно посапывал в соседней кровати. А Томасу не спалось. Он встал и подошел к окну. Луны не видно. Большая-большая темнота. Томас не любил ночь. Ночью страшно. А солнышко любил. Днем цветы яркие, трава зеленая и голубое небо над головой, как будто крышка. Закрыта крышка — и под ней полный порядок, все на месте. Зато ночью цвета исчезают и в мире ничего не остается. Это кто-то открыл крышку и заполнил мир пустотой. Смотришь в пустоту, смотришь: а вдруг ты и сам исчезнешь, как цвета, унесешься из этого мира? Утром закроют крышку, а тебя уже здесь нет. Ты теперь где-то там и никогда не вернешься обратно. Никогда. Томас потрогал пальцами оконное стекло. Холодное. Что же он никак не заснет? Обычно спит хорошо. А сегодня нет. Томас волновался за Джулию. Вообще-то он всегда за нее немножко волнуется: на то он и брат. Но сегодня он волновался не немножко. Сегодня он волновался очень. Это началось еще утром. С самого утра ему стало как-то чудно. Не в смысле весело, а в смысле странно. В смысле страшно. Он почувствовал, что Джулии грозит беда. Томас встревожился и решил ее предупредить. И «протелевизил» ей про беду. Говорят, картинки, музыка и голоса попадают в телевизор по воздуху. Томас сперва думал — вдруг знают, что он глупый, и считают, что он поверит любой чепухе. Но Джулия сказала — правда. Вот Томас иногда и телевизил ей свои мысли. Раз можно посылать по воздуху картинки, музыку и голоса, значит, и мысли можно. «Берегись, Джулия, — телевизил он. — Будь осторожна: может случиться несчастье». Если Томас кого и чувствовал, так это Джулию. Он точно знал, когда она радуется, когда грустит. Если она хворала, Томас, скорчившись, ложился на кровать и хватался за живот. И еще он всегда угадывал, когда она его навестит. И Бобби он чувствовал. Но не сразу. Вначале не получалось. Как в тот раз, когда Джулия впервые привела к нему Бобби. А потом все лучше, лучше. И теперь он чувствует Бобби почти так же, как Джулию. Он и других чувствует. Дерека, Джину — она тоже даун, живет тут, в интернате. Потом еще одну приходящую сиделку. И еще двоих из тех, кто присматривает здесь за больными. Но их он чувствует слабо, а Бобби и Джулию — очень хорошо. Наверное, кого сильнее любишь, того лучше чувствуешь. И знаешь о нем больше. Случалось, Джулия за него переживала, и Томас очень-очень хотел ей сказать: «Я знаю, ты беспокоишься, но у меня все в порядке». Сестра услышит, что он ее понял, и обрадуется. Но как ей сказать? Трудно же объяснить, как и почему он иногда чувствует людей. Да он и не хочет никому рассказывать, а то подумают, что он глупый. Сам-то он знает, что глупый. Не такой глупый, как Дерек, но все равно. Нет, Дерек добрый, с Дереком ему повезло, что они в одной комнате. Добрый, но замедленный. Это их так называют вместо «глупые», когда они поблизости. Джулия никогда его так не называет. И Бобби тоже. А другие называют. Как будто он не поймет. А он понимает. У него что-то там такое замедленное. Что — он не разобрал, а «замедленный» — разобрал. Глупым быть так не хочется, но ведь его никто не спрашивал. Он и самому Богу телевизил: пусть сделает так, чтобы Томас перестал быть глупым. Но Бог или хочет, чтобы Томас навсегда остался глупым, — а почему? — или просто не слышал Томаса. Вот и Джулия не слышит. Томас каждый раз узнает, когда его услышали. Джулия — ни разу. Зато иногда его мысли доходят до Бобби. Чудно. Не в смысле смешно, а в смысле странно. В смысле интересно. Томас телевизит Джулии, а слышит его Бобби. Ну, как сегодня утром. Когда он телевизил Джулии: «Может случиться несчастье, Джулия. Идет большая беда». А Бобби и услышал. Не оттого ли, что Бобби и Томас любят Джулию? Томас не знает, но Бобби услышал, это точно. Стоя в пижаме у окна, Томас вглядывался в недобрую ночь. Где-то рыщет Беда. Томас ее чует: у него кровь начинает булькать, а кости зудят. Беда еще далеко, до Джулии не добралась. Но подкрадывается. Сегодня, когда приходила Джулия, Томас хотел ей рассказать про Беду. Но как рассказать, чтобы поняли? Станешь говорить; и получится глупо. Джулия и Бобби и так знают, что он глупый, но напоминать им еще раз не хочется. Только откроет рот рассказать про Беду, а слова не слушаются. Он их в голове выстроит как надо и уже собирается говорить, а они раз — и в кучу. Никак на место не вернешь. Вот он и молчал. А то все будут думать, что он глупый-преглупый. И как рассказать, что такое Беда? Может, человек? Страшный такой. Хочет навредить Джулии. И да и нет: человек, но не только. Томас так чувствует. И от этого «не только» пробирает озноб изнутри и снаружи. Как будто стоишь на зимнем ветру и ешь мороженое. Томас поежился. Чувствовать Беду неприятно. А лечь в постель и перестать чувствовать нельзя: он должен все хорошо знать про Беду, а то не сумеет предупредить Джулию и Бобби, когда Беда будет близко. За его спиной Дерек что-то бормотал во сне. В интернате тихо. Глупые спят. Все, кроме Томаса. Ему иногда нравится не спать, когда все спят. И он тогда вроде как умнее всех: видит то, чего никто не видит, знает то, чего никто не знает. Потому что все спят, а он нет. Прижимаясь лбом к стеклу, Томас упорно разглядывал пустоту ночи. Надо спасти Джулию. И он мысленно тянулся в пустоту. Дальше, дальше. Чувствовал изо всех сил. Прислушивался к бульканью крови, к зуду костей. Удар. Из темноты на него налетело что-то огромное, злючее-страшучее. Как волна, сбило с ног. Томас плюхнулся на попу возле кровати. И все. Больше он Беду не чувствовал. Но сердце так и прыгало от страха: ух, какая большая и мерзкая! С трудом переводя дыхание, он принялся телевизить Бобби: «Беги, удирай, спасай Джулию! Беда идет, Беда! Беги! Беги!»Глава 23
Сон был озарен звуками «Лунной серенады» Глена Миллера. И как всегда во сне, знакомая мелодия звучала как-то непривычно. И обстановка, которая окружает Бобби, как будто знакомая — и как будто он ее в первый раз видит. Да это же бунгало на побережье! То самое бунгало, где они поселятся, когда бросят работу. Чуть касаясь темного персидского ковра, Бобби вплыл в гостиную, медленно пролетел мимо удобных обитых кресел, огромного мягкого дивана с округлой спинкой и толстыми подушками, мимо рульмановской горки с бронзовой отделкой, мимо лампы в стиле арт деко и переполненных книжных полок. Музыка доносилась снаружи, Бобби двинулся на звук. До чего же легко передвигаться во сне! Захотел выйти — дверь открывать не надо: лети прямо сквозь нее. Захотел спуститься с широкой террасы — пожалуйста: перепархиваешь через деревянные ступеньки, даже ногой не пошевелив. Стояла ночь. У берега плескались волны. Вдали, мерцая, вскипала белая пена. Под пальмой, на песке, усыпанном ракушками, стоял «Вурлицер-950». Сияли красные и золотые огни, по стеклянным трубочкам бежали пузырьки. А газели все прыгали и прыгали, и фигурки греческого бога Пана все наигрывали на свирелях, и сверкало, как настоящее серебро, устройство для смены пластинок, и вращался большой черный диск. И конца не будет этой «Лунной серенаде». А Бобби и рад, потому что на душе, как никогда, светло и спокойно. Даже не оборачиваясь, он чувствует, что Джулия тоже вышла из дома и ждет на сыром песке у самой кромки воды, когда же Бобби пригласит ее на танец. Бобби оборачивается. Ну так и есть. Она и в самом деле ждет, осиянная фантастическим светом огоньков «Вурлицера». Бобби делает шаг к ней и… Беги, удирай, спасай Джулию! Беда идет, Беда! Беги! Беги! Иссиня-черный океан содрогнулся, словно расплеснутый бурей, и взметнул в ночной воздух пенистые брызги. Пальмы гнулись под яростным ветром. Беда! Беги! Беги! Мир накренился. Бобби, спотыкаясь, пробирался к Джулии. Вода уже окружала ее со всех сторон, силилась доплеснуть до нее, утащить. Это не просто вода — она умеет думать, наделена волей, и в глубине мутно поблескивает злобный разум. Беда! Мелодия Глена Миллера зазвучала быстрее. Пластинка крутилась с удвоенной скоростью. Беда! Мягкий, чарующий свет «Вурлицера» вспыхнул ярче, ударил в глаза, но сумрак ночи не разогнал. Должно быть, такой же пронзительный свет бьет из адовых врат: от этого потустороннего сияния мрак только гуще. Беда! Беда! Мир снова накренился. Земля под ногами вспучилась, заколыхалась. Бобби с трудом брел по ходившему ходуном берегу. А Джулия словно приросла к месту. Смолистые, клокочущие волны нахлынули на нее. Беда! Беда! Беда! С каменным треском раскололось небо, но молния из обломков свода не полыхнула. Вокруг Бобби взметнулись фонтаны песка. Из внезапно открывшихся отверстий забила черная вода. Бобби оглянулся. Бунгало исчезло. Повсюду вздымались волны. Земля под ногами расплывалась. Джулия с криком исчезла под водой. БЕДАБЕДАБЕДАБЕДА! Вдруг над головой Бобби вздыбился громадный вал. Ринулся вниз. Бобби очутился в воде, он попытался выплыть, но руки покрылись волдырями и язвами, мясо слезало клочьями, кое-где проглядывала ледяная белизна костей. Это не вода! Это кислота! Бобби захлестнуло с головой. Задыхаясь, он вынырнул на поверхность, но поздно: ядовитая жидкость уже разъела ему губы, сожгла десны. Вместо языка в едкой кислоте, заполнившей рот, болтался тошнотворный вязкий комок. Даже насыщенный парами воздух был губителен: жгучие капли проникли в легкие. Бобби уже не мог дышать. Подводное течение потащило его вглубь. Стараясь удержаться на поверхности, Бобби отчаянно замахал руками, от которых остались одни кости, но его неудержимо затягивало в пучину, навстречу вечной тьме, гибели, забвению. БЕДАБЕДА! Бобби сел в кровати. Он знал, что кричит, но не слышал своего крика. Поняв, что это сон, он оборвал беззвучный вопль и только тогда услышал собственный тихий, жалобный стон. Он скинул одеяло, спустил ноги с кровати и крепко уперся в нее руками, словно его еще сотрясали подземные удары или швыряли бурные волны. Зеленые цифры на потолке показывали время — 2.43. Оглушенный барабанными ударами сердца, Бобби ничего вокруг не слышал. Потом до него донеслось размеренное дыхание Джулии Удивительно, что он ее не разбудил. Наверное, во сне он лежал спокойно, не дергался. Ужас, навеянный сном, все не проходил. Напротив, тревога усиливалась — еще и потому, что в комнате так темно. Убедившись, что он твердо стоит на ногах, Бобби обошел кровать и направился в ванную. Дверь находилась с той стороны кровати, где спала Джулия. Бобби уже не раз пробирался туда впотьмах, и сейчас это тоже не составило ему труда. Он осторожно прикрыл за собой дверь, включил свет и зажмурился от ослепительного сияния, разлившегося в зеркале над двойной раковиной. Бобби оглядел себя в зеркале. Никаких язв. Таких снов Бобби еще не видел: до жути явственный, явственнее самой яви. Звуки и краски в его дремлющем сознании были наделены такой же яркостью, что и раскаленный волосок в электрической лампочке. И, хотя Бобби понимал, что весь этот кошмар только сон, ему было не по себе: вдруг едкие волны все-таки оставили на нем следы своих прикосновений? Его била дрожь. Он постоял, привалившись к раковине, потом пустил холодную воду, нагнулся и ополоснул лицо. Еще раз взглянув на себя в зеркало, он поймал собственный взгляд и прошептал: — Что же это за чертовщина?Глава 24
Золт вышел на охоту. На востоке земельный участок Поллардов обрывался каньоном. Сухая земля, осыпаясь по крутым склонам, обнажала розовые и серые слои сланцевой глины. Если бы не заросли чаппараля, не кустистые и пампасные травы да не растущие то там то сям мескитовые деревья, склоны давно оказались бы размыты крепкими ливнями. Распустив мощные корни, стойкие, привыкшие к засухе растения сдерживали оползни. Кое-где по склонам виднелись эвкалипты, лавры и кайупутовые деревья, а на дне, где протянулось сухое русло, проложенное дождевыми потоками, было где пустить корни калифорнийскому дубу и той же кайупуте. Во время ливней русло вновь наполнялось. С легкостью, которой трудно было ожидать от такого крупного человека, Золт быстро и бесшумно продвигался по каньону, уходящему на восток. Дно каньона забирало вверх. Дойдя до расселины — слишком тесной, чтобы назвать ее каньоном, — Золт повернул на север. Расселина тоже поднималась вверх, но не так круто. Голые стенки местами почти смыкались, оставляя лишь узенький проход. В таких горловинах Золту приходилось пробираться через завалы хрупких шаров перекати-поля, занесенных сюда ветром. На дне расселины тьма безлунной ночи становилась вовсе непроницаемой. Однако Золт шел уверенным шагом и почти не спотыкался. Не потому, что он наделен сверхъестественными способностями: в темноте он видел ничуть не лучше обычных людей. Но и в кромешной тьме он чувствовал каждое препятствие на своем пути, вслепую различал бугры и ямы и двигался как ни в чем не бывало. Что это за шестое чувство, Золт не знал, ему даже незачем было сосредоточиваться. Каким-то чудесным наитием он находил дорогу в здешних местах в любое время дня и ночи, словно эквилибрист, уверенно ступающий с завязанными глазами по туго натянутому канату над задранными головами зрителей. Это у него тоже от матери. Все ее дети обладали каким-нибудь удивительным даром. Но Золт в этом смысле превзошел и Лилли, и Вербену, и Фрэнка. За узким проходом открывался другой каньон. Золт снова повернул на восток и еще быстрее пошел по высохшему каменистому руслу. Его подгоняла жажда. Наверху, на самом краю каньона, виднелись дома. Здесь они отстояли дальше друг от друга. Свет горящих в вышине окон не рассеивал мрак на дне каньона. То и дело Золт жадно поглядывал на яркие окна: там, там она, вожделенная кровь. Мать давно растолковала Золту, что это Всевышний поселил в нем жажду крови и сделал его хищником; Золт всего-навсего исполняет Его волю. Правда, Господь заповедал ему не убивать без разбора, однако, если Золт, не совладав с собой, примется убивать напропалую, вся вина ложится на Него — того, кто наделил его этой страстью, но не дал сил ее обуздать. Как и всякий хищник, Золт должен уничтожать слабейших из стада, обессиленных недугом. Раз речь идет о роде человеческом, в жертву его назначены носители нравственных недугов — воры, лжецы, мошенники, прелюбодеи. Беда в том, что грешника так просто не распознаешь. Прежде Золту помогала мать, она и указывала растленные души. Нынче ночью Золт попытается довольствоваться кровью животных. Убивать людей, особенно по соседству, рискованно: не ровен час навлечешь на себя подозрения полиции. Расправляться с местными допустимо лишь тогда, когда кто-нибудь из них встал на пути у семейства Поллард. Такой негодяй непременно подлежит истреблению. Но, если он не сумеет утолить жажду кровью животных, тут уж ничего не поделать: придется искать человеческой крови — где-нибудь подальше отсюда. Мать в небесах станет гневаться и досадовать на его несдержанность, однако Всевышний его не осудит. Это же Он сотворил Золта таким. Огни последнего дома остались позади. Золт остановился в кайупутовой роще. Бушевавшие днем ветры покинули эти места, пронеслись по каньонам и сгинули в океане. Воздух был недвижим. Длинные глянцевые листья, свисавшие с ветвей, не шевелились. Золт уже успел привыкнуть к темноте. Он видел, как серебрятся стволы деревьев в чахлом свете звезд. Вокруг застыли каскады отростков, спускающихся с веток. Прямо как беззвучный водопад или падение искусственных снежинок в стеклянном шарике. Золт мог разглядеть даже свернувшиеся стружкой неровные полоски коры на ветках и стволах; постоянно сбрасывая старую кожу, эти деревья являют собой удивительное зрелище. Дичи нет и в помине. Хоть бы какой-нибудь пугливый шорох в кустарнике. И все же Золт знал: вокруг, в глубоких норах, в укромных гнездах, в кучах сухих листьев, в щелях между камней, затаилось множество крохотных тварей, и в жилах у них струится теплая кровь. При мысли о них измученный жаждой Золт чуть не обезумел. Он вытянул руки ладонями вперед и растопырил пальцы. Из ладоней ударила короткая вспышка бледно-сапфирового света, мерклого, словно сияние месяца. Листья слегка задрожали, всколыхнулась редкая высокая трава, и на дне каньона опять сомкнулась тьма. Из ладоней вновь вырвалось сапфировое сияние, как будто кто-то на мгновение приоткрыл створку потайного фонаря. На сей раз вспышка длилась дольше, а свет был гораздо ярче и гуще. Листья зашелестели, отростки, свисавшие с веток, закачались, далеко впереди зашевелилась трава. Шорохи вспугнули какую-то зверюшку, она метнулась мимо Золта. Разглядеть ее в темноте было мудрено, однако поразительное чутье, которое вело Золта по каньону, и сейчас помогло ему. Притом этот неимоверный человек выказал еще и неимоверное проворство. Он бросился в сторону и в мгновение ока схватил невидимую добычу. Мышь-полевка. На миг зверек обмер от ужаса, потом начал трепыхаться, но Золт крепко зажал его в руке. На живых существ его сила не действовала. С помощью телекинетической энергии, которую испускали его ладони, он не мог оглушить добычу, подманить или притянуть ее поближе. Он мог лишь выгнать ее из убежища. Покачнуть деревья, взметнуть в воздух тучи пыли и гальки не составляло ему труда, но, как он ни старался, пошевелить хотя бы волосок на шкурке полевой мыши было ему не под силу. Поди разбери, отчего это его могуществу положен такой предел. А вот Лилли и Вербена, которым до Золта далеко, наоборот, имели власть только над живыми тварями — мелкими животными вроде кошек. Правда, растения, а порой и насекомые подчинялись воле Золта, но существа, обладающие сознанием, — никогда. Даже таким слабым сознанием, как у кошки. Золт опустился на колени под кронами серебристых деревьев. Во мраке он видел только посверкивающие мышиные глазки. Поднес зажатого в кулак зверька корту. Перепуганная мышь тоненько, пронзительно запищала. Золт откусил ей голову, выплюнул и присосался к тельцу. Кровь была сладкой на вкус, но уж больно ее мало. Он отшвырнул мертвого зверька, снова вытянул руки вперед ладонями, снова развел пальцы. Новая вспышка оказалась уже не такой бледной: мрак прорезала густая сапфировая синева. Вспышка длилась не дольше предыдущей, но действие ее было куда сильнее. Вниз по каньону с секундным промежутком прокатилось несколько силовых волн. Высокие деревья вздрогнули, сотни отростков забились в воздухе, листва загудела, как пчелиный рой. Волны расшвыряли мелкую гальку, загремели камни. Трава поднялась дыбом, словно волосы у перепуганного человека; вниз покатились комья земли, увлекая за собой сухие листья, как будто налетел порыв ветра. На самом деле ветра не было. Была лишь короткая сапфировая вспышка и мощные удары силовых волн. Ночные зверьки прыснули из укрытий кто куда. Некоторые бросились вниз по каньону мимо Золта. Золт давно заметил, что по запаху звери не признают в нем человека — снуют себе вокруг как ни в чем не бывало. Либо у него такой неуловимый запах, либо… либо они принимают его за такую же дикую тварь, как и они сами, и в панике не соображают, что он хищник. Кое-кого из них Золт успевал различить. Они пролетали мимо, как бесформенные тени, которые отбрасывает вращающийся абажур. Однако Золт замечал их не только зрением, ему помогало и сверхъестественное чутье. Вот прошмыгнули койоты, вот, задев ногу Золта, промчался испуганный енот. Этих Золт трогать не стал, опасаясь их когтей и клыков. Совсем близко прошуршали десятка два мышей, но ими Золт пренебрег. Ему бы что-нибудь покрупнее, чтобы крови побольше. Какой-то зверек, похожий на белку, ушел у него прямо из рук. Но мгновение спустя Золт поймал за задние лапы кролика. Тот взвизгнул, заболтал короткими передними лапками. Золт ухватил и их. Теперь кролик уже не мог дергаться. Замер от страха. Золт поднес зверька ко рту. Шкурка пахла пылью и мускусом. Красные глазки налились ужасом. Сердце кролика оглушительно билось. Золт вгрызся ему в горло. Прокусить шкуру и мышцы оказалось нелегко. Наконец брызнула кровь. Кролик дернулся. Нет, он не пытался вырваться — наоборот, как бы уступал судьбе. Тельце корчилось в медленных судорогах, удивительно томных, словно зверек приветствует смерть. С годами Золт уже привык к этим сладострастным предсмертным корчам маленьких тварей, особенно кроликов. При виде их он возбуждался, его пьянило ощущение собственного могущества. Должно быть, так же чувствуют себя лиса или волк. Судороги утихли. Кролик обмяк у него в руках. Он был еще жив, но близость неизбежной смерти повергла его в оцепенение, и боль его, как видно, уже не тревожила. Наверно, это Всевышний напоследок являет мелким тварям такую милость. Золт снова вонзился зубами в горло зверька. Сильнее, глубже. Потом еще сильнее, еще глубже. Жизнь зверька струилась и пузырилась на его жадных губах. Издалека, из другого каньона, донесся вой койота. Его подхватили другие. Жуткий хор то становился громче, то затихал: верно, почуяли, что не только они сегодня охотятся, унюхали свежую кровь. Когда кровь иссякла, Золт отбросил пустую тушку. Он еще не насытился. Чтобы утолить жажду, придется вскрыть жилы еще не одному кролику и белке. Золт поднялся и побрел дальше по каньону — туда, где не вспугнутое еще зверье, сидя по норам и щелям, ждет не дождется, когда Золт придет за добычей. Ночь глуха и благодатна.Глава 25
Может, на нее просто напала хандра: как-никак понедельник день тяжелый. Может, всему виной погода: небо хмурилось, того и гляди хлынет дождь. Может, она была не в духе оттого, что из памяти еще не выветрились кровавые события в «Декодайне», происшедшие четыре дня назад. В общем, по какой-то причине Джулия и слышать не хотела о деле Фрэнка Полларда. И вообще не хотела браться ни за какое дело. Правда, на них с Бобби еще висят долгосрочные контракты на обеспечение безопасности нескольких фирм, но это занятие привычное и спокойное — все равно что сходить в магазин за молоком. Но все же и такая работа иногда чревата бедой, большой или малой — в каждом случае неизвестно. Так что, если бы в этот понедельник к ним с утра заглянула старушка — божий одуванчик с просьбой отыскать пропавшую кошечку, ее приход вызвал бы у Джулии такой же ужас, что и появление буйного маньяка с топором. Ничего удивительного. На прошлой неделе их спасло только чудо, а то бы Бобби уже четыре дня не было в живых. Джулия сидела за своим массивным металлическим столом с пластиковой крышкой, сложив руки на зеленой регистрационной тетради, и внимательно разглядывала Полларда. Наружность у него была безобидная, даже располагающая. Настораживало лишь одно: он все время прятал глаза. Человеку с такой внешностью впору носить имя на манер комика из Лас-Вегаса — Шекки, Бадди или что-нибудь в этом роде. Ему было около тридцати, среднего роста, полноватый. Лицо как раз и наводило на мысль, что ему бы очень подошло ремесло комика. Физиономия довольно славная, если не считать нескольких странных, почти заживших царапин, — открытая, добрая и такая круглая, что поневоле вызывает улыбку. На подбородке глубокая ямочка. На щеках играл крепкий румянец, словно он чуть не всю жизнь провел на арктическом ветру. Нос тоже красноват, но, как видно, не из-за пристрастия к спиртному, а скорее по причине переломов. Форма носа тоже весьма комичная: толстый, но не приплюснутый, как у завзятого драчуна. Сгорбившись, он сидел в обитом хромовой кожей кресле перед столом Джулии. — Я пришел к вам за помощью, — начал он мягким и приятным, почти мелодичным голосом. — Больше мне обратиться некуда. Чувствовалось, что этот человек с наружностью комика измучен отчаянием и усталостью. Посетитель то и дело проводил рукой по лицу, будто снимал невидимую паутину, а потом с изумлением разглядывал руку, словно удивлялся, что в ней ничего не оказалось. На руках у него тоже были заметны заживающие царапины. Одна-две слегка распухли и воспалились. — По правде говоря, — продолжал Поллард, — я сам себе удивляюсь. Обращаться к частным детективам — это прямо как в кино. — Я по себе чувствую, что мы не в кино. У меня изжога, — заметил Бобби. Он стоял у окна, за которым виднелись подернутый туманом океан и корпуса торгового центра (агентство «Дакота и Дакота» арендовало семь комнат на шестом этаже высотного здания в Ньюпорт-Бич). Он отвернулся от окна и, опершись о подоконник, достал из кармана куртки таблетки от желудка — В кино детективы знать не знают, что такое изжога, перхоть или — страшно подумать — псориаз. — Мистер Поллард, — сказала Джулия, — мистер Карагиозис вас, конечно, предупредил, что мы, строго говоря, не частные детективы. — Да. — Мы консультанты по вопросам безопасности. Сотрудничаем в основном с корпорациями и частными фирмами. Не считая нас, в агентстве работает одиннадцать человек, специалисты в своей области, которые уже много лет обеспечивают безопасность организаций. Это совсем не то, что сыщики-одиночки из телевизионных детективов. Мы не выслеживаем неверных жен по просьбе их мужей и вообще не занимаемся делами, по которым обычно обращаются к частным детективам. — Мистер Карагиозис объяснил, — Поллард опустил глаза и уставился на свои руки, которые сцепились пальцами на коленях. В разговор вмешался Клинт Карагиозис — он сидел на диване слева от стола Джулии. — Фрэнк рассказал мне свое дело. По-моему, вам следует его выслушать. Джулия обратила внимание, что за все шесть лет работы в агентстве «Дакота и Дакота» Клинт впервые называет потенциального клиента по имени. Клинт, крепыш среднего роста, выглядел так, будто его сложили из кусков гранита и мраморных плит, кремня и дикого камня, сланцев, чугуна и железняка, а потом какой-то алхимик превратил эту каменную груду в живую плоть. Широкое, довольно симпатичное лицо тоже будто вытесано из камня. Конечно, если очень постараться, в этом лице можно разглядеть и черты, говорящие об известной душевной мягкости. Хотя нрав у него был под стать внешности: твердокаменный, невозмутимый, несгибаемый. Мало кому удавалось поколебать эту невозмутимость, а уж добиться того, чтобы Клинт вышел за рамки официальной вежливости и проявлял более теплые чувства, было почти невозможно. Раз он называет клиента по имени, значит, Поллард завоевал его расположение. Серьезное основание, чтобы поверить рассказу посетителя. — Клинт зря болтать не станет, — сказал Бобби. — Так что с вами стряслось, Фрэнк? То, что и Бобби сразу же отбросил церемонии и обратился к клиенту по имени, Джулию не удивило. Бобби легко сходится со всяким. И, чтобы вызвать в нем неприязнь, надо было совершить какую-нибудь уж очень откровенную подлость. К примеру, всадить ему в спину нож, причем не один раз и непременно со злорадным смехом. Тогда он, глядишь, и задумается: а стоит ли мне водить с ним дружбу? Джулии порой казалось, что ее муж — просто-напросто взрослый теленок, который только прикидывается человеком. Не успел Поллард начать рассказ, как Джулия предупредила: — Одну минуточку. Если мы возьмемся за ваше дело — подчеркиваю, если, — то это обойдется вам недешево. — За деньгами я не постою. У ног Полларда находились две сумки. Он взял одну из них, кожаную, поставил на колени, расстегнул и, достав несколько пачек банкнот, положил на стол. Купюры по двадцать и по сто долларов. Джулия взяла деньги и осмотрела. Бобби оттолкнулся от подоконника, приблизился к Полларду и заглянул в сумку. — Целая куча! — Сто сорок тысяч, — сообщил Поллард. Удостоверившись, что деньги не фальшивые, Джулия отложила пачку и спросила: — Мистер Поллард, вы всегда носите при себе такие суммы? — Не знаю. — Не знаете? — Не знаю, — убито повторил Поллард. — Он действительно не знает, — подтвердил Клинт. — Дайте же ему рассказать. — Помогите мне выяснить, куда я отправляюсь по ночам, — попросил Поллард. В голосе его звучала робость, смешанная с тревогой. — Объясните, бога ради, куда я деваюсь, когда засыпаю. — Ого! Занятная история, — заметил Бобби и присел на край стола. Джулию беспокоил мальчишеский азарт Бобби. Вот возьмет да и пообещает Полларду, что они займутся его делом. Надо же сперва все обдумать. И что за отвратительная привычка садиться на стол? Никакой солидности. Клиенты о них черт-те что подумают. — Включить магнитофон? — спросил Клинт, не вставая с дивана. — Обязательно, — отозвался Бобби. Клинт достал компактный кассетный магнитофон на батарейках, включил и поставил на журнальный столик возле дивана, направив отверстие встроенного микрофона на Полларда, Джулию и Бобби. На них смотрел полноватый, круглолицый человек. Можно было бы подумать, что у него отменное здоровье — вон какой густой румянец, но синие круги вокруг красных, слезящихся глаз и бледные губы показывали, что это впечатление обманчиво. На губах дрожала смущенная улыбка. Стоило ему встретиться взглядом с Джулией, и он тут же отводил глаза. Испуганный, удрученный, почти жалкий — ну как такому не посочувствовать? Поллард начал свой рассказ. Джулия вздохнула и откинулась на спинку кресла. Но уже через две минуты она снова подалась вперед и сосредоточенно слушала тихий голос Полларда. Как ни старалась она сохранить равнодушие, история ее увлекла. Даже невозмутимый Клинт Карагиозис, которому эта история была уже знакома, слушал во все уши. Если Поллард не враль и не помешанный — скорее всего и то и другое, — значит, все происшедшее с ним относилось к области сверхъестественного. А в сверхъестественное Джулия не верила. Она дала волю своему скептицизму, однако Поллард держался так естественно, а рассказ звучал так искренно, что трудно было заподозрить его во лжи. Бобби охал и ахал, а когда события принимали неожиданный оборот, в изумлении хлопалпо столу. Когда клиент… нет, Поллард — он пока еще не клиент, просто Поллард. Когда Поллард рассказал, как в четверг проснулся в мотеле и увидел, что руки у него в крови, Бобби выпалил: — Решено! Мы возьмемся за это дело. — Погоди, Бобби, — остановила его Джулия. — Мы еще не дослушали мистера Полларда. Не надо… — Да-да, Фрэнк, — спохватился Бобби. — Так что было дальше? — Ты меня не так понял, — продолжала Джулия. — Чтобы решить, можем мы помочь мистеру Полларду или нет, надо выслушать всю историю до конца. — Ну разумеется, мы ему поможем! Мы… — Бобби, — решительно сказала Джулия, — можно тебя на минуточку? Она встала, прошла через комнату, открыла дверь туалета и включила там свет. — Я сейчас, Фрэнк, — бросил Бобби, зашел в туалет вслед за Джулией и прикрыл дверь. Включив вентилятор под потолком, чтобы шум заглушал голоса, Джулия шепотом спросила: — У тебя с головой все в порядке? — Да. У меня никаких дефектов, если не считать плоскостопия. Жуткое плоскостопие. И еще такое противное родимое пятно посредине спины. — Невозможный человек! — Это ты из-за плоскостопия и родимого пятна так кипятишься? Ну ты и сурова. В туалете было тесно. Бобби и Джулия стояли между раковиной и унитазом почти вплотную. Бобби поцеловал жену в лоб. — Бобби, побойся бога. Ты сказал Полларду, что мы возьмемся за его дело. А если не возьмемся? — Почему не возьмемся? Интересно же. — Ну, во-первых, он, похоже, не в своем уме. — Не заметил. — Какая-то загадочная сила, видите ли, разнесла на части автомобиль, погасила фонари. Странные звуки флейты, таинственный синий свет… Начитался про всякую потусторонщину в бульварных журналах. — То-то и оно! Будь он психом, он давно бы нашел этим происшествиям объяснение. Это, мол, все марсиане или господь бог. А он и сам не поймет, что случилось, и ищет разгадку. По-моему, вполне здоровая реакция. — Бобби, опомнись. У нас деловое предприятие. Деловое. Мы не в игрушки играем, а зарабатываем деньги. Мы профессионалы, а не любители. — Денег у него — ты сама видела. — А если они краденые? — Фрэнк не вор. — Ты с ним и часа не знаком, а уже точно знаешь, что он не вор? Какой же ты доверчивый. — Спасибо. — Это не комплимент. Разве можно заниматься такой работой и доверять первому встречному? Бобби ухмыльнулся. — Ну тебе-то поверил. И не жалею. Но Джулию лестью не возьмешь. — Стало быть, он не знает, откуда деньги. Хорошо. Допустим, мы этому поверим. Предположим даже, что он действительно не вор. А ну как он торгует наркотиками? Или занимается еще какими-нибудь темными делишками? Мало ли нечестных способов добыть деньги помимо воровства. И если выяснится, что деньги нечистые, только мы их и видели. Придется сдать в полицию. Столько времени и сил — и все коту под хвост. К тому же… дело довольно щекотливое. — С чего ты взяла? — Как с чего? Он же сам рассказывал, как проснулся в мотеле, а на руках кровь! — Тише. Он обидится. — Боже упаси! — Не исключено, что это его кровь. Тела-то не оказалось. — Откуда ты знаешь? — раздраженно спросила Джулия. — С его слов? Психи бывают разные. Иной наступит прямо в вырванные кишки, споткнется об отрезанную голову и не заметит. — Какой яркий образ! — Вот он говорит, дескать, сам себя поцарапал. Так я и поверила. Скорее всего напал на какую-нибудь женщину или невинную девочку — ребенка, школьницу. Затащил в машину, изнасиловал, избил, опять изнасиловал, причем так унизительно, с такими извращениями, до которых нормальный человек не додумается. Истыкал иголками, ножами, черт знает чем еще. Потом забил насмерть и спихнул тело в овраг. И вот лежит она там голая, койоты ее терзают, а в открытый рот залетают мухи. — Джулия, ты все перепутала. — Что я перепутала? — Это не у тебя, а у меня буйное воображение. Джулия не выдержала — рассмеялась и покачала головой. Дать бы ему по затылку, чтобы не ребячился, а она смеется Бобби поцеловал ее в щеку и взялся за ручку двери. Джулия положила на его руку ладонь. — Дай слово, что повременишь с обещаниями, пока мы не выслушаем Полларда и все хорошенько обдумаем. — Ладно. Супруги вернулись в комнату. Небо за окном серело, как листовая сталь, местами обожженная дочерна, местами тронутая желто-горчичной ржавчиной. Дождь еще не хлынул, но воздух уже наливался преддождевой тяжестью. В комнате горели только две медные лампы на столиках по сторонам дивана и медный же торшер с шелковым абажуром в углу. Лампы дневного света на потолке были выключены: Бобби терпеть не мог их яркого сияния, он считал, что на работе освещение должно быть уютным, как дома. Джулия не соглашалась: на работе обстановка должна быть деловой. Но, чтобы доставить мужу удовольствие, она включала верхний свет очень редко. Сейчас стоило бы его зажечь: с приближением дождя по углам, куда не достигал янтарный свет ламп, сгущаются тени. Фрэнк Поллард все сидел перед столом, уставившись на плакаты с изображением Дональда Дака, Микки Мауса и дяди Скруджа, которые в рамочках висели по стенам. Эти плакаты для Джулии тоже как бельмо в глазу. Сама-то она предпочитала персонажей из мультфильмов компании «Уорнер бразерс» — они как-то поживее диснеевских. Джулия завела себе целую видеотеку, а в придачу парочку рисунков на целлулоиде, изображающих Даффи Дака, но все это хозяйство она хранила дома. А Бобби развесил портреты диснеевских героев прямо в агентстве, потому что (по его словам) они помогают ему расслабиться и создают хорошее настроение; к тому же, когда он смотрит на них, ему лучше думается. Пока еще никто из клиентов, заметив столь неуместные произведения искусства, не усомнился в профессионализме Дакотов, однако Джулию все равно тревожило, как бы эта живопись не повредила их репутации. Она снова уселась в свое кресло, а Бобби опять взгромоздился на стол. Подмигнув Джулии, он сказал: — Пожалуй, Фрэнк, я действительно поторопился. Расскажи-ка нам все, а уж потом мы будем решать. — Конечно, — Фрэнк бросил быстрый взгляд на Бобби, на Джулию и вновь опустил глаза на свои исцарапанные руки, вцепившиеся в открытую кожаную сумку. — Я вас понимаю. Клинт снова включил магнитофон. Фрэнк поставил сумку на пол и взял вторую. — Вот что я хотел показать. С этими словами он расстегнул сумку и достал целлофановый пакетик с остатками черного песка, который оказался у него в руках в тот четверг. Затем он вынул Из сумки окровавленную рубашку, в которой проснулся в тот день. — Я их нарочно сохранил… Вроде как улики. Может, они помогут вам разобраться, что я натворил и что вообще со мной происходит. Бобби взял рубашку и пакетик с песком, повертел в руках и положил на стол. Джулия заметила, что рубашка не просто обрызгана, а прямо-таки пропиталась кровью. Пятна высохли, побурели, материя загрубела. — Так, значит, в четверг днем вы были в мотеле, — напомнил Бобби. Поллард кивнул. — Вечером ничего такого не случилось. Сходил в кино. Смотрел без всякого интереса. Потом немного поездил на машине. Я тогда страшно устал, будто и не спал вовсе. А лег вздремнуть — не спится, и все. Боюсь уснуть. На следующий день перебрался в другой мотель. — И когда же вам наконец удалось поспать? — спросила Джулия. — На другой день. Вечером. — То есть в пятницу, так? — Вот-вот. Я, чтобы не заснуть, напился кофе. Сидел у стойки в ресторанчике при мотеле и пил чашку за чашкой, пока в глазах все не поплыло. Надо, думаю, остановиться, а то в желудке жжение. Вернулся в комнату. Только меня начнет в сон клонить — сразу выхожу проветриться. Но толку никакого. Нельзя же совсем без сна. Чувствую — плохо мое дело. Часов эдак около восьми лег и тут же уснул. Проснулся на другой день, в половине шестого утра. — В субботу, значит. — Да. — На этот раз без приключений? — спросил Бобби. — По крайней мере, обошлось без крови. Но и тут не слава богу. Он умолк. Бобби и Джулия ждали. Поллард облизнул губы и кивнул, словно набравшись решимости продолжать рассказ. — Понимаете, я лег в постель в одних трусах, а проснулся одетый. — Выходит, во сне вы встали и оделись? — уточнила Джулия. — Только на мне была какая-то незнакомая одежда. Джулия вытаращила глаза. — Простите, как? — Это была не та одежда, в которой я очнулся в переулке, и не та, которую я купил в четверг. — А чья же? — удивился Бобби. — Наверное, все-таки моя. Не может быть, чтобы с чужого плеча, уж больно хорошо она на мне сидела. Даже туфли впору. Если она чужая, то почему она так здорово подходит по размеру? Бобби соскочил со стола и стал расхаживать по комнате. — Что же это получается? Вы, значит, вышли из мотеля в нижнем белье, отправились в магазин, купили одежду, и никто вас не остановил и даже не поинтересовался, чего это вы разгуливаете по улицам в таком виде? Поллард покачал головой: — Не знаю. В разговор снова вмешался Клинт Карагиозис: — Вероятно, он во сне оделся, вышел из мотеля, купил другую одежду и переоделся. — Но зачем? — недоумевала Джулия. Клинт пожал плечами. — Я просто прикидываю, как это могло получиться. — Мистер Поллард, — сказал Бобби, — а сами-то вы как считаете, для чего вам это понадобилось? — Не знаю. — Поллард так часто произносил эти два слова, что они, казалось, истерлись от слишком частого употребления: каждое следующее «не знаю» звучало все тише и невнятнее. — По-моему, все было не так. Слишком не правдоподобно. И потом, я заснул уже после восьми. Когда бы я успел пойти и купить одежду? Магазины-то уже закрывались. — Некоторые работают до десяти, — сообщил Клинт. — Все равно времени оставалось мало, — признал Бобби. — Вряд ли я забрался в магазин после закрытия, — рассуждал Фрэнк. — И не украл же я эту одежду. Я вроде не вор. — Мы знаем, что вы не вор, — успокоил его Бобби. — Ну, этого мы, положим, еще не знаем, — оборвала мужа Джулия-Бобби и Клинт изумленно воззрились на нее. Поллард молча разглядывал исцарапанные руки. От робости или растерянности он не решался и слова сказать в свою защиту. Джулия прикусила язык. Какая же она грубиянка! Какие у нее основания сомневаться в его честности? Ляпнула, не подумав. Они ведь ничего о Полларде не знают. Черт, но если он говорит правду, то он и сам ничего о себе не знает. — Послушайте, — начала Джулия, — купил, украл — не имеет значения. Для меня и то и другое сомнительно. Если события действительно разворачивались так, как рассказывает мистер Поллард, то оба объяснения никуда не годятся. Человек во сне идет в магазин и покупает новую одежду. И чтобы он при этом не проснулся? Или чтобы другие не заметили, что он спит? Да быть такого не может! Ни за что не поверю! Я не так уж много знаю о сомнамбулизме, но не сомневаюсь: если мы обратимся к специалистам, они подтвердят, что это невозможно. — Одежда — это еще не все, — перебил Клинт. — Да, не все, — подтвердил Поллард. — Когда я проснулся, рядом на постели лежал большой бумажный пакет. В такие продавцы в магазине кладут покупки, если вы не хотите брать полиэтиленовый. Заглянул я в пакет, а там… деньги. Снова деньги. — Сколько? — спросил Бобби. — Не знаю. Много. — Вы не пересчитывали? — Они сейчас в мотеле, где я остановился. Это другой мотель. Я все время переезжаю с места на место. Так спокойнее. Хотите — потом посчитайте. Я пробовал, но, кажется, разучился. Да-да. Звучит нелепо, но так оно и есть… Сложение у меня уже не получается. Как ни бился, но… цифры для меня теперь пустой звук. — Поллард опустил голову и закрыл лицо руками. — Сперва память отшибло. Теперь простые вещи забываю, разучился считать. Я прямо… разваливаюсь на глазах… рассыпаюсь. Скоро от меня ничего не останется, разве что тело. А от разума… ничего. — До этого не дойдет, Фрэнк. Мы не допустим, — пообещал Бобби. — Мы обязательно выясним, кто вы и что с вами стряслось. — Бобби, — одернула Джулия. — Что? — Бобби сверкнул глуповатой улыбкой. Джулия встала из-за стола и направилась в туалет. — Господи ты боже мой, — вздохнул Бобби и поплелся за ней. Закрыв дверь и включив вентилятор, он зашептал: — Джулия, мы просто обязаны помочь бедолаге. — У этого человека все признаки сумеречного состояния. Он совершает все эти действия в помрачении. Просыпается среди ночи и делает все, что взбредет ему в голову. Но он не лунатик. Его сознание бодрствует. Украдет, убьет, а утром ничего не помнит. — Я совершенно уверен, что у него на руках была его же собственная кровь. Пусть у него сумеречное состояние, помрачения, но он не убийца. На что спорим? — Скажи еще, что он не вор. Просыпается в обнимку с полным пакетом денег, не знает, откуда они взялись, — и не вор? Или, по-твоему, он их печатает, когда у него провалы в памяти? Ах да, это же невозможно: такой симпатяга — и вдруг фальшивомонетчик. — Но, послушай, надо же и чутью доверять. А я печенкой чую: Фрэнк — честный малый. Вот и Клинт так считает. — Известное дело: греки народ компанейский, готовы водить дружбу с каждым встречным и поперечным. — Это Клинт — компанейский грек? Может, ты про другого Клинта? Не про того, который Карагиозис? Не про парня, который словно отлит из бетона и улыбается не чаще, чем индеец на вывеске табачной лавки? В туалете горел нестерпимо яркий свет. Он отражался в зеркале. Белизна мойки, стен, керамических плиток резала глаза. А тут еще Бобби, который дружелюбно, но решительно гнет свою линию. У Джулии разболелась голова. — Полларда в самом деле жаль, — призналась она. — Ну так давай вернемся и дослушаем его рассказ. — Хорошо. Только не суйся ты со своими обещаниями раньше времени. Договорились? Они вернулись в комнату. Небо уже не походило на лист холодного, местами обожженного металла. Оно потемнело, плавилось, клубилось. Внизу веял тихий бриз, но наверху, как видно, хозяйничали неистовые ветры: со стороны океана наползала плотная черная туча. Тени так и льнули к углам, как металлические опилки к магниту. Джулия потянулась было к выключателю, чтобы зажечь общий свет, но поймала взгляд Бобби, который откровенно наслаждался мягким блеском полированных медных ламп, любовался, как лоснятся в теплом маслянистом свете приставные столики по сторонам дивана и журнальный столик. Джулия оставила выключатель в покое. Она уселась на прежнее место, а Бобби снова примостился на столе и заболтал ногами. Клинт включил магнитофон. Фрэнк… мистер Поллард, — поправилась Джулия, — прежде чем вы продолжите свою историю, мне надо задать вам несколько вопросов. Итак, несмотря на кровь и царапины, вы считаете, что не способны поднять руку на другого. — Верно. Только если придется защищаться. — И на воровство вы тоже не способны. — Нет… По-моему, не способен. — Тогда почему вы не обратитесь за помощью в полицию? Поллард молчал. Он вцепился в раскрытую сумку на коленях и смотрел в нее, словно Джулия обращалась к нему изнутри. — Если вы действительно во всех отношениях чисты перед законом, то полиция гораздо успешнее поможет вам выяснить, кто вы такой и кто вас преследует. Знаете, что мне кажется? По-моему, вы не так уж и уверены в своей невиновности. Вы можете запросто завести машину без ключа. В сущности, с этим справится всякий, кто более или менее разбирается в автомобиле, и все же такой навык вызывает подозрения. К тому же еще эти деньги… Вы не помните, чтобы совершали преступление, но в душе сомневаетесь: а вдруг совершал? Вот вы и не решаетесь пойти в полицию. — Отчасти так, — согласился Поллард. — Надеюсь, вы понимаете, что, если мы возьмемся за ваше дело и в ходе расследования обнаружим изобличающие вас улики, нам придется сообщить в полицию? — Конечно, понимаю. Да ведь, обратись я сперва в полицию, они бы и не подумали распутывать эту историю. Я еще и рассказывать не кончу, а меня уже в чем-нибудь обвинят. — Мы не такие, — сказал Бобби и, повернувшись, многозначительно посмотрел на Джулию. — Станут они мне помогать, как же, — продолжал Поллард. — Пришьют какое-нибудь недавнее дело — и вся помощь. — Что вы, полиция так не поступает, — заверила Джулия. — Еще как поступает, — коварно возразил Бобби. Он спрыгнул со стола и начал прохаживаться взад-вперед между портретами дяди Скруджа и Микки Мауса. — Ты что, детективы по телевизору не смотришь? Не читала Хэммета, Чандлера? — Мистер Поллард, — сказала Джулия, — когда-то я сама работала в полиции… — Вот и выходит, что я прав, — подхватил Бобби. — Фрэнк, если бы вы сунулись в полицию, вас бы уже давно задержали, осудили и закатали на тысячу лет. — Есть и другая причина, по которой я не могу обратиться в полицию, поважнее. Боюсь огласки. Не дай бог, пронюхают журналисты и растрезвонят на весь свет про бедняжку, у которого денег невпроворот и нелады с памятью. Тогда он меня запросто отыщет. — Кто он? — удивился Бобби. — Тот, кто за мной гонялся в ту ночь. — Вы так говорите, будто помните его имя. Будто вы этого человека знаете. — Не знаю я его. Я даже не уверен, человек ли он. Но если ему станет известно, где я, придется снова от него удирать. Лучше затаиться. — Я переверну кассету, — остановил его Клинт. Пока Клинт возился с магнитофоном, все молчали. Было только три часа дня, но комнату заволакивали сумерки, неотличимые от вечерних. Бриз крепчал, силясь сравняться с буйным ветром, который нагонял тучи в вышине. С запада хлынул зыбкий туман. Обычно неспешный, сейчас он стремительно накатывал на город, клубясь и клокоча, лился, как расплавленный припой в пространство между землей и грозовыми тучами. Клинт снова включил магнитофон. — Что дальше, Фрэнк? — спросила Джулия. — Вы проснулись в субботу утром, в новой одежде, увидели на кровати пакет с деньгами, а потом? Тем дело и кончилось? — Нет, не кончилось. — Фрэнк поднял голову и устремил взгляд не на Джулию, а за окно, где сгущалась непогода. Казалось, взгляд его блуждает где-то далеко за пределами Лагуна-Бич. — Не кончилось и, возможно, не кончится никогда. Из второй сумки, где лежала пропитанная кровью рубашка и остатки черного песка, он достал стеклянную банку, в каких обычно консервируют овощи и фрукты. Массивная стеклянная откидная крышка прочно сидела на ней благодаря резиновому уплотнителю. В банке тускло посверкивали необработанные камни, похожие на драгоценные. Попадались камешки поглаже, они блестели и переливались. Джулия взяла банку в руки и повернула, чтобы разглядеть голову жука. Черная лоснящаяся голова размером со сливу была наполовину скрыта под панцирем. По сторонам головы виднелись желтые мутные фасеточные глазки. Под ними — еще одна пара глаз, раза в три меньше, голубые, с красноватым отливом. Крошечные дырочки на голове складывались в причудливый узор, в трех местах топорщились пучки шелковистых волосков, кое-где торчали колючие шипы. Если не считать их, кошмарная головка была гладкой, блестящей. Рот — круглое отверстие, в котором кольцами шли ряды маленьких, но острых зубов, — был сейчас открыт. Еще раз бросив взгляд на жука, Фрэнк вздохнул: — Хоть я в этой истории ни черта не понимаю, но в одном убежден: я попал в беду. Да еще в какую беду. Страшно Бобби вздрогнул. — Беда, — задумчиво повторил он, как бы разговаривая сам с собой. Джулия поставила банку на стол и объявила: — Фрэнк, мы займемся вашим делом. — Вот и отлично, — произнес Клинт и выключил магнитофон. Бобби повернулся от стола и двинулся к уборной, бросив на ходу: — Джулия, можно тебя на пару слов? Они уже третий раз за день уединялись в туалете. Бобби снова закрыл дверь и включил вентилятор. Лицо его стало совсем серым, теперь оно напоминало детальный карандашный портрет, даже веснушки поблекли. Обычно веселые голубые глаза смотрели невесело. — Ты спятила? — напустился он на Джулию. — Зачем ты сказала, что мы возьмемся за это дело? Джулия уставилась на него в изумлении. — Ты же сам хотел! — Ничего подобного. — Вот как? Значит, я ослышалась. Сера набилась в уши. Прямо не сера, а цемент. — Этот тип сумасшедший! С ним лучше не связываться. — Надо мне сходить к врачу, пусть прочистит уши. — Все его небылицы… Джулия подняла руку, оборвав мужа на полуслове. Опомнись, Бобби. Жук — не выдумка. Откуда он взялся? Я такого даже на картинках не видела. — А деньги? Он же наверняка их украл. — Фрэнк не вор. — Что? Кто тебе сказал? Господь бог? Больше некому. Ведь Поллард у нас и часа не пробыл. — Ты прав, — согласилась Джулия. — Мне сказал господь бог. А я привыкла его слушаться. Потому что ослушников он наказывает — насылает на них стаи саранчи или спалит волосы молнией. Послушай, Фрэнк такой несчастный, такой беззащитный. Мне его жаль, понимаешь? Закусив губу, Бобби пристально разглядывал жену. Наконец он произнес: — Видишь ли, нам так хорошо работается вместе, потому что мы друг друга прекрасно дополняем. Что не дается мне, легко дается тебе, с чем не справляешься ты, с тем легко справляюсь я. Мы во многом несхожи, но потому нас и тянет друг к другу, как разные полюса магнита. — К чему ты это? — Вот и в работе у нас разные побуждения. Мне нравится помогать людям, которые ни за что ни про что попадают в переплет. Люблю, когда добро торжествует. Фразочка прямо как из комикса, но я от чистого сердца. А тобой движет желание искоренять зло. Да нет, мне тоже приятно, когда какому-нибудь мерзавцу дадут по шапке и заставят плакать горючими слезами. Но для меня это не так важно, как для тебя. И ты тоже с радостью помогаешь невинным, попавшим в беду, но у тебя это на втором плане, главное — кого-нибудь прищучить. Наверно, так ты даешь выход своей ярости, которую вызвало убийство матери. — Бобби, если мне вздумается разобраться в своих мыслях и чувствах, я буду искать помощи в кабинете психоаналитика, а не в сортире. Когда Джулии было двенадцать лет, ее мать оказалась в числе заложников, захваченных преступниками при ограблении банка. Бандиты одурели от наркотиков и не знали жалости. Из шести заложников в живых остался лишь один. Этим счастливцем была не мать Джулии. Бобби отвернулся к зеркалу, словно не решался взглянуть жене в глаза. — Я веду вот к чему. Сейчас ты вдруг начинаешь рассуждать, как я. Это не к добру. Ты нарушаешь равновесие. Так наш союз потеряет прочность, а ведь только благодаря ей мы и держимся. Держимся и побеждаем. Тебе приглянулось это дело потому, что оно такое увлекательное, есть над чем поломать голову. И еще тебе жаль Фрэнка, ты хочешь ему помочь. А где же твоя обычная ярость? Почему она молчит? Я тебе скажу почему. Ей не на кого выплеснуться. Злодеев-то нет. Правда, Фрэнк уверяет, будто в ту ночь за ним кто-то гнался, но как знать, не померещилось ли ему. В общем, злодея под рукой не оказалось, ярость молчала, и пришлось мне самому и так и эдак тебя уламывать. И что же? Теперь ты меня уламываешь! Что-то тут не так. Ни к чему хорошему это не приведет. Джулия внимательно выслушала этот монолог, глядя в глаза мужа, отраженные в зеркале, и заметила: — Нет, не из-за этого ты беспокоишься. — Чего ты? — Ты же мне просто зубы заговариваешь. Что тебя тревожит? Бобби сверлил глазами отражение жены, но она выдержала его взгляд. — Ну расскажи, Бобби, — улыбнулась она. — У нас ведь нет друг от друга тайн. Бобби в зеркале казался жалким подобием Бобби настоящего. Настоящий Бобби, ее Бобби, — сильный, жизнерадостный, энергичный. Но из зеркала на нее смотрел бледный, почти сломленный человек, осунувшийся от постоянной тревоги. — Расскажи, — не отставала Джулия. — Помнишь прошлый четверг? Утром мы проснулись. Дул «санта-ана». Мы занялись любовью. Помнишь? — Помню. — Вот после этого… у меня появилось странное, жуткое предчувствие, что я потеряю тебя, что в этом ветре кроется какая-то сила, которая подбирается к тебе. — Ты мне говорил, когда мы сидели в «Оззи» и болтали о музыкальных автоматах. Но буря кончилась, и никто меня не утащил. Вот она я — цела и невредима. — В ту же ночь мне приснился страшный сон. Да так отчетливо, прямо как наяву. Бобби рассказал Джулии про домик у океана, про музыкальный автомат на сыром прибрежном песке, про громоподобный внутренний голос, твердивший: «ИДЕТ БЕДА, ИДЕТ БЕДА!», про кислотное море, которое поглотило их обоих, разъело плоть и утащило останки в пучину. — У меня прямо сердце замерло. Ты себе не представляешь, до чего я все это отчетливо видел. Это звучит глупо, но жизнь и то выглядит менее реальной, чем этот сон. Проснулся, а сам дрожу как осиновый лист. Тебя я будить не стал. И вообще, решил ничего тебе не рассказывать — зачем зря пугать? Кроме того… кроме того, бояться снов — это уж последнее дело: я же не дитя малое. Больше этот кошмар не повторялся. Но с тех пор — и в пятницу, и в субботу, и вчера — на меня нет-нет да и нападет тревога: а если с тобой и впрямь случится беда? И вот сегодня Фрэнк сказал, что он попал в беду. И добавил: «Да еще в какую беду». Я мигом вспомнил свой сон. Джулия, это дело наверняка грозит нам бедой, которую я видел во сне. Ей-богу, не стоит нам за него браться, а? Джулия не сводила глаз с Бобби в зеркале. Как бы его ободрить? Ну, поскольку они поменялись ролями, ей надо действовать так, как стал бы действовать на ее месте Бобби. Логика, доводы рассудка — это по ее части, а Бобби попытался бы разогнать ее страх шутками и комплиментами. Вместо прямого ответа Джулия сказала: — Раз уж мы так разоткровенничались, позволь и мне поделиться своими заботами. Знаешь, что у меня не идет из головы? Твоя привычка плюхаться на стол на глазах у потенциальных клиентов. Если бы я садилась на стол — это еще куда ни шло. Кое-кто из клиентов так бы и растаял. Особенно если я надену мини-юбку. Ноги у меня красивые, это факт. Но ты-то юбок не носишь, ни мини, ни макси. И потом, не с твоими конечностями обольщать клиентов. — При чем тут стол? — А при том, — Джулия отвернулась от зеркала и посмотрела на мужа в упор. — Чтобы сэкономить средства, мы арендовали для агентства семь комнат вместо восьми. Когда сотрудники разместились, оказалось, что нам с тобой достался один кабинет на двоих. Ладно. Комната просторная, для двух столов места хватит. Но ты объявляешь, что обойдешься без стола. Дескать, стол — это казенщина. Тебе нужна только кушетка, чтобы было где растянуться, когда разговариваешь по телефону. Но стоит в кабинете появиться клиенту — и ты вспрыгиваешь на мой стол. — Джулия.. — Пластик на столе прочный, все выдержит. Но если ты и дальше будешь его протирать, на столе рано или поздно появится вмятина от твоей сиделки. Не встретив в зеркале взгляда жены, Бобби, хочешь не хочешь, вынужден был тоже повернуться к ней лицом. — Ты слышала, что я тебе говорил про сон? — Только ты пойми меня правильно, Бобби. Задница у тебя что надо, но иметь ее отпечаток у себя на письменном столе мне, право же, не хочется. Туда будут скатываться карандаши, забиваться пыль. — Что ты несешь?! — Поэтому ставлю тебя в известность, что я намерена подключить свой стол к электросети и в случае необходимости врубать ток. Попробуй только еще раз примоститься на моем столе — и узнаешь, каково приходится мухе, когда она садится на оголенный провод. — Вот шебутная! Чего это ты расходилась? — Нервишки шалят. Давненько не наказывала всяких негодяев. Не на кого выплеснуть злость. — Эй, погоди, — догадался Бобби. — Да ты вовсе не шебутная. — Разумеется. — Это ты меня передразниваешь! — Правильно, — Джулия поцеловала мужа в правую щеку и потрепала по левой. — А теперь давай вернемся и скажем Фрэнку, что мы согласны. Она распахнула дверь и вышла из туалета. Бобби только рот раскрыл. — Ну что ты будешь с ней делать? — пробормотал он и последовал за Джулией. Тени жались по углам комнаты, как монахи по кельям, а янтарные отсветы трех ламп чем-то напоминали Джулии таинственное мерцание выстроившихся рядком церковных свечей. На столе вокруг горстки красных камней по-прежнему разливалось багровое сияние. Дохлый жук, поджав лапки, по-прежнему лежал в своей банке. — Клинт уже сообщил вам о порядке оплаты? — спросила Джулия Полларда. — Да. — Отлично. В качестве аванса нам понадобится десять тысяч на расходы. За окном из разодранного брюха тучи сверкнула молния. Истерзанные небеса наконец прорвало: по стеклу застучал холодный дождь.Глава 26
Лилли проснулась три часа назад. Вот уже час, перенеся часть своего сознания в тело ястреба, она летала в поднебесье, взмывала ввысь, подхваченная ветром, камнем падала на добычу. Распахнутое небо было почти такой же реальностью для нее, как и для ястреба, в тело которого вселился ее разум. Вместе с птицей она скользила по воздушным потокам, с легкостью рассекала воздух между нависшими серыми тучами и видневшейся далеко внизу землей. Другая часть ее сознания пребывала вместе с телом в сумрачной спальне. Был понедельник, день еще не погас, а днем сестры обычно спали, чтобы не тратить на сон лучшее время суток — ночь. В их комнате на втором этаже стояла двухспальная кровать. Сестры располагались на ней бок о бок, а чаще — обнявшись. Сейчас Вербена лежала голая ничком, отвернувшись от сестры и прижавшись к ней ягодицами, и сквозь сон что-то невнятно бормотала в подушку. Даже уносясь с ястребом в небеса, Лилли чувствовала тепло, исходящее от сестры, и прикосновение гладкой ее кожи, слышала ее мерное посапывание и сонное бормотание, вдыхала явственный запах ее тела. Долетали до нее и другие запахи: запах пыли, затхлый запах длинных, давно не стиранных простыней и, конечно, кошачий запах. Но не только обонянием ощущала она присутствие кошек, которые разлеглись тут же на кровати и на полу (одни спали, другие лениво вылизывали шерсть). Лилли буквально жила их жизнью. Часть ее сознания обитала в бледном человеческом теле, часть парила в небе с пернатым хищником, а часть переселилась в кошек. После гибели бедняжки Саманты их осталось двадцать пять. В одно и то же время Лилли воспринимала все вокруг посредством своего тела, чувствовала мир так, как чувствует его ястреб, и вдобавок ей служили пятьдесят глаз, двадцать пять носов и языков и сотня лап кошачьей стаи. Собственный запах она обоняла и своим носом, и носами всех двадцати пяти кошек. Легкий душок мыла, оставшийся после вчерашней ванны, слабый, щекочущий аромат лимонного шампуня, кисловатый залах, остающийся после сна, доносящийся изо рта запах лука, сырых яиц и сырой печенки, которые Лилли ела утром, прежде чем отправиться спать. Нюх у кошек тоньше, чем у нее, и на них эти запахи действовали иначе, чем на саму Лилли. Природное благоухание ее тела казалось им непривычным, но небудоражащим, загадочным, но знакомым. Кроме того, Лилли могла обонять, осязать, видеть и слышать через органы чувств сестры. Она без труда перемещала свое сознание в тела животных и возвращала в свое тело, но единственный человек, с которым у Лилли имелась такая связь, это Вербена. Неразрывная связь установилась между близняшками с самого рождения. Если из тела кошки или ястреба Лилли выбиралась запросто, то освободиться от восприятия сестры ей не дано. К тому же, вселяясь в тела животных, она подчиняла их своей воле. С Вербеной совсем не так. Это отношения не кукольника и марионетки, но особая, неземная связь. Лилли жила на слиянии разных потоков восприятия, через несметные органы чувств других существ ее захлестывали звуки, запахи, цвета. Еще в раннем детстве мощный наплыв ощущений так ошеломил ее, что, не совладав с ними, она замкнулась в себе и некоторое время жила лишь в своем сокровенном мирке, богатом сочными, многообразными впечатлениями. Позднее она все-таки научилась противостоять этому напору и управлять им. Лишь тогда у нее возникло желание выглянуть за пределы своего внутреннего мира и общаться с окружающими. Поэтому говорить Лилли начала только в шесть лет. И все же окончательно выбраться из этого глубокого и бурного потока невыразимых ощущений на сухой берег, где обитают обычные люди, Лилли так и не удалось. Хорошо хоть, что она более или менее успешно овладела искусством объясняться с матерью, Золтом и другими. А вот Вербена так и не научилась общаться с людьми столь же свободно, да и едва ли научится. Она предпочла навсегда остаться в мире чувств, не слишком стремилась упражнять и развивать свой интеллект или же просто им пренебрегала. Говорить она вовсе не умела, все люди, кроме сестры, вызывали у нее разве что вялый интерес. Она радостно отдавалась буйству ощущений, которые взметала в ее душе кипящая вокруг жизнь. Она скакала с белками, летала с ястребами и чайками, томилась от похоти вместе с кошками, рыскала и охотилась с койотами, пила студеную воду из ручья с енотами и полевыми мышами, переносилась в сознание суки во время течки, когда на нее взбираются кобели, трепетала от ужаса вместе с загнанным кроликом и проникалась хищным возбуждением преследующей кролика лисы. Такого разнообразия впечатлений не знал больше ни один человек, кроме Лилли. Вербена отказалась от будничного, сравнительно спокойного существования и с головой ушла в мятежную, неизменно волнующую жизнь дикой природы. Сейчас Вербена спала, однако и ее сознание вместе с сознанием Лилли отчасти перенеслось в тело парящего ястреба: даже сон не обрывал связи сестер с живыми существами. Неустанные потоки ощущений мелких тварей не только составляли саму жизнь сестер, но и питали их сны. Кружа под грозовыми тучами, которые делались все мрачнее и мрачнее, ястреб пролетал над каньоном, проходившим по земельному участку Поллардов. Далеко внизу, в завалах измятых высохших шаров перекати-поля, среди колючих зарослей утесника из укрытия выскочила жирная мышь. Она припустилась по каньону, осторожно следя, не подстерегает ли на земле враг. О смертельной опасности, грозящей с неба, она не подозревала. Ястреб инстинктивно догадался, что хлопанье крыльев, даже далекое, спугнет мышь и она юркнет в первую попавшуюся щель. Он бесшумно закинул крылья назад, почти совсем сложил их и ринулся вниз, на добычу. Лилли уже не раз случалось падать вместе с птицей с огромной высоты на дно глубоких расселин, но у нее опять захватило дух и, хотя на самом деле она преспокойно лежала на спине в своей постели, внутри все перевернулось, душу захватил животный страх, и она издала пронзительный ликующий вопль. Лежавшая рядом Вербена тоже тихо вскрикнула. Мышь застыла, почуяв близкую беду, но так и не поняла, откуда она надвигается. У самой земли ястреб резко раскинул крылья, ощутив упругость воздуха и вовремя удержав падение. Тело его качнулось вниз, он вытянул лапы, разжал когти. От резкого взмаха крыльев мышь опомнилась, сорвалась с места, но поздно: ястреб уже закогтил ее. За миг до нападения Лилли, не покидая тела ястреба, перенеслась в тело мыши. Теперь она испытывала и ледяную радость охотника, и жгучий ужас жертвы. Вместе с ястребом она чувствовала, как сильные, острые когти пронзают шкурку и впиваются в пухлое тельце зверька; вместе с мышью она вздрогнула от колючей боли и почувствовала, как цепкие когти разрывают ей внутренности. Птица взглянула на зажатого в когтях зверька и затрепетала от своего необъятного могущества и силы. Теперь она сможет снова утолить голод. Далеко по каньону разнесся победный клекот. Оказавшись в когтях крылатого супостата, мышка, жалкая и беспомощная, была поражена цепенящим страхом, таким нутряным, что удивительным образом граничил с самым изысканным чувственным наслаждением. Мышка заглянула в стальные, безжалостные глаза птицы и перестала биться, обмякла, покоряясь неизбежной смерти. Она видела, как ястреб заносит над ней ужасный клюв, понимала, что птица раздирает ее плоть, но боли уже не было. Зверьком овладела смиренная отрешенность, которая на миг сменилась исступленным блаженством, и — пустота. Ястреб закинул голову, заглатывая кровавые кишки и теплые ошметки мяса. Лилли перевернулась на бок, лицом к сестре. Возбуждение ястреба передалось Вербене, она пробудилась и погрузилась в объятия Лилли. Прижавшись бедрами, животами, грудями, близнецы дрожали безотчетной дрожью. Дыхание Лилли согревало нежную шею Вербены, но благодаря нерасторжимой связи с сознанием сестры она и сама чувствовала свое дыхание на ее коже. Сестры издавали невнятный лепет, льнули друг к другу. Только когда ястреб, оторвав от мышиной шкурки последний клочок кровавого мяса, взмахнул крыльями и взвился в небо, дыхание сестер стало ровнее. Внизу раскинулись владения Поллардов. Миртовая изгородь, видавший виды особняк с островерхой шиферной крышей, купленный лет двадцать назад «Бьюик», который прежде принадлежал матери и на котором теперь изредка ездит Золт; на тесных, неухоженных клумбах вокруг обветшалого заднего крыльца то там то сям пестреют красные, желтые и лиловые примулы. А к северо-востоку от дома, у самой границы участка, Лилли заметила Золта. Все так же сжимая Вербену в объятиях, покрывая ее шею, щеки и висок сладкими поцелуями, Лилли направила ястреба в сторону брата. Ястреб принялся описывать круги над Золтом. Его глазами Лилли видела, что брат, повесив голову, застыл над могилой матери. Сколько уже лет прошло после ее смерти, а он все убивается. Лилли не скорбела о матери. Мать была для нее такой же чужой, как и прочие люди, и Лилли приняла ее смерть с полным равнодушием. Даже Золт ей ближе — ведь он так много умеет. Но близость близости рознь. Лилли слишком плохо его знает, а значит, не очень-то он ей и дорог. Как можно по-настоящему сблизиться с человеком, если ты не в силах проникнуть в его сознание, жить с ним, жить его чувствами. Именно такая непостижимая близость привязывала ее к Вербене, ею окрашены отношения Лилли с животными и птицами, населяющими этот мир. Без этой живой подспудной связи душа Лилли была закрыта. А кого не любишь, того и не оплакиваешь. Кружащий в небе ястреб видел, как Золт рухнул на колени возле могилы.Глава 27
Понедельник. Вечереет. Томас сидит за столом. Складывает стихи из картинок. Ему помогал Дерек. Думал, что помогает. Он рылся в коробке с вырезками. Выбирал картинки и давал Томасу. Подойдет картинка — Томас обрежет ножницами и наклеит. Но чаще картинки были не те. Тогда Томас откладывал их в сторону и просил другую. И так, пока Дерек не подберет нужную. Он скрывал от Дерека страшную правду. Страшная правда заключалась в том, что Томас хочет складывать стихи сам. Но Дереку говорить нельзя: обидится. Он и так обиженный. Его судьба обидела. Он глупее Томаса, а быть глупым обидно. И с виду он глупее, а это еще обиднее. Лоб у него покатый, нос плоский — хуже, чем у Томаса. И голова сплюснутая. Вот такая страшная правда. Потом стихи надоели, и они пошли в комнату для настольных игр. Там случилась неприятность. Дерека обидели. И он заплакал. Обидела девочка. Мэри. В комнате для настольных игр. В углу играли в стеклянные шарики. Кто-то смотрел телевизор. А Томас и Дерек сидели на кушетке. Когда к ним подходили, они Общались. Им в интернате всегда говорили: «Общайтесь, Общайтесь…» А когда Общаться было не с кем, Томас и Дерек смотрели на пересмешников в кормушке за окном. Пересмешники на самом деле не пересмеивались, а только сновали туда-сюда. Так интересно… А Мэри — она в интернате новенькая — не сновала, и смотреть на нее неинтересно. Зато она всех пересмеивала. Нет, болтала. Все время болтает и болтает. Мэри разбиралась в курах[121]. Она говорит, что кур — это очень важно. Может, правда. Томас не знал, кто такой кур. Он много чего важного не знает. Про курицу знает, а про кура — нет. Может, это курицын муж? Мэри говорит, у нее кур очень высокий для дауна. — Я дебил с высокими показателями, — сказала Мэри, довольная-предовольная. Томас не знал, что такое дебил. Но у Мэри ничего высокого не было. Она толстая сутулая коротышка. — Ты, Томас, наверно, тоже дебил, но у тебя показатели ниже. Я почти нормальная, а тебе до нормального далеко. Томас растерялся. Дерек, видно, еще больше растерялся. — А я? Я не дебил, — сказал он и покачал головой. Дерек говорил хриплым голосом, иногда слов было не разобрать. — Я не дебил. Я ковбой. — Он улыбнулся. — Ковбой. Мэри захохотала. — Никакой ты не ковбой. И никогда не будешь ковбоем. Ты знаешь кто? Ты, наверно, имбецил. Томас и Дерек не поняли это слово, попросили повторить. Мэри повторила, но они все равно не поняли. Совсем как про кура. — Есть нормальные люди, — объяснила Мэри, — а есть глупее их, дебилы. А глупее дебилов — имбецилы. А еще глупее — идиоты. Вот я — дебил с высокими показателями. Я здесь долго не останусь. Буду хорошо себя вести, работать над собой и когда-нибудь вернусь в пансионат для выздоравливающих. — Во что? — спросил Дерек. Томас тоже хотел переспросить. Мэри засмеялась. — То есть буду жить почти как нормальные люди. А ты никогда не сможешь, имбецил чертов. Теперь Дерек сообразил, что она издевается и смотрит на него свысока. Ему стало обидно, он не удержался — заплакал. Покраснел и заплакал. А Мэри гадко улыбалась и задирала нос, как будто ей дали какой-то важный приз. И как ей не стыдно говорить такое нехорошее слово — «чертов». А ей не стыдно. И то, другое слово — «имбецил» — тоже, видно, нехорошее. А она его все повторяла. Дерек заплакал и убежал. А она вслед кричала: «Имбецил, имбецил!» Томас пошел к себе в комнату искать Дерека. Дерек заперся в стенном шкафу и скулил. Пришли санитарки, стали уговаривать, а он не выходит. Они уговаривали, уговаривали, и он наконец вышел, а сам все плачет. И тогда им пришлось Впрыснуть ему Лекарство. Когда заболеешь — например, когда у тебя Гриб, — санитарки просят Принять Лекарство. Это значит проглотить таблетку. Таблетки разные: большие, маленькие, и форма у них разная, и цвет. А Впрыснуть Лекарство — это когда колют иголкой, это больно. Томас всегда вел себя хорошо, и ему ни разу не Впрыскивали. А Дерек тихий, но иногда он начинал очень себя не любить, и тогда он все плакал и плакал и даже бил себя по лицу, прямо до крови — бил, бил, пока ему не Впрыскивали Лекарство, Чтобы Успокоился. Больше Дерек никого не бил, он добрый, но, Чтобы он Успокоился, его иногда приходилось даже усыплять. Так и в этот день, когда Мэри, дебил с высокими показателями, обозвала его имбецилом. Дерек уснул, а одна санитарка села за стол рядом с Томасом. Ее звали Кэти. Томаслюбил Кэти. Она старше Джулии, но младше, чем у людей бывают мамы. Она красивая. Не такая красивая, как Джулия, но все равно. У нее красивый голос, и ей не страшно смотреть в глаза. Она взяла Томаса за руку и спросила, как он. Он сказал — хорошо. Но на самом деле ему было совсем не хорошо. Она догадалась. И стала с ним разговаривать. И Томасу стало лучше. От того, что они Общались. Она рассказала про Мэри. Чтобы он на Мэри не сердился. И от этого Томасу стало еще лучше. — Мэри очень несчастная, Томас. Она одно время жила в большом мире, в пансионате для выздоравливающих, даже немного работала и сама зарабатывала на жизнь. Она очень старалась быть как все, но ничего не выходило. Ей пришлось нелегко, и в конце концов ее снова поместили в интернат. Она и сама, наверно, жалеет, что обидела Дерека. Просто она очень собой недовольна, вот и хочет доказать себе, что не такая уж она ущербная — есть люди ущербнее ее. — Я тоже однажды живу… жил в большом мире. — Знаю, голубчик. — С папой. А потом с сестрой. И с Бобби. — Тебе там понравилось? — Иногда… было страшно. А с Джулией и Бобби… тогда понравилось. Дерек посапывал в кровати. Настал уже совсем вечер. Небо затянули тучи-кучи. В комнате всюду тени. Горит только настольная лампа. При этом свете Кэти такая красивая. У нее кожа прямо как розовый атлас. Томас знал, что такое атлас — у Джулии когда-то было атласное платье. Томас и Кэти помолчали. Потом Томас сказал: — Иногда бывает трудно. Кэти положила руку ему на голову. Погладила по волосам. — Я знаю, Томас, знаю. Она добрая. А Томас почему-то взял и заплакал. Непонятно: она добрая, а он плачет. Может, потому и плачет, что она добрая. Кэти подвинула кресло поближе. Томас наклонился к ней. Она его обняла. А он плакал и плакал. Не горько-прегорько, как Дерек. Тихо. Но остановиться не мог. Хоть и старался. Плачет, как глупый. А глупым быть так не хочется. — Не хочу быть глупым, — выговорил он сквозь слезы. — Ты не глупый, голубчик. — Нет, глупый. Так не хочу, а по-другому не получается. Стараюсь забыть, что глупый, и не получается, потому что глупый. А другие — нет. Они живут в большом мире, каждый день живут, а я не живу в большом мире и не хочу. Говорю, что не хочу, а все равно хочу. Томас никогда так много не говорил. Он и сам удивился. Удивился и огорчился: он так хотел рассказать Кэти, как тяжело быть глупым, как тяжело бояться большого мира, — и ничего не получилось. Не нашел слов. Так эта тяжесть в нем и осталась. — Время. Кто глупый, кто не из большого мира, у него много времени. На все много времени. Но его мало. Не хватает научиться не бояться. А мне надо научиться не бояться, тогда я смогу вернуться к Джулии и Бобби. Я хочу к ним, а то не останется времени. Его много, но его мало. Я говорю, как глупый, да? — Нет, Томас, это не глупости. Томас так и сидел, прижавшись к Кэти. Ему нравилось, когда его обнимают. — Понимаешь, — сказала Кэти, — жизнь для всех бывает нелегкой. Даже для умных. Даже для самых умных. Томас одной рукой вытер слезы. — Правда? Для тебя тоже? — Случается. Но я верю в Бога, Томас. В том, что мы пришли в этот мир, есть Его промысел. Всякая трудность на нашем пути — это испытание. И чем успешнее мы его преодолеем, тем лучше для нас. Томас взглянул ей в лицо. Какие добрые глаза. Красивые глаза. Любящие. Как у Джулии и у Бобби. — Бог сделал меня глупым — это тоже испытание? — Ты не глупый. Вернее, не во всем глупый. Не надо так себя называть. Пусть ты в чем-то и не дотягиваешь, но это не твоя вина. Просто ты не такой, как другие. В том и состоит твое испытание, что ты… не такой. Но держишься ты стойко. — Правда? — Просто отлично держишься. Сам посуди. Ты не ожесточился, не хнычешь. Тянешься к людям. — Да. Я Общаюсь. Кэти улыбнулась и утерла ему лицо салфеткой. — Мало кто из умных может похвастаться, что переносит испытания так мужественно. А кое-кто из них тебе и в подметки не годится. Томас поверил и обрадовался. Он только не очень поверил, что умным тоже нелегко живется. Кэти еще немного посидела. Убедилась, что все в порядке. И ушла. Дерек все посапывал. Томас остался за столом. Опять принялся за «стихи». Поработал-поработал, а потом подошел к окну. Капал дождик. По стеклу бежали струйки. Вечер кончался. Скоро — вслед за дождем — будет ночь. Томас прижал ладони к стеклу. Он мысленно устремился в серый дождливый вечер, в пустоту ночи, которая медленно подкрадывалась все ближе и ближе. Беда все еще там. Томас ее чувствует. Человек — и не человек. Что-то больше человека. Что-то очень плохое. Злючее-страшучее. Томас чувствовал ее все эти дни, но Бобби он уже не телевизил, потому что Беда еще далеко и Джулии пока ничего не грозит. Часто телевизить нельзя, а то Беда нагрянет. Томас станет телевизить, а Бобби уже не поверит. И не сможет спасти Джулию. Больше всего Томас боялся, что Беда унесет Джулию в Гиблое Место. Туда попала мать Томаса, когда ему было всего два годика. Томас ее даже не помнит. А потом в Гиблое Место попал папа. И Томас остался вдвоем с Джулией. Гиблое Место — это не ад. Про рай и ад Томас знал. Рай — это где Бог. А в аду главный — дьявол. Если рай и правда есть, то папа и мама в раю. Лучше попасть в рай. Там хорошо. В аду санитары недобрые. Но Гиблое Место — это не ад. Это Смерть. Ад — не очень хорошее место, а Смерть — самое нехорошее. Ее и представить трудно. Смерть — это когда все прекращается, исчезает и время останавливается. Конец, шабаш. Как такое представить? Томас не может вообразить себе Смерть, никак не может. А чего не можешь вообразить, того просто нет. Томас пытался понять, как ее представляют другие, — не получается. Он ведь глупый. И он вообразил себе такое место. Когда человек умирает, то говорят: «Его унесла Смерть». Вот как отца, когда однажды ночью у него сердце пошло на приступ. Но раз Смерть уносит, то она ведь куда-то уносит. В это самое Гиблое Место. Уносит и никогда уже не отпускает. Что там случается с людьми, Томас не знал. Может, ничего страшного. Но им не позволяют вернуться к тем, кого они любили, а это уже страшно. Даже если их там вкусно кормят. Одни, наверно, попадают в рай, другие в ад; их ни из рая, ни из ада не выпускают. Значит, и рай и ад — это одно Гиблое Место, просто разные комнаты. А может, ни рая, ни ада нет и Гиблое Место — холодная черная пустота. Много-много пустоты. Попадешь туда — а тех, кто оказался тут до тебя, в такой пустоте не найти. Этого Томас боялся больше всего. Не того, что Джулия окажется в Гиблом Месте, а что потом он не сможет ее там отыскать. Он уже боялся и приближения ночи. Тоже большая пустота. С мира сняли крышку. Если даже ночь такая страшная, то Гиблое Место в тысячу раз страшнее. Оно ведь больше ночи, и там никогда не светит солнце. Небо темнело. Ветер трепал пальмы. Дождинки бежали по стеклу. Беда пока далеко. Но она подойдет ближе. Скоро подойдет.Глава 28
Порой Золту не верилось, что мать умерла. Вот и сегодня, как и всякий раз, когда он входил в комнату или поворачивал за угол, ему казалось: сейчас он ее увидит. То вдруг послышится, будто она в гостиной качается в кресле, вяжет шерстяной платок и мурлычет под нос. Золт заглянул в гостиную, но кресло оказалось покрыто слоем пыли и затянуто паутиной. А в другой раз он бросился в кухню: ему почудилось, будто мать в цветастом халате и белом фартуке с оборками выкладывает аккуратные комочки теста на противень или возится с пирогом. На кухне, конечно, никого не оказалось. Или вот еще: в минуту смятения ему приходит в голову, что мать лежит на кровати у себя в спальне. Золт мчится на второй этаж, входит в спальню и вдруг вспоминает, что теперь это его комната, что мать давно умерла. Чтобы избавиться от этой странной и мучительной тоски, Золт пошел к могиле матери. Семь лет назад он похоронил ее в северо-восточном уголке их обширных владений. В тот день над одинокой могилой, как и сейчас, простиралось хмурое зимнее небо без единого просвета. И в вышине точно так же кружил ястреб. Золт сам выкопал яму, завернул покойную в саван, окропленный любимыми ее духами, и опустил в могилу. Он проделал все тайком; хоронить на частной территории, не отведенной под кладбище, запрещается законом. Но, если бы он похоронил мать в другом месте, пришлось бы туда и переселиться, ибо хоть ненадолго покинуть могилу, где покоятся бренные останки матери, свыше его сил. Золт упал на колени. С годами холмик над могилой все опускался и опускался, и сейчас на его месте виднелась неглубокая впадина. Трава здесь редела и была жестче, чем вокруг. По какой-то неведомой причине трава на месте погребения долго не росла. В изголовье не было каменной плиты с указанием годов рождения и смерти — несмотря на высокую изгородь вокруг участка, Золт побоялся, что место незаконного захоронения ненароком попадет кому-нибудь на глаза. Золт вперился в углубление у своих ног. Может, будь здесь камень, странная забывчивость и несбыточные мечты наконец оставили бы его? Если бы он каждый день видел имя матери и дату ее смерти, высеченные на мраморной плите, то эти буквы и цифры мало-помалу надежно запечатлелись бы у него в душе. Золт растянулся на могиле и приник ухом к земле, словно надеялся, что с подземного ложа донесется голос матери. Прижавшись к неподатливой почве, он с томлением ждал, не вольется ли в него жизненная сила, которую некогда излучала мать, — та особая энергия, пышущая, словно жар из плавильной печи. Ожидания были тщетны. Ничего удивительного. Мыслимое ли дело, чтобы даже такая незаурядная женщина, как их мать, по прошествии семи лет после смерти смогла одарить сына хоть малой толикой той любви, которую изливала на него при жизни? И все же Золта взяла досада от того, что святые останки под толщей грязной земли не способны наделить его даже подобием прежней материнской силы. Горячие слезы навернулись на глаза. Золт крепился, однако вслед за негромким рокотом грома брызнули капли дождя и, неудержимые, как дождь, хлынули слезы. Он силился побороть желание руками разрыть землю, раскопать тело матери. Конечно, плоть ее давно разложилась, в могиле он найдет разве что кости, облепленные невесть откуда взявшимся вязким месивом. Но ему так хочется заключить мать в объятия и сложить ее костлявые руки так, будто и она его обнимает! Золт действительно принялся было рвать траву, разгребать землю, но тут из его груди вырвались неистовые рыдания, и силы оставили его. Ему не оставалось ничего другого, как уступить реальности. Мать мертва. Больше он ее на этом свете не увидит. Никогда. Холодный дождь припустил пуще прежнего, струи яростно хлестали Золта по спине. Жгучая скорбь сменилась ледяной ненавистью. Смерть матери — дело рук Фрэнка, и он должен заплатить за нее своей жизнью. Что толку лежать на раскисшей могиле и рыдать, как дитя? Не плакать надо, а мстить убийце. Золт поднялся, опустил сжатые в кулаки руки и застыл под дождем, чтобы студеные струи смыли с него грязь, очистили душу от скорби. Он мысленно дал матери обет, что станет упорнее разыскивать убийцу и разделается с ним без всякой жалости. В следующий раз, когда он нападет на след Фрэнка, он уж его не упустит. Устремив взгляд в дождливое, затянутое тучами небо, он пообещал матери, пребывающей теперь в раю: — Я обязательно найду Фрэнка. Найду и убью. Непременно убью. Раскрою череп, искромсаю его поганый мозг и спущу в канализацию. Ледяные струи словно проникали ему в душу, холод пробирал до костей. Золта била дрожь. — А всякому, кто хоть пальцем пошевелит, чтобы ему помочь, руки отрежу. Кто посмотрит на него с сочувствием, тому выдеру глаза. Честное слово, выдеру. И вырву язык всякому мерзавцу, который скажет ему хоть одно приветливое слово. Дождь хлынул с новой силой. Он прибил траву к земле, громко застучал по листьям стоявшего неподалеку дуба, зашелестел в миртовых зарослях. Капли били Золту в лицо. Он жмурился, но глаз не опускал. — А если он завел друзей, им не жить. Я по его милости лишился тебя, так пусть теперь и он мыкается один. Выпью у них всю кровь и вышвырну, как ветошь. Вот уже семь лет он снова и снова твердил эту клятву, и каждый раз с прежним жаром. — Как ветошь! — повторил он, стиснув зубы. Жажда мести не угасала с самого дня убийства. Да что там — ненависть к Фрэнку стала еще безудержнее и беспощаднее. — Как ветошь! Молния сверкающим лезвием рассекла пополам темное, словно покрытое кровоподтеками небо. На миг Золту почудилось, будто вовсе не тучи клубятся над головой, но судорожно подрагивает плоть какого-то богоподобного существа и сквозь длинную рваную рану, оставленную молнией, ему блеснула ослепительная тайна горнего мира.Глава 29
Дождливую погоду в Калифорнии Клинт терпеть не мог. Дожди тут шли раз в год по обещанию, а последние лет десять случалась и настоящая засуха. Разве что зимой иногда разбушуется гроза. Поэтому от дождя до дождя калифорнийцы успевали забыть, как в таких условиях водить машину. Стоило сточным канавам переполниться — и на улицах то и дело возникали заторы. На шоссе и того хуже: сидишь в машине — и будто попал в автомобильную мойку, которой конца-краю не видно, а конвейер сломался. В понедельник, когда сумрак непогоды постепенно начал рассеиваться, Клинт сел в «Шевроле» и отправился в Коста-Меса, в лаборатории Паломар. Они располагались в большом одноэтажном здании из бетонных блоков неподалеку от Бристол-авеню. Медицинское отделение лабораторий производило анализы не только крови и других органических веществ, но и промышленных составов и геологических пород. Клинт оставил машину на стоянке у здания, взял с собой пластиковый пакет и, согнувшись под проливным дождем, зашлепал прямо по глубоким лужам. Когда он вошел в маленькую приемную, вода с него текла ручьями. По ту сторону барьера у окошка для посетителей сидела симпатичная блондиночка в белом халате поверх фиолетового джемпера. — Вы бы хоть зонтик захватили, — посочувствовала она. Клинт кивнул, положил пакет на барьер и принялся развязывать тесемки. — Или плащ, — добавила девица. Из внутреннего кармана куртки Клинт вынул удостоверение сотрудника агентства «Дакота и Дакота» и протянул девице. — Счет направить по адресу этого агентства? — спросила она. — Да. — Вам уже случалось к нам обращаться? — Да. — Счет в банке есть? — Да. — Я, похоже, вас тут еще не встречала. — Нет. — Меня зовут Лайза. Я здесь всего неделю. Что-то не припомню, чтобы к нам захаживали частные сыщики. Между тем Клинт достал из пластикового пакета еще три пакетика и разложил их рядком. — Звать-то как? — Девица наклонила голову набок и игриво улыбнулась. — Клинт. — Так вот, Клинт, будешь ходить в такую погоду без плаща и зонтика — заболеешь и умрешь, хоть на вид ты малый крепкий. — Сперва вот эта рубашка. — Клинт сунул в окошко один пакет. — Надо сделать анализ крови на ткани. Причем установить не только группу крови, а все до точки. Подробное генетическое исследование. Возьмите образцы с четырех разных участков: может, тут кровь не одного человека. Если это так, нам нужен анализ крови каждого. Лайза угрюмо взглянула на Клинта, перевела взгляд на пакет с рубашкой и принялась заполнять бланк заказа. — То же самое проделайте вот с этим. — Клинт протянул второй пакет. В нем лежал сложенный лист почтовой бумаги с несколькими каплями крови из пальца Полларда, который Джулия уколола прокаленной на спичке иглой. — Выясните, совпадает ли эта кровь с кровью на рубашке, — продолжал Клинт. В третьем пакете был черный песок. — Это биологическое вещество? — спросила Лайза. — Не знаю. Кажется, песок. — Если биологическое, тогда надо отправлять в медицинское отделение, а если нет — то в промышленную лабораторию. — Отправьте понемножку и туда и сюда. И поскорее. — Дороже обойдется. — Неважно. Девица заполнила третий бланк и заметила: — На Гавайях есть пляжи с черным песком. Не бывал? — Нет. — Один называется Кайму. Этот песок — он вроде как вулканический. Любишь загорать на пляже? — Да. Лайза, не дописав, подняла глаза и широко улыбнулась. У нее были пухлые губы и белоснежные зубки. — А я прямо обожаю. Наденешь бикини и жаришься на солнышке. Красота! Ну и что с того, что загорать вредно для здоровья? Жизнь и так коротка, верно? Вот я и хочу прожить ее красиво. А побалдеешь на солнышке — и такая на тебя нападет-, нет, не то чтобы лень. Лень — это когда у тебя никаких сил, а тут наоборот: откуда только силы берутся. Но ленивые силы. Знаешь, как ходят львицы: твердо, но с развальцей. Вот и я от солнца прямо как львица. Клинт молчал. — Как бы это объяснить? А, вот что: наверно, меня от солнца на мужиков тянет. Этак разморит на красивом пляжике — и чихать хотела на предрассудки. Клинт смотрел на нее молча. Заполнив наконец бланки, Лайза прикрепила бланк к каждому пакету, а копии протянула Клинту. — Слушай, Клинт, мы же с тобой современные люди, а? — сказала она. Клинт все не понимал, куда она клонит. — К чему нам эти китайские церемонии? Сейчас ведь как: понравился девушке парень — нечего ждать, пока он раскачается, надо брать дело в свои руки. «Вот оно что!» — сообразил Клинт. Откинувшись назад — наверно, для того, чтобы Клинт получше разглядел ее пышную грудь под белым халатом, — она с улыбкой предложила: — Сходим куда-нибудь, а? В ресторан, в кино? — Нет. Улыбка стала натянутой. — Ну извините, — фыркнула девица. Клинт сложил копии бланков и сунул во внутренний карман, где лежало его удостоверение. Лайза испепеляла его взглядом. «Обиделась, — догадался Клинт. — Как бы ее утешить?» И туг его осенило. — Я «голубой», — выпалил он. Девица зажмурилась и потрясла головой, словно приходя в себя от удара. Потом, как солнечный луч, пробившийся сквозь тучи, на ее лице снова заиграла улыбка. — А я-то думаю: перед такой конфеткой — и устоять. Вы уж извините. — Ладно, чего там. Против природы не попрешь, так ведь? Клинт опять вышел под дождь. На улице похолодало. Небо смахивало на пепелище, к которому слишком поздно приехали пожарные: только влажная зола да мокрые головешки.Глава 30
Был тот же дождливый понедельник. Спускалась ночь. Выглянув в окно больничной палаты, Бобби Дакота сообщил: — Любоваться здесь особенно нечем, Фрэнк. Разве что автомобильной стоянкой. Он окинул взглядом небольшую белую комнату. В больницах его всегда брала оторопь, но Фрэнку он и виду не показывал. — Конечно, этот интерьерчик не просится на страницы журналов о современной архитектуре, зато здесь есть все, что нужно. Телевизор, журналы, еду подают в постель три раза в день. Медсестры попадаются смазливые, но ты смотри к ним не приставай, лады? Фрэнк был бледнее обычного. Темные круги вокруг глаз расплылись, как чернильные пятна. Такому самое место в больнице. Больше того, по его виду можно предположить, что он лежит здесь не первую неделю. С помощью рычагов Фрэнк привел кровать в такое положение, чтобы в ней можно было полулежать. — Может, я обойдусь без этого обследования? — спросил он. — Не исключено, что причина амнезия — физическое недомогание, — объяснила Джулия. — Вы же слышали, что сказал доктор Фриборн. Мало ли что могло ее вызвать — абсцесс мозга, опухоль, киста, тромб. Вот вас и проверят. — Не доверяю я этому Фриборну, — нахмурился Фрэнк. Сэнфорд Фриборн был другом Бобби и Джулии и одновременно их лечащим врачом. Несколько лет назад они помогли его брату, которому грозили большие неприятности. — Что это вдруг? Чем вам Сэнди не угодил? — Я его совсем не знаю. — Ты никого не знаешь, — заметил Бобби. — Поэтому ты к нам и обратился. Забыл? У тебя же амнезия. Приняв предложение Фрэнка взяться за расследование, Дакоты первым делом отвезли его к Сэнди Фриборну для предварительного обследования. Сэнди удалось установить только то, что Фрэнк не помнит ничего, кроме собственного имени. Бобби и Джулия не рассказали врачу ни про сумки с деньгами, ни про кровь на рубашке, ни про черный песок, ни про красные камешки, ни про жуткое насекомое. А Сэнди и в голову не пришло поинтересоваться, почему Фрэнк обратился к ним, а не в полицию и почему Дакоты согласились взять на себя дело, которое не имеет ничего общего с их обычной работой. Он вообще отличался крайней деликатностью и не задавал лишних вопросов — одна из тех черт, которые Дакоты в нем очень ценили. Фрэнк нервно поправил одеяло. — И что, мне непременно нужна отдельная палата? Джулия кивнула. — Вы же сами просили нас разобраться, куда вы исчезаете по ночам и чем занимаетесь. Значит, нам следует с вас глаз не спускать. — Отдельная палата — дорогое удовольствие. — Денег тебе хватит с лихвой на самый лучший уход, — успокоил Бобби. — А если окажется, что деньги не мои? Бобби пожал плечами. — Тогда отработаешь в больнице. Поменяешь постельное белье на сотне-другой кроватей, вынесешь тысчонку-другую суден. Пооперируешь на мозге за бесплатно. Почем знать, может, ты и впрямь нейрохирург. Из-за амнезии поди разбери, кто ты — нейрохирург или торговец подержанными автомобилями. Вот тебе и шанс узнать. Возьмешь пилу, распилишь кому-нибудь черепушку, заглянешь внутрь — может, и увидишь что-нибудь знакомое. — А когда вернетесь от рентгенолога или еще какого врача, за вами в палате кто-нибудь присмотрит, — сказала Джулия, облокотившись на перильца, которые шли по бокам кровати. — Сегодня с вами посидит Хэл. Хэл Яматака уже занял свой пост в неудобном на вид кресле с обивкой, предназначенном для посетителей. Кресло стояло сбоку от кровати, между Фрэнком и дверью. Отсюда Хэл мог наблюдать за своим подопечным, а если Фрэнк пожелает включить укрепленный на стене телевизор — смотреть на экран. Хэл был точь-в-точь Клинт Карагиозис, только в японском варианте — такой же плечистый широкогрудый молодец, будто сработанный каменщиком, который умеет ловко подгонять кирпичи друг к другу, да так, что раствора не видать. На тот случай, если по телевизору не будет ничего интересного, а подопечный окажется скучным собеседником, Хэл запасся романом Джона Д. Макдональда. Глядя в омытое дождем окно, Фрэнк произнес: — Наверно, я просто… просто боюсь. — Нечего тебе бояться, — заверил Бобби. — Хэл только с виду такой бука. Тех, кто ему по душе, он не убивает. — Однажды пришлось, — буркнул Хэл. — Ты убил человека, который тебе нравился? — удивился Бобби. — За что? — Он попросил одолжить мою расческу. — Вот видишь, Фрэнк, ты в полной безопасности. Только не проси у Хэла расческу. Но Фрэнку было не до шуток. — Я все думаю про кровь у себя на руках. Вдруг я кого-то поранил? Не дай бог это повторится. — Ну, Хэла тебе поранить не удастся. Он у нас грозный воин. — Точно, — подтвердил Хэл. — Рыцарь без траха и упрека. — Без траха? Мне до твоих сексуальных трудностей дела нет, Хэл. Одно могу сказать: не ешь столько суши[122] — не будешь отпугивать девочек запахом сырой рыбы. И тогда трахайся сколько влезет. Перегнувшись через перильце, Джулия взяла Фрэнка за руку. — Ваш муж всегда такой, миссис Дакота? — вяло улыбнулся Фрэнк. — Зовите меня Джулия. Всегда ли он болтает без умолку и балагурит? Не всегда, но, увы, частенько. — Слышишь, Хэл? — возмутился Бобби. — Женщины и те, у кого отшибло память, лишены чувства юмора. — Моему мужу только бы позубоскалить, а над чем — неважно. Хоть над автомобильной аварией, хоть над похоронами. — Хоть над зубной щеткой, — вставил Бобби. — …Случись атомная война, он бы отпускал шуточки и насчет радиоактивных осадков. И ничего с ним не поделать. Неизлечим. — Джулия пыталась излечить, — снова ввернул Бобби. — Отправила меня в лечебницу для патологически жизнерадостных. Там мне вкатили большую дозу хандры. Не помогло. На прощание Джулия сжала руку Фрэнка. — Тут вам ничего не грозит. В случае чего Хэл будет начеку.Глава 31
Энтомолог жил в новом районе Ирвина, называвшемся Тертл-Рок, в двух шагах от университета. К неярко освещенным дверям дома вела дорожка, на которой растекались дождевые лужи и лежали круги света от невысоких, напоминавших грибы фонарей под широкими черными колпаками. Держа в руке одну из кожаных сумок Фрэнка Полларда, Клинт поднялся на узенькое крыльцо и позвонил в дверь. Из переговорного устройства под кнопкой звонка раздался мужской голос: — Кто там? — Это доктор Дайсон Манфред? Меня зовут Клинт Карагиозис. Я из агентства «Дакота и Дакота». Через полминуты Манфред открыл дверь. Это был тощий мужчина на голову выше Клинта. На нем были черные брюки, белая рубашка с расстегнутым воротом, на шее болтался зеленый галстук. — Боже ты мой, на вас нитки сухой нет! — Промок маленько. Манфред открыл дверь пошире, посторонился и пропустил Клинта в прихожую с кафельным полом. — Угораздило же вас выйти в такой вечер без зонта и без плаща, — посочувствовал Манфред, закрыв дверь. — Ничего. Это даже бодрит. — Что бодрит? — Дождь. Манфред разглядывал Клинта с нескрываемым удивлением, но, по мнению Клинта, сам энтомолог выглядел гораздо удивительнее. Он был худ до чрезвычайности, кожа да кости. Одежда была ему велика, брюки мешком висели на тощих бедрах, а острые плечи только что не прорывали рубашку, будто она напялена прямо на скелет. Угловатый и нескладный, энтомолог имел такой вид, словно его соорудил из сухих сучьев какой-то бог-недоучка. Худощавое, длинное лицо с высоким лбом и впалыми щеками было так туго обтянуто загорелой жесткой кожей, что казалось, она того и гляди лопнет на скулах. Диковинные янтарные глаза смотрели на Клинта с холодным любопытством, которое, несомненно, было хорошо знакомо бесчисленным жукам, помещенным в его коллекцию. Манфред опустил глаза и воззрился на кроссовки Клинта, вокруг которых натекла уже целая лужа. — Прощу прощения, — спохватился Клинт. — Ничего, просохнет. Я работал в кабинете. Пойдемте туда. Мимоходом заглянув в гостиную, которая располагалась справа от прихожей, Клинт успел заметить обои с геральдическими лилиями, толстый китайский ковер, множество пухлых кресел и диванов, антикварную английскую мебель, темно-красные велюровые гардины и столы, заваленные сверкающими безделушками. Эта викторианская обстановка никак не вязалась с типично калифорнийской архитектурой дома. Вслед за энтомологом Клинт миновал гостиную и направился по короткому коридору в кабинет. Манфред шел чудной походкой, почти не сгибая ноги, ссутулившись и слегка вытянув шею. Ну прямо доисторическое насекомое, богомол какой-то. Клинт думал, что кабинет университетского ученого мужа битком набит книгами, однако в единственном книжном шкафу справа от стола он увидел всего сорок-пятьдесят томов. Были тут и шкафы со множеством широких и не очень глубоких ящичков — должно быть, в них хранились всякие жуки-пауки. По стенам были развешаны застекленные коробочки с наколотыми на булавках насекомыми. Внимание Клинта привлекла одна коллекция. Заметив это, Манфред сообщил: — Тараканы. Изумительные существа. Клинт промолчал. — Я имею в виду простоту их строения и функции. Внешность у них, разумеется, отнюдь не изумительная. Клинт никак не мог отделаться от ощущения, что жуки живые. — Как вам нравится тот великан — вот там, в углу? — Крупный, сэр, ничего не скажешь. — Мадагаскарский шипящий таракан. Научное название Gromphadorphina portentosa. Этот экземпляр — восемь с половиной сантиметров. Не правда ли, красавец? Клинт промолчал. Сложив свои длинные, костлявые конечности, Манфред, словно подобравший ноги паучише, втиснулся в кресло за столом. Клинт остался стоять. Долго он тут торчать не собирается, и так весь день в бегах. — Мне звонил ректор университета, — начал Манфред. — Просил по мере сил содействовать агентству «Дакота и Дакота». ИУК — Ирвинский университет Калифорнии — уже давно старался попасть в число ведущих американских университетов. Для этого и бывший, и нынешний ректоры не скупились на оклады преподавателям и не жалели расходов, чтобы переманить ученых и исследователей с мировым именем, работавших в других учреждениях. Но прежде, чем предоставить им хорошо оплачиваемые должности, следовало убедиться, что университет потратит деньги не зря. А вдруг окажется, что талантливый физик или биолог падок на виски, кокаин или малолетних девочек? Как бы в погоне за солидными кадрами и академическим престижем не попасть в пасквильную историю. Поэтому администрация поручила агентству «Дакота и Дакота» собирать сведения о кандидатах. Дакоты справлялись с поручением весьма успешно. Манфред уперся локтями в подлокотники кресла, сложил ладони и вытянул пальцы — такие длинные, словно у них на один сустав больше, чем у обычных людей. — Так что вас ко мне привело? Клинт открыл сумку и поставил перед энтомологом банку с жуком. Жук в банке был вдвое больше мадагаскарского шипящего таракана. Доктор Дайсон Манфред примерз к креслу и как зачарованный, не мигая, уставился на тварь в банке. — Это что — мистификация? — Нет, он настоящий. Манфред склонился над столом и почти ткнулся носом в толстое стекло, за которым замерло насекомое. — Живой? — Дохлый. — Где вы его нашли? Неужели здесь, в Южной Калифорнии? — Да. — Невероятно. — Что это за жук? — спросил Клинт. Манфред угрюмо посмотрел на него. — Никогда такого не видел. А раз даже я не видел, то считайте, никто не видел. Он, несомненно, относится к членистоногим, так же как пауки и скорпионы. Но можно ли считать его насекомым, сказать пока затрудняюсь. Надо сперва его исследовать. Если это действительно насекомое, то совершенно новый вид. И все-таки, где именно вы его нашли? И с какой стати он вызвал интерес у частных детективов? — Извините, сэр, я не могу разглашать подробности этого дела. В интересах нашего клиента я вынужден хранить его тайну. Манфред осторожно вертел в руках банку, рассматривая ее обитателя со всех сторон. Куда девался холодный оценивающий взгляд! Теперь янтарные глаза энтомолога горели возбуждением. — Уму непостижимо! Я непременно должен оставить этот экземпляр у себя. — Да я, в общем-то, и принес его вам для исследования. Но если вы хотите оставить его насовсем… — Именно. Насовсем. — Ну, это решать моему начальству и клиенту. А нам надо узнать, где такие обитают, и вообще получить о нем полную информацию. Бережно, словно это не стекло какое-нибудь, а тончайший хрусталь, Манфред поставил банку на стол. — Я сфотографирую этот экземпляр в разных ракурсах и с разным увеличением и сниму на видеопленку. Потом придется его расчленить — разумеется, со всей осторожностью, за это можете не волноваться. — Как знаете. — Мистер Карагиозис, вы относитесь к этому делу крайне легкомысленно. Вы вполне уразумели мои слова? Если жук действительно принадлежит к неизвестному виду, я просто не знаю, что и думать. Как могло случиться, что наука до сих пор не ведала о существовании вида, у которого встречаются такие громадные особи? Для энтомологии это событие, мистер Карагиозис. Да-с, великое событие. Клинт еще раз взглянул на жука в банке и согласился: — Понятное дело.Глава 32
Прямо из больницы Бобби и Джулия на служебной «Тойоте» отправились на запад, в расположенное на равнине местечко Гарден-Гроув. Конечной целью их поездки был дом 884 на Серапе-уэй — адрес, обозначенный в водительских правах на имя Джорджа Фарриса, которые обнаружил у себя Фрэнк. Джулия поглядывала то в забрызганные дождем боковые окна, то через лобовое стекло, по которому мягко пошлепывали «дворники». Она высматривала номера домов. По сторонам тянулись два ряда фонарей и одноэтажные коттеджи, построенные лет тридцать назад. В смысле архитектуры дома не отличались разнообразием: нехитрые типовые сооружения, похожие на коробки. Зато отделаны они были на разные лады. У одного дома штукатурка разрисована под кирпичную кладку, другой обит кедровыми панелями, третий облицован диким камнем, четвертый — древесной корой, пятый — вулканической породой. Калифорния — это не только фешенебельные районы вроде Беверли-Хиллз, Бель-Эр или Ньюпорт-Бич, не только особняки и виллы на побережье, которые то и дело показывают по телевизору. Это еще и такие вот дешевые домики, и благодаря их дешевизне калифорнийская мечта стала явью для бесчисленных потоков переселенцев, которые десятилетиями прибывали сюда из самых отдаленных уголков мира, сколь отдаленных — нетрудно догадаться по наклейкам на бамперах автомобилей, стоящих по сторонам Серапе-уэй: надписи на них были на корейском и вьетнамском языках. — Следующий дом, — предупредила Джулия. — С моей стороны. Кое-кто считает, что такие кварталы портят городской пейзаж, но Бобби видел в них прежде всего торжество демократии. Он и сам вырос на улице вроде Серапе, только не в Гарден-Гроув, а в Анахейме, и улица эта вовсе не казалась ему некрасивой. Ему запомнились долгие летние вечера, когда он играл на улице с другими ребятишками, оранжевые и багровые отблески заката, вечернее небо, на котором, словно рисунки тушью, застыли перистые силуэты пальмовых листьев. Порой в воздухе разливалось благоухание жасмина, с запада доносился крик одинокой чайки. А уж если у тебя есть велосипед, сколько всего можно посмотреть, сколько приключений тебя ожидает! Разъезжаешь по незнакомым улицам, где стоят обычные оштукатуренные дома, и будто открываешь для себя новый, удивительный мир. Во дворе дома 884 высились две эритрины. В угрюмых сумерках на кустах отливали белизной бутоны азалий. Подкрашенные желтоватым светом фонарей струи дождя напоминали жидкое золото. Бобби быстро шагал вслед за Джулией по дорожке, ведущей к дому. Он дрожал от холода, мокрое лицо и руки мерзли, словно идет не дождь, а мокрый снег. Не спасала даже утепленная нейлоновая куртка с капюшоном. Джулия позвонила. На крыльце зажегся свет. Кто-то разглядывал их в глазок двери. Бобби откинул капюшон и приветливо улыбнулся. Дверь приоткрылась. Не снимая дверной цепочки, из щели выглянул невысокий худощавый человек азиатского вида. Ему было лет сорок, черные волосы на висках слегка серебрились. — Вам кого? Джулия показала удостоверение и объяснила, что они разыскивают человека по имени Джордж Фаррис. — Полиция? — Хозяин дома нахмурился. — У нас все в порядке, полицию не звали. — Да нет же, мы ведем расследование частным образом, — сказал Бобби. Хозяин прищурился. Казалось, еще немного — и он захлопнет дверь у них перед носом, но вдруг он просиял и улыбнулся. — А-а, сыщики! Как по телевизору. Он снял цепочку и впустил Бобби и Джулию в дом. И не просто впустил, а встретил как почетных гостей. Ровно через три минуты они уже знали, что хозяина зовут Туонг Тран Фан (он теперь называет себя на западный манер: сперва имя, потом фамилия). Что он вместе со своей женой Чин через два года после падения Сайгона бежал из Вьетнама на лодке, что здесь они сначала работали в прачечных и химчистках, а теперь и сами открыли две химчистки. Туонг настоял, чтобы гости сняли куртки, и, как ни твердил Бобби, что они зашли всего на минутку. Чин — хрупкая женщина с тонким лицом, одетая в мешковатые черные шаровары и желтую шелковую блузку, — сказала, что сейчас подаст угощение. Бобби знал, что первое поколение вьетнамцев, живущих в Штатах, посматривает на полицию с опаской, они не зовут полицейских даже тогда, когда становятся жертвами преступления. У них еще свежа память о купленной-перекупленной полиции Южного Вьетнама и беспощадных северо-вьетнамских правителях, захвативших Юг после ухода американцев. Даже прожив в Штатах пятнадцать лет, многие вьетнамцы все равно относятся к властям недоверчиво. Однако к частным детективам супруги Фан сразу же прониклись доверием. Наверно, насмотревшись по телевизору на приключения отважных сыщиков, они считали детективов этакими защитниками обездоленных, рыцарями с револьверами вместо копья. Поборников справедливости в лице Бобби и Джулии торжественно усадили на новый диван — самое удобное место в гостиной. Фаны позвали в гостиную своих очаровательных детишек и представили гостям: тринадцатилетний Рокки, десятилетний Сильвестр, двенадцатилетний Сисси и шестилетняя Мэрил. Дети, как видно, родились уже в Америке, но держались гораздо учтивее и воспитаннее своих американских сверстников. Поздоровавшись с гостями, они вернулись на кухню готовить уроки. Несмотря на вежливые отказы Бобби и Джулии, Фаны быстро накрыли на стол и угостили их кофе со сгущенным молоком и изысканными вьетнамскими пирожными. Налили по чашке кофе и себе. Туонг и Чин сели в потертые кресла, по-видимому, не такие удобные, как диван. Комната была обставлена простенькой современной мебелью неброских цветов. В углу помещался небольшой буддистский алтарь; на красной жертвенной дощечке лежали свежие фрукты, керамические подставки ощетинились курительными палочками, от одной голубоватой вьющейся лентой поднимался благоуханный дымок. Больше ничего в гостиной не напоминало о Востоке — разве что столики, сверкающие черным лаком. Джулия взяла с подноса пирожное и сообщила: — Мы ищем человека, который когда-то, вероятно, жил в этом доме. Его зовут Джордж Фаррис. — Да, он тут жил, — подтвердил Туонг. Миссис Фан кивнула. Бобби удивился. Он не сомневался, что изготовитель фальшивых документов на имя Джорджа Фарриса взял первый попавшийся адрес, что Фрэнк никогда здесь не жил. А Фрэнк был совершенно уверен, что его настоящая фамилия Поллард, а не Фаррис. — Так вы купили этот дом у Джорджа Фарриса? — спросила Джулия. — Нет, — ответил Туонг. — Он тогда уже умер. — Умер? — переспросил Бобби. — Уже пять или шесть лет как умер. Ужасный рак. Выходит, Фрэнк Поллард действительно не Фаррис и никогда по этому адресу не жил. Удостоверение — липа от начала до конца. — Мы купили этот дом несколько месяцев назад у вдова, — объяснил Туонг. Он говорил по-английски довольно гладко, если не считать некоторых грамматических погрешностей. — Нет, не у вдова — у ее наследник. — Миссис Фаррис тоже умерла? — спросила Джулия. Фаны многозначительно переглянулись. — Печальная история, — заметил Туонг. — Откуда только такой человек берется? — Какой человек, мистер Фан? — Который убил миссис Фаррис, ее брата и двух дочек. Бобби почувствовал в желудке нехорошее шевеление. Он как-то сразу привязался к Фрэнку и поверил в его невиновность, но теперь в его уверенности появилась червоточина. Случайно ли у Фрэнка оказалось удостоверение человека, вся семья которого была убита? Не причастен ли Фрэнк к этому убийству? Бобби машинально жевал пирожное с кремом. Вкусное-то оно вкусное, но ему сейчас кусок в горло не идет. — Это случилось в конце июль, — добавила Чин. — Помните, стояла жара. Адом мы купили в октябре. Она подула на кофе. Бобби заподозрил, что ошибки в речи она допускает умышленно, чтобы не казаться грамотнее своего супруга, — пример ненавязчивой, истинно восточной деликатности. — Убийцу не поймали, — сказал Туонг Фан. — Вы хотя бы знаете, как он выглядел? — спросила Джулия. — Да нет. Бобби через силу покосился на Джулию. Она, похоже, была потрясена не меньше его, но даже взглядом не напомнила мужу о своих былых подозрениях. — Как их убили? — продолжала допытываться она. — Застрелили? Задушили? — Ножом, кажется. Пойдемте, я покажу, где их нашли. В доме было три спальни и две ванные комнаты. Одну ремонтировали. Кафельная плитка со стен и на полу была отбита. Вместо старых шкафчиков устанавливали новые, из мореного дуба. Джулия и Туонг вошли в ванную, Бобби и миссис Фан остановились в дверях. Из вентиляционного отверстия под потолком доносился шум дождя. — Тут на полу лежала младшая дочь Фаррис, — рассказал Туонг. — Ей было тринадцать. Страшно смотреть. Много крови. В щели между плитками залилась, не смоешь. Пришлось отдирать кафель. Затем он повел гостей в спальню девочек. Несмотря на тесноту — здесь стояли две кровати, две тумбочки, два письменных стола, — Сисси и Мэр ил ухитрились натащить в маленькую комнату горы книг. — К миссис Фаррис приехал погостить брат, — сказал Туонг Фан. — Целая неделя жил. Тут его убили. В постели. Стены, ковер были в крови. — Мы смотрели дом еще до того, как торговец недвижимостью велел покрасить стены и убрать ковер, — добавила Чин Фан. — Это была самая страшная комната. Меня потом долго во сне мучили кошмары. Хозяева и гости перешли в скудно обставленную спальню супругов. Двухспальная кровать, две тумбочки, два ночника с прихотливо украшенными абажурами. Ни гардероба, ни комода Бобби не увидел. Одежду, которая не помещалась в стенном шкафу, Фаны хранили в картонных ящиках с прозрачными пластмассовыми крышками, стоящих вдоль стен. По всему видно было, что рачительностью супруги Фан не уступают Бобби и Джулии. Может, и у них есть своя Мечта, ради которой они и вкалывают и не позволяют себе лишних трат? — В этой комнате нашли миссис Фаррис, — продолжал Туонг. — Тоже в постели. С ней сделали одна страшная вещь. Ее искусали. В газетах про это ни слова. — Искусали? — ужаснулась Джулия. — Кто? — Наверно, убийца. Лицо, горло… Другие места. — Но раз об этом не писали в газетах, — вмешался Бобби, — то как вы-то узнали? — Соседка рассказала. Она и сейчас тут живет. Это она убитых нашла. Говорит, старшая дочь и миссис Фаррис покусанные. — Она не выдумщица, — предупредила миссис Фан. — А где нашли старшую дочь? — спросила Джулия. — Пойдемте за мной. — Туонг провел их обратно в гостиную, а оттуда через столовую — в кухню. За кухонным столом детишки прилежно готовили домашнее задание. Радио и телевизор были выключены, ничто не отвлекало их от работы. Заниматься им, как видно, нравилось. Даже Мэрил — судя по всему, первоклашка, — которой на дом еще ничего не задавали, читала детскую книжку. Бобби обратил внимание на две разноцветные таблицы на стене. На одной отмечалось, какие оценки дети получали в школе за ответы на уроках и за контрольные работы с самогоначала учебного года. В другой перечислялось, какую работу по дому должен выполнять каждый из детей. Да, недаром университеты по всей стране пребывают в растерянности от того, что самыми способными абитуриентами сплошь и рядом оказываются азиаты. Негры и латиносы возмущаются, что им от азиатов совсем житья не стало, да и белые, которым из-за азиатов не удается попасть в университет, честят их на откровенно расистский лад. Поговаривают чуть ли не об азиатском заговоре. И вот в доме Фанов Бобби своими глазами видит, в чем залог их успеха. Секрет прост: они усерднее добиваются этого успеха. Они лучше прочих усвоили идеалы, на которых зиждется американское общество, — трудолюбие, честность, самоотверженность, целеустремленность, свобода в выборе своего пути. Как ни парадоксально, своим преуспеванием они отчасти обязаны нерадивости многих коренных американцев, которым трудно с ними тягаться из-за пренебрежения этими самыми идеалами. Из кухни хозяева и гости прошли в общую комнату, тоже не блиставшую обстановкой. — Старшую дочку Фаррис нашли тут, у дивана, — сказал Туонг. — Семнадцать лет. — Такая была красивая, — вздохнула Чин. — Ее тоже кусали. Как мать. Так говорит соседка. — А другие жертвы? — не отставала Джулия. — Младшая дочь, брат миссис Фаррис — на них тоже обнаружили укусы? — Не знаю, — сказал Туонг. — Их тела соседка не видела, — пояснила Чин. Все замолчали, разглядывая место, где нашли убитую девушку. Словно решили, что столь кошмарное преступление не может пройти без следа, и ждали, что этот след вот-вот проступит на новом ковре. В тишине было слышно, как по крыше монотонно барабанит дождь. — Жутковато небось жить в таком доме? — спросил Бобби. — Не потому, что здесь произошло убийство, а из-за самого убийцы: его ведь до сих пор не поймали. Не боитесь, что как-нибудь ночью он опять нагрянет? Чин кивнула. — Опасность всюду. Вся жизнь — опасность, — отозвался Туонг. — Кто хочет без риска, такой лучше не родиться. — Лицо его озарилось мимолетной улыбкой. — Бежать из Вьетнама на маленькой лодочке было опаснее. Бобби бросил взгляд в кухню. Детишки как ни в чем не бывало делали уроки. Они г-же не задумывались о том, что убийца может вернуться на место преступления. — А еще, — сообщила Чин, — мы зарабатываем тем, что ремонтируем дома, а потом продаем. Это четвертый. Поживем здесь еще год, отремонтируем каждую комнату и тоже продадим. — В этот дом после Фаррисов никто въезжать не хотел из-за убийства, — добавил Туонг. — Но мы подумали: тут опасно, зато можно заработать. — Когда мы закончим ремонт, здесь не только стены и пол будут другие. Дом станет чистым, духовно чистым, понимаете? Мы вернем ему непорочность. Изгоним скверну, которую занес сюда убийца. И в каждой комнате останется дуновение нашего духа. Туонг закивал: — Доброе дело сделаем. Достав из кармана найденные Фрэнком фальшивые водительские права, Бобби взял их так, чтобы пальцы закрывали имя и адрес владельца, и показал фотографию Фанам: — Вы знаете этого человека? — Нет, — ответил Туонг. Чин тоже покачала головой. Бобби снова спрятал права в карман. — А как выглядел Джордж Фаррис? — поинтересовалась Джулия. — Не знаю, — ответил Туонг. — Я же говорю: он умер от рака давно до того, как убили семью. — Может, среди вещей Фаррисов вам попадалась его фотография? — Нет, к сожалению. — Вы, значит, купили дом у агента по продаже недвижимости, — напомнил Бобби. — Он вам сообщил, кому достался дом после гибели Фаррисов? — Да. По наследству все имущество отошло второму брату миссис Фаррис. — Вы случайно не знаете, где он живет, как его зовут? Кажется, нам придется с ним побеседовать.Глава 33
Пора на ужин. Дерек проснулся. После укола он на ногах не стоял. И все равно хотел кушать. Томас помог ему дойти до столовой. Там покушали. Спагетти. Тефтели. Салат. Вкусный хлеб. Шоколадное пирожное. Холодное молоко. Потом вернулись в комнату и сели смотреть телевизор. Дерек опять уснул. По телевизору ничего интересного. Томас вздохнул с досадой. Посмотрел еще немного и выключил. Ни одной умной передачи. Все глупые-преглупые. Даже дебилам вроде Мэри не понравится. А имбецилам могут. Нет, вряд ли. Томас пошел в ванную. Почистил зубы. Умылся. В зеркало даже не взглянул. Не любит он зеркала. В них сразу видно, кто он такой. Потом Томас надел пижаму, забрался в постель и пригасил лампу, хотя было только полдевятого. Повернулся на бок — под головой лежали две подушки — и стал смотреть на вечернее небо в оконной раме. Звезд не видать. Тучи. Дождь. Хорошо, когда дождь. Тогда ночь как будто прикрыта крышкой. И не страшно, что тебя унесет в эту черноту и ты там сгинешь. Томас слушал дождь. Дождь шептал. Шептал и капал на окно слезами. Далеко-далеко бродит Беда. От нее злючие-страшучие волны, как круги на воде, когда бросишь в пруд камень. Беда — она тоже как камень, который бросили в ночь. Она не из здешнего мира. А волны на Томаса так и накатывают. Он мысленно потянулся к Беде, чтобы ее расчувствовать. Ух, какая холодная и свирепая. Гадкая. И вся дрожит, дрожит. Надо подобраться поближе. Узнать, что же это такое. Томас попытался ей телевизить. «Кто ты? Где ты? Что тебе надо? Зачем тебе обижать Джулию?» И вдруг Беда, словно огромный магнит, ка-а-ак потянет его к себе. С Томасом никогда еще такого не случалось. Когда он телевизил свои мысли Бобби и Джулии, они его так не хватали, не тянули. И тут же у него в голове стало что-то разматываться, как клубок ниток. Ниточный конец пролетел в окно и шмыгнул в ночь. Раз — и вот он уже около самой Беды. И как будто сам Томас уже совсем-совсем рядом с ней. А она его прямо обволакивает — непонятная такая, противная-препротивная. Вот она уже со всех сторон, словно Томас свалился в бассейн, а в бассейне лед и бритвы. Не разберешь, человек она или нет. Томас ее не видит, только чувствует. Снаружи она, может, и красивая, но Томас у нее внутри. А внутри темно, противно и все вокруг дрожит. Беда ест. И то, что она ест, еще живое — так и трепещет. До чего же Томас перепугался! Рванулся обратно — Беда не пускает. И только когда он представил, как нитка-мысль наматывается обратно на клубок, ему удалось выбраться. Намоталась нитка. Томас отвернулся от окна, лег на живот. Лежит и задыхается. И слышит, как колотится сердце. Во рту мерзкий вкус. Такой же вкус был, когда Томас однажды прикусил язык. Нечаянно. И еще когда врач выдернул ему зуб. Чаянно. Это вкус крови. Обессилевший, чуть живой от страха, Томас сел в постели и увеличил свет в лампе. Вынул из коробки на тумбочке клочок ваты и сплюнул на него — посмотреть, кровь во рту или нет. Нету крови. Только слюна. Снова сплюнул. Нет крови. Томас все понял. Он подобрался к Беде слишком близко. Наверно, на мгновение даже проник к ней внутрь. И мерзкий вкус во рту — это вкус во рту у Беды, когда она раздирала зубами живую, трепещущую пищу. Никакой крови у Томаса во рту нет. Ее вкус просто ему запомнился. Но когда прикусишь язык или выдернут зуб — это одно, а сейчас другое. Сейчас гораздо страшнее. Потому что сейчас он чувствует вкус чужой крови. Хотя в комнате было довольно тепло, Томаса начала бить неудержимая дрожь.* * *
Гонимый нестерпимой жаждой, Золт крадучись пробирался по каньону под неистовым дождем, то и дело сгоняя с насиженных мест мелкую дичь. Едва он опустился в грязь на колени возле кряжистого дуба и припал к растерзанному горлу кролика, как вдруг будто кто-то положил ему руку на голову. Золт бросил кролика, вскочил на ноги и обернулся. Никого. Только две самые черные кошки из сестриной стаи жмутся поодаль — такие черные, что, если бы не горящие в темноте глаза, нипочем не заметить. Они следовали за ним по пятам от самого дома. А больше никого. Секунду-другую невидимая рука лежала на голове. Потом странное ощущение пропало. Золт пригляделся к застывшим вокруг теням, прислушался к шороху листьев под дождем. Не придав этому происшествию особого значения, он по зову жажды вновь двинулся на восток. Каньон поднимался вверх. По дну его уже бежал дождевой поток. Неглубокий: Золт запросто шел по нему вброд. Промокшие насквозь кошки не отставали ни на шаг. Вот настырные твари. Золт по опыту знал, что гнать их бесполезно. Раз уж они за ним увязались — такое, правда, случается не часто, — то никак от них не отделаешься. Пройдя еще сотню ярдов, Золт снова рухнул на колени, выставил руки вперед и послал в ночь еще одну волну. В темноте пронеслось сапфировое мерцание. Зашуршали кусты, вздрогнули деревья, застучали камни. Поднявшиеся облака пыли заколыхались, как саваны на ветру, и рассеялись. Потревоженные зверьки выскочили из укромных мест, кинулись врассыпную. Золт бросился на тех, что пробегали мимо. Кролика упустил, но поймал белку. Та попыталась его укусить. Золт схватил ее за лапу и что было силы шмякнул головой о раскисшую землю.* * *
На кухне Лилли и Вербена сидели на расстеленных одеялах в окружении двадцати трех кошек. Двух не хватало. Часть сознания сестер влилась в Окаянку и Ламию[123], черных кошек, которые неотступно сопровождали Золта и взволнованно наблюдали, как он расправляется с добычей. Их волнение передалось Лилли. Она следила за охотой с замиранием сердца. В промозглой январской ночи ни огонька, только на западе на низких тучах лежал отсвет пригородных кварталов. А здесь, в царстве дикой природы, рыщет самый дикий из всех его обитателей — Золт, лютый, могучий, безжалостный хищник. Пробирается быстро и тихо через непролазные теснины, распоряжается всем вокруг так, как велит ему жажда. Сильный и проворный, не идет, а течет по каньону, перемахивая через каменные глыбы и поваленные стволы деревьев, огибая колючие кустарники, словно не человек он из плоти и крови, а размытая тень в лунном сиянии, которую отбрасывает парящая высоко над землей птица. Когда Золт хватил белку о землю, по велению Лилли часть ее сознания, вселившаяся в Окаянку и Ламию, расплеснулась пополам, и одна половина перетекла в тельце белки. Зверек был оглушен ударом. Белка слабо сопротивлялась, в глазах застыл безысходный ужас. Большие, цепкие руки Золта стиснули ее тельце, а Лилли чувствовала их на своем теле. Вот они скользят по обнаженным ногам, бедрам, животу, грудям. Золт о колено сломал белке хребет. Лилли содрогнулась. Вербена заскулила и прижалась к сестре. Лапы у белки отнялись. Золт с тихим рычанием впился в горло зверька. Прогрыз шкуру, перекусил наполненные кровью сосуды. Лилли ощущала, как кровь белки вытекает из жил, как жадно Золт присосался к ране. И будто уж нет между ней и братом никаких посредников, будто это к ее горлу припали его губы, а в его рот хлещет ее кровь. Вот бы проникнуть в его сознание, объединить в себе хищника и жертву. Но, увы, она может вторгаться лишь в души животных. Лилли обессиленно откинулась на одеяла и в полузабытьи затянула монотонное: — Да, да, да, да, да… Вербена сверху навалилась на нее. Кошки вокруг сестер сбились в разношерстную хвостатую груду, из которой смотрели усатые морды.* * *
Надо попробовать еще раз, решил Томас. Ради Джулии. Он вновь потянулся туда, где ворочалось холодное сознание Беды. И Беда тут же потащила его к себе. Томас не упирался. Пусть клубок в голове разматывается. Кончик нити вылетел в окно, устремился в ночь, достиг цели. «Кто ты? Где ты? — телевизил Томас. — Что тебе надо? Зачем тебе обижать Джулию?»* * *
Золт бросил дохлую белку и встал. И тут кто-то снова положил ему руку на голову. Золт вздрогнул, резко обернулся и замахал кулаками. За спиной никого не оказалось. Вдалеке на бледной глине виднелись два темных пятна. Это кошки по-прежнему таращат на него янтарные глаза. Прочая живность разбежалась кто куда. Если за ним кто-то шпионит, то где же он спрятался, этот соглядатай? В кустах? В углублении на склоне каньона? Слишком далеко, оттуда он бы до Золта не дотянулся. К тому же Золт и сейчас чувствует у себя на голове эту руку. Он даже провел ладонью по мокрым волосам: может, просто лист пристал? Нет. Рука надавила сильнее. Ну да, никаких сомнений: пять пальцев, ложбинка на ладони. «Кто… где… что… зачем?» — отдалось у него в сознании. Только в сознании: слух не улавливал ничего, кроме рокота дождя. «Кто… где… что… зачем?» Бешенство и растерянность овладели Золтом. Он обвел каньон взглядом. С головой творилось неладное. Такого ощущения Золт еще никогда не испытывал: будто что-то заползло ему в мозг и теперь продирается сквозь него. — Кто ты? — вслух спросил Золт. «Кто… где… что… зачем?» — Кто ты?* * *
Томас убедился: Беда — человек. Хоть и не совсем, а все же человек. Изнутри гадкий-прегадкий. Сознание у него прямо как водоворот — стремительный, черный, чернее не бывает. Так и затягивает Томаса, так и хочет проглотить его живьем. Томас попытался вырваться, выплыть на поверхность. Куда там. Беда тащит и тащит его в Гиблое Место, а оттуда уже не уйти. «Пропал», — подумал Томас. Но тут на него напал такой страх перед Гиблым Местом, так стало горько от мысли, что он будет там один-одинешенек и Бобби с Джулией никогда его там не найдут, что Томас поднатужился, рванулся и давай сматывать клубок. Вот он и обратно в Сьело-Виста. Томас сполз на матрас и натянул на голову одеяло, чтобы не видеть ночь за окном и самому не попасться на глаза обитателям ночи.Глава 34
Уолтер Хэвелоу, брат миссис Фаррис, унаследовавший ее скромное состояние, жил в Вилла-Парк, более богатом районе, чем тот, где жили супруги Фан. Зато в смысле вежливости и обходительности ему до Фанов было далеко. Окна принадлежавшего ему английского особняка в тюдоровском стиле горели теплым приветливым светом, однако сам Хэвелоу принял Бобби и Джулию отнюдь не приветливо. Он даже не предложил им войти в дом. Стоя в дверях, он взглянул на удостоверения гостей и вернул их. — Ну и что вам? Хэвелоу был высокий лысеющий блондин с круглым брюшком и густыми, с рыжиной, усами. Проницательные светло-карие глаза светились умом, но было в этом взгляде что-то холодное, цепкое, оценивающее — ни дать ни взять бухгалтер, ведущий дела мафии. — Я же говорю: супруги Фан посоветовали обратиться к вам, — втолковывала Джулия. — Нам нужна фотография вашего покойного зятя. — Это еще зачем? — Понимаете, в деле, которое мы сейчас расследуем, замешан один человек, который выдает себя за мистера Фарриса. — Вранье. Мой зять умер. — Мы знаем. Но у самозванца такое удостоверение личности, что комар носу не подточит. Вот нам и понадобилось фото настоящего Джорджа Фарриса, чтобы его уличить. Вы уж извините, но вдаваться в подробности я не имею права: это касается личной жизни нашего клиента. Хэвелоу повернулся и захлопнул дверь перед носом у гостей. Бобби взглянул на Джулию и заметил: — Любезен до безобразия. Джулия снова позвонила. Через некоторое время дверь вновь отворилась. — Ну что еще? — Я прошу прощения, что мы не сообщили о своем приходе заранее, — начала Джулия, изо всех сил стараясь сохранить доброжелательный тон, — но фотография вашего… — А я за ней и пошел, — огрызнулся Хэвелоу. — Если б вы не трезвонили попусту, я бы давно ее принес. И он захлопнул дверь. — От нас что — плохо пахнет? — недоумевал Бобби. — Ну и фрукт. — Думаешь, он вернется? — Пусть только попробует не вернуться. Я ему дверь разнесу. Позади них по навесу, закрывавшему часть садовой дорожки у дома, яростно грохотал дождь, водосточные трубы утробно клокотали. Уже от самих этих звуков пронимало холодом. Хэвелоу вынес на крыльцо коробку из-под обуви, битком набитую фотографиями. — Пришли за помощью — имейте в виду: время у меня на вес золота, — объявил он. Джулия еле сдерживалась. Хамство всегда доводило ее до белого каления, и сейчас ее так и подмывало вышибить из рук у нахала коробку, схватить его за руку, заломить указательный палец, чтобы потянуть нерв. Неплохо бы при этом еще прижать срединный и лучевой нервы, чтобы он бухнулся на колени. Потом — коленом в челюсть, ребром ладони сзади по шее и ногой прямо в круглое мягкое брюхо… Хэвелоу порылся в коробке и достал нужную фотографию. На ней были изображены мужчина и женщина за столиком из красного дерева на залитой солнцем лужайке. — Это Джордж и Ирен. Лампочка над дверью горела неярким желтоватым светом, и все же Джулия хорошо разглядела настоящего Джорджа Фарриса. Этот голенастый мужчина с длинным и узким лицом даже отдаленно не напоминал Фрэнка Полларда. — Это ж надо — выдавать себя за Джорджа! С какой стати? — вопрошал Хэвелоу. — Человек, которым мы занимаемся, вероятно, совершил преступление, — объяснила Джулия. — У него несколько удостоверений личности, и все фальшивые. Одно — на имя Джорджа Фарриса. Скорее всего тот, кто их изготовил, выбрал имя вашего зятя почти наугад. Просто в таких случаях часто используют имена и адреса покойных. Хэвелоу нахмурился. — А этот тип с удостоверением Джорджа — может, он и убил моего брата с сестрой и племянниц? — Нет-нет, — поспешно сказала Джулия. — Это просто мелкий жулик, аферист. — Да и не станет убийца расхаживать с удостоверением мужа своей жертвы, — добавил Бобби. — Зачем ему навлекать на себя подозрения? — Этот тип и есть ваш клиент? — поинтересовался Хэвелоу и посмотрел прямо в глаза Джулии, словно пытался угадать: слукавит или не слукавит. — Нет, — солгала Джулия. — Он облапошил нашего клиента, и нас просили разыскать его, чтобы вернуть деньги. — Можно будет на время взять эту фотографию? — попросил Бобби. Хэвелоу колебался. Он все не сводил глаз с Джулии. Бобби протянул Хэвелоу визитную карточку с адресом агентства «Дакота и Дакота». — Мы обязательно вернем, — пообещал он. — Видите — вот наш адрес и телефон. Я понимаю, вам нелегко расстаться с семейной реликвией, тем более что вашей сестры и зятя больше нет в живых, но если… Очевидно, убедившись, что посетители не врут, Хэвелоу буркнул: — Черт с ней, берите. Я о Джордже и вспоминать-то не хочу. Терпеть его не мог. Дура была сестра, что вышла за него. — Спасибо, — сказал Бобби. — Мы… Но Хэвелоу уже захлопнул дверь. Джулия позвонила. — Ты уж его не убивай, — попросил Бобби. Хэвелоу открыл дверь с перекошенным от ярости лицом. Бобби мгновенно вклинился между Джулией и хозяином и показал ему водительские права Джорджа Фарриса с фотографией Фрэнка. — Еще один вопрос, сэр, и мы от вас отстанем. — У меня каждая минута на счету! — Вам случайно не знаком этот человек? Все еще кипя гневом, Хэвелоу схватил водительские права и уставился на фотографию: — Пухлая, дряблая физиономия… В округе таких до черта и больше. — Стало быть, вы не знаете? — Вот бестолочь! Вам что же, все надо разжевать? Нет, я его не знаю. Бобби забрал документ. — Спасибо, что выкроили минутку и… Хэвелоу громко хлопнул дверью. Джулия потянулась к звонку, но Бобби остановил ее: — Мы уже все выяснили. — Я хочу… — Знаю, чего ты хочешь. Но законы штата Калифорния не одобряют зверские убийства. Бобби оттеснил жену от двери. Они вышли под дождь. — Нет, как тебе нравится этот наглый, самодовольный индюк? Бобби завел мотор и включил «дворники». — Сейчас заскочим в универмаг, купим здоровенного плюшевого медведя, напишем на нем «Хэвелоу» — его и потроши. Идет? — Скажите, какая цаца! Машина тронулась. Обернувшись, Джулия напоследок еще раз окинула дом ненавидящим взглядом. — Он не цаца, малышка. Он — Уолтер Хэвелоу и останется им до конца своих дней. Перед этим наказанием все твои угрозы — сущие пустяки. Несколько минут спустя Вилла-Парк остался позади. Бобби подъехал к универмагу и поставил «Тойоту» на стоянке. Погасил фары, выключил «дворники», но двигатель оставил работать, чтобы в машине было теплее. Возле универмага стояло всего несколько автомобилей. В огромных лужах величиной с добрый плавательный бассейн отражались огни витрин. — Итак, что нам удалось выяснить? — начал Бобби. — Что нас от Уолтера Хэвелоу тошнит. — Совершенно справедливо. Но что удалось выяснить касательно нашего дела? На удостоверении Фрэнка значится имя Джорджа Фарриса, а все семейство Фаррисов уничтожено. Что это — случайное совпадение? — Что-то не верится. — Мне тоже. И все-таки я убежден, что Фрэнк не убийца. — Я тоже так думаю, хотя в жизни бывает всякое. Но в разговоре с Хэвелоу ты рассудил правильно: если бы Фрэнк убил Ирен Фаррис, он бы не стал носить при себе липовое удостоверение, которое может выдать его с головой. Ливень разошелся вовсю, капли выбивали частую дробь по крыше «Тойоты». Плотная завеса дождя заслонила универмаг. — Знаешь, что мне кажется? — сказал Бобби. — По-моему, эта история как раз и стряслась оттого, что Фрэнк скрывался под именем Фарриса. И тот, кто охотится на Фрэнка, об этом узнал. — Ты про мистера Синесветика? Про того типа, который своим волшебным синим светом разносит на части автомобили и взрывает лампы в уличных фонарях? — Вот-вот, он самый. — Если это не враки. — Так вот, мистеру Синесветику стало известно, что Джордж Фаррис на самом деле не кто иной, как Фрэнк Поллард, и он отправился по этому адресу, надеясь найти Фрэнка. Но Фрэнк там отродясь не бывал: фамилия и адрес для фальшивых документов были взяты с потолка. Не обнаружив Фрэнка, мистер Синесветик уничтожил всех, кто подвернулся ему под руку. Может, он решил, что они прячут от него Фрэнка, а может, просто рассвирепел от неудачи. — Уж этот бы Хэвелоу спуску не дал. Так ты со мной согласна? Как я — на правильном пути? Джулия задумалась. — Что ж, очень может быть. — А здорово быть детективом, правда? — ухмыльнулся Бобби. — Здорово? — в недоумении переспросила Джулия. — Ну, в смысле интересно. — Мы ведем дело человека, который не то угробил четверых, не то сам спасается от лютого убийцы, и это, по-твоему, здорово? — Конечно, не так здорово, как с тобой в постели, но гораздо занятнее, чем в кегельбане. — С ума с тобой сойдешь. И все-таки я тебя люблю. Бобби взял ее за руку. — Раз уж мы решили вести это дело, я теперь гульну в свое удовольствие. Но, если тебя что-то смущает, только скажи: отказаться от дела можно в любую минуту. — С какой стати? Из-за твоего сна? Опять ты про Беду? — Джулия покачала головой. — Ну нет. Сегодня страшного сна испугались, а завтра от собственной тени будем шарахаться. Этак мы и вовсе потеряем почву под ногами, и как тогда работать? В машине было темно, только приборы отбрасывали блеклый свет, и все-таки Джулия заметила, что Бобби сидит мрачнее тучи. — Все верно, — произнес он наконец. — Я от тебя другого и не ожидал. Что ж, давай разбираться дальше. У нас ведь есть еще одни водительские права. Судя по ним, Фрэнк Поллард — это Джеймс Роман, и живет он в Эль-Торо. Вот прямо сейчас туда и отправимся. — Уже почти половина девятого! — На это уйдет минут сорок пять, не больше. Просто съездим, разыщем дом. Время детское. — Ну ладно. Но вместо того, чтобы включить скорость, Бобби отодвинул сиденье назад и снял нейлоновую куртку на теплой подкладке. — Передай-ка револьвер. Там, в «бардачке». Теперь я без него и шагу не сделаю. Дакоты имели право на скрытое ношение оружия. Джулия тоже стащила с себя куртку, достала из-под сиденья две кобуры с наплечными ремнями и вынула из «бардачка» два короткоствольных револьвера «смит-вессон» 38-го калибра — полицейская модель, надежное и компактное оружие, которое легко спрятать под одеждой. Удобно: не выпирает, можно и одежду не перешивать.* * *
Место, где должен был стоять дом, пустовало. Может, когда-то здесь и жил человек по имени Джеймс Роман, но сейчас он явно живет по другому адресу. Посреди поросшего травой участка виднелась пустая бетонная площадка, окруженная деревьями и кустами, — будто прилетели инопланетяне, подхватили дом и бережно унесли в небеса. Бобби остановил «Тойоту» возле самого участка. Супруги вылезли из машины и подошли поближе. Даже в мутном из-за дождя фонарном свете на примятой траве хорошо различались следы шин, кое-где трава и вовсе уже не росла. По участку были разбросаны щепки, куски отделочных панелей из оргалита и гипса, крошево штукатурки, тускло поблескивали осколки стекла. Стоило приглядеться к кустам и деревьям — и никаких сомнений относительно участи дома не оставалось. Кустарники возле самой бетонной площадки не то засохли, не то были основательно повреждены. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что ветки обгорели. Росшее тут же дерево растопырило черные сучья без единого листика и всем своим видом напоминало о давно прошедшем Хэллоуине[124]. — Пожар, — догадалась Джулия. — А то, что не успело сгореть, снесли. — Пойдем расспросим соседей. По обеим сторонам участка стояли дома. Свет горел только в одном. На звонок вышел высокий крепкий мужчина лет пятидесяти пяти, седовласый, с аккуратными седыми усами. По всему видно — отставной военный. Звали хозяина дома Парк Хэмпстед. Он пригласил гостей в дом, попросил только оставить мокрую обувь у входа. Бобби и Джулия в носках прошли за хозяином в кухню. Место для беседы было выбрано весьма предусмотрительно: с гостей так и текла вода, а тут вся мебель — с желтым пластиковым покрытием. Мало того, прежде чем усадить посетителей, Хэмпстед накинул на стулья плотные светло-розовые полотенца. — Извините. Такой уж я чистюля. Это Бобби уже заметил: весь дом — пол, стены, двери из светлого дуба и современная мебель — блистал безукоризненной чистотой. — Тридцать лет в морской пехоте — не шутка. Там-то я и научился уважать порядок, дисциплину, опрятность. Года два назад, когда умерла Шарон — это моя жена, — стал я за собой замечать, что совсем свихнулся на чистоте: почитай, два раза в неделю закатываю генеральную уборку. И так почти полгода после похорон. Вроде руки заняты — и на душе не так тяжело. Сколько я потратил на всякие пятновыводители, стиральные порошки, бумажные полотенца — страшно вспомнить. Это же никакой пенсии не хватит. Я и сейчас вон какой аккуратист, но до таких крайностей, как в ту пору, не дохожу. Когда появились Бобби и Джулия, Хэмпстед как раз варил кофе. Предложил по чашечке и гостям. На чашках, блюдцах и ложках не было ни единого пятнышка. Хозяин протянул супругам две аккуратнейшим образом сложенные салфетки и сел напротив. Дакоты рассказали о цели своего прихода. — Все верно. Я знал Джима Романа, — признался Хэмпстед. — Славный сосед. Он был вертолетчиком на базе ВВС в Эль-Торо. Последнее место моей службы перед уходом на пенсию. Джим был добряк каких мало. Попросишь — отдаст последнюю рубаху, да еще денег предложит, чтобы хватило на подходящий галстук к этой рубахе. — Почему вы все время говорите «был»? — спросила Джулия. — Он погиб при пожаре? — встревожился Бобби, вспомнив обгоревшие кусты и темную от золы бетонную площадку. Хэмпстед помрачнел. — Нет. Он погиб через полгода после Шарон. То есть… ну да, два с половиной года назад. Его вертолет разбился на маневрах: Джиму тогда было сорок один год, он на одиннадцать лет младше меня. Осталась жена Мэрели, четырнадцатилетняя дочка Валери и сын Майк двенадцати лет. Чудные детишки. Вот такое страшное горе. Жили они дружно, и гибель Джима их прямо подкосила. Была у них какая-то родня в Небраске, но поддержать все равно некому. Хэмпстед устремил невидящий взгляд мимо Бобби, на тихо гудящий холодильник. — Ну я и стал к ним захаживать. Помогал Мэрели советом насчет расходов, был опорой в трудную минуту. Захотят детишки выговориться, отвести душу — я опять тут как тут. То в Диснейленд свожу, то еще куда. В общем, сами понимаете. Мэрели частенько твердила, что меня им Бог послал. А на самом-то деле они были мне нужнее, чем я им. В этих хлопотах и мое собственное горе мало-помалу забывалось. — Так пожар случился недавно? — спросила Джулия. Вместо ответа Хэмпстед встал, вынул из шкафчика под мойкой баллончик с моющим составом, взял посудное полотенце и принялся протирать дверцу холодильника, которая и без того была чиста как операционный стол. — Валери и Майк оказались замечательными детишками, — продолжал он. — Через год я уже совсем стал их считать своими — у нас с Шарон детей не было. А Мэрели еще долго убивалась по Джиму, года два, наверно. Потом вспомнила, что она как-никак женщина в самом соку… Может, то, что между нами завязалось, Джиму бы не понравилось. А впрочем, думаю, он был бы только рад за нас. И не страшно, что я на одиннадцать лет старше ее. Надраив холодильник, Хэмпстед отступил в сторону и придирчиво осмотрел дверцу: не осталось ли каких пятен? Только тут он словно расслышал повисший в воздухе вопрос Джулии и неожиданно сказал: — А пожар произошел два месяца назад. Просыпаюсь как-то ночью — сирены надрываются, за окном полыхает рыжее пламя. Встал, выглянул в окно… Он отвернулся от холодильника, обвел взглядом кухню, направился к облицованной кафелем стойке и, попрыскав из баллончика, стал протирать блестящую поверхность. Джулия посмотрела на Бобби. Тот покачал головой. Они молчали. Наконец Хэмпстед вернулся к рассказу: — Я примчался туда раньше пожарных. Вбегаю в прихожую — и сразу к лестнице: спальни-то на втором этаже. А подняться не могу: жар нестерпимый, дым. Зову, зову — никто не откликается. Если бы кто-нибудь подал голос, я бы, может, и полез наверх, и на огонь не посмотрел бы. А потом я, наверно, потерял сознание, и пожарные вынесли меня наружу. Помню только, что лежу на лужайке перед домом, кашляю, задыхаюсь, а надо мной санитар с кислородной подушкой. — Все трое погибли? — спросил Бобби. — Да. — Отчего начался пожар? — Толком никто не знает. Поговаривают о коротком замыкании. Сомнительно. Одно время подозревали поджог, но доказательств не нашлось. Да и какая разница, правда? — Как это — какая разница? — Поджог не поджог. Вся семья погибла — вот главное. — Вы правы. Вот несчастье-то, — пробормотал Бобби. — Участок их продан. Весной начнут ставить новый дом. Хотите еще кофе? — Нет, спасибо, — отказалась Джулия. Хэмпстед снова оглядел кухню, подошел к вытяжке над плитой и принялся надраивать и без того чистый козырек из нержавеющей стали. — Вы уж извините за беспорядок. И как это я ухитряюсь один такую грязь развести, уму непостижимо. Иной раз думаешь: уж не барабашки ли какие завелись? Может, это они тайком шастают по дому и переворачивают все вверх дном, чтобы мне досадить? Мучение с ними. — Барабашки ни при чем, — отозвалась Джулия. — А что до мучений, то в жизни их и без барабашек хватает. Хэмпстед повернулся к гостям и впервые за все время своей привычной уборки посмотрел им в глаза. — Да, барабашки ни при чем, — согласился он. — С барабашками я бы управился в два счета. Тут все сложнее. Сейчас этот сильный, закаленный годами военной службы мужчина казался растерянным и беспомощным, как ребенок, а на ресницах у него дрожали влажные приметы горя.* * *
Сидя в машине, поглядывая через рябое от дождя лобовое стекло на пустой участок, где когда-то стоял дом Романов, Бобби рассуждал: — Значит, мистер Синесветик докопался, что удостоверение Фарриса — фальшивка, что под этим именем скрывается Фрэнк Поллард. Фрэнк, узнав, что его раскололи, добывает новое удостоверение, на сей раз на имя Джеймса Романа. Но мистер Синесветик как-то и про это проведал. В поисках Фрэнка он отправляется по адресу Романа, однако там живет только вдова с детьми. Тогда он расправляется с ними точно так же, как расправился с Фаррисами, но теперь еще и поджигает дом, чтобы скрыть следы преступления. Что скажешь? — Вполне убедительно, — кивнула Джулия. — Ему непременно надо было сжечь тела, потому что на них остались следы его зубов — помнишь, что рассказывали Фаны? Если полиция их обнаружит, она поймет, что эти преступления связаны между собой, а этого допустить нельзя. — Почему же он не сжег дом и после первого убийства? — Тогда полиция догадалась бы об этой связи точно так же, как и по следам укусов. Поэтому иногда он сжигает тела, иногда нет, иногда, возможно, избавляется от них другим способом, да так, что их потом не найти. Повисла пауза. — Итак, — заключила Джулия, — мы имеем дело с опасным преступником, на счету которого не одно убийство. Возможно, он ко всему еще и буйно помешанный. — Или вампир. — А чего он прицепился к Фрэнку? — Ума не приложу. Может, Фрэнк как-нибудь пытался вогнать ему в сердце осиновый кол? — Не смешно. — И верно, — согласился Бобби. — Сейчас действительно не до смеха.Глава 35
Покинув переполненное редкими насекомыми жилище Дайсона Манфреда, Клинт Карагиозис под холодным дождем выехал из Ирвина и направился домой. Жил он в Пласентии, в небольшом уютном бунгало, крытом гонтом, с затейливой, в калифорнийском духе, террасой. Когда Клинт подъехал к дому, за двустворчатыми стеклянными дверями теплился янтарный свет. Всю дорогу в машине работал обогреватель, и одежда Клинта почти совсем просохла. Клинт поставил машину в гараж и вошел в дверь, ведущую из гаража прямо в дом. Фелина сидела на кухне. Она обняла его, поцеловала и крепко прижалась к нему, словно не веря, что он цел и невредим. Она считала, что на работе Клинта со всех сторон подстерегают опасности. Напрасно муж снова и снова втолковывал ей, что ему в основном поручают нудную работенку — сбор информации, — что его дело не гоняться за преступниками, а добывать сведения, что ему больше приходится возиться с бумагами, а не с трупами. Однако тревога жены была ему понятна — ведь и на него порой накатывал детский страх, как бы с ней чего не случилось. Видная брюнетка с оливковым личиком и обворожительными серыми глазами — долго ли такой попасть в лапы какому-нибудь маньяку, особенно сейчас, когда их развелось как собак нерезаных, а судьи стали так снисходительны к преступникам. Учреждение, где работала Фелина — она занималась компьютерной обработкой данных, — расположено в трех кварталах от дома: даже в дурную погоду можно дойти пешком. Но ей приходится переходить дорогу, а на перекрестке такое движение, что далеко ли до беды? Наскочит машина — и конец. Ведь Фелина не услышит ни сигнала, ни предупредительного окрика. Но Клинт и виду не показывал, что беспокоится за жену. Он не хотел поколебать ее уверенность в себе. Она так горда, что, несмотря на глухоту, научилась обходиться без помощи мужа, — каково будет ей узнать, что он все-таки сомневается в ее способности преодолеть любые трудности? Клинт каждый день внушал себе, что Фелина живет на свете уже двадцать девять лет и ничего страшного с ней пока не стряслось, так что нечего ходить за ней, как за малым ребенком. Пока Клинт мыл руки, Фелина подогрела огромную кастрюлю овощного супа и накрыла на стол. Супруги налили себе по большой тарелке. Клинт достал из холодильника тертый сыр, Фелина положила на стол итальянский батон с хрустящей корочкой. Клинт здорово проголодался, а суп был превосходный — густой, с кусочками постной говядины. Но желание рассказать жене о сегодняшних событиях оказалось сильнее голода. А поскольку Фелине трудно читать по губам, когда собеседник говорит и одновременно ест, Клинту приходилось то и дело отрываться от еды. Фелина уже управилась со своей порцией, а он едва съел полтарелки. Доев, Фелина налила себе еще. Долила и мужу. Вне дома из Клинта обычно слова не вытянешь, но в присутствии Фелины он заливался соловьем, словно ведущий телевизионной программы. Нет, не ублажал ее пустой болтовней, а с поразительной ловкостью превращался в заправского рассказчика. Он умел преподнести какой-нибудь случай из жизни так эффектно, что Фелина просто не могла остаться равнодушной. А уж как радовался Клинт, когда жена, слушая его рассказ, покатывалась со смеху или широко раскрывала глаза. Она была единственным человеком, мнением которого Клинт дорожил, и ему непременно хотелось, чтобы жена считала его умудренным, остроумным, занятным. Когда их роман только-только начинался, Клинт задавал себе вопрос: может, он распахивает перед ней душу потому, что Фелина глухая? Глухота ее была врожденной, Фелина ни разу в жизни не слышала человеческую речь, оттого и говорить не научилась. Зато она бойко объяснялась жестами, и Клинт тоже освоил язык глухонемых. (Так она разговаривала с ним и сейчас, за столом. Потом, глядишь, и сама расскажет на своем немом языке, как у нее прошел день.) Так вот, поначалу Клинту казалось, что он сблизился с Фелиной именно благодаря этому изъяну: поверяя ей сокровенные мысли и чувства, он мог быть уверен, что собеседница никому о них не расскажет. Это почти то же самое, что разговор с самим собой: все сказанное сохраняется в тайне. Со временем он понял, что доверился Фелине вовсе не благодаря ее глухоте, а вопреки ей, что так охотно делится с ней самым сокровенным — и ждет того же от нее — лишь потому, что любит ее. Клинт описал посещение Фрэнка Полларда. Когда он рассказал жене, как Бобби и Джулия трижды удалялись в уборную посовещаться, Фелина весело расхохоталась. Клинту нравился ее смех, легкий и удивительно звучный, будто она вкладывала в него всю радость жизни, которую не могла выразить в словах. — Ну и парочка эти Дакоты, — заметил Клинт. — Я сперва удивлялся: и как это такие разные люди работают вместе? А познакомишься с ними покороче — и понимаешь: эти ребята друг другу подходят тютелька в тютельку. Фелина положила ложку и знаком ответила: «Мы тоже». — Точно. «Тютелька в тютельку — это что. Мы друг другу подходим, как вилка с розеткой». — Точно, — улыбнулся Клинт. Тут до него дошло, что в ее словах скрывается фривольный намек, и он рассмеялся. — Ну ты и шалава. Фелина улыбнулась и кивнула. — Вилка с розеткой, говоришь? «Большая вилка, тугая розетка. Подходят как нельзя лучше». — Ладно, я у тебя сегодня проверю проводку. «Мне позарез нужен первоклассный электрик. Но расскажи еще про вашего нового клиента». За окном грянул и раскатился гром. Порыв ветра швырнул в стекло дождевые капли. От шума непогоды в теплой кухне стало еще уютнее. Клинт с удовольствием вдохнул ароматы кухни, но вдруг сердце у него защемило. Какая жалость, что Фелина не может услышать раскаты грома, шум дождя и вместе с ним оценить всю прелесть покоя посреди непогоды. Клинт вынул из кармана красный камешек с виноградину величиной, из тех, что принес сегодня Фрэнк Поллард. — Вот захватил тебе показать. У этого малого таких полная банка. Фелина двумя пальцами взяла камень и поднесла к свету. «Какой красивый, — показала она жестами и положила камешек на белый пластик стола рядом с супницей. — Он очень ценный?» — Пока не знаем. Завтра специалисты скажут. «По-моему, ценный. Когда пойдешь на работу, проверь, нет ли в кармане дырки. Чует мое сердце: потеряешь — потом сто лет придется вкалывать, чтобы расплатиться». Камень вбирал лучи света, пропуская через себя. По лицу Фелины размазались яркие багровые отблески. Они напоминали кровавые потеки. Клинтом овладела непонятная тревога. «Чего ты скис?» — знаками спросила Фелина. Что ей ответить? Что он струхнул из-за ничтожного пустяка? Клинт промолчал. Но вверх по спине пробежал колючий холодок, точно повалились выстроенные рядком ледяные доминошки. Он подвинул камень: пусть лучше кровавые отблески падают на стену, а не налицо жены.Глава 36
В половине второго ночи Хэл Яматака с головой ушел в роман Джона Д. Макдональда «Последний оставшийся». Единственное кресло в комнате было не самым удобным сиденьем — Хэл еле в него втиснулся. В больнице стоял нестерпимый запах антисептиков, от которых Хэла всегда подташнивало. Вдобавок в горле засел фаршированный острый перец, который Хэл ел за ужином. Но книга так его захватила, что на все эти мелочи он не обращал никакого внимания. За чтением он совсем забыл о Фрэнке Полларде, как вдруг услышал короткий шипящий свист, словно из узкого отверстия с силой вырвалась струя воздуха. По палате пронесся сквознячок. Хэл поднял глаза от книги. Он думал, что Поллард по-прежнему сидит на кровати или слезает с нее. Но Поллард исчез. Хэл в тревоге уронил книгу и вскочил с места. Так и есть. Кровать пуста. Поллард провел в постели весь вечер, три часа назад он уснул и вдруг — на тебе: как сквозь землю провалился. Лампы дневного света за кроватью не горели, палата освещалась только настольной лампой. Освещение хоть и неяркое, но при всем желании в тень не спрячешься. Одеяло аккуратно заправлено под матрас, перильца по бокам кровати не опущены. Да что он — испарился, что ли, как фигура из сухого льда? Если бы Поллард опустил перильца, слез с кровати и снова их поднял, эта возня непременно привлекла бы внимание Хэла. А уж перебраться через перильца без шума и вовсе дело немыслимое. Окно закрыто. По стеклу сбегали струйки дождя, посеребренные светом лампы. Спрыгнуть с шестого этажа Поллард, понятное дело, не мог, однако Хэл на всякий случай удостоверился, что окно не просто закрыто, но еще и заперто. Потом он подошел к ванной и позвал: — Фрэнк! Никто не ответил. Хэл вошел в ванную. Пусто. Остается только тесный стенной шкаф — больше укрыться негде. Хэл открыл дверцу. На вешалках — одежда Полларда, в которой он пришел в больницу. Тут же стоят его туфли, в них — свернутые носки. — Прокрасться мимо меня в коридор ему бы точно не удалось, — произнес Хэл, как будто надеялся, что все сказанное вслух, как по волшебству, становится непреложной истиной. Он рывком распахнул дверь и выскочил в коридор. В обоих концах коридора никого. Хэл повернул налево и поспешил к запасному выходу в самом конце. Открыл дверь. Замер на лестничной площадке и прислушался. Шагов не слыхать. Никто не поднимается и не опускается. Хэл приблизился к железным перилам, поглядел вверх, потом вниз. Ни одной живой души. Хэл побрел обратно. По дороге он еще раз заглянул в палату Полларда, бросил взгляд на пустую кровать. Все происходящее просто в голове не укладывалось. На пересечении двух коридоров Хэл повернул направо, к стеклянному отсеку длямедсестер. Но ни одна из пяти дежуривших ночью медсестер Фрэнка в коридоре не видела. А поскольку лифты находились как раз напротив стеклянного отсека, было ясно, что покинуть больницу этим путем Фрэнк не мог — иначе медсестры заметили бы, как он дожидается лифта. — А я-то думала, вы за ним присматриваете, — сказала Грейс Фулем, старшая смены, дежурящая на шестом этаже. Если бы голливудским продюсерам захотелось снять новый вариант старых фильмов про Энни Буксирщицу или Маму и Папу Кеттлов, лучшего типажа для главных женских ролей, чем Грейс Фулем, не найти: седая, основательная, неутомимая, с увядшим, но добрым лицом. — Вас ведь для того к нему и приставили, — продолжала она. — Я из палаты ни ногой, но… — Как же он ухитрился мимо вас проскочить? — Понятия не имею, — с досадой произнес Хэл. — И главная-то беда… у него частичная потеря памяти, и он малость не в себе. Выйдет из больницы — и поминай как звали. Уж не знаю, как он выбрался из палаты незамеченным, но найти его надо непременно. Миссис Фулем и еще одна медсестра помоложе — ее звали Джанет Сото — быстро и тихо двинулись по коридору, заглядывая в каждую палату. Хэл шел вслед за миссис Фулем. Когда они осматривали палату 604, где безмятежно посапывали двое пожилых мужчин, ему вдруг почудилась мелодия, от которой его продрал мороз. Хэл обернулся. Мелодия стихла. Интересно, слышала ли эту мелодию медсестра Фулем. Вслух она ничего не сказала. Но у палаты 606, когда мелодия повторилась, на этот раз чуть громче, она произнесла: — Что это? «Похоже на флейту», — подумал Хэл. Невидимый флейтист выводил что-то невнятное и все же завораживающее. Едва они вышли в коридор, как музыка опять смолкла. В тот же миг пахнуло сквозняком. — Окно не закрыли. Или дверь на лестницу, — негромко, но со значением заметила медсестра. — Это не я. Из палаты напротив вышла Джанет Сото. Сквозняк прекратился. Джанет озадаченно взглянула на Хэла и миссис Фулем, пожала плечами и заглянула в следующую палату. И опять тихо защебетала флейта. Снова потянуло сквозняком, уже сильнее. Хэлу показалось, что к терпким больничным запахам примешивается легкий запах гари. Грейс Фулем продолжала поиски, а Хэл поспешил в конец коридора, чтобы проверить, закрыл ли он запасной выход. Проходя мимо палаты Фрэнка, он случайно заметил, что дверь в палату медленно закрывается. А сквозняк-то, похоже, оттуда и дует! Не успела дверь захлопнуться, как Хэл юркнул в палату и обнаружил, что Фрэнк сидит на кровати, испуганный и растерянный. Флейта смолкла, сквозняк оборвался. Повисла тишина. Хэл подошел к кровати. — Где вы были? — Светлячки, — выговорил Поллард. Он был ни жив ни мертв, в лице ни кровинки, волосы всклокочены и торчат во все стороны. — Светлячки? — Ветер и светлячки, — повторил Поллард. И пропал. Невероятно! Только что сидел на кровати самый обыкновенный человек из плоти и крови, раз — и он в мгновение ока исчезает, будто призрак. Исчезает с коротким свистом, какой издает лопнувшая шина. Хэл покачнулся, как от удара, и остолбенел. Сердце замерло. В палату вошла медсестра Фулем. — Все палаты в коридоре осмотрела. Нигде нет. Может, он спустился или поднялся на другой этаж, как вы думаете? — Э-э-э… — Надо бы осмотреть остальные комнаты на этаже. Но сперва стоит вызвать охранников, пусть прочешут всю больницу. Слышите, мистер Яматака? Хэл посмотрел на нее и перевел взгляд на пустую кровать. — Э-э… Да, конечно. Это вы хорошо придумали. Может, его занесло… Бог знает куда. Медсестра Фулем поспешно удалилась. Хэл на ватных ногах подковылял к двери, закрыл ее и, прислонившись к ней спиной, уставился на кровать. — Фрэнк, вы здесь? — с трудом выговорил он. В ответ ни звука. Какой уж тут ответ. И так ясно, что Фрэнк Поллард не превратился в невидимку, а каким-то неведомым образом перенесся неведомо куда. Странное дело: Хэл испытывал не столько ужас, сколько изумление. Он нерешительно приблизился к кровати и осторожно коснулся бокового перильца из нержавеющей стали, словно боялся, что исчезновение Фрэнка открыло путь потоку стихийных сил и что этот смертоносный поток еще не иссяк. Но никаких искр из гладкого холодного металла не брызнуло. Надо дожидаться, — когда Поллард появится снова. Появится ли? А вдруг он пропал безвозвратно? Не лучше ли сразу пойти и позвонить Бобби? Впервые в жизни Хэл растерялся — обычно он с ходу принимал решение и начинал действовать. Но ведь прежде ему не доводилось сталкиваться с потусторонним. И все же одно решение он принял сразу: посвящать в эту историю Фулем или Сото нельзя ни при каких обстоятельствах. Случай из ряда вон выходящий, одно лишнее слово — и завтра о нем будут трубить все газеты. У агентства «Дакота и Дакота» железное правило: о делах клиентов не распространяться. А уж в этом деле и подавно следует держать язык за зубами. Бобби и Джулия говорили, что Полларда кто-то преследует, и явно с недобрыми намерениями, так что, если это происшествие попадет в газеты, клиенту не жить. Дверь отворилась. Хэл подскочил, словно его укололи булавкой. На пороге стояла Грейс Фулем. Вид у нее был такой, будто она только что провела свой буксир по бурному морю или нарубила и притащила вязанку-другую дров, потому что Папаша Кеттл совсем разленился. — Теперь он не уйдет: охрана стоит у каждого выхода, — сообщила она. — Сейчас соберутся все медсестры, и мы пройдемся по этажам. Пойдете с нами? — П-понимаете, мне надо позвонить в агентство, рассказать шефу… — И где искать вас, когда мы разыщем его? — Здесь. Я буду здесь. Отсюда и позвоню. Медсестра кивнула и удалилась. За ней тихо закрылась дверь. С потолка свисала штора, которая могла закрыть кровать больного с трех сторон. Сейчас она была отведена к стене у изголовья. Хэл задернул штору со стороны двери. Теперь если кто-нибудь зайдет в палату, а Поллард неожиданно материализуется, то вошедший его не увидит. Руки у Хэла тряслись. Он сунул их в карманы. Потом вынул левую и взглянул на часы — 1.48. С тех пор как Хэл хватился своего подопечного, прошло уже восемнадцать минут. Правда, на несколько секунд Поллард появился, пробормотал что-то про ветер и светлячков и опять пропал. Что же делать? Хэл решил подождать до двух часов, а там уж позвонить Бобби и Джулии. Он стоял у изножья кровати, одной рукой ухватившись за перильца, и слушал завывания ветра и стук дождя по стеклу. Минуты ползли, как улитка вниз по склону, но за время ожидания Хэл успокоился и успел обдумать, как описать это происшествие Бобби. Стрелки показали два часа. Хэл обошел кровать, направился к тумбочке, на которой стоял телефон, и уже протянул к нему руку, как вдруг услышал леденящие душу переливы далекой флейты. Наполовину задернутая штора заколыхалась от сквозняка. Хэл вернулся к изножью кровати и выглянул из-за шторы. Дверь закрыта. Значит, сквозняк не оттуда. Флейта смолкла. Неподвижный воздух налился свинцовой тяжестью. И вдруг штора заходила ходуном. Кольца, на которых она висела, тихо загремели. Холодный ветерок взъерошил Хэлу волосы. Вновь полились таинственные нестройные звуки. Но ведь дверь закрыта. Окно тоже. Получается, сквозняк может дуть только из вентиляционного отверстия над тумбочкой. Однако, встав на цыпочки и подняв руку, Хэл убедился, что вентиляция ни при чем. Не иначе холодный поток воздуха прямо тут, в палате, и возникает. Хэл заметался вокруг кровати. Откуда же доносятся звуки флейты? Вообще-то, если прислушаться, то на флейту не похоже. Больше напоминает переливчатый свист ветра в трубе, да не в одной, а в сотне — пошире, поуже, и эти разрозненные звуки сливаются в одну заунывную мелодию, жуткую и щемящую, скорбную, но какую-то… грозную, что ли. Вот она опять стихла, но ненадолго. Хэл не верил своим ушам: мелодия неслась из пустого пространства между кроватью и потолком! Слышит ли ее еще кто-нибудь в больнице? Едва ли. Хотя сейчас она звучала чуть громче прежнего, но все-таки довольно тихо. Если бы Хэл спал, то загадочная музыка даже не смогла бы его разбудить. Неожиданно воздух над кроватью сгустился в зыбкое марево. Дышать стало трудно, словно палата превратилась в вакуумную камеру. Будто при падении с большой высоты, заложило уши. Сквозняк и странные переливы стихли, и Фрэнк Поллард возник на кровати так же внезапно, как и исчез. Он лежал на боку, подтянув колени к подбородку. Сперва он никак не мог понять, где он, а когда сообразил, то вцепился в перильца кровати и рывком сел. Он был смертельно бледен, только под глазами набухли темные мешки. Лицо лоснилось так густо, будто покрыто не испариной, а маслом. На измятой голубой пижаме темнели пятна пота и грязи. — Остановите меня, — выдавил он. — Что происходит? — спросил Хэл срывающимся голосом. — Мне самому не справиться. — Куда вы запропастились? — Ну помогите же, ради бога! — Поллард правой рукой сжимал металлическую перекладину, а левую протянул к Хэлу. — Помогите, прошу вас! Хэл подошел к кровати, потянулся к Полларду… …И тот пропал. Пропал с тем же свистящим звуком, но теперь к нему добавился скрежет и треск металла. Перекладина, в которую мертвой хваткой вцепился Поллард, отломилась и исчезла вместе с ним. Хэл Яматака во все глаза глядел на петли, на которых подвижные перильца крепились к кровати. Они были искорежены, металл оборван, как картон. Унести Полларда и при этом обломить толстую стальную пластину… Что за нечеловеческая сила! Хэл заметил, что все еще протягивает руку к кровати. Его счастье, что он не успел схватить Полларда. Что бы с ним тогда случилось? Может, и его унесло бы вместе с Поллардом? Куда? Да уж, верно, в какое-нибудь местечко не из приятных. А ведь его могло унести и не целиком. Оторвало же от кровати только перекладину. Что, если точно так же Хэлу оторвало бы руку? Рывок — и рука, хрястнув, как стальные петли, выдергивается из плечевого сустава, а Хэл заходится криком и истекает кровью. Хэл отдернул руку, словно Поллард в любую минуту мог появиться вновь и схватить его. Он обогнул кровать и подошел к телефону. Ноги не слушались. Руки так сильно дрожали, что он чуть не выронил трубку. С большим трудом Хэл набрал домашний телефон Дакотов.Глава 37
Бобби и Джулия отправились в больницу без четверти три. Ночной мрак стал совсем кромешным, свет фар и уличных фонарей пробивался через него с трудом. Крепкий ливень неистовствовал, струи прямо отскакивали от асфальта, будто это не вода, а обломки свода, который раскинулся в ночном небе и теперь осыпается на город. Машину вела Джулия, потому что Бобби уже клевал носом. Глаза у него слипались, зевота совсем одолела, в голове туман. Спать супруги легли около полуночи, но через три часа звонок Хэла Яматаки поднял их с постели. Джулии что — она и за три часа ухитрялась отлично выспаться, а Бобби если не поспит шесть, лучше даже восемь часов, то совсем расклеится. Казалось бы, что в этом особенного? Пустяки. Но из-за таких пустяков Бобби подозревал, что жена гораздо выносливее его, хотя, вздумай они помериться силами, Бобби, конечно, победил бы. Он удрученно щелкнул языком. — Ты чего? — спросила Джулия и затормозила перед светофором. Красный свет кровавым пятном расплывался на черном глянце асфальта. — Эта откровенность может мне выйти боком, но так уж и быть — скажу. Я подумал, что ты кое в чем сильнее меня. — Тоже мне открытие! Я всегда знала, что сильнее. — Ишь ты! Да если мы с тобой схватимся, я тебя в бараний рог согну. Джулия покачала головой. — Не ожидала я от тебя. Скажите, пожалуйста, какой подвиг — справиться с тем, кто меньше тебя ростом, да вдобавок еще и с женщиной. — Пусть эта женщина будет больше меня ростом — все равно справлюсь, — заверил Бобби. — А если это еще и дамочка в летах, готов потягаться с двумя такими зараз. Или тремя. Или четырьмя. Да что там — я и полдюжины крупных бабулек уложу одной левой. Вспыхнул зеленый свет. Машина двинулась дальше. — Именно крупных бабулек, — подчеркнул Бобби. — Не таких, чтоб песок сыпался. Чтоб все шесть как на подбор рослые, крепкие, дебелые. Всех скопом и оприходую. — Гигант. — А ты думала. Только велосипедной цепью было бы надежнее. Джулия прыснула. Ухмыльнулся и Бобби. Однако смешки тут же сменились озабоченным молчанием. Супруги хмурились. Они не забыли, куда и зачем направляются. Даже постукивание «дворников» по стеклу не убаюкивало Бобби — наоборот, лишало покоя. Молчание прервала Джулия! — Ты веришь, что Фрэнк действительно исчез на глазах у Хэла? — Я не помню случая, чтобы Хэл врал или без повода впадал в истерику. — Вот и я такого не помню. Машина свернула влево. Впереди за мятущейся пеленой дождя забрезжили огни больницы. Они подслеповато мерцали, сочились влажным светом — точь-в-точь мираж, призрачный оазис, дрожащий в густом мареве над горячим песком пустыни.* * *
Хэл стоял возле кровати, которую было почти не видно из-за шторы. Выглядел он так, будто не только повстречал привидение, но еще и обнимался с ним, и даже поцеловал холодные, влажные, тронутые тлением губы. — Слава богу, приехали, — вздохнул он, когда Бобби и Джулия вошли в палату. Убедившись, что в коридоре никого, он сообщил: — Старшая медсестра хотела вызвать полицию, заявить о пропаже больного. — Мы все уладили, — успокоил его Бобби. — Доктор Фриборн поговорил с ней по телефону, а мы написали бумагу, что больница ни при чем. — Ну и отлично, — сказал Хэл и, указав на распахнутую дверь, добавил: — Главное, чтоб никто ничего не узнал. Джулия прикрыла дверь и тоже подошла к кровати. Тут Бобби заметил сломанные петли. — Это что такое? Хэл судорожно сглотнул слюну. — Он сидел на кровати, ухватившись за перильца, а потом пропал… А с ним и перекладина. По телефону я рассказывать не стал — вы небось и так решили, что я сбрендил. — Расскажи все по порядку, — тихо попросила Джулия. Разговор шел вполголоса, иначе каждую минуту могла появиться медсестра Фулем и напомнить, что в соседних палатах спят больные. Выслушав рассказ Хэла, Бобби заметил: — Флейта, подозрительный ветерок… Все совпадает с историей Фрэнка о том, как он очнулся в переулке. Ему, помнится, показалось, что ветер предвещает чье-то появление. Грязь, которую Хэл успел заметить на пижаме Фрэнка, обнаружилась и на одеяле. Джулия взяла щепотку. — Это не совсем грязь. Бобби пригляделся. — Черный песок! — После того как Фрэнк исчез вместе с перекладиной, он больше не появлялся? — спросила Джулия. — Нет. — Когда это случилось? — Часа в два. Две или три минуты третьего. — Другими словами, прошло уже час двадцать минут, — заключил Бобби. Все трое молча уставились на перильца с оторванной перекладиной. Снаружи ветер с воем швырял в стекло тяжелые капли — казалось, какие-то проказники, приняв эту январскую ночь за канун Хэллоуина, мечут в окно пригоршни сухих кукурузных зерен. Бобби взглянул на Джулию. — Что будем делать? Та растерянно моргнула. — А я почем знаю? Никогда еще не вела дела, которое бы попахивало колдовством. — Колдовством? — насторожился Хэл. «Не дай бог», — подумал Бобби, а вслух произнес: — Надо думать, до утра он еще появится, возможно, не раз, и рано или поздно насовсем. Должно быть, такое происходит каждую ночь. А утром он про эти путешествия уже и не помнит. — Путешествия, — повторила Джулия. Надо же: вроде слово как слово — и вдруг оказывается, что оно может звучать так необычно, таить в себе такую необъяснимую загадку.* * *
Стараясь не разбудить больных, Дакоты принесли из соседних палат еще два кресла. Бдительный Хэл уселся прямо в дверях палаты 638, чтобы преградить вход сотрудникам больницы, которые захотят сюда сунуться. Джулия поставила свое кресло у изножья кровати, а Бобби — сбоку, поближе к окну. Тут перильца кровати были еще целы. Все трое стали ждать. Джулия выбрала удобное место; стоит чуть-чуть повернуть голову — и она видит Хэла, стоит повернуться в другую сторону — может наблюдать за Бобби. А вот Хэла и Бобби разделяла скрывающая кровать занавеска. Если бы Хэл увидел, что Бобби преспокойно дремлет, его изумлению не было бы границ. Сам он после этого происшествия сидел как на иголках. А Джулия, которая знала о магическом исчезновении Фрэнка только с чужих слов, ждала с замиранием сердца — но и с опаской, — не представится ли возможность увидеть это чудо собственными глазами. Эх, Бобби, Бобби. Ну что с ним будешь делать? Вроде и воображением его бог не обидел, а удивляется-то он всему на свете, как дитя, и, уж конечно, эта загадочная история волнует его даже сильнее, чем Хэла и Джулию. Тут еще эта мнительность, из-за которой он вбил себе в голову, будто в ходе расследования их непременно поджидают сюрпризы, в том числе и неприятные. Наверняка у него сейчас сердце не на месте. А вот поди ж ты — оперся на жесткий подлокотник, уронил голову на грудь и спит себе без задних ног. Такому никакие стрессы не страшны. Джулия иной раз диву давалась: что за невероятная способность относиться к серьезным вещам как к пустякам, будто справиться с любой напастью для него плевое дело. Неудивительно, что пару лет назад, когда гвоздем сезона стала песенка Бобби Макферрина «Прочь заботы, выше нос», Бобби Дакоту она совершенно покорила: это же про него! Как видно, он действительно способен усилием воли отогнать прочь все заботы. Восхитительная черта. Часы показывали без двадцати пять, а Бобби все так же безмятежно дремал. Джулия уже не восхищалась, а завидовала черной завистью. Ух, как ей хотелось ногой вышибить из-под него кресло! А толку? Его ничем не проймешь: зевнет, повернется на бок, свернется калачиком на полу — так даже удобнее. И обезумевший от зависти Джулии останется только одно — прикончить его на месте. Она уже представляла себя на скамье подсудимых: «Да, господин судья, я знаю, убивать нехорошо. Но такому благодушному тюленю, как он, на этом свете не место». И вдруг прямо из пустоты хлынули каскады тихих, чуть печальных переливов. — Флейта! — Хэл подскочил, как хлопья воздушной кукурузы на сковороде. В тот же миг, откуда ни возьмись, по палате пробежал холодный ветерок. Джулия была уже на ногах. — Бобби, — шепнула она и принялась трясти мужа за плечо. Но, едва он открыл глаза, сумбурная музыка смолкла и в палате воцарилось мертвое безветрие. Бобби протер глаза ладонями и зевнул. — Что случилось? Он и докончить не успел, как снова заиграла загадочная музыка — тихо, но все же громче прежнего. Нет, не музыка — просто набор звуков. Хэл прав: если прислушаться, то на флейту совсем не похоже. Джулия шагнула к кровати, но Хэл, покинув свой пост в дверях, бросился к ней и положил ей руку на плечо. — Стой лучше здесь, от греха подальше. Фрэнк в свое время рассказывал, что в ту ночь в Анахейме перед самым появлением мистера Синесветика мнимая флейта звучала трижды или четырежды. То же самое, по словам Хэла, происходило и нынче ночью перед каждым исчезновением Фрэнка. Но, как видно, строгой закономерности тут не было: сейчас, как только бессвязная мелодия отзвучала во второй раз, воздух над кроватью зарябил, будто теплый поток взметнул пригоршню блеклых блесток, и на измятом одеяле в мгновение ока появился Фрэнк Поллард. Джулии заложило уши. — Ну и дела! — ахнул Бобби. Джулия так и знала, что он не удержится от любимого восклицания. Сама она онемела от неожиданности. Фрэнк Поллард задыхался. Смертельно бледное лицо заливал липкий пот, капли дрожали на небритом подбородке. Мешки под слезящимися глазами походили на синяки. В руках он держал наволочку от подушки, в которой что-то лежало. Края наволочки были закручены и перевязаны шнуром. Фрэнк спустил ее с кровати в том месте, где перекладина была отломлена, и наволочка с таинственным грузом мягко плюхнулась на пол. — Где я? — хриплым, неузнаваемым голосом спросил Фрэнк. — Ты в больнице, — сказал Бобби. — Не волнуйся, все в порядке. Ты вернулся куда надо. — В больнице, — медленно повторил Фрэнк, словно впервые слышит и произносит это слово. Он тревожно огляделся, все еще не понимая, куда попал. — Держите меня, а то… Фраза оборвалась на полуслове. Послышался короткий свист, словно воздух устремился из палаты сквозь отверстие в лопнувшей оболочке реальности. Фрэнк исчез. — Черт! — вырвалось у Джулии. — Где его пижама? — удивился Хэл. — Что? — Два часа назад на нем была пижама. А сейчас туфли, брюки цвета хаки, рубашка и свитер. Кто-то попытался открыть дверь, но она уперлась в кресло Хэла. В дверную щель просунулась голова медсестры Фулем. Она взглянула на кресло, потом подняла глаза на Джулию и Хэла и перевела взгляд на Бобби, который вылез вперед посмотреть, кто там рвется в палату. Как видно, все трое еще не пришли в себя после внезапного исчезновения Фрэнка, потому что, оглядев их, медсестра нахмурилась и спросила: — Что здесь происходит? Джулия поспешно бросилась навстречу Грейс Фулем, которая уже отодвинула кресло и открыла дверь. — Все идет как нельзя лучше. Мы только что говорили по телефону с нашим сотрудником, который руководит поисками. Обнаружился свидетель. Он недавно видел мистера Полларда. Теперь мы знаем, куда он направляется. Еще немного — и мы его найдем. — Вот не думала, что вы здесь так надолго задержитесь, — заметила Фулем. При этом она смотрела не на Джулию, а на полускрытую шторой кровать. Уж не донеслось ли до нее сквозь массивную дверь тихое журчание флейты — якобы флейты? — Отсюда удобнее всего направлять поиски, — выкрутилась Джулия. Между ней и медсестрой стояло пустое кресло. Джулия как бы ненароком преграждала путь медсестре. Ведь если та заглянет за штору, вопросам не будет конца: и про перильца без перекладины, и про черный песок на одеяле, и про наволочку, наполненную бог знает чем. Ломай тогда голову, как бы соврать поубедительнее. А тут еще, чего доброго, появится Фрэнк — прямо на глазах медсестры. — Мы случайно не разбудили больных? — спросила Джулия. — Мы уж так стараемся не шуметь. — Нет-нет, вы никого не разбудили. Я просто зашла узнать, может, вам кофе принести. Взбодриться не хотите? — Ах, кофе… — Джулия повернулась к коллегам. — Хотите кофе? — Нет, — дружно отозвались Бобби и Хэл. — Нет, спасибо, — добавил Хэл. Бобби тоже бросился благодарить. — Я совсем не хочу спать, — как ни в чем не бывало тараторила Джулия, думая только о том, как бы сплавить медсестру. — А Хэл вообще кофе не пьет. А у Бобби, у моего мужа, простатит, и кофеин ему вреден. «Что я несу?» — ужаснулась она и закончила: — И к тому же мы скоро пойдем. — Ну что ж, если все-таки захотите… Когда дверь за Грейс Фулем закрылась, Бобби прошипел: — Простатит? — При простатите кофеин противопоказан. Надо же как-то объяснить, почему ты не пьешь кофе, хотя зеваешь во весь рот. — Нет у меня никакого простатита! Что я — старый хрыч? — А у меня есть, — вмешался Хэл. — Но я же не старый хрыч. — Да что с нами такое? — удивилась Джулия. — Теперь мы все несем какую-то чушь. Она снова приперла дверь креслом, подошла к кровати и подняла с пола наволочку, которую Фрэнк прихватил… там, куда его унесло. — Поосторожнее, — засуетился Бобби. — В прошлый раз Фрэнк завязал в наволочку своего гнусного жука. Джулия осторожно положила наволочку на кресло и осмотрела со всех сторон. — Вроде ничего не шевелится. Она принялась развязывать шнур. — Смотри мне, — поежился Бобби. — Если оттуда выскочит многолапая усатая зверюга размером с кошку, я тут же подаю на развод. Джулия размотала шнур и заглянула внутрь. — Бог ты мой! Бобби попятился. — Да нет тут никаких жуков, — успокоила Джулия. — Опять деньги. Она достала несколько пачек стодолларовых купюр. — Если тут одни сотенные, то в наволочке не меньше четверти миллиона. — Чем же это Фрэнк занимается? — недоумевал Бобби. — Шастает на тот свет отмывать доходы мафии? Неуклюжие, глухие переливы одинокой флейты пронзили воздух, а за ними, как нитка за иголкой, потянулся, прошелестев шторой, сквозняк. Задрожав мелкой дрожью, Джулия повернулась к кровати. Звуки и ветерок то стихали, то вновь набирали силу. На четвертый раз Фрэнк Поллард опять появился на кровати. Он лежал на боку, прижав к груди кулаки. Лицо его было искажено, глаза крепко зажмурены, словно он ожидал, что на него вот-вот обрушится топор. Джулия шагнула к кровати, однако Хэл вновь удержал ее. Фрэнк глубоко вздохнул, содрогнулся, жалобно всхлипнул, открыл глаза и… пропал. Не прошло и трех секунд, как он снова лежал на кровати, дрожа всем телом. И опять исчез. Так он несколько раз пропадал и появлялся, пропадал и появлялся, как изображение на экране барахлящего телевизора. Наконец он окончательно утвердился в привычной реальности. Он по-прежнему лежал на боку и стонал. Затем перевалился на спину и уставился в потолок. Разжал кулаки, поднес руки к лицу и стал с изумлением рассматривать свои пальцы, словно видит их впервые в жизни. — Фрэнк, — позвала Джулия. Молчание. Фрэнк пальцами ощупывал свое лицо — так слепые читают шрифт Брайля. Он как бы пытался ощупью восстановить в памяти свою внешность. Сердце Джулии так и прыгало, каждый мускул напрягся до предела, как заведенная часовая пружина. Но причиной этого был не страх, ее держала в напряжении необычность происходящего. — Фрэнк, как ты? Фрэнк прищурился и, не отводя пальцев от лица, посмотрел на Джулию. — А-а, это вы, миссис Дакота. Да, конечно… Дакота. Что случилось? Где я? — Ты в больнице, — ответил Бобби. — Слушай, где ты сейчас — не суть важно. Скажи лучше, где ты был? — Был? То есть… то есть как это? Фрэнк попытался сесть, но от слабости не мог сдвинуться с места. С помощью рычагов Бобби поднял изголовье кровати, и Фрэнк наконец уселся. — Сейчас пять часов утра. Несколько часов назад ты растворился в воздухе и с тех пор то появляешься, то исчезаешь, как… как… как будто ты член экипажа космического корабля «Энтерпрайз», и так вот запросто переносишься на свой корабль, когда пожелаешь. — «Энтерпрайз»? Переношусь на корабль? О чем ты? Бобби вытаращил глаза и повернулся к Джулии. — Кто он такой, откуда взялся — этого я не знаю, но в одном можно не сомневаться: о современной культуре этот парень понятия не имеет. Дикарь какой-то. Ты когда-нибудь встречала американца, который даже не слышал про «Звездный путь»[125]? — Очень глубокий вывод. Благодарю вас, мистер Спок[126]. — Мистер Спок? — переспросил Фрэнк. — Вот видишь! — воскликнул Бобби. — Расспрашивать Фрэнка будем потом, — отрезала Джулия. — Сейчас он сбит с толку. Надо поскорее отсюда убираться. А то опять заявится медсестра. Как мы тогда объясним появление Фрэнка? Так она и поверит, что он сам вернулся в больницу, проскочил мимо охраны и дежурных, поднялся на шестой этаж и при этом ухитрился остаться незамеченным. — Точно, — кивнул Хэл. — И потом, вернуться-то он вернулся, и, видно, навсегда, но лишняя осторожность не помешает. Ну как он вздумает опять пропасть на глазах у медсестры? — Значит, так, — решила Джулия. — Поможем ему слезть с кровати, дойти до конца коридора и спуститься по лестнице. Внизу машина. Пока все трое прикидывали, как поступить с Фрэнком, сам Фрэнк сидел на кровати и, недоуменно вертя головой, следил за разговором. Можно подумать, он впервые оказался на теннисном матче и сосредоточенно старается уразуметь правила игры. — Выведем его отсюда, — предложил Бобби, — а медсестре скажем, что отыскали его в нескольких кварталах от больницы. И надо, мол, еще разобраться, стоит ли его опять помещать в больницу, захочет ли он сам сюда вернуться. Нельзя же не считаться с его желаниями. В конце концов, он наш клиент, а не заключенный. Действительно, в дальнейшем обследовании уже не было нужды. И так ясно, что все беды Фрэнка проистекают вовсе не от какого-нибудь физического недуга вроде абсцесса или опухоли мозга, тромба, аневризмы или кисты. Трудно поверить, что из-за болезни — пусть даже самой редкой — человек может вдруг обрести способность проникать в четвертое измерение — или как там еще называется местечко, в которое переносится Фрэнк. — Хэл, возьми в шкафу одежду Фрэнка, сверни и сунь в наволочку с деньгами, — распорядилась Джулия. — Будет сделано. — Бобби, а мы с тобой поможем Фрэнку слезть с постели. Посмотрим, может ли он стоять на ногах. Он, похоже, совсем расклеился. Бобби налег на сломанные перильца, но они никак не опускались. Можно было зайти с другой стороны кровати, однако тогда пришлось бы отдернуть штору, а это рискованно: вдруг в палату кто-нибудь сунется. — Эх, Фрэнк, — вздохнул Бобби. — Ну что тебе стоит утащить в свою страну Оз[127] еще одну перекладину. — В страну Оз? Наконец Бобби справился с перильцами. Однако Джулия не решалась даже прикоснуться к Фрэнку. Кто знает, не вздумает ли он опять исчезнуть, и что тогда станется с ней? Вон они, обломанные петли. А перекладина от перилец? Ведь Фрэнк ее обратно не принес, так и оставил в том месте — или времени, — куда его забросило. Бобби сначала тоже робел, но все-таки набрался смелости. Он ухватил Фрэнка за ноги, подтащил к краю кровати и, взяв за руку, помог усесться. Джулия наблюдала за ним со стороны. Спору нет, кое в чем она действительно сильнее мужа, но как доходит до сверхъестественного, тут он чувствует себя как рыба в воде, тут Джулии до него далеко. И все же она поборола страх и пришла на помощь мужу. Вдвоем они помогли Фрэнку встать с кровати. Ноги у Фрэнка подкосились, он стал жаловаться на слабость и головокружение. Пришлось его поддерживать. Тем временем Хэл достал из шкафа и запихнул в наволочку одежду, в которой Фрэнк пришел в больницу. — В случае чего мы с Бобби донесем его на руках, — вызвался он. — Сколько вам из-за меня хлопот, — извиняющимся тоном произнес Фрэнк. Никогда еще Джулия не видела его таким жалким, беспомощным. Она чуть не сгорела от стыда, вспомнив, как только что боялась к нему прикоснуться. Джулия и Бобби с двух сторон подхватили Фрэнка и немного поводили по палате мимо залитого дождем окна, чтобы он смог размять ноги. Разминка пошла на пользу: вскоре Фрэнк перестал спотыкаться на каждом шагу. — Вот только брюки спадают, — пожаловался он. Бобби посоветовал затянуть ремень потуже и вызвался помочь. Поддерживаемый Джулией, Фрэнк прислонился к кровати, а Бобби подтянул повыше его синий хлопчатобумажный свитер. Вот так номер! Ремень испещрен крохотными отверстиями, как будто его источили какие-то старательные насекомые. От этого он и ослаб. Но где это видано, чтобы насекомые ели кожу? Бобби взялся за тусклую медную пряжку, и в тот же миг она раскрошилась, как хрупкое печенье. Бобби вытаращил глаза на крошки металла, которые поблескивали у него на пальцах, и поинтересовался: — Где ты раздобыл такую одежду, Фрэнк? На помойке? Несмотря на шутливый тон Бобби, Джулия встревожилась. Какие химикаты, какие силы могли так изменить состав меди? Когда Бобби вытер пальцы об одеяло, внутри у нее захолонуло: она боялась, что от прикосновения к тлетворной меди руки его, как эта пряжка, рассыпятся в прах.* * *
Пришлось Фрэнку вместо испорченного ремня взять ремень от брюк, в которых он ложился в больницу. Джулия пошла на разведку, убедилась, что путь свободен, и Бобби с Хэлом, поддерживая Фрэнка, вывели его из палаты и проскользнули по коридору к запасному выходу. Липкие от пота руки Фрэнка были холодны как лед, от ходьбы он хоть немного разрумянился, а то совсем уж напоминал живой труп. Джулия первой сбежала по лестнице посмотреть, что там внизу. Ее спутники же с трудом преодолели четыре лестничных пролета. Между голыми бетонными стенками металось гулкое эхо, скрежет и гул шагов. На четвертом этаже они остановились, чтобы Фрэнк перевел дух. — Значит, по утрам ты просыпаешься и ничего не помнишь. И что — каждый раз на тебя нападает такая слабость? — спросил Бобби. Фрэнк покачал головой. — Нет… Слабость — нет… Страх, — с одышкой прохрипел он. — Конечно, устаю… Но не так… как сейчас… Чем чаще… чем чаще исчезаю… тем больше устаю… Еще один такой случай… и я не вынесу. Во время разговора Бобби ненароком бросил взгляд на синий вязаный свитер клиента и заметил одну странность. Кое-где петли шли вкривь и вкось, будто вязальная машина время от времени давала сбои. А на спине, у правой лопатки, был выдран целый клок величиной с блок из четырех почтовых марок — правда, не такой правильной формы. Но вместо дыры на этом месте красовался кусок ткани цвета хаки. Ткань была не пришита, а словно бы ввязана в свитер фабричным способом. Цветом и фактурой она напоминала материю, из которой были сшиты брюки Фрэнка. Ни с того ни с сего сердце Бобби сжалось от ужаса. Подсознательно он как будто угадал, откуда взялась эта заплата и какие страшные последствия сулит ее появление. Но умом он этого постичь не мог. Бобби заметил, что злосчастная заплата попалась на глаза Хэлу и тот нахмурился. Пока Бобби и Хэл с изумлением рассматривали клочок ткани, по лестнице поднялась Джулия. — Нам повезло, — сообщила она. — Внизу две двери. Одна — в коридор, по нему можно выбраться на улицу, не выходя в вестибюль. Очень удачно: в вестибюле того и гляди нарвешься на охрану. Хотя Фрэнка уже никто не ищет, все же лучше не лезть на рожон. Зато вторая дверь ведет прямо в гараж, как раз туда, где стоит наша машина. Ну как, Фрэнк, оклемался? — Скоро… скоро откроется второе дыхание, — прохрипел Фрэнк, но уже не так надсадно. — Погляди-ка, — Бобби ткнул пальцем в клочок ткани на синем свитере. Джулия воззрилась на заплату. И тут Бобби осенила догадка. Он выпустил руку Фрэнка, нагнулся и принялся разглядывать его брюки. Вот они, хлопчатобумажные нитки из свитера: вотканы в материю. Но не в одном месте, а в трех разных местах — все возле отворота на правой брючине. Бобби сразу определил — тут и точных расчетов не требуется, — что на эту штопку ушло ровно столько синих ниток, сколько недостает у свитера. — Что-нибудь не так? — забеспокоился Фрэнк. Бобби не ответил. Он натянул широкую брючину, чтобы получше рассмотреть три синих пятна. Нет, слово «штопка» здесь не подходит: нитки так искусно вотканы в материю, что на ручную работу не похоже. Джулия присела рядом и напомнила: — Сперва надо отвезти Фрэнка в агентство. — Верно, — согласился Бобби и, указав на синие нитки, добавил: — Странная штука, правда? Странная и… и, по-моему, существенная. — Что-нибудь не так? — повторил Фрэнк. — Где ты достал эту одежду? — Не… не знаю… Джулия указала на белый спортивный носок на правой ноге Фрэнка. Бобби сразу понял, что ее заинтересовало: несколько синих ниток точно такого же оттенка, что и свитер. Они не пристали к носку. Они были вотканы в него. И тут он обратил внимание на левый ботинок Фрэнка. На носке темно-коричневого туристского ботинка виднелось несколько белых линий. Приглядевшись, Бобби обнаружил, что это грубые нитки — точь-в-точь из таких связаны спортивные носки Фрэнка. Бобби поковырял их ногтем. Нитки были как бы впрессованы в кожу. Итак, синие нитки из свитера оказались вотканы в брючину и носок, а нитки из носка впаялись в кожу ботинка на другой ноге. — Что-нибудь не так? — снова спросил Фрэнк уже с нескрываемой тревогой. Бобби боялся поднять на него глаза. А ну как выяснится, что полоски кожи с ботинка переместились на лицо Фрэнка, а кожа с лица, место которой они заняли, как по волшебству, вплелась в вязаный свитер? Бобби выпрямился и, сделав над собой усилие, взглянул на Фрэнка. Нет, лицо не пострадало. Все те же темные мешки под глазами, та же смертельная бледность — только на скулах играет румянец. Испуганный и растерянный взгляд. Вид, что и говорить, изможденный, но лицо в полном порядке. Никаких украшений из ботиночной кожи. Никаких вставок цвета хаки на губах, а из-под век не торчат обрывки синих ниток, пластмассовые наконечники от шнурков или обломки пуговиц. Мысленно кляня свое необузданное воображение, Бобби похлопал Фрэнка по плечу. — Не волнуйся. Ничего страшного. Потом разберемся. Пошли. Надо отсюда сматываться.Глава 38
Окутанный тьмой, завороженный ароматом материнских духов, укрытый тем же одеялом, которое некогда согревало мать и с тех пор сохраняется как святыня, Золт спал беспокойным сном, поминутно вздрагивая и просыпаясь, хотя никакие кошмары его как будто не мучили. Мыслями он то и дело возвращался к нынешнему происшествию в каньоне, когда во время охоты он ощутил прикосновение невидимой руки. Ничего подобного с ним еще не случалось. Золт и сейчас никак не мог успокоиться и, просыпаясь, снова и снова ломал голову: к худу это или к добру? Уж не светлый ли призрак матери пролетел над ним? Нет-нет, если бы и впрямь раздвинулась завеса, разделяющая два мира, и мать предстала перед Золтом, он непременно узнал бы ее — узнал по тому неповторимому веянию любви, тепла и сострадания, которое от нее исходило. Узнал бы, и рухнул на колени под тяжестью призрачной руки, и зарыдал от восторга. А может, это его непостижимые сестрички открыли в себе новые сверхчувственные способности и зачем-то обратили их на Золта? Ведь подчиняют же они себе волю кошек, да и прочие малые твари им повинуются. Ничего удивительного, если они научились проникать и в человеческое сознание. В таком случае дело плохо: эти бледные особы с холодными глазами заберут над ним власть. Порой сестры напоминали Золту змей-альбиносов — гибкие, безмолвные, всегда настороже, и разобраться, что ими движет, не легче, чем постичь повадки пресмыкающихся. Пусть даже им не удастся превратить его в покорное орудие, но как подумаешь, что кто-то может хозяйничать в твоем сознании, так мороз по коже. Однако при следующем пробуждении Золт отогнал эту мысль. Если бы Лилли и Вербена на самом деле умели управлять его сознанием, они бы уже давно помыкали братом так же, как своими кошками. Какие унизительные, непристойные поступки они заставили бы его совершать! Это Золт пренебрегает плотскими утехами, а сестры, будь их воля, только и делали бы, что нарушали священнейшие заповеди Господни. И зачем это мать так настаивала, чтобы он оберегал сестер и заботился о них? Как она вообще могла их любить? Скорее всего в ней говорило сочувствие к своим заблудшим чадам — лишнее свидетельство ее благочестия. Да, она умела понять и простить, и это всепрощение изливалось на близких, как чистая прохладная вода из артезианского колодца. Золт уснул, но скоро опять пробудился и, повернувшись на бок, увидел, что между гардинами пробивается слабый утренний свет. А может, тогда, в каньоне, он ощутил присутствие Фрэнка? Сомнительно. Обладай Фрэнк телепатическими способностями, он бы давным-давно пустил их в ход, чтобы уничтожить Золта. В этом смысле Фрэнк уступает сестрам, не говоря уж о Золте. Так кто же это дважды подступал к Золту в каньоне и упорно ломился в его сознание? Кто произносил бессвязные слова, которые отдавались у него в мозгу? «Кто… где… что… зачем… кто… где… что… зачем?» Когда это произошло, Золт попытался усилием воли удержать дерзкого чужака, но тот отпрянул и, как ни старался Золт направить часть своего сознания за ним вдогонку, мысленное преследование ему никак не давалось. Ничего, научится. Пусть только незваный гость попробует снова появиться: Золт выпрядет из своего сознания нить, набросит на него и проследит, куда она потянется. За двадцать девять лет он встречал только двух человек, обладающих необычными психическими способностями, — это его сестры. Если на свете есть еще один такой человек, Золт обязательно должен узнать, кто это. Обладатель этого дара — не отпрыск их благочестивой матери, а значит, он соперник, враг. На улице еще не совсем рассвело, но Золт понял, что снова уснуть ему не удастся. Он скинул одеяло, встал и, несмотря на темноту, запросто пересек комнату, тесно уставленную мебелью, — как слепой, который без труда расхаживает по знакомому дому. В ванной он запер дверь и, отвернувшись от зеркала, разделся. Потом подошел к унитазу и помочился. При этом он даже не взглянул на ненавистный орган. В душе, прежде чем намылить его, Золт натянул рукавицу, чтобы непорочная рука не осквернилась прикосновением к отвратительной, презренной плоти внизу живота.Глава 39
Из больницы Дакоты, Хэл и Фрэнк отправились в Ньюпорт-Бич, прямиком в агентство. Работы предстояло много, и, поскольку Фрэнку, возможно, грозила опасность, дело не терпело отлагательства. Фрэнк ехал в одной машине с Хэлом, Джулия пристроилась позади, чтобы прийти на помощь, если во время поездки возникнут непредвиденные обстоятельства. Собственно, все дело Полларда — не что иное, как цепь непредвиденных обстоятельств. В агентстве не было ни души: до начала рабочего дня оставалось еще несколько часов. Солнце уже поднялось, однако небо по-прежнему заволакивали тучи; лишь на западе прорезалась узкая полоска, и синева небес брезжила в ней, как свет из-под двери. Когда все четверо прошли через комнату для посетителей в святая святых агентства — кабинет Бобби и Джулии, ливень неожиданно оборвался, словно десница Божья повернула небесный рычаг. На стеклах широких окон стихла мельтешня дождевых струй, и в пасмурном утреннем свете заблестели ртутным блеском сотни капелек. Бобби указал на туго набитую наволочку, которую тащил Хэл. — Отведи Фрэнка в туалет и помоги переодеться. А потом неси его шмотки сюда. Разглядим как следует. В сущности, помогать Фрэнку уже не требовалось: силы к нему вернулись и он твердо держался на ногах. Но Джулия понимала, что теперь Бобби не оставит клиента без присмотра ни на минуту: вдруг паче чаяния произойдет что-то такое, что поможет проникнуть в тайну неожиданных исчезновений. Хэл достал из наволочки скомканную одежду, саму наволочку с прочим содержимым оставил на столе и вместе с Фрэнком удалился в туалет. — Кофе хочешь? — спросил Бобби. — Еще как, — призналась Джулия. Бобби вышел в комнату для посетителей, открыл кладовку, где стояли две автоматические кофеварки, и включилодну. Джулия тем временем присела за стол и вытряхнула из наволочки пачки денег. Тридцать пачек стодолларовых купюр, перехваченных резинками. Джулия проверила десяток пачек: не затесались ли где-нибудь купюры помельче? Нет, одни сотенные. Тогда она наугад взяла две пачки и пересчитала. В каждой по сотне бумажек. То есть по десять тысяч долларов. Когда Бобби вернулся в кабинет, ей было уже ясно, что сегодняшний улов Фрэнка превзошел все предыдущие. Бобби поставил на стол поднос с чашками, ложками, пакетом сливок, сахарницей и кофейником. — Триста тысяч долларов, — сообщила Джулия. Бобби присвистнул. — Итого? — Итого Фрэнк передал нам на хранение шестьсот тысяч. — Скоро нам понадобится сейф повместительнее.* * *
Хэл Яматака выложил одежду Фрэнка на журнальный столик. — С «молнией» на брюках непорядок. Добро бы только не работала… Нет, она и правда не работает, но это еще полбеды. Беда в том, что она какая-то не такая. Усевшись за низким столиком со стеклянной крышкой, Хэл, Фрэнк и Джулия пили крепкий черный кофе, а Бобби на кушетке внимательно осматривал одежду Фрэнка. К тем несуразностям, которые он заметил в больнице, действительно добавилась «молния» на брюках. Она, как и положено, была металлической, но кое-где среди металлических зубцов чернели зубья из чего-то наподобие твердой резины — всего их было штук сорок. На этих-то зубьях и заклинил замок. Бобби уставился на бракованную «молнию». Он медленно провел пальцем по рубчатой полоске, и вдруг его осенила догадка. Он схватил ботинок Фрэнка и взглянул на подметку. Ничего особенного. Зато в подметке другого ботинка поблескивали тридцать-сорок крохотных медных стерженьков. Металл словно впечатался в резину. — У кого-нибудь есть перочинный ножик? — спросил Бобби. Хэл вынул из кармана ножик. Бобби выковырял пару кусочков меди — казалось, они попали в резину, когда та еще не затвердела. Ну конечно: зубья «молнии». Они тонко звякнули о стеклянную поверхность стола. А на подошве не хватало как раз столько резины, сколько ушло на резиновые зубья в «молнии».* * *
В кабинете Дакотов на Фрэнка Полларда внезапно накатила смертельная усталость. Ощущение подобного предела знакомо разве что героям мультяшек, портреты которых украшали стены кабинета: как раз от такой вот чудовищной усталости Дональд Дак стекает со стула и расплывается на полу пернатой лужицей. Эта усталость подспудно копилась у Фрэнка час за часом, день заднем с тех самых пор, как он пришел в сознание и обнаружил, что лежит в темном переулке. Копилась, копилась — и вдруг как прорвало: Фрэнк чувствовал, как потоки усталости растекаются по всему телу. Да не легкие водяные потоки, а тяжелые, как расплавленный свинец. Трудно даже рукой пошевелить, а чтобы голова не падала на грудь, приходилось прикладывать неимоверные усилия. Каждый сустав налился тупой болью, болели локти, запястья, пальцы, но особенно колени, бедра и плечи. Его лихорадило, но не как при тяжелом недуге — скорее как если бы он был измотан легким инфекционным заболеванием, которое будто преследовало его с детства. Усталость не притупила восприятия — напротив, обострила, словно кто-то обработал его нервы мелкозернистой наждачной бумагой. Он ежился от громкого шума, жмурился от яркого света, его раздражал то жар, то холод, даже прикоснуться к шершавой поверхности было выше его сил. И дело тут не только в том, что из-за бессонницы Фрэнк совсем не высыпается. По словам Хэла Яматаки и Дакотов — а сомневаться в правдивости их слов Фрэнку нет причины, — ночью он по несколько раз исчезает и появляется, причем, снова оказавшись в кровати, начисто забывает, что же с ним происходило. Трудно сказать, отчего это случается, куда, как и зачем он пропадает. Главное — эти исчезновения отнимают столько сил, будто он отмахал пешком порядочное расстояние, долго бегал или выжимал тяжести. Не отсюда ли и эта общая слабость и смертельная усталость? Бобби Дакота выковырял из подметки башмака пару медных зубьев и внимательно оглядел. Потом отложил нож, откинулся на спинку и устремил задумчивый взгляд в хмурое, но уже не дождливое небо за широкими окнами. Все молча ожидали, что он скажет насчет странных дефектов в одежде и башмаках. Хотя от усталости и страха Фрэнк соображал с трудом, однако уже за первый день знакомства он успел оценить сметливость и острое воображение Бобби. Спору нет, Джулия рассудительнее мужа, но гибкости ей недостает; она едва ли способна на неожиданные умозаключения, которые приводят к смелым выводам и оригинальным решениям. Она чаще Бобби докапывается до истины, но, если клиенту потребуется спешная помощь, тут уж Бобби и карты в руки. Они друг друга прекрасно дополняют, и Фрэнк надеялся, что вместе они сумеют его выручить. Бобби повернулся к Фрэнку. — Что, если ты умеешь телепортироваться, переноситься с места на место в мгновение ока? — Но это же… как в сказке, — растерялся Фрэнк. — Я в волшебство не верю. — А я верю. Не в ведьм, не в чары, не в джиннов, заточенных в бутылки, а в то, что чудеса вполне возможны. Уже то, что мир существует, что мы живем на этом свете, можем смеяться, петь, греться на солнышке, — ей-богу, для меня это чудо. — Телепортироваться, говоришь? Может, и умею — не знаю. Как видно, это происходит только во сне. Стало быть, телепортация совершается непроизвольно, когда вместо рассудка врубается подсознание. — Но, когда после исчезновения ты появлялся в палате, ты уже не спал, — напомнил Хэл. — Разве что после первого исчезновения… А потом у тебя каждый раз глаза были открыты. Ты даже ко мне обращался. — Не помню, — нахмурился Фрэнк, — помню только, как заснул», а потом… бац — лежу в постели, сна ни в одном глазу, сил никаких, ничего не соображаю, а вы стоите рядом. Джулия вздохнула. — Телепортация? Каким образом? — Ты сама видела каким, — пожал плечами Бобби и отхлебнул кофе с таким бесстрастным видом, будто ему чуть не каждый день попадаются клиенты с поразительным даром. А если и не каждый, то все равно удивляться нечему: всякому сыщику рано или поздно подвернется такое дельце. — Я видела, как он исчез, — согласилась Джулия. — Но я не уверена, что он телепортировался. — Не растворился же он в воздухе. Он ведь куда-то перенесся, правда? — В общем… да. — Ну вот. Когда человек усилием воли мгновенно переносится в другое место… что же это такое, как не телепортация? — Но как это происходит? Бобби снова пожал плечами. — Сейчас это неважно. Для начала давай просто исходить из того, что он телепортировался. — Предположительно, — вставил Хэл. — Ладно. Итак, предположим, Фрэнк умеет телепортироваться. Поскольку собственные ночные похождения оставались для Фрэнка загадкой, он с тем же успехом мог предположить, что железо легче воздуха, а значит, ничего не стоит клепать воздушные шары из стали. Однако спорить с Бобби он не стал. — Тогда понятно, что произошло с одеждой, — продолжал Бобби. — И что с ней произошло? — спросил Фрэнк. — Об одежде чуть позже. Давай все по порядку. Начнем с того, что при телепортации твое тело, по всей видимости, рассыпается на атомы, которые через миг снова собираются воедино — уже в другом месте. То же самое происходит и с одеждой, и со всяким предметом, который ты в этот момент держишь в руке, вроде перекладины от кровати. — В фильме «Муха» есть такой аппарат для телепортации, — вспомнил Хэл. — Вот-вот, — подхватил Бобби, все больше и больше увлекаясь. Он отставил чашку, сполз на самый край кушетки и принялся оживленно размахивать руками. — Вроде того. Только Фрэнку для телепортации не нужна никакая фантастическая машина. Ему достаточно мысленного усилия. Представит себя где-нибудь в другом месте — и тут же рассыпается на атомы. Вжик — и вот он уже там, цел-целехонек. Сознанию, понятное дело, при этом никакого ущерба: какая же еще сила способна переместить атомы тела? Кроме того, как пастушья собака не дает стаду разбрестись, так и он следит, чтобы атомы не разлетались во все стороны, а в конце путешествия собирает их в прежней последовательности. Судя по нечеловеческой усталости, Фрэнку и впрямь пришлось совершать мудреные и изнурительные действия, о которых рассказывал Бобби, но он нашел в себе силы не согласиться. — Не верится мне что-то… Ну откуда бы у меня взялась такая сноровка? В школе этому не учат. В университете Лос-Анджелеса курс по телепортации не читают. Значит, что же — инстинкт? Допустим, я как-то сам собой научился превращаться в поток атомов, переноситься, куда мне надо, и там восстанавливаться в прежнем виде… Но покажите мне такого гения, который мог бы уследить за миллиардами крохотных частиц, а потом собрать их точь-в-точь как прежде. Такая задача по плечу разве что сотне, да нет — тысяче гениев, а я-то вроде и вовсе не гений. Дурак не дурак, но и не умнее других. — Вот ты сам себе и ответил. Тут никакие сверхъестественные умственные способности и не требуются: телепортация совершается не совсем с помощью разума. Но инстинкт здесь тоже ни при чем. Просто… просто эта способность заложена у тебя в генах. Вот как зрение, слух, обоняние. К примеру, все, что ты видишь вокруг, состоит из миллиардов точек разного цвета, степени освещенности и фактуры. Но твой глаз сам по себе собирает миллиарды этих сигналов в единую картину. Ты же не отдаешь ему мысленный приказ. Просто видишь — и все. Это получается автоматически. Понимаешь теперь, что я подразумевал под волшебством? Зрение и есть такое волшебство. А для телепортации тебе, наверно, достаточно привести в действие пусковой механизм — скажем, пожелать перенестись в другое место, — а дальше все происходит автоматически. Сознание тут участвует не больше, чем в случае со зрением: там оно просто-напросто усваивает информацию, которую получает глаз. Фрэнк нахмурился и пожелал перенестись в комнату для посетителей. Но, открыв глаза, обнаружил, что по-прежнему сидит в кабинете. — Не получилось. Выходит, не так это просто. Не по зубам мне телепортация. — Как же так, Бобби, — встрепенулся Хэл. — Ты что же, хочешь сказать, что мы все наделены этой способностью, но только Фрэнк сообразил, как ею распорядиться? — Нет-нет. Наверно, у Фрэнка генетический код не такой, как у всех. Или дело в каких-то его дефектах. Все задумались. Воцарилась тишина. Тучи постепенно расходились; из-под них, как из-под облупившейся краски, проступала синева. С каждой минутой просветов становилось все больше. Но на душе у Фрэнка было все так же ненастно. Наконец Хэл Яматака махнул рукой в сторону журнального столика, на котором лежала одежда Фрэнка. — Что же в таком случае произошло с одеждой? Бобби взял синий свитер и расправил, чтобы все могли полюбоваться пятном цвета хаки на спине. — Значит, так. Допустим, сознание, само того не ведая, не дает молекулам разлетаться при телепортации и затем безошибочно восстанавливает прежнее тело. И не только тело — всякую вещь, которую Фрэнку вздумается прихватить с собой. Одежду, например. — Или пакеты с деньгами, — подсказала Джулия. — А перекладину зачем утащил? — допытывался Хэл. — На что она ему сдалась? — Сейчас ты уже ничего не помнишь, — обратился Бобби к Фрэнку, — но когда телепортировался туда-сюда, ты прекрасно отдавал себе отчет в том, что происходит. Пытался остановиться, даже просил Хэла тебя удержать. И вот, чтобы тебя опять не унесло, ты и вцепился в перекладину. Только о ней и думал. Поэтому ее и унесло вместе с тобой. А что касается путаницы с одеждой… Вероятно, поначалу ты сосредоточивался на том, чтобы при восстановлении не произошло никаких сбоев, — малейшая ошибка могла стоить тебе жизни. Но мало-помалу ты выдохся, и тут уж не до таких мелочей, как одежда. — Сколько я себя помню, — заметил Фрэнк, — а я себя помню только с прошлой недели, — такого со мной еще не случалось. Хотя, по-моему, ночи не проходит без этих… путешествий. Одежде-то все было нипочем, а я раз от разу все слабею, изматываюсь, раскисаю… Объяснять дальше не понадобилось: по встревоженным взглядам и лицам собеседников было ясно, что они и так все поняли. Если Фрэнк действительно телепортируется и эта нелегкая процедура отнимает у него столько сил, что и отдых не впрок, то не сегодня-завтра при восстановлении одежды или какого-нибудь захваченного с собой предмета он может дать промашку. Но это еще полбеды, гораздо страшнее, если ему не удастся с прежним тщанием восстановить собственное тело. И, вернувшись как-нибудь из очередного ночного путешествия, он обнаружит, что в тыльную сторону руки вживлены клочки свитера, кожа с руки бледной заплатой приросла к ботинку, а недостающий кусок кожи с ботинка темнеет на языке. Не говоря уже о том, что инородные волокна могут попасть в ткань мозга… И вот люди, которых Фрэнк считал своими надежными защитниками, смотрят на него с тревогой и жалостью. Сердце у него упало. Страх, по-акульи круживший около своей жертвы, вырвался из глубины сознания и набросился на Фрэнка. Он закрыл глаза и тут же пожалел: в воображении возникло его собственное лицо после неудачного восстановления. Восемь или десять зубов торчат из правой глазницы, ниже из щеки выпучился безвекий глаз, нос превратился в уродливый хрящеватый нарост сбоку. Чудовище раскрыло рот — наверно, хотело закричать; во рту вместо языка шевелился ошметок руки с двумя пальцами. Фрэнк открыл глаза. У него вырвался сдавленный крик отчаяния и ужаса. Его била дрожь, и унять ее не было сил.* * *
По просьбе Бобби Хэл налил всем еще кофе, а Фрэнку, несмотря на ранний час, прямо в кофе добавил виски. Потом вышел в комнату для посетителей и снова включил кофеварку. Кофе со спиртным взбодрил Фрэнка. Тогда Джулия показала ему фотографию Фаррисов. — Ты знаешь этих людей? — спросила она, внимательно следя за выражением его лица. — Нет. Впервые вижу. — Это Джордж Фаррис, — объяснил Бобби. — Настоящий Джордж Фаррис. Фотографию нам дал его шурин. Фрэнк оживился и снова взглянул на фото. — Может, я его и знал, раз позаимствовал его фамилию. Но по фотографии никак не вспомню. — Он умер, — сказала Джулия и отметила неподдельное удивление Фрэнка. Она рассказала, как умер Фаррис и как недавно была уничтожена его семья. Рассказала и про Джеймса Романа и роковой пожар, во время которого погибли его родные. Фрэнк опешил и смутился, тоже непритворно. — Да что же они все гибнут? Это что — совпадение? Джулия подалась вперед. — Мы подозреваем, что их убил мистер Синесветик. — Кто-кто? — Мистер Синесветик. Тот самый человек, который гнался за тобой ночью в Анахейме. Тот, что, по твоим словам, тебя преследует. Он, наверное, пронюхал, что ты скрываешься под именами Фарриса и Романа. Узнал их адреса и бросился искать тебя. А когда не нашел, расправился со всеми, кто был в доме. Не то хотел допытаться, где ты, не то… не то просто так куражился. Фрэнка это известие как громом поразило. Бледное лицо побледнело еще сильнее, будто тающее изображение на киноэкране. Во взгляде проступила совсем уж безысходная горечь. — Стало быть, не воспользуйся я фальшивыми документами, он не нагрянул бы к родственникам Фарриса и Романа. Они, значит, погибли по моей вине! Джулии стало неловко за свои подозрения. Жаль беднягу. Напрасно она подвергла его этому испытанию. — Да не угрызайся ты, Фрэнк. Мошенник, который подделал удостоверения, скорее всего выбрал фамилии наугад. Взял из какого-нибудь списка недавно умерших первые попавшиеся и вписал. Иначе мистер Синесветик не обратил бы ни на Фаррисов, ни на Романов никакого внимания. Откуда тебе было знать, что ловчила при подделке документов окажется таким недобросовестным и захочет обтяпать дело по-быстрому? Фрэнк покачал головой, хотел возразить, но не мог выдавить из себя ни слова. — Твоей вины здесь нет, — подал голос Хэл. Он, видно, уже давно стоял в дверях и успел смекнуть, что за фотографию они рассматривают. Отчаяние Фрэнка тронуло его до глубины души. Повторилась та же история, что и с Клинтом: застенчивость клиента, его благообразная внешность и тихий голос сразу же расположили Хэла в его пользу. Фрэнк откашлялся и наконец выдохнул: — Нет-нет. Господи, это же все из-за меня! Из-за меня погибли невинные люди!* * *
В компьютерном центре агентства «Дакота и Дакота» стояли удобные кресла для машинисток. В эти-то кресла на резиновых колесиках и с пружинящими спинками и уселись Бобби и Фрэнк. Бобби включил персональный компьютер фирмы «Ай-би-эм», последнее слово техники. Центр был оборудован тремя такими компьютерами, которые сообщались с внешним миром с помощью модема и телефонной связи. Дневного света для работы вполне хватало, однако окно было занавешено плотной шторой, а под потолком горели лампы, излучающие мягкий рассеянный свет — иначе блики на экранах мешали бы работать. В эпоху автоматизации компьютеры стали надежными помощниками не только у полицейских, но и у частных детективов. Благодаря им удается накопать такую уйму сведений, что методы Сэма Спейда и Филипа Марло оказываются безнадежно устаревшими. Правда, без беготни, без слежки, без опроса свидетелей и подозреваемых по-прежнему не обойтись, и все же, не будь компьютеров, сыщики оказались бы в положении кузнеца, который пытается починить лопнувшую покрышку, положив ее на наковальню и орудуя молотом и другими привычными орудиями. Как-никак идет уже последнее десятилетие двадцатого века, и частные сыщики без компьютеров существуют разве что в телевизионных детективах да в большинстве приключенческих романов, действие которых происходит не поймешь в какое время. Ли Чен, который создал для Дакотов электронную систему сбора данных и сам же выполнял эту работу, должен был появиться в агентстве не раньше девяти. До его прихода оставался целый час, а Бобби не терпелось взяться за расследование дела Фрэнка при помощи компьютера. Он далеко не компьютерный ас, как Ли, но все же в машинном обеспечении разбирается, а понадобится — быстро осваивает любую новинку, так что разыскивать данные в кибернетическом пространстве ему не сложнее, чем выбирать их из подшивок пожелтевших газет. Достав из запертого ящика список кодов, которым пользовался Ли, Бобби первым делом подключился к сети Администрации социального обеспечения. Доступ к ее файлам был открыт. Но не ко всем: некоторые были, как предполагалось, защищены особыми кодами, и пользоваться ими запрещалось законом. Из открытых файлов Бобби запросил данные обо всех людях по имени Фрэнк Поллард, зарегистрированных в Администрации. Через несколько секунд ответ был получен. Если считать всевозможные варианты имени Фрэнк — вроде Франклин, Фрэнки и Франко, — а также такие имена, как Фрэнсис (может, это полная форма, а Фрэнк — сокращенная). Администрация располагала сведениями о шестистах девяти Фрэнках Поллардах. — Бобби, — обеспокоенно сказал Фрэнк, — вот эти надписи на экране — как их понимать? Это слова, настоящие слова или просто набор букв? — А? Ну да, конечно, слова. — Что-то я их не узнаю. Чушь какая-то. Бобби взял завалявшийся между компьютерами номер журнала «Байт», раскрыл и протянул Фрэнку. — А ну-ка почитай. Фрэнк уставился в журнал, перелистнул пару страниц, потом еще. Журнал у него в руках задрожал. — Не могу. Боже ты мой, теперь еще и это! Вчера считать разучился, сегодня читать. Соображаю все хуже и хуже. В голове туман. Каждый мускул болит, каждый сустав ломит. Эта телепортация совсем меня доконает. Тело, мозги — все отказывает. Я гибну, Бобби, гибну прямо на глазах! — Обойдется, — успокоил Бобби. Но, по правде говоря, он только напускал на себя уверенный вид. Они с Джулией, конечно, докопаются, кто такой Фрэнк, куда, как и зачем он исчезает по ночам. Однако Фрэнк действительно угасает на глазах. Может статься, к тому времени, как они разузнают всю подноготную клиента, Фрэнку от этих сведений не будет уже никакого прока: умрет или сойдет с ума. И все же Бобби ободряюще положил ему руку на плечо и слегка сжал. — Держи хвост пистолетом, дружище. Прорвемся. Вот увидишь, все будет хорошо. Я не сомневаюсь. Фрэнк глубоко вздохнул и кивнул. Устыдившись своего показного бодрячества, Бобби опять повернулся к дисплею. — Фрэнк, ты не помнишь, сколько тебе лет? — Не помню. — На вид — тридцать два — тридцать три. — У меня такое ощущение, что я старше. Бобби посидел немного, задумчиво насвистывая под нос пьесу Дюка Эллингтона «Атласная кукла». Потом снова взялся за работу. Он отсеял всех Фрэнков Поллардов моложе двадцати восьми и старше тридцати восьми. Осталось семьдесят два человека. — Фрэнк, ты откуда-нибудь приехал или так и живешь всю жизнь в Калифорнии? — Не знаю. — Ладно, предположим, что ты коренной калифорниец. Бобби оставил в списке только тех Поллардов, которые зарегистрировались в Администрации социального обеспечения, когда проживали в Калифорнии. Таких оказалось пятнадцать человек. Затем сократил список еще раз, оставив лишь тех, кто живет в Калифорнии до настоящего времени. Их было шесть. Однако по закону Администрация не имела права сообщать их координаты посторонним, поэтому в открытых файлах этих данных не было. Следуя указаниям в списке кодов Ли Чена, Бобби проделал хитрые манипуляции и пробился-таки в закрытые файлы. Он и сам был не рад, что приходится нарушать закон, но что поделаешь: автоматизация — такая штука, что, если хочешь использовать систему сбора данных на все сто, щепетильность надо спрятать в карман. Компьютеризация — путь к свободе, а законы, как ни крути, — орудие подавления, и полного согласия между ними не достичь. На дисплее появились регистрационные номера и адреса шести Фрэнков Поллардов, живущих в Калифорнии. — А дальше что? — полюбопытствовал Фрэнк. — А дальше сунусь в файлы Калифорнийского департамента дорожного транспорта, вооруженных сил, полиции штата, муниципальной полиции и прочих официальных организаций. Найду описания всех шести Поллардов. Выясню про их рост, вес, цвет кожи, глаз и волос. И буду действовать методом исключения. Дай бог, чтобы ты оказался среди этих шестерых. А уж если ты служил в армии или хоть раз попадал в руки полиции, то в каком-нибудь файле может обнаружиться твоя фотография. Тогда установить твою личность легче легкого.* * *
Джулия и Хэл сидели за столом наискосок друг от друга и перебирали стодолларовые купюры. Они просмотрели уже больше половины пачек, выискивая бумажки с близкими номерами серий: если такие найдутся, по ним можно определить, не украдены ли деньги из банка, ссудно-сберегательной кассы или другого учреждения. Неожиданно Хэл оторвался от работы и спросил: — Почему перед телепортацией всегда налетает ветер и звучит флейта? — Бог его знает. Может, когда Фрэнк проходит через другое измерение, за ним устремляется поток воздуха. — Я тут подумал… Если мистер Синесветик — не бред, если он действительно гоняется за Фрэнком, и если тогда в переулке Фрэнк слышал эти звуки и чувствовал порыв ветра… то остается предположить, что и мистер Синесветик умеет телепортироваться. — Возможно. И что из этого? — Получается, Фрэнк не один такой. Есть и другой уникум ему под стать. Или даже другие. — Только этого не хватало! В таком случае стоит мистеру Синесветику узнать, где скрывается Фрэнк, — и нам его не спасти. Бац — и Синесветик уже тут как тут. Чего доброго, притащит с собой автомат и давай строчить. Помолчав, Хэл заметил: — Какая все-таки замечательная профессия — садовник. Всего-то и нужна газонокосилка, полольная машина да еще парочка нехитрых инструментов. Работаешь на свежем воздухе, никто в тебя не стреляет.* * *
Фрэнк, а за ним и Бобби вошли в кабинет, где Джулия и Хэл возились с деньгами. Бобби бросил на стол листок бумаги и объявил: — Все, Шерлок Холмс, клади зубы на полку! На свете появился сыщик посмекалистее. Джулия повернула листок так, чтобы Хэл тоже смог прочесть. На листке с помощью лазерного принтера были напечатаны данные о Фрэнке, которые он сам представил в Калифорнийский департамент дорожного транспорта, когда в последний раз продлевал водительские права. — Да, похоже, это ты, Фрэнк, — согласилась Джулия. — Выходит, полностью тебя зовут Фрэнсис Эзикиел Поллард? Фрэнк кивнул. — Точно. Прочел и вспомнил. Фрэнсис Эзикиел. Джулия постучала пальцем по бумаге: — А этот адрес в Эль-Энканто-Хайтс тебе что-нибудь говорит? — Нет. Я даже не знаю, где это — Эль-Энканто. — Возле Санта-Барбары. — Да, Бобби подсказал. Но я там и не бывал никогда. Правда… — Что? Фрэнк подошел к окну и устремил взгляд на далекий океан, над которым синело чистое уже небо. По небу плавно, широкими кругами скользили ранние чайки — дух захватывало от такой красоты. Но ни вид за окнами, ни полет чаек не волновали Фрэнка. — В Эль-Энканто я, кажется, не бывал, — продолжал он, не отрываясь от окна, — но всякий раз, как вы произносите это название, у меня под ложечкой екает, будто я лечу с американских горок. Думаю про Эль-Энканто, пытаюсь вспомнить, а сердце так и скачет, и во рту делается сухо, и дышать трудно. Вроде бы у меня с этим местом и связаны какие-то воспоминания, но память сама хочет их отогнать. Должно быть, там со мной приключилось что-нибудь очень скверное… что-нибудь такое, что и вспомнить страшно. — Срок действия водительских прав у Фрэнка истек семь лет назад, — рассказывал Бобби. — По данным Департамента дорожного транспорта, Фрэнк их больше не продлевал. Нам, можно сказать, повезло: еще немного — и имя Фрэнка выкинули бы из всех файлов. Он положил на стол еще две распечатки. — Зубы на полку, Шерлок Холмс и Сэм Спейд! — Что это такое? — Протоколы задержания. Фрэнка дважды задерживали за нарушение правил. Первый раз в Сан-Франциско лет шесть назад. Второй — пять лет назад на шоссе 101, к северу от Вентуры. Каждый раз оказывалось, что водительские права у него просрочены, а сам он ведет себя настолько странно, что полиция предпочитала его задержать. — Человек на фотографии, прилагавшейся к протоколам, выглядел несколько моложе и полнее Фрэнка, и все же Джулия без труда узнала своего нынешнего клиента. Бобби отодвинул ворох денег и присел на край стола. — Каждый раз он ухитрялся бежать. Полиция наверняка и сейчас его разыскивает, но уже не так усердно: проштрафившийся шофер — не уголовник. — Хоть убейте, не помню, — признался Фрэнк. — Каким образом ему удалось бежать, в протоколах не сказано. Я подозреваю, что для этого едва ли понадобилось перепиливать решетку, прорывать туннель, стращать охрану пистолетом, вырезанным из куска мыла, или пускать в ход другие испытанные уловки. Наш Фрэнк и без этих штучек-дрючек обойдется. — А, телепортировался! — сообразил Хэл. — Улучил минуту, когда никто не видит, — и поминай как звали. — Вот и я так думаю. После этого он и обзавелся липовыми удостоверениями. С такими никакая полиция не страшна. Джулия прочла протоколы и заключила: — Ну что ж, Фрэнк, по крайней мере, теперь мы убедились, что твоя настоящая фамилия действительно Поллард, выяснили, что ты живешь в округе Санта-Барбары, и даже знаем твой настоящий адрес, и тебе больше незачем ютиться в мотеле. Дело наконец сдвинулось с места. Бобби ликовал: — Зубы на полку, Холмс, Спейд и миссис Марпл! Но Фрэнк не разделял общего торжества. Он отошел от окна и снова опустился в кресло. — Сдвинуться-то оно сдвинулось, но и только. И как медленно оно движется. Сцепив руки и упершись локтями в расставленные колени, он наклонился вперед и принялся угрюмо разглядывать пол. — У меня сейчас шевельнулось нехорошее подозрение. Что, если у меня не только одежда не правильно восстанавливается? Что, если путаница происходит уже и в организме? По мелочам. Незаметно. Сотни или тысячи неполадок на клеточном уровне. То-то я чувствую себя так погано, выматываюсь, хандрю. Неспроста я стал такой бестолковый, разучился читать и считать… Вдруг это от того, что ткань мозга восстановлена не так. Джулия покосилась на Хэла, на Бобби. Видно, они и рады бы разубедить Фрэнка, но уж больно его предположения похожи на правду. — Медная-то пряжка с виду была вполне нормальной, — напомнил Фрэнк. — А Бобби дотронулся — и от нее осталась только пыль.Глава 40
Во сне голова у Томаса опустела, и в нее набились гадкие сны. Как он живьем кушает маленьких зверьков. Как пьет кровь. И что Беда — это он и есть. Вдруг сны оборвались. Он сел в постели, хотел закричать, а внутри у него ни одного звука. Сидит, дрожит от страха, дышит часто и тяжело, так что в груди больно. Вернулось солнышко, ночь ушла, и Томасу стало легче. Он слез с кровати, сунул ноги в туфли. Пижама холодная от пота. Томас поежился. Натянул халат. Подошел к окну. Небо славное, синее. Газоны после дождя мокрые-премокрые, дорожки потемнели, а земля на клумбах совсем черная. А в лужи, как в зеркало, смотрится синее небо. Много дождя пролилось с неба, весь мир промыло, он теперь как новенький. Это хорошо. Где-то сейчас Беда? Близко или далеко? Но тянуться к ней Томас не стал. Ночью она его чуть не поймала. Сильная такая — Томас едва вырвался. Он от нее — Беда не отстает. Он назад — а она сквозь ночь мчится за ним. На этот раз он от нее быстро ушел, но кто знает, что может случиться в следующий раз. Вот возьмет и не отвяжется и шмыгнет прямо к нему в комнату. Да не мысль свою пошлет ему вдогонку, а сама заявится. Как это у нее получится, Томас не знал, но чувствовал, что Беда на такое способна. И если Беда придет в интернат, начнутся те страсти, которые у Томаса в голове, когда он спит. Начнутся наяву. И никак уже от них не спастись. Томас направился к ванной, но тут его взгляд упал на кровать Дерека. Дерек был мертв. Он лежал на боку. Изуродованное распухшее лицо в синяках. Глаза широко открыты, в них отражается свет из окна и тот свет, что от лампы на тумбочке. Рот разинут, словно в крике. Но Дерек не кричал: все звуки улетучились из него, как воздух из лопнувшего шарика. И вид у него такой, что сразу ясно: больше от него звуков не дождаться. Из него и кровь вытекла, много-много, а в животе торчат ножницы, которыми Томас вырезал картинки для стихов. Томаса по сердцу так и продрало, точно в него тоже всадили ножницы. Но боль не как от острого, а как от горя. Ведь по-настоящему его же ничем не протыкали, а болит от того, что он потерял Дерека. Больно-пребольно: Дерек был его другом, Томас его любил. А еще Томас испугался. Он как-то угадал, что это Беда пробралась в интернат и отняла у Дерека жизнь. И теперь начнется как в кино по телевизору: придут полицейские, скажут, что Дерека убил Томас, и все будут думать на него и станут его ругать. А Томас не виноват. А Беда будет разгуливать по свету как ни в чем не бывало и убивать, убивать. Так она может и до Джулии добраться и сделать с ней то же, что и с Дереком. Боль, страх за себя, страх за Джулию… Томас не выдержал. Он ухватился за ножку кровати, зажмурил глаза и попытался набрать воздуха. Но воздух никак не набирался. Грудь стеснило. С трудом сделав вдох, Томас почуял гадкий-прегадкий запах. Запах крови Дерека. Томаса чуть не стошнило. Надо взять Себя В Руки. Санитары не любят, когда кто-то Выходит Из Себя, они тогда Впрыскивают Ему Лекарство, Чтобы Успокоился. Томас еще ни разу не Выходил Из Себя. И сейчас не хочет. Он попробовал дышать так, чтобы не чувствовать запаха крови: медленно-медленно набирал полную грудь воздуха. И глаза решил открыть: во второй раз увидеть тело уже не страшно. Теперь он не вздрогнет от неожиданности. Он открыл глаза и вздрогнул. Тело исчезло. Томас снова зажмурил глаза, закрыл лицо одной рукой. Потом раздвинул пальцы и украдкой взглянул на кровать. Нет тела. Томас дрожал и дрожал. Так и есть: все как по телевизору в фильмах про гадких мертвецов, которые ходят, как живые. Все гнилые, в червях, кости торчат, а они ходят и зачем-то убивают людей, даже иногда едят. Томасу не хватало храбрости досмотреть эти фильмы до конца, а уж самому попасть в такой фильм тем более не хочется. С перепуга он чуть не протелевизил Бобби: «Берегись мертвецов, вокруг ходят голодные мертвецы, берегись!» Но вдруг сообразил: а крови-то на кровати Дерека нет! Постель даже не смята. Аккуратно заправлена. Что же получается: стоило Томасу закрыть глаза, как мертвец соскочил с кровати, поменял постельное белье и навел порядок? Больно быстро. И тут Томас услышал в ванной шум воды. Душ включен, и Дерек тихонько напевает. Он всегда поет, когда моется. Томас на секунду представил, как мертвец принимает душ. Моется, а вместе с грязью смываются куски гнилого мяса, становятся видны кости, а сток для воды забивается. Ах, вот что! Дерек, значит, не мертвый! И не было на кровати никакого тела. Получается опять как по телевизору: Томасу привиделось. Он, выходит, экстрасенс. Нет, Дерека не убивали. Просто перед Томасом промелькнуло то, что случится с Дереком завтра. Или послезавтра. В общем, скоро. Случится непременно, даже если Томас постарается помешать. Но еще не случилось. Томас отцепился от кровати и заковылял к столу. Ноги не слушались. Только когда сел, вздохнул с облегчением. Открыл верхний ящик шкафа возле стола. Ножницы на месте. Тут же цветные карандаши, ручки, вырезки, скотч, степлер. И половина шоколадки. Хранить в шкафу съестное в открытой обертке не положено, а то Заведутся Тараканы. Томас сунул шоколадку в карман халата. Не забыть потом положить в холодильник. Томас смотрел на ножницы, слушал, как мурлычет под душем Дерек, и представлял, что эти ножницы торчат в животе у Дерека. Воткнулись — и в Дереке совсем-совсем не осталось ни голоса, ни пения, и он тут же попал в Гиблое Место. Томас потрогал ножницы за пластмассовые ручки. Ничего страшного. Потрогал металлические лезвия, а его ка-ак дернет! Как будто молния после грозы спряталась в лезвиях; только Томас протянул руку — она и выпрыгнула. Трескучий белый огонь пронзил все тело. Томас отдернул руку. Пальцы зудели. Он закрыл ящик, поспешно забрался на кровать и завернулся в одеяло, как телевизионные индейцы у телевизионных костров. Душ замолчал. И Дерек тоже. Чуть погодя он вышел из ванной, и оттуда пахнуло мылом и сыростью. Дерек уже оделся. Зачесал назад мокрые волосы. И вовсе он не гнилой мертвец. С ног до головы живой. По крайней мере, что не под одеждой, то — сразу видно — живое. — Доброе утро, — промямлил Дерек и улыбнулся, Рот у него кривой, а язык во весь рот: не поймешь, что говорит. — Доброе утро. — Спал хорошо? — Ага, — ответил Томас. — Скоро завтрак. — Ага. — Может, дадут кексы. — Наверно. — Люблю кексы. — Дерек… — А? — Если вдруг я скажу… Он замялся. Дерек, улыбаясь, ждал. Томас обдумал каждое слово и продолжал: — Если вдруг я скажу: «Беги, идет Беда», ты не стой, как глупый. Беги. Дерек вытаращил глаза, подумал и все с той же улыбкой согласился: — Хорошо. — Обещаешь? — Обещаю. А Беда — это что? — Сам не знаю. Но придет — я почувствую. И скажу тебе. А ты тогда беги. — Куда? — Все равно. В коридор. Найди санитарок. И оставайся с ними. — Ага. Умывайся. Скоро завтрак. Может, дадут кексы. Томас сбросил одеяло, встал, снова сунул ноги в тапочки и пошел в ванную. Только он открыл дверь, Дерек спросил: — Ты про завтрак? Томас обернулся. — А? — Беда будет на завтрак? — Может, и да. — Наверно, это… яйца всмятку, а? — А? — Беда — это яйца всмятку? Не люблю всмятку. Липкие, противные… брр… На завтрак яйца всмятку — беда. Я люблю кукурузные хлопья, бананы, кексы. — Нет, Беда — это не яйца. Это такой человек. Страшный-престрашный. Придет — я почувствую. И скажу. А ты тогда беги. — Хорошо. Беда — человек. Томас вошел в ванную, закрыл дверь. Борода у него растет плохо. Есть электробритва, но он бреется мало — раз в месяц. Сегодня он не брился. А зубы почистил. И пописал. И пустил в душе воду. И только тогда решил засмеяться: уже много времени прошло, Дерек не догадается, что Томас смеется над ним. Яйца всмятку! Томас не любил глядеть на себя в зеркало. Такое плохое, скуластое, глупое лицо. А сейчас в запотевшее зеркало заглянул. Когда-то в незапамятные времена он хихикал над своим отражением, а теперь глядит — вот те на: вроде ничего. Когда смеется, почти совсем нормальный. Притворяться, что смеешься, не помогает — смеяться надо по правде. Улыбка тоже не годится. От нее лицо не очень меняется, как от смеха. От нее иногда лицо даже грустное, что и смотреть не хочется. Яйца всмятку! Томас покачал головой. Отсмеялся и отвернулся от зеркала. Для Дерека самая страшная беда — это когда на завтрак яйца всмятку, а не кексы. Чудно — в смысле «смешно». Рассказать Дереку про ходячих мертвецов, про ножницы, которые торчат в животе, про чудище, которое ест живых зверюшек, — он только уставится на тебя и будет улыбаться и кивать. И ничегошеньки не поймет. Томас всю жизнь хотел быть нормальным и часто благодарил Бога за то, что Он не сделал его таким же глупым, как Дерек. Но сейчас он почти жалел, что не такой глупый. Ему было бы легче выбросить из головы злючие-страшучие экстрасенсорные картинки и забыть, что Дерек должен погибнуть. И что идет Беда. И что Джулии грозит что-то нехорошее. И он бы тогда ни о чем не беспокоился. Кроме одного: чтобы на завтрак не дали яйца всмятку. Но Томас бы и тогда не очень переживал: он-то яйца всмятку любит.Глава 41
Клинт Карагиозис явился в агентство около девяти. Едва он переступил порог, как Бобби положил ему руку на плечо и повел обратно к лифту. — Садись за баранку. По дороге расскажу, что случилось ночью. Я знаю, на тебе еще другие дела, но история Полларда принимает крутой оборот, нельзя терять ни минуты. — Куда ехать? — В лаборатории Паломар. Оттуда звонили. Получены результаты анализов. Небо совсем расчистилось, лишь вдали в сторону гор уплывало несколько пышных облаков — совсем как раздутые паруса громадин-галеонов, отправившихся в плавание на восток. Стоял самый что ни на есть обычный для Южной Калифорнии день — погожий, прозрачный, исполненный ласкового тепла и зелени листвы. А на дорогах постоянно возникали чудовищные пробки, от которых и тишайший водитель неминуемо превращался в лютого человеконенавистника, жаждущего пустить в ход полуавтоматическое оружие. Клинт старательно избегал крупных магистралей, но и на объездных путях оказалась та же картина. Бобби уже успел рассказать обо всех событиях ночи, а до лабораторий оставалось еще минут десять езды. А рассказывал Бобби довольно долго: Клинт постоянно прерывал повествование. Удивление Клинта было сдержанным — на то он и Клинт, и все же новость о том, что Фрэнк, видимо, умеет телепортироваться, даже его поразила. Толковать с таким невозмутимым человеком, как Клинт, о загадках человеческой психики — пустое дело: поневоле сам чувствуешь себя пустобрехом, у которого один ветер в голове. Поэтому, когда машина еле-еле ползла по Бристол-авеню, Бобби решил сменить тему. — А ведь было время, хоть весь округ исколеси — ни одной пробки. — Было время, и не так давно. — Да уж. Когда-то и дом можно было купить без всякой очереди. Это сейчас спрос в пять раз больше, чем предложение. — Ага. — И по всему округу росли апельсиновые рощи. — Помню, помню. Бобби вздохнул — Достукались. Ишь как я разбрюзжался: раньше и то было лучше, и это. Старый хрыч, да и только. Еще немного — и стану вспоминать, как здорово жилось на земле при динозаврах. — Мечты, — заметил Клинт. — У всякого своя мечта. А у многих еще и такая — перебраться в Калифорнию. Вон сколько сюда понаехало, яблоку негде упасть. Из-за этой теснотищи Калифорния уже не похожа на край их мечты. Вернее, мечта, ради которой они сюда едут, уже никогда не сбудется. А может, мечта и должна быть недостижимой или хотя бы трудно достижимой. Что в ней толку, если ее легко осуществить? Бобби ушам своим не верил: кто бы мог подумать, что Клинт способен разразиться таким пространным монологом, да еще на такую отвлеченную тему, как мечта? — Ну сам-то ты уже живешь в Калифорнии. И о чем ты теперь мечтаешь? После некоторого колебания Клинт ответил: — Чтобы Фелина снова могла слышать. Медицина здорово продвинулась. Что ни день — новые открытия, новые методы лечения. Машина свернула с Бристол-авеню на тихую улочку, где находились лаборатории Паломар. «Хорошая у Клинта мечта, — подумал Бобби. — Прямо замечательная. Лучше, чем у нас с Джулией — заработать на спокойную жизнь, забрать Томаса из Сьело-Виста и жить всем вместе, как прежде». Клинт остановил машину возле большого бетонного корпуса лабораторий. Подходя к двери корпуса, он бросил: — Ах да. Приемщица думает, будто я «голубой». Мне так удобнее. — Что? Но Клинт без дальнейших объяснений вошел в приемную. Бобби проследовал за ним и подошел к окошку для посетителей. За барьером он увидел хорошенькую блондинку. — Здравствуйте, Лайза, — сказал Клинт. — Привет. — Девица хлопнула жевательной резинкой. — Агентство «Дакота и Дакота». — Да-да, помню. Анализы готовы. Сейчас принесу. Она оглядела Бобби и улыбнулась. Бобби тоже улыбнулся, хотя любопытный взгляд девицы показался ему немного странным. Приемщица принесла два больших запечатанных конверта из плотной бумаги. На одном значилось: «ОБРАЗЦЫ», на другом — «РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА». Клинт передал второй конверт Бобби, и они отошли от барьера в другой конец приемной Бобби вскрыл конверт, достал бумаги и пробежал глазами. — Кошачья кровь. — Да ну! — Именно так. Когда Фрэнк проснулся в мотеле, он был перепачкан кошачьей кровью. — Я же говорил, что Фрэнк не убийца. — Кошка, вероятно, думает иначе. — А насчет песка что? — Гм… Какие-то непонятные термины… В общем, вывод такой, что мы не ошиблись. Это действительно черный песок. Клинт вернулся к окошку. — Лайза, помните, вы рассказывали про пляж на Гавайях? Вот где черный песок. — Кайму. Местечко — класс. — Да, Кайму. А есть еще такие пляжи? — С черным песком? Нет. Там еще один замечательный пляжик — Пуналуу. И тот и другой — на большом острове. Может, на других островах такие и встречаются. Там ведь вулканов уйма. — При чем тут вулканы? — вмешался Бобби. Лайза вынула изо рта жевательную резинку иположила на клочок бумаги. — Мне говорили, все как раз из-за вулканов. Горячая лава стекает в море, в воде начинает взрываться и разбрасывает много-много крохотных кусочков черного стекла. Потом волны их перемалывают, перемалывают, и получается черный песок. — Выходит, такие пляжи на Гавайях могут оказаться где угодно? — предположил Клинт. Лайза пожала плечами. — Наверно. Клинт, а этот парень — твой… дружок? — Да. — Я хочу сказать, близкий дружок? — Да, — ответил Клинт, не глядя на шефа. Лайза подмигнула Бобби. — Слушай, попроси Клинта свозить тебя на Кайму. Заниматься любовью звездной ночью на черном песке — отпад. Мало того что он мягкий, он еще и не отсвечивает. Обычный песок отражает лунный свет, а этот — нет. Лежишь на нем — будто летишь в темноте. Все ощущения в сто раз сильнее. В общем, сам понимаешь. — Да, звучит заманчиво, — согласился Клинт. — Ну пока, Лайза. Он направился к выходу. Бобби поплелся за ним, но Лайза окликнула его: — Так ты уговори Клинта поехать на Кайму. Ей-богу, не пожалеете. На улице Бобби остановил Клинта. — Эй, а ну-ка объясни, что это значит? — Она же все объяснила. Маленькие кусочки черного стекла… — Я не про то. Ого! Да ты никак улыбаешься? В жизни не видел, чтобы ты улыбался. Ты чего лыбишься, гад такой?!Глава 42
К девяти в агентство пришел Ли Чен. В кабинете, где помещались компьютеры, его уже дожидалась Джулия. Ли Чен откупорил бутылку апельсинового зельцеpa и устроился поудобнее возле своей обожаемой аппаратуры. Это был мужчина среднего роста, поджарый, жилистый, со смуглым, медного оттенка лицом и черными как смоль волосами, которые топорщились, почти как у панка. На нем были красные теннисные туфли и носки, широкие черные спортивные брюки с белым поясом, черная с зеленоватым отливом рубаха, покрытая причудливыми разводами в виде растительного орнамента, а сверху — черный пиджак с узкими лацканами и широкими накладными плечами. В агентстве «Дакота и Дакота» второго такого франта не найти — разве что приемщица Кэсси Хенли, которая что ни день щеголяла в обновке, одна другой моднее. Пока Ли у своих компьютеров попивал зельцер, Джулия рассказала, что происходило в больнице. Показала и распечатки, которые Бобби успел сделать до прихода Ли. Рядом сидел Фрэнк Поллард, Джулия все время держала его в поле зрения. Во время рассказа Ли и бровью не повел, как будто, якшаясь с компьютерами, он набрался такой мудрости и проницательности, что его уже ничем не удивить — даже известием, что кто-то там обладает даром телепортации. Джулия прекрасно знала, что Ли можно доверить любую тайну клиентов: уж кто-кто, а он умеет держать язык за зубами. Она бы хотела узнать еще одно: насколько искренне его непоколебимое безразличие, не надевает ли он по утрам вместе со своей фасонистой одеждой и эту маску невозмутимости. На этот счет у Джулии были сомнения. Зато в том, что Ли — мастак по части компьютеров, она не сомневалась. Когда она закончила свой беглый рассказ. Ли поинтересовался: — И что мне теперь надо делать? Как видно, ему по плечу любая проблема. И Джулия была уверена в этом не меньше самого Ли. Она протянула ему блокнот, где на десяти страницах в две колонки были выписаны номера банкнот. — Мы брали без разбора из обоих пакетов, которые Фрэнк передал нам на хранение. Попробуй-ка установить, не засветились ли эти денежки в связи с какой-нибудь грязной историей. Может, они фигурировали в деле об ограблении, вымогательстве, похищении. Сумеешь? Ли быстро перелистал блокнот. — Близких номеров нет. Придется попотеть. Обычно полиция не регистрирует номера украденных денег. Только совсем новые купюры в нераспечатанных пачках, подобранные номер к номеру. — Те, что в пакетах, видимо, уже давно в обращении. — Остается слабая надежда, что эти деньги действительно, как ты говоришь, побывали в руках вымогателя, который требовал выкуп. Тогда, прежде чем пострадавший передал деньги преступнику, полиция наверняка переписала номера, чтобы тот не сумел отпереться. Шансов мало, но попробовать стоит. Какие еще поручения? — В прошлом году в Гарден-Гроув уничтожили целую семью по фамилии Фаррис. — По моей вине, — вставил Фрэнк. Ли уперся локтями в ручки кресла, наклонился вперед и сцепил вытянутые пальцы. В этой позе он смахивал на умудренного приверженца чань-буддизма, которому в аэропорту по ошибке выдали не его чемодан, и теперь он поневоле расхаживает в стильном облачении художника-авангардиста. — Смерти нет, мистер Поллард. Люди не умирают, но лишь уходят из этого мира. Скорбь есть благо, но чувство вины — суетное чувство. Среди знакомых Джулии было не так уж много компьютерных фанатов, однако какой-никакой опыт общения с ними имелся. Мало кому из них удавалось сочетать интерес к таким земным материям, как наука и техника, с религиозными воззрениями. Ли же привели к вере в Бога работа с компьютерами и увлечение современной физикой. По его мнению, стоит уяснить, что представляет собой лишенное измерений пространство в компьютерной сети, и добавить к этому современные представления о Вселенной — и ты неизбежно убеждаешься в существовании Творца. Как-то Ли попытался растолковать это Джулии, но она ровным счетом ничего не поняла. Она сообщила Ли даты убийств и рассказала обо всех обстоятельствах гибели Фаррисов и Романов. — Мы подозреваем, что в обоих случаях убийства совершил один человек. Как его зовут — ума не приложу. Я зову его мистер Синесветик. Со своими жертвами он расправляется самым зверским образом, поэтому есть подозрение, что на его счету уже много убийств. Если так, значит, убийца орудует не в какой-то одной местности, а на большой территории, или мистер Синесветик так ловко прячет концы в воду, что журналисты не заметили связи между убийствами. — Иначе эта история не сходила бы с первых страниц газет, — добавил Фрэнк. — Дело-то необычное: на телах всех жертв остались следы зубов. — Сейчас компьютерные сети большинства органов полиции связаны друг с другом. Может, управления полиции разных округов и обнаружили то, что проморгали газетчики, — что почерк убийцы один и тот же. Не исключено, что местное управление, полиция штата и федеральные органы втихомолку уже ведут расследование. Вот и надо выяснить, не напала ли калифорнийская полиция — или ФБР — на след мистера Синесветика. Узнать бы, какими сведениями о нем они располагают. Все до последней мелочи. Ли улыбнулся. Среди медной смуглоты сверкнули, как точеные колышки из слоновой кости, два ряда зубов. — В открытых файлах такую информацию не нарыть. Придется проникать в закрытые. Сунуться в компьютерную сеть каждого управления, вплоть до ФБР. — Трудно? — Еще как. Но мне не впервой. Ли подтянул рукава пиджака, хрустнул пальцами и повернулся к компьютеру с видом пианиста, который готовится исполнить концерт Моцарта. Тут он замешкался и взглянул на Джулию. — Я буду подбираться к данным окольным путем, чтобы не засекли. Никаких признаков проникновения не останется, и данные не пострадают. Но учти: если меня все-таки застукают за этим занятием и расколют, у вас отберут патент на сыскную работу. — Возьму вину на себя. Пусть у меня и отбирают. А у Бобби патент останется, так что агентству убытка не будет. Сколько времени тебе понадобится? — Часа четыре-пять. Может, и больше. Гораздо больше. Принеси мне обед сюда, ладно? Не хочу отрываться. — Хорошо. Что тебе принести? — Биг-мак, жареной картошки побольше и молочный коктейль с ванилью. Джулия сморщила нос. — Ты что, светило компьютерное, не слышал, к чему приводит избыток холестерина? — Слышал. А мне плевать. Чего мне бояться холестерина? Раз уж мы все равно не умираем. Просто уйду из этого мира чуть раньше положенного — и все дела.Глава 43
На двери ювелирной лавки, щелкнув, поднялись металлические жалюзи, и владелец лавки Арчер Ван Корвер воззрился на Бобби и Джулию сквозь толстое пуленепробиваемое стекло. Глаза его недоверчиво сузились, хотя Дакоты заранее договорились с ним об этой встрече. Оглядев гостей, он отпер дверь и впустил их в лавку. Ван Корверу было пятьдесят пять лет, однако он, не жалея ни денег, ни времени, пытался сохранить моложавую внешность. Чего только он не делал, чтобы удержать молодость: кожу на лице ему то чистили, что подтягивали, то увлажняли, меняли форму носа и подбородка. Он носил накладные локоны, очень искусно подобранные, — точь-в-точь натуральные волосы, только крашеные. Но Ван Корвер сам же все испортил: вместо того чтобы просто прикрыть залысину, он водрузил на голове такой пышный кок, что его неестественность сразу бросалась в глаза. Если бы Ван Корверу вздумалось забраться в бассейн прямо с этим сооружением на голове, оно торчало бы из воды, как рубка подводной лодки. Хозяин лавки закрыл дверь на два запора и повернулся к Бобби. — Вообще-то я по утрам делами не занимаюсь, — сообщил он. — Все деловые встречи назначаю на вечер. — Мы очень признательны, что вы сделали для нас исключение. Ван Корвер театрально вздохнул. — Итак, чему обязан? — Не могли бы вы оценить один камешек? Ван Корвер недоверчиво прищурил и без того узенькие глазки и стал совсем похож на хорька. Когда лет тридцать назад он поменял имя и фамилию и из Джима Боба Хора превратился в Ван Корвера, друзья шутили, что прежняя фамилия подходила ему куда больше: с этим прищуром он настоящий хорь, а никакой не Ван Корвер. — Оценить камешек? Всего-то? Он провел гостей через небольшую, но шикарно обставленную комнату, где он обычно принимал покупателей. Потолок тут был украшен лепниной, стены отделаны бледной замшей, на светлом дубовом полу в уголке для посетителей — роскошный ковер, в раскраске которого сочетались голубой, темно-желтый и персиковый цвета. Тут же — стильный белый диван, по бокам от него — два столика из мореного дерева. Вокруг третьего стола — четыре изящных плетеных кресла. Круглая стеклянная крышка стола была такой толщины, что и кувалдой не разбить. В витрине слева был выставлен товар. Ван Корвер принимал клиентов, только предварительно условившись о встрече. Ювелирные изделия изготовлялись по заказу и явно предназначались для состоятельных дам, не блиставших тонкостью вкуса, — тех, что платят сотни тысяч долларов за какие-нибудь бусы и щеголяют в них на благотворительном обеде, где каждое блюдо обходится им в тысячу долларов, причем нелепость этой ситуации до них не доходит. Задняя стена комнаты была зеркальной. Проходя через комнату, Ван Корвер с видимым удовольствием разглядывал свое отражение и не отрывался от него до самой двери своего кабинета. «Ишь, залюбовался, — подумал Бобби. — Того и гляди проскочит мимо двери и врежется в зеркало». Он терпеть не мог Джима Боба Ван Корвера, но понимал, что в ювелирном деле самовлюбленный ублюдок толк знает. Бобби познакомился с Ван Корвером еще до того, как сыскное агентство Дакоты обзавелось архитектурным излишеством в виде прибавки к названию: «и Дакота» (хорошо, что эту шуточку не слышит Джулия: юмор она оценит, но за «архитектурное излишество» голову оторвет). Бобби помог Ван Корверу вернуть бриллианты, украденные у ювелира любовницей. Камешки стоили целое состояние, и Джим Боб во что бы то ни стало хотел получить их обратно. Однако из жалости к любовнице, которой за воровство грозила тюрьма, он обратился не в полицию, а к Бобби. На памяти Бобби это был единственный случай, когда у ювелира шевельнулись хоть какие-то человеческие чувства. Но с тех пор много воды утекло, и его душа, как видно, окончательно зачерствела. Бобби извлек из кармана красный камешек с неровными гранями, но самый крупный из всех. Ван Корвер вытаращил глаза. Он тут же сел на высокую табуретку у длинного рабочего стола и принялся разглядывать камешки в лупу. Потом положил под микроскоп с подсветкой и осмотрел под более сильным увеличением. Бобби наблюдал за действиями ювелира, стоя у него за спиной. Клинт пристроился у стола рядом с Ван Корвером. — Ну что? — спросил Бобби. Не удостоив его ответом, ювелир встал, отмахнулся от путавшихся под ногами сыщиков и направился к табуретке у другого конца стола. Там он взвесил камень, затем на других весах сравнил его вес с весом известных ему камней. Наконец он пересел на третью табуретку, перед тисками, и вынул из ящика коробочку, в каких обыкновенно хранят кольца. В коробочке на синем бархате лежали три крупных бриллианта. — Паршивые камни, — бросил Ван Корвер. — А на вид красивые, — удивился Бобби. — Все в трещинах. Он выбрал один и слегка зажал его в тисках. Подцепив пинцетом красный камень, он с усилием царапнул алмазную грань его острым ребром, после чего отложил пинцет, взял лупу, склонился над алмазом и внимательно вгляделся. — Легкая царапина, — сообщил он. — Поцарапать алмаз можно только алмазом. Взяв красный камешек двумя пальцами, он уставился на него как зачарованный. — Где вы его раздобыли? — Этого я вам сказать не могу. Значит, просто алмаз? – «Просто»? Красный алмаз — редчайший из драгоценных камней! Давайте я выставлю его на продажу. Кое-кто из моих клиентов выложит за него сколько хотите. Сделать из него кулон или центральное украшение на колье — с руками оторвут. Для кольца он будет великоват даже после огранки. Вон какая громадина. — Сколько он может стоить? — До огранки сказать трудно. Но уж никак не меньше нескольких миллионов. — Миллионов? — с сомнением переспросил Бобби. — Он, конечно, крупный, но не настолько же. Ван Корвер наконец оторвался от камня и взглянул на Бобби. — Вы не понимаете. Во всем мире известно только семь красных алмазов. Этот восьмой. А после огранки и шлифовки он станет одним из двух крупнейших. Тогда ему буквально цены не будет.* * *
По улице, на которой стояла лавка Ван Корвера, непрерывным потоком шли машины, направляющиеся к Главному Тихоокеанскому шоссе. Ревели моторы, солнечный свет плясал на хроме и стекле. Казалось, на улице царит дискотечное неистовство. Даже не верится, что стоит дойти до конца улицы, обогнуть дома — и ощутишь безмятежный покой ньюпортской гавани, где теснятся красавицы яхты. И вдруг у Бобби точно глаза открылись: до чего же эта улица напоминает всю его жизнь (а может, и не только его)! Шум и кутерьма, блеск и толкотня; всей душой хочешь вырваться из стада, утвердиться на этой земле, выкинуть из головы непрестанные заботы о заработке и таким образом выкроить досуг, чтобы поразмыслить о своем житье-бытье и попробовать обрести покой. И даже не подозреваешь, что желанный покой — в двух шагах от тебя, в дальнем конце улицы. Просто ты его не видишь. После таких мыслей Бобби окончательно уверился, что, взявшись за дело Полларда, угодил в ловушку. Впрочем, вернее бы сравнить это дело с колесом беличьей клетки. Как ни силишься нащупать точку опоры, а пол все уходит из-под ног, хочешь не хочешь, а бежишь все быстрее и быстрее. «Вот влип», — подумал Бобби, стоя у открытой двери автомобиля. И почему он очертя голову кинулся на помощь Фрэнку? Ведь с самого начала было ясно, что дело опасное. Что же побудило Бобби поставить на карту все, чем он дорожит? Убеждая Джулию — да и самого себя, — он кривил душой: жалость к Фрэнку, любопытство, азартное желание взяться за непривычную работу — все это не причины, а скорее предлог. В истинных мотивах своего решения Бобби и сам не мог разобраться. Встревоженный Бобби сел в машину и захлопнул дверь. Клинт завел двигатель. — Бобби, так сколько там в банке красных алмазов? Сотня? — Больше. Пара сотен. Стало быть, все это добро стоит сотни миллионов? — Если не миллиард. А то и больше. Они переглянулись и замолчали. Не потому, что говорить было не о чем. Напротив, сказать надо было так много, что не поймешь, с чего начать. Первым прервал молчание Бобби: — Но превратить их в наличность не удастся. По крайней мере, сразу. Выбрасывать их на рынок придется понемногу, не спеша. На это уйдут долгие годы. Иначе они в два счета обесценятся. Да и шум поднимется — не приведи господи. Пойдут вопросы: как да откуда. Попробуй объясни. — Это ж надо: сотни лет добывают алмазы и за все это время нашли только семь красных. Откуда же у Фрэнка взялась эта чертова уйма? Бобби только пожал плечами. Порывшись в кармане брюк, Клинт вытащил красный алмаз — поменьше того, который Бобби просил оценить Арчера Ван Корвера. — Вот захватил домой показать Фелине. Думал положить на место, когда вернусь на работу, но по твоей милости не успел. Уж теперь я его у себя ни на минуту не оставлю. Бобби взял алмаз и сунул в карман, где лежал первый камешек. — Спасибо, Клинт.* * *
В жизни Бобби не видел места неуютнее, чем кабинет доктора Дайсона Манфреда. Коллекция многолапых жесткокрылых диковинок с мощными жвалами и острыми усиками вызвала у него гадливое отвращение. Такого скверного чувства он не испытывал даже в ту злополучную ночь, когда лежал распластавшись на полу автофургона, а над ним свистели пули, грозившие превратить его в решето. Уголком глаза он то и дело замечал в застекленных ящичках на стенах какое-то шевеление, словно то или иное чудовище норовило выбраться наружу. Но стоило приглядеться повнимательнее — и Бобби убеждался, что страх его напрасен: все кошмарные твари на месте. Наколотые на булавки, они застыли аккуратными рядами и даже не думали шевелиться. Порой Бобби готов был поклясться, что слышит, как в неглубоких ящичках снуют и ползают такие же страшилища, но тут же понимал: да не слышит он никаких шорохов, просто слух шутит с ним такие же шутки, что и зрение. Но каков Клинт! Бобби всегда знал, что Клинт — кремень, однако сейчас вновь дивился его мужеству: смотрит на этих жутких букашек-таракашек и даже бровью не ведет. Такому сотруднику цены нет. Надо сегодня же дать ему приличную прибавку к жалованью. Сам доктор Манфред произвел на Бобби не менее гнетущее впечатление, чем его жуки. Тощий и долговязый энтомолог смахивал на отродье профессионального баскетболиста, спутавшегося с самкой какого-нибудь сучкообразного кузнечика, каких показывают в фильмах о природе Африки; но встречать таких живьем — удовольствие ниже среднего. Манфред отодвинул кресло и замер у стола. Бобби и Клинт тоже подошли к столу и остановились напротив энтомолога. Все трое разглядывали белый эмалированный поднос посредине. Широкий и глубокий поднос был накрыт большим белым полотенцем. — С тех пор как мистер Карагиозис принес этот экземпляр, я глаз не сомкнул, — объявил Манфред. — Должно быть, и сегодня мне предстоит бессонная ночь; так и буду ломать голову над вопросами, которые пока остаются без ответа. За все время своей научной деятельности я еще ни разу не испытывал такого волнения, как при диссекции этого существа. Едва ли эти волшебные минуты когда-нибудь повторятся. Надо же с таким жаром признаваться, что никакие радости жизни — ни тонкие вина, ни изысканные блюда, ни прекрасные закаты, ни любовные утехи — не доставляют тебе столько радости, сколько расчленение какого-то таракана! Бобби едва сдержал тошноту. Чтобы хоть на миг отделаться от тяжелого чувства, навеянного хозяином-жуколюбом, он перевел взгляд на еще одного гостя. Ему было далеко за сорок, и он представлял собой полную противоположность хозяину: Манфред угловат — а у этого пухлое упитанное тело, Манфред бледен — этот розовощек. У незнакомца были медно-золотистые волосы, голубые глаза и веснушки. Он сидел в уголке, положив кулачищи на толстые ляжки, обтянутые серыми брюками для спортивного бега, — ну прямо бостонский ирландец, который старательно набирал вес, чтобы заняться борьбой сумо. Энтомолог не представил молчаливого здоровяка гостям и ни разу к нему не обратился. Бобби решил, что их познакомят позднее, когда Манфред перейдет к делу. А пока лучше не задавать лишних вопросов. Тем более что крепыш посматривает на них с удивлением, опаской, настороженностью и нескрываемым любопытством. Еще неизвестно, что он скажет, когда откроет рот. Судя по взглядам, ничего хорошего. Доктор Манфред протянул к подносу тонкопалую лапку (паук, как есть, паук! Жаль, у Бобби под рукой нет баллончика с инсектицидом) и снял полотенце. На подносе покоились останки найденного Фрэнком насекомого. Голова, две ножки, одна из членистых клешней, и еще какие-то части — Бобби так и не понял какие. Каждый орган лежал на кусочке мягкой ткани — хлопчатобумажной, кажется, — словно драгоценный камень в витрине ювелирного магазина. Бобби уставился на голову величиной со сливу. Знакомые голубые глаза с красноватым отливом и еще другая пара — мутно-желтые, по цвету — совсем как у Дайсона Манфреда. Бобби содрогнулся. Тело жука лежало на спине в самом центре подноса. Брюшко вскрыто, края взреза отогнуты, чтобы можно было рассмотреть внутренние органы. Энтомолог взял узкий скальпель со сверкающим лезвием. Ловкими и точными жестами указывая то на один, то на другой орган, он принялся объяснять, как жук дышит, поглощает и переваривает пищу, испражняется. При этом Манфред не уставал превозносить «высокое искусство», которое отличает строение биологического организма. Насчет искусства Бобби усомнился: что-то не слишком похожи внутренности жука на живопись Матисса. Изнутри он еще омерзительнее, чем снаружи. Вдруг в объяснениях энтомолога промелькнул необычный термин — «полировочная камера». Бобби поинтересовался, что это за камера, но Манфред только отмахнулся: «Дойдем и до этого» — и продолжал рассказ. Когда он закончил, Бобби заметил: — Ну ладно, что у него внутри, мы поняли. Но нас-то интересует другое. Скажем, где он обитает. Манфред сверлил его взглядом и не отвечал. — В тропических лесах Южной Америки? — допытывался Бобби. Манфред смотрел на него бесстрастными янтарными глазами и по-прежнему хранил молчание. — В Африке? — под пристальным взглядом энтомолога Бобби струхнул уже не на шутку. — Мистер Дакота, — наконец произнес Манфред. — Вы интересуетесь какими-то пустяками. Спросите лучше, чем он питается. Знаете чем? Если выразиться попроще, чтобы и дилетанту было понятно, это существо употребляет в пищу самые разнообразные минералы, камни и виды почв. А чем он ис… — Так он землю жрет? — спросил Клинт. — Что ж, можно выразиться и так. Это, правда, не вполне точно, зато доходчиво. Мы пока еще не разобрались, каким образом он измельчает минералы и получает из них энергию. Кое-какие стороны жизнедеятельности его организма нам уже достаточно ясны, но эта остается загадкой. — Я думал, насекомые едят растения или друг друга. Или падаль, — сказал Бобби. — Совершенно справедливо, — согласился энтомолог. — Но это существо — не насекомое. Оно вообще не относится ни к какому классу членистоногих. — А ведь вылитое насекомое. — Бобби покосился на то, что осталось от жука, и невольно скривился. — Нет, не насекомое. Это существо, по всей видимости, прорывает ходы в почве и горных породах и способно переварить куски камня величиной с добрую виноградину. Спросите-ка, что он в таком случае испражняет. А испражняет он, мистер Дакота, алмазы. Бобби вздрогнул, как от удара. Он взглянул на Клинта. Тот был поражен не меньше Бобби. С тех пор как они принялись за дело Полларда, грека точно подменили. Куда девалась его всегдашняя невозмутимость! — Превращает землю в алмазы, так, что ли? — спросил Клинт таким тоном, словно хотел прибавить: «Ври больше». — Нет-нет. Он прогрызает угольные пласты или пласты других пород, содержащих алмазы. Добравшись до алмаза, он заглатывает его вместе с окружающей породой, переваривает ее, а сам алмаз поступает в полировочную камеру, покрытую изнутри сотнями тончайших жестких ворсинок. Ворсинки очищают алмаз от остатков породы. — Манфред скальпелем показал, где это происходит. — Затем алмаз исторгается из задней части тела. Энтомолог выдвинул средний ящик стола, достал сложенный белый платок и развернул. В платке оказалось три красных алмаза — значительно мельче того, который Бобби показывал Ван Корверу. И все же стоили они, судя по всему, немалые деньги: сотни тысяч каждый, а то и миллионы. — Вот что я обнаружил в разных участках пищеварительной системы. На самом крупном местами сохранились остатки черной, серой, бурой корки. Бобби изобразил недоумение: — Какие же это алмазы? Ни разу не видел красных алмазов. — Я тоже. Поэтому я обратился к одному профессору. Он геолог, занимается как раз камнями. Среди ночи поднял его с постели и показал эти камешки. Бобби взглянул на раскормленного ирландца-сумоиста. Тот все так же сидел в углу и молчал. Видно, речь не о нем. Манфред пустился рассказывать о необычайной ценности красных алмазов. Ничего нового он Бобби и Клинту не сообщил, но те сделали вид, что слышат об этом впервые. — Получив эти сведения, я понял, что мои подозрения относительно этого существа подтверждаются. И я отправился прямо к доктору Гэвеноллу, хотя было почти два часа ночи. Он натянул тренировочный костюм, обулся, и мы вернулись сюда. С тех пор работаем не покладая рук и не верим своим глазам. Толстяк наконец поднялся с места и подошел к столу. — Роджер Гэвенолл, — представил его Манфред. — Роджер — генетик, специалист по рекомбинации ДНК[128]. Он широко известен своими новаторскими разработками в области генной микроинженерии, и ваша находка может стать ценным вкладом в эту область. — Виноват, — прервал Бобби. — Из ваших объяснений я понял только одно слово — «Роджер». Все остальное для меня темный лес. Объясните, пожалуйста, как-нибудь подоступнее. Но на помощь коллеге пришел сам доктор Гэвенолл. — Я генетик, работаю с прицелом на будущее, — принялся растолковывать он. Голос у него оказался неожиданно певучий, как у ведущего телевикторины. — В обозримом будущем генная инженерия будет осуществлять преобразования только на микроуровне — создавать новые полезные бактерии, исправлять генетические дефекты для профилактики и лечения наследственных болезней. И все же недалек тот день, когда мы сможем создавать полезные виды животных и насекомых. Наступит эпоха генной макроинженерии. Можно будет вывести прожорливого истребителя комаров, и в тропических районах Флориды уже не придется распылять ядохимикаты. Или представьте себе корову вдвое меньше нынешней: благодаря регуляции обмена веществ ест она меньше, а молока дает вдвое больше. Не посоветовать ли ему объединить оба изобретения? Пусть выведет корову-малютку, которая уплетает только комаров, а молока дает втрое больше. Нет уж, решил Бобби, лучше помалкивать: шуточка наверняка придется ученым мужам не по вкусу. Ох, недаром на него напала охота зубоскалить: так он пытается заглушить потаенный страх, который вызывает у него дело Полларда, приобретающее все более зловещую окраску. — Это существо, — Гэвенолл указал на поднос с расчлененным жуком, — вовсе не творение природы. Это, несомненно, организм искусственного происхождения. Все его органы самым невероятным образом подчинены выполнению определенной задачи. Настоящий биологический автомат. Чистильщик алмазов. С помощью пинцета и скальпеля Дайсон Манфред осторожно перевернул насекомое — или не насекомое — вверх угольно-черным панцирем с красными крапинками по краям. Бобби почудилось, что изо всех углов несутся шорохи. Жаль, сюда не проникает дневной свет: деревянные жалюзи на окнах плотно закрыты. А жукам только того и надо. Лампы, правда, горят, но такой свет им не страшен. Вот возьмут и расползутся из своих ящиков, станут сновать у Бобби по ботинкам, заберутся по носкам в штанины… Нагнувшись, так что отвислый живот заколыхался над столом, Гэвенолл указал на багровый ободок панциря. — Нам с Дайсоном пришла одна и та же мысль. Мы перерисовали эти крапинки и показали одному стажеру с кафедры математики. Он подтвердил, что это, несомненно, бинарный код. — Как универсальный штрих-код на всех товарах в продовольственных магазинах, — пояснил энтомолог. — То есть как бы личный номер жука? — спросил Клинт. — Вот-вот. — Как… гм… как номерной знак автомобиля? — Что-то в этом роде, — согласился Манфред. — Мы еще только собираемся отколоть кусочек этого красного вещества и провести анализ, но уже сейчас можно предположить, что оно окажется каким-то керамическим материалом, который был распылен по краям панциря или нанесен иным способом — Только представьте, — подхватил Гэвенолл, — что где-то усердно добывает алмазы — красные алмазы — целая армия таких существ и у каждого свой серийный номер. По этим номерам их и различает тот, кто их создал и задал им работу. Бобби задумался. В какой же части света могут происходить такие чудеса? Ну нет, на этом свете такое едва ли возможно. — Послушайте, доктор Гэвенолл, раз у вас хватило воображения хотя бы представить себе такое искусственное чудище… — Такого я себе представить не мог, — твердо сказал Гэвенолл. — Тут никакой фантазии не хватит. Я всего-навсего определил, что это такое. Вернее, попытался определить. — Ну хорошо, определили. Нам с Клинтом и это не удалось. Так объясните, кому под силу изготовить такого чертяку. Манфред и Гэвенолл многозначительно переглянулись и промолчали. Молчание затягивалось. Казалось, ученые мужи знают ответ, но предпочитают держать язык за зубами. Наконец, понизив голос, отчего в тоне «телеведущего» зазвучали совсем уж слащавые нотки, Гэвенолл произнес: — Теория и практика генной инженерии еще не достигли такого уровня, чтобы создавать подобные организмы. Мы даже близко не подошли к… к… Даже близко не подошли. — Через сколько же лет наука сможет достичь такого уровня? — полюбопытствовал Бобби. — Это предсказать невозможно. — Ну хоть приблизительно. — Через десятки лет? Сотни? Как тут угадаешь? — Погодите-ка, — не выдержал Клинт. — По-вашему, это существо попало к нам из будущего? На машине времени, что ли? — Или из будущего, или… из другого мира. Бобби во все глаза уставился на жука. Тварь, что и говорить, мерзкая, но теперь Бобби разглядывал ее с большим уважением, чем минуту назад. — И вы полагаете, что это биологический механизм, созданный инопланетянами? Продукт внеземной цивилизации? Манфред беззвучно шевелил губами. Он словно хотел что-то сказать, но от волнения лишился дара речи. — Вот именно, продукт внеземной цивилизации, — подтвердил Гэвенолл. — По-моему, это более правдоподобное объяснение, чем машина времени. Между тем Манфред все разевал рот, тщетно силясь заговорить. Костлявая челюсть двигалась, как у богомола, жующего свою неудобоваримую добычу. Вдруг он единым духом выпалил: — Имейте в виду, этот экземпляр мы не возвратим ни под каким видом. Оставить столь поразительное существо в руках профанов — поступок, недостойный настоящих ученых. Это мы должны его хранить и оберегать! И мы его не отдадим. А попробуйте отнять — придется применить силу. Энтомолог распетушился, костлявое лицо раскраснелось, куда только подевалась нездоровая бледность. — Да-да, применить силу! Стычки Бобби не боялся. Если дойдет до рукопашной, они с Клинтом размажут худосочного тараканщика и его пузатого коллегу по стенке. Но особой нужды в этом пока нет. Да пусть себе нянчатся с потрошеным жуком сколько их душе угодно — надо только сперва обговорить, на каких условиях ученые обнародуют материалы о жуке. Выбраться бы поскорее из этого тараканьего питомника на свежий воздух, на солнышко. Шорох в ящиках ему, конечно, чудится, однако с каждой минутой воображаемая возня все громче, все исступленнее. Как бы совсем не свихнуться от проклятой жукобоязни. Еще немного — и он сорвется, заорет, бросится вон из комнаты. Заметно со стороны, как он психует, или он еще в состоянии владеть собой? И тут же он понял, что поневоле выдал себя: слева по виску сбежала струйка пота. — Давайте начистоту, — предложил Гэвенолл. — Мы хотим сохранить этот экземпляр у себя не только в интересах науки. Благодаря этому открытию мы получим известность в научном мире, не говоря уже о материальной выгоде. Какая-никакая научная репутация у нас имеется, но это открытие сразу позволит нам выдвинуться в ряды корифеев. И мы ни перед чем не остановимся. Его голубые глаза сузились, на открытом лице отразилась непоколебимая решимость. — Я не утверждаю, что пойду на убийство, но и ручаться за себя не могу. Бобби вздохнул. — Знакомая история. По поручению администрации вашего университета мне частенько приходилось копаться в личной жизни потенциальных преподавателей, и я убедился, что среди ученой братии завистники, проходимцы и негодяи не редкость. В этом смысле кое-кто обскакал даже политиков и звезд эстрады. Что же, давайте решим полюбовно. Наше условие — чтобы вы не спешили распространяться об этой находке. Чтобы никакой газетной шумихи вокруг нашего клиента, пока мы не закончим расследование и не удостоверимся, что клиент… вне опасности. — И сколько времени вам понадобится? — спросил Манфред. Бобби пожал плечами. — День-два. Может, неделя. Не больше. Энтомолог и генетик взглянули друг на друга с облегчением. — Такой срок нас устраивает, — согласился Манфред. — Раньше мы и сами не управимся. Надо завершить исследования, подготовить предварительные публикации, обсудить, как лучше преподнести открытие ученым и журналистам. Бобби показалось, будто за его спиной один из ящиков, в котором кишмя кишели насекомые, не выдержал напора, открылся и наружу потоком хлынули гнусные громадные мадагаскарские тараканы. — А вот алмазы я заберу, — предупредил Бобби. — Эти ценные камешки — собственность нашего клиента. Манфред и Гэвенолл немного поартачились и быстро сдались. Клинт завернул камни в носовой платок. Судя по уступчивости ученых, на самом деле они обнаружили не три алмаза, а уж никак не меньше пяти и припрятали парочку, чтобы обосновать свои выводы относительно происхождения и назначения насекомого. — Нам надо будет повидаться с вашим клиентом и задать ему несколько вопросов, — сказал Гэвенолл. — Это уж как он захочет, — возразил Бобби. — Нет, нам непременно надо с ним поговорить. Это очень важно. — Без его согласия ничего не получится. А вы и так добились почти всего, о чем просили. Впрочем, может, он и согласится. И тогда все ваши желания будут выполнены. Со временем. А то где же это видано, чтобы все сразу? Толстяк кивнул. — Справедливо. И все-таки где он нашел этот экземпляр? А ведь ящик-то небось действительно открыт. Бобби так и слышал шуршание хитиновых панцирей: вырвавшись на волю, огромные тараканы подступают все ближе, ближе… — Ну, нам пора, — засуетился он. — У нас срочное дело. И он пулей вылетел из кабинета, словно за ним кто гнался. Даже не обернулся напоследок. Клинт и ученые мужи нагнали его в прихожей. — Не подумайте, что я пописываю сенсационные статейки в журналах, — сказал Манфред, — но что, если это существо действительно продукт внеземной цивилизации? Как вы полагаете, мог ваш клиент попасть… гм… на борт космического корабля? Случалось же, что людей, по их собственным словам, похищали инопланетяне, чтобы подвергнуть исследованиям. Похищенные уверяли, что после освобождения у них тоже наблюдалась… непродолжительная потеря памяти. — Либо психи, либо жулики, — отрезал Гэвенолл. — Не хватало, чтобы наши имена трепали в связи с подобными небылицами. Он сердито сверкнул глазами, но вдруг гнев на его лице сменился тревогой. — Если только это и на сей раз небылицы, а не правда, — пробормотал он. Бобби уже стоял на ступеньках, рад-радешенек, что выбрался из тараканника. — Может, и правда, — сказал он. — Я уже готов верить чему угодно, если не разубедят. Но знаете… мне сдается, что история, в которую попал наш клиент, гораздо удивительнее, чем встреча с инопланетянами. — Гораздо удивительнее, — поддакнул Клинт. И они без дальнейших объяснений направились к «Шевроле» Клинта. Однако Бобби забрался в машину не сразу. Он постоял немного, наслаждаясь легким бризом, долетавшим с холмов. После спертого воздуха в кабинете Манфреда ветерок казался особенно свежим. Сунув руку в карман, Бобби нащупал три алмаза. — Тараканье дерьмо, — буркнул он. Наконец он сел в машину, захлопнул дверь. Но и тут он никак не мог отделаться от ощущения, что по телу кто-то ползает. Прямо хоть запускай руку под рубашку и проверяй. Манфред и Гэвенолл с крыльца наблюдали за посетителями — ожидали, должно быть, что машина встанет на попа и взлетит в небо, навстречу сияющему космическому кораблю-гиганту, как в фильмах Спилберга. Через два квартала Клинт свернул за угол и остановил машину у обочины. — Бобби, если без дураков, где Фрэнк раздобыл этого гада? — А куда он вообще телепортируется? — ответил Бобби вопросом на вопрос. — Его ведь где только не носит. Деньги, красные алмазы, жук, черный песок — все же небось из разных мест, а? И далеко отсюда эти места? Наверно, где-нибудь у черта на куличках. — Да кто же он такой? — Фрэнк Поллард из Эль-Энканто-Хайтс. — Это понятно. — Клинт стукнул кулаком по рулю. — Ты мне объясни, что за птица этот Фрэнк Поллард из Эль-Энканто. — По-моему, ты неточно выразился. Кто он такой — дело десятое. Вопрос в том… что он такое.Глава 44
И вдруг приехал Бобби. Томас и не подозревал, что он приедет. Томас только-только пообедал. И теперь думал про десерт. Не какой он на вкус. А какой он на память. Ванильное мороженое, клубника. Какое от них настроение. Томас был в комнате один. Сидел в кресле. Думал написать стишок про то, какое настроение, когда ешь мороженое и землянику. Не про вкус — про настроение. Не будет мороженого и земляники — он посмотрит на стишок, и настроение вернется. Но картинки с мороженым и земляникой не годятся. Тогда получится не стишок, а просто рассказ, как хорошо на душе от этих вкусностей. Стишок не рассказывает. Он показывает и возвращает настроение. И вдруг открывается дверь и входит Бобби. Томас так обрадовался, что про стишок и думать забыл. Они обнялись. С Бобби пришел еще один человек. Не Джулия. Вот досада. Томас смутился. Давным-давно он уже встречал этого человека, и не раз, а как зовут — забыл. Прямо как глупый. Клинт — вот как. Томас на всякий случай стал повторять про себя: «Клинт, Клинт, Клинт, Клинт». А то встретит еще раз — и опять забудет. — Джулия приехать не смогла, — сказал Бобби. — Нянчится с клиентом. Чудно: раз нянчится, значит, клиент — ребенок, а зачем ребенку сыщики? В кино к сыщикам обращаются только взрослые. А ребенок разве сможет сыщику заплатить? Ведь Бобби и Джулия, как и другие, работают за деньги, а дети не зарабатывают, они маленькие. Откуда же ребенок возьмет деньги, чтобы заплатить Бобби и Джулии? Как бы он их не обманул: они ведь стараются работать хорошо. — Джулия просила передать, что любит тебя даже сильнее, чем вчера, — сказал Бобби. — А завтра будет любить еще сильнее. И они опять обнялись. Это как будто Томас обнимает Джулию. Клинт попросил разрешения посмотреть последний альбом со стихами. Томас разрешил. Клинт с альбомом сел в кресло Дерека. Ничего: Дерек все равно не в кресле, а в комнате для настольных игр. Бобби взял стул, который стоял у стола, и сел возле кресла Томаса. Стали говорить про всякое-разное: какой на улице большой синий день, какие за окном пестрят красивые цветы. Обо всем болтали. Бобби шутил, но, когда говорил про Джулию, менялся в лице. Сразу видно — беспокоится. Говорит про Джулию, а сам, как хороший стишок в картинках, не рассказывает про свои тревоги, а передает настроение. Томас и так тревожился за сестру, а заметил, как озабочен Бобби, и вовсе испугался. — Дельце нам подвернулось хлопотное, — говорил Бобби, — так что в ближайшее время ты нас не жди. Заглянем в выходные или в начале той недели. — Хорошо, — ответил Томас, и его насквозь пробрало холодом. Когда Бобби говорил про это новое дело, из-за которого Джулия нянчится с ребеночком, его слова еще больше напоминали тревожный стишок в картинках. А вдруг в этом деле их и поджидает Беда? Точно! Надо предупредить Бобби, но как ему объяснить? Томас по-всякому примерялся — все равно не выходит, как у самого глупого глупца в интернате. Остается ждать, пока Беда не подступит поближе, а тогда уж протелевизить Бобби грозное предупреждение — напугать, чтобы он был начеку и застрелил Беду, если сунется. Такому предупреждению Бобби поверит: откуда ему знать, что телевизит глупый? А стрелять Бобби умеет. Все сыщики хорошо стреляют. В большом мире много опасностей. Попадаются такие нехорошие люди, которые сами могут в тебя выстрелить. Или наехать на тебя машиной. Или ударить ножом. Или задушить. Или — бывает и такое — сбросить с крыши высокого дома. Или даже выдать твою смерть за самоубийство. Но хорошие люди не всегда же носят оружие, вот сыщикам и приходится их защищать. И стрелять они должны метко. А потом Бобби заспешил. Сказал, что ему надо в одно место. Не в смысле «в уборную», а по делам. Они опять обнялись. Бобби и Клинт ушли, а Томас остался один. Он подошел к окну. День был хороший, лучше, чем ночь. Солнце выгнало темноту из мира, а что осталось, пряталось от солнца под деревьями и за домами. И все же нехорошее тоже было. Беда не ушла из мира вместе с ночью. Она где-то здесь, в этом дне. Прошлой ночью, когда Томас подобрался к Беде близко-близко и она его чуть не схватила, он перепугался и шмыгнул обратно. Он чувствовал, что Беда старается дознаться, кто он, где он. Вот придет в интернат и съест его, как того зверька. Томас уж было решил больше к ней не лезть, держаться в сторонке, а теперь понял: нет, так не пойдет. Надо помочь Джулии и ребеночку. Даже Бобби раньше был спокойный-преспокойный, а теперь боится за Джулию — значит, Томас тем более должен за нее переживать. И за ребеночка тоже, раз Джулия и Бобби с ним нянчатся. Пусть у Томаса с Джулией будут общие заботы. Томас потянулся к Беде. Вот она. Еще далеко. Томас остановился. Страшно. Нет, нельзя бояться, нельзя останавливаться. Вперед. Ради Джулии, ради Бобби, ради маленького. Нужно все время следить за Бедой и вовремя заметить, когда она двинется сюда.Глава 45
В этот вторник Джекки Джекеприехал в агентство только в четыре десять, спустя целый час после возвращения Бобби и Клинта. Еще полчаса он возился с мебелью и освещением, создавая такую обстановку, чтобы сподручнее заниматься своим ремеслом. От этих тягомотных приготовлений Джулия чуть на стенку не полезла. Сперва Джекки объявил, что в кабинете чересчур светло, и задернул шторы, хотя за окном уже сгущались зимние сумерки, а небо над океаном потихоньку заволакивали беспросветные тучи. Потом он принялся мудрить с тремя медными лампами, мощность которых можно было менять по желанию. Перебрав все возможные варианты, Джекки остановился на таком сочетании: одна лампа работала в режиме 70 ватт, другая — 30 ватт, а третью он вообще выключил. Затем он попросил Фрэнка пересесть с дивана на стул, но, подумав, выдвинул на середину кресло, стоявшее у стола Джулии, и посадил Фрэнка в него. Перед креслом поставил полукругом четыре стула. Джулия подозревала, что Джекки прекрасно справился бы со своим делом и при дневном свете, но артист есть артист: даже когда работает не на сцене, душа просит театральных эффектов. В наши дни иллюзионисты чураются пышных сценических имен вроде Великий Блэкуэлл или Гарри Гудини и предпочитают негромкие псевдонимы, похожие на подлинные имена. Но Джекки крепко держался традиций. Настоящее имя Гудини было Эрих Вайсе. Настоящее имя Джекки Джекса — Дэвид Карвер. Более экзотические прозвища не годились, поскольку Карвер исполнял комические трюки. Уже в молодости он бредил сценой ночных клубов Лас-Вегаса. Он выбрал род занятий, который в представлении людей одного с ним круга равнозначен дворянскому достоинству. Его сверстники мечтали стать учителями, врачами, торговцами недвижимостью, автомеханиками, а юный Дэйви Карвер видел себя только Джекки Джексом. Теперь его мечта сбылась. Последнюю неделю Джекки давал представления в Рино. Срок его контракта только что истек, и ему предстояло работать в Лас-Вегасе — открывать выступления Сэмми Дэвиса. Но даже сейчас, во время вынужденного перерыва, он предстал перед Дакотами не в джинсах, не в будничной одежде. Для этого визита он вырядился как перед выступлением: черный выходной костюм с изумрудным кантом на манжетах и лацканах, в тон ему — зеленая рубашка, черные лакированные туфли. Это был невысокий худощавый человек тридцати шести лет, почти обуглившийся от солнечных лучей. Волосы он красил в иссиня-черный цвет, а зубы поражали неестественной, прямо-таки неистовой белизной — чудо, сотворенное стараниями дантистов. Три года назад агентство «Дакота и Дакота» выполняло в Лас-Вегасе задание администрации отеля, с которым у Джекки был долгосрочный контракт. Дакотам пришлось заняться весьма деликатным делом — установить личность шантажиста, который вымогал у фокусника солидную часть его доходов. Дело оказалось непростым и запутанным. Когда оно завершилось, Джулия, к своему удивлению, заметила, что неприязнь, которую она поначалу питала к фокуснику, сменилась почти что симпатией. Почти что. Наконец Джекки опустился на стул напротив Фрэнка. — Джулия, вы с Клинтом садитесь справа от меня, а вы, Бобби, слева. «Какая разница, где сидеть?» — удивилась Джулия, но спорить не стала. Чаще всего выступления Джекки проходили так: он приглашал кого-нибудь из зала на сцену и, загипнотизировав, заставлял откалывать разные коленца на потеху публике. Джекки прекрасно владел техникой гипноза, глубоко изучил деятельность мозга человека, находящегося в состоянии транса, и его частенько приглашали на конференции терапевтов, психологов и психиатров, где речь шла о путях практического использования гипноза. Для того чтобы вернуть Фрэнку память под гипнозом, Дакоты могли бы обратиться и к психиатру, и все же ни один врач не справится с этой задачей так же виртуозно, как Джекки Джеке. Была на то еще одна причина. Что бы ни рассказал Фрэнк под гипнозом, Джекки будет молчать как рыба. Он в неоплатном долгу у Бобби и Джулии, а Джекки хоть и не святой, но долги отдавал исправно и не так быстро забывал оказанные ему услуги. В мире шоу-бизнеса, где каждый только о себе и думает, такие люди встречаются нечасто. Полоска дневного света между штор быстро угасала, две бронзовые лампы озаряли комнату унылым янтарным сиянием. Джеке говорил негромко, его бархатный, хорошо поставленный голос плавно переливался и иногда начинал дрожать театральной дрожью. Фрэнк, да и все остальные слушали его с замиранием сердца. Джекки достал золотую цепочку, на которой болтался граненый хрусталик в форме капли, и велел Фрэнку сосредоточить внимание на этой светящейся точке. Остальным он посоветовал смотреть на Фрэнка, иначе они тоже рискуют впасть в транс. — Теперь внимательно следи, как мерцает свет в этом хрусталике. Мягкий, ласковый свет. Видишь, как переливается — от грани к грани, от грани к грани. Теплый, приятный свет. Теплый, трепещущий… Даже у Джулии от этих размеренных заклинаний слегка закружилась голова. Взгляд Фрэнка остекленел. За спиной Джулии Клинт включил магнитофон, на котором вчера записывал рассказ Фрэнка. Держа цепочку двумя пальцами, Джекки легонько покачивал ее, отчего хрусталик на конце совершал круговые движения. — Хорошо, Фрэнк. Вот ты расслабляешься, полностью расслабляешься. Ты слышишь только мой голос, только мой, отвечаешь только на мои вопросы, только намой… Когда Джекки убедился, что Фрэнк уже пребывает в глубоком трансе, он дал ему последние указания, убрал хрусталик и велел закрыть глаза. Фрэнк повиновался. — Как тебя зовут? — спросил Джекки. — Фрэнк Поллард. — Где ты живешь? — Не знаю. В телефонном разговоре Джулия уже сообщила Джекки, какие сведения они хотят получить от клиента. Поэтому Джекки спросил: — Ты жил когда-нибудь в Эль-Энканто-Хайтс? После некоторого колебания Фрэнк ответил: — Да. Голос его звучал до жути безучастно, изможденное лицо покрывала смертельная бледность. Он походил на вырытого из могилы покойника, которого оживили колдовскими чарами, чтобы сделать посредником между живыми и обитателями того света на спиритическом сеансе. — Ты помнишь свой адрес в Эль-Энканто? — Нет. — Ты жил по адресу Пасифик-Хилл-роуд, дом 1458? По лицу Фрэнка скользнула тень. — Да… Это… Бобби узнал… Через компьютер. — А сам ты помнишь этот дом? — Нет. Джекки поправил часы на запястье и обеими руками пригладил густые черные волосы. — Когда ты жил в Эль-Энканто, Фрэнк? — Не знаю. — Ты должен говорить правду. Обмануть меня или скрыть правду ты не сможешь. В таком состоянии не получится. Когда ты жил в Эль-Энканто? — Не знаю. — Ты жил там один? — Не знаю. — Ты помнишь прошлую ночь в больнице? — Да. — Ты тогда… исчез? — Говорят. — И куда ты перенесся? — Я… я боюсь. — Чего? — Я… я не знаю. Думать не могу. — Помнишь, как в прошлый четверг ты проснулся в машине в Лагуна-Бич? — Да. — В руках у тебя был черный песок. — Да. — Фрэнк вытер ладони о брюки, словно на потных ладонях еще оставались черные песчинки. — Где ты его набрал? — Не знаю. — Не спеши. Подумай. — Не знаю. — Потом ты поселился в мотеле, верно? Помнишь, как в тот вечер ты проснулся весь в крови? — Помню. — Фрэнк содрогнулся. — Откуда эта кровь? — Не знаю, — убито проговорил Фрэнк. — Это была кошачья кровь. Это ты знал? — Нет, — сомкнутые веки Фрэнка задрожали, но глаза не открылись. — Просто кошка? Правда? — Вспомни, не видел ли ты в тот день какую-нибудь кошку? Помнишь? — Нет. Видно, если не применить радикальные средства, толку от расспросов не будет. Шаг за шагом Джекки принялся воскрешать в памяти Фрэнка все более и более ранние события — от прошлого вечера, когда Фрэнк ложился в больницу, до того четверга, когда, очнувшись под утро в переулке Анахейма, он обнаружил, что ничего, кроме своего имени, не помнит. Это событие было последним рубежом; сумей Фрэнк двинуться вспять еще на несколько шагов — и, возможно, загадка его прошлого будет раскрыта. Джулия слегка подалась вперед и взглянула на Бобби, который сидел по другую сторону от Джекки Джекса. Интересно, как ему нравится это зрелище. Крутящийся хрусталик, всякие фокусы-покусы наверняка должны прийтись ему по вкусу — при его-то мальчишеской тяге к приключениям. Небось так и сияет. Ничуть не бывало. Бобби хмурился. Он крепко стиснул зубы, на скулах ходили желваки. Джулия уже знала, какой удивительной новостью огорошил его сегодня Дайсон Манфред, она и сама была поражена не меньше мужа и Клинта. Но не это его сейчас тревожит. Может, он никак не оправится от встречи с жуками в кабинете энтомолога? Или ему по-прежнему не дает покоя кошмар, который приснился на прошлой неделе: «Идет беда, идет беда…»! Джулия тогда не придала сну никакого значения. Но не поспешила ли она от него отмахнуться? Что, если сон в руку? С тех пор как они связались с Фрэнком, загадочные события следуют одно за другим. Долго ли поверить в видения, предзнаменования, вещие сны? «Идет беда, идет беда…» А Беда — это часом не мистер Синесветик? Между тем Джекки расспрашивал Фрэнка о происшествии в переулке. Он подвел его к тому самому мигу, когда Фрэнк пришел в чувство и растерянно озирался вокруг. — Вернись немного назад, Фрэнк, всего на несколько секунд назад. Еще, еще. Сквозь темноту в сознании, сквозь стену мрака… С самого начала сеанса Фрэнк словно таял на глазах — точь-в-точь восковая фигурка над пламенем. Таял и бледнел, хотя лицо его и так уже заливала парафиновая бледность. Но, когда Джекки велел ему пробиться к свету памяти, сиявшему по ту сторону темной преграды, Фрэнк выпрямился в кресле и вцепился в подлокотники, да так, что виниловая обивка на них чуть не лопнула. Он будто бы вновь вырос до прежних размеров, как Алиса в стране чудес, выпившая волшебный эликсир. — Где ты теперь оказался? — спросил Джекки. Опущенные веки Фрэнка опять затрепетали. Он издал неясный сдавленный звук: — Э… э… — Где ты? — мягко, но настойчиво добивался Джекки. — Светлячки, — выговорил Фрэнк дрожащим голосом. — Ветер и светлячки. Он задышал часто-часто, будто никак не мог отдышаться. — Что ты имеешь в виду, Фрэнк? — Светлячки… — Где ты, Фрэнк? — Везде. Нигде. — В Южной Калифорнии светлячки не водятся. Ты, наверно, где-то далеко отсюда… Подумай. Оглядись. А теперь ответь: где ты? — Нигде. Джекки не отступал. Он снова попросил Фрэнка описать, что тот видит вокруг, что за светлячки перед ним мелькают, но ответа не получил. — Пусть он вернется еще немного назад, — предложил Бобби. Джулия взглянула на магнитофон в руке Клинта. Катушки в пластмассовом окошке вращались и вращались. Джекки снова принялся понуждать Фрэнка погрузиться в прошлое. Звучный голос мерно журчал, переливался, завораживал. Вдруг Фрэнк выпалил: — Зачем я здесь? «Здесь» явно относилось не к агентству «Дакота и Дакота», а к какому-то месту, куда он попал в своих гипнотических странствованиях. — Зачем? — Где ты, Фрэнк? — Дома. Какого черта я сюда вернулся? С ума я, что ли, сошел? От этого дома надо бежать без оглядки! — Чей это дом, Фрэнк? — спросил Бобби. Фрэнк не ответил: ему было ведено отвечать только на вопросы гипнотизера. Джекки задал тот же вопрос. — Ее дом, ее, — выдохнул Фрэнк. — Уже семь лет, как она умерла, а дом все равно ее. Тут все так и останется, как при ней. Эту чертовку отсюда так просто не выживешь. Бороться с этой нечистью — пустое дело. Все равно что-нибудь да останется. В комнате, где она жила, в вещах, которые она трогала. — Кто она? — Мать. — Твоя мать? Как ее зовут? — Розелль. Розелль Поллард. — Ты в доме на Пасифик-Хилл-роуд? — Да. Боже ты мой, что задом! Гиблое место, нехорошее место. Неужели никто не видит, какая нежить тут обитает? — Фрэнк плакал. Слезы блестели в глазах, текли по щекам, голос дрожал от боли. — Неужели незаметно, кто здесь притаился, что за чудовища тут плодятся, какое это гиблое место? Ослепли все, что ли? Или просто не хотят видеть? Страдальческий голос Фрэнка поразил Джулию до глубины души. На его искаженном болью лице застыло то же выражение, что у потерявшегося, испуганного ребенка. Джулия с трудом отвела от него взгляд и повернулась к Бобби: обратил ли он внимание на слова «гиблое место»? Как видно, обратил. Бобби тоже смотрел на жену, и в голубых глазах его читалась тревога. Из приемной в кабинет вошел Ли Чен с пачкой распечаток. Он тихо прикрыл за собой дверь. Джулия приложила палец к губам и указала ему на диван. Тем временем Джекки спокойным голосом уговаривал Фрэнка отбросить все страхи. Внезапно Фрэнк издал пронзительный крик — нечеловеческий крик, больше похожий на вой затравленного зверя. Он совсем выпрямился в кресле и дрожал всем телом. Глаза его были открыты, однако он еще не очнулся от транса, и мысленный взор его по-прежнему блуждал где-то за пределами кабинета. — Господи, он идет сюда! Идет! Наверно, близнецы ему сказали, что я здесь. Идет! Идет! Глухой, безудержный страх Фрэнка передался Джулии, сердце ее учащенно забилось, ей не хватало воздуха. Сеанс грозил закончиться неудачей, и Джекки принялся увещевать клиента: — Спокойно, Фрэнк. Успокойся, расслабься. Никто тебе вреда не причинит. Ничего страшного. Спокойно, спокойно. Фрэнк замотал головой. — Нет! Он идет сюда! Правда идет! Я пропал. Какого черта я сюда вернулся! Надо же было так подставиться! — Расслабься… — Вот он! — Фрэнк попытался вскочить, но силы оставили его, и он только крепче впился в обтянутые винилом подлокотники. — Вот он! Прямо на меня смотрит! — Кто он? — не выдержал Бобби. Джекки повторил вопрос. — Золт! Это Золт! Джекки переспросил еще раз. — Да Золт же! — Это у него имя такое? — Он меня заметил! — Сейчас ты расслабишься, — властным и решительным тоном произнес Джекки. — Расслабишься и успокоишься — Бесполезно. Возбуждение Фрэнка росло. — Что-то я с ним никак не совладаю, — озабоченно признался Джекки. — Придется разгипнотизировать. Бобби сполз на самый краешек стула. — Не сейчас, — взмолился он. — Чуть попозже. Спросите про Золта. Кто он такой? Джекки повторил вопрос Бобби. — Смерть. Джекки нахмурился. — Это не ответ, Фрэнк. — Смерть во плоти. Живая смерть-Это мой брат, ее сын, ее любимчик, ее отродье. Ненавижу! По мою душу пришел. Вот он! И Фрэнк с жалобным мычанием снова попытался встать с кресла. Джекки велел ему оставаться на месте. Фрэнк нехотя подчинился, но страх терзал его все сильнее: ему мерещилось, что Золт уже рядом. Как ни старался Джекки перенести Фрэнка в более близкое время или вывести его из транса — ничего не получалось. Фрэнк исступленно твердил: — Надо удирать. Скорее, скорее, скорее… У Джулии сердце разрывалось. Жалкий, беззащитный Фрэнк совсем взмок от пота и дрожал как в лихорадке. Волосы лезли в глаза, но кошмарный образ из прошлого был виден ему со всей отчетливостью. Он по-прежнему сжимал подлокотники с такой силой, что ногтем продрал-таки на правом виниловую обивку — Надо удирать, — упрямо твердил он. Джекки запретил ему двигаться с места. — Нет-нет, от него надо удирать! — Такого со мной еще никогда не случалось, — удивился Джекки. — Не слушается — и все тут. Господи, ну и видок у него. Как бы его кондрашка не хватил. — Да помогите же ему, Джекки! — зарычал Бобби. Он бросился к Фрэнку, присел на корточки и положил ладонь ему на руку, как бы желая его успокоить. — Бобби, осторожнее! — Клинт вскочил так стремительно, что не успел удержать магнитофон, стоявший у него на колене. Бобби даже не обернулся. Сейчас он был занят только Фрэнком. Беднягу била неудержимая дрожь — того и гляди рассыплется на части прямо у них на глазах. Ни дать ни взять — паровой котел, у которого заклинило предохранительный клапан. Только сотрясает его не давление пара, а неописуемый ужас. Раз Джекки не в силах ему помочь, за дело возьмется Бобби. Джулия не сразу сообразила, что это вдруг нашло на Клинта. Но от чего засуетился Бобби, она поняла: он заметил то, что проглядели остальные, — рука Фрэнка кровоточила. Бобби вовсе не поглаживал его по руке, а осторожно-осторожно старался разжать его пальцы. Видно, продрав обивку, Фрэнк порезался о металлический каркас или заклепку, и притом несколько раз. — Идет! Надо бежать! — Фрэнк отпустил подлокотники, схватил Бобби за руку и вскочил с кресла. Бобби поневоле тоже пришлось подняться. Только тут Джулия догадалась, почему всполошился Клинт. Опрокинув стул, она рванулась к мужу. — Бобби! Стой! Изверг-брат был уже совсем рядом. Обезумев от ужаса, Фрэнк зашелся криком. В тот же миг раздался свист, будто из котла паровоза вырвалась струя пара, и Фрэнк как сквозь землю провалился. А с ним и Бобби.Глава 46
Ветер и светлячки. Бобби со всех сторон окружала пустота. Он не мог понять, сидит он, лежит или стоит. Может, вообще перевернулся вниз головой? Скорее всего он как пушинка плавает в безграничном пространстве. Ни запахов, ни вкуса он не ощущал. Слух не улавливал ни единого звука. Жар, холод, вес собственного тела — ничего этого Бобби не чувствовал. Не к чему было даже прикоснуться. Перед глазами стояла лишь необъятная чернота — от края до края Вселенной. И в этом глухом мраке вокруг Бобби мельтешили несчетные миллионы крохотных светлячков, недолговечных, будто искры. Перед глазами… да глазами ли он их видит? Лучше сказать, не видит, а… угадывает их присутствие, воспринимает не обычными органами чувств, а каким-то внутренним зрением. Поначалу Бобби перепугался. Он было решил, что его разбил паралич, потому-то он и лишился осязания, оглох и ослеп. Наверно, сильное кровоизлияние в мозг. И теперь он полностью отрезан от окружающего мира, а поврежденный мозг стал его темницей, в которой он обречен прозябать до конца дней своих. Но вскоре он понял, что летит — не проплывает сквозь мрак, как ему показалось вначале, а мчится с неимоверной, ужасающей скоростью. Его несло мощным потоком, он чувствовал себя пылинкой, которую затягивает неслыханный, поистине космической силы пылесос. А вокруг кишмя кишели яркие светлячки. Дух захватывает, прямо как на аттракционе в парке — гигантском сверхскоростном аттракционе, какой человеку соорудить не под силу. Не иначе его создал себе на забаву сам Господь Бог. Но Бобби этот полет вовсе не забавлял: он мчался в бездонной тьме, и в груди у него закипал крик. Толчок. Бобби приземлился на ноги, покачнулся и чуть не сбил стоявшего позади Фрэнка, который все так же крепко, до боли сжимал его руку. Они очутились в лесу. Бобби задыхался. Грудь ныла, легкие точно ссохлись. Он сделал глубокий вдох и с шумом выдохнул. Потом еще раз. Ба, да у него на руках кровь! Как и у Фрэнка. Порванная обивка. Джекки Джеке. Вспомнил! Бобби дернул было руку, но Фрэнк не отпускал. — Не здесь. Ненадежное место. Слишком опасно. Чего это меня сюда принесло? Бобби осмотрелся. Куда ни глянь — дремучий зимний лес. Смеркалось. Колючие лапы высоких сосен сгибались под тяжестью снега. В неподвижном воздухе стоял аромат хвои. Лес как лес — чего тут опасного? Между тем Фрэнк не отрываясь смотрел куда-то за спину Бобби. Бобби обернулся. Лес позади него кончался, дальше поднимался заснеженный склон. Наверху виднелась бревенчатая хижина. Не какой-нибудь невзрачный домишко, а ладное, основательное жилище, к которому явно приложил руку хороший архитектор. Для человека со средствами, мечтающего отдохнуть на природе, более подходящего дома не найти. Крыша и навес над крыльцом были занесены снегом, по всем карнизам поблескивали в холодных лучах заката острые сосульки. Свет в окнах не горел, не струился дымок из трубы. По всему видать — в доме ни души. — Про эту хижину он уже знает, — дрожащим голосом сказал Фрэнк. — Я ее купил на чужое имя, а он все равно пронюхал и как-то раз явился сюда. Я чудом уцелел. Нет, сюда он наверняка наведывается — проверяет, не вернусь ли. Как же так? Неужели они прямо из агентства перенеслись на склоны Сьерра-Невады или еще каких гор? Бобби обдало холодом. Кое-как совладав с собой, он выдавил: — Фрэнк, что… Мрак. Светлячки. Полет. Бобби кубарем скатился на пол и наткнулся на журнальный столик. Фрэнк отпустил его руку. Столик с грохотом опрокинулся на дубовый пол, упала ваза, посыпались какие-то хрупкие безделушки. Бобби здорово ударился головой. Он встал на колени и попытался подняться, но не сумел: перед глазами все плыло. Фрэнк был уже на ногах и, тяжело дыша, озирался. — Мы в Сан-Диего. В этой квартире я когда-то жил. Но он и про нее узнал. Пришлось удирать. Он протянул руку — другую, не пораненную — и помог Бобби подняться. Бобби машинально повиновался. — Тут, оказывается, живут, — заметил Фрэнк. — Нам повезло: хозяева, видать, на работе. Мрак. Светлячки. Полет. Теперь Бобби стоял перед ржавой железной калиткой между каменными столбами. За ней он увидел викторианский особняк с террасой, крыша которой заметно провисла. Ступеньки перед входом прогнулись, у перил не хватало перекладин. К дому вела растрескавшаяся неровная дорожка из цемента. Нестриженая лужайка заросла бурьяном. Именно такие дома фантазия детей населяет привидениями. Может, у него только в сумерках такой жуткий вид? Да нет, похоже, при дневном свете он выглядит еще кошмарнее. — Нет, только не здесь! — встрепенулся Фрэнк. Мрак. Светлячки. Полет. С тяжелого письменного стола из красного дерева точно ветром сдуло кипу бумаг и разметало их по комнате. Бобби и Фрэнк очутились в кабинете с двустворчатыми окнами до пола и множеством книжных полок. Навстречу им из глубокого кожаного кресла поднялся старик в серых фланелевых брюках, белой рубашке и синем джемпере. Он с изумлением воззрился на пришельцев. Фрэнк протянул к нему свободную руку. — Доктор… — начал он. Мрак. Бобби уже догадался, что за беспросветная, глухая темень окружает его во время телепортации. В этот миг его тело рассыпается на мельчайшие частицы и ему просто нечем видеть, слышать, осязать. Догадаться-то он догадался, но смелости ему эта догадка не прибавила. Светлячки. Вероятно, миллионы ярких мятущихся точек и есть не что иное, как атомы, из которых состоит его тело. При телепортации их удерживает вместе лишь усилие воли Фрэнка. Полет. Телепортация совершалась мгновенно, между распадом и восстановлением проходили ничтожные доли секунды, однако для Бобби этот промежуток тянулся дольше. Вновь перед ними обветшавший особняк. Кажется, эта местность лежит где-то к северу от Санта-Барбары. Участок, на котором стоял дом, располагался ниже по склону холма, Бобби и Фрэнк смотрели на него поверх миртовой изгороди. Поняв, куда они попали, Фрэнк негромко вскрикнул. Бобби сообразил, что встреча с Золтом и ему не сулит ничего хорошего. Но ведь и Фрэнк со своей телепортацией не подарок. Мрак. Светлячки. Полет. В отличие от прежних материализации (если не считать неуклюжего приземления в Сан-Диего), на сей раз Бобби едва устоял на ногах. Он по инерции сделал несколько шагов вниз по склону, однако Фрэнк держал его мертвой хваткой, словно они скованы наручниками. Оба упали на колени на мягкую, тщательно выстриженную траву. Бобби отчаянно дернул руку, силясь освободиться, — не тут-то было. Из железных пальцев Фрэнка не вырваться. Оглядевшись, Бобби увидел, что они попали на безлюдное кладбище. Над ними в лилово-сизом сумраке нависли огромные коралловые деревья и пальмы. Фрэнк указал на могильный камень неподалеку. — Там лежит наш сосед. С трудом переводя дыхание, не в силах вымолвить ни слова, тщетно выдираясь из цепкой пятерни Фрэнка, Бобби взглянул на гранитную плиту и прочел: «Норберт Джеймс Колрин». — Это она его погубила, — сказал Фрэнк. — Она велела своему распрекрасному Золту убить его. Он, видите ли, ей нагрубил. Нагрубил! У-у, стерва. Мрак. Светлячки. Полет. И снова кабинет, забитый книгами. Теперь старик стоял в дверях. Бобби еще не опамятовался от телепортации. Ему казалось, будто он только что мчался по спиральному скоростному спуску, переворачиваясь вверх тормашками. Полет длился целую вечность, и Бобби уже не соображал, он ли движется или мир вокруг него летит и кувыркается. — Напрасно я к вам заскочил, доктор Фогарти, — беспокойно произнес Фрэнк. Из раны на его руке на светло-зеленый участок китайского ковра капала кровь. — Если возле дома я попался на глаза Золту, он уже не отстанет. Не хватало, чтобы он явился к вам. Фрэнк, погодите… — начал было Фогарти. Мрак. Светлячки. Полет. Они перенеслись во двор обветшалого особняка, к заднему крыльцу — такому же перекошенному и дряхлому, как и терраса. На первом этаже горел свет. — К этому дому и близко подходить нельзя, — задрожал Фрэнк. — Скорее прочь отсюда. Бобби напрягся, приготовился к телепортации. Ничего не произошло. — Прочь отсюда, — повторил Фрэнк. И опять ничего. Фрэнк раздраженно выругался. Тут дверь дома отворилась и на крыльцо вышла женщина. Завидев непрошеных гостей, она остановилась как вкопанная. В густевшем лиловом сумраке разглядеть ее лицо было трудно, зато силуэт в лучах яркого света, падавшего из кухни, вырисовывался отчетливо. То ли из-за необычного освещения, то ли из-за облегавшей одежды тело незнакомки казалось Бобби на редкость чувственным: воздушное, хрупкое и в то же время исполненное цветущей женственности. Это призрачное тело, едва скрытое легким одеянием, а может, и вовсе ничем не прикрытое, словно клубилось из мрака. Не тело, а немой, понятный без слов призыв, сродни сладострастным зовам сирен, заслушавшись которых мореплаватели направляли свои суда на грозящие гибелью подводные камни. — Моя сестра Лилли, — с ужасом и отвращением пробормотал Фрэнк. У ног женщины замелькали тени. Они скатились по ступенькам, выплеснулись на лужайку, и Бобби увидел, что это кошки. В сумраке их глаза горели огнем. Тут уж сам Бобби изо всех сил вцепился в руку Фрэнка. Теперь он не боялся стальной хватки Фрэнка, а, наоборот, видел в ней единственное спасение. — Фрэнк, удираем. — Не могу. Ничего не получается. Кошки прибывали. Десять. Двадцать. Еще и еще. Соскочив со ступенек, они молча припустились по нестриженой лужайке в сторону пришельцев. И вдруг в один голос завизжали — злобно, хищно. От этого голодного визга тошнотное отвращение Бобби мгновенно сменилось ужасом. — Фрэнк! Надо же было оставить револьвер на работе, на столе у Джулии. Да что уж там, все равно револьвером этих зубастых тварей не остановишь. Одну-двух уложить еще можно, но всю стаю… Бежавшая впереди кошка прыгнула на пришельцев.* * *
Джулия стояла у своего кресла, выдвинутого перед сеансом гипноза на середину кабинета. Она не находила в себе сил сойти с этого места: здесь она в последний раз видела Бобби, здесь она была как бы ближе к нему. — Сколько времени прошло? Стоявший рядом Клинт взглянул на часы. — Меньше шести минут. Джекки Джеке пошел умыться холодной водой. Ли Чен по-прежнему сидел на диване и следил за происходящим широко открытыми глазами. Куда только девалась его буддийская невозмутимость! С самого исчезновения Бобби и Фрэнка он не мог прийти в себя. Пачку распечаток он сжимал обеими руками, словно боялся, что и они растворятся в воздухе. От страха у Джулии кружилась голова, однако она твердо решила сохранять самообладание, что бы ни произошло. Пускай она и не может помочь Бобби, такая возможность может появиться каждую минуту. Надо быть начеку и держать себя в руках. — Вчера Хэл рассказывал, что в первый раз Фрэнк исчез на восемнадцать минут. Клинт кивнул. — Стало быть, нам остается ждать минут двенадцать. — Да, но во второй раз он отсутствовал несколько часов, — возразила Джулия. — Послушай, ну не появятся они через двенадцать минут, через час, через три — что с того? Раз на раз не приходится. Уж будто это непременно значит, что с Бобби стряслась беда. — Знаю. Мне не дает покоя… эта перекладина от кровати, будь она неладна. Клинт промолчал. Тщетно стараясь унять дрожь в голосе, Джулия продолжала: — Ведь обратно Фрэнк ее так и не принес. Что с ней могло случиться? — Бобби он не бросит, — твердо сказал Клинт. — Ни за что не бросит… куда бы их ни занесло. «Дай бог», — подумала Джулия.* * *
Мрак. Светлячки. Полет. И сразу же на Бобби и Фрэнка обрушились потоки теплого проливного дождя, словно они материализовались прямо под водопадом. Мокрая одежда мгновенно прилипла к телу. Во влажной духоте ни ветерка: наверно, от яростно бушевавшего ливня ветер угасал, как пламя костра. Как видно, Бобби и Фрэнк перенеслись очень далеко: сумерки тут еще не наступали, однако солнце заволакивала серо-стальная хмурь. Бобби и Фрэнк лежали на боку лицом друг к другу. Со стороны могло показаться, что это два собутыльника вздумали в баре заняться ручной борьбой, да так и повалились на пол — лежат и никак не расцепятся. Вот только лежали они не на полу бара, а утопали в густой тропической зелени: папоротники, темно-зеленые растения с упругими зубчатыми листьями, мясистые, стелющиеся по земле стебли — у этих листья были пухлые, а из-под них выглядывали плоды цвета мандариновой мякоти. Бобби отодвинулся от Фрэнка. На этот раз Фрэнк выпустил его руку без сопротивления. Бобби кое-как поднялся на ноги и начал продираться сквозь мокрые, цепкие, непролазные заросли. Он брел, сам не зная куда. Куда угодно — лишь бы подальше от Фрэнка. С ним того и гляди попадешь в беду. Бобби и от нынешних-то приключений еще не опамятовался. Надо сперва разобраться, что к чему, привыкнуть к новой обстановке. Пройдя совсем немного, он выбрался из зарослей. Перед ним раскинулась темная пустошь, но разглядеть ее как следует Бобби не удавалось: вода лилась не каплями, не ручьями, а сплошным ревущим потоком, перед глазами колыхалась серебристо-серая пелена. А тут еще мокрые волосы лезут в глаза. Любоваться этим зрелищем из окна, сидя в уютной сухой комнате, — оно бы еще ничего, но оказаться в такую непогоду без крыши над головой — хуже некуда. Черт бы его взял, этот адский ливень. Сущий потоп. Так и лупит по листьям, по земле — Бобби чуть не оглох от невообразимого грохота. Ливень не только выматывал силы, он будил в Бобби дикую, необъяснимую ярость: струи дождя уже представлялись ему смачными, липкими плевками, которыми осыпает его ревущая толпа, а в неистовом шуме дождя слышался гомон тысяч голосов, брань, оскорбления. С трудом переставляя ноги, Бобби брел по необычайно рыхлой почве — не вязкой, а именно рыхлой — и мечтал встретить хоть одного прохожего, чтобы было на ком отвести душу. Наорать, толкнуть, а может, и врезать как следует. Еще шесть или восемь шагов — и Бобби различил впереди бурлящие морские волны с шапками белой пены. Только тут он сообразил, что стоит на берегу, а под ногами у него черный песок. Бобби остолбенел. — Фрэнк! — крикнул он и обернулся. Фрэнк плелся чуть позади, по-стариковски сгорбившись, словно его скрючило от сырости или пригнуло к земле мощным потоком ливня. — Фрэнк, что за дьявольщина? Где мы? Фрэнк остановился, поднял голову и тупо уставился на Бобби. — Что? — Где мы? — еще громче рявкнул Бобби, силясь перекричать шум. Фрэнк указал налево, где сквозь завесу дождя проступало загадочное здание, похожее на святилище древнего божества, которому давным-давно никто не поклоняется. — Вон спасательная станция. — Затем он показал в другую сторону, на огромное деревянное сооружение на берегу. До него было значительно дальше, чем до спасательной станции. Из-за своих внушительных размеров выглядело оно не так загадочно. — А там ресторан. Считается одним из лучших на острове. — Какой еще остров? — Большой. — Что за большой остров? — Остров Гавайи. Самый большой остров во всем архипелаге. Мы на пляже Пуналуу. — Так это же Клинт должен был меня сюда отвезти! — Бобби расхохотался таким заливистым, надрывным хохотом, что сам испугался и тут же умолк. Фрэнк махнул рукой в ту сторону, откуда они пришли. — Там, возле площадки для гольфа, стоит дом, который я когда-то купил. Чудесный домишко. Как же я там блаженствовал! А через восемь месяцев откуда ни возьмись — он. Бобби, давай-ка отсюда удирать. Он выбрался на слежавшийся песок и направился к Бобби. Но не успел он сделать и трех шагов, как Бобби предупредил: — Ближе не подходи. Стой там. — Бобби, времени терять нельзя. Я ведь не умею телепортироваться, когда захочу. Это происходит само собой. Давай хотя бы переберемся на другой конец острова. Он знает, что я здесь жил. Эта местность ему хорошо знакома. Вдруг он идет за нами по пятам. Но ярость Бобби не мог остудить даже ливень — напротив, она разгоралась с каждой минутой. — Совсем заврался! — Честное слово, — неожиданная вспышка гнева ошеломила Фрэнка. Теперь их разделяло такое расстояние, что кричать во все горло не было надобности, и все-таки Фрэнк повысил голос, чтобы треск, шелест и грохот не заглушали его слова. — Золт действительно нагрянул в этот дом. В жизни он так не свирепствовал. Злобный, остервенелый. Он притащил с собой ребенка — совсем младенца, ему было всего несколько месяцев. Родителей его Золт недавно прикончил. И вот, Бобби, прямо на моих глазах он впился малышу в горло. Смеялся. Предложил и мне хлебнуть кровушки. Чтоб, значит, меня взбесить. Да-да, он пьет кровь. Это она его приучила. Теперь для него это первое удовольствие, без крови он жить не может. Когда я отказался, он отшвырнул ребенка, точно пустую банку из-под пива, и бросился на меня, но я… перенесся в другое место. — Я не это назвал враньем, — возразил Бобби. Сильная волна набежала на берег и отхлынула, оставляя на черном песке у ног Бобби быстро тающие узоры пены. — Ты врал про амнезию. А сам, оказывается, все помнишь. И прекрасно знаешь, кто ты такой. — Ничего подобного. — Фрэнк замотал головой, замахал руками. — Я в самом деле ничего про себя не знал. Совсем ничего. И наверно, опять забуду, когда эти блуждания кончатся. — Врешь, собака! Обезумев от ярости, Бобби схватил пригоршню мокрого черного песка и швырнул в Фрэнка. Потом еще одну пригоршню. И еще. Постепенно до него стало доходить, что он буянит, как капризный ребенок. Фрэнк только уворачивался от летящего в него песка и терпеливо ждал, когда Бобби утихомирится. Наконец ярость улеглась. — На тебя это не похоже, — заметил Фрэнк. — Пошел к черту! — Даже если бы я тебя обманул, это еще не повод, чтобы так беситься. «И правда», — подумал Бобби. Он вытер руки об рубашку, перевел дух и тут сообразил, что негодует вовсе не на Фрэнка: смотрит на Фрэнка, а видит нечто другое. Хаос. Недаром телепортация напоминала ему аттракцион, поездку в вагончике вверх-вниз по темным туннелям, где путешественнику уготованы ловушки, а за каждым поворотом скрываются механические чудовища. Только Бобби подстерегают не понарошечные, а настоящие опасности. Смертельные опасности. А со смертью шутки плохи. Порядок, привычная реальность — все летит в тартарары. Земля уходит из-под ног. Верх и низ, нутро и изнанка меняются местами. Хаос. Бобби и Фрэнк оседлали бешеного быка по кличке Хаос. Вот потому-то у Бобби и поджилки трясутся. — Ну как, успокоился? — спросил Фрэнк. Бобби кивнул. Да разве только страх причина этой вспышки? Бессознательно, в самой глубине души Бобби был уязвлен этим хаосом. Лишь сейчас он понял, как дороги ему основательность и порядок. Он всегда считал себя шалопутом, которому без чудес и приключений жизнь не мила. И вдруг оказывается, что не всякое приключение ему по вкусу. Даже напуская на себя легкомыслие, он подспудно тянулся к привычному, надежному укладу. Не отсюда ли его любовь к свингу, к прихотливым ритмам и мелодиям биг-бенда? Они ублажали его неугомонный нрав, но в то же время подчинялись твердому порядку, к которому он втайне прикипел душой. Неудивительно, что он предпочитает мультфильмы Диснея. Как бы ни колобродил Дональд Дак, в какие бы головоломные переделки ни попадали Микки Маус и Плуто, порядок в конце концов торжествовал. А вот к «Безумным мелодиям» компании «Уорнер бразерс» душа не лежала как раз потому, что в этом мультипликационном мире бушевал хаос: если здравый смысл и логика и брали верх, то лишь на время. — Извини, Фрэнк, — бросил Бобби. — Одну секундочку. Меня посетило озарение. Это, конечно, не самое подходящее место для озарений, но что поделаешь. — Ей-богу, Бобби, я говорю чистую правду. Наверно, как только меня начинает носить туда-сюда, я тут же все вспоминаю. Мрак в памяти расступается. Вернусь назад — и снова ничего не помню. Распад сознания, что ли. А может, я просто очень хочу выбросить из головы все, что со мной произошло. И происходит. И непременно произойдет в будущем. Несмотря на безветрие, волны вздымались все выше. Они взбегали на берег, так что вода подступала к ногам Бобби, потом откатывались, и Бобби по щиколотку погружался в песок. С трудом подбирая слова, Фрэнк продолжал: — Мне эти перелеты с места на место нелегко даются, не то что Золту. Он сам решает, куда перенестись, когда. Едва пожелает — и вот он уже на месте. Ты думал, я тоже так умею? Да ничего подобного. Моя способность к телепортации — не дар Божий, а проклятие, — голос его задрожал. — Я обнаружил у себя эту способность всего семь лет назад, в тот самый день, как эта чертовка околела. На всех ее отпрысках лежит проклятие, и не избавиться от него никакими силами. Я думал, если ее убить, с проклятием будет покончено. Не помогло. Всякого насмотрелся и наслушался Бобби за этот час, казалось бы, его уже ничем не удивишь, но от этого признания у него волосы на голове зашевелились. Жалкий человечек со смешной физиономией, печальными глазами и ямочкой на подбородке — и вдруг убийца матери? Быть не может! — Ты убил свою мать? — Черт с ней. Сейчас не до нее. — Фрэнк покосился на заросли, откуда они с Бобби выбрались, внимательно оглядел побережье и, убедившись, что поблизости никого, продолжал: — Если бы ты столкнулся с этим чудовищем лицом к лицу, — в голосе Фрэнка зазвенел гнев, — если бы ты помучился с мое, если бы ты знал, на какие зверства она способна, ты бы сам схватил топор и угробил ее. — Так ты ухлопал мамашу топором? — На Бобби вновь напал нелепый смех, влажный, как ливень, но не такой теплый. И снова Бобби спохватился и испуганно умолк. — Золт рассвирепел. Хотел меня убить, чтобы отомстить за мать. Спасаясь от него, я забился в угол и неожиданно телепортировался. Так я открыл в себе этот дар. Но происходит это лишь при одном условии: когда мне грозит смерть. — Вчера в больнице тебе ничего не грозило. — Это, верно, сны виноваты. Мне снится, будто я удираю от Золта, и начинается телепортация. От этого я просыпаюсь, но остановиться уже не в силах, и меня швыряет туда-сюда. Где задержусь на несколько секунд, где на час или больше. Мечусь, как шарик на каком-то чертовом космическом бильярде. Ты не представляешь, до чего выматывает. Телепортация сведет меня в могилу. Сам видишь — я уже не жилец. Чистосердечная исповедь Фрэнка и мерный, непрекращающийся шум дождя основательно успокоили Бобби. Правда, клиента он еще побаивался — как-никак весь хаос из-за него, — но гнев его прошел. — Поначалу телепортации во сне происходили, дай бог, раз в месяц, — рассказывал Фрэнк. — Потом все чаще, чаще. А в последнее время ночи не проходит, чтобы меня куда-нибудь не унесло. Вот вернемся в агентство или куда там еще, ты вспомнишь наши похождения, а я уже не смогу. И не только потому, что хочу забыть. Есть и другая причина. Ты ее уже угадал. Действительно, при восстановлении случаются сбои. — Так это из-за них ты потерял память, разучился читать и считать? — Вот-вот. Ошибки на клеточном уровне. Случись такое один раз — беда невелика, но эти ошибки множатся и случаются все чаще. Рано или поздно произойдет непоправимое. Тогда мне конец. Или превращусь в жуткого монстра, у которого перепутаны все части тела. В сущности, я напрасно к вам обратился. Даже если вы мастера своего дела, мне уже никто не поможет. Бобби тоже пришел к этому выводу, и все-таки его разбирало любопытство. — Что у тебя за семейка такая? Брат за милую душу разносит машину, гасит уличные фонари, ты телепортируешься. А с кошками что за история? — Кошки — это по части моих сестер-близнецов. — Откуда у вас у всех такие… таланты? Кто же все-таки были ваша мать, отец? — Потом, Бобби, потом. Сейчас некогда. — Фрэнк протянул Бобби пораненную руку. Кровь не то унялась, не то ее смыл ливень. — Я того и гляди опять исчезну, а ты застрянешь тут. Но Бобби спрятал руку за спину. — Нет, спасибо. Я уж лучше по старинке, самолетом. — Он похлопал себя по карману. — Бумажник и кредитные карточки при мне. Завтра буду дома. Скорость, конечно, не та, зато можно не беспокоиться, что после путешествия левое ухо окажется на месте носа. — Ты что! Золт наверняка за нами гонится. Если он тебя здесь застанет, живым не уйдешь. Бобби повернулся и пошел туда, где виднелся ресторан. — Вот еще! Стану я бояться всяких Золтов. — Напрасно храбришься. — Фрэнк поймал Бобби за руку и потащил назад. Бобби отдернул руку, словно его клиент был болен бубонной чумой. — Да как он нас выследит? Фрэнк окинул берег тревожным взглядом. Бобби сообразил, что за шумом дождя и грохотом прибоя они могут не услышать звук флейты, предвещающий появление Золта. — Стоит ему потрогать предмет, который ты недавно держал в руках, — и он тебя увидит как наяву. А иногда ухитряется даже определить, куда ты потом пошел. — Не трогал я у вас никаких предметов! — Ты стоял на лужайке возле дома. — Ну и что с того? — А то, что он увидит примятую траву, найдет место, на котором мы стояли, проведет по траве рукой и мигом узнает, где мы сейчас. — Послушать тебя — этот малый какой-то колдун. — Ты недалек от истины. Бобби хотел ответить, что он не прочь потягаться с братцем Золтом, будь тот хоть трижды колдун. Но тут ему на память пришел рассказ супругов Фан о зверском убийстве семьи Фаррис. Вспомнилось и семейство Романов — мать и двое детей, чьи изуродованные трупы сгорели при пожаре, устроенном Золтом, чтобы полиции не попались на глаза следызубов на истерзанных горлах. Бобби вспомнил, как Золт предложил брату отведать свежей крови младенца, представил ужас в глазах Фрэнка, и у него опять мелькнула мысль о загадочном вещем сне про Беду. — Ладно, уговорил, — буркнул Бобби. — Если ты действительно можешь сделать так, чтобы мы улизнули из-под носа у твоего кровожадного братца, будь по-твоему. Давай руку. Но у ресторана поймаем такси и поедем в аэропорт. — Он нехотя взял Фрэнка за руку. — Всю дорогу я за тебя держаться не собираюсь. Только пока мы на острове. — Идет, — согласился Фрэнк. Морщась от бьющего в лицо дождя, они направились к ресторану — серому деревянному сооружению не первой молодости, с громадными окнами. Он стоял метрах в пятнадцати. В окнах, кажется, были вставлены затемненные стекла, поэтому свет наружу не просачивался, а уж за плотной стеной ливня его и вовсе не видно. Прибой неистовствовал. Каждый третий-четвертый вал заплескивался далеко на берег, норовя сбить путников с ног. Они выбрались подальше от кромки прибоя, но песок тут оказался такой рыхлый, что увязали ноги. Каждый шаг давался с трудом. Бобби вспомнил Лайзу, блондиночку из лабораторий Паломар. Вот бы ее сюда. Найдет на нее романтическая блажь прогуляться с хахалем под теплым дождичком, глядь — а навстречу Бобби рука об руку с чужим мужиком. Ну и физиономию она скорчит, когда узнает, что он изменяет Клинту. Бобби рассмеялся, но уже нормальным, не страшным смехом. — Ты чего? — спросил Фрэнк. Ответить Бобби не успел. Невдалеке показалась темная фигура. Только это была не Лайза, а какой-то мужчина. Он двигался навстречу путникам. Откуда он взялся? Только что вокруг никого не было. — Это он, — вздрогнул Фрэнк. Даже на расстоянии незнакомец казался великаном. Заметив путников, он пошел прямо на них. — Фрэнк, смываемся! — Ты же знаешь, не могу я вот так, по желанию. — Тогда бежим. — Бобби потащил Фрэнка обратно к заброшенной спасательной станции. Проковыляв несколько шагов по вязкому песку, Фрэнк остановился. — Не могу больше. Выдохся. Одна надежда, что мне все-таки удастся телепортироваться вовремя. Выдохся — это мягко сказано. Фрэнк смахивал на покойника. Бобби еще раз оглянулся на Золта. Преследователь брел по мягкому влажному песку быстрее, чем путники, но все-таки с трудом. — Почему он не телепортируется? — удивился Бобби. — Мы бы и глазом моргнуть не успели, а он уже тут как тут. При виде надвигающегося мстителя Фрэнк потерял дар речи. Наконец он через силу выдохнул: — На такие короткие расстояния телепортироваться невозможно. Почему — не знаю. Может, сознание просто не успевает разложить тело на атомы и потом восстановить? Впрочем, какая разница? Даже если Золт не сумеет телепортироваться, он их и так через несколько секунд настигнет. Он был уже близко. Теперь Бобби хорошо его разглядел. Мощный верзила с крепкой шеей — такому хоть автомобиль на голову взгромозди — выдержит. А ручищи такие, что впору забавляться армрестлингом с промышленным роботом тонны в четыре весом. Светлые, почти белые волосы, широкое лицо с резкими и тяжелыми чертами, выражение — как у малолетних садистов, которые любят жечь муравьев на спичке и проверяют действие щелока на соседских собаках. Он решительно двигался сквозь потоки ливня, мокрый черный песок летел у него из-под ног. Не человек, а свирепый демон, неудержимый в своем стремлении губить людские души. Бобби отчаянно вцепился в руку Фрэнка. — Ну давай же, Фрэнк, выручай! Золт совсем рядом. Бобби обожгли его голубые глаза, дикие и злобные, как у гремучей змеи, насосавшейся наркоты. Золт издал ликующий животный вопль и бросился на них. Мрак. Светлячки. Полет. Бледный утренний свет, льющийся с ясного неба, просачивался в узкий проулок между двумя ветхими двухэтажными бараками, стены которых были так густо заляпаны грязью, что невозможно понять, из чего же они построены. Бобби и Фрэнк по колено увязли в смрадной гниющей жиже, дымившейся, словно компостная куча. Это разлагались отбросы, которые жильцы вываливали прямо из окон. Появившись как по мановению волшебной палочки, спутники вспугнули полчища тараканов, в воздух взметнулась туча жирных черных мух, только что расположившихся позавтракать. Несколько разъевшихся крыс сели на задние лапки и с любопытством уставились на пришельцев. Этих тварей так просто не испугать. Окна в бараках то там то сям были распахнуты наружу. Стекол в них не было, вместо них — что-то наподобие промасленной бумаги. Жильцы не показывались, однако из окон доносились голоса: где-то гремел смех, где-то шла перебранка. На втором этаже в правом доме звучал тихий заунывный речитатив — видимо, кто-то повторял мантру. Чужой, незнакомый язык. Должно быть, они попали в Индию — в Бомбей или в Калькутту. В воздухе стоял удушливый смрад, по сравнению с которым запахи скотобойни — все равно что наимоднейшие духи. Жужжавшие мухи проявляли к Бобби назойливый интерес, они лезли в ноздри, в рот. Бобби никак не мог отдышаться. Он прикрыл рот рукой — не помогло. Еще немного — и он потеряет сознание и навзничь плюхнется в зловонную теплую гниль. Мрак. Светлячки. Полет. Их встретили тишина и покой. Лучи полуденного солнца пробивались сквозь листву мимозы и рассыпались по земле золотыми брызгами. Красный мостик в восточном вкусе, на котором стояли спутники, был переброшен через небольшой пруд. Вокруг раскинулся настоящий японский сад. То там то сям виднелись причудливые карликовые деревца и прочие тщательно ухоженные растения. Они росли на площадках, усыпанных гравием, по которому граблями были наведены аккуратные бороздки. — А-а, узнаю, узнаю! — воскликнул Фрэнк с радостным удивлением. У него точно камень с души свалился. — Здесь я тоже когда-то жил. Сад был пуст. Бобби уже догадался, что Фрэнк обычно выбирает для материализации укромные уголки, где его никто не увидит, а если ему случается объявиться в людном месте вроде пляжа, предпочитает особые обстоятельства, когда это место пустует — например, во время грозы. Очевидно, прежде, чем совершить сложнейшие действия — разложить тело на атомы, переправить их и снова собрать воедино, сознание Фрэнка сперва намечает конечную точку и разведывает обстановку. — Это традиционный японский постоялый двор в окрестностях Киото, — продолжал Фрэнк. — Долго же я тут прожил. Ни один постоялец не задерживается здесь на такой срок. Бобби заметил, что одежда на них сухая, хоть и помятая. Видно, молекулы воды, которой пропитались одежда и волосы во время ливня на Гавайях, не подверглись телепортации. — Хозяева — милейшие люди, — вспоминал Фрэнк. — Добрые, заботливые, но не навязчивые. По его тону чувствовалось, что он смертельно устал от странствий, жаждет покоя и остался бы здесь, даже если из-за этой передышки ему суждено погибнуть от руки собственного брата. А Бобби все осматривал свою одежду и обувь. Слава богу, из грязного проулка в Калькутте они выбрались чистыми. Взгляд Бобби упал на правую туфлю. Он нагнулся. Что это такое на носке? — Поселиться бы тут, — размечтался Фрэнк. — Насовсем. К туфле пристал таракан, которыми кишели гниющие отбросы в проулке. Бобби носил кожаные спортивные туфли (он, как-никак, сам себе начальник, и носить на работе галстук и неудобные ботинки его никто не заставит). Таракан не просто прилип к серовато-коричневой коже, а влип в нее. Растопыренные усики и лапки не шевелились — видимо, он уже сдох. Но даже дохлый таракан — или по крайней мере та его часть, которая телепортировалась вместе с Бобби, — уже не мог отделиться от кожи. — Засиживаться нельзя, — спохватился Фрэнк. Таракана он, похоже, не заметил. — Золт от нас не отстанет. Если мы не уберемся подальше, то… Мрак. Светлячки. Полет. Они оказались на каменистой тропе, уходящей ввысь по крутому склону. Внизу открывался восхитительный вид. — Фудзияма, — сообщил Фрэнк. Как видно, он даже не догадывался, куда забросит их при телепортации, и, очутившись в этом месте, был приятно удивлен. — Мы приблизительно на полпути к вершине. Но Бобби не горел желанием любоваться живописными видами. Не беспокоил его и пронизывающий холод. Он был занят только одной мыслью: куда делся таракан. — Японцы когда-то почитали Фудзияму как святыню, — рассказывал Фрэнк. — Кажется, и сейчас кое-кто считает ее священной горой. Ничего удивительного: гляди, какая красота. — Фрэнк, где таракан? — Какой таракан? — В саду я увидел у себя на туфле таракана. Он словно вплавился в кожу. Ты, наверно, занес его с той помойки на задворках. Куда он запропастился? — Не знаю. — Ты случайно не растерял какие-нибудь атомы по дороге? — Не знаю. — А вдруг атомы, из которых он состоит, попали ко мне в организм? — Понятия не имею. Бобби представил темную полость у себя в груди, где бьется таинственнейший из органов — сердце. Но в его сердце скрывается особая тайна: где-нибудь в предсердии или желудочке из мышечных волокон выступает хитиновый панцирь таракана или торчат его тонюсенькие лапки. Насекомое внутри! Пусть даже дохлое — все равно гадость. Бобби вздрогнул, словно его молотом оглушили. От острого приступа жукобоязни его чуть не вывернуло наизнанку, дыхание перехватило, и он еле удержался, чтобы не сблевать прямо на священной горе. Мрак. Светлячки. Полет. Бобби и Фрэнк со всей силы грохнулись на землю. Должно быть, они материализовались на лету. Приземлиться на ноги при таком падении трудно, удержаться друг за друга им тоже не удалось. Оторвавшись от Фрэнка, Бобби покатился под уклон. Под ним похрустывали и потрескивали небольшие колючие комочки, больно царапавшие кожу. Уклон оказался не слишком крутым, скоро Бобби остановился и, задыхаясь, уткнулся лицом в серую пыль, мягкую, как зола. И в этой пыли сверкали сотни, а то и тысячи необработанных красных алмазов. Бобби поднял голову. Вокруг кишмя кишели добытчики алмазов — огромные насекомые вроде того, которое Клинт передал Дайсону Манфреду. Охваченному паникой Бобби почудилось, будто все фасеточные глаза обратились на него и все жуки, взбивая членистыми лапками серую пыль, двинулись в его сторону. Бобби почувствовал, что по спине у него что-то ползет. Что именно — он догадался сразу. Перевернувшись на спину, он прижался к земле, чтобы раздавить жука. Жук яростно заворочался. Вот гадина! Бобби сам не заметил, как уже стоял на ногах. Но гнусное насекомое по-прежнему болталось на рубашке. Оно бойко поползло вверх, к воротнику. Бобби завел руку за спину, схватил жука. Тот принялся отталкивать его руку сильными лапками. Вскрикнув от омерзения, Бобби зашвырнул жука подальше. Господи, как он надсадно дышит, как странно всхлипывает. Вот ведь до чего довели его ужас и отчаяние. Слушать эти всхлипы просто противно, однако Бобби ничего не мог с собой поделать. Во рту отвратительный вкус. Может, он наглотался серого песка? Бобби сплюнул. Нет, слюна чистая. Должно быть, это вкус воздуха. Воздух тут необычный — теплый, густой. Не влажный, а именно густой. Запах у него не такой, как вкус, но тоже неприятный: отдает прокисшим молоком и серой. Бобби огляделся. Он стоял в неглубокой котловине. В самой низшей точке ее глубина едва превышала один метр, а диаметром она была метра три. По склонам двумя рядами через равные промежутки шли небольшие отверстия. Насекомые-биороботы то заползали в них, то выползали наружу. Так вот, значит, где они добывают красные алмазы! Глубина котловины позволяла разглядеть, что творится выше, за ее краями. Вокруг простиралась широкая, покато спускающаяся пустошь. Она была изрыта такими же котловинами, которые можно было бы принять за метеоритные кратеры многовековой давности, если бы не их расположение: трудно поверить, что кратеры, образовавшиеся естественным путем, окажутся на равном расстоянии друг от друга. Итак, Бобби очутился посреди гигантского рудника, где полным ходом идет добыча. Он отпихнул ногой жука, подползшего чересчур близко, и продолжал осматривать окрестности. Обернувшись, он увидел на противоположном краю кратера стоявшего на четвереньках Фрэнка. При виде Фрэнка Бобби было успокоился, но поднял глаза и снова оторопел. Среди бела дня в небе висела луна. Не оптическая иллюзия, которая порой возникает в погожие дни, а настоящая луна. Рябой желто-серый шар в шесть раз больше привычной луны грозно навис над землей, словно ему надоело вращаться вокруг нашего мира на почтительном расстоянии и он вот-вот столкнется со своей соседкой по космосу. Но и это еще не все. Высоко в небе бесшумно парил огромный летательный аппарат невиданной формы. Это фантастическое зрелище подсказало Бобби объяснение, которое до сих пор не приходило ему в голову. Он находится за пределами земного мира. — Джулия, — пробормотал он, внезапно поняв, как далеко от нее он оказался. На дальнем краю кратера Фрэнк Поллард попытался встать на ноги и исчез.Глава 47
День угасал, приходила темнота. Томас то стоял у окна, то садился в кресло, то растягивался на кровати. Время от времени он направлял мысли к Беде: как она там? Не приближается? Бобби сегодня был очень обеспокоен, и Томас тоже начал беспокоиться. К горлу подступал комок страха, но Томас все время его сглатывал. Бояться нельзя, он должен защищать Джулию. Так близко к Беде, как в прошлую ночь, он больше не подбирался. А то подкрадешься близко, а она ухватит тебя своим сознанием. И полетит за концом нитки, когда Томас станет ее сматывать. И прилетит в интернат. Нет, так близко Томас к Беде не подходил. А неблизко подходил. И даже неблизко чувствуется, какая она нехорошая. Беда по-прежнему где-то на севере от интерната. Притаилась, а сама знает, что Томас за ней следит. Знает, но следить не мешает. Это не к добру. Как жаба — сидит и ждет. Томас однажды видел такую жабу в саду возле интерната. Она сидела, сидела, а рядом маленький ползучок плел свою сеточку. Сперва он был совсем рядом, потом не очень рядом, потом опять совсем рядом. Словно дразнил. А жаба сидит и не шевелится, как будто не взаправдашняя или как будто она камень, похожий на жабу. И ползучок ее не боялся. А может, ему нравилось так с ней играть. Только он спустился пониже, а она ка-а-ак выбросит язык — он у нее свернут, как бумажная полоска на пищалках, какие раздают глупым на Новый год: подуешь в пищалку — полоска и развернется. И зеленая жаба хвать серого ползучка языком — и съела. Ни крошки не осталось. И вся игра. Ну, если Беда изображает жабу, то уж Томасу придется быть осторожнее ползучка. Томас уже собрался умыться и переодеться к ужину, думал было оставить Беду в покое — и тут ее как ветром сдуло. Сорвалась с места — шасть, — и вот она уже далеко-далеко, что Томасу и не достать. Там, где досвечивает солнце. И как это она так быстро? На самолете небось. Наверно, сидит в самолете и улыбается красивым девушкам в форме, а они приносят ей журналы, вкусную еду, поят хорошим шампанским, подкладывают ей за спину подушечки и тоже улыбаются в ответ — прямо расцеловать готовы, как в кино по телевизору. Да, наверно, на самолете. Томас поискал-поискал Беду — нигде нет. День ушел, пришла ночь, и Томас бросил это занятие. Встал с кровати, собрался на ужин. Хорошо бы Беда ушла насовсем, хорошо бы больше нечего было бояться. И хорошо бы на сладкое дали шоколадное пирожное.* * *
Бобби что было духу бросился по усеянному алмазами кратеру, расшвыривая ногами жуков. Он не верил своим глазам. Чтобы Фрэнк телепортировался и оставил его тут? Не может быть! Но, добежав до того места, где стоял Фрэнк, он увидел только отпечатавшиеся в пыли следы ботинок. Сверху на него упала тень. Бобби поднял голову. Инопланетный корабль бесшумно подлетел к кратеру и завис в вышине прямо над Бобби. Он даже отдаленно не напоминал корабли пришельцев из научно-фантастических фильмов. Те смахивают или на живые существа, или на летучие канделябры. А этот имел ромбовидные очертания, метров двенадцать в длину, метров шесть в ширину. Сверху и по краям он ощетинился сотнями — нет, тысячами металлических стержней длиной с церковный шпиль и немного походил на механического дикобраза, который замер в боевой стойке. Зато на черном гладком подбрюшье — его Бобби разглядел лучше всего — не было не то что стержней, но даже каких-нибудь деталей, датчиков, иллюминаторов, люков и других приспособлений, которым тут самое место. Бобби так и не понял, случайно ли корабль оказался у него над головой или инопланетяне решили за ним понаблюдать. Если так, то от одной мысли об этих существах ноги подкашиваются. Черт их знает, зачем им сдался Бобби. В кино, правда, попадаются душки-пришельцы, которые на радость детишкам превращают велосипеды в летательные аппараты, но таких раз-два и обчелся. Чаще это хищники, людоеды с такими зверскими повадками, что даже самый грубый нью-йоркский официант при встрече с ними присмиреет. По части инопланетян Голливуду можно доверять. Во Вселенной и без них хватает злобы, Бобби и от землян-то ничего хорошего не ждет, а тут еще инопланетяне со своей невиданной, изощренной жестокостью. Ужас Бобби достиг предела и уже выходил из берегов. Причин для этого хоть отбавляй. Он заброшен на далекую планету, долго ли он тут протянет — неизвестно: похоже, в здешнем воздухе не хватает кислорода и прочих необходимых для жизни газов. Вокруг полным-полно отвратительных насекомых, и может статься, внутри у Бобби засело еще одно насекомое, дохлое. По пятам за ним гонится кровожадный белобрысый маньяк-гигант, обладающий нечеловеческими способностями. Господи, неужели он никогда не увидит Джулию, не сможет ее поцеловать, коснуться, полюбоваться ее улыбкой? Надежды на это почти никакой. Почва задрожала. Это корабль пришельцев обрушил вниз несколько мощных силовых волн. У Бобби застучали зубы, он еле устоял на ногах. Он огляделся. В кратере укрыться негде. Вокруг тоже никакого убежища. Вибрации прекратились. Космический корабль отбрасывал густую тень, и все же Бобби ясно видел, как из всех отверстий по склонам кратера одно за другим полезли одинаковые насекомые — целые полчища насекомых. Услыхали зов. Из днища корабля — прямо из обшивки, а не из каких-нибудь отверстий — к кратеру потянулись неяркие лазерные лучи диаметром не больше серебряного доллара. Желтые, белые, красные, синие, они заползали по кратеру, словно лучи прожекторов. Каждый двигался в своем направлении, ощупывая почву. Лучи то пересекались, то шли параллельно. Бобби совсем растерялся. У него было ощущение, что он оказался в гуще беззвучного фейерверка. Бобби вспомнил предположения Манфреда и Гэвенолла насчет багровых крапинок на панцире у жука. Он заметил, что белые лучи набрасываются только на жуков и деловито пробегают по ободку панциря. Хозяева жуков проводят инвентаризацию. Один белый луч уткнулся в разбитый панцирь жука, которого Бобби отшвырнул ногой. К белому лучу присоединился красный. Потом красный перепрыгнул на Бобби. За ним еще несколько лучей разных цветов принялись ощупывать Бобби, точно он банка зеленого горошка в магазине и продавец по штрих-коду определяет его цену. Между тем насекомые заполнили дно кратера. Под их панцирями скрылись и серая пыль, и красные алмазы. Напрасно Бобби убеждал себя, что это не настоящие жуки, а биороботы, созданные теми же существами, которые построили космический корабль. Роботы роботами, но выглядят-то они как насекомые! Что с того, что они просто добывают алмазы, а на Бобби не обращают ни малейшего внимания. Зато он обращает на них внимание. Обращает поневоле: попробуй-ка не замечать того, чего так боишься. Стоя в холодной тени космического корабля, он чувствовал, как кожа покрывается пупырышками. Нервы разыгрались не на шутку: ему казалось, что по всему телу ползают жуки. Жуки действительно ползали, но только по туфлям. Слава богу. Попробуй они взобраться выше, Бобби просто с ума сойдет. Заслонив глаза рукой от лазерных лучей, которые ощупывали его с ног до головы, Бобби уставился на предмет, который сверкнул под лучом в двух шагах от него. Как будто кусок изогнутой стальной трубки. Он торчал из пыли, и разглядеть его как следует не удавалось из-за мельтешивших вокруг жуков. Но Бобби сразу сообразил, что это за железяка, и внутри у него все оборвалось. Он осторожно подобрался поближе, стараясь не наступить на какого-нибудь жука: черт их знает, эти инопланетянские законы, может, за многократную порчу чужого имущества он подлежит немедленному испепелению. Протянув руку, он вытащил сверкающую металлическую трубку из мягкой почвы. Это была перекладина от больничной кровати.* * *
— Сколько времени прошло? — маялась Джулия. — Двадцать одна минута, — ответил Клинт. Они так и стояли возле кресла Фрэнка на том месте, где только недавно видели Бобби. Ли Чен уступил диван Джекки Джексу, и гипнотизер разлегся на нем, положив на лоб мокрое полотенце. Через каждые две минуты он принимался доказывать, что он тут совершенно ни при чем, хотя в исчезновении Бобби и Фрэнка его никто и не винил. Ли Чен принес бутылку виски и лед и налил всем в стаканы. Еще два стакана — для Бобби и Фрэнка. — Это чтобы немного успокоиться, — объяснил Ли Чен. — А если нервы в порядке, все равно пригодится: потом отметим благополучное возвращение. Сам он уже успел опрокинуть один стаканчик и теперь налил себе второй. Впервые в жизни он пил чистое виски — прежде и желания такого не возникало. — Сколько прошло? — снова спросила Джулия. — Двадцать две минуты. «И как это у меня еще крыша не поехала? — удивлялась Джулия. — Ну давай, Бобби, возвращайся же! Не бросай меня одну. С кем мне тогда танцевать? Как я буду без тебя жить? Как мне вообще тогда жить?»* * *
Бобби бросил перекладину, и в тот же миг лучи погасли. Тень корабля-дикобраза, которая заполнила кратер, казалась еще чернее, чем до появления лучей. Бобби посмотрел вверх. Что они еще выкинут? Из днища полилось бледное сияние — такое бледное, что совсем не резало глаза. Столб странного жемчужного света пришелся как раз по размеру кратера. В этом мертвом свете насекомые, словно утратив вес, начали медленно подниматься в воздух: сперва десяток, потом еще два, потом сотня. Переворачиваясь на лету, они лениво, неспешно взмывали вверх, будто пух одуванчика. Тарантульи лапки не шевелились, жуткие огоньки в глазах потухли, точно по щелчку выключателя. Через минуту-другую на дне кратера не осталось ни одного насекомого. Они невесомо поднимались все выше и выше. Если не считать сотрясений, которыми инопланетяне вызвали насекомых на поверхность, все маневры корабля проходили в мертвой тишине. Вдруг тишину прорезали переливы флейты. — Фрэнк! — с облегчением воскликнул Бобби. Его обдало смрадным ветром. Он обернулся. Вновь по кратеру прокатились холодные, глухие переливы флейты. Свет, который излучало днище корабля, приобрел новый оттенок. Вслед за насекомыми из серой пыли начали подниматься тысячи красных алмазов. Местами восходящий багровый поток темнел, местами отливал ярким блеском. Алмазов было так много, что Бобби казалось, будто он стоит под кровавым ливнем. Еще один порыв зловонного ветра. Кратер заволокло облако серой пыли. Бобби нетерпеливо озирался: ну где там Фрэнк? Но тут его встревожила другая мысль: а ведь вместо Фрэнка сюда может явиться его братец! В третий раз прозвучала флейта, и пыль разогнал третий порыв ветра. Неподалеку возникла фигура Фрэнка. — Слава тебе господи! Едва Бобби сделал шаг навстречу Фрэнку, жемчужное сияние вновь изменило оттенок. Бобби протянул Фрэнку руку и в ту же секунду почувствовал, что теряет вес. Ноги оторвались от земли. Фрэнк успел поймать его за руку и крепко сжал ее. На душе у Бобби стало необыкновенно легко. Он было решил, что все опасности позади, как вдруг понял: Фрэнк взмывает вместе с ним. Вслед за жуками и алмазами их затягивало в нутро корабля инопланетян, и какие кошмары их там поджидают, одному богу известно. Мрак. Светлячки. Полет. Они опять очутились на пляже Пуналуу. Ливень хлестал с удвоенной яростью. — Куда ты меня таскал? — прорычал Бобби, не выпуская руку Фрэнка. — Понятия не имею. Как ни попаду туда, душа в пятки уходит. Жуткое местечко. А порой все-таки… прямо тянет туда. Бобби готов был убить Фрэнка за это путешествие — и был готов его расцеловать за то, что клиент не бросил его в беде. Но вместо любви или ненависти в голосе его проступали истерические нотки. Силясь перекрыть шум дождя, он закричал: — Я-то думал, ты переносишься только туда, где уже бывал! — Не всегда. И потом, в тех краях я действительно уже бывал. — Как тебя вообще туда занесло? Это же другая планета! Ты о ней наверняка знать не знал, правда? — Ума не приложу. Я уже ничего не понимаю. Хоть Бобби и смотрел на Фрэнка в упор, он не сразу заметил, что, с тех пор как они покинули агентство «Дакота и Дакота» в Ньюпорт-Бич, клиент здорово осунулся. Немилосердный ливень тут же промочил его до нитки, одежда висела мешком, но разве дело только в одежде? У Фрэнка был встрепанный, изможденный, нездоровый вид. Ввалившиеся глаза с желтушными белками обведены такой густой синевой, словно он гуталином нарисовал на лице синяки. Белое как мел лицо с мертвенным серым отливом, сизые бескровные губы. А Бобби на него еще и накричал. Положив свободную руку Фрэнку на плечо, Бобби извинился за резкий тон и бросился уверять, что зла на него не держит, что по-прежнему считает его своим союзником, что скоро всем напастям конец — вот только от кратера им лучше держаться подальше. Они совсем обессилели и теперь стояли, привалившись друг к другу, соприкасаясь лбами. — Мне иногда чудится, — признался Фрэнк, — будто у меня с этими… людьми, существами — кто они там на этом корабле, — будто у меня с ними мысленная связь. А что? Вдруг у меня есть и такой дар, только я про него не знаю? Не знал же я про свое умение телепортироваться, пока Золт не вздумал меня убить и не зажал в угол. Может, я телепат какой-нибудь. Может, мой мозг испускает телепатические волны на такой же частоте, что и у инопланетян. Может, даже отсюда, за миллиарды световых лет от них, я читаю их мысли. Может, оттого меня к ним и тянет. Чуть-чуть отодвинувшись от Фрэнка, Бобби заглянул в его воспаленные глаза, улыбнулся и потрепал по щеке. — Ах, чертяка! Ты, значит, давно все обмозговал, так, что ли? Вместо ответа Фрэнк тоже улыбнулся. Бобби прыснул. Прислонившись друг к другу, как шесты вигвама, они покатывались со смеху и никак не могли остановиться. Не так давно от собственного истошного хохота Бобби становилось не по себе, но теперь другое дело. Нынешний смех хоть и надрывный, но целительный: с ним исторгались из души накопившиеся тревоги. — Ну и житуха у тебя, Фрэнк. Полный ералаш. Долго ты так не протянешь. — Знаю. — Надо тебе как-то выкарабкиваться. — Ничего не выйдет. — Да погоди ты сдаваться, парень. Сколько ты перенес — другой на твоем месте давно бы сломался. Меня вон и один день такой жизни доконал, а ты держишься уже семь лет. — Не то чтобы семь. Этот кошмар начался не так давно. Меня срывает с места все чаще и чаще, и так несколько месяцев подряд. — Несколько месяцев! — ошарашенно воскликнул Бобби. — Черт-те что! Все, Фрэнк. Сматываемся от твоего братца, возвращаемся в агентство, и хватит с меня этой круговерти, а то, ей-богу, мозга за мозгу заскочит. Даешь порядок! Порядок, твердая почва под ногами, привычная обстановка — вот что мне нужнее всего. Хочу снова жить нормальной жизнью, чтоб не спохватываться каждую минуту: кто я такой, да где я нахожусь, да что со мной будет завтра. Чтобы все шло своим чередом, все было на своих местах: причина и следствие, логика и здравый смысл. Мрак. Светлячки. Полет.* * *
— Сколько прошло? — Двадцать семь… без малого двадцать восемь минут. — Ну куда они провалились? — Ты лучше присядь, — посоветовал Клинт. — На тебе лица нет. Дрожишь как осиновый лист. — Со мной все в порядке. Ли Чен протянул Джулии стакан виски. — Хлебни. — Не хочу. Вот увидишь, полегчает, — убеждал Клинт. Джулия схватила стакан, выпила двумя глотками и сунула в руки Ли. — Я еще налью, — предложил он. — Спасибо. С дивана донесся голос Джекки Джекса: — Вы на меня в суд не подадите? Джулия уже не испытывала к гипнотизеру никакой симпатии. Она презирала его точно так же, как и при первой встрече в Лас-Вегасе, когда Джекки обратился к ним со своей нуждой. С какой бы радостью Джулия проломила ему башку! Она и сама понимала, что злиться на фокусника нелепо: в исчезновении Бобби его вины нет. И все же у нее чесались руки. В ней опять говорила вспыльчивость. Джулия знала за собой этот грех, мучилась из-за него, но ничего не могла с собой поделать. То ли вспыльчивость сидела у нее в генах, то ли, как подозревает Бобби, приступы ярости стали нападать на нее с тех пор, как выродок-наркоман жестоко расправился с ее матерью. Как бы то ни было, даже Бобби, который души в ней не чаял, эту черту ее характера не одобрял. И Джулия, мысленно обращаясь то к Бобби, то к Богу, дала зарок: «Слушай, Бобби, и Ты, Господи, тоже слушай. Если все кончится благополучно, если Бобби вернется, я больше никогда так не буду. И мысли не допущу о том, чтобы проломить Джекки голову. И не только Джекки — никому. Я стану совсем другой, честное слово. Лишь бы Бобби вернулся живой и невредимый».* * *
Снова пляж, только песок тут не черный, а белый. В жидких вечерних сумерках от него исходит бледное свечение. Справа и слева песчаный берег теряется в рыхлом тумане. Дождя нет. Погода здесь гораздо холоднее, чем на Пуналуу. От студеного промозглого воздуха Бобби забил озноб. — Где мы? — Что-то не пойму, — сказал Фрэнк. — Кажется, где-то на полуострове Монтеррей[129]. Вдали по шоссе промчалась машина. — Это, наверно, шоссе между Карлмелом и Пеббл-Бич, — догадался Фрэнк. — Знаешь его? — Знаю. — Люблю этот полуостров. Вон там, на юге, — Биг-Сур. В здешних местах мне тоже приходилось останавливаться. Славное было время. Правда… длилось оно недолго. В тумане голоса звучали необычно, глуховато. Как все-таки здорово, когда под ногами твердая земля! Наконец-то Бобби на своей планете, в своей стране, в своем штате. Вот только туман мешает: не на чем глазу остановиться. Эта белая бесформица — тот же хаос, а неразберихой Бобби сыт по горло, до конца жизни будет отплевываться. — Кстати, только что на Гавайях ты порывался улизнуть от Золта, — напомнил Фрэнк. — Так вот, можешь не беспокоиться. Мы от него оторвались еще в Киото или на Фудзияме. — Ну, раз он по нашему следу до агентства не доберется, давай скорее вернемся к нашим. — Бобби, я не могу… — Переноситься куда захочешь? Слышал уже. Тоже мне новость. Только знаешь, что я тебе скажу? Хоть тебе и невдомек, а твое подсознание прекрасно умеет управлять твоими передвижениями. — Ничего подобного! Я… — Да, умеет. Вернулся же ты за мной в кратер. Ты сам говорил, что готов бежать от этого места без оглядки. А за мной вернулся. Не бросил меня там, как перекладину от кровати. — Чистая случайность. — Уж и случайность. Мрак. Светлячки. Полет.* * *
Из стены раздалось красивое тоненькое «бим-бом», и все в интернате узнали, что без десяти минут ужин. Дерек уже вышел из комнаты, а Томас только вставал с кресла. Дерек любит покушать. Конечно, покушать все любят, но Дерек любит за троих. Пока Томас доковылял до двери, Дерек быстро-быстро своей смешной походочкой дошел по коридору почти до самой столовой. В дверях Томас обернулся. За окном стояла темнота. Томас не любил темноту за окном. Когда в мире не оставалось света, он обычно задергивал шторы. Но сейчас он уже собрался на ужин, как вдруг подумал: надо проверить, где Беда. И стал проверять. А чтобы мысленной ниточке было легче пробираться через ночь, лучше в эту ночь смотреть. Беда была еще далеко, и Томас ее не нашел. Но, пока не пришло время ужинать и Общаться, он решил попробовать еще раз. Он устремился в окно, в большую темноту — туда, где он когда-то повстречал Беду. Ниточка разматывалась, разматывалась, добралась до того места — и точно: Беда там. Томас ее сразу почувствовал и понял, что она его тоже чувствует. Он вспомнил, как зеленая жаба проглотила ползунка, и полетел обратно, чтобы жаба своим быстрым языком не успела его схватить. Он уж и сам не знал, радоваться ему или бояться, что Беда вернулась. Когда она пропала, Томас обрадовался: может, она ушла надолго. И все-таки ему было немножко страшно: неизвестно же, куда она ушла. И вот она вернулась. Томас стоял в дверях и думал. Потом он пошел кушать. На ужин был жареный цыпленок. И жареная картошка. И морковка с зеленым горошком. И шинкованная капуста. И домашний хлеб. Говорили, что на сладкое будет шоколадное пирожное и мороженое, но кто говорил-то? Глупые. А они и перепутать могут. Все блюда очень аппетитно пахли, все были красивые и вкусные. Но Томас сидел и думал: «А когда жаба ела ползучка, то каким он ей казался на вкус?» И от этой мысли у него пропадал аппетит.* * *
Словно два мячика, связанные одной веревочкой, Бобби и Фрэнк перелетали с места на место. Заброшенный земельный участок в Лас-Вегасе, по которому зябкий ветер гонял шары перекати-поля, — по словам Фрэнка, тут прежде стоял дом, где ему случалось останавливаться. Бревенчатая хижина на заснеженном склоне, куда они перенеслись при первой телепортации. Снова кладбище в Санта-Барбаре. Площадка на верху ацтекской пирамиды, вокруг которой сомкнулся непроходимый тропический лес, а во влажном ночном воздухе слышалось гудение комаров и крики неведомых животных. Бобби не сразу понял, на какую высоту их занесло, и чуть не загремел вниз. И наконец — агентство «Дакота и Дакота». Последние лихорадочные минуты путешествия — прыг-скок с места на место, все чаще, чаще, чаще — вызвали у Бобби такое замешательство, что, материализовавшись в углу своего кабинета, он только растерянно хлопал глазами: куда это он попал? Что теперь делать? А когда наконец до него дошло, где он, мгновенно вырвал руку из пальцев Фрэнка и крикнул: — Стой! Стой, говорю! Но услышать его было уже некому. Фрэнк исчез, В тот же миг Джулия бросилась к мужу. От ее крепких объятий заныли ребра. Бобби тоже стиснул ее и, даже не успев отдышаться, осыпал поцелуями. Боже, как славно пахнут ее волосы, как благоухает кожа! Нежнее прежнего. Никогда еще ее глаза не горели так ярко, никогда еще не казались такими прекрасными. Сдержанный Клинт, который обычно не грешил панибратством, положил руку на плечо шефа. — Слава богу, вернулся, — произнес он срывающимся голосом. — Ну и заставил ты нас поволноваться. Ли Чен сунул в руку Бобби стакан виски со льдом и предупредил: — Больше так не делай, хорошо? — Пока не собираюсь. Джекки Джекса как подменили. От его изысканных артистических манер не осталось и следа. События этого вечера оказались для него слишком сильным испытанием. — Послушайте, Бобби, я не сомневаюсь, что вы сейчас расскажете захватывающую историю. Не знаю, где вас носило, но красочным байкам теперь конца не будет, это точно. Так вот: я ничего не хочу про это слышать. — Красочным байкам? — опешил Бобби. Джекки покачал головой. — Да-да, ничего не хочу слышать. Извините, такая у меня прихоть — вы здесь ни при чем. Сцена ведь чем хороша? Это маленький замкнутый мирок. Настоящей жизнью там и не пахнет, зато как завораживает: яркие огни, громкая музыка. На сцене думать не надо, там надо просто быть — и больше ничего. А я и хочу просто быть. Показывать фокусы, валять дурака, развлекаться. Понятное дело, и у меня есть свои представления о том, что происходит вокруг, но это представления фокусника, эстрадника — шутливые, легковесные. А как оно там в действительности, я знать не знаю и знать не хочу. И уж тем более не хочу знать, что тут у вас нынче произошло. Мне и в своем мирке хорошо, так зачем я буду лезть в то, что меня не касается, и забивать голову ненужными мыслями? Этак недолго и потерять вкус к привычным радостям. — Он поднял руки, как бы отметая возражения. — Все. Я ухожу. Только его и видели. Бобби начал рассказ о своих похождениях. При этом он слонялся по кабинету, дивясь привычной обстановке, любуясь самыми обычными вещами, восхищаясь их надежностью. Потрогал стол Джулии и поразился: простенький пластик, но есть ли на свете что-нибудь удивительнее этого синтетического чуда, созданного человеком? Все молекулы прочно сцеплены, расставлены по своим местам. Диснеевские плакаты в рамках, дешевенькая мебель, наполовину пустая бутылка виски, пышные растения на подставках у окон — Бобби и не подозревал, что все это так ему дорого. Он путешествовал всего тридцать девять минут. Почти столько же занял рассказ об этих странствиях — при том, что Бобби для краткости приходилось еще многое опускать. С 16.47 до 17.26, то телепортируясь, то на своих двоих, он так напутешествовался, что до конца жизни хватит. Расположившись на диване в окружении Джулии, Клинта и Ли, Бобби твердил: — Ну уж нет, теперь я из Калифорнии ни шагу. В гробу я видел всякие Парижи да Лондоны. Даром не нужны. Хочу навсегда остаться дома — сидеть когда вздумается в любимом кресле, каждую ночь засыпать в своей постели… — Конечно, в своей. Я тебе засну в чужой! — пригрозила Джулия. — Разъезжать на своем любимом «самурайчике», точно знать, где что лежит. Понадобятся таблетки, зубная паста, пластырь — пожалуйста: открывай аптечку и бери. В 18.15 Фрэнк еще не вернулся. Заслушавшись Бобби, все точно забыли про клиента, однако минуты не проходило, чтобы кто-нибудь не бросал беспокойный взгляд в сторону кресла, где он сидел при первом исчезновении, или в угол, где его видели в последний раз. Наконец Джулия не выдержала: — Сколько его ждать? — Не знаю, — помрачнел Бобби. — По-моему… по-моему, на этот раз Фрэнку несдобровать. Он, кажется, пошел вразнос. Теперь его будет швырять туда-сюда все быстрее и быстрее, а кончится дело тем, что он уже не сможет восстановиться.Глава 48
Когда Золт из Японии перенесся прямо на кухню материнского дома, он был мрачнее тучи. Сцена, которую он застал, привела его в неописуемую ярость. На столе, на том месте, где он обычно обедал и ужинал, расселось пятеро кошек. Лилли сидела за столом, а на соседнем стуле, прижавшись к ней всем телом, застыла ее безмолвная сестра. Прочие кошки, помельче, устроились на полу у ног хозяек. Лилли кормила пятерых тварей, занявших место Золта, кусочками ветчины. — Что это еще за новости? — вскинулся Золт. Лилли не удостоила его ни словом, ни взглядом. Она пристально смотрела в глаза темно-серой полукровке, которая вытянулась перед ней, словно каменное изваяние из древнеегипетского храма, и не спеша поглощала кусочки мяса, лежащие на бледной ладони хозяйки. — Я тебя спрашиваю! — крикнул Золт. Лилли молчала. Опять это томительное молчание, постылая таинственность! Если бы не обещание, данное матери, Золт без колебания впился бы в горло сестры. Давно он не услаждал себя амброзией из благословенных жил матери, но разве Лилли и Вербена не той же крови, что и Розелль? Эта мысль уже не раз посещала его, и он представлял, как кровь сестер струится во рту, а иногда явственно чувствовал ее вкус. Будто не замечая брата, который грозно воздвигся рядом, Лилли продолжала беззвучную беседу с серой кошкой. — Совсем сдурела? Не знаешь, что это мое место? Лилли хранила молчание. Золт ударил ее по руке. Кусочки мяса разлетелись во все стороны. Этого показалось ему мало. Он смахнул со стола тарелку с ветчиной. От звона фарфора сладко заныло сердце. Кошки на столе и ухом не повели. Свора на полу тоже не обратила внимания на шум и брызнувшие осколки. Лилли повернулась и, склонив голову набок, смерила Золта взглядом. А вместе с ней и кошки на столе повернули головы в его сторону и оглядели его с таким надменным видом, будто делают ему величайшее одолжение и хотят, чтобы он это ценил. То же презрение читалось в глазах Лилли, в уголках сочных губ, тронутых чуть заметной усмешкой. Сколько раз этот убийственный, немигающий взгляд в упор повергал его в смятение и заставлял потупиться. И Золт, которого природа одарила щедрее, чем сестру, сам не понимал, откуда у нее эта безграничная власть над ним, почему только от одного ее взгляда он спешит уступить. Но сейчас ей с ним не сладить. Такого гнева он не испытывал с тех самых пор, как семь лет назад наткнулся на изувеченный труп матери, плавающий в крови, и узнал, что убийцей, дерзнувшим поднять на нее топор, был Фрэнк. Сейчас его ярость пылает даже неистовее, чем тогда, — все эти годы она не только не утихала, но постоянно разгоралась. Золту не давал покоя стыд за то, что он никак не отомстит брату, хотя возможностей для этого было предостаточно. По жилам разливалась не кровь, а черная желчь; она питала его сердце, проникала в мозг, и в воображении непрестанно возникали картины мести. Золт выдержал взгляд Лилли, вцепился в ее тонкую руку и рывком поднял сестру на ноги. Насильно разделенная с сестрой, Вербена жалобно вскрикнула вполголоса. Можно подумать, они сиамские близнецы, сросшиеся костями и плотью, а Золт оторвал их друг от друга. Золт нагнулся к самому лицу Лилли и, брызгая слюной, прошипел: — У матери была одна кошка, только одна. Мать любила, чтобы в доме был порядок и чистота. Посмотрела бы она, какую вы тут грязь развели со своим вонючим выводком. — Ну и что? — бросила Лилли с вызывающим равнодушием. — Матери-то нет. Золт схватил ее за плечи и оторвал от пола. Стул позади нее опрокинулся. Золт отшвырнул се, и она ударилась о дверь кладовки. Раздался оглушительный грохот, задребезжали стекла в окнах и начищенное столовое серебро на стойке. Золт с радостью заметил, что лицо ее исказилось от боли, закатились глаза и она чуть было не лишилась чувств. Швырни он ее посильнее, непременно сломал бы ей хребет. Он грубо сжал бледные руки выше локтя, рванул ее на себя и снова шмякнул о дверь, но уже полегче: пусть почувствует, что он может с ней сделать. И сделает, если она еще хоть раз его разозлит. Лилли была в полуобмороке, голова ее упала на грудь. Подняв сестру как пушинку, Золт крепко прижал ее к двери, чтобы знала: с таким силачом шутки плохи. Теперь надо подождать, когда онапридет в себя. С трудом отдышавшись, Лилли подняла голову. Золт жадно вгляделся в ее лицо: ну как, пошла взбучка на пользу? Прежде он и мысли не допускал, что посмеет поднять руку на сестру. И вот — свершилось. Что ж, сама виновата. Золт честно исполнил данный матери обет: его стараниями сестры не знали ни голода, ни холода, у них была крыша над головой. Но с годами они все больше теряли стыд и изводили его своей непонятностью — какие уж тут родственные чувства. И уж коли ему поручено их опекать, он не должен давать им распускаться. Мать в небесах, наверно, ждет не дождется, когда же он наконец сообразит, что сестер пора приструнить. Нынешняя вспышка ярости наконец просветлила его разум. Правильно сделал, что задал Лилли трепку. Не сильно — только чтобы удержать от падения в пропасть, в которую она так стремится. Пусть поумерит свою неутомимую животную похоть. В общем, поделом ей. Теперь их отношения круто переменятся. И Золт пристально глядел на сестру, надеясь отыскать в ее глазах подтверждение тому, что она осознала эту перемену. Но странное дело: по ее выражению он догадался, что сестра ничего не поняла. Из-под разметавшихся по лицу волос Золта обдал ледяной взгляд голубых глаз — точно смотрит на него дикий зверь, заросший буйной гривой. Непонятный, первобытный взгляд. В нем и угарное веселье, и невыразимое томление. И страсть. Ушибов она словно и не чувствовала. На пухлых губах опять расплылась улыбка. Горячо дыша брату в лицо, она шепнула: — У-у, какой ты сильный! Кошкам и то понравилось, как ты меня схватил. И Вербене тоже. Золт словно впервые за весь вечер заметил ее длинные голые ноги, тонкие трусики, легкую красную майку, которую она еще и подняла, обнажив плоский живот. Пышные налитые груди на стройном торсе казались еще пышнее, а под майкой отчетливо проступали острые соски. Словно впервые увидел Золт эту гладкую кожу, ощутил этот залах. Точно гной из лопнувшего внутри нарыва, по телу разлилось отвращение. Золт отпустил сестру. Обернулся. Кошки как ни в чем не бывало лежали на прежнем месте и таращили на него глаза. Выходка Золта на них никак не подействовала — верный признак, что и Лилли ни капельки не испугалась. Значит, ее дразнящая улыбка, вспышка похоти, которой она ответила на его вспышку ярости, были не наигранными. Вербена обмякла, уронила голову и по своему обыкновению не смотрела брату в глаза. Но на губах у нее брезжила улыбка, а средним пальцем левой руки, лежавшей между ног, она лениво водила вокруг раздвоенного бугорка, который темнел под тонкой материей. Нетрудно догадаться, что нездоровое вожделение Лилли передалось и ее сестре. Золт отвернулся и поспешил прочь, стараясь все же, чтобы его уход не выглядел как бегство. Только в пропахшей духами материнской спальне, в окружении ее вещей Золт почувствовал себя в безопасности. Первым делом он запер за собой дверь, Трудно сказать, от кого он запирался. Не сестер же ему бояться. Их надо не бояться, а жалеть. Он присел в кресло-качалку Розелль и стал вспоминать детство, когда он, бывало, сворачивался на коленях у матери и мирно посасывал кровь из надреза, который она делала у себя на пальце или на ладони. Однажды — увы, лишь однажды — она дала ему напиться крови из неглубокой раны на груди, и он вкушал материнскую кровь точно так же, как другие дети вкушают материнское молоко. В ту пору ему было пять лет. Она сидела в этой самой спальне, в этом самом кресле. Семилетний Фрэнк спал в своей комнате в другом конце коридора, а близнецы, которым едва исполнился год, — в колыбельке в спальне напротив материнской. Все спят, а они с матерью вдвоем. И от этого ему казалось, что он у нее самый любимый, самый родной. Только с ним она делится благодатной влагой, текущей у нее в венах и артериях. Это святое причастие свершалось втайне от всех. В ту ночь на него нашло сладкое забытье. Его дурманил не только пряный вкус крови и беспредельная любовь матери, которую она выказывала этим щедрым даром, но и мерное покачивание кресла и ее баюкающий голос. Золт прижимался губами к ранке на груди, а мать, отводя падавшие ему на лоб волосы, растолковывала премудрый замысел Божий. Господу, объясняла она, угодно насилие, если к нему прибегают для защиты добрых и праведных. Это Господь поселил в душе у избранных жажду крови, дабы они вершили Его суд и не давали праведников в обиду. Полларды люди благочестивые, и такова уж воля Господа, что Золт должен стать их защитником. Золт уже давно усвоил эту истину. Мать всегда внушала ее Золту во время таких вот ночных таинств. Но Золт неизменно слушал ее со вниманием: детям нравится, когда им по несколько раз рассказывают любимую историю. Сказки, в которых полным-полно чудес, им не приедаются, а, наоборот, кажутся еще таинственнее и занимательнее. То же было и с рассказом матери. В ту ночь, в который раз поведав о замысле Божием, мать объявила, что Золту пора употребить свой дивный дар и исполнить то, к чему предназначил его Всевышний. Золт выказывал удивительные способности с трех лет. В том же возрасте проявились они и у Фрэнка, но тому до брата было далеко. Особенно восхищалась Розелль его телекинетическими способностями, в первую очередь даром телекинетического перемещения собственного тела. Розелль быстро смекнула, какую пользу можно извлечь из этого дара. Отныне они не будут испытывать нужду, ведь Золт может по ночам переноситься туда, где за семью замками хранятся деньги и ценности, — в банки, в богатые особняки Беверли-Хиллз. Мало того, ему ничего не стоит материализоваться в домах, где живут недруги Поллардов, и, пока они спят, творить суд и расправу. Полларды же благополучно избегнут возмездия: кто сумеет обнаружить виновного? — Тут неподалеку живет человек по имени Солфрант, — нашептывала она сыну, когда тот посасывал кровь из материнской груди. — Он юрист, один из тех шакалов, что обирают честных людей. Дрянь редкостная, как таких только земля носит. Он занимался состоянием моего отца, то бишь твоего дедушки, золотко. Утверждал завещание. Содрал с меня три шкуры, скопидом этакий. Юристы — они все скопидомы. Нежное воркование так не вязалось со злобой, которую мать вкладывала в свои слова, но эта несуразица завораживала еще сильнее. — Я уже который год добиваюсь, чтобы он вернул мне часть денег, которые с меня стребовал. Нечего меня обдирать. Уж я и к другим юристам обращалась, но они говорят — ничего, мол, я не переплатила. Известное дело, они друг за друга горой. Одного поля ягоды. Волчьи ягоды. Потащила я его в суд, да что проку: судьи-то те же юристы, только в черных балахонах. Глаза бы мои не глядели на этих сквалыжников. Вон, золотко, сколько лет я покоя не знаю. А Дональд Солфрант живет себе припеваючи в собственном домище в Монтесито. Обдирает людей как липку. Видишь, как меня обобрал. И чтобы ему это с рук сошло? Ни за что. Правда, Золт? Должен он за это поплатиться, а? Золту было всего пять лет, и особой крепостью он не отличался — лишь в девять или десять лет он приобрел несвойственную его возрасту физическую силу. Конечно, он мог без труда телепортироваться в спальню Солфранта и напасть на противника, не дав ему опомниться. Но даже в этом случае Золту с ним не сладить. А вдруг Солфрант и его жена еще не спят? Или Золт не сумеет прикончить его одним ударом ножа и юрист, проснувшись, начнет обороняться? Тогда Золт несдобровать. Он не боялся, что его поймают: а телепортация на что? Раз — и он уже дома. Однако Солфрант может его узнать, а такому человеку, как Солфрант, полиция поверит — пусть даже рассказ о том, как на него покушался пятилетний ребенок, выглядит полным бредом. И нагрянет полиция к Поллардам, примется допекать расспросами, перероет весь дом. Что они обнаружат, какие у них появятся подозрения — одному богу известно. — Так что порешить его тебе не удастся, хоть он того и заслуживает, — шептала Розелль, укачивая своего любимца и пристально глядя ему в лицо. Золт поднял глаза от обнаженной груди и тоже смотрел на мать. — Но есть и другой способ отомстить за то, что он меня облапошил. Он отнял у меня деньги, ну а мы отнимем у него то, чем он так дорожит. У Солфрантов недавно родилась дочка. Я в газете читала. Ее назвали Ревекка Елизавета. Тоже мне имечко. Любят пыль в глаза пускать, вот и дали девчонке такое вычурное имя. Возомнили о себе. Это только королеву так зовут — Елизавета! А про Ревекку можешь в Библии почитать. Туда же — Ревекка… ей уже почти полгода. Родители, поди, к ней привыкли, случись с ней что — не переживут. Завтра съездим — я тебе покажу, где их дом. А ночью, золотко, ты отправишься к ним, и да настигнет их гнев Господень, мой гнев! А они подумают, что сами недоглядели, что это крыса забралась в комнату или еще какой зверь. До конца жизни себе не простят. Шейка у Ревекки Солфрант оказалась хрупкая, а кровь соленая. Приключение Золту понравилось. Это же так увлекательно — проникнуть в чужой дом без разрешения и чтобы хозяева не заметили. Они спокойно спали в соседней комнате, и Золт, убив девчонку, упивался собственным могуществом. Еще бы: такой маленький, а сумел-таки преодолеть все препятствия и отомстил за мать. Теперь в семье Поллард, можно сказать, появился настоящий мужчина. Приятно сознавать, что убийство не только доставило тебе наслаждение, но и покрыло тебя славой. С тех пор мать вновь и вновь призывала его к отмщению. На первых порах его жертвами становились только детишки. Чтобы полиция не догадалась, что убийства совершает один и тот же человек, он не всегда пускал в ход зубы. А иногда, прихватив малыша, телепортировался подальше от этого дома, и найти тело уже не удавалось. Но, если бы недруги Розелль жили только в Санта-Барбаре и окрестностях, полиция все равно не углядела бы связь между убийствами. Однако частенько гнев матери обрушивался на жителей отдаленных городов и штатов — на людей, о которых ей случалось прочесть в газете или журнале. Особенно запомнилась Золту одна семья из штата Нью-Йорк, которая выиграла в лотерею миллион долларов. Мать почему-то решила, что вместе с выигрышем к ним попала часть денег из кармана Поллардов и такие стяжатели подлежат уничтожению. Четырнадцатилетний Золт ничего из объяснений матери не понял, но и не усомнился в ее правоте. Он свято верил каждому ее слову, как же можно было ослушаться? Перенесясь в Нью-Йорк, он убил всех пятерых членов семьи, а дом, в котором оставались трупы, сжег дотла. Стоило матери утолить жажду мести, с ней всякий раз происходило одно и то же. Сразу после убийства она ликовала и принималась строить радужные планы. Для Золта готовилось какое-нибудь редкое лакомство, при этом из кухни доносилось мелодичное пение матери. Она то бралась шить новое лоскутное одеяло, то затевала какое-нибудь хитрое рукоделие. Но проходил месяц, и радость угасала, как лампочка, подключенная к реостату. Стряпня и рукоделие были забыты, мать снова заговаривала о негодяях, из-за которых она, а значит, и вся семья Поллард терпят лишения. Еще полмесяца-месяц — и мать намечала новую жертву, и Золту опять надлежало исполнить ее волю. Поэтому разделываться с врагами ему приходилось не более шести-семи раз в год. Розелль это вполне устраивало. Розелль — но не Золта. С годами утолять жажду человеческой кровью вошло у него в привычку, а подчас эта жажда становилась нестерпимой. Он снова и снова порывался испытать трепет, который вызывала у него охота, он тянулся к кровавым приключениям, как алкоголик тянется к бутылке. Да и как удержаться от убийства, если все вокруг только и думают, как бы досадить обожаемой матери? И Золт убивал все чаще и чаще. Враги были всюду: кто посягал на ее здоровье, кто намеревался обобрать. Временами на, нее нападал безумный страх, она велела сыну задернуть шторы, спустить все жалюзи, запереть все двери, даже забаррикадировать их стульями и прочей мебелью, чтобы не ворвались враги. Правда, враги так и не появлялись, но кто их знает, может, они хотели напасть, да раздумали. В такие дни мать была сама не своя. Она твердила, что от недругов житья не стало, что, как бы ни старался Золт, защитить ее ему все равно не под силу. Он умолял, чтобы она позволила показать, на что он способен, но мать не разрешала. «Меня уже никто не спасет», — добавляла она. Тогда-то Золт и начал вместо охоты на людей, которая была в такие дни под запретом, охотиться на мелкую дичь по каньонам. Но даже после самой удачной охоты он оставался недоволен: кровь диких зверюшек не шла ни в какое сравнение с людской. Окунувшись в воспоминания, Золт затосковал. Он встал с кресла и принялся нервно ходить по комнате. Гардины были отдернуты, и он с растущим любопытством вглядывался в ночь за окнами. Упустив Фрэнка и незнакомца, объявившихся возле дома, досадуя на Лилли, стычка с которой приняла столь неожиданный оборот, Золт не находил себе места. В гневе он готов был убить первого же врага семьи, какой подвернется под руку. Но врагов не видать, и ему придется либо уничтожить невинного, либо довольствоваться зверюшками из каньона. Навлечь на себя немилость матери, наблюдавшей с небес, было боязно, а у пугливых зверюшек такая жидкая кровь. Ярость и жажда росли с каждой минутой. Они толкали Золта на опрометчивые поступки, в которых он наверняка будет раскаиваться, — поступки, из-за которых он на время лишится материнского расположения. Но не успел он пуститься во все тяжкие, как его спасло появление настоящего врага. Чья-то рука коснулась его затылка. Золт мгновенно обернулся. Рука отдернулась. Никого. Рука невидима. Вот как. Повторяется история, приключившаяся вчера в каньоне. К нему вновь привязалось существо с необычными психическими способностями. Но если этот дар достался чужаку, не принадлежащему к семье Поллард, значит, это враг, его следует отыскать и уничтожить. Нынче днем Золт уже несколько раз чувствовал, как невидимка робко тянется к нему, но прикоснуться не решается. Золт вернулся в кресло и стал ждать. Отчего же не подождать, если ему вот-вот снова представится случай встретиться с настоящим врагом? Прошло несколько минут. И снова легкое, неуверенное прикосновение. И снова рука отдернулась. Золт ухмыльнулся. Он принялся раскачиваться в кресле, мурлыча под нос одну из любимых песенок матери. Не зря он вынашивал в душе пламя гнева. Теперь оно пылало все ярче. А когда робкий гость совсем осмелеет, пламя будет полыхать уже в полную силу и испепелит наглеца.Глава 49
Часы показывали десять минут седьмого. В дверь позвонили. Фелина Карагиозис, конечно же, ничего не услышала, но в каждой комнате по углам замигали красные лампочки. Такой сигнал и глухой заметит. Фелина вышла в прихожую и выглянула в окошко возле двери. Это пришла соседка Элис Каспер. Фелина сняла цепочку и отперла дверь. — Салют, мать. «Прическа у тебя — загляденье», — знаками показала Фелина. — Че, правда? Я тут зашла подстричься, а парикмахерша говорит: «Вам как — только подровнять или соорудим чего-нибудь помоднее?» Эх, думаю, была не была. Я ведь еще хочу мужикам нравиться, рано мне еще в старухи-то записываться, правда? Элис стукнуло тридцать пять, она была пятью годами старше Фелины. Вместо неизменных белокурых локонов на голове у нее красовалось что-то более современное. Теперь ей придется тратить на уход за волосами целую уйму денег. И все-таки новая прическа ей очень к лицу. «Заходи. Выпить хочешь?» — Еще как. Тем более сейчас. Но мне нельзя: к мужу родичи приехали, придется развлекать. Пока не знаю, то ли в картишки с ними перекинуться, то ли перестрелять к чертовой матери. Посмотрю на их поведение. Из всех знакомых Фелины только Элис понимала язык глухих — если, конечно, не считать Клинта. Беда в том, что на глухих окружающие, как правило, смотрят косо, хотя никто в этом и не признается. И ничего удивительного, что других подруг, кроме Элис, у Фелины не было. Фелина тяготилась этой дружбой, ее сближало с соседкой лишь то, что сын Элис тоже был глухой от рождения — из-за сына она и выучила язык глухих. — Я чего зашла-то. Звонил Клинт, просил передать, что задерживается на работе. Вернется часам к восьми. И давно он завел такую моду? «Им поручили серьезное дело. Приходится работать допоздна». — Хочет повезти тебя куда-нибудь поужинать. Говорит, денек выдался — обалдеть можно. Небось из-за этого самого дела. Да уж, с мужем-детективом не соскучишься, верно? А он у тебя еще такой ласковый. Везет тебе, мать. «Да. Ласковый — это верно». Элис расхохоталась. — Я и говорю. Но, если он еще раз проторчит на работе допоздна, скажи, что ужином в ресторане он не отделается. Пусть гонит бриллианты. Фелина вспомнила красные камешки, которые вчера показывал Клинт. Ее подмывало рассказать о них Элис, но обсуждать с посторонними дела агентства «Дакота и Дакота» у них в семье не принято. Эти тайны оберегались не менее ревностно, чем тайны интимных отношений Клинта и Фелины. Тем более что нынешнему клиенту угрожает опасность. — В субботу в полседьмого милости прошу к нам. Джек сварганит свое месиво из мяса и красного перца. Выпьем пивка, в картишки поиграем. Придешь? «Приду». — Да скажи Клинту, пусть не беспокоится: никто его, молчуна, за язык тянуть не станет. Фелина хихикнула. «Он уже не такой молчун, как раньше». — Это ты, мать, его перевоспитала. Они снова обнялись, и Элис ушла. Фелина закрыла дверь и посмотрела на часы. Уже семь. До прихода Клинта остается час. Успеть бы навести марафет. И не потому, что они идут в ресторан. В присутствии Клинта она всегда старалась выглядеть красавицей. Фелина отправилась в спальню, но на полпути спохватилась, что забыла запереть дверь. Вернувшись в прихожую, она закрыла дверь на замок и на цепочку. Клинт так за нее беспокоился, что сил нет. Если он приходит домой и видит, что она не заперла дверь, он прямо стареет на глазах.Глава 50
Весь день Хэл Яматака отдыхал, а во вторник ему позвонил Клинт и попросил подежурить в агентстве на тот случай, если после ухода сотрудников неожиданно появится Фрэнк. В 18.35 Хэл был в агентстве. Клинт встретил его в комнате для посетителей, предложил кофе и рассказал, что тут произошло за время отсутствия Хэла. После его рассказа у Хэла опять появилось непреодолимое желание бросить все и податься в садовники. Он не зря снова и снова возвращался к этой мысли. Почти вся его родня либо имела отношение к садоводству, либо содержала ясли. Зарабатывали они неплохо, кое-кто даже больше, чем Хэл. А были и такие, чьим заработкам Хэл мог только позавидовать. Родители, три брата и заботливые дядюшки много раз пытались убедить Хэла, чтобы он шел работать под их началом или стал их партнером, но Хэл и слушать не хотел. Не то чтобы ему претила такая работа. Содержать ясли, торговать садовыми принадлежностями, размечать посадки, подрезать ветки и вообще возиться в саду — занятия вполне достойные. Но в Южной Калифорнии так уж повелось: что ни японец, то садовник. А Хэл не тот человек, чтобы строить свою жизнь по трафарету. Он с детства зачитывался приключенческими романами и мечтал стать кем-нибудь вроде их героев. Любимым образцом для подражания были главные персонажи романов Джона Д. Макдональда — проницательные, храбрые, с добрым сердцем и крепкими кулаками. В глубине души Хэл понимал, что работа, которую он выполняет в агентстве «Дакота и Дакота», ничуть не увлекательнее, чем будничные хлопоты по саду: это только со стороны представляется, будто те, кто обеспечивает безопасность компаний, каждый день проявляют чудеса героизма. Но торговать мульчой, инсектицидами и рассадой ноготков — тоска смертная. На этом поприще трудно даже вообразить себя романтическим героем или мечтать о будущих подвигах. А если все время видеть себя без прикрас, то и жить неинтересно. — И что мне делать с Фрэнком? — спросил Хэл. — Запихни в машину и вези к Бобби и Джулии. — Домой? — Нет. В Санта-Барбару. Они сегодня едут туда, остановятся в гостинице «Красный лев», а завтра начнут собирать сведения о Поллардах. Хэл нахмурился и наклонился поближе к Клинту. — Ты же говорил, что он уже не надеется на возвращение Фрэнка. — Бобби показалось, что Фрэнк дошел до точки и нынешнее путешествие его вконец умотает. А что там будет на самом деле, неизвестно. — Так на кого тогда они работают? — На Фрэнка. Он же пока не отказался от их услуг. — Как-то все это ненадежно. Клинт, давай-ка начистоту. Чего они носятся с этим делом? Ведь того и гляди голову сломят. Чем дальше, тем опаснее. — Да просто Фрэнк им понравился. И мне тоже. — Мы же договорились: начистоту. Клинт вздохнул. — Хоть убей, не пойму. Уж на что Бобби сдрейфил после этих путешествий — и все равно гнет свое. Я было решил, что они поутихнут — по крайней мере до возвращения Фрэнка. Если он вообще вернется. Братец его, Золт этот, — сущий дьявол. С таким попробуй справься. Правда, на Бобби и Джулию иной раз находит: упрутся — и ни в какую. Но чтобы они дурью маялись, такого за ними не водится. Я-то думал, они сообразили, что работенка им не по зубам: тут нужен не частный детектив, а сам Господь Бог. Оказалось — напрасно надеялся.* * *
Сидя за письменным столом, Бобби и Джулия слушали отчет Ли Чена о том, что ему удалось выяснить. — Краденые деньги или нет — сказать трудно. Они же все время переходят из рук в руки. Я проверил все списки купюр, находящихся в розыске. Ни в местном управлении, ни в полиции штата, ни в ФБР такие номера не зарегистрированы. Но Бобби уже прикинул, где Фрэнк мог раздобыть шестьсот тысяч долларов, хранящихся сейчас в сейфе агентства. — Возьмите предприятия, которые ворочают крупными суммами наличных и не всегда сдают их в банк в конце дня, — вот вам и возможный источник. К примеру, магазин, который открыт до полуночи. Зачем управляющему ночью тащить деньги в банк, если он может спокойненько оставить их в сейфе тут же, в магазине? А после закрытия Фрэнк телепортируется в магазин, при помощи еще какого-нибудь колдовства отпирает сейф, складывает дневную выручку в пакет для продуктов — и поминай как звали. Положим, дневная выручка одного магазина не так велика — тысяч двести. Но за какой-нибудь час можно наведаться еще в три-четыре магазина. Набирается приличный улов. Джулия, видно, тоже задавалась вопросом об источнике денег. — А казино? — подхватила она. — Там, конечно, есть бухгалтерские отделы, но это для ревизоров из налогового управления. А в декларации о доходах попадает далеко не вся выручка. И то, что не попадает, хранится в скрытых сейфах в человеческий рост. Таким сейфам и Форт-Нокс[130] позавидует. Даже средней руки экстрасенс сумеет угадать, где они запрятаны. А со всем остальным Фрэнк справится в два счета: улучит минуту, когда там никого нет, телепортируется туда — и денежки его. — Фрэнк когда-то жил в Лас-Вегасе, — сказал Бобби. — Помните, я рассказывал, как мы с ним оказались на пустом земельном участке, где прежде стоял его дом. — На Лас-Вегасе свет клином не сошелся, — возразила Джулия. — Мало ли где играют по-крупному. Рино, озеро Тахо, Атлантик-Сити, острова Карибского моря, Макао, Франция, Англия, Монте-Карло. От разговоров о несметных богатствах Бобби даже заерзал. Странно. Ему-то что за дело? Это же не он умеет телепортироваться, а Фрэнк. А Фрэнка он больше не увидит — в этом Бобби был уверен на девяносто пять процентов. Ли Чен разложил на столе распечатки. — Деньги — что. Есть новости поинтереснее. Вы просили выяснить, не напала ли полиция на след мистера Синесветика, так? — Золта, — поправил Бобби. — Теперь мы знаем, как его зовут. — Жаль. Мне больше по вкусу мистер Синесветик. В эту минуту в комнату вошел Хэл Яматака. — Не доверяю я вкусу человека, который носит красные туфли и носки, — заметил он. Ли удрученно покачал головой. — Кто бы говорил? Мы, китайцы, тысячелетиями создавали видимость, будто коварнее и загадочнее азиатов нет никого на свете, чтобы своевольные европейцы у нас дохнуть не смели. А вы, японцы, все испортили: взяли да и сняли фильм про Годзиллу[131]…Загадочная азиатская душа — и вдруг примитивный Годзилла! Курам на смех. Они составляли занятную парочку. Один — субтильный щеголь с тонкими чертами, боготворящий свои компьютеры, — настоящее дитя века электроники. Другой — приземистый здоровяк с плоским лицом; этому что компьютер, что булыжник — все едино. Занятные-то они занятные, но Бобби сейчас больше занимал вопрос, над которым раньше он как-то не задумывался: отчего в небольшом штате агентства «Дакота и Дакота» столько азиатов? Кроме Ли Чена и Хэла, еще два вьетнамца — Нгуен Туан Фу и Жами Куанг. Из одиннадцати — четверо азиаты. У Бобби и мысли не было, что Ли, Хэл, Нгуен и Жами — какая-то отдельная группа. Они же все разные, вот как яблоки, груши, апельсины и персики. Но теперь ему стало ясно, что за этой готовностью принять на работу сотрудника азиатского происхождения скрывается не только такое дивное качество, как отсутствие расовых предрассудков, но и что-то еще. Бобби еще не разобрал, что именно. — А загадочнее фильмов о Годзилле и Мосуре вообще не найти, — продолжал Хэл. — Бобби, а Клинт уже отправился домой к Фелине. Вот везучий, нам бы так. — Ли еще не рассказал про мистера Синесветика, — напомнила Джулия. — Золта, — уточнил Бобби. Ли указал на пачку бумаг, содержащих данные, выбранные из полицейских архивов всей страны. — Большинство управлений полиции начали по-настоящему пользоваться компьютерами и создали единую сеть лишь девять лет назад. Поэтому в файлах, до которых удалось добраться, имеется информация только за последние девять лет. За это время в девяти штатах отмечено семьдесят восемь зверских убийств, которые, по всей вероятности, совершил один человек. Повторяю: по всей вероятности. В прошлом году этими преступлениями заинтересовалось ФБР. Для координации работы следователей из местных органов и управлений штатов была создана группа из трех человек. Двое собирают информацию на местах, один обобщает. — Три человека? — хмыкнул Хэл. — Не похоже, чтобы этим убийствам придавали такое уж большое значение. — Сотрудники ФБР вынуждены браться за несколько дел сразу, — объяснила Джулия. — Последние лет тридцать им приходится несладко: судьи взяли моду сажать преступников только на короткие сроки, и сейчас на свободе разгуливает столько уголовников, что у ФБР на всех и сотрудников не хватит. Так что три человека, которые постоянно занимаются одним делом, — это по нынешним временам уже много. Ли вынул из пачки бумаг одну и выделил из того, что в ней содержалось, самое главное. — Кое в чем эти убийства очень похожи. Во-первых, на телах всех жертв обнаружены следы зубов. Чаще всего на горле, но иной раз убийца не обходит вниманием и другие части тела. Во-вторых, у многих замечены увечья, травмы головы. И все-таки главная причина смерти не они, а потеря крови в результате укусов — чаще всего в области яремной вены и сонной артерии. — Так он еще и вампир в придачу? — спросил Хэл. Джулия отнеслась к его вопросу вполне серьезно. В этом кошмарном деле нельзя отбрасывать ни одно, даже самое бредовое предположение. — Может, и вампир, но только не в том смысле, что он-де выходец с того света. Судя по тому, что нам известно о Поллардах, все они почему-то наделены невероятными способностями. Знаешь фокусника, который выступает по телевизору, Рэнди Чудодея? Он как-то вызвался заплатить сто тысяч всякому, кто сумеет доказать, что обладает редкостными психическими возможностями. Так вот, если бы Полларды приняли его вызов, плакали бы его денежки. Тут никакой мистики. Они вовсе не демоны, не дети сатаны, не одержимые бесами. — Всему виной просто генетические отклонения, — подсказал Бобби. — Вот-вот. И если у Золта действительно замашки вампира и он кусает свои жертвы, то лишь потому, что страдает психическим заболеванием. Это вовсе не значит, что он какая-то нежить. Бобби живо представил белобрысого гиганта, который гонялся за ними под проливным дождем по черному пляжу Пуналуу. Здоровый, как паровоз. Если бы Бобби предложили: «Выбирай, кто будет твоим противником — Золт Поллард или граф Дракула», он предпочел бы сиятельного упыря. Попробуй-ка справься с братцем Фрэнка такими немудреными средствами, как крест, чеснок или осиновый кол, воткнутый в надлежащее место. — Есть еще одно совпадение, — продолжал Ли. — В целом ряде случаев двери и окна домов, где жили жертвы, были заперты изнутри. Как убийца ухитрился проникнуть в дом, как выбрался из дома — непонятно. Не иначе вылезал через каминную трубу. — Семьдесят восемь случаев. — Джулия поежилась. Ли бросил бумаги на стол. — Может, и больше. Гораздо больше. Иногда этот тип старался замести следы и, чтобы полиция не обнаружила укусы, наносил все новые увечья. Бывало, даже сжигал тела. Так что семьдесят восемь случаев — это считая только те, когда полиции удавалось разгадать его хитрость. Вот я и говорю: семьдесят восемь случаев — наверняка лишь часть его преступлений, и то за последние девять лет. — Отличная работа, Ли, — сказала Джулия. И Бобби похвалил сотрудника. — Я еще не закончил, — возразил Ли. — Вот только закажу по телефону пиццу — и опять за дело. — Да будет тебе. Ты уже десять часов работаешь не разгибаясь, — посочувствовал Бобби. — Отдохнул бы. — Если бы ты, как я, верил, что время — категория субъективная, у тебя в запасе была бы целая вечность. Вот вернусь домой и представлю, что несколько часов — все равно что две недели, а завтра приду на работу как огурчик. Хэл Яматака покачал головой и вздохнул. — Да уж. Ли, что касается всякой восточной мистики на постном масле, тут тебе и карты в руки. Ли загадочно улыбнулся. — Спасибо за комплимент.* * *
Бобби и Джулия отправились домой укладывать вещи — завтра им предстоит поездка в Санта-Барбару. Ли вернулся к своим компьютерам, а Хэл остался в кабинете шефа, растянулся на диване, сбросил туфли, положил ноги на журнальный столик и снова раскрыл роман Макдональда «Последний оставшийся». Вчера в больнице он начал перечитывать его уже в третий раз. Если предсказание Бобби сбудется и Фрэнк пропал навсегда, то нынешний вечер пройдет без происшествий и Хэл сможет дочитать до середины. Может, работа в агентстве приглянулась Хэлу вовсе не потому, что она сулит захватывающие приключения. Может, дело не в том, что ремесло садовника для него чересчур банально, а тут у него имеется хоть и хилый, но все-таки шанс стать героем. Скорее всего он пренебрег наследственной профессией до другой причине: разве смог бы он стричь газоны и кустарники, сажать цветы и в то же время наслаждаться детективным романом?* * *
Дерек сидел в кресле. Он навел пульт на телевизор, и в телевизоре засветилась картинка. — Хочешь смотреть новости? — Нет, — сказал Томас. Он лежал на кровати, подперевшись подушками, и смотрел, как за окном чернеет ночь. — И хорошо. Я тоже не хочу. — Дерек нажал кнопку на пульте. Картинка поменялась. — А викторину смотреть хочешь? — Нет. — Томас хотел не смотреть, а следить за Бедой. — И хорошо. — Дерек снова нажал кнопку. Новая картинка. — А хочешь смотреть, как дядьки кривляются, чтобы было смешно? — Нет. — А что хочешь смотреть? — Все равно. Выбирай сам. — Сам? — Выбирай сам, — повторил Томас. — Вот красота, — обрадовался Дерек, и на экране замелькали картинки. Наконец он выбрал одну: кино про космонавтов. Космонавты в своих костюмах бродят по страшной планете. Дерек блаженно вздохнул. — Это хорошее. Какие у них шапки здоровские. — Шлемы, — поправил Томас. — Я тоже такой хочу. Пускаясь в черную ночь на поиски Беды, Томас на этот раз представил себе не мысленную ниточку, а лучевое ружье, которое стреляет невидимыми лучами. Ух и отлично стреляет! Бах — и Томас возле Беды. А волны от нее сегодня сильные-пресильные. Томас перепугался, нажал кнопку на ружье и вернулся в самого себя, который лежал на кровати. — У них в шапках телефоны, — догадался Дерек. — Наверно, космонавтам нарочно дают по шапке, чтобы в них говорить. А космонавты в телевизоре забрались в совсем уж кошмарное место. Вечно они лезут туда, где жутко. А там их всегда поджидают злючие-страшущие ужасы. Сколько раз уже нарывались и все равно лезут. Томас отвел взгляд от телевизора. Посмотрел в окно. В темноту. Бобби боится за Джулию. Он чего-то такое знает. А Томас чего-то такого не знает. Ну, раз Бобби боится за Джулию, тогда Томас должен ничего не бояться и Действовать С Умом. А следить за Бедой лучевым ружьем намного удобнее. И добираться до нее быстрее, и удирать. Значит, можно чаще к ней подкрадываться, и не страшно, что она ухватит, как мысленную ниточку, и проберется следом за тобой в интернат. Луч из ружья попробуй ухвати. Уж на что Беда прыткая, хитрая, злая — все равно не ухватит. Томас вновь мысленно нажал кнопку на лучевом ружье — и опять к Беде. Чувствует — злится Беда, никогда еще так не злилась. Только и думает что про кровь. Томаса от ее мыслей чуть не стошнило. Он даже хотел вернуться в интернат. Беда-то поняла, что он рядом, а это нехорошо, что она поняла. Но Томас все-таки задержался па чуть-чуть: нет ли среди этих мыслей про кровь другой мысли — про Джулию? Тогда он сразу протелевизит Бобби, чтобы он был настороже. Нет, про Джулию ничего. И Томас лучиком помчался обратно в интернат. — Где достать такую шапку? — не унимался Дерек. — Шлем. — Ух ты, в ней и лампочка есть. Видишь? Томас привстал на кровати. — Знаешь, какое это кино? Дерек покачал головой. — Какое? — Такое, что сейчас какая-нибудь злючка-страшучка прыгнет на космонавта и присосется клипу или, может, влезет к нему в рот и в животе сделает гнездо. Дерек брезгливо поморщился. — Фу! Мне такое кино не нравится. — Знаю. Я потому и предупредил. Дерек не хотел смотреть, как злючка-страшучка станет сосать космонавту лицо. Он схватил пульт, и в телевизоре побежали картинки. А Томас лежал и думал: когда в следующий раз подкрасться к Беде? Бобби очень беспокоится. Притворяется спокойным, а все равно видно, что неспокоен. А ведь Бобби не глупый. Надо почаще следить за Бедой: вдруг она подумает про Джулию и бросится ее искать? — А это хочешь смотреть? — спросил Дерек. В телевизоре была картинка: дядька в хоккейной маске и с большим ножом в руке тихо-тихо подбирается к кровати, а в кровати спит девочка. — Давай другую картинку, — попросил Томас.* * *
Добираться домой было одно удовольствие. Движение на дорогах к этому часу уже рассосалось. Джулия знала кратчайший путь как свои пять пальцев и чихать хотела на осторожность и правила дорожного движения. По пути Бобби рассказал жене про таракана из Калькутты, которого обнаружил на туфле, когда они с Фрэнком очутились на красном мосту в саду близ Киото. — Потом перенеслись на Фудзияму, гляжу на туфлю — таракана как не бывало. Впереди показался перекресток. Джулия сбросила скорость, но поблизости не было ни одной машины, и Джулия проскочила перекресток не останавливаясь. — Почему ты не сказал об этом в агентстве? — Некогда было вдаваться в подробности. — Куда же, по-твоему, девался таракан? — Я и сам голову ломаю. Совсем извелся. Они миновали Кроуфорд-каньон и выехали на Ньюпорт-авеню. По дороге разливался таинственный желтый свет фонарей. Слева на пологом холме, словно роскошные океанские лайнеры, блистали огнями огромные особняки в тюдоровском и французском стиле. Нашли где ставить такие дома. Во-первых, стоят эти махины бешеные деньги, а занимают чуть не всю площадь маленьких земельных участков. А во-вторых, среди почти что тропической растительности такая архитектура выглядит просто смешно. Очередная калифорнийская блажь. Вообще-то чудачества калифорнийцев даже нравились Бобби, но некоторые действовали на нервы. Вот как сейчас. И чего он взъелся на эти особняки? Или у них с Джулией мало своих забот? Дело, наверно, вот в чем: всякая, даже пустяковая, несуразица напоминает ему про безбрежный хаос, который чуть не поглотил его во время путешествия с Фрэнком. — Чего ты несешься как на пожар? — Надо и несусь, — буркнула Джулия. — Хочу поскорее вернуться, уложить вещи, смотаться в Санта-Барбару, разузнать про Поллардов и скинуть это кошмарное дельце. — В таком случае зачем тянуть канитель? Дождемся Фрэнка, отдадим деньги и алмазы, извинимся и скажем, что он славный малый, но мы выходим из игры. — Это невозможно. Бобби закусил губу. — Ты права. Сам не понимаю, почему мы не можем пойти на попятную. Машина взлетела на вершину холма и свернула на север. Шоссе, ведущее к хребту Рокинг-Хорс, осталось в стороне. Еще пара улиц — и они дома. Притормозив на повороте, Джулия украдкой взглянула на мужа. — Ты действительно не понимаешь, почему мы не в силах послать все к черту? — Нет. А ты понимаешь? — Понимаю. — Так объясни. — Со временем сам сообразишь. — Ладно темнить. На тебя это не похоже. «Тойота» подъехала к знакомому кварталу и двинулась по знакомой улице. — Если я скажу, ты расстроишься, бросишься меня разубеждать, затеешь спор, а я не хочу с тобой спорить. — С чего ты взяла, что мы станем спорить? Вот и дом. Джулия поставила машину на тормоз, выключила фары и двигатель и обернулась к мужу. В темноте глаза ее поблескивали. — Предположим, я объясню, почему мы так носимся с делом Полларда. Только тебе это объяснение придется не по нутру. Из него получается, что мы вовсе не такие добрячки, какими кажемся. Ты возомнил, будто мы ангелы небесные: в жизни-то разбираемся, но по натуре сама невинность. Как Джимми Стюарт и Донна Рид в молодости. Ты у меня фантазер, я тебя за это и люблю. Так что давай обойдемся без объяснений, а то мои слова спустят тебя с небес на землю, ты начнешь доказывать, что я не права, а мне это неприятно. Бобби чуть не кинулся спорить, что спорить не собирается, но, покосившись на жену, вздохнул. — Мне все кажется, будто я боюсь себе в чем-то признаться. Будто когда мы закончим дело и я наконец пойму, почему я так усердствовал, то окажется, что у меня были не такие уж благородные побуждения. Чертова мнительность. Можно подумать, я плохо себя знаю. — Наверно, узнавать себя приходится всю жизнь. И то до конца так и не узнаешь. Джулия наскоро поцеловала мужа и вылезла из машины. Подходя к дому, Бобби взглянул на небо. Недолго же продержалась ясная погода. Луна и звезды скрылись за тучами. Бобби смотрел в непроглядную темень наверху, и его томила невесть откуда взявшаяся мысль, что из черной бездны на них низвергается огромная, страшная тяжесть. Что за тяжесть — Бобби не видел: черное на черном не разглядишь. Но он точно знал, что гибельная громада приближается к ним все быстрее и быстрее.Глава 51
Золт сдерживал гнев, словно бешеного пса, грозящего сорваться с цепи. Он по-прежнему раскачивался в кресле. Невидимый пришелец уже несколько раз прикасался к затылку Золта. Сперва рука ложилась на голову легко, как шелковая перчатка, и мгновенно отдергивалась. Тогда Золт прикинулся, будто ему нет дела ни до незримого гостя, ни до его руки. Гость успокоился, осмелел, прикосновения сделались решительнее. Чтобы не спугнуть пришельца, Золт не стал ворошить его мысли, и все же кое-какие слова и образы до него долетали. Гостю, наверно, невдомек — это ведь даже не мысли, а брызги мыслей, крохотные, как капли, падающие из прохудившегося ржавого ведра. Несколько раз Золт уловил имя «Джулия». А однажды вместе с именем промелькнул ее образ: симпатичная темноглазая шатенка. Сама ли Джулия прикасалась к Золту или это знакомая незваного гостя, Золт не разобрал. Может быть, никакой Джулии вообще не существует. Какая-то она неземная: от нее исходило бледное свечение, а лицо такое доброе и безмятежное, как у святых на картинках из Библии. То и дело до Золта доносилось слово «ползучок». Иногда он различал целые фразы с этим словом: «помни про ползучка», «не попадись, как ползунок». После этого слова незнакомец всякий раз убирал руку. Но ненадолго. Золт изо всех сил старался, чтобы он не почуял недоброе. Кресло качалось, поскрипывало: «Скрип… скрип… скрип…» Золт ждал. Сознание отрешенно внимало чужим мыслям. «Скрип… скрип… скрип…» Дважды всплыло имя «Бобби». На второй раз вслед за именем появился расплывчатый образ: еще одно лицо, и тоже очень доброе. Воображение незнакомца явно приукрасило его облик, как и облик Джулии. Черты Бобби вызвали у Зол та глухие воспоминания, но Бобби он увидел не так отчетливо, как Джулию, а приглядеться пристальнее нельзя: пришелец почувствует его любопытство и упорхнет. Золт долго и терпеливо приваживал пугливого незнакомца. Он ловил новые слова и образы, но понять, что за ними стоит, не было никакой возможности: «Космонавты в скафандрах… Беда… Тип в маске хоккеиста… Интернат… Глупые… Халат, половина шоколадки…» И вдруг — отчаянная мысль: «Заведутся Тараканы — нехорошо. Надо Поддерживать Чистоту». Минут на десять связь прервалась. Золт встревожился: не убрался ли незнакомец насовсем? Но неожиданно чужие мысли нахлынули с новой силой. Между Золтом и незнакомцем возникла прочная связь. Почувствовав, что гость больше не боится, Золт решил: пора. Он представил, что его сознание — стальная мышеловка, а гость — любопытная мышь. Пружина сорвалась с места, щелк — стальная скоба крепко прижала незнакомца. Ошеломленный гость рванулся, но Золт потащил его по связующему их телепатическому мосту, пробиваясь в разум чужака, чтобы вызнать, кто он, где находится, что ему нужно. Золт не мог похвастаться телепатическим даром, тут незнакомец намного его превосходил. Прежде Золту никогда не случалось читать чужие мысли, он не знал даже, как к этому приступить. Оказалось, что и делать-то ничего не надо — только распахнуть свое сознание и воспринимать. Незнакомца звали Томас, он до смерти испугался Золта, струсил от того, что Поступил По-Глупому, и ужаснулся, что Джулии из-за него не поздоровится. Стреноженный этим трёхликим страхом, он уже не мог сопротивляться, и на Золта обрушился целый поток беспорядочных мыслей. Разобраться о сумятице мыслей и образов было нелегко. Золт лихорадочно выхватывал любые сведения, по которым можно догадаться, кто такой этот Томас и где он живет. «Глупые, Сьело-Виста, интернат, у всех тут низкиекуры, вкусно кормят, телевизор, Тут Мы Как Дома, санитарки добрые, смотрим на пересмешников, в большом мире плохо, в большом мире нам жить трудно. Сьело-Виста, интернат…» Новое дело! Пришелец-то умственно отсталый! В потоке мыслей Золт разобрал слова «болезнь Дауна». Вдруг он настолько туп, что не знает, где расположен интернат Сьело-Виста — кажется, там он живет. Тогда, сколько бы Золт ни рылся в его мыслях, ответа все равно не найти. Но тут в потоке мыслей пронеслась череда прочно сцепленных образов: воспоминания, которые до сих пор причиняют Томасу боль. Вот он едет в машине с Бобби и Джулией, они впервые везут его в интернат и собираются там оставить. В отличие от прочих мыслей и воспоминаний, эти были живые, внятные, со множеством подробностей. Перед Золтом словно прокручивалась кинолента. Из этих воспоминаний он узнал все, что нужно. Он рассмотрел дорогу, по которой шла машина, указатели, которые проносились мимо, каждый поворот — ведь Томас отчаянно старался запомнить путь, по которому они едут. Он твердил себе: «Если мне там не понравится, если со мной станут плохо обращаться, если мне будет страшно и одиноко, вернусь к Бобби и Джулии. Захочу — и вернусь. Надо только запомнить дорогу. Так. Табличка: «7-11». Тут поворот. «7-11» — поворот. Не забыть бы. Дальше по дороге — три пальмы. Вдруг они не будут меня навещать? Нет, так думать нехорошо. Они меня любят, они обязательно приедут. А если нет? Дальше — дом. Не забыть: дом с голубой крышей…» Золт не пропустил ни одной детали. Скоро он знал дорогу в Сьело-Виста так, что мог бы добраться туда с закрытыми глазами, — лучше ему не смог бы объяснить и географ по карте. Чудесный дар сделал свое дело. Золт открыл воображаемую мышеловку и отпустил Томаса. Поднялся с кресла. Представил себе интернат Сьело-Виста. Представил отчетливо — точно таким, каким он запечатлелся в сознании Томаса. Вот она, комната Томаса. Первый этаж, северное крыло, окна выходят на запад. Мрак, мельтешня жарких искр в черной бездне, полет.* * *
Так как Джулии не терпелось развязаться с делом Полларда, они заскочили домой всего на пятнадцать минут, прихватили туалетные принадлежности и кое-что из одежды и тронулись в путь. Да еще заехали в «Макдоналдс» на Чапмен-авеню и запаслись едой на дорогу: несколько биг-маков, жареная картошка, диетическая кока-кола. Не успел Бобби разложить пакетики с горчицей и открыть коробки с биг-маками, как «Тойота» уже выехала на шоссе Коста-Меса. Джулия укрепила на зеркальце заднего вида антирадар и подключила его к прикуривателю. Никогда еще Бобби не приходилось закусывать на такой скорости — спидометр показывал сто сорок километров в час. Едва он закончил ужин, как машина уже приближалась к шоссе Фут-Хилл к северу от Лос-Анджелеса. Час «пик» давно миновал, но при этакой гонке приходилось то и дело перескакивать с полосы на полосу — тут никаких нервов не хватит. — Ну ты и гонишь. Чует мое сердце: если мне и суждено вскорости отдать концы, то никак не от избытка холестерина в биг-маке. — Ли говорит, от холестерина не умирают. — Не умирают, значит? — Он считает, что смерти нет. Подумаешь — холестерин. Уйдем из этой жизни чуток пораньше — и все дела. Выходит, если машина опрокинется и пару раз перевернется, бояться нечего. — Ну уж и опрокинется. Ты у меня классный водитель. — Спасибо, Бобби. А ты классный пассажир. — Вот только… — Что — вот только? — Раз уж смерти нет, можешь и дальше нестись сломя голову, это меня не беспокоит. Я вот чего в толк не возьму: какого черта я тогда покупал диетическую кока-колу?* * *
Томас скатился с кровати, вскочил на ноги. — Дерек, беги! Она идет! Но Дерек не слышал: он смотрел на говорящую лошадь в телевизоре. Телевизор стоял посреди комнаты, между кроватей. Томас бросился к Дереку, хотел растормошить, крикнуть ему в самое ухо, но тут раздался чудной звук. Не в смысле смешной — в смысле страшный. Похоже на свист — и вроде не свист. А еще ветерок налетел. Пахнул пару раз и затих. Не теплый, но и не холодный, и все-таки у Томаса — мурашки по коже. Томас стащил Дерека с кресла. — Ну беги же, беги! Идет Беда. Помнишь, я говорил? Беги! А Дерек посмотрел на него по-глупому и улыбнулся. Он подумал, Томас хочет его рассмешить — как дядьки по телевизору. Забыл про свое обещание. Он ведь решил, что Беда — это яйца всмятку, а на ужин яиц всмятку не давали, значит, Беда миновала. А она не миновала. Но Дерек этого не знает. И опять чудной свист. И ветерок. Подтолкнув Дерека к двери, Томас крикнул: — Беги! Свист оборвался. Ветер тоже. И вдруг откуда ни возьмись — Беда. Появилась и стоит между ними и открытой дверью. Так и есть: Беда — человек. Нет, не просто человек. Это существо вылепилось из мрака, из ночи, заплеснувшейся в окно. И дело не в том, что на нем черная майка и черные брюки. Томас чувствовал, что у него и внутри черным-черно. Дерек сразу испугался. Как увидел, так и понял, что перед ним Беда. А что бежать поздно, не понял. И бросился к двери, прямо навстречу Беде. Конечно, такого здорового дядьку с ног не собьешь, а Дерек хоть и глупый, но это даже глупый сообразит. Наверно, он хотел проскочить мимо. Незнакомец не дал ему уйти. Он ухватил Дерека и поднял в воздух — легко, как подушку. Дерек закричал, и страшный дядька со всей силы брякнул его об стенку. Крик смолк, со стенки попадали фотографии Дерековых папы и мамы и брата. И не с той стенки, об которую ударился Дерек, а с противоположной, где его кровать. Просто ужас, какой он быстрый, этот злодей. Самое страшное в нем, что он такой быстрый. Он еще раз брякнул Дерека об стенку. У Дерека открылся рот, но оттуда не вылетело ни звука. А Беда его — опять об стенку, еще сильнее, хотя и в первый раз было сильно. Глаза у Дерека сделались чудные-пречудные. Тогда дядька оттащил его от стенки — и об стол. Стол заходил ходуном, вот-вот рассыплется на части, но все-таки выдержал. Голова Дерека свесилась со стола, Томас увидел его лицо вверх тормашками: глаза вверх тормашками моргали часто-часто, рот вверх тормашками разинут, но ничего не слышно. Томас перевел глаза на странного дядьку. Тот смотрел на него и ухмылялся, как будто все это в шутку, для смеху. А это совсем и не смешно. На краешке стола лежали ножницы, которыми Томас вырезал картинки для стихов. Когда Дерек ударился об стол, они чуть не упали. Страшный дядька схватил их и воткнул в Дерека, и из него пошла кровь. Дерека — ножницами! Бедного Дерека, который в жизни никому ничего плохого не сделал, разве что себе! Дерека, который даже не знает, как оно делается, плохое! А страшный дядька воткнул ножницы в другое место, и оттуда тоже пошла кровь. И еще, и еще. И вот уже кровь идет из четырех дырок на груди и на животе. И изо рта, и из носа. Тогда страшный дядька снял его со стола и швырнул, как подушку. Нет, как мешок с мусором — так мусорщики бросают мешки в мусорную машину. Дерек упал на кровать. Лежит на спине, а спереди торчат ножницы. Лежит и не шевелится. И Томас догадался, что Дерек уже не здесь, а в Гиблом Месте. Самое страшное, все так быстро — Томас даже не успел сообразить, как спасти Дерека, По коридору — топ-топ-топ — кто-то бежит. Томас позвал на помощь. В дверях показался санитар Пит. Он увидел Дерека, ножницы, кровь из всех дыр, и на него напал страх. Сразу взял и напал. Пит повернулся к Беде и спросил: — Кто… Страшный дядька схватил его за шею, и Пит захрипел, будто у него что-то застряло в горле. Он обеими руками вцепился в дядькины руки, но у Беды одна рука — прямо как его две. Пит дергает, дергает, а этот страшный не отпускает. Потом поднял Пита за шею, так что у того голова запрокинулась, ухватил за ремень и швырнул в коридор. Пит налетел на медсестру, и они повалились на пол. Кричат, барахтаются. Все так быстро — часы только несколько раз тактакнули. Страшный дядька громко захлопнул дверь и увидел, что она не запирается. Тогда он сделал самую страшную, самую странную странность: он вытянул руки, и из ладоней полился синий свет — как из фонарика, только в фонарике он не синий. Вокруг дверной ручки, по краям двери и по петлям засверкали искры. Металл задымился, стал плавиться, как масло в картофельном пюре. Дверь была Огнеупорная. Томаса предупреждали: если в коридоре вспыхнет пожар, закрой дверь и никуда из комнаты не выходи. Дверь потому и называется Огнеупорная, что огонь через нее не пробьется. Томас еще удивлялся: двери разве бывают упорные? Но вслух не спрашивал. А не горела она потому, что была из металла. И вот металл плавился, дверь прикипала к металлическому косяку. Теперь отсюда не выйти. В дверь стучали, пытались ее высадить, но она не поддавалась. Из коридора доносились голоса. Они звали Томаса и Дерека. Некоторые голоса Томас узнал. Он хотел крикнуть: «Помогите! Беда!», но не мог выговорить ни слова, совсем как Дерек. Страшный дядька перестал светить синим светом. Повернулся к Томасу. Улыбнулся. Недобрая у него улыбка. — Томас? У Томаса ноги подкосились. Как он не шлепнулся на пол, непонятно. Он прислонился к стене возле окна. Может, открыть окно и выскочить? Их же учили, как Действовать Во Время Пожара. Нет, не успеет: Беда быстрая-пребыстрая. Страшный дядька шагнул к нему. Еще шагнул. — Ты Томас? Томас не мог выдавить из себя ни звука. Он только открывал рот, как будто говорит. А что, если не признаться, что он Томас? Может, Беда поверит и уйдет? И он тут же опять научился говорить. — Нет. Я… нет… не Томас. Томас в большом мире. У него высокий кур, он дебил с высокими показателями. Ему сказали, чтобы он лучше жил в большом мире, вот. Страшный дядька засмеялся. И смех у него не смешной, а очень-преочень нехороший. — Что ты за зверь — не пойму. Откуда ты такой взялся? Надо же: полный кретин, а вытворяет такое, что даже мне не под силу. Как же это, а? Томас молчал. Он не знал, что ответить. Ну чего они барабанят в дверь? Так ее все равно не открыть. Попробовали бы по-другому. Полицейских бы позвали, пусть принесут открывалку, которой открывают попавшие в аварии машины, чтобы люди выбрались, — Томас видел по телевизору. Лишь бы полицейские не сказали: «Извините, но для интернатских дверей открывалка не годится, только для машин». Тогда никакой надежды. — Ты что, язык проглотил? — прорычал страшный дядька. Кресло, в котором Дерек сидел перед телевизором, теперь валялось на полу между Томасом и Бедой. Дядька протянул к креслу руку — одну руку, — а из нее как ударит синий свет. Кресло — в щепки. Тоненькие, как зубочистки. Томас едва успел закрыть лицо, а то бы щепки попали в глаза. Щепки вонзились в руки, в щеки, в подбородок. Даже в рубашку на животе, колючие такие. Но Томас с перепугу боли не чувствовал. Он убрал руки, открыл глаза посмотреть, где страшный дядька. А он стоит совсем близко, и вокруг плавают пушистые клочья из обивки кресла. — Томас? — снова спросил дядька и схватил Томаса за горло, как Пита. И Томас услышал собственный голосок. Будто не он говорит, а кто-то другой. И слова не его, а чужие: — Ты не умеешь Общаться. Страшный дядька, не выпуская Томаса, схватил его за ремень, оторвал от стены, поднял в воздух и грохнул об стенку, как Дерека. Сил нет как больно!* * *
Дверь из гаража в дом запиралась только на замок, цепочки на ней не было. Клинт сунул ключи в карман и прошел на кухню. Было десять минут девятого. Фелина сидела за столом и в ожидании мужа читала журнал. Она подняла глаза, улыбнулась, и сердце Клинта затрепетало. Как в слезливом романе, ей-богу. Что же это такое с ним делается? До встречи с Фелиной он никого к себе в душу не пускал. Он предпочитал до всего доходить своим умом, без посторонней помощи, не имел привычки плакаться в жилетку друзьям и очень этим гордился: всякая близость может принести боль и разочарования, а он от них застрахован. Но когда Клинт впервые увидел Фелину, у него дух захватило, и он понял, что от его неуязвимости не осталось и следа. Понял и обрадовался. До чего ей идет это простенькое синее платье с красным поясом и красными, в тон ему, туфлями. Удивительная женщина: сильная, но нежная, волевая, но хрупкая. Фелина встала. Клинт подошел к жене, они обнялись и припали друг к другу губами. Ни слова, ни знака — просто стояли и целовались. В эту минуту Клинту больше всего на свете хотелось тоже оглохнуть и онеметь. И чтобы ни он, ни Фелина не умели читать по губам, не умели объясняться знаками. Потому что сейчас нет для них большей радости, чем просто быть вместе. А слова — что слова? Разве ими выскажешь, что у них в этот миг на душе? — А у нас сегодня такое случилось, — наконец выпалил Клинт. — Еле дождался, чтобы тебе рассказать. Только приведу себя в порядок, переоденусь, а в половине девятого отправимся в «Капрабелло», сядем в уголке, закажем вина, спагетти, гренки с чесночным соусом. «И изжога нам обеспечена», — докончила Фелина. Клинт расхохотался. В самую точку! «Капрабелло» — мировое местечко, но еда там острая — сил нет, поэтому удовольствие всякий раз выходит им боком. Он опять поцеловал жену. Фелина вновь взялась за журнал, а Клинт прошел через столовую и по коридору направился в ванную. Там он открыл кран и, дожидаясь, пока пойдет вода погорячее, включил электробритву. Бреясь, он все время видел в зеркале свою ухмылку. Нет, все-таки в жизни ему очень повезло.* * *
Страшный дядька рычал ему в самое лицо, засыпал вопросами. Спрашивает, спрашивает. Да если бы Томас спокойненько сидел в кресле — и то не смог бы ответить на все вопросы. Надо же сперва подумать. А дядька подумать не дает. И Томас ведь не сидит в кресле — дядька прижал его к стене. Спина болела так сильно — Томас чуть не заплакал. — Я наелся, я наелся, — повторял он. Обычно после этих слов к нему с расспросами или рассказами не приставали, чтобы у него в голове все хорошенько улеглось. Но на страшного дядьку эти слова не действовали. Ему все равно, улеглось у Томаса в голове или не улеглось, — он требовал ответа немедленно. Кто такой Томас? Кто его мать? Кто отец? Откуда он? Кто такая Джулия? Кто такой Бобби? Где Джулия? Где Бобби? — Выходит, недаром у тебя морда такая тупая, — проворчал дядька. — Ты и впрямь круглый дурак. Небось и не сообразишь, про что я спрашиваю, а? Он больше не прижимал Томаса к стене, но Томас все равно не доставал ногами до пола. Одной рукой дядька сжимал ему горло, и Томас задыхался. Другой рукой дядька ударил его по лицу. Сильно-пресильно. Томас старался сдержать слезы, а они все льются. Ему было больно и страшно. — Зачем таким недоумкам вообще жить на свете? — сказал дядька. Он разжал руку, и Томас грохнулся на пол. А Беда смотрит на него злорадным взглядом. Ох, и рассердился Томас. Боится, а сердится. И что это на него нашло? Раньше почти никогда не сердился, а теперь вот и боится, и сердится. А дядька глядел на него как на букашку какую-то или сор на полу, который надо вымести. — Я бы таких убивал сразу после рождения. Какая от тебя польза? Тебя бы еще в младенчестве следовало придушить или пустить на котлеты для собак. В большом мире Томасу уже случалось слышать злые слова, ловить злые взгляды. Джулия кричала его обидчикам. Чтобы Они Заткнулись И Проваливали. А Томасу велела: пусть он с ними не церемонится и отвечает: «Фу, как грубо!» Сейчас Томас очень рассердился, и Было За Что. Даже если бы Джулия ему ничего не объясняла, он бы все равно рассердился. Ему иногда и так ясно, что хорошо, а что плохо. Страшный дядька лягнул его ногу. Хотел еще лягнуть, но за окном раздался шум. В окно заглядывали санитары. Они разбили стекло в форточке, и один просунул руку — собирался открыть окно. Страшный дядька услыхал звон и обернулся. Он протянул руку к окну, как будто останавливал санитаров, чтобы они расхотели залезть в комнату. Но Томас понял, что на самом деле он сейчас ударит в них синим светом. Предупредить их? Да ведь они не услышат, а может, и не обратят внимания. И Томас, пока страшный дядька не видит (он как раз отвернулся к окну), начал отползать. Ползти было больно, Томас перепачкался в крови Дерека, разлившейся по полу. Мало того что он сердится и боится, его еще и мутит от крови. Синий свет. Яркий-преяркий. Раздался взрыв. Зазвенело стекло, но громче звона был грохот. Страшный грохот, как будто все окно рухнуло на санитаров, а в придачу кусок стены. Снаружи донеслись крики. Одни быстро оборвались, а другие все неслись и неслись, как будто там, в темноте за разбитым окном, кому-то очень больно, больнее, чем Томасу. И Томас не обернулся. Он уже почти дополз до кровати Дерека, а оттуда, с пола, окна все равно не видно. Да и некогда оглядываться: он наконец сообразил, что делать, куда ползти дальше, пока дядька снова за него не взялся. Раз-два — и он уже у того края кровати, где лежит подушка. Поднял глаза. С кровати свешивалась рука Дерека. Кровь бежала из-под рукава, по руке и — кап-кап-кап с пальцев. Ох, как не хотелось Томасу притрагиваться к мертвому телу, хоть это и тело друга! Но в жизни всегда так: приходится делать и то, что не хочется. Томас уже привык. Он уцепился за край кровати и быстро подтянулся. Он спешил, стараясь не замечать боль в спине и лягнутой ноге, а то заметит — и боль отнимет у него силы. Вот он, Дерек, на кровати. Весь в крови, глаза открыты, рот открыт. И жалко его, и страшно. А из-под него выглядывают фотографии его папы и мамы. Со стенки упали. А Дерек лежит мертвый. Теперь он навсегда останется в Гиблом Месте. Навсегда. Томас взялся за ножницы, которые торчали из тела Дерека, и осторожно вытащил. Ничего, Дереку не больно. Он уже никогда не почувствует боли. — Эй, — окликнул страшный дядька. Томас обернулся. Дядька шел прямо на него И Томас изо всей силы ткнул его ножницами. У дядьки вытянулось лицо. Ножницы воткнулись ему в плечо, и он еще больше удивился. Выступила кровь. Томас выпустил ножницы. — За Дерека, — сказал он. А потом сказал: — И за меня. Он не знал, что из этого получится. Думал, может, пойдет кровь, и дядьке станет больно, и он умрет, как Дерек. Или, может, удастся убежать. В том конце комнаты вместо окна и куска стены теперь дырка с дымящимися краями. Что, если шмыгнуть к ней, вылезти на улицу? Хоть там и ночь, но все равно А получилось такое, чего Томас не ожидал. Страшный дядька будто не заметил, что ему в плечо воткнулись ножницы и что из него течет кровь. Он схватил Томаса и опять поднял его в воздух. И шмякнул о тумбочку Дерека. Больно — больнее, чем о стенку: у тумбочки ручки и острые углы, а у стенки нет. Внутри у Томаса хрустнуло, затрещало. И Томас вдруг сразу перестал плакать. Вот чудеса Больше ему не плачется, точно он выплакал все слезы до капельки. Возле самого его лица — лицо Беды Близко-преблизко. Глаза в глаза. Страшные глаза: голубые, а как будто темные. Вроде бы они снаружи голубые, а под голубым — темнотища, как в дырке, которая вместо окна. И еще вот что чудно. Томас уже не так боялся. Будто из него вышел весь страх — вот как слезы выплакались. Он смотрел в глаза Беде, видел темноту — большую-большую, больше, чем ночь, которая наступает, когда уходит солнце, — и понимал: Беда хочет, чтобы он умер, и сделает так, чтобы он умер, но это ничего. Он всегда думал, что умереть — это очень страшно, а теперь не очень-то и боится. Смерть, конечно, Гиблое Место, и ему туда не хочется, но он вдруг почувствовал странную радость: что-то говорило ему, что там будет не так одиноко, как ему казалось прежде, и даже не так одиноко, как здесь. Там, наверху, кто-то добрый, и он любит Томаса — любит крепче, чем Джулия, даже крепче, чем папа. Кто-то добрый и светлый, без единой темнинки. Такой светлый, что смотреть на него в упор невозможно. Страшный дядька одной рукой прижал Томаса к тумбочке, другой выдернул из плеча ножницы. Вонзил в Томаса. Внутри у Томаса заструился свет. Ярче и ярче. Тот самый любящий свет. Томас понял, что уходит из этого мира. Когда он совсем уйдет, хорошо бы Джулия узнала, как храбро он держался до последней минуты, как перестал бояться, плакать, как ударил Беду ножницами. Совсем забыл: надо же протелевизить Бобби, что идет Беда! И он начал телевизить. Ножницы опять вонзились в Томаса. Нет, телевизить про Беду — это потом. Сперва нужно передать Джулии, что Гиблое Место не такое уж гиблое. Что там свет, и свет ее любит. Она обязательно должна узнать, а то она не верит. Она тоже думает, что там темно и одиноко. И поэтому у нее каждая минута на счету, поэтому она так боится чего-то не успеть, хочет поскорее все перечувствовать, перевидеть, перепробовать, узнать. Поэтому так старается, чтобы Томас и Бобби ни в чем не нуждались, если С Ней Что-Нибудь Случится. И снова ножницы вонзились в Томаса. Ей с Бобби хорошо, но по-настоящему хорошо станет лишь тогда, когда она поймет: не надо злиться из-за того, что все в конце концов уходит в большую темноту. Джулия добрая, ни за что не подумаешь, что на самом деле она все время злится. Томас и сам только что догадался. Свет внутри разгорался все ярче и ярче, и Томас вдруг ясно увидел, что Джулия совсем извелась от гнева. Она злится оттого, что все ее тяжкие труды, все надежды, мечты, поступки, вся ее любовь — все это впустую. Ведь рано или поздно каждый человек насовсем умирает. Снова ножницы… А рассказать ей про свет — она и перестанет злиться. И Томас телевидил, телевизил — и про Беду, и про то, как он любит сестру и Бобби, и про то, что ему сейчас открылось. Только бы все это не перепуталось! «Берегитесь. Беда, идет Беда, там свет, он тебя любит. Беда, я тоже тебя люблю, там свет, свет, ИДЕТ БЕДА…»* * *
В 20.15 «Тойота» мчалась по шоссе Фут-Хилл по направлению к шоссе Вентура, которое пересекало долину Сан-Фернандо и, чуть-чуть не доходя до побережья, на севере сворачивало к Окснарду, Вентуре и Санта-Барбаре. Джулия жала на всю железку, ехать медленнее она просто не могла. Бешеная гонка успокаивала ее; если сбросить скорость ниже девяноста километров в час, у нее окончательно сдадут нервы. Из динамиков стереомагнитофона неслись звуки оркестра Бенни Тудмена. Задорные мелодии с замысловатыми ритмами как нельзя лучше подходили для стремительной езды. Если бы сумрачные вечерние холмы с россыпями огней проносились не за окном, а на киноэкране, музыка Гудмена была бы самым удачным сопровождением таким кадрам. Джулия прекрасно понимала, почему ее лихорадит. Нежданно-негаданно они приблизились к осуществлению своей Мечты. Но стоит ей исполниться — и они утратят все. Все. Надежду. Друг друга. А может, и расстанутся с жизнью. Бобби знал: когда Джулия за рулем, можно не волноваться. Он даже позволил себе немного соснуть, хотя машина летела со скоростью сто тридцать километров в час, а Джулия, насколько ему известно, прошлой ночью спала не больше трех часов. Изредка она поглядывала на мужа и думала: «Какое счастье, что он рядом». Стало быть, Бобби еще не сообразил, почему они лезут из кожи вон, чтобы угодить клиенту, почему, забыв обо всем на свете, гонят в Санта-Барбару, чтобы там копаться в личной жизни Поллардов. Его недоумение только лишний раз доказывает, что Бобби действительно честный малый, каким она его и считала. Ради клиентов ему случается нарушать правила и обходить закон, но при прочих обстоятельствах щепетильнее его в целом свете не найти. Как-то раз они остановились у газетного автомата купить воскресный номер «Лос-Анджелес тайме». Бобби опустил четыре монеты по двадцать пять центов, но автомат опять оказался неисправен и, выдав Бобби номер газеты, три монетки вернул. Бобби тут же бросил их обратно в щель, хотя этот же неисправный автомат прежде не раз глотал его монеты и за несколько лет нагрел Бобби на пару долларов. Джулия посмеялась над чистоплюйством мужа, но Бобби только покраснел и отмахнулся: «Ладно, чего уж там. Эта железяка надует кого-нибудь — и хоть бы хны, а я так не могу». Зато Джулия уже смекнула, почему они так расстарались для Полларда. Загрести сразу столько денег — такая удача выпадает лишь раз в жизни. Тот самый Единственный Шанс, о котором мечтает всякий аферист, да не всякому он достается. Едва Фрэнк открыл сумку, показал им свое богатство и прибавил, что в мотеле у него есть еще, как Бобби и Джулия оказались в положении подопытных крыс, помещенных в лабиринт, в конце которого их дожидается кусок пахучего сыра. Как бы они ни уверяли друг друга, что взялись за дело не из корысти, факт остается фактом. Когда Фрэнк, прошлявшись черт знает где, вернулся в больничную палату и принес с собой триста тысяч долларов, ни она, ни Бобби даже не заикнулись о том, что денежки-то, поди, краденые. А ведь к тому времени стало ясно как божий день, что Фрэнк вовсе не такой уж невинный агнец. Почуяв запах сыра, они не устояли и очертя голову ринулись вперед. Еще бы. Благодаря Фрэнку они получали возможность вскоре бросить каторжную работу и осуществить Мечту быстрее, чем ожидали. Чтобы достичь желанной цели, они не побрезговали бы ни крадеными деньгами, ни сомнительными средствами. Одно утешение, что, поддавшись жадности, они не совсем потеряли совесть: ведь им ничего не стоило прикарманить денежки и бриллианты Фрэнка, а его самого отдать на растерзание его ненормальному брату. А может, и эта добросовестность — попросту уловка, достоинство, которым можно козырнуть, когда они станут упрекать себя за не слишком благородные поступки и порывы? Да, Джулия понимала, откуда у них такое рвение. Но Бобби ничего объяснять не стала. Спорить с ним неохота. Пусть доходит своим умом и решает, как к этому отнестись. Если она сама попытается ему растолковать, он полезет в бутылку. А если и признает, что в ее словах есть доля правды, то станет кивать на Мечту, на благородную цель и в конце концов оправдает любые средства. Но Джулия считала, что цель, достигнутая гнусными средствами, неминуемо теряет свое благородство. Конечно, упустить Единственный Шанс было бы непростительно — соблазн чересчур велик, и все же, не дай бог, чтобы, добившись своего, они обнаружили, что лучезарная Мечта померкла от грязи. Но от этих мыслей решимости у Джулии не убавилось. Она гнала что было духу. Какая-никакая, а разрядка. И потом, при такой гонке страхи улетучиваются, а с ними и осторожность. Осторожность сейчас не нужна, она только помешает Джулии вступить в опасную схватку с Поллардами. А схватки не избежать — иначе Бобби и Джулии не видать несметного богатства, сулящего спокойную жизнь, как своих ушей. Позади «Тойоты» на шоссе не было видно ни одной машины. Джулия пристроилась за каким-то автомобилем и ехала так с четверть километра. Внезапно Бобби вскрикнул, резко подался вперед, словно они вот-вот во что-то врежутся. Ремень безопасности туго натянулся. Бобби схватился за голову, как будто у него сильнейший приступ мигрени. Испуганная Джулия тут же отпустила акселератор и затормозила. — Бобби, ты чего? Хриплым от ужаса и жестким от напряжения голосом, заглушая музыкантов Бенни Гудмена, Бобби произнес: — Беда, берегитесь, Беда, там свет, он тебя любит…* * *
Золт взглянул на окровавленное тело у своих ног. Поторопился он убить Томаса. Надо было перенестись вместе с ним в укромное местечко, а уж там пытками добыть нужные сведения. С таким идиотом пришлось бы провозиться не один час, но игра стоила свеч. Опять же удовольствия больше. Что поделаешь: не сумел с собой совладать. Подобной ярости он не испытывал с того дня, как наткнулся на труп матери. Он хотел отомстить не только за мать, но за всех, кто заслуживает отмщения и до сих пор остается неотомщенным. Господь избрал его орудием своего гнева, и Золт жаждал исполнить свое предназначение — но не обычным способом. Вцепиться в горло грешнику и насытиться его кровью — этого мало. Золту хотелось не просто пить кровь, но упиться ею допьяна, купаться в крови, стоять по колено в кровавых потоках, бродить по земле, пропитавшейся кровью. Пусть только мать не сковывает его ярость запретами, пусть только Господь развяжет ему руки. Вдалеке завыли сирены. Времени в обрез. В плече пульсировала жгучая боль. Ножницы пронзили мышцу и царапнули кость. Ничего: дело поправимое. После путешествия плоть восстановится как надо. Золт бродил по комнате, усыпанной осколками. Найти бы хоть какой-нибудь предмет, который поможет напасть на след этих самых Бобби и Джулии. Они-то, наверно, знают, кто такой Томас и откуда у него этот удивительный дар, который Золт не сподобился унаследовать даже от своей благословенной матери. Золт перетрогал множество предметов и обломков мебели, но в сознании возникали только образы Томаса, Дерека да еще санитаров, которые за ними ухаживали. На глаза ему попался раскрытый альбом, валявшийся возле стола, на котором Золт прикончил Дерека. На страницах причудливо расположены ряды красочных вырезок. Золт поднял альбом, перелистал. Что за штука такая? Он попытался разглядеть лицо последнего, кто держал альбом в руках. На сей раз повезло: он наконец увидел кого-то, кроме обитателей этого заведения, — не санитара, не идиота. Ладно скроенный малый. Ростом пониже Золта, но не менее крепкий. Вой сирен с каждой секундой приближался. Золт правой рукой провел по обложке альбома. Кто он?.. Кто?.. Иногда таким способом удавалось узнать много, иногда не очень. Сегодня этот способ — его последняя надежда. Если он не поможет, все пропало: тайна редкостных способностей недоумка так и останется неразгаданной. Кто он? Так. Имя уже известно. Клинт. Сегодня Клинт сидел в кресле Дерека и листал альбом с непонятными вырезками. Теперь надо выяснить, куда он отправился из этой комнаты. Есть. Вот он мчит по шоссе в «Шевроле». Заехал в контору под названием «Дакота и Дакота». Затем — снова шоссе, снова «Шевроле». Вечером он въезжает в местечко, которое называется Пласентия, и останавливается возле небольшого домика. Сирены совсем близко. Должно быть, машины сворачивают на стоянку интерната. Золт бросил альбом. Пора. Но прежде, чем телепортироваться, ему предстоит осуществить один замысел. Когда Золт узнал, что Томас недоумок и что в Сьело-Виста таких полный интернат, он был уязвлен до глубины души и пришел в ярость. Это заведение следует стереть с лица земли! Он расставил руки. Между ладонями заиграл лазурный свет. В детстве, после того как ему разрешили не ходить в школу, соседи и знакомые распускали про него с сестрами обидные слухи. Лилли и Вербена не обращали на них внимания: по внешности близнецов и их поступкам нетрудно было догадаться, что у них не все дома, и сестры не обижались, что их считают недоразвитыми. Другое дело Золт. Местные простофили вбили себе в голову, что он не ходит в школу, потому что тоже с придурью и учеба ему не дается (из всех четверых только Фрэнк ходил на уроки, как нормальные дети). И все вокруг решили, что Золт тоже недоразвитый. Лазурный свет начал стягиваться в шар. Вбирая бившую из ладоней энергию, шар густел, лазурь становилась темнее и темнее. Казалось, в воздухе между ладонями Золта висит осязаемый предмет. На самом деле никаких трудностей с учебой у Золта не было. Наоборот, он отличался сообразительностью. Мама сама учила его читать, писать и считать. Услыхав, что соседи ославили его как придурка, он был вне себя от бешенства. Он-то знал, что в школу его не пускают по другой причине — в основном из-за половых отклонений. Но, когда Золт подрос и возмужал, разговоры про его умственную неполноценность и шуточки стихли — по крайней мере, он их больше не слышал. Сапфировый шар казался твердым, как настоящий сапфир. Вот только величиной не похож: с бейсбольный мяч. Еще чуть-чуть — и готово. Ни за что ни про что объявленный недоумком, Золт не проникся сочувствием к тем, кто действительно отстает в умственном развитии. Он всей душой презирал таких кретинов и рассчитывал, что, заметив это презрение, даже самые тупые из соседей сообразят: ставить Золта в один ряд с дебилами нельзя. А то эти нелепые слухи о нем и о его сестрах оскорбляют их мать, ибо столь благочестивая женщина просто не могла произвести на свет дебила. Золт остановил поток энергии и опустил руки. С минуту он, улыбаясь, разглядывал висевший в воздухе шар. Теперь ненавистному интернату не поздоровится. Из пролома, зиявшего на месте окна, несся оглушительный вой сирен. Он перешел в натужный визг, сменился тихим ворчанием и стих. — Спасатели приехали, Томас! — захохотал Золт. Он поднес руку к сапфировому шару и толкнул его. Шар пронесся по комнате, как пущенная из шахты баллистическая ракета, и просадил стену над кроватью Дерека. Сквозь неровную брешь в стене, какую оставляет пушечное ядро, было видно, что шар мчится дальше, пробивая стены и выбрасывая языки пламени, от которых все на его пути начинает полыхать. Золт услышал крики и громкий взрыв. Убедившись, что все идет как надо, он растворился в воздухе и перенесся в Пласентию.Глава 52
Бобби стоял на обочине шоссе, ухватившись за открытую дверь машины, и тяжело дышал. Сперва думал — стошнит, но обошлось. — Оклемался? — озабоченно спросила Джулия. — Да… кажется. Мимо проносились машины, обдавая Бобби порывами ветра и ревом моторов. Им владело странное чувство — будто и он, и Джулия, положившая руку ему на плечо, и «Тойота», за дверь которой он уцепился, по-прежнему мчатся с дикой скоростью, чудом сохраняя равновесие и не сворачивая с полосы. На самом деле они с Джулией брели рядом с «Тойотой», которая тихо катилась сама по себе. Он никак не мог опомниться. Сон сразил его наповал. — Это даже и не сон, — объяснял он, не отрывая взгляда от камешков на обочине и предчувствуя новый приступ тошноты. — Про нас с тобой, про музыкальный автомат, про кислотный океан — это я видел во сне, а сейчас — ничего похожего. — Но опять про «беду»? — Да. И все-таки не сон. Эти слова… как будто их кто-то произносит, и они отдаются у меня в мозгу. — Кто произносит? — Не знаю. Бобби наконец решился поднять голову. Перед глазами все поплыло, однако тошнота больше не подступала. — Беда… берегитесь… там свет… он тебя любит, — бормотал Бобби. — Я запомнил слово в слово. Так отчетливо, так внятно, будто мне к самому уху поднесли мегафон. Нет, не то… Я ведь не слышал эти слова, они сами вспыхнули в мозгу. Вспыхнули… как бы это получше выразиться? Громко вспыхнули. Не картинки, как во сне, а ощущения. Бессвязные, но отчетливые. Ужас и радость, злость и прощение… а под конец — такой странный покой. Не знаю, с чем его и сравнить. Навстречу по шоссе грохотал грузовик с огромным прицепом. Позволяют же им возить такие махины. Сверкая фарами, он выплыл из тьмы, словно Левиафан из океанских глубин — воплощение животной силы, холодной ярости, чудовищной ненасытности. Когда он поравнялся с «Тойотой», Бобби почему-то вспомнился человек, который преследовал его на пляже в Пуналуу. Он зябко передернул плечами. — Ну как, отошел? — спросила Джулия. — Да. — Точно? — Голова немного кружится. А так ничего. — Что будем делать дальше? Бобби посмотрел на жену. — Как что? Поедем в Санта-Барбару, в Эль-Энкан-то-Хайтс и доведем дело до конца… так или этак.* * *
Золт материализовался в сводчатом проходе между гостиной и столовой. В обеих комнатах — никого. В глубине дома раздавалось жужжание. Золт прислушался. Все ясно, электробритва. Но вот жужжание прекратилось. Зажурчала вода в раковине, загудел вентилятор в ванной. Золт решил было пробраться в ванную и ошеломить врага внезапным нападением, но услышал с другой стороны шелест бумаги. Через гостиную он прокрался в кухню. Кухня была не такая просторная, как у них дома, зато здесь царила идеальная чистота и порядок, а у них в кухне после смерти матери толком не прибирались. За столом сидела женщина в синем платье. Она склонилась над журналом и перелистывала страницы — видно, искала что-нибудь интересное. Золт умел управлять своими телекинетическими способностями увереннее Фрэнка. Телепортировался он быстрее и успешнее и при этом не производил таких колебаний воздуха и такого шума от потока молекул. И все-таки странно: он материализовался в двух шагах от кухни, а женщина даже не вышла посмотреть, что тут за возня. Она перевернула еще несколько страниц и вновь склонилась над журналом. Женщина сидела спиной к двери, и разглядеть ее хорошенько Золту никак не удавалось. Видел густые блестящие волосы — ни дать ни взять черный шелк, сработанный на том же станке, на каком соткалась ночная тьма. Точеные плечи, изящная спина. Женщина сидела на стуле бочком, скрестив статные ноги. Если бы Золт был хоть немного подвержен похоти, при виде этих литых икр он бы распалился не на шутку. «Интересно, какое у нее лицо», — подумал Золт, и вдруг на него накатило неудержимое желание отведать ее крови. Не особенно стараясь ступать тихо, он двинулся к женщине. Она не обернулась. Похоже, она вообще не замечала присутствия Золта, пока он не схватил ее за волосы и не стащил со стула. Женщина отбивалась, извивалась. Он повернул ее к себе, вгляделся в лицо и задрожал от возбуждения. Стройные ноги незнакомки, тугие бедра, тонкая талия, высокая грудь — все это нисколько его не волновало. Да и лицо поразило его вовсе не красотой. Глаза — вот от чего у Золта замерло сердце. Была в этих серых глазах какая-то… жизненная сила, что ли. Таких цветущих, полнокровных женщин Золт еще не встречал. Она не подняла крик, только глухо зарычала не то от страха, не то от ярости и принялась кулаками колотить Золта в грудь, по лицу. Жизненная сила! Плоть незнакомки преисполнена этой силы, так и брызжет ею, и буйное кипение жизни в этом теле воспламеняло Золта сильнее, чем все женские прелести. Из ванной по-прежнему неслось журчание воды, гул и рокот вентилятора. Золт смекнул, что если незнакомка не закричит, то он справится с ней без лишнего шума. И, чтобы она не успела вскрикнуть, он с размаху ударил ее кулаком в висок. Потом еще несколько ударов. Женщина обмякла, повисла на нем. Она не потеряла сознание — удар только оглушил ее. С дрожью предвкушая блаженные минуты, Золт опрокинул ее на стол, раздвинул свешивающиеся со стола ноги и склонился над ней. Нет, насиловать ее у него и в мыслях не было, эта мерзость не для него. Женщина еще не оправилась от удара и, недоуменно моргая, вглядывалась в нависшее над ней лицо. Наконец она поняла, что происходит, и на ее лице отразился ужас. Не дав ей окончательно опомниться, Золт припал к ее горлу и вонзил зубы. Во рту растеклась чистая, сладкая, пьянящая кровь. Женщина отчаянно забилась. Сколько в ней жизни! Просто не верится. Но скоро она иссякнет.* * *
Получив у разносчика пиццы свой заказ. Ли Чен отправился в кабинет Бобби и Джулии угостить Хэла. Хэл отложил книгу, однако ноги со стола не убрал. — А ты знаешь, что от этой жратвы станет с твоими артериями? — спросил он. — Дались вам мои артерии. Весь день шпыняете. — Просто жаль, если такой славный вьюноша не, доживет и до тридцати лет. А у нас еще и развлечение пропадет: мы каждый день гадаем, в каком прикиде ты появишься назавтра. — Не беспокойся. Такое шмотьё, как на тебе, ни за что не надену. Хэл заглянул в коробку, которую протягивал Ли. — Недурно. Вообще-то, когда пиццу привозят на дом, считай, что тебя обслужили, а не накормили. Но эта выглядит ничего. По крайней мере можно различить, где пицца, а где картон. Ли поставил коробку на стол, положил рядом крышку, а на нее — два куска пиццы. — Держи. — Жмот. Нет чтобы половину. — А холестерин? — Подумаешь — холестерин! Это же просто животный жир. Не мышьяк ведь.* * *
Сильное сердце женщины не билось. Золт поднялся. Из разодранного горла еще сочилась кровь, но Золт к ней больше не притронулся. Что может быть отвратительнее, чем пить мертвецов? Он вспомнил, как сестрины кошки съедают своих мертвых соплеменниц, и брезгливо поморщился. Хлопнула дверь в ванную. Послышались шаги. Золт, у которого на губах еще не высохла кровь, метнулся в глубь гостиной и встал так, чтобы стол оказался между ним и дверью. Ощупывая альбом идиота, он уже составил представление о Клинте. Сладить с ним будет не так-то просто. Чем устраивать на него засаду, лучше отойти подальше и прикинуть, чего от него ожидать. В дверях показался Клинт. Точь-в-точь таким и представлял его Золт по отпечатку психического образа на обложке альбома. Только одет иначе: серые брюки, темно-синий приталенный пиджак, бордовый жилет, белая рубашка. Мускулистый, накачанный. Густые черные волосы зачесаны назад. Лицо — как тесаный гранит, тяжелый взгляд. Разгоряченный недавним убийством, все еще чувствуя вкус крови, Золт с любопытством разглядывал противника и ждал. Как бы ни разворачивались события дальше, скучать не придется, это уж точно. Но Клинт повел себя неожиданно. Увидев распростертую на столе женщину, он не удивился, не ужаснулся, не вскипел гневом, не пришел в отчаяние. Но что-то в его каменном лице изменилось — точно под земной корой, под мантией земли, сдвинулись тектонические плиты. Он встретил взгляд Золта и произнес только одно слово: — Ты. Золт вздрогнул. Слово прозвучало так, будто Клинт его узнал. Как, неужели от Томаса? Если Томас успел разболтать про него Клинту — а может, и не только Клинту, — то дело плохо. Тогда приключилось несчастье, хуже которого со времени смерти матери не случалось. О том, что Золт принадлежит к воинству мстителей Господних, не должен знать никто, кроме Поллардов. Мать остерегала его: кто трудится во славу Господа, может гордиться своей участью, но всякого, кто, поддавшись гордыне, станет похваляться своим избранничеством перед чужаками ждет погибель. «Сатана только и думает, как бы разузнать имена воевод Господних, к которым причислен и ты. А как узнает, насылает на них червей — толстых, как змеи, — и черви гложут им нутро. А еще обрушивает на них огненный дождь. Не будешь держать язык за зубами — умрешь и за свою болтливость попадешь в ад». — Золт, — сказал Клинт. Сомнений не оставалось: тайна Золта известна не только Поллардам. И хотя Золт ни словом себя не выдал, ему грозит погибель. Он почти что слышал, как в темной бездне, наполненной клубами дыма. Сатана, склонив голову набок, переспросил: «Кто-кто? Как, говоришь, его звать? Золт? Какой такой Золт?» Так кто же рассказал про него Клинту? Томас или не Томас? Золтом владел и страх, и бешенство. Обогнув стол, он двинулся к противнику. Сразу убивать его не стоит, сперва надо выпытать ответ на этот вопрос. Действия Клинта были так же неожиданны, как и его твердокаменная невозмутимость при видепокойницы. Он сунул руку в карман пиджака, выхватил револьвер и выстрелил два раза. Точнее, Золт услышал два выстрела — может, их было и больше. Его отбросило назад. Первая пуля угодила в живот, вторая в грудь. По счастью, Клинт не попал ни в голову, ни в сердце. Если бы пуля поразила ткань мозга, хрупкая загадочная связь между мозгом и сознанием была бы нарушена, Золт не успел бы выпустить свое сознание на волю, и оно навсегда осталось бы узником поврежденного мозга. Тогда Золт не смог бы телепортироваться, и Клинту ничего не стоило бы его добить. А если бы его сердце от меткого выстрела остановилось, то тоже не смог бы телепортироваться и скончался бы на месте. Только так и можно его прикончить. При всех своих чудесных способностях Зол г все-таки не бессмертен. Слава богу, на сей раз ему повезло, и он сумел благополучно перенестись в родной дом.* * *
Шоссе Вентура. Джулия по-прежнему гнала автомобиль, и все же скорость была уже не та. Не умолкал магнитофон. Арти Шоу. «Ночной кошмар». Бобби хмуро смотрел на подернутые вечерним сумраком окрестности. Грозное предупреждение не шло из головы. Оглушительное, как взрыв бомбы, ослепительное, как пламя домны, оно пронзило его насквозь. Сон, приснившийся на прошлой неделе, его больше не тревожил: подумаешь, дурной сон, кому они не снятся? Ну да, он был очень отчетливым, пожалуй, явственнее самой яви, но в нем же ничего сверхъестественного. По крайней мере, Бобби хотелось так думать. Сейчас все, куда страшнее. Трудно поверить, что эти настойчивые, обжигающие, как лава, слова выплеснулись из подсознания. Сны с хитроумной фрейдистской подоплекой наполнены причудливыми картинами и символами. Оно и понятно: подсознание заменяет обыденность эвфемизмами и метафорами. Сейчас же суть дела была выражена без околичностей, открытым текстом, точно слова доносились по телеграфным проводам, вживленным в кору мозга. Стоило Бобби отвлечься от мрачных мыслей, как на него нападал страх. За Томаса. По какой-то неведомой причине чем дольше он размышлял над загадочными словами, тем чаще ему вспоминался Томас. Он-то здесь при чем? Стараясь не отвлекаться, Бобби опять возвращался мыслями к таинственному предупреждению, но в памяти упрямо всплывал образ Томаса. В конце концов у Бобби зашевелилось нехорошее подозрение, что связь тут все-таки имеется. Но какая? Счетчик отсчитывал мили, долина осталась позади, тревога Бобби росла. Он все яснее чувствовал, что Томасу грозит опасность. «Это из-за нас с Джулией», — пронеслось в голове. Что за опасность? От кого она исходит? Для Бобби и Джулии сейчас самая большая опасность — Золт Поллард. И встретиться с этой опасностью им еще только предстоит. Золт о них ничего не слышал, он еще не знает, что они работают на Фрэнка, а может, и вообще не узнает — смотря как пойдут дела в Санта-Барбаре и Эль-Энканто-Хайтс. Правда, на пляже в Пуналуу он видел Бобби и Фрэнка вместе, но откуда ему знать, кто такой Бобби? Даже если он обнаружит, что Фрэнк обратился за помощью в агентство «Дакота и Дакота», Томас к этому не имеет никакого отношения. Нет. Томас тут решительно ни при чем. Разве не так? — Что с тобой? — спросила Джулия, выйдя на левую полосу, чтобы обогнать громадный трейлер. Рассказывать про свои опасения насчет Томаса не стоит. Зачем ее расстраивать и пугать? Ничего страшного не случилось, просто буйное воображение Бобби совсем удержу не знает. А Томас небось сидит себе в интернате, и ничегошеньки ему не угрожает. — Бобби, ты что? — Ничего. — Чего ты ерзаешь? — Простатит замучил.* * *
«Шанель № 5», мягкое сияние лампы, старое доброе покрывало и обои с розочками… Материализовавшись в спальне родного дома, Золт с облегчением рассмеялся. Поразившие его пули остались далеко в Пласентии. Ран как не бывало, затянулись в два счета. Одна пуля прошла навылет, но Золт потерял не больше унции крови да нескольких кусочков плоти. Сейчас он цел и невредим, даже боль забылась. С полминуты он стоял у туалетного столика, глубоко вдыхая аромат, который струился с надушенного носового платка. Это благоухание вновь придало ему решимости и напомнило, что он еще не выполнил самое главное: надо во что бы то ни стало отомстить за смерть матери. И не только Фрэнку — всем ее врагам, всему свету, который строил против нее козни. Золт погляделся в зеркало. На губах и подбородке не осталось и капли крови сероглазой женщины. Молекулы крови не подверглись телепортации — то же самое происходит с дождевой водой после возвращения Золта из тех краев, где льет дождь. Но вкус крови во рту не пропал. Человек, отражавшийся в зеркале, казался живым воплощением мести. Золт снова перенесся в дом Клинта. Он надеялся застать противника врасплох и полагался на свое умение материализоваться в нужном месте — тем более теперь он знает кухню вдоль и поперек. Противник наверняка отвернулся от двери и смотрит в ту точку, где совсем недавно стоял Золт. Значит, разумнее всего появиться в дверях и подкрасться к нему сзади. Но вышла промашка. То ли, несмотря на спокойствие Золта, выстрелы все-таки выбили его из колеи, то ли ярость помешала ему сосредоточиться, но материализовался он не там, где предполагал, а у двери, ведущей в гараж справа от того места, где стоял Клинт, на приличном расстоянии от противника. А ведь Золт рассчитывал выхватить у него револьвер, пока он не успел опомниться и не открыл стрельбу. Теперь ничего не выйдет. Однако Клинта в кухне не оказалось. Тела женщины на столе тоже не было. Только по пятнам крови можно было догадаться, что здесь произошло убийство. Золт отсутствовал не больше минуты — несколько секунд на телепортацию да короткая передышка в комнате матери. Он ожидал, что Клинт склонился над трупом, горюет или отчаянно пытается нащупать пульс. Значит, как только Золт исчез, противник подхватил покойницу и… И что? Наверно, цепляясь за последнюю надежду, он уверил себя, что в ней еще теплится жизнь, и поспешил унести из дома, пока Золт не вернулся. Золт вполголоса выругался и тут же попросил прощения у матери и у Всевышнего за сквернословие. Дверь в гараж была заперта. Стало быть, Клинт вышел не отсюда, иначе он не стал бы терять время на возню с замком. Золт бросился через гостиную в прихожую, чтобы проверить, нет ли Клинта во дворе или на улице, но на полпути остановился: из глубины дома послышался шорох. Золт повернулся и крадучись двинулся по коридору. В одной спальне горел свет. Золт осторожно приблизился к двери и заглянул. Клинт только что уложил покойницу на огромную двухспальную кровать и поправлял ей задравшуюся юбку. В руке он по-прежнему сжимал револьвер. С улицы донесся знакомый вой. Сирены. Второй раз за этот вечер. И часа не прошло, а они вновь преследуют Золта. Верно, соседи услышали выстрелы и позвонили в полицию. Клинт увидел Золта. Он даже не подумал вскинуть револьвер и не произнес ни слова. На окаменелом лице не дрогнул ни один мускул. Так и стоял, будто глухонемой. Его странное поведение озадачило и встревожило Золта. А что, если в револьвере уже не осталось патронов? Правда, тогда в кухне Клинт выстрелил только два раза, но чем черт не шутит. Стрелял он, судя по всему, машинально, поддавшись не то гневу, не то страху. Едва ли он успел за одну минуту перенести убитую в спальню и снова зарядить револьвер. А коли так, можно запросто отнять у него оружие. Но Золт не сдвинулся с места. Подумать только, каждый из тех двух выстрелов мог оказаться для него смертельным! Он чувствовал в себе невероятную силу; будь он побойчее, ему бы ничего не стоило распылить летящую пулю, ч о вот бойкости ему как раз и не хватает. Однако вместо того, чтобы затеять стрельбу или драку, странный человек повернулся к Золту спиной, обошел кровать и лег рядом с убитой. — Что за чертовщина? — вырвалось у Золта. Клинт взял покойницу за руку. В другой руке был сжат револьвер 38-го калибра. Он повернул голову на подушке и устремил взгляд на покойную. Глаза его поблескивали — похоже, невыплаканные слезы. Клинт приставил дуло револьвера к горлу, и в тот же миг его не стало. Золт остолбенел. Но его замешательство длилось недолго: вой сирен раздавался совсем рядом. Надо непременно выяснить, какое отношение имеет этот человек к Томасу и этим самым Бобби с Джулией, иначе до них никак не добраться. Тогда все пропало: он уже не докопается, кто такой Томас, как Клинт узнал имя Золта, кто еще о нем слышал, что за опасность над ним нависла и как от нее избавиться. Подскочив к кровати, он перевернул мертвеца на бок и вытащил у него из кармана брюк бумажник. В бумажнике он нашел удостоверение частного детектива. Рядом в пластиковом окошке — карточка сыскного агентства «Дакота и Дакота». Как же, как же. Помнит он это агентство. Когда в интернате он обследовал альбом с вырезками, кроме образа Клинта, он смутно различил помещение, где располагается организация с таким названием. На карточке был указан и адрес. А ниже имени Клинта Карагиозиса — мелким шрифтом — имена Роберта и Джулии Дакотов. Сирены смолкли. Кто-то забарабанил во входную дверь. Снаружи донеслись голоса: — Откройте! Полиция! Золт бросил бумажник и выхватил зажатый в руке мертвеца револьвер. Пятизарядный. Все патроны израсходованы. Значит, в кухне он выпустил четыре пули, но, даже дав волю ярости, не утратил самообладания и приберег последний патрон для себя. — И все это только из-за бабы? — недоуменно спросил Золт, словно ожидал услышать ответ. — Только из-за того, что больше не сможешь с ней спать? Дался вам этот секс! Не мог подыскать другую? Неужто спать с ней было так приятно, что без нее тебе и жизнь не мила? В дверь барабанили. Кто-то кричал в мегафон, но Золт не слушал. Он отбросил револьвер и брезгливо вытер руки о штаны. Человек, который держал этот револьвер, был помешан на сексе. Воистину мир погряз в разврате и блуде. Счастье, что мать и Господь Бог уберегли Золта от нечистых желаний, которые снедают едва ли не все человечество. И он покинул дом грешников.Глава 53
Хэл Яматака развалился на диване с куском пиццы в одной руке и романом Макдональда в другой. Внезапно по комнате разлился глухой рокот знакомой флейты. Выронив книгу и пиццу, Хэл вскочил с места. — Фрэнк? Неплотно закрытая дверь медленно отворилась, будто кто-то ее толкнул. Но оказалось, что этот «кто-то» — просто-напросто порыв ветра, пахнувший из комнаты для посетителей. — Фрэнк? — повторил Хэл. Рокот затих, сквозняк прекратился. Но едва Хэл подошел к двери, как комната вновь огласилась нестройными звуками и волосы у него зашевелились от ветра. Комната для посетителей в этот час пустовала. Слева помещался письменный стол. Напротив — дверь в общий коридор (на этаже располагалось еще несколько компаний). Дверь была закрыта. В комнате имелась еще одна дверь, за ней — коридорчик, по которому можно пройти в любую из шести комнат сотрудников агентства или туалет (в одной из этих комнат за компьютером работал Ли). Но и эта дверь сейчас закрыта. Значит, сквозняк и музыка не доносятся из коридоров, а возникают прямо здесь, в комнате для посетителей. Хэл остановился посреди комнаты и огляделся. Переливы флейты прозвучали в третий раз. Снова пронесся ветерок. — Фрэнк? — позвал Хэл и вдруг боковым зрением заметил справа от себя, возле двери в общий коридор, незнакомого человека. Он стоял чуть ли не за спиной Хэла. Хэл обернулся. Нет, это не Фрэнк Он видел гостя впервые, но сразу сообразил, кто перед ним. Золт! Ну конечно, кто же еще. Именно таким Хэл его и представлял со слов Клинта, которому Бобби подробно описал своего преследователя из Пуналуу. Плотный, коренастый Хэл поддерживал спортивную форму и никогда не пасовал перед сильным противником. Золт был на голову выше его, но Хэлу и не таких дылд случалось укладывать. Золт, видать, мезоморф — человек, от природы наделенный крепким сложением. Такому и тренироваться ни к чему, а Золт, судя по всему, знается с гирями и гантелями и не дает себе никакой поблажки. Ну да Хэл тоже мезоморф, у него мышцы — как мороженая говядина Рост Золта, его мускулы — это все чепуха. Страшно другое: от него исходили волны дикой, бешеной злобы, и не заметить их было так же мудрено», как не учуять смрад от разлагающегося трупа. Хэл уловил дыхание злобы, как только брат Фрэнка появился в комнате, — уловил едва ли не нюхом, как здоровая собака при первой же встрече распознает бешеную. Ну и положеньице. Ботинки он снял еще в кабинете, оружия при нем нет, под рукой ничего тяжелого. Одно спасение — полуавтоматический девятимиллиметровый «браунинг», прикрепленный снизу к письменному столу в кабинете: Джулия оставляла на всякий пожарный. Пока что пускать его в ход никому не случалось. Хотя по комплекции и по национальности Хэла можно было предположить, что он мастак по части боевых искусств, это было не так. Правда, таэквандо он худо-бедно освоил, но что с того? Только идиот станет защищаться таким способом от разъяренного быка, которому под хвост залетел шмель. Хэл опрометью кинулся в кабинет. В самых дверях Золт успел ухватить его за рубашку и попытался поднять в воздух. Швы затрещали. В руках у маньяка остался только обрывок ткани. Хэл чуть не упал. Он ввалился в кабинет и наскочил на стоявшее посредине большое кресло Джулии — это кресло и четыре стула перед ним так и оставались тут после сеанса гипноза. Чтобы удержаться на ногах, Хэл ухватился за кресло, но опора оказалась непрочной: кресло на колесиках выскользнуло и не слишком быстро — пол был устлан ковром, — но все же поехало. Маньяк с налета притиснул Хэла к креслу, кресло врезалось в стол. Золт уперся в туловище Хэла тяжелыми, как кувалды, кулачищами и обрушил на него град ударов, метя в живот. В момент нападения руки Хэла были опущены, и он не успел защититься. Но он все-таки ухитрился сцепить руки, отставил большие пальцы, улучив минуту, взметнул их вверх и угодил Золту в кадык. Золт поперхнулся собственным вскриком. Ногтями больших пальцев Хэл процарапал ему кожу до самого подбородка. От удара у Золта сперло дыхание. Обеими руками он схватился за горло и отпрянул. Хэл вскочил с кресла, но броситься на противника не отважился. Заехать такому амбалу в горло — это же все равно что шлепнуть мухобойкой по морде тому самому разъяренному быку. Бык в два счета опомнится и мигом поднимет дерзкого обидчика на рога. Превозмогая боль от ударов, ощущая в горле пряный вкус пиццы, Хэл поспешил к столу за «браунингом». Стол был широченный, между тумбами просторно. Где прикреплен пистолет, Хэл не знал, а нагибаться не решился, чтобы не терять из виду Золта. Он провел рукой снизу по крышке. Сперва слева направо. Потом сунул руку поглубже и провел справа налево. Наконец он нащупал рукоятку револьвера. В тот же миг Золт выбросил вперед руки, словно догадываясь, что Хэл нашел оружие, молит о пощаде: «Не стреляй, сдаюсь!» Но едва Хэл вытащил «браунинг», как стало ясно, что сдаваться маньяк не собирается. Из его ладоней ударил синий свет. Массивный стол повел себя как электронное бутафорское приспособление из фанеры, изготовленное для съемок фильма о полтергейстах. Не успел Хэл прицелиться, как стол рванулся на него и свез его к широкому окну. Стол был еще шире окна, крышка уперлась в края оконного проема, а не то стол разнес бы стекло и вылетел наружу. Хэл оказался посреди окна. Низкий подоконник подсек его сзади, он опрокинулся. На мгновение у него мелькнула надежда, что металлические жалюзи сумеют его удержать. Не тут-то было. Увлекая за собой жалюзи, он вышиб стекло и полетел в ночь. «Браунинг», из которого он так и не выстрелил, выпал из его руки. Шестой этаж. Высота смертельная, но не такая уж большая. Отчего же так долго длится падение? Как медленно взмывают ввысь освещенные окна! Хэл успел вспомнить всех, кто был дорог его сердцу, мечты, которые так и не исполнились. Он даже заметил, что из туч, которые вернулись с наступлением сумерек, сеет легкая изморось. Последнее, что пронеслось у него в сознании, — мысль о саде возле его домика в Коста-Меса, где он круглый год разводил цветы, втайне наслаждаясь этим занятием. Вспомнился хрупкий лепесток ярко-красной недотроги, на самом краешке которого поблескивает крохотная капля утренней росы…* * *
Золт отодвинул тяжелый стол и высунулся в окно. Снизу в лицо ему ударил порыв холодного ветра. Противник, запрокинувшись, лежал на широкой бетонной дорожке. Янтарный отсвет из окон озарял осколки стекла, погнутые металлические жалюзи и быстро растекавшуюся лужицу крови. Все еще кашляя и пытаясь отдышаться, Золт прижимал руку к саднившей царапине на горле. Досадное происшествие. Не то чтобы ему было жать убитого, просто погиб он очень некстати. Золт собирался сперва выведать у него, кто такие Бобби и Джулия и какое отношение имеют они к этому экстрасенсу Томасу. И вот еще что. Когда Золт материализовался в агентстве, парень принял его за Фрэнка. Золт своими ушами слышал, как он произнес имя брата. Следовательно, сотрудники агентства якшаются с Фрэнком и знают, что он умеет телепортироваться. Им наверняка известно, где скрывается этот мерзавец, убийца матери. Разумеется, кое-что можно разузнать прямо здесь, в агентстве. Но надо торопиться, а то полиция, обнаружив труп под окнами, вломится сюда и придется Золту убираться несолоно хлебавши. Нынче все его приключения сопровождаются воем сирен. Пока что их не слыхать. Кажется, пронесло: никто даже не заметил, что из окна выпал человек. В учреждениях по соседству работа уже закончилась — как-никак без десяти девять. Кое-где, наверно, появились уборщицы — моют полы, выбрасывают бумаги из корзин, — но если бы они услышали подозрительный шум, то непременно высыпали бы посмотреть. Вообще этот парень вывалился из окна на редкость бесшумно. Даже не вскрикнул. Вернее, перед самым ударом о землю он издал крик, но такой короткий, что и не разобрать. Куда громче прозвучал звон стекла и металлический скрежет жалюзи, но и это не беда: все произошло в мгновение ока — поди догадайся, откуда эти звуки. Вокруг торгового центра внизу проходило четырехполосное шоссе. Вдоль него и выстроились высотные корпуса, в которых размещались учреждения вроде этого. Видимо, в момент падения шоссе пустовало. Сейчас слева показались две машины. Одна за другой они промчались мимо, не сбавив скорость. Кустарник вдоль обочины скрывал тело от глаз водителей. А прохожие не станут поздним вечером шастать вокруг административных корпусов. Похоже, что труп не обнаружат до самого утра. Золт бросил взгляд на другую сторону улицы. На стоянке у торгового центра возле магазинчиков и ресторанов виднелось несколько маленьких фигурок. Никакой суматохи, никто ничего не заметил. Еще бы: легко ли разглядеть человека в темной одежде, мелькнувшего на фоне здания, в котором огни большей частью погашены. Золт откашлялся, сморщился от боли и сплюнул вниз — туда, где лежал мертвец. Во рту он почувствовал вкус крови. На этот раз собственной. Отвернувшись от окна, он обвел взглядом комнату. Где же искать следы? Узнать бы, где сейчас Бобби и Джулия Дакоты, а уж там он сумеет выяснить, откуда у Томаса телепатические способности. Более того, благодаря этой парочке он сможет наконец добраться до Фрэнка.* * *
С помощью антирадара Джулия дважды избежала неприятных объяснений с дорожной полицией, затем снова догнала скорость до ста сорока, и Лос-Анджелес со своими пригородами остался позади. На ветровое стекло упало несколько дождевых капель. Джулия включила «дворники», но тут же выключила: дождь быстро прошел. — Еще часок, и мы в Санта-Барбаре, — сообщила она. — Лишь бы не подвернулся какой-нибудь ретивый служака из дорожной полиции. Она здорово утомилась, шея ныла, и все же ни за что на свете Джулия не поменялась бы с Бобби местами. Окажись Бобби за рулем, она бы извелась от нетерпения. Глаза болели, но не слипались. Уснешь тут после сегодняшних происшествий. К тому же в голове все вертелись навязчивые мысли о том, что же ожидает их впереди — не на шоссе, а в Эль-Энканто-Хайтс. От таких мыслей тоже не очень расслабишься. После того как Бобби разбудило загадочное предупреждение, он сидел мрачнее тучи. Джулия догадалась, что его одолевает беспокойство, но говорить об этом он не хочет. Как видно, для того чтобы отвлечься от невеселых мыслей о грозном предвестии, Бобби завел разговор о чем-то совершенно постороннем. Сделав потише музыку, отчего искрометный «Американский патруль» Глена Миллера совсем поблек, Бобби сказал: — Обрати внимание: у нас в агентстве из одиннадцати служащих четверо — азиатского происхождения. Джулия не отрывалась от дороги. — И что? — А почему, ты не задумывалась? — Мы брали на работу только настоящих мастеров своего дела. То, что среди них оказались китаец, японец и два вьетнамца, — чистая случайность. — Отчасти это верно. — Отчасти? У тебя есть другое объяснение? Только не говори, что это злодей Фуманчу из укромной башни в Тибете подчинил нас своей воле гипнотическими лучами и приказал принять на работу азиатов. — Отчасти и это верно. Но я это объясняю по-своему: просто у меня слабость к азиатам. Мне нравится их ум, удивительная дисциплинированность, аккуратность, приверженность традициям, порядку. — У нас все сотрудники такие, не только Жами, Нгуен, Хэл и Ли. — Так-то оно так. Но с азиатами мне спокойнее: я доверяю расхожему стереотипу азиата. Я точно знаю, что с ними работа пойдет без сучка без задоринки. Я, можно сказать, купился на этот стереотип, потому что… Ну, словом, потому что я на поверку оказался совсем не таким, каким себя считал. Соберись с силами, сейчас я тебя ошарашу. — Валяй. Мне не привыкать.* * *
Сидя за компьютером, Ли Чен частенько ставил компакт-диск, надевал наушники и слушал музыку. А чтобы ему не мешали, закрывал дверь. Сослуживцы наверняка считали его нелюдимым, но что поделать: работа у него такая, требует сосредоточенности. Нельзя же, чтобы тебя попусту отрывали, когда стараешься проникнуть в хорошо защищенную сеть вроде системы, объединяющей базы данных управлений полиции, — именно этим Ли сейчас и занимался. Случалось, музыка отвлекала его даже сильнее, чем присутствие посторонних, но чаще, наоборот, помогала настроиться. Иногда для этого подходили незамысловатые фортепьянные композиции Джорджа Уинстона, иногда — рок-н-ролл. Сегодня Ли выбрал Хьюн Льюиса и «Ньюс». Он не отрывал глаз от дисплея (окошко в кибернетическое пространство), слушал несущуюся из наушников музыку и знать не знал, что делается за стенами комнаты. Даже если бы разверзлись небеса и Господь Бог объявил, что род людской сию же минуту будет предан уничтожению, для Ли эта новость прошла бы незамеченной.* * *
Из разбитого окна в кабинет врывался холодный ветерок, но Золта от досады бросало в жар. Он медленно ходил по просторной комнате, брал в руки разные предметы, прикладывал ладони к мебели, пытаясь вызвать в сознании картину, по которой можно было бы угадать, где сейчас Бобби и Джулия. Все напрасно. Порыться в ящиках стола, в картотеках? На это уйдет не один час — ведь Золту неизвестно, где тут хранятся нужные ему материалы. А если они в папке или конверте с непонятным названием или кодом? Поди догадайся, то это или не то. Читать и писать Золт умел — мать научила. Как и она, он был завзятым книгочеем (правда, после ее смерти к книгам не прикасался). Он самостоятельно и многие науки одолел — усвоил не хуже, чем в университете. И все-таки слова на бумаге — одно, а его удивительный дар — совсем другое, с его помощью узнаешь куда больше. А кроме того, в комнате для посетителей он уже отыскал домашний адрес Дакотов и номер их телефона. Позвонил проверить, дома ли они. С третьего гудка включился автоответчик. Золт ничего Дакотам не передал. Где они живут, где имеют обыкновение появляться, его не интересовало. Он хотел знать, где они сейчас, в эту самую минуту. У него руки чесались добраться до них и выпытать ответы на мучившие его вопросы. Золт взял третий стакан виски с содовой — стаканы тут стояли где попало. В уме возник отчетливый образ человека по Имели Джекки Джеке. Золт в бешенстве отшвырнул стакан. Он отскочил от дивана, упал на ковер, но не разбился. Суетливая артистическая натура Джекса оставила свои невидимые отпечатки повсюду — так собака из-за неполадок с мочевым пузырем оставляет за собой потеки вонючей мочи. Золт чувствовал, что сейчас Джеке на какой-то многолюдной вечеринке в Ньюпорт-Бич. Чутье говорило Золту, что ни на Фрэнка, ни на Дакотов Джеке его не выведет. Но хоть толку от него никакого, Золта подмывало перенестись в Ньюпорт-Бич и прикончить наглеца: от следов его присутствия шибает такой развязностью, что с души воротит. Жаль, он сейчас в большой компании. Одно из двух: или предметы, к которым прикасался Золт, побывали в руках Дакотов уже давно и следы их успели выветриться, или Бобби и Джулия вообще не оставляют отчетливых и стойких следов. Золт с такими людьми уже сталкивался. Почему так происходит — непонятно. Обнаружить таким способом Фрэнка большого труда не составляло, однако сегодня Золту никак не удавалось напасть на его след. Несколько раз он явственно чувствовал присутствие брата, но, где именно отпечаталась его аура, разобрать не мог. Наконец очередь дошла до кресла и трех стульев. Золт начал с кресла. Чуткие пальцы прошлись по виниловой обивке, и Золт задрожал от волнения. Нашел! Фрэнк не так давно сидел в этом кресле. Обивка на подлокотнике прорвана. Золт прикоснулся к этому месту большим пальцем и мгновенно увидел четкий образ Фрэнка. Образы множились. Перед Золтом пронеслась череда картин: места, где побывал Фрэнк, покинув эту комнату, Сьерра-Невада, квартира в Сан-Диего, ставшая его кратковременным пристанищем четыре года назад, ржавая калитка перед материнским домом на Пасифик-Хилл-роуд, кладбище, загроможденный книгами кабинет — сюда Фрэнк заскочил на минуту, поэтому Золт видел обстановку как в тумане, — пляж в Пуналуу, где брат едва не попал в руки Золта… Многочисленные картины наплывали друг на друга, и дальнейшие странствия Фрэнка рисовались совсем уже смутно. Золт с отвращением отпихнул кресло и подошел к журнальному столику, на котором стояли еще два стакана. В обоих — виски с водой, которая когда-то была льдом. Золт взял один. В сознании вспыхнул образ Джулии Дакота.* * *
«Тойота» мчалась с такой скоростью, будто Джулия готовится участвовать в автогонках. Когда они подъезжали к Санта-Барбаре, Бобби открыл жене свою страшную тайну: он, оказывается, вовсе не тот беспечный шалопай, за которого она его принимает. В этом он убедился во время лихорадочных путешествий с Фрэнком. Когда от него осталось лишь развоплощённое сознание да неистовый рой разрозненных атомов, он неожиданно обнаружил в себе небывалую любовь к порядку, основательности. Прямо тоскует по затхлому растительному существованию. И свинг-то он ценит не за пьянящую раскованность, а за продуманную четкость. Прежде он гордился своим независимым нравом, и вдруг — на тебе: выясняется, что независимость его сильно преувеличена. Зато привычный уклад жизни ему гораздо дороже, чем казалось. — Короче говоря, ты считала, что твой благоверный — этакий рубаха-парень вроде молодого Джеймса Гарнера, а он скорее похож на Чарльза Бронсона — молодого или пожилого — все равно. — Ничего, Чарли, ты мне и такой нравишься. — Погоди ты со своими шуточками. Дело, похоже, серьезное. Я ведь не мальчишка, мне порядком за тридцать. В таком возрасте пора уже знать себя как следует. — Ты давным-давно знаешь себя как следует. — Что? — Да, тебе по душе порядок, здравый смысл, логика. Поэтому ты и выбрал себе такое занятие — восстанавливать справедливость, помогать безвинно пострадавшим, наказывать злодеев. Поэтому у нас с тобой такая Мечта — наладить нормальную семейную жизнь, забыть про кавардак, который царит в мире, и поселиться в тихом уголке подальше от суеты. И поэтому ты не разрешаешь мне завести «Вурлицер-950»: тебе кажется, что стеклянные трубочки и прыгающие газельки сродни тому самому кавардаку. Бобби озадаченно молчал. На западе терялась в ночи кромешная ширь океана. — Скорее всего ты права, — согласился Бобби. — Наверно, я и впрямь давно себя раскусил, только сам того не замечал. Хорошенькое дело: что же, я столько лет жил не по тем законам? — Ничего подобного. Ты действительно рубаха-парень, но в тебе есть что-то и от Чарльза Бронсона, и это просто замечательно. Иначе мы не жили бы душа в душу. Во мне-то этой самой бронсоновской закваски столько, сколько разве что в самом Бронсоне. — Это уж точно, — кивнул Бобби. Они рассмеялись. Джулия заметила, что «Тойота» теряет скорость, прибавила газу и спросила: — Бобби… Так из-за чего все-таки ты такой смурной? — Из-за Томаса. Джулия бросила на него удивленный взгляд. — А что Томас? — После этого непонятного предупреждения мне все кажется, что ему грозит беда. — Почему именно Томасу? — Сам не знаю. Только лучше бы нам найти телефон и позвонить в Сьело-Виста… на всякий случай. Джулия сбавила скорость, и машина поползла как черепаха. Через три мили они свернули с шоссе и подъехали к станции техобслуживания. Обслуживали тут по полной программе. Пока машину заправляли, проверяли масло и протирали окна, Бобби и Джулия зашли на станцию позвонить. Телефон-автомат был устроен по последнему слову техники: хочешь — бросай монету, хочешь — вставляй кредитную карточку. Он висел на стене рядом с полкой, на которой красовались шоколадки, пакетики с печеньем и орешками к пиву. Тут же, прямо на виду, — автомат, торгующий презервативами: СПИД на кого угодно нагонит страху. Бобби сунул в телефонный аппарат кредитную карточку Американской телефонно-телеграфной компании и набрал номер интерната Сьело-Виста. Вместо коротких или длинных в трубке раздались странные электронные сигналы. Потом записанный на пленку голос пробубнил, что из-за технических неполадок на линии связь с абонентом временно нарушена, и предложил перезвонить попозже. Бобби попробовал дозвониться через телефонистку, но опять услышал отказ. — Извините, сэр. Позвоните через некоторое время. — Что у них там за неполадки на линии? — Не знаю, сэр. Ничего, скоро починят. Бобби немного отвел телефонную трубку от уха, и Джулия, подвинувшись ближе, слышала весь разговор. Повесив трубку, Бобби уставился на жену. — Давай вернемся. Чует мое сердце — Томасу нужна помощь. — Вернемся? До интерната вон как далеко, а до Санта-Барбары всего с полчаса езды. — По-моему, нам сейчас нужно быть рядом с Томасом. Правда, полной уверенности у меня нет, но вот втемяшились эти опасения — и все тут. Что-то мне… не по себе. — Если ему действительно срочно требуется помощь, то мы все равно не успеем. А если дело не спешное, тем более незачем суетиться: доедем до Санта-Барбары и позвоним из мотеля. Выяснится, что Томас заболел, поранился или еще что, — через час опять будем здесь. — Так-то оно так, но… — Бобби, Томас мой брат. Он мне дорог не меньше, чем тебе. И я не сомневаюсь, что все будет в порядке. Я тебя люблю, но у меня слишком мало оснований считать тебя ясновидцем и впадать в истерику от твоих пророчеств. Бобби кивнул. — Твоя правда. Просто… просто нервы у меня ни к черту. Никак не приду в себя после путешествий с Фрэнком. Подкравшийся со стороны океана туман запускал тонкие щупальца на шоссе. Снова закапал дождь, но через минуту прекратился. Удушливый воздух и неразличимая, но явственная тяжесть беззвездного неба предвещали грозу. Не отъехали они и двух миль, как Бобби спохватился: — Эх, не сообразил! Надо было позвонить в агентство Хэлу. Пока он дожидается Фрэнка, мог бы связаться с нашими людьми в телефонной компании, звякнуть в полицию — проверить, как там, в Сьело-Виста. — Из мотеля позвоним. Если связь с интернатом еще не налажена, пусть Хэл похлопочет.* * *
Ощупав стакан, Золт с трудом различил облик Джулии Дакота. Несомненно, то самое лицо, которое сегодня рисовалось в сознании Томаса. Но теперь Золт видел его без прикрас. Шестым чувством он угадал, что из агентства она отправилась по адресу, который Золт прочел в записной книжке секретаря. Там она пробыла очень недолго и уехала на машине. С ней был еще один человек — кажется, мужчина по имени Бобби. И больше ничего не разобрать. Эх, если бы она оставляла такие же ясные отпечатки, как Джеке! Золт поставил стакан и решил попытать счастья у нее дома. Они с Бобби в отъезде, но ему, глядишь, и удастся наткнуться на какую-нибудь вещицу, которая, подобно этому стакану, поможет продвинуться на шаг-другой в поисках Дакотов. А если ничего путного там не окажется, можно вернуться в агентство и копать дальше. Дай бог, чтобы за это время кто-нибудь не обнаружил труп и не вызвал полицию.* * *
Выключив компьютер и проигрыватель (пьеса «На волоске» в исполнении Хьюи Льюиса и «Ньюс» оборвалась на половине). Ли снял наушники. Потянулся, зевнул, взглянул на часы. Начало десятого. Он проработал двенадцать часов. Ли был доволен: долгие блуждания по компьютерной вселенной, состоящей из кремния и арсенида галлия, не прошли впустую. Сейчас бы в самый раз вернуться домой и завалиться спать на полдня, но у Ли были другие планы. Он собирался заскочить домой (жил он в десяти минутах езды от агентства), немного отдышаться, а потом — на поиски развлечений. На прошлой неделе он впервые попал в клуб «Атомная улыбка». Заведеньице — класс. Музыка громкая, крутая, спиртное пьют не разбавляя, нравы вольные, но без распущенности, а женщины такие, что в жар бросает. Вот Ли и решил завернуть туда, немного подергаться под музыку, пропустить по маленькой и приглядеть телочку, с которой можно всласть порезвиться в постели. Правда, в наше время такие резвости иной раз выходят боком — приходится держать ухо востро из-за всяких новых болезней. Выпьешь с кем-нибудь из одного стакана — и кранты. Но сегодня Ли слишком долго торчал в кибернетическом пространстве, до одури размеренном и рассчитанном. Теперь не грех и встряхнуться, пуститься во все тяжкие, пройтись, приплясывая, над самой бездной, в которой ворочается хаос. Вот и установится равновесие. Но тут ему вспомнилось исчезновение Бобби и Фрэнка. Да уж, встряхнуться он сегодня встряхнулся, надолго хватит. Ли взял свежие распечатки. Эти сведения он тоже наскреб по полицейским архивам. Они касались невероятных похождений мистера Синесветика. Уж ему-то ни к чему пускаться во все тяжкие, чтобы восстановить равновесие, — он и так воплощенный хаос. Ли открыл дверь, погасил свет и прошел в комнату для посетителей. Распечатки он оставит у Джулии на столе, потом попрощается с Хэлом и отвалит домой. В кабинете Бобби и Джулии царил кавардак. Впечатление такое, будто Национальная федерация спортивной борьбы свела тут две команды мордоворотов фунтов под триста весом и устроила соревнования. Мебель валялась как попало, стаканы разбросаны по полу, от некоторых остались одни осколки. Письменный стол Джулии покосился, одна ножка подломилась, крышка сдвинута — можно подумать, кто-то орудовал фомкой и молотком. — Хэл! В ответ — ни звука. Ли осторожно приоткрыл дверь в уборную. — Хэл! Внутри никого. Ли приблизился к разбитому окну. Рама ощерилась сверкающими стеклянными зубцами. Уцепившись рукой за стенку, затаив дыхание, Ли высунулся из окна. Посмотрел вниз. — Хэл, — произнес он изменившимся голосом.* * *
В прихожей дома Дакотов было тихо и темно. Золт перенесся сюда прямиком из агентства. С минуту он стоял, склонив голову набок, и прислушивался. Так и есть: в доме никого. После материализации царапины на горле зажили. Золт взволнованно предвкушал новые приключения. Поиски он начал с прихожей. Сперва ощупал дверную ручку: не сохранился ли на ней неосязаемый налет, который пробуждает его внутреннее зрение. Нет, ничего. Ясное дело: Дакоты прикасались к ручке, только когда вернулись домой да еще когда уходили. Иногда случалось так: перетрогает кто-нибудь сотню предметов, а невидимый отпечаток остается лишь на одном. А час спустя он же прикоснется к этим предметам еще разок — и след его ауры будет лежать на каждом. Причина этой несуразицы была Золту так же непонятна, как и едва ли не повальное пристрастие людей к сексу. Спору нет, способность отыскивать добычу по незримым оттискам не менее драгоценна, чем прочие таланты, которыми наградила его мать, и все же на этот дар не всегда можно положиться, и поиски давались Золту не без труда. В столовой и гостиной он возился недолго: мебели тут попросту не было. Как ни странно, среди голых стен Золт чувствовал себя как дома. Почему бы это? Ведь в материнском доме столы, стулья, диваны, торшеры стоят по всем комнатам, только вот попорчены грибком и плесенью и покрылись пылью. Должно быть, разгадка в том, что Золт, подобно Дакотам, обжил лишь одну-две комнаты своего дома, остальные для него все равно что заперты; есть там обстановка, нет ли — ему все равно. Зато кухня и общая комната имели вполне жилой вид. Похоже, что, заехав сегодня домой, в общую комнату Дакоты даже не заглянули. Может, хоть в кухню зашли перекусить на дорогу? Золт ощупал ручки шкафов, духовки, микроволновой печи, холодильника. Увы, никаких следов. Он медленно поднялся на второй этаж, проводя рукой по дубовым перилам. Несколько раз в его мозгу вспыхивали образы — мимолетные, неуловимые. Однако Золт воспрянул духом: значит, есть надежда, что в ванной или в спальне следы все-таки обнаружатся.Глава 54
Вместо того чтобы сию секунду позвонить в полицию и сообщить дежурному об убийстве Хэла Яматаки, Ли бросился в комнату для посетителей и достал из нижнего правого ящика стола коричневую записную книжку. Сказалась выучка. По роду занятий Ли участвовал в расследованиях лишь косвенно, по ходу дела ему редко приходилось обращаться в многочисленные полицейские управления округа. На всякий случай Бобби оставил для таких сотрудников список полицейских, детективов и прочих представителей закона, которые знают свое дело до тонкостей, отличаются сметливостью и, если понадобится, помогут выйти из затруднительного положения. Был в коричневой книжке еще один список: должностные лица, с которыми лучше не связываться. Кто недолюбливает частных детективов, кто просто обладает вздорным характером, а кто исповедует принцип «не подмажешь — не поедет» и старается не упустить своего. К чести правоохранительных органов округа, первый список был гораздо длиннее второго. Бобби и Джулия считали, что в тех случаях, когда вмешательство полиции неизбежно, лучше обставить дело таким образом, чтобы не остаться в проигрыше. И уж если на сцене обязательно должен появиться детектив из полиции, то агентство «Дакота и Дакота» само решит, на ком остановить выбор. В таком вопросе полагаться на удачу или зависеть от прихоти диспетчера неразумно. А стоит ли вообще звонить в полицию? Кто убил Хэла, и так ясно. Конечно, мистер Синесветик. Золт. Кроме того, Бобби рассудил, что без особой нужды о Фрэнке и его деле лучше не распространяться. От врачей и адвокатов закон не может потребовать, чтобы они предали огласке тайны своих клиентов, частные детективы такого права не имеют, но и в их работе сохранение секретности необходимо как воздух. Как назло, Джулия и Бобби сейчас в пути, позвонить им некуда, и Ли ломал голову, что можно рассказать полицейским, а о чем умолчать. Надо действовать. Тело под окном вот-вот обнаружат, и сидеть сложа руки не годится. Тем более что посконный — человек, которого Ли хорошо знал и любил. Итак, остается вызвать полицию — другого выхода нет. Но язык лучше не распускать. Ли заглянул в записную книжку, набрал номер управления полиции Ньюпорт-Бич и попросил детектива Гарри Лэдсброка. Лэдсброка в управлении не оказалось. Детектива Джанет Хейзинджер тоже. К счастью, детектив Кайл Остов был на месте. Его густой баритон звучал уверенно, деловито и внушал доверие. Ли представился. Он заметил, что разговаривает тонким, почти писклявым голосом и сбивается на скороговорку. — Тут, понимаете ли… произошло убийство. — Вот оно что, — перебил Остов. — Выходит, Джулии и Бобби уже все известно? А я только что узнал. Мне велели сообщить им, вот я и сижу гадаю, как бы это поделикатнее преподнести. Уже взялся за трубку, а тут вы звоните. Как они там, держатся? Ли опешил. — Они вроде ничего не знают. Это случилось всего несколько минут назад. — Что вы, гораздо раньше. — Да как вы-то узнали? Полицейские машины сюда не приезжали, я смотрел. — Ли уже не мог сдержать дрожь. — Господи, и ведь я совсем недавно с ним разговаривал, угощал пиццей, а теперь он лежит на бетонной дорожке возле корпуса. Это ж надо — с шестого этажа! Остов помолчал и спросил: — Вы о ком. Ли? Кого убили? — Хэла Яматаку. Он с кем-то сцепился, а потом… — Ли осекся и растерянно заморгал. — Постойте, а вы кого имели в виду? — Томаса. У Ли помутилось в глазах. С Томасом он встречался только однажды, но знал, что для Джулии и Бобби не было никого дороже. — Томаса и его соседа по комнате, — добавил Остов. — Да еще, не дай бог, кто-нибудь погиб в горящем здании. Компьютер, которым наделила Ли мать-природа, работал не так четко, как машина фирмы «Ай-би-эм», стоявшая у него в кабинете. Он не сразу сообразил, что может последовать за этим происшествием. — Думаете, оба преступления как-то связаны? — Даже не сомневаюсь. Не вздумал ли кто-нибудь крепко насолить Бобби и Джулии, вы не знаете? Ли обвел взглядом пустую комнату. Во всем агентстве ни души. И в других учреждениях на шестом этаже. И на других этажах. В голову лезли мысли о Золте — громиле, которого Бобби видел на пляже в Пуналуу, чудодее, который в два счета переносится куда пожелает. Вспомнил Ли и о его жертвах, об истерзанных телах, на которых оставались следы зубов. И он ощутил свое одиночество с особой остротой. — Мистер Остов, будьте так добры, пришлите сюда побыстрее своих людей. — Я уже набрал запрос на компьютере, пока мы с вами говорили. К вам выехали два наряда.* * *
Золт не спеша провел пальцами по поверхности туалетного столика, ощупал каждый завиток медных ручек на выдвижных ящиках. Прикоснулся к выключателю на стене,потрогал выключатели ночников у кровати. Пальцы скользнули по дверным косякам — на всякий случай: иной раз заговорится человек и ненароком прислонится к косяку. Не забыл он и ручки на зеркальных дверцах стенных шкафов, и пульт дистанционного управления телевизором. Проверил его тщательно, до последней кнопки: кто знает, не вздумалось ли им, заскочив на минутку домой, включить телевизор. Хоть бы какая-нибудь зацепка! Чтобы сгоряча не прошляпить след, Золту приходилось сдерживать досаду и ярость. Но ярость копилась, а избыток ярости всегда отдавался в душе Золта жаждой крови. Кровь — вот вино, достойное мстителя. Только кровь утолит его бешенство, остудит его гнев и хоть на краткий срок успокоит мятежную душу. Когда, обыскав спальню Дакотов, Золт перебрался в ванную, он не просто желал крови — он уже не мог без нее обойтись, как без воздуха. Взглянув в зеркало, он поначалу не увидел своего отражения — стекло затянула багровая пелена, будто не зеркало перед Золтом, а иллюминатор корабля, плывущего по кровавому морю преисподней. Но наваждение длилось недолго: пелена растаяла, Золт увидел свое лицо и поспешно отвел взгляд. Нет, нельзя так распускаться. Золт стиснул зубы и принялся ощупывать ручку крана над умывальником. Найти, найти во что бы то ни стало…* * *
Комната в мотеле, где остановились Дакоты, приехав в Санта-Барбару, была большая, чистая, тихая и не раздражала кричащей безвкусицей стиля и цветовых сочетаний, какую встречаешь почти во всех американских мотелях. И все же в другой обстановке Джулия, возможно, перенесла бы страшный удар, который на нее обрушился, более стойко. Здесь же, в этой чужой, безликой комнате она не находила себе места от боли. Сначала она действительно считала, что с Томасом все в порядке, — просто у Бобби опять разыгралось воображение. Телефон стоял на тумбочке, Бобби звонил, присев на край кровати, а Джулия устроилась в кресле рядом с ним. Когда записанный на ленту голос повторил, что связь со Сьело-Виста нарушена из-за неполадок на линии, Джулия слегка забеспокоилась, но что брат жив и здоров, она не сомневалась. Вслед за тем Бобби позвонил в агентство. Вместо Хэла к телефону подошел Ли Чен. Бобби, оцепенев, слушал его рассказ, изредка вставляя отрывистые замечания, и Джулия поняла, что этой ночью произошли события, которые трещиной пройдут через ее жизнь, что безоблачные деньки остались в прошлом, а на будущем лежит мрачная тень. Бобби стал задавать Ли вопросы. Джулия заметила, что он прячет глаза. Так и есть, она не ошиблась. Сердце забилось чаще. Наконец Бобби взглянул на нее, и Джулия прочла в его взгляде такую муку, что не выдержала — потупилась. Из скупых вопросов Бобби трудно было догадаться, что же все-таки случилось. А может, Джулия просто боялась угадать. Разговор подходил к концу. — Нет, Ли, ты действовал правильно. Так и продолжай. Что? Спасибо, Ли. Ничего, ничего. Мы уж постараемся не падать духом. Как-нибудь переживем. Бобби положил трубку, зажал руки между коленей и опустил голову. Джулия ни о чем не спросила, как будто неведомая трагедия, о которой рассказал Ли, — не больше чем слова и, если расспросами не накликать беду, все обойдется. Бобби опустился на колени возле кресла Джулии, взял ее за руки и ласково их поцеловал. Итак, произошло самое страшное. — Томас погиб, — тихо произнес Бобби. Джулия догадывалась. Она призвала все свое мужество, но слова Бобби сразили ее наповал. — Бедная моя Джулия. Вот горе-то. Но это еще не все. Бобби рассказал про смерть Хэла. — А перед самым моим звонком Ли узнал, что Клинт и Фелина тоже мертвы. Это известие добило Джулию. Хэл, Клинт, Фелина, люди, которых она бесконечно любила и уважала! И как было не восхищаться стойкостью глухонемой женщины, которая вопреки своему изъяну жила самой что ни на есть полноценной жизнью. Джулия мучилась от того, что вынуждена горевать обо всех троих вместе, — следовало бы оплакать гибель каждого в отдельности, они того заслуживают. Угнетало ее и то, что скорбь, вызванная их гибелью, была лишь бледной тенью того горя, которое она испытывала при мысли о Томасе. Иначе и быть не могло, но Джулия упрекала себя чуть ли не за бездушие. У нее перехватило горло. Выдохнув, она неожиданно всхлипнула, так не годится. Самое главное — не раскисать. Сейчас, как никогда, нужно быть сильной. Нынешние убийства — только начало, стоит утратить присутствие духа — скоро черед дойдет и до них с Бобби. Стоя на коленях возле кресла, Бобби описывал обстоятельства трагедии. Дерек тоже убит. Не исключено, что погиб еще кто-нибудь из обитателей интерната. Джулия крепко сжимала его руки. Славный, добрый Бобби: если бы не он, она бы этого кошмара не перенесла. Комната перед ее глазами расплывалась, но Джулия сдерживала слезы. Однако взглянуть мужу в глаза она еще не отваживалась. Знала: один взгляд — и она не выдержит. Бобби закончил рассказ. — Это наверняка брат Фрэнка, — сказала Джулия. Бобби изумился: никогда еще ее голос так не дрожал. — Похоже на то. — Но как он узнал, что Фрэнк — наш клиент? — Ума не приложу. Он видел меня на пляже в Пуналуу… — Да, но вы от него ушли. Как же он мог выяснить, кто ты? А Томас… Господи, как же он про Томаса пронюхал? — Нам неизвестна какая-то существенная подробность. Без нее мы не получим полной картины. — Чего этому подонку надо? Бобби разобрал в скорбном голосе жены гневные нотки. Это хорошо. — Он гоняется за Фрэнком. Семь лет Фрэнк скитался в одиночку, отыскать его было не легче, чем иголку в стоге сена. Теперь у него есть друзья, и Золт надеется, что кто-нибудь из них случайно наведет его на след брата. — Когда я согласилась взять это дело, я подписала Томасу смертный приговор. — Ты не соглашалась. Мне пришлось тебя уламывать. — Это я тебя уламывала, а ты упирался. — Ладно, будем считать, что вина лежит на обоих. Хотя, по-моему, в случившемся вообще никто не виноват. Мы всего-навсего приняли предложение клиента, а дело… дело вон как обернулось. Джулия кивнула и впервые за все время разговора взглянула мужу в лицо. Оказывается, твердость в его голосе была обманчивой: по щекам Бобби катились слезы. Занятая собственным горем, она совсем забыла, что погибшие были не только ее, но и его друзьями. И Томаса он любил почти так же крепко, как она. Джулия снова отвела глаза. — Тебе лучше? — спросил Бобби. — Нельзя мне теперь сырость разводить. Я хочу как-нибудь потом поговорить с тобой о Томасе — какой он был добрый, мужественный. Знал, что не похож на других, а держался молодцом, никогда не жаловался. Сядем вдвоем и поговорим. Не дай бог его забыть. Ведь памятника Томасу не поставят. Будь он знаменитость какая-нибудь — тогда конечно, а Томас просто незаметный паренек, каких много. Ничего выдающегося не совершил, единственное его достоинство — чистая душа. Но мы с тобой и без памятника его не забудем. Он будет жить в наших воспоминаниях, правда? — Правда. — И тогда он не умрет… пока живы мы. Но об этом потом, на досуге. А сейчас надо позаботиться, чтобы нас не постигла участь Томаса. Этот мерзавец, наверно, уже подбирается к нам. — Очень может быть, — согласился Бобби. Он встал с колен и потянул Джулию за руки. Она тоже поднялась. У Бобби под темно-коричневой курткой был наплечный ремень с кобурой. Свой ремень Джулия сняла вместе с вельветовой курткой, как только приехала в мотель. Сейчас она снова их надела. Почувствовав, как к левому боку прижалась кобура с револьвером, Джулия приободрилась. Ей не терпелось пустить оружие в ход. Комната больше не зыбилась перед глазами, слезы высохли. — Теперь я точно знаю: мечты — это вздор, — объявила она. — Мечтаешь, мечтаешь, а они все равно не сбываются. — Иногда сбываются. — Нет. У мамы и папы не сбылась. И у Томаса тоже. Спроси у Клинта и Фелины, сбылась их мечта или нет, — посмотрим, что они тебе ответят. Спроси у родных Джорджа Фарриса. Думаешь, они только и мечтали, как бы погибнуть от руки маньяка? — Спроси лучше у супругов Фан, — тихо возразил Бобби. — Кто они были? Беженцы, которые пустились в утлых лодчонках по Южно-Китайскому морю. Еды — всего ничего, денег — и того меньше. А теперь у них собственные химчистки. Ремонтируют и перепродают дома, неплохо на этом зарабатывают. Вон каких замечательных детишек растят. — Рано или поздно жизнь и им поднесет пилюлю, — отрезала Джулия. Ей и самой претила эта безысходная горечь, она чувствовала, что черная пучина отчаяния грозит поглотить ее, но бороться с отчаянием не было сил. — Спроси Парка Хэмпстеда из Эль-Торо, каково ему было, когда он узнал, что у жены рак. Вряд ли они пришли от этого в восторг. А заодно поинтересуйся, много ли радости ему доставила мечта о счастливой жизни с Мэрели Роман. Едва человек оправился после смерти жены, как вдруг — на тебе, появляется душегуб по имени Золт и прости-прощай красивая мечта. Порасспроси бедолаг, прикованных к больничным койкам, — у кого кровоизлияние в мозг, у кого рак. Узнай у тех, кого в пятьдесят лет поразило старческое слабоумие, скоро ли они надеются зажить в свое удовольствие. Спроси у детей, которые из-за мышечной дистрофии передвигаются только в инвалидных колясках; спроси у родителей тех, кого мы видели в интернате Сьело-Виста, действительно ли они мечтали, что у их детей обнаружится болезнь Дауна. Спроси… Джулия осеклась. Кажется, ее заносит. А сегодня горячность до добра не доведет. — Ладно, — бросила Джулия. — Пойдем. — Куда? — Первым делом отыщем дом этой гадюки, его мамаши. Пошныряем вокруг, разведаем, что там внутри. Глядишь, и осенит. — Я его уже видел. — А я нет. — Что ж, пошли. Вынув из ящика тумбочки телефонный справочник, где значились телефоны жителей Санта-Барбары, Монтесито, Голеты, Хоуп-Ранч, Эль-Энканто-Хайтс и других окрестных городков, Бобби направился к двери. — Зачем он тебе? — удивилась Джулия. — Потом пригодится. В машине объясню. Сеял мелкий дождь. Двигатель «Тойоты» еще не остыл, и в ночной прохладе от забрызганного дождем капота поднимался пар. Издалека донесся короткий раскат грома. Томаса больше нет в живых.* * *
Смутные образы, подернутые рябью, напоминали отражение на потревоженной глади пруда. Золт снова и снова ощупывал краны, края раковины, зеркало, аптечку, вынимал из нее тюбики и пузырьки. Образы наплывали, но не прояснялись. Где сейчас Дакоты, из них все равно не узнаешь. Дважды в сознание Золта врывались картины, рисующие отвратительную похоть Дакотов. Непонятно: тюбик с противозачаточной пастой и пачка гигиенических салфеток побывали в руках Джулии уже давно, однако так зарядились психической энергией, что она до сих пор не рассеялась. Золт стал невольным свидетелем гнуснейших блудодейств, наблюдать которые у него не было ни малейшего желания. Он тут же отдернул руки. Его мутило. Ужасное положение: без этих распутников ему нипочем не добраться до Фрэнка, и, чтобы достичь цели, он вынужден окунуться в такую грязь. Неудача и крепко засевшие в памяти картины распутства довели Золта до белого каления. Именем Божьим он предаст этот дом очистительному пламени. Спалит его. Сожжет дотла. Может, тогда порочные видения перестанут смущать его душу. Он вышел из ванной и вытянул руки перед собой. Спальню сотрясла мощная силовая волна. Деревянная спинка кровати разлетелась в щепки. По лоскутному покрывалу кровати и одеялу заплясали языки пламени. Тумбочка рассыпалась на части, ящики туалетного столика выскочили, их содержимое посыпалось на пол и мгновенно запылало. Шторы сгорели так стремительно, словно сделаны из вспых-бумаги, которой пользуются фокусники. Брызнули стекла в двух окнах на противоположной стене, и в пустые рамы, раздувая огонь, ворвался ветер. Золт часто сетовал, что загадочный свет, который испускают его ладони, поражает только неодушевленные предметы, растения и кое-каких насекомых, а на людей и животных не оказывает ни малейшего действия. Как бы ему хотелось в одну прекрасную ночь заявиться в город и спалить заживо десяток тысяч — нет, сотню тысяч грешников! Какой город — не важно: всякий город — притон разврата, кишащий нечестивцами, которые возлюбили зло и предаются мерзейшим порокам. Хоть бы кто-нибудь, хоть бы одна живая душа избрала путь благочестия — так нет. Вот Золт шагает по улицам, а грешники с криками ужаса разбегаются от него, прячутся кто куда. Но он настигает их. Вспышка синего света — и кости трескаются, черепа разлетаются вдребезги, плоть смята в лепешку, а срамной уд, прихотям которого они подчиняют чуть ли не всю свою жизнь, оторван напрочь. Да, обладай Золт столь могучим даром, не дождались бы грешники от него милосердия, какое являет им Всевышний. Пусть не забывают выказывать Творцу, который милостиво терпит их гнуснейшие прегрешения, подобающую благодарность и покорность. На такую безграничную благостыню способны лишь Господь Бог да мать Золта. Самому же Золту эти чувства незнакомы. В коридоре зазвенела пожарная сигнализация. Золт вышел из спальни, направил палец на сигнальное устройство. Брызнули осколки. Сегодня телекинетические способности Золта проявлялись с небывалой силой. Он превратился во всесокрушающее орудие. Не иначе это Всевышний вознаградил его за благочестие невиданной мощью. Хвала Создателю, его праведница-мать избежала пучины греха, в коей погряз едва ли не весь род человеческий. Ни один мужчина не осквернил ее порочным прикосновением, и на детях ее не лежит печать первородного греха. Золт знал об этом от самой матери, она представила ему и доказательства. Он спустился в гостиную, вскинул левую руку и поджег ковер. Фрэнк и близнецы тоже обязаны своим появлением на свет непорочному зачатию, однако они эту честь ни во что не ставят. Более того, они пренебрегли дарованной им несравненной благодатью, вступили на стезю греха и сделались пособниками дьявола. Золт не таков: он-то уж с пути праведного не собьется. Наверху ревело пламя, с треском рушились перегородки. Наступит утро, и груда черных дымящихся развалин на месте, где стоял притон разврата, провозвестит вечную погибель, уготованную грешникам. Золт чувствовал, что душа его очистилась. Сознание наконец исторгло непотребные картины распутства Дакотов. Он устремился обратно в агентство, чтобы продолжить поиски.* * *
Собираясь в путь, Бобби рассудил, что снова садиться за баранку Джулии не стоит: она не спала без малого двадцать часов. Рекорд не рекорд, а все же напряжение чудовищное. Была и другая причина: как ни крепилась Джулия, но после известия о гибели Томаса ей было трудно сосредоточиться, реакция уже не та. Бобби же до вчерашнего звонка Хэла из больницы успел пару раз вздремнуть. Поэтому теперь машину вел он. «Тойота» проехала чуть ли не через всю Санта-Барбару и въехала в Голету. Дорогу нашли быстро. Бобби не пришлось останавливаться у станций техобслуживания и расспрашивать, как добраться до Пасифик-Хилл-роуд. По просьбе мужа Джулия раскрыла лежавший на коленях телефонный справочник, вынула из «бардачка» карманный фонарь и принялась отыскивать фамилию Фогарти. Имени Бобби не знал — просто мужчина по фамилии Фогарти. Доктор Фогарти. — Не исключено, что он нездешний, — добавил Бобби. — Но мне все-таки кажется, что искать его надо здесь. — А кто это? — Когда мы с Фрэнком путешествовали, нас дважды забрасывало в его кабинет. Бобби рассказал об этих мимолетных встречах. — Что же ты раньше не говорил? — Слишком много у нас с Фрэнком было приключений, сразу всего не расскажешь, приходилось кое-что опускать. Вот как про этого Фогарти. Ведь ничего особенного у него в кабинете не произошло. Но со временем я начал подозревать, что он играет в этой истории не последнюю роль. Понимаешь, Фрэнк каждый раз спешил убраться из его кабинета — вслед за нами мог заявиться Золт, и Фрэнк не хотел подставлять Фогарти. Раз Фрэнк так о нем беспокоится, не худо бы с ним побеседовать. Джулия склонилась над справочником и внимательно просматривала фамилии. — Фогарти Джеймс. Фогарти Дженнифер. Фогарти Кевин… — Если он не врач, а доктор каких-нибудь там наук, то наша затея — пустой номер, — рассуждал Бобби. — Но если он все-таки медик, то в списке врачей в справочнике его все равно может не оказаться: он уже старенький, вполне возможно — на пенсии. — Есть! Фогарти, доктор, Лоренс Дж. — Адрес имеется? — Да. — Джулия выдрала из справочника страницу с адресом. — Отлично. Взглянем на зловещее логово Поллардов, а потом навестим Фогарти. Дорогу к дому Поллардов Бобби не знал. Он хоть и бывал возле него трижды, но его доставлял туда Фрэнк. Так что определить, где именно находится дом 1458 по Пасифик-Хилл-роуд, ему было не проще, чем угадать, на каком склоне Фудзиямы они с Фрэнком очутились. Спасибо, по пути подвернулась заправочная станция, и служащий — длинноволосый парень с закрученными вниз усищами — растолковал, куда ехать. Если верить почтовому адресу, то дома вдоль участка Пасифик-Хилл-роуд, который начинается сразу после Голеты, относятся к Эль-Энканто-Хайтс. На самом же деле до самого Эль-Энканто еще ехать и ехать, а этот отрезок шоссе между двумя местечками проходит по заповедной территории, где в полной неприкосновенности сохраняются заросли чаппарраля, мескита, калифорнийский дуб и другие неприхотливые растения. Крайним в ряду домов, тянущихся вдоль Пасифик-Хилл-роуд, и был дом Поллардов. Стоял он очень удачно: окна смотрели в сторону океана, к побережью уступами спускались холмы, на которых живописно располагались многочисленные группки домов. Ночью отсюда открывалась дивная картина: целый океан огней, которые сбегают вниз, к настоящему океану, окутанному тьмой. Если бы не ограничения на строительство вблизи заповедника, в этом райском уголке давно бы вырос целый квартал дорогих особняков. Бобби сразу узнал жилище Поллардов. Фары выхватили из темноты миртовую изгородь и ржавую калитку между двух высоких каменных столбов. Бобби притормозил. В окнах первого этажа ни огонька. На втором этаже в одной комнате горел свет: шторы задернуты, но по краям виднелись светлые щелочки. Дом оказался с той стороны машины, где сидел Бобби. Джулия нагнулась и оглядела его. — Еле видно. — А там и смотреть не на что. Старая развалина. Проехав еще с четверть мили, Бобби повернул обратно. Теперь Джулия могла разглядеть дом из своего окна. Она попросила Бобби пустить машину самым тихим ходом: надо присмотреться к дому повнимательнее. Когда машина медленно проплывала мимо калитки, Бобби догадался, что свет горит и на первом этаже. С шоссе освещенное окно было незаметно — оно выходило во двор за домом, — но на земле виднелся тусклый белесый отсвет правильной формы. Джулия, обернувшись, не отрывала глаз от оставшегося позади участка Полларда. — Слишком темно, — посетовала она. — Ничего не разобрать. Но по первому впечатлению — гиблое место. — Очень, — подтвердил Бобби.* * *
Сестры сумерничали. Лилли лежала на спине. Вербена прикорнула рядом, положив руку сестре на грудь, прижавшись губами к ее голому шелковистому плечу и согревая его своим дыханием. Кошки тоже взобрались на кровать и облепили тела сестер, точно окутали их теплым покрывалом. Спать сестры не собирались. Вот еще — спать в самую горячую пору, пору, когда несчетные ночные хищники выходят на охоту и начинается самое интересное. В этот миг двуединое сознание сестер обитало не только в кошачьих черепах, оно вселилось и в голодную сову, летающую над землей в поисках добычи: может, какой-нибудь мышонок, не убоявшись ночной темноты, сдуру высунет нос из норки. Острый глаз у совы, зорче твари не найти, но клюв и когти у нее еще острее. Лилли ждала, дрожа от нетерпения, не мелькнет ли внизу мышь или другая зверюшка, понадеявшаяся, что высокая трава укроет ее от врагов. Боль и ужас дичи, свирепое ликование хищника были знакомы Лилли, и она мечтала снова испытать все эти чувства сразу. В тишине раздавалось дремотное бормотание Вербены. Сова взмывала вверх, плавно скользила в вышине, кругами снижалась, вновь взмывала, но дичи не было и в помине. Внезапно на холм въехала машина. Она притормозила перед домом Поллардов. Автомобиль, конечно же, привлек внимание Лилли, а значит, и совы. Но ненадолго: машина задержалась у дома на какое-то мгновение и поехала дальше. Однако через несколько секунд она вернулась и снова медленно-медленно проползла мимо калитки. Лилли вновь насторожилась. По ее мысленному приказу сова описала круг над автомобилем. Затем Лилли велела птице обогнать машину, спуститься пониже и лететь навстречу — посмотреть, кто это там так интересуется их домом. Зоркие глаза совы хорошо разглядели водителя и женщину на переднем сиденье. Ее Лилли видела впервые, а вот мужчину за рулем она уже где-то встречала. Ба, да это же тот самый человек, который давеча в сумерках появился вместе с Фрэнком во дворе за домом! Лилли давно решила, что убийство Саманточки не сойдет Фрэнку с рук: он непременно должен умереть. И вот судьба посылает ей человека, который знаком с Фрэнком и поможет ей отыскать брата. Пробудившаяся в ее душе жажда мести передалась кошкам, они заворочались и глухо заворчали. Бесхвостая кошка и черная полукровка соскочили с кровати, метнулись в коридор, скользнули вниз по лестнице в кухню, через дверцу для кошек вылетели на улицу и помчались за машиной, которая уже набирала ход. Чтобы не упустить чужаков, за ними мало наблюдать сверху, тут потребны еще и четвероногие соглядатаи.* * *
Золт опять очутился в комнате для посетителей агентства «Дакота и Дакота». По комнате разгуливали холодные сквозняки. Они дули из разбитого окна в кабинете, из двух распахнутых дверей. Негромкий звук, сопровождавший появление Золта, был заглушен треском помех и скрежетом голосов, которые доносились из переносных раций, болтавшихся на ремнях у полицейских. Один полицейский стоял в дверях кабинета Бобби и Джулии, другой — у двери в общий коридор. Золт видел только их спины — в этот момент оба обращались к каким-то невидимым собеседникам и не замечали, что происходит в комнате. Добрый знак: значит, Господь его не оставил. Обшарить агентство ему не удастся. Досадно, однако делать нечего. Золт медленно перенесся на полторы сотни миль и снова оказался в материнской спальне. Здесь он решил собраться с мыслями и прикинуть, где еще могли побывать Дакоты сегодня вечером, где еще сохранились их незримые следы.* * *
На обратном пути «Тойота» снова завернула на заправочную станцию. Длинноволосый усач показал, как проехать к дому Фогарти. Оказалось, что он знает и самого Фогарти. — Хороший старичок. Он иногда у нас заправляется. — Он врач? — спросил Бобби. — Бывший. Сейчас на пенсии. В начале одиннадцатого Бобби припарковал машину возле дома Лоренса Фогарти. Это был двухэтажный особняк в причудливом испанском стиле. Бобби сразу узнал двустворчатые окна до пола — такие же окна он видел в кабинете, куда они с Фрэнком попали во время странствий. Все окна первого этажа были освещены. Кое-где — по крайней мере в окнах фасада — стекла были расчерчены глубокими бороздками, и теплый свет сиявшей в комнате лампы приветливо поигрывал на стеклянных гранях. Выбравшись из машины, Бобби уловил в сыром студеном предгрозовом воздухе запах горящих дров и увидел, как из трубы камина выбивается белый, курчавый, ласковый дымок. Тусклый уличный фонарь озарял фантастическим лиловатым светом кусты азалий, на которых розовело несколько бутонов (сразу видно — север: у них в округе азалии уже усыпаны ранними бутонами). Над ними раскинуло ветки вековое дерево в полдома высотой; ствол — как несколько сросшихся стволов. Все здесь дышало покоем и удивительным уютом — ну прямо сказка про хоббитов, только в испанском вкусе. Дорожка к дому проходила между двух невысоких фонарей. Бобби и Джулия двинулись по дорожке. Вдруг перед ними промелькнуло какое-то существо. Джулия вздрогнула. Зверек остановился на лужайке и впился в них горящими зелеными глазами. — Ничего страшного, просто кошка, — успокоил Бобби. Кошек он любил, но сейчас по его спине пробежал мороз. Кошка юркнула в темные кусты возле дома. Ничего особенно жуткого в этой кошке не было, однако Бобби вспомнилась кошачья стая из дома Поллардов, которая их с Фрэнком чуть не растерзала. Поневоле испугаешься: сперва зловещее молчание, а потом дружный истошный визг — точно это не кошки, а свора нежити. Да и двигались они не по-кошачьи слаженно. Но сейчас бояться нечего — кошка как кошка. Юркая, осторожная, любопытная. Правда, держится таинственно и вызывающе, но таков уж весь кошачий род. Поднявшись на крыльцо, Бобби и Джулия вошли в арку и оказались на маленькой веранде. Джулия нажала кнопку звонка. Прозвучала тихая мелодичная рулада. В доме никто не отозвался. Подождав полминуты, Джулия позвонила еще. Едва смолкли мелодичные переливы, как в воздухе зашуршали крылья, словно на крышу веранды опустилась ночная птица. Джулия собиралась позвонить в третий раз. Но тут на веранде зажегся свет. Бобби догадался, что хозяин рассматривает их в глазок. Дверь отворилась, и в потоке света, хлынувшего из прихожей, перед Дакотами предстал доктор Фогарти. Да, именно его видел тогда Бобби в кабинете. Он тоже узнал Бобби. — Милости прошу, — произнес он и посторонился, пропуская гостей. — Значит, все-таки пришли. Что ж, здравствуйте. Хотя не могу сказать, что рад вас видеть.Глава 55
— Прошу в библиотеку, — пригласил Фогарти и провел гостей в комнату, расположенную слева по коридору. Библиотека оказалась тем самым помещением, куда занесло Бобби и Фрэнка и которое Бобби, рассказывая о своих странствиях жене, назвал кабинетом. Обстановка ее была под стать внешнему облику дома: тот же сказочный мир хоббитов, приноровленный к испанским вкусам. Наверно, как раз в такой комнате в один из долгих оксфордских вечеров и вздумалось Толкиену взять перо и бумагу и поведать миру о приключениях Фродо. Теплая уютная комната была залита ласковым светом торшера на медной ножке и настольной лампы с цветными стеклами — совсем как от Тиффани, а может, и правда от Тиффани. Потолок был разделен на глубокие квадратные ячейки, стены увешаны книжными полками, на полу расстелен пышный китайский ковер — по краям темно-зеленый с бежевым, посредине — большей частью светло-зеленый. Его оттеняла темная дверь из дубовых пластин, соединенных в шпунт. Густо блестел бесцветный лак на массивном письменном столе красного дерева, а на обитой зеленым фетром крышке стола красовался золоченый письменный прибор, отделанный костью. Чего тут только не было, даже нож для бумаги, увеличительное стекло и ножницы. Они были аккуратно разложены перед квадратной мраморной подставкой для золотой авторучки. Старинный диван с гнутыми ножками, обитый декоративной тканью, как нельзя лучше подходил к китайскому ковру. Стояло здесь и знакомое Бобби глубокое кресло. Взглянув на него, Бобби обомлел: в кресле сидел Фрэнк. — С ним что-то неладно. — Фогарти кивнул в сторону Фрэнка. Он даже не заметил изумления гостей — видно, решил, что они явились как раз потому, что надеялись встретить тут Фрэнка. За то время, что они не виделись (Фрэнк исчез из агентства в 17.26), клиент превратился в совершенный полутруп. Глаза ввалились еще сильнее и точно смотрели из двух глубоких ям. Темные круги вокруг глаз расплылись и словно согнали с лица все краски — кожа приобрела безжизненно-серый оттенок. По сравнению с ним прежняя бледность казалась чуть ли не признаком здоровья. Но самое скверное — это невидящий взгляд, который Фрэнк устремил на Дакотов. И даже не на них, а сквозь них. Смотрел и не узнавал. Рот его был открыт, будто он уже давно силится заговорить, но никак не сообразит, с чего начать. Бобби встречал такое выражение у нескольких пациентов интерната Сьело-Виста — у тех, кто по умственному развитию значительно отставал от Томаса. — Давно он у вас? — спросил Бобби и двинулся к Фрэнку. Джулия схватила мужа за руку. — Не подходи. — Он появился около семи, — ответил Фогарти. Значит, после того, как Бобби вернулся в агентство, Фрэнк странствовал неизвестно где еще полтора часа. — Торчит здесь уже три часа, — продолжал Фогарти, — а я сижу тут и ломаю голову, как с ним поступить. Задачка не из легких. Иногда на него находит что-то вроде просветления: он реагирует на голос и более или менее толково отвечает на вопросы. А то вдруг начнет тараторить без умолку, вопросы и слышать не хочет. Наверно, ему просто надо выговориться. Болтает, болтает, хоть колом огрей — не остановится. Про вас, к примеру, он мне уши прожужжал. — Фогарти нахмурился и покачал головой. — Если вам пришла охота лезть в петлю, дело ваше. Но меня увольте. Нечего меня впутывать в эту кошмарную историю. На первый взгляд доктор Лоренс Фогарти казался этаким добрым дедушкой, который в бытность свою врачом наверняка снискал любовь и уважение всей округи за бескорыстие и преданность делу. Голубоглазый, пухлолицый, с густой седой шевелюрой — ну прямо Дед Мороз, только что не такой упитанный. Одет он был так же, как и при первой встрече с Бобби: серые брюки, белая рубашка, синий джемпер и шлепанцы. На носу сидели бифокальные очки, поверх которых он поглядывал на гостей. Но, присмотревшись повнимательнее, Бобби заметил, что голубые глаза вовсе не лучатся добротой, а сверлят собеседника стальным взглядом; пухлое лицо кажется чересчур уж пухлым — как у человека, который пожил всласть, ни в чем себе не отказывая. Это было лицо не доброго дедушки, а скорее безвольного сибарита. Можно себе представить, какой обаятельной улыбкой улыбался бы широкоротый Фогарти, будь он тем самым милягой-доктором, однако лицу настоящего дока Фогарти этот широкий рот придавал хищное выражение. — Говорите, Фрэнк о нас рассказывал? — сказал Бобби. — Зато мы про вас ничего не знаем. А хотелось бы узнать. Фогарти опять нахмурился. — Ну и хорошо, что не знаете. Хорошо для меня. Заберите-ка его отсюда и езжайте с богом. — Хотите сбыть его с рук? — процедила Джулия. — Тогда вам придется рассказать нам все: кто вы, какое отношение имеете к этой истории, что вам о ней известно. Старик взглянул в глаза Джулии, потом Бобби. Гости смотрели на него в упор. — Фрэнк не появлялся тут уже пять лет, — сообщил Фогарти. — И вдруг сегодня сваливается как снег на голову вместе с вами, мистер Дакота. Досадно, хоть плачь. Я-то уж решил, что избавился от него навсегда. А когда он появился в последний раз… Взгляд Фрэнка не прояснялся. Он свесил голову набок, рот его по-прежнему был открыт, точно дверь комнаты, которую впопыхах не запахнул убегавший жилец. Покосившись на Фрэнка исподлобья, Фогарти заметил: — В таком состоянии я его тоже никогда не видел. Возиться с ним — слуга покорный. Тем более сейчас, когда он окончательно умом тронулся. Ну что ж, хотите поговорить — давайте поговорим. Но после этого берите его под свое крылышко, а мое дело сторона. Фогарти обошел письменный стол и опустился в кресло, обитое темно-бордовой кожей (точно такая же обивка была у кресла, в котором сидел Фрэнк). Не дождавшись, когда же хозяин предложит им присесть, Бобби сам направился к дивану. Но Джулия опередила его и плюхнулась на диван поближе к Фрэнку. Она посмотрела на мужа так, словно хотела сказать: «Поумерь свои благие порывы. Стоит Фрэнку вздохнуть, застонать или пустить слюни, как ты уже тянешь руки его погладить, утешить. А если ты в тот же миг провалишься в тартарары или еще куда-нибудь? Держись-ка от него подальше». Фогарти снял очки в черепаховой оправе, положил на стол, крепко зажмурился и двумя пальцами потер переносицу, словно хотел прогнать головную боль или собраться с мыслями, а может, и то и другое. Затем он открыл глаза, прищурился, взглянул на гостей и начал: — Я тот самый врач, который в феврале сорок шестого года, когда Розелль Поллард появилась на свет божий, принимал роды у ее матери. Я же принимал роды и у самой Розелль. Фрэнк, близнецы, Джеймс — или Золт, как он теперь себя называет, — все они родились при моем участии. Я лечил Фрэнка от всех детских недугов. Должно быть, поэтому он и решил, что в трудную минуту может обратиться ко мне. Нашел дурака. Что я ему — врач-добряк из телемелодрам, который ко всем лезет со своей помощью? Или заботливый дядюшка, который учит уму-разуму? Мне платили — я лечил, а прочее меня не касается. И лечил-то я только Фрэнка да его мать — девчонки и Джеймс никогда не болели. О психических отклонениях умолчу: это у них врожденное и лечению не поддается. Голова Фрэнка все так же клонилась набок. Из правого уголка рта по подбородку тянулась тонкая серебристая струйка слюны. — Вы, очевидно, знаете про необычные способности ее детей, — перебила Джулия. — Узнал семь лет назад, в тот самый день, когда Фрэнк ухлопал свою мамашу. К тому времени я уже вышел на пенсию, но Фрэнк по старой памяти бросился ко мне. Наболтал много лишнего, втравил меня в историю. Ему, видите ли, понадобилась моя помощь. А чем мне было ему помочь? Чем тут вообще поможешь? Я не имею привычки совать нос в чужие дела. — Но откуда у них взялись эти способности? — допытывалась Джулия. — У вас есть какие-нибудь догадки, предположения? Фогарти залился желчным, недобрым смехом. Если бы Бобби не раскусил старика через две минуты после знакомства, сейчас этот смех раскрыл бы ему глаза. — Предположения имеются, будьте спокойны. И мне есть чем их подкрепить. Могу такого о Поллардах порассказать, что не обрадуетесь. Это, конечно, не моего ума дело, но тут заварилась такая каша, что нет-нет да и задумаешься. И немудрено. История приключилась скверная, дикая, но занятная. Так вот, что касается предположений, по-моему, всему виной отец Розелль. Вообще-то ее отцом считали заезжего прощелыгу, но меня не проведешь. Ее настоящий отец — брат ее матери Ярнелл Поллард. Розелль — плод насилия и кровосмешения. Должно быть, Бобби и Джулия изменились в лице, потому что, заметив, как они приняли это известие, Фогарти снова разразился презрительным лающим смехом — Это еще что! Главное впереди, — заверил старый врач.* * *
Бесхвостая кошка по прозвищу Зита, затаившись в кустах азалий, караулила входную дверь. Вторая кошка, черная как полночь (на то ей и прозвище — Ночнянка), вскочила на подоконник, какие у старинных испанских домов пристроены снаружи. — Потом перепрыгнула на другой. Вот она, комната, куда старик увел гостей. Ночнянка ткнулась носом в стекло. Изнутри окно закрывали жалюзи, однако сейчас широкие планки сомкнуты не очень плотно: если поднять или пригнуть голову, кое-что видно. Заслышав имя Фрэнка, кошка замерла — потому что в спальне дома на Пасифик-Хилл-роуд в эту минуту замерла Лилли. Старик действительно тут, в комнате с книгами. А вон и его гости. Когда все расселись, Ночнянка пригнулась и заглянула в другую щель, пониже. Ну и ну. Мало того, что разговор крутится вокруг Фрэнка, он и сам находится в комнате. Кресло, в котором он сидел, стояло под углом к окну. Из-за высокой спинки виднелась часть лица, а на широком подлокотнике, обитом бордовой кожей, безвольно покоилась его рука.* * *
Док Фогарти склонился над столом и, кисло улыбаясь, продолжал рассказ. Сейчас он больше всего напоминал тролля, который ждал-ждал, когда близ его берлоги под мостом заплутают беспечные ребятишки, а не дождавшись, сам отправился на поиски человечинки. Бобби одернул свое шальное воображение. Предвзятость по отношению к Фогарти помешает разобраться, можно ли верить его словам, и оценить, насколько важны эти сведения. Для них с Джулией это вопрос жизни и смерти. — Дом, в котором проживает эта семейка, построили в тридцатые годы Дитер и Элизабет Полларды. Дитер прежде работал в Голливуде, снимал третьесортные вестерны и тому подобную муру. На этом он сколотил кое-какой капитал. Не бог весть какое богатство, но благодаря этим деньгам он смог бросить кино, уехать из ненавистного Лос-Анджелеса и поселиться тут. На новом месте он приобрел несколько небольших предприятий и жил безбедно до конца своих дней. Так вот, Полларды переехали сюда в тридцать восьмом году, в ту пору у них уже было двое детей: пятнадцатилетний Ярнелл и шестилетняя Синтия. В сорок пятом Дитер и Элизабет разбились в автомобильной катастрофе — грузовик вез капусту из долины Санта-Инес, и водитель спьяну налетел прямо на них. Представляете номер? Так Ярнелл в двадцать два года стал главой семьи и официальным опекуном тринадцатилетней сестры. — И он, говорите… насильно ею овладел? — спросила Джулия. Фогарти кивнул. — Я в этом не сомневаюсь. Потому что на следующий год Синтия очень изменилась. Ходит как в воду опущенная, хнычет. Соседи решили, что это из-за смерти родителей, но мне сдается, что дело тут в Ярнелле, который затащил ее в постель. Не только из-за того, что молодая кровь играла, хотя парня можно понять: девочка была загляденье. Более важная причина состоит в том, что роль хозяина пришлась парню по душе: он обожал власть. А люди его склада ценят только одну власть — абсолютную, когда все вокруг им подчиняются. «Парня можно понять…» Бобби ужаснулся. Да этот Фогарти просто нравственный урод! Доктор заметил, что гости посматривают на него с отвращением, но как ни в чем не бывало продолжал: — Ярнелл был своевольный шалопай, и родители от него чуть не плакали. Сильнее всего их огорчало его пристрастие к наркотикам. Он сделался наркоманом, когда большинство и слова-то этого не знало. Об ЛСД тогда понятия не имели. И все-таки кое-что из этой дряни уже тогда было в ходу: пейот, мескалин, всевозможные галлюциногены, которые получают из некоторых разновидностей кактусов, грибов и других растений. Ярнелл баловался галлюциногенами с пятнадцати лет. Его научил дружок, киноактер, который снимался в фильмах его отца в характерных ролях. Я так подробно рассказываю, потому что, как мне кажется, это и есть ответ на ту загадку, которую вы пытаетесь разгадать. — Разгадка в том, что Ярнелл был наркоманом? — спросила Джулия. — Не только. Еще в том, что Синтия зачала от родного брата. Действительно, из-за постоянного употребления наркотиков у Ярнелла к двадцати годам определенно появились какие-то генетические нарушения, в этом ничего удивительного. Но вот сами нарушения оказались просто удивительными. Прибавьте еще, что он сошелся с родной сестрой. Комбинации генов при таких союзах крайне ограничены. Можно себе представить, каких монстров способна наплодить такая парочка. Фрэнк тихо застонал и вздохнул. Все повернулись к нему. Фрэнк по-прежнему не шевелился. Он часто заморгал, но взгляд оставался остекленевшим, ниточка слюны свисала с подбородка. Надо бы взять салфетку и вытереть ему лицо, но Бобби сдержался — в основном из-за Джулии. — Через год после смерти родителей Ярнелл и Синтия обратились ко мне. Синтия была беременна. Ее, дескать, изнасиловал какой-то батрак не из местных. Что-то меня в этой истории насторожило. Посмотрел я, как они друг с другом держатся, и понял, в чем тут штука. Синтия все старалась скрыть беременность: носила широкие платья, а в последние месяцы и вовсе не выходила из дома. Я прямо диву давался: неужели они думают, что у нее все само пройдет? Когда она пришла ко мне, об аборте не могло быть и речи. Какой, к черту, аборт, если она уже на сносях? Бобби слушал, и ему казалось, что по библиотеке разливается тлетворный дух. Воздух становился вязким и затхлым, словно пропитался кислым запахом пота. — Ярнелл уверял, что хочет-де уберечь сестру от косых взглядов. Он пообещал мне приличный куш, если я приму роды не в больнице, а у себя на дому. Это было рискованно: в случае осложнений дело добром бы не кончилось. А мне в то время как раз понадобились деньги. Ну, думаю, если что не так, то ведь и концы в воду спрятать недолго. За ассистенткой дело не стало: работала у меня медсестра, Нормой звали, на нее в таких деликатных обстоятельствах можно было положиться. «Теплая компания, — подумал Бобби. — Сам — циничный выродок в белом халате и медсестру подобрал себе под стать. Им бы работать врачами в Дахау или Освенциме, вот где пришлись бы ко двору». Джулия сжала колено Бобби, словно хотела удостовериться, что безумный врач, которого она слушает, — это не сон. — Видели бы вы, какое дитятко сварганила эта девчонка! Как и следовало ожидать — хоть сейчас в кунсткамеру. — Минуточку, — остановила доктора Джулия. — Вы только что сказали, что от этой связи родилась Розелль, мать Фрэнка. — Совершенно верно, — кивнул Фогарти. — И она оказалась таким занятным монстром, что любой ярмарочный балаган отдал бы целое состояние за право ее показывать. Правда, полиция за такой показ по головке бы не погладила. — Фогарти сделал паузу, наслаждаясь напряженным вниманием слушателей. — Розелль была гермафродитом. Бобби не сразу сообразил, что это значит. Потом уточнил: — Вы хотите сказать, она была двуполая? — Вот именно. — Фогарти сорвался с места и начал расхаживать по комнате. Разговор его неожиданно раззадорил. — Гермафродитизм — крайне редкое врожденное нарушение. Не каждому акушеру выпадает такая удача — принимать роды у матери гермафродита. Бывает траверсивный гермафродитизм — это когда наружные половые органы сформированы по признаку одного пола, а половые железы — по типу другого. Есть еще латеральный гермафродитизм — ну и прочие разновидности. Но Розелль… Розелль относилась к уникальнейшему виду гермафродитов. Она обладала одновременно и мужскими, и женскими наружными органами. — Фогарти схватил с полки толстый медицинский справочник и протянул Джулии. — Посмотрите, там на странице сто сорок шесть есть фотографии. Это как раз тот случай, о котором я рассказываю. Джулия так поспешно передала справочник мужу, будто это не книга, а змея. Бобби отложил справочник, даже не заглянув. Обойдется без фотографий: воображением его бог не обидел. Он чувствовал, как холодеют руки и ноги: наверно, кровь отхлынула к голове, а то она буквально идет кругом. Бобби старался отогнать все мысли, которые вызывал у него рассказ Фогарти. Какая мерзость! И хуже всего, что, судя по странной улыбке врача, это еще цветочки — ягодки будут потом. Фогарти все так же мерил комнату шагами. — Влагалище, — продолжал он, — располагалосьтам, где ему и положено, а мужской орган был несколько смещен. Мочеиспускание происходило через мужской член, благодаря же влагалищу Розелль была способна к нормальному деторождению. — Картина уже ясна, — не выдержала Джулия. — Технические подробности можно опустить. Фогарти подошел к супругам и оглядел их озорными сияющими глазами, точно рассказывал пикантный случай из медицинской практики, которым не год и не два развлекал собеседников на званых обедах. — Э, нет. Вы должны до конца понять, что она собой представляла, иначе вам и дальнейшее будет непонятно.* * *
Хотя сознание Лилли пребывало и в теле сестры, и в телах кошек, и в теле совы, притаившейся на крыше веранды дома Фогарти, Лилли не пропускала ни слова из того, что слышала сидевшая на подоконнике Ночнянка. А слышала она все: оконное стекло чуткому кошачьему уху не помеха. Рассказ Фогарти Лилли заворожил. Несмотря на то, что незримое присутствие Розелль в старом доме ощущалось повсюду, Лилли редко вспоминала мать. Люди вообще ее не занимали. Исключение составляла она сама да ее сестра. Ну разве еще Золт и Фрэнк. А прочие — что ей за дело до прочих? Дикие животные — вот это да. В их телах и проживала она свою подлинную жизнь. Чувствуют они проще и обостреннее, чем люди, нехитрым удовольствиям могут предаваться на каждом шагу, и при этом — никаких тебе угрызений совести. Лилли толком И не знала свою мать и особой привязанности к ней не испытывала. Даже если бы Розелль вздумала проявить благосклонность к кому-нибудь, кроме Золта, Лилли все равно дичилась бы матери. Рассказ Фогарти захватил ее не потому, что она услышала много нового (хотя эта история действительно была ей в новинку), но потому, что эти обстоятельства, предрешившие судьбу Розелль, во многом повлияли и на ее собственную жизнь. Пусть ее сознанию подвластны тела и души несметного множества животных, пусть она воспринимает мир так, как воспринимают они, — все равно никого на свете она так не любила, как себя самое. Дни и ночи напролет она охорашивалась и холила себя, словно какой-нибудь зверек, и не считалась ни с чем, кроме собственных желаний и прихотей. Интересовало ее лишь то, что сулило ей выгоду и удовольствия или могло сказаться на ее благополучии в будущем. Сейчас у нее промелькнула смутная мысль: неплохо бы разыскать брата и предупредить, что Фрэнк всего в двух милях от дома. Судя по звонкому переливу ветра, Золт уже вернулся.* * *
Фогарти вновь подошел к своему креслу, но не сел, а стал прохаживаться вдоль книжных полок. Рассказывая, он постукивал пальцем по корешкам книг. Джулия слушала, как Полларды старательно обрекали себя на вырождение, а думала о Томасе. Родители вели правильную здоровую жизнь, но сына все-таки поразила неизлечимая болезнь. Судьба одинаково жестока и к беспутным, и к благоразумным. — Я было решил, что, когда Ярнелл увидит этот изъян, он убьет ребенка и выбросит на свалку или сдаст в приют. Куда там. Синтия ни за что не хотела расставаться с маленькой. Говорит, хоть и увечная, а все-таки родное дитя. Она назвала девочку Розелль в честь покойной бабки. Я подозреваю, что она оставила ребенка назло Ярнеллу — чтобы каждый день смотрел на этого монстра и вспоминал, как обошелся с сестрой. — Разве нельзя устранить признаки одного пола хирургическим путем? — спросил Бобби. — Сейчас — запросто, а в те годы — сомневаюсь. Фогарти остановился у стола и вынул из ящика бутылку виски и стакан. Налил себе немного и закрыл бутылку. Гостям не предложил. Так даже лучше, все равно ни есть, ни пить в этом доме Джулия бы не смогла: хоть кругом и отменная чистота, но ее одолела брезгливость. Фогарти отхлебнул теплого неразбавленного виски и продолжил: — И потом, что толку в операции? Устранишь признаки одного пола, а ребенок подрастет, и во внешности и поведении проявятся черты как раз того пола, которого его лишили. Конечно, вторичные половые признаки можно распознать и в раннем возрасте, но и тут легко ошибиться. А в сорок шестом решить эту задачу было еще труднее. Наконец, Синтия не согласилась бы на операцию. Я же говорю: она, как видно, хотела, чтобы изъян дочки стал брату вечным укором. — Но вы-то могли вмешаться, — не отставал Бобби. — Оповестили бы органы здравоохранения, что ли. — Вот еще! С какой стати? А, вы считаете, мне следовало позаботиться о психическом здоровье девочки? Боже, какая наивность. — Фогарти сделал еще глоток. — Мое дело маленькое: принял роды, обещал помалкивать, получил за это кругленькую сумму — чего же еще? А родители забрали Розелль домой и свалили все на приезжего. — Этот ребенок… Розелль… она была вполне здорова? — вмешалась Джулия. — Вполне. Если не считать врожденного дефекта, здоровье у нее было лошадиное. И умственно и физически она развивалась нормально, не хуже любого ребенка, и очень скоро стало ясно, что внешне она будет выглядеть как женщина. Само собой, не красавица, для манекенщицы фигурой не вышла — колода колодой. И ноги чересчур крупные, но с мужчиной не спутаешь. Взгляд Фрэнка оставался невидящим и безучастным, но левая щека пару раз судорожно дернулась. От виски доктор несколько размяк. Он уселся за стол, навалился на него грудью и двумя руками взялся за стакан. — В пятьдесят девятом году, когда Розелль исполнилось тринадцать лет, Синтия умерла. Вернее, покончила с собой. Застрелилась. А через семь месяцев после смерти сестры Ярнелл явился ко мне со своей дочкой. То бишь с Розелль: он по-прежнему уверял, что она ему не дочь, а племянница. Словом, девчонка была в интересном положении. И это в четырнадцать лет — столько же было и Синтии, когда она ее родила. — О господи! — ахнул Бобби. Кошмарным событиям не видно конца. Они сменяли друг друга с такой быстротой, что Джулия была готова схватить бутылку и хлебнуть прямо из горлышка. Плевать, что это виски доктора Фогарти. Фогарти сиял от удовольствия. Он сделал еще глоток и выждал паузу, чтобы гости пришли в себя. — Ярнелл изнасиловал дочь, которую зачала от него сестра? — пробормотала Джулия. Фогарти помолчал еще немного, наслаждаясь произведенным эффектом, и ответил: — Нет-нет, Ярнелла от одного ее вида бросало в дрожь. Он бы ее и пальцем не тронул, за это я ручаюсь. Розелль призналась мне, в чем тут дело, и я ей верю. — Доктор опять приложился к стакану. — А дело в том, что после рождения дочери Синтия сделалась весьма набожна и пронесла эту набожность через всю жизнь. Она и Розелль воспитала в том же духе. Девочка знала Библию от корки до корки. И вот, сидя у меня в кабинете, Розелль рассказала, что давно решила стать матерью. Господь, мол, отметил ее своим перстом — это она о гермафродитизме, хороша отметина! — и она вознамерилась стать Его непорочным орудием, дабы произвести на свет благословенное потомство. С этой целью она собирала семя, исторгаемое ее мужским членом, и вносила в свой женский орган. Бобби взвился, словно его подбросила диванная пружина, и схватил со стола бутылку. — Еще стаканчик не найдется? Фогарти указал на дверцу бара в углу — Джулия только что его заметила. В баре Бобби обнаружил несколько стаканов и изрядный запас виски. Видно, врач держал бутылку в столе только для того, чтобы не бегать через всю комнату каждый раз, как захочется выпить. Бобби налил два полных стакана и дал один жене. — Я уже догадалась, что Розелль не была бесплодна, — сказала Джулия. — Раз у нее были дети, то в этом сомневаться не приходится. Но мне почему-то казалось, что мужской орган у нее не действовал. — Она была способна к деторождению и в мужской, и в женской ипостаси. Так сказать, сойтись сама с собой в полном смысле слова она не могла, вот и прибегла к искусственному самоосеменению. Когда нынче в агентстве, описывая путешествия с Фрэнком, Бобби сравнил их с космическим бобслеем, Джулия никак не могла взять в толк, чего он, собственно, так испугался. Теперь она, кажется, начинала понимать это ощущение. Чудовищная неразбериха в родственных отношениях Поллардов, зыбкая неопределенность пола — от всего этого ее пробрал озноб. А природа-то, видно, куда злонравнее, чем представлялось Джулии, и вовсе не чужда брожению хаоса. — Ярнелл настаивал на аборте. Аборты тогда были делом прибыльным, потому что закон их запрещал и операции приходилось проводить втайне. Только вот незадача: оказалось, что девочка забеременела семь месяцев назад и так же, как в свое время мать, скрывала беременность от Ярнелла. Какой уж тут аборт на восьмом месяце — она бы умерла от кровотечения. Да я бы все равно отказался. Своими руками все загубить? Ни за какие коврижки! Вы только вообразите, как прихотливо смешалась в будущем ребенке кровь ближайших родственников. Отпрыск гермафродита, рожденного от связи брата с сестрой, и оплодотворивший самого себя! Мать ребенка одновременно приходится ему и отцом, бабка — двоюродной бабкой, дед — двоюродным дедом. У всех родственников — сходный генотип, причем генотип, на котором сказалось пристрастие Ярнелла к галлюциногенам. Какими дефектами чревата такая наследственность, было еще неизвестно, однако в том, что ребеночек будет знатным уродом, я не сомневался и ни за что не хотел упустить возможность увидеть его собственными глазами. Джулия сделала большой глоток виски. Горло ей обожгло, во рту остался противный вкус. Но делать нечего. Без спиртного она не выдержит. — Я ведь стал врачом, потому что врачи хорошо зарабатывают, — откровенничал Фогарти. — Со временем я сообразил, что, если махнуть рукой на запрет и заняться абортами, можно заработать и того больше. Я и подался по этой части. Бояться мне было нечего: дело свое я знал. А если кто-нибудь из местного начальства грозил поднять шум, тоже не страшно: дашь на лапу — и отвяжутся. Деньги потекли рекой. Теперь мне уже незачем было целыми днями принимать больных. Деньги, досуг, развлечения — всего вдоволь. Я и помыслить не мог, что мне подвернется такой интересный, с медицинской точки зрения, такой забавный случай, как эта семейка. Если Джулия не пришибла старика на месте, то вовсе не из уважения к его сединам. Просто она хотела дослушать историю до конца, чтобы не упустить что-нибудь существенное. — Но, увы, первенец Розелль обманул мои ожидания. Ребенок родился здоровеньким и, судя по всему, совершенно нормальным. А произошло это в шестидесятом году. Назвали младенца Фрэнк. Сидящий в кресле Фрэнк что-то пробормотал себе под нос.* * *
Слушая дока Фогарти чутким слухом Ночнянки, Лилли села и спустила голые ноги с кровати. Покой уютно устроившихся кошек был нарушен, обиженно заворчала Вербена: она не довольствовалась тем, что ее с сестрой объединяют одни и те же мысли, ей хотелось, чтобы и тела их никогда не разлучались. В спальне было темно, хоть глаз выколи. Лилли призвала на помощь зрение кошек, которые вились у ее ног, и направилась к двери. Тут она вспомнила, что не одета, и вернулась к кровати натянуть трусики и майку. Золт может злиться сколько его душе угодно — Лилли его гнев не страшил. Она вообще не боялась брата. Напротив, она только и думала, как бы довести его до бешенства и вовлечь в смертоносную игру: охотник и дичь, ястреб и мышь, брат и сестра. Золт — единственный из всех диких тварей, в чей мозг не удавалось вторгнуться ее сознанию: он хоть и дикий, а человек, люди же ее могуществу неподвластны. Есть лишь один способ соединиться с ним — влиться в него собственной кровью, хлынувшей из разодранного горла. И для него нет иного способа соединиться с сестрой, кроме как вонзить зубы в ее плоть. В другое время Лилли нарочно ввалилась бы к брату нагишом в надежде на то, что, не стерпев ее бесстыдства, он явит свою кровожадную натуру. Но сегодня не до исполнения заветной мечты: Лилли еще не расквиталась с Фрэнком за убийство своей бедной киски Саманты. И вот ее час настал: Фрэнк в двух шагах отсюда. Лилли оделась, выбралась из комнаты и побрела по темному коридору, ни на минуту не теряя связь с Ночнянкой, Зитой и прочими четверолапыми и пернатыми помощниками. У дверей комнаты, в которой после смерти матери поселился Золт, она остановилась. Под дверью сияла узкая полоска света. — Золт, — окликнула она брата. — Золт, ты здесь?* * *
Точно отсвет прошлых войн или предвестие грядущей губительной войны, черное небо рассекла яркая молния, и ночь сотряслась от оглушительного удара грома. В окнах задрожали стекла. Почти полтора часа назад, когда Бобби и Джулия уезжали из мотеля, они слышали далекие раскаты грома. Теперь неспешная гроза наконец до них добралась. Пока это лишь пристрелка, дождь еще не хлынул, но и этот зловещий фейерверк за окном как нельзя лучше подходил к рассказу доктора. Фогарти извлек из вместительного ящика вторую бутылку и плеснул себе еще виски. — Словом, Фрэнк меня разочаровал. Самый обычный младенец. Тоска, да и только. Но два года спустя девчонка опять забеременела. Тут уж она меня ублажила так ублажила, не то что с Фрэнком. Она снова разрешилась мальчиком и назвала его Джеймс. Это были вторые, по ее выражению, «непорочные» роды. Ее ничуть не смущало, что младенец оказался таким же чудищем, как и она сама. Она посчитала его уродство знаком того, что он также обрел благодать пред Богом и ему не грозит гнусное плотское вожделение. Тогда-то я и догадался, что у нее котелок не в порядке. «Глушить виски после почти что бессонной ночи — не дело. Как бы не окосеть, — думал Бобби. — Мне сейчас нужна ясная голова». Однако чутье нашептывало ему, что он может пить сколько влезет: спиртное все равно не подействует — по крайней мере в нынешних обстоятельствах. Отхлебнув еще, Бобби поинтересовался: — Как прикажете вас понимать? Неужели этот битюг — тоже гермафродит? — Нет, не гермафродит, а еще почище.* * *
Золт открыл дверь. — Чего тебе? — Он сейчас здесь, в городе, — сказала Лилли. Глаза Золта сузились. — Ты про Фрэнка? — Да.* * *
— Еще почище, — тупо повторил Бобби. Он поднялся с дивана и поставил стакан на стол. Стакан был почти полон, но Бобби вдруг почувствовал, что тут и виски не поможет успокоиться. Должно быть, Джулия тоже это поняла и отставила свой стакан в сторону. — Джеймс — или Золт — родился не с двумя яичками, а с четырьмя, но без полового члена. В период внутриутробного развития яички у плода расположены в брюшной полости и лишь позднее опускаются в мошонку. Но у Золта опущение не произошло, да и не могло произойти: у него и мошонки-то не было. Кроме того, опущению препятствовал какой-то костный нарост. Поэтому все четыре яичка так и остались в брюшной полости. Однако никакого нарушения функций у них, по-видимому, не наблюдается, и они благополучно вырабатывают огромное количество тестостерона, который влияет на развитие мускулатуры. Этим отчасти объясняется его мощное сложение. — Выходит, к половой жизни он не способен, — заключил Бобби. — Судите сами: яички не опущены, полового органа нет. Сдается мне, что целомудреннее его в целом свете не найти. Бобби уже ненавидел хохоток старика лютой ненавистью. — Две пары половых желез! — ужаснулся он. — Это же сколько они выделяют тестостерона? Надо полагать, от него не только мускулатура развивается, а? Фогарти кивнул. — Выражаясь языком медицинских журналов, избыток тестостерона оказывает воздействие — иногда радикальное — на функции головного мозга и вызывает у больного повышенную агрессивность, вследствие чего он начинает представлять опасность для общества. Проще говоря, парня так и распирает от собственной сексуальной мощи, а дать ей выход он не в состоянии, поэтому избавляется от нее необычными способами, чаще всего — совершая зверские преступления. Такое чудовище, как этот тип, киношникам и во сне не снилось.* * *
Сову Лилли отпустила, однако Ночнянка и Зита все еще повиновались ее воле. Несмотря на приближение грозы, кошки ни на шаг не отходили от дома Фогарти. Грома и молний они не боялись — Лилли отгоняла от них этот страх. Стоя у двери в комнату Золта, она слушала, как Фогарти рассказывает Дакотам об изъяне ее брата. Она давно знала про изъян — по словам матери, это знак того, что из всех четырех детей Золт отмечен особой милостью Божьей. Догадывалась Лилли и о связи между этим изъяном и лютым нравом Золта, из-за которого брат стал для нее таким желанным. Вот и сейчас, глядя на него, она хотела погладить его крепкие руки, ощутить под пальцами литые мускулы — но все-таки удержалась. — Фрэнк дома у Фогарти. Золт удивился: — Мать говорила, Фогарти — орудие Божье. Это же он все четыре раза принимал непорочные роды. С чего бы он вдруг приютил Фрэнка? Ведь Фрэнк на стороне темных сил. — И все-таки он у Фогарти. А с ним — какая-то парочка. Его зовут Бобби, а ее Джулия. — Дакоты, — прошипел Золт. — Он у Фогарти, Золт. Надо рассчитаться с ним за Саманту. Убей его и принеси сюда, а мы скормим его труп кошечкам. Он их ненавидел, так пусть теперь войдет в них и остается там на веки вечные. Небось не обрадуется.* * *
Слушая доктора, вспыльчивая по натуре Джулия сидела как на иголках. За окном ярились молнии, негодующе грохотал гром, но Джулия крепилась и постоянно напоминала себе о необходимости держаться дипломатично. И все же она не выдержала: — Следовательно, вы уже давно знаете, что Золт совершает зверские убийства, и даже не подумали предупредить людей об угрозе? — С какой это радости? — Вы что — не имеете представления об ответственности перед обществом? — Красивое выражение, но смысла в нем ни на грош. — Негодяй безжалостно уничтожил столько людей, и вы спокойно позволили ему… — Людей безжалостно уничтожают испокон веков и будут уничтожать без конца. История человечества — это цепь безжалостных убийств. Гитлер уничтожил миллионы, Сталин — и того больше. А Мао Цзэдун всех переплюнул. Сейчас-то они слывут извергами, но разве мало у них было почитателей в свое время? Нынче тоже нет-нет да и услышишь: «У Гитлера и Сталина не было другого выхода, Мао просто поддерживал общественный порядок, боролся с хулиганьем». Уму непостижимо, сколько людей восхищается убийцами, которые действуют в открытую и выдают свои кровожадные инстинкты за благородное стремление установить всеобщее братство, осуществить политические реформы, покончить с несправедливостью или — да-да! — исполнить свой долг перед обществом. Мы попросту мясо — и больше ничего. В глубине души все мы это понимаем и втайне боготворим тех, у кого хватает смелости обходиться с нами должным образом — на манер мясника. Теперь Джулия убедилась, что перед ней закоренелый человеконенавистник. Совесть для него — пустой звук, любить он не умеет, сострадать не способен. Такие встречаются не только среди уличных подонков или дошлых компьютерных жуликов вроде Тома Расмуссена, по милости которого Бобби на той неделе чуть не отправился на тот свет. Кое-кто выбивается в доктора, адвокаты, телевизионные проповедники, политики. Спорить с такими бесполезно: все человеческие чувства им чужды. — Зачем мне, спрашивается, изобличать Золта Полларда? Мне он не страшен — мать его величала меня орудием Божьим и велела своему выводку относиться ко мне с почтением. Грешки Поллардов — не мое дело. Знаете, после убийства матери Золт боялся, что к ним набьется полон дом полиции, и распустил слухи, будто мать переехала и живет на побережье под Сан-Диего. Едва ли соседи поверили, что полоумную кикимору в один прекрасный день потянуло встряхнуться и она теперь с утра до ночи валяется на пляже. Но все промолчали — поняли, что это не их дело. Вот и я того же мнения. Злодейства Золта перед всеми страданиями человечества — капля в море. По крайней мере, преступник с такой необычной психикой и физиологией способен на более колоритные злодейства, чем большинство. Но есть и еще одна причина. Когда Золту было восемь лет, Розелль как-то пришла поблагодарить меня за то, что я помог появиться на свет ее детишкам и сохранил тайну их рождения, вследствие чего Сатана не проведал, что эти благословенные чада пришли в мир. Да-да, именно так она и выразилась. А в знак признательности притащила мне полный чемодан денег — столько, что хоть сейчас бросай работу и уходи на покой. Я удивился: откуда такое богатство? Ведь от состояния, которое нажили в тридцатые годы Дитер и Элизабет, остались жалкие крохи. И Розелль мне кое-что рассказала о талантах Золта. Так, в общих чертах. Но из ее слов стало ясно, что нужда ей не грозит. Тогда-то я и понял, что у дурной наследственности есть и свои недурные стороны. Фогарти поднял стакан и провозгласил: — За неисповедимые пути Господни! Бобби и Джулия промолчали.* * *
Словно ангел Апокалипсиса, явившийся возвестить наступление Судного дня, Золт возник возле дома в ту минуту, когда разверзлись хляби небесные и на землю обрушились яростные потоки. Но то был не черный ливень, грозящий новым потопом, не огненный дождь. Их час еще не пришел. Нет, еще не пришел. Золт выбрал для материализации темное место между двумя далеко друг от друга отстоящими фонарями. Место удачное: отсюда звучные вздохи ветра, который всегда знаменует его появление, до библиотеки не долетят. Сквозь хлещущие потоки Золт двинулся к дому. Он чувствовал: Господь умножил его силы. Теперь любая цель для него достижима и остановить его на пути к этой желанной цели не сможет никто и ничто.* * *
— В шестьдесят шестом году родились близнецы, — рассказывал Фогарти, не обращая внимания на шум дождя, который неожиданно забарабанил по стеклу. — И тоже, как и Фрэнк, — без малейшего изъяна. Я даже приуныл. Даже не верится, из четверых детей — трое совершенно нормальные. Ну хоть бы какой-нибудь диковинный порок. На худой конец, заячья губа, деформированный череп, раздвоенное лицо, сухорукость, вторая голова, что ли. Так нет! Бобби взял жену за руку. Если бы не это прикосновение, он бы не выдержал. Ему хотелось бежать отсюда куда глаза глядят. Хватит уже. Доктор своими откровениями и так всю душу вымотал. Но как ни крути, а дослушать придется: надо выяснить, как развивались события дальше. Кто знает, что из этой истории может пригодиться в борьбе с Поллардами. — Само собой, когда Розелль принесла мне чемодан с деньгами, я начал догадываться, что отклонения имеются у всех четверых — если не физические, то умственные. И вот семь лет назад Фрэнк убивает мать и — шасть ко мне, как будто я обязан утирать ему сопли и прятать его от брата. Такого нарассказал, хоть уши затыкай. Потом он то и дело наведывался сюда еще года два. Как призрак, который приходит по мою душу. В конце концов он сообразил, что тут ему ничего не светит, и пять лет не показывался. А нынче вечером опять принесла нелегкая. Фрэнк заворочался в кресле. Голова его склонилась в другую сторону. И все же он оставался таким же безучастным, как и при появлении Дакотов. Старик утверждал, что Фрэнк материализуется сегодня уже не первый раз и иногда начинает тараторить как заведенный. По его поведению за последний час в это трудно поверить. Джулия, которая сидела ближе к Фрэнку, нахмурилась, наклонилась к нему и уставилась на его правый висок. — Силы небесные! Она произнесла эти два слова таким тоном, что Бобби проняло холодом, будто он угодил в холодильник. Он подвинулся к Джулии и, оттеснив ее, взглянул на висок Фрэнка. Взглянул и тут же захотел отвести глаза. Но не мог. Пока Фрэнк не сменил позу, голова его почти лежала на правом плече и правый висок был не виден. Теперь же… Скорее всего, вернувшись вместе с Бобби в агентство и против воли отправившись в новое путешествие, Фрэнк вновь побывал в кратере, где искусственные насекомые добывают красные алмазы. Там ему вдруг взбрело в голову прихватить с собой пригоршню алмазов. При восстановлении он опять допустил промах. Теперь вся правая сторона лица от виска до подбородка покрылась бугорками. Кое-где из них выступали прочно вросшие в плоть сверкающие камешки. А какие сокровища таятся в ткани головного мозга? — Камешки я тоже видел, — сказал Фогарти. — Вы взгляните на правую ладонь. Как ни отговаривала его Джулия, Бобби взял Фрэнка за руку, повернул ее вверх ладонью и подтянул рукав пиджака. В мясистой части ниже большого пальца чернел панцирь того самого таракана, который некогда прирос к туфле Бобби. Во всяком случае, Бобби показалось, что это тот самый таракан. Тельце насекомого до половины торчало наружу, мертвые глаза устремлены на указательный палец Фрэнка.* * *
Золт обогнул дом. Возле одного окна примостилась черная кошка. Она обернулась на Золта и снова приникла к стеклу. Бесшумно взойдя на заднее крыльцо, Золт взялся за ручку двери. Заперто. По руке Золта пробежал голубоватый свет. Ручка повернулась, Золт открыл дверь и вошел в дом.* * *
Джулия уже достаточно наслушалась и насмотрелась. Оставаться рядом с Фрэнком было небезопасно. Джулия поднялась и подошла к столу, на котором стоял ее стакан виски. Допить? Нет, не поможет. Силы ее на исходе: еще не улеглась боль, вызванная смертью Томаса, так тут еще приходится разбираться в леденящей душу истории Поллардов. Джулию тянуло выпить, но она знала, что от этого станет еще хуже. — Каким образом мы можем одолеть Золта? — спросила она старика. — Никаким. — Должно же быть какое-то средство. — Увы. — Обязательно должно. — Почему? — Потому что… ну, просто нельзя допустить, чтобы он победил. Фогарти улыбнулся. — Почему нельзя? — Господи ты боже мой, да потому, что он несет зло, а мы творим добро! Мы вовсе не ангелы, и у нас есть свои грешки, но правда-то все равно за нами. Мы не можем не победить, иначе все на свете гроша ломаного не стоит. Фогарти подался вперед. — Именно! Об этом я и толкую. Этот мир действительно гроша ломаного не стоит. Мы не хорошие, не дурные — мы просто мясо. Никакой души у куска мяса нет, и ни в какой «лучший мир» она не уходит. Кто поверит, что съеденный гамбургер попадет в царство небесное? Кровь бросилась в голову Джулии. Еще никто не возбуждал в ней такой ненависти, как доктор Фогарти. Ее взбесил отвратительный цинизм старика, но если бы только это! В его разглагольствованиях она с тревогой уловила отзвук собственных слов, сказанных в мотеле, когда пришло известие о гибели Томаса: мечты — вздор, они все равно не сбываются, и, даже если вытянешь счастливый билет, от смерти не уйти. Но презирать жизнь только потому, что она неизбежно кончается смертью… Да ведь это почти то же самое, что сравнивать человека с куском мяса. — Удовольствие и боль — вот и все, что дарит нам жизнь, — изрек Фогарти. — А кто там прав, кто не прав, кто выиграл, кто проиграл — не суть важно. — Как одолеть Золта? — гневно перебила Джулия. — В чем его слабость? — Насколько я успел заметить, Золт неуязвим, — сказал Фогарти, не скрывая злорадства. Джулия прикинула: раз его врачебная практика началась в начале сороковых годов, значит, сейчас ему под восемьдесят, хотя выглядит он моложаво. Он наверняка понимает, что жить ему осталось недолго, и молодая парочка, явившаяся к нему в дом, уже одним своим видом действует ему на нервы. Если сюда прибавить его циничное пренебрежение к жизни, то можно не сомневаться: гибель Дакотов от руки Золта Полларда прольет ему бальзам на душу. Бобби попытался возразить: — А как же его вывихнутая психика? Чем не уязвимое место? Фогарти покачал головой: — Как бы не так. При помощи этой самой вывихнутой психики он защитил себя так надежно, что не подступишься. Возомнил себя карающим мечом Господним — и навсегда избавился от любых сомнений и угрызений. Вдруг Фрэнк резко выпрямился и встряхнулся, как собака, выбравшаяся из-под дождя. — Где… почему я… — забормотал он. — Она уже… она уже… — Кто — она, Фрэнк? — спросил Бобби. — Она пришла? — Взгляд Фрэнка прояснился. — Уже пришла, да? — Кто, кто пришел? — Смерть, — прохрипел Фрэнк. — Уже пришла? Уже все?* * *
Золт неслышно крался по коридору к двери библиотеки, откуда доносились голоса. Один голос он сразу узнал: Фрэнк. Золт стиснул зубы. Лилли утверждала, что Фрэнк совсем расклеился. Телекинетическим даром он владел из рук вон плохо, поэтому Золт не терял надежды, что в один прекрасный день брату не удастся улизнуть, и уж тогда ему конец. Неужели этот прекрасный день настал? Он заглянул в дверь и увидел женщину. Она сидела к нему спиной, но Золт не сомневался, что это та самая женщина, чей образ, осиянный нездешним светом, он видел, читая мысли Томаса. Перед ней лицом к двери сидел Фрэнк. При виде Золта он вытаращил глаза. Может, Лилли и не ошибалась насчет его помрачения рассудка, но сейчас помрачения как не бывало: убийца матери в любую минуту мог испариться, уйти прямо из рук. Поначалу Золт думал послать в библиотеку силовую волну, перевернуть все вверх дном, поджечь книги, перебить лампы и, воспользовавшись паникой, напасть на Фрэнка. Однако, поняв, что брат с перепугу вот-вот растворится в воздухе, он решил действовать иначе. Одним прыжком он подлетел к женщине, правой рукой обхватил ее сзади за шею и резко прижал к себе. Пусть видят: стоит кому-нибудь пошевелиться — и он сломает ей шею. Но женщина не испугалась. Ее каблук вонзился в ногу Золта, царапнув по голени. Боль адская. Видать, насобачилась в боевых искусствах. И вырывается умело. Золт еще сильнее прижал ее шею, перекрывая дыхание. Так она быстро присмиреет, если жизнь дорога. Фогарти встревожился, но не двинулся с места. Зато ее муженек мигом вскочил с дивана и выхватил пистолет. Ишь, какой прыткий! Но до этих двоих Золту дела не было, он впился глазами в брата, который поднялся с кресла и уже было приготовился смыться в Пуналуу, Киото или куда-нибудь еще. — Стой, Фрэнк! — рявкнул Золт. — Не вздумай удариться в бега. Пора нам свести счеты, пришло время расплатиться за смерть матери. Сейчас же ты вернешься домой, и да настигнет тебя гнев Господень! Я буду там вместе с этой девкой. Она, кажется, взялась тебе помогать? Вряд ли тебе приятно будет видеть, как она мучается. А муженек ее того и гляди наделает глупостей. Увидав Джулию в руках Золта, он вошел в раж и навел на него пистолет. Целится, стараясь не попасть в жену. И хотя Золт закрылся телом жертвы, как щитом, и пригнулся, он все же побаивался, как бы сумасброд сгоряча не выстрелил ему в голову. Лучше убраться от греха подальше. — Возвращайся домой, — приказал он брату. — Я буду ждать на кухне. Там я с тобой и покончу. Разделаюсь с тобой — отпущу ее на все четыре стороны. Отпущу, клянусь именем матери. Но если через пятнадцать минут ты не явишься, я разложу эту негодницу на столе и славно поужинаю. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя сердобольная помощница досталась мне на ужин, а, Фрэнк? Перед самым исчезновением Золта прогремел выстрел. Действительно ли Бобби выстрелил или Золту только показалось, не имело уже никакого значения. Слишком поздно. В следующую минуту Золт материализовался в кухне дома на Пасифик-Хилл-роуд. Правой рукой он прижимал к себе Джулию Дакота.Глава 56
Забыв об опасности, которой чревато каждое прикосновение к Фрэнку, Бобби схватил клиента за лацканы и толчком притиснул к жалюзи на окне библиотеки. — Слышал, что он сказал, Фрэнк? Не вздумай бежать. Только попробуй опять исчезнуть: я повисну на тебе и не отпущу, куда бы ты меня ни занес. Ей-богу, ты у меня пожалеешь, что достался на расправу мне, а не Золту! Чтобы показать, что он не шутит, Бобби саданул Фрэнка о жалюзи и услыхал за спиной тихий вызывающий смешок Лоренса Фогарти. В глазах клиента отразились ужас и смятение. Бобби понял, что угрозами он своего не добьется. Наоборот, если у Фрэнка и было желание спасти Джулию, то со страху он поспешит убраться восвояси. Но Бобби устыдился своей горячности не только поэтому. Ему бы попробовать уговорить Фрэнка, а он сразу лезет на него с кулаками. Неужели и он готов обращаться с человеком как с куском мяса? Неужели и он усвоил циничные принципы, по которым растленный старикашка жил всю свою жизнь? Эта мысль почти так же нестерпима, как и страх потерять Джулию. Бобби отпустил Фрэнка. — Прости. Ну прости меня. Я погорячился. Он жадно разглядывал лицо Фрэнка, надеясь убедиться, что к клиенту вернулся рассудок и они смогут понять друг друга. Но лицо Фрэнка выражало страх — жгучий животный страх, а во взгляде проступало такое одиночество, что Бобби от жалости чуть не заплакал. К этим чувствам примешивалась растерянность — вот такими глазами смотрел Томас, когда они с Джулией брали его из интерната и везли покататься «в большой мир». Две минуты из пятнадцатиминутного срока, который дал им Золт, уже прошли, но Бобби переломил себя, взял Фрэнка за руку, повернул ее ладонью кверху и потрогал дохлого таракана, вросшего в бледную мягкую кожу. Прикасаться к хрупкой колючей твари было противно до крайности, но Бобби и виду не показал. — Больно, Фрэнк? У тебя от этого жука ладонь не болит? Фрэнк рассеянно посмотрел на Бобби и покачал головой. Разговор, слава богу, получается. Бобби осторожно провел рукой по обтянутым кожей алмазным наростам на виске Фрэнка. На ощупь они напоминали не то готовые прорваться нарывы, не то раковые опухоли. — А здесь? Здесь больно? — Нет. Отвечает! У Бобби отлегло от сердца. Он достал из кармана джинсов салфетку и бережно вытер слюну, еще блестевшую на подбородке Фрэнка. Фрэнк заморгал, взгляд его стал осмысленнее. За спиной Бобби раздался голос Фогарти: — Осталось двенадцать минут. Небось сидит в своем кожаном кресле, держит стакан виски и улыбается наглой, самодовольной улыбкой. Бобби оставил слова врача без внимания. Не сводя глаз с Фрэнка, не отрывая пальцев от его виска, он негромко произнес: — Бедняга, сколько же ты, наверно, в жизни натерпелся. Ты был нормальным человеком, самым нормальным из всей семьи. В школе смотрел на других ребят и мечтал сойтись с ними поближе — у твоих сестер и брата это не получилось. Ведь так? И ты не сразу понял, что никогда твоя мечта не осуществится, никогда люди не признают тебя своим: хоть по сравнению с домашними ты и нормален, все равно родом ты из этого дома, из этого вертепа, а значит, так и останешься для всех чужак чужаком. Люди, может, и не узнают, какие грехи у тебя на совести, какие мрачные воспоминания вынес ты из этого дома, но ты-то знаешь, ты помнишь и сам сторонишься людей, стыдясь проклятого своего родства. Тебя и дома считали белой вороной — слишком уж ты нормальный, человечный. И так всю жизнь: один да один. — Всю жизнь, — пробормотал Фрэнк. — Тут уж ничего не изменишь. Теперь можно не сомневаться: исчезать Фрэнк не собирается. — Фрэнк, я не стану грозить или лукавить. Как это ни тяжко, но скажу уж все как есть. Я не в силах тебе помочь. Тебе никто не поможет. Фрэнк молчал, но Бобби видел его внимательные глаза. — Десять минут, — предупредил Фогарти. — Могу предложить тебе только одно, — продолжал Бобби. — Если хочешь, я подскажу, что делать, чтобы не прожить свою жизнь пустоцветом и закончить ее достойно, с пользой. Может, хоть после смерти отдохнешь от мытарств. Я придумал, как тебе уничтожить Золта и выручить Джулию. Сумеешь — честь тебе и слава. Мы можем, слышишь, можем спасти ее от гибели. Ты согласен? Фрэнк не ответил ни да, ни нет. Ну, раз не отказался, значит, надежда есть. — Времени терять нельзя, Фрэнк. Но про телепортацию и думать забудь. А то тебя опять занесет к черту на рога, и будешь мотаться туда-сюда. Поедем в моей машине. Пять минут — и мы на месте. Бобби взял клиента за руку — нарочно за ту руку, в которую врос таракан. Если Фрэнк не забыл про его страх перед насекомыми, он оценит самоотверженность Бобби и поверит в его искренность. Бобби и Фрэнк направились к двери. Фогарти поднялся с кресла. — Имейте в виду: вы идете на верную смерть. — Ну, вы-то, похоже, умерли давным-давно, — не оборачиваясь, бросил Бобби. Пока Бобби с Фрэнком добрались до машины, на них не осталось сухой нитки. Усевшись за руль, Бобби взглянул на часы. Надо уложиться в восемь минут. Он сам не понимал, почему поверил обещанию Золта подождать четверть часа. Кто поручится, что маньяк еще не перегрыз горло Джулии? Но неожиданно Бобби вспомнил, как Джулия однажды пошутила: «Пока мой благоверный жив, я не погибну». Вода в сточных канавах перехлестывала через край, от внезапных порывов ветра струи дождя в свете фар спутывались, как серебряная канитель. Под неистовым ливнем машина промчалась по городу и свернула на восток, в сторону Пасифик-Хилл-роуд. По дороге Бобби втолковывал Фрэнку, каким образом он сможет избавить человечество от Золта и наконец извести зло, которое принесла в мир его мать. Для этого ему не придется орудовать топором, ибо топором, как уже убедился Фрэнк, ничего не добьешься. Замысел был предельно прост, и, прежде чем «Тойота» подкатила к ржавой калитке, Бобби успел повторить свой план несколько раз. Фрэнк слушал молча. Поди догадайся, понял он, что ему делать, или не понял. Вполне вероятно, что он даже не слышал объяснений Бобби. Всю дорогу он сидел приоткрыв рот и устремив взгляд вперед и только покачивал головой в такт мельканию «дворников» — вперед-назад, вперед-назад, — как будто перед его, глазами вращается на золотой цепочке граненый хрусталик Джекки Джекса. Назначенный срок истекал через две минуты. Бобби и Фрэнк вошли в калитку и приблизились к обветшалому дому. Не оставалось ничего другого, как надеяться на лучшее.* * *
Вернувшись в грязную обшарпанную кухню, Золт силой усадил Джулию на стул. Едва он отпустил ее, она тут же сунула руку за пазуху и вытащила из кобуры револьвер. Злодей оказался проворнее: он вырвал у нее оружие и при этом сломал ей два пальца. Руку обожгла невыносимая боль, шея все еще ныла после железных объятий Золта, но скулить и жаловаться — не на такую напал. Как только Золт отвернулся, чтобы швырнуть револьвер в ящик, Джулия сорвалась со стула и метнулась к двери. Золт поймал ее, оторвал от пола и что было мочи брякнул на стол, так что Джулия чуть не потеряла сознание. Склонившись над ней, почти касаясь ее лица губами, Золт прохрипел: — А кровушка у тебя, видать, отменная, не хуже, чем у Клинтовой бабы. Жизненная сила так и кипит. Прямо не дождусь, когда она запузырится у меня во рту. К сопротивлению и бегству Джулию побуждала не храбрость, а отчаянный страх. И как не испугаться: телепортироваться ей пришлось в первый и, дай-то бог, в последний раз в жизни. Но когда губы маньяка приблизились к ее лицу, когда ее обдало тяжелое дыхание, в котором проступал запах тления, у Джулии упало сердце. Она как зачарованная смотрела ему в глаза. Вот, должно быть, какие глаза у дьявола: не черные, как грех, не красные, как адское пламя, не изъеденные могильными червями, а голубые — дивные, восхитительные, не знающие ни жалости, ни сострадания. Самые чудовищные злодеяния, совершенные людьми с незапамятных времен, самые кровожадные инстинкты, самое дикое упоение грубой силой — для Джулии сейчас все это воплощалось в одном человеке, имя которому Золт Поллард. Он нехотя поднялся — так отстраняется от своей жертвы змея, раздумавшая ее жалить. Стащив Джулию со стола, он снова усадил ее на стул. Джулия была ни жива ни мертва. Такого страха она никогда еще не испытывала. Какое уж тут сопротивление: стоит ей хоть пальцем пошевелить — и он прикончит ее на месте и выпьет всю кровь. Тут Золт произнес фразу, которая ее озадачила: — Сначала разберусь с Фрэнком, а потом ты расскажешь, откуда у Томаса его дар. — Дар? Какой дар? — пробормотала Джулия заплетающимся языком. — Кроме Поллардов, такое никому не под силу. Он с помощью телепатии так за мной и шнырял — знал, что рано или поздно наши пути пересекутся. Он меня называл «Беда». Будь он сыном нашей матери-девственницы — тогда понятно, а то у чужака — и вдруг такие способности. Ладно, ты мне потом все объяснишь. Ужас заполнил все существо Джулии, она оцепенела, прижав к себе больную руку, и не решалась даже заплакать. Но оказалось, что даже в таком состоянии она еще может удивляться. Томас? Телепатия? Выходит, не только она опекала Томаса, но и Томас на свой лад опекал ее? За дверью раздался непонятный шорох. В кухню, размахивая хвостами, хлынули кошки — штук двадцать, не меньше. Посреди стаи шествовали близнецы. Длинноногие, босые, на обеих — трусики и майки, на одной красная, на другой белая. Они были бледные, как призраки, но в отличие от призраков далеко не бесплотные. Чувствовалось, что в этих упругих гибких телах скрыта тугая сила, какая угадывается в теле кошки, даже когда ее разморит на солнышке. Воздушные, легкие — и в то же время такие земные, ладные, удивительно чувственные. Можно себе представить, какое дикое напряжение испытывает живущий под одной с ними крышей Золт — человек, у которого мужского естества хватит на двоих, а дать ему выход нет никакой возможности. Сестры подошли к столу. Та, что побойчее, уставилась на Джулию, а вторая обвила руками сестру и потупилась. — Ты подружка Золта? — поинтересовалась первая. Своим вопросом она явно хотела задеть брата за живое. — Закрой рот, — скомандовал Золт. — Если нет, поднимайся к нам, — предложила девица мягким, словно шорох шелка, голосом. — У нас там кровать. Кошки не обидятся. Ты мне понравилась. — Чтобы я в доме матери таких разговорчиков не слышал! — вскинулся Золт. Несмотря на его грозный тон. Джулии показалось, что на самом деле Золт сердится на сестру разве что чуть-чуть сильнее обычного. От обеих Сестер — даже от молчаливой смиренницы — веяло поистине животной непосредственностью. Таким любое бесчинство нипочем — ни стыда, ни угрызений совести они не почувствуют. Джулия боялась близнецов не меньше, чем Золта. Ливень яростно грохотал по крыше. Среди этого грохота вдруг послышался доносившийся из прихожей стук в дверь. Кошки бросились из кухни. Мгновение спустя они вернулись. За ними следовали Бобби и Фрэнк.* * *
Джулия жива! Слава Богу! И не только Богу — Бобби был готов благодарить даже Золта. Джулия осунулась, лицо исказилось от страха и боли, но никогда еще она не казалась Бобби такой прекрасной. Правда, такой растерянной, сломленной он жену тоже никогда прежде не видел. В дикую разноголосицу чувств, которые бушевали в этот миг в его душе, влились горечь и гнев. Бобби не терял надежды, чтоФрэнк выполнит все, что от него требуется, однако не забыл он и про свой револьвер: вдруг запахнет жареным или противник потеряет бдительность. Но едва они вошли в кухню, как Золт потребовал: — Достань оружие из кобуры и вынь патроны. При виде Бобби Золт шмыгнул за стул, на котором сидела Джулия, и схватил ее за горло. Бобби с опаской покосился на его крючковатые, как у зверя, когти. Что когти — такой детина и без когтей запросто глотку выдерет. Бобби вытащил из-за пазухи «смит-вессон». Всем видом показывая, что стрелять не собирается, он вытряхнул патроны на пол и положил револьвер на стойку. С каждой секундой возбуждение Золта заметно росло. Он отпустил Джулию, отошел от стула и окинул Фрэнка торжествующим взглядом. Но Фрэнк словно не замечал его торжества. Казалось, мысли его блуждают далеко-далеко отсюда. Если он и следил за происходящим в кухне, то, надо отдать ему должное, скрывал он это мастерски. Золт указал на пол перед собой: — На колени, матереубийца. Кошки расступились, очистив место на потрескавшемся линолеуме, на которое указывал маньяк. Близнецы стояли поодаль, приняв нарочито скучающие позы, но Бобби видел, как бьются жилки у них на висках, как непристойно выпятились соски под легкой тканью. Совершенно кошачьи повадки; кошки тоже иной раз изображают равнодушие, а ушами поводят; только по ушам и догадаешься, что они слушают. — Я сказал — на колени, — повторил Золт. — Пожалей хоть своих благодетелей. За целых семь лет лишь эти двое отважились прийти к тебе на помощь, неужели ты отплатишь им черной неблагодарностью? На колени, или я уничтожу их. И его и ее. Уничтожу немедленно. Нет, это не маньяк. Это скорее злой дух, имя которому — легион, и движут им силы выше человеческого разумения. Фрэнк, стоявший рядом с Бобби, шагнул вперед. Еще шаг. Фрэнк замер и в изумлении уставился на кошек. По прошествии времени, вспоминая слова Фрэнка, произнесенные в эту минуту, Бобби никак не мог понять, был ли у Фрэнка тайный умысел или же он действовал в помрачении и дальнейшие события стали для него такой же неожиданностью, как и для других. А случилось вот что. Оглядев кошек, Фрэнк нахмурился, перевел взгляд на ту из сестер, что держалась побойчее, и протянул: — Стало быть, мать здесь? Здесь, с нами, в этом доме? Смиренница затаилась. Зато ее разбитная сестренка вздохнула с облегчением, как будто вопрос Фрэнка дал ей повод выложить все начистоту, не дожидаясь удобного случая. Она одарила Золта многозначительнейшей улыбкой, в которой смешались тончайшие оттенки чувств: злая насмешка и страстный призыв, скрытый страх и дерзкий вызов, жаркая чувственность: сколько зверей ни рыскает по полям и лесам, ни в одном облике не увидишь столько первобытной дикости, сколько выражала эта улыбка. Золт переменился в лице. Он с ужасом глядел на сестру, словно не верил поразившей его догадке. На мгновение в его глазах впервые промелькнуло что-то человеческое. — Не может быть, — выдохнул он. — И вы посмели? Бойкая сестренка улыбнулась еще шире. — Ты ее похоронил, а мы выкопали. Она вошла в наших кошечек и теперь останется с нами навсегда. Кошки, помахивая хвостами, таращились на Золта. Издав нечеловеческий вопль, он с дьявольским проворством бросился на сестру, с налета прижал ее к холодильнику, впился пальцами ей в лицо и ударил головой о пожелтевшую эмалированную дверцу. Потом еще. Затем ухватил за талию и поднял в воздух — видно, собирался швырнуть на пол, как ребенок в ярости отшвыривает куклу. Однако сестра, ловкая, точно кошка, мигом обхватила его стройными ногами и повисла на нем, так что лицо брата уткнулось ей в грудь. Золт дубасил ее что было сил, но Лилли не отпускала. Лишь когда он опустил руки, она слегка разжала объятия и сползла пониже. Ее бледная шея оказалась возле его губ, словно сестра сама подсказывала, что надо делать. Золт только того и ждал… Он вонзил зубы в горло сестры. Кошки подняли адский визг — но уже не хором, а вразнобой — и разбежались из кухни кто куда. Через минуту отчаянные вопли Золта и пугающе сладострастные вскрики сестры замолкли. Лилли была мертва. Бобби и Джулия даже не пытались вмешаться. Что толку лезть в жерло бушующего торнадо: смерч не утихнет, а сам погибнешь. Фрэнк наблюдал эту сцену с поразительным безучастием, которое не покидало его после возвращения домой. Покончив с одной сестрой, Золт набросился на вторую. С ней он расправился еще быстрее — та и не думала сопротивляться. Едва маньяк выпустил изувеченное тело сестры, как Фрэнк наконец приступил к выполнению замысла, который внушил ему Бобби. Он приблизился к брату и схватил того за руку. В ту же секунду, как и рассчитывал Бобби, Фрэнк исчез, увлекая за собой Золта, которому поневоле пришлось телепортироваться вместе с братом. После шума и криков в кухне наступила пронзительная тишина. Лоб Джулии покрылся испариной, ее мутило. Она попыталась встать, отодвинула стул — в тишине деревянные ножки громко проскребли по линолеуму. — Не спеши. — Бобби подскочил к стулу, склонился над женой и, удерживая, взял за здоровую руку. — Надо подождать. Сиди лучше здесь, от греха подальше. Глухой перелив флейты. Резкий порыв ветра. — Бобби, они возвращаются, — всполошилась Джулия. — Бежим отсюда, пока не поздно! Но Бобби опять удержал ее. — Ты, главное, отвернись. Смотреть буду я. Мне нужно убедиться, что Фрэнк ничего не перепутал. А тебе смотреть не стоит. Вновь прозвучала несуразная мелодия, и налетевший ветер потревожил запах крови покойной родительницы. — Ты о чем? — не поняла Джулия. — Закрой глаза. Джулия, конечно же, не послушалась. Закрывать глаза перед лицом опасности — не в ее характере. Полларды вернулись. Трудно сказать, закинуло ли их на Фудзияму, оказались ли они где-нибудь поближе, например у дока Фогарти, а может, вихрем пронеслись по разным местам, только отсутствовали они недолго. По замыслу Бобби, который тот объяснил Фрэнку в машине, именно эти лихорадочные метания с места на место и помогут им победить Золта, и Фрэнк не подкачал. Поскольку перемещения сейчас полностью зависели от его воли, а силы его раз от разу слабели, при восстановлении возникала путаница, которая усугублялась после каждой телепортации. Тела братьев срослись более диковинным образом, чем у сиамских близнецов. Левая рука Фрэнка вросла в бок Золта — казалось, Фрэнк просунул руку брата между ребер и копается во внутренностях. Правая нога Золта приросла к левой ноге Фрэнка, теперь они вместе стояли на трех ногах. Были и другие странности, но Бобби не успел хорошо разглядеть: братья опять улетучились. Фрэнку следовало телепортироваться без передышки, чтобы Золт не успел опомниться и взять дело в свои руки. Только бы Фрэнк не останавливался — тогда тела братьев сплетутся в такой хитрый узел, что никакое восстановление не поможет их разъединить. Джулия все поняла. Она сидела смирно, положив поврежденную руку на колени, а здоровой крепко вцепилась в Бобби. Видно, она и сама догадалась, что Фрэнк ради них с Бобби жертвует собой, а им остается лишь одно — наблюдать его подвиг и навсегда сохранить в памяти вместе с Томасом, Хэлом, Клинтом и Фелиной и своего отважного спасителя. Не это ли главный и священнейший долг родных и друзей — запечатлеть в душе образ того, кто им дорог? И тогда со смертью он не уйдет из этого мира, он как бы останется в нем и будет жить столько, сколько о нем будут помнить. Только память способна победить бестолковое коловращение жизни и смерти на земле, только благодаря памяти не расторгается связь между поколениями, а жизнь обретает стройность и смысл. Пение флейты, порыв ветра. Братья снова в кухне. Поспешные путешествия и сумбурные восстановления сделали свое дело: Полларды окончательно слились в одно существо, какое не приснится и в страшном сне. Из обоих тел слепилась чудовищная неповоротливая туша ростом больше двух метров. У монстра была одна голова. На Дакотов глядело кошмарное подобие лица. Карие глаза Фрэнка разбежались врозь, между ними косой щелью раскрылся рот. Второй рот пересекал левую щеку. В кухне раздались сразу два надсадных вопля. На груди монстра оказалось еще одно лицо — безрогое, но с двумя глазными впадинами; из одной не мигая смотрел голубой, как у Золта, глаз, другая скалилась острыми зубами. Неуклюжая тварь пропала, но чуть погодя появилась вновь. Она превратилась в огромный бесформенный ком плоти, местами темной, местами омерзительно розовой. Ком ощетинился обломками костей, кое-где порос клочковатыми волосами, мраморные прожилки вен пульсировали в разном ритме. Как видно, напоследок Фрэнк побывал не то на знакомых задворках в Калькутте, не то на еще какой-нибудь свалке: груда обросла множеством тараканов и даже крысами. В этой каше плоть людей, грызунов и насекомых перемешалась так основательно, что Золт никогда не сумеет освободиться и восстановить прежнее обличье. Кошмарная слипшаяся груда живой материи, уже неспособной к жизни, тяжело рухнула на пол, дернулась и замерла. Крысы и тараканы еще извивались и шевелились, пытаясь отодраться от мертвого тела, но приросли они прочно. Скоро и им наступит конец.Глава 57
Это был скромный домик на побережье, в тихой местности, где земельные участки еще не шли нарасхват. Позади дома — веранда с деревянными ступеньками. Она выходила на поросший кустарником дворик, который спускался прямо к океану. Вокруг росли двенадцать пальм. В гостиной стоял журнальный столик, узкий диванчик на двоих, пара стульев и «Вурлицер-950». К нему — куча пластинок: джаз эпохи биг-бенда. На полу — хорошо подогнанный паркет из осветленного дуба. Иногда они сдвигали мебель, сворачивали ковер, включали музыкальный автомат и танцевали. Вдвоем. Но это в основном вечерами. Утром предавались любви. Порой под настроение отыскивали в поваренной книге какой-нибудь рецепт, стряпали, завтракали. Или просто пили кофе и беседовали, любуясь из окна океаном. Еще у них были книги, две колоды карт. И увлечения у них были общие: они вместе изучали повадки животных и птиц, обитающих на побережье. Воспоминания — и светлые, и мрачные — тоже общие. Но главное — у них была общая жизнь. Больше они никогда не разлучатся. Иногда они говорили о Томасе и дивились его невероятному дару, который он скрывал до самой смерти. Она считала, что эта история хоть кого научит: не хвастайся, будто все на свете постиг и видишь окружающих насквозь, душа человека — сложная штука, в ней кроются такие тайны, о которых посторонние даже не догадываются. Чтобы полиция оставила их в покое, они признались, что вели дело некоего Фрэнка Полларда из Эль-Энканто-Хайтс, который утверждал, что его родной брат Джеймс Поллард из-за какой-то размолвки покушается на его жизнь. Джеймс явно был душевнобольным: он убил Томаса и нескольких сотрудников агентства, которое взялось уладить его конфликт с братом. Как установила полиция, дом Поллардов был залит бензином и подожжен, на пепелище обнаружены только обгоревшие кости. После этого полицейские стали наведываться в агентство все реже и реже. Ни у кого не оставалось сомнений, что мистер Джеймс Поллард прикончил своих сестер и брата и в настоящее время этот вооруженный и опасный преступник находится в бегах. Агентство они продали. И не слишком о нем жалели. Она уже понимала, что искоренить все зло в мире ей не под силу, а ему теперь не от чего было ее спасать. Дайсон Манфред и Роджер Гэвенолл опубликовали-таки статью о жуке-биороботе. Правда, после переговоров с агентством «Дакота и Дакота», которое пожертвовало им некоторую сумму и в придачу несколько красных алмазов, ученые согласились не распространяться о том, как к ним попал этот экземпляр, и сплели в статье какую-то безобидную историю о его происхождении. Да и откуда им узнать о подлинном его происхождении без агентства «Дакота и Дакота»? Когда чердак дома на побережье был достроен, туда перетащили коробки и сумки с деньгами, найденные в доме на Пасифик-Хилл-роуд. Как и подозревали Бобби и Джулия еще до поездки в Эль-Энканто-Хайтс, Золт и его мать, которые тяготились своей исковерканной жизнью, отводили душу, собирая несметные богатства. В спальне их дома на втором этаже хранились целые миллионы. Только часть этого состояния перекочевала на чердак дома на побережье, все прочее сгорело, когда Бобби и Джулия подожгли особняк на Пасифик-Хилл-роуд. Но и того, что они прихватили с собой, им хватит за глаза. Он наконец осознал, что даже такому славному малому, как он, не чужды недобрые мысли и корыстные побуждения — одно другому не мешает. А она сказала, что эта догадка — признак зрелости, но пусть он не огорчается: в его годы самое время почувствовать, что жизнь — не Диснейленд. И еще она сказала, что хочет завести собаку. Он не возражал, но настаивал, чтобы сперва жена посоветовалась с ним насчет породы. Она предупредила: если собака будет гадить в доме, пусть он сам за ней прибирает. Он заупрямился: нет уж, прибирать будет жена, а он будет с собакой только тетешкаться да играть — швырять ей «летающую тарелочку». А потом она ему напомнила про тот вечер в Санта-Барбаре, когда в порыве отчаяния она твердила, что мечты не сбываются. Так вот, сейчас она понимает, что заблуждалась. Мечты постоянно сбываются. Беда лишь в том, что порой настроишься на одну мечту, а прочие упускаешь из виду. А они-то как раз и сбудутся. То, что она его встретила, что он ее полюбил, — разве это не сбывшаяся мечта? Однажды она сказала, что у нее будет ребенок. Он обнял ее, долго-долго не отпускал и молчал, не зная, как выразить свою радость. Решили отметить это событие по всей форме: приоделись и собрались было поужинать в «Рице», заказать шампанского, но в последний момент передумали. Куда приятнее отпраздновать по-домашнему — сидя на веранде, с которой открывается вид на океан, и слушая старые пластинки Томми Дорси. Они спустились на пляж и стали строить песчаные замки. Большие такие. Потом сидели и смотрели, как волны размывают их постройки. Время от времени они заводили разговор о загадочном послании, которое мысленно передал им Томас в свой смертный час. «Там свет, он тебя любит…» Что бы это значило? У них даже родилась самая дерзкая мечта, на какую только способно воображение, — мечта о том, что они никогда не умрут, потому что смерти нет. Собаку они завели — черного Лабрадора. Решили назвать его как-нибудь подурашливее и назвали Соуки. Иногда ночами на нее нападал страх. Да и с ним такое случалось. Но теперь они вместе. И впереди целая жизнь.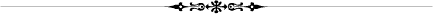
ХОЛОДНЫЙ ОГОНЬ (роман)
Он видный мужчина зрелых лет, преуспевающий бизнесмен. Она эффектная молодая женщина, секретарь управляющего крупной промышленной корпорации. Между ними завязываются отношения, какие нередко возникают между мужчиной и женщиной. Неожиданно простое влечение перерастает в бурную страсть. Дело идет к брачному Союзу. Но многое в настоящей и прошлой жизни жениха настораживает невесту. Ее мучают разного рода сомнения, подозрения, предположения. Она пытается докопаться до истины…
Часть I. ГЕРОЙ, ДРУГ
Мир реальный — лишь грезы,Все в нем — сон, полуложь,Радость, боль и угроза —Все иначе, чем ждешь.Жизнь без цели, без смыслаНе рождается в мир.Мы находим ту искру,Что зажег наш кумир…Или черный рог СмертиНас взывает на пир.Жизнь, лишенная цели,Ослепляет, как дождь,Мы блуждаем в потемкахВ сердце холод и дрожь…Или жаждою смертиОбагряем свой нож.«Книга Печалей»
12 АВГУСТА
Глава 1
Опасность неотвратимо приближалась. Он мог бы это почувствовать еще до происшествия в супермаркете. Во сне его преследовала стая гигантских черных птиц, которые кружились над ним с пронзительным клекотом и неистовым хлопаньем крыльев. Джим Айренхарт бежал по полю, падал и снова бежал, пытаясь спастись от кривых, острых, как скальпель, клювов. Он проснулся весь в поту и долго не мог отдышаться. Затем, чувствуя, что ему не хватает воздуха, шаркающей походкой вышел на балкон. Но к девяти тридцати термометр показывал двадцать восемь градусов. Ощущение удушья, с которым он проснулся, усилилось. Джим принял холодный душ, побрился и немного пришел в себя. В пустом холодильнике завалялся заплесневелый кусок пирога, цвет которого наводил на мысль о новом, особенно смертельном штамме ботулина, выведенном в лабораторных условиях. Приходилось выбирать: умереть с голоду или открыть дверь и шагнуть в раскаленное августовское пекло. В знойной синеве калифорнийского неба не видно было ни одной птицы. В отличие от тех бестий, что гнались за ним в ночном кошмаре, все они попрятались в кронах деревьев, и из густой листвы изредка доносился их негромкий щебет. Собаки, поджимая лапы, трусили по тротуару. Никто из случайных прохожих не усомнился бы в том, что на раскаленном бетоне можно поджарить яичницу. После легкого завтрака во дворике одного из кафе Лагуна-Бич Джим откинулся на спинку стула совершенно обессиленный. По лбу катились крупные капли пота. Один из редких дней на побережье, когда все безжизненно и с океана не дует даже самый слабый ветерок. Долгожданное спасение от жары он обрел в ближайшем супермаркете. В зале работали кондиционеры, и струи холодного воздуха приятно освежали тело, продувая легкие брюки и тонкую майку. Джим стоял в кондитерском отделе и разглядывал пачку миндального печенья и шоколадную плитку, решая, какая покупка будет меньшим преступлением против диеты. И в это время начался приступ. Это не был приступ в обычном понимании: никаких конвульсий, судорог, пота или странных звуков. Джим просто повернулся к стоявшей рядом покупательнице и сказал: — Линия жизни. Та отступила на шаг и окинула его настороженным взглядом. — Простите, что вы сказали? Симпатичная женщина лет тридцати в шортах и короткой блузке. Мужчины на таких заглядываются. Наверное, подумала, он пытается с ней познакомиться. Хватит, приказал он себе, не бойся! По телу пробежала дрожь. Кондиционер тут был ни при чем: внутри извивался скользкий, как угорь, холод. Силы оставили его, ладонь разжалась, и пачка печенья шлепнулась на пол. Ему было неловко, но он ничего не мог с собой поделать и повторил: — Линия жизни. — Извините… я не понимаю, — ответила женщина. Это случилось с ним уже в десятый раз, но он шепнул: — Я… сам не понимаю. Она сжала в руках коробку с ванильными пирожными, точно собиралась швырнуть ее Джиму в лицо и пуститься бежать. Похоже, в голове у нее крутился один из газетных заголовков вроде: «Кровавая трагедия в супермаркете». Но покупательница была доброй самаритянкой и, несмотря на испуг, решилась спросить: — Вам плохо? Должно быть, он стал совсем бледный, казалось, вся кровь отхлынула от лица. Ему захотелось успокоить женщину и он попробовал улыбнуться. Вышла гримаса. — Я, пожалуй, пойду. Оставив тележку с покупками, Джим неверной походкой пошел к выходу. После прохлады супермаркета жара на улице оглушила, от мгновенной разницы температур у него перехватило дыхание. Горячий асфальт на автостоянке прилипал к подошвам. Солнечные лучи играли на стеклах, разлетались на тысячи зеркальных осколков, ударяясь о хромированные бамперы и решетки автомобилей. Он сел за руль и включил кондиционер. Однако это не помогло. И после того, как его «Форд» выехал со стоянки и повернул в сторону Краун-Вэлли-Парк, воздух в салоне машины оставался горячим, как в печке. Джим опустил боковое стекло. Сначала он не знал, куда едет. Затем возникло неясное чувство, что следует вернуться домой. Это ощущение постепенно усиливалось и переросло в твердую уверенность: ему во что бы то ни стало нужно попасть домой. Он ехал слишком быстро, шел на рискованный обгон и снова вклинивался в поток машин. Такая езда была не в его привычках. Останови его сейчас полиция, Джим не смог бы объяснить, зачем эта спешка. Он этого и сам не знал. Казалось, невидимый дирижер управлял каждым его движением точно так же, как он сам управлял автомобилем. Джим снова приказал себе успокоиться, но страх держал его мертвой хваткой. Наконец он въехал во двор своего дома в Лагуна-Нигель. Остроконечные тени пальмовых листьев на ослепительно белой штукатурке были похожи на черные трещины, словно дом высох и раскололся на солнцепеке. Его красная черепичная крыша вздымалась в небо, как пламя. Солнечные лучи, проникавшие в спальню сквозь затемненные стекла окна, освещали комнату красноватым светом. Медный отблеск лежал на белом покрывале, сливаясь с длинными полосами теней от полузакрытых ставен. Джим включил торшер, открыл шкаф, достал саквояж и только теперь понял, что уезжает и что ему нужно собрать вещи в дорогу. Он уложил на дно саквояжа бритву, зубную пасту, щетку, полотенце и сверху, на всякий случай, две смены одежды. Он не знал, куда едет и на сколько. Его рискованные путешествия или задания, Бог знает, как их назвать, обычно были короткими — два-три дня, не больше. Джим задержался у шкафа, раздумывая, не забыл ли он чего-нибудь. Впрочем, он рисковал своей жизнью, и каждая поездка могла стать последней. Поэтому пара забытых или лишних вещей не играла никакой роли. Он захлопнул саквояж и некоторое время смотрел на него в нерешительности, не зная, что делать дальше. Потом сказал: — На самолет. Теперь он был в этом уверен. Дорога до аэропорта Джон Уэйн, расположенного на юго-восточной окраине Санта-Аны, заняла у него не более получаса. По пути в глаза бросились плакаты с призывом экономить воду — напоминание о том, что, до того как в Южную Калифорнию провели акведуки, здесь была настоящая пустыня. Жители сажали перед новыми белыми зданиями неприхотливые кактусы и траву. Зеленые посадки и чистые нарядные домики сменялись холмами, покрытыми бурой, выжженной солнцем травой. Одна-единственная спичка в дрожащей руке маньяка — и трудно представить, что может произойти. Поток пассажиров на входе в центральное здание аэропорта не иссякал ни на минуту. Их черные, красные, желтые лица опровергали миф об Апельсиновой Стране, населенной одними протестантами англосаксонского происхождения. В зале говорили на нескольких языках. Джим насчитал четыре, кроме английского, пока шел к табло отправления рейсов Тихоокеанской авиакомпании. Его взгляд скользнул по колонке названий, высвеченных на мониторе, и замер на предпоследнем — Портленд, штат Орегон. Невидимая сила подтолкнула Джима к окошку билетной кассы. — Рейс на Портленд через двадцать минут. Свободные места еще есть? — обратился он к молодому человеку за стойкой, чье чисто выбритое лицо и аккуратная униформа напомнили ему образцового служащего Диснейленда. Тот повернулся к экрану компьютера. — Вам повезло, осталось три места. — Молодой человек взял протянутую ему кредитную карточку и стал оформлять билет. Джим с удивлением заметил, что уши у него проколоты. Достаточно большие отверстия в мочках говорили о том, что после работы кассир носит тяжелые серьги. Молодой человек вернул кредитную карточку, при этом рукав его рубашки задрался, и Джим успел рассмотреть оскаленную пасть дракона на правом запястье. Яркая цветная татуировка покрывала всю руку. Кожа на костяшках пальцев была сбита, скорее всего в драке. Джим отошел от кассы, размышляя, в каком мире живет этот служащий аэропорта после того, как снимает униформу. Похоже, парень был обычным панком. Самолет оторвался от земли и стал набирать высоту, уходя к югу. Безжалостное солнце слепило глаза. Затем они повернули на восток, пересекли береговую полосу и повернули на север. Огненный шар в иллюминаторе исчез, и Джим видел только ослепительные блики на воде. Внизу покачивался океан, переливаясь в лучах солнца, как магма, текущая из отверстия в земной коре. Джим почувствовал, что невольно стискивает зубы, и перевел взгляд на свои руки: побелевшие пальцы сжимали подлокотник кресла — так большая испуганная птица цепляется когтями за ненадежную опору. Джим попробовал расслабиться. Полета он не боялся. Но впереди его ждал Портленд, где притаилась смерть, готовая нанести коварный удар.Глава 2
Журналистка Холли Тори приехала в частную школу на западе Портленда, чтобы взять интервью у учительницы Луизы Тарвол, чью книгу стихов приобрело одно из крупнейших нью-йоркских издательств. Это было событие, достойное внимания в век, когда большинство людей под словом «поэзия» понимает тексты популярных песен и рифмованные строчки телероликов, рекламирующих собачьи консервы, средства от пота или автопокрышки. В этот летний день школа оказалась почти пустой. Одна из учительниц взялась присмотреть за классом Луизы, а она сама и Холли направились к столику из красного дерева. Перед тем как усесться на скамейку, Холли провела ладонью по доске и убедилась, что ее белому платью ничто не грозит. Рядом находилась игровая площадка: слева — гимнастический городок, справа — качели. Было тепло и пахло сосновой хвоей. — Вы только обратите внимание, какой здесь воздух! Дыши — не надышишься! — Луиза сделала глубокий вдох и прикрыла глаза. — Сразу видно, что мы на краю огромного парка. Чистота, почти не тронутая цивилизацией. Перед встречей Том Корви, редактор раздела «Досуг и развлечения», поручивший Холли это задание, дал ей прочесть «Шелест кипариса и другие стихи». Окажись книга по-настоящему интересной, Холли была бы счастлива. Она всегда радовалась за других людей, может быть, потому, что ее собственные успехи в журналистике оставались довольно скромными, а чужие удачи вселяли надежду в собственные силы. Но, к сожалению, стихи были скучными и сентиментальными. Они уныло славили красоты дикой природы и выглядели как неудачное подражание Роберту Фросту, к тому же подслащенное опытным редактором, знающим вкусы читающих бабушек. И тем не менее Холли не собиралась писать разгромную статью. За годы работы ей встречалось слишком много репортеров, готовых из зависти, злобы или ложного чувства превосходства разнести в пух и прах ни в чем не повинного человека. Ее статьям всегда недоставало злости, если только она не писала об особенно гнусных преступниках и политиканах. Это и было одной из причин, почему Холли, проработав в трех центральных газетах, в конце концов перебралась в скромное помещение редакции «Портленд пресс». Тенденциозные статьи зачастую смотрелись ярче, эффектнее, чем беспристрастные, взвешенные репортажи; о них спорили, ими восхищались, и, конечно, газеты, которые их печатали, шли нарасхват. Однако и теперь, даже несмотря на растущее чувство неприязни к Луизе Тарвол и ее стихам, Холли все же не решилась бы на подобный шаг. — Только в единении с природой, вдали от цивилизации я живу, слышу голоса деревьев, кустарников, рыб… — Голоса рыб? — Холли едва не рассмеялась. Луиза нравилась ей внешне: волевая, деятельная женщина тридцати пяти лет. Самой Холли было тридцать три, но выглядела она лет на десять моложе Луизы. Бронзовое обветренное лицо, лучики морщин у глаз и у рта, выгоревшие на солнце волосы выдавали в поэтессе человека, привыкшего большую часть времени проводить на воздухе. Она и одета была очень просто: джинсы, синяя клетчатая рубашка. — В лесу, даже в грязи, — говорила Луиза, — чистота, сравнимая со стерильностью хирургической клиники. Она запрокинула голову, подставляя лицо солнечным лучам. — Чистота природы очищает вашу душу, и в обновленной душе рождается высокое испарение великой поэзии. — Высокое испарение? — переспросила Холли, словно желая убедиться, что каждое бесценное слово фиксируется на пленке ее диктофона. — Высокое испарение, — повторила Луиза и улыбнулась. Она нравилась Холли внешне, но ее внутренний мир вызывал протест. Учительница говорила о себе как о внеземном существе, но в каждом слове чувствовалась фальшь. Ее отношение к миру не было основано на знании или интуиции — это была всего лишь прихоть. И выражала Луиза свои мнения цветисто, но неточно. Говорила много, а слова были пустыми, ничего не значащими. Холли сама интересовалась экологией, но мысль о том, что они с Луизой сходятся во взглядах, привела ее в смятение. Всегда неприятно открывать, что в единомышленниках у тебя человек, которого считаешь глупцом. Тут недолго усомниться и в собственной правоте. Луиза подалась к собеседнице, положила руки на стол. — Земля — живое существо. Она могла бы говорить с нами, если бы мы были этого достойны. Отверзлись бы уста скал, растений, воды и заговорили с вами так же свободно, как говорю я. — Какая удивительная мысль! — отозвалась Холли. — Люди — это всего лишь вши. — Простите, кто? — Вши, кишащие на живом теле Земли. — Луиза прикрыла глаза. — Мне это никогда не приходило в голову, — сказала Холли. — Бог не только в каждой бабочке, Бог — каждая бабочка, каждая птица, каждая живая тварь. Я бы пожертвовала миллионом, нет, десятками миллионов человеческих жизней ради спасения одной невинной семьи кроликов, потому что каждый из этих кроликов — Бог. Экофашизм, подумала Холли, но вслух сказала: — Я каждый год жертвую на защиту окружающей среды все, что могу, экология никогда не была мне безразлична, но, вижу, мое сознание еще не достигло таких высот, как ваше, Луиза. Поэтесса не уловила сарказма. Она наклонилась вперед, и ее рука сжала пальцы Холли. — Не волнуйтесь, дорогая, к вам это придет. Я чувствую в вас огромный духовный потенциал. — Помогите мне понять, Луиза… Бог в бабочках и в кроликах, в каждом живом существе, в скалах, земле, воде… но в людях Бога нет? — Вы абсолютно правы, и виной тому — одно из наших противоестественных свойств. — Что вы имеете в виду? — Люди разумны. Холли даже заморгала от удивления. — Да, высокая степень разумности противоестественна. Ни одно другое создание природы не обладает этим качеством. Поэтому природа боится нас, а мы подсознательно ненавидим ее и хотим уничтожить. Разум породил прогресс, а прогресс ведет к ядерному оружию, генной инженерии, хаосу и в итоге — всеобщей гибели. — Но разве не Бог… или, скажем по-другому, не эволюция природы дала нам способность мыслить? — Случайная мутация. Мы все мутанты, монстры. — Но тогда, чем менее разумно живое существо… — Тем ближе оно к естественному состоянию, — докончила за нее Луиза. Холли медленно кивнула, словно размышляя о преимуществах неразумного существования. На самом деле она думала, что со статьей у нее ничего не выйдет. Все, что говорила Луиза Тарвол, было настолько нелепо, что честность не позволила бы ей написать положительную статью. В то же время у Холли не было желания выставлять эту женщину на посмешище. Всю жизнь она страдала не из-за холодного цинизма, а из-за доброты. Что может быть печальнее существования закоренелого циника с мягким сострадательным сердцем? Холли отложила карандаш — он ей все равно не понадобится. Реальный мир не намного разумнее сегодняшней встречи, но единственно, чего ей сейчас хотелось, — это вернуться в него, не видеть этой игровой площадки и не думать о Луизе. Но она еще должна Тому Корви полуторачасовую, на худой конец часовую, магнитофонную запись интервью. Вполне достаточно, чтобы другой репортер написал статью. — Э даете, Луиза, — обратилась она к собеседнице, — я вот думаю над вашими словами и вижу, что вы, пожалуй, ближе, чем кто-либо, к естественному состоянию. Та приняла это за комплимент, и лицо ее просияло. — Деревья — наши сестры, — пылко продолжала поэтесса с воодушевлением человека, обнаружившего в собеседнике благодарного слушателя; она стремилась приоткрыть Холли новую грань своей философии и, похоже, забыла, что люди всего лишь вши. — Могли бы вы своей сестре отрезать руки, рассечь ее плоть и построить дом из частей ее тела? Я уверена, что нет. У вас доброе сердце. — Конечно, нет, — искренне ответила Холли. — Да и потом, вряд ли городской совет согласится на подобное строительство. Она могла говорить что угодно. У Луизы не было чувства юмора, обидеть ее было невозможно. Поэтесса продолжала разглагольствовать, а Холли, изобразив на лице интерес, задумалась о прожитой ею жизни. Она тратила бесценное время в компании идиотов и жуликов, выслушивая их излияния, безуспешно пытаясь обнаружить крупицы смысла в глупых или параноидальных историях. Ей стало жаль себя. Как и с работой, с личной жизнью тоже не складывалось. Она не пыталась подружиться с женщинами в Портленде, возможно, потому, что в глубине души знала: «Портленд пресс» — только случайная остановка на ее пути. Опыт общения с мужчинами приводил ее в еще большее уныние, чем репортерская работа. Она надеялась встретить настоящего мужчину, выйти замуж, воспитывать детей, жить счастливой жизнью в кругу семьи; но в последнее время все чаще спрашивала себя: настанет ли когда-нибудь такой день, когда он — добрый, умный, интересный — появится в ее жизни? Возможно, никогда. А если кто-то похожий на героя ее мечты и встретится на пути, то его улыбка наверняка окажется маской, скрывающей лицо маньяка — убийцы с циркулярной пилой.Глава 3
Джим вышел из здания портлендского международного аэропорта и поймал такси. Название таксомоторной компании «Город Роз» на двери машины напомнило ему давно забытые времена хиппи. Однако водитель, чье удостоверение на приборном щитке сообщало о том, что его зовут Фрезьер Тули, объяснил, что Городом Роз называют Портленд. Роз здесь великое множество, и эти цветы считаются символом обновления и возрождения. Точно так же, добавил он, как нищие на улицах Нью-Йорка — символ загнивания и упадка. В его тоне слышалось обезоруживающее превосходство, как видно, разделяемое многими портлендцами. Тули, который по виду напоминал итальянского оперного певца — настоящий Лучано Паваротти, не был уверен, что правильно понял пассажира. — Значит, сначала покатаемся по городу? — переспросил он. — Да, я хотел бы посмотреть город, а потом уже ехать в гостиницу. Я здесь впервые. На самом деле Джим не знал, в какой гостинице ему остановиться и когда наступит миг, ради которого он сюда приехал: сегодня вечером или, может быть, завтра. Он надеялся, знание придет к нему, надо только суметь расслабиться. Тули остался доволен таким ответом: клиент заплатит хорошую сумму по счетчику, да и роль гида ему нравилась. И правда, город стоил того, чтобы его посмотреть. Аккуратные старинные домики кирпичной кладки и железобетонные здания девятнадцатого века соседствовали с современными башнями из сверкающего стекла. Портленд утопал в зелени парков, раскинувшихся по всему городу. Шумели фонтаны, и повсюду, куда ни брось взгляд, росли розы. Цветов было меньше, чем в начале лета, но оттенков — не сосчитать. Не прошло и получаса, как Джима охватило чувство, что отпущенное ему время стремительно сокращается. Он наклонился к водителю и услышал, как его собственный голос произнес: — Вы знаете школу Мак-Элбери? — Конечно, — ответил Тули. — Что это за школа? — Вы так спросили, что я подумал: вы знаете. Частная начальная школа в западном районе города. Сердце Джима учащенно забилось. — Мне нужно туда попасть. Тули нахмурился. — Что-нибудь случилось? — Я должен там быть. Машина затормозила у светофора. Тули бросил взгляд на пассажира. — Что случилось? — Мне просто нужно там быть, — голос Джима звучал резко и подавленно. — Конечно, какие могут быть вопросы! Страх жил в нем с того мгновения, как в супермаркете Джим обратился к женщине со словами: «Линия жизни». Теперь он бился внутри темными волнами, поднимался и гнал к школе Мак-Элбери. Только бы не опоздать. Он обратился к водителю: — Я должен быть в школе через пятнадцать минут. — Что же вы раньше не сказали? Джим хотел ответить: «Я только сейчас узнал», но вместо этого спросил: — Мы доедем за пятнадцать минут? — Если очень постараемся. — Плачу три цены по счетчику. — Тройную цену? — Если успеем. — Джим достал из кармана бумажник, извлек из него стодолларовую бумажку и протянул Тули. — Вот, возьмите вперед. — Это очень важно? — Вопрос жизни и смерти. Тули окинул его взглядом, ясно говорившим: парень, у тебя не все дома. — Зеленый свет, — махнул рукой Джим. — Вперед. Водитель еще больше нахмурился и повернулся к рулю. Проскочив перекресток, они свернули налево, и Тули до отказа выжал педаль акселератора. Всю дорогу Джим смотрел на часы. Наконец машина притормозила у здания школы. В запасе у него оставалось всего три минуты. Джим заплатил водителю — вышло даже больше чем втрое, рванул ручку двери и выскочил из машины, сжимая в руке саквояж. Тули высунулся из окна и окликнул его: — Мне ждать или нет? — Нет-нет, спасибо, не надо. Джим захлопнул дверь, повернулся и услышал, как отъехало такси. Его взгляд впился в здание школы, белевшее в тени сосен и старых могучих платанов: большой дом колониальных времен с высокой верандой и двумя одноэтажными крыльями более поздней постройки. Лужайка перед главным входом и игровая площадка, окруженные оградой из остроконечных железных прутьев, занимали всю территорию небольшого квартала. На крыльце постоянно хлопала дверь. Дети выскакивали из школы и, перепрыгивая через ступеньки, сбегали вниз по лестнице. Смеясь и болтая, они шли по дорожке мимо Джима, держа в руках книги, мольберты, коробки для завтраков, разрисованные картинками из мультфильмов. Через открытую калитку они выходили на улицу и расходились в разные стороны. Осталось две минуты. Ему не нужно было смотреть на часы. Сердце отбивало два удара в секунду, и он знал время, словно сам был секундной стрелкой. Солнечные лучи, проникавшие сквозь раскидистые кроны деревьев, рождали удивительную игру света: крохотные блики танцевали на земле, прыгали по лицам детей, переливались в воздухе золотыми нитями волшебного кружева. Казалось, громче ребячий смех — и ярче вспыхивает прозрачная солнечная ткань. Безмятежно спокойный, чудесный летний день. Но смерть затаилась поблизости. Теперь он знал: она угрожает одному из детей. Трое учителей на крыльце в безопасности. Катастрофы, в которой могут погибнуть десятки детей, можно не бояться. Взрыва, пожара или падения самолета не произойдет. Только трагедия одной человеческой жизни. Но как узнать, кто из детей в опасности? Его взгляд метался по веселым загорелым лицам идущих мимо детей, пытаясь различить на одном из них печать неминуемой смерти. Но их цветущий вид говорил о том, что все они собираются жить вечно. — Кто же из них? — сказал он вслух, обращаясь не к себе и не к детям, может быть, спрашивая у Бога: кто из них? Малыши выходили на улицу. Одни шли вверх к перекрестку, другие спускались под гору в сторону соседнего квартала. И там, и там женщины в ярких оранжевых куртках, размахивая красными флажками, собирали детей в небольшие группы и переводили через дорогу. Улица была пустынна, и опасность, что кто-нибудь из детей попадет под машину, казалась маловероятной. Полторы минуты. Джим бросил взгляд на два желтых автобуса на школьной стоянке. Похоже, большинство детей из Мак-Элбери жили неподалеку и ходили домой пешком. В автобусы садилось всего несколько школьников. Водители стояли у входа, перешучиваясь с юными пассажирами, которые штурмовали автобус с присущей своему возрасту энергией. Смерть была рядом. Всего в нескольких шагах. Внезапно золотая паутина исчезла, и сквозь яркую филигрань света проступили черные тени: игольчатые тени сосновых ветвей, широкие тени стволов, геометрически ровные тени остроконечных прутьев железной ограды. Никто, кроме Джима, ничего не заметил, зловещая перемена произошла только в его сознании. Теперь каждое пятно могло стать дверью, через которую проникнет смерть. Одна минута. Он бешено рванулся к группе школьников, спускающихся под гору, догнал и быстро пошел рядом, заглядывая им в лица и встречая недоуменные взгляды. Джим и сам не знал, каким должен быть знак смерти. Он спешил, саквояж молотил его по ногам. Пятьдесят секунд. Тени сгущались, обволакивая, поглощая солнечный свет. Он остановился, обернулся и посмотрел туда, где улица шла на подъем. Там, на перекрестке, стояла женщина с красным флажком, по ее сигналу дети переходили улицу. Пятеро из них как раз шли по переходу. Еще несколько малышей приближались к краю тротуара. Водитель желтого автобуса окликнул его: — Эй! Что случилось? Сорок секунд. Джим бросил саквояж и побежал к перекрестку. Он все еще не знал, что должно произойти и кому из детей угрожает опасность. Невидимая рука, заставившая собрать вещи и вылететь в Портленд, вела его к цели. Стайка ребят брызнула в разные стороны, освобождая дорогу. Взгляд его был устремлен в одну точку — на перекресток, все остальное расплывалось, становилось черным, и белые полосы перехода надвигались на него, как сцена в темном зале, освещенная лучами прожекторов. Полминуты. Две женщины замешкались, уступая ему дорогу. Джим попытался увернуться, но налетел на блондинку в белом летнем платье и чуть не сбил ее с ног. Не теряя ни секунды, он продолжал свой отчаянный бег, чувствуя, как обжигает лицо холодное дыхание смерти. Добежал до перекрестка, перепрыгнул через бордюр и остановился. Четверо малышей семенили по переходу. Один из них — жертва. Но кто? И что должно произойти? Двадцать секунд. Женщина с флажком окинула его непонимающим взглядом. Трое детей уже достигли противоположной стороны улицы, а четвертый ребенок — маленькая рыжеволосая девочка — немногоотстала. На тротуаре дети в безопасности, смерть поджидает свою жертву на дороге. Джим шагнул к маленькой девочке. Девочка удивленно захлопала светлыми ресницами. Пятнадцать секунд. Нет, ей ничего не угрожало. Он видел это в ее зеленых глазах. Теперь вся четверка была на спасительном тротуаре. Четырнадцать секунд. Еще четверо детей начали переходить улицу. Они шли мимо, поглядывая на Джима с опаской. Он знал, что вид у него не из лучших: искаженное ужасом лицо, дикий, загнанный взгляд. Одиннадцать секунд. Дорога пустынна. Ни одной машины. Но метрах в ста от перекрестка улица устремлялась вверх и делала крутой поворот. И если какой-нибудь идиот сейчас мчится сюда, утопив в пол педаль акселератора… Эта мысль промелькнула у него в мозгу, и Джим понял, какое орудие выбрала смерть — пьяный водитель. Восемь секунд. Надо предупредить детей об опасности. Пусть бегут к спасительному тротуару. Но Джим подавил готовый сорваться крик. А что, если он только испугает детей и подтолкнет обреченного ребенка навстречу смерти? Семь секунд. Он прислушался и различил шум мотора. Звук этот стремительно приближался, перерастая в оглушительный рев. Из-за поворота вылетел грузовик. Солнце вспыхнуло на ветровом стекле, и он, казалось, завис в воздухе, как огненная колесница в день Страшного Суда. Это длилось доли мгновения. Передние колеса с пронзительным визгом вспороли асфальт, с лязгом громыхнул кузов. Пять секунд. Дети бросились врассыпную. Все, кроме маленького белоголового мальчишки. Он так и остался стоять на дороге, прижимая к груди яркую коробку с завтраком. Широко раскрыв васильковые глаза, он завороженно смотрел, как вырастает черная громада грузовика, точно знал: это сама неумолимая судьба. Малыш восьми-девяти лет, спасти которого могло только чудо. Две секунды. Джим прыгнул под налетающий грузовик… — Ему почудилось, время остановилось, и он, как большая белая птица, медленно парит в воздухе… Сгреб малыша в охапку и, не дотянувшись до края тротуара, скатился к сухой водосточной канаве, засыпанной опавшими листьями. Ужас сковал сознание, и Джим не почувствовал боли от удара о землю, точно не на асфальт упал, а в мягкую глину. Дикий рев мотора разорвал барабанные перепонки. Страшная тяжесть, как молот, обрушилась на левую ногу, нечеловеческая сила скрутила и сплющила ступню. Боль с хрустом и шипением прожгла бедро, и перед глазами поплыли огненные сполохи на черном небе. Холли бросилась вслед за мужчиной с намерением хорошенько отчитать грубияна, который толкнул ее и даже не извинился. Но не успела она добежать до перекрестка, как из-за поворота, точно камень, пущенный из гигантской рогатки, вылетел грузовик. Холли застыла на месте. Рев мотора магическим образом нарушил ход времени. Словно в замедленной киносъемке, она увидела, как незнакомец выхватывает ребенка из-под колес грузовика и прыгает в сторону. Его прыжок был так красив и стремителен, что Холли показалось, будто она наблюдает какой-то сумасшедший уличный балет. Бампер машины все-таки задел мужчину. Холли содрогнулась: в воздухе кувыркался подброшенный ударом ботинок. Краем глаза она видела, как мужчина и мальчик катятся к тротуару, женщина-регулировщица роняет флажок, красно-серый грузовик круто виляет вправо, налетает на стоящую машину, заваливается на бок, грохочет вниз по склону, высекая из асфальта снопы желтых и синих искр, — но все это время ее внимание было приковано к черному ботинку, который медленно, очень медленно поднимался в голубом небе, наконец завис — ей показалось, прошла целая вечность — и стал так же медленно опускаться. Холли не могла отвести глаз от этого зрелища, потрясенная жуткой мыслью, что в ботинке оторванная ступня с торчащими осколками кости и кровавыми лохмотьями артерий и вен. Ботинок медленно опускался, еще миг — и упадет на землю. Холли смотрела, завороженная его падением, сдерживая готовый сорваться крик. Ниже, ниже… Ботинок, а точнее, кроссовка «рибок» плюхнулась в канаву в двух шагах от Холли. Она опустила глаза. Вот так, не в силах отвести взгляда, смотрела на монстра в ночном кошмаре, борясь с отвращением и одновременно испытывая неодолимое желание увидеть то, о чем нельзя даже помыслить… Кроссовка оказалась пустой. Ни оторванной ноги, даже ни капли крови. Холли проглотила застрявший в горле крик. Почувствовала тошноту и сглотнула слюну. Грузовик перевернулся и замер в нескольких десятках метров ниже по склону. Холли находилась ближе всех к месту происшествия и первой подбежала к мужчине с мальчиком. Ребенок был цел и невредим, если не считать царапины на руке и небольшой ссадины на подбородке. Он даже не плакал. Холли опустилась перед мальчиком на колени и взяла его за руку. — Все в порядке, малыш? Он был ошеломлен случившимся, но вопрос понял и кивнул: — Да, только руку поцарапал. Мужчина в белых брюках и синей майке, стянув носок с левой ноги, осторожно ощупывал ступню. Лодыжка была вся красная и распухла. Но ни капли крови, снова удивилась Холли. Над мальчиком уже хлопотали подоспевшие учителя, регулировщица, школьник. Но Холли не слышала их возбужденных голосов. Она смотрела на мужчину, который, морщась от боли, продолжал массировать ногу. Он случайно поднял голову. Взгляд ярко-синих глаз был таким холодным, что в первый миг Холли почудилось, что она смотрит в оптические рецепторы машины. Но незнакомец улыбнулся, и ощущение холода мгновенно исчезло. Холли поразила красота его глаз, синих и чистых, как утреннее небо. Они казались окнами, в которых можно увидеть душу. Холли не привыкла доверяться первому впечатлению. С кем бы ни сводила ее судьба, с монахиней или главарем мафии, она всегда следовала этому правилу. Поэтому мгновенное чувство симпатии к незнакомцу потрясло ее до глубины души. Слова были первой любовью и ремеслом Холли, но сейчас она словно онемела. Просто стояла и смотрела на него. — Могло быть хуже, — улыбнулся мужчина, и Холли улыбнулась в ответ.Глава 4
Холли ждала Джима Айренхарта в коридоре возле мальчишечьей раздевалки. Все дети и учителя наконец разошлись. В здании было тихо, и только со второго этажа доносилось гудение электрического полотера. Пахло мелом, пластилином и сосновой хвоей от дезинфицирующей мастики. На улице все еще возились рабочие из транспортной компании, пытаясь перевернуть и отбуксировать на стоянку разбитый грузовик. Рядом прохаживались полицейские. Водителя, который оказался пьян, отвезли в больницу, и сейчас врачи занимались его сломанной ногой, ссадинами и ушибами. Холли собрала все необходимое для будущей статьи: сведения о Билли Дженкинсе — мальчике, который чудом остался жив, описание происшествия, свидетельства очевидцев, полицейский протокол и невнятные извинения водителя, в которых угадывалась пьяная жалость к себе. Не хватало только одного, но зато самого важного — информации о герое дня Джиме Айренхарте. Читатели захотят получить мельчайшие подробности, но пока она знала лишь его имя и то, что приехал он из Южной Калифорнии. Холли не спускала глаз с коричневого саквояжа, стоявшего у двери раздевалки. Ей до смерти хотелось расстегнуть замки и заглянуть внутрь. Сначала она не поняла, откуда такое желание, но потом сообразила — сработал профессиональный навык или врожденное любопытство: человек с дорожным саквояжем на этих тихих улочках сразу привлекал внимание-Звук отворяемой двери заставил Холли виновато вздрогнуть, как будто ее поймали роющейся в чужих вещах. Перед ней стоял Джим. Он причесал свои густые каштановые волосы и постарался отряхнуть грязь с белых брюк. Левый ботинок был порван и измят. — Как вы себя чувствуете? — спросила Холли. — Отлично, — он заметно прихрамывал. — Я ведь просил вас: никаких интервью. — Я не отниму много времени, — пообещала она. — Не сомневаюсь, — улыбнулся он. — Всего несколько слов, что вам стоит! — Прошу прощения, но героя из меня не выйдет. — Но вы спасли ребенку жизнь! — Вы правы, но… в остальном я ужасно заурядная личность. Что-то в облике Джима заставляло усомниться в этих словах, хотя Холли затруднялась сказать, в чем секрет его обаяния. Высокий мужчина лет тридцати пяти. Стройный, мускулистый. Джим был хорош собой, но ничто в нем не напоминало голливудскую кинозвезду. Да, синие глаза поражали своей удивительной красотой, но Холли была не из тех, кто теряет голову из-за приятной внешности. Он взял саквояж и зашагал по коридору, прихрамывая на левую ногу. — Вам необходимо показаться врачу, — Холли догнала Джима и пошла рядом. — Пустяки, у меня всего лишь растяжение. — Все равно это нельзя так оставлять. — Куплю эластичный бинт в аэропорту или когда приеду домой. Может быть, ее привлекла его манера держаться. Джим был безукоризненно вежлив, улыбался легко и непринужденно, по виду — настоящий джентльмен со Старого Юга, вот только речь правильная, без малейшего акцента. Несмотря на хромоту, он двигался с удивительным изяществом, и Холли вспомнила балетную легкость его прыжка навстречу мчащемуся грузовику. Грация движений и врожденное благородство в мужчине много значили для Холли, и все-таки главным было нечто иное, то, о чем она смутно догадывалась, но не могла выразить словами. Они подошли к выходу, и Холли предложила: — Могу подбросить до аэропорта. — Я вам очень признателен, но, право, не стоит. Джим открыл дверь, и они вышли на крыльцо. — Пешком вы туда не скоро доберетесь. Он остановился и нахмурился. — Пожалуй, вы правы… Здесь наверняка где-нибудь есть телефон. Я вызову такси. — Послушайте, вы меня боитесь, точно я маньяк-убийца! Честное слово, я не держу в машине циркулярную пилу. Джим посмотрел ей в лицо и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. — Вообще-то вы больше похожи на любителя поохотиться с тупой бритвой. — Ну что вы! Мы, журналисты, предпочитаем остро отточенное перо. Однако на этой недели на моем счету ни одной жертвы. — А на прошлой? — Две. Но обе были несносными рекламными агентами. — Что ни говори, а все-таки убийство. — Но при смягчающих вину обстоятельствах. — Убедили. Ничего не остается, как принять ваше предложение. Синяя «Тойота» Холли находилась в глубине стоянки, через два ряда от машины, в которую врезался пьяный водитель. Тягач транспортной компании как раз тронулся с места и потащил на буксире злосчастный грузовик. Полицейские садились в патрульную машину. На черном асфальте в лучах полуденного солнца блестели неубранные осколки разбитого стекла. Некоторое время они ехали молча. Затем Холли спросила: — У вас в Портленде друзья? — Да, еще со студенческих времен. — Вы у них и остановились? — Да. — И они не могли отвезти вас в аэропорт? — Если бы самолет улетал утром, конечно, отвезли бы, но днем они на работе. — А… — Холли не нашлась что сказать и замолчала. Потом обратила его внимание на ярко-желтую цветочную клумбу за железным забором и спросила, знает ли он, что Портленд называют Городом Роз. Он знал. Тогда после некоторого молчания она предприняла новую попытку: — У них не работал телефон? — Простите, не понял? — Телефон в квартире у ваших друзей, вы могли бы вызвать такси из дома. — Мне хотелось прогуляться. — До аэропорта? — Когда я выходил из дома, ноги у меня были в полном порядке. — Но до аэропорта очень далеко! — Мне не привыкать. — Очень далеко, особенно с саквояжем. — Он почти пустой. И потом, когда я тренируюсь, то беру в руки гантели, чтобы при ходьбе работали мышцы. — Я сама люблю ходьбу. — Холли притормозила на красный свет. — Раньше бегала по утрам, но потом стали ныть колени. — Со мной была та же история, и я бросил бег и перешел на ходьбу. Она дает такую же нагрузку на сердце, если держать хороший темп. Холли хотелось продлить недолгие минуты этой беседы, и она вела машину совсем медленно. Они оживленно болтали о тренировках и диете. Одна из реплик Джима позволила ей совершенно естественно поинтересоваться именами его друзей в Портленде. — Нет, — твердо сказал он. — Что значит — нет? — Я не скажу вам, как зовут моих друзей. Они тихие славные люди, и мне не хочется, чтобы к ним приставали с глупыми вопросами. — Благодарю за комплимент, — вспыхнула Холли. — Я не имел в виду вас, мисс Торн. Просто мне бы не хотелось, чтобы по моей милости их имена замелькали в газетах и для них кончилась спокойная жизнь. — Многие мечтают увидеть свое имя в газетах. — Далеко не все. — Но может быть, им будет приятно рассказать о своем отважном друге. — Прошу прощения, но… — Он извиняюще улыбнулся. Она понемногу стала понимать, что так поразило ее в Джиме Айренхарте — его удивительное самообладание. За два года работы в Лос-Анджелесе Холли приходилось встречать немало мужчин, выдающих себя за образец калифорнийского хладнокровия и уверенности: «Положись на меня, детка, и ни о чем не думай, я с тобой, и пусть весь мир катится к чертям». На словах это звучало эффектно, но как только доходило до дела, оказывалось пустым звуком. Иметь безукоризненный загар и подражать голливудскому спокойствию Брюса Виллиса еще не значит быть невозмутимым Брюсом Виллисом. Уверенность в себе приходит с опытом, а с настоящей невозмутимостью нужно родиться, ее можно изображать, но опытный глаз все равно отличит подделку от подлинника. Что касается Джима Айренхарта, то его невозмутимости с избытком хватало на все мужское население маленького штата Род-Айленд. Ни сумасшедшие грузовики, ни вопросы репортера не могли пробить стену его хладнокровного спокойствия. Странное дело, но одно его присутствие вселяло уверенность в собственных силах. — У вас интересное имя, — возобновила разговор Холли. — Джим? Он над ней подшучивал Айренхарт — «железное сердце». Похоже на прозвище индейского вождя. — Было бы неплохо, окажись в моих жилах кровь сиу или апачей. Это придало бы мне ореол таинственности. Но должен вас разочаровать: Айренхарт — всего лишь английский вариант немецкой фамилии Айзенхерц. Машина выехала на Восточную автостраду и быстро двигалась к повороту на Киллингсворт. Через несколько минут они будут в аэропорту. Такая перспектива не радовала Холли. Она была репортером, и большинство ее вопросов так и остались без ответа. И, что еще более важно, Холли была женщиной, и впервые в жизни она встретила такого мужчину, как Джим Айренхарт. Она быстро прикинула, не поехать ли в объезд и тем самым в два раза удлинить дорогу. Джим не знает города и вряд ли заметит ее хитрость. Но потом ей пришло в голову, что дорожные знаки уже сообщили о приближении к аэропорту. И, даже если Джим не обратил на них внимания, в ярко-синем небе невозможно не увидеть белые силуэты самолетов, которые один за другим взлетали и шли на посадку. — И чем вы занимаетесь у себя в Калифорнии? — нарушила затянувшееся молчание Холли. — Радуюсь жизни. — Я имела в виду, кем вы работаете? — А как вы думаете? — Ну… во всяком случае, не библиотекарем. — Почему вы так думаете? — В вас есть что-то таинственное. — А разве библиотекарь не может быть таинственным? — По крайней мере, я таких не встречала. Она неохотно свернула с шоссе на дорогу, ведущую к аэропорту. — Может, вы из полиции. — Значит, я похож на полицейского? — У настоящих полицейских стальные нервы. — А я-то считал себя простым и общительным. Вы думаете, у меня стальные нервы? — Я хотела сказать, вы очень уверены в себе. — И давно вы на репортерской работе? — Двенадцать лет. — Все время в Портленде? — Нет. Здесь я около года. — А раньше где приходилось бывать? — Чикаго… Лос-Анджелес… Сиэтл. — Любите журналистику? Поняв, что Джим перехватил у нее инициативу, Холли ответила: — Послушайте, это все-таки не игра в вопросы и ответы. — Что вы говорите! Выходит, я ошибался. Похоже, этот разговор его по-настоящему забавлял. Холли почувствовала свое бессилие перед его непонятным, вызывающим раздражение упрямством. Ей не понравилось, что Джим сумел подчинить ее своей воле. Впрочем, он не имел злого умысла, и обманщик из него был неважный. Он не хотел, чтобы кто-то копался в его делах, и Холли, которая в последнее время все чаще задумывалась о праве журналиста вмешиваться в чужую жизнь, в глубине души сочувствовала ему. В конце концов ей не оставалось ничего другого, как рассмеяться. — Победа за вами, поздравляю! — Вы неплохо держались. Машина притормозила у входа в здание аэропорта. — Вот уж нет! Будь я на высоте — по крайней мере узнала бы, кем вы работаете. Джим улыбнулся. Холли в который раз удивилась, какие синие у него глаза. — Вы держались неплохо, но… не победили. Он вышел из машины, достал с заднего сиденья саквояж и повернулся к Холли: — Понимаете, я просто оказался в определенное время в определенном месте, И по чистой случайности мне удалось спасти мальчика. Неужели будет справедливо, если газеты перевернут мою жизнь вверх дном из-за того, что я совершил хороший поступок? — Нет, что вы, конечно, нет, — ответила Холли. Джим вздохнул с облегчением: — Благодарю вас, мисс Торн. — Знаете, мистер Айренхарт, я тронута вашей скромностью. Их взгляды встретились. — А я вашей, мисс Торн. Он захлопнул дверь машины, повернулся и исчез за стеклянными дверями аэропорта. Прощальные слова все еще звучали у нее в ушах: «Мистер Айренхарт, я тронута вашей скромностью. — А я вашей, мисс Торн». Холли не спускала глаз с двери, в которую только что вошел Джим. Все случившееся было слишком нереально. Как будто с ней в машине находился призрак пришельца из иных миров. Воздух позолотили лучи заходящего солнца, и Холли вспомнила: похожее свечение она видела в старых фильмах о привидениях. Она вздрогнула от резкого жестяного грохота. Обернулась и увидела служащего аэропорта, который костяшками пальцев барабанил по капоту ее машины. Заметив, что Холли смотрит в его сторону, он указал ей на знак: «Зона погрузки». Спрашивая себя, сколько времени она провела здесь, занятая мыслями о Джиме Айренхарте, Холли отпустила ручной тормоз, завела машину и отъехала от блюстителя порядка. «Тронута вашей скромностью, мистер Айренхарт. — А я вашей, мисс Торн». На обратном пути Холли не покидало ощущение того, что в ее жизнь вмешались потусторонние силы. Было немного не по себе: она никогда не думала, что случайная встреча с мужчиной может так подействовать на нее. Она чувствовала себя девчонкой, маленькой глупой девчонкой. Однако ощущение приятно волновало, и Холли не хотелось, чтобы оно исчезло.Глава 5
Вернувшись домой, Холли принялась готовить на ужин макароны с соусом из арахиса, чеснока и помидоров. Неожиданно она спросила себя: как Джим Айренхарт мог знать, что ребенок в опасности, прежде чем показался грузовик? От этой мысли Холли перестала резать помидоры и выглянула в окно. Внизу, совсем рядом — ее квартира находилась на третьем этаже, — раскинулся парк Каунсил-Крест, освещенный багровыми лучами заходящего солнца. Янтарный свет затерянных среди деревьев фонарей выхватывал из полумрака прямые аллеи, окаймленные высокой темной травой. …Джим Айренхарт рванулся вверх по улице и столкнулся с ней. Она бросилась вслед за ним, намереваясь хорошенько его отругать. Когда она добежала до перекрестка, Джим стоял посреди улицы, возбужденно оглядываясь. Вид у него был… странный, и дети опасливо обходили Джима стороной. Она заметила испуг на его лице и реакцию детей за одну-две секунды до того, как из-за поворота, точно дьявольская колесница, сорвавшаяся с головокружительной высоты, вылетел грузовик. Только тогда внимание Айренхарта привлек маленький Билли Дженкинс. Джим бросился под грузовик и в последний миг выхватил ребенка из-под колес. Может быть, он услышал шум мотора, понял, что к перекрестку на сумасшедшей скорости мчится машина, и, предугадав опасность, бросился на помощь? Холли не удалось вспомнить, слышала ли она звук мотора до того, как они с Джимом столкнулись на тротуаре. Может быть, и слышала, но не обратила внимания. А может быть, и нет, потому что была поглощена мыслями о том, как избавиться от неутомимой Луизы Тарвол, вызвавшейся проводить ее до машины. Холли тогда казалось: еще минута поэтических излияний — и дело кончится буйным помешательством. Так что в тот миг она не думала ни о чем, кроме бегства. В большой кастрюле на плите закипела вода. Нужно убавить газ, засыпать макароны, поставить часы… Но Холли застыла над доской для резки овощей. Она смотрела в окно на темные громады деревьев, но видела тот роковой перекресток у школы Мак-Элбери. Хорошо, пусть Айренхарт за полквартала услышал шум приближающейся машины, но как он сумел так быстро определить направление движения грузовика, состояние водителя и опасность ситуации? Женщина-регулировщица и дети находились гораздо ближе к машине, но были застигнуты врасплох., Впрочем, некоторые люди обладают повышенной остротой восприятия. Создатель симфоний живет в мире мелодий и ритмов, недоступных уху обычного слушателя; мастер бейсбола способен заметить крошечный мяч, летящий со стороны солнца, но большинство зрителей его не увидит; тончайший букет редкого вина — открытая книга для опытного винодела и пустое место для заурядного пропойцы. Точно так же есть люди, обладающие повышенной быстротой реакции. Достаточно вспомнить хоккеиста Уэйна Грецки, игра которого оценивается в миллионы долларов. Она видела своими глазами: Айренхарт обладал молниеносной реакцией прирожденного атлета. Без сомнения, природа наделила его и необычайно острым слухом. Обычно люди с редким физическим даром обладают и высокими спортивными данными. Все дело в наследственности. Такое объяснение все ставит на свои места. Все проще простого. Никакой мистики. Все дело в хороших генах. За окном в парке сгущались тени. По-прежнему горели фонари, но их слабый свет отступал перед надвигающейся темнотой. Аллеи теряли очертания и растворялись во мраке. Казалось, деревья медленно придвигаются друг к другу. Холли положила нож, подошла к плите, убавила газ и высыпала макароны в бурлящую воду. Потом снова взялась за нож и посмотрела в окно. Алая полоса на горизонте стала кроваво-красной, багровое сумеречное небо быстро погружалось в темноту, и на нем одна за другой загорались крохотные звезды. Почти весь парк утонул в лилово-черной мгле. Неожиданно она представила, как из темноты на освещенную аллею выйдет Джим Айренхарт, поднимет голову и посмотрит на ее окно. Он знает, где она живет, и приехал к ней. До чего нелепая мысль! Смех, да и только. Но Холли почувствовала, как мороз пробежал у нее по коже.* * *
Дело шло к полуночи. Холли присела на край кровати и включила ночник. Она посмотрела на окно спальни, которое тоже выходило в парк, и снова содрогнулась от странного ощущения чужого присутствия. Хотела лечь, но после некоторого колебания встала и, как была в майке и трусиках, прошла через темную комнату к окну и раздвинула щель между шторами. Под окнами никого не было. Холли подождала минуту, другую. Джим не появился. Смущенная, она вернулась в постель.* * *
Пробуждение было внезапным. Холли резко подняла голову и села на кровати. Ее бил озноб. Она не знала, что ей приснилось, помнила только синие, ослепительно синие глаза, их взгляд пронзал ее насквозь, как острый нож входит в подтаявшее масло. Лунный свет пробивался сквозь неплотно задернутые шторы. Холли встала и на ощупь прошла в ванную. Не зажигая света, включила воду и умыла лицо. Постояла, глядя на свое отражение в серебристо-черном зеркале, выпила холодной воды. Поняла, что бессознательно медлит с возвращением в спальню, боясь, что ее опять потянет к окну. Что за глупости, сказала она себе. Что с тобой происходит? Она вошла в спальню и, вместо того чтобы лечь, снова приблизилась к окну. Раздвинула шторы. Его там не было. С облегчением и вместе с тем с разочарованием смотрела Холли на ночной парк. По телу снова пробежала дрожь, и она осознала, что дело не только в непонятном страхе. Холли испытывала возбуждение и смутное сладостное предчувствие… Предчувствие чего? Она не знала. Встреча с Джимом Айренхартом оставила неизгладимый след в ее душе. Ничего похожего раньше не случалось. Холли безуспешно пыталась разобраться в своих чувствах. Такое простое объяснение, как сексуальное влечение, казалось бессмысленным. Она давно вышла из подросткового возраста, и то, что с ней сейчас творилось, нельзя было объяснить ни тоской по мужскому телу, ни романтическими девичьими грезами. Наконец Холли вернулась в кровать. Она была уверена, что до утра не сомкнет глаз, но стоило ей лечь, как почувствовала, что засыпает. «Эти глаза», — услышала Холли свой голос и стала стремительно падать в зияющую пустоту.* * *
Джим проснулся до рассвета. За окнами спальни — ночная Лагуна-Нигель. Бешено колотилось сердце, и все тело, несмотря на ночную прохладу, было мокрым и липким от пота. Опять мучили кошмары. Он смутно помнил, что во сне его опять преследовали злобные, безжалостные и могущественные силы. Чувство смертельной опасности заставило его включить свет и убедиться, что в спальне никого нет. Ничего угрожающею. — Уже скоро, — произнес он вслух. И спросил себя, что значат эти слова.20-22 АВГУСТА
Глава 1
Джим напряженно следил за дорогой сквозь грязное ветровое стекло угнанного «Камаро». Солнце висело в небе ярким шаром, и от его света, белого и едкого, как сухая известка, не спасали даже черные очки: приходилось щуриться. Волны горячего воздуха поднимались от раскаленного асфальта, и в знойном мареве возникали миражи озер, людей, машин. По телу разлилась усталость, в глаза словно насыпали песку. Из-за миражей и песчаных вихрей Джим с трудом различал дорогу. В бесконечных просторах пустыни Мохавк пропадало ощущение скорости. Не верилось, что на спидометре почти сто миль в час. При таком состоянии это было рискованно. Но в нем росла уверенность: стоит чуть промедлить — и случится непоправимое. От его быстроты зависит человеческая жизнь. Джим скосил глаза на заряженный дробовик, прислоненный к спинке переднего сиденья. Возле приклада лежала коробка патронов. Его мутило от страха, но нога сама надавила на педаль акселератора, и стрелка спидометра дернулась и переползла за стомильную отметку — Дорога перевалила через хребет. Внизу лежала круглая, как чаша, долина двадцати-тридцати миль в диаметре. На ее белых, выжженных солнцем солончаках не росло ничего, кроме серых колючек перекати-поля и сухого чахлого кустарника. Может быть, несколько миллионов лет назад в этом месте упал астероид, и след его падения, хотя и размытый прошедшими тысячелетиями, сохранил свои первоначальные очертания. Черная нить автострады резала долину пополам. Асфальт сверкал и переливался миражами озер, а вдоль обочины мерцали и медленно корчились причудливые фантомы. Сначала ему бросился в глаза пикап, черневший в миле впереди. Он стоял по правой стороне обочины возле сухой дренажной трубы, наполнявшейся водой только во время редких ливней. Сердце учащенно забилось, и, хотя в салоне работал кондиционер, Джима бросило в пот. Он у цели. В следующий миг он заметил фургон, который вынырнул из сверкающего миража и полз к выходу из долины, туда, где черная нитка шоссе исчезала среди красных скал. Джим сбросил скорость и, не спуская глаз с удаляющегося фургона, приближался к пикапу. Он не знал, какая от него требуется помощь. Стрелка спидометра отклонилась влево. Джим ждал, надеясь, что наступит прозрение, но все было тщетно. Обычно он действовал по наитию, подчиняясь приказам внутреннего голоса, существующего в глубинах подсознания, или становился машиной, выполняющей заданную программу. На этот раз все было иначе. С чувством растущего отчаяния Джим затормозил возле пикапа, бросил взгляд на дробовик, хотя и знал, что оружие ему не потребуется, и выскочил из машины. Багажник пикапа был забит вещами. Джим приблизился и через боковое стекло увидел фигуру мужчины, распростертого на переднем сиденье. Рванул ручку двери и содрогнулся от ужаса — все внутри залито кровью. Человек в машине умирал, его грудь была прострелена в двух местах. Голова, неловко прислоненная к двери, напомнила Джиму склоненную набок голову распятого Христа. Исполненный муки взгляд умирающего на мгновение прояснился. — Лиза… Сузи… Жена, дочь… — В слабом голосе незнакомца звучало неистовое отчаяние. Его глаза закрылись, из груди вырвался последний вздох, голова упала набок. Он был мертв. Придавленный грузом ответственности за смерть этого человека, Джим отступил от двери пикапа и застыл под палящими лучами белого солнца, опустив голову и уставившись в черный асфальт. Если бы он ехал быстрее и оказался здесь на несколько минут раньше, все было бы иначе. Джим глухо, мучительно застонал, потом взглянул на удаляющийся фургон, и стон сменился криком ярости. Он понял, что случилось, и знал, что нужно делать. Вернувшись в машину, он стал набивать патронами глубокие карманы своих голубых брюк. Короткоствольный дробовик двенадцатого калибра лежал рядом, стоило только протянуть руку. Джим посмотрел в зеркало заднего обзора. Дорога пустынна. Помощи ждать неоткуда. Все зависит только от него. Далеко впереди полз фургон, ныряя в знойном мареве. Время от времени он словно исчезал за развевающимся занавесом из стеклянных бусин. Джим включил передачу, но колеса, взвизгнув на вязком горячем асфальте, провернулись вхолостую, и машина не тронулась с места. Жуткое эхо прокатилось по пустыне, и Джим представил, как вскрикнули жена и дочь застреленного в упор незнакомца. В следующий миг «Камаро» рванулся вперед. Джим выжал педаль акселератора и прищурился, пытаясь разглядеть цель. Наконец сверкающий занавес раздался, и проступили очертания фургона. Словно большой корабль, он медленно плыл по бескрайним волнам песчаного моря. Фургон уступал «Камаро» в скорости, и через несколько минут Джим приблизился к нему вплотную и стал разглядывать старый девятиметровый «Роадкинг», алюминиевые борта которого были поцарапаны, заляпаны грязью и покрыты пятнами коррозии. Занавески на окнах, когда-то наверняка белые, пожелтели от пыли и времени. Ничем не примечательный дом на колесах, принадлежащий семье стариков, любящих путешествовать, чьих жалких пенсий не хватает на то, чтобы поддерживать в достойном состоянии предмет былой гордости. Вот только мотоцикл «харлей», прикрученный цепью к железной скобе на задней стенке фургона, небольшой, но с мощным двигателем, не мог принадлежать семье пенсионеров. Ничто в фургоне, за исключением мотоцикла, не вызывало подозрений, и тем не менее за его стенками притаилось зло. От него исходили мощные черные волны. У Джима перехватило дыхание, будто он мог почувствовать смрадное гниение тех, кто прятался в фургоне. Какое-то время он колебался, не зная, что предпринять, опасаясь, что его действия поставят под угрозу жизнь женщины и ребенка. Но и медлить было нельзя. Чем дольше жертвы пробудут в руках преступников, тем меньше у них шансов остаться в живых. Он пошел на обгон, решив, что обойдет фургон и мили через две поставит свою машину поперек дороги. Но, очевидно, водитель «Роадкинга» видел, как Джим останавливался возле пикапа. Стоило «Камаро» поравняться с фургоном, как тот резко вильнул влево и со скрежетом обрушился на маленькую машину Джима. «Камаро» подбросило, и Джим с трудом выровнял машину. Борт фургона отодвинулся и снова обрушился на него, вытесняя с асфальта на обочину. Еще несколько сот метров они неслись бок о бок: фургон по левой полосе, рискуя столкнуться со встречной машиной, которая могла вынырнуть из знойного марева; «Камаро», вздымая клубы пыли, по самому краю обочины. Дорожная насыпь возвышалась на метр от поверхности пустыни; стоило чуть притормозить, машину выбросит с дороги, и она закувыркается вниз. Джим осторожно ослабил нажим на педаль, замедляя ход.Но водитель фургона разгадал его замысел и тоже сбросил скорость. Держась вровень с «Камаро», он стал неотвратимо, сантиметр за сантиметром, выдавливать маленькую легковушку с обочины. «Камаро» был намного легче фургона, и, несмотря на все усилия Джима, переднее колесо провалилось в пустоту. Он нажал на тормоз. Слишком поздно! Заднее колесо сорвалось с обочины, «Камаро» завалился влево и рухнул под насыпь. Привычка пользоваться ремнями безопасности спасла от удара головой о боковую стойку или грудью о рулевое колесо. Джима бросало во все стороны, сорвало солнечные очки, но сам он остался цел. Лобовое стекло покрылось паутиной трещин, и он успел зажмурить глаза, прежде чем сверху посыпались осколки. Машина перевернулась во второй раз, подскочила и осталась лежать вверх колесами. Джим повис на ремнях, задыхаясь в клубах белой пыли, проникавшей сквозь разбитое стекло. Они постараются прикончить меня. Он стал лихорадочно шарить руками по ремню, пытаясь нащупать замок, нашел его, расстегнул и свалился на потолок перевернутой машины. Прямо на дробовик. Счастье, что в этой круговерти оружие не выстрелило. Они идут сюда. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы найти ручку двери. Она была как раз над головой. Сначала дверь не поддавалась, но затем с металлическим треском открылась и закачалась на петлях. С чувством, что попал в мир, созданный воображением Дали, Джим ползком выбрался из машины и вытащил дробовик. Облачко белой пыли, поднятое падением автомобиля, постепенно оседало, но он все не мог откашляться, хотя и понимал, что жизнь висит на волоске и любой неосторожный звук может привлечь внимание врагов. Оглянувшись по сторонам в поисках укрытия и завидуя быстроте и неприметности маленьких песчаных ящериц, снующих у него под ногами, Джим пригнулся и бросился к руслу высохшего ручья. Глубина этого естественного дренажного канала не превышала метра. Джим спрыгнул вниз и почувствовал под ногами твердое дно. Вжавшись в песок, он осторожно поднял голову и посмотрел в сторону «Камаро», вокруг которого еще не рассеялось облачко белой были. Как раз в этот миг напротив перевернутой машины остановился фургон. Открылась дверь, и на обочину спрыгнул человек. Через несколько секунд к нему присоединился его сообщник. Эти двое ничем не напоминали пенсионеров — любителей путешествий, которых можно было бы представить за рулем обшарпанного дома на колесах. Крепкие мужчины лет тридцати. Их загорелые лица казались высеченными из обожженной солнцем скалы. У одного черные волосы были зачесаны назад и стянуты двойным узлом. Такой стиль вышел из моды, и дети называют его «куриным хвостом». Второй — стриженный ежиком, с выбритыми висками. Оба в майках без рукавов, джинсах и грубых ковбойских ботинках. Они разделились и сжимая в руках пистолеты, с двух сторон начали медленно приближаться, прежде чем скатился на дно высохшего ручья и отползти вправо. Оглянулся, проверяя, не оставляет ли следов, но со времени последнего дождя прошло немало дней и выжженная яростным солнцем земля была твердой, как камень. Метров через пятнадцать русло резко сворачивало влево и соединялось с дренажной трубой, уходящей под дорожную насыпь. К Джиму вернулась надежда. Однако его по-прежнему трясло от страха — с тех пор как он обнаружил в пикапе умирающего незнакомца. Его тошнило, но желудок был пуст. Что бы там ни говорили диетологи, иногда полезно пропустить завтрак. В трубе было темно и прохладно. На миг захотелось остаться, спрятаться в темноте в надежде, что преследователи бросят поиски и уйдут. Но, конечно, это невозможно. Джим не был трусом. Даже если бы совесть позволила ему эту слабость, все та же таинственная сила заставила бы его подняться и продолжать борьбу. В какой-то степени он был марионеткой в руках невидимого кукольника, героем пьесы с непонятным сюжетом. Джим пополз по трубе, чувствуя, как впиваются в тело острые колючки перекати-поля, вылез с противоположной стороны шоссе и подобрался к краю дорожной насыпи. До фургона рукой подать, чуть дальше, как мертвый жук, лежащий на спине, чернел «Камаро». Бандиты стояли у перевернутой машины, они уже проверили, что в легковушке никого нет. Они оживленно переговаривались, но расстояние было слишком велико и до Джима долетали лишь невнятные обрывки слов, искаженные горячим воздухом. Пот струился по лбу, заливая глаза. Джим вытер лицо рукавом и продолжал следить за преследователями. Они медленно двигались в глубину пустыни. Один настороженно озирался по сторонам которой шел, пригибаясь к земле: искали следы. Сейчас, на его несчастье, окажется, что один из них воспитался среди индейцев, и они настигнут его быстрее, чем игуана ловит песчаного жука. С запада донесся глухой рев приближающейся машины. Звук быстро усиливался, и через несколько минут из сверкающего миража вынырнул грузовик. Джим смотрел на него снизу вверх, и грузовик показался ему гигантской боевой машиной, заброшенной в наше время из двадцать второго века. Завидев перевернутый «Камаро», водитель грузовика остановится, чтобы, как это водится у дальнобойщиков, предложить помощь. Его появление застанет убийц врасплох, и их замешательством можно будет воспользоваться. Так рассчитывал Джим, но план не сработал. Грузовик не сбросил скорость на подходе, и Джим хотел вскочить и знаками привлечь его внимание. Но, прежде чем он успел пошевелиться, огромная машина с ревом и грохотом пронеслась мимо него, роняя клубы горячего черного дыма, точно дьявольская колесница с душами грешников, опаздывающая в ад. Джим с трудом подавил желание вскочить и крикнуть вслед удаляющемуся грузовику: «Где ж твои самаритянские чувства, скотина?» Над шоссе снова повисла горячая тишина. Убийцы, проводив взглядами грузовик, продолжили поиски. Страх и ярость бушевали в душе Джима. Он снова скатился под откос и, волоча за собой дробовик, пополз в направлении фургона. Дорожная насыпь скрывала его от глаз преследователей. Но что им стоило перебежать через шоссе и всадить в него десяток пуль? Когда он снова рискнул поднять голову, то увидел, что находится напротив фургона, закрывающего его от врагов. Он не видел их, но и они не могли его сейчас заметить. Вскочив на ноги, Джим быстро перебежал через шоссе и остановился у двери со стороны пассажира. Убийцы оставили ее открытой. Джим было взялся за ручку, но тут ему пришло в голову, что внутри фургона мог скрываться третий, оставшийся охранять женщину с дочерью. Чтобы не попасть под перекрестный огонь, нужно сначала покончить с двумя первыми. Он двинулся к кабине фургона, но не сделал и двух шагов, как услышал приближающиеся голоса и замер, ожидая, что из-за угла выйдет убийца со странной прической. Но они остановились с противоположной стороны фургона. — Плевать… — Он мог запомнить наш номер… — Наверняка скоро сдохнет… — В машине не было крови… Джим опустился на колено возле колеса и заглянул под фургон. Они стояли возле двери водителя. — Будем двигаться к югу… — А копы повиснут у нас на хвосте… — Пока он доберется до копов, мы будем в Аризоне… — Ты думаешь… — Я знаю. Джим поднялся и стал осторожно красться вдоль бампера. — Через Аризону в Нью-Мексико… — Там тоже полиция… — В Техас, позади останется несколько штатов, если надо, будем гнать всю ночь… К счастью, обочина была посыпана песком, а не щебенкой, и Джим, бесшумно ступая, приблизился к фарам со стороны водителя. — Ты знаешь, что связь у копов хреновая… — Он где-то здесь, черт бы его побрал… — Здесь миллион скорпионов и гремучих змей… Джим выступил из-за угла и навел дробовик: — Ни с места! На какой-то миг они застыли с разинутыми ртами, с таким выражением он бы смотрел на трехглазое чудовище с пастью во лбу. Между ними было меньше трех метров. Можно плюнуть им в лицо, негодяи этого как раз заслуживают. Издали они казались двуногими змеями, да и сейчас они опаснее любой ядовитой твари, ползающей в пустыне. Стволы их пистолетов были опущены к земле. Джим повел дробовиком. — Бросай оружие, живо! Это были закоренелые негодяи или полные идиоты, а может быть, и то и другое, — словом, дробовик не произвел на них никакого впечатления. Один, тот, который с хвостом, бросился на землю, второй, с выбритыми висками, вскинул пистолет, и Джим с двух шагов всадил ему в грудь заряд картечи. Первый убийца юркнул под фургон и исчез. Чтобы не получить пулю в ногу, Джим ухватился за ручку водительской двери и вскочил на ступеньку. В тот же миг из-под фургона хлопнули два выстрела, и пуля пробила колесо, за которым он только что стоял. Вместо того чтобы забраться в кабину, Джим снова спрыгнул на землю и растянулся на животе, выставив перед собой дробовик. Он думал, что застигнет убийцу врасплох, но тот уже вылез из-под машины с противоположной стороны, и Джим только успел заметить, как мелькнули и исчезли черные ковбойские ботинки. Джим вспомнил лестницу, рядом с которой был привязан мотоцикл. Негодяй хочет забраться на крышу. Чтобы не стать легкой мишенью, Джим протиснулся под фургон. Под машиной было так же душно, как и на солнцепеке. Песок обочины излучал зной, накопленный с самого утра. Две машины одна за другой проскочили мимо. Он не слышал, как они приблизились. Сердце бешено колотилось в груди, в голове били литавры. Он выругался вслед трусливым водителям, но потом сообразил: вряд ли кто захочет остановиться, увидев на крыше фургона человека с пистолетом. Только неожиданность могла принести успех. Как морской пехотинец под огнем, Джим стремительно пробрался к заднему бамперу и выглянул из-под фургона, Над головой висел «харлей»,сверкая спицами на ослепительно белом солнце. Лестница была пуста. Убийца уже залез на крышу. Наверняка думает, что сбил противника с толку, и не ожидает от Джима таких стремительных действий. Джим выбрался из-под фургона и, стараясь не шуметь, стал подниматься по лестнице. Одной рукой он держался за боковую железную скобу, другой сжимал дробовик. С крыши не доносилось ни звука. Неверный шаг, скрежет старой лестницы под ногой — и дело плохо. Джим достиг верха и осторожно выглянул из-за края крыши. Убийца полз по правой стороне фургона к кабине, заглядывая вниз. Он двигался на четвереньках. Хотя обшарпанная белая краска и отражала большую часть солнечных лучей, раскалившаяся на солнцепеке крыша чувствительно ранила даже самые заскорузлые ладони и прожигала толстую джинсовую ткань. Но если парню с хвостом и было больно, он этого не показывал. С решительностью самоубийцы, отличавшей и его мертвого дружка, он спешил навстречу своей смерти. Джим поднялся еще на одну ступеньку. Убийца вытянулся на животе, раскаленное железо наверняка прожигало тонкую майку, но он терпеливо ждал, когда внизу появится противник. Джим сделал еще один шаг. Теперь крыша была на уровне его груди. Переступил ногами, стараясь закрепиться на лестнице, и освободил руки для стрельбы, чтобы отдача не сбросила его вниз. Если негодяй не обладал шестым чувством, ему просто чертовски везло. Джим не издал ни малейшего звука, но убийца неожиданно оглянулся через плечо и заметил его. Чертыхаясь, Джим вскинул дробовик. Бандит скатился с крыши. Джим спрыгнул с лестницы, больно ударился о землю, но устоял на ногах и, выступив из-за угла, нажал на курок. Однако убийца уже нырнул в дверь фургона. В лучшем случае у него в ноге засело несколько дробин. Но похоже, он вообще промазал. В фургоне женщина с ребенком. Заложники. Но что, если негодяй захочет их убить, перед тем как погибнуть самому? За последние двадцать лет развелось столько убийц и насильников, блуждающих по дорогам страны в поисках легкой добычи. Джим снова услышал слова умирающего: «Лиза… Суш… Жена, дочь…» Раздумывать было некогда, и он бросился вслед за убийцей. После яркого солнца глаза с трудом различали в полумраке темную фигуру негодяя, бегущего в дальний конец фургона. Убийца обернулся, Джим увидел темный овал вместо лица. Тот выстрелил. Пуля ударилась в деревянный шкаф, висевший слева на стене. На Джима посыпались щепки. Он не знал, где находились женщина с ребенком, и медлил с ответным выстрелом, боясь их задеть. Дробовик — неподходящее оружие для прицельной стрельбы. Убийца снова выстрелил. На этот раз пуля прошла так близко от лица, что Джиму опалило правую щеку. Он нажал на курок, и тонкие перегородки фургона содрогнулись от страшного грохота. Убийца вскрикнул и упал спиной на кухонную раковину. Полуоглушённый, Джим выстрелил еще раз, по инерции. Бесчувственное тело подбросило, швырнуло на перегородку, и оно медленно сползло по стене, отделявшей кухонный отсек фургона от спальни. Джим выхватил из кармана несколько патронов, быстро перезарядил магазин и мимо рваного продавленного дивана двинулся в глубь комнаты. Негодяй наверняка мертв. Но хотя солнечные лучи, словно горячие прутья, били в лобовое стекло и открытые двери фургона, окна были плотно закрыты ставнями, и очертания комнаты растворялись в темноте, смешанной с едким запахом пороха. Джим достиг противоположной стены и склонился над темной фигурой, распростертой на полу. Все кончено. Кровавый человеческий мусор. Еще несколько мгновений назад подонок был жив. Он глядел на развороченный окровавленный труп, испытывая дикую необузданную радость, упиваясь торжеством справедливости. Эти чувства рождали в нем трепетный восторг у в то же время пугали. Джим хотел ужаснуться содеянному, хотя застреленный им преступник и заслуживал смерти, но, несмотря на отвращение к убийству, не чувствовал никаких угрызений совести. Он столкнулся с чистым злом в человеческом обличье. Эти негодяи заслуживали более тяжкого наказания, долгой, мучительной смерти. Джим чувствовал себя ангелом мщения и, хотя понимал, что сам находится на грани психического срыва, поскольку только безумный уверен в правоте совершаемого преступления, не испытывал никаких сомнений. Его переполняла страшная ярость. Он был карающей рукой Всевышнего. Джим повернулся к запертой двери спальни. Там женщина с ребенком. «Лиза… Сузи…» Но что, если там еще один преступник? Обычно маньяки действуют в одиночку, иногда парами, как эти двое. Редко, но встречаются банды, такие, как Чарльз Мэнсон и его «семейка». В этом мире, где ученые философы утверждают, что нравственность зависит от обстоятельств и любая точка зрения, независимо от логики или настроения, достойна уважения, нет места правилам. Этот мир рождает монстров, и мертвые негодяи могли быть щупальцами многоголовой гидры. Что, если за дверью притаилась опасность? Праведный гнев дал ему пьянящее чувство неуязвимости. Ударом ноги Джим распахнул I дверь спальни и ворвался внутрь с оружием наперевес, готовый встретить смерть и, если надо, смести все на своем пути. Женщина и девочка лежали на грязных одеялах, прикрученные клейкой лентой к спинкам кроватей. Эта же лента залепляла их рты. Женщина, стройная блондинка лет тридцати, поражала своей красотой, но дочь, десятилетняя Сузи, была еще красивее — поистине небесное создание с лучистыми зелеными глазами, тонкими чертами лица и бархатисто-нежной кожей. Воплощение невинности, добродетели и чистоты — ангел, брошенный в клоаку. При виде связанного ребенка в нем с новой силой вспыхнула ярость. По лицу девочки текли слезы, она глухо всхлипывала под лентой, которой были заклеены ее губы. Женщина не плакала, но в ее глазах застыли мука и страх. Ответственность за судьбу дочери и ярость, похожая на ту, которую испытывал Джим, удерживали ее от истерики. Он увидел ужас на их лицах: жертвы приняли его за одного из похитителей. Джим прислонил дробовик к встроенному в стену столику и сказал: — Не бойтесь, вам ничего не угрожает. Я застрелил обоих бандитов. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами, она ему не верила. Джим не судил ее за это недоверие. Она была напугана его голосом, хриплым и яростным, то переходящим в шепот, то срывающимся на крик. Он оглянулся в поисках острого предмета, с помощью которого можно было бы перерезать путы пленников, и увидел рулон клейкой ленты и ножницы на столике. Протянул руку за ножницами и обратил внимание на сложенные стопкой видеокассеты. Поднял глаза и вдруг осознал, что все стены и потолок оклеены фотографиями из порнографических журналов. И везде дети. Взрослые мужчины и дети. Ни одной взрослой женщины, только девочки и мальчики, такие же юные, как Сузи, а некоторые еще моложе, истязаемые насильниками, лица которых всегда были скрыты. Убитые им негодяи охотились не за матерью. Изнасиловав ее в назидание дочери, они бы бросили тело женщины с перерезанным горлом или размозженной головой в пустыне на съедение ящерицам, муравьям и стервятникам. Куда более страшная участь ожидала ребенка. Жизнь девочки могла превратиться в ад, который длился бы несколько месяцев или даже лет. Его захлестывал дикий, бешеный гнев. Внутри, точно черная нефть, готовая вырваться из скважины, расползалась жуткая липкая тьма. Джим задыхался от ярости: ребенок видел эти фотографии, лежал на этих грязных отвратительных простынях. Появилось безумное желание схватить ружье и всадить еще несколько зарядов в трупы подонков. Они ее не тронули. Слава Богу, они не успели. Но эта комната! Что чувствовала девочка, находясь в этой комнате! Он содрогался от ярости. Потом заметил, что женщина тоже дрожит, и понял: она его боится. Ее испуг стал еще сильнее, чем в тот момент, когда он вошел в спальню. Хорошо, что рядом нет зеркала. Увидеть свое лицо, искаженное приступом безумия, — зрелище не из приятных. Джим с трудом взял себя в руки. — Не бойтесь, — заговорил он, стремясь успокоить женщину. — Я хочу вам помочь. Охваченный желанием скорее освободить пленниц, Джим опустился на колени перед кроватью и перерезал ленту, стягивающую ноги и руки женщины. Потом склонился над Сузи. Путы на руках упали, девочка, защищаясь, прикрыла лицо. Джим освободил ей ноги, а она вдруг пнула его в грудь и забилась в угол кровати, скорчившись на серых засаленных простынях. Он не пытался ее удержать, наоборот, попятился. Лиза содрала с губ ленту и вытащила изо рта кляп. Она задыхалась, давилась кашлем. Хриплым голосом, в котором неистовое волнение странным образом соединялось с покорностью судьбе, сказала: — Мой муж остался в машине… Он там… Джим взглянул на нее, но ничего не сказал: не мог этого сделать в присутствии ребенка. Женщина прочитала ответ в его глазах, и ее красивое лицо исказилось от горя. Но мысль о дочери заставила ее подавить готовые сорваться рыдания. — Боже мой, — с мукой сказала она, думая о свалившемся на нее горе. — Вы сможете нести Сузи? Она не расслышала, занятая мыслями о смерти мужа. — Сможете взять на руки Сузи? — повторил свой вопрос Джим. Женщина растерянно захлопала ресницами. — Откуда вы знаете, как ее зовут? — Ваш муж мне сказал… — Но… — Перед тем… — резко сказал Джим, не докончив фразу: «Перед тем, как умереть». — Вы сможете взять ее на руки? — Да, наверное, я думаю, да. Джим мог вынести девочку сам, но что-то говорило ему: он не должен прикасаться к ее хрупкому телу. Пусть это нелогично, но то, что сделали с ней эти двое, и то, что не помешай он им, они могли бы сделать, лежало на совести 55 всех мужчин. В страданиях Сузи была частица и его вины. Только отец имел право взять на руки бедного ребенка. Но отец был мертв. Джим поднялся с коленей, отступил от кровати. Спиной открыл дверь и вышел из спальни. Девочка билась в истерике, уворачиваясь от рук матери. Она была в шоке и не узнавала родных любящих рук. Потом резко умолкла и бросилась в объятия матери. Лиза, прижав голову дочери к груди, гладила девочку по волосам, шептала что-то ласковое, успокаивающее. Кондиционер не работал с тех пор, как убийцы вышли из фургона и направились к перевернутому «Камаро». В спальне сгущалась духота. Пахло прокисшим пивом и потом. От черных пятен на ковре поднимался отвратительный запах высохшей крови. — Пойдемте отсюда. Лиза казалась хрупкой, но она легко, как перышко, подняла дочь и шагнула к двери. — Постарайтесь, чтобы она не смотрела влево. Там у двери лежит один из них. Зрелище не из приятных. Женщина кивнула, благодарная за предупреждение. Джим хотел последовать за ней, но взгляд его упал на полки шкафчика, заставленные видеокассетами. Длинная вереница белых этикеток с названиями самодельных фильмов. Одни имена: «Синди», «Тифани», «Джой», «Сисси», «Томми», «Кейвин». На двух кассетах чернела надпись «Салли», на трех — «Венди». Имена. Много имен. Более тридцати. Джим знал, что перед ним, и все-таки верить в это не хотелось. Память о преступлениях. Садизм. Жертвы. В нем клокотала черная горькая ярость. Лиза вышла наружу, и Джим присоединился к ней. Над их головами висело ослепительное солнце пустыни.
Глава 2
Лиза и Сузи, освещенные золотыми лучами солнца, стояли возле фургона на обочине шоссе. Девочка прильнула к матери, спрятав голову у нее на груди. Крохотные блики света струились по их лицам, переливаясь и искрясь в соломенных кудрях. Как лампа в витрине ювелира придает магический блеск разложенным на бархате изумрудам, так солнечный свет подчеркивал красоту огромных лучистых глаз и удивительную прозрачность кожи. Глядя на светлые лица женщины и ребенка, трудно было поверить, что в их жизнь вторглась тьма, непроглядная и черная, как ночь, которая спускается в мир после наступления сумерек. Их присутствие было невыносимо. Они напоминали о человеке, чью смерть не удалось предотвратить. Сердце сжималось от горя. Джим страдал от невыносимой боли, сильной и мучительной, какую причиняет настоящая физическая рана. Ключом из связки, найденной в кабине фургона, Джим открыл замок, опустил железную скобу и снял мотоцикл. Оглядел потертый «харлей-дэвидсон». Специальная модель для езды по бездорожью: карбюратор на 1340 кубических сантиметров, V-образный двигатель, пятискоростная коробка передач, соединенная с задним колесом приводным ремнем, а не цепью. Ему приходилось ездить на мотоциклах помощнее и покрасивее, но он остался доволен результатами осмотра. «Харлей» — хорошая, надежная машина, а для его целей нужна не красота, а скорость и простота в обращении. Увидев, что Джим снимает и осматривает мотоцикл, Лиза встревожилась. — Здесь нет места для троих. — Да, конечно, только для меня. — Пожалуйста, не оставляйте нас одних! — Вас заберут прежде, чем я уеду. Вдали показалась машина. Трое пассажиров прильнули к окнам. Водитель прибавил газу, и автомобиль скрылся из виду. — Все едут мимо, — горестно заметила Лиза. — Кто-нибудь остановится. Я подожду. После короткого молчания она сказала: — Я боюсь ехать с незнакомыми людьми. — Мы увидим, кто остановится. Джим заметил, что женщина протестующе качнула головой, и поспешил ее успокоить: — Я узнаю, можно ли им доверять. — Я не… — Голос Лизы сорвался на крик; она замолчала, приходя в себя. — Я никому не верю. — Хороших людей много. Гораздо больше, чем плохих. Во всяком случае, когда кто-нибудь остановится, я сразу узнаю, чего он стоит. — Но как? Как вы это сделаете? — Я увижу. Большего Джим сказать не мог, как, впрочем, не мог объяснить и то, как узнал, что в этой Богом забытой пустыне нуждаются в его помощи. Он оседлал мотоцикл, нажал кнопку стартера. «Харлей» послушно завелся. Джим погонял его вхолостую и заглушил двигатель. — Кто вы? — спросила женщина. — К сожалению, не могу вам это сказать. — Но почему? — Газетчики приложат все усилия, чтобы сделать из этого случая сенсацию. — И что? — Мои фотографии появятся на каждом углу, а я не люблю лишнего шума. Джим снял поясной ремень и привязал дробовик к багажнику мотоцикла. Лиза сказала дрожащим от волнения голосом: — Мы вам стольким обязаны. Ее голос разрывал сердце. Он посмотрел на нее, потом на Сузи. Девочка тесно прижалась к матери, обхватив ее тонкими руками. Она не слушала, о чем разговаривали взрослые. Смотрела вдаль пустым, отсутствующим взглядом, думая о чем-то своем. Джим увидел ее руку, прокушенную до крови, и перевел взгляд на мотоцикл. — Вы ничем мне не обязаны. — Но вы спасли… — Не всех, — быстро прервал ее Джим. — Не всех, кого должен был спасти. Их внимание привлек приглушенный звук мотора. Они повернули головы и стали следить, как из сияющего миража выплывает и приближается автомобиль. Заскрежетали тормоза, и в двух шагах от них, сверкая хромированной сталью и красными языками пламени, нарисованными на покрышках, остановился черный «Трэнз эм». Широкие выхлопные трубы, ослепительные, как ртуть, переливались в лучах свирепого солнца. Из машины вышел водитель — темноволосый парень лет тридцати, одетый в джинсы и белую майку с закатанными рукавами. Его густые волосы были стянуты на затылке в пучок. На загорелых бицепсах синели татуировки. — Что у вас стряслось? — спросил он издали, кивая на фургон. Джим окинул его долгим взглядом. — Этих людей нужно подбросить до ближайшего населенного пункта. Незнакомец подошел ближе. В это время открылась дверь, и из машины выбрался пассажир — молодая женщина в широких шортах и короткой белой майке. Непослушные крашенные в белый цвет волосы выбивались из-под повязки, обрамляя крепкое скуластое лицо. В ушах покачивались крупные серебряные серьги, на шее висели три нитки красных бусин, на руках она носила два браслета, часы и четыре кольца. В широком вырезе майки можно было увидеть красно-синюю бабочку, вытатуированную поверх левой груди. — Поломка? — спросила женщина. — У фургона спустило колесо, — ответил Джим. — Меня зовут Фрэнк, — представился незнакомец. — А ее Верна. Он жевал резинку, и его челюсти равномерно двигались. — Я помогу поменять колесо. Джим отрицательно качнул головой. — Мы все равно не можем ехать. В машине убитый человек. — Труп? — Да, и там еще один. — Джим махнул рукой в сторону. Глаза Верны округлились. Фрэнк перестал жевать и посмотрел на дробовик на багажнике «харлея», потом поднял глаза на Джима. — Ваша работа? — Они похитили эту женщину и ребенка. Фрэнк окинул его испытующим взглядом и обернулся к Лизе. — Это правда? Она кивнула. — Иисус Спаситель, — промолвила Верна. Джим взглянул на Сузи и подумал, что она совершенно не слышит, о чем говорят взрослые. Девочка, казалось, пребывала в ином, далеком мире. Ей потребуется профессиональная помощь врача, чтобы вернуться к реальности. Безучастность Сузи странным образом передалась Джиму. Внутренне он все больше погружался в черную пустоту. Еще немного, и невидимая тьма окончательно его поглотит. Он повернулся к Фрэнку: — Эти двое убили ее мужа… отца девочки. Его тело в машине в двух милях к западу отсюда. — Черт, — выругался Фрэнк. — Дело дрянь. Верна прижалась к плечу своего спутника, было заметно, как она дрожит. — Нужно поскорее довезти их до ближайшего города. Сразу найдите врача и свяжитесь с полицией. Пускай едут сюда. — Сделаем, — кивнул Фрэнк. Но Лиза ухватила Джима за руку. — Постойте… Я не могу. — И, когда он обернулся, горячо зашептала: — Они похожи… Я боюсь… Он положил ей руку на плечо и, глядя прямо в глаза, сказал: — Внешность часто обманчива. Фрэнк и Верна хорошие люди. Вы мне доверяете? — Да, сейчас конечно. — Тогда поверьте мне. На них можно положиться. — Но откуда вы знаете? — Голос Лизы опять сорвался. — Знаю, — спокойно и твердо ответил Джим. Женщина посмотрела ему в глаза и наконец кивнула: — Хорошо. Дальше все было просто. Сузи, покорную и безучастную, словно она находилась под действием наркотиков, перенесли в «Трэнз эм». Мать последовала за ней. Обе несчастные забились в угол на заднем сиденье и прижались друг к другу. Фрэнк сел за руль. Верна забралась в машину, достала из холодильника банку пепси и протянула Джиму. Он с благодарностью принял подарок, захлопнул за ней дверь и нагнулся к окну, чтобы попрощаться. — Полицию ждать не станете? — Нет. — Вам-то бояться нечего. Вели вы себя геройски. — Знаю, но мне пора. Фрэнк кивнул: — Дело ваше, конечно. Хотите, скажем копам, что у вас лысина, черные глаза и уехали вы с попуткой на восток? — Не надо. Скажите все как есть. — Дело ваше, — повторил Фрэнк. — Не волнуйтесь, мы о них позаботимся, — прибавила Верна. — Я знаю, что на вас можно положиться. Джим пил пепси, провожая взглядом удаляющийся «Трэнз эм». Вскоре черная машина скрылась из виду. Джим сел за руль «харлея», нажал стартер, подвернул газ и отпустил сцепление. Пересек шоссе, съехал с обочины и направился к югу в глубь огромной, неприветливой пустыни. Сначала он ехал со скоростью свыше семидесяти миль в час, хотя мотоцикл не имел ветрового щитка. Жесткий горячий ветер бил в лицо. Глаза то и дело наполнялись слезами. Странно, но Джим не обращал внимания на жару. Просто не чувствовал ее. Одежда взмокла от пота, но ему было прохладно. Он потерял счет времени. Прошло не менее часа, прежде чем Джим осознал, что равнина сменилась голыми холмами ржавого цвета. Он сбросил скорость. Все чаще приходилось маневрировать между торчащими из земли камнями, но «харлей» как нельзя лучше подходил для подобной езды. Благодаря более высокой, по сравнению с обычными моделями, подвеске, специальным рессорам, двойным дисковым передним тормозам Джим без труда справлялся со всеми сюрпризами, какие подкидывала ему пустыня. Всякий раз, когда на пути вырастало очередное препятствие, он, как заправский гонщик, бросал мотоцикл в крутой вираж и легко уходил от, казалось бы, неминуемого столкновения. Ощущение прохлады исчезло. Джим дрожал от холода. Казалось, солнце стало меркнуть. Но он знал, что до вечера еще далеко: это тьма смыкается над ним, поглощая изнутри его сознание Джим заглушил мотор и остановился в тени высокой скалы. Время, ветры, солнце и редкие, но неистовые ливни придали ей жуткую форму руин древнего замка, похороненного в бескрайних песках пустыни Мохавк. Он поставил мотоцикл. Опустился на темную землю. Лег на бок и сжался в комок. Сложил руки на груди. Он едва не опоздал. Неистовые волны отчаяния нахлынули, захлестнули сознание, унося в черную бездну последние обрывки мыслей.Глава 3
Солнце клонилось к земле. Джим снова мчался по красновато-серой равнине, где изредка встречались заросли колючих мескитовых деревьев. Ветер, пахнущий железом и солью, поднимал в воздух мертвые колючки перекати-поля и гнал по песку вслед за «харлеем». Он смутно помнил, как по дороге сломал кактус и жадно сосал сок из сердцевины растения. Во рту опять пересохло. Отчаянно хотелось пить. Джим выехал на пригорок и слегка сбросил газ. Милях в двух впереди лежал маленький городок, вытянувшийся вдоль автострады. После стольких часов одиночества в пустыне, физического и духовного, зелень деревьев казалась неестественно яркой. Все это было похоже на сон, но он прибавил скорость и устремился вниз по склону. Быстро темнело. На горизонте догорало багровое зарево. Внезапно его внимание привлек черный силуэт церкви с высоким шпилем. Джим смертельно устал и не пил уже несколько часов. Он понимал, что у него начинается бред, но без колебаний поехал в сторону церкви. Хотелось побыть одному в тишине и покое храма. Это желание пересилило жажду. В полумиле от города Джим свернул к руслу сухого ручья. Спустился на дно, положил мотоцикл набок и быстро засыпал рыхлым песком. Он решил, что без особого труда доберется до цели пешком, но не прошел и четверти пути, как понял, что опрометчиво переоценил свои силы. В глазах поплыло. Сухим шершавым языком, который прилипал к воспаленному небу, он поминутно облизывал горячие губы. Горло болело, как при ангине. Мышцы ног сводило судорогами, каждый шаг давался с таким трудом, будто на подошвах налипли бетонные глыбы. Потом наступил провал в памяти. Джим видел, что поднимается по кирпичным ступенькам белого крыльца, но совершенно не помнил, как преодолел последний отрезок пути. Над двустворчатой дверью церкви висела медная табличка: «Святая Дева Пустыни». Когда-то он был католиком. Часть его души до сих пор принадлежала католичеству. Позднее он становился методистом, иудаистом, буддистом, баптистом, мусульманином, индуистом, даосистом. Вера проходила, но оставались прочные невидимые нити, связывающие его с каждой из этих религий. Дверь, казалось, весила больше, чем огромная глыба, закрывающая Гроб Господень, но он все-таки сумел открыть ее и вошел. Под сводами церкви было не намного прохладнее, чем на улице. Джим вдохнул аромат благовоний, сладковатый запах горящих свечей. Сразу нахлынули воспоминания. Стало хорошо и покойно. Будто он вернулся домой после долгих странствий. Он приблизился к купели со святой водой, обмакнул в нее два пальца и перекрестился. Потом погрузил горячие ладони в прохладную влагу. Зачерпнул, отпил из пригоршни и содрогнулся от отвращения: у воды был соленый вкус крови. Джим с ужасом уставился на белую мраморную купель, уверенный, что она до краев наполнена кровью. Но увидел только свое размытое отражение в прозрачной мерцающей воде. Он замер в растерянности. Потом внезапно понял, в чем дело. Облизал воспаленные, потрескавшиеся губы. Это его кровь. Он испугался вкуса собственной крови. Должно быть, он снова потерял сознание. Очнулся на коленях перед оградой гробницы. Губы беззвучно шевелились, шептали молитву. За окнами гудел горячий ночной ветер, унесший последние лохмотья бледных сумерек. В церкви царил полумрак: горела тусклая лампада у притвора, колебались языки пламени нескольких свечей в красных стеклянных подсвечниках, маленький фонарь освещал распятие. Джим взглянул вверх и на месте нарисованной головы Христа увидел свое лицо. До боли зажмурил глаза и снова открыл: на него смотрел мужчина, которого он нашел в машине умирающим. Затем святой лик приобрел черты лица матери Джима, его отца, девочки Сузи, Лизы — и стал черным овалом, каким было лицо убийцы в полумраке фургона в момент, когда он обернулся и выстрелил. Убийца занял место Христа. Он открыл глаза, посмотрел на Джима и улыбнулся. Рывком освободил ноги — в одной остался торчать гвоздь, в другой зияла черная дыра. Оторвал от креста руки и, взмахнув пронзенными ладонями, закачался в воздухе. Плавно опустился на пол и, не сводя с него глаз, поплыл над алтарем к ограде гробницы. Неподвластный земному притяжению, он медленно приближался к Джиму. Сердце бешено забилось. Джим пытался сохранить присутствие духа, убеждая себя, что это галлюцинация, что призрак убийцы — лишь плод воспаленного сознания. Убийца протянул руку и дотронулся до его лица. Ладонь была мягкой, как гниющее мясо, и холодной, точно поверхность стального баллона с жидким газом. Джим задрожал и потерял сознание. Так евангелист, находящийся в религиозном трансе, падает от целительного прикосновения проповедника. Перед глазами сомкнулась тьма. Он летел в черную бездонную пропасть.Глава 4
Белые стены Узкая кровать. Простая скромная мебель. За окном ночь. Он приходил в себя и снова впадал в беспамятство. Всякий раз, когда к нему ненадолго возвращалось сознание, Джим видел склонившегося над кроватью лысоватого, полного человека лет пятидесяти с густыми бровями и расплющенным носом. Незнакомец бережно протирал ему лицо холодной водой, иногда прикладывал ко лбу ледяную мокрую тряпку. Приподняв и придерживая голову Джима, он влил ему в рот через соломинку несколько сладковатых капель. Джиму не хотелось пить, но в глазах незнакомца светились участие и доброта, и он не стал противиться. К тому же для этого у него не было ни голоса, ни сил. Горло болело, точно он проглотил керосин и горящую спичку, а тело так ослабло, что Джим не мог оторвать руки от простыни. — Отдыхайте, — сказал незнакомец. — Вы перенесли сильный солнечный удар. Ветровой удар — вот самое худшее, подумал Джим, вспоминая езду на «харлее» без плексигласового щитка.* * *
В окно просочился рассвет. Начинался новый день. Щипало глаза. Лицо еще сильнее распухло. Джим снова увидел незнакомца. Тот был одет в черную рясу священника. — Святой отец, — произнес он хриплым шепотом, не узнавая собственного голоса. — Я нашел вас в церкви. Вы были без сознания. — «Святая Дева Пустыни». Священник приподнял голову Джима и поднес к его губам стакан воды. — Правильно, сын мой. Меня зовут отец Гиэри, Лео Гиэри. На этот раз Джим смог самостоятельно проглотить сладковатую жидкость. — Как вы оказались в пустыне? — спросил священник. — Странствовал. — С какой целью? Джим не ответил. — Как вас зовут? — Джим. — У вас нет документов. — Да, на этот раз я их не взял. — Что вы имеете в виду? Джим молчал. Священник сказал: — Я нашел в ваших карманах три тысячи долларов. — Возьмите сколько вам нужно. Священник пристально посмотрел на Джима, потом улыбнулся. — Будьте осторожнее, когда предлагаете деньги. Церковь у нас бедная, и нам нужно все, что мы можем достать.* * *
Джим открыл глаза. Священника не было. Тишина во всем доме. На улице завывал ветер. Под его порывами скрипели балки потолка, в окнах дрожали стекла. Вернулся священник, и Джим обратился к нему: — Могу я задать вам вопрос, святой отец? — Слушаю, сын мой. Голосом хриплым, но уже более знакомым он спросил: — Если Господь существует, почему он позволяет страдать? — Вам хуже? — обеспокоенно спросил отец Гиэри. — Нет, я чувствую себя лучше. Просто хочу знать… почему Бог позволяет людям страдать? — Всевышний испытывает нас, — ответил священник. — Но зачем нас испытывать? — Чтобы понять, достойны ли мы. — Достойны чего? — Достойны спасения, вечной жизни на небесах. — Почему же Господь не сделал нас достойными? — Всевышний создал нас совершенными. Но человек впал в грех и был лишен Господней милости. — Но как человек мог согрешить, если был совершенным? — У людей было право выбора. — Мне этого не понять. Отец Гиэри нахмурился. — Я не богослов, искушенный в таких спорах, а обычный священник. Это часть таинства — вот все, что я могу вам сказать. Мы лишились милости Господней и должны снова ее заработать. — Мне нужно в туалет, — сказал Джим. — Пожалуйста. — Только на этот раз обойдусь без судна. Попытаюсь дойти с вашей помощью. — Думаю, сможете. Слава Богу, дела у вас идут на поправку. — Право выбора, — сказал Джим. Священник нахмурился.* * *
К вечеру у него спала температура. С тех пор как Джим оказался в церкви, прошли целые сутки. Спазмы мускулов прекратились, перестало ломить суставы, голова прояснилась, и грудь уже не болела при глубоком вздохе. Лишь время от времени острыми вспышками давала о себе знать боль в лице. Джим разговаривал, стараясь, чтобы мышцы лица как можно меньше двигались. Стоило открыть рот, как трещины на губах и в уголках рта лопались и кровоточили, несмотря на то что отец Гиэри несколько раз в день смазывал их кремом. Теперь при желании Джим мог сидеть, опершись о спинку кровати, Я передвигаться по комнате с небольшой помощью священника. К нему вернулся аппетит. Отец Гиэри дал ему куриного бульона, а потом принес ванильное мороженое. Джим ел очень медленно и осторожно, ни на секунду не забывая о разбитых губах. Не хотел испортить пищу вкусом собственной крови. — Я бы еще чего-нибудь съел, — сказал он, опустошив тарелку. — Давайте не будем спешить. Посмотрим, как вы справитесь с этим. — Я нормально себя чувствую. У меня был только солнечный удар и обезвоживание организма. — От солнечных ударов умирают. Вам надо отдохнуть, сын мой. Однако спустя некоторое время священник смягчился и принес вторую порцию мороженого. Джим спросил его сквозь зубы, почти не разжимая замороженных губ: — Почему люди убивают? Я не говорю о полицейских, солдатах или тех, кто убивает, чтобы спасти свою жизнь. Откуда берутся убийцы? Священник, устроившийся возле кровати в кресле-качалке с высокой прямой спинкой, посмотрел на него, приподняв правую бровь. — Любопытный вопрос. — Может быть. Вы знаете ответ? Некоторое время оба молчали. Джим медленно ел мороженое, а плотный коренастый священник покачивался в кресле. Комната погружалась в сумерки. — Убийства, катастрофы, болезни, старость, — нарушил молчание Джим. — Почему Бог сделал нас смертными? Почему мы должны умирать? — Смерть — не конец. По крайней мере, я в это верю. Смерть — только переход в иной мир, поезд, который доставляет нас к высшей награде. — Рай? Священник поколебался: — Не только. Джим проспал часа два, а когда проснулся, то увидел отца Гиэри, который стоял возле кровати и пристально его разглядывал. — Вы разговаривали во сне. Джим приподнялся и сел на кровати. — Правда? И что я говорил? — «Враг рядом». — И это все? — Вы еще сказали: «Он все ближе. Он нас всех убьет». Мурашки пробежали у него по коже. Хотя сами по себе эти слова ничего не значили и Джим не понял их смысла, он почувствовал, что его подсознание слишком хорошо знает, о чем он говорил во сне. — Наверное, что-нибудь страшное приснилось. Не стоит волноваться, — ответил Джим. Но в три часа ночи он внезапно проснулся, сел на кровати и услышал свой собственный голос, повторяющий те же слова: «Он нас всех убьет». В комнате было темно. Джим нащупал ночник и зажег свет. Никого. За окном смыкалась кромешная тьма. Его охватило странное, но цепкое чувство, что совсем рядом прячется жуткое и безжалостное чудовище, с каким не приходилось встречаться ни одному из смертных. Трепеща от ужаса, он встал с кровати и некоторое время стоял в нерешительности, кутаясь в не по росту короткую, но чересчур широкую пижаму священника. Выключил свет и босиком подошел к окну, потом к другому. Комната находилась на втором этаже. Ночь, глубокая и спокойная, хранила молчание. Если кто-то и скрывался поблизости несколько минут назад, то теперь его уже нет.Глава 5
На следующее утро Джим в чистой одежде, выстиранной отцом Гиэри, вышел в гостиную. Там, уютно устроившись в кресле, положив ноги на подушечку, он и провел почти весь день. Читал журналы или дремал, пока священник ходил по делам. Лицо, обожженное солнцем и ветром, превратилось в неподвижную маску. Вечером они вместе принялись готовить ужин. Отец Гиэри, склонившись над раковиной, мыл зелень и помидоры для салата, а Джим накрыл на стол, откупорил бутылку дешевого сухого вина и стал резать консервированные грибы, высыпая их в стоящую на плите кастрюлю для спагетти. Словно по взаимному уговору, оба молчали, занимаясь каждый своим делом. Джим размышлял о странных отношениях, которые установились у него со священником. Прошедшие два дня казались сном. Он не только нашел приют в маленьком городке, окруженном пустыней, но и обрел духовное пристанище, убежище от жестокой реальности, попал в таинственную обитель Сумеречного Света. Священник перестал задавать вопросы. При подобных обстоятельствах от него следовало ожидать куда большей настойчивости. Джим догадывался, что уход за ранами подозрительных незнакомцев выходит за рамки обычного гостеприимства святого отца. Не понимая, чем вызвано особое расположение отца Гиэри, он был благодарен священнику. Внезапно Джим выпрямился, опустил нож, которым резал грибы и произнес: — Линия жизни. Отец Гиэри повернулся к нему, сжимая в руке пучок мокрого сельдерея. — Простите, что вы сказали? Внутри поднималась ледяная волна. Джим чуть не уронил нож в кастрюлю с соусом и положил его на стол. — Джим, что случилось? Содрогаясь от холода, он повернулся к священнику: — Мне нужно в аэропорт. — В аэропорт? — Прямо сейчас. Круглое лицо священника выразило сильнейшую озадаченность. Он посмотрел на Джима, наморщив загорелый, с большими залысинами лоб. — Но здесь нет аэропорта. — Как далеко до ближайшего? — Ну… часа два на машине. До самого Лас-Вегаса. — Отвезите меня туда. — Что, прямо сейчас? — Да, немедленно. — Но, сын мой… — Я должен быть в Бостоне. — Но вам нужно оправиться от болезни… — Мне гораздо лучше. — Ваше лицо… — Немного болит, и вид не из лучших, но это не смертельно. Святой отец, я должен попасть в Бостон. — Но зачем? Джим поколебался, но потом решился приоткрыть часть правды: — Если я не успею в Бостон, погибнет человек. Ни в чем не повинный человек. — Кто? Кто этот человек? Джим облизал пересохшие губы: — Не знаю. — Как не знаете? — Буду знать, когда окажусь на месте. Отец Гиэри окинул его долгим оценивающим взглядом и наконец произнес: — Вы самый странный человек из всех, кого я знаю. Джим кивнул: — Я самый странный человек из всех, кого я знаю. Они вышли из церкви и сели в старую «Тойоту» священника. На улице было еще светло — дни в августе длинные, — хотя солнце пряталось за тучами, которые казались пропитанными свежей кровью. Не прошло и получаса, как молнии раскололи сумрачное небо и затанцевали пьяный танец на потемневшем горизонте. Вспышки следовали одна за другой, озаряя сухой прозрачный воздух пустыни. Джим никогда не видел таких ярких молний. Через несколько минут темнота сгустилась, тучи набухли, опустились, и наконец разверзлись хляби небесные — серебряные водопады с шумом обрушились на землю. Такого ливня не бывало со времени всемирного потопа, когда старик Ной поспешно сколачивал свой ковчег. — Летом такие дожди не часто увидишь, — отец Гиэри включил стеклоочистители. — Нам нельзя задерживаться, — с тревогой сказал Джим. — Доедем, все будет нормально, — успокоил его священник. — Из Лас-Вегаса на восток мало ночных рейсов. В основном все летят днем. Мне нельзя опаздывать. Придется ждать до утра, а я должен быть в Бостоне завтра. Раскаленный песок мгновенно впитывал воду. Но в некоторых местах, где были скалы или земля затвердела как камень от палящих лучей солнца, тысячи сверкающих ручейков устремились вниз по склонам. Ручейки превращались в потоки, потоки сливались в бурные реки, наполняя сухие русла, и в мутных водоворотах, в клочьях грязной белой пены мчались пучки вырванной с корнем травы, сухие колючки перекати-поля, ветви деревьев и комья глины. Отец Гиэри держал в машине две любимые кассеты: записи старых рок-н-роллов и лучшие песни Элтона Джона. Он поставил Элтона. Зазвучали «Похороны друга», «Даниэль», «Бенни и истребители». Струи дождя барабанили по крыше, омывая ветровое стекло. Они ехали сквозь ночь, плыли по волнам грустной нежной мелодии. На черном асфальте сверкали и переливались серебряные лужи. Для Джима это было жуткое зрелище: водные миражи, которые он видел на автостраде несколько дней назад, вдруг стали реальностью. Напряжение в нем росло с каждой минутой Бостон звал его, но та опасность еще слишком далека. Джим с тревогой смотрел на мокрую блестящую поверхность шоссе, черную и коварную, как ничто на свете. Пожалуй, одно только человеческое сердце не уступит и коварстве этой ночной дороге в пустыне. Священник сгорбился за рулем, пристально вглядываясь в черноту ночи и негромко подпевая Элтону. Они долго молчали, потом Джим спросил: — Святой отец, в вашем городе нет врача? — Есть. — Тогда почему вы его не вызвали? — Я сходил к нему и взял для вас рецепт. — Я видел пузырек с лекарством. Его выписали вам три месяца назад. — Ну… мне приходилось иметь дело с солнечными ударами. Я знаю, что нужно делать в таких случаях. — Мне показалось, сначала вы были здорово озабочены. Несколько миль они проехали в молчании. Потом священник сказал: — Мне неизвестно, кто вы, откуда пришли и зачем вам нужно в Бостон. Но я вижу: вы в беде, вам требуется помощь. И я знаю… по крайней мере, думаю, что в сердце своем вы человек хороший. Словом, мне казалось, что любой на вашем месте постарался бы не привлекать к себе лишнего внимания. — Большое спасибо, именно этого мне и хотелось. Они проехали еще пару миль. Дождь настолько усилился, что стеклоочистители едва справлялись с работой и из-за потоков воды стало почти не видно дорогу. Отец Гиэри сбросил скорость и посмотрел на Джима: — Вы спасли женщину с ребенком. Джим весь напрягся, но ничего не сказал. — По телевизору передавали описание вашей внешности. Священник замолчал, потом возобновил разговор: — Я не верю в божественные чудеса. Слова отца Гиэри буквально ошеломили Джима. Священник выключил магнитофон. Стало слышно, как шуршат шины по мокрому асфальту и, точно метроном, постукивают стеклоочистители. — Я верю, что все библейские чудеса произошли в действительности, но воспринимаю это как реальную историю, — снова заговорил отец Гиэри. — Но я не верю, что на прошлой неделе статуя Святой Девы в церкви Цинциннати или Пеории заплакала настоящими слезами. Эти слезы видели только двое подростков и женщина из местного прихода. Она подметала в храме. Никогда не поверю, что на стену одного гаража в Тинеке упала тень Христа и ее желтый свет возвестил о грядущем Апокалипсисе. Пути Господни неисповедимы, но зачем Всевышнему освещать стены чьих-то гаражей? Священник умолк. Джим тоже молчал, ожидая продолжения. — Когда я нашел вас в церкви у алтарной ограды, — начал отец Гиэри, с трудом подбирая слова; в голосе его появился благоговейный ужас, — то увидел знак стигмы Христа. В ваших ладонях были дыры от гвоздей… Джим взглянул на свои руки — никаких следов от ран. — …лоб весь исцарапан и исколот, как от шипов тернового венца. На лицо, обожженное солнцем и ветром, до сих пор было страшно взглянуть, поэтому искать в зеркале заднего обзора раны, о которых говорил священник, не имело смысла. — Я был… испуган, потрясен до глубины души… Они въехали на небольшой бетонный мост. Большую часть года русло реки оставалось сухим, но сейчас вода вышла из берегов и поднялась выше уровня дорожной насыпи. Священник сбавил скорость. Волны, вспыхнув отраженным светом фар, как большие белые крылья, раздались в стороны и сомкнулись за задним бампером машины. — Мне раньше не доводилось видеть стигму, — продолжил Гиэри, кода они миновали опасный участок, — хотя я немало слышал об этом явлении. Я расстегнул вашу рубашку… и увидел воспаленный шрам… это могла быть рана от копья. За последние месяцы его жизни произошло столько невероятного, что Джим утратил способность удивляться. Однако то, что поведал ему священник, внушало благоговейный страх. От этого рассказа мороз пробегал по коже. Голос священника понизился почти до шепота: — Когда я перенес вас в постель, раны исчезли. Но я-то знал, что мне это вовсе не почудилось. Я видел их, они были. Я понял: вы отмечены особым знаком. Молнии давно погасли. Черное небо потеряло свое яркое электрическое ожерелье. Дождь стихал. Отец Гиэри уменьшил скорость стеклоочистителей и надавил на педаль акселератора старенькой «Тойоты». Какое-то время оба, казалось, не знали что сказать. Наконец священник откашлялся и спросил: — С вами это уже случалось? Я имею в виду стигму. — Нет. Я ничего такогоне замечал, хотя, конечно, и в этот раз, если бы не вы, я бы ни о чем не подозревал. — Вы не заметили ран на ладонях до того, как подошли к алтарю? — Нет. — Но это не единственный необычный случай, который произошел с вами за последнее время? Во всем этом было мало смешного, но Джим рассмеялся, скорее из чувства черного юмора: — Это уж точно, не единственный. — Не хотите рассказывать? Джим задумался, прежде чем ответить: — Хочу, но не могу этого сделать. — Я священник и умею хранить тайну исповеди. Даже полиция не в силах мне приказать. — Что вы, святой отец, я верю вам как себе. И потом, я не беспокоюсь насчет полиции. — Тогда почему? — Если я расскажу вам… придет Враг. — Джим нахмурился, услышав, как его собственный голос произнес эти слова. Они, казалось, шли через него, но ему не принадлежали. — Какой враг? Джим разглядывал бесконечные, черные, теряющиеся в кромешной тьме очертания пустыни. — Не знаю. — Враг, о котором вы говорили во сне прошлой ночью? — Может быть. — Вы сказали, он всех нас убьет. — Да. — Джиму этот разговор был интересен даже больше, чем священнику; он не знал, какое слово сорвется с его уст, до тех пор пока не услышал собственный голос. — Если он узнает, что я спасаю людей, особых людей, то придет, чтобы остановить меня. Священник бросил на Джима быстрый взгляд: — Особые люди? Что вы этим хотите сказать? — Не знаю. — Если вы доверитесь мне, о ваших словах не узнает ни одна живая душа. Кто бы он ни был, этот враг, как он узнает? — Не знаю. — Не знаете? — Да. Священник тяжело вздохнул. — Святой отец, я не веду никакой игры и не стараюсь вас запутать. Джим поправил ремни безопасности и попытался устроиться в кресле поудобнее. Но возникшее ощущение неудобства объяснялось душевным, а не физическим состоянием. От него не так легко было избавиться. — Вам знаком термин «автоматическое письмо»? Гиэри ответил, не отрывая взгляда от ветрового стекла: — Об этом болтают медиумы. Дешевый трюк, рассчитанный на суеверных. Медиум впадает в транс, а его рукой якобы движет дух, который пишет сообщения из загробного мира. — Он прищелкнул языком, ясно выражая свое отношение к обманщикам. — Те же люди, что издеваются над идеей общения с Господом, и даже отвергают само существование Всевышнего, готовы броситься в объятия первому встречному, который заявит, что умеет общаться с душами умерших. — Как бы там ни было, то, что происходит со мной, как раз напоминает «автоматическое письмо», только в устной форме. Как будто кто-то общается с миром через меня. Я не знаю, что собираюсь сказать, до тех пор пока не услышу свой голос. — Но вы же не в трансе. — Нет. — Вы медиум? — Уверен, что нет. — Думаете, что через вас говорят мертвые? — Нет. — Тогда кто? — Не знаю. — Бог? — Может быть. — Но вы не знаете, — раздраженно сказал Гиэри. — Не знаю. — Вы, Джим, не только самый странный человек из всех, кого я видел. Вы еще и самый обескураживающий.* * *
В десять часов они были в аэропорту Лас-Вегаса. По дороге им попалось всего несколько такси. Дождь перестал. Тихий ветерок шевелил пальмовые листья. Казалось, все вокруг выскребли и вычистили до блеска. Отец Гиэри притормозил у входа в здание аэропорта. «Тойота» еще не остановилась, а Джим уже распахнул дверь. Он выскочил из машины и обернулся на прощание. — Спасибо, святой отец. Возможно, вы спасли мне жизнь. — Не стоит драматизировать. — У меня с собой три тысячи, и я был бы рад передать кое-что для вашей церкви, но не знаю, что ждет меня в Бостоне. Могут потребоваться все деньги, которые есть. Священник протестующе покачал головой: — Это совершенно не нужно. — Когда вернусь домой, вышлю сколько смогу. На конверте не будет обратного адреса, но, не сомневайтесь, это честные деньги. Вы можете принять их с чистой совестью. — В этом нет необходимости, Джим. Достаточно того, что я встретил вас. Я хотел вам сказать… Ваше появление придало новый смысл жизни скромного священника, который усомнился было в собственном призвании, но после встречи с вами обрел второе дыхание. Они обменялись взглядами, полными такого тепла, что оба смутились. Джим просунул голову в окно, священник подался к нему навстречу. Они пожали друг другу руки. Ладонь отца Гиэри была сухой и крепкой. — С Богом, — сказал священник. — Дай Бог.24-26 АВГУСТА
Глава 1
Холли сидела за своим рабочим столом в редакции, уставившись на пустой экран компьютера. До рассвета оставалось еще несколько часов. В эту минуту больше всего на свете ей хотелось вернуться домой, забраться под одеяло и проваляться там несколько дней. Сама Холли презирала людей, которые вечно плачут о своих невзгодах. Но, решив пристыдить свою гордость за жалость к себе, она вместо этого пожалела себя за проявленную слабость и окончательно приуныла. Комизм ситуации бросался в глаза, но ей было не до улыбок. Холли упивалась своим несчастьем, размышляя о собственной глупости и нелепости. К счастью, работа над утренним выпуском подошла к концу, редакция опустела, и Холли радовалась, что коллеги не увидят ее в таком позорном состоянии. Кроме нее в комнате находились двое — Томми Вике, высокий худой уборщик, который шуршал веником и бумагой подметая пол и вытряхивая корзины с мусором, и Джордж Финтел. Джордж писал о деятельности городских с властей. Он сидел в дальнем углу комнаты да так и заснул, навалившись грудью на край стола и уронив голову на руки. Время от времени а Джордж громче всхрапывал, и Холли оглядывалась в его сторону. Иногда, когда бары закрывались, Джордж возвращался в редакцию, вместо того чтобы идти домой. Так старая лошадь, если отпустить поводья на знакомой дороге, будет тащить повозку к месту, которое она считает своим домом. Проснувшись посреди ночи, он с трудом соображал, где находится, и шел к себе, тяжело передвигая ноги. Политики, частенько говорил Джордж, низшая форма жизни, существа, которые деградировали с тех пор, как первая тварь выползла из грязи первичного моря. Джордж был человек конченый, пятьдесят семь не тот возраст, чтобы начинать жизнь заново. Он продолжал писать статьи об отцах города, ругая их в узком кругу, и все это так ему опротивело, что старый журналист возненавидел себя и постоянно искал спасения в вине, причем пил каждый день и лошадиными дозами. Имей Холли склонность к спиртному, она бы всерьез задумалась о том, что и ее может ожидать похожий финал. Но если от первой рюмки она чувствовала приятную легкость, после второй начинало шуметь в голове, то третья укладывала ее спать. Проклятая жизнь, до чего я ее ненавижу, думала она. — Ты жалкая тварь. — произнесла она вслух, обращаясь сама к себе. — Ну и пусть. К черту! Все так беспросветно. — Меня тошнит от твоих истерик, — сказала Холли тихо, с отвращением. — Это вы мне? — спросил Томми Вике, подметавший пол в нескольких шагах от ее стола. — Нет, Томми, так… сама с собой разговариваю — Придумаете тоже! Вид у вас неважнецкий. О чем печалитесь? — О жизни. Томми выпрямился и оперся о щетку, скрестив длинные ноги На его широком веснушчатом лице появилась добрая сочувственная улыбка. — Что-то не ладится? Холли посмотрела на его оттопыренные уши, копну волос морковного цвета, достала из пакета несколько конфет и бросила в рот. Откинулась на спинку кресла. — Когда я закончила университет в Миссури и получила диплом журналиста, мне хотелось перевернуть весь мир, писать сногсшибательные статьи, получать Пулитцеровские премии — и что вышло?! Знаете, чем я занималась сегодня вечером? — Понятия не имею, но готов поклясться, вам это было не по душе. — Торчала на ежегодном банкете портлендской Ассоциации лесопромышленников, брала интервью у изготовителей пульмановских вагонов, торговцев трехслойной фанерой и облицовкой из красного дерева. Они присуждали премию «Призовое бревно» — так они его называли. Мне пришлось брать интервью у победителя — «Лесопромышленник года». Потом летела сюда, чтобы успеть дать статью в номер. Горячий материал, только успевай поворачиваться, не то ловкачи из «Нью-Йорк тайме» оставят тебя с носом. — Я думал, вы пишите об искусстве и досуге. — Надоело до чертиков. Знаете, Томми, один-единственный графоман может внушить вам такое отвращение к поэзии, что пройдет лет десять, прежде чем вы снова начнете читать стихи. Холли бросила в рот еще несколько конфеток. Обычно она избегала сладостей — не хотела растолстеть, помня о печальном примере собственной матери; но сейчас глотала конфеты одну за другой. Все равно настроение хуже некуда. — Если верить кино и телевидению, журналистика — блеск, романтика, слава. Какая ложь! — У меня ведь тоже жизнь не удалась. — Томми почесал за ухом. — Думаете, я мечтал подметать полы? — Наверное, нет, — ответила она, готовая расплакаться от жалости к нему — судьба Томми была еще печальнее. — Куда там! Я еще мальцом был, а уже мечтал ездить на большом грузовике, из тех, что возят мусор. Как представлю, что сижу в кабине, жму на кнопки, включаю гидравлику… — Его голос стал мечтательным. — Гляжу на мир сверху, и вся эта силища в моих руках. Я это все во сне видел, но врачи зарубили вчистую. Говорят, почки не в порядке. Так, ничего серьезного, но водителем мне не бывать. Он оперся о щетку, глядя вдаль и чуть заметно улыбаясь своим мыслям — наверное, представлял себя в королевской кабине мусороуборочной машины. Холли уставилась на него, не веря своим ушам. Широкое лицо Томми больше не казалось ей добрым и приятным. Как она сразу не разглядела! Это было глупое лицо. Ей хотелось крикнуть: «Идиот! Я мечтала завоевать Пулитцеровскую премию, а пишу всякую дребедень о проклятых «Призовых бревнах»! Это трагедия! Ты подметаешь мусор щеткой, вместо того чтобы жать на кнопки мусорной машины. Какое ты имеешь право сравнивать!» Но она ничего не сказала, потому что поняла: он имел право сравнивать. Несбывшаяся мечта, неважно, высокая или совсем скромная, всегда трагедия для человека, потерявшего надежду. Невозможность оказаться за рулем мусороуборочной машины, как и неполученные Пулитцеровские премии, рождает отчаяние и лишает сна. И эта мысль была самой страшной из всех, какие приходили ей в голову. Глаза Томми приняли свое обычное выражение: — Постарайтесь отвлечься, мисс Тори. Жизнь — это ведь как кафе. Вы заказываете абрикосы с орехами, а вам подсовывают черничные оладьи. Ни орехов, ни абрикосов. Но, если все время о них думать, можно, пожалуй, и свихнуться. Куда лучше сообразить, что черника — тоже вещь неплохая. Боже мой, ну и жизнь! Захламленная комната редакции в полночь. Доморощенные философы-уборщики. Репортеры-пропойцы, храпящие за столами. — Мне уже лучше, этот разговор мне очень помог, — солгала Холли. — Спасибо, Томми. — Не за что, мисс Тори. Томми вернулся к прерванной работе, а Холли проглотила еще одну конфету и подумала, не пройти ли комиссию на профессиональную пригодность в качестве водителя мусороуборочной машины. Тут были свои преимущества: работа куда чище, чем журналистика, и потом, приятно сознавать, что, по крайней мере, один человек в Портленде будет ей смертельно завидовать. Она посмотрела на циферблат настенных часов. Половина второго. Спать не хотелось. Какой смысл идти домой, валяться на кровати, глядя в потолок, и чувствовать себя несчастной. Вообще-то, именно этого ей и хотелось — как раз под настроение, но, конечно, это не самый лучший способ убить время. На ее беду, выбирать особенно не приходилось: и днем и ночью Портленд был огромной забегаловкой с круглосуточным графиком обслуживания. До отпуска оставался всего один день, даже меньше. Она ждала его с таким нетерпением! Не строила никаких планов, хотела просто отдохнуть, отрешиться от всего, забыть о том, что в мире существуют газеты. Можно сходить в кино. Что-нибудь прочесть. Или отправиться в реабилитационный центр Бетти Форд и пройти курс лечения от жалости к себе. Она достигла опасной стадии, на которой начинались горестные размышления о собственном имени. Холли Торн Красота! Нечего сказать! И как это родителей угораздило наградить ее таким ботаническим имечком? Да разве станет Пулитцеровский комитет присуждать премию женщине, имя которой больше подходит герою детских мультфильмов?! Иногда по ночам так хотелось позвонить родителям и спросить: за что? Кто виноват? Плохой вкус, глупая шутка или сознательная жестокость? Родители прожили честную трудовую жизнь, во всем себе отказывая, зато дочь получила хорошее образование. Они желают ей только добра, и для них будет тяжелым ударом узнать, что она ненавидит свое имя. Идея дать дочери имя, которое вместе с фамилией звучало как название растения — «шип остролиста», — казалось им удачной и не лишенной изящества. Холли безумно любила своих стариков, и надо было дойти до точки, чтобы обвинить их в собственных неудачах. Испугавшись, что не выдержит и позвонит родителям, Холли быстро повернулась к компьютеру и нашла файл с утренними номерами американских газет. Работа над выпуском закончилась, все материалы сверстали и отправили в печать, но с помощью системы «Пресса» Холли могла отыскать страницу любой газеты. Шрифт на экране был мелкий, легко читались только заголовки, но при желании можно укрупнить любую часть текста. Иногда чтение сенсационной статьи, о которой публика узнает только на следующий день, поднимало ей настроение, рождало смутное ощущение причастности к таинству. Именно об этом мечтают юные, желающие избрать карьеру журналиста. В поисках интересной статьи она пробежала глазами несколько заголовков на первой странице и нахмурилась. Большой пожар в Сент-Луисе, девять человек погибли. Предчувствие войны на Ближнем Востоке. Нефтяное пятно у берегов Японии. Ураган и наводнение в Индии, тысячи людей остались без крова. Правительство снова повышает налоги. Она всегда знала, что газеты питаются несчастьями, катастрофами, скандалами, насилием и политическими склоками, но сейчас эта мысль показалась ей омерзительной. Холли осознала: она не хочет быть причастной к этому, не хочет первой узнавать отвратительные черные новости. Она уже собиралась выключить компьютер, как вдруг внимание привлек заголовок: «Таинственный незнакомец спасает мальчика». Со дня происшествия в Мак-Элбери не прошло и двух недель, и эти четыре слова показались ей ужасно знакомыми. Охваченная любопытством, Холли дала команду укрупнить текст статьи. Рядом со статьей располагалась фотография. Изображение было темным и размытым, но текст можно было прочесть. Холли еще больше укрупнила изображение и стала просматривать первый столбец. Она пробежала глазами первую строчку и выпрямилась в кресле: «Бесстрашный незнакомец, о котором известно только, что его зовут Джим, спас жизнь шестилетнему Николасу О Коннору, который едва не погиб при взрыве трансформаторной будки, принадлежащей компании «Электростанции Новой Англии»». «Черт знает что…» — прошептала Холли. Ее пальцы забегали по клавишам компьютера, текст передвинулся вправо, и его место заняла фотография. Холли увеличивала изображение до тех пор, пока лицо не заняло весь экран. Джим Айренхарт. Как громом пораженная, не веря собственным глазам, она застыла перед экраном компьютера. Затем возникло внезапное желание, настоящая физическая потребность, похожая на острые спазмы голода, — разузнать о нем как можно больше. Она погрузилась в чтение статьи. Мальчик сидел перед домом на тротуаре недалеко от большой трансформаторной будки. Играл с машинками, родители с крыльца наблюдали за сыном. Вдруг на улице появился незнакомый мужчина. «Подбегает к Ники, — прочла Холли интервью с отцом спасенного ребенка, — хватает его… Я решил, какой-то маньяк хочет украсть моего сына». Схватив кричащего мальчика, незнакомец перепрыгнул через невысокую ограду на лужайку у дома О'Конноров, и в тот же миг за его спиной взорвалась линия высокого напряжения на семнадцать тысяч вольт. Бетонная стена трансформаторной будки, возле которой играл мальчик, разлетелась вдребезги, к небу рванул столб пламени. Незнакомец, смущенный шумным выражением признательности со стороны родителей и соседей, подоспевших к месту происшествия и видевших его смелый поступок, объяснил, что почувствовал запах горящей изоляции, услышал шипение, доносившееся из трансформаторной будки, и понял, что произойдет взрыв, так как, по его словам, он «одно время работал электриком». Недовольный тем, что его сфотографировал один из очевидцев, он решительно покинул место происшествия еще до прибытия журналистов, объяснив, что не хочет привлекать слишком много внимания к своей персоне. Этот поразительный случай произошел вчера вечером около восьми часов по бостонскому времени. В Портленде в этот момент было около пяти. Холли взглянула на часы: стрелки показывали две минуты третьего. Прошло меньше девяти с половиной часов. Она шла по свежему следу. У нее накопилось немало вопросов к репортеру из «Глоб», написавшему статью: но в Бостоне сейчас пять утра. Придется подождать, пока они начнут работу. Холли закрыла файл с утренними выпусками, подождала, пока изображение газетного текста исчезнет, подключилась к гигантской информационной сети, соединенной с системой «Пресса», и дала компьютеру команду отыскать все статьи, опубликованные в американских газетах за последние три месяца, в которых на десять слов встречалось имя «Джим» или слова «прийти на помощь», «спас жизнь», и распечатать их на принтере, не повторяя информацию об одном и том же происшествии. Машина занялась выполнением этого поручения, а сама Холли схватила со стола телефонную трубку и стала обзванивать междугородные справочные, набирая коды 813, 213, 714 и 619. Она пыталась узнать номер телефона Джима Айренхарта, но ни один из операторов в Лос-Анджелесе, Орандже, Сан-Бернардино и Сан-Диего не смог ей помочь. Если Джим сказал ей правду и действительно живет в Южной Калифорнии, его номера нет в телефонных справочниках. Тихо загудел лазерный принтер, выдавая первую страницу с найденным материалом. Холли подавила желание броситься к машине, выхватить лист и прочесть. Вместо этого она сосредоточила внимание на телефоне, размышляя, каким еще способом определить адрес Джима Айренхарта, живущего в части Калифорнии, которую местные жители называют «Южная Земля». Несколько лет назад она бы просто связалась с компьютерной системой Калифорнийского департамента автотранспорта и за скромную плату получила адрес любого владельца водительских прав, зарегистрированных в штате. Но после убийства актрисы Ребекки Шеффер, совершенного свихнувшимся фанатом, который получил сведения о своей жертве именно таким способом, вышел новый закон, ограничивающий доступ к информации департамента. Будь Холли закоренелым компьютерным вором, искушенным в различных хитростях, она бы добралась до их картотеки несмотря на все системы защиты или проникла в банк данных страхового агентства, где наверняка хранится информация об Айренхарте. Она знавала репортеров, которые совершенствовали свое компьютерное мастерство как раз для подобных целей, но сама всегда действовала в рамках закона и никогда не прибегала к обману. Вот поэтому тебе и приходится писать о таких увлекательных вещах, как награждение «Призовым бревном», уныло подумала она. Ломая голову, как решить эту задачу, Холли направилась в буфет и, опустив в автомат монету, получила чашку горького, как желчь, кофе. Сморщилась, но выпила — до утра далеко, нужно взбодриться. Налила еще одну чашку и пошла к себе в комнату. Принтер молчал. Она сгребла пачку лежащих возле него страниц и уселась за стол. Компьютер выдал ей внушительную кипу статей, в которых на протяжении десятка слов встречалось имя Джим или слова «прийти на помощь», «спас жизнь». Она их быстро пересчитала. Вышло двадцать девять. Самой первой лежала статья из «Чикаго сан тайме». Первая строка гласила: «Житель Оук-Парк Джим Фостер спас жизнь десяткам бездомных кошек…» Холли скомкала лист бумаги и бросила в мусорную корзину. Глаза впились в следующую страницу. Статья из «Филадельфия инкуайерер» сообщала: «Джим Пилсбури, выступающий за «Филлиз», спас свой клуб от унизительного поражения в матче бейсбольных команд..» Лист полетел в корзину, а Холли уже пробегала глазами третью статью. Ею оказалась рецензия на фильм, и Холли не стала терять время на поиски упоминаний о Джиме. Четвертая страница рассказывала о писателе Джиме Харрисоне. Пятая поведала любопытную историю о находчивом политике из Нью-Джерси, спасшем жизнь крупного мафиозо. Оба сидели в баре за кружкой пива, как вдруг «крестный отец» едва не погиб, подавившись перченой сосиской. К счастью, политик не растерялся, надавил бедняге на живот, и все закончилось благополучно. Сосиска называлась «Тонкий Джим». Она уже стала беспокоиться, что все ее усилия окажутся напрасными, но шестая статья из «Хьюстон кроникл» подействовала на нее лучше всякого кофе. Широко раскрыв глаза, Холли прочла: «Женщина спасена от мести мужа». Четырнадцатого июля Аманда Катер, выигравшая долгий бракоразводный процесс, едва не погибла от руки своего бывшего мужа Космо. Узнав о решении суда, Космо Каттер впал в ярость и дважды выстрелил в Аманду, встретив ее в районе Ривер-Оукс, но, к счастью, промахнулся и был схвачен и обезоружен случайным прохожим, который, по словам потерпевшей, «словно вырос из-под земли». Незнакомец, сообщив только то, что его зовут Джим, испарился в сыром воздухе вечернего Хьюстона прежде, чем на место происшествия прибыла полиция. Похоже, что его появление оставило неизгладимый след в душе спасенной им женщины. Молодая, привлекательная Аманда живописала своего героя следующими словами: «Красивый, весь из мускулов, настоящий супермен, какие бывают только в кино, а глаза синие, мечтательные». В голове у Холли возник живой образ Джима Айренхарта. Она так ясно помнила взгляд его ярко-синих глаз, как будто они виделись только вчера. Она бы не назвала глаза Джима «мечтательными», хотя, без сомнения, такой поразительной чистоты и магической притягательности ей раньше встречать не приходилось… Хотя нет, они действительно мечтательные. Ей не хотелось думать о том, как, встретив Джима, она вдруг смутилась и почувствовала себя маленькой девчонкой. Но себя не обманешь. Холли вспомнила нечеловеческий холод во взгляде Джима, когда глаза их впервые встретились, и удивительное тепло его улыбки. Седьмая статья описывала еще одного скромного Джима, который, вместо того чтобы принимать поздравления, выслушивать благодарности и купаться в лучах заслуженной славы, незаметно скрылся сразу после того, как спас из горящего дома тридцатилетнюю Кармен Диас. Случай произошел в Майами пятого июля. Очевидцы запомнили голубые глаза. Просмотрев двадцать две оставшиеся статьи, Холли обнаружила две, где речь шла об Айренхарте, хотя в обоих случаях упоминалось только имя. Двадцать первого июня в Гарлеме четверо подростков из местной молодежной группировки едва не сбросили Тадеуша Джонсона с крыши восьмиэтажного дома. Таким путем с ним хотели рассчитаться за отказ участвовать в торговле наркотиками. Неожиданная помощь пришла в лице синеглазого мужчины, который провел серию приемов тэквондо, мгновенно разбросав и обезвредив нападавших. «Как Бэтмен, только без смешного костюма», — рассказывал Тадеуш репортеру из «Дейли ньюс». А двумя неделями раньше еще один синеглазый Джим, «непонятно как оказавшийся» возле дома калифорнийца Луиса Андретти, который собирался чинить трубу в подвале, посоветовал тому не спешить с работой. «Сказал, что под домом поселилось семейство гремучек», — читала Холли рассказ Андретти. Агенты из санинспекции, обследовавшие дом с помощью галогенной лампы, обнаружили не просто змеиный выводок, а нечто такое, что «может присниться только в страшном сне». Они извлекли из подвала сорок одну гремучую змею. «Одного не могу понять, — удивлялся Андретти, — как этот парень узнал о змеях? Я прожил здесь столько лет и ничего не замечал». Теперь Холли знала о четырех эпизодах из биографии Джима Айренхарта, не считая спасения Ники О'Коннора в Бостоне и Билли Дженкинса в Портленде. Все шесть случаев произошли после первого июня. Она повернулась к компьютеру и дала машине новое задание: провести точно такой же поиск, включая предшествующие месяцы: март, апрель, май. Надо выпить еще кофе. Холли встала и пошла в буфет. Только сейчас она заметила, что место Джорджа Финтела опустело. Старик все-таки проснулся и потащился домой. Холли не слышала, как он уходил. Томми тоже покинул комнату. Она была одна. Холли отхлебнула глоток кофе, отметив, что напиток не так уж плох, по крайней мере лучше, чем в первый раз. Конечно, кофе ничуть не изменился, но две предыдущие чашки заглушили все вкусовые ощущения. Компьютер справился с заданием и выдал одиннадцать статьей, опубликованных в различных газетах с марта по май. Однако, просмотрев новую стопку листов, Холли заинтересовалась лишь одной. Пятнадцатого мая в Атланте в момент вооруженного ограбления хозяйственного магазина на сцене появился синеглазый Джим. Он застрелил грабителя Нормана Ринка, намеревавшегося убить двух покупателей — молодого мужчину Сэма Ньюсома и его пятилетнюю дочь. Накачавшись наркотиками и потеряв всякий рассудок. Ринк уже успел застрелить продавца и двух других покупателей, причем сделал это просто так, от нечего делать. Покончив с Ринком и убедившись, что с Ньюсомами все в порядке, Джим исчез, не дождавшись приезда полицейских. Рядом публиковалась размытая фотография мужественного спасителя. Ее получили при помощи установленной в магазине телекамеры. Вторая фотография за все время. Изображение никуда не годилось, но Холли мгновенно узнала Джима Айренхарта. Некоторые детали этого происшествия выбили ее из колеи. Допустим, Айренхарт обладает экстрасенсорными способностями — поразительным даром предвидеть фатальные случаи и возможностью вмешиваться в ход событий, предотвращая неминуемую трагедию. Но тогда почему он не появился в магазине на несколько минут раньше? Продавец и покупатели остались бы живы. Почему он спас Ньюсомов и позволил другим людям умереть? Но еще больше ее потрясло то, как Джим расправился с Ринком. Он всадил в грабителя четыре заряда из дробовика двенадцатого калибра, а затем, хотя Ринк был уже мертв, перезарядил ружье и выстрелил в труп еще четыре раза. «Он был в такой ярости, — рассказывал Ньюсом, — лицо красное, в поту, на висках и на лбу жилы вздулись. В глазах слезы… Жуткое зрелище». Потом Джим попросил прощения за то, что так жестоко вел себя на глазах у маленькой Эмми Ньюсом, сказав в свое оправдание, что подонки вроде Ринка, убивающие невинных людей, «приводят его в бешенство». Ньюсом сказал репортеру: «Он спас нам жизнь, мы благодарны ему, но он был страшен, почти так же страшен, как Ринг». Сообразив, что в некоторых случаях Айренхарт мог и не называть своего имени, Холли занялась поиском статей, опубликованных за последние полгода, отбирая из них те, где рядом со словом «прийти на помощь» и «спас жизнь», попадалось слово «синие». Она заметила, что многие свидетели путались в описании его внешности, но зато почти все помнили удивительно синие глаза. Холли выпила кофе, подошла к принтеру. Машина гудела и одну за другой выдавала новые страницы. Холли хватала очередной лист, пробегала глазами текст, комкала, швыряла бумажный шарик в корзину или погружалась в чтение рассказа о еще одном поразительном происшествии. Компьютер нашел четыре статьи, в которых, без сомнения, говорилось о Джиме Айренхарте, хотя ни в одной из них его имя не упоминалось. Холли дала команду компьютеру искать фамилию Айренхарт в американских газетах, вышедших за последние полгода. В ожидании ответа она принялась разбирать полученные материалы. Составила список людей, спасенных Джимом Айренхартом, включив четыре последних случая и расположив имена в хронологической последовательности. Она выписала возраст, место, где случилось происшествие, и вид смерти, от которой спасли этих людей. Внимательно просмотрела список, сделав несколько пометок в местах, привлекших ее внимание. В это время компьютер завершил работу над последним заданием, и Холли все отложила в сторону. Она встала с кресла, чтобы подойти к лазерному принтеру, и застыла, с удивлением обнаружив, что не одна в комнате. Три репортера и редактор сидели на своих местах. Все они отличались привычкой начинать работу спозаранку. Хэнк Хокинс, редактор экономического отдела, вообще любил приходить к открытию финансовых рынков на Восточном побережье. Она и не заметила, как они здесь очутились. Двое обменивались анекдотами и громко смеялись, Хокинс разговаривал по телефону, но все это время Холли их не слышала. Она посмотрела на часы: десять минут седьмого. Сквозь стекла окна в комнату пробивался серый утренний свет. Ночь отхлынула, уступая дорогу новому дню. Холли посмотрела на стол и удивилась, сосчитав пустые чашки из-под кофе: на две чашки больше, чем она думала. Отчаяние прошло. Она никогда не чувствовала себя так хорошо. Лучше, чем за последние дни, недели, годы. В ней снова проснулся дух настоящего репортера. Она подошла к лазерному принтеру, собрала оставшиеся листы и вернулась к столу. Похоже, пресса не баловала Айренхартов вниманием. За последние полгода эта фамилия упоминалась в газетах всего пять раз. Кейвин Айренхарт, Буффало, штат Нью-Йорк, сенатор штата. Выставил свою кандидатуру на пост губернатора. Анна Дениз Айренхарт, Бока-Ратон, Флорида. Обнаружила в своей спальне живого аллигатора. Лора Айренхарт, Лос-Анджелес, Калифорния. Композитор. Выдвинута на Академическую премию за лучшую песню года. Валери Айренхарт, Седар-Рэпидз, Айова. Родила четверых малышей. Последним в списке шел Джим Айренхарт. Холли взглянула на название газеты. Статья была напечатана в апрельском номере «Орандж каунти реджистер» за десятое число и представляла собой один из вариантов сообщения, опубликованного всеми газетами штата. Компьютер выбрал только эту статью, поскольку Холли дала команду не печатать материалы разных газет, посвященные одному событию. Холли посмотрела на выходные данные. Лагуна-Нигель. Калифорния. Южная Калифорния. «Южная Земля». Фотографии не было, но автор статьи описывал синие глаза и густые каштановые волосы. Без всякого сомнения, это ее Джим Айренхарт. Холли не испытывала удивления от того, что в конце концов нашла Джима. Она не сомневалась, что рано или поздно сумеет сделать это. Но содержание статьи, в которой шла речь о Джиме Айренхарте, поразило ее в самое сердце. Она предполагала прочесть еще одну историю о чьем-нибудь чудесном спасении из объятий смерти и застыла с открытым ртом, глядя на заголовок: «ЛОТЕРЕЙНЫЙ ВЫИГРЫШ — ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ — ДОСТАЕТСЯ ЖИТЕЛЮ ЛАГУНА-НИГЕЛЬ».Глава 2
После спасения Николаса О'Коннора впервые за последние четыре дня Джиму удалось спокойно выспаться. Двадцать четвертого августа, в пятницу днем, он вылетел из Бостона, пересек всю страну и, выиграв три часа, приземлился в аэропорту Джон Уэйн. Часы показывали шестнадцать десять. Еще через полтора часа он был дома. Он сразу направился в кабинет и приподнял край ковра, скрывавшего тайник. Набрал код, открыл люк и извлек из углубления в полу пять тысяч долларов — десять процентов всех денег, хранившихся в сейфе. Усевшись за стол, Джим вложил стодолларовые купюры в конверт из плотной бумаги и сколол его несколькими скрепками. Написал адрес отца Лео Гиэри, священника церкви Святой Девы Пустыни, и наклеил марки. Завтра утром первым делом надо бросить конверт в почтовый ящик. Джим прошел в гостиную и включил телевизор. Попробовал несколько каналов — ничего, стоящего внимания. Оставил новости и сел в кресло, слепо уставившись на экран. Никак не мог сосредоточиться, мысли плавали где-то далеко. Пошел на кухню, разогрел пиццу в микроволновой печи и открыл банку пива. Поел, вернулся в комнату, взял книгу. Прочел несколько страниц и отложил в сторону — скучно. Просмотрел стопку свежих журналов — ни одной интересной статьи. Когда наступили сумерки, Джим, прихватив банку пива, вышел на улицу. Расположился на веранде, слушая шорох пальмовых листьев, подставляя лицо дуновению ветерка. Жасмин, растущий вдоль стены забора, источал сладкий дурманящий аромат. В тусклом дымчатом свете сияли красные, фиолетовые, розовые пионы. Солнце скользнуло за горизонт, и они погасли, как гаснут сотни маленьких лампочек отключенного реостата. Ночь спускалась на город, точно огромный плащ из легкого черного шелка. Трудно представить более мирную картину, но он не мог обрести долгожданный покой — такая сумятица царила в сердце. С тех пор как пятнадцатого мая Джим спас Сэма Ньюсома и его дочь, прошло немало времени. И с каждым днем он все больше терял интерес к заботам и радостям старой привычной жизни. Постоянно находился в напряжении. Думал о пользе, которую мог принести, о человеческих жизнях, которые можно спасти. Ждал, когда прозвучат магические слова: «Линия жизни». Все остальное потеряло для него всякий смысл. Превратившись в орудие высших сил, он перестал быть самим собой.* * *
Проведя весь следующий день за сбором информации о Джиме Мэдисоне Айренхарте и выкроив для отдыха всего пару часов, что было довольно слабой компенсацией за бессонную ночь, Холли получила долгожданный отпуск и вылетела в Апельсиновую Страну. Прибыв на место, она взяла напрокат машину, поехала в Лагуна-Хиллз и остановилась в местном мотеле. В отличие от прибрежных курортов Лагуна-Бич и Лагуна-Нигель, где летом места в гостиницах нужно заказывать заранее, этот городок лежал вдалеке от океана и не испытывал наплыва отдыхающих. Но Холли все равно не собиралась терять время на пляже. Хотя она и принадлежала к огромной армии энтузиастов, стремящихся заполучить рак кожи, на этот раз она приехала не купаться и загорать, а работать. В мотель Холли приехала совершенно обессиленная. Веки налились свинцом. Она еле доволокла чемодан до двери номера, вошла, и туг гравитация сыграла с ней жестокую шутку: навалилась пятикратной силой тяжести и намертво припечатала к постели. Обстановка небольшой чистой комнаты пленяла простотой и естественностью. Работал кондиционер. Окажись обитателем номера эскимос, измученный тоской по дому, он запросто бы воспроизвел климат далекой родной Аляски. Она все-таки заставила себя спуститься вниз и купила в автомате пакет арахисового печенья с сыром и банку пепси. Забралась с ногами на постель и стала ужинать. Тело онемело от усталости. Все чувства притупились. Она жевала какую-то безвкусную массу. С таким же успехом можно есть сахарную вату и запивать лошадиным потом. Как только голова коснулась подушки, щелкнул невидимый выключатель, и Холли моментально уснула. Ночью ей привиделся страшный сон. Она шла на ощупь в полной темноте. Откуда-то доносились звуки, долетали запахи. Наверное, такие сны снятся слепым от рождения. Было сыро, зябко. Слабо пахло известкой. Она не испытывала страха, только непонятное смущение. Осторожно двигалась вдоль длинных стен, касаясь рукой холодных, плотно уложенных кирпичей. Некоторое время спустя поняла, что стена всего одна, и она все время шла по кругу. Все шорохи и звуки шли от нее самой, кроме шума дождя, который высоко над головой барабанил по черепичной крыше. Холли отступила от стены и, вытянув руки вперед, сделала несколько шагов по толстым доскам деревянного пола. Ладони наткнулись на пустоту, но любопытство улетучилось, и ее внезапно обуял страх. Она застыла, затаив дыхание. Прислушалась, пытаясь понять, откуда донесся зловещий звук. Трудно уловимый звук, заглушаемый негромким монотонным шорохом дождя. Вот снова. Еле слышный писк. Воображение мгновенно нарисовало жирную лоснящуюся крысу, но странный звук, слишком долгий и неестественный, не мог принадлежать живому существу. Больше похоже на скрип, но не так скрипят половицы под ногой. Воцарилась тишина… через несколько секунд звук повторился… затих… и раздался снова… установился ритм. Сообразив, что слышит скрип несмазанного механизма, Холли не только не успокоилась, а, наоборот, почувствовала, как все быстрее бьется ее сердце. Она стояла в черной мрачной комнате, пытаясь представить невидимую машину. Звук немного усилился, машина набирала обороты. Теперь скрипы следовали не через пять-шесть секунд, а через три-четыре, две, каждую секунду. Внезапно к скрипу присоединился новый странный звук: «Ссшш… ссшш… ссшш…» Невидимая широкая плоскость резала воздух. — Ссшш… Она приближалась. — Ссшш… В голову пришла дикая мысль — это лезвие. — Ссшш… Большое лезвие. Острое. Огромное лезвие, которое режет воздух. Надвигалось нечто страшное, невыносимо жуткое, настолько непонятное, что даже яркий дневной свет не принесет разгадки. Холли понимала, что это лишь сон, но знала: ей надо во что бы то ни стало покинуть эту каменную темноту. Иначе она умрет. Из ночного кошмара нельзя убежать. Нужно проснуться. Но она не могла, слишком устала, чтобы вырваться из оков сна. Темнота начала вращаться. Огромная безжалостная машина ускоряла ход: — Скрип, ссшш… Сквозь шорох ночного дождя: — Скрип, ссшш… Резала воздух: — Скрип, ссшш… Холли хотела закричать. — Скрип, ссшш… Но только беззвучно шевелила губами. — Скрип, ссшш… Не могла проснуться, закричать, позвать на помощь. — Ссшш…* * *
— Нет! Джим рывком уселся на кровать. В ушах продолжал звенеть собственный крик. Он обливался холодным липким потом и старался унять дрожь. Прошлой ночью Джим заснул с включенной лампой. В последнее время он часто ложился при свете. Дикие ночные кошмары мучили его больше года. Нередко, очнувшись утром, он не мог вспомнить, что ему снилось. Страшнее всего был «враг» — безликое, бесформенное чудовище, о котором он говорил в бреду, когда лежал больной в доме отца Гиэри, но существовали и другие монстры. На этот раз его испугал не человек или чудовище, а место: ветряная мельница. Джим посмотрел на часы, стоявшие на ночном столике. Без пятнадцати четыре. Еще не рассвело. Встал с кровати и в пижамных брюках, пошатываясь, поплелся на кухню. Глаза привыкли к электрическому свету. Теперь ему было гораздо лучше. Хотелось поскорее сбросить остатки мерзкого сна. Проклятая мельница. Джим включил кофеварку и приготовил крепкий колумбийский кофе. Стоя, отхлебнул глоток, налил чашку до краев и сел за стол. Он хотел выпить весь кофейник. Боялся снова заснуть и увидеть тот же страшный сон. По утрам после каждого кошмара он долго приходил в себя, но те, в которых появлялась ветряная мельница, доводили его до изнеможения. Грудь саднило, будто сердце поранилось в кровь, бешено колотясь о ребра грудной клетки. Даже спустя несколько часов по телу пробегала противная дрожь, голова раскалывалась. Боль в ней пульсировала с такой силой, что, казалось, инородный организм пытается раздробить черепную кость и вырваться наружу. Джим не хотел смотреть в зеркало. Знал, что увидит бледное, изможденное лицо, синие круги под глазами. Лицо смертельно больного, из которого раковая опухоль вылила последние соки. Ветряная мельница не часто являлась ему во сне. Кошмар преследовал его один-два раза в месяц. Но и этих двух раз хватало с избытком. Как ни странно, это был самый обычный сон. Он, десятилетний мальчишка, сидел в маленькой пыльной комнате над главным помещением мельницы, где находились старинные жернова. Колеблющееся пламя желтой свечи выхватывало из темноты пыльный деревянный пол, толстые известняковые стены, узкие окна, похожие на бойницы древней крепости. Снаружи притаилась черная ночь. Капли дождя глухо барабанили по стеклу. Внезапно заскрипели несмазанные ржавые шестеренки. Мельница пришла в движение. Огромные деревянные крылья качнулись и стали описывать круги, сначала медленно, потом все быстрее, быстрее… Со свистом, точно гигантский серп, они резали плотный сырой воздух. Джим увидел, как повернулась ось в центре комнаты. Деревянный столб пронзал потолок и уходил вниз сквозь отверстие в балках пола. Теперь, казалось, пришла в движение вся комната. Круглый пол вращался, как бешеная карусель. В глазах поплыло. Он услышал, как внизу заходили, ударяясь друг о друга жернова, будто издалека доносились глухие раскаты грома. Такой вот сон. Ничего необычного. Но он поверг его в дикий испуг. Джим отхлебнул кофе. И самое странное: он любил старую мельницу. В этом месте прошло его детство, и память сохранила об этом самые лучшие воспоминания. Мельница принадлежала деду и стояла на его ферме между прудом и кукурузным полем. Чудесная и таинственная, она манила выросшего в городе мальчика. Как здорово было играть под ее прохладными тенистыми сводами, мечтать и строить планы, забравшись в укромный уголок на чердаке. Мельница служила ему надежным пристанищем и в минуты горестей. Сюда он прибегал со своими детскими обидами и заботами. Джим никак не мог понять, почему милая старая мельница преследует его в ночных кошмарах.* * *
Жуткий кошмар прошел, Холли так и не проснулась. Она беззвучно посапывала во сне, тихая и спокойная, как камень на морском дне.Глава 3
Проснувшись в воскресенье утром, Холли спустилась вниз, чтобы наскоро позавтракать за стойкой кафе мотеля. Похоже, большинство постояльцев гостиницы составляли семьи отдыхающих, одетые как на подбор в шорты, белые брюки и пестрые рубашки. Дети бегали в кепках и ярких майках с рисунками морских чудовищ и диснеевских персонажей. Родители, дожевывая бутерброды, совещались над картами и листали путеводители, решая, куда поехать. Выбор был огромный. Калифорния — известный рай для туристов. Посетители кафе как одинщеголяли в рубашках в стиле «поло». Пришельцы из иных миров могли бы принять законодателя этой моды Ральфа Лорена за верховное божество мировой религии или вселенского диктатора. Склонившись над тарелкой с черничными оладьями, Холли внимательно изучала составленный ею список людей, спасенных от смерти благодаря своевременному вмешательству Джима Айренхарта.— 15 МАЯ: Сэм (25 лет) и Эмми (5 лет) Ньюсомы — Атланта, штат Джорджия (убийство). — 7 ИЮНЯ: Луи Андретти (28 лет) — Корона, штат Калифорния (укус змеи). — 21 ИЮНЯ: Тадеуш Джонсон (12 лет) — Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (убийство). — 30 ИЮНЯ: Рэчел Стейнберг (23 года) — Сан-Франциско, штат Калифорния (убийство). — 5 ИЮЛЯ: Кармен Диас (30 лет) — Майами, штат Флорида (пожар). — 14 ИЮЛЯ: Аманда Каттер (30 лет) — Хьюстон, штат Техас (убийство). — 20 ИЮЛЯ: Стивен Эймс (57 лет) — Бирмингем, штат Алабама (убийство). — 1 АВГУСТА: Лора Ленаскиан (28 лет) — Сиэтл, штат Вашингтон (утопление). — 8 АВГУСТА: Дуги Беркет (11 лет) — Пеория, штат Иллинойс (утопление). — 12 АВГУСТА: Билли Дженкинс (8 лет) — Портленд, штат Орегон (дорожный инцидент). — 20 АВГУСТА: Лиза (30 лет) и Сузи (10 лет) Явольски — пустыня Мохавк (убийство). — 23 АВГУСТА: Николас О'Коннор (6 лет) — Бостон, штат Массачусетс (взрыв).Некоторые выводы напрашивались сами собой. Из четырнадцати спасенных шестеро были детьми. Семь остальных — люди в возрасте от двадцати трех до тридцати. Исключение составлял Стивен Эймс, которому оказалось пятьдесят семь. Айренхарт спасал молодых. Кроме того, Холли заметила, что его активность постоянно росла: один случай в мае, три в июне, три в июле и целых пять в августе, хотя до конца месяца еще целая неделя. Ее особенно поразило число спасенных, которые могли погибнуть от руки убийц, не окажись рядом Джим Айренхарт. По статистике, люди куда чаще гибнут в результате несчастных случаев. Одни только дорожные происшествия уносят больше человеческих жизней, чем пули и ножи всех вместе взятых преступников. И тем не менее Джим гораздо чаще спасал от злого умысла. Об этом свидетельствовали восемь случаев из четырнадцати — свыше шестидесяти процентов спасенных едва не погибли насильственной смертью. Возможно, он острее чувствовал готовящееся убийство, чем другие виды смертельной опасности. Насилие порождает более мощные психические импульсы, чем обычный несчастный случай. Холли перестала жевать и застыла, не донеся вилку до рта. Только теперь она поняла, в какую странную историю ввязалась. Поспешно бросившись на поиски синеглазого героя, движимая репортерским честолюбием и женским любопытством, она недооценила сложность стоящей перед ней задачи. Возбуждение, а затем усталость помешали трезво оценить ситуацию. Холли опустила вилку и уставилась в тарелку, словно надеясь в крошках оладьев и черничном соусе прочесть ответ на свои вопросы. А почему бы и нет? Ведь гадают же цыганки по руке и на кофейной гуще. Так кто же, черт возьми, этот Айренхарт? Медиум? Ее никогда не интересовали ясновидцы и экстрасенсы. Холли слышала о людях, которые утверждали, что «видят» убийцу, прикасаясь к одежде жертвы. Они помогали полиции отыскивать тела пропавших людей. «Нэшнл инкуайерер» неплохо оплачивал экстрасенсам прогнозы мировых событий и предсказаний судеб знаменитостей. Некоторые заявляли, что могут общаться с душами умерших. Но, оставаясь равнодушной ко всему сверхъестественному, Холли и не задумывалась, где здесь правда, где вымысел. Не то чтобы все эти люди казались ей обманщиками, просто сама тема нагоняла зевоту. Она подозревала, что ее жесткий и нередко циничный рационализм достаточно гибок, чтобы принять идею о существовании медиума, обладающего реальным могуществом, вот только не была уверена, подходит ли слово «медиум» для Джима Айренхарта. В отличие от всех прочих, он не печатал астрологических прогнозов в дешевых газетенках, «прозорливо» предрекая успех новым фильмам великого Стивена Спилберга или предсказывая, что австриец Шварценеггер и дальше будет говорить по-английски с акцентом; ветреный Том Круз бросит свою нынешнюю подружку, а негр Эдди Мэрфи в обозримом будущем останется черным. Этот человек знал, кому, где и когда угрожает смерть, и, обладая этим знанием, бесстрашно вмешивался в ход событий. Он не гнул ложки усилием воли, не вещал загробным голосом древнего Рама-Лама-Дингдонга, не гадал на картах, внутренностях животных или воске. Вступая в схватку с судьбой, Айренхарт спасал человеческие жизни. Он помогал не только тем, кого спасал, но и родным и друзьям этих людей, избавляя их от ужаса потери близкого человека. Его возможности поистине не знали границ. Даже за три тысячи миль, отделявших Лагуна-Нигель от Бостона, он чувствовал опасность и спешил на помощь. Не исключено, что она знает о подвигах Джима далеко не все. Занявшись изучением американских газет, она совсем выпустила из виду, что его имя могло встречаться в зарубежной прессе. Теперь Холли не удивилась бы, узнав, что Айренхарт спасает людей в Италии, Франции, Германии, Японии, Швеции или Паго-Паго. Конечно, слово «медиум» не годилось. Однако в голову не приходило ничего лучшего. Холли охватило удивительное ощущение причастности к чуду. Такого она не испытывала много лет — с тех пор как выросла и стала взрослой. Но вместе с этим светлым чувством в ней родился суеверный страх. Повеяло холодом, она поежилась. Так кто же он? Что он за человек? Около тридцати часов назад, наткнувшись на статью о спасении маленького Николаса О'Коннора, Холли поняла, что ей в руки попал сенсационный материал; после того как она ввела информацию в компьютер и получила результаты, стало ясно: новая работа будет главным достижением ее репортерской карьеры. Ну а теперь она начала подумывать о том, что имеет все шансы написать лучшую статью десятилетия. — Что-нибудь не так? — Все не так, — сказала Холли и лишь мгновение спустя сообразила, что отвечает на чужой вопрос. Подняла голову и увидела официантку, которая с озабоченным видом стояла возле ее столика. «Бернис» — прочла Холли имя девушки, вышитое на форменной блузке. Она спохватилась, что уже давно сидит, уставившись в тарелку, и не ест, занятая мыслями о Джиме Айренхарте. Это заметила Бернис и подошла выяснить, что не нравится клиентке. — Не так? — переспросила Бернис и нахмурилась. — Да… все не так… как я думала… Захожу к вам, думаю, что попала в обычное кафе, а мне приносят потрясающие оладьи. В жизни не ела ничего вкуснее! Бернис с подозрением посмотрела на странную посетительницу, спрашивая себя, не разыгрывают ли ее. — Значит… они вам в самом деле понравились? — Я просто в восторге, — с воодушевлением заверила ее Холли и принялась жевать холодные непропеченные оладьи. — Я так рада! Хотите еще что-нибудь? — Спасибо, только счет, — промычала Холли с набитым ртом. Официантка наконец ушла, а сраженная внезапным приступом голода Холли обратила все свое внимание на содержимое тарелки. Она ела, поглядывая по сторонам и украдкой рассматривая пестро одетых отдыхающих за соседними столиками. Они оживленно разговаривали, делились впечатлениями, строили планы, предвкушая новые удовольствия. Холли наблюдала за окружавшей ее суетой с чувством невыразимого превосходства. Она знала то, о чем они даже не подозревают, была единственной владелицей потрясающей репортерской тайны. Скоро расследование подойдет к концу, и она напишет главное произведение своей жизни. Это будет прозрачная кристальная проза, строгая и вместе с тем яркая, достойная пера самого Хемингуэя (почему бы и нет?) Статья попадет на первые страницы всех центральных американских газет, завоюет ей славу во всем мире. И самое прекрасное то, что ее тайна не имеет никакого отношения к политическим дрязгам, торговле наркотиками и всей той грязи, которой питаются современные средства массовой информации. Она напишет об удивительных чудесах, мужестве и надежде. Поведает миру о неслучившихся трагедиях, спасенных человеческих жизнях, победе над смертью. Как прекрасна жизнь, думала Холли, глядя на соседей за столиками и сочувственно улыбалась, жалея их, веселых, шумных, не знающих, что такое настоящее счастье.
* * *
Сразу после завтрака, раскрыв путеводитель с картой Лагуна-Нигель, Холли без труда нашла дом Джима Айренхарта. Его адрес она получила еще в Портленде, проверив с помощью компьютера все сведения о продаже недвижимости в Апельсиновой Стране за последний год. Предположив, что человек, выигравший в лотерею шесть миллионов, захочет купить себе новый дом, Холли попала в самую точку. Джим выиграл эти деньги в начале января. Не исключено, что с помощью своей способности к ясновидению. Третьего мая он приобрел дом на улице Бугенвиллия-Уэй. Поскольку в регистрационных записях не упоминалось о продаже его старого дома, Холли решила, что до того, как ему улыбнулась фортуна, Джим снимал квартиру. Она порядком удивилась, увидев, в каком скромном доме он живет. Место было хорошее: новый район, чистые, опрятные здания, построенные в лучших традициях Апельсиновой Страны. По краям широких, плавно изгибающихся улиц росли молодые пальмы. Живописные домики средиземноморского типа блестели красными черепичными крышами. На некоторых черепица была цвета песка или спелого персика. Но даже в таком чудесном южном городке, как Лагуна-Нигель, где цены на землю не уступают нью-йоркским в районе Манхэттена, Джим мог бы позволить себе куда более роскошное жилище. Его домик был самый маленький в округе. Перед крыльцом на крохотной зеленой лужайке пестрели азалии и пионы. Рядом росли две пальмы. Их раскидистые кроны отбрасывали кружевные тени на кремово-белую штукатурку. Холли сбросила скорость и, не спуская с дома глаз, медленно проехала мимо. Стоянка для машины пуста. На окнах занавески. Единственный способ узнать, дома Айренхарт или нет, — просто подойти к двери и позвонить. В конце концов она так и сделает. Но не сейчас. Она достигла границы квартала, развернулась и снова проехала мимо дома. Он показался ей милым и привлекательным, но совершенно обычным. Трудно поверить, что за этими стенами живет такой удивительный человек.* * *
Виола Морено жила в зеленом живописном районе, построенном компанией «Ирвин» в шестидесятых-семидесятых годах. Даже в самый палящий зной здесь было хорошо и прохладно под сенью высоких эвкалиптов. Красивые светлые здания, окруженные живой изгородью, утопали в зелени лавров. Все в доме у Виолы было простым и удобным: старый горбатый диван, мягкие глубокие кресла, широкие скамеечки для ног. Преобладали яростные тона. Холли обратила внимание на картины, висевшие на стенах. Спокойные, традиционные пейзажи радовали глаз. Повсюду лежали стопки журналов, на полках стояли книги. Едва переступив порог комнаты, она почувствовала себя как дома. Под стать жилищу оказалась и хозяйка, встретившая Холли тепло и радушно. Виоле было около пятидесяти. Но, несмотря на возраст, кожа на загорелом лице оставалась матово-гладкой. В блестящих мексиканских глазах, черных, как чернила, горели веселые искорки. Роста она была небольшого и немного располнела с возрастом, но Холли представила, как в молодости эта женщина шла по улице и мужчины провожали ее взглядами, рискуя вывихнуть шеи. Виола и сейчас казалась очень красивой. Распахнув дверь, она протянула Холли руку и пригласила войти, будто они были старыми друзьями, а не познакомились вчера по телефону. Они прошли в гостиную, а потом во внутренний дворик дома и очутились на маленькой, покрытой дерном лужайке, где на стеклянном столике стояли два стакана и кувшин с лимонадом, в котором плавали кусочки льда. На плетеных стульях лежали мягкие желтые подушки. — Летом я провожу здесь почти все время, — сказала Виола, усаживаясь за столик. — Не правда ли, чудесный уголок? Прозрачный зеленый занавес отделял дом Виолы от зданий на противоположной стороне улицы, белеющих в тени высоких деревьев. Издали виднелись круглые цветочные клумбы с ярко-красными и фиолетовыми гладиолусами. Две белки спустились с маленького пригорка и перебежали через извилистую тропинку. — Здесь просто замечательно, — согласилась Холли. Виола налила лимонад в стаканы. — Когда мы с мужем купили дом, деревья были совсем крохотные. Кругом почти пустыня. Но мы мечтали о будущих временах. Мы умели ждать, хотя лет нам тогда было совсем немного, — она вздохнула. — Иногда бывает так грустно. Горько думать, что он умер таким молодым и никогда не увидит, как выросли наши саженцы. Но обычно я гляжу на сад и радуюсь. Я знаю, Джо сейчас в лучшем мире, чем мы с вами. Мне хочется верить, что он радуется вместе со мной. — Простите, — смутилась Холли, — я не знала, что ваш муж умер. — Конечно, моя дорогая. Откуда вам знать? Это случилось так давно. Еще в шестьдесят девятом. Мне тогда было всего тридцать, а ему тридцать два. Муж служил в морской пехоте. Я им так гордилось. Столько лет прошло, как Джо погиб во Вьетнаме, а для меня он как живой. Холли поразила мысль о том, что павшие в этой войне, останься они в живых, были бы уже далеко не молодыми людьми. Их вдовы прожили без них долгие годы, гораздо больший срок, чем вся их семейная жизнь. Сколько лет пройдет, прежде чем Вьетнам встанет в один ряд с крестовыми походами Ричарда Львиное Сердце и Пелопонесскими войнами? — Погиб таким молодым… — Голос Виолы дрогнул, однако она справилась с собой и сказала тихо и печально: — Столько уж лет прошло… Холли смотрела на женщину совершенно другими глазами. Первое впечатление оказалось ошибочным. Спокойная, умиротворяющая обстановка в доме, радушие и доброта хозяйки, веселые искорки в ее черных глазах — за всем этим кажущимся благополучием таилось огромное безутешное горе. То, с какой любовью Виола произносила «мой муж», ясно говорило: никакое время не в силах стереть память о молодом морском пехотинце — ее первом и последнем мужчине. После смерти Джо жизнь к потеряла для Виолы всякий интерес и, несмотря на веселый жизнерадостный характер, в сердце женщины навсегда поселилась скорбь. Люди редко оказываются тем, чем кажутся, — этот урок усваивает каждый начинающий журналист, если он только способен чему-нибудь научиться. Люди никогда не бывают проще, чем сама жизнь со всеми ее проблемами и сложностями. Виола опустила в лимонад соломинку. — Слишком сладко. Я всегда кладу чересчур много сахара. Прошу прощения. Она поставила стакан на столик. — Пожалуйста, расскажите мне о брате, которого вы разыскиваете. Вы меня очень заинтриговали. — Помните, когда я вам звонила из Портленда, то сказала, что меня воспитали чужие люди. Я очень благодарна за все, что они для меня сделали, и люблю их, как любила бы настоящих родителей, но… — Конечно, вы хотите узнать, кто ваши настоящие родители. — Просто… я чувствую какую-то пустоту… пустоту в сердце, — запинаясь, заговорила Холли, стараясь не переиграть. Ее удивила не легкость, с какой она лгала, а то, как хорошо у нее это получается. Обман — удобный способ получить информацию у не слишком разговорчивых собеседников. В свое время такие признанные светила, как Джо Макгиннис, Джозеф Вамбо, Боб Вудворд и Карл Бернштейн, доказывали, что журналист имеет право на обман во имя высшей истины. Однако Холли не могла похвалиться большими успехами в этом искусстве. Она смущалась и ругала себя за вынужденную ложь, но, по крайней мере, ей удавалось скрывать эти чувства от Виолы Морено. — В агентстве по усыновлению почти не сохранилось сведений о моих настоящих родителях, но я все-таки сумела узнать, что они умерли двадцать пять лет назад. Мне тогда было всего восемь. В действительности она рассказывала историю о родителях Джима Айренхарта, которые умерли, когда мальчику не исполнилось и десяти. Обо всем этом Холли узнала из газет, читая статью о лотерейном выигрыше. — Поэтому я их совсем не помню. — Как это ужасно. Теперь моя очередь жалеть вас. — В мягком голосе Виолы звучали нотки неподдельного сочувствия.Холли чувствовала себя последним предателем. Состряпанная ею история выглядела насмешкой над огромным горем Виолы. Однако, помня, что обратного пути нет, она продолжала: — Но оказалось, все не так уж плохо. Я обнаружила, что у меня есть брат. Помните, я говорила вам по телефону. Виола придвинулась к собеседнице и положила руки на стол. Ей не терпелось услышать подробности и узнать, какая от нее требуется помощь. — И вы обратились ко мне потому, что я могу помочь отыскать вашего брата? — Это не совсем так. Дело в том, что я его уже нашла. — Как замечательно! — Но… я боюсь… — Боитесь? Чего? Холли опустила глаза в землю. Проглотила несуществующий комок в горле, всем своим видом изображая, что пытается овладеть собою и борется с охватившим ее волнением. Вышло неплохо. Сцена, достойная Академической награды. Холли была противна сама себе. Она снова заговорила, стараясь придать голосу убедительную дрожь: — Он мой единственный родной человек во всем мире, единственная ниточка к отцу и матери, которых я никогда не увижу. Он мой брат, миссис Морено, и я люблю его. Люблю, хотя: никогда не видела. Но что, если я брошусь к нему с открытым сердцем, а он… оттолкнет меня? Скажет… лучше бы мне не показываться? Что, если я ему не понравлюсь? — Боже мой, да как вам такое пришло в голову! Как может не понравиться такая славная молодая женщина? Говорю вам, он будет счастлив, когда узнает, что у него есть такая сестра! Гореть мне в аду синим пламенем, мрачно подумала Холли, но вслух сказала: — Вам это может показать глупым, но я ужасно волнуюсь. Мне никогда не удавалось произвести хорошее впечатление при первой встрече. — Что вы, дорогая, мне вы сразу понравились! Ну-ка, стукни мне каблуком по носу, давай, чего же ты медлишь, мысленно обратилась она к Виоле, но вслух сказала: — Я боюсь рисковать. Хочу узнать о нем как можно больше, прежде чем постучусь в его дверь. Что он любит, что не любит. Как относится к… ко многим вещам. Ах, миссис Морено, я боюсь все испортить. Виола понимающе кивнула: — И вы пришли ко мне потому, что я знаю вашего брата. Возможно, он был среди моих учеников? — Вы преподаете историю в старших классах Ирвинской школы… — Да, я работаю здесь с тех пор, как умер Джо. — Видите ли, мой брат не был вашим учеником. Он преподавал английский в вашей школе. Мне сказали, что вы лет десять работали в соседних кабинетах и хорошо его знаете. Лицо Виолы озарилось улыбкой: — Так вы говорите о Джиме Айренхарте? — Да, Джим и есть мой брат. — Вы просто не представляете, как вам повезло! Это замечательно! Такая восторженная реакция поразила Холли, и она захлопала ресницами, в растерянности уставившись на Виолу. — Джим — замечательный человек, — сказала женщина с искренней теплотой в голосе. — Как бы я хотела иметь сына, похожего на него! Он иногда заходит ко мне, правда, не так часто, как раньше. Мы вместе обедаем. Люблю угощать его чем-нибудь вкусненьким. Для меня это такая радость… Она умолкла на полуслове, и тень легкой грусти прошла по ее лицу. — Да… лучшего брата невозможно и желать. Редко встретишь такого хорошего человека. Джим — прирожденный учитель, вежливый, добрый, терпеливый. Холли подумала о Нормане Ринке — психопате, который вошел в магазин и средь бела дня убил продавца и двух покупателей. Самого его застрелил вежливый, добрый Джим Айренхарт. Он всадил в Ринка восемь зарядов в упор. Причем четыре из них в бездыханный труп. Хотя Виола Морено и знала своего коллегу столько лет, она не имела ни малейшего понятия о том, каким он бывает в гневе. — Я повидала немало хороших учителей на своем веку, но Джим Айренхарт не такой, как все. Он заботился о своих учениках, точно это были его собственные дети. Виола откинулась на спинку стула и покачала головой, припоминая: — Джим отдавал им всего себя, хотел сделать жизнь детей лучше, а ему так страшно не повезло. Он и ученики понимали друг друга с полуслова. Иной учитель за такое все готов отдать, и так и этак старается, а все бесполезно — не любят его дети. А у Джима все само собой получалось. — Почему он ушел из школы? Улыбка на губах Виолы погасла. Помолчав, она нерешительно произнесла: — Отчасти в этом виновата лотерея. — Лотерея? — Разве вы не знаете? Холли посерьезнела и отрицательно покачала головой: — Джим выиграл шесть миллионов долларов. Это было в январе, — пояснила Виола. — Что вы говорите! — Представляете, первый раз в жизни купил билет и выиграл. Убрав с лица удивление, Холли изобразила озабоченный вид: — Какая неожиданность! Теперь Джим подумает: я приехала, узнав, что он разбогател. — Ну что вы, — поспешно успокоила ее Виола. — Джим совсем не такой. Он никогда не думает о людях плохо. — Зарабатываю я прилично, — выдала Холли новую ложь. — Мне его деньги не нужны. Если Джим их предложит, я все равно откажусь. Мои приемные родители — врачи. Не миллионеры, конечно, но на жизнь всегда хватает. Сама я работаю адвокатом, у меня много клиентов. «Ну довольно, раскудахталась: тебе в самом деле не нужны его деньги, — подумала Холли, презирая себя до глубины души, — но ты гнусная лживая тварь, погрязшая во вранье. Стоять тебе веки вечные по уши в дерьме и чистить Сатане ботинки». Настроение Виолы изменилось. Она отодвинула стул, встала и подошла к большому керамическому горшку с бегониями и медно-желтыми ноготками. Сорвала стебелек сорной травы, размяла его в ладони, устремив отсутствующий взгляд на зеленые кроны деревьев. Она долго молчала. Холли сидела как на иголках, обеспокоенно соображая, не выдала ли она себя, ляпнув какую-нибудь глупость. С каждым мгновением нервничала все больше. Еще немного — и она выложит всю правду и покается во лжи. В траве бегали белки. Прилетела бабочка. Она попорхала над столиком, села на край кувшина с лимонадом, а потом улетела. Наконец Холли осмелилась нарушить затянувшееся молчание. Дрожащим, на этот раз от настоящего волнения, голосом она спросила: — Простите, миссис Морено, что-нибудь не так? Виола скатала стебелек в шарик и бросила его в траву. — Просто не представляю, как все это сказать? — Что сказать? — нервно спросила Холли. Виола повернулась к ней и приблизилась к столу. — Вы спросили, почему Джим… почему ваш брат ушел из школы. Я сказала, что из-за лотереи. Но на самом деле это не так. Если бы Джим любил школу, как несколько лет назад, даже год назад, он никогда бы не бросил свою работу, пусть даже из-за сотни миллионов. Холли едва удержалась, чтобы не вздохнуть с облегчением. Слава Богу, Виола ни о чем не догадалась. — И что случилось, почему он так изменился? — Он потерял ученика. — Потерял? — Его звали Ларри Каконис. Он учился в восьмом классе. Очень способный мальчик. Добрый. Но нервы у него никуда не годились. Семья была неблагополучной. Отец постоянно истязал мать. Бил все годы, сколько Ларри себя помнил. Мальчик переживал, что не может спасти мать от побоев. Чувствовал свою ответственность, хотя его вины здесь как раз не было. Знаете, есть дети с очень сильным чувством ответственности. Ларри был как раз из таких. Виола взяла стакан с лимонадом, вернулась на прежнее место и уставилась в землю. Во дворике воцарилась тишина. Холли терпеливо ждала. Наконец женщина заговорила: — У его матери серьезные отклонения в психике. Она была жертвой своего мужа по собственной воле. Оба они были не в себе. А Ларри никак не мог примириться с этой раздвоенностью: он любил мать, но терял к ней уважение, потому что стал понимать: ей нравится получать побои. Холли все поняла. Она знала, чем закончится рассказ Виолы, и ей хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать жестоких слов, но выбора не было. — Джим много занимался с мальчиком. Я не имею в виду только уроки английского. Ларри доверял ему как никому на свете, и Джим был для него как старший брат. Джим советовался с доктором Дансингом, который работает у нас психологом по совместительству. Казалось, дело идет на поправку. Мальчик старался разобраться в своих чувствах к родителям, понять их… Мы думали, все будет хорошо. Но однажды ночью, это было пятнадцатого мая прошлого года — даже не верится, что прошло больше пятнадцати месяцев, — Ларри взял пистолет отца, зарядил, направил дуло себе в рот… и выстрелил… Холли дернулась, как будто ее ударили. Она испытала настоящий шок, хотя полученные ею удары не были физическими. Она содрогнулась при мысли о самоубийстве мальчика. Тринадцать лет — это же так мало, жизнь еще только начинается. В этом возрасте пустяковые сложности разрастаются до огромных размеров, а действительно серьезная проблема кажется катастрофой и приводит в отчаяние. Холли жалела Ларри, ее распирало чувство бессильного гнева: у мальчика было слишком мало времени, чтобы понять — непреодолимых препятствий не существует и в жизни гораздо больше радости и веселья, чем горя и отчаяния. Но не меньше ее потрясла дата самоубийства Ларри Какониса — пятнадцатое мая. В этот день ровно год спустя в Атланте Джим Айренхарт совершил свое первое чудо — спас от смерти Сэма и Эмми Ньюсомов, застрелив наркомана и убийцу Нормана Ринка. Холли не могла усидеть на месте. Она встала и подошла к Виоле. Они вместе стали смотреть на белок, снующих по лужайке. — Джим обвинил себя в смерти мальчика, — тихо произнесла Виола. — Но почему? В том, что случилось, не было его вины. — Он все равно во всем обвинял себя. Такой уж он человек. Но того, что случилось потом, никто не мог представить. После смерти Ларри он потерял всякий интерес к работе. Не верил, что может что-нибудь изменить к лучшему. Он добился больших успехов, чем любой из учителей, которых я знаю, но эта неудача напрочь выбила его из колеи. Холли вспомнила, с каким бесстрашием Айренхарт выхватил маленького Билли Дженкинса из-под колес бешено мчащегося грузовика. Здесь неудачи не было. — Он полностью ушел в себя. Ходил подавленный, никак не мог забыть. Человек, которого Холли встретила в Портленде, не выглядел подавленным, скорее загадочным и сдержанным. Но у него было неплохое чувство юмора, и улыбался он легко и открыто. Виола отпила глоток лимонада. — Надо же, сейчас кажется кислым. — Она поставила стакан на бетонный пол возле ног к и вытерла мокрую ладонь о брюки. Ей хотелось что-то сказать, но она заколебалась и не сразу в произнесла: — Затем с ним стали происходить странные вещи. — Странные вещи? — Джим стал тихим, отрешенным. Начал заниматься восточными единоборствами. — Записался в школу таэквондо. Есть много людей, которые увлекаются подобными вещами, но такие интересы совершенно не в его характере. Это было вполне в характере Джима Айренхарта, которого знала Холли. — И это не было мимолетным увлечением. Каждый день, как только уроки заканчивались, Джим ехал на тренировку в Ньюпорт-Бич. Я уже начала беспокоиться. Он все бросил и занимался только своим таэквондо. Когда в январе Джим выиграл в лотерею, я была счастлива за него. Получить шесть миллионов долларов! Такая большая удача! Я надеялась: выигрыш изменит его жизнь к лучшему и он снова станет Джимом, которого я знала много лет. — Но этого не случилось? — Да. Казалось, он даже не удивился и не обрадовался. Ушел из школы. Переехал из квартиры в новый дом… и еще больше отдалился от друзей. Виола повернулась к Холли и улыбнулась. — Вот почему я так обрадовалась, когда узнала, что вы его сестра и Джим ничего о вас не знает. Может быть, вы сумеете помочь там, где оказались бессильны шесть миллионов долларов. Чувство вины за совершенный обман с новой силой охватило Холли. Она покраснела до корней волос. — Я была бы счастлива помочь, если только у меня получится. — Она надеялась, что простодушная Виола примет краску стыда на ее лице за признак волнения и радости. — Вы сможете, я уверена. Джим сейчас одинок или, вернее, так думает. Ваше присутствие в доме излечит его от тоски. Поезжайте к нему сегодня, лучше всего прямо сейчас. Холли покачала головой. — Не так сразу. Я все-таки не буду спешить. Хочу… немного прийти в себя. Надеюсь, вы ему обо мне ничего не скажете? — Конечно, дорогая. Это ваше право первой сообщить ему эту радостную весть. Представляю, какой это будет волнующий момент! Холли благодарно улыбнулась. Ей показалось, что губы сделаны из жесткой пластмассы и приклеены к лицу, точно бутафория карнавального костюма во время празднования Хэллоуина.[132] Несколько минут спустя, провожая Холли до двери. Виола взяла ее руку в свою ладонь и сказала: — Мне бы не хотелось вас обманывать: вернуть его к жизни — задача не из легких. Сколько я знаю Джима, в нем всегда чувствовалась затаенная печаль. Да тут и нечему удивляться, если вспомнить, как рано он потерял родителей. В десять лет остался сиротой. Холли понимающе кивнула: — Огромное вам спасибо. Вы очень мне помогли. Виола порывисто обняла ее, поцеловала в щеку и сказала: — Надеюсь, мне недолго придется ждать вас обоих на ужин. Посмотрим, что вы скажете о моей толченой кукурузе с мясом и красным перцем и черных бобах с рисом. Я готовлю все острое как огонь. Холли было и приятно, и совестно. Ей очень понравилась Виола. Через несколько минут знакомства учительница казалась любимой тетушкой, которую знаешь много лет. Но Холли мучили угрызения совести: в дом Виолы она проникла нечестным путем. Возвращаясь к машине, Холли ругала себя последними словами. Она не испытывала недостатка в красочных словах и виртуозных выражениях. Сказывался немалый опыт общения с репортерской братией, приобретенный за двенадцать лет скитаний по различным редакциям. Ей ничего не стоило завоевать «Гран-при» в конкурсе на звание самого неистощимого и витиеватого сквернослова.
* * *
В телефонном справочнике Ньюпорт-Бич была указана всего одна школа таэквондо. Она располагалась в торговом центре неподалеку от Ньюпортского бульвара между булочной и магазином, где продавали шторы. «Додж» — прочла Холли на вывеске, украшавшей вход в здание. По-японски слово «додж» означает «зал для занятия боевыми искусствами». С таким же успехом можно назвать ресторан «Рестораном», а магазин одежды — «Магазином одежды». Подобная незамысловатость немало удивила Холли, знакомую с привычкой азиатских бизнесменов награждать свои заведения поэтическими названиями. Трое прохожих стояли на тротуаре перед большой витриной «Доджа». Они жевали эклеры, наслаждались сладостным ароматом, доносившимся из соседней кондитерской, и наблюдали за тренировкой шести спортсменов, которые отрабатывали приемы под командой коренастого, но необычайно проворного инструктора в черном кимоно. Время от времени инструктор швырял на пол одного из учеников, и стекла в витрине начинали дрожать. Еще раз втянув в ноздри воздух, благоухающий шоколадом, корицей, сахаром и свежей сдобой, Холли вошла в дверь и задохнулась от едкого аромата восточных благовоний, смешанного со слабым запахом пота. В свое время она писала статью о портлендском школьнике, который выиграл медаль на чемпионате страны по таэквондо, и помнила, что это корейская разновидность карате, где используются молниеносные прямые и рубящие удары, блоки, захваты и мощные удары ногами в высоком прыжке. Сэнсей-кореец в черном кимоно не скупился на тумаки. Ученики один за другим так и сыпались на пол. Воздух в зале сотрясался от хрипов, сопения, гортанных криков и оглушительных шлепков о маты. За стойкой в дальнем углу зала сидела симпатичная секретарша, которая перебирала листы бумаги и время от времени что-то писала. От уголков глаз до кончиков ногтей она казалась воплощением сексуальности. Узкая красная майка, обтягивающая соблазнительную грудь, не скрывала темных, больших, как спелые вишни, сосков. Буйные пряди густых, искусно подцвеченных волос завитками спускались на чистый лоб. Холли отметила умело наложенные тени вокруг выразительных глаз, маленький коралловый рот и не правдоподобно длинные ногти, покрашенные в тон ярко-красной губной помаде. Драгоценностей, украшающих шею и грудь секретарши, хватило бы на целую витрину ювелирного магазина. Если бы женщина продавались в каждом местном супермаркете, лучшей рекламы для этого товара невозможно и представить. — И что, этот грохот и рев продолжаются целый день? — спросила ее Холли. — Да, с утра до вечера. — Нелегко вам, наверное, приходится. — Не то слово, — заговорщицки подмигнула секретарша. — Понимаю, что вы имеете в виду. Эти племенные жеребцы как начнут налетать друг на друга — я и часу не просижу: вхожу в экстаз. Холли не ожидала, что ее вопрос будет понят таким образом. Ее слова подразумевали, что от постоянного шума может заболеть голова, а уж никак не то, что подумала секретарша. Однако она понимающе подмигнула в ответ и спросила: — Босс на месте? — Эдди? Он сейчас где-нибудь на двухсотой ступеньке, — произнесла женщина непонятную фразу. — А что вы хотели? Холли объяснила, что работает над статьей, которая некоторым образом связана с «Доджем». Секретарша, если она ею действительно была, просияла при этом известии. Весьма многие при схожих обстоятельствах мрачнеют. Она весело сообщила Холли, что Эдди всегда не прочь получить рекламу для своей фирмы. Она встала со стула и, покачиваясь на высоких каблуках, подошла к двери за стойкой. Тугие шорты сидели как влитые. Казалось, нижнюю часть ее тела просто покрасили белой краской. Кому здесь нелегко, так это мужчинам, подумала Холли, окидывая взглядом секретаршу. Как и предсказывала женщина, Эдди весьма обрадовался, узнав, что «Додж», хотя бы и косвенно, будет упомянут в газетной статье. Он только предложил Холли взять у него интервью во время тренировки. Эдди не был выходцем из Азии. Возможно, этим и объяснялось отсутствие полета фантазии в названии его фирмы. Высокий, светловолосый, голубоглазый, он весь, казалось, лопался от мускулов. Когда Холли вошла, Эдди, одетый только в черные эластичные шорты, занимался на тренажере, имитирующем подъем по ступенькам несуществующего здания. — Неплохо, — сказал он, ритмично переставляя ноги, на которых шарами вздувались мускулы. — Еще шесть пролетов, и я буду на вершине колонны Вашингтона. Он дышал тяжело, но не так, как дышала бы Холли, пробеги она вверх по лестнице шесть пролетов до своей портлендской квартиры на третьем этаже. Она села в указанное ей кресло, которое стояло как раз напротив тренажера. С этой точки Эдди смотрелся во всей своей красе. На загорелой бронзовой коже блестели мелкие капельки пота, взмокшие волосы на затылке потемнели и прилипли к могучему загривку. Черные эластичные шорты сидели на нем так же плотно, как на секретарше. Он словно готовился к приходу Холли и специально расположил тренажер и кресло, чтобы показать себя в лучшем виде. Обстоятельства снова вынуждали Холли прибегнуть к обману. Но на этот раз она не испытывала таких сильных угрызений совести, как при разговоре с Виолой Морено. Во-первых, придуманная для этого случая история выглядела куда скромнее: она пишет большую, подробную статью о Джиме Айренхарте (правда), посвященную влиянию, которое оказал на его жизнь лотерейный выигрыш (ложь), с его собственного согласия (ложь). Итого тридцать три процента правды. Вполне достаточно, чтобы спать со спокойной совестью. — Вы уж постарайтесь слово «Додж» написать без ошибок, — сказал Эдди, оглядел свою правую ногу и счастливо добавил: — Вы только посмотрите на икры! Твердые как камень. Как будто все это время его ноги не мелькали у нее перед глазами. — Ни капли жира между кожей и мышцами! Что скажете, а? Перед ней был тщеславный, самодовольный осел. Еще и поэтому Холли не слишком себя казнила. — До вершины. Три пролета, — объявил Эдди. Он тяжело дышал. Слова ритмично вылетали из его рта при каждом новом выдохе. — Всего три? Тогда я подожду. — Нет-нет. Задавайте вопросы. Я не буду останавливаться. Полезу на «Эмпайр Стейт Билдинг». Посмотрю. На сколько. Меня. Хватит. — Айренхарт занимался в вашей школе? — Сам учил. Лично. — Он пришел к вам задолго до того, как выиграл в лотерею? — Больше года назад. — Если не ошибаюсь, в мае прошлого года. — Может быть. — Он рассказывал вам, почему решил изучать таэквондо? — Нет. Он был как одержимый. Следующие слова Эдди почти прокричал, как будто с триумфом взошел на настоящую высоту: — Вершина! Вместо того чтобы замедлить ход, он зашагал еще проворнее. — Его желание не показалось вам странным? — Как это? — Он все-таки был школьным учителем. — У нас есть учителя. Кто угодно. Все хотят быть героями. Он сделал глубокий вдох, со свистом выпустил воздух и возвестил: — Иду по лестнице «Эмпайр Стейт». — Что вы можете сказать об успехах Айренхарта? — Классный боец. Дыхание Эдди участилось. Слова вылетали быстрее, но так же ритмично. — Приходил каждый день. Семь-восемь месяцев. Как проклятый. Железо. Атлетика. Плюс боевые искусства. До потери пульса. Был в такой форме, что мог трахнуть скалу. Извиняюсь. Но так и было. Не вру. Потом бросил. Через две недели, как выиграл баксы. — Понятно. — Вы не так поняли. Дело не в деньгах. — Тогда в чем? — Он сказал, что получил от меня все, что хотел. — Хотел что? — Таэквондо для его целей. — Он не сказал, каких именно? — Без понятия. Наверное, хотел кому-то вышибить мозги. Эдди уже выбивался из сил, но продолжал упорно и ритмично шагать по ступенькам тренажера. Все его мускулистое тело покрылось потом, и бронзовая кожа казалась смазанной маслом. Он встряхивал головой, и мелкие капли пота летели по сторонам. Огромные бицепсы на мощных руках вздувались почти так же неистово, как рельефные мышцы на бедрах и икрах. Сидя от него в трех метрах, Холли чувствовала себя зрителем на стриптизе в грязном ночном клубе, где мужчины и женщины неожиданно поменялись ролями. Она встала с кресла. Эдди шагал и шагал, уставившись на противоположную стену комнаты. Его потное лицо искажалось гримасами напряжения и боли, но отрешенный взгляд уносился в бесконечную даль. Быть может, вместо стены у него перед глазами стояли нескончаемые ступеньки небоскреба «Эмпайр Стейт Билдинг». — Айренхарт не говорил чего-нибудь, что показалось вам… интересным, необычным? Эдди не ответил. Ему было не до нее. Он продолжал свое восхождение. Вздутые артерии на толстой шее пульсировали, словно по ним плыли стайки маленьких круглых рыбешек. Холли взялась за ручку двери, и в этот момент Эдди произнес: — Три вещи. Она обернулась. — Что именно? Эдди не глядел в ее сторону. Устремив взгляд в пустоту, он шагал по лестнице далекого нью-йоркского небоскреба, ни на секунду не сбавляя темпа. — Из всех, кого я встречал, только Айренхарт был одержимее меня. Холли нахмурилась, обдумывая услышанное. — Что-нибудь еще? — За время занятий он пропустил только две недели. В сентябре ездил на курсы вождения в экстремальных условиях. Это где-то на севере Марин-Каунти. — Что это за курсы? — Готовят водителей для политиков, дипломатов, богатых бизнесменов. Учат водить машину, как Джеймс Бонд. Обходить засады террористов и гангстеров. Все в этом духе. — Он говорил, зачем ему это нужно? — Сказал, хочет поразвлечься. — Вы говорили о трех вещах. Он кивнул головой. Крупные капли пота брызнули на ковер и мебель. К счастью, Холли была вне их досягаемости. Эдди по-прежнему глядел мимо нее. — Третья вещь — когда он решил, что знает таэквондо, то захотел научиться стрелять. — Стрелять? — Спросил, где можно узнать все об оружии. Револьверы, пистолеты, винтовки, ружья… — И к кому вы его послали? Эдди задыхался, но слова произносил по-прежнему отчетливо, они следовали все в том же ритме. — Ни к кому. Пушки не по моей части. Знаете, я сейчас подумал: он начитался «Солдат удачи». Решил стать наемником. Как пить дать, готовился к войне. — И вас не волновало, что вы помогаете такому человеку? — Ни грамма, пока он платил за уроки. Холли отворила дверь и задержалась, чтобы спросить: — У вас есть счетчик на этой штуковине? — Да. — На каком вы сейчас этаже? — На десятом, — судорожно выдохнул Эдди, с шумом втянул воздух и снова выдохнул. Лицо его озарилось счастливой улыбкой: — Черт возьми! У меня ноги точно из камня. Чистый гранит. Могу сдавить, как ножницами, и сломать хребет. Так и напишите в своей статье: могу запросто переломить человека, как соломинку. Напишите, а? Холли вышла и осторожно прикрыла дверь. В спортивном зале стало еще более шумно. Сразу несколько спортсменов атаковали корейца-инструктора. Но он ставил блоки, наносил удары, прыгал и кружился, как дервиш, молниеносно расправляясь с нападавшими. Секретарша сняла драгоценности и сменила свой наряд на спортивные кроссовки, широкие шорты, свободную майку и бюстгальтер. Она стояла перед стойкой и делала разогревающие упражнения. — Час дня, — пояснила она удивленной Холли. — Обеденное время. Я вместо еды пробегаю четыре мили, иногда пять. Пока. Секретарша быстро направилась к двери, выскочила на теплую летнюю улицу и побежала вдоль стены торгового центра. Через несколько секунд Холли потеряла ее из виду. Сама она вышла из здания и на миг остановилась, наслаждаясь ласковыми лучами августовского солнца. Теперь она знала, что многие покупатели, снующие у дверей торгового центра, могли похвастаться неплохой спортивной формой. Холли переехала на Северо-Запад почти полтора года назад и совсем забыла, как заботятся о своем здоровье и внешности жители Южной Калифорнии. В Апельсиновой Стране на душу населения приходится куда меньше двойных подбородков, нервных переутомлений, больных желудков и геморроев. Хорошая внешность и хорошеенастроение — вот неотъемлемые черты местного образа жизни. Именно эти качества привлекали Холли в калифорнийцах, но они же порядком выводили ее из себя. Она зашла в кондитерскую. Выбрала шоколадный эклер, пирожное крем-брюле, украшенное плодом киви, кусок хрустящего пирога с орехами и кремом из какао, круглую сдобную плюшку и порцию апельсинового рулета. В кондитерской можно было перекусить, и Холли, заказав еще банку диетической кока-колы, прошла с полным подносом к столику у окна. Стала есть и смотреть на подтянутых, загорелых, по-летнему одетых прохожих. Пирожные произвели на нее самое приятное впечатление. Она медленно, с наслаждением откусывала понемногу от каждого куска, намереваясь уничтожить все до последней крошки. Какое-то время спустя Холли почувствовала на себе чей-то взгляд и обернулась. Толстая женщина лет тридцати пяти, сидевшая через два столика, застыла с приоткрытым ртом, не сводя глаз с ее тарелки. Полное лицо выражало сильнейшее потрясение и зависть. Сама она сжимала в руке лишь жалкий кусочек малокалорийного фруктового печенья. Ощущая потребность объяснить свое чревоугодие и испытывая жалость к несчастной жертве диеты, Холли сказала: — Сама себя проклинаю за это, но не могу удержаться. Я как вхожу в экстаз — сама не своя. Это единственный способ дать выход энергии. Толстая женщина понимающе кивнула: — Прямо как у меня.* * *
Холли поехала к Айренхарту. Теперь она знала о нем достаточно много и хотела рискнуть. Подойти к двери и позвонить. Так она и собиралась сделать. Но вместо того чтобы свернуть к воротам дома, Холли, как и в прошлый раз, медленно проехала мимо. Внутренний голос подсказал ей, что спешить не стоит. Нарисованный ею портрет Джима имел только кажущуюся завершенность. Оставались кое-какие пробелы. И, пока их не покроет слой краски, имеет смысл подождать. Холли вернулась в мотель и провела остаток дня, сидя в комнате у окна. Пила сельтерскую воду, смотрела на сверкающую синюю гладь бассейна в центре ярко-зеленого двора. Думала. Ну что ж, сказала она себе. Что у нас на сегодня? Айренхарт — человек с глубокой печалью на сердце. Возможно, оттого, что потерял родителей еще в десятилетнем возрасте. Допустим, он провел много времени, размышляя о смерти, особенно о несправедливости преждевременной гибели. Он посвящает свою жизнь детям — может быть, потому, что сам хорошо помнит об одиночестве, в котором оказался после гибели родителей. Потом Ларри Каконис совершает самоубийство. Его смерть становится тяжелым ударом для Айренхарта. Он обвиняет себя в том, что случилось, думает, что мог спасти мальчика. В нем вспыхивает ярость на судьбу и хрупкость человеческого существования. Он восстает против Бога. Находясь на грани помешательства, Айренхарт решает сделать из себя супермена, что-то вроде Рэмбо, и бороться с судьбой. В лучшем случае — странное, в худшем — безумное решение. Поднимая тяжести до изнеможения, занимаясь атлетикой и таэквондо, он превращает свое тело в боевую машину. Учится водить автомобиль, как профессиональный каскадер, снайперски стрелять из всех видов оружия. Он готов к бою. И еще одно. Он становится ясновидцем и выигрывает в лотерею шесть миллионов долларов, чтобы на полученные средства начать свой крестовый поход. Он заранее узнает о приближающейся смерти и приходит на помощь. И в этом месте тщательно выстроенная схема разваливалась. Можно отыскать десятки спортивных клубов вроде «Доджа», где можно освоить боевые искусства, но ни в одном телефонном справочнике не найдешь упоминаний о школах, где учат ясновидению. Откуда у него эти сверхъестественные способности? Холли обдумывала этот вопрос и так и этак. Она не надеялась на внезапное озарение, только пыталась определить, в какой стороне можно искать разгадку. Но волшебство есть волшебство. Гадай не гадай — все без толку. Она подумала, что в этот миг похожа на репортера из дешевой газетенки, который стряпает сенсации о космических пришельцах в окрестностях Кливленда, детеныше гориллы, родившемся у аморальной служащей зоопарка, и невероятных дождях в Таджикистане, где с неба сыплются лягушки и цыплята. Но, черт возьми, факты — упрямая вещь, а Джим Айренхарт спас четырнадцать человеческих жизней в самых разных уголках страны. И он всегда появлялся за миг до того, как могло произойти непоправимое. К восьми часам ей уже хотелось биться головой о стену, стол, бетонные бортики бассейна во дворе. Стукнуться лбом обо что-нибудь твердое и выбить в мозгу пробку, мешающую найти ответ. В конце концов Холли решила: пора на ужин. Как и в прошлый раз, она поела в кафе мотеля. Желая искупить вину за пиршество в кондитерской, Холли заказала только вареного цыпленка и салат. Она попробовала снова понаблюдать за посетителями кафе, сидящими за соседними столиками, но мысли об Айренхарте навязчиво преследовали ее. Она продолжала думать о нем и позднее, забравшись в кровать и пытаясь заснуть. Свет уличных фонарей пробивался сквозь неплотно задвинутые жалюзи окна. Лежа на спине с открытыми глазами и разглядывая тени на потолке, Холли честно призналась себе, что Джим интересует ее не только как репортера. Этот материал значил для нее больше, чем что-либо за всю журналистскую карьеру, и Айренхарт, таинственный и непостижимый, сам по себе покорял воображение, независимо от профессиональных устремлений. Однако Холли потянуло к нему еще и потому, что она слишком долго была одна. Одиночество оставило в душе пустоту, заполнить которую может только Джим Айренхарт — самый желанный мужчина из всех, кого она когда-либо встречала. Безумное желание. Может быть, потому, что он безумен. Холли не привыкла гоняться за мужчинами, способными принести только несчастье. Унижаться, чтобы тебя использовали, оскорбили и выбросили как тряпку — нет, это не для нее. Она не желала кидаться на шею первому встречному. Слишком немногие отвечали ее требованиям. Именно поэтому она была одна. Да, ты определенно не из тех, кто кидается на шею первому встречному, саркастически сказала она себе. Именно поэтому ты «входишь в экстаз», едва завидев этого парня с замашками Супермена, только без трико и плаща. Приди же наконец в себя, Торн. Как безответственно, бессмысленно и, в конце концов, просто глупо предаваться романтическим бредням о Джиме Айренхарте. Но какие у него глаза! Холли погружалась в сон. Перед ее мысленным взором стояло лицо Джима, нарисованное на огромном полотнище, которое чуть заметно колебалось в лазурном небе. Его глаза были ярче, чем бездонная небесная синь. Ей приснился тот же сон. Она снова очутилась в темной круглой комнате, шла по деревянному полу, чувствовала запах сырого известняка. Слышала стук дождя, барабанящего по крыше. Потом раздался ритмичный скрежет. Ссшш… На нее надвигалось что-то страшное. Как будто темнота ожила и превратилась в безжалостного монстра, приближение которого нельзя ни увидеть, ни услышать, а можно только почувствовать. Враг. Ссшш… Он неумолимо приближался, жестокий и свирепый. Повеяло холодом, и все внутри сжалось от ужаса. Ссшш… Хорошо, что она ничего не видит. Рядом чудовище настолько жуткое и непостижимое, что даже один взгляд на него означает смерть. Ссшш… Мокрые скользкие щупальца присосались к шее и стали расползаться, омерзительно холодные, толстые, как карандаши. Острое жало зонда пробуравило шею и медленно вонзилось в череп. Ссшш… Холли вскрикнула и проснулась. И сразу поняла, что находится в номере мотеля Лагуна-Хиллз. Ссшш… Звук из ночного кошмара продолжал ее преследовать. Огромное лезвие со свистом резало воздух. Это не сон. Все происходило на самом деле. Комната дышала холодом, как непроглядная черная тьма ночного кошмара. Сердце, скованное цепями страха, тянуло к земле, Холли не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Она вдыхала запах сырого известняка. Откуда-то снизу, как будто под полом мотеля разверзлась бездна, донесся приглушенный рокот. Каким-то образом она знала, что означает непонятный звук: огромные каменные колеса с грохотом ударялись друг о друга. Ссшш… Мокрые щупальца продолжали обвивать шею и затылок. Словно отвратительные черви, они вгрызались в кость, корчились за стенками черепа. Мерзкий паразит выбрал ее тело, чтобы отложить яйца в человеческом мозгу. Но не было сил пошевелиться. Ссшш… Она видела только бледные полосы на черном потолке — мутный свет уличных фонарей, проникающий сквозь щели в жалюзи на окнах. Так хотелось, чтобы было больше света. Ссшш… Холли жалобно захныкала от ужаса. Собственная слабость показалась ей отвратительной. Презрение к себе помогло выйти из долгого паралича. Задыхаясь, она села на кровати, потянулась руками к затылку, спеша оторвать от тела маслянистый, холодный, как червь, зонд. Пальцы наткнулись на пустоту. Холли свесила ноги с края кровати. Стала нащупывать ночник. Чуть не уронила его со столика. Нашла выключатель. Комната озарилась светом. Ссшш… Она спрыгнула с кровати. Снова скользкие щупальца на затылке. Они расползались по шее и лопаткам. Ее пальцы судорожно хватали воздух, не находя ничего, царапали собственную кожу, но Холли чувствовала омерзительные прикосновения этих кошмарных щупальцев. Ссшш… Она была на грани истерики и ничего не могла поделать, только глухо всхлипывала от страха и отчаяния. Краем глаза заметила, что комната ожила и задвигалась. Стена за кроватью, мокрая и блестящая, набухла, вспучилась, будто мембрана, словно на нее давила жуткая тяжесть. Она пульсировала как огромный склизкий орган в разрубленном брюхе доисторического ящера. Ссшш… Холли попятилась от надвигавшейся на нее зловещей стены. Повернулась. Бросилась бежать. Скорее выбраться отсюда. Враг из ночного кошмара. Он преследует ее. Хочет убить. Она заметалась в поисках выхода. Налетела на запертую дверь. Трясущимися руками отодвинула тугую задвижку, сорвала цепочку и, уже ничего не соображая от ужаса, распахнула дверь настежь. В проеме чернела огромная жуткая глыба. Она зашевелилась и, дрожа и пульсируя, начала вползать в комнату. Такое увидишь только в горячечном бреду. На Холли надвигалось гигантское черное насекомое или рептилия. Чудовище тянулось к ее лицу склизкими щупальцами, сучило мохнатыми паучьими лапами, извивалось, рывками протискивая в дверь длинное туловище, покрытое чешуйчатыми кольцами. Оно разевало пасть, роняя черную пену, обнажая страшные клыки, желтые и острые, как у гремучей змеи. Пустые стеклянные глаза обшарили комнату, и их ледяной взгляд остановился на Холли. Тысячи кошмаров, спрессованные в один. Но это не сон. Чудовище переползало через порог. Острые крючья когтей вонзились ей в тело, разрывая кожу, раздирая на куски живую плоть. Холли закричала от боли. Легкий ночной ветерок ворвался в комнату, принеся с собой теплое дыхание летней ночи. В комнате и за дверью никого. Холли прислонилась к косяку, пытаясь отдышаться, унять дрожь. Она изумленно посмотрела на пустую бетонную дорожку во дворе мотеля, перевела взгляд на раскидистые королевские пальмы, заросли австралийского папоротника. Теплый ночной бриз ласково покачивал широкие кружевные листья. Поднимал рябь на поверхности плавательного бассейна. Мелкие нескончаемые круги разбегались во все стороны, отражая свет установленных на дне прожекторов. Холли почудилось, что она видит не бетонную коробку, заполненную водой, а яму со сверкающими сапфирами из пиратской казны. Страшное чудовище пропало, будто его никогда не было. Оно не убежало со всех ног, не уползло в темноту по качающейся паутине, просто исчезло, испарилось. Холли и глазом не успела моргнуть. Она перестала чувствовать ледяное, скользкое жало, которое буравило шею, извивалось и корчилось в черепе. Захлопали двери ближайших номеров: на бетонной дорожке показались соседи, разбуженные ее криком. Холли отступила в комнату. Зачем привлекать всеобщее внимание? Она обернулась и посмотрела на стену, возле которой стояла кровать. Стена как стена, ничего особенного. Часы на ночном столике показывали восемь минут шестого. Наступило утро. Она тихо прикрыла дверь. Силы вдруг оставили ее, ноги подкосились, и Холли прислонилась к стене, чтобы не упасть. Тяжкое испытание осталось позади, но облегчения не было. Холли чувствовала себя совершенно разбитой. Просунув руки под мышки, она попыталась согреться и успокоиться, но все тело сотрясалось от крупной дрожи, зубы стучали. По лицу текли слезы, она тихо и жалобно всхлипывала. Холли плакала не от пережитого страха или опасений за свою дальнейшую судьбу — угнетала легкость, с которой растоптали ее волю. В течение этих коротких, но бесконечных мгновений она почувствовала себя беспомощной, истерзанной, целиком во власти страшных, недоступных человеческому пониманию сил. Она стала жертвой психического насилия. Дикое свирепое чудовище сломило ее сопротивление и вторглось в сознание. Оно ушло, оставив черные следы своего присутствия, запачкав душу и разум. Это всего лишь сон, подбодрила себя Холли. Но это не было сном. Когда она села на кровати и потянулась к выключателю, она проснулась, но кошмар последовал за ней в реальный мир. Это всего лишь сон, успокойся, не надо так нервничать, убеждала себя Холли, пытаясь обрести утраченное самообладание. Тебе приснилась темная комната, потом приснилось, как садишься на кровати, зажигаешь свет, как надвигается стена и ты бежишь к двери. Но ты шла, как лунатик. Спала на ходу. Тебе снилось, как открывается дверь и в комнату вваливается монстр. Ты закричала от ужаса и проснулась от собственного крика. Хотелось верить в это объяснение, но слишком уж оно было гладким Никогда в жизни Холли не видела кошмаров, где каждая мелочь поражает достоверностью. Кроме того, она не лунатик Ей угрожала реальная опасность. Хотя, может быть, и не само чудовище, похожее одновременно на рептилию и паука. Возможно, это всего лишь маска, с помощью которой ее хотели напугать. Но угрожавшее ей зловещее существо проникло в реальный мир из… Откуда оно взялось? Не столь важно. Из запредельного, нечеловеческого мира. Извне. И она едва не погибла. Какая чушь! Материал для бульварной прессы. Такую несусветную галиматью не станут печатать даже в «Нэшнл инкуайерер». «Чудовище из чужой галактики изнасиловало мой мозг». Это в три раза глупее, чем «Певица Шер объявляет себя пришелицей из космоса», в два раза нелепее, чем «Иисус говорит с монахиней из микроволновой печи», и куда скучнее, чем «Элвис с пересаженным мозгом живет под именем Розанны Барр». От этих мыслей она развеселилась и успокоилась. Со страхом легче справиться, если веришь, что все ужасы — плод твоего воспаленного воображения. Не так уж удивительно, если учесть, что случай Айренхарта действительно выходит за рамки обычного. К Холли вернулись силы. Она отступила от стены, закрыла задвижку, набросила цепочку на крючок. Сделала еще шаг и сморщилась от внезапной боли в левом боку. Ничего страшного, но щиплет. Холли даже тихонечко застонала. Повернулась и почувствовала, что правый бок тоже саднит, хотя и слабее, чем левый. Она задрала майку и увидела, что материя порвана и испачкана кровью. Три пореза на левом боку, два справа. Охваченная прежним страхом, Холли прошла в ванную и включила яркий свет. Замерла перед зеркалом в нерешительности, потом стянула с себя майку. Из трех глубоких царапин на левом боку тоненькими струйками сочилась кровь. Верхняя рана алела под грудью, две другие шли параллельно. Все три на равном расстоянии друг от друга. Две царапины справа уже не кровоточили. Это были следы когтей.* * *
Джима вырвало. Он включил воду, прополоскал рот и почистил зубы мятной пастой. Взглянул в зеркало и вздрогнул, увидев перед собой незнакомое, смертельно бледное лицо. Не выдержал и поспешно отвернулся. Прислонился к раковине. Боже мой, что со мной происходит, в тысячный раз задал он себе вопрос, который терзал его уже больше года. Ему опять приснился сон про мельницу. Никогда прежде один и тот же кошмар не мучил его две ночи подряд. Обычно проходили недели. Он мог хотя бы немного прийти в себя. На первый взгляд все выглядело как раньше — шум дождя за стеклами узких окон, дрожащее пламя свечи, тени, пляшущие по потолку, свист вращающихся крыльев мельницы и глухой гул жерновов под полом. Снова необъяснимый судорожный страх. На этот раз он был не один. Кто-то незримый, зловещий надвигался из темноты, приближаясь с каждой секундой. Джим не представлял, как выглядит невидимое существо и каковы его намерения. Ждал, что вот-вот посыплются кирпичи и из пролома в стене вырастет кошмарный монстр. Чудовище могло появиться откуда угодно — из отверстия в полу, через тяжелую дубовую дверь на верхней площадке лестницы. Джим заметался в растерянности, не зная, куда бежать. Наконец бросился к двери, распахнул ее и… проснулся от собственного крика. Открыл глаза. Он не помнил, кто скрывался за дверью. Но кем бы ни было зловещее чудовище, Джим знал, как его назвать: «Враг». Только теперь это слово отпечаталось в его мозгу, словно на листе бумаги. Оно начиналось с заглавной буквы: «Враг». Безликий монстр, преследующий его во многих ночных кошмарах, проник в сон о старой мельнице. Ему в голову пришла безумная мысль: чудовище — не кошмарный бред, рожденный в черных глубинах подсознания, а реальность, такая же реальность, как он сам. Рано или поздно «Враг» пересечет барьер, отделяющий мир снов от действительности, так же легко, как перешел из одного кошмара в другой.Глава 4
О возвращении в постель не могло быть и речи. Холли знала: ничто в мире не заставит ее снова лечь спать. Пока хватит сил, она будет держаться на крепком черном кофе, а потом дойдет до предела своих возможностей и рухнет в беспамятстве. Сон перестал быть убежищем и превратился в источник опасности, дорогу в ад или еще куда похуже. На этой дороге можно ненароком повстречать непрошеного попутчика с нечеловеческим лицом. Холли страшно разозлилась. Ее лишали неотъемлемого права на спасительный отдых. Наступил рассвет. Она забралась под душ и долго мылась. От горячей воды и мыла щипало незатянувшиеся раны на боках. Она осторожно и тщательно соскребла засохшую кровь. В голову пришла тревожная мысль: от короткого соприкосновения с монстром можно заразиться какой-нибудь чудовищной инфекцией. Это привело ее в ярость. Еще со скаутских времен Холли привыкла иметь дело со всякими неожиданностями. Рядом со щеткой и бритвой в ее дорожной сумочке всегда лежала маленькая аптечка с йодом, марлей, лейкопластырем, баллончиком противоинфекционного аэрозоля и мазью от ожогов. Она вытерлась полотенцем и, не одеваясь, села на край кровати. Попрыскала на раны аэрозолем и смазала порезы йодом. Холли стала репортером еще и потому, что в юности верила: журналистика способна показать народу правду жизни, объяснить вещи и явления, которые иногда кажутся хаотичными и бессмысленными. Однако за десять лет работы в газете эта вера основательно пошатнулась. В конце концов она бросила попытки отыскать хоть какую-нибудь логику в людских поступках и пришла к выводу, что в мире царит хаос, а феномен человека вообще не поддается объяснению. Тем не менее ее рабочий стол в редакции, на котором не было ничего лишнего и каждая вещь лежала на своем месте, являл собой образец аккуратности, а одежда в шкафу располагалась в строго определенном порядке: сначала по времени года, потом в зависимости от того, по какому случаю она собиралась выйти из дома (официальная, полуофициальная, повседневная), и, наконец, по цвету. Раз жизнь сплошной хаос, а журналистика так жестоко ее подвела, не остается ничего лучшего, как положиться на собственные привычки и размеренный образ жизни. Только так, создав крохотный и хрупкий, зато стабильный мирок, можно оградить себя от всеобщего беспорядка и сумятицы. Йод щипал ранки. Ярость переполняла Холли. Жесткие струи душа смыли запекшуюся кровь, и из глубокого пореза в левом боку потекли тонкие алые струйки. Она снова опустилась на край кровати и, прижав к ранкам бумажный тампон, подождала, пока не остановилось кровотечение. Потом встала и оделась: натянула темно-коричневые джинсы и блузку изумрудного цвета. Часы показывали половину восьмого. Холли давно решила, с чего начнет день, и не собиралась отступать от своих планов. Завтракать она не стала — какой уж тут аппетит! Вышла на улицу. На небе ни единого облачка, утро необычайно теплое даже для Апельсиновой Страны. Прекрасная погода для отдыха, но Холли спешила, у нее даже не возникла мысль замедлить шаг и подставить лицо ласковым лучам утреннего солнца. Она села в машину, выехала со стоянки и направилась в сторону Лагуна-Нигель. Пришло время позвонить в дверь Джима Айренхарта и потребовать ответа на вопросы, которых накопилось уже предостаточно. Холли намеревалась получить исчерпывающее объяснение, каким образом он узнает о приближающейся опасности и почему рискует жизнью ради спасения совершенно незнакомых людей. Но она также хотела узнать, как ночной кошмар превратился в действительность, почему стена в номере гостиницы начала блестеть и пульсировать, словно живая плоть, и что за чудовище набросилось на нее ночью и оставило на коже следы вполне реальных когтей, сделанных из материала посущественней сновидений. Наверняка Айренхарт знает ответы на эти вопросы. Прошлой ночью, второй раз за тридцать три года ее жизни, Холли столкнулась с непостижимым. Первая встреча произошла двенадцатого августа, в день, когда неподалеку от школы Мак-Элбери Айренхарт чудом спас Билли Дженкинса из-под колес грузовика, — хотя в тот миг она и не поняла, что сверхъестественное появилось из Сумеречной Зоны. Недостатков у нее хоть отбавляй, но глупость не из их числа. Только полный идиот не увидит связи между полунормальным Айренхартом и ночным кошмаром, который становится реальностью. Так что сказать, что Холли разозлилась, значило ничего не сказать. Машина стремительно двигалась по шоссе Краун-Велли. Внезапно Холли поняла, что злится еще и из-за того, что надежды, связанные с эпохальной статьей о светлом чуде, мужестве и торжестве справедливости оказались разбиты в пух и прах. Как и большинство сенсационных репортажей со времен появления первых газет, ее история имеет мрачную сторону.* * *
Джим принял душ и оделся, чтобы идти в церковь. Вообще-то он не слишком часто посещал воскресную мессу или службы религий, к которым время от времени обращался в последние годы. Однако, став оружием высших сил — это произошло в мае, когда он вылетел в Джорджию и спас Сэма и Эмили Ньюсомов, — Джим все чаще думал о Боге. Рассказ отца Гиэри, который нашел его лежащим без сознания на полу церкви Святой Девы Пустыни со следами Христовых ран, взволновал Джима до глубины души и заставил опять, впервые за последние два года, обратиться в лоно католической церкви. Он не рассчитывал, что этот шаг даст ему ключ к разгадке случившихся с ним таинственных событий, но по крайней мере у него оставалась надежда. Войдя в кухню, Джим протянул руку за ключами от машины, которые висели на гвоздике возле двери гаража, и вдруг услышал знакомые слова, произнесенные им самим: «Линия жизни». Все задуманное мгновенно отошло на второй план. Он замер в нерешительности. Потом, повинуясь знакомому ощущению марионетки, управляемой неведомым кукольником, повесил ключи на место. Вернулся в спальню, снял изящные ботинки из мягкой кожи, серые брюки, темно-синий плащ, белую рубашку и надел легкие хлопчатобумажные бананы и широкую гавайскую рубаху навыпуск. Одежда должна быть просторной и не стеснять свободы движений. Джим не имел понятия, зачем ему это нужно и что его ждет впереди, но чувствовал, что это необходимо. Он опустился на пол перед шкафчиком с обувью и выбрал пару удобных разношенных кроссовок. Завязал шнурки, крепко, но не слишком туго. Встал, прошел по комнате. Полный порядок. Рука потянулась к верхней полке, где лежал дорожный саквояж, и остановилась на полпути. Джим не был уверен, что ему потребуется багаж. Еще через несколько секунд он понял, что будет путешествовать налегке, и, не взяв чемодан, захлопнул дверь шкафа. Отсутствие багажа обычно означало, что он доберется до цели на машине и вся поездка, включая дорогу и само задание, займет не более суток. Но, повернувшись к шкафу спиной, Джим с удивлением услышал свой голос: «Аэропорт». Хотя, конечно, за день можно слетать туда и обратно. Таких мест не так уж мало. Он взял со столика бумажник, подождал, не наступит ли команда положить вещь на место, и опустил его в карман брюк. Очевидно, ему потребуются не только деньги, но и документы — в противном случае он не стал бы брать в дорогу удостоверение личности, рискуя быть опознанным. Вернувшись на кухню за ключами от машины, Джим почувствовал холодный озноб. Однако охвативший его страх был слабее, чем в тот день, когда внутренний голос приказал ему угнать машину и отправиться в пустыню Мохавк. Он волновался куда меньше, чем в прошлый раз, хотя впереди его могла ждать встреча с врагами пострашнее, чем двое негодяев из фургона. Джим знал, что может погибнуть. Загадочные высшие силы, управляющие его поступками, не гарантировали бессмертия. Он по-прежнему был обычным человеком с уязвимой плотью, хрупкими костями и сердцем, чей бег легко остановит свинцовая пуля. И несмотря на это, к Джиму возвращалось спокойствие — мистическая поездка на «харлее», два дня, проведенные с отцом Гиэри, и рассказ о стигме убедили его, что здесь не обошлось без Божественного провидения.* * *
Машина Холли двигалась по Бугенвиллия-Уэй. Она почти у цели, осталось проехать всего один квартал. Неожиданно Холли увидела, что от дома Айренхарта отъехал темно-зеленый «Форд». Она не знала, какой у него автомобиль, но так как Джим жил один, решила, что в машине он. Холли прибавила скорость. Ее первым желанием было обогнать «Форд» Айренхарта, перегородить дорогу и прямо на улице выложить все, что она о нем думает. Но затем Холли успокоилась и ослабила нажим на педаль акселератора. От осторожности еще никто не умирал. Благоразумнее всего проследить, куда он направляется и что собирается делать. Холли миновала дом Джима как раз в тот момент, когда опустилась автоматическая дверь гаража. Все произошло очень быстро, но она успела заметить, что другой машины в гараже нет. Значит, человек в «Форде» — Джим Айренхарт. Поскольку Холли никогда не поручали статьи о торговцах наркотиками, коррумпированных политиках и продажных бизнесменах, ей не довелось изучить искусство слежки. Какой толк от навыков секретного агента, если пишешь только о «Призовых бревнах», конкурсах обжор и ловкачах, которые жонглируют живыми мышами на ступеньках муниципалитета и выдают это занятие за новый вид искусства. К тому же Айренхарт прошел двухнедельную подготовку в специализированной школе вождения в Марин-Каунти. Если уж он знает, как уходить от погони террористов, то от нее скроется в мгновение ока, лишь только заметит, что она за ним следит. Холли отпустила «Форд» на самое большое расстояние, на которое она решилась, и спряталась за соседними автомобилями. Ей повезло: в это воскресное утро движение оказалось довольны оживленным, хотя машин было не так много, чтобы она боялась потерять его из виду. Зеленый «Форд» двигался на восток, затем повернул на север и по 405-й автостраде направился в сторону Лос-Анджелеса. Промелькнули высотные здания Сауф-Коаст-Плаза. Эта центральная площадь — основное место, куда жители двухмиллионной столицы Апельсиновой Страны приезжают по делам и за покупками. Настроение у Холли было лучше не придумаешь. Она оказалась на удивление хорошим сыщиком и вела слежку на высоком профессиональном уровне: пристроившись в хвосте у зеленого «Форда», она шла на две-четыре машины позади, ни на секунду не упуская его из виду и сохраняя расстояние, достаточное для того, чтобы мгновенно среагировать, если Айренхарт захочет неожиданно свернуть с шоссе. Радость от собственных успехов понемногу вытеснила гнев Эта погоня доставляла ей немалое удовольствие. Холли даже поймала себя на мысли, что восхищается небесной лазурью и буйным цветением бело-розовых олеандров, растущих вдоль обочины шоссе. Однако, когда позади остался Лонг-Бич, Холли начала беспокоиться: так можно проездить целый день и все без толку. Ведь и ясновидящим супергероям тоже нужен отдых. Например, чтобы пойти в театр или отправиться в китайский ресторанчик, где самая большая опасность — едкая горчица местного шеф-повара. Она спросила себя: не может ли Айренхарт, обладая экстрасенсорными способностями, узнать о ее присутствии. Их разделяет всего несколько машин, и сделать это куда легче, чем почувствовать, что маленькому мальчику в Бостоне угрожает смертельная опасность. Хотя, может быть, его дар к ясновидению непостоянен, и им нельзя пользоваться по собственному усмотрению. Вполне возможно, он срабатывает только на сильные импульсы опасности, разрушения и смерти. Такое объяснение не лишено здравого смысла. Это ведь сущая мука — знать наперед, понравится ли тебе новый фильм, вкусным ли окажется ужин и не придется ли страдать желудком из-за того, что ты с таким удовольствием ел спагетти с чесночным соусом. Тем не менее Холли решила держаться подальше и пропустила вперед еще пару машин. Когда «Форд» свернул с шоссе на дорогу, ведущую к Лос-Анджелесскому международному аэропорту, Холли пришла в возбуждение. Вполне возможно, он просто едет кого-нибудь встречать. Однако куда более вероятно, что Айренхарт отправляется в одну из своих спасательных командировок, точно так же, как две недели назад, двенадцатого августа, он вылетел в Портленд. Такая неожиданность застала Холли врасплох: она не рассчитывала на длительное путешествие и не взяла с собой ничего из вещей. Впрочем, все не так уж плохо, если имеешь деньги и кредитные карточки. В конце концов, в любом месте можно купить блузку и переодеться. Перспектива следовать за Джимом до самой развязки казалась весьма соблазнительной. Когда она станет писать статью, у нее, как у очевидца двух случаев чудесного спасения, будет о чем рассказать читателям. Холли порядком перетрусила, когда Джим неожиданно развернулся перед гаражом и их машины оказались совсем рядом. Можно было, конечно, проехать мимо и найти место на соседней стоянке, но тогда она его наверняка упустит. Она отстала, насколько ей это удалось, и приняла талончик из рук служащего гаража всего через несколько секунд после Джима. Айренхарт поставил «Форд» в середине ряда на третьем уровне, Холли нашла свободное место через десять машин от него. Она пригнулась на сиденье и подождала, пока он выйдет и закроет дверь: меньше вероятности, что Айренхарт обернется и заметит ее. Она немного промедлила и чуть его не упустила. Когда выскочила из машины, Джим уже дошел до конца коридора и скрылся за поворотом. Холли бросилась вдогонку. Ее быстрые легкие шаги гулко отдавались в пустом коридоре с бетонными стенами и низким потолком. Она добежала до поворота и увидела, что он подходит к лестнице. Она последовала за ним, прислушиваясь к звуку его шагов: Джим достиг последней ступеньки и открыл дверь. К счастью, его яркая гавайская рубаха позволила Холли держаться на безопасном расстоянии без риска упустить Айренхарта. Она смешалась с толпой, и поток пассажиров понес ее к зданию Объединенных авиакомпаний. Отправляться в рабочую командировку без финансовой поддержки газеты весьма и весьма накладно. Если Айренхарт собирается кого-то спасать, не обязательно лететь в Гонолулу. Это можно сделать в Сан-Диего. Джим остановился перед мониторами и стал изучать табло отправления, а Холли наблюдала за ним, спрятавшись за спинами высоких шведов, расположившихся неподалеку от расписания. Судя по нахмуренному лицу, он, похоже, не мог найти подходящего рейса. Или, быть может, просто еще не знал, куда ему нужно лететь. Возможно, знание придет позднее, и это потребует усилий. Но до тех пор пока Джим не попадет на место, для него так и останется загадкой, чью жизнь он будет спасать. Через несколько минут Джим отошел от мониторов и направился к кассам. Холли продолжала следить за ним издали, пока не сообразила, что единственный способ узнать, куда он летит, — подойти поближе и подслушать его разговор с кассиром. Она неохотно приблизилась. Конечно, можно подождать, пока он купит билет, пройти за ним в зал отправления, узнать, куда он отправляется, и купить билет на тот же рейс. Но что, если самолет улетит, пока она бегает по бесконечным залам и коридорам аэропорта? Можно сказать клерку в кассе, что она нашла оброненную Айренхартом кредитную карточку, и спросить номер рейса, на который Джим купил билет. Но служащие авиакомпании могут предложить оставить карточку у них, или, если ее история покажется им подозрительной, они еще, чего доброго, вызовут людей из службы безопасности. Холли встала в очередь к окошечку. Она осмелилась подойти к Джиму так близко, что теперь они стояли через одного человека. Перед ней возвышался массивный пассажир с большим животом — ни дать ни взять отставной защитник из Национальной футбольной лиги. От него пахло потом, но Холли радовалась, что нашла такое хорошее прикрытие. Короткая очередь быстро двигалась. Когда Айренхарт подошел к окошечку, Холли протиснулась мимо толстого «футболиста» и вся обратилась в слух. Но в этот миг, очень некстати, начали передавать объявление. Женский голос, звучный, но словно механический, сообщил о том, что найден потерявшийся ребенок. И тут еще мимо них проследовала группа возбужденных Нью-Йоркцев, которые дружно жаловались на фальшивую приветливость калифорнийских работников сферы обслуживания. Похоже, их замучила ностальгия по суровым лицам нью-йоркских продавцов и официантов. В этом шуме потонули слова Айренхарта. Холли подалась вперед. Громоздкий пассажир посмотрел на нее сверху вниз и нахмурился: он явно решил, что она хочет проскочить без очереди. Холли заискивающе улыбнулась, стараясь всем своим видом показать, что не имеет дурных намерений и хорошо понимает, какой он большой и мощный и что ему ничего не стоит раздавить ее как муху. Если бы Айренхарт оглянулся, они бы столкнулись нос к носу. Затаив дыхание, она услышала, как клерк произнес: «Аэропорт О'Хэр в Чикаго, отправление через двадцать минут», и спряталась за широкой спиной «футболиста», который проводил ее недружелюбным взглядом. Холли не могла взять в толк, зачем нужно было ехать в Лос-Анджелесский международный аэропорт, чтобы лететь в Чикаго Ведь наверняка из аэропорта Джон Уэйн в Апельсиновой Стране есть куча рейсов до О'Хэр Что ж, Чикаго, конечно, дальше, чем Сан-Диего, но ближе и, что самое главное, дешевле, чем Гавайи. Айренхарт расплатился за билет и, так и не заметив Холли, поспешил в зал отлета. А еще экстрасенс! Холли осталась довольна собой. Когда подошла се очередь, она протянула в окошко кредитную карточку и назвала тот же рейс. На какой-то миг Холли встревожилась, что ей ответят: мест нет. Но места были и она купила билет. Зал отлета опустел. Очевидно, посадка уже заканчивалась. Айренхарта тоже не видно. Холли прошла в стеклянные двери и заспешила по телескопическому трапу. Чувствовала она себя неуютно: Джим может ее увидеть, пока она будет идти по проходу к своему месту. Конечно, можно сделать вид, что она его не заметила, или притвориться, что не помнит, кто он такой. Однако вряд ли он поверит, что их встреча — чистая случайность. Всего полтора часа назад ей не терпелось встретиться с ним лицом к лицу, а сейчас она больше всего хотела остаться незамеченной. Вдруг, обнаружив ее в самолете, Айренхарт решит отменить свои планы, и она упустит шанс еще раз увидеть, как он спасает людей, находящихся на волоске от смерти. В просторном салоне «ДС-10» было два прохода между креслами. Каждый ряд из девяти кресел разделялся на три секции: по два кресла у иллюминаторов и пять в середине. Холли досталось место в двадцать третьем ряду, правая сторона, второе кресло от окна. Она двинулась по проходу, бросая быстрые взгляды на лица пассажиров и надеясь, что не встретится глазами с Айренхартом. Честно сказать, ей вообще не хотелось видеть его во время полета, да и о встрече в Чикаго она тоже думала с неохотой. «ДС-10» поражал своими размерами. Хотя многие места пустовали, на борту находилось более двухсот пятидесяти человек. Они с Айренхартом могли бы путешествовать вокруг земного я шара и ни разу не столкнуться друг с другом. До Чикаго лететь всего несколько часов, так что можно не волноваться. И тут она его увидела. Джим сидел в крайнем левом кресле центральной секции шестнадцатого ряда. Он перелистывал рекламный журнал авиакомпании. Холли молила Бога, чтобы Джим не поднял глаз от журнала, пока она не пройдет мимо. Ей пришлось отступить в сторону и пропустить стюардессу, сопровождавшую маленького мальчика, который путешествовал один. Но просьба ее была услышана. Она проскользнула мимо Айренхарта, а он, погруженный в чтение, не обратил на нее никакого внимания. Она нашла свое место и со вздохом облегчения опустилась в кресло. Даже если Джим захочет пойти в туалет или просто встанет, чтобы размять ноги, ему вряд ли придет в голову заглянуть в противоположный проход между креслами. Отлично. Холли бросила взгляд на своего соседа у окна. Рядом с ней сидел загорелый, подтянутый бизнесмен лет тридцати с небольшим. Несмотря на воскресенье, на нем был строгий темно-синий костюм, белая рубашка и галстук. На безукоризненно выглаженной одежде не просматривалось ни единой складки. Похоже, все они перешли на наморщенный лоб молодого человека, который сосредоточенно склонился над переносным компьютером, вмонтированным в дипломат. В ушах у него были наушники от плейера: то ли он слушал музыку, то ли надел их для виду, чтобы не приставали с разговорами. Сосед перехватил взгляд Холли и улыбнулся вежливой холодной улыбкой, рассчитанной на такую же реакцию. Такой вариант вполне устраивал Холли. Как и многие репортеры, она не была словоохотливой по натуре. В работе от нее требовалось 155 главным образом умение выслушать собеседника, а не развлекать его разговорами. Поэтому она была не прочь скоротать время полета, перелистывая предложенный стюардессой журнал и блуждая в лабиринтах своих запутанных мыслей.* * *
Самолет летел уже два часа, а Джим все еще не имел понятия, куда он направится после посадки в аэропорту Чикаго. Впрочем, такая неясность не слишком его тревожила. Прошлые поездки научили его терпению, и он не сомневался, что рано или поздно узнает, что от него требуется. Журнал показался ему скучным, и Джим отложил его в сторону. В салоне показывали фильм, но это зрелище было не намного увлекательнее отдыха в советской тюрьме. Два места справа пустовали, и он был избавлен от необходимости поддерживать дипломатические разговоры с сидящими рядом пассажирами. Джим откинулся на спинку кресла, сложил руки на животе и прикрыл глаза, погружаясь в размышления о кошмаре, в котором являлась мельница. Однако скоро ему пришлось отвлечься и ответить на вопросы стюардессы, которая разносила еду и спрашивала о самочувствии пассажиров. Но потом он снова вернулся к прерванным мыслям. Вернее, попытался заставить себя думать о том, что означает страшный сон, но почему-то вспомнил журналистку Холли Торн. Впрочем, какой смысл себя обманывать? Он отлично знает, почему его мысли уже в который раз обратились к Холли Торн. С тех пор как они встретились, он постоянно думал о том, какая она красивая и умная. Стоит только на нее взглянул, как сразу понимаешь, что в голове у Холли миллион хорошо смазанных колесиков и пружинок, которые работают четко, бесшумно и эффективно. У нее великолепное чувство юмора. Он отдал бы все на свете за возможность разделить с такой женщиной свои дни и длинные кошмарные ночи. Вместе с ней в его пустом доме поселится веселый женский смех. Одиночество не располагает к веселью. Если начинаешь смеяться над собственными шутками, пора подумать о долгом отдыхе в одном из заведений с мягкими стенами. Джим плохо знал женщин и зачастую сторонился их. Приходилось констатировать, что и до того, как с ним начали твориться все эти чудеса, он был труден в общении. Нельзя сказать, что его общество действовало на окружающих угнетающе, просто он слишком хорошо знал, что смерть — непременный спутник человека, и, часто задумываясь о приближении конца, не мог отрешиться от черных мыслей и наслаждаться жизнью. Вот если бы… Почувствовав внезапное озарение, Джим открыл глаза и выпрямился в кресле. Он все еще не представлял, что должно случиться в Чикаго, но теперь ему были известны имена людей, которых нужно спасти: «Кристин и Кейси Дубровек». С удивлением осознав, что жертвы находятся на борту самолета, он предположил, что беда может произойти в здании аэропорта О'Хэр или сразу после посадки. Иначе бы их пути не пересеклись так рано. Обычно он встречал людей, которых спасал, всего за несколько минут до того, как их жизнь оказывалась в опасности. Движимый теми же силами, которые с пятнадцатого мая время от времени управляли его поступками, Джим встал, перешел на правую сторону и двинулся по проходу к хвосту самолета. Он не знал, что собирается предпринять, пока не остановился возле двух кресел у окна в двадцать втором ряду. Его взгляд остановился на лицах симпатичной молодой матери и ее ребенка. Женщине было около тридцати. Ее нельзя было назвать красивой, но ее миловидное лицо выражало доброту и приветливость. Дочка казалась не старше пяти-шести лет. Женщина с любопытством посмотрела на него, и он услышал, как его голос спросил: — Миссис Дубровек? — Та удивилась: — Простите… мы с вами где-то встречались? — Нет, просто Эд сказал мне, что вы летите этим рейсом, и попросил за вами приглядеть. Произнося это имя, Джим уже знал, что Эд ее муж, хотя, как ему это удалось, оставалось для него полнейшей загадкой. Он опустился на корточки рядом с ее креслом и широко улыбнулся. — Я — Стив Хэркмен. Эд в торговом отделе, а я по рекламной части. Работаем, таксказать, рука об руку. За день раз по десять встречаемся, подкидываем друг другу задачки. Светлое, как у Мадонны, лицо Кристины Дубровек просияло. — Ну да, конечно, он столько о вас рассказывал. Вы пришли в компанию месяц назад? — Да уже почти полтора. Джим полностью положился на внутренний голос, уверенный, что у него изо рта вылетают правильные ответы и что он не сделает ошибки, даже если не знает, о чем идет речь. — А это, надо полагать, Кейси? Маленькая девочка сидела в кресле у окна. Услышав свое имя, она оторвала взгляд от книжки с яркими картинками и посмотрела на Джима. — У меня завтра день рождения. Шесть лет. Мы едем к бабушке с дедушкой. Они очень старые, но очень хорошие. Он рассмеялся и сказал: — Могу поспорить, они здорово гордятся такой смышленой внучкой.* * *
Увидев Джима, который неожиданно возник в правом проходе, Холли едва не вывалилась из кресла. Сначала ей показалось, что он направляется к ней, и она уже было раскрыла рот, чтобы выпалить свое признание: «Думайте что хотите, но я действительно следила за вами, шпионила за каждым шагом». Немногие из ее знакомых журналистов ощутили бы свою вину при подобных обстоятельствах. Но Холли не могла переступить через чувство элементарной порядочности. Эта щепетильность всегда мешала ее карьере, с тех пор как она закончила университет и вступила на путь репортера. Еще миг — и все было бы испорчено, но тут Холли сообразила, что Айренхарт смотрит не на нее, а на брюнетку, сидящую прямо перед ней. Она проглотила сухой комок в горле и, вместо того чтобы вскочить и принародно покаяться, съежилась в кресле. Потом взяла журнал, который отложила в сторону несколько минут назад, и нарочито медленно раскрыла. Быстрое движение могло ее выдать, и она опасалась, что не успеет заслонить лицо обложкой журнала. Теперь Холли ничего не видела, но зато слышала каждое слово из их разговора. Он назвался менеджером по рекламе, Стивом Хэркменом, и она задумалась над этой новой загадкой. Через какое-то время Холли осмелилась выглянуть из-за края журнала: Айренхарт разговаривал с женщиной. Его спина была так близко, что можно доплюнуть, хотя опыта в плевках на точность у нее не больше, чем в слежке. Холли почувствовала, что по рукам пробежала дрожь, и услышала, как загремела глянцевая бумага. 159 Она снова спряталась за свое прикрытие, уставилась прямо перед собой и приказала себе успокоиться.* * *
— Как вам удалось меня узнать? — спросила Кристин Дубровек. — Удалось, хотя Эд успел оклеить вашими фотографиями не все стены офиса. — Ой, правда, — смутилась она. — Видите ли, миссис Дубровек… — Зовите меня Кристин. — Спасибо, Кристин… Вы уж извините, что надоедаю вам со своими разговорами, но у меня есть одна просьба. Эд говорил, что у вас есть лекарство от одиночества… то есть вы помогаете людям найти друг друга. Судя по тому, как оживилось милое лицо Кристин, он попал в самую точку. — Знаете, Стив, мне нравится знакомить людей, если я думаю, что они друг другу подходят. Должна признаться, мне есть чем похвалиться. — Мам, а твое лекарство горькое? — спросила маленькая Кейси. Ответ Кристин был прост и понятен для шестилетнего ребенка: — Нет, золотко, сладкое. — Хорошо, — сказала Кейси и снова принялась разглядывать картинки. — Дело в том, — начал Джим, — что я в Лос-Анджелесе всего два месяца и никого здесь не знаю. Можно сказать, перед вами — классический тип одинокого мужчины. Бары для холостяков я не люблю, а в спортивный клуб ради знакомства с женщинами записываться не хочется. Можно, конечно, обратиться в компьютерную службу знакомств, но думаю, туда идут такие же отчаявшиеся и суматошные, как я. — Вот уж не подумала бы, что вы отчаявшийся и суматошный, — рассмеялась Кристин. — Прошу прощения, но вы загораживаете проход, — рука стюардессы дотронулась до плеча Джима. — Пожалуйста, пройдите на место, — ее голос звучал дружески, но твердо. — Да-да, конечно, — он поспешно поднялся. — Сейчас. Только одну минутку. — Он снова повернулся к Кристин. — Видите ли, мне очень неловко отнимать у вас время, но я бы очень хотел поговорить с вами, рассказать о себе, чтобы вы поняли, что именно я ищу в женщине. Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто… — С огромным удовольствием, — с воодушевлением воскликнула Кристин. Ни дать ни взять — деревенская сваха или искусная устроительница чужих судеб из еврейских кварталов Бруклина. — Возле меня есть два свободных места. Может быть, вы пересядете ко мне… — предложил Джим. И замер в тревожном ожидании. Что, если она не захочет оставить место у окна… Он чувствовал холодную пустоту в желудке. Но она колебалась не больше секунды: — Почему бы и нет? Стюардесса, которая дожидалась, чем кончится эта сцена, кивнули в знак согласия. — Я думала, Кейси понравится смотреть в окно, но, похоже, ее это не слишком интересует. Да и потом, мы сидим возле самого крыла, и отсюда почти ничего не видно. Джим не понял, почему ответ Кристин принес ему такое огромное облегчение. Впрочем, в последнее время он многого не понимал. — Замечательно. Спасибо, Кристин. Он отступил в сторону, пропуская ее вперед, и случайно бросил взгляд на пассажирку, сидящую в соседнем ряду. Бедная женщина вся тряслась от страха. Она так боялась полета, что уткнулась в журнал «Визави», очевидно, пытаясь отвлечься, но руки ее ходили ходуном так, что дребезжали глянцевые страницы журнала. — Где ваше место? — Шестнадцатый ряд, по левому проходу. Пойдемте, я вам покажу. Он подхватил ее единственный чемодан, а Кристин с дочерью забрали несколько мелких вещей, и они перебрались на шестнадцатый ряд. Впереди бежала Кейси, а за ней шла Кристин. Джим уже было опустился в кресло, как вдруг что-то заставило его оглянуться и посмотреть на испуганную женщину, которая осталась из противоположной стороне салона в двадцать третьем ряду. Опустив журнал, она наблюдала за ним. Джим узнал ее. Холли Торн. Он смотрел на нее, не веря собственным глазам. — Стив? — услышал Джим голос Кристин Дубровек. Журналистка поняла, что он ее заметил. Она застыла в кресле, уставившись на него широко открытыми глазами. Как олень, ослепленный светом фар. — Стив? Он повернулся к Кристин и сказал: — Прошу прощения, Кристин, я отлучусь всего на минутку. Только туда и обратно. Ждите здесь, ладно? Оставайтесь на местах. Он поднялся и снова перешел в правый проход. Сердце стучало как молот, в горле пересохло от ужаса. Джим не понимал, чего боится. По крайней мере, не Холли Тори. Он сразу сообразил, что ее появление не случайно, что она разгадала его секрет и следит за ним. Но сейчас не до этого. Разоблачение сейчас не самое страшное. Необъяснимая тревога все усиливалась. Еще немного — и у него из ушей закапает адреналин. Увидев его в двух шагах от себя, журналистка попыталась встать, но потом на ее лице промелькнуло выражение покорности судьбе и она снова опустилась в кресло. Она показалась ему такой же красивой, какой он ее запомнил, хотя кожа под глазами слегка потемнела, словно от недосыпания. Джим подошел к двадцать третьему ряду. — Пойдемте, — он попытался взять ее за руку. Она отодвинулась. — Нам нужно поговорить, — сказал он. — Мы можем говорить здесь. — Нет, не можем. К ним приближалась стюардесса, которая несколько минут назад просила его не загораживать проход. Поняв, что Холли не собирается вставать, Джим ухватил ее за руку и потянул к себе, надеясь, что ему не придется выдергивать ее из кресла. Не иначе, стюардесса приняла его за извращенца, который выискивает самых красивых женщин в самолете и сгоняет их в гарем на левую сторону салона. Слава Богу, журналистка не стала спорить и молча встала. Он повел ее по проходу к туалету. Там никого не было. И Джим втолкнул ее внутрь. Оглянулся на стюардессу и, увидев, что она разговаривает с пассажиром и не смотрит в его сторону, протиснулся вслед за Холли в узкую кабинку и закрыл дверь. Она забилась в угол, пытаясь отодвинуться от него, но в туалете было тесно, и они стояли буквально нос к носу. — Я вас не боюсь, — сказала Холли. — И правильно делаете. Чего вам бояться? Полированные стальные стены туалета вибрировали. Ровный гул моторов был громче, чем в салоне. — Что вам от меня надо? — спросила она. — Делайте только то, что я скажу. Холли нахмурилась: — Послушайте, я… — Делайте, что вам говорят, и не спорьте, сейчас не время для споров, — резко сказал Джим и спросил себя, что значат эти слова. — Мне все о вас известно… — Мне все равно, что вам известно. Сейчас не до этого. — Вы дрожите как осиновый лист, — нахмурилась Холли. Джим не только дрожал, его рубашка намокла от пота. В маленькой кабинке было прохладно, но на лбу у него выступили крупные капли. Тоненькая струйка стекла по правому виску, задев уголок глаза. Он поспешно сказал: — Нужно, чтобы вы сели возле меня, там есть пара свободных мест. — Но я… — Вам нельзя оставаться в двадцать третьем ряду, ни в коем случае. Холли никогда не отличалась уступчивостью и не привыкла, чтобы ей указывали, что делать. — Это мое место. Двадцать три Н. И я не собираюсь… — Если останетесь на этом месте, умрете, — нетерпеливо прервал ее Джим. Как ни странно, она совсем не удивилась, по крайней мере выглядела не более встревоженной, чем он сам. — Умру? Что вы хотите этим сказать? — Не знаю. Но тут он понял. — Боже мой, мы падаем. — Что? — Самолет. — Его сердце билось быстрее, чем лопасти турбин огромных двигателей, которые держали их в воздухе. — Идет вниз. Падает. По ее глазам Джим увидел, что она осознала страшное значение его слов. — Мы разобьемся? — Да. — Сейчас? — Не знаю. Скоро. После двадцатого ряда почти все погибнут. Он не знал, что скажет в следующий миг, и ужаснулся, услышав слова, произнесенные его голосом. — У тех, кто сидит до девятого ряда, шансов выжить больше, но тоже не слишком много. Вы должны перейти ко мне. Самолет качнуло. Холли словно окаменела. Она с ужасом смотрела на блестящие полированные стены, ей казалось, что они вот-вот рухнут и придавят их обоих. — Воздушная яма, — сказал Джим. — Всего лишь воздушная яма. У нас есть… еще несколько минут. Очевидно, Холли знала о нем достаточно много, чтобы верить в его предсказание. Она не сомневалась в том, что он сказал правду. — Я не хочу умирать. Еще немного — и будет поздно. Джим схватил ее за плечи. — Идемте! Вы сядете возле меня. Между десятым и двадцатым рядом никто не погибнет. Будут травмы, и довольно серьезные, но никто не умрет, а многие вообще отделаются испугом. Прошу вас, ради Бога, пойдемте. Он потянулся к ручке двери. — Подождите. Вы должны все рассказать командиру экипажа. Он отрицательно качнул головой. — Бесполезно. — Но ведь он может что-то сделать, чтобы помешать… — Мне не поверят. А даже если и поверят… Я не знаю, что ему сказать. Я вижу — мы падаем, но почему? Столкновение в воздухе, дефект конструкции, бомба на борту — это может быть все, что угодно. — Но вы экстрасенс, вы должны знать! — Если полагаете, что я экстрасенс, вы знаете обо мне меньше, чем вам кажется. — Вы должны попытаться? — Да ведь, черт возьми, я пытаюсь! Пытаюсь, а все без толку! Он увидел борьбу ужаса и любопытства на ее лице. — Если вы не экстрасенс, то кто? — Орудие. — Орудие? — Кто-то или что-то использует меня. «ДС-10» снова вздрогнул. Они застыли от ужаса, ожидая, что самолет рухнет вниз. Но ничего не случилось. Все три двигателя ровно гудели. Просто еще одна воздушная яма. Она сжала его руку. — Вы не можете допустить, чтобы все эти люди погибли! Чувство вины словно веревкой сдавило грудь, у него похолодело под ложечкой. В словах Холли таился намек на то, что вина за смерть остальных людей будет на его совести. — Я здесь, чтобы спасти женщину и ее дочь. И больше никого. — Это ужасно. Холли не отпустила его руку, а сердито встряхнула. В ее зеленых глазах появилось загнанное выражение. Наверное, в этот миг она видела перед собой разбросанные по земле и наваленные друг на друга трупы и дымящиеся обломки самолета. Она повторила шепотом, в котором звучало неистовое отчаяние: — Вы не можете допустить, чтобы они погибли. Он потерял терпение: — Идите со мной или умирайте с ними. Джим протиснулся в дверь. Холли вышла за ним, но он не знал, идет ли она следом. Дай Бог, чтобы пошла. Он не мог отвечать за смерть остальных пассажиров. Они бы погибли в любом случае, даже если бы его не было на борту. Такая у них судьба, а он послан с определенной целью. Нельзя спасти весь мир. Приходится полагаться на мудрость высших сил, которые им управляют, но смерть Холли Торн ляжет на его совесть. Если бы не его легкомыслие, она бы никогда не оказалась в этом самолете. Джим шагал по левому проходу и видел в иллюминаторах чистое синее небо. Он так ярко представил под ногами зияющую пустоту, что все внутри словно оборвалось. Он дошел до шестнадцатого ряда и только тогда осмелился взглянуть назад. Вид приближающейся Холли вызвал у него вздох облегчения. Он указал ей на свободное место сразу позади его кресла. Холли покачала головой. — Только если сядете со мной. Нам надо поговорить. Он посмотрел на Кристин, потом перевел взгляд на Холли. Он почти физически чувствовал, как, словно вода, уходящая сквозь решетку водосточной канавы, исчезают стремительные секунды отпущенного им времени. Беда неотвратимо приближалась. Ему захотелось схватить журналистку, сунуть ее в кресло и намертво защелкнуть замок. Но замки ремней для этого не подходили. Не в силах скрыть растущую тревогу, он сказал, почти не разжимая зубов: — Мое место рядом с ними. Они разговаривали тихо, но на них уже стали посматривать. Кристин нахмурилась и, вытянув шею, посмотрела на Холли. — Случилось что-нибудь, Стив? — Все в порядке, — солгал он. И снова посмотрел в иллюминатор: голубое небо. Огромное и пустое'. Интересно, сколько миль до земли? — Вы плохо выглядите, — сказала Кристин. Он сообразил, что его лицо покрылось испариной. — Жарковато здесь. Я встретил старую знакомую. Ничего, если задержусь минут на пять? Кристин улыбнулась. — Конечно, конечно. Я все думаю, к кому лучше обратиться. Сперва он даже не понял, о чем она говорит. Потом вспомнил, что сам просил Кристин познакомить его с кем-нибудь из подруг. — Замечательно. Я сейчас вернусь, и мы поговорим. Он усадил Холли на место в семнадцатом ряду и опустился рядом. По правую руку от Холли тихо похрапывала старая леди, круглая, как бочонок, с мелкими, подкрашенными синим кудряшками. Очки в золотой оправе на цепочке из бусин, свесившиеся на почтенный бюст, и цветы на платье вздымались и опадали в такт ее ровному дыханию. Холли наклонилась к нему и, стараясь, чтобы ее не услышали пассажиры, сидящие через проход, заговорила с убежденностью беспристрастного политического оратора: — Вы не можете допустить, чтобы эти люди умерли. — Мы это уже обсудили, — сурово ответил он, уловив ее тихий шепот. — Вы отвечаете за… — Я всего лишь человек! — Да, но особенный. — Я не Бог, — горестно сказал Джим. — Поговорите с командиром. — До чего же вы упрямы. — Предупредите его. — Он мне не поверит. — Тогда скажите пассажирам. — Они не смогут перейти сюда, на всех не хватит места. Его нежелание действовать привело ее в ярость. Глядя ему прямо в глаза так, чтобы он не мог отвернуться, Холли взяла Джима за руку и больно сжала. — Черт возьми, ведь могут же они что-то сделать, чтобы спастись. — Ничего. Будет паника. — Если вы можете их спасти и сидите сложа руки… это убийство, — произнесла она яростным шепотом, сверкнув глазами. Обвинение обрушилось на него как страшный удар молота, и в первый миг он даже задохнулся. Потом заговорил, с трудом произнося слова: — Я ненавижу смерть, ненавижу, когда люди умирают. Я хочу их спасти. Хочу, чтобы никто не страдал, но не могу сделать больше того, что в моих силах. — Это убийство, — повторила Холли. Ее слова были чудовищно несправедливы. Она хочет взвалить на него ответственность за всех пассажиров. Спасти Дубровеков — значит, совершить два чуда, два обреченных на смерть человека останутся в живых. Но два чуда — слишком мало для Холли, которая не знает, что его возможности небезграничны. Она жаждет большего: три, четыре, пять, десять, сотню чудес. Джим чувствовал, как давит на него огромный груз непосильной ответственности, как будто вес проклятого самолета обрушился на плечи, расплющивая его о землю. Она не имеет права его обвинять, это нечестно. Если уж кого и обвинять, то самого Господа, чья непостижимая воля предопределила эту авиакатастрофу. — Убийство, — пальцы Холли еще сильнее впились в его руку. Джим физически ощущал исходивший от нее гнев, словно чувствовал жар солнечных лучей, отраженных от металлической поверхности. Отраженных. Внезапно он понял: этот поразительно точный образ не случаен. Он появился из описанных Фрейдом глубин подсознания. Гнев Холли, вызванный его нежеланием спасти всех пассажиров, не сильнее его ярости от собственного бессилия. Ее чувства — отражение его собственных. — Убийство, — еще раз повторила она, очевидно, сознавая, что обвинение задело его за живое. Джим глядел в ее красивые глаза, и ему хотелось ударить ее прямо в лицо, изо всех сил, так, чтобы она потеряла сознание и он не слышал из ее уст своих собственных мыслей. Она слишком проницательна. Джим ненавидел ее за эту правоту. Но вместо того чтобы ее ударить, он поднялся со своего места. — Куда вы? — требовательно окликнула его Холли. — Поговорить со стюардессой. — О чем? — Можете радоваться. Вы победили. Джим направился в хвост самолета, бросая взгляды на пассажиров и холодея при мысли о том, что скоро многие из них погибнут. Отчаяние усиливало воображение, и он видел сквозь кожу черепа и очертания белых костей, точно пассажиры уже были живыми трупами. Его мутило от страха, но он боялся не за себя, а за этих людей. Самолет сильно тряхнуло, словно он угодил в выбоину на воздушной дороге. Джим ухватился за спинку сиденья, чтобы не упасть. Нет, это пока еще не тот удар, которого он ждет. Стюардессы и стюарды готовили подносы с завтраком в служебном отсеке. Среди них были люди самого разного возраста: некоторым было по двадцать, а большинству уже за пятьдесят. Джим подошел к самой старшей из них. Надпись на ее униформе сообщила, что стюардессу зовут Ивлин. — Мне нужно поговорить с командиром. — Хотя до ближайших пассажиров было довольно далеко, Джим старался говорить тихим голосом. Если Ивлин и удивилась, услышав его просьбу, она этого никак не показала. На ее лице появилась натренированная улыбка: — Прошу прощения, но это невозможно. Если вы скажете, в чем дело, я уверена, что смогу вам помочь. — Послушайте, я был в туалете и услышал подозрительный шум, — солгал он. — Что-то неладно с двигателем. Улыбка стюардессы стала шире, но в ней чувствовалась натянутость. Тон ее голоса изменился, точно она переключилась на режим успокоения чересчур нервных пассажиров. — Видите ли, это совершенно нормальное явление. Во время полета звук двигателей может варьироваться в зависимости от изменения скорости. — Я это знаю. Он постарался придать своему голосу уверенность и рассудительность: необходимо, чтобы она его выслушала. — Я много летал. На этот раз что-то не так. Я работаю в фирме «Макдоннелл-Дуглас» и разбираюсь в двигателях. Мы разработали и построили «ДС-10». Я знаю этот самолет. Звук, который я слышал, не похож на обычный. Ее улыбка исчезла. Скорее всего она не восприняла всерьез его предупреждение, а просто пришла к выводу, что ей попался на редкость изобретательный пассажир. Ее коллеги перестали возиться с завтраком и молча уставились на Джима, очевидно, прикидывая, чем закончится эта история. — Видите ли, полет проходит нормально. — Вот только воздушные ямы… — осторожно сказала Ивлин. — Неисправен хвостовой двигатель, — перебил ее Джим. Это не было ложью. Наступил знакомый момент истины, и он произносил слова, которые рождались вне его сознания. — Винт пошел вразнос. Оторвутся лопасти — еще полбеды. Но один Бог знает, что будет, если весь винт разлетится вдребезги. Эти слова отличались от обычных выдумок чересчур нервных пассажиров, и стюардессы слушали его если не с уважением, то, по крайней мере, с мрачной задумчивостью. — Все нормально, — сказала Ивлин — Даже если мы и потеряем один двигатель, то долетим на двух оставшихся. Джим пришел в возбуждение, высшая сила, управляющая его действиями, наконец решила помочь ему убедить этих людей. Может быть, еще можно что-то сделать, чтобы спасти всех, кто есть в самолете. Он снова услышал свой голос, по-прежнему спокойный и уверенный. — Этот двигатель — настоящий монстр! Если он взорвется, это будет как взрыв бомбы. Лопнут компрессоры. Все эти тридцать восемь титановых лопастей, крепление винта, даже части ротора взорвутся и, словно шрапнель, изрешетят хвост самолета. Рули высоты, стабилизаторы — все разнесет в клочья… Может случиться так, что от хвоста вообще ничего не останется. Одна из стюардесс заметила: — Может, все-таки стоит сказать командиру? Ивлин не стала возражать. — Я знаю эти двигатели, — продолжал Джим, — и могу объяснить командиру, в чем дело. Необязательно идти в кабину, я могу поговорить с ним по селектору. — Вы работаете в «Макдоннелл-Дуглас»? — спросила Ивлин. — Совершенно верно. Инженером. Уже двенадцать лет, — солгал он. Похоже, стюардесса сильно усомнилась в мудрости заученных стандартных ответов, еще немного — и она сдастся. В нем вспыхнула надежда. — Скажите командиру: пусть заглушит двигатель номер два. Мы дотянем на первом и третьем и спасемся. Ивлин переглянулась с другими стюардессами, и некоторые из них кивнули: — Не будет ничего плохого, если… — Быстрее! — взволнованно сказал Джим. — У нас мало времени. Он последовал за Ивлин, которая вышла из служебного отсека и направилась по правому проходу в отделение экономического класса. Самолет содрогнулся от взрыва. Ивлин швырнуло на пол. Джим качнулся и, чтобы не упасть на женщину, ухватился за спинку кресла, но не рассчитал усилия, повалился на одного из пассажиров и после еще одного толчка скатился в проход между рядами. За спиной с лязгом посыпались подносы. Раздались удивленные и встревоженные восклицания и чей-то короткий визг. Джим попытался подняться, но в этот момент нос самолета накренился и они стали стремительно терять высоту.* * *
Холли встала со своего места, прошла вперед и села рядом с Кристин Дубровек. Но не успела она представиться в качестве знакомой Стива Хэркмена, как самолет сильно тряхнуло и она едва не вылетела из кресла. Еще через долю секунды раздался звук удара, как будто в корпус авиалайнера врезался тяжелый предмет. — Мама! — Глаза Кейси расширились от ужаса. Она была пристегнута ремнем, хотя в этом, казалось бы, не было необходимости, и не упала, но все ее книжки посыпались на пол. Самолет терял высоту. — Мама! — Не бойся, Кейси. — Кристин явно пыталась скрыть от дочери свой собственный страх. — Это просто воздушная яма. Самолет стремительно падал. — Все нормально, — сказала Холли, наклоняясь к ним и стараясь, чтобы девочка ее услышала. — С вами ничего не случится. Только сидите здесь. Оставайтесь на этом месте. Самолет терял высоту. Тысяча футов… две тысячи… Холли лихорадочно застегнула ремни своего кресла. Три тысячи… четыре тысячи. Волна ужаса и паники, охватившая пассажиров, сменилась гробовым молчанием. Люди, вцепившись в подлокотники кресел, ждали, что самолет прекратит падение или, наоборот, сорвется в штопор. К удивлению Холли, нос лайнера стал подниматься и самолет выровнял курс. Всеобщий вздох облегчения. Кое-где раздались жидкие аплодисменты. Холли с улыбкой повернулась к Кристин и Кейси. — Я же говорила, все будет в порядке. Включился громкоговоритель. Спокойный и уверенный голос командира корабля сообщил, что отказал один двигатель, но они долетят на двух оставшихся, хотя, возможно, в целях безопасности придется садиться раньше на одном из ближайших аэродромов. Капитан поблагодарил пассажиров за проявленное самообладание, словно подразумевая, что самое худшее уже позади. Через несколько секунд Джим Айренхарт появился в проходе и тяжело присел на корточки рядом с Холли. Она заметила, что у него разбита губа. Похоже, ему порядком досталось. Ее охватило радостное возбуждение. Хотелось его поцеловать, но она только сказала: — Вот видите. У вас получилось. Вы смогли что-то изменить. — Нет, — мрачно ответил Джим. Он наклонился к ней. Их головы почти соприкасались, и они разговаривали шепотом. — Слишком поздно. От этих слов у нее перехватило дыхание, точно он ударил ее в солнечное сплетение. — Но мы уже не падаем. — Взорвался двигатель. Его обломки изрешетили хвост. Гидравлика тоже вышла из строя. И это еще не все. Скоро самолет потеряет управление. Страх, который растаял минуту назад, вернулся и, точно пленка льда на серой поверхности замерзшего пруда, сковал ее сознание. Они падали. — Вы знаете, в чем дело. Вам нужно быть не здесь, а возле пилотов, — сказала Холли. — Слишком поздно. Это конец. — Нет. Никогда… — Сейчас я бессилен. — Но… В проходе возникла стюардесса; похоже, она уже оправилась от случившегося и выглядела спокойно. — Пожалуйста, вернитесь на свое место. — Да-да, сейчас, — ответил Джим. Потом повернулся к Холли и сжал ее руку. — Не бойтесь. — Он кивнул Кристин и Кейси. — Все будет нормально. Он перешел на семнадцатый ряд и сел за спиной Холли. Теперь она его не видела и ей стало не по себе. Один только вид Джима внушал уверенность.* * *
Двадцать шесть лет провел Слейтон Делбо в кабинах пассажирских авиалайнеров. Последние восемнадцать лет он летал в качестве командира корабля. Ему приходилось сталкиваться с самыми различными проблемами, и всякий раз он с честью выходил из любой, порой критической ситуации. Немалую помощь оказала Делбо жесткая программа постоянного обучения и контроля, применяемая Объединенными авиакомпаниями. Но, хотя он думал, что знает самолет как свои пять пальцев и готов к любой неожиданности, то, что случилось, повергло его в совершенное изумление. После того как отказал второй двигатель, «ДС-10» начал падать, а контрольные приборы вышли из строя. Пилотам удалось выровнять самолет и замедлить снижение, но потеря одиннадцати тысяч футов — меньшее из зол. — Нас заносит вправо, — сказал Боб Анилов. Делбо ценил своего второго пилота. Тому было сорок три, и пилот он был отличный. — Все-таки тянет вправо. Что скажешь, Слей? — Повреждена гидравлика, — заметил бортинженер Крис Лодден. Он был самым молодым из них. Здоровый румянец деревенского парня и, главным образом, застенчивость, столь несвойственная большинству летчиков, делали его неотразимым для молоденьких стюардесс. Кресло Лоддена, следившего за показаниями механических систем, находилось за спиной Анилова. — Еще сильнее уходим вправо, — отрывисто бросил Анилов. — Черт! — Делбо до отказа вывернул штурвал и отпустил его, поняв, что это бесполезно. — Не слушается, — сказал Анилов. — Дело хуже, чем я думал. — Словно не доверяя собственным глазам, Крис Лодден склонился над приборами. — Этого просто не может быть! Конструкция «ДС-10» предусматривала три гидравлические системы — надежный запас прочности. Невозможно, чтобы вышли из строя сразу все системы. И тем не менее это случилось. Кроме них в кабине находился лысоватый и рыжеусый Пит Янковски, инструктор из Денверского отделения подготовки пилотов; который летел в Чикаго к своему брату. Во время полета он оставался наблюдателем и сидел за спиной Делбо, время от времени заглядывая через его плечо. Он поднялся со своего места. — Схожу посмотрю, что там с хвостом. — Мы можем регулировать тягу двигателей, — сказал Лодден. Делбо уже предпринял попытку использовать эту возможность. Он уменьшил тягу в правом двигателе и увеличил в левом, пытаясь выровнять самолет. Если их слишком сильно поведет влево, можно снова увеличить мощность в правом двигателе. С помощью бортинженера командир определил, что внешние и внутренние рули высоты не действуют. Элероны и закрылки тоже вышли из строя. Размах крыльев «ДС-10» достигает ста пятидесяти пяти, а длина фюзеляжа — ста семидесяти футов. Трудно назвать самолетом такое огромное сооружение. Это настоящий корабль, плывущий в воздушном океане. Два двигателя «Дженерал электрик Прэтт энд Витни» — вот все, что сейчас осталось от системы управления. С таким же успехом можно пытаться управлять мчащимся автомобилем, наклоняясь то вправо, то влево и надеясь, что такое перемещение веса поможет изменить направление движения.* * *
С тех пор как взорвался двигатель, прошло уже несколько минут, а самолет все еще держался в воздухе. Холли верила в Бога не потому, что обрела свою веру в результате сильного душевного потрясения, а скорее из-за того, что альтернатива представлялась ей слишком мрачной. Она выросла в семье методистов и одно время всерьез задумывалась о переходе в католицизм, но так и не сделала окончательного выбора между серым облачением протестантского пастора и пышной сутаной католического патера. В повседневной жизни она предпочитала решать свои проблемы, не дожидаясь помощи Всевышнего, и произносила слова молитвы только за столом у родителей, когда гостила у них в Филадельфии. Обращаться к небу с горячей мольбой о помощи сейчас, по меньшей мере, лицемерно, но, может быть, милосердный Господь все-таки не даст пропасть «ДС-10». Кристин читала Кейси вслух и весело комментировала приключения мультипликационных героев, пытаясь отвлечь дочь от воспоминаний о взрыве и падении самолета. Она знала, что самое страшное еще впереди, и таким образом старалась подавить собственный страх и не думать о случившемся. Время шло, и с каждой минутой в ней росло чувство протеста. Ее разум не хотел мириться с тем, что сказал Джим Айренхарт. Холли не сомневалась в том, что она сама, он и Дубровеки останутся в живых. Джим не впервые вступал в схватку с судьбой и каждый раз выходил из нее победителем. Поэтому, пока они сидят в первой секции экономического класса, за их жизни, как он обещал, можно не волноваться. Хотли не могла примириться с неизбежностью гибели стольких людей. Невыносимо думать, что все они, молодые и старые, мужчины и женщины, добрые и злые, невинные и погрязшие во грехе, должны умереть в результате несчастного случая, что их тела, сплющенные в один комок, врежутся в какую-нибудь скалу или будут разбросаны по земле среди полевых цветов и сгорят, облитые керосином. Все вместе — и те, кто вел праведную жизнь, и недостойные.* * *
Миновав Денвер и зону миннеаполисского Центра управления полетами, 246-й рейс вышел на связь с аэропортом Чикаго. Гидравлика полностью отказала, и Делбо запросил у диспетчера Объединенных авиакомпаний разрешения изменить маршрут и совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Айовы в Дьюбекс. Он передал управление Анилову и вместе с Лодденом сосредоточил свои усилия на том, как выйти из критической ситуации. Прежде всего Делбо связался со службой Центра авиационного техобслуживания международного аэропорта Сан-Франциско, где расположена главная техническая база Объединенных авиакомпаний — огромный сложный комплекс со штатом более десяти тысяч человек. — Докладываю обстановку, — спокойно начал Делбо, — полный отказ гидравлики. Пока держимся, но самолет неуправляем. Помимо сотрудников Центра, в аэропорту круглосуточно дежурят эксперты фирм, производящих все виды самолетов, которые летают на маршрутах Объединенных авиакомпаний. Среди них специалист из «Дженерал электрик», где изготовляют двигатели СФ-6, и специалист из фирмы «Макдоннелл-Дуглас», которая разработала и построила «ДС-10». В их распоряжении огромное количество книг и компьютерной информации о всех типах самолетов, а также точные данные о техническом обслуживании и состоянии каждого авиалайнера Объединенных авиакомпаний. Они могли рассказать Делбо и Лоддену о любой механической неисправности «ДС-10» за время эксплуатации самолета, о том, какие работы проводились при последнем техническом обслуживании и даже когда чинили обивку кресел. Они знали все, за исключением разве что того, сколько мелочи, вывалившейся из карманов пассажиров, забыто в салоне за последний год. Делбо надеялся, что они подскажут ему, как, черт возьми, без рулей, без элеронов управлять огромным, как многоэтажный дом, самолетом. Даже самые лучшие программы подготовки пилотов создавались с учетом того, что в самом худшем случае надежность конструкции позволит сохранить определенную степень контроля. Сначала люди из Центра просто не могли взять в толк, что гидравлика полностью вышла из строя. Они решили, что речь идет о частичном отказе системы, и ему пришлось повысить голос, чтобы на земле наконец поняли, в каком он положении. Делбо сразу же пожалел о своей несдержанности: он всегда стремился следовать традициям, считая, что настоящий профессионал должен хранить спокойствие в самой критической ситуации. К тому же Делбо неприятно поразило раздражение, прозвучавшее в его голосе, и некоторое время спустя командир корабля поймал себя на мысли, что его кажущееся спокойствие всего лишь маска. Вернулся инструктор Пит Янковски и доложил, что заметил большую пробоину в горизонтальной плоскости хвоста. — Может быть, повреждения еще серьезнее, просто их не видно в иллюминатор. Похоже, обломки мотора изрешетили хвостовой отсек. Там как раз все гидравлические системы. Хорошо еще, что нет разгерметизации. Чувствуя холодную пустоту в желудке и до боли ясно представляя, что в его руках судьба двухсот пятидесяти трех пассажиров и десяти членов экипажа, Делбо передал в Центр информацию, которую сообщил Янковски, попросил совета, как вести поврежденный самолет, и нисколько не удивился, когда после краткого обсуждения эксперты не смогли предложить ему ни одного варианта. Он хотел от них слишком многого. Разве можно сказать, как управлять этим бегемотом, не имея ничего, кроме двух уцелевших двигателей? Но отвечать на этот вопрос ему придется самому перед Богом. Делбо продолжал держать связь с диспетчером Объединенных авиакомпаний, который контролировал ситуацию в воздухе. Кроме того, оба канала — и диспетчер, и Центр авиационного техобслуживания в Сан-Франциско — переключились на штаб-квартиру Объединенных авиакомпаний, которая находилась поблизости от аэропорта О'Хэр. Теперь экипаж мог переговариваться со специалистами из Чикаго, но и они пребывали в полнейшей растерянности. — Пусть Ивлин немедленно разыщет того парня из «Макдоннелл-Дуглас», о котором она говорила. Приведите его сюда, — сказал Делбо Питу Янковски. Пит вышел из кабины. Анилов решительно, но безуспешно крутил штурвал, пытаясь подчинить самолет своей воле. Делбо сообщил менеджеру из Центра, что на борту находится инженер из «Макдоннелл-Дуглас». — Незадолго до взрыва он предупредил нас, что хвостовой двигатель неисправен. Кажется, определил по звуку. Сейчас он будет здесь, посмотрим, может быть, сумеет нам как-то помочь. — Что вы имеете в виду? Как он определил по звуку? Что это за звук? — удивленно спросил эксперт по двигателям из «Дженерал электрик». — Не знаю, — ответил Делбо. — Мы ничего необычного не заметили. Стюардессы тоже. Обычный звук. — Этого не может быть, — прозвучало в наушниках у командира. Специалист по «ДС-10» из «Макдоннелл-Дуглас» был озадачен не меньше своего коллеги: — Кто этот парень? — Выясним. Пока что известно только его имя, — ответил Делбо. — Его зовут Джим.* * *
Когда командир корабля объявил пассажирам, что самолет совершит вынужденную посадку в аэропорту Дубьюк, Джим увидел, что в проходе появилась Ивлин и, балансируя на ходу, так как «ДС-10» все время швыряло и трясло, двинулась в его сторону. Он сразу понял, что ей от него нужно, хотя предпочел бы, чтобы его ни о чем не просили. «…могут возникнуть некоторые сложности», — услышал он последние слова Делбо. Как только пилоты сбрасывали мощность в одном двигателе и увеличивали в другом, крылья самолета начинали дрожать и лайнер раскачивался, как лодка, пляшущая на волнах. К счастью, это длилось недолго, но в перерывах между отчаянными попытками выправить курс «ДС-10» несколько раз проваливался в воздушные ямы и выбирался из них с куда меньшей уверенностью, чем в первые часы полета. — Командир корабля Делбо просил вас пройти в кабину, — негромко сказала Ивлин. Ее слова, сопровождаемые улыбкой, прозвучали как приглашение приятно провести время за чаем с бутербродами. Он хотел отказаться. Неизвестно, смогут ли Кристин, Кейси и Холли обойтись без его помощи, когда произойдет катастрофа. Джим знал, что при ударе о землю средний отсек фюзеляжа с десятью рядами кресел первого класса оторвется от остальной части самолета и пострадает гораздо меньше, чем передняя и задняя секции. И без его вмешательства в судьбу 246-го рейса все пассажиры, сидящие на этих местах, будут целы и невредимы или отделаются легкими ушибами. Он не сомневался, что эти счастливчики останутся в живых, но не был уверен, что, пересадив Дубровеков в безопасную зону, сделал все для их спасения. Возможно, после приземления потребуется его помощь, чтобы вынести их из-под горящих обломков. Если он будет с экипажем, ему не удастся это сделать. Кроме того, Джим не, имел ни малейшего представления о том, что станется с летчиками. Если при столкновении самолета с землей он окажется в кабине… И все-таки он пошел с Ивлин. Выбора не было: Холли Тори требовала от него спасти не только женщину с ребенком, но и других людей. Возможно, это ему удастся. Джим слишком хорошо помнил умирающего человека в пустыне Мохавк и трех покупателей, застреленных в хозяйственном магазине Атланты в мае прошлого года. Окажись он чуть быстрее, и эти люди остались бы в живых, как и те, кого ему удалось спасти. Проходя мимо шестнадцатого ряда, он бросил взгляд на Дубровеков, склонившихся над книжкой, встретился глазами с Холли и почти физически ощутил ее тревогу. Джим шел за Ивлин, чувствуя на себе испытующие взгляды пассажиров. Он один из них, но сейчас обстоятельства наделили его особым статусом. Похоже, люди стали подозревать, что эти обстоятельства куда серьезнее, чем им было сказано. Они наверняка ломают головы, спрашивая себя, кто он такой и для чего потребовалось его присутствие в кабине экипажа. Если бы они только знали. Болтанка не прекращалась. Джим обратил внимание на уверенную походку Ивлин. Ее не качало из стороны в сторону, потому что стюардесса предугадывала возможный толчок, отклонялась в противоположном направлении и, ловко перемещая центр тяжести, сохраняла равновесие. Несколько пассажиров склонились над бумажными пакетами. Другие сдерживали тошноту, но сидели с серыми лицами. Картина, которую он увидел в тесной, набитой инструментами кабине, привела его в смятение. Бортинженер листал справочник. В его глазах застыло отчаяние. Двое пилотов — Делбо и Анилов (стюардесса, которая осталась за дверью, сказала, как их зовут) лихорадочно манипулировали приборами, пытаясь вернуть на курс отклоняющуюся вправо громадину. Присевший на корточки между их креслами рыжеволосый лысоватый человек, следуя указаниям капитана, увеличивал и уменьшал мощность в двигателях, чтобы облегчить летчикам задачу. — Снова теряем высоту, — заметил Анилов. — Ничего страшного, — отозвался Делбо. Почувствовав, что кто-то вошел, он обернулся. На месте командира Джим выглядел бы как загнанная лошадь в мыле, но спокойное лицо Делбо лишь слегка блестело от пота. — Значит, это вы? — Да. Командир снова повернулся к приборам. — Нас разворачивает, — сказал он, обращаясь к Анилову. Второй пилот кивнул. Делбо скомандовал рыжеволосому прибавить мощность в левом двигателе, и тот мгновенно исполнил приказание. Затем, не глядя на Джима, командир сказал: — Вы знали, что это случится? — Да. — Можете еще что-нибудь сказать? Самолет вздрогнул, Джима швырнуло на перегородку, но он устоял на ногах и ответил: — Все гидравлические системы вышли из строя. — Что-нибудь, чего я не знаю, — сказал Делбо с холодным сарказмом. Было бы неудивительно, если бы в его голосе прозвучало раздражение, но командир хорошо владел собой. Он снова вышел на связь с диспетчером и получил новые инструкции. Джим прислушался и понял, что специалисты из Центра управления полетом в Дубьюке решили сажать лайнер с помощью серии поворотов на триста шестьдесят градусов и таким образом вывести его на одну из посадочных полос. Обычный способ здесь неприемлем, поскольку пилоты не могли полностью контролировать движение самолета. «ДС-10» все время разворачивало вправо, и на земле созрел рискованный план использовать это свойство, чтобы направить лайнер в нужную точку. Так загоняют в сарай норовистого быка, который, не слушаясь пастуха, идет своей дорогой и неожиданно оказывается в стойле. Если тщательно рассчитать радиус каждого поворота и темпы снижения, эта задача вполне выполнима. До соприкосновения с землей осталось пять минут. Джим вздрогнул, получив внутреннее сообщение, и едва не повторил эти слова вслух Вместо этого он дождался, пока Делбо закончит переговоры с диспетчером, и спросил: — Что с шасси? — Работает, — ответил Делбо. — Тогда у нас есть шанс. — Все будет нормально, если только нас не ждетеще один сюрприз. — Сюрприз будет, — сказал Джим. Капитан озабоченно взглянул на него: — Что вы сказали? Осталось четыре минуты. — Во-первых, нас встретит сильный ветер. К счастью, боковой, и мы не врежемся в землю. Но он доставит вам пару неприятных моментов. Будет похоже на посадку на стиральную доску. — Что вы такое говорите? — перебил его Анилов. — Когда вы сделаете последний заход на посадку и до земли останется несколько сотен футов, самолет все еще не выровняется по полосе, — продолжал Джим. Он снова находился во власти высших сил, и они говорили его голосом. — Но придется садиться, другого выхода все равно нет. — С чего вы это взяли? — недоверчиво бросил бортинженер. Произнося слова с лихорадочной поспешностью, Джим продолжал говорить, не обращая внимания на вопрос Лоддена: — Самолет неожиданно завалится вправо, заденет крылом о землю и закувыркается по бетонке. Вся эта махина вылетит на грунт, рассыплется на части и сгорит. Рыжеволосый человек в гражданской одежде смотрел на Джима, будто не веря собственным глазам: — Что за чушь! Да за кого вы себя принимаете? — Он заранее знал, что двигатель номер два взорвется, — охладил его пыл Делбо. Понимая, что они уже вошли во второй 360-градусный поворот и время стремительно уменьшается, Джим сказал: — Вы все останетесь живы, но сто сорок семь пассажиров и четыре стюардессы погибнут. — Боже праведный, — тихо сказал Делбо. — Он просто не может этого знать, — возразил Анилов. Осталось три минуты. Делбо дал дополнительные указания рыжеволосому. Стало слышно, как взревел один из двигателей, и огромный самолет начал, снижаясь, второй поворот. — Но перед тем, как самолет завалится вправо, вы услышите предупреждение. — Предупреждение? — не оглядываясь, переспросил Делбо. Он не прекращал попыток справиться со штурвалом. — Странный звук, вы такого никогда не слышали. В том месте, где крыло соединяется с фюзеляжем, структурный дефект. Похоже на звук лопающейся гитарной струны. Как только его услышите, прибавьте мощность в левом двигателе. Только так можно избежать опрокидывания. Анилов потерял терпение: — Какая чушь! Пока этот парень здесь, я ничего не соображаю. Джим знал, что Анилов прав. Специалисты из Центра в Сан-Франциско и диспетчер замолчали, чтобы летчики могли сосредоточиться. Если он останется в кабине, то, даже не произнося ни слова, одним своим присутствием может отвлечь их в самый ответственный момент. Кроме того, он рассказал все, что знал, и добавить ему нечего. Джим вышел из кабины и быстро направился к шестнадцатому ряду. До встречи с землей две минуты.* * *
Холли не спускала глаз с прохода между кресел, надеясь, что Джим все-таки вернется. Хотелось, чтобы он был рядом, когда случится самое страшное. Она ясно помнила события прошлой ночи, когда в комнату мотеля проникло чудовище из ночного кошмара, и количество жертв, которые оставил на своем пути Айренхарт, спасая невинных людей. Не забыла она и того, как жестоко он расправился с Норманом Ринком в хозяйственном магазине Атланты. Но темное начало в его душе уступило место светлому. Рядом с ним ей было удивительно спокойно, точно окружавший его невидимый ореол опасности превратился в нимб ангела-хранителя. По селектору одна из стюардесс инструктировала пассажиров, как вести себя при экстренной посадке. Ее коллеги ходили по рядам, проверяя, все ли люди выполняют эти указания. Корпус «ДС-10» вибрировал, самолет швыряло во все стороны. Хотя в его конструкции не было ни одной деревянной детали, он скрипел, как застигнутый штормом парусник. Небо в иллюминаторах оставалось голубым, но в воздухе бушевали неистовые вихри. Пассажиры давно поняли, в какой серьезный переплет они угодили. Условия для посадки — хуже не придумаешь, и случиться может все что угодно. Может быть, и самое худшее. В огромном лайнере воцарилась поразительная тишина, словно в соборе во время торжественного богослужения. Вполне возможно, многие представляли себе собственные похороны. Из салона первого класса появился Джим. При виде его Холли испытала огромное облегчение. Он чуть замедлил шаг, ободряюще улыбнулся Дубровекам, слегка коснулся плеча Холли и сел в кресло у нее за спиной. Самолет попал в воздушный поток. На этот раз дело приняло совсем плачевный оборот. Холли показалось, что они уже не летят, а катятся. Кристин взяла ее за руку и быстро сжала, словно они были старыми подругами. Впрочем, они ими уже стали. Близость неминуемой смерти сближает людей. — Удачи тебе, Холли. — Удачи, Кристин. Рядом со своей матерью маленькая Кейси казалась совсем крошечной. Наконец и стюардессы заняли места в креслах. Холли тоже последовала их примеру, приняв положение, сулящее самые большие шансы выжить: затянула пристяжные ремни, наклонилась вперед и спрятала голову в коленях, обхватив руками лодыжки. Болтанка на мгновение прекратилась и самолет скользнул вниз. Но Холли не успела даже вздохнуть с облегчением. В следующую секунду все небо стало похоже на одеяло, которое трясут за края гремлины — злые гномы, приносящие летчикам несчастье. Над головой захлопали дверцы багажных полок, и на пассажиров посыпались чемоданы, сумки, куртки и другие вещи. Что-то ударило ее по спине и скатилось в сторону. Было совсем не больно, но Холли неожиданно испугалась, что чемодан какой-нибудь модницы, набитый косметикой, свалится на нее под опасным углом и переломит позвоночник.* * *
Слейтон Делбо продолжал давать команды Янковски, который, стоя на коленях между креслами пилотов, управлялся с подачей топлива в двигатели. Летчики в это время пытались удержать лайнер на заданном курсе. Делбо был спокоен, хотя знал, что впереди тяжелая посадка. Они начали выходить из третьего, последнего поворота. Посадочная полоса стремительно приближалась. Но, как и предсказывал Джим — черт, фамилия этого парня опять вылетела из головы, — им не удалось выровняться по полосе. Незнакомец не ошибся. Вокруг бушевала настоящая буря. Самолет швыряло, как большой старый автобус, который громыхает вниз по склону крутой горной дороги. Такого командиру корабля видеть еще не доводилось. Даже для исправного самолета посадка при таком сильном встречном ветре представляет немалую опасность. Но Делбо не оставалось другого выбора. Слишком поздно, чтобы попробовать еще один заход или проскочить посадочную полосу и уйти на другой аэродром в надежде на лучшие метеоусловия. После взрыва хвостового двигателя прошло тридцать три минуты, и это настоящий подвиг, что они до сих пор не врезались в землю. Еще немного — и не помогут ни мастерство, ни опыт, ни хладнокровие. С каждой минутой, а теперь секундой, полет все больше напоминал попытку удержать в воздухе обломок огромной скалы. До бетонной полосы осталось две тысячи футов, и это расстояние стремительно сокращалось. Мысли Делбо обратились к жене и семнадцатилетнему сыну, которые остались дома в Вестлейн-Виллидж на севере Лос-Анджелеса. Второй сын. Том, уже в колледже Вилламот, готовится к поступлению на первый курс. Как бы он сейчас хотел обнять их, почувствовать прикосновение родных рук. Он не боялся за себя. По крайней мере, не слишком. И предсказание незнакомца, что экипаж останется в живых, не играло здесь никакой роли. Кто знает, всегда ли сбываются слова этого парня. По сути дела, у Делбо просто не было времени думать о себе. Полторы тысячи футов. Он думал о пассажирах и экипаже, доверивших ему свои жизни. Если его нерешительность, медлительность или, наоборот, поспешность, приведут к тому, что в этой катастрофе окажется доля его вины, все, чего он достиг за долгие годы работы, будет перечеркнуто этой единственной трагической ошибкой. Возможно, он слишком строг к себе, но многие летчики обладают столь же сильным чувством ответственности. Он вспомнил слова незнакомца: «…сто сорок семь пассажиров…» До боли сжал бешено вибрирующий штурвал. «…и четыре стюардессы погибнут…» Тысяча двести футов. — Нас заносит вправо, — сказал Делбо. — Держись! — крикнул Анилов. Сейчас, когда они совсем снизились, все зависело от командира. Сто пятьдесят одна смерть, сто пятьдесят одна семья, которая потеряет близких. И еще больше людей, чьи судьбы окажутся вовлечены в водоворот этой трагедии. Но откуда этот парень знает, сколько людей погибнет? Это невозможно. Что он, ясновидец? Чушь, как сказал Янковски. Да, но он знал о взрыве двигателя и о встречном ветре при посадке. Только полный идиот может сбрасывать это со счетов. Тысяча футов. — Пора, — услышал Делбо собственный голос.* * *
Согнувшись в три погибели, зажав голову между коленями и обхватив руками лодыжки, Джим Айренхарт вспомнил старую шутку: «Поцелуй свой зад на прощание». Он молил Бога, чтобы его действия не изменили ситуацию в худшую сторону и вместе с ним и Дубровеками не погибли люди, которым самой судьбой было предназначено остаться в живых. Его разговор с командиром корабля повлиял на будущее, и то, что произойдет, может быть хуже того, что должно было случиться. Похоже, высшие силы в конце концов одобрили его желание спасти не только Кристин и Кейси. Но природа этих сил загадочна, и надо быть дураком, чтобы пытаться понять движущие ими мотивы и намерения. Самолет содрогнулся от сильного толчка. Завывание двигателей перешло в пронзительный визг. Джим уставился под ноги, ожидая, что пол вот-вот лопнет и брызнет ему в лицо. Больше всего он боялся за Холли Торн. Ее присутствие в самолете — самое большое отклонение от первоначального сценария, написанного судьбой. Может быть, ему удастся спасти многих пассажиров, но что, если погибнет Холли?* * *
«ДС-10» с грохотом летел к земле. Холли сжалась в комок и закрыла глаза. Перед мысленным взором поплыли лица матери с отцом, и она обрадовалась им. Затем удивилась, когда вслед за родителями в ее сознании возник образ Ленни Кэллевея. Он был ее первой детской любовью. Они не виделись с тех пор, как обоим исполнилось шестнадцать… Потом появилась миссис Руни, учительница из старших классов, которая с особенным участием относилась к ее проблемам и успехам… За ней Лори Клагер — лучшая подруга на протяжении всех школьных и половины студенческих лет. Жизнь разбросала их по разным уголкам страны… И многие другие, все те, кого она любит или когда-то любила. Она думала о каждом из них не больше доли секунды, но близость смерти словно изменила ход времени, и Холли казалось, что она подолгу всматривается в родные лица. Перед ней вставали не кадры из прожитой жизни, а образы дорогих ее сердцу людей — хотя, может быть, это одно и то же. Несмотря на пронзительный вой двигателей и нахлынувшие воспоминания, она услышала, как Кристин Дубровек говорит дочери: «Я люблю тебя, Кейси». Холли заплакала.* * *
Триста футов. Делбо сумел приподнять нос самолета. Похоже, все идет нормально. Насколько слово «нормально» применимо в данных обстоятельствах. Они шли под небольшим углом к полосе, но, возможно, сразу после посадки самолет удастся выровнять. В противном случае они пронесутся по бетонке три, а то и четыре тысячи футов, и лишь потом лайнер выкатится на недавно убранное поле. Это, конечно, не самый лучший вариант, но по крайней мере скорость значительно уменьшится. Конечно, многое зависит от того, какая поверхность окажется под колесами. Самолет может развалиться, но мало вероятности, что он разлетится вдребезги. Двести футов. Ветер стих. Они парили в воздухе. Легко, словно перышко. — Порядок, — сказал Анилов. — Спокойно, спокойно, — ответил Делбо. Оба имели в виду одно и то же, все идет нормально, еще немного — и можно обо всем забыть. Сто футов. Нос самолета кверху. Отлично, отлично. Земля. Странный звук лопающейся струны! И одновременно с ним взвыли шины, ударившись о бетонную полосу. Делбо помнил предупреждение незнакомца. Он скомандовал: — Левый двигатель! — И направил самолет влево. Янковски тоже хорошо помнил слова Джима, хотя и назвал их чушью. Командир не успел договорить, как инструктор выполнил команду. В точности как и было сказано, «ДС-10» завалился вправо, но мгновенная реакция экипажа спасла его от опрокидывания. Лайнер качнулся влево, и правое крыло вернулось в прежнее положение. Возникла опасность излишней компенсации, и Делбо, продолжая удерживать самолет в том же направлении, отдал Янковски новую команду. Дрожа и вибрируя, самолет мчался по полосе. Он приказал включить реверс, потому что бешеная скорость, с которой они неслись по бетонке, означала для них смертельную опасность. Самолет шел под углом к полосе и, хотя и замедлял бег, с каждым мгновением приближался к опасному краю. Правое крыло снова провисло. Оно раскачивалось, издавая дьявольский скрежет рвущегося железа: как и говорил Джим, не выдержал металл в месте соединения крыла с фюзеляжем. Сказалось напряжение дикого полета и встречный ветер, какой бывает раз в столетие. Они мчались вперед, но Делбо ничего не мог поделать со структурным дефектом. Нельзя же вылезти наружу и заварить проклятую трещину. Самолет катился по полосе, замедляя скорость, но правое крыло стало крениться к земле, все попытки помешать этому оказались напрасными. Крыло резко ушло вниз…* * *
Холли почувствовала, что самолет заваливается вправо. Она задержала дыхание, или подумала, что задержала, потому что в то же самое время ловила воздух широко открытым ртом. Лязг и скрежет деформируемого металла отдавались в фюзеляже жутким эхом. Внезапно этот звук усилился. «ДС-10» сильно накренился вправо. Затем подпрыгнул и с пушечным грохотом, от которого у пассажиров зазвенело в ушах, ударился о бетон. Шасси не выдержало, и лайнер осел на брюхо, продолжая по инерции скользить вперед. Затем он начал переворачиваться. Сердце Холли сжалось, желудок свело судорогой. Лучшая карнавальная поездка в мире. Вот только не, слишком веселая. Пристежные ремни впились в ребра и, словно бритвы, резали ее пополам. В салоне стоял невыносимый шум. И крики пассажиров были не самое худшее. Голоса людей тонули в реве лайнера, чье израненное брюхо волочилось по бетонным плитам посадочной полосы. Рев умирающей машины можно было сравнить только с предсмертным криком динозавра, провалившегося в мезозойскую трещину. После гибели этих гигантов на Земле не осталось существа, способного издавать такие жуткие пронзительные вопли. Не верилось, что это голос машины. Страшный металлический звук, до странности похожий на стон раненого чудовища, мог бы принадлежать миллионам мучеников ада, чьи отчаянные стенания слились в один душераздирающий вопль. Казалось, еще миг — и лопнут барабанные перепонки. Нарушая все инструкции, Холли подняла голову и быстро огляделась по сторонам. За стеклами иллюминаторов бушевали каскады белых, желтых и бирюзовых искр, как будто их встречали необычайно красочным фейерверком. Впереди, рядов через шесть от нее, фюзеляж раскололся, как яичная скорлупа при ударе о край керамического кувшина. Холли решила, что с нее достаточно увиденного, и снова спрятала голову в коленях. Она услышала свой собственный лепет, но была так испугана, что сквозь царившую в салоне какофонию с трудом различила только невнятное: — Не надо, не надо, не надо… Возможно, она на несколько секунд потеряла сознание или под тяжестью неимоверной нагрузки ее чувства на время отключились. Холли открыла глаза. Самолет не двигался. В ноздри лез едкий запах, природу которого не могло определить вернувшееся к ней обоняние. Страшное испытание закончилось, но Холли совершенно не помнила последние мгновения посадки. Она спасена. Холли охватила дикая радость. Она подняла голову, выпрямилась, готовая закричать от переполнявшего душу восторга, и застыла в кресле, увидев впереди огонь.* * *
«ДС-10» не перевернулся. Предупреждение командиру корабля Делбо подоспело вовремя. Но, как и боялся Джим, хаос, возникший после приземления, таил в себе не меньшую опасность, чем сам удар о землю. По правой стороне лайнера разлилось топливо, и обломки самолета мгновенно вспыхнули. Оранжевые языки, извиваясь, лезли в иллюминаторы. Джиму почудилось, что он пассажир подводной лодки, плывущей сквозь море огня на далекой чужой планете. По стеклу побежали трещины, и огонь хлынул сквозь образовавшиеся щели и пробоину в фюзеляже, отделившую экономический класс от первого. Джим расстегнул ремень и, шатаясь, поднялся. Пламя уже охватило кресла на правой стороне салона. Он увидел, как сидевшие там пассажиры падают и корчатся в проходе. Еще миг — и их скрыла стена огня. Он сделал шаг в сторону. Сгреб Холли в охапку и вытолкнул ее в проход. Бросил взгляд на Дубровеков. С ними все в порядке. Ни мать, ни ребенок не пострадали. Кейси плакала. Джим схватил Холли за руку и огляделся в поисках выхода. Открывшееся зрелище заставило его вздрогнуть. Из искореженного, раздавленного хвоста «ДС-10» выползала бесформенная черная масса, похожая на прожорливую кляксу из старого фильма ужасов. Жуткое облако плыло по салону, окрашивая все вокруг в черный цвет. Дым. Он не сразу сообразил, что это, потому что клубы дыма были такими густыми, что казались стеной из нефти и газа. Что их ждет? Смерть от удушья? Или… Впереди огонь, но придется пробиваться. Справа языки пламени лизали края распоротой обшивки фюзеляжа, проникая внутрь и сужая пространство салона. Но огонь пока не достиг левого прохода. Еще можно спастись. — Быстрей, — крикнул Джим, поворачиваясь к Кристин и Кейси, которые тоже выбрались со своих мест. — Вперед, быстрей, бегите изо всех сил. Однако пассажиры из первых шести рядов экономического класса уже высыпали в проход. Люди суетились, пытаясь поскорее выбраться из салона, возникла давка, и, несмотря на героические усилия молоденькой стюардессы, дело приняло серьезный оборот. Пол был завален чемоданами, сумками, книгами и другими вещами, которые попадали с багажных полок. Джим не сделал и нескольких шагов, как едва не упал, запутавшись в чьей-то куртке. Сзади надвигалось облако едкого дыма. Глаза моментально наполнились слезами. Джим подавился, закашлялся, его едва не стошнило от отвращения. Он сразу прогнал мысль о том, что может гореть у него за спиной вместе с чехлами и подушками кресел, ковровой дорожкой и другими элементами интерьера салона. Густые клубы жирного дыма настигли его и окутали со всех сторон. Спины пассажиров впереди скрылись за черной пеленой, как будто за ними задернули бархатный занавес. Перед тем как видимость уменьшилась до нескольких дюймов, Джим отпустил руку Холли и дотронулся до плеча Кристин: — Давайте, я ее возьму, — сказал он, подхватывая Кейси на руки. Под ногами у него валялся бумажный пакет из магазина сувениров Лос-Анджелесского аэропорта. Он был порван. Джим увидел белую майку с розовой надписью «Я люблю Л. А.» и рисунком: персик на фоне бледно-зеленых пальм. Джим схватил майку и сунул в маленькие ручки Кейси. Кашляя, как и все вокруг, он сказал девочке: — Прижми к лицу, солнышко. Дыши через нее. Потом он совершенно ослеп. На глаза опустилась такая плотная черная пелена, что Джим перестал видеть ребенка, которого прижимал к груди. Сгустившиеся клубы дыма превратились в непроглядную тьму. Она была чернее темноты, которую видишь, закрыв глаза. Когда закрываешь глаза, цветные лучики света все-таки пробиваются сквозь веки, рождая неясные образы. Должно быть, до пробоины в фюзеляже осталось не больше двадцати футов. Джим не боялся заблудиться, проход — единственный путь к спасению. Он старался не дышать. Можно задержать дыхание на минуту, этого вполне достаточно. Но, к несчастью, он уже вдохнул едкий дым, и горло горело, точно он проглотил кислоту. В легких першило, а желудок содрогался от спазмов, вызывая новые приступы кашля. Закашлявшись, он снова непроизвольно вдыхал дым. Возможно, ему осталось пройти всего пятнадцать футов. Хотелось крикнуть застрявшим в проходе людям: «Шевелитесь же, черт вас возьми!» Джим знал, что они двигаются с не меньшей поспешностью и так же, как и он сам, хотят быстрее выбраться из этого ада, но все-таки с трудом удерживался, чтобы не прикрикнуть на них. Он почувствовал, как внутри поднимается ярость, и понял, что находится на грани истерики. Под ногой оказались какие-то маленькие цилиндрические предметы. Он покачнулся, но удержал равновесие и двинулся вперед, точно мальчишка, играющий в игру, в которой нужно пройти по маленьким стеклянным шарикам. Кейси захлебывалась кашлем. Джим не мог этого слышать, но чувствовал, как сотрясается маленькое тельце девочки, пытающейся дышать через майку с надписью «Я люблю Л. А.». С тех пор как он двинулся к выходу, прошло не больше минуты, и, может быть, только тридцать секунд назад он взял на руки ребенка, но ему казалось, что он уже очень долго идет по бесконечному туннелю. Несмотря на бушевавшие в нем ярость и страх, Джим сохранял присутствие духа и способность трезво мыслить. Он вспомнил, как где-то читал, что при пожаре дым поднимается вверх и скапливается у потолка. Если через несколько секунд они не достигнут выхода, придется опуститься на пол и ползти: воздух внизу относительно чище, и можно спастись от токсичных газов. В лицо дохнуло горячим воздухом. Он представил себе, что шагает в печь. Кожа вздувается волдырями и лопается, мгновенно превращаясь в горящие угли. Сердце, которое бешено колотилось о ребра, забилось еще быстрее. В уверенности, что до пролома в фюзеляже осталось несколько шагов, Джим, корчась от боли, открыл слезящиеся глаза. Черная стена сменилась угольно-серыми клубами дыма, через которые пробивались пульсирующие отблески. Он понял: это языки пламени, закрытые дымной пеленой. Они тянулись к нему, подбрасывая в воздух миллиарды крутящихся частиц пепла. Огонь мог в любой момент пробиться сквозь облако дыма и сжечь его дотла, Джим потерял надежду. Дышать нечем. Со всех сторон огонь. Сейчас он вспыхнет и сгорит, как живая свеча. Джим мысленно увидел, как падает на колени, прижимая к груди ребенка, и они оба сгорают в преисподней, погружаясь в потоки расплавленного металла. Внезапно в лицо пахнуло ветром. Дымовая завеса сдвинулась влево. Он увидел дневной свет, холодный и серый, непохожий на мертвенный отблеск горящего топлива. Ужасная мысль о том, что они с девочкой могут сгореть заживо всего в двух шагах от спасения, придала ему новые силы. Джим рванулся сквозь серый дым и рухнул вниз на голую землю. К счастью, он упал на недавно сжатое поле, которое только что вспахали под мульчу. И хотя от удара о землю у него перешибло дыхание, все я кости остались целы. Падая, он еще крепче прижал к себе Кейси. Перекатился на колени. Тяжело поднялся и, не выпуская девочку из рук, шатающейся походкой побрел в сторону от жаркого ослепительного зарева, в котором полыхали обломки самолета. Некоторые из пассажиров, которым удалось выбраться из самолета, так поспешно бежали от места катастрофы, будто думали, что «ДС-10» до краев начинен динамитом и вот-вот взорвется, разнеся вдребезги половину штата Айова. Другие, испытавшие шок, бесцельно слонялись поблизости. Третьи без сил валились на землю. Среди них были раненые, и возможно, мертвые. Жадно глотая чистый воздух, кашляя и сплевывая черную слюну, Джим беспокойно оглядывался по сторонам в поисках Кристин Дубровек. Но ее не было видно среди собравшихся на поле людей. Он несколько раз окрикнул Кристин, но не получил ответа и наконец решил, что она погибла. Может быть, переступая через рассыпанные на полу вещи пассажиров, он шел по телам погибших от удушья людей. Наверное, Кейси разгадала его мысли. Девочка уронила майку с пальмами, и, прильнув к его плечу, стала спрашивать, куда делась ее мама. Испуганный голос Кейси говорил о том, что она предполагает самое худшее. Охватившее его чувство триумфа уступило место страху, который позвякивал внутри гулкой пустотой, точно кубики льда в высоком узком стакане. Джим перестал чувствовать тепло августовского солнца над Айовой и жар горящего лайнера, словно оказался во льдах арктической пустыни. — Стив? Он не сразу понял, что зовут его. — Стив? Тогда Джим вспомнил: для нее он был Стивом Хэркменом, и повернулся на голос Кристин. Весьма вероятно, что она сама, ее муж и настоящий Стив Хэркмен будут до конца жизни ломать головы над этой загадкой. Кристин шла к нему навстречу, утопая босыми ногами в рыхлой свежевспаханной земле. Лицо и одежда были испачканы сажей. Она протянула руки к дочери. Джим отдал ей ребенка. Мать и дочь прижались друг к другу. Кристин повернула к нему залитое слезами лицо и, глядя поверх плеча Кейси, сказала: — Я вам стольким обязана, Стив. Вы спасли ей жизнь. Просто не знаю, как вас благодарить. Ему не требовалась благодарность. Все, что ему нужно, — это Холли Тори, живая и невредимая. — Вы видели Холли? — спросил он с тревогой. — Да. Она услышала крик ребенка и подумала, что это Кейси. Кристин била крупная дрожь. Как будто она еще не осознала, что самое страшное осталось позади, и боялась, что земля вдруг разверзнется и на них хлынут потоки раскаленной лавы. — Как мы потеряли друг друга? Мы ведь шли рядом. Потом я оказалась на улице… Смотрю, а вас с Кейси нет. — Что с Холли? — нетерпеливо прервал ее Джим. — Куда она пошла? — Она хотела бежать назад за Кейси. Но потом поняла, что кричат из первого класса. Кристин показала ему кошелек: — Это ее кошелек. Она вынесла его, не понимая, что делает. Потом отдала мне и вернулась. Знала, что это не Кейси, но все равно побежала на помощь. Кристин махнула рукой в сторону самолета, и Джим только теперь заметил, что носовое отделение и салон первого класса полностью оторваны от части фюзеляжа, в которой находились их места, и дымятся в поле на удалении двухсот футов. Огонь там не успел по-настоящему разгореться, но при посадке корпус самолета пострадал еще сильнее, чем искореженный хвост лайнера.Джим помертвел при мысли, что Холли исчезла среди дымных горящих обломков, и с ужасом уставился на нос самолета, напоминающий огромное зловещее надгробие, оставленное на пашне Айовы пришельцами из чужих миров. Он с криком бросился к самолету.
* * *
Хотя Холли знала, что перед ней тот самый самолет, на котором несколько часов назад она вылетела из Лос-Анджелеса, она с трудом поверила, что носовое отделение когда-то было частью обычного пассажирского авиалайнера. Сейчас его обломки напоминали сильно деформированное изображение «ДС-10», сваренное из деталей настоящих самолетов и различного мусора, с трудом поддающегося описанию. Казалось, неизвестный скульптор использовал кухонные кастрюли, консервные банки, мусорные ведра, бамперы автомобилей, кривые трубы и звенья кованого забора. Алюминиевые листы обшивки вздыбились, иллюминаторы смотрели пустыми глазницами, оторванные сиденья напоминали старые, никому не нужные кресла, снятые с аукциона и сваленные в углу сарая. Металлические детали были измяты и перекручены, а в некоторых местах совершенно рассыпались, будто их раздробили ударом гигантского молота. Декоративные панели салона задрались и съежились, из-под них выглядывали массивные рельсы конструкции. Пол местами вспучился от взрыва или удара о землю. Отовсюду торчали острые шипы и кривые металлические зубья. Больше всего внутренности «ДС-10» напоминали кладбище старых машин, над которым пронесся разрушительный смерч. Холли пробиралась к тому месту, откуда раздавались звуки, похожие на плач испуганного ребенка. Не везде можно было пройти в полный рост, приходилось нагибаться и ползти, протискиваясь сквозь завалы. Ей удавалось расчистить себе дорогу или обойти препятствие стороной, если оно оказывалось непреодолимым. Некогда ровные ряды кресел, в беспорядке рассыпанные по полу, превратились в настоящий лабиринт. Она содрогнулась, увидев желто-красные искры огня, которые плясали в правом углу салона возле переборки, отделявшей пассажирское отделение от кабины экипажа. В отличие от пламени, бушевавшего в хвостовой части самолета, пожар здесь не успел разгореться. Он мог вспыхнуть и мгновенно охватить все вокруг, но пока на его пути не встретились горючие материалы, огонь не особенно опасен. По салону вился серый дым, но он не представлял серьезной угрозы, а только раздражал. Холли дышала без особого труда и почти не кашляла. Больше всего ее пугали трупы. Хотя вмешательство Джима Айренхарта и смягчило последствия катастрофы, спастись удалось далеко не всем. Много жертв оказалось и среди пассажиров первого класса. Холли увидела тело мужчины, приколотое к спинке кресла куском стальной трубы, которая торчала из горла. Пустые глаза мертвого были широко раскрыты, а с лица не успело сойти удивленное выражение. Неподалеку от него лежало тело почти обезглавленной женщины, придавленное вырванным из пола креслом. Под грудами обломков и вещей раненые валялись вперемешку с трупами. Единственный способ различить их — подобраться поближе и прислушаться, откуда раздаются стоны. Холли подавила страх. Она знала, что все вокруг залито кровью, но смотрела по сторонам невидящими глазами, стараясь не задерживать взгляд на особенно кошмарных сценах. Она представила, что распростертые в страшных позах тела — всего лишь абстрактные, не существующие в реальности кубистские фигуры, которые последователь Пикассо нарисовал краской на холсте. Если позволить себе думать об увиденных ужасах, захочется убежать отсюда без оглядки или сжаться в эмбрион и забиться в истерике. Холли попались несколько людей, которым требовалась немедленная медицинская помощь, но одни пострадавшие оказались слишком тяжелыми, других ей не удалось извлечь из-под обломков. И, кроме того, она спешила на крик ребенка, движимая бессознательной уверенностью, что детей нужно спасать первыми, — одно из основных условий генетического отбора в природе. Вдалеке завыли сирены. Она даже не стала раздумывать о том, что с минуту на минуту сюда прибудут профессиональные спасатели. Это все равно не имеет значения. Не возвращаться же назад и ждать, пока они появятся. Для ребенка одна-две минуты могут означать жизнь или смерть. Холли пробиралась вперед, тревожно поглядывая на слабые, но грозные языки пламени, пробивающиеся сквозь дыры и трещины в фюзеляже. Неожиданно за спиной раздался голос Джима Айренхарта, который окликал ее по имени. Похоже, он находился в том месте, где передняя часть самолета оторвалась от задней. В дыму и суматохе, возникшей после того, как они с Джимом выбрались из средней секции «ДС-10», их разнесло в разные стороны и они потеряли друг друга в толпе, хотя до самого последнего момента Айренхарт был у нее за спиной. Несмотря на то, что Холли не сомневалась, что он и Кейси целы и невредимы благодаря особому таланту Джима, она здорово обрадовалась, услышав его голос. — Сюда! — крикнула она в ответ, не видя его из-за выступа в искривленной стене. — Что вы там делаете? — Ищу маленького мальчика, — отозвалась Холли. — Я слышу, как он плачет где-то здесь, рядом, но не вижу его. — Вылезайте оттуда! — закричал он, стараясь перекрыть громкий вой сирен подъехавших машин «скорой помощи». — Сюда идут спасатели. Они знают, что делать. — Да идите же сюда, — не оборачиваясь, ответила Холли. — Здесь есть люди, которым нужно помочь сию минуту! Она приближалась к передним рядам первого класса, где стальные опоры фюзеляжа были вдавлены внутрь, но не так сильно, как в остальной части салона. Однако сломанные кресла, чемоданы и сумки пассажиров, которые при ударе о землю полетели вперед, образовали в этом месте огромную груду, и в ней оказались люди, живые и мертвые. Холли отодвинула с дороги сломанное кресло. Задержалась, переводя дыхание, и услышала, что Джим пробирается вслед за ней. Она легла на бок и, протиснувшись в узкое отверстие в завале, оказалась нос к носу с мальчиком, которого разыскивала. Малышу было около пяти. Он удивленно заморгал огромными черными глазами и всхлипнул, точно уже давно потерял всякую надежду кого-нибудь увидеть. Перевернутая секция из пяти кресел, словно палатка, накрыла лежащего на животе ребенка. На первый взгляд могло показаться, что мальчик может без труда выбраться из завала. — Мою ногу что-то держит, — объяснил он Холли, постепенно приходя в себя от испуга. Ее появление обрадовало и успокоило его. Не важно, сколько тебе лет, пять или пятьдесят, нет ничего хуже одиночества. — Никак, зацепилась и не пускает. Холли закашлялась, спеша успокоить ребенка: — Сейчас, дружок, я тебя вытащу. Все будет в порядке. Задрав голову, она увидела, что на секцию навален еще один ряд кресел, придавленный сверху тяжестью искореженного потолка, и спросила себя, что случилось с носом лайнера, до того, как он уткнулся правым боком в рыхлую землю Айовы. Она осторожно вытерла ребенку слезы. — Как тебя зовут, дружок? — Норвуд. Ребята зовут Норби. Она совсем не болит. Я про ногу. Такой ответ ее очень порадовал. Но затем, когда Холли стала осматриваться по сторонам, решая, что ей делать, мальчик сказал: — Я ничего не чувствую. — Что не чувствуешь, Норби? — Ногу. Смешно, она застряла, и я не могу ее вытащить, но совсем не чувствую. Знаете, как будто ее там нет. Холли похолодела, услышав эти слова. В ее голове промелькнула страшная картина. Может быть, ничего страшного и не случилось, нога просто окоченела, но необходимо спешить, иначе остановится кровообращение. Под креслами было слишком тесно, чтобы Холли могла протиснуться вперед и освободить ребенка. Вместо того она перекатилась на спину, согнула ноги в коленях и уперлась подошвами в кресла. — Спокойно, дружок. Сейчас я выпрямлю ноги, постараюсь сдвинуть эту штуку на несколько дюймов. Как почувствуешь, что она пошла вверх, сразу вытаскивай ногу. Кольца серого дыма выплыли из темноты за спиной Норби и зазмеились перед лицом мальчика. Он закашлялся и сказал: — Здесь м-м-мертвые… со мной рядом. — Ничего, Норби, ничего, — успокоила его Холли, напрягая мышцы и пробуя, насколько тяжелый вес ей нужно сдвинуть. — Немного потерпи. Сейчас я тебя вытащу. — За моим креслом еще кресло и за ним мертвые, — голос Норби дрожал. Кто знает, как долго будут мучить мальчика кошмарные воспоминания о случившемся. Может быть, эти минуты наложат отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. — Давай, — скомандовала она, выпрямляя согнутые колени. Тяжелая гора кресел, вещей и тел не поддавалась. Мешал искореженный потолок, придавивший ее своей тяжестью. Холли собрала все силы, стальной пол, покрытый тонкой ковровой дорожкой, больно врезался ей в спину, но — все напрасно. Она невольно застонала. Затем, придя в бешенство от собственного бессилия, повторила попытку с еще большей энергией, потом еще раз, еще и… Кресло сдвинулось. На какую-то долю дюйма. Холли усилила нажим, обнаружив в себе резервы, о которых даже не подозревала. Боль в ногах пересилила боль в спине. Стальные пластины провисшего потолка со скрипом выгнулись. Сначала на дюйм, потом еще на два… Кресло сдвинулось… — Не могу, — жалобно сказал мальчик. Из темноты, окружавшей ребенка, расползались кольца бледно-серого дыма. Холли заметила, что дым темнее, чем раньше, жирный, с новым отвратительным запахом. Она молила Бога, чтобы огонь не перекинулся на чехлы кресел, образовавших вокруг мальчика подобие кокона. От перенапряжения мускулы ног сводило судорогой. Боль в спине отдавалась в груди. Каждый удар сердца, каждый вдох становились настоящей пыткой. Еще миг — и она не выдержит. Но последнее усилие сдвинуло кресло еще на дюйм и… Норби взвизгнул от боли, но тут же восторженно закричал: — Отпустил, отпустил! И пополз навстречу ей. Холли обессиленно вытянулась на полу. Она поняла: Норби подумал, что его нога была зажата в холодной железной руке лежащего под креслами мертвеца. Будь она на месте пятилетнего мальчишки, попавшего в такую переделку, ей, возможно, пришла бы в голову точно такая же мысль. Она отодвинулась в сторону, и Норби вылез из западни. Они присели в узком пространстве между завалами и прижались друг к другу. — Холли! — раздался крик Джима неподалеку от них. — Я его нашла. — Здесь женщина, я вынесу ее наружу. — Хорошо! — крикнула она в ответ. Сирены на улице звучали не так пронзительно, как раньше, и наконец стихли. Прибыли команды спасателей. Несмотря на черноватый дым, идущий из-под кресел, под которыми она нашла Норби, Холли задержалась, чтобы осмотреть мальчика. Нога была сломана в лодыжке, и ступня неестественно болталась, точно у старой тряпичной куклы. Она распухала прямо на глазах, и Холли поспешно стянула с ребенка ботинок. Белый носок потемнел от крови. Но на коже оказалось только несколько царапин и порезов. Кровотечение ему не угрожает, но очень скоро шок пройдет и мальчик почувствует мучительную боль в сломанной ноге. — Пойдем отсюда, — сказала она Норби. Она собиралась пуститься в обратный путь, но тут ее внимание привлекла трещина в стене, которая тянулась из-за переборки, отделявшей салон от кабины пилотов, и заканчивалась всего в нескольких футах от Холли. Щель была во всю стену от пола до потолка. Из нее торчали клочья внутренних панелей, изоляции, выглядывали развороченные опоры каркаса. Холли увидела, что они с мальчиком могут протиснуться в образовавшееся отверстие. Когда они выглянули наружу, внизу появился спасатель. До земли оставалось около двенадцати футов, и он вытянул руки, чтобы принять мальчика. Норби прыгнул. Мужчина поймал его и отступил назад. Холли прыгнула следом и упала на вспаханную землю. — Ваш ребенок? — спросил ее спасатель. — Нет. Я услышала, как он плачет, и вытащила его. У него сломана нога. — Я был с дядей Фрэнком, — сказал Норби. — Вот как… — Мужчина попытался ободрить мальчика, — сейчас найдем твоего дядю. — Дядя Фрэнк умер, — отозвался Норби безжизненным голосом. Мужчина взглянул на Холли, словно она должна была знать, что говорить в таких случаях. Она потрясение молчала, не в силах смириться с мыслью, что на долю пятилетнего ребенка выпали такие тяжелые испытания. Ей хотелось обнять мальчика, покачать его на руках, сказать, что все в этом мире будет хорошо. Но в этом мире есть зло и смерть. Адам нарушил запрет, вкусив от плода познания, и Бог решил показать ему темные и светлые стороны вещей. Дети Адама научились охотиться, выращивать хлеб, спасаться от зимних холодов и готовить пищу на костре. Они узнали, как делать орудия и строить жилища. А Бог, желая дать людям разностороннее образование, открыл им миллион способов смерти и страдания. С помощью Всевышнего люди овладели языком, чтением и письмом, проникли в тайны биологии, химии, физики и генетики. И он же обрушил на них чудовищные ужасы и заставил страдать от мозговой опухоли, дистрофии мускулов, бубонной чумы, рака и — авиакатастроф. Хотите познания — пожалуйста. Бог оказался учителем-энтузиастом, охваченным демонической жаждой просвещения. Он взваливает на плечи учеников неимоверный вес, который нередко расплющивает их в лепешку. Спасатель подхватил Норби и через поле понес его к белым машинам «скорой помощи», стоящим у края бетонной полосы. Отчаяние Холли сменилось гневом. Впрочем, что толку, ведь сердиться можно только на Бога, а этим все равно ничего не изменишь. Господь не избавит человечество от проклятия смерти только из-за того, что Холли Торн считает смерть огромной несправедливостью. Она осознала: ее охватила ярость, схожая с теми чувствами, которые движут поступками Джима Айренхарта. Вспомнила, как они спорили яростным шепотом и она хотела заставить его спасти не только Дубровеков, а всех пассажиров 246-го рейса. Он тогда сказал: «Я ненавижу смерть. Ненавижу, когда люди умирают!» Холли врезался в память рассказ Виолы Морено о глубокой непроходящей печали в сердце Джима. Возможно, она появилась с тех пор, как он в десятилетнем возрасте потерял родителей. Из-за самоубийства Ларри Какониса Айренхарт бросил работу, отказался от любимого дела. Все его усилия и труды оказались напрасными. Раньше Холли думала, что такая реакция чрезмерна, но теперь она хорошо понимала Джима. Она почувствовала потребность отказаться от рутины будничной жизни и сделать что-то настоящее. Вступить в борьбу с судьбой, ухватиться за саму материю Вселенной и, вопреки планам Всевышнего, изменить картину мира Холли стояла посреди поля Айовы, пряча лицо от омерзительного запаха дыма и глядя вслед спасателю, который нес найденного ею ребенка. В этот миг она чувствовала необыкновенную близость между собой и Джимом Айренхартом. Такого чувства она не испытывала ни к одному человеку. Она решила его разыскать. На поле возле обломков «ДС-10» царил настоящий хаос. То и дело подъезжали пожарные машины. Над горящим самолетом изгибались белые струи пены, которая стекала по фюзеляжу на землю, и под ее клочьями исчезали языки пламени, пляшущие на облитой керосином траве. Из всех щелей и разбитых окон средней части валил густой дым. Порывы ветра раскачивали над полем черный балдахин, который закрывал полуденное солнце и отбрасывал на поле жуткие, постоянно меняющиеся тени. Это зрелище напоминало Холли мрачный калейдоскоп, состоящий из одних серых и черных стекол. Немногочисленные спасатели и медики занимались поисками уцелевших, но одним профессионалам такая огромная задача была не под силу, и некоторые смельчаки взялись им помочь. Остальные пассажиры стояли в стороне. Молчали, нервно переговаривались. Ждали микроавтобусов, чтобы уехать в Дубьюк. Одним повезло, и они выглядели так, как будто только что приняли душ и оделись для выхода в свет. Другие, черные от сажи, кутались в грязные лохмотья. Треск коротковолновых раций и голоса спасателей придавали зрелищу катастрофы необходимую законченность. В поисках Джима Холли столкнулась со стройной женщиной лет двадцати, одетой в узкое желтое платье.Взглянув в ее фарфоровое лицо, обрамленное каштановыми локонами, Холли поняла, что, хотя незнакомка выглядит целой и невредимой, ей требуется немедленная помощь. Женщина стояла возле дымящегося хвоста самолета и с азартом выкрикивала охрипшим голосом: «Кении! Кении! Кении!» Холли положила ей руку на плечо. — Кого вы ищете? Та подняла на Холли остекленевшие глаза, голубые, точно глициния. — Вы видели Кении? — Кто такой Кении? — Мой муж. — Как он выглядит? Женщина ошеломленно посмотрела на Холли. — У нас медовый месяц. — Я помогу вам его найти. — Нет. — Идемте, все будет в порядке. — Я не хочу его искать, — сказала женщина. Уступая Холли, она повернулась к самолету спиной и пошла к санитарным машинам. — Я не хочу его видеть. Таким. Мертвым, изломанным, обгорелым. Шагая по мягкой, рыхлой пашне, Холли подумала, что в начале зимы на этом месте будут сеять, а весной взойдут нежные зеленые ростки. К этому времени все следы смерти исчезнут, и природа восстановит иллюзию вечной, никогда не прерывающейся жизни.Глава 5
Что-то очень серьезное происходило в душе Холли. Она не понимала сути этого явления и не догадывалась, что ее ждет впереди, но чувствовала, что жизнь ее изменилась и она никогда не будет прежней Холли. В ее внутреннем мире царил такой хаос, что у нее не нашлось сил для борьбы с миром внешним, и она вместе с остальными приняла участие в стандартной программе, предназначенной для реабилитации людей, переживших авиакатастрофу. Эмоциональная, психологическая и чисто практическая помощь, оказанная пассажирам с 246-го рейса, произвела на нее глубокое впечатление. Персонал Дубьюка был готов к подобным экстренным случаям и действовал быстро и четко. Не прошло и нескольких минут после прибытия в аэропорт, как перед пассажирами появились психологи, католические священники, пасторы и раввин. Всех провели в большой зал, предназначенный для особо важных персон, и усадили в мягкие синие кресла. На столы из красного дерева поставили около десятка телефонов, которые сняли с рабочих линий аэропорта. Несколько девушек в униформе помогали людям связываться с родными. Служащие Объединенных авиакомпаний работали без отдыха. Они помогали советом, устраивали желающих в местные гостиницы, сажали их на ближайшие рейсы, разыскивали родственников и друзей, попавших в больницы, и успокаивали тех, кто оплакивал погибших. Их горе и ужас, казалось, были так же велики, как если бы они сами пережили катастрофу. Они точно чувствовали ответственность и угрызения совести из-за того, что это случилось с самолетом их авиакомпании. Холли увидела, как молодая женщина в униформе резко повернулась и в слезах выбежала из зала. Другие, и мужчины и женщины, ходили с бледными лицами, у некоторых дрожали руки. Ей захотелось их утешить, похлопать по плечу, сказать, что даже самые лучшие и надежные машины рано или поздно ломаются, человеческое знание несовершенно, а над миром распростерла свои крылья тьма. В этой критической ситуации, где проявились мужество, достоинство и сострадание людей, шумное появление представителей средств массовой информации вызвало у Холли бурю негодования. Она знала, что достоинство окажется первой жертвой беспардонных репортеров. Если судить объективно, эти люди просто делали свою работу, и она хорошо знала, чего стоит их нелегкий труд. Но, к сожалению, процент по-настоящему талантливых репортеров не выше, чем процент компетентных сантехников или плотников, способных поставить идеальную дверную раму. Разница лишь в том, что равнодушный и бесцеремонный репортер может нанести огромный вред чужой репутации, а это куда страшнее, чем капающий кран или перекошенная дверь. Теле — и радиорепортеры, журналисты всех мастей разбежались по зданию аэропорта и скоро проникли даже в служебные помещения, куда посторонним вход воспрещен. Некоторые из них, видя эмоциональное и душевное состояние пострадавших, вели себя довольно сдержанно, но большинство атаковало служащих Объединенных авиакомпаний бесцеремонными вопросами, в которых постоянно звучали слова «ответственность» и «моральные обязательства». Стремясь пощекотать нервы своим зрителям, слушателям и читателям, они беззастенчиво вытягивали из пассажиров страшные подробности случившейся катастрофы. Хотя Холли знала все их трюки и умела отваживать нескромных репортеров, в течение пятнадцати минут ей шесть раз задали один и тот же вопрос: «Что вы чувствуете?», «Что вы чувствовали, когда узнали о приближении катастрофы?», «Что вы чувствовали, когда поняли, что можете погибнуть?», «Что вы чувствовали, видя, как вокруг вас умирают люди?» В конце концов она взорвалась и, прижатая к большому окну, из которого открывался вид на летное поле, высказала ретивому репортеру из «Си-эн-эн» все, что она о нем думала. Этого обладателя дорогой прически звали Энлек, и он никак не мог взять в толк, что она не в восторге от его внимания. — Спрашивайте меня, что я видела или что я думаю, — выпалила она ему в лицо. — Спрашивайте, кто, что, где и как, но. Бога ради, не спрашивайте, что я чувствую. Если в вас осталось что-нибудь человеческое, вы должны понимать, что я сейчас чувствую. Поставьте себя на мое место! Энлек и его оператор попятились и двинулись к новой жертве. Холли знала, что люди в переполненном зале оборачиваются на шум, стремясь понять, что случилось, но ее понесло, и она не могла остановиться. Этому Энлеку не удастся так легко от нее отделаться. — Вам не нужны факты. Вам подавай драму, кровь и ужасы… Хотите, чтобы люди обнажали перед вами свои души, а потом вырезаете все, что не понравится, искажаете смысл. Это своего рода изнасилование, черт вас возьми! Она осознала, что охвачена яростью, какую испытала на месте катастрофы, и ее бессильный гнев обращен не столько против Энлека, сколько против самого Бога. Просто репортер оказался более удобной мишенью, чем Всевышний, прячущийся в темных закоулках своего небесного царства. Она думала, что уже успокоилась, и новая вспышка черной ярости привела ее в замешательство. Холли совершенно вышла из себя и потеряла всякий контроль над своими словами. Но вдруг до нее дошло, что команда «Си-эн-эн» работает в прямом эфире. Предательский блеск глаз и ирония на лице Энлека подсказали ей, что его не слишком трогают ее обвинения. Она исполняла перед ним первоклассную красочную драму, и репортер не мог удержаться, чтобы не воспользоваться моментом, хотя сам оказывался в довольно неблаговидной роли. Потом он, конечно, великодушно извинится перед зрителями за ее поведение, с сочувствием упомянет перенесенный ею эмоциональный стресс и останется в их глазах бесстрашным и сострадательным репортером. Разозлившись на себя за то, что оказалась вовлеченной в игру, в которой победа заранее отдана репортеру, Холли отвернулась от камеры и услышала последние слова Энлека: «…и мы должны отнестись к этому с пониманием. Только представьте, что перенесла эта бедная женщина». А что, если вернуться и врезать негодяю по физиономии? Может, ему это и понравится? — Что с тобой, Торн? — спросила она себя. — Ты никогда не проигрывала. Никогда. А сейчас тебя разбили в пух и прах. Стараясь избегать встреч с репортерами и подавляя проснувшийся интерес к самоанализу, она отправилась на поиски Айренхарта. Однако ей опять не повезло. Среди последней группы прибывших с места катастрофы его тоже не оказалось. Служащие авиакомпании не смогли разыскать его имя в списках пассажиров. Впрочем, последнее не слишком удивило Холли. Она решила, что он все еще на поле. Помогает спасателям. Ей не терпелось его увидеть, но она решила быть терпеливой. Хотя после нападения на Энлека некоторые репортеры обходили ее стороной, Холли знала, как обращаться с собратьями по перу. Прихлебывая из чашки горький черный кофе — кофеин ей требовался для поддержания сил, — она шла по залу и, не раскрывая своей принадлежности к профессии, выуживала из коллег крупицы полезной информации. Среди прочего ей удалось узнать, что спаслось не менее двухсот человек, а число погибших не превышает пятидесяти, что само по себе можно назвать чудом, учитывая, что самолет переломился пополам и сгорел. Выходит, вмешательство Джима позволило экипажу спасти больше человеческих жизней, чем было предназначено свыше. Ей бы обрадоваться этому известию, а она опечалилась, вспомнив тех, кто погиб, несмотря на все усилия. Кроме того, Холли узнала, что члены экипажа, среди которых не погиб ни один человек, разыскивают пассажира, оказавшего им неоценимую помощь. Его описывали так: «Зовут Джим, фамилия неизвестна, похож на Кейвина Костнера, с ярко-голубыми глазами». Поскольку прибывшие в аэропорт представители федеральных властей тоже пожелали увидеть неизвестного Джима, на поиски пропавшего героя бросились вездесущие средства массовой информации. Постепенно Холли стало ясно: Джим захочет избежать шумихи вокруг своего имени. Он исчезнет, как делал всегда после своих подвигов, и на его след не удастся напасть ни репортерам, ни авианачальникам. Кроме имени, они ничего не знают, а это слишком мало. Она единственный свидетель, которому Джим Айренхарт назвал свою фамилию. Осознав это, Холли нахмурилась, спрашивая себя, почему для нее было сделано исключение. Возле дверей ближайшей дамской уборной она встретила Кристин Дубровек. Та вернула Холли кошелек и спросила о Стивене Хэркмене. Для нее это имя не имело никакого отношения к загадочному Джиму, о котором говорили все вокруг. — Сегодня вечером ему во что бы то ни стало нужно быть в Чикаго. Он взял машину напрокат и уехал, — солгала Холли. — Я хотела его поблагодарить, — сказала Кристин. — Но, видно, придется обождать, пока мы оба не вернемся в Лос-Анджелес. Вы, наверное, знаете, он работает вместе с моим мужем. Маленькая Кейси жалась к матери. Ее лицо было умыто, волосы причесаны. Девочка жевала шоколадку, но без особого удовольствия. Улучив удобный момент, Холли извинилась и вернулась в зал для особо важных персон, где в углу Объединенные авиакомпании развернули центр срочной помощи жертвам катастрофы. Она решила попасть на ближайший рейс в сторону Лос-Анджелеса, намереваясь улететь этой же ночью, даже если придется сделать несколько пересадок. Но Дубьюк все-таки не центр Вселенной, и до Южной Калифорнии не нашлось ни одного билета. В результате Холли пришлось примириться с мыслью, что утром она вылетит в Денвер, а оттуда днем — в Лос-Анджелес. Авиакомпания заказала для нее номер в гостинице, и ровно в шесть Холли очутилась в чистой, но мрачной комнате мотеля с длинным названием «Лучший приют на Среднем Западе». Вообще-то комната не была такой уж мрачной. Просто Холли находилась в таком состоянии, что вряд ли оценила бы и самые роскошные апартаменты. Она позвонила родителям в Филадельфию сказать, что с ней все в порядке. Они могли увидеть свою дочь по «Си-эн-эн» или встретить ее имя в списке пассажиров 246-го рейса, опубликованном в утренних газетах. Но родители пребывали в счастливом неведении. Потрясенные, они потребовали от Холли подробного отчета о случившемся, перемежая охами и ахами ее волнующий рассказ. И вышло так, что ей пришлось успокаивать их, вместо того чтобы самой выслушивать утешения. Это было очень трогательно, потому что показывало, как сильно они ее любят. «Не знаю, какое там у тебя задание, — сказала мать, — но остаток пути можно проехать на автобусе и на автобусе вернуться домой». И все-таки этот разговор с родными не улучшил настроения. Хотя на голове у нее было черт знает что и вся одежда пропиталась запахом дыма, Холли отправилась в ближайший торговый центр. Там, предъявив кредитную карточку «Виза», она купила чулки, белье, синие джинсы, белую блузку и легкую джинсовую куртку. Кроме того, будучи не в силах избавиться от подозрения, что пятна на ее кроссовках остались от следов крови, Холли выбрала новую пару «рибок». Она вернулась в мотель и, забравшись под душ, скребла и терла себя до тех пор, пока кусок гостиничного мыла не превратился в тоненький жалкий обмылок. Никогда в жизни Холли не мылась так долго, но ощущение чистоты не появилось. В конце концов она осознала, что пытается отмыть нечто, находящееся внутри нее, и выключила воду. Холли заказала ужин, но, когда в комнату принесли бутерброды, салат и фрукты, она даже не притронулась к еде. Села на кровати и уставилась в стену. Телевизор включать она не осмелилась. Боялась, что наткнется еще на одно сообщение о катастрофе. Окажись у нее возможность позвонить Джиму Айренхарту, она бы незамедлительно это сделала. Звонила бы каждые десять минут, пока бы он не приехал домой и не снял трубку. Но номер Джима не указан в телефонном справочнике. В конце концов Холли спустилась в бар и заказала пиво — весьма опасный шаг, если учесть ее предшествующий опыт потребления алкоголя. Бутылка пива, выпитая на голодный желудок, может уложить ее в горизонтальное положение до самого утра. Приезжий бизнесмен из Омахи попытался завязать с ней разговор. Холли не хотелось морочить голову этому симпатичному сорокалетнему мужчине, и она довольно мягко объяснила ему, что пришла в бар не для того, чтобы ее кто-нибудь снял. — Так ведь и я не за этим, — улыбнулся он в ответ. — Просто не с кем поговорить. Она ему поверила и оказалась права. Они посидели в баре еще пару часов, болтая о фильмах, телешоу, комиках, певцах, погоде и еде. Их разговор ни разу не коснулся политики, авиакатастроф или проблем мирового значения. К своему удивлению, она выпила три стакана пива и не почувствовала ничего, кроме приятной легкости в голове. — Хоуви, — серьезно сказала она, поднимаясь из-за, стола, — я буду вам благодарна до конца жизни. Вернувшись в пустую холодную комнату, Холли разделась и забралась в постель. Едва ее голова коснулась подушки, как она стала быстро погружаться в сон. Она завернулась в одеяло, прячась от холодного кондиционированного воздуха, и голосом, в котором больше чувствовалась усталость, чем хмель, невнятно пробормотала: «Полезай скорей в мой кокон, бабочкой взлетишь высоко». Откуда это взялось, и что бы это могло значить? С этой мыслью она и заснула. Ссшш, ссшш, ссшш, ссшш… Она снова очутилась в комнате с каменными стенами, но на этот раз все было не так, как раньше. Слепота прошла. На голубом блюдце стояла толстая желтая свеча, и ее колеблющееся пламя выхватывало из темноты мощные известняковые стены, узкие, точно бойницы древней крепости, окна, ось, уходящую вниз сквозь отверстие в деревянном полу, и тяжелую, окованную железом дверь. Каким-то образом Холли узнала, что находится на чердаке старой мельницы и что странный свист исходит от огромных деревянных крыльев, режущих свирепый ночной ветер. Она также хорошо представляла, что, если открыть дверь, за ней окажутся крутые каменные ступеньки, ведущие в главное помещение мельницы. Неожиданно все изменилось, и Холли увидела, что уже не стоит на полу, а сидит. Причем не на обычном стуле, а в кресле самолета. Она повернула голову влево и встретилась глазами с Джимом, который так же, как и она, сидел пристегнутый ремнями к креслу. — Эта старая мельница не дотянет до Чикаго, — услышала она его серьезный голос. Ей вовсе не казалось странным, что они летят на этой каменной конструкции и огромные деревянные лопасти, точно пропеллеры или реактивные двигатели, держат их в воздухе. — Но ведь мы не погибнем, правда? — спросила она. Неожиданно Джим исчез, и его место занял десятилетний мальчик. Сперва Холли поразила произошедшая перемена, но потом, взглянув на густые каштановые волосы и ярко-синие глаза мальчика, она поняла, что перед ней Джим, каким он был в детстве. Сны лишены жестких правил, и в превращении нет ничего удивительного, скорее даже в этом есть своя логика. — Мы спасемся, если не появится он, — сказал ей мальчик. — О ком ты говоришь? — спросила она. — Он — это Враг, — ответил мальчик. Казалось, мельница услышала его слова. Каменные стены зашевелились, задвигались и стали пульсировать, как живая плоть. Точно так же прошлой ночью ожила зловещая стена в комнате мотеля в Лагуна-Хиллз. Холли почудилось, что известняк приобретает черты отвратительного монстра. — Сейчас мы умрем, — прошептал мальчик. — Сейчас мы все умрем, — повторил он, словно приветствуя чудовище, которое пыталось выбраться из стены. Ссшш… Холли вскрикнула и очнулась. Так просыпалась она уже третью ночь подряд. Но на этот раз кошмар не последовал за ней в реальный мир, и она не испытывала прежнего ужаса. Страх остался, но не слишком сильный. В прошлую ночь она была на грани истерики, а сейчас только испытывала неприятное беспокойство. И, что еще важнее, она проснулась с чувством вновь обретенной свободы. Сна как не бывало. Холли села, прислонившись к спинке кровати, и скрестила руки на обнаженной груди. Она дрожала, но не от страха или холода, а от возбуждения. Несколько часов назад, проваливаясь в сон, она произнесла непонятные слова: «Полезай скорей в мой кокон, бабочкой взлетишь высоко». Теперь Холли знала, что они означали, и понимала, какие перемены произошли в ее душе с тех пор, как ей открылась тайна Айренхарта. Смутная догадка о том, что жизнь бесповоротно меняется, впервые забрезжила у нее еще в зале аэропорта. Она никогда не вернется в «Портленд пресс». Она никогда не будет работать в газете. С журналистикой покончено раз и навсегда. Именно поэтому она так и набросилась на репортера Энлека из «Си-эн-эн». Злилась на него и в то же время испытывала бессознательное чувство вины: он охотился за сенсационным материалом, а она сидела сложа руки, потому что хотела забыть о пережитых ужасах. Будь на ее месте настоящий репортер, он бы давно взял интервью у пассажиров и бросился писать статью для «Портленд пресс». Но у нее даже на миг не возникло подобного желания. Вместо этого она взяла кусок материи, сотканной из отвращения к себе, и скроила из него костюм ярости с необъятными плечами и широченными лацканами. Потом напялила это одеяние и устроила сцену перед камерой «Си-эн-эн». И весь этот цирк — ради безнадежной попытки доказать, что журналистика для нее еще что-то значит и что она не собирается отказываться от карьеры и идеалов, которым собиралась служить всю свою жизнь. Холли встала с кровати и взволнованно зашагала по комнате. С журналистикой покончено. Навсегда. Она свободна. Холли вспомнила детство, которое прошло в скромной рабочей семье, и свое постоянное стремление добиться успеха, стать одной из великих мира сего. Способный ребенок вырос и превратился в талантливую женщину, которая, столкнувшись с непостижимым отсутствием логики жизни, попыталась восстановить утраченный порядок при помощи журналистики. Ирония судьбы заключается в том, что в погоне за успехом и постижением мировых законов, работая все эти годы по семьдесят-восемьдесят часов в неделю, она совершенно оторвалась от самой жизни И, не имея ни любимого человека, ни детей, ни настоящих друзей, была столь же далека от ответов на мучившие ее вопросы, что и в самом начале пути. И вдруг с нее свалился груз нерешенных проблем, пропало всякое желание принадлежать к какому-то элитному клубу или исследовать человеческие отношения. Прежде Холли казалось, что она ненавидит журналистику. Это не так. Она ненавидела свои неудачи в журналистике, а неудачи возникали из-за того, что она ошиблась, выбирая призвание. Для того чтобы разобраться в себе и освободиться от оков привычки, ей потребовалось повстречать человека, способного творить чудеса, и пережить страшную авиакатастрофу. — Какая ты гибкая женщина, Торн, — произнесла она вслух, насмехаясь над собой. — А уж какая проницательная! Ничего смешного. И без встречи с Джимом, и без катастрофы она все равно бы пришла к этому открытию. Холли рассмеялась. Потом накинула одеяло на голое тело и, завернувшись в него, забралась с ногами в кресло. Ее снова разобрал смех. Так легко она не смеялась с тех пор, как была легкомысленным подростком. Впрочем, нет. Вот откуда пошли все беды: она никогда не была легкомысленной. Невозможно и представить более серьезного подростка, чем Холли. Она следила за всеми международными событиями и с тревогой думала о третьей мировой войне, потому что боялась погибнуть в ядерной катастрофе до окончания школы. Ее заботил рост населения Земли, потому что она слышала, что к 1990 году полтора миллиона людей погибнут от голода и даже Соединенные Штаты окажутся на грани вымирания. Она переживала из-за того, что загрязнение окружающей среды ведет к остыванию и обледенению планеты, которое похоронит цивилизацию еще при ее жизни. Об этой опасности предупреждали все газеты — до того как в конце семидесятых стал известен парниковый эффект и экологи заговорили об угрозе потепления. В юности, да и потом, она слишком часто нагружала себя заботами, вместо того чтобы просто радоваться жизни. Поэтому радость ушла, вместе с ней пропало будущее. Она никогда не думала о том, что ее ждет впереди, и забывала обо всем, кроме мимолетных сенсаций, одна из которых действительно стоила внимания, а другие на поверку оказывались дутыми. Сейчас она хохотала, как ребенок. До тех пор пока дети не достигают половой зрелости и поток гормонов не выносит их в русло нового существования, они знают, что жизнь темна, загадочна и полна ужасов, но также уверены, что все в ней просто, весело и похоже на увлекательную дорогу, ведущую к далекой чудесной цели. Холли Торн, которой неожиданно понравилось свое имя, знала, куда и зачем она идет. Она знала, чего хочет от Джима Айренхарта. Материал для хорошей статьи, признание мировой журналистики, Пулитцеровская премия — все это потеряло всякий смысл. Ей нужно гораздо больше. Она попросит у него нечто более ценное и добьется своего. Самое смешное, что, если он согласится дать то, что она просит, в ее жизни появится не только радость и смысл существования, но и постоянная опасность. Быть может, через год, месяц или неделю ее уже не будет в живых. Однако сейчас Холли думала о хорошем, перспективы ранней смерти и вечной тьмы не слишком ее пугали.Часть II. ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА
Сердца черную памятьЛучше в прошлом храни,Сбережет время тайну,Как могильный гранит.Сердца черную тайнуВ самом сердце храни,Лишь появятся слухи —Твои дни сочтеныТайну годы удержатЛучше всяких оков,Слух чужой не расслышитЗвук несказанных слов.Ты один знаешь двериВ своей памяти склепИ отыщешь останкиТайны прожитых лет.Мир реальный — лишь грезы,Все в нем — сон, полуложь,Радость, боль и угроза —Все иначе, чем ждешь.«Книга Печалей»
27-29 АВГУСТА
Глава 1
Холли сделала пересадку в Денвере, пересекла два временных пояса в западном направлении и в понедельник в одиннадцать часов утра прибыла в Лос-Анджелесский международный аэропорт. Багажа у нее с собой не было. Она быстро нашла на стоянке свою машину и по дороге, идущей вдоль побережья, поехала в Лагуна-Нигель. В двенадцать тридцать она была у дома Джима Айренхарта. Холли Поставила машину перед воротами его гаража и по кирпичной дорожке пошла к дому. Позвонила в дверь. Ей никто не ответил. Она повторила попытку и получила такой же результат. Снова нажала на кнопку и звонила до тех пор, пока на большом пальце правой руки не появился красный отпечаток. Отступив на несколько шагов, Холли стала рассматривать окна первого и второго этажей. Во всем доме были опущены ставни, и она видела за стеклами широкие пластмассовые жалюзи. — Я знаю, что вы дома, — сказала она спокойным голосом. Потом вернулась в машину, опустила стекла и стала ждать, когда он появится. Рано или поздно ему потребуется еда, стиральный порошок, лекарство или туалетная бумага. Остается только запастись терпением. К несчастью, погода не располагала к длительному наблюдению. Прошедшая неделя была скорее теплой, чем жаркой, но конец августа превратился в настоящее пекло, которое напоминало испепеляющее дыхание злого сказочного дракона. Под жестокими лучами солнца поникли пальмовые листья и завяли цветы. Сложные оросительные системы заставили пустыню уступить место зелени, но теперь она готовилась взять реванш. Довольно скоро Холли почувствовала себя булочкой, которую пекут в духовке. Она закрыла окна, завела машину и включила кондиционер. В лицо повеяло божественной прохладой, но через несколько минут машина начала перегреваться. Стрелка температурного датчика быстро подскочила к красной отметке. Ее выдержки хватило минут на сорок. В час пятнадцать Холли оставила свой пост и вернулась в мотель. Переоделась в коричневые шорты и короткую канареечно-желтую блузку, которая заканчивалась выше талии, и сменила кроссовки, надев их прямо на голые ноги. В ближайшей аптеке она купила раскладной пластмассовый шезлонг, пляжное полотенце, крем для загара, пакет со льдом, упаковку содовой и книжку Джона Макдональда «Трэвис Макджи». Очки от солнца у нее уже были. К половине третьего Холли вернулась к дому Айренхарта на Бугенвилли-Уэй. Снова позвонила в дверь. И не получила ответа. Она почему-то не сомневалась, что он дома. Может быть, у нее тоже открылись экстрасенсорные способности. Холли вынесла вещи из машины и расположилась на лужайке за домом. Она поставила шезлонг как раз напротив террасы из красного дерева и устроилась в нем с большим комфортом. Герой романа Макдональда изнемогал от жары в далеком форте Лодердейл. Судя по всему, там было настоящее пекло, и даже у кроликов не осталось сил, чтобы прыгать. Холли читала эту книгу раньше, но решила прочесть еще раз, поскольку помнила, что ее действие разворачивается во влажном тропическом климате. Хотя на термометре было больше тридцати, сухой и жаркий воздух Лагуна-Нетель показался ей куда приятнее духоты Флориды, красочно описанный в романе Макдональда. Примерно через полчаса Холли взглянула в сторону дома и увидела Джима Айренхарта, который наблюдал за ней из окна кухни. Она помахала ему рукой. Джим не ответил. Он отошел от окна, но на улице так и не появился. Холли открыла банку с содовой и, подставив ноги горячим лучам солнца, снова погрузилась в чтение. Она не боялась покрыться волдырями, потому что успела загореть и, кроме того, несмотря на светлые волосы, имела великолепные гены для загара. Они надежно защищали от неприятных последствий долгого пребывания на солнце, если, конечно, не превращать это занятие в марафонские состязания. Некоторое время спустя она встала, чтобы разложить шезлонг и улечься на живот. Джим Айренхарт вышел из-за стеклянной двери гостиной и остановился на террасе. Холли отметила, что брюки и майка у него мятые, а волосы грязные и неостриженные. Он плохо выглядел. Их разделяло не более пятнадцати футов, и голос Джима прозвучал совсем рядом. — Что вы здесь делаете? — Загораю. — Пожалуйста, уезжайте, мисс Торн. — Мне надо поговорить с вами. — Нам не о чем разговаривать. — Ха! Он вернулся в дом и закрыл за собой дверь. Она услышала, как щелкнула задвижка. Холли отложила книгу в сторону и заснула. Проспав на животе целый час, она решила, что на сегодня солнца с нее хватит. Кроме того, уже половина четвертого — не лучшее время для загара. Она перетащила шезлонг и остальные вещи в тенистый дворик. Открыла вторую банку содовой и снова принялась за роман Маклональда. В четыре часа до нее долетел звук отворяемой двери. Шаги Джима приблизились и замерли возле шезлонга. Некоторое время он стоял рядом — очевидно, разглядывал ее. Оба не проронили ни слова, и Холли притворилась, что увлечена чтением. Затянувшееся молчание Джима становилось жутким. Холли пришла на ум мысль о темной стороне его личности и восьми выстрелах из дробовика в тело Нормана Ринка. Она занервничала, но потом решила, что он пытается ее запугать. Холли не дрогнула. Она спокойно потянулась за содовой, сделала глоток, с наслаждением вздохнула и вернула банку на место. Тогда Джим наконец обошел шезлонг и встал так, чтобы она могла его увидеть. Одежда на нем была по-прежнему измята. На небритом лице проступила болезненная бледность, под глазами залегли темные круги. — Что вы от меня хотите? — В двух словах этого не скажешь. — У меня нет времени. — Совсем? — Одна минута. Холли поколебалась, потом отрицательно покачала головой. — Слишком мало. Придется подождать, пока вы не освободитесь. Он угрожающе уставился на нее. Она вернулась к прерванному чтению. — Я вызову полицию, и они в два счета выставят вас с моего участка. Это моя собственность, — сказал Айренхарт. — Вызывайте, чего же вы ждете? Он постоял еще несколько секунд, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, и, так и не решив, что делать, ушел в дом. Хлопнула дверь. Щелкнула задвижка. — Только не пропадай насовсем, — пробормотала Холли ему вслед. — Через час мне придется воспользоваться твоим туалетом. Две колибри, перелетая от цветка к цветку, порхали у нее над головой. Тени на земле удлинялись. Было слышно, как лопаются пузыри внутри пустой банки из-под содовой. Все, как в далекой Флориде, где тоже летали колибри, расползались прохладные тени, вместо содовой пенился «Дос Эквис», а положение Трэвиса Макджи с каждой главой становилось все серьезнее. Пустой желудок Холли начал разговаривать. Утром она позавтракала в Дубьюке, удивляясь, что жуткая сцена катастрофы не лишила ее аппетита, но осталась без ленча, наблюдая за Джимом. Еще немного — и ее ждет голодная смерть. Жизнь продолжается, и организм требует свое. Айренхарт появился за пятнадцать минут до критической черты, после которой Холли собиралась броситься на штурм его туалета. Он принял душ, побрился и переоделся в голубую майку, белые брюки и такого же цвета кроссовки. Холли польстило, что Джиму не все равно, как он выглядит в ее глазах. — О'кей, — сказал он, — чего вы хотите? — Сначала покажите, где у вас туалет. Он посмотрел на нее измученным взглядом: — Хорошо. Потом мы поговорим, покончим со всем этим, и вы уедете. Оглядываясь по сторонам, она последовала за ним в комнату, соединяющуюся с просторной столовой и кухней. Похоже, хозяин дома приобрел разношерстные предметы обстановки на какой-нибудь распродаже старого хлама сразу после окончания колледжа, думала Холли, рассматривая чистую, но изрядно обветшавшую мебель и простые шкафы, набитые сотнями книг в дешевых переплетах. Ни картин, ни ваз, ни скульптур, ни цветов — ничего, что придает дому уют. Одни голые стены. Они прошли в холл, и Джим показал ей дверь уборной. Холли заглянула внутрь: стены выкрашены белой краской, ни обоев, ни фигурного мыла в виде розовых бутонов, ни цветных полотенец. Только брусок «Слоновой кости» и рулон туалетной бумаги на полке. Перед тем как войти, она оглянулась на Джима и сказала: — Вы можете пригласить меня на ужин. Я просто умираю с голоду. Выйдя из туалета, Холли украдкой заглянула в гостиную, обставленную и украшенную, если это слово вообще здесь уместно, в спартанском стиле, который можно назвать «Ранним Периодом Распродажи Всяческого Хлама». Дом был весьма скромен для человека, выигравшего в лотерею шесть миллионов. Она направилась в кухню и нашла Джима, который поджидал ее за круглым обеденным столом. — Я думала, что вы что-нибудь готовите, — сказала Холли, отодвигая стул и усаживаясь напротив него. — Чего вы хотите? — Давайте я сначала скажу, чего не хочу, — начала Холли. — Я не хочу о вас ничего писать, я бросила работу, с журналистикой покончено. Хотите верьте, хотите нет, но это действительно так. Теперь я понимаю, что если обо всем узнает пресса, за вами начнется постоянная охота. Пострадает дело. Погибнут люди, которых вы можете спасти. — Прекрасно. — Я не собираюсь вас шантажировать, К тому же, судя по тому, в какой роскоши вы купаетесь, у вас за душой не наберется и восемнадцати баксов. Он не улыбнулся. Просто продолжал смотреть на нее своими синими, как пламя газовой горелки, глазами. — Я не хочу мешать вашему делу и не собираюсь расценивать ваше появление как Второе пришествие, выходить за вас замуж, рожать детей и лишать смысла вашу жизнь. Его лицо сохранило каменную неподвижность. Он был не пробиваем. — Единственное, чего я хочу, — это удовлетворить свое любопытство. Понять, как и зачем вы это делаете. — Она поколебалась, потом набралась храбрости и сказала о самом главном: — И я хочу помогать вам. — Что вы имеете в виду? Холли поспешно заговорила, опасаясь, что он не выслушает ее до конца и прервет. И она так и не сможет объяснить то, зачем пришла: — Я хочу работать вместе с вами и готова делать все, что угодно, чтобы спасать людей или по крайней мере помогать их спасению. — Вы ничем не можете помочь. — Но ведь я могу что-то делать. — Вы будете только мешать. — Послушайте, я неглупа… — Что из этого? — …образованна… — Я тоже. — …отважна… — Но мне ваша помощь не нужна. — …если я за что берусь, то делаю… — Извините, но ничем не могу помочь. — Черт возьми! — Она испытывала даже не злость, а скорее горькое разочарование. — Ну возьмите хотя бы секретарем. Я понимаю, вам не нужен секретарь. Так позвольте быть вашей Пятницей, правой рукой, по крайней мере другом. Но Джим остался равнодушным к ее мольбам. Он продолжал молча глядеть на нее. Холли стало не по себе. Но она не отвела глаза, поняв, что он использует свой пронизывающий взгляд для того, чтобы подавить ее волю, запугать. Но с ней такие вещи не пройдут. Она не собирается уступать ему инициативу. Наконец Джим сказал: — Значит, вас прельщают лавры Лоис Лейн? Сперва Холли не сообразила, о чем идет речь. Потом вспомнила: Лоис Лейн, журналистка, помогавшая Супермену в знаменитом фильме. Холли поняла: Айренхарт пытается ее разозлить. Подождет, пока она выйдет из себя, а потом воспользуется моментом и выставит за дверь. Она решила сохранять спокойствие и доброжелательность. Но Холли не умела одновременно держать себя в руках и сидеть спокойно. Злость, бушевавшая у нее внутри, требовала немедленного выхода. Она рывком отодвинула стул и заходила по кухне. — Ошибаетесь. Вовсе не желаю стать вашим бесстрашным хроникером. Я уже сказала: с этим покончено. Мне не улыбается роль вашей поклонницы, этакой сумасбродной девчонки с добрыми намерениями, которая то и дело падает в обморок, вечно влипает в какую-нибудь историю. Я вижу: рядом со мной происходит что-то очень важное, и хочу предложить свою помощь. Да, это опасно, но я все равно хочу быть причастной к вашему делу, потому что нахожу его таким… таким важным. Помогая вам, я сделаю больше добра, чем за всю прожитую жизнь. — Доброхоты обычно так заняты собой, так самонадеянны, что от них больше вреда, чем пользы, — сказал Джим. — Я не из их числа, меня не волнует, что обо мне подумают. Я не нуждаюсь в чувстве морального превосходства. Просто хочу быть полезной. — В мире полным-полно доброхотов. — Джим и не думал уступать. — Если мне потребуется помощник, а он мне совсем ни к чему, с какой стати я должен отдавать предпочтение вам? Невозможный человек. Ей захотелось дать ему пощечину. Однако, продолжая мерить шагами кухню, Холли сказала: — Вчера, когда я забралась в самолет и вытащила мальчика, Норби, я… удивилась самой себе. Никогда не думала, что способна на такое. И мне было очень страшно там, в салоне, но я его спасла и почувствовала, что чего-то стою. — Любите, когда вами восхищаются, когда все считают вас героиней, — сухо сказал Айренхарт. Холли покачала головой. — Не правда, дело вовсе не в этом. О том, что я вытащила Норби, не знает никто, кроме одного спасателя. Просто после того, как я это сделала, я выросла в собственных глазах. — Словом, у вас «идея фикс» — героизм, риск, вы просто свихнулись на этой почве. Сейчас Холли хотелось ударить его дважды. Прямо по лицу, чтобы глаза на лоб полезли. От этого ей сразу станет легче. Но она взяла себя в руки. — Хорошо, значит, по-вашему, я свихнулась на героизме. Он и не подумал извиняться. — Но это все-таки лучше, чем каждый день набивать нос кокаином. Он не ответил. Хотя Холли и старалась не выдавать своих чувств, ею овладело отчаяние. — Вчера, когда все закончилось и я отдала мальчика спасателю, знаете, что я почувствовала? Не восторг, не гордость от того, что мне удалось победить смерть, — все это, конечно, было, но словно отошло на второй план, больше всего я чувствовала ярость. Это удивило и даже испугало меня. Я злилась на весь мир: на глазах у мальчика погиб его дядя, он сам едва уцелел и, такой маленький, лежал под креслами среди крови и трупов. Разве сможет ребенок забыть эти ужасы! Он никогда не будет радоваться жизни, как другие дети его возраста. Хотелось кого-нибудь ударить, потребовать извинения за то, что случилось. Но судьба — не слизняк в дешевом костюме. Ее не схватишь за воротник, не заставишь просить прощения. Можно злиться сколько угодно, но ничего нельзя поделать. Холли не повышала голоса, но ее внутренняя напряженность росла с каждым словом. Она невольно ускорила шаг. Злость уступила место лихорадочному возбуждению, которое точнее всего говорило о том, что она на грани отчаяния. — Ничего нельзя поделать, если только вас не зовут Джим Айренхарт. Вы — единственный, кто способен бороться со смертью. Я знаю это. А после нашей встречи уже не могу жить так, как жила раньше. Благодаря вам я обрела надежду, о которой бессознательно мечтала долгие годы, вы открыли мне путь, о котором до вчерашнего дня я даже не подозревала. Теперь я чувствую в себе силы бороться с судьбой, плевать в лицо смерти. Черт возьми, не можете же вы захлопнуть дверь у меня перед носом и лишить всего этого! Он молча смотрел на нее. Поздравляю, Торн, презрительно сказала она себе. Ты просто образец выдержки и спокойствия, настоящий монумент самообладания. Он смотрел на нее. Она сражалась изо всех сил и в ответ на ледяное молчание швыряла ему в лицо новые и новые потоки жарких слов. Но пыл иссяк, и все, что можно было сказать, она уже сказала. Силы внезапно покинули ее, и Холли, жалкая и несчастная, села. Положила локти на стол и, спрятав лицо в ладонях, подумала, что сейчас расплачется или закричит от боли, но лишь горестно вздохнула. — Пива хотите? — спросил он. — И вы еще спрашиваете!* * *
Косое пламя заходящего солнца пробивалось сквозь опущенные ставни, бросая медно-золотистые отсветы на потолок и столик в углу, за которым они расположились. Холли, утонув в кресле, разглядывала Джима, который сидел, наклонившись вперед, молча уставившись на полупустую бутылку пива. — Я уже говорил в самолете, что я не экстрасенс. Я не могу предсказывать события, когда хочу. И у меня не бывает видений. Мной управляют какие-то высшие силы. — А если точнее? Он пожал плечами: — Бог. — С вами говорит Бог? — Не говорит. Я не слышу вообще никакого голоса. Просто время от времени чувствую, что должен успеть в определенное место… Джим, как мог, попытался объяснить Холли свое появление у школы Мак-Элбери в Портленде и в других местах. Он также рассказал о том, как отец Гиэри нашел его на полу церкви и увидел на теле раны Христа. Рассказ Айренхарта напоминал странную мистическую смесь из еретических мыслей католика, замешанную на индейском знахарстве и приправленную для равновесия элементами трезвого полицейского протокола. Холли пришла в возбуждение, но не могла не высказать своих сомнений: — Сказать по правде, не вижу, при чем здесь Бог. — Я вижу, — тихо ответил Джим, давая понять, что для него это вопрос решенный и он не нуждается в ее одобрении. Его ответ не смутил Холли. — Иногда вы действуете чертовски жестко, даже жестоко. Например, с теми негодяями в пустыне, которые похитили Сузи и ее мать. — Они получили по заслугам, — равнодушно сказал Джим. — Есть люди, у которых такие черные души, что их не отмоешь и за пять жизней. Зло — реальность, оно идет по Земле. Порой дьявол сбивает с истинного пути тех, кто послабее, а то и просто посылает в мир психопатов, у которых нет генов жалости и сострадания. — Я не спорю, в подобной ситуации по-другому нельзя. У вас просто не было выбора. Я только хочу сказать: странно, что Бог дает своему посланнику дробовик. Джим отхлебнул пива. — Вы когда-нибудь читали Библию? — Конечно. — Там сказано: Бог стер с лица земли Содом и Гоморру, обрушив на них вулканы, землетрясения и огненные дожди. А вспомните Всемирный Потоп! Или тот случай, когда он утопил в волнах Красного моря все войско фараона. Не думаю, что он станет возражать против старого дробовика. — Я представляла себе Бога из Нового Завета. Наверное, вы о нем слышали — понимающего, сострадающего, милосердного. Он смерил ее ледяным взглядом. Его синие глаза могли быть такими нежными: заглянешь в них — и колени подкашиваются, но эти же глаза обольют холодом так, что дрожь пробежит по телу. Еще миг назад взгляд Джима дышал теплом, и вдруг перед ней стена из синего льда. Если у Холли и оставались сомнения, то его враждебность ясно говорила: дверь в его жизнь может в любой момент захлопнуться у нее перед носом. — Мне попадались негодяи, которых и животными-то не назовешь. Они этого не стоят. И если бы Бог всегда их прощал, я не хотел бы с ним иметь ничего общего.* * *
Холли мыла над раковиной грибы и резала помидоры, а Джим отделял белки от желтков, намереваясь приготовить пару малокалорийных омлетов. — Люди не всегда собираются умереть во дворе вашего дома. Часто, чтобы их спасти, вам приходится ехать через всю страну. — Один раз воФранцию, — ответил он, подтверждая ее предположения, что его деятельность не ограничивается территорией Соединенных Штатов, — раз в Германию, дважды в Японию и один раз в Англию. — Почему эти высшие силы посылают вас так далеко? — Не знаю. — Вы когда-нибудь задумывались: что особенного в этих людях? Я хочу сказать, почему нужно спасать их, а не кого-то еще. — Я думал об этом. По телевизору постоянно передают сообщения о жертвах убийств и несчастных случаев здесь, в Южной Калифорнии, и я, как и вы, спрашиваю себя, почему он не велел мне спасти этих несчастных, а направил на другой конец страны, в Бостон? Может быть, дьявол хотел унести мальчика раньше положенного срока и Бог сделал так, чтобы я этому помешал. — Среди них очень много молодых. — Я заметил это. — Но не знаете почему? — Не имею ни малейшего понятия.* * *
Кухня наполнилась благоуханием жарящихся яиц, лука, грибов и зеленого перца. Джим решил приготовить омлет на одной большой сковородке, а потом поделить его пополам. Наблюдая за тем, как в тостере постепенно подрумяниваются ломтики пшеничного хлеба, Холли снова спросила: — Почему Бог захотел, чтобы там, в пустыне, вы спасли только Сузи и ее мать, а отец девочки так и погиб? — Не знаю. — Он же не был плохим человеком? — Похоже, что нет. — Тогда почему было не спасти их всех? Уверенность Джима в том, что он действует по поручению Всевышнего, и легкость, с которой он говорил о том, что Бог хочет смерти некоторых людей, неприятно подействовали на Холли. Но, с другой стороны, как еще можно относиться к странным вещам, которые с ним происходят? Какой смысл спорить с Богом? Холли вспомнила старую головоломку: Бог дал мне мужество изменить вещи, которые я не приемлю, мужество принять вещи, которые не могу изменить, и мудрость, чтобы увидеть разницу между ними. Что ни говори, а эта головоломка не лишена здравого смысла. Она вытащила из тостера два поджаренных хлебца и подложила ему пару ломтиков. — Если Бог хотел спасти Николаса О'Коннора, когда взлетела на воздух трансформаторная будка, почему он не сделал так, чтобы взрыва вообще не было? — Не знаю. — Разве не странно: Бог дает вам задания, вы мчитесь через всю страну и выхватываете мальчика всего за миг до того, как взрывается электрическая линия на семнадцать тысяч вольт? Ведь он мог просто… ну я не знаю… плюнуть на горящий кабель. Потратил бы немного божественной слюны ради такого случая. Или вместо того, чтобы посылать вас в Атланту с поручением уничтожить Нормана Ринка, можно было просто щелкнуть Ринку по мозгам — своевременный инсульт, и никаких проблем. Джим ловко перевернул сковороду и выложил омлет на тарелку. — Почему Бог создал мышей, которые досаждают людям, и кошек, которые охотятся за мышами? Зачем сотворил тлю, которая поедает растения, и божьих коровок, которые уничтожают тлю? Почему он не дал нам глаз на затылке, хотя сделал так, что нам их явно недостает? Холли намазала тонкий слой масла на первые два хлебца. — Вижу, куда вы клоните. Пути Господни неисповедимы. — Именно.* * *
Они уселись за стол и принялись за еду. Ели хрустящие хлебцы, омлет с помидорами и запивали пивом. За окном стемнело, и в кухню проникли багровые сумерки. Близилась ночь. — Нельзя сказать, что вы всегда действуете как марионетка. — Я и есть марионетка. — У вас есть возможность влиять на исход событий. — Абсолютно никакой. — Но Бог послал вас на двести сорок шестой рейс, чтобы спасти одних Дубровеков. — Да. — А вы взяли дело в свои руки и спасли не только Кристин и Кейси. Сколько человек должно было умереть? — Сто пятьдесят один. — А сколько погибло? — Сорок семь. — Видите, вы спасли на сто две жизни больше, чем он хотел. — Вместе с вашей — на сто три. Но все только потому, что он позволил и помог мне это сделать. — Вы хотите сказать, сначала Бог пожелал, чтобы вы спасли одних Дубровеков, а потом передумал? — Думаю, что да. — И что. Бог сам не знает, чего хочет? — Не знаю. — Бог иногда оказывается сбитым с толку? — Не знаю. — Что, у Бога семь пятниц на неделе? — Холли, я просто не знаю. — Вкусный омлет. — Спасибо. — Я все-таки никак не могу понять, зачем Богу менять свои решения. В конце концов, он непогрешим и, следовательно, не мог ошибиться в первый раз. — Я стараюсь не задавать себе подобных вопросов. Просто не думаю об этом. — Оно и видно. Его взгляд скользнул по лицу Холли, обжигая ее арктическим холодом. Потом Джим опустил голову. Он молча ел. Его вид ясно говорил, что он не собирается продолжать этот щекотливый разговор. Холли поняла: Джим ей по-прежнему не доверяет, и, с тех пор как он неохотно пригласил ее в дом, она не продвинулась ни на шаг. Он все еще не пришел к какому-нибудь выводу, и, возможно, ситуация поворачивается не в лучшую для нее сторону. Холли знала, как пробить брешь в его защите, но решила дождаться более подходящего момента. Джим закончил есть и взглянул Холли в лицо: — Ну что ж, я вас выслушал, накормил и теперь хочу, чтобы вы ушли. — Нет, не хотите. Он прищурился. — Мисс Торн… — Раньше вы меня называли Холли. — Мисс Тори, очень прошу, не заставляйте меня выкидывать вас отсюда. — Ведь вам самому не хочется, чтобы я ушла. — Холли старалась говорить как можно увереннее, но внутри у нее все трепетало. — Вы столько раз спасали людей и ни разу не назвали своей фамилии, не упомянули, где живете. Мне одной вы сказали, что приехали из Южной Калифорнии и что вас зовут Джим Айренхарт. — Я никогда не считал вас плохим репортером. Уж что-что, а информацию вы добывать умеете. — Моей заслуги в этом нет. Не будь на то вашей воли, даже гризли с ломом и университетским дипломом ничего бы от вас не добился. У вас еще пиво найдется? — Я же просил вас уйти. — Сидите-сидите, я знаю, где вы держите пиво. Холли поднялась с кресла, прошла к холодильнику и достала бутылку. Ее порядком покачивало, но третья бутылка — еще один предлог, хотя и не самый лучший, чтобы остаться и продолжить разговор. Прошлой ночью в баре аэропорта Дубьюк Холли тоже выпила три бутылки пива. Но в тот раз она была вся на нервах, точно сиамская кошка, нанюхавшаяся валерьянки, и организм, перенасыщенный адреналином, не реагировал на алкоголь. Несмотря на это Холли свалилась на кровать, как мертвецки пьяный лесоруб. Если она сейчас отключится, то наверняка проснется в своей машине и никогда больше не попадет в дом Айренхарта. Открыв бутылку, Холли вернулась к столу. — Вы хотели, чтобы я вас нашла, — сказала она, усаживаясь на прежнее место. Он окинул ее взглядом, в котором тепла было не больше, чем в мертвом замороженном пингвине. — Я хотел? — Вне всякого сомнения. Именно поэтому вы сказали, как вас зовут и где вас можно найти. Джим ничего не ответил. — А помните, что вы сказали мне в портлендском аэропорту на прощание? — Что-то не припоминаю. — В жизни не встречала более успешной попытки продолжить знакомство. Он молчал. Холли заставила его подождать, пока она не сделает глоток прямо из горлышка бутылки. — Перед тем как закрыть дверь и войти в здание аэровокзала, вы сказали: «А я вашей, мисс Торн». — Что-то не похоже на попытку познакомиться. — Это было так романтично. — «А я вашей, мисс Торн». А что вы мне перед этим сказали? «Удивляюсь вашей тупости, мистер Айренхарт»? — Ха-ха-ха, — медленно произнесла Холли. — Хотите все испортить? Давайте, давайте. Только у вас все равно ничего не выйдет. Я сказала, что восхищена вашей скромностью, а вы ответили: «А я вашей». У меня даже сердце забилось быстрее, когда я это вспомнила. О, вы отлично знали, что делали: сказали, как вас зовут, где живете, смотрели на меня этими дьявольскими глазами и строили из себя невинность, а потом: «А я вашей, мисс Торн» — и скрылись с видом Хэмфри Богарта. — Я думаю, вам больше не надо пить. — Думаете? Я собираюсь сидеть здесь целую ночь и пить одну бутылку за другой. Он вздохнул. — В таком случае мне тоже не мешает выпить. Он достал бутылку и снова сел напротив нее. Холли подумала, что все складывается не так уж плохо. Хотя очень может быть, что коварный Айренхарт просто сменил тактику и готовит ей какую-нибудь западню. Например, попытаться ее напоить. Такая задача не потребует от него больших усилий, а ей не так уж много надо, чтобы свалиться под стол. — Вы хотели, чтобы я вас нашла, — снова провозгласила она. Он не ответил. — И знаете, почему вы хотели, чтобы я вас нашла? Он ничего не сказал. — Вы хотели, чтобы я вас нашла потому, что мое общество вам приятно, а вы — самый одинокий и печальный мужчина от Калифорнии до Миссури. Джим промолчал. У него было просто потрясающее умение молчать. Можно сказать, что никто в мире не умеет так молчать в момент, когда от него больше всего ждут ответа. — Мне хочется вас отшлепать. Ответом ей было новое молчание. Уверенность, которую дало ей пиво, стала внезапно улетучиваться. Холли почувствовала, что снова проигрывает. Два предыдущих раунда остались за ней, но его проклятое молчание послало ее в нокдаун. — Почему у меня в голове крутятся эти проклятые метафоры из бокса? — спросила она Джима. — Я его терпеть не могу. Он отхлебнул пива и кивком указал на ее бутылку, которую она успела опустошить только на одну треть: — Вы уверены, что вам нужно ее допить? — Абсолютно. Хотя Холли чувствовала, что быстро хмелеет, у нее хватило трезвости понять, что пришло время для последнего решающего удара. — Если вы не расскажете мне об этом месте, я буду сидеть здесь до тех пор, пока не превращусь в грязную и толстую старуху алкоголичку. Хотите, чтобы я померла здесь в возрасте восьмидесяти лет с печенью больше штата Вермонт? — Место? — Похоже, ее вопрос сбил его с толку. — О каком месте вы говорите? Вот он, решающий миг. Холли наклонилась вперед и сказала тихим, но отчетливым шепотом: — Ветряная мельница. Хотя Джим не свалился на пол и у него из глаз не посыпались искры, Холли увидела, что удар достиг цели. — Вы были на мельнице? — Нет. Она что, и в самом деле существует? — Если вы там не были, откуда вам о ней известно? — Видела во сне. Мне уже три ночи подряд снятся кошмары с мельницей. Джим изменился в лице. Они не зажигали света и сидели в потемках. На кухне горела только тусклая лампочка над раковиной, и пробивался неяркий свет настольной лампы из соседней комнаты. Но даже при таком слабом освещении Холли заметила, как он побледнел. Хотя необычайная яркость и достоверность кошмара, который продолжал преследовать Холли и после пробуждения в номере мотеля, убедили ее, что между ночными видениями и Айренхартом существует некая связь, вид потрясенного Джима, подтвердивший эти подозрения, принес Холли огромное облегчение. — Известняковые стены, — заговорила она. — Деревянный пол. Деревянная дверь, тяжелая, окованная железом. За ней — известняковые ступеньки. Желтая свеча на синем блюдце. — Я вижу этот сон уже несколько лет, — тихо сказал Джим. — Один или два раза в месяц. Не чаще. А сейчас он снится мне третью ночь подряд. Выходит, мы видим один и тот же сон? — Где настоящая мельница? — На ферме моего деда. К северу от Санта-Барбары. Это место называется долина Санта-Инес. — И там с вами случилось какое-нибудь несчастье? Он покачал головой. — Нет. Ничего подобного. Наоборот, я очень любил старую мельницу. Она была для меня чем-то вроде… убежища. — Почему же вы так побледнели, когда я о ней сказала? — Разве? — Представьте кота-альбиноса, который гнался за мышью и вдруг налетел на добермана. Точь-в-точь. — Не знаю… сны о мельнице всегда пугают… — Уж мне это известно. Но мельница была для вас хорошим местом, убежищем, как вы сказали. Почему она является в кошмарах? — Не знаю. — Опять двадцать пять. — Я в самом деле не знаю. Почему вам снится мельница, а вы там вообще никогда не были? Холли приложилась к бутылке с пивом, но не почувствовала особого просветления в голове. — Может быть, вы проецируете на меня ваш сон. Для того чтобы установить связь и позвать меня к себе. — Да зачем мне вас звать? — Спасибо. Вы очень любезны. — Как бы там ни было, я уже сказал и повторю еще раз: я не экстрасенс. У меня нет сверхъестественных способностей. Я всего-навсего орудие, инструмент в чьих-то руках. — Тогда — это те же высшие силы. Они посылают мне ваш сон потому, что хотят, чтобы мы встретились. Джим провел ладонью по лицу. — Оставим это до завтра. У меня голова идет кругом. — У меня тоже. Но еще полдевятого, и нам нужно о многом поговорить. — Прошлой ночью я спал не больше часа, — сказал Джим. Он в самом деле выглядел смертельно усталым. Бритье и душ немного освежили его, но круги под глазами еще больше потемнели, а к побледневшему лицу так и не вернулся обычный цвет. — Давайте вернемся к нашему разговору утром, — предложил Джим. — Как бы не так. Я приду утром, а вы меня и в дом не впустите. — Впущу. — Это вы сейчас так говорите. — Вы видите этот сон. Значит, тоже связаны со всем этим, нравится мне это или нет. Его голос снова приобрел ледяной оттенок, который ясно показывал, что слова «нравится мне это или нет» на самом деле означали «хотя мне это совсем не нравится». Несомненно, он привык жить в одиночестве. Виола Морено, которая относилась к нему, как к сыну, говорила, что, хотя ученики и коллеги любили Джима, глубокая неизбывная печаль отделяла его от других людей, а после ухода из школы он вообще перестал видеться с ней и друзьями по прежней работе. Да, Джим поражен, что они видят один и тот же сон, ее общество ему не неприятно, может быть, она ему даже нравится, но он так долго жил один, что не может смириться с ее вторжением. — Не пойдет. Я приду, а вас и след простыл. У него не осталось сил, чтобы сопротивляться. — Тогда оставайтесь ночевать. — У вас найдется свободная спальня? — Да. Но у меня нет лишней кровати. Можете лечь в гостиной. Там есть старый диван. Не думаю, что вам будет очень удобно. Прихватив недопитую бутылку, Холли прошла в гостиную и критически осмотрела продавленный коричневый диван. — Вполне. — Смотрите сами. — Джим старался выглядеть равнодушным, но она почувствовала, что он притворяется. — Как насчет лишней пижамы? — Боже правый! — Прошу прощения, но у меня с собой ее нет. — Моя вам слишком велика. — Ничего, так даже удобнее. И еще неплохо бы принять душ. А то я вся липкая от лосьона. Все-таки полдня на солнце. С видом человека, неожиданно обнаружившего на крыльце самого нежеланного из своих родственников, Джим показал ей, где находится ванная, и вручил пижаму с полотенцами. — Постарайтесь не шуметь, — предупредил он перед тем, как уйти. — Я ложусь через пять минут.* * *
Стоя в клубах пара и нежась под горячими струями воды, Холли радовалась, что хмель не улетучивается. Хотя прошлой ночью ей удалось отдохнуть лучше, чем Айренхарту, за последнюю неделю она ни разу не выкроила на сон положенные восемь часов и надеялась, что после трех бутылок пива будет спать как убитая. В то же время Холли беспокоил сумбур, царивший у нее в голове. Нужно привести мысли в порядок. Она в доме человека, о котором ей так мало известно и чья странность не оставляет никаких сомнений. Айренхарт — живая загадка за семью замками, и одному Богу известно, что творится в сердце, которое, похоже, перекачивает не кровь, а ужасные черные тайны. Впрочем, несмотря на холодность, Джим производит впечатление хорошего человека с добрыми намерениями. Трудно поверить, что от него может исходить угроза. С другой стороны, нередко встречаешь статьи, в которых кровавый маньяк, зверски умертвивший собственную семью, описывается соседями как «добрейшей души человек». Айренхарт называет себя Божьим посланником. Но кто знает, может быть, днем он рискует жизнью ради спасения незнакомых людей, а ночью при помощи дьявольских снадобий истязает беззащитных котят. Несмотря на подобные опасения, закончив вытираться широким махровым полотенцем, источающим особый запах чистоты, Холли снова отхлебнула из бутылки, так как решила, что риск быть зарезанной в собственной постели ничто по сравнению с прелестью долгожданного ночного отдыха. Она натянула пижаму, подвернув штанины и рукава. Держа в руке бутылку, в которой осталось еще на пару глотков, тихо открыла дверь ванной и вышла в холл второго этажа. В доме стояла жуткая тишина. Холли направилась к лестнице. Проходя мимо открытой двери хозяйской спальни, она заглянула внутрь. Одна из настенных ламп, расположенных по обе стороны кровати, отбрасывала на смятые простыни узкий клин желтого цвета. Джим лежал на спине, закинув руки за голову. Похоже, что он не спал. Холли заколебалась, потом шагнула в открытую дверь. — Спасибо, — сказала она полушепотом, потому что не была до конца уверена, что он не спит. — Мне гораздо лучше. — Хорошо. Она вошла в спальню и пошла навстречу синим глазам Джима, в которых отражался свет ламп. Он был без пижамы, и надвинутая выше пояса простыня не мешала Холли увидеть, какая у него широкая грудь и сильные мускулистые руки. — Я думала, вы уже спите. — Хотел бы, но ничего не могу с собой поделать. Взглянув на него сверху вниз, Холли сказала: — Виола Морено говорит, что у вас постоянная печаль на сердце. — Неплохо потрудились, а? Она выпила маленький глоток пива. В бутылке остался еще один. Присела на край кровати. — На ферме сейчас кто-нибудь живет? — Все мои умерли. — Простите. — Бабушка — пять лет назад, а дед — спустя — восемь месяцев, точно он не хотел жить без нее. Они прожили долгую хорошую жизнь, но мне их недостает. — У вас совсем никого не осталось? — Два двоюродных брата в Акроне. — Встречаетесь? — Лет двадцать как не виделись. Холли допила остатки пива и поставила пустую бутылку на ночной столик. Некоторое время оба молчали. И в этом молчании не чувствовалось никакой неловкости. Наоборот, от него становилось хорошо и спокойно на душе. Она поднялась и перешла на другую сторону кровати. Потянула край простыни и легла рядом с ним, положив голову на подушку. Он нисколько не удивился. Она тоже. Спустя некоторое время их руки соединились. Они лежали бок о бок, глядя в потолок. — Должно быть, это ужасно — потерять родителей, когда тебе всего десять лет. — Не то слово. — Из-за чего они погибли? Он помедлил, прежде чем сказать. — Попали в аварию. — И ты стал жить с дедушкой и бабушкой. — Да. Первый год было хуже всего. Я был… в плохом состоянии. Почти все время проводил на мельнице. Это было мое самое любимое место, там можно было играть, просто быть одному. — Жаль, что мы не встречались в детстве, — сказала она. — Почему? Холли подумала о Норби, мальчике, которого она вытащила из-под саркофага перевернутых кресел. — Я знала бы тебя совсем другим, счастливым, когда еще были живы твои родители. Они замолчали. — У Виолы Тоже вечная печаль, — сказал Джим таким тихим голосом, что за стуком собственного сердца Холли едва расслышала его слова. — Может показаться, что она самая счастливая женщина в мире, но с тех пор, как во Вьетнаме погиб ее муж, ей уже ничего не нужно от жизни. Отец Гиэри, о котором я рассказывал, выглядит как типичный католический священник из сентиментального фильма тридцатых-сороковых годов, но, когда я его встретил, это был уставший человек, потерявший веру в свое призвание. А ты… такая красивая и веселая, собранная, деловая… Никогда бы не подумал, что в тебе есть такое упорство. Ты похожа на женщину, которая идет по жизни легко, без проблем, всегда по течению. А на самом деле ты словно бульдог, который вцепляется в жертву мертвой хваткой. Разглядывая блики света на потолке, чувствуя его сильную руку на своей ладони, Холли некоторое время обдумывала услышанное. Потом спросила: — Что ты хочешь этим сказать? — Люди всегда сложнее… чем ты думаешь. — Это как наблюдение… или предостережение? Он удивился ее вопросу: — Предостережение? — Может, ты предостерегаешь меня, что и сам не тот, кем я тебя считаю. — Может быть, — ответил он после долгой паузы. Она взвесила его молчание. Потом сказала: — Для меня это неважно. Джим повернулся к ней, и Холли, с давно забытой девичьей робостью, прильнула к его груди. Первый поцелуй был легким и нежным, но три бутылки или три упаковки пива не оказали бы на нее такого дурманящего действия. Холли осознала, что все это время обманывала себя. Она нуждалась в алкоголе не для того, чтобы успокоить нервы, а чтобы обрести решимость соблазнить его или быть соблазненной. Она почувствовала жуткое одиночество Джима и сказала ему об этом. Однако лишь сейчас ей открылась горечь собственного положения, лишь сейчас стало ясно, что овладевшее ею отчаяние вызвано не столько разочарованием в журналистике, сколько долгим беспросветным одиночеством. Казалось, пижама испарилась, как исчезает одежда в эротических снах. С нарастающим возбуждением она гладила его тело, удивляясь, что прикосновение к мужской коже несет в себе столько сложных чувственных оттенков, вызывает такие поразительные ощущения и желания. Холли не представляла, как это случится, мечтая о неистовой страсти, романтической нежности и чистом, жарком сексе, когда каждое сокращение мускулов подчиняется законам тончайшей гармонии, каждый рывок становится евангелием обоюдного согласия, двое сливаются в единое целое, а внутренние чувства захлестывают и вытесняют реальность окружающего мира. Ни одного лишнего слова или вздоха, только движение тел, в мистическом ритме которых скрыты отливы и приливы невидимых сил мироздания, возносящих биологический акт на пьедестал непостижимого таинства. Конечно, ее ожидания не оправдались. Все оказалось гораздо лучше, чем она могла себе представить.* * *
Он повернулся спиной, она обняла его, и оба заснули, прижавшись друг к другу, как ложки в серванте, уложенные одна в одну. Когда они одновременно открыли глаза, то увидели, что еще ночь. Нет ничего страшнее одиноких ночей, но теперь с ними навсегда покончено. Он повернулся к ней, и она потянулась ему навстречу. Ими овладело еще большее возбуждение, они спешили, точно первый раз не только не утолил, а, наоборот, подобно героину, который вызывает потребность в следующей дозе, усилил, обострил их желание. Холли показалось, что во взгляде Джима она видит чистое пламя его души. Он вошел в нее. Внезапная боль от царапины в боку напомнила Холли о когтях чудовища. У нее мелькнула странная мысль: глаза Джима излучают холод. Но это была только мгновенная реакция на боль и связанные с ней воспоминания о ночном кошмаре. Он обнял ее еще крепче, и Холли подалась навстречу, встречая жар его тела. От мимолетного ощущения холода не осталось и следа. Их тела выделяли достаточно тепла, чтобы рассеять непрочный образ ледяной души.* * *
Мертвенно-бледный отсвет невидимой луны пробивался сквозь угольно-черные тучи, закрывшие ночное небо. Все было не так, как в прошлых снах. Холли стояла на посыпанной гравием дорожке, которая вела от пруда и кукурузного поля к двери старой мельницы. Над ее головой вздымалась известняковая башня, мрачные очертания которой наводили на мысль о ее нечеловеческом, неземном происхождении. На зловещем небе, словно косой крест, чернели зазубренные крылья мельницы. Они не двигались, хотя неистовые порывы ветра собирали серебряную рябь на чернильной поверхности пруда и гремели стеблями кукурузы. Похоже, мельницей не пользовались уже много лет, и части ее механизмов основательно заржавели. В узких окнах на чердаке мерцал грязно-желтый свет. Было видно, как за стеклами на известняковых стенах шевелились странные тени. Никогда в жизни Холли не испытывала такого страха перед зданием. Она не хотела приближаться к мельнице, но не могла противиться колдовской силе, которая влекла ее к двери. Холли бросила взгляд на пруд, и что-то показалось ей странным. Отражение мельницы в освещенном луной пруду. Холли повернулась, чтобы взглянуть: свет и тень на воде поменялись местами. Тень мельницы перестала быть темной геометрической фигурой, лежащей на филиграни лунного света. Она стала ярче поверхности пруда и светилась в ночи, хотя была отражением черной зловещей башни. Освещенные окна настоящей мельницы отражались в воде жуткими черными прямоугольниками, похожими на пустые глазницы черепа. Крэк… крэк… крэк… Холли взглянула вверх. Огромные крылья мельницы затрепетали на ветру и тронулись. Задвигались ржавые шестеренки, и вслед за ними заходили жернова в большой камере. Больше всего сейчас ей хотелось проснуться или, если это не удастся, подняться в воздух над посыпанной гравием дорожкой и лететь назад. Однако непреодолимая сила толкала Холли к мельнице. Гигантские крылья начали вращаться по часовой стрелке. Они набирали скорость и уже почти не скрипели. Холли представила, что это пальцы рук монстра, а зазубренные концы лопастей — его страшные когти. Она достигла двери. Холли не хотела входить. Она знала, что место проклято и внутри ее могут подстерегать опасности пострашнее колодцев с огнем и серой из проповеди красноречивого священника. Если она откроет дверь, то живой оттуда уже не выйдет. Крылья мельницы проносились всего в нескольких футах над головой Холли. Ссшш, ссшш, ссшш, ссшш… Словно находясь в трансе, который был сильнее ее ужаса, Холли открыла дверь. Перешагнула через порог. Дверь ожила, как оживают вещи в снах, массивная ручка вырвалась из ладони, и дверь со зловещим стуком захлопнулась у нее за спиной. Она оказалась в большом темном помещении, где слышался грохот старых каменных жерновов. Слева можно было различить ступеньки лестницы, ведущей наверх. Оттуда доносились визги, завывание и душераздирающие вопли, похожие на ночной концерт в джунглях. Правда, ни один из голосов не напоминал крик пантеры, обезьяны или гиены. Скорее эта какофония вызывала представление о писке насекомых, который пропустили через стереоусилители. Фоном служил глухой монотонный звук, который пульсировал и бился о каменные стены лестничной шахты. Холли преодолела только половину ступенек, как почувствовала, что у нее ломит все кости. Она прошла мимо узкого окна и прижала лицо к стеклу. Под сводами ночи одна за другой с треском сыпались молнии. Темный пруд у подножия мельницы стал прозрачным, и казалось, что свет идет из толщи воды. Холли представила, что попала в павильон кривых зеркал. Она заметила на дне очертания странного предмета и прищурилась, пытаясь его разглядеть, но свет внезапно погас. Однако то, что она успела увидеть, промозглым холодом отдалось у нее в костях. Она подождала в надежде, что снова станет светлее, но ночь оставалась непроницаемой, как деготь. Еще через несколько секунд хлынул черный дождь, и крупные капли забарабанили по стеклу. Холли поднималась по ступенькам, и с каждым шагом усиливался грязно-желтый свет, отблеск которого она увидела у подножия лестницы. В зеркале окна, за которым стояла непроглядная тьма, она разглядела свое расплывчатое отражение. Но лицо на черном стекле принадлежало другой женщине, которая выглядела лет на двадцать старше Холли и была совершенно на нее не похожа. Холли никогда не приходилось видеть сны, в которых она вселялась в тело другого человека. Теперь она поняла, почему ей не удалось убежать от мельницы и почему, несмотря на внутреннее сопротивление, она продолжает взбираться по лестнице. Это была не обычная беспомощность, которая превращает сон в ночной кошмар, а результат обладания чужим телом. Женщина отвернулась от окна и продолжила путь наверх, откуда раздавались дьявольские крики, визги и шепоты, эхо которых долетало вместе с колеблющимся грязно-желтым светом. Известняковые стены глухо содрогались, точно мельница была живым организмом с огромным трехкамерным сердцем. «Стой, назад, ты там погибнешь!» — крикнула Холли, но женщина ее не услышала, потому что Холли могла лишь наблюдать за происходящим, не в силах что-либо изменить. Ступенька за ступенькой. Вверх по лестнице. Распахнутая железная дверь. Она перешагнула через порог и вошла в комнату с высоким потолком. Первое, что бросилось ей в глаза, было испуганное лицо мальчика, который стоял в центре комнаты, прижав к бокам маленькие кулачки. У его ног горела толстая декоративная свеча на голубом блюдце. Рядом лежала книжка, на яркой обложке которой она прочла слово «мельница». — Помоги, мне страшно, стены, стены! — прошептал мальчик. Его прекрасные синие глаза потемнели от ужаса. Она поняла, что не весь странный свет, заволакивающий комнату, идет от свечи. Светились стены, точно они были сделаны не из камня, а из прозрачного лучистого кварца янтарного оттенка. Она сразу заметила, что в стене скрывается живое светящееся существо, и поняла, что оно может двигаться внутри камня так же легко, как пловец в воде. Стена вздулась и завибрировала. — Он идет, — сказал мальчик. В его голосе явственно слышался испуг, но одновременно и странное лихорадочное возбуждение. — Его никто не сможет остановить. Стена треснула. Огромные каменные блоки полопались, точно хрупкая мембрана яйца насекомого, и из зловонной жижи, возникшей на месте известняка, появился… — Нет! Холли проснулась от собственного крика. Села на кровати. Что-то коснулось ее руки, и она рванулась в сторону. В утреннем свете, пробивающемся в спальню, она увидела, что рядом с ней Джим. Сон. Всего лишь сон. Однако, как и позапрошлой ночью в мотеле Лагуна-Хиллз, существо из ночного кошмара пыталось пробиться в реальный мир. На этот раз оно выбрало не стену, а потолок. Прямо над кроватью. Белый потолок стал янтарно-коричневым, прозрачным и светящимся, как известняк мельницы. Из него сочилась ядовитая слизь, которая словно предвещала появление на свет отвратительного монстра. Громовые удары сердца чудовища сотрясали весь дом: — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Джим соскочил с кровати и натянул на себя брюки. Холли уже успела накинуть верхнюю часть пижамы, которая закрыла ее почти до колен. Она прижалась к Джиму, и оба они со страхом наблюдали, как вздувается и пульсирует кокон на потолке и внутри него бьется чудовище, пытающееся проломить прозрачную мембрану. Страшнее всего было то, что все происходило при дневном свете, и сквозь неплотно закрытые ставни в спальню проникали лучи утреннего солнца. Глухая ночь — естественное время для появления чудовища извне, но всегда считалось, что солнечный свет прогоняет всех монстров. Джим подтолкнул Холли к открытой двери. — Бежим отсюда! Но не успела она сделать и двух шагов, как дверь с треском захлопнулась. Как будто подчиняясь силе мощного полтергейста, старый комод из красного дерева отделился от стены и, едва не сбив ее с ног, с грохотом ударился в дверь. Ночной столик и кресло последовали за ним и, пролетев через всю спальню, забаррикадировали единственный выход. Оставались еще окна на противоположной стене, но, чтобы до них добраться, нужно протиснуться под провисшим в центре потолком. Приняв как должное нелогичность утреннего кошмара, Холли содрогнулась при мысли, что придется прикасаться к жирному вибрирующему мешку, который может лопнуть и поглотить ее. Джим потянул ее за собой к ванной, соединяющейся со спальней, и распахнул дверь ногой. Холли заметалась в поисках выхода, но единственное окно было слишком мало и слишком высоко расположено. Стены ванной не изменили своего обычного цвета и состояния, но они тоже сотрясались от глухих ударов сердца чудовища. — Что это? — спросил Джим. — Враг, — не думая ответила Холли, пораженная его незнанием. — Враг из ночного кошмара. Белый потолок ванной стал внезапно темнеть, наливаясь багровой кровью и мутно-коричневой желчью. Гладкая стена ожила, начала пульсировать в ритме биения гигантского сердца. Джим толкнул ее в угол, и она беспомощно съежилась за его спиной. Позади вздувшегося беременного потолка Холли увидела отвратительное шевеление, подобное неистовым судорогам миллионов огромных личинок. Удары сердца усилились, от их грохота закладывало уши. Холли услышала звук рвущейся материи. Ей хотелось сказать, что все это лишь плод ее воображения, но она слишком хорошо знала, насколько реален этот кошмар. И тихий обычный звук придал зрелищу жуткую достоверность, отличающую явь от сна или горячечного бреда. Дверь распахнулась настежь, и в этот же миг потолок лопнул и из трещин на них хлынул омерзительный поток внутренностей. Но этот взрыв ярости оказался последним, силы тьмы наконец выдохлись, и снова воцарился день. Чудовища исчезли, и в открытую дверь Джим и Холли увидели пустую спальню, залитую солнечным светом. Потолок, который только что был живым и страшным, снова обрел свою обычную поверхность. Вот только в том месте, где лопнул чудовищный кокон, зиял черный пролом. На полу валялись щепки, обломки сухой штукатурки, комки изоляции из стекловаты. Но в этой груде мусора не было ничего живого. Дыра в потолке поразила Холли до глубины души. Позапрошлой ночью в мотеле стена тоже вздувалась и пульсировала, как живое существо, но с наступлением утра на ее ровной поверхности не осталось ни единой трещины. Единственное доказательство реальности ночных событий — царапины на коже, но любой психолог скажет, что она сама поцарапала себя во сне. Может, и теперь пыль осядет, и все окажется наваждением. Однако беспорядок в ванной говорил об обратном. Висевшее в воздухе облако белой пыли было самым что ни на есть настоящим. Потрясенный Джим взял Холли за руку, и они прошли в спальню, где на белом гладком потолке не осталось никаких следов, но вся мебель была свалена у двери. Безумие предпочитает темноту, но свет всегда был царством разума. Если пробуждающийся ото сна мир перестал быть убежищем и дневной свет не спасает от лютого кошмара ночи, никто и нигде не скроется от жестокого и неумолимого преследователя.Глава 2
Тусклый свет единственной лампочки выхватывал из темноты пыльный пол маленького тесного чердака. В поисках разгадки пробоины в потолке Джим с фонарем тщательно исследовал все углы, прошел вдоль системы отопления и заглянул за обе печные трубы. Он и сам не знал, кого рассчитывает найти, но на всякий случай взял с собой револьвер. Существо, которое пробило дыру в потолке, не спустилось в ванную, и, следовательно, могло скрываться где-то наверху. Однако спартанский образ жизни не позволил Джиму забить чердак ненужным хламом, и в пустом тесном помещении под крышей было некуда спрятаться. Довольно скоро он убедился, что, если не считать пауков и небольшого семейства ос, чье гнездо прилепилось между балками потолка, чердак совершенно необитаем. Покинуть это замкнутое пространство так же невозможно, как и укрыться в нем. Если не считать люка, через который он вошел, единственные отверстия в крыше — две короткие и узкие вентиляционные трубы, закрытые мелкой сеткой, которую можно снять, лишь открутив крепежные винты. Но все крепления были на месте. На полу были настелены доски, но в некоторых местах их не хватало, и поверх потолочного перекрытия лежал только слой изоляции. Джим осторожно приблизился к пролому и, заглянув вниз, увидел пол ванной, засыпанный щепками и штукатуркой. Когда потолок треснул, они с Холли стояли как раз на этом месте. Черт возьми, что все это значит? Наконец, решив, что дальнейшие поиски бесполезны, Джим направился к выходу, спустился на второй этаж и задвинул складную лестницу, которая одновременно служила крышкой люка. Холли ждала его внизу: — Ну как? — Пусто. — Я так и знала. — Что вообще случилось? — То же, что и во сне. — Во сне? — Ну да, ты же говорил, тебе тоже снятся сны про мельницу. — Да. — Тогда ты знаешь, как в стенах бьется сердце. — Нет. — И как они оживают. — Понятия не имею! В моих снах я всегда оказываюсь на чердаке мельницы, горит свеча, за окном идет дождь. Она вспомнила, какой у него был ошеломленный взгляд при виде вздувшегося потолка спальни. — Во сне у меня появляется чувство, что ко мне приближается что-то неотвратимое, ужасное… — Враг? — сказала Холли. — Да. Но он никогда не настигает меня во сне. Я всегда успеваю проснуться. Крадущейся походкой Джим прошел в спальню. Холли последовала за ним. Остановившись возле кучи опрокинутой мебели, которую ему пришлось отодвинуть от двери, он в оцепенении уставился на безупречно ровный потолок. — Ведь я видел это своими глазами, — сказал он, словно боялся, что она ему не поверит. — Знаю, — откликнулась Холли. — Я тоже видела. Он повернулся к ней с видом такого отчаяния, какого она не замечала на его лице даже во время полета на борту обреченного «ДС-10». — Расскажи мне, что ты видела во сне. Мне нужно знать все, даже самую мелочь. — Чуть позже я все тебе расскажу. А сейчас лучше всего принять душ и переодеться. Мне хочется поскорее исчезнуть из этого дома. — Да, пожалуй, ты права. — Думаю, ты знаешь, куда нужно ехать. Он молчал, не решаясь ответить. Она сделала это за него: — На мельницу. Он кивнул. Они вымылись вместе. Только для того, чтобы сберечь время, и еще потому, что после пережитых ужасов никому из них не хотелось оставаться в одиночестве. Холли подумала, что в более подходящей ситуации почувствовала бы приятное эротическое возбуждение. Теперь, если вспомнить бурно проведенную ночь, их чувства оказались на удивление платоническими. Джим прикоснулся к ней, только когда они выбрались из-под душа и стали поспешно вытираться. Он наклонился к Холли и поцеловал ее в уголок рта. — В какую историю я вас втянул, мисс Холли Торн?* * *
Джим упаковывал чемодан, а Холли старалась держаться поблизости от него. Впрочем, она отважилась заглянуть в кабинет, находившийся по соседству со спальней. Комната имела нежилой вид, а поверхность письменного стола покрывал тонкий слой пыли. Как и все в доме, обстановка кабинета отличалась аскетической простотой. Похоже, стол был куплен по дешевке на распродаже подержанной мебели. Возможно, там же хозяин дома приобрел и две лампы, кресло на колесиках и два книжных шкафа, которые стояли в углу, набитые потрепанными томами. Все двести или более книг имели отношение к религии. Массивные тома по истории ислама, иудаизма, буддизма, христианства, индуизма, даосизма и синтоизма. Собрания сочинений Фомы Аквинского, Мартина Лютера, «Ученые и их боги», несколько версий переводов Библии. Холли увидела Коран, Тору, включающую Ветхий Завет и Талмуд, «Трипитаку» буддизма, «Агаму» индуизма, «Зенд-Авесту» зороастризма и «Веды» брахманизма. Холли поразила удивительная полнота библиотеки Джима, но ее внимание сразу привлекли фотографии на стенах. Она насчитала около тридцати цветных и черно-белых снимков размером 8 на 10. На всех фотографиях были изображены три человека: прекрасная женщина с темными волосами, симпатичный мужчина с открытым лицом и ребенок, в котором Холли немедленно узнала Джима. Разве можно не узнать эти глаза! На одной из фотографий он был еще младенцем и лежал на руках у родителей, завернутый в одеяло. Остальные снимки запечатлели мальчишку не младше четырех и никогда не старше десяти. Когда ему было десять лет, его родители погибли. На одних фотографиях Джим снялся с отцом, на других с матерью. Очевидно, фотографировал тот из родителей, кого не было на снимке. С годами красота матери становилась совершеннее, волосы отца редели, но выглядел он все более счастливым, а Джим лицом пошел в мать и с возрастом превратился в очень красивого мальчика. Часто семья фотографировалась на фоне достопримечательностей: шестилетний Джим с обоими родителями перед зданием Радио-Сити-мюзик-холла, Джим и отец в Атлантик-Сити, Джим с матерью у знака «Большой Каньон» и величественный вид за их спинами, трое Айренхартов перед Замком Спящей красавицы в Диснейленде, Бил-стрит в Мемфисе, озаренный лучами солнца отель «Фонтенбло» в Майами-Бич, смотровая площадка с видом на гору Рашмор, Букингемский дворец в Лондоне, Эйфелева башня, Лас-Вегас, Ниагарский водопад. Где только они не побывали И каждый раз, независимо от того, кто фотографировал, они выглядели по-настоящему счастливыми. Ни одной фальшивой улыбки или выражения раздраженного нетерпения, которые так часто встретишь на фотографиях семейных альбомов. Часто Айренхарты даже не улыбались в объектив, а от души смеялись. Каждый жест, каждый взгляд ясно говорил, как эти люди любят друг друга. Трудно представить, что маленький мальчик превратился в сурового Джима Айренхарта. Холли подумала, что трагическая смерть родителей наложила отпечаток на всю его последующую жизнь и беззаботный смеющийся мальчишка, которого она видела на фотоснимках, исчез навсегда. Ее особенно заинтересовала одна черно-белая фотография. Она изображала мистера Айренхарта во фраке, сидящим на стуле с высокой прямой спиной. На коленях он держал семилетнего Джима, который тоже был во фраке. Миссис Айренхарт в блестящем вечернем платье, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру, стояла у мужа за спиной, положив руку ему на плечо. Фоном служила темная штора с искусно задрапированными складками. В отличие от остальных снимков здесь явно чувствовалась опытная режиссерская рука профессионального фотографа. — Они были просто замечательные, — раздался голос Джима. Холли и не услышала, как он появился в дверях кабинета. — Ни у кого в мире не было таких чудесных родителей. — Вы объездили полсвета. — Да. Все время в дороге. Они любили показывать мне новые места, хотели, чтобы я все увиделсвоими глазами. Из них бы вышли замечательные учителя. — Чем они занимались? — Отец был бухгалтером в «Уорнер бразерс». — В киностудии? — Да, — улыбнулся Джим. — Мы жили в Лос-Анджелесе. Мама мечтала быть актрисой, но ей редко удавалось найти хорошее место, и она большую часть времени работала официанткой в ресторане на Мелроуз-авеню. Это неподалеку от студии «Парамаунт». — Для тебя это было счастливое время. — Очень. Холли указала на фотографию, которую особенно долго рассматривала: — Какой-то особый случай? — Даже когда это касалось только их двоих, например, была годовщина свадьбы, они всегда брали меня с собой, и все праздники мы отмечали вместе. Они всегда делали так, чтобы я чувствовал, как много для них значу, как сильно они меня любят. На этой фотографии мне семь лет. Я помню, какие планы они строили в тот вечер. Говорили, что проживут вместе еще сто лет и каждый год будет счастливее предыдущего. Мечтали завести еще много детей, купить большой дом, объездить весь мир и умереть в один день во сне. И всего три года спустя их не стало… — Прости, я не хотела… Джим вздохнул. — Это было так давно. Прошло уже двадцать пять лет. — Он бросил взгляд на часы. — Пора идти. Уже девять, а нам еще четыре часа добираться до фермы.* * *
По дороге они заехали в мотель Лагуна-Хиллз. Холли быстро переоделась в джинсы и голубую клетчатую блузку, сложила вещи в чемодан, и Джим отнес его в багажник машины. Он остался за рулем «Форда», а Холли, ощущая на себе его взгляд, прошла к стойке администратора, чтобы вернуть ключи и оплатить счет. Конечно, если бы он не обращал на нее внимания, она почувствовала бы себя разочарованной, но от пристального взгляда Джима ей стало не по себе. Она несколько раз оглянулась: он сидел неподвижно, словно каменное изваяние, наблюдая за ней сквозь черные стекла солнечных очков. Холли спросила себя, не совершает ли она ошибку, отправляясь с ним в долину Санта-Инес. После того как она выйдет из мотеля и сядет в машину, Джим будет единственным человеком в мире, которому известно о ее местонахождении. Все блокноты с записями о нем — в чемодане. Они могут исчезнуть вместе с ней — одинокой женщиной, пропавшей во время отпуска. Пока клерк выписывал счет, Холли быстро соображала, не позвонить ли родителям в Филадельфию и не рассказать ли, куда и с кем она едет. Хотя они только встревожатся, и ей потребуется не менее получаса, чтобы их успокоить. Кроме того, Холли уже решила для себя, что в Джиме преобладает светлое начало и она последует за ним до конца. И если ей иногда становится не по себе от его взгляда… что ж, в конце концов именно это и привлекло ее в Джиме. Витающее над ним чувство опасности только обострило и усилило ее интерес. В глубине души Джим Айренхарт — хороший человек. И потом, глупо волноваться о собственной безопасности после того, как они провели ночь вместе. В отличие от мужчины, женщина воспринимает первую ночь, когда она отдает свое тело, как самое хрупкое и уязвимое звено в цепи их отношений. Конечно, если ею движет любовь, а не стремление удовлетворить физическую потребность. И Холли знала, что любит Джима. — Я его люблю, — произнесла она вслух и удивилась, потому что убедила себя в том, что ее в первую очередь привлекли его поразительная мужская грация, животный магнетизм и таинственность. Юный клерк, который услышал ее слова, широко улыбнулся Холли. Похоже, он не сомневался, что весь мир наполнен любовью. — Это же замечательно, а? Холли спросила его, подписывая счет: — Вы верите в любовь с первого взгляда? — А почему бы и нет? — В общем-то, нельзя сказать, что у меня это с первого взгляда. Мы познакомились двенадцатого августа, то есть… прошло уже шестнадцать дней. — И вы еще не женаты? — улыбнулся клерк. Холли вышла из мотеля и села в машину рядом с Джимом. — Надеюсь, когда мы доберемся до места, тебе не захочется распилить меня циркулярной пилой и закопать возле мельницы? — Ни в коем случае. Возле мельницы не осталось свободного места. Придется закапывать тебя по всей территории фермы. — Его притворно серьезный тон сказал ей, что он понял ее тревогу и не обиделся. Холли рассмеялась. Как глупо было его бояться. Он наклонился к ней и поцеловал долгим чудесным поцелуем. Потом, когда они отодвинулись друг от друга, Джим сказал: — Я рискую не меньше тебя. — Уверяю, что у меня нет топора в чемодане. — Я не шучу. Мне никогда не везло в любви. — Мне тоже. — На этот раз все будет по-другому Джим поцеловал ее снова. Поцелуй был более коротким, но показался ей слаще первою. Он завел машину, и они выехали со стоянки Пытаясь растормошить в душе умирающего циника, Холли напомнила себе: он не сказал прямо, что любит ее. Его тщательно выбранная фраза ни к чему не обязывает. Возможно, он не надежнее мужчин, с которыми ей приходилось сталкиваться раньше. С другой стороны, ее слова отличались не меньшей расплывчатостью. Скорее всего в ней еще не пропала потребность защититься. Поэтому открыть сердце клерку оказалось куда легче, чем сказать о своей любви Джиму. Остановившись у ближайшего универсама, они купили черничные оладьи с черным кофе и поехали в северном направлении по дороге на Сан-Диего. Утренние часы пик уже прошли, но на некоторых участках шоссе транспортный поток занимал все ряды и полз, как стадо коров, лениво бредущих на водопой. Уютно устроившись в кресле, Холли, как и обещала, стала рассказывать Джиму о своих ночных кошмарах. Она начала с первого сна в ночь на пятницу, когда ее окружала полная темнота, и закончила кошмаром последней ночи, который был самым странным и самым страшным из всех. Его заметно поразило, что Холли видела во сне мельницу, не подозревая о ее существовании. А в воскресенье после авиакатастрофы ей снилась мельница и он в образе десятилетнего мальчика, хотя она не могла знать, что в этом возрасте он провел немало времени на ферме деда. Но наибольший интерес вызвал у Джима ее последний сон. — Кто была эта женщина во сне? — спросил он, не отрывая глаз от дороги. — Не знаю, — сказала Холли, дожевывая оладьи. — Я не знаю ее. — Можешь ее описать? — Я видела только отражение в окне. Боюсь, что этого недостаточно. Она допила последний глоток кофе и на секунду задумалась. Вспомнить ночную сцену оказалось гораздо легче, чем она полагала. Обычно сны забываются очень быстро, но виденная ею картина вдруг встала перед ней с такой отчетливостью, будто все случилось не во сне, а на самом деле. — Широкие скулы, красивое волевое лицо. Не приятное, а именно красивое, даже величественное. Широко посаженные глаза, полные губы. На правой щеке родинка. Не думаю, что это была просто точка на стекле. Такая маленькая круглая родинка. Кудрявые волосы. Тебе это кого-нибудь напоминает? — Нет, — ответил Джим после некоторого раздумья, — пожалуй, что нет. А что ты видела на дне пруда, когда его осветило молнией? — Я не успела хорошо рассмотреть. — Опиши все, что запомнила. Холли подумала и покачала головой: — Не могу. Я легко вспомнила лицо женщины, потому что во сне знала: передо мной лицо человека. Но на дне пруда лежало нечто… странное, что-то, чего я никогда не видела прежде. И потом, это длилось всего мгновение… Так, значит, в пруду что-то есть? — Если и так, то мне об этом ничего не известно. Это не было похоже на затонувшую лодку? — Нет, совсем не похоже. Гораздо больше. А что, в пруду затонула лодка? — Я никогда об этом не слышал. Но вид пруда весьма обманчив. Он гораздо глубже, чем кажется, — сорок или пятьдесят футов в середине. Даже в самые засушливые годы он не только не высыхает, но и сохраняет свои размеры, потому что под ним не просто водоносный пласт, а артезианская скважина. — А в чем разница? — Водоносный пласт — это нечто вроде резервуара, скопление грунтовых вод, на которые ты натыкаешься, когда роешь колодец. Артезианские скважины встречаются реже. Чтобы их обнаружить, не нужно бурить землю, вода под давлением сама поднимается на поверхность, и ты тратишь уйму времени, чтобы ее остановить. Транспортный поток поредел, но Джим не пошел на обгон, и «Форд» продолжал тащиться в хвосте у впереди идущих машин, Их разговор интересовал Джима больше, чем возможность выиграть время. — Во сне ты, или та женщина, поднялась по лестнице наверх и увидела десятилетнего мальчика. Ты сразу поняла, что это я? — Да, — Я здорово изменился с тех пор, как мне было десять лет. Как же ты меня узнала? — Я узнала твои глаза, — ответила Холли. — Они нисколько не изменились за эти годы. В них невозможно ошибиться. — У многих людей голубые глаза. — Ты шутишь, дорогой? Твои глаза так же похожи на глаза других людей, как голос Фрэнка Синатры на кряканье Утенка Дональда. — Ты не объективна. И что ты видела на стене? Холли повторила свой рассказ. — Он появился из камня? Дело становится все более странным. — За последние дни я ни разу не соскучилась, — согласилась Холли. Движение стало еще свободнее, и Джим наконец показал, что специальные курсы вождения не прошли для него даром. Он управлял машиной с ловкостью первоклассного жокея, летящего к финишу на породистом скакуне, и его «Форд», который был всего лишь стандартной моделью, повиновался хозяину с легкостью гоночного «Порше». Теперь настало время Холли задавать вопросы. — Почему ты миллионер, а живешь в таких условиях? — Купил дом. Переехал. Бросил работу. — Да. Но дом у тебя весьма скромный, а мебель вообще рассыпается от старости — Я искал не модную мебель, а убежище, где можно укрыться от посторонних глаз, отдохнуть в перерывах между… заданиями. Некоторое время оба молчали, потом Холли спросила: — Там, в Портленде, я сразу обратила на тебя внимание, а ты? Ты тоже меня сразу заметил? Он улыбнулся, но продолжал следить за дорогой. — А я вашей, мисс Торн. — Вот и признался! — сказала польщенная Холли — Ты в самом деле хотел со мной познакомиться. Всю дорогу от западной границы Лос-Анджелеса до Вентуры они весело болтали, но затем Джим почему-то сбавил скорость. Милю за милей они ехали все медленнее. Сначала Холли решила, что всему виной красота океанского побережья, вдоль которого тянулось шоссе. После Вентуры они ехали мимо Питас-Пойнт, Ринкан-Пойнт и пляжей Карпинтерии. Волны сливались с небесной синевой, солнце золотило песок. Картину всеобщего покоя и умиротворенности нарушал вид маленького белого серфера, танцующего в пене прибоя. Наконец Холли заметила: Джим совсем не смотрит по сторонам, и поняла, что он чем-то обеспокоен. У нее закралось подозрение, что красоты природы здесь ни при чем и он просто хочу отдалить момент прибытия на ферму. К тому времени, когда они свернули со скоростной магистрали на дорогу, ведущую в Санта-Барбару, проехали город и направились в предгорья Санта-Инес, настроение Джима изменилось не в лучшую сторону. Он заметно помрачнел и на ее вопросы отвечал коротко и рассеянно. Горы сменились позолоченными солнцем холмами, на которых попадались заросли калифорнийского дуба и белые заборы ранчо. Местность заметно отличалась от усеянной фермами долины Сан-Хоакина и других сельскохозяйственных районов. Хотя время от времени здесь тоже встречались крупные виноградники, большинство владений принадлежало богачам из Лос-Анджелеса, занятым созданием красочного антуража, а не заботами о хлебе насущном. — Перед тем как ехать на ферму, нам надо остановиться в Нью-Свенборге и кое-чем запастись. — Чем запастись? — Не знаю. Но, когда мы туда приедем, я буду знать… что нам нужно. Они обогнули озеро Кагума, пересекли дорогу на Солванг и миновали пригороды Санта-Инес. Не доезжая до Лос-Оливоса, зеленый «Форд» свернул на восток и некоторое время спустя въехал в Нью-Свенборг — ближайший населенный пункт от фермы Айренхартов. В начале девятнадцатого века датчане со Среднего Запада переселились в долину Санта-Инес с намерением создать оазис датской национальной культуры. Наиболее успешным воплощением их замысла стал городок Солванг, который благодаря своеобразной архитектуре, магазинам и ресторанчикам превратился в оживленный туристический центр. Однажды Хочли даже довелось писать статью об этом датском городе в Калифорнии. В отличие от Солванга Нью-Свенборг, население которого не превышает двух тысяч жителей, лишен подчеркнуто датского облика. Холли с любопытством рассматривала оштукатуренные стены унылых бунгало с белыми каменными крышами, обшитые досками техасские дома с некрашеными ступеньками и белые викторианские строения с позолоченным парадным крыльцом, стоящие неподалеку от датских бревенчатых домиков с оловянными оконными рамами. Она насчитала с полдесятка ветряных мельниц, крылья которых четко вырисовывались на фоне августовского неба. Город мог служить примером калифорнийского смешения стилей, которое иногда рождает непредсказуемо прекрасную гармонию, но в Нью-Свенборге обернулось мрачным диссонансом. — Здесь я провел остаток детства и вырос, — сказал Джим, когда они проезжали по тихой тенистой улице. Холли подумала, что угрюмость Джима вызвана не только семейной трагедией, но и жизнью в таком городе. Впрочем, она была права лишь отчасти. Вдоль улиц росли деревья с раскидистыми кронами, очаровательные уличные фонари напоминали о добром старом времени, а тротуары походили на изящные ленты из стертого кирпича. Казалось, двадцать процентов Нью-Свенборга появилось прямо со страниц романов Брэдбери о Среднем Западе, а остальная часть пришла из фильмов Дэвида Линча. — Давай я немного покажу тебе город, — предложил Джим. — Нам лучше поспешить на ферму. — Она всего в двух милях отсюда, мы доберемся до нее за несколько минут. Для Холли это был еще один аргумент в пользу предложения сразу ехать на ферму. Они провели в пути несколько часов, и она устала. Однако, почувствовав в его тоне не стремление отсрочить поездку на ферму, а подлинное желание показать ей город, Холли удержалась от новых возражений. Кроме того, ее заинтересовал рассказ Джима. Она уже привыкла, что он не любит говорить о себе, но иногда случайно оброненные фразы могут приоткрыть неизвестные грани его личности. Они проехали мимо аптеки Хандала на восточном конце Главной улицы, куда местные жители приходят за лекарствами, если только они не пожелают прокатиться двадцать миль до Солванга. В одном здании с аптекой находились один из двух ресторанов города, который, по словам Джима, был известен своей содовой, а также почта и единственный в Нью-Свенборге газетный киоск. Высокая многоярусная крыша цвета меди и косые окна придавали зданию весьма привлекательный вид. Джим припарковал машину напротив городской библиотеки, занимавшей маленький викторианский домик за зеленой изгородью. На свежевыкрашенных стенах было меньше позолоты, чем на соседних зданиях. У входа на высоком медном столбе развевались флаги Соединенных Штатов и Калифорнии. В целом библиотека произвела на Холли весьма скромное впечатление. — Удивительно, что в таком городишке вообще есть хоть какая-то библиотека, — сказал Джим. — И я благодарю Бога за это. Сколько раз я приезжал сюда на велосипеде… Возможно, если сложить все мили, которые я проехал, получится чуть ли не кругосветное путешествие. После того как умерли родители, книги заменяли мне друзей, советчиков, врачей. Только благодаря им я не сошел с ума. Миссис Глинн, которая работала здесь библиотекарем, была замечательной женщиной. Она умела на равных разговаривать с робким, неуклюжим подростком. Не выходя из этого дома, она показала мне удивительные страны и далекие эпохи. Холли никогда не слышала, чтобы он о чем-то говорил с такой любовью и мечтательностью. Несомненно, библиотека и миссис Глинн оставили в душе Джима глубокие приятные воспоминания. — Почему бы нам не войти? Ей наверняка будет приятно, — предложила Холли. Он нахмурился: — Я думаю, она давно здесь не работает Может быть, ее уже нет в живых. Прошло двадцать пять лет с тех пор, как я впервые сюда при шел, и восемнадцать лет, как я поступил в колледж и уехал из города. С тех пор я ее не видел — Сколько ей было лет? Он замялся, потом сказал. — Довольно много, — и, словно стремясь положить конец разговору, завел машину и выехал со стоянки. Они достигли «Садов Тиволи». Маленький сквер, стиснутый двумя центральными улицами, был пародией на собственное пышное название. Ни фонтанов, ни музыкантов, ни танцев, ни пива. Ничего, кроме нескольких цветочнык клумб, травяного газона и двух скамеек на фоне хорошо сохранившейся ветряной мельницы. — Почему крылья не двигаются? — спросила Холли. — Ведь сейчас дует ветер. — Все эти мельницы не работают уже много лет, — пояснил Джим. — А раз они только для красоты, какой смысл слушать их постоянный скрип? Поэтому механизмы давным-давно остановлены. Когда они миновали сквер и повернули на соседнюю улицу, Джим добавил: — Однажды на этом месте снимали кино. — Кто? — Какая-то киностудия. — Из Голливуда? — Не помню. — Как она называлась? — Я забыл. — И кто из актеров снимался в фильме? — Известных артистов не было. Холли про себя отметила его уклончивость и предположила, что съемки фильма имеют большее значение, чем пытается показать Джим. Небрежность, с которой он упомянул об этом событии, и немногословные ответы на последующие вопросы заставили ее насторожиться. Они въехали в юго-восточную часть Нью-Свенборга. Холли увидела большой гараж из гофрированного металла, установленный на бетонное основание, и перед ним две грязные машины. Здание неоднократно перекрашивалось, но в последний раз это делали много лет назад. Поэтому стены во многих местах облупились, на железе проступили пятна ржавчины, и окраска гаража приобрела вид военного камуфляжа. Асфальт на стоянке перед входом потрескался, многочисленные рытвины были заполнены гравием и щетинились клочьями жесткой сухой травы. — Я учился в школе вместе с Недом Заккой, — сказал Джим. — Его отец Верной был хозяином этого гаража. Ремонт автомобилей и тогда был не самым доходным делом, но раньше здание выглядело куда лучше. Большие, как у ангара, двери были раздвинуты, и в глубине темного помещения блестел бампер старого «Шевроле». Хотя гараж имел вполне безобидный вид, Холли, бросив взгляд в его сумрак, поежилась. — Нед был порядочной скотиной, — сказал Джим. — Стоило ему захотеть, и твоя жизнь превращалась в ад. Я жил в постоянном страхе. — Жаль, что ты в то время не знал таэквондо, а то бы показал ему, где раки зимуют. Джим не улыбнулся. На его лице появилось странное выражение, и, глядя мимо нее на двери гаража, он произнес: — Действительно жаль. Снова взглянув на здание, Холли заметила мужчину в майке и джинсах, который вышел из темноты и в сером сумеречном свете прошел мимо «Шевроле», вытирая руки тряпкой. Он находился в недосягаемости солнечных лучей, и Холли не разглядела его лица. Серый человек сделал несколько шагов вокруг машины и исчез в сумраке гаража, нереальный, точно привидение в лунном свете кладбища. Почему-то она сразу поняла, что это Нед Закка. И, хотя он представлял угрозу для Джима, а не для нее, Холли почувствовала, как вспотели ладони и стало пусто в желудке. Джим надавил на акселератор, они развернулись перед гаражом и поехали к центру города. — Что плохого тебе сделал Закка? — Все, до чего мог додуматься этот маленький садист. Потом он пару раз попадал в тюрьму, но сейчас уже вернулся. — Откуда тебе известно? Он пожал плечами. — Сам не знаю. Почувствовал. К тому же он из тех парней, которые всегда выйдут сухими из воды. Нед Закка может проколоться на какой-нибудь мелочи, но никогда не попадает по-крупному. Он туп, но хитрости ему не занимать. — Зачем мы туда ездили? — Воспоминания. — Обычно, когда у людей появляется ностальгия, их интересуют только приятные воспоминания. Джим ничего не ответил. Еще до приезда в Нью-Свенборг он ушел в себя, как черепаха, которая прячется в панцирь. Его мрачное настроение напомнило Холли вчерашний вечер. Короткая экскурсия по городу не принесла ей облегчения, наоборот, у нее появилось странное чувство потерянности. Холли понимала, что все еще находится в Калифорнии, в каких-нибудь шестидесяти милях от Санта-Барбары, что в самом Нью-Свенборге живет почти две тысячи человек — намного больше, чем в маленьких населенных пунктах, разбросанных вдоль автострады. И тем не менее она не могла избавиться от гнетущего ощущения полной психологической изоляции. Они остановились возле заправочной станции, в здании которой размещался магазин для рыбаков и туристов, а также небольшой, но хороший супермаркет, где можно было купить пиво и вино. Холли залила полный бак и присоединилась к Джиму, который уже направился в магазин. Небольшая комната оказалась забита товарами, которые заполняли стеллажи, свисали с потолка и лежали на покрытом линолеумом полу. У самой двери были развешены рыболовные снасти. Пахло резиновыми сапогами. Она увидела Джима возле кассы. Перед ним лежала гора покупок: пара дорогих спальных мешков с надувными матрасами, лампа и к ней банка масла, термос-холодильник, два больших фонаря, упаковки батареек и что-то еще. Бородатый продавец в очках с толстыми стеклами выбивал чек, а Джим стоял с открытым бумажником. — Я думала, мы едем на мельницу, — заметила Холли. — Едем, — ответил Джим. — Но, если ты не собираешься спать на голом полу, нам понадобится кое-что из этих вещей. — Я не предполагала, что мы там заночуем. — Я тоже. До тех пор пока не вошел сюда и не услышал, как прошу продавца показать спальный мешок. — Разве нельзя остановиться в мотеле? — Ближайший — за Санта-Инес. — Далековато, конечно, но доехать можно, — сказала Холли, готовая отправиться куда угодно, лишь бы не ночевать на мельнице. Ее беспокоило не отсутствие комфорта, а то, что с этим местом были связаны их ночные кошмары. Кроме того, с тех пор как они приехали в Нью-Свенборг, Холли не покидало ощущение тревоги. — Что-то должно случиться, — сказал Джим. — Не знаю что, но чувствую — это должно произойти именно на мельнице. Мы получим… ответы на наши вопросы. Надо только запастись терпением. Хотя идея поездки принадлежала именно ей, Холли внезапно расхотелось получать какие-либо ответы. Ею овладело смутное предчувствие черной кровавой трагедии. Похоже, Джим, напротив, избавился от груза тягостных воспоминаний и воспрянул духом. — Хорошо, что мы туда едем. Я это чувствую, Холли. Понимаешь, о чем я говорю? Мне сказали, что мы сделали правильно, когда приехали сюда. Впереди нас поджидает что-то страшное, может быть, очень серьезная опасность, но в то же время мы найдем то, что ищем. Глаза Джима блестели от возбуждения. Таким она его не видела даже в ночь их любви. Высшие силы вступили с ним в контакт, и Холли чувствовала его восторженное состояние. — Я чувствую… как меня охватывает странное ликование, чувствую, что нас ждут чудесные находки, открытия… Бородатый продавец снял очки и протянул им чек. Улыбаясь, спросил; — Молодожены? В супермаркете они купили лед для термоса, апельсиновый сок, содовую, хлеб, горчицу, колбасу «болонья» и сыр. — Последний раз, — удивленно сказала Холли, — я ела «болонью», когда мне было четырнадцать лет. — А как насчет этого? — Джим взял с полки и бросил в корзинку пачку пирожных в шоколаде. — Бутерброды с «болоньей», пирожные в шоколаде… и, конечно, картофельные чипсы. Какой же пикник без чипсов! Берем вот эти, с завитушками, хорошо? И еще немного сыра. Чипсы с сыром — очень вкусно! Она никогда не видела его таким веселым, по-мальчишески жизнерадостным. Можно подумать, он отправляется с друзьями в увлекательную экспедицию. Холли спросила себя, не заблуждается ли она насчет собственных мрачных предчувствий. В конце концов, события прошедших дней доказали, что Джим никогда не ошибается. Возможно, им действительно удастся раскрыть тайну его чудесных способностей и даже встретиться с высшими силами, о которых он рассказывал. Может быть, возможности Врага, несмотря на умение проникать из сновидений в реальный мир, не столь безграничны, как кажутся. Когда продавец уже сложил их покупки в пакеты и отсчитывал сдачу, Джим сказал: — Подождите минутку, я кое-что забыл. Он поспешил в дальний конец магазина и вернулся с двумя желтыми блокнотами для письма и черным фломастером. — Они нам сегодня понадобятся, — сказал он Холли. Они положили вещи в машину и тронулись в путь. — Для чего они нам? — спросила Холли, указывая на блокноты и фломастер, уложенные в отдельный пакет. — Не имею ни малейшего представления. Просто мне стало ясно, что их надо купить. — Вполне в стиле Бога, — заметила Холли. — Таинственно и непонятно. — Я не совсем уверен, что со мной разговаривает Бог, — немного помолчав, отозвался Джим. — Да? Почему ты так решил? — Твои вчерашние слова заставили меня призадуматься. Если Бог не хотел смерти Ника О'Коннора, почему он не сделал так, чтобы взрыва не было? Зачем понадобилось посылать меня на другой конец страны? И как это он решил спасти больше пассажиров только потому, что этого захотел я? Я задавал себе эти вопросы и раньше, но ты не приняла простых объяснений, которые устраивали меня. Джим на секунду оторвал взгляд от дороги, улыбнулся Холли и повторил ее вчерашний вопрос: — Что, у Бога семь пятниц на неделе? — Мне казалось… — Что? — Ну, Ты был так уверен, что за всем этим скрыта рука Божественного провидения. Я думала, другое объяснение будет для тебя ударом. Он покачал головой. — Нет. Я всегда с трудом воспринимал мысль, что моими поступками движет Господь. Совершенно сумасшедшая идея, но что еще мне оставалось? Лучшего объяснения не было. Его нет и сейчас. Однако я подумал об одной странной и чудесной возможности. Если я окажусь прав. Бог действительно ни при чем. — Что это за возможность? — Об этом еще рано говорить. — По его лицу скользнули солнечные блики, пробившиеся сквозь кроны тенистых деревьев и пыльное ветровое стекло. — Я хочу все хорошенько обдумать перед тем, как тебе рассказать. Мне известно, каким неумолимым судьей ты бываешь. Он выглядел по-настоящему счастливым. Холли полюбила Джима с первого взгляда. Ее не отпугнула его угрюмая настороженность, потому что, почувствовав за внешней суровостью добрую и нежную душу, она поняла: он гораздо лучше, чем хочет казаться. А сейчас, в таком настроении, Джим нравился ей как никогда. Она игриво ущипнула его за щеку. — Как это понимать? — спросил он. — Ты сводишь меня с ума. Когда они выехали из Нью-Свенборга, Холли пришло в голову, что план города скорее напоминает лагерь первых поселенцев, чем современный населенный пункт. В большинстве городов здания в центре построены плотнее, чем на окраинах, последние дома, которых плавно переходят в окрестные холмы и поля. В Нью-Свенборге все было иначе. Город обрывался как-то сразу, неожиданно, и за городской чертой начиналась поросшая кустарником пустошь, отделенная от домов только противопожарной полосой. Увиденное зрелище напоминало Холли форты на Диком Западе, построенные пионерами для защиты от нападений бандитов и индейцев. Хотя изнутри Нью-Свенборг казался зловещим хранителем темных тайн, издали он выглядел не пугающим, а испуганным, как будто в глубине души жители знали о страшной неотвратимой опасности, поджидающей их за пределами города. Возможно, больше всего они боялись огня. Как и повсюду, неорошенная земля вокруг города высохла и потрескалась. Природа долины, протянувшейся от гор Санта-Инес до предгорий Сан-Рафаэля, разнообразнее, чем во многих восточных штатах, но с начала весны здесь не было ни одного дождя, и вся земля стала бурой и безжизненной. Дорога шла мимо золотистых холмов и коричневых лугов, из-за которых открывался вид на невысокие горы, густо поросшие колючим кустарником, дубовые рощи в маленьких долинах и крохотные зеленые виноградники среди огромных высохших полей. — Смотри, как красиво, — сказала Холли, указывая на луга, холмы и вершины гор, скрытые золотистой дымкой. Даже дубы, растущие в менее засушливых урочищах, утратили ярко-зеленый цвет и казались серебристыми. — Красиво, но чертовски опасно. Не представляю, что будет, если начнется пожар. Едва она это произнесла, как дорога сделала поворот и они увидели черную полосу обугленной земли, на которой вся растительность превратилась в серый пепел и сажу. После пожара прошло не более двух дней, и в жарком воздухе пахло гарью. — Не успело разгореться, — сказал Джим. — Погибло не больше десяти акров. Здешние пожарные свое дело знают. Чуть задымилось — они уже тут как тут. Кроме того, есть группа добровольцев в городе, станция Департамента лесного хозяйства и наблюдательные посты. Живя здесь, все время помнишь об опасности и спустя какое-то время понимаешь, что с нею можно бороться. Уверенный голос Джима и то обстоятельство, что он прожил в этих краях семь или восемь лет, поколебали опасения Холли. Однако даже после того, как они миновали место пожара и перестали чувствовать запах гари, у нее в голове продолжал вертеться образ огромной ночной долины, полыхающей в огне. Она представляла оранжево-красные вихри пламени, которые, извиваясь, точно торнадо, пожирают все живое на своем пути. — Ферма Айренхартов, — сказал Джим, и она вздрогнула, очнувшись от своих мыслей. Машина замедлила ход. Холли приникла к стеклу. Футах в ста от дороги позади сухого лужка стоял простой, но уютный дом с красной крышей и широким крыльцом. Можно было подумать, что его сняли с фундамента и перенесли в Калифорнию со Среднего Запада, где в штатах Кукурузного Пояса встречаются тысячи похожих домиков. Слева от дома виднелась красная крыша небольшого сарая с потемневшим от времени флюгером в форме повозки, запряженной лошадью. За сараем был пруд, позади которого высилось самое заметное здание на ферме — ветряная мельница.Глава 3
Джим поставил «Форд» между домом и сараем и, словно подчиняясь невидимой силе, вышел из машины. Он не ожидал, что вид старой фермы так сильно на него подействует. Кровь прихлынула к щекам, появилось ощущение пустоты под ложечкой. После духоты машины, в которой было жарко, несмотря на включенный кондиционер, Джим жадно вдохнул свежий воздух. Почувствовав внезапную слабость, он приказал себе успокоиться. Он взглянул на слепые окна дома и ощутил лишь сладкое томление в груди. Со временем оно могло бы перерасти в тревожную грусть или даже отчаяние, но сейчас он остался спокоен, а когда отвернулся от дома, у него не возникло бессознательного желания оглянуться. Вид сарая тоже не вызвал в нем особого трепета, но, когда Джим перевел взгляд на известняковый конус мельницы, ему показалось, что он сам превращается в камень, подобно несчастным, увидевшим лицо горгоны Медузы. Джим прочел миф о Медузе много лет назад в одной из книг, которые давала ему миссис Глинн. В те дни он всем сердцем желал повстречать женщину со змеиными волосами и стать бесчувственным камнем… — Джим! — окликнула его Холли с противоположной стороны машины. — С тобой все в порядке? Помещения мельницы, особенно первый этаж, имели очень высокие потолки, и ее двухэтажное здание не уступало по высоте четырехэтажному дому. Однако Джиму показалось, что над ним навис огромный каменный небоскреб. Некогда светлые стены потемнели от времени, а шероховатости и выбоины в камне цепко оплел густой плющ, корни которого питал соседний пруд. Его зеленые ветви вились по всей стене заброшенного здания, закрывая узкое окно первого этажа и тяжелую деревянную дверь. Длинные широкие крылья мельницы, которые прогнили и местами потрескались, застыли намертво, но не в, форме распятия, а крест-накрест, как буква «икс». С тех пор как он был здесь в последний раз, их деревянные лопасти пришли в еще большую негодность. Даже в ярком дневном свете мельница казалась огромным страшным пугалом, распростершим над землей тонкие руки скелета. — Джим! — Холли дотронулась до его плеча. Он вздрогнул и отдернул руку, как будто впервые ее увидел. На какой-то миг ему показалось, что перед ним лицо давно умершей… Но наваждение сразу прошло. Перед ним Холли, и она совсем не похожа на женщину из сна. — С тобой все в порядке? — повторила она свой вопрос. — Да, конечно… просто все здесь напоминает о прошлом. Джим испытал благодарность к ней за то, что она отвлекла его внимание от мельницы, указав на дом со словами: — Тебе было хорошо здесь? — Лена и Генри Айренхарты были замечательными людьми. Они взяли меня к себе, и это принесло им много страданий. — Страданий? — удивилась Холли. Он понял, что употребил слишком сильное слово, и удивился, что оно сорвалось у него с языка. — Я имел в виду, что они многим пожертвовали, когда взяли меня к себе. — Взять на воспитание десятилетнего мальчика — дело нелегкое, — сказала Холли. — Но не думаю, что это было жертвой с их стороны, если, конечно, ты все время не требовал икру и шампанское. — После того, что случилось с родителями, я был в очень плохом состоянии. Ушел в себя, ни с кем не хотел разговаривать. Они потратили много усилий, времени… чтобы вернуть меня к… жизни. — Кто здесь сейчас живет? — Никто. — Но ты же сказал, бабушка с дедушкой умерли пять лет назад? — Ферму не продали. Не нашлось покупателей. — И чья она сейчас? — Моя. Перешла по наследству. Холли озадаченно посмотрела на ферму. — Странно. Дом очень милый. Если полить лужок, выполоть сорняки, здесь будет чудесное место. Почему ферму так трудно продать? — Во-первых, даже самые великие любители природы, которые мечтают стать ближе к земле, не хотят забираться в такую глушь. Им нужна ферма, но только поблизости от кинотеатров, магазинов, ресторанов и станций автосервиса. — А в тебе прячется забавный маленький циник, — рассмеялась Холли. — Кроме того, ферма слишком мала, и, чтобы себя прокормить, нужно работать в поте лица. На сотне акров коров не разведешь, пшеницу не посадишь. Мои старики держали куриц и продавали яйца. Климат у нас мягкий, и они два раза в год, в феврале и мае, собирали урожай клубники. Этим и жили. Еще выращивали кукурузу, помидоры. Причем настоящие, а не пластиковые, как в супермаркетах. Он видел, что, несмотря на его слова, Холли очарована этим местом. Она стояла, уперев руки в бока, и оглядывалась по сторонам с видом приценивающегося покупателя. — Но почему обязательно фермеры? Неужели не найдутся люди, которые просто захотят поселиться в тихом уютном уголке? — Не забывай, что здесь не Ньюпорт-Бич или Беверли-Хиллз. Здешние жители не станут сорить деньгами, чтобы поспеть за модой. Единственная надежда — найти богатого продюсера или директора студии из Лос-Анджелеса, который купит ферму ради земли, построит что-нибудь экзотическое и будет хвастаться, что в Санта-Инес у него есть местечко для отдыха. Сейчас это очень престижно. Они разговаривали, и одновременно росло его внутреннее напряжение. Было еще очень светло — часы показывали три часа, но он со страхом думал о приближении ночи. Холли прошлась вдоль дороги к дому и несколько раз пнула жесткие, как проволока, сорняки, торчащие из многочисленных трещин в асфальте. — Небольшая уборка не повредит, а в остальном все в очень хорошем состоянии. Они умерли пять лет назад? Дом и сарай выглядят так, будто их красили год назад. — Так и есть. — Поддерживаешь товарный вид? — Конечно, почему бы и нет? Высокие горы на западе поглощают день быстрее, чем океанские волны Лагуна-Нигель. В Санта-Инес сумерки наступают раньше, хотя и дольше длятся. Джим смотрел на пурпурные тени заходящего солнца с ужасом героя фильма о вампирах, который спешит спрятаться, пока не распахнулась крышка гроба. «Что со мной?» — с тревогой спросил он себя. — Ты никогда не думал о том, чтобы здесь поселиться? — Никогда! — Ответ прозвучал так резко и неожиданно, что заставил вздрогнуть не только Холли, но и его самого. Словно повинуясь притяжению магнита, Джим снова посмотрел на мельницу. Он почувствовал на себе взгляд Холли. — Джим, — тихо произнесла она, — что здесь случилось? Ради Бога, скажи, что произошло на мельнице двадцать пять лет назад? — Я… не знаю… — Голос его дрогнул. Он провел ладонью по холодному влажному лицу. — Ничего особенного. Здесь я играл… было тихо, хорошо… Ничего не случилось. Ничего. — Вспомни, — настойчиво сказала Холли. — Что-то должно было случиться.* * *
Они провели вместе совсем немного времени, и Холли не знала, как относиться к резким переменам в настроении Джима, которые напоминали поездку на «американских горках». По мере того как они приближались к Санта-Инес, он все больше мрачнел, но потом, в универсаме, куда они заехали купить продукты, снова пришел в себя и развеселился. Однако появление на ферме стало для Джима холодным душем, а вид мельницы совершенно его добил. Несмотря на удивительные способности Джима, Холли серьезно беспокоилась о его состоянии и хотела ему помочь. Она уже начала сомневаться, что поступила правильно, настояв на этой поездке. Журналистская карьера при всех ее недостатках приучила Холли кидаться в гущу событий, хватать удачу и мчаться с ней, как с футбольным мячом, к цели. Но, возможно, на этот раз ситуация требовала большего благоразумия, спокойствия и осмотрительности. Они сели в «Форд» и поехали вокруг пруда. Холли вспомнила последний сон и широкую, посыпанную щебнем дорожку, по которой в прежние времена ездили на повозках, запряженных лошадьми. «Форд» остановился у подножия мельницы. Холли вышла из машины и очутилась в двух шагах от железного забора, за которым начиналось заброшенное кукурузное поле. Окинув взглядом редкие стебли, торчащие из сухой земли, она обошла вокруг машины и присоединилась к Джиму, стоявшему на берегу пруда. Неподвижная серо-зеленая гладь напоминала огромную плиту шифера. В воздухе низко летали стрекозы и мошки. Они опускались на поверхность пруда, вызывая едва заметную рябь. У самого берега, где густо росли водоросли и пампасная трава, можно было различить очень слабое течение, от которого вода не двигалась, а лишь таинственно мерцала. — Ну как, все еще не можешь вспомнить, что видела во сне? — спросил Джим. — Нет. Наверное, это не так уж важно. Не все во сне имеет значение. — Это имеет значение, — произнес он тихим голосом, как будто обращаясь к самому себе. Вода в пруду не была ни мутной, ни прозрачной. Холли подумала, что ее толща почти не просматривается. По словам Джима, в центре глубина не менее пятидесяти-шестидесяти футов — вполне достаточно, чтобы скрыть от глаз все что угодно. — Давай осмотрим мельницу, — предложила Холли. Джим достал из машины фонарь и вставил батарейки. — Внутри всегда темно, даже днем. Дверь находилась в стене маленькой пристройки, примыкавшей к коническому зданию мельницы, подобно коридорчику эскимосского иглу. Она была не закрыта на замок, но покосилась, и ее петли заржавели. Джиму пришлось приналечь изо всех сил, прежде чем дверь поддалась и с треском и пронзительным визгом распахнулась. Короткий коридор пристройки привел их в главное помещение мельницы, диаметр которого составлял около сорока футов. Сквозь узкие окна в толстых стенах внутрь просачивался слабый свет. Грязные стекла, точно фильтры, поглощали его летнюю яркость, придавая солнечным лучам серый зимний оттенок, отчего в комнате становилось еще мрачнее. Большой фонарь Джима выхватывал пыльные, затянутые паутиной части механизмов, назначение которых было совершенно непонятно Холли. С таким же чувством она могла бы осматривать турбинный отсек атомной подводной лодки. Все эти устаревшие достижения техники прошлого — неестественно огромные и сложные деревянные балки, зубчатые колеса, рычаги, жернова и гнилые канаты, — казалось, были сделаны не людьми минувшего века, а иными существами, стоящими на низкой ступени развития. Джим вырос на мельнице и, хотя ею перестали пользоваться за много лет до его рождения, хорошо знал назначение ее механизмов. Направляя луч фонаря в разные стороны, он стал объяснять Холли, как устроена мельница, перемежая свою речь словами вроде «цилиндрическое прямозубое колесо», «бегун» и «лежняк». — Раньше все эти части не были видны, но перегородка, за которой колесо, прогнила, жернова упали и пробили настил. Приступ страха, испытанный Джимом при виде мельницы, прошел, настроение поднялось. К удивлению Холли, когда он стал рассказывать о мельнице, в его голосе, как и тогда в супермаркете, зазвучали нотки мальчишеского энтузиазма. Он был доволен, что ему есть о чем рассказать, и хотел продемонстрировать свои знания, совсем как мальчишка, который не вылезает из библиотеки и всегда рад случаю показать, что не зря тратил время, пока другие играли в бейсбол. Джим подошел к лестнице и, слегка касаясь стены рукой, стал без колебаний подниматься по известняковым ступенькам. Он оглянулся, и Холли увидела на его лице тихую улыбку, точно след воспоминания о чем-то хорошем. Озадаченная такой быстрой сменой его настроения, Холли неохотно последовала за Джимом в помещение, которое он назвал «верхней комнатой». С мельницей ее связывали только страшные воспоминания о ночных кошмарах, они словно оживали с каждым шагом по лестнице. Было жутко — оказавшись здесь впервые, она хорошо помнила сырые стены и узкие крутые ступеньки, виденные ею во сне. Холли поднялась до середины лестницы и остановилась у окна, выходящего на пруд. Протерла рукой грязное стекло и прищурилась. На миг показалось, что в воде скрывается нечто странное, но потом она сообразила, что видит отражение облака в пруду. — Что там? — с детским любопытством спросил Джим. Он остановился на несколько ступенек выше ее. — Ничего. Тень. Онипродолжили свой путь и очутились в круглой комнатке с высоким потолком в виде купола, очертания которой напоминали отсек, расположенный в передней части ракеты. В отличие от того, что она видела во сне, известняковые стены не были полупрозрачными и в их толще не горели янтарные огни. В верхней части купола помещался механизм, соединяющий крылья мельницы с вертикальной деревянной осью, проходящей сквозь отверстие в центре пола. Вспомнив прогнившие перегородки на первом этаже, Холли с опаской ступила на деревянные доски. К ее облегчению, половицы не гнулись, балки под полом не скрипели. — Пыли здесь хватает, — сказал Джим. Каждый их шаг поднимал в воздухе маленькое серое облачко. — И пауков, — заметила Холли. Сморщившись от отвращения, она рассматривала паутину с мертвыми насекомыми, опутавшую ржавый механизм. Она не боялась пауков, но они вызывали у нее чувство брезгливости. — Придется заняться уборкой, — сказал Джим. — А потом принесем вещи. — Надо было купить в городе щетку и ведро. — В доме найдется все, что нам нужно. Я схожу за щеткой, а ты пока достань вещи из машины. — Дом! — восторженно воскликнула Холли. — Когда мы поехали на мельницу, я не сообразила, что это твоя ферма и на ней никто не живет. Мы можем заночевать в доме, а сюда будем приходить, когда захотим. — Хорошая идея, — ответил Джим, — но все не так просто. В этой комнате должно что-то произойти. Что-то, что даст нам ответы на наши вопросы или поможет их найти. — Я это чувствую, Холли. Знаю так же, как узнаю о других вещах. Но мы не можем назначить время откровения. Не можем просить Бога или того, кто за всем этим стоит, беседовать с нами только в течение рабочего дня. Необходимо запастись терпением и ждать. Холли вздохнула: — Хорошо, если ты так думаешь — Звон колокольчиков заставил ее замолчать на полуслове. Это был тихий серебряный звук, нежный и удивительно мелодичный, длившийся всего две-три секунды. Под тяжелыми каменными сводами легкий веселый звон мог бы показаться неуместным, но он разбудил в Холли мысли о грехе, раскаянии, искуплении. Все стихло прежде, чем Холли поняла, что это было. Но не успела она задать Джиму вопрос, как колокольчики зазвенели снова. На этот раз ей стало ясно, почему необычный звук вызвал у нее мысли, связанные с церковью. Так звенят колокольчики во время мессы. Холли словно вдохнула запахи благовоний, мысленно возвращаясь в прошлое: когда-то в колледже она всерьез подумывала о переходе в католичество. Колокольчики затихли. Она повернулась к Джиму и увидела, что он улыбается. — Что это? — Надо же, — удивленно сказал он. — Как я мог об этом забыть? Колокольчики ожили, и их серебряный звон наполнил комнату. — О чем? — спросила она. — О колокольчиках? — Нет, — ответил он, когда звук снова умолк, и после некоторого колебания добавил: — Звон идет из камня. — Камень звенит? — удивилась Холли. Когда колокольчики зазвенели в очередной раз, она прошлась по комнате, поворачивая голову во все стороны и прислушиваясь. Ей и в самом деле показалось, что звенят известняковые стены, и не в каком-то одном месте, а сразу отовсюду, как будто в каждом камне спрятан колокольчик. Холли сказала себе, что камни так не звенят. Впрочем, мельница — необычное здание и, возможно, имеет странную акустику. В старших классах они ездили в Вашингтон, и во время экскурсии по Капитолию им показали место, откуда слышны слова, произнесенные шепотом в другом конце огромного зала. Благодаря хитрым особенностям архитектуры звук усиливается и, отражаясь от высокого купола, передается на расстояние. Может быть, им встретился похожий эффект. Если источник звука находится в дальнем углу комнаты первого этажа, не исключено, что акустика передает звон по всему зданию. Подобное объяснение соответствовало законам логики и понравилось ей больше, чем странная идея о магическом звенящем камне. Однако уже в следующий миг Холли спросила себя, кто и зачем тайно звенит колокольчиком. И не нашла ответа. Она прижала ладонь к стене. И почувствовала слабые колебания в холодном известняке. Колокольчики замолчали. Стена перестала вибрировать. Они ждали. Поняв, что звон не возобновится, Холли спросила: — Когда ты узнал о колокольчиках? — Мне было тогда десять лет. — И что происходило, когда они звенели? Что это значило? — Я не знаю. — Но ты сказал, что только что вспомнил об этом. Глаза Джима блестели от волнения: — Да, я вспомнил этот звон. Но не знаю, откуда он идет и что за ним следует. Хотя думаю… это хороший знак, Холли. — Его голос прервался. — Должно случиться что-то очень хорошее, что-то… удивительное. Холли чувствовала себя подавленной. Несмотря на мистику, окружавшую жизнь Джима, и ее собственные ночные кошмары, она ехала на ферму в надежде найти логическое объяснение странным событиям последних дней. Не имея представления о конечной цели своего поиска, Холли свято верила в научный подход. Скрупулезные исследования в сочетании с тщательным анализом, использование дедуктивного и индуктивного методов дадут ключ к разгадке. Однако логика оказалась ненужной вещью, а Джим предпочитал верить в мистику. Хотя, надо отдать ему должное — он верил в нее с самого начала и никогда не пытался это скрыть. — Но, Джим, как ты мог забыть такую необычную вещь, как звенящие камни, да и все остальное, что случилось с тобой на ферме? — Не знаю. Просто забыл. Возможно, меня заставили забыть. — Но кто? — Сила, которая заставляет камни звенеть и стоит за всем, что случилось в эти дни. — Он направился к открытой двери. — Пойдем. Надо привести комнату в порядок и перетащить вещи. Закончим и будем ждать, что произойдет дальше. Холли пошла за ним, но остановилась на пороге, глядя, как он спускается по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Точно мальчишка, возбужденный предстоящим приключением. Все дурные предчувствия и опасения Джима испарились, как капли воды, попавшие на раскаленную жаровню. Его постоянная и неожиданная смена настроения больше всего выбивала ее из колеи. Почувствовав шевеление над головой, Холли взглянула вверх. От двери к потолку тянулась огромная паутина. Толстый лоснящийся паук, темный, как сгусток крови, пожирал бледную моль, которая слабо трепыхалась в его длинных мохнатых лапах.Глава 4
В ход пошли щетка, совок, ведро с водой и тряпки. Джим купил даже моющее средство для окон, а в доме нашлась бумага. Когда они соскребли грязь со стекла, комната стала светлее и приобрела жилой вид. Холли убила паука над дверью, потом еще семь и успокоилась только после того, как, исследовав с фонарем все темные закоулки, убедилась, что ей ничто не угрожает. Конечно, первый этаж кишмя кишит пауками, но об этом она решила не думать. К шести часам солнце стало клониться к земле, но в комнате было еще достаточно светло, и они не стали зажигать лампу. Рассевшись по-турецки на спальных мешках перед термосом-холодильником, они принялись за гору толстых бутербродов, чипсы и сыр, запивая свой роскошный ужин ледяной пепси-колой. Хотя Холли не обедала, она совсем не думала о еде и только сейчас почувствовала, как проголодалась. «Болонья» с сыром и белым хлебом, приправленная горчицей, словно таяла во рту. Холли по-ребячески радовалась, что все так вкусно и хорошо, как в счастливые времена ее детства. Они почти не разговаривали. Молчание и раньше не рождало в них чувства неловкости, а в этот момент даже самый интересный разговор явно проиграл бы в сравнении с вкусной едой. Впрочем, молчание объяснялось и другой причиной. Холли просто не знала, о чем можно говорить, сидя на чердаке старой мельницы и ожидая встречи с неведомым. Любой светский разговор при таких странных обстоятельствах казался бы неуместным, а обсуждать серьезные дела и вовсе смешно. — Знаешь, у меня какое-то дурацкое чувство, что мы тут сидим, а зачем — и сами не знаем, — наконец произнесла она. — У меня тоже, — признался Джим. Было часов семь, когда, открыв коробку с шоколадными пирожными, она подумала, что в здании мельницы нет туалета. — Слушай, а как быть с уборной? Джим поднял с пола связку ключей и протянул Холли: — Вот ключи. Как войдешь в дом, туалет справа от кухни. Холли заметила, что в комнате сгустились тени, а за окном наступили сумерки. Отложив пирожные в сторону, она сказала: — Я мигом, одна нога здесь, другая там. Еще стемнеть не успеет. — Давай-давай. — Джим поднял руку, словно готовясь произнести перед знаменем слова присяги. — Клянусь всем, что для меня свято, по крайней мере одно пирожное я тебе оставлю. — Если я вернусь и найду меньше половины пирожных, ты как миленький отправишься в Нью-Свенборг за новой коробкой, — пригрозила Холли. — Ты так серьезно относишься к пирожным? — Можешь не сомневаться. — Вот это мне нравится в женщинах, — улыбнулся Джим. Холли взяла фонарь и направилась к двери. Оглянувшись на пороге, она сказала: — Лучше зажги лампу. — Непременно. Когда вернешься, здесь будет светло и уютно. Холли стала спускаться по узким крутым ступенькам. Она не хотела разлучаться с Джимом, и с каждым шагом в ней росло беспокойство. Одиночество ее не пугало. Наоборот, она боялась за Джима, боялась оставлять его одного. Хотя, конечно, это смешно — он взрослый мужчина и лучше чем кто-либо способен себя защитить. Первый этаж погрузился в темноту. Затянутые паутиной окна не пропускали даже слабого сумеречного света. Когда Холли прошла в сводчатую дверь пристройки, у нее появилось жутковатое чувство, что за ней кто-то наблюдает. Она тут же упрекнула себя: что за глупые страхи — ведь кроме нее и Джима на мельнице никого нет. Но, подойдя к выходу, она не выдержала и, обернувшись, ткнула в темноту фонарем. Огромные черные тени, точно драпировка из крепа в аттракционе «комната ужасов», окутывали части механизмов. Когда на них попадал луч фонаря, они бесшумно соскальзывали, обнажая ржавые зубья и шестеренки, а потом снова возвращались на место. Холли никого не увидела, но тот, кто за ней следил, мог спрятаться за жерновами. Внезапно устыдившись собственной робости, она вышла на улицу, недоумевая, что стало с неустрашимым репортером, которым она когда-то была. Солнце скрылось за линией гор. Синее небо, точно сошедшее со старых полотен Максфилда Периша, потемнело и приобрело багровый оттенок. Несколько жаб выбрались из ила и уселись на берегу пруда. Она прошла вдоль воды. Мимо сарая. Подошла к дому. Ее ни на секунду не покидало гнетущее ощущение чужого присутствия. Однако, даже если кто-то в самом деле прячется на мельнице, вряд ли она удостоилась чести находиться под наблюдением целого взвода шпионов, притаившихся в поле, за сараем и на вершинах окрестных гор. — Идиотка, — саркастически сказала себе Холли, открывая дверь. Забыв про фонарь, она бессознательно пошарила по стене рукой и щелкнула выключателем. Удивительно, но свет в доме был. Еще больше она поразилась, увидев перед собой полностью обставленную кухню. У окна разместились обеденный стол и четыре стула. С настенного крючка свисали медные чайники и кастрюли, а над плитой помещались двойные полочки с кухонными принадлежностями. На разделочном столе стояли тостер, микроволновая печь и миксер. Внимание Холли привлек холодильник. На нем она заметила листок с длинным перечнем покупок, прижатый к стенке маленьким магнитом в форме банки пива. Выходит, пять лет назад, когда старики умерли, Джим не выбросил старые вещи? Холли провела пальцем по полке и посмотрела на черту, оставленную в тонком слое пыли. Мебель на кухне протирали совсем недавно. Прошло от силы три месяца, но уж никак не пять лет. Выйдя из туалета, она прошла по коридору, заглянула в столовую, а потом в гостиную. Если не обращать внимания на пыль, покрывавшую столы, шкафы и расшитые чехлы диванов, у комнаты был вполне жилой вид. Холли окинула взглядом картины на стене, маленький столик у кресла, заваленный стопками журналов, пыльные безделушки в серванте из красного дерева, высокие старинные часы, которые, похоже, остановились давным-давно. Первой ее мыслью было: Джим оставил мебель, чтобы сдавать дом, пока не найдется покупатель. Но потом, заметив на стене фотографии в рамках, она решила, что ошиблась. Когда дом сдают, фотографии не оставляют. Она подошла поближе и стала разглядывать маленькие снимки: отец Джима в молодости, ему лет двадцать, не больше, мать с отцом в свадебных нарядах, пяти-шестилетний Джим с родителями. Четвертая фотография изображала симпатичную чету лет пятидесяти. В коренастом мужчине с открытым смелым взглядом и квадратным подбородком Холли узнала старого Айренхарта, а красивое умное лицо женщины напомнило ей черты Джима и его отца. Вне всяких сомнений перед ней Лена и Генри Айренхарты — родители отца Джима. Лена Айренхарт — та самая женщина, в чье тело прошлой ночью вселилась душа Холли. Широкие скулы, красивое волевое лицо. Не приятное, а именно красивое, величественное. Широко посаженные глаза, полные губы. На правой щеке родинка. Хотя Холли довольно точно описала женщину из сна, Джим ее не узнал. Возможно, ему просто не приходило в голову, что у его бабушки широко посаженные глаза и полные губы. Волосы тоже могли быть кудрявыми не от природы, а после посещения парикмахерской. Вот только родинка на щеке… Пять лет — слишком короткий срок, чтобы забыть о такой детали. Даже войдя в дом, она так и не избавилась от неприятного ощущения, что за ней следят. За несколько минут, проведенных у фотографии Лены Айренхарт, это чувство в ней настолько усилилось, что Холли не выдержала и резко обернулась. Никого. Она быстро прошла к двери и выглянула в коридор. Пусто. Остановилась перед темной лестницей из красного дерева, ведущей на второй этаж. На ступеньках и перилах — нетронутый слой пыли. Холли посмотрела вверх и негромко окликнула: — Эй! В гулкой тишине пустого дома ее голос прозвучал странно и безжизненно. Ответа не последовало. Холли стала нерешительно подниматься по лестнице. — Эй! Есть здесь кто-нибудь? — снова позвала она. В ответ — гулкая пустая тишина. Нахмурившись, она остановилась на третьей ступеньке. Взглянула вниз, потом опять задрала голову. Тишина казалась слишком глубокой, неестественной. Даже в пустом заброшенном доме, где никто не живет, слышно, как порой скрипят рассохшиеся половицы или ветер стучит в неплотно закрытое окно. Но здесь так тихо, что, если бы не звук ее собственных шагов, она бы подумала, что оглохла. Холли поднялась еще на две ступеньки и остановилась. Она ясно чувствовала на себе чужой взгляд. Такое впечатление, что старый дом ожил и изо всех щелей, с каждого куска обоев таращатся на нее тысячи злобных пронзительных глаз. Косой луч, падающий со второго этажа, подхватил золотистый рой пылинок. В окна заглядывало багровое лицо сумерек. До лестничной площадки оставалось пройти четыре ступеньки. От нее начинался последний пролет, ведущий в холл второго этажа. Холли окончательно уверилась: наверху притаилось несчастье. Необязательно Враг или вообще кто-то живой и враждебный — скорее ужасное зрелище, способное повергнуть ее в трепет. Сердце учащенно забилось. Она проглотила комок в горле и судорожно вдохнула пыльный воздух. Наконец сказалось длительное напряжение и страх перед неведомой опасностью. Нервы не выдержали и, резко повернувшись, она бросилась вниз по лестнице. Холли не выбежала из дома сломя голову, а, стараясь не спешить, вернулась тем же путем, каким пришла, и выключила в комнатах свет. Однако она постаралась не слишком затягивать свое отступление. Сапфировое небо, окольцованное вершинами гор, стало темно-фиолетовым на востоке и красным на западе. Золотистые поля и холмы посерели и начали приобретать угольно-черный цвет, как будто, пока она была в доме, прошел пожар и выжег все живое. Холли пересекла двор. Никаких сомнений — за ней наблюдают. Она тревожно оглянулась на черный квадрат сарая и, чувствуя холод в желудке, уставилась на окна дома, расположенные по обе стороны от широкой красной двери. Ею овладело совершенно жуткое ощущение: она, точно морская свинка в лабораторном эксперименте, попала во власть слепой дикой силы К мозгу подведены датчики, и по ним в ткань позвоночника идут прямые импульсы тока, контролирующие рефлексы страха и рождающие параноидальные галлюцинации. Ничего подобного с ней не случалось. Холли балансировала на грани паники, делая отчаянные попытки взять себя в руки. Она невольно ускорила шаг и наконец побежала по дорожке вдоль берега пруда. Фонарь она выключила и держала как палку, чтобы при первой же опасности воспользоваться им для защиты. Звон колокольчиков. Даже собственное лихорадочное дыхание не помешало ей услышать чистый серебряный звук крохотных язычков, ударяющихся о внутреннюю поверхность колокольчиков. Ее поразило, что он слышен с улицы — ведь до мельницы далеко. Боковым зрением она заметила, что с прудом произошла какая-то перемена, и обернулась к воде. В центре пруда пульсировал кровавый огонь; от него, точно круги от брошенного в воду камня, расходились ровные красные волны. Это зрелище совершенно потрясло Холли. Она поскользнулась и с трудом удержалась на ногах. Колокольчики умолкли, и в один миг багровое свечение в воде исчезло. Теперь поверхность пруда напоминала не серую плиту шифера, а черный полированный обсидиан. Снова зазвенели колокольчики. Середина пруда окрасилась кровью. Вспышки вырывались из темной толщи, будто раскаленные электрические лампочки, излучающие волны красного света. Наступила тишина. Вода почернела. Казалось, все вокруг вымерло. Ни кваканье лягушек в тине у берега, ни завывание койота, крик совы или шелест крыльев птицы — ни один звук не нарушал гробовую тишину ночи, такую же гнетущую, как тишина в доме Айренхартов. Звон колокольчиков. На этот раз картина изменилась. До этого гладь пруда походила на запекшуюся кровь, а сейчас озарялась ярким красно-оранжевым сиянием. Его отблеск упал на белые метелки пампасной травы, и они вспыхнули, словно радужные облачка светящегося газа. Что-то поднималось со дна пруда. Колокольчики затихли. Свечение исчезло. Холли стояла, охваченная ужасом. Нужно бежать, но она даже пошевелиться не могла. Звон колокольчиков. Свет. Ослепительно яркий. Грязно-оранжевый, без малейшего отблеска красного. Холли удалось сбросить оцепенение, и она опрометью бросилась к мельнице. Вспышки одна за другой озаряли оранжевым светом грязно-серые сумерки. Ритмичные прыжки теней походили на пляску апачей вокруг военного костра. Кукурузное поле, словно огромный отвратительный богомол, сучило сухими колючими стеблями. Мельница то и дело меняла цвет, превращаясь из каменной в медную и золотую. Колокольчики смолкли, свет погас, и в этот миг Холли стремглав влетела в открытую дверь мельницы. С разгону перепрыгнув через порог, она резко остановилась и ослепла. Узкие окна не пропускали даже малую толику света, и на первом этаже царила густая, черная как деготь темнота. Казалось, тьма превратилась в вязкую массу и душит ее, вытесняя воздух из легких. Фонарь наконец зажегся, и тут же раздались знакомые трели колокольчиков. Холли наотмашь полоснула лучом света темноту и убедилась, что в комнате, кроме нес, никого нет. Затем, обнаружив слева от себя ступеньки, стала поспешно взбираться по лестнице. Холли достигла окна и приникла к стеклу в том месте, которое она ранее протерла рукой: в центре пруда мигал яркий янтарный глаз. Она окликнула Джима и побежала наверх. Внезапно в памяти всплыли строки из стихотворения Эдгара По. Холли учила его еще в школе и давным-давно забыла:Глава 5
Они снова уселись на спальных мешках. Жемчужно-серебряный ореол лампы выбелил желтые камни известняковой стены. Газ, горящий в стеклянной колбе, издавал слабое шипение, и от этого казалось, что под полом перешептываются чьи-то голоса. Настроение Джима, словно тележка «американских горок», опять взлетело вверх, и на этот раз Холли разделяла его детский восторг и радостное ожидание чуда. Свет в пруду не только испугал ее, но и зажег в ней искру долгожданной надежды, разгорающееся пламя которой неотвратимо приближало момент истины и выстраданного ими душевного очищения. Холли осознала, что она тоже несчастна. У Джима в сердце постоянно тревога и сумятица, а у нее — пустота. Когда они встретились в Портленде, она была закоренелым циником с испепеленной душой. Ей не пришлось испытать горя и зла, выпавших на его долю, но теперь она понимала, что жизнь, лишенная тревог и радостей, рождает холодное черное отчаяние. Дни, недели, годы, растраченные на достижение ничего не значащих целей, существование без смысла, без друзей, без близких очерствляют душу. Она и Джим — две части китайской головоломки. Сложи их вместе — и заполнишь пустоту второй половинки, вылечишь душу целительным прикосновением. Их совпадение поразительно, и они созданы друг для друга, но головоломка может остаться нерешенной, если не принести обе части в одно и то же место в одно и то же время. Охваченная первым возбуждением, Холли ждала появления силы, чья воля привела ее к Джиму. Пусть это будет Бог или кто-то совершенно на него не похожий, но пусть он будет добрым. Не хотелось верить, что таинственный свет в пруду может оказаться Врагом. Монстр здесь ни при чем, хотя он тоже как-то с этим связан. Джим говорил: их ждет что-то хорошее, и она сама чувствовала, что свет и звон колокольчиков означают не кровь и смерть, а очищение. Они обменивались короткими фразами, произнося слова полушепотом, словно боялись, что громкий разговор заставит загадочные силы воздержаться от продолжения контакта. — Как давно здесь пруд? — С незапамятных времен. — Еще до Айренхартов? — Да. — До того, как построили ферму? — Наверняка. — Выходит, он был всегда? — Выходит. — Существуют о нем легенды? — Легенды? — Ну… истории о привидениях, вроде озера Лох-Несс. — Нет. Я, по крайней мере, не слышал. Они умолкли. Потянулись минуты ожидания. Через некоторое время Холли спросила: — Как поживает твоя гипотеза? — Что? — Ты мне сегодня сказал, что у тебя есть какая-то странная, удивительная идея, но не захотел поделиться. Сказал, что надо хорошенько обдумать. — Ах да… Полагаю, это больше, чем теория. Помнишь, ты сказала, что во сне заметила на дне пруда какой-то предмет… Не знаю почему, но я стал думать о встрече… — Встрече? — Да. Встрече с пришельцами. — Из иных миров, — подумала вслух Холли, вспомнив колокольчики и идущий из воды свет. — Они существуют, я уверен, — заговорил Джим с тихой восторженностью. — Вселенная слишком велика для нас одних. Они обязательно появятся. И кто-то первый их увидит. И почему этот кто-то не ты или я? — Но эта штука попала в пруд, когда тебе еще не было десяти. — Наверное. — Что они там делали все это время? — Не знаю. Может быть, после приземления прошли сотни, а то и тысячи лет. — Да, но что они забыли на дне пруда? — Возможно, это их наблюдательная станция. Отсюда они следят за человеческой цивилизацией. Вроде наших полярников в Антарктиде. Холли подумала, что сейчас они похожи на детей, которые смотрят на усыпанное звездами небо и мечтают о путешествиях к далеким галактикам. Идея Джима выглядела смешной и абсурдной. С трудом верилось, что у кошмарных событий последних дней такое изящное и красочное объяснение. Хотя в ней, как и в каждом человеке, сохранился ребенок, и этот ребенок отчаянно желал, чтобы красивая мечта обернулась реальностью. Еще двадцать минут прошли без каких-либо изменений. Мало-помалу восторг и нервное напряжение спали и к Холли вернулась обычная способность трезво мыслить. Она вспомнила, что произошло до того, как, подбежав к пруду, увидела волшебное свечение: ее неотступно преследовало паническое, неестественное ощущение чужой слежки. Холли уже было собралась рассказать об этом Джиму, но вспомнила еще об одном странном обстоятельстве. — Дом полностью обставлен, — сказала она. — Когда дед умер, ты ничего не тронул и все оставил как было? — Я сохранил мебель, чтобы сдавать дом, пока не найдется покупатель. Его ответ полностью совпадал с ее собственным объяснением этой загадочной ситуации. Однако Холли сказала: — Но там остались личные вещи. Джим продолжал рассматривать стены, ожидая, что на одной из них появится долгожданное знамение. Наконец он ответил, не глядя в ее сторону: — Если бы удалось сдать дом, я сразу бы все забрал. — Но прошло уже почти пять лет! Он пожал плечами. — В доме поддерживали порядок, хотя последняя уборка была довольно давно. На случай, если кто захочет здесь поселиться. — Жутковатое местечко. Он оторвал, взгляд от стены и посмотрел на нее. — Почему? — Уж больно напоминает мавзолей. В синих глазах Джима ничего нельзя было прочесть, но Холли почувствовала его раздражение: он уже мысленно беседует с пришельцами, а тут она со своей болтовней об уборке дома и продаже недвижимости. — Жутковатое, — вздохнул Джим. — Тогда почему?.. Он не спеша убавил яркость лампы. Плотный белый свет сменился бледным лунным сиянием, тени придвинулись — Сказать по правде, когда умер дед, я просто не смог прикоснуться к его вещам. С меня; хватило и того, что всего восемь месяцев назад мы разбирали вещи бабушки. После ее смерти он совсем недолго пожил… Когда их не стало, я остался совершенно один. Синие глаза Джима потемнели от мучительных воспоминаний. Холли захлестнула волна сочувствия и жалости. Она подвинулась к Джиму и взяла его за руку. — Я все откладывал и откладывал этот момент. А чем больше проходит времени, тем труднее себя заставить. — Он снова вздохнул. — Если бы нашелся покупатель, мне все равно пришлось бы разбирать вещи, но легче продать грузовик песка в пустыне Мохавк, чем эту старую ферму. Закрыть дом после смерти деда, четыре года и четыре месяца ни к чему не прикасаться, только изредка наводить порядок в комнатах — в глазах Холли поведение Джима выглядело странным. Но в то же время странное отсутствие логики тронуло ее до глубины души. Она с самого начала разглядела в стальном супермене тонкую, ранимую душу и полюбила ее так же бесповоротно, как и все остальное в Джиме. — Я тебе помогу, — пообещала она. — Покончим с этой чертовщиной и займемся домом. Вдвоем это будет совсем не трудно. Он улыбнулся и тихонько сжал ее ладонь. Тут Холли кое-что вспомнила. — Джим, помнишь, я тебе говорила о женщине, которую видела во сне прошлой ночью? Она еще шла по лестнице. — Да. — Ты сказал, что не знаешь, кто она. — И что из этого? — В доме есть ее фотография. — Фотография? — В гостиной. На снимке двое — муж и жена. Им около пятидесяти. Это Лена и Генри Айренхарты? — Да. Они… — Лена — та женщина, которую я видела во сне. — Странно… — Джим нахмурился. — Да. Но еще более странно, что ты ее не узнал. — Наверное, твое описание оказалось не слишком удачным. — Но я же сказала: у нее была родинка на щеке… Его глаза сузились, обнимавшая ее рука напряглась. — Скорее, блокноты! — Что? — непонимающе переспросила Холли. — Сейчас что-то произойдет. Скорее достань блокноты! Помнишь, мы их купили в городе? Он убрал руку с ее плеча, и она вытащила из лежащего рядом полиэтиленового пакета два блокнота с желтыми линованными страницами. Джим взял их и неуверенно взглянул на темные стены, точно ждал дальнейшей команды. Звон колокольчиков.* * *
Джим замер, захваченный их чистой серебряной музыкой. Еще немного — и у него в руках тайна того, что с ним недавно случилось. И не только это. Нечто большее. Колокольный звон возвещает рождение трансцендентальной истины, свет которой укажет цель его жизни, приподнимет завесу над прошлым и будущим, объяснит смысл вселенского существования. Несмотря на грандиозность подобной идеи, Джим верил: на мельнице ему откроются секреты мироздания, наступит волшебное озарение, в которое он так долго и безуспешно искал в различных религиях. Как только комната наполнилась звоном колокольчиков, Холли сделала попытку вскочить и бежать к окну. Но Джим разгадал ее замысел и заставил оставаться в комнате: — Не уходи. Это случится здесь. Она с сомнением вернулась на место. Все стихло. Подчиняясь невидимой силе, Джим отодвинул термос-холодильник и положил между собой и Холли желтоватый блокнот. Он не знал, что делать со вторым блокнотом и фломастером. Подержал в руке и, так и не придя ни к какому решению, отложил в сторону — Колокольная мелодия зазвучала в третий раз. И, как только раздались знакомые звуки, известняковые стены вспыхнули ослепительным пламенем. Из камня хлынул красный огонь, и комнату залило ярким пульсирующим светом. У Холли вырвался сдавленный крик. Джим сразу вспомнил ее рассказ о сне, который она видела прошлой ночью: женщина, похожая на его бабушку, поднялась по лестнице в верхнюю комнату и увидела, что стены светятся янтарным огнем, а вся мельница точно сделана из цветного стекла. Ее взгляду открылось ужасное, немыслимое зрелище: известняковые стены лопнули, будто хрупкая скорлупа, и из камня появилось злобное отвратительное чудовище. — Не бойся, — поспешил он успокоить Холли. — Это не Враг. Нам ничто не угрожает. Видишь, свет совсем другой. Джим хотел разделить с ней уверенность, данную ему высшими силами, от всей души надеясь, что не ошибся и опасности действительно нет. Но он хорошо помнил, что творилось с потолком его спальни в Лагуна-Нигель всего двенадцать часов назад: штукатурка вспучилась и превратилась в огромный блестящий кокон, внутри которого корчилось и пульсировало светящееся существо. Более тесное знакомство с мерзкой тварью ему совершенно ни к чему. Колокольная музыка повторилась еще дважды, красное свечение стало янтарным. Однако в нем не чувствовалось никакой угрозы и цвет отличался от отвратительного желтого гноя, который пульсировал в такт ударам огромного сердца монстра. Похоже, его слова не слишком успокоили Холли. Джиму захотелось притянуть ее к себе, крепко-крепко обнять. Но нельзя. Необходимо сосредоточиться. Небольшое усилие — и высшие силы вступят с ним в контакт. Стало тихо, но свет почему-то не погас. Янтарное пламя вздрагивало, тускнело, комната погружалась в мерцающий полумрак и снова вспыхивала ослепительным заревом. Яркие цветные капли света, точно радужные амебы, растекались по темным стеклам, приобретая причудливые меняющиеся очертания. Все это напоминало старинный калейдоскоп. — Такое ощущение, что мы на дне океана, в стеклянной батисфере, — сказала Холли. — Вокруг черная вода, и отовсюду плывут косяки светящихся рыб. Ему понравилось, что в отличие от него Холли умеет ярко выразить словами то, что они видят и чувствуют. Кажется, проживи сотню лет, а нарисованные ею образы все равно останутся в памяти. Без всяких сомнений, призрачные лучи рождаются не на поверхности, а в глубине камня. Словно под действием алхимии, известняк превратился в темный полупрозрачный кварц. Янтарное сияние, разлившееся по комнате, было ярче приглушенного света лампы. Джим взглянул на свои дрожащие руки — они ослепительно блестели. Лицо Холли тоже, казалось, отливало золотом. Но по углам залегли бархатные тени. Свет двигался по комнате, и они шевелились от его прикосновения. — Что теперь будет? — шепотом спросила Холли. Джим заметил, как изменилась страница лежащего между ними блокнота, и потянул Холли за руку: — Смотри! На желтом поле появились черные слова. Как будто невидимка обмакнул палец в чернила и написал: «Я с вами».Глава 6
Как ни была Холли увлечена красочной игрой света, она сразу отказалась от мысли, что надпись в блокноте — дело рук Джима. Ему бы не удалось это сделать, не привлекая ее внимания. Тем не менее в невидимок Холли тоже не верила. — Похоже, нам предлагают задавать вопросы, — заметил Джим. — Тогда спроси, кто это, — посоветовала она, не раздумывая. Он взял фломастер и через несколько секунд показал ей блокнот. «Кто ты?» — прочла Холли. Второй блокнот лежал на полу. Прямо у них на глазах на странице стали появляться неровные знаки. Они не были выжжены или написаны возникшими из воздуха волшебными чернилами. Нет, на желтом поле проступали неясные, едва заметные контуры букв, которые быстро темнели, наливаясь чернотой. Казалось, перед ними не тонкий листок бумаги, а ровная поверхность бездонного колодца. Холли вспомнила красные вспышки, которые, словно электрические лампочки, поднимались из темных глубин и взрывались в центре пруда, распространяя по воде ровные концентрические круги света. Точно так же вспыхнули известняковые стены, светлея и становясь полупрозрачными. «ДРУГ». Кто ты? Друг. Звучит довольно странно. Куда естественнее сказать «ваш друг». В имени пришельца, если, конечно, они действительно столкнулись с проявлением внеземного разума, скрывался любопытный подтекст, нечто вроде намека на Божественное происхождение. Люди наделили Бога множеством имен: Иегова, Аллах, Брахма, Зевс, Один, но титулов они придумали еще больше, называя его: Всемогущий, Отец, Спаситель, Создатель, Свет, Всевышний. Слово «Друг» удачно вписывалось в этот длинный список. Джим молниеносно написал новый вопрос и показал Холли: «Откуда ты?» «ИЗ ДРУГОГО МИРА». Другой мир мог быть чем угодно, от рая до Марса. «С другой планеты?» «ДА». — Боже мой, — невольно вырвалось у Холли. Несмотря на вечный скептицизм, у нее в душе тоже что-то дрогнуло. Она оторвалась от страницы блокнота и посмотрела Джиму в глаза. Они сияли ярче, чем обычно. Желтый свет придавал им удивительный изумрудный оттенок. Холли заерзала от возбуждения и села поудобнее. В блокноте появилась новая запись, и она, бросив на нее быстрый взгляд, вырвала листок и отложила в сторону, чтобы видеть следующую страницу. Ее глаза бегали между блокнотом, на котором Джим писал вопросы, и блокнотом с ответами невидимки. «Из другой звездной системы?» «ДА». «Из другой галактики?» «ДА». «На дне пруда — космический корабль?» «ДА». «Сколько времени ты здесь находишься?» «10000 ЛЕТ». Когда появилась эта цифра, Холли подумала, что происходящее в комнате — больший сон, чем сны, которые она недавно видела. Они с Джимом так долго искали ключ к разгадке, и вот пожалуйста — ответы на все вопросы! Но почему все так легко и гладко? Она не знала, чего ждать от этой встречи, но никак не думала, что окружавший их мрак так быстро рассеется. Такое впечатление, что ей на мозг капнули универсальным моющим средством и, словно по волшебству, все стало на свои места. — Спроси, что она здесь делает, — сказала Холли, вырывая из блокнота вторую страницу. — Она? — удивился Джим. — Почему бы и нет? — И в самом деле, — согласился он. Вырвав из своего блокнота исписанный листок, он написал новый вопрос: «Что ты здесь делаешь?» «НАБЛЮДАЮ, ИЗУЧАЮ, ПОМОГАЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ», — проступили на желтом листке черные буквы. — Знаешь, что мне это напоминает? — Что? — Эпизод из «Внешних пределов». — Старое телешоу? — Ага — Но, когда его показывали, тебя и на свете не было. — Смотрела по кабельному. — И что здесь общего с «Внешними пределами»? Холли нахмурилась, разглядывая надпись: «НАБЛЮДАЮ, ИЗУЧАЮ, ПОМОГАЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ», и сказала: — Тебе не кажется, что все это слишком… банально? — Банально? — раздраженно переспросил Джим. — Нет, не кажется. У меня чересчур скромный опыт по части контактов с инопланетянами. Я понятия не имею, какими они должны быть, и поэтому не могу обмануться в своих ожиданиях. — Извини. Я просто хотела… Ладно. Все в порядке… Посмотрим, что будет дальше. Надо признать, что появление магического света потрясло ее не меньше Джима. Холли и сейчас не могла перевести дыхание, а сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Они и в самом деле столкнулись с проявлением высших нечеловеческих сил. Огонь в пруду, свечение стен, слова, которые сами собой появляются на странице блокнота, — при виде таких чудес только круглый идиот не почувствует благоговейного трепета. Однако восторг и удивление понемногу притупились: встреча с пришельцами все больше напоминала сюжет из набившего оскомину телесериала. Джим с ноткой язвительности в голосе сказал, что понятия не имел, какими должны быть встречи с инопланетянами, и, следовательно, ему не в чем разочаровываться. Но это не так. Он, как и Холли, рос в шестидесятые-семидесятые годы — времена засилья средств массовой информации. Они смотрели одни фильмы и телесериалы, читали те же журналы и газеты. Их юность как раз пришлась на взлет всеобщего интереса к научной фантастике, и Джим наверняка получил уйму сведений о том, что собой представляет контакт с чужой цивилизацией. Невидимый пришелец во всем следовал традиционным шаблонам, а смутное чувство подсказывало Холли, что даже самые причудливые полеты фантазии писателей и сценаристов не способны нарисовать правдоподобную картину реальной встречи с неведомым. Иной мир живет по своим законам, чужие правила нельзя ни сравнить, ни постигнуть. — О'кей, — согласилась Холли. — Может быть, в этом-то вся соль. Они используют современные кинофильмы для удобства, им так легче с нами общаться. Вероятно, разница между нашими цивилизациями настолько велика, что мы никогда не сумеем их понять или увидеть. — Правильно. — Склонившись над блокнотом, Джим писал следующий вопрос: «Что означает свет, который идет из стены?» «ЭТОТ СВЕТ — Я». Не дожидаясь, пока Джим напишет следующий вопрос, Холли громко обратилась к незнакомому собеседнику: — Ты можешь двигаться сквозь стены? К ее удивлению, пришелец, которыйказался таким педантом в вопросах соблюдения протокола, не стал настаивать на письменном характере контакта. «Я МОГУ БЫТЬ ВСЕМ, МОГУ ДВИГАТЬСЯ ВНУТРИ, МОГУ ПРИНИМАТЬ ЛЮБУЮ ФОРМУ, КОГДА ТОЛЬКО ПОЖЕЛАЮ», появился длинный ответ. — Расхвасталась, — заметила Холли. — Твоя ирония совершенно неуместна, — нетерпеливо одернул ее Джим. — Я и не думаю иронизировать, — отвергла обвинение Холли. — Просто пытаюсь понять. Вот и все. Он с сомнением покачал головой. Обращаясь к невидимому пришельцу, она спросила: — Ты понимаешь, о чем я говорю? «ДА», — появилось в блокноте. Она вырвала страницу и, охваченная непонятным возбуждением, поднялась на ноги. Обошла комнату, поглядывая на пляшущие вокруг огоньки, обдумывая очередной вопрос. — Почему, когда ты появляешься, начинают звенеть колокольчики? Листок блокнота остался чистым. Холли повторила свой вопрос. Никакого отклика. — Понимаю, коммерческая тайна, — сказала она, так и не дождавшись ответа. Она ощутила, как кожа покрылась испариной и под блузкой потекли тонкие струйки холодного пота. В ней еще не остыл ребяческий восторг от встречи с чудом, но внутри вдруг шевельнулся противный страх. Что-то здесь не так. И дело не в том, что вся эта история сильно напоминает кино. Холли никак не могла понять причину своего внезапного испуга. Заметив, что Джим быстро пишет в блокноте, она наклонилась к нему и прочла. «Ты появлялся в этой комнате, когда мне было десять лет?» «ДА. ЧАСТО». «Ты заставил меня об этом забыть?» «ДА». — Зачем ты пишешь вопросы? Спрашивай, как я, — посоветовала ему Холли. Его явно поразило ее предложение, а она, напротив, удивилась: зачем он пишет, если можно задавать вопросы вслух? Джим не спешил расставаться с фломастером и блокнотом, однако в конце концов неохотно отложил их в сторону. — Почему ты заставил меня забыть? Даже не нагибаясь, Холли легко прочла толстые черные буквы, возникшие на желтом листке: «ТЫ БЫЛ НЕ ГОТОВ». — Слишком загадочно, — пробормотала Холли. — Ты прав, похоже, это не она, а он. Джим выдернул исписанную страницу и бросил к другим листкам. Он раздумывал, закусив губу, и, видимо, не знал, что еще спросить. Наконец сказал: — Ты мужчина или женщина? «Я МУЖЧИНА». — Скорее всего ни то ни другое, — заметила Холли. — Это же существо с другой планеты. Может, они там партеногенезом размножаются. «Я МУЖЧИНА», — снова появилось в блокноте. Джим сидел на полу, скрестив ноги и не двигаясь. Его широко раскрытые глаза светились мальчишеским любопытством. Холли спросила себя, почему в ней растет беспокойство, в то время как Джим вот-вот запрыгает от восторга. — Как ты выглядишь? — спросил Джим, обращаясь к стенам. «Я МОГУ ПРИНЯТЬ ЛЮБУЮ ФОРМУ, КАКУЮ ЗАХОЧУ». — Ты можешь показаться нам в образе мужчины или женщины? «ДА». — Можешь стать собакой? «ДА». — Кошкой? «ДА». — Жуком? «ДА». Похоже, лишившись фломастера и блокнота, Джим стал задавать никудышные вопросы. Чего доброго спросит, какой у пришельца любимый цвет и что он больше любит — пепси или кока-колу, с досадой подумала Холли. Однако Джим спросил: — Сколько тебе лет? «Я РЕБЕНОК». — Ребенок? — удивился Джим. — Но ты сказал, что прилетел на Землю десять тысяч лет назад. «Я ВСЕ ЕЩЕ РЕБЕНОК». — Вы так долго живете? «МЫ БЕССМЕРТНЫ». Джим восхищенно посмотрел на Холли. — Врет, — безапелляционно заявила она. — Побойся Бога, Холли, — воскликнул он, пораженный ее кощунством. — Не хочешь — не верь. Теперь ей стало ясно, откуда взялся страх: загадочное существо ведет нечестную игру. Держится свысока. Похоже, даже презирает их. Пожалуй, умнее всего смириться, помолчать и не задавать пришельцу дерзких вопросов, а то еще рассердится. Тем не менее она сказала: — Если они и в самом деле бессмертны, то почему он называет себя ребенком? Он не должен так о себе говорить! Младенчество, детство, юность, зрелость — это все возрастные понятия. Тот, кто мыслит подобными категориями, не бессмертен. Допустим, ты вечен, и рождаешься невинным, невежественным, но ты не можешь родиться молодым, потому что никогда не состаришься. — Как тебе не стыдно, Холли! — В голосе Джима звучало плохо скрытое раздражение. — Не стыдно. Он водит нас за нос. — Он употребил слово «ребенок», потому что хотел, чтобы мы его лучше поняли. — «ДА». — Чушь собачья, — упрямо сказала Холли. — Какого черта, Холли! Он аккуратно вырвал из блокнота еще одну страницу, а Холли подошла к стене и стала внимательно следить за радужными пятнами света, которые вспыхивали и переливались, приобретая странные причудливые формы. Сейчас они напоминали не фосфорическую жидкость и страшные языки раскаленной лавы, а мириады крохотных звезд, рой мерцающих светлячков или светящиеся косяки рыб. Холли смотрела на стену, ожидая, что она вот-вот вздуется. Лопнет. И из трещины вылезет чудовище Все в ней требовало отступить назад, но вместо этого Холли подошла еще ближе. Ее нос оказался всего в дюйме от полупрозрачного камня, внутри которого плыли, вспыхивали, кружились миллионы ярких частиц. Стена не выделяла тепла, но Холли показалось, что кожа ее лица воспринимает прикосновения света. У Холли закружилась голова. — Почему, когда ты появляешься, начинают звенеть колокольчики? Через несколько секунд Джим сказал у нее за спиной: — Не отвечает. Вопрос выглядел совершенно невинным и вполне обоснованным. Его упорное нежелание отвечать укрепило Холли в мысли, что за молчанием пришельца скрывается нечто важное и разгадка колокольного звона поможет приподнять завесу таинственности, окутывающую странное существо. — Почему, когда ты появляешься, начинают звенеть колокольчики? — Не отвечает, — сказал Джим. — Зачем задавать одни и те же вопросы! Ты же видишь, Холли, что он не хочет говорить, так ты ничего не добьешься, а только его рассердишь. Это не Враг, а… — Да, я помню. Это Друг. Она застыла у стены, чувствуя, что оказалась с пришельцем лицом к лицу. Хотя движущиеся пятна света даже отдаленно не напоминали облик живого существа, Холли знала, что инопланетянин перед ней и буравит ее своими глазами. — Почему, когда ты появляешься, звенят колокольчики? — снова спросила она. Внутренний инстинкт подсказывал Холли: ее невинный вопрос и не столь уж невинная настойчивость подталкивают ее к краю пропасти. Стук собственного сердца показался ей оглушительным грохотом. Было бы неудивительно, если бы Джим его тоже услышал. Скорее всего могущественный Друг не только слышит, но и видит, как сердце, точно испуганный кролик, бьется о прутья грудной клетки. Ну что ж, пусть знает, что она напугана. Может, он даже читает ее мысли. Нужно показать, что страх для нее не помеха. Холли прижала ладонь к светящемуся камню. Если радужные капли света не мираж и не проекция инопланетного сознания, таинственное существо и в самом деле живет в стене; камень — его плоть, а ее рука лежит на теле пришельца. Стена чуть заметно вибрировала. Холли чувствовала слабые колебания. Но тепла не было. В камне горел холодный огонь. — Почему, когда ты появляешься, звенят колокольчики? — Прекрати, Холли, — крикнул Джим. В его голосе впервые послышалась тревога. Наверное, и он понял, что с Другом шутки плохи. Но она знала: сила воли и упорство помогут ей в поединке с чужим разумом. Немного настойчивости — и их отношения с пришельцем предстанут в новом свете. Холли не могла бы сказать, чем объясняется ее уверенность. Просто так подсказывало шестое чувство. Даже не женский инстинкт, а интуиция бывшего репортера. — Почему, когда ты появляешься, звенят колокольчики? Холли показалось, что ритм колебаний слегка изменился. Хотя колебания едва-едва заметны и, может быть, все дело в ее воспаленном воображении. В голове мгновенно возникла картина: стена лопается, и трещина, превратившись в оскаленную пасть, откусывает ей руку. Брызжет кровь, из запястья торчат острые обломки белых костей. Холли вся тряслась от страха, но осталась стоять на прежнем месте, не убирая ладонь со стены. Уж не этот ли самый Друг внушил ей кошмарные мысли? — Почему, когда ты появляешься, звенят колокольчики? — Ради Бога, Холли… — начал Джим, но резко умолк и после короткой паузы сказал: — Подожди, сейчас будет ответ. Воля и упорство чего-нибудь да значат. Но, Боже мой, почему? Почему всемогущая сила из другой галактики испугалась ее решимости? Джим уже читал новое сообщение: — Он говорит… «РАДИ ЭФФЕКТА?» — Ради эффекта? — удивленно переспросила Холли. — Да, «Р-А-Д-И», затем «Э-Ф-Ф-Е-К-Т-А», в конце вопросительный знак. Холли снова обратилась к стене: — Выходит, колокольчики только ради эффекта? Как в театре, да? Прошло несколько секунд, и Джим сказал: — Молчит. — И зачем вопросительный знак? — спросила Холли у Друга. — Я вижу, ты сам не знаешь, откуда берется звон! Придумал тоже: «Ради эффекта?»! Не знаешь и морочишь нам голову! Хотя, с другой стороны, кому же знать, как не тебе? — Не отвечает, — негромко сказал Джим. Холли не отрываясь смотрела на стену. От ярких сполохов света рябило в глазах, но она и не думала сдаваться. — Сейчас появится, — сообщил Джим. — Говорит: «Я УХОЖУ». — Испугался, цыпочка, — тихо сказала Холли, глядя в аморфное лицо прячущегося в стене собеседника и обливаясь холодным потом. Янтарный свет померк, стал оранжевым. Холли сделала шаг назад, покачнулась и едва не упала. Она вернулась к своему спальному мешку и обессиленно опустилась на колени. На странице блокнота проступили новые слова: «Я ВЕРНУСЬ». — Когда? — спросил Джим. «КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ЧЕРЕД». — Какой черед? «НА КОРАБЛЕ ВСЕМУ ЕСТЬ СВОЙ ЧЕРЕД, ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ, ТЬМА И СВЕТ. ПРИХОДИТ СВЕТ И ПОЯВЛЯЮСЬ Я, А ОН ПРИХОДИТ ВМЕСТЕ С ТЕМНОТОЙ». — Он? — эхом повторила Холли. «ВРАГ». Стены то и дело озарялись неярким красновато-оранжевым пламенем. — Вы оба с одного корабля? — спросил Джим. «ДА. ДВЕ СИЛЫ. ДВА ЕДИНСТВА». Врет, подумала Холли. И про колокольчики тоже наврал. Устроил тут театр! «ЖДИТЕ МОЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ». — Мы будем ждать, — заверил Джим. «НЕ СПИТЕ». — Почему нам нельзя спать? — включилась в разговор Холли. «ВАМ ПРИСНЯТСЯ СНЫ». Страница закончилась. Джим вырвал ее и бросил на кучу исписанных листков. Стены залило тусклым кроваво-красным светом. В комнате сгущались тени. «СНЫ — ДВЕРИ». — Что ты говоришь? В ответ появились те же слова: «СНЫ — ДВЕРИ». — Нет, сны — опасность, подумала Холли.Глава 7
Мельница снова превратилась в обычную мельницу. Камень, бревна, гвозди. Пыль, гнилые доски, ржавое железо. Пауки в щелях. Холли в позе индейского вождя сидела напротив Джима. Их колени соприкасались, его рука покоилась в ее ладонях. Тепло его тела придавало ей силы, и к тому же она хотела смягчить резкость слов, которые собиралась ему сказать. — Послушай, солнышко. Ты самый интересный, самый сексуальный и, я уверена, самый добрый мужчина на свете. Но репортер из тебя никудышный. Брать интервью ты совершенно не умеешь. Спрашиваешь о чем угодно, только не о том, о чем нужно. Кроме того, наивно думаешь, что собеседник говорит чистую правду, чего почти никогда не бывает. Ответы надо вытягивать, а не смотреть, как тебе морочат голову. Джим нисколько не обиделся. Улыбнувшись, он сказал: — Я не считал, что нахожусь в роли репортера, который берет интервью. — Замечательно, но так и было в действительности. Этот Друг, как он себя называет, располагает информацией. С ее помощью можно выяснить, что происходит и как нам быть дальше. — Мне это представлялось иначе… Не знаю, как сказать… Явление, что ли. Когда Бог явился Моисею и сообщил ему десять заповедей, думаю, если у пророка и осталась пара невыясненных вопросов, он все-таки не рискнул допрашивать Всевышнего «с пристрастием». — Мы говорили не с Богом. — Знаю. Я уже расстался с подобной идеей. Но внеземной разум неизмеримо выше нашего. По сути дела, он тот же Бог. — Мы в этом не уверены, — заметила Холли. — Еще как уверены! Представь, сколько нужно ума и тысячелетнего опыта, чтобы создать цивилизацию, способную путешествовать из одной галактики в другую, — Бог ты мой, да мы просто обезьяны по сравнению с ними! — Вот об этом я и говорю. Откуда ты знаешь, что они из другой галактики? Потому что поверил ему на слово. С чего ты взял, что на дне пруда космический корабль? Опять же потому, что он так сказал. Джим начал терять терпение: — Зачем ему нас обманывать? Какая от этого польза? — Не знаю. Но мне кажется, он играет с нами, как с куклами. Я подготовлюсь к его возвращению. Потрачу два-три часа, сколько хватит времени, чтобы составить список вопросов. Проведем небольшое расследование. Он предпочитает кормить нас выдумками, а нам необходимо узнать правду. Вопросы должны помочь. — Заметив, как нахмурился Джим, и опасаясь, что он вот-вот ее прервет, Холли перешла на скороговорку: — Ну, хорошо, хорошо. Возможно, он не умеет лгать, он благородный, честный, каждое его слово — святая истина. Но послушай, Джим, это не Явление! Друг сам внушил тебе мысль купить фломастер и блокноты, сам выбрал форму вопросов и ответов. И он хочет, чтобы мы спрашивали. Он вообще мог бы с тобой беседовать из горящего тернового куста, как Господь с Моисеем. Джим уставился на нее, задумчиво прикусив губу. Потом перевел взгляд на стены, в которых еще недавно плавало светящееся существо. — Ты даже не спросил, почему должен спасать именно тех, а не иных людей, — не давала ему опомниться Холли. Он посмотрел на нее. Очевидно, его тоже поразило, что он забыл спросить о самом главном. В молочном сиянии лампы, внутри которой тихо посвистывал газ, глаза Джима потеряли изумрудный оттенок и снова стали синими. Синими и тревожными. — О'кей, — сказал он. — Ты права. Я увлекся, и меня понесло не в ту сторону. Но ведь это же чудо, правда, Холли? — Правда, — подтвердила она. — Пусть будет по-твоему. Давай составим список вопросов, а, когда он вернется, спрашивать будешь ты. У тебя это действительно лучше получается. Особенно если нужно что-нибудь уточнить, не теряя ни секунды. — Согласна, — ответила Холли, испытывая огромное облегчение от предложения Джима. Слава Богу, ей не пришлось на него давить. Она профессиональный репортер, интервью — ее хлеб, и, кроме того, в таком деле на Джима нельзя полностью положиться. Друг знает его очень давно и однажды уже заставил забыть о встрече, случившейся двадцать лет назад. Поэтому выходит, Джим с нею заодно и одновременно против нее, хотя сам он этого не сознает. Возможно, Друг сотни раз проникал в неокрепшее детское сознание. Десятилетний Джим, потрясенный смертью родителей, был более уязвим для чужого контроля и воздействия, чем обычные мальчишки его возраста. Кто знает, может быть, в подсознании Джима Айренхарта записана программа, повелевающая ему не раскрывать, а охранять тайны Друга. Холли понимала, что в своих рассуждениях она идет по тонкой нити, отделяющей благоразумную предосторожность от паранойи, и, вероятно, ее все сильнее клонит в сторону последней. Впрочем, раз дело принимает такой оборот, легкая паранойя — нечто вроде рецепта от смерти. Несмотря на подобные мысли, стоило Джиму собраться в туалет, как она сразу последовала за ним, потому что не хотела оставаться наверху одна. Пока он поливал прутья железного забора, за которым начиналось унылое кукурузное поле, Холли, повернувшись к нему спиной, не мигая смотрела на черную воду пруда. Она прислушалась к кваканью лягушек и звону цикад. Встреча с неведомым выбила Холли из равновесия, и теперь даже самые привычные звуки казались ей зловещими. Хватит ли сил у журналистки-неудачницы и бывшего школьного учителя, чтобы совладать со странной и могущественной силой, с которой им довелось столкнуться? Может быть, лучше всего немедленно покинуть ферму? Вот только интересно, позволят ли им уехать? Друг исчез, но страх Холли не пропал, а только усилился. Ее не покидало чувство, что над их головами на человеческом волоске подвешен тысячетонный груз и магическая сила, которая его удерживает, слабеет с каждой секундой. От страшной тяжести волосок растягивается, как стекловата, и становится все тоньше.* * *
К полуночи они доели шоколадные пирожные и исписали семь страниц, готовя вопросы для Друга-Сахар придает силы и утешает в минуты грусти, но для издерганных нервов от него мало толку. Тревога Холли стала острой, как грань белого рафинада или как хорошо наточенная бритва. Расхаживая по комнате с блокнотом в руке, она возбужденно говорила Джиму, который лежал на спине, закинув руки за голову: — На этот раз ему не удастся отделаться от нас письменными ответами. Он нарочно тянет время. Мы должны сделать так, чтобы он заговорил. — Он не может разговаривать. — Откуда ты знаешь? — Мне так кажется. Иначе зачем все эти блокноты и фломастер? — Тебе так кажется? — повторила его слова Холли. — Значит, поменять молекулярный состав стены, пройти через камень — это пожалуйста, а разговаривать не может? Если он не врет и действительно умеет принимать любую форму, что ему стоит сделать себе рот и голосовые связки, чтобы разговаривать, как все уважающие себя пришельцы? — Похоже, ты права, — с беспокойством сказал Джим. — Помнишь, он говорил, что если захочет, то может показаться нам в образе мужчины или женщины? — Помню. — Я вовсе не прошу, чтобы он материализовался. Пускай заговорит обычным бесплотным голосом. Еще одно световое шоу, но со звуковым оформлением. Прислушавшись к своим внутренним ощущениям, Холли поняла: она специально «заводится», чтобы до прихода Друга не растерять боевой запал. К подобному трюку ей не раз приходилось прибегать, беря интервью у чересчур важных или опасных собеседников. — О'кей, он может говорить, но неизвестно, захочет ли он вообще с нами разговаривать. — Мы же решили, что не позволим ему устанавливать свои порядки. — Не понимаю, почему, что бы он ни сказал, ты все встречаешь в штыки? — Не все. — Но нужно иметь хотя бы чуточку уважения к нему. — Я его уважаю, черт возьми! — Не похоже. — Я не сомневаюсь, что стоит ему захотеть — и он раздавит нас как мошек. Тут поневоле зауважаешь. — Это не то уважение, о котором я говорю. — Другого он у меня не заслужил, — отрезала Холли, продолжая мерить шагами комнату. — Пусть сначала прекратит свои штучки, перестанет нас запугивать и честно ответит на вопросы — тогда, может быть, я стану его уважать и за другие качества. — По-моему, ты боишься, — сказал Джим, поглядев ей в лицо. — Кто, я? — Ты стала очень враждебной. — Ни капельки. Он нахмурился: — Как будто стучишься в слепую враждебную стену. — Ничего подобного. Всего лишь метод нападения современного репортера. Ты не задаешь вопросы, чтобы потом разъяснять читателю, что сказал собеседник, а атакуешь. У тебя есть схема, своя версия правды, и ты обязана преподнести ее публике независимо от того, насколько она совпадает с действительностью. Я не любила пользоваться этим способом и всегда проигрывала другим репортерам. Сейчас я жду не дождусь атаки. Но разница в том, что мне нужна настоящая, а не сфабрикованная правда, и я намерена вытянуть ее из этого пришельца во что бы то ни стало. — Может, он не придет. — Но он обещал. — Если ты готовишь ему такую встречу… — Джим покачал головой. — Хочешь сказать, он меня испугается? Что это тогда за высшая сила? Зазвенели колокольчики, и Холли точно подбросило. — Спокойно, спокойно, Холли! — Джим тоже поднялся с пола. Колокольчики умолкли, потом зазвенели, и опять стало тихо. Когда звон раздался в третий раз, в стене вспыхнул неяркий красный огонек. Он быстро разгорался и внезапно, взметнувшись под купол потолка, озарил комнату ослепительным фейерверком. Колокольчики замолчали. Мириады сверкающих искр слились в пульсирующие пятна света, похожие на радужные амебы-Все как в прошлый раз. — Очень эффектно, — сказала Холли. Заметив, что красный свет приобретает оранжевый, а затем и янтарный оттенок, она решила завладеть инициативой. — Мы подумали, что прошлый способ общения не слишком удобен, и решили предложить тебе отвечать на вопросы устно, а не писать их в блокноте. Друг молчал. — Ты будешь с нами разговаривать? Вопрос снова остался без ответа. Сверившись с блокнотом, который держала в руке, Холли прочла первый вопрос из списка: — Ты — высшая сила, которая посылала Джима спасать людей? Она подождала. Молчание. Сделала еще одну попытку. Тот же результат. Она упрямо повторила вопрос. Друг не заговорил, но Джим окликнул ее: — Смотри, Холли. Обернувшись, она увидела, что он разглядывает второй блокнот. Первые десять-двенадцать страниц были исписаны. В жутком дрожащем свете камня она узнала знакомый почерк Друга. На первой странице в самом верху стояло: — ДА. «Я — ЭТА СИЛА». — Он ответил на все вопросы, которые мы подготовили, — сказал Джим. Холли в ярости швырнула блокнот. Он перелетел через комнату и, звонко ударившись об оконное стекло, упал на пол. — Что ты делаешь, Холли… Ее свирепый взгляд заставил Джима умолкнуть на полуслове. В полупрозрачном известняке тревожно пульсировал свет. Холли сказала Другу: — Бог дал Моисею десять заповедей. Они были написаны на камнях, на скрижалях. Однако Создатель выкроил время и для беседы. Если сам Бог снизошел до простых смертных, почему бы тебе не последовать его примеру? Она не оглянулась посмотреть, как отреагирует Джим на ее методы нападения. Главное, чтобы он ее не прерывал. Друг молчал, и Холли повторила первый вопрос из своего длинного списка: — Ты — высшая сила, которая посылала Джима спасать людей? — Да. Я — эта сила, — ответил ей негромкий приятный баритон. Как и звон колокольчиков, звуки голоса шли сразу со всех сторон. Друг решил не принимать человеческий облик или являть им в камне свое лицо. Его слова рождались из пустоты и таяли в воздухе. Холли перешла к следующему вопросу: — Откуда ты знаешь, что этих людей подстерегает смерть? — Границы времени надо мной не властны. — Что ты имеешь в виду? — Прошлое, настоящее, будущее. — Ты умеешь видеть будущее? — Я живу в будущем, как и в прошлом, и настоящем. Блеск стал спокойнее, словно таинственный собеседник принял ее условия и подобрел. Джим приблизился к ней и положил руку на плечо. Его легкое пожатие означало: «Молодец, Холли». Боясь уклониться от темы, она решила не углубляться в подробности путешествий в будущее. Нужно использовать время с толком. А то получится: Друг решит, что ему пора уходить, а она не успеет задать и половины вопросов. Холли снова уткнулась в свой блокнот. — Почему ты хочешь спасти именно этих людей? — Чтобы помочь человечеству, — торжественно ответил голос, в котором послышались нотки напыщенности. Хотя, может быть, ей так только показалось: модуляции голоса были очень ровными, почти как у машины. — Но люди умирают каждый день. Большинство из них ничем не заслужили такой участи. Почему ты выбрал именно этих людей? — Они особые люди. — Что значит — особые? — Оставшись в живых, они сослужат человечеству огромную службу. — Ну и ну, — сказал Джим. Такого поворота она не ожидала. Ответ походил на правду, однако Холли все еще колебалась. Ее беспокоило, что она уже где-то слышала голос Друга. Она не могла вспомнить, при каких обстоятельствах, но что-то в голосе, несмотря на уверенный ровный тон, заставило ее насторожиться. — Ты утверждаешь, что способен видеть не только то, что случится в будущем, но и то, что могло бы случиться? — Да. — Но в таком случае, кто же ты, если не Бог? — Нет. Я не могу видеть так ясно, как он. Но я тоже вижу. Джим, к которому вернулось веселое мальчишеское настроение, с интересом разглядывал калейдоскоп радужных пятен света и улыбался, довольный услышанным. Холли отвернулась от стены и направилась к своему чемодану, лежавшему на другом конце комнаты. — Что ты делаешь? — Джим озабоченно посмотрел на нее. — Искала вот это. — Она открыла чемодан и, порывшись в вещах, достала записную книжку с информацией, собранной во время поисков Джима. Холли встала, открыла свои записи и нашла список людей, спасенных до 246-го рейса. Сказала, обращаясь к сидящему в известняке существу: — «Пятнадцатое мая. Атланта, Джорджия. Сэм Ньюсом и его пятилетняя дочь Эмили». Какую важную службу они сослужат человечеству? Чем они лучше других людей, которые умерли в тот день? Друг медлил с ответом. — Ну так как? — требовательно поторопила его Холли. — Эмили станет великим ученым и найдет средство от страшной болезни, — в голосе явно имелась нотка напыщенности. — Какой болезни? — Почему вы мне не верите, мисс Тори? — Вопрос был задан с вежливостью дворецкого, но в торжественном горделивом тоне ей почудилась затаенная ребяческая обида. — Скажи мне, что это за болезнь, и, может быть, я тебе поверю, — сказала Холли. — Рак. — Какой рак? Есть много типов рака. — Все. Она снова сверилась с записной книжкой. — «Седьмое июня. Корона, Калифорния. Луис Андретти». — У него родится сын, который станет великим дипломатом. «Лучше, чем умереть от многочисленных змеиных укусов», — подумала она. — «Двадцать первое июня. Нью-Йорк. Тадеуш…» — Станет великим художником, и его работы дадут надежду миллионам людей. — Хороший парень, — счастливо сказал Джим, который верил каждому слову. — Он мне сразу понравился. Не обращая на него внимания, Холли продолжала читать список: — «Тридцатое июня. Сан-Франциско…» — Ребенок Рэчел Стейнберг станет великим духовным лидером. Голос Друга ее раздражал. Она не сомневалась, что уже слышала эти интонации. Вот только где? — «Пятое июля…» — Майами, Флорида. Кармен Диас. Ее сын станет президентом Соединенных Штатов. — Почему сразу не президентом мира? — Холли обмахнулась записной книжкой, как веером. — Четырнадцатое июля. Хьюстон, Техас. Аманда Каттер. Ее ребенок будет работать на благо мира, — возвестил таинственный голос. — А как насчет Второго пришествия? — съязвила Холли. Джим отошел от нее и прислонился к стене, окруженный мерцающим ореолом. — Что с тобой творится? — спросил он. — Слишком все гладко. — Что гладко? — Он говорит, что посылал тебя спасать особых людей. — «Чтобы помочь человечеству». — Конечно, конечно, — сказала она стене и повернулась к Джиму. — Тебе не кажется, что эти люди слишком «особые»? История опять становится банальной. Нет чтобы стать просто хорошим врачом, бизнесменом, который построит новые заводы и даст людям работу, честным, смелым полицейским или, скажем, заботливой медсестрой — их дети непременно будут великими дипломатами, великими учеными, великими политиками, великими миротворцами. Великими, великими, великими! — Это и есть твой метод нападения современного репортера? — Угадал. Он оттолкнулся от стены, убрал со лба густую каштановую прядь. — Я согласен, для тебя все это выглядит как эпизод из «Внешних пределов». Но давай поразмыслим. Ситуация невероятная, экстраординарная. Пришелец из иного мира, который для нас кажется Богом, решает меня использовать, чтобы дать человечеству лучший шанс. Вполне логично, он хочет, чтобы я спасал особых людей, действительно особых, а не твоего вымышленного бизнесмена. — О да, вполне логично, — кивнула головой Холли. — Вот только я плохо верю в эту историю, а у меня особое чутье на обман. — Благодаря ему ты добилась великих успехов в журналистике? — в их разговор вклинился голос пришельца. В другое время она бы посмеялась над всемогущим инопланетянином, который опустился до жалких шпилек в ее адрес. Но если раньше нотки нетерпения и обиды в его голосе только угадывались, то теперь они прозвучали так ясно, что Холли стало не по себе. Оказаться лицом к лицу с галактическим Богом, оскорбленным в своих лучших чувствах, — перспектива не из приятных. — Как тебе нравится высшая сила? — сказала она Джиму. — Еще пару секунд — и он назовет меня сукой. Она заглянула в свои записи: — «Двенадцатое июля. Стивен Эймс, Бирмингем, Алабама». Сквозь стены плыли волны янтарного света. Краски потеряли былую гармонию. Стали резкими и нервными. Если сравнить предыдущее светопреставление со спокойной симфонией Брамса, то теперь зрелище напоминало нестройное завывание плохого джаз-оркестра. — Так как насчет Стивена Эймса? — настойчиво спросила Холли, обмирая в ожидании ответа. Воспоминания о прошлых победах придавали ей силы. — Я ухожу. — Быстро ты на этот раз засобирался, — заметила Холли. Янтарный свет начал меркнуть. — На корабле нет регулярных смен, но мой черед придет, и я вернусь. — Но все-таки ответь, зачем было спасать Стивена Эймса? Пятьдесят семь — не лучший возраст для производства великих дипломатов. Хотя, конечно, если постарается… Почему ты его спас? Голос стал более низким, баритон сменился твердым жестким басом: — Не пытайтесь уйти, это будет неразумно с вашей стороны. Наконец-то. Все это время она напряженно ждала, когда Друг произнесет эти слова. Другое дело Джим. Он огляделся по сторонам, точно хотел в неистовом кружении янтарных пятен отыскать фигуру пришельца и поймать его взгляд. — Что ты говоришь? Мы уйдем, когда захотим. — Вы должны дождаться моего возвращения. Попытаетесь уйти — умрете. — Ты раздумал помогать человечеству? — язвительно спросила Холли. — Не спите. Джим подошел к ней и обнял за плечи. От отчуждения, возникшего между ними из-за ее конфликта с Другом, не осталось и следа. — Не смейте спать. Известняк покрылся яркими красными точками. — Сны — двери. Кровавый свет исчез. Над очерченным лампой кругом сгустилась тьма, и в наступившей тишине было слышно, как в стеклянной колбе тихо посвистывает газ.Глава 8
Холли стояла на пороге комнаты с фонарем в руке и всматривалась в темноту. Джим решил, что она пытается выяснить, будут ли препятствовать их попытке покинуть мельницу, и если да, то насколько серьезна угроза. Он лежал на спальном мешке и, наблюдая за Холли, недоумевал, почему все идет насмарку. Джим приехал на мельницу, потому что после непонятного и страшного происшествия в спальне стало невозможно закрывать глаза на темную сторону окружающей его тайны. Раньше он предпочитал плыть по течению, выполняя то, что от него требовалось: в последнюю секунду выхватывать людей из огня, быть скромным супергероем, который живет тихо, неприметно, зависит от расписания авиарейсов и сам стирает свои носки. Однако теперь, когда Враг — кто бы ни скрывался под ужасной личиной — с неистовой яростью вторгся в его жизнь, нельзя позволить себе роскошь и дальше оставаться в неведении. Враг старается пробиться к ним извне, возможно, из другого измерения, и с каждой попыткой чудовище все ближе к цели. Джим не собирался во что бы то ни стало узнавать правду о высших силах, руководящих его поступками, потому что верил: нужно запастись терпением и рано или поздно истина ему откроется. Но узнать правду о Враге было необходимо, чтобы выжить. Тем не менее Джим ехал на ферму, испытывая двойственное чувство: готовился к худшему и все-таки надеялся на лучшее. Бросившись в неведомое, точно в омут, он рассчитывал найти объяснение своей священной миссии спасения людей. Но теперь в голове царил полнейший беспорядок. Некоторые события — звон в камне, чудесный свет Друга — принесли удивительную долгожданную радость. Его окрылило открытие, что те, кого он спас, принадлежат к особой категории людей, чьи жизни повлияют на развитие всего человечества. Но вспыхнувшее в нем торжество померкло, стоило заподозрить, что Друг утаивает часть правды либо, в худшем случае, лжет от начала до конца. Детская капризность высшей силы подействовала на него угнетающе. Джим потерял былую уверенность, что со дня спасения Ньюсомов действовал только во имя добра. И все-таки несмотря на страх, в нем теплилась надежда. Хотя в сердце Джима поселилось и стало расти отчаяние, присущий ему хрупкий оптимизм не позволял окончательно упасть духом. Холли выключила фонарь, вернулась в комнату и села на пол. — Не знаю. Может, это пустая угроза. Но есть только один способ проверки: попробовать уехать. — Ты хочешь уехать? Она отрицательно покачала головой. — Какой смысл уезжать с фермы? Куда бы мы ни поехали, он все равно нас отыщет Ведь так? Он добрался до тебя в Лагуна-Нигель, нашел в Неваде и послал в Бостон спасать Николаса О'Коннора. — Да. Где бы я ни оказался, везде чувствовал его присутствие. В Хьюстоне, Флориде, Франции, Англии — он указывал мне направление, сообщал, что случится, а я делал то, что он хотел. Холли выглядела измученной. Ее щеки стали впалыми, под глазами залегли тени, а бледность лица не могла объясняться только мертвенным сиянием газовой лампы. Она устало прикрыла глаза и потерла переносицу, точно желая избавиться от головной боли. Джим пожалел, что позволил ей попасть в такую историю. Однако, подобно страху и отчаянию, его сожаление не было совсем искренним. В глубине души сознавая, что ведет себя эгоистично, он радовался, что Холли рядом и останется с ним, как бы ни сложились события этой странной ночи. Одиночество исчезло навсегда. Сердито нахмурившись и все еще потирая переносицу, Холли сказала: — Это существо водится не только в окрестностях пруда и не просто путешествует на большие расстояния. Судя по моим царапинам и потолку спальни, оно появляется где угодно и как угодно. — Подожди, — перебил ее Джим, — мы знаем, что Враг умеет материализовываться в пространстве, но неизвестно, способен ли на это Друг. Именно Враг пытался настигнуть тебя во сне, и он же охотился за нами утром в Лагуна-Нигель. Холли открыла глаза и, убрав руку от лица, сурово посмотрела на Джима. — Я думаю. Друг и Враг — одно и то же — Что? — Я не верю, что на дне пруда, в корабле, если он вообще существует, живут двое Друг и Враг — всего лишь противоположные стороны единого целого Холли выразилась достаточно ясно, но Джим не решался поверить в страшный смысл ее слов. Наконец он сказал: — Ты серьезно? Ведь это все равно что… назвать его сумасшедшим. — О чем я и говорю. У него настоящее раздвоение личности. И каждая половина не ведает, что творит другая. Заметив на лице Джима отчаянное желание сохранить веру в доброго, разумного Друга, Холли взяла его руку в свои ладони и торопливо заговорила: — Вспомни его капризность, хвастовство. Чего стоит одно утверждение, будто он способен изменить судьбу человечества. А настроение? То он приторный как сахар, то злой как черт. И все время врет. Что ни слово — то ложь, а потом сам верит в свои россказни. Да еще без всякой причины напускает на себя таинственность. Сам посуди, разве это не напоминает картину психического расстройства? Джиму показалось, что он увидел слабое место в ее рассуждениях. — Ты думаешь, существо с расстроенной психикой могло управлять сложным космическим кораблем? Только представь миллионы световых лет и бесчисленные опасности, которые ему пришлось преодолеть. — Но, может быть, безумие наступило уже после приземления. Корабль мог вести робот или другие существа, которые, возможно, погибли. Он никогда о них не говорил, только о Враге. Но, если и в самом деле поверить в его внеземное происхождение, тебе не кажется странным, что в такую сложную экспедицию посылают экипаж из двух астронавтов? Кто знает, может, он убил остальных. Все в рассуждениях Холли могло оказаться правдой, но в таком случае правдой могло оказаться что угодно. Они столкнулись с Неведомым, таящим в себе неисчислимые возможности. Джим вспомнил, как прочел в одной книге, что даже многие ученые полагают: образы, рожденные в человеческом воображении, какими бы невероятными они ни казались, могут существовать где-то во Вселенной, потому что неопределенная природа мироздания наделила воображение не меньшей подвижностью и продуктивностью, чем человеческие сны. Джим поделился с Холли возникшими у него мыслями. Потом сказал: — Меня смущает, что ты сейчас делаешь то, во что сама раньше не верила: изо всех сил стараешься объяснить проявления чужого разума, которые, с нашей точки зрения, просто не поддаются объяснению. Разве можно говорить о безумии или раздвоении личности у пришельцев, если это чисто земные понятия? — Конечно, ты прав, — кивнула Холли. — Но в данный момент это единственная теория, которая имеет хоть какой-то смысл. И пока она не опровергнута, я буду считать, что мы имеем дело с иррациональным существом. Джим протянул свободную руку и сделал огонек в лампе поярче. — У меня прямо мурашки по коже, — сказал он, передернув плечами. — Не у тебя одного. — Если он и в самом деле шизофреник… Что будет, если он войдет в образ Врага и уже не выйдет обратно? — Мне об этом и думать не хочется, — ответила Холли. — Если он выше нас по разуму, а опыт его цивилизации по сравнению с историей человечества все равно что энциклопедия и короткий рассказ, он наверняка знает такое, от чего Гитлер, Сталин и Пол Пот покажутся учителями воскресной школы. Ее слова повергли Джима в уныние. Он гнал от себя черные мысли, но они все равно возвращались. Съеденные пирожные жгли желудок, точно раскаленные камни. — Когда он вернется… — заговорила Холли. — Ради Бога, Холли, — перебил ее Джим, — никакого нападения! — У меня не вышло, — признала она свою неудачу. — Но мы были на правильном пути. Просто я слишком далеко зашла, перегнула палку. Когда он вернется, нужно изменить тактику. Теория Холли о безумии пришельца подействовала на Джима сильнее, чем он этого хотел. Его бросало в холодный пот при мысли о том, что с ними станет, если в Друге возобладает темная половина личности. — А почему бы не оставить его в покое и не бить по его самолюбию, пускай себе радуется… — Бесполезно. Если будешь потакать безумию, никогда с ним не справишься. Любая сиделка из психиатрической клиники скажет тебе, что с буйно помешанными лучше всего вести себя спокойно и уважительно, но твердо. Почувствовав, как взмокли его ладони, он освободился от руки Холли и вытер пот о рубашку. На мельнице воцарилась мертвая, неестественная тишина. Ни единого звука. Казалось, их запечатали в огромную стеклянную колбу и выставили на обозрение в музее страны великанов. В другое время тишина вызвала бы у Джима беспокойство, но на этот раз она вселяла в него надежду, что Друг уснул или занят своими делами и ему сейчас не до них. — Он хочет нам добра, — сказал он Холли. — Даже если он сумасшедший, буйно помешанный и вторая половина его личности — воплощение зла. Он словно доктор Джекилл и мистер Хайд в одном лице, и доктор Джекилл искренне хочет добра. По крайней мере, одно это уже в нашу пользу. Холли обдумала слова Джима и кивнула: — Похоже, ты прав. Когда он вернется, я постараюсь выведать у него правду. — Вот только поможет ли это нам? Если он сумасшедший, то рано или поздно сорвется и начнет крушить все подряд. Этого я боюсь больше всего. — Вполне возможно, но мы должны сделать попытку. После ее ответа наступила неприятная тревожная тишина. Взглянув на часы, Джим увидел, что уже десять минут второго. Спать не хотелось. Он не боялся незаметно задремать и открыть двери, о которых говорил Друг, но чувствовал, что валится с ног от усталости. Хотя днем он только вел машину, сидел и стоял во время беседы с инопланетянином, все мышцы болели, как после долгой тяжелой работы. Лицо покрылось холодным потом, а в глаза будто набили песку. Стресс оказывает не менее разрушительное действие, чем тяжелое физическое напряжение. Джим поймал себя на мысли, что он, словно мальчишка, который не хочет идти к зубному врачу, больше всего на свете мечтает, чтобы Друг никогда не вернулся. Он желал этого всеми фибрами души и, словно ребенок, верил: стоит очень захотеть — и желаемое непременно исполнится. В памяти всплыли слова, которые Джим цитировал на уроках литературы при изучении фантасмагорий По и Хоторна: «Ужас превращает нас в детей». Если он когда-нибудь вернется в школу, то сумеет раскрыть тему ужаса гораздо Лучше, чем до приезда на старую мельницу. Но мечты не сбылись: в час двадцать появился Друг. На этот раз его прибытие не сопровождалось звоном колокольчиков. В стене вспыхнул красный свет, точно в чистую воду плеснули алую краску. Холли вскочила на ноги. Джим последовал ее примеру. Трудно спокойно усидеть на месте, когда знаешь, что загадочное существо может в любой момент нанести безжалостный удар-Комнату наполнил рой красных светящихся точек, которые начали приобретать янтарный оттенок. Друг заговорил, не дожидаясь вопросов: «Первое августа. Сиэтл. Спасена тонущая Лора Ленаскиан. Ее ребенок будет великим композитором, и его музыка принесет утешение многим несчастным людям. Восьмое августа. Пеория, Иллинойс, Дуги Беркет. Вырастет и станет специалистом в области парамедицины. В Чикаго он спасет тысячи жизней. Двенадцатое августа. Портленд, Орегон. Билли Дженкинс. Его гениальные изобретения произведут революцию в медицине…» Взгляды Холли и Джима встретились. Оба замерли, пораженные одной и той же мыслью: к Другу вернулось хвастливое настроение, и он снова «играет на публику», стремясь доказать свои притязания на роль спасителя человечества. Но как узнать, что в его словах правда, а что вымысел? Самое важное то, что пришелец очень хочет, чтобы ему поверили. Джим не мог понять, какое дело до их мнения существу, стоящемуна неизмеримо более высокой ступени развития. По сравнению с ним они с Холли — просто серые мыши. И тем не менее Другу не безразлично, что они подумают. А раз так — из этого можно извлечь пользу. «Двадцатое августа. Пустыня Мохавк, Невада. Лиза и Сузи Явольски. Любовь и забота матери помогут Сузи преодолеть последствия психологической травмы, вызванной гибелью отца, и она станет величайшим государственным деятелем всех времен, прославится успехами на ниве просвещения и помощи нуждающимся. Двадцать третье августа. Бостон, Массачусетс. Николас О Коннор, спасен при взрыве трансформаторной будки. Он вырастет и станет священником, который посвятит жизнь уходу за бедняками в индийских трущобах…» Наивность попытки Друга ответить на критику Холли и представить свою работу в менее грандиозном свете была видна невооруженным глазом: вместо того чтобы спасать мир, маленькому Беркету надлежало стать просто хорошим врачом, а Николасу О'Коннору предлагалось влачить скромное существование среди голодных индусов. Однако остальные спасенные по-прежнему блистали всевозможными великими талантами. По-видимому, пришелец постарался придать своей истории достоверность и убрал излишний налет гениальности, но потом в нем заговорила профессиональная гордость и он не захотел окончательно умалять свои достижения. И еще одно беспокоило Джима: голос. Чем дольше он к нему прислушивался, тем сильнее убеждался, что слышал его раньше, но не на мельнице двадцать пять лет назад, а совсем при других обстоятельствах. Голос немного отличается от слышанного, но это и естественно: у пришельца нет и подобия голосовых связок, а природа рождения звука не похожа на земную. Невидимое существо подражает голосу человека, которого Джим когда-то знал, но вспомнить не мог, как ни пытался. «Двадцать шестое августа. Дубьюк, Айова. Кристин и Кейси Дубровек. Кристин родит еще одного ребенка, который станет великим генетиком следующего столетия. Кейси будет замечательным учителем и окажет огромное влияние на жизнь своих учеников. Она никогда не совершит ошибки, которая приведет к самоубийству школьника». Джим вздрогнул, будто его с размаху ударили молотком в солнечное сплетение. Оскорбительный выпад, намекавший на смерть Ларри Какониса, окончательно разрушил его веру в добрые намерения Друга. — Удар ниже пояса, — сказала Холли. Колкие слова пришельца вызвали у Джима настоящий приступ дурноты. Янтарные лучи проникали сквозь стены, и комната озарялась ярким светом. Похоже, Друг наслаждался эффектом своего удара. Джима захлестнула волна отчаяния, и ему вдруг пришло в голову, что живущее в пруду существо — олицетворение чистого зла и, может быть, спасенные им люди будут служить не на благо человечества, а, наоборот, приведут к его гибели. Возможно, Николас О'Коннор станет маньяком-убийцей, а Билли Дженкинс вырастет в пилота ядерного бомбардировщика, который перехитрит системы противовоздушной обороны и сбросит на город смертельный груз. Кто знает, может, Сузи Явольски вместо карьеры великого государственного деятеля выберет путь террора и в споре со своими оппонентами будет использовать бомбы и пулемет. Но, оказавшись на краю черной бездны, Джим вдруг представил лицо маленькой Сузи Явольски и подумал: ее глаза — сама невинность. Девочка не способна на зло. Его усилия не пропали впустую. Друг, несмотря на видимое безумие и жестокость, действительно делал добро. — У нас есть к тебе вопросы, — обратилась Холли к светящейся стене. — Спрашивайте, спрашивайте. Холли углубилась в свои записи, и Джим с надеждой подумал, что она будет не слишком агрессивной. Он чувствовал, что Друга очень легко вывести из равновесия. — Почему ты выбрал для своих целей Джима? — Это было удобно. — Потому что он жил на ферме? — Да. — Ты когда-нибудь обращался к другим людям, кроме Джима? — Нет. — Ни разу за десять тысяч лет? — Пытаешься поймать меня на слове? Думаешь, тебе это удастся? Все еще не веришь, что я говорю правду? Холли взглянула на Джима, и он покачал головой, показывая, что она выбрала неподходящее время для споров. Осмотрительность — не только лучшая часть мужества, но и их единственная надежда на спасение. Он спросил себя, умеет ли существо читать его мысли или даже проникать в мозг и вводить свою программу. Скорее всего нет. Если бы пришелец знал, что они все еще считают его сумасшедшим, спокойной беседе давно бы пришел конец. — Извини, — сказала Холли. — У меня и в мыслях не было ловить тебя на слове. Просто мы хотим узнать о тебе побольше. Все это так удивительно! Если наши вопросы покажутся тебе обидными, пойми, пожалуйста, что это без злого умысла, по незнанию. Друг ничего не ответил. Промежутки между вспышками стали помедленнее, и, хотя Джим понимал: действия инопланетного существа не могут укладываться в обычные рамки человеческого поведения, ему показалось, что настроение пришельца изменилось и в красочном движении пятен света кроется настоящее самодовольство. Похоже, Друг переваривает слова Холли, решая, поверить или не поверить в их искренность. Наконец они услышали его заметно подобревший голос: — Задавайте ваши вопросы. Холли заглянула в блокнот и спросила: — Ты когда-нибудь освободишь Джима от этой работы? — Он хочет, чтобы его освободили? Холли испытующе посмотрела на Джима. — Нет, если я действительно делаю добро, — сказал Джим и удивился собственному ответу, вспомнив испытания, через которые ему пришлось пройти за последние месяцы. — Конечно, добро. Как ты можешь в этом сомневаться? Однако неважно, веришь ты в мои добрые намерения или нет, я никогда тебя не отпущу. Зловещий тон Друга внес новую сумятицу в сердце Джима, который только что с облегчением узнал, что не спасает будущих воров и убийц. — Но зачем тебе… — начала Холли. — Есть еще одна причина, почему я выбрал Джима Айренхарта для этой работы. — Какая? — быстро спросил Джим. — Ты искал ее. — Я? — Тебе была нужна цель. Джим понял. Страх перед Другом не уменьшился, но желание пришельца помочь ему тронуло до глубины души. Придать смысл его пустой сломанной жизни — значило то же самое, что спасти Билли Дженкинса или Сузи Явольски, хотя они были избавлены от смерти мгновенной, а ему угрожало медленное и мучительное угасание души. Слова Друга говорили о том, что странному существу знакомо чувство сострадания, а Джим заслужил сочувствие, когда после самоубийства Ларри Какониса впал в тяжелую непроходящую депрессию. Даже если заверения пришельца — сплошная ложь, у него на глаза навернулись слезы благодарности. — Почему ты ждал десять тысяч лет, чтобы выбрать кого-нибудь вроде Джима для помощи человечеству? — спросила Холли. — Нужно было изучить ситуацию, собрать информацию, проанализировать и только потом решить, насколько оправдано вмешательство. — И для этого тебе понадобилось десять тысяч лет? Но зачем? Вся наша письменная история столько не насчитывает! В ответ — молчание. Холли повторила вопрос. Последовала долгая пауза, и наконец Друг сказал: — Я ухожу. Затем, видимо, опасаясь, что проявление сочувствия может быть расценено как слабость, голос внушительно добавил: — Попытаетесь уйти — умрете. — Когда ты вернешься? — Не спите. — Уже два часа ночи! — Сны — двери. — Черт возьми! Что же, нам вообще не спать? — взорвалась Холли. Свечение в стенах погасло. Друг ушел.* * *
Где-то смеются. Слушают музыку. Танцуют. Любят. Круглая комнатка на чердаке мельницы, некогда использовавшаяся под склад, была до потолка заполнена дурными предчувствиями и ожиданиями беды. Холли ненавидела свою вынужденную беспомощность. Как бы ни складывалась жизнь, она всегда была человеком действия. Если не нравилась работа — бросала и искала новую. Если человек переставал ее интересовать — без колебаний шла на разрыв. Она привыкла убегать от проблем: закрывала глаза на коррупцию в журналистике — трудно быть кристально честной, когда все вокруг продается и покупается, старалась не думать об ответственности за судьбу близких, меняла города, работу, знакомых… Но, по крайней мере, бегство от проблем — тоже способ действия, а теперь ее лишили последней надежды. Все-таки в знакомстве с Другом есть свои плюсы: крути не крути, а от этой проблемы он убежать не позволит. Спустя некоторое время они с Джимом занялись обсуждением недавнего визита и стали просматривать оставшиеся вопросы, внося в них изменения и дополнения. Заключительная часть беседы с Другом дала пищу для серьезных размышлений, хотя о конкретных результатах говорить не приходилось — оба они знали, что на слова Друга нельзя полностью положиться. В четвертом часу не осталось сил ни стоять, ни сидеть. Они сдвинули спальные мешки и, вытянувшись бок о бок, уставились на купол потолка. Лампу, чтобы не заснуть, установили на самую сильную яркость. Дожидаясь возвращения Друга, они лежали, держась за руки, и негромко обменивались ничего не значащими фразами — говорили о чем угодно, лишь бы не молчать. Трудно задремать посреди разговора: собеседник сразу заметит отсутствие ответа и ощутит, как слабеет ладонь засыпающего. Холли думала, что бессонная ночь для нее — пара пустяков. В студенческие годы, готовясь к экзамену, она легко выдерживала до полутора суток, а в начале карьеры, когда журналистика еще что-то для нее значила, не раз просиживала всю ночь напролет, роясь в книгах, прослушивая магнитофонные записи или подыскивая нужное слово для заголовка статьи. В последнее время у нее случались приступы бессонницы. Одним словом, по натуре она — настоящая «сова». Как раз то, что нужно. Однако, хотя после утреннего пробуждения в Лагуна-Нигель не прошло и суток, Холли с трудом боролась с дремотой. Казалось, кто-то невидимый вкрадчиво нашептывает на ухо: «Спать, спать, спать». Прошедшие дни потребовали от нее уйму сил и энергии, усталость берет свое. К тому же ей не удавалось выспаться несколько дней подряд: мучили кошмары. «Сны — двери». Сны таят в себе опасность, спать нельзя. Черт возьми, плевать на усталость, спать — нельзя. Холли изо всех сил старалась поддерживать затухающую беседу, хотя порой ловила себя на мысли, что плохо понимает, о чем они говорят. «Сны — двери». Такое впечатление, что ей вкололи наркотик или Друг, предупредив об опасности сна, незаметно давит на усыпляющую кнопку в ее мозгу. «Сны — двери». Холли попыталась справиться с наступающим беспамятством, но поняла, что у нее нет сил даже пошевелиться или открыть глаза. Глаза закрыты. Она только сейчас это заметила. «Сны — двери». Никакой паники. Холли проваливалась в пустоту, хотя слышала, что сердце бьется все громче и быстрее. Ладонь разжалась. Она ждала, что Джим откликнется, разбудит ее, но, почувствовав, как слабеют его пальцы, поняла: он тоже погружается в сон. Холли окунулась в темноту. И ощутила на себе чужой взгляд. В ней всколыхнулись противоречивые чувства — облегчение и страх. Что-то должно случиться. Она знала: что-то обязательно произойдет. Но ничего не случилось. Ее окружала непроницаемая тьма. Вдруг Холли поняла, что должна выполнить задание. Наверное, произошла ошибка. Задания получал Джим, а не она. Задание. Ее задание. Ей дали задание. Важное. От выполнения которого зависит ее собственная жизнь. И жизнь Джима. Самое существование мира зависит от того, как она выполнит задание. Кругом темнота. Холли проваливалась в нее, как в черную воду. Медленно погружалась в забытье и уже ни о чем не думала. Ей приснился сон. По сравнению с ним все прошлые кошмары выглядела жалкой тенью. На этот раз Враг и мельница отсутствовали. Но проходящие перед ее мысленным взором картины были нарисованы с поистине иезуитскими подробностями, а ужас и мука, обрушившиеся на ее сознание, оглушили и застали Холли врасплох; по сравнению с ними даже полет на 246-м рейсе казался детской забавой. Холли открыла глаза и увидела, что лежит под столом на кафельном полу. Рядом — металлический стул с оранжевой пластиковой спинкой. Под ним — горка рассыпанной жареной картошки и гамбургер, из которого вывалилась начинка: мясо и листья салата, политые темно-красным кетчупом. Еще дальше лежит старая леди. Ее лицо обращено к Холли. Немигающий взгляд скользит мимо круглых металлических ножек стула, мимо золотистой картошки и растерзанного гамбургера. Женщина смотрит в одну точку, и в ее глазах застыло удивление. Вдруг Холли замечает, что вместо одного глаза у старушки дыра, и из нее вытекает струйка крови. О Боже! Простите меня, леди, простите. Холли слышит страшный непонятный звук: — Та-та-та-та-та-та. Кричат люди, много людей. — Та-та-та-та-та-та. Вопли понемногу стихают, слышен звон битого стекла, треск ломающегося дерева, чей-то яростный крик, переходящий в медвежий рев. — Та-та-та-та-та-та. Это — звуки выстрелов. Теперь Холли ясно различает тяжелый ритмичный треск автоматных очередей. Она хочет выбраться из-под стола и перекатывается на другой бок, потому что не может заставить себя ползти мимо старой женщины с простреленным глазом. Но прямо перед ней лежит девочка лет восьми, и Холли в оцепенении смотрит на ее розовое платье, белые чулки и черные маленькие туфельки. Маленькая белокурая девочка в черных туфельках, маленькая девочка, маленькая девочка, маленькая девочка в белых чулочках, маленькая девочка, маленькая девочка… Маленькая девочка, у которой нет половины лица. Белая окровавленная улыбка. Разбитые зубы, обнаженные в кривой окровавленной улыбке. Вопли, стоны, всхлипы. И опять: — Та-та-та-та-та-та. Этот кошмар никогда не кончится. Снова и снова отвратительный страшный звук:— Та-та-та-та-та-та. Скорее прочь от мертвой старушки и девочки с половиной лица. Ладони скользят по теплой картошке, натыкаются на горячий рыбный бутерброд, шлепают по липкой горчице. Холли на четвереньках ползет под столами, пробирается между перевернутыми стульями. Ее рука попадает в ледяную лужицу разлитой на полу кока-колы, и на стенке бумажного стаканчика Холли видит надпись: «Утенок Дикси». Значит, она в кафе «Дворец Утенка Дикси». Это одно из ее любимых мест. Наверное, они поняли, что кафе не место для криков. Но кто-то всхлипывает и стонет, кто-то жалобно молит о помощи. Холли выбирается из-под стола и в нескольких шагах от себя замечает странно одетого человека. Человек стоит к ней боком и Холли не видит его лица. Он похож на ряженого во время веселого празднования Хэллоуина. Но это не праздник. Однако на мужчине маскарадный костюм: армейские ботинки и брюки, черная майка и берет вроде тех, что носят «зеленые береты», только черного цвета. Военная форма — явная бутафория: не бывает солдат с такими толстыми животами и недельной щетиной. Солдаты обязаны бриться. Странный человек просто вырядился под десантника. Перед ним на коленях молоденькая официантка. Холли запомнила ее рыжие волосы и улыбку, когда девушка подмигнула ей, принимая заказ. Она склонилась перед человеком в военной форме, опустила голову, словно в молитве. Холли явственно слышит ее умоляющий голос: — Не надо, пожалуйста, не надо, пожалуйста, пожалуйста… Мужчина что-то выкрикивает о ЦРУ и шпионах, засевших в подвале кафе. Затем он умолкает и, уставившись на рыжеволосую девушку, приказывает: — Посмотри мне в глаза. — Пожалуйста, не надо, — молит та о пощаде. — Посмотри мне в глаза, — снова требует он. Девушка испуганно поднимает голову, и человек в военной форме спрашивает: — Ты думаешь, я идиот? Официантка исступленно мотает головой. — Пожалуйста, не надо, я ничего не знаю. — Знаешь, сука! — яростно рычит убийца и целится девушке в лицо. Ствол автомата опускается и застывает в нескольких дюймах от ее щеки. Она невнятно всхлипывает: — А-а-а-а… — Цэрэушница! — орет «черный берет». Холли кажется: еще миг — и он расхохочется и отбросит в сторону автомат, все актеры, которые играют мертвых, встанут и тоже засмеются, на сцену выйдет хозяин кафе и раскланяется, как после окончания маскарадного представления. Но это не Хэллоуин. Человек в военной форме давит на курок. — Та-та-та-та. Рыжеволосая девушка исчезает. Холли угрем бросается назад и ползет прочь от страшного места. Только бы не попасться ему на глаза. Человек в военной форме — сумасшедший, самый настоящий сумасшедший. Вся измазанная в еде, падая на мокром полу и скользя в луже липкой крови, Холли пробирается мимо девочки в розовом платье. Только бы он не услышал. — Та-та-та-та-та. Должно быть, сумасшедший стреляет в другую сторону. Ни одна пуля не ударяется рядом с ней, и Холли протискивается между стулом и телом мужчины с выпущенными кишками, продолжая двигаться к выходу. На улице завывают полицейские сирены, сейчас подоспеют копы и… Позади нее с грохотом переворачивается стол. Холли с ужасом оглядывается. Убийца заметил ее и бросился в погоню. Он идет по залу и неумолимо приближается, отодвигая столы, пиная подвернувшиеся под ногу стулья. Холли перебирается через ноги мертвой женщины, оказывается в углу и натыкается еще на один труп. Она в углу, зажатая мертвецами, и ей не выбраться отсюда. Сумасшедший настигает ее. Холли не хочет видеть его страшный оскал, не хочет смотреть на дуло автомата, как смотрела рыжеволосая девушка. Она отворачивается. Такого пробуждения Холли еще не знала. Она проснулась не от крика или беззвучного стона, а от того, что стала задыхаться. Свернувшись клубком, Холли корчилась от спазмов в пустом желудке и захлебывалась несуществующей рвотой, которая, точно омерзительный кляп, забила ей горло. Джим лежал на боку. Его слегка согнутые ноги вызвали у нее в памяти образ зародыша в материнской утробе. Он спал спокойно и дышал ровно. Холли с трудом отдышалась и села. Ее не просто трясло, казалось, гремят все ее кости, с грохотом ударяясь друг о друга. Она порадовалась, что с прошлого вечера не ела ничего, кроме пирожных. Иначе бы ее одежда приобрела дополнительные украшения. Холли наклонилась вперед и некоторое время сидела, сгорбившись, закрыв лицо руками. Мало-помалу она успокоилась: лопатки перестали ходить ходуном, и только внезапная дрожь пробегала по коже. Когда она наконец подняла голову, то первое, что бросилось в глаза, был свет, пробивавшийся в комнату сквозь узкие окна. Тусклый, грязно-розовый, слабый отсвет будущего ярко-синего неба — и все-таки это был солнечный свет. Неизвестно, удастся ли ей дожить до следующего дня. Холли посмотрела на часы: десять минут седьмого. Рассвет только что наступил. Она проспала не больше двух — двух с половиной часов. Лучше бы совсем не спать. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Холли заподозрила, что Друг, используя свои телепатические возможности, насильно заставил ее заснуть. Необычайная достоверность ночного кошмара убедила Холли, что пришелец нарочно прокрутил у нее в мозгу ролик с отвратительным фильмом. Но зачем? Джим что-то пробормотал во сне, заворочался и снова затих. Его дыхание было глубоким, но ровным. Если ему и снится сон, то явно не тот, что видела она. Иначе бы он корчился и стонал, как мученик на дыбе. Холли в который раз перебирала в голове детали ночного кошмара, спрашивая себя, не узнала ли она свою судьбу. Возможно, Друг хотел предупредить, что ей суждено умереть от пули безумного маньяка на заляпанном грязью и кровью полу «Дворца Утенка Дикси». Но Холли никогда не слышала о кафе с таким названием и даже представить не могла более нелепого места для смерти. Она живет в обществе, где улицы переполнены жертвами наркобизнеса. У любого наркомана может «поехать крыша», и, схватив автомат, он бросится в ближайшую закусочную, чтобы отстреливать цэрэушников, плетущих свои шпионские сети. Она достаточно долго проработала в газете и видела не менее ужасные и трагические случаи. Еще пятнадцать минут таких размышлений, и Холли совершенно расхотелось вспоминать о пережитом кошмаре. Она попыталась все разложить по полочкам, но потерпела неудачу и, чем дольше думала, тем сильнее запутывалась. Однако кровавая сцена убийства не стерлась из памяти, как забываются обычные сны, а стала ярче и отчетливей. Холли собрала всю свою волю, чтобы отвлечься от страшных воспоминаний. Джим продолжал спать. Она было хотела разбудить его, но потом решила, что ему, как и ей, нужен отдых. Не похоже, чтобы Враг пытался использовать сон Джима в качестве двери. Известняковые стены и дубовые доски пола выглядели вполне обычно, и Холли не стала тревожить спящего. Когда она осматривала комнату, ей на глаза попался желтый блокнот, лежавший на полу возле дальнего окна. Она швырнула его вчера вечером, когда Друг, вместо того чтобы заговорить, попытался письменно ответить сразу на все вопросы. Она не успела спросить и половины из того, что хотела, и теперь ей пришло в голову просмотреть блокнот с ответами Друга. Холли тихонько отодвинулась от Джима, встала и прошлась по комнате, осторожно пробуя каждую половицу, чтобы убедиться, что они не заскрипят под тяжестью ее шагов. Она нагнулась за блокнотом и услышала звук, от которого ее ноги словно вросли в пол, — глухие ритмичные удары, похожие на биение сердца. Она посмотрела на стены, подняла глаза на сводчатый потолок. Яркое сияние лампы и льющийся из окон дневной свет не оставляли сомнений: известняк — это всего лишь известняк, а дерево — дерево. — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Звук был глухой, негромкий. Он рождался вне стен мельницы, шел откуда-то издалека. Казалось, кто-то, прячущийся за вершинами коричневых гор, ритмично постукивает по коже барабана: — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Холли знала, что барабан здесь ни при чем. Так бьется сердце Врага, и тройной звук всегда возвещает появление жуткого монстра. Точно так же, как колокольчики сообщали о приходе Друга. Она прислушалась — звук почему-то исчез. Холли вся обратилась в слух. Тишина. Она с облегчением взяла блокнот и трясущимися руками стала перелистывать мятые страницы, которые гремели при малейшем прикосновении. Джим мерно посапывал, и звук его дыхания отдавался в пустой комнате негромким эхом. Холли прочла первую страницу, затем вторую. Если не считать вопросов, которые возникли у нее по ходу беседы, письменные ответы Друга ничем не отличались от того, что он сказал. Она быстро пролистнула третью и четвертую страницы, узнавая имена спасенных Джимом людей: Кармен Диас, Аманда Каттер, Стивен Эймс, Лора Ленаскиан… За длинным списком следовали описания великих деяний, которые им суждено совершить в будущем. — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Холли встрепенулась и резко подняла голову. Звук доносился издалека, но был громче, чем в прошлый раз. Джим застонал во сне. Холли отступила от окна, намереваясь его разбудить, но страшный звук снова пропал. Очевидно, Враг где-то поблизости, но ему не удается проникнуть в сон Джима. Решив, что Джиму нужно во что бы то ни стало отдохнуть, Холли вернулась на прежнее место. Пристроившись у окна, она продолжала проглядывать блокнот. Перевернула пятую страницу — и почувствовала, как спина покрылась гусиной кожей. Осторожно, стараясь не шуметь, перелистнула шестую, седьмую страницы. Исписанные неровным почерком Друга, они были похожи как две капли воды. Вместо ответов на свои вопросы Холли увидела две фразы, повторяющиеся на каждой странице по три раза без всяких знаков препинания: «Он любит тебя Холли он убьет тебя Холли он любит тебя Холли он убьет тебя Холли он любит тебя Холли он убьет тебя Холли». Она с первого взгляда поняла, что «он» может относиться только к Джиму, и сосредоточилась на второй фразе, пытаясь разгадать ее страшный смысл. Внезапно ее осенило: Друг предупреждает, что ей грозит опасность: Возможно, пришелец возненавидел Холли За, то, что она привезла Джима на мельницу, подталкивает к поиску ответов и тем самым отвлекает от выполнения великой миссии. Если Друг — разумная половина внеземного сознания — проникает в мозг Джима и велит ему спасать людей, разве не может Враг — вторая половина — войти в его мозг и приказать убить? Вместо того чтобы материализовываться в виде монстра, гораздо проще подчинить своему влиянию Джима и превратить его в машину смерти. Сумасшедший ребенок, скрывающийся в личности инопланетянина, придет в восторг от подобной идеи. Холли встряхнула головой, точно отгоняя назойливую муху. Нет. В это невозможно поверить. Джиму приходится убивать, чтобы спасти людей. Но он не способен на убийство невинных. Никакие инопланетные силы не сумеют заставить Джима изменить самому себе. У него доброе сердце, и даже самые могущественные пришельцы бессильны перед их любовью. Но откуда у нее такая уверенность? Зачем выдавать желаемое за действительность? Телепатические способности Врага настолько чудовищны, что прикажи он ей сейчас броситься в пруд — и она, не раздумывая, прыгнет в воду. Холли вспомнила Нормана Ринка. Хозяйственный магазин в Атланте. Джим буквально изрешетил Ринка и не мог остановиться, пока не всадил в окровавленный труп все восемь зарядов. — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Все еще издалека. Джим тихонько застонал. Холли отпрянула от окна и уже было окликнула его, чтобы разбудить, но вдруг остановилась как вкопанная — возможно. Враг уже достиг своей цели. «Сны — двери». Она тогда не поняла, что хотел сказать Друг, и подумала: эти слова для пущего эффекта — нечто вроде театрального звона колокольчиков. Но, похоже, предупреждение Друга означало, что Враг способен проникнуть в мозг спящего. Может быть, на этот раз он не станет прятаться в стене, а, словно желая поглумиться, явится ей в облике Джима, превратив его в орудие убийства. — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Звук приближается, становится громче… Холли почувствовала, что сходит с ума. Ей грозит самая настоящая шизофрения. Еще немного — и она будет ничем не лучше Друга и его второй половины. Отчаянные попытки разобраться в поступках внеземного разума наталкивались на бесконечное число вариантов и каждый раз заходили в тупик. От Вселенной, где все неопределенно, жди любой неожиданности. Что удивительного, если ночной кошмар легко обретает черты реальности. В зыбкой Вселенной реальность — тот же сон, а размышления о подобных вещах в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти, могут довести до умоисступления. — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Холли ждала, не в силах даже пошевелиться. Глухие удары постепенно затихли. Судорожно глотая воздух, Холли отступила и прижалась спиной к стене. Известняка она сейчас боялась меньше, чем Джима. Не лучше ли разбудить его, пока не слышно страшного стука? Может быть, Враг вторгается в спящее сознание только тогда, когда раздаются глухие удары сердца чудовища? Холли застыла в полнейшей растерянности. Взгляд невольно наткнулся на блокнот, который она держала в руке. Несколько страниц перелистнулось, и вместо страшной литании: «ОН ЛЮБИТ ТЕБЯ ХОЛЛИ. ОН УБЬЕТ ТЕБЯ ХОЛЛИ» ей на глаза попался список спасенных Джимом людей с красочными доказательствами их гениальности и исключительности. Холли увидела фамилию Стивена Эймса и сообразила: он единственный, о чьей судьбе отказался поведать Друг. Эймс запомнился ей, потому что оказался самым старым в списке — пятьдесят семь лет. Она прочла идущий ниже текст и ощутила, как в позвоночник вонзается ледяной стержень страха. Стивена Эймса спасли не потому, что ему суждено стать отцом будущего великого дипломата, художника или целителя, не потому, что его последующая жизнь должна послужить процветанию человечества. Причина спасения раскрывалась в двенадцати коротких словах, и более страшных слов ей читать не приходилось: «ПОТОМУ ЧТО ОН ПОХОЖ НА МОЕГО ОТЦА, КОТОРОГО Я НЕ СУМЕЛ СПАСТИ». Не «похож на отца Джима», как сказал бы Друг. Не «которого он не сумел спасти», как должен был бы сказать пришелец. А «МОЕГО ОТЦА. Я НЕ СУМЕЛ. Я».
Под ногами у Холли разверзлась страшная бездна. Зыбкая Вселенная дарит ей совершенно новый и невероятный вариант. Можно навсегда забыть о звездолете на дне пруда, об астронавтах, прячущихся на ферме десять тысяч лет. Их не существует и никогда не существовало. Но Друг и Враг — реальность, только они не половины, а трети личности, которая, обладая непостижимыми способностями божества, подобно Холли, заключена в земную оболочку. И злое и светлое начало живет в одном человеке — Джиме Айренхарте. Это он в десятилетнем возрасте столкнулся со страшной бедой, и он — ценой огромных усилий, окрыленный мечтою о звездных богах, — сумел вернуть себя к жизни. Он — смертельно опасный сумасшедший, желающий ее смерти, и одновременно добрый, умный человек, который ее любит. Не ясно только, откуда взялись удивительные возможности Джима и почему он не знает, что таинственная сила — в нем самом, а не в мифическом пришельце. Открытие того, что в Джиме Айренхарте заключены все концы и начала, не только не упростило дело, а, наоборот, вызвало новый поток вопросов. Холли не могла разгадать природу поразительного явления, хотя и не сомневалась, что наконец докопалась до истины. У нее еще будет время над этим подумать, если, конечно, она останется в живых. — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Доносятся издалека глухие удары. Холли, затаив дыхание, слушала, как звук приближается и становится громче. — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Джим зашевелился во сне и причмокнул губами, совсем как ребенок, которому снится сон. Но его сознание раздроблено на три части, две из которых наделены огромной силой, и одна из них смертельно опасна. И с каждой секундой опасность растет. — Лаб-даб-ДАБ… Холли прижалась к каменной стене. Сердце так сильно прыгало в груди, что, казалось, застревало в гортани, и она все глотала и не могла проглотить застрявший в горле ком. Удары затихли. Наступила тишина. Холли мелкими-мелкими шажками двинулась вдоль стены, направляясь к тяжелой, окованной железом двери. По пути она осторожно протянула руку и, нащупав ремешок от своей сумки, потащила ее к себе. Расстояние до цели сокращалось. Но с каждым шагом в ней крепла уверенность, что уйти не удастся. Она представила, как дверь с треском захлопывается у нее перед носом, Джим просыпается, садится на полу и озирается по сторонам. Взгляд красивых синих глаз обжигает холодом и яростью. Холли крадучись достигла порога и, продолжая наблюдать за Джимом, бесшумно выскользнула за дверь. Она боялась повернуться к нему спиной, но угроза скатиться по крутым узким ступенькам заставила ее оторвать взгляд от лица спящего и опрометью броситься вниз по лестнице. Несмотря на серый утренний свет, наметивший контуры окон, первый этаж встретил ее глухой предательской темнотой. Она не взяла фонарь и пробиралась на ощупь, чувствуя, как вся исходит адреналином. Боясь наткнуться на что-то и с грохотом обрушить гору какого-нибудь хлама, Холли прижалась к стене спиной и боком медленно двинулась туда, где, по ее мнению, должен находиться выход. Оглянувшись назад, она с трудом различила нижние ступеньки лестницы, по которой она только что спустилась. Вытянув вперед правую руку, Холли нащупала угол, сделала еще несколько шагов в потемках и оказалась в маленькой пристройке. Вчера вечером в узком тесном коридорчике была темнота, хоть глаз выколи, но сейчас сквозь приоткрытую дверь внутрь просачивался бледно-серый отсвет. Утро было хмурым, не по-августовски прохладным. Ровная поверхность пруда выглядела серой и будничной. Еле слышно звенели насекомые, их писк напоминал слабые радиопомехи в приемнике, включенном на самую малую громкость. Холли подбежала к «Форду» и быстро открыла дверь. Мысль о ключах заставила ее помертветь от ужаса. Она лихорадочно зашарила по карманам, и, на счастье, они оказались в джинсах, куда она их сунула после вчерашнего похода в уборную. Четыре ключа на медной цепочке: от фермы, от дома в Лагуна-Нигель и два от машины. Швырнув сумку и блокнот на заднее сиденье, Холли поспешно села за руль, но не решалась захлопнуть дверь из опасения разбудить Джима. Она представила, как он выскочит из двери мельницы и, подчиняясь приказу Врага, в два счета вытащит ее из машины. Трясущимися руками Холли выбрала из связки нужный ключ. После нескольких попыток вставила его в замок зажигания. Повернула. Выжала педаль акселератора и облегченно вздохнула, услышав, как заработал двигатель. Она захлопнула дверь и задним ходом поехала по узкой дорожке, идущей вокруг пруда. Колеса с ревом прокручивались, щебенка летела во все стороны и с грохотом барабанила по капоту. Добравшись до участка между домом и сараем, где можно было развернуться, Холли, вместо того чтобы выехать на шоссе, нажала на тормоза и стала смотреть на мельницу, которая осталась на другом берегу пруда. Бежать некуда. Где бы она ни спряталась, он все равно ее отыщет. Он может видеть будущее, хотя и не так хорошо, как хотелось бы Другу. Может превратить стену в живого монстра, сделать известняк прозрачным и светящимся, может послать за ней дьявольское чудовище. Ему ничего не стоит выследить ее и схватить. Он вовлек Холли в свои безумные помыслы и не позволит оставить предназначенную сценарием роль. Друг и Джим могут разрешить ей уйти, но Враг жаждет крови. Может быть, ей повезет, и добрые силы остановят смертельный удар, укроют ее и спасут. Вряд ли. К тому же нельзя всю оставшуюся жизнь шарахаться от стен, опасаясь, что одна из них вдруг вздуется и откусит тебе руку. И есть еще одна причина, почему она не может его бросить. Ему нужна ее помощь.
Часть III. ВРАГ
С детства был я отличенОт соседских ребят.Мир во странном обличьеВидел странный мой взгляд.Эдгар Аллан По «Одиночество»
Из биения медиЛютой мглы ледянойРазгорается в сердцеХолодный огонь.Мыслей черная ярость,Стали замерший стон,Приближение к смерти —Холодный огонь.От безжалостной жизниНеприступный заслон,Путь спасенья от смерти —Холодный огонь.«Книга Печалей»
29 АВГУСТА
Глава 1
Сидя в машине, Холли со смешанным чувством страха и радостного возбуждения рассматривала старую мельницу. Она сама поражалась произошедшей в ней перемене настроения. Наверное, душевный подъем вызван тем, что впервые в жизни Холли ощутила ответственность за судьбу другого человека. И это не мимолетный каприз. Она знала, что посвятит свою жизнь исцелению Джима и сделает все возможное и невозможное, чтобы они всегда были вместе. Скажи сейчас Джим, что она свободна и вольна поступать, как ей вздумается, и пусть даже у нее не будет сомнения в искренности его слов, — она все равно останется, потому что в нем — ее спасение, а в ней — его. Мельница, словно часовой, застыла тенью на пепельно-сером небе. Джим так и не вышел. Наверное, еще спит. В его жизни осталось немало тайн, но многое уже открылось Холли в истинном свете. Иногда, как в случае с отцом Сузи Явольски, ему не удавалось спасти людей, потому что помогали Джиму не могущественные божества или пришельцы, наделенные даром предвидения, а собственные феноменальные, но все-таки несовершенные способности. Джим — не Бог, а даже лучшие из людей сталкиваются с пределом возможного. Посчитав, что гибель родителей лежит на его совести, Джим решил оправдать себя в собственных глазах, спасая других людей: «ОН ПОХОЖ НА МОЕГО ОТЦА, КОТОРОГО Я НЕ СУМЕЛ СПАСТИ». Теперь понятно, почему Враг выжидает, когда Джим заснет: Джима самого пугает кипящая в нем ярость, и, пока он бодрствует, ему удается подавлять в себе темные слепые силы. В Лагуна-Нигель монстр возник, когда он спал, а когда проснулся, чудовище пробило в потолке дыру и испарилось, точно сон. «Сны — двери», — предупреждал Друг, а вернее, сам Джим. Сны — действительно двери, но не для страшных и инопланетных паразитов мозга, а двери, открывающиеся в глубины подсознания, которые скрывают человеческие слабости и страдания. У нее в руках и другие части головоломки. Вот только непонятно, как соединить их в единое целое. Холли злилась на себя за то, что с самого начала выбрала не правильную тактику. Джим сказал, что он только орудие в руках могущественных сил, и она, вместо того чтобы копнуть поглубже, приняла его слова на веру. Еще обвиняла Джима в неумении брать интервью, а сама оказалась ничуть не лучше. Холли всегда возмущала его готовность слепо верить всему, что скажет Друг. Теперь она поняла: появление Друга вызвано обычной причиной, порождающей у людей раздвоение личности: желанием уйти от бед и тревог окружающей действительности. Одинокий испуганный ребенок, которому едва исполнилось десять лет, попытался найти убежище в мире собственных фантазий, создав себе Друга — волшебное воплощение детских надежд. Стоило ей надавить на Друга, как Джим сразу воспротивился натиску: логика грозила разрушить мечту, в которой он отчаянно нуждался. По той же причине — из боязни разрушить мечту — Холли не решалась задать вопросы, подвергающие сомнению самое существование высших сил, управляющих поступками Джима. Он вошел в ее жизнь, как герой из девичьих грез. Сцена удивительного спасения Билли Дженкинса никогда не изгладится у нее из памяти. До встречи с Джимом Холли и представить не могла, как сильно она в нем нуждается. Поэтому и не стала задавать вопросы, как сделал бы на ее месте любой настоящий репортер, а оставила Джима в покое, боясь оттолкнуть его своей настойчивостью. Теперь вся надежда на правду. Джима исцелить нельзя, если не разобраться, откуда взялись эти странные фантазии и каким образом ему удалось развить в себе такие сверхъестественные способности. Пальцы непроизвольно стиснули руль. Нужно действовать, но как — она не знала. И ни-1 кого вокруг, к кому можно обратиться за помощью. Ответы на ее вопросы лежат в прошлом или в подсознании Джима. И то и другое сейчас равно недостижимо. Но затем Холли осенило: Джим уже дал ей ключ к разгадке оставшейся тайны. В Нью-Свенборге он предложил покатать ее по городу. Тогда она расценила его действия как попытку отсрочить поездку на ферму, но сейчас ситуация выглядит в ином свете: экскурсия по городу, где прошли детские годы Джима, принесла бы Холли ряд важнейших открытий. Ностальгические воспоминания о прошлом позволят проникнуть в тайны, без разгадки которых нельзя помочь Джиму. Джиму необходима ее помощь. Часть его существа понимает, что он в плену у шизофрении, и хочет избавления от болезненных фантазий. Единственная надежда, что ему удастся выдержать натиск Врага до тех пор, пока они не узнают, что нужно делать. Злое начало в Джиме сделает все, чтобы ей помешать. Понимая, что успех Холли будет означать его смерть. Враг не упустит случая с ней расправиться. Если им с Джимом суждено выжить и прожить жизнь вместе, их будущее заключено в прошлом, а прошлое надо искать в Нью-Свенборге. Холли круто повернула руль вправо, собираясь выехать на шоссе, но внезапно остановилась и снова взглянула на мельницу. Джим должен сам принять участие в своем исцелении. Бесполезно доискиваться до истины, если он потом ей не поверит. Нужно, чтобы он все увидел своими глазами. Она любит его. Она боится его. Она любит и ничего не может с собой поделать. Любовь к Джиму стала ее плотью и кровью. А страхи развеются, стоит только устранить их причину. Удивляясь собственной смелости, Холли поехала вдоль берега пруда и остановила «форд» у двери мельницы. Она три раза нажала на гудок и снова посигналила. В дверном проеме появился Джим, щурясь от серого утреннего света. Холли открыла дверь и вышла из машины. — Ты проснулся? — А что, разве я похож на лунатика? — спросил он, приближаясь. — Что случилось? — Хочу убедиться, что ты проснулся, полностью проснулся. Джим остановился в нескольких шагах от нее. — Давай я для верности засуну голову в выхлопную трубу, а ты пару минут погазуешь. Что случилось, Холли? — Нам есть о чем поговорить. Садись. Нахмурившийся Джим забрался в машину и устроился рядом с ней на сиденье. — Похоже, речь пойдет о не слишком приятных вещах. — Угадал, приятного мало. Крылья мельницы вздрогнули и, роняя гнилые щепки, с треском и скрежетом начали вращаться. — Прекрати, — крикнула она Джиму в испуге, что пробуждение старой мельницы — только прелюдия к появлению Врага. — Я знаю, тебе не понравится то, что я скажу, но, ради Бога, не пытайся меня остановить. Джим не ответил. Он зачарованно следил за полетом деревянных крыльев и, казалось, ничего не слышал. Мельница крутилась все быстрее. — Не надо, Джим! Он наконец услышал и повернулся к Холли, искренне недоумевая, почему она так волнуется. — Что ты сказала? Раз, раз, раз. Все быстрее и быстрее. Словно огромное колесо дьявольской колесницы. — Черт! — Вне себя от страха Холли завела машину, и та рванулась прочь от мельницы. — Куда мы едем? — встревожился Джим. — Не бойся, это рядом. Для Джима мельница — источник наваждений. Холли решила продолжить разговор в более удобном месте, откуда каменная башня будет не видна. Развернувшись перед домом, она выехала на шоссе и остановилась. Холли опустила боковое стекло. Он последовал ее примеру. Она заглушила двигатель и повернулась к Джиму. Несмотря на все, что она о нем знала, Холли с трудом удерживалась, чтобы не коснуться его щеки, приласкать, провести ладонью по волнистым каштановым прядям. Позапрошлой ночью он подарил ей мир ни с чем не сравнимых эротических переживаний, а сегодня его вид вызвал у нее прилив материнских чувств, но общение с ним может довести досамоубийства. «Боже мой, Торн, ведь он сказал, что убьет тебя!» — подумала Холли. Но он также сказал, что любит ее. — Почему все так сложно? — Перед тем как начать… Я хочу, чтобы ты знал: я тебя люблю, Джим. Более глупой фразы невозможно и представить. Звучит совершенно неискренне. Слова бессильны передать то, что она чувствует, потому что в ее смятенном сердце удивительно смешались любовь, тревога и надежда. Однако она повторила: — Я действительно очень люблю тебя, Джим. Он погладил ее по руке и улыбнулся довольной улыбкой: — Ты замечательная, Холли. Он не сказал: «Я тоже тебя люблю, Холли», но она и не тешила себя романтическими иллюзиями. Все не так просто. Любить Джима Айренхарта — все равно что одновременно любить мятущегося Супермена и Джека Николсона во всех его ролях. Все не так просто. Но по крайней мере не соскучишься. — Когда вчера утром в мотеле я подошла к клерку, чтобы оплатить счет, ты сидел в машине и смотрел на меня. Я вдруг подумала: ты не сказал, что любишь меня. Я собиралась ехать с тобой на край света, оказывалась в твоей власти — а ты промолчал. Но потом мне пришло в голову, что я сама не произносила этих слов, боялась стать уязвимой, я хотела себя защитить. Теперь с этим покончено. Я, словно канатоходец, ступаю на тонкий трос, и внизу никакой страховки. Все это потому, что ночью ты сказал, что любишь меня. Смотри, Джим, такими словами не бросаются. На его лице появилось удивленное выражение. — Я знаю, ты не помнишь этого, но поверь, я говорю правду. Тебе нелегко дается слово, которое начинается на букву «л». В детстве ты потерял родителей и не хочешь сближаться с людьми, потому что боишься, что не перенесешь еще одной потери. Как тебе мой мгновенный психоанализ? До Фрейда мне, конечно, далеко. Что-то еще хотела тебе сказать… Словом, ты признался, что любишь меня, и немного попозже я тебе это докажу. Но сейчас я хочу, чтобы ты знал: я и представить не могла, что когда-нибудь почувствую к мужчине то, что я чувствую по отношению к тебе. Поэтому, если мои дальнейшие слова станут для тебя ударом, покажутся невероятными, пойми, что они идут от чистого сердца и во мне говорит только любовь к тебе. — Да, Холли, но это… — растерянно произнес Джим. — Давай по очереди: сначала я, а потом ты. — Холли наклонилась к нему, поцеловала и снова выпрямилась на сиденье. — Пожалуйста, помолчи и послушай, что я скажу. Она поведала Джиму обо всех догадках, рассказала о своем побеге с мельницы и последующем возвращении. Он слушал с растущим недоверием и время от времени пытался ей возразить, но Холли жестом или легким поцелуем всякий раз заставляла его умолкнуть. Блокнот с ответами, который она достала с заднего сиденья, лишил Джима дара речи. «ПОТОМУ ЧТО ОН ПОХОЖ НА МОЕГО ОТЦА, КОТОРОГО Я НЕ СУМЕЛ СПАСТИ». Словно не веря собственным глазам, он трясущимися руками взял протянутый Холли блокнот. Перевернул страницу, другую — всюду две фразы: «ОН ЛЮБИТ ТЕБЯ ХОЛЛИ. ОН УБЬЕТ ТЕБЯ ХОЛЛИ». Блокнот в его руках заходил ходуном. — Я никогда бы не сделал тебе ничего плохого, — сказал он дрожащим голосом, не сводя глаз с черных букв на желтом листке. — Никогда. — Я знаю, тебе бы и в голову это не пришло. Доктору Джекиллу и в голову бы не пришло превратиться в кровавого убийцу мистера Хайда. — Думаешь, это я, а не Друг? — Уверена, что ты, Джим. — Значит, если в блокноте писал Друг, а Друг — часть меня, ты думаешь, эти слова на самом деле можно прочесть: «Я люблю тебя, Холли»? — Да, — тихо ответила она. Он поднял голову, и их взгляды встретились. — Если ты веришь в «я люблю», то почему не веришь в «я убью»? — В этом-то все и дело. Я верю, что некая злая сила в тебе желает моей смерти. Джим отшатнулся, будто она его ударила. — Враг хочет, чтобы я умерла, очень хочет. Потому что я стала копаться в твоем прошлом, привезла тебя на мельницу и теперь заставляю бороться с источником твоих фантазий. Он отрицательно затряс головой, но Холли продолжала: — Для этого тебе и была нужна я. Именно поэтому ты меня позвал. — Нет! — Да, Джим. — Холли сознавала опасность, которой она подвергается, подталкивая его навстречу истине, но другого выхода нет. — Миг, когда ты поверишь в существование Друга и Врага в себе самом, станет началом их конца. — Враг так просто не уйдет, — покачал головой Джим и заморгал от удивления, заметив в своих словах потаенный смысл. — Черт, — сказала Холли, чувствуя, как внутри растет радостное возбуждение. Слова Джима вольно или невольно подтверждают ее теорию и, самое главное, показывают, что он хочет вырваться из мира фантазий, в который сам себя загнал. Джим побледнел и напоминал больного раком, только что узнавшего диагноз. По сути дела, он действительно поражен болезнью, только душевной, а не физической. Свежий ветерок, залетевший в открытое окно машины, вдохнул в Холли новую надежду. Однако радость оказалась недолгой. На странице блокнота, который держал Джим, неожиданно появились слова: «ТЫ УМРЕШЬ». — Это не я, — искренне сказал Джим. — Не может быть, чтобы это я. На странице возникла новая фраза: «Я ИДУ. ТЫ УМРЕШЬ». Холли показалось, что весь мир превратился в населенную привидениями и вурдалаками карнавальную пещеру ужасов, где за каждым углом подстерегают страшные опасности. Чуть зазевался — и попал чудовищу в лапы. Вот только здесь не карнавал, и настоящий монстр шутить не станет, пощады от него не жди. Холли выхватила у Джима блокнот и, надеясь, что Врага, как и Друга, остановит ее решительность, выбросила его в окно. — К черту! Хватит читать эту галиматью! Послушай, Джим, я говорю правду. Враг — воплощение твоей ярости после смерти родителей. Когда тебе было десять, она стала такой огромной, что ты испугался и запихнул ее в другое «я». Но твоя уникальность в том, что, в отличие от других жертв раздвоения личности, живущие в тебе существа способны появляться в реальном мире. Слова Холли сильно походили на правду, но верить в нее Джиму не хотелось. — Ты хочешь сказать, что я сумасшедший? Ведь так надо тебя понимать? Псих с манией переустройства общества. — Не говори так, — быстро прервала его Холли. — Просто у тебя возникли проблемы. Ты сам загнал себя в тупик и теперь должен найти из него выход. Джим покачал головой. Его лоб покрылся мелкими капельками пота, в лице появилась смертельная бледность. — Не обманывай себя, Холли. Если все в твоих словах — правда, я конченый человек и мое место в сумасшедшем доме. Ты ведь и сама это понимаешь. Она взяла его ладони в свои и крепко сжала. — Не надо. Не говори так. Ты можешь найти выход. Я знаю, ты можешь. Все будет хорошо. — Как? Боже мой, Холли, как я… — Ты не такой, как все, — отрезала она. — В тебе огромные, невероятные силы. Стоит захотеть — и они принесут столько добра! Ты способен сам себя исцелить. Если тебе удается оживлять стены, предвидеть будущее, спасать людей, то ты наверняка сумеешь сам избавиться от недуга. Сильнейшее недоверие отразилось на лице Джима. — Откуда у простого смертного такие способности? — Не знаю, но у тебя они есть. — Их давали высшие силы. Пойми, Холли, — никакой не Супермен. Холли в сердцах ударила кулаком по рулю. — Ты телепат, телемаг и теле-черт знает что еще! Ну хорошо, летать, гнуть рельсы голыми руками, бегать быстрее пули ты не умеешь. Но кого еще можно сравнить с Суперменом? Кстати, ему следовало бы кое-чему у тебя поучиться. Ты видишь будущее, пусть только фрагментами и не все время, но видишь! Ее убежденность произвела на Джима впечатление. — Но как получилось, что я стал таким? — Не знаю. — Вот и конец твоей теории. — Ерунда, — угрюмо сказала Холли. — Желтое все равно останется желтым, даже если я не знаю, почему глаз видит разные цвета. В тебе есть огромные силы, ты сам — сила, и не надо кивать на Господа Бога или пришельцев в пруду. Джим отпустил ее руки и приник к ветровому стеклу, за которым открывалась унылая панорама сухих полей и изгибалась черная нитка шоссе. Казалось, он испытывает страх при мысли о скрытых в нем гигантских возможностях. Обладание ими накладывает бремя ответственности, а Джим не верил в собственные силы. Холли заметила, что он прячет глаза, и поняла: Джим стыдится своей болезни. Он, сильный и гордый, не хотел поверить в выпавшее на его долю несчастье. Рушилась жизнь, с таким трудом отстроенная заново, жизнь, где высшей ценностью была уверенность в себе и монашеское одиночество аскета, которому никто не нужен, кроме Бога. Он думал, что, уйдя от людей, принял хорошо обдуманное решение, а ему говорят: этот поступок — отчаянная попытка справиться с бурей воспоминаний, грозивших его погубить. Получается, потребность в самоконтроле вывела Джима за границы разумного. Холли вспомнила слова в блокноте: «Я ИДУ. ТЫ УМРЕШЬ». — Куда мы едем? — удивился Джим. Машина повернула в сторону Нью-Свернборга. Вместо ответа Холли спросила: — В детстве ты был обычным ребенком? — Таким же, как все остальные, — быстро ответил Джим, и она отметила резкость и поспешность его ответа. — Никаких признаков скрытых талантов? — Никаких. Внезапная нервозность Джима, угадывавшаяся в дрожании рук и порывистых беспокойных движениях, убедила Холли, что она на верном пути. ОН не был обычным ребенком. Ее вопрос напомнил ему о прошлом и открыл глаза на происхождение его уникальных способностей. Но Джим не хочет примириться с действительностью и пытается укрыться за щитом отрицания. — Ты что-то вспомнил? — Ничего. — Хватит секретничать, Джим. — Ну правда, ничего. Ей ничего не оставалось, как сказать: — Нет, Джим. Ты не такой, как все. И пришельцы здесь ни при чем. Похоже, воспоминания, которыми он не хотел с нею поделиться, поколебали уверенность Джима, и он неохотно проронил: — Не знаю. — Это правда, Джим. — Может быть. — Помнишь, как вчера вечером Друг сказал, что, по их меркам, он ребенок? Так вот — он действительно ребенок, вечный ребенок. Ему всегда десять лет, потому что, когда ты его создал, тебе тоже было десять. Теперь ясно, почему он так любит порисоваться, а чуть что — сразу обижается. Друг ведет себя не как ребенок из другой галактики, которому десять тысяч лет, а как обыкновенный десятилетний мальчишка. Джим опустил веки и откинулся на спинку сиденья, как будто разговор утомил его, но сжатые кулаки, которые он держал на коленях, выдавали его внутреннее напряжение: — Куда мы едем, Холли? — Устроим небольшую экскурсию. Дорога шла мимо золотистых холмов и полей. Немного передохнув, Холли возобновила осторожный натиск: — Враг — воплощение страхов десятилетнего мальчика. Теперь я понимаю, что чудовище, которое проникло в номер мотеля, не было настоящим и не имело никакого отношения к пришельцам. Такой кошмар может родиться только в голове испуганного ребенка. Джим молчал. Она заглянула ему в лицо: — Джим? Его глаза были по-прежнему закрыты. Сердце Холли учащенно забилось: — Джим! Тревога в ее голосе заставила его выпрямиться и открыть глаза. — Что? — Ради Бога, не закрывай глаза, а то заснешь. Как я сразу не сообразила… — Думаешь, я смогу заснуть, после того что узнал? — Не знаю. Но я боюсь. Ты ведь не будешь закрывать глаза, правда? Пока ты не спишь, Враг не страшен, но что, если тебя потянет в сон? На ветровом стекле, точно на экране бортового компьютера истребителя, появилась черная бегущая строка: «СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ». Похолодев от ужаса, но не желая выдавать своих чувств, Холли резко включила стеклоочистители, точно вместе с надписью хотела стереть угрозу. Однако слова не исчезли, и Джим сидел, уставившись на них в оцепенении. Они проехали мимо маленького ранчо. В открытые окна ворвался запах свежескошенного сена. — Куда ты меня везешь? — снова спросил Джим. — На разведку. — Куда?! — В прошлое. Джим подавленно замолчал, потом сказал: — Я все еще не могу прийти в себя. Не могу, и все. Ну скажи, как мы сумеем проверить твои подозрения? — Мы едем в город, — ответила Холли. — Повторим вчерашнюю экскурсию. Как тебе название: «Романтические тайны Нью-Свенборга»? Чушь. Но что-то здесь есть. Ты не случайно провез меня по местам, где прошло твое детство. Ответ на нашу головоломку можно найти только в Нью-Свенборге. Давай вместе его поищем. На ветровом стекле пониже шести черных слов побежала вторая строка: «СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ». Холли знала: отпущенное ей время истекает. Враг понял, что она близка к цели, и, не дожидаясь, пока Джим уснет, решил стереть ее с лица земли, превратить в кучу кровавых лохмотьев. Она подталкивает Джима навстречу истине, сама не зная, чем кончится ее затея. Что, если его железная воля не выдержит такой нагрузки и в образовавшийся пролом хлынет черная лава ненависти, которая захлестнет добрые стороны его личности? — Скажи, Холли, я избавлюсь от этого странного состояния, если ты мне все расскажешь и объяснишь? — Сначала ты должен мне поверить. Только тогда можно надеяться на выздоровление. Поверить в то, что страдаешь психическими отклонениями, — первый трудный шаг к пониманию, без которого никакое лечение не принесет успеха. — Не надо строить из себя психиатра. Что ты разговариваешь со мной, как врач с пациентом? Джим пытался найти убежище в гневе. Взгляд ярко-синих глаз, в котором ясно читалась угроза, обжег Холли арктическим холодом. Совсем как в тот день, когда она приехала к нему в Лагуна-Нигель, а он дал ей понять, чтобы она не лезла к нему в душу. Тогда у Джима ничего не вышло, а сейчас и подавно. Господи! Порой диву даешься, до чего непонятливыми бывают мужчины! — Однажды я брала интервью у психиатра. — Превосходно! Наверное, ты еще и великий терапевт? — Очень может быть. Кстати, тот психиатр сам был порядочным психом. Так что, я думаю, есть вещи поважнее университетского диплома. Он глубоко вздохнул. — О'кей, допустим, ты права, и мы найдем неопровержимые доказательства того, что я псих — Ты не псих, ты… — Знаю, знаю. Душевное потрясение, психологический тупик. Называй это как хочешь, только, если мы узнаем правду — не представляю как, но узнаем, — что будет со мной? Конечно, я могу улыбнуться и сказать: «Ах да, я напридумывал всяких небылиц и жил себе поживал в мире глупых иллюзий, а теперь со мной все в порядке. Пойдем-ка, Холли, перекусим». Не знаю, может быть, я так и скажу, но только, скорее всего… я лопну по швам и рассыплюсь на кусочки. — Я не могу обещать, что правда, которую мы найдем, станет для тебя спасением. До сих пор ты искал его только в собственной фантазии. Но так больше продолжаться не может. Враг ненавидит меня и рано или поздно убьет. Ты сам предупреждал об опасности. Джим взглянул на надпись в центре ветрового стекла и промолчал. Возразить нечего. К тому же он, похоже, устал от споров. Черные буквы начали быстро блекнуть и исчезли. Может, это хороший знак, показывающий, что Джим подсознательно принял ее теорию. Или, наоборот. Враг, поняв, что угрозы не действуют, готовится к последнему броску. — Когда я умру, ты поймешь, что сам стал причиной моей смерти. И, если твоя любовь ко мне не пустые слова, что ты будешь при этом чувствовать? Что останется от Джима, которого я люблю? Не получится ли, что в тебе победит одна личность — Враг? Гадать можно сколько угодно, но ясно одно: сейчас на карту поставлена не только моя, но и твоя жизнь. Если хочешь, чтобы у нас было будущее, давай копать до самого дна. — Можно копать целую вечность, а окажется, что дна просто нет. — Тогда будем копать еще глубже.* * *
Мертвые коричневые поля внезапно сменились множеством крыш, чья теснота и беспорядок напоминали лагерь первых поселенцев, — они въехали в город. Холли неожиданно повернулась к Джиму и сказала: — Роберт Вон. Джим дернулся от удивления. Он мгновенно понял смысл ее реплики. — Бог ты мой, то-то мне все время мерещилось, что я уже слышал этот голос. — Друг говорил его голосом, вот почему он казался нам таким знакомым. Роберт Вон — замечательный актер, с равным успехом игравший роли добрых дядюшек и отъявленных негодяев. В зависимости от сценария его густой звучный баритон становился то угрожающим, то по-отечески ласковым. — Роберт Вон, — повторила Холли. — Но почему именно он? Почему не Орсон Уэллс, Пол Ньюмен или Шон Коннери? Тебе не кажется, что это неспроста? — Не знаю, — задумчиво ответил Джим, хотя какое-то чувство ему подсказывало, что разгадка совсем рядом. — Ты все еще не расстался с мыслью о пришельцах? Пришелец не стал бы подражать голосу киноактера. — Мне приходилось видеть Роберта Вона, — произнес Джим, пораженный тем, что в памяти забрезжили смутные обрывочные картины. — Не в фильме, а на самом деле. Это было очень давно. — Где, когда? — У меня не получается вспомнить… Пытаюсь, но не получается. Джим представил, что стоит на узкой кромке земли, разделяющей две пропасти. С одной стороны — прошлая жизнь, полная мучительного отчаяния, которое время от времени овладевало им и влекло к гибели. Например, как в тот раз, когда он предпринял свою паломническую поездку на «харлее», надеясь отыскать выход, даже если выходом окажется смерть. С другой стороны — предлагаемое Холли неопределенное будущее, в котором она видит надежду, а он — хаос и безумие. Узкая полоска земли вот-вот обрушится под его ногами. Джим вспомнил разговор в спальне, когда они впервые легли в постель, Он тогда сказал: «Люди всегда сложнее… чем ты думаешь». — «Это как, наблюдение… или предостережение?» — «Предостережение?» — «Может, ты предостерегаешь меня, что и сам не тот, кем я тебя считаю». — «Может быть», — ответил он после долгой паузы. Она тоже долго молчала, потом сказала: «Доя меня это не важно». Теперь Джим не сомневался, что в ту ночь хотел предостеречь Холли. Она права, и населяющие мельницу существа — различные грани его самого. Но если он действительно страдает раздвоением личности, то для определения этого состояния есть только одно слово — не душевные проблемы или психологический тупик, как пытается представить Холли, а безумие. Машина выехала на Главную улицу. Город выглядел темным и угрожающим. Возможно, потому, что узкие улочки Нью-Свенборга скрывают тайну, от разгадки которой зависит, в какую пропасть он бросится. Джим вспомнил, как однажды прочел, что только сумасшедшие абсолютно уверены в том, что здоровы. Он абсолютно ни в чем не уверен, но от этого не легче. Возможно, безумие — квинтэссенция неопределенности, отчаяния, безуспешная попытка выплыть и ощутить почву под ногами. Разум — обитель определенности, которая находится над хаосом. Холли остановила машину у аптеки Хандала. — Начнем с аптеки. — Почему именно отсюда? — Мы сделали здесь первую остановку, когда ты показывал мне город и рассказывал о своем детстве. Джим открыл дверь «Форда» и шагнул в густую тень растущих вдоль тротуара магнолий. Деревья скрашивали унылый вид улицы, но одновременно усиливали ощущение диссонанса, которое словно витало в воздухе. Холли толкнула стеклянную дверь, мерцавшую, точно грани бриллианта, над головой звякнул колокольчик, и они вошли. Сердце Джима учащенно забилось. Он не помнил ни одного необычного случая, связанного с аптекой, но чувствовал, что они идут по верному следу. В левой части здания находился ресторан. Через открытую дверь Джим увидел с десяток посетителей за столиками. Прямо напротив входа в маленьком киоске продавались утренние газеты, в основном местные, из Санта-Барбары. Рядом с газетами лежали пачки журналов и стопки книг в ярких обложках. — Я частенько покупал здесь книги. Книги были для меня единственной радостью, я тратил на них все свое время, — задумчиво произнес Джим. Правая дверь вела в аптеку, в которой, как в тысячах подобных американских аптек, косметики и средств для ухода за волосами было больше, чем лекарств. Однако на этом сходство заканчивалось. Вместо металлических или пластиковых полок вдоль стен тянулись стеллажи из благородного дерева, в глаза сразу бросался красивый прилавок из полированного гранита. В воздухе стоял аромат восковых свечей, конфет и табака, смешанный с запахом этилового спирта и валерианы. Несмотря на ранний час, аптека уже работала, а ее хозяин возился с кассовым аппаратом. Холли догадалась, что высокий седой старик в накрахмаленном белоснежном халате и есть сам Корбет Хандал. Аптекарь посмотрел на вошедших и расплылся в улыбке: — Да неужто ко мне пожаловал Джим Айренхарт собственной персоной? Заходи, заходи, Джим. Почитай, три, а то и все четыре года, как тебя не видели в наших краях. Они обменялись рукопожатием. — Четыре года и четыре месяца, — подтвердил Джим. У него едва не вырвалось: «С тех пор как умер дед», но он так не сказал, хотя и сам не знал почему. Протирая бумажной салфеткой прилавок, Корбет улыбнулся Холли и сказал: — Я не знаю, кто вы, прекрасная незнакомка, но клянусь, что буду вечно благодарить Бога за то, что вы появились и озарили это серое утро. Маленький Нью-Свенборг не мог желать лучшего аптекаря, чем Хандал. Он никогда не подчеркивал своей принадлежности к социальной верхушке города, и горожане любили его за доброту и веселый характер. Несмотря на его вечную манеру подтрунивать над посетителями, никто не сомневался, что старый Хандал знает свое дело до тонкостей и в надежности приготовленных им лекарств можно быть уверенным. Многие заходили, просто чтобы поздороваться и переброситься с ним парой слов. Старый аптекарь любил людей, и все тридцать три года его работы в аптеке они платили ему тем же. Одним словом, более приятного человека трудно и представить, но Джим вдруг почувствовал в Хандале угрозу. Ему захотелось скорее уйти из аптеки, пока… Что пока? Пока Хандал не сказал что-нибудь такое, что он боится услышать. Похоже, в нем заговорил страх разоблачения. Но чего ему бояться? — Я невеста Джима, — представилась Холли, не обращая внимания на его удивление. — Прими мои поздравления, Джим, — весело сказал аптекарь, подмигивая Холли. — Везет же некоторым. Юная леди, надеюсь, вам известно, что настоящая фамилия Айренхартов — Айренхеды.[133] Они взяли себе новую, а жаль — старая лучше отвечала характеру этой семейки. Упрямцы, каких свет не видывал. — Джим решил покатать меня по городу, — сказала Холли. — С годами люди становятся сентиментальными. — Никогда не думал, что ты можешь соскучиться по Нью-Свенборгу, — нахмурившись, сказал Джиму аптекарь. — Ты не слишком-то его жаловал. — Вкусы меняются, — пожал плечами Джим. — Рад это слышать. — Хандал снова повернулся к Холли. — После того как его дед с бабкой переехали в город, он зачастил сюда по вторникам и пятницам. По этим дням из Санта-Барбары привозили новые книги и журналы. — Хандал отложил в сторону салфетку и стал поправлять стенд с жевательной резинкой, одноразовыми зажигалками и расческами. — Джим тогда очень любил книги. А как сейчас, по-прежнему любишь читать? — Люблю. — Джим с растущим беспокойством ждал, что еще может сказать Хандал. Все попытки объяснить причину возникшего в нем страха ни к чему не привели. — Припоминаю, что тебя интересовала только фантастика. — Аптекарь пояснил Холли: — Он тратил все карманные деньги на книжки о пришельцах и прочей чертовщине. Конечно, в те дни на два доллара в неделю можно было разгуляться — книжка-то стоила не дороже пятидесяти центов. Джим испытал приступ боязни замкнутого пространства. Казалось, комната уменьшилась в размерах и превратилась в тесный склеп с толстыми стенами. Его неудержимо влекло на улицу. «Он идет, — подумал он с тревогой. — Враг идет». — Возможно, Джим перенял этот интерес у своих родителей, — продолжал аптекарь. — У родителей? — нахмурилась Холли. — Ну да, у родителей. Я не слишком-то хорошо знал Джеми, отца Джима, хотя мы учились в соседних классах. Не обижайся, Джим, но у твоего отца были весьма необычные увлечения. Впрочем, с тех пор столько воды утекло, что они теперь не кажутся такими странными, как в начале пятидесятых. — Необычные увлечения? — сказала Холли, стараясь не выдать волнения. Джим огляделся по сторонам, спрашивая себя, откуда может появиться Враг и куда от него бежать. Он все еще находился на перепутье, решая, принять или отвергнуть теорию Холли, но наконец утвердился в мысли, что она ошибается. Враг — не внутри его, он, как и Друг, существует сам по себе. Враг — злой пришелец, который проникает куда захочет, и он идет, чтобы их убить. — Когда я был еще мальчишкой, Джеми частенько захаживал к нам в аптеку — тогда здесь работал мой отец — и покупал старые журналы. Знаете, такие, на дешевой бумаге, с роботами и красотками на обложках. Любил поговорить о том, как однажды люди полетят на Луну. Многие тогда считали, что он чересчур зациклился на всей этой чертовщине, но, выходит, как раз он-то и оказался прав. Я нисколько не удивился, когда узнал, что он ушел из бухгалтеров, женился на артистке и подался в экстрасенсы. — Экстрасенсы? — Холли удивленно взглянула на Джима. — Ты говорил, что твой отец был бухгалтером, а мама — артисткой. — Они и были — он бухгалтером, а она артисткой до тех пор, пока не стали давать представления, — отозвался Джим. Он совсем забыл о сеансах, которые устраивали его родители. Удивительно, но факт: все стены его кабинета в Лагуна-Нигель оклеены фотографиями их поездок, он смотрел на них каждый день, но у него совершенно вылетело из головы, что снимки сделаны во время гастролей. Он стремительно приближается. Ближе. Еще ближе. Джим хотел предупредить Холли об опасности, но словно потерял дар речи. Невидимая сила сковала язык и намертво стиснула челюсти. Он идет. Он не хочет, чтобы Холли догадалась о его приближении. Враг стремится захватить ее врасплох. Покончив с уборкой стенда, Хандал сказал: — Страшно подумать, что с ними случилось. Когда ты впервые приехал к деду, Джим, то был как бы не в себе. От тебя и двух слов нельзя было добиться. Холли во все глаза смотрела на Джима. Она чувствовала, что он на грани срыва. — А потом, через два года, когда умерла Лена, Джим словно воды в рот набрал, я уж думал, он вообще перестанет разговаривать. Помнишь, Джим? Слова Хандала словно громом поразили Холли. — Выходит, твоя бабушка умерла через два года после того, как ты сюда приехал, и тебе тогда было только одиннадцать лет? «Я говорил ей, что пять лет назад, — подумал Джим. — Почему я так сказал, когда на самом деле это случилось двадцать четыре года назад?» Он идет. Джим чувствовал, как тот неумолимо приближается. Ближе, ближе. Враг. — Извините, пойду глотну свежего воздуха, — сказал Джим и поспешно направился к машине, пытаясь перевести дыхание. Оглянувшись, он понял, что Холли осталась в аптеке. Через окно видно, как она разговаривает с Хандалом. Враг приближается. Не разговаривай с ним, Холли, не слушай его, скорее беги оттуда. Враг рядом. Опершись о капот машины, Джим напряженно думал. Ясно, что он боится Корбета Хандала, потому что аптекарь знает о жизни Джима Айренхарта в Нью-Свенборге больше его самого. — Лаб-даб-ДАБ… Враг настиг их.* * *
Хандал проводил Джима испытующим взглядом. — Мне кажется, он так и не сумел забыть о том, что случилось с его родителями… и с Леной, — заметила Холли. Аптекарь понимающе кивнул: — Разве такое забудешь? А какой славный был паренек! Эх, да что говорить! И прежде чем Холли успела задать вертевшийся у нее на кончике языка вопрос о Лене Айренхарт, Хандал снова спросил: — Собираетесь поселиться на ферме? — Да нет. Поживем пару деньков. — Конечно, может, я лезу и не в свое дело, но стыд и позор, когда земля пустует. — У Джима не получится самому заниматься хозяйством, и раз уж ферму нельзя продать… — Нельзя продать? Побойтесь Бога, юная леди, да стоит только заикнуться — с руками оторвут! Холли в недоумении уставилась на старика. — У вас есть настоящий артезианский колодец, а это значит: не страшны никакие засухи. Что бы ни случилось, всегда, деточка, с водой будете. А в наших краях — это великое дело. — Он облокотился о прилавок и скрестил руки на груди. — Система работает безотказно: когда в пруду много воды, ее вес давит на артезианскую скважину и уменьшает напор. А как только начнешь брать воду для поливки, скважина включается, и пруд снова полон до краев. Совсем как в сказке про бездонный колодец. — Хандал наклонил голову и искоса взглянул на Холли. — Значит, Джим сказал вам, что ферму нельзя продать? — Это я так думала… — Знаете, что я вам скажу, юная леди… — Хандал посмотрел Холли в глаза. — Похоже, ваш избранник сентиментальное, чем я думал. Может быть, он не хочет продавать ферму, потому что с ней у него связано слишком много воспоминаний. — Может быть, — кивнула она. — Но среди них есть не самые приятные. — Верно говорите. — Например, смерть бабушки. — Холли попыталась вывести собеседника на интересующую ее тему. — Это был… Слова Холли внезапно прервало бряканье стекла. Обернувшись, она увидела, что на полках, стукаясь друг о друга, подпрыгивают флаконы шампуней, бутылки с лосьонами, упаковки витаминов и пузырьки с лекарствами. — Землетрясение, — встревожился Хандал и поглядел на потолок, точно боялся, что он может на них обрушиться. Склянки задребезжали еще громче. Холли знала, что их звон означает не землетрясение, а нечто похуже. Ее предупреждают, чтобы она оставила Хандала в покое и не задавала новых вопросов. — Лаб-даб-ДАБ, лаб-даб-ДАБ… Уютный мирок аптеки стал разваливаться прямо на глазах. На полках начали с треском лопаться бутылки, во все стороны полетели осколки. Холли закрывала лицо руками. Ей на голову градом посыпались коробки с лекарствами. Увлажнитель воздуха свирепо гудел и вибрировал. Подчиняясь внутреннему инстинкту, Холли бросилась на пол, и в тот же миг с грохотом разлетелся стеклянный стенд. Осколки, точно шрапнель, изрешетили воздух в том месте, где она только что стояла. Спотыкаясь на битом стекле, она рванулась к выходу. За спиной обрушился тяжелый кассовый аппарат. Опоздай она на долю секунды — уже лежала бы с переломанным позвоночником. Прежде чем стены успели ожить и запульсировать, Холли опрометью вылетела на улицу, предоставив Хандалу самому разбираться с последствиями разгрома, причиной которого он наверняка считает землетрясение. Она бежала по выложенному кирпичом тротуару, чувствуя, как бьется земля под ее ногами. Джима она нашла возле машины. Он стоял, обессиленно опершись на капот, и трясся как в лихорадке. Сейчас он походил на человека, стоящего на краю пропасти и уже решившегося на смертельный прыжок. Джим не ответил на ее зов. Ей показалось, что еще миг — и злобные темные силы, которые он столько лет держал под гнетом, вырвутся на свободу. Холли рывком оттащила Джима от машины и, крепко прижав к груди и всхлипывая, повторяла его имя. Она ждала, что из тротуара вот-вот забьют кирпичные гейзеры, а в нее вцепятся зазубренные клешни или холодные склизкие щупальца. Однако глухие удары стали затихать и Джим начал приходить в себя. Он поднял руку и обнял Холли за плечи. Враг отступил. Но она знала: затишье — только отсрочка приговора.* * *
К «Садам Тиволи» примыкал Мемориальный парк, а еще дальше, за остроконечной чугунной оградой, начиналось городское кладбище. Джим сбросил скорость и остановился. — Приехали. Выйдя из машины, он испытал новый приступ боязни замкнутого пространства, хотя в отличие от прошлого раза находился на улице. Казалось, каменное серое небо придавило могильные плиты, и гранитные квадраты и треугольники торчат из земли, как древние обломки потемневших от времени костей. В тусклом мертвенном свете деревья стали серыми и огромными, словно собирались вцепиться в него своими ветвями. Джим обошел вокруг машины и присоединился к Холли. — Идем. Холли взяла его за руку, и он мысленно поблагодарил ее за помощь. Они направились к могиле родителей отца Джима, которая располагалась на небольшом склоне, хотя кладбище в основном было ровное. Их взглядам представилась прямоугольная гранитная плита, одна на две могилы. Сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Джим с трудом сглотнул застрявший в горле ком. На правой стороне памятника было выбито имя: «Лена Луиза Айренхарт». Джим неохотно прочел дату рождения и смерти. Она умерла в пятьдесят три года, и после ее смерти прошло почти четверть века. Наверное, испытанное им потрясение можно сравнить с промыванием мозгов. Ложные воспоминания исчезли, и прошлое стало похоже на туманный пейзаж, очертания которого теряются в жутком неверном свете спрятавшейся за тучами луны. Он неожиданно лишился возможности оглянуться на прожитые годы и уже не может доверять своей памяти. Самые ясные картины, стоит только взглянуть на них поближе, могут оказаться хитрой игрой теней. Сбитый с толку и испуганный, он еще крепче сжал руку Холли. — Почему ты меня обманул, сказал, что она умерла пять лет назад? — осторожно спросила Холли. — Я не обманывал. По крайней мере… не понимал, что делаю. — Джим уставился на блестящий гранит, точно могильная плита служила окном в прошлое и он пытался в нем что-то разглядеть. — Я помню, как проснулся однажды утром и понял, что ее больше нет. Это случилось пять лет назад. Я тогда снимал квартиру в Ирвине. — Он прислушался к звуку собственного голоса, будто говорил не он, а кто-то другой, и поежился, словно от холода. — Я оделся… купил цветы и поехал в Нью-Свенборг… Потом пришел сюда. Он замолчал, и Холли, выждав некоторое время, спросила: — В тот день больше никого не хоронили? — Не помню. — Может быть, ты запомнил кого-нибудь из посетителей? — Нет. — На могиле были другие цветы? — Не знаю. В памяти осталось только, как я опускаюсь на колени, кладу цветы, которые для нее купил… И плачу… Плачу и не могу остановиться. Немногочисленные посетители кладбища посматривали на него сначала с сочувствием, потом смущенно отворачивались и спешили уйти, поняв, что с ним творится что-то неладное. Джим ясно помнил исступление, которое владело им в тот день, и растерянные взгляды прохожих. Ему хотелось разрыть могилу, лечь рядом с бабушкой и накрыться землей, точно одеялом. Однако события, предшествовавшие приезду на кладбище, совершенно выпали из памяти. Джим снова взглянул на дату смерти: «25 сентября» — и его словно пронзило током. — Что с тобой, Джим? — спросила Холли. — Это тот самый день, когда я приезжал сюда. Двадцать пятое сентября — день ее смерти. Но я приезжал пять лет назад. Значит, была девятнадцатая годовщина… Но мне тогда казалось, и я стал так думать, что она только что умерла. Оба молчали. В темном небе появились две большие черные птицы и с пронзительным клекотом скрылись за верхушками деревьев. — Может быть, ты не хотел поверить в ее смерть и поверил, что ее не стало, только через девятнадцать лет после того, как это случилось… Поэтому тебе и казалось, что Лена умерла всего пять лет назад. Ты считал датой смерти тот самый день, когда пришел сюда с цветами. Джим сразу понял, что она попала в самую точку, но разгадка не принесла ему облегчения. — Но Боже мой, Холли, ведь это безумие. — Нет, — спокойно ответила она. — Это самозащита. Стена, которой ты окружил детские переживания того времени. — Она помедлила и, глубоко вздохнув, спросила: — Джим, отчего умерла твоя бабушка? — Она… — начал он и запнулся, удивленный тем, что не помнит причину смерти Лены Айренхарт. Сплошной туман в голове. — Я не знаю. — Мне кажется, она умерла на мельнице. Джим оторвал глаза от могилы и взглянул на Холли. Ее слова заставили его внутренне напрячься, но он не понимал, откуда возникла внезапная тревога. — На мельнице? Почему? Откуда тебе известно? — Помнишь сон, который я тебе рассказывала? Мне снилось, что я поднимаюсь по ступенькам и из окна мельницы смотрю на пруд. Отражение в стекле принадлежало твоей бабушке. — Это всего лишь сон. Холли покачала головой. — Не думаю. Скорее всего проекция твоих воспоминаний на мой мозг. Сердце Джима бешено прыгало в груди, и он не знал, чем вызвана его паника. — Какие могут быть у меня воспоминания, если я ничего не помню? — Ты все помнишь. — Абсолютно ничего, — нахмурился он. — Воспоминания спрятаны в твоем подсознании, и до них можно добраться только во сне. Но они есть, можешь не сомневаться. Скажи она ему, что кладбище стоит на карусели, которая медленно вращается под хмурым небом цвета вороньей стаи, он бы поверил, но в то, что она сказала, поверить было гораздо труднее. Он чувствовал, как несется сквозь свет и темень, сквозь свет и темень, ярость и страх… — Но в твоем сне… Когда бабушка поднялась наверх, в комнате был я, — произнес он с огромным усилием. — Да. — Если она умерла на мельнице… — Ты был свидетелем ее смерти. Он покачал головой. — Нет. Неужели ты думаешь, что я бы этого не помнил? — Да. Поэтому тебе и потребовалось целых девятнадцать лет, чтобы поверить в ее смерть. Мне кажется, ты видел, как она умерла. Страшное потрясение привело к полной потере памяти, а вместо нее появились фантазии. Налетел ветерок. Джим услышал шорох под ногами и решил, что костлявые руки покойницы вылезают из земли и хотят утащить его в могилу. Но, взглянув вниз, он увидел только сухие листья, которые шуршали в траве. Неистовый стук его сердца походил на удары по боксерской груше. Джим отвернулся от могилы и уже направился к машине, но Холли удержала его: — Подожди. Он резко вырвал у нее свою руку. Холли даже покачнулась. Синие глаза сердито сверкнули. — Я хочу скорее отсюда уехать. Она не испугалась и снова ухватила его за руку. — Джим, подожди, скажи, где похоронен твой дед? Он раздраженно указал на соседнюю могилу. — Рядом с нею, разве ты не видишь?! И тут его взгляд упал на левую половину гранитной плиты. Его так потрясло открытие, связанное со смертью Лены, что он совсем упустил из виду одну важную деталь. На левой стороне, как и положено, было выбито имя деда: «Генри Джеймс Айренхарт». Очевидно, надпись сделали, когда хоронили Лену. Пониже имени стояла дата рождения. И все. Дата смерти отсутствовала. Вороненое небо опустилось к земле. Деревья сгрудились и сдвинули над ними свои серые кроны. — Ты говорил, что он умер через восемь месяцев после нее. У него пересохло во рту. Язык прилип к гортани, и произнесенные шепотом слова напоминали шорох песка о каменистую поверхность пустыни. — Что ты от меня хочешь? Я сказал тебе… восемь месяцев спустя… двадцать четвертого мая… — Отчего он умер? — Я… не помню… не помню… — Он умер от болезни? «Молчи, молчи». — Не знаю. — Может быть, какой-то несчастный случай? — Я… думаю… думаю… он умер от инсульта. Густой плотный туман окутал его жизнь. Он редко задумывался о прошлом. Жил одним днем и даже не подозревал, что огромные провалы в памяти вызваны тем, что раньше он никогда не пытался вспоминать. — Ты был его ближайшим родственником? — Да. — Значит, ты наверняка занимался организацией похорон. Джим нахмурился и нерешительно кивнул: — Да… наверное… — И ты просто забыл указать на камне дату его смерти? Джим стоял, слепо уставившись на чистый гранит, и мучительно пытался отыскать такое же чистое место в своей памяти. Он не знал, что ответить Холли, и чувствовал страшную слабость. Хотелось свернуться калачиком, закрыть глаза и никогда не просыпаться. — А может, его похоронили в другом месте? — донесся до него новый вопрос Холли. Над их головами кружились черные птицы. Их огромные крылья со свистом рассекали воздух, выписывая в пепельном небе каллиграфические знаки, смысл которых казался не яснее серых расплывчатых образов, спрятанных в глубинах подсознания Джима.* * *
Холли села за руль и они поехали к «Садам Тиволи». После происшествия в аптеке Джима охватило желание скорее ехать на кладбище, чтобы самому во всем разобраться. Однако последующие события потрясли его и отбили всякую охоту продолжать расследование. Он с удовольствием уступил Холли водительское место, и по выражению его лица она без труда догадалась, что он мечтает уехать из города и забыть Нью-Свенборг как страшный сон. Сквер «Сады Тиволи» был совсем маленький. Им пришлось оставить машину на улице и пойти пешком. Холли решила, что «Сады» имеют еще менее привлекательный вид, чем ей показалось вчера, когда они проезжали мимо сквера на машине. И виной всему не только серое небо. Ни в одном парке Центральной Калифорнии не встретишь таких сухих, выжженных солнцем газонов. Ползучие побеги кустарника заглушили цветочные клумбы, и из колючих зарослей торчали бутоны роз с наполовину осыпавшимися лепестками. Другие цветы завяли. Унылую картину довершали две деревянные скамейки с облупившейся краской. Однако стоявшая в сквере мельница не выглядела заброшенной. Она была больше и футов на двадцать повыше, чем мельница на ферме Айренхартов. — Зачем мы сюда пришли? — спросила Холли. — Ты еще спрашиваешь! Мы здесь только по твоей милости. — Ну-ну, не надо сердиться, мы же хорошие ребятки, — сказала она, обращаясь к нему как к ребенку. Давить на Джима — то же самое, что пинать ящик с динамитом. Однако иного выхода нет. Рано или поздно он все равно взорвется, и единственная надежда — на то, что она успеет убедить Джима в своей правоте, прежде чем Враг полностью захватит власть над ним. С каждым мгновением у нее оставалось все меньше времени. — Вчера ты решил немного побыть в роли гида. Помнится, ты сказал, что наэтом месте снимали кино. — Слова Холли подействовали на Джима словно удар тока. — Подожди, подожди… Так вот где ты видел Роберта Вона! Он снимался в этом фильме? Джим в недоумении, которое быстро сменилось угрюмой задумчивостью, оглядел маленький сквер. Затем двинулся к мельнице. Холли последовала за ним. По обе стороны от входа были установлены каменные плиты с плексигласовыми информационными стендами. Они подошли к левому стенду и прочли о том, что в долине Санта-Инес на протяжении всего девятнадцатого века и довольно долго в двадцатом мельницы использовались для помола муки, перекачки воды и производства электроэнергии. Далее следовала история возвышающегося перед ними сооружения, которое просто и без затей именовалось Нью-Свенборгской мельницей. У Холли сводило скулы от скуки, когда она читала эти строки, и ко второму стенду она подошла только благодаря остаткам профессионального любопытства. Однако стоило ей взглянуть на заголовок — и скуки как не бывало. Надпись на правом стенде гласила: «Черная мельница: книга и фильм». — Смотри, Джим. Он подошел и встал у нее за спиной. На стенде помещалась фотография книги Артура Уиллота «Черная мельница», на обложке которой Холли узнала нью-свенборгскую достопримечательность. С растущим замешательством она углубилась в чтение текста. Уиллот, живший в долине Санта-Инес, но не в Нью-Свенборге, а в соседнем Солванге, прославился многочисленными книгами для подростков. Он умер на девятом десятке в 1982 году, оставив после себя пятьдесят два романа. Наибольший успех принесло писателю научно-фантастическое произведение о мальчике, который узнает, что привидения со старой мельницы на самом деле являются пришельцами из космоса, а на дне соседнего пруда десять тысяч лет покоится инопланетный звездолет. — Нет, — сказал Джим в сердцах. — Бессмыслица какая-то. Холли припомнила, как во сне в облике Лены Айренхарт поднялась по ступенькам лестницы и в комнате наверху обнаружила десятилетнего Джима. Мальчик стоял, прижимая кулаки к бокам, а увидев ее, бросился навстречу с криком: «Помоги, мне страшно, стены, стены!» На полу Холли заметила желтую свечу на голубом блюдце, но только сейчас вспомнила, что возле блюдца лежала книга в яркой суперобложке. В ней она сразу узнала «Черную мельницу». — Бессмыслица, — повторил Джим. Он отвернулся от стенда и встревоженно посмотрел на качающиеся ветви деревьев. Холли продолжила чтение и узнала, что двадцать пять лет назад, в год, когда в Нью-Свенборг приехал десятилетний Джим Айренхарт, в городе снимали «Черную мельницу». Основные съемки проходили на Нью-Свенборгской мельнице. Киношники даже выкопали мелкий, но внушительный пруд, а потом компания заплатила за то, чтобы скверу вернули прежний облик. Даже дневной свет не мог рассеять мрачный сумрак, окутывавший угрюмые силуэты деревьев и кустов. Загнанно озираясь по сторонам, Джим сказал: — Что-то должно случиться. Холли не заметила ничего особенного в окружающем пейзаже и решила, что он хочет отвлечь се от стенда. Джим не поверил тому, что там написано, и теперь пытается перетянуть ее на свою сторону. Очевидно, фильм потерпел полный провал. Холли о нем даже не слышала. Скорее всего известность картины никогда не выходила за границы Нью-Свенборга, да и там ее знали только потому, что книгу написал житель соседнего городка. В конце текста шли фамилии пяти наиболее важных членов съемочной группы. Среди первых четырех Холли узнала только своего любимца Эммета Уолша. Последним в списке оказалось имя молодого и никому тогда не известного Роберта Вона. Холли подняла глаза на темную громаду мельницы. — Что происходит? — Она посмотрела на серое гнетущее небо и перевела взгляд на фотографию книги Уиллота. — Кто мне скажет, что здесь происходит? Вздрагивающим от ужаса голосом, в котором одновременно слышались нотки восторженного ожидания, Джим сказал: — Он идет. Холли проследила направление его взгляда и увидела, что в дальнем углу сквера зашевелилась земля и к месту, где они стоят, приближается, стремительно вырастая в размерах, страшный черный ком. Она бросилась к Джиму и повисла у него на шее. — Остановись! — Он идет. — Джим посмотрел на нее невидящим взглядом. — Это ты, ты, Джим! — Нет… не я… Враг. — Казалось, он разговаривает в трансе. Холли оглянулась: неподалеку от них треснула и вздыбилась бетонная дорожка. — Не надо, Джим! В его взгляде, устремленном на приближающееся чудовище, она прочла страх и надежду, что смерть принесет ему избавление от страданий. Одна из скамеек упала, и ее бесследно проглотила разверзшаяся в песке трещина. До Врага осталось сорок футов, и это расстояние быстро сокращалось. Холли схватила Джима за рубашку и изо всех сил тряхнула, стараясь привести в чувство. — Я видела этот фильм в детстве. Как он назывался, а? Не «Нашествие марсиан»? Там еще открывались двери в песке и люди туда проваливались. Она обернулась: тридцать футов. — Значит, вот так мы и погибнем, да, Джим? Откроется дверь в песке, и мы туда провалимся. Совсем как в кошмаре десятилетнего мальчика? Двадцать футов. Джим дрожал, точно от холода. Казалось, он ее не слышит. Она притянула его к себе и крикнула ему в лицо: — Ты что, собираешься убить и себя, и меня, как Ларри Каконис? Устал бороться, струсил, да? Десять футов. Восемь. — Джим! Шесть. Четыре. Услышав под собой дьявольский скрежет клыков, Холли пустилась на последнее средство: она подняла каблук и с силой ударила Джима по голени. Он вскрикнул и присел от боли. Холли с ужасом уставилась на зашевелившийся под ногами дерн. Но крик Джима сковал зыбкую поверхность земли, и она так и не разверзлась. Холли сделала несколько неверных шагов, стараясь не глядеть на развороченный дерн и страшные черные трещины. Джим ошеломленно смотрел на нее и все повторял: — Это не я. Не я. Не может быть, чтобы я.* * *
Джим обессиленно откинулся на спинку сиденья. Холли положила руки на руль и опустила на них голову. Джим выглянул из окна: через весь сквер тянулся длинный след гигантского крота. По белой бетонной дорожке расползлись уродливые черные трещины. Посреди кучи песка лежала уцелевшая скамейка. Невозможно поверить, что подземное чудовище всего лишь дьявольский плод его воображения. Он привык держать себя в руках, вел спартанский образ жизни, признавая только книги и работу. Никаких слабостей (если не считать удобной забывчивости, кисло подумал он). Труднее всего поверить в то, что единственная опасность, которой они подвергаются, кроется в нем самом и ему не справиться со злобным диким зверем, прячущимся в глубинах его собственного мозга. Испытываемое им чувство выходило за рамки обычного страха. Лихорадочная дрожь прошла, но первозданный ужас стянул грудь с такой силой, что стало больно дышать. — Это не я, — повторил он потухшим голосом. — Ты, это был ты. — Если подумать, то он едва не отправил Холли на тот свет, однако она выглядела спокойной и в ее голосе слышались нотки нежности. — Все еще веришь в свою теорию? Я имею в виду мое так называемое раздвоение личности. — Да. — Значит, это было мое злое начало? — Да. — Похоже на огромного дождевого червяка, — некстати съязвил Джим. Затем почувствовав, что сарказм не достиг своей цели, перешел в наступление: — Помнишь свои слова о том, что Враг появляется, только когда я сплю? Тебе не кажется, что твоя теория лопается как мыльный пузырь? Ведь если Враг — я, а я в тот момент не спал, тогда почему ты обвиняешь меня в том, что случилось в «Садах Тиволи»? — Новые правила игры. Твоим подсознанием овладевает отчаяние, и тебе все труднее сдерживать натиск Врага. Чем ближе истина, тем агрессивнее он становится. Ничего удивительного, он защищается из последних сил. — Но если это был я, то почему мы не слышали ударов сердца? — Стук всегда предназначался для пущего эффекта, как звон колокольчиков перед появлением Друга. — Она подняла голову от руля и посмотрела на Джима: — Но сейчас ты очень спешил, я читала рассказ на стенде, а ты во что бы то ни стало хотел меня остановить. Должна заметить, ты превзошел самого себя. Он посмотрел в окно, отыскивая взглядом стенд с информацией о «Черной мельнице». Рука Холли легла ему на плечо. — Когда умерли твои родители, ты был вне себя от горя, тебе нужно было отвлечься, найти какой-то выход. Таким выходом стали космические фантазии Артура Уиллота. Ему не хотелось говорить об этом Холли, но в глубине души он чувствовал, что приближается к точке, из которой прошлое выглядит под другим углом зрения. Расплывчатые мистические очертания начинают приобретать определенную форму. Если избирательная потеря памяти, тщательный подбор ложных воспоминаний и даже раздвоение личности не признаки безумия, а, как говорит Холли, крючки, удерживающие его от падения в бездну, то что, если их отбросить? Неужели, узнав о прошлом и столкнувшись лицом к лицу с правдой, которая в детстве вынудила его обратиться к миру фантазий, он опять потеряет рассудок? Что еще скрывает его мозг? — Знаешь, самое важное, что ты сумел остановить этого червяка прежде, чем он до нас добрался. — Чертовски болит нога, — поморщился Джим. — Ну и прекрасно, — улыбнулась Холли. Она завела машину. — Куда поедем? — Как куда? Конечно, в библиотеку.* * *
Они остановились возле маленького викторианского домика, в котором находилась городская библиотека. Холли с удовлетворением отметила, что руки не трясутся, голос звучит ровно и по дороге от сквера машину не швыряло в разные стороны. Страх не исчез, дикий, первобытный, он затаился в глубине ее существа, и Холли знала: ей никуда не деться от этого чувства, разве только бросить все к чертям и уехать. Или еще более верный способ — умереть. Но она ни за что на свете не покажет Джиму, что боится. Ему труднее, чем ей. В конце концов, ведь это его жизнь обернулась коллажем из фальшивых картинок на тонкой папиросной бумаге. Он должен чувствовать в ней опору. Когда они приблизились к крыльцу (Джим прихрамывал), Холли заметила, как он оглядывается по сторонам, точно ждет, что из земли вот-вот появится страшный червяк. Не дай Бог, а то опять придется прибегнуть к крайнему средству, и он захромает на обе ноги. Впрочем, неизвестно, сработает ли ее уловка во второй раз. В вестибюле им сразу попалась на глаза табличка с надписью: «Документальная литература» и стрелкой, указывающей в сторону лестницы на второй этаж. Из вестибюля они проследовали в большой зал, в который выходили двери еще двух комнат, заполненных книжными полками. Слева от входа стояли столики для читателей и большой дубовый стол библиотекаря. Библиотекарша, которую они увидели в зале, могла служить хорошей рекламой деревенского образа жизни: безупречный цвет лица, блестящие каштановые волосы, ясные карие глаза. На вид ей можно было дать не больше тридцати пяти, но скорее всего она была лет на двенадцать постарше. Перед женщиной на столе стояла табличка: «Элоиза Глинн». Вчера, когда Холли собралась познакомиться с доброй миссис Глинн, о которой Джим рассказывал столько хорошего, он остановил ее, сказав, что библиотекарша наверняка на пенсии, так как, по его воспоминаниям, ей и раньше было «довольно много» лет. На самом же деле ясно, что в то время она только что закончила колледж и начала работать. Однако предыдущие открытия отучили Холли чему-нибудь удивляться. Вчера Джим не хотел, чтобы она заходила в библиотеку, и не нашел ничего лучшего, как солгать. По его лицу видно, что он не слишком удивлен молодостью Элоизы Глинн. Он и вчера знал, что говорит не правду, хотя, возможно, не понимал, почему. Миссис Глинн не узнала Джима. Наверное, его лицо не отпечаталось у нее в памяти, а скорее всего Джим действительно не появлялся в библиотеке с тех пор, как поступил в колледж. Неудивительно, что она его забыла: все-таки прошло восемнадцать лет. Энергичная жизнерадостная Элоиза Глинн напомнила Холли школьного тренера девчоночьей команды. — Уиллот? — переспросила она в ответ на просьбу Холли. — Да у нас тут целая куча его романов! — Она прыжком вскочила со стула. — Сейчас покажу, где они стоят. — Обойдя вокруг стола, она упругой походкой направилась к двери дальней комнаты. — Он, Уиллот, из наших краев, да вы наверняка сами знаете. Умер год назад. Но больше половины из его книг все еще переиздаются. Миссис Глинн остановилась перед разделом детской и юношеской литературы и широким взмахом руки указала на две длинные полки с книгами: — Свет не видывал второго такого трудяги, как Арти Уиллот. Бобры и те со стыдом опускали головы, когда он проходил мимо. Она заразительно улыбнулась Холли, и та улыбнулась в ответ. — Мы ищем «Черную мельницу». — Одна из его лучших книг. Не встречала мальчишки, которому бы она не понравилась. — Библиотекарша почти не глядя достала книгу с полки и протянула Холли. — Сыну берете? — Да нет, сама хочу прочесть. Я увидела ее на стенде в «Садах Тиволи». — Я хорошо помню эту книгу, но ей интересно самой посмотреть, — сказал Джим. Холли и Джим вернулись в читальный зал и расположились за дальним столиком у стены. Они положили книгу посередине стола и, устроившись по обе стороны от нее, прочли две первые главы. Время от времени Холли дотрагивалась до руки Джима, ласково касалась плеча, гладила ладонью его колено. Нужно приложить все силы, чтобы спасти Джима от гибели, прежде чем он узнает целительную правду и избавится от недуга. И любовь — ее единственное оружие в этой борьбе со злом. Она верила: любые выражения чувств — прикосновение, улыбка, взгляд — помогут удержать Джима от падения в бездну. Роман читался на одном дыхании. Некоторые находки показались Холли настолько поразительными, что она прервала чтение и стала бегло проглядывать страницы, шепотом пересказывая Джиму самые интересные места. Главного героя романа тоже звали Джим, но не Айренхарт, а Джемисон. Маленький Джим Джемисон жил на ферме, где возле глубокого пруда стояла старая мельница. Поговаривали, что на мельнице водится нечистая сила, но мальчик узнал, что таинственные привидения — это на самом деле пришельцы из космоса, а на дне пруда находится звездолет. Джим увидел его в мерцающем свете, который шел от стен мельницы. Контакт с инопланетянами удалось установить с помощью двух блокнотов с желтыми линованными страницами. На одном мальчик писал вопросы, на другом, словно по волшебству, появлялись ответы пришельца. Гость из космоса сообщил, что он — порождение чистой энергии и прибыл на Землю, чтобы «НАБЛЮДАТЬ, ИЗУЧАТЬ, ПОМОГАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ». Джиму он представился как «ДРУГ». Заложив пальцем страницу, Холли быстро пролистала всю книгу до конца, желая узнать, не изменился ли характер общения Джима и Друга. Она скоро убедилась, что в «Черной мельнице» пришелец пользовался только блокнотом и на протяжении всего романа не произнес ни единого слова. — Вот почему ты не верил, что твой пришелец заговорит, и не хотел отказываться от блокнотов. Возражать было нечего. Джим точно онемел, изумленно уставившись на книгу. Его реакция вселила в Холли надежду. На кладбище он выглядел совершенно подавленным, и у нее даже закралось подозрение, что он не сумеет обратить себе на пользу свои феноменальные способности. А когда в сквере стала проваливаться земля, ей показалось: еще мгновение — хрупкая скорлупа его разума лопнет, и во все стороны брызнет ядовитый желток безумия. Но Джим выстоял, и, похоже, сейчас любопытство в нем берет верх над страхом. Миссис Глинн ушла в соседнюю комнату. Ничто не нарушало тишину в читальном зале. Холли снова углубилась в книгу и скоро наткнулась на сцену, в которой Джиму Джемисону становится известно, что пришелец живет «В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ, БУДУЩЕМ», обладает способностью предугадывать события и хочет спасти обреченного на смерть человека. — Ну и дела, — тихо сказал Джим. Внезапно в мозгу Холли вспыхнул огненный шар, библиотека исчезла и живший в ней страх стал единственной реальностью: Холли увидела, что ее, голую, распяли на мерзком подобии креста и из дырявых запястий и ступней течет струйками липкая кровь (невидимый голос шепчет: «Умри, умри, умри».) Она хочет закричать, но изо рта выползают черви, и Холли понимает, что уже мертва («умри, умри, умри») и ее разложившиеся внутренности пожирают отвратительные гадины… Чудовищная картина пропала так же внезапно, как и возникла. Открыв глаза, она снова очутилась в библиотеке. — Холли? — На нее смотрели встревоженные глаза Джима. А ведь это Джим послал ей страшное видение. Не тот Джим, который участливо склонился над ней сейчас, а зловещий ребенок-убийца, живущий у него в подсознании. Враг попытался использовать новое оружие. — Ничего страшного. Все в порядке, — сказала она. Однако дела обстояли не лучшим образом. Кошмар привел ее в смятение и оставил в душе отвратительный осадок. Она с трудом заставила себя вновь взяться за книгу. Человек, которого предстояло спасти Джиму Джемисону, оказался кандидатом в президенты. Он должен был проезжать через родной город мальчика, где, по словам Друга, на него готовилось покушение. Пришелец хотел спасти кандидата в президенты, зная, что тот «СТАНЕТ ВЕЛИКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ И СПАСЕТ МИР ОТ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ». Не желая обнаруживать свое присутствие. Друг решил действовать с помощью Джима Джемисона и помешать преступникам: «ТЫ ПРОДЛИШЬ ЕМУ ЛИНИЮ ЖИЗНИ, ДЖИМ». Злой пришелец в романе не упоминался. Враг — воплощение ненависти Джима Айренхарта к самому себе. Понимая, какой опасности подвергается, Джим постарался спрятать эти чувства так глубоко, чтобы они никогда не вырвались из-под контроля. В голове у Холли щелкнуло, словно включили внутренние радиопомехи, и на экране мозга вспыхнула новая картина: она лежит в гробу, мертвая, но почему-то чувствует, как черви грызут ее изнутри («умри, умри, умри, умри»), ощущает зловонный запах собственного разлагающегося тела и на внутренней стороне крышки гроба как в зеркале видит отражение своего полусгнившего обезображенного лица. Она поднимает костлявые руки, колотит по сырым доскам и слышит, как звучат глухие удары и их эхо замирает в толще тяжелой плотной земли… Снова библиотека. — Ради Бога, Холли, что с тобой? — Ничего. — Холли? — Ничего. — Нельзя показывать Врагу, что она испугана. Холли снова уткнулась в книгу. В конце романа Джим Джемисон спас будущего президента, а Друг снова нырнул в пруд, напоследок приказав мальчику забыть о встрече с чужой цивилизацией: «ЗАПОМНИ МЕНЯ КАК СМУТНЫЙ СОН, КОТОРЫЙ ТЫ КОГДА-ТО ВИДЕЛ». Когда свет в стене погас навсегда, все записи в блокноте бесследно исчезли. Холли захлопнула книгу. Некоторое время они с Джимом сидели молча, глядя на яркую обложку «Черной мельницы». Вокруг нее тысячи стран, эпох и народов, спрятанных под потрепанными обложками книг, словно яркий свет лампы, укрытый от глаз под тусклым старым абажуром. Холли почти физически чувствовала их напряженное ожидание. Стоит раскрыть любую из книг — и оживет целый мир ослепительных красок и острых запахов, зазвучат смех, рыдания, крики и шепот. Книги — хранилище снов. — «Сны — двери», — сказала она Джиму. — Любая книга — тоже подобие сна. Сон Артура Уиллота о контакте с пришельцами стал для тебя выходом из тупика, помог забыть страшную мысль о том, что ты не сумел спасти родителей. С того момента, как она показала Джиму блокнот с ответами Друга и он прочел слова: «ОН ЛЮБИТ ТЕБЯ ХОЛЛИ. ОН УБЬЕТ ТЕБЯ ХОЛЛИ», лицо Джима покрывала смертельная бледность. Сейчас она заметила, что его кожа начала понемногу приобретать прежний оттенок. В глазах все еще таилась ночная тень тревоги, но в мятущемся загнанном взгляде ей почудился слабый, едва заметный проблеск, заставивший ее поверить, что Джим сумеет принять правду такой, какая она есть. Именно это и испугало Врага и заставило предпринять новые отчаянные попытки. Миссис Глинн вернулась в зал и стала что-то писать за столом. Понизив голос до еле слышного шепота, Холли спросила Джима: — Почему ты обвинил себя в смерти родителей? Ведь они погибли в автокатастрофе. Откуда появилось такое непосильное чувство ответственности у десятилетнего ребенка? Джим покачал головой: — Не знаю. Вспомнив разговор с Корбетом Хандалом, Холли положила руку на колено Джима и осторожно, но настойчиво сказала: — Вспомни, малыш. Это случилось во время гастрольной поездки? Он нахмурился, пытаясь вспомнить, и неуверенно произнес: — Да… Во время гастрольной поездки. — Ты ездил вместе с ними, так? Он кивнул. Вспомнив фотографию, изображавшую его мать в вечернем платье и Джима с отцом во фраках, Холли уверенно сказала: — Ты участвовал в представлении. Она наблюдала на его лице неподдельное волнение: воспоминания, точно круги света в пруду, поднимались на поверхность сознания. Он шел к ней из мира вечной тьмы. Холли и сама испытывала страшное волнение. — Что ты делал во время сеанса? — задала она новый вопрос. — Я был… на сцене. Мама собирала у зрителей личные вещи. Отец подходил ко мне, и мы… Я притворялся, что по этим предметам рассказываю об их хозяевах то, чего я просто не мог знать. — Притворялся? Он растерянно заморгал. — Может быть, и нет. Странно… Но я почти ничего не помню. — Твое ясновидение не было трюком. Все происходило по-настоящему. Твои родители вообще решили заняться этим делом только потому, что открыли в тебе удивительные способности. Пальцы Джима прикоснулись к обложке «Черной мельницы». — Но… — Что — но? — Во всей этой истории есть столько неприятного… — Само собой. Но я рада, что мы наконец приближаемся к разгадке. На лице Джима снова появилась тень. — Пойдем, Холли. Не желая видеть, как он опять соскальзывает в пропасть черной меланхолии, Холли порывисто встала и, взяв книгу, направилась к столу библиотекаря. Веселая миссис Глинн склонилась над большим листом ватмана. Перед ней россыпью лежали цветные карандаши и фломастеры. Библиотекарша рисовала симпатичных мальчишек и девчонок, одетых астронавтами, моряками, акробатами и путешественниками. Поверх листа тянулась сделанная карандашом и еще не раскрашенная надпись: «Ребята и приключения, добро пожаловать в библиотеку. Посторонним вход воспрещен». — Замечательно, — искренне сказала Холли, указывая на красочный плакат. — Вы настоящая художница. — Все какая-то отдушина, а то постоянно тянет в бар. — Лицо женщины озарилось улыбкой, которая сразу сказала Холли, почему дети в восторге от Элоизы Глинн. — Мой жених столько о вас рассказывал. Прошло двадцать пять лет, вы, наверное, его не вспомните.Миссис Глинн с любопытством посмотрела на Джима. — Я — Джим Айренхарт, миссис Глинн, — не выдержал он. — Ну конечно же, конечно, помню! — Она быстро поднялась со своего места и обняла Джима. Затем, отстранившись, обернулась к Холли: — Значит, вы выходите замуж за нашего Джима? Я так за вас рада! С тех пор как я сюда пришла, много воды утекло и, хотя городок наш небольшой, не стану сочинять, что помню всех мальчишек, которые здесь побывали. Но Джима помню очень хорошо. Он был у нас особенный, не такой, как все. Холли снова выслушала историю об увлечении Джима фантастикой, о том, каким тихим он был, когда впервые приехал в город, и как совершенно ушел в себя после внезапной смерти бабушки. Холли сразу ухватилась за последнюю фразу. — Видите ли, миссис Глинн, Джим привез меня сюда, чтобы показать ферму. Возможно, мы решим остаться, по крайней мере на какое-то время… — Наш городок гораздо лучше, чем можно подумать, — убежденно сказала миссис Глинн. — Уверена, вам у нас понравится. Знаете что, давайте я вам выпишу читательские билеты! — Она села за стол и открыла ящик с чистыми бланками. Видя, что библиотекарша достала два билета и приготовилась писать, Холли осторожно сказала: — Понимаете, дело в том, что… с этим местом связано столько тяжелых воспоминаний… и прежде всего смерть Лены… — Когда она умерла, мне было всего десять, может, около одиннадцати, и я как бы заставил себя забыть о том, что случилось. Так вышло, что я совсем не помню подробностей ее смерти. Может быть, вы сумели бы — Холли подумала, что, пожалуй, недооценила способности Джима и из него еще может выйти вполне приличный репортер. — Ну, насчет подробностей я и сама мало что могу добавить. Думаю, одному Богу известно, что она делала ночью на старой мельнице. Твой дед говорил, Лена любила там отдыхать. Место тихое, прохладное, есть где повязать, подумать. В то время мельница еще не превратилась в такую развалину, как сегодня. Однако, конечно, странно, что она вздумала вязать в два часа ночи. Слова библиотекарши полностью подтверждали предположения Холли: ее сон действительно проекция воспоминаний Джима. Она поежилась и, почувствовав, как к горлу подкатывает тошнота, сглотнула слюну. Элоиза Глинн не знает, что на мельнице Лена была не одна. Там находился Джим. Холли обернулась и поразилась происшедшей в нем перемене: лицо Джима превратилось в безжизненную маску. Его даже нельзя было назвать бледным, оно стало серым, как небо на улице. Миссис Глинн попросила у Холли водительское удостоверение, чтобы заполнить карточку читателя, и та, сама не зная зачем, протянула ей права. — Я думаю, именно книги помогли тебе пережить самое трудное время, Джим. Ты читал их запоем. Глотал одну за другой, точно таблетки от головной боли. — Она вернула Холли права и читательский билет. — Джим был удивительным ребенком. Он полностью погружался в мир фантазий, и вымысел становился для него реальностью. Чистая правда, подумала Холли. — Когда он впервые приехал в наш город и я услышала, что Джим никогда не учился в настоящей школе, то подумала: «Бедный ребенок! Чему его могли научить родители, если они только и делали, что ездили по свету да выступали в ночных клубах…» Холли вспомнила галерею фотографий в Лагуна-Нигель: Майами, Атлантик-Сити, Нью-Йорк, Лондон, Чикаго, Лас-Вегас… — Но оказалось, дела гораздо лучше, чем я думала. Главное, они привили ему любовь к книгам, и потом это сослужило Джиму хорошую службу. — Библиотекарша повернулась к Джиму: — Наверное, ты не захотел расспрашивать деда, потому что побоялся его расстроить, но, мне кажется, он крепче, чем ты думаешь, и знает о смерти Лены больше других. — Что с вами, дорогая? — обратилась она к Холли. Холли сознавала, что похожа на статую с голубым читательским билетом в руке, которая, подобно фигурам заколдованных людей из сказки, дожидается, когда ее разбудят. Однако она продолжала неподвижно стоять и молчала. Джим выглядел не менее ошарашенным. Выходит, дед жив. Но где он? — Ничего. Все в порядке, — наконец вымолвила Холли. — Просто я только сейчас сообразила, что уже довольно поздно. Опять шорох, напоминающий звук радиопомех, и новая кошмарная сцена перед глазами: в луже крови на полу ее отрубленная голова и руки, обезображенное тело бьется и корчится в агонии. Ее рассекли на части, но она еще жива и дико кричит от боли… Холли откашлялась и, перехватив любопытный взгляд миссис Глинн, повторила: — Да, довольно поздно, а нам еще нужно к Генри. Мы с Джимом собирались заехать к нему пораньше, а сейчас уже десять часов. Это наша первая встреча, и я очень волнуюсь. — Она как будто не могла остановиться и болтала первое, что приходило в голову. — Мне так хочется поскорее его увидеть. Если только он действительно не умер четыре года назад, как рассказывал Джим. В таком случае она берет свои последние слова обратно. Впрочем, миссис Глинн не похожа на медиума, который небрежно предлагает вызвать дух умершего для светской беседы. — Генри — замечательный старик, — сказала библиотекарша. — Знаю, ему не хотелось уезжать с фермы, но с инсультом шутки плохи. Моя мать, упокой Господь ее душу, после инсульта не могла ни ходить, ни разговаривать, да еще ослепла на один глаз. И, что хуже всего, стала как бы не в себе, даже собственных детей путала. По крайней мере, у Генри с головой все в порядке, и я слышала, он там капитан команды инвалидов-колясочников. — Да, — сказал Джим деревянным голосом, — я слышал то же самое. — Хорошо, что ты поместил деда именно в «Светлый Приют», Джим. Чудесное место. А то знаешь, многие дома для престарелых — самые настоящие гадюшники.
* * *
Из телефонного справочника они узнали, что «Светлый Приют» находится на окраине Солванга, и, покрутившись по узким улочкам, выехали из города. — Я помню, как у него случился инсульт, — нарушил молчание Джим. — Я приехал к нему в больницу, но он лежал в реанимации… и мы так и не встретились… Я не видел его больше тринадцати лет. Пораженный взгляд Холли заставил Джима покраснеть до корней волос. — Ты тринадцать лет не приезжал к деду? — Я не мог, потому что… — Почему? Джим долго смотрел на дорогу, затем поморщился и ответил: — Не знаю. Была какая-то причина, но не могу вспомнить, какая именно. В любом случае я приехал к нему в больницу, куда Генри привезли после инсульта, и узнал о его смерти. — Ты в этом уверен? — Да. — Ты помнишь, что видел его мертвым на больничной койке? — Нет, — хмуро признался Джим. — Помнишь, как врач сказал тебе, что он умер? — Нет. — Помнишь, как занимался похоронами? — Нет. — Тогда почему ты так уверен в его смерти? Джим погрузился в грустные размышления. Холли вела машину, удивляясь, насколько окружающий пейзаж напоминает районы Кентукки. Дорога петляла между пологими холмами, усеянными маленькими домиками, а вдоль обочины тянулись белые изгороди для скота. Сухие бурые окрестности Нью-Свенборга сменились яркой зеленью, но небо потемнело еще сильнее, и на горизонте сгустились иссиня-черные тучи. Наконец Джим сказал: — Я попытался что-нибудь вспомнить, но не смог. Сплошной туман в голове… — Ты платишь за содержание Генри в «Светлом Приюте»? — Нет. — Ферма перешла к тебе по наследству? — О каком наследстве ты говоришь? Ведь он жив! — Тогда, может быть, опека? С языка почти сорвался еще один отрицательный ответ, но Джим внезапно вспомнил комнату в здании суда, свидетельство врача и речь адвоката деда, подтверждающего, что Генри Айренхарт, находясь в здравом уме и полной памяти, передает своему внуку право распоряжаться принадлежащей ему собственностью. — Боже мой, так оно и есть, — ответил Джим, потрясенный мыслью, что забыл события, случившиеся всего четыре года назад. Холли обогнала медленно ползущий грузовик и прибавила скорость. Джим путано поведал ей о том, что ему удалось вспомнить. — Как я мог? Как вышло, что я заново переписал прошлое, потому что правда меня не устраивала? — Самозащита? — повторила Холли произнесенные ранее слова. Она снова пошла на обгон. — Могу поспорить, у тебя в памяти сохранилась масса воспоминаний о работе в школе, об учениках и учителях… Холли не ошиблась. Стоило ему захотеть — и перед его мысленным взором проходили картины школьной жизни, такие четкие и живые, что казалось, он только вчера вышел из двери класса. — …та жизнь не таила в себе угрозы, была спокойной, осмысленной. Единственное, что ты стараешься забыть, спрятать в самые дальние закоулки памяти, — это воспоминания о смерти родителей и бабушки, о годах, проведенных в Нью-Свенборге. По этой же причине ты не хочешь помнить что-либо связанное с Генри Айренхартом. Небо прижалось к земле.Из-за туч вынырнула стая черных птиц. Теперь их стало больше, чем он видел на кладбище. Они летели вслед за машиной, точно мрачный эскорт, сопровождающий их в Солванг. Джим вспомнил кошмарный сон, который ему привиделся перед поездкой в Портленд, где он спас Билли Дженкинса и встретил Холли: стая гигантских черных птиц кружилась над ним с пронзительным клекотом и неистовым хлопаньем крыльев, а он бежал, пытаясь спастись от кривых, острых, как скальпель, клювов. — Самое худшее впереди, — сказал он Холли. — Почему ты так решил? — Не знаю. — Хочешь сказать, что самое худшее нас ждет в «Светлом Приюте»? В холодных волнах хмурого неба, распластав огромные крылья, парили черные птицы. Сам не зная, что он имеет в виду, Джим ответил: — Приближается что-то очень страшное.
Глава 2
«Светлый Приют» оказался большим одноэтажным зданием, расположенным на окраине Солванга. В архитектуре приюта не прослеживалось никаких следов датского влияния. Обычный типовой проект: бетонная кровля, оштукатуренные стены. Все просто, без излишеств, но в прекрасном состоянии. Живые изгороди и лужок тщательно подстрижены, на бетонных дорожках ни единой соринки. Место понравилось Холли с первого взгляда. Она живо представила, как поселится здесь, когда ей стукнет восемьдесят, станет целые дни просиживать перед телевизором и играть в шашки с другими старушенциями. Тихо, спокойно, никаких проблем. Разве что вспомнить утром, куда перед сном засунула вставную челюсть. Они вошли в просторный чистый коридор, покрытый желтым линолеумом. В отличие от множества других домов престарелых в воздухе не чувствовалось ни тяжелого запаха немытого тела, ни густого аромата аэрозоля, призванного его замаскировать. Они проходили мимо больших светлых комнат с видом на сад. Некоторые пациенты лежали в кроватях или сидели в креслах с отсутствующим видом, но это были тяжелобольные, для которых окружающий мир уже перестал существовать. Все остальные обитатели «Светлого Приюта» выглядели вполне счастливыми, и из глубины комнат то и дело доносился смех, который нечасто услышишь в подобных местах. По словам дежурной медсестры, Генри Айренхарт находился в доме престарелых более четырех лет. Они зашли в административный отдел и познакомились с местным администратором миссис Дэнфорт. Та оказалась полной, чуточку самодовольной женщиной, напомнившей Холли жену преуспевающего священника. Она не совсем поняла, зачем посетители хотят проверить то, что им и без того известно, но, покопавшись в своих записях, сообщила: ежемесячные счета за содержание Генри Айренхарта регулярно оплачиваются Джеймсом Айренхартом из Лагуна-Нигель. — Я рада, что вы наконец приехали. Надеюсь, вам у нас понравится, — сказала миссис Дэнфорт Джиму. В ее словах угадывался мягкий укор, и в то же время чувствовалось, что она не хочет обидеть невнимательного внука. Выйдя из кабинета миссис Дэнфорт, они остановились в вестибюле в стороне от инвалидных колясок и снующих по коридору сиделок. — Послушай, давай зайдем к нему в другой раз, — упрямо сказал Джим. — Не сегодня. У меня все внутри переворачивается, как подумаю, что он… Я боюсь его, Холли. — Почему? — Не знаю. Взгляд Джима выражал такое отчаяние и панический страх, что она не выдержала и опустила глаза. — Когда ты был маленький, он к тебе плохо относился? — Нет, не думаю. — Он напряг память, но безуспешно. — Не знаю. Боясь оставлять Джима одного, Холли предложила идти к деду вместе, но он настоял, чтобы она пошла первой. — Постарайся разузнать побольше. Чтобы, когда я приду, мы могли не задерживаться дольше чем нужно… если беседа окажется не слишком приятной. Пожалуйста, подготовь его к встрече со мной, Холли. Поняв, что спорить с Джимом бесполезно, она неохотно согласилась. Однако не прошло и нескольких секунд, как Холли пожалела о своей уступчивости: если Джим снова потеряет контроль над собой, а ее не будет рядом, неизвестно, сумеет ли он устоять в схватке с Врагом. Палата Генри Айренхарта оказалась пустой, но дружелюбная сиделка провела Холли в комнату отдыха, где за столом шла азартная игра в карты, а в другом углу смотрели телевизор. Генри играл в покер со своими приятелями. Все четверо сидели за столом, специально предназначенным для инвалидов в колясках. Компания состояла из седой, похожей на птицу старушки в ярко-розовом костюме и двух старичков весьма хрупкого вида. Один из них был одет в красную майку, другой носил белую рубашку с галстуком-бабочкой. Заметив, что игра в полном разгаре и на кону возвышается целая гора голубых пластмассовых фишек, Холли решила не мешать участникам и отошла в сторонку, наблюдая за концом захватывающей партии. Игроки, продемонстрировав незаурядную склонность к драматическим эффектам, один за другим открыли карты, и седая женщина, которую звали Тельма, с торжествующим возгласом сгребла со стола выигрыш. Мужчины добродушно посмеивались и выражали сомнения в том, что победа досталась ей честным путем. Улучив момент, Холли вмешалась в их забавную перепалку и представилась Генри Айренхарту, не упоминая, что она невеста Джима. — Вы не могли бы уделить мне несколько минут? Я хотела бы кое о чем с вами поговорить. — Боже правый, Генри! — вскричал старичок в красной майке. — Да ты ей в отцы годишься! — Можно подумать, ты не знаешь этого старого развратника, — ввернул его приятель с бабочкой. — Лучше помолчи, Стюарт, — вступилась за Айренхарта Тельма. — Генри — истинный джентльмен, не то что некоторые. — Да, Генри, на этот раз тебе не уйти от женитьбы. — Зато тебе бояться нечего, Джордж, — отпарировала Тельма. — Впрочем, насколько я помню, — она подмигнула приятелям, — Генри в таких делах обходится без формальностей. Раздался взрыв хохота. Холли улыбнулась: — Похоже, у меня нет никаких шансов. — С Тельмой играть бесполезно. У нее всегда все козыри на руках, — сообщил Джордж. Заметив, что Стюарт собрал карты и тасует колоду, Холли сказала: — Извините, я не хотела прерывать вашу игру. — Ничего страшного, — ответил Генри. Он говорил немного невнятно, очевидно, после перенесенного инсульта. — Мы все равно делаем перерывы, чтобы сходить в уборную. — В нашем возрасте, — добавил Джордж, — если не следить за подобными вещами, нам никогда не удалось бы всем вместе собраться за столом. Они разъехались на своих колясках, а Холли пододвинула стул и села возле Генри. Она с большим трудом узнала в нем сильного мужчину с квадратным подбородком, которого видела на фотографии в гостиной. От инсульта больше всего пострадала правая сторона тела, и, хотя Генри не парализовало, Холли обратила внимание, что он, точно раненый медведь, бережно прижимает к груди свою большую руку. Он сильно похудел и, несмотря на здоровый загар, выглядел истощенным. Мышцы правой щеки казались неестественно расслабленными, и лицо несколько вытянулось. Грустное зрелище старческой немощи могло бы повергнуть Холли в тоскливые размышления о неизбежности конца каждой человеческой жизни, но в глазах старого Айренхарта она увидела несгибаемую волю и нежелание покориться судьбе. Говорил Генри медленно, запинаясь, но его речь выдавала в нем умного, веселого человека, не склонного впадать в отчаяние. Такие люди если клянут свою слабость, то так, чтобы их не слышали. — Я друг Джима, — произнесла она заранее приготовленную фразу. Лицо старика изобразило сильное удивление. Похоже, он не знал, что ответить. Наконец сказал: — Ну и как дела у Джима? — Не слишком хорошо. Генри. — Она решила говорить только правду. — Он очень несчастный человек. Старик отвел взгляд и уставился на гору голубых фишек для покера. — Да, — тихо произнес он. Раньше Холли не исключала возможности, что именно на Генри лежит доля ответственности за то, что Джим предпочел жить в мире фантазий. Однако сидящий перед нею человек совсем не походил на жестокого истязателя малолетних. — Генри, я хотела с вами поговорить, потому что мы с Джимом больше чем друзья, я люблю его, и он тоже признался, что любит меня. Я надеюсь, мы будем вместе очень, очень долго. К ее изумлению, глаза старика наполнились влагой и по морщинистым щекам побежали крупные слезы. — Простите, я не хотела вас расстраивать, — смутилась Холли. — Ну что вы, что вы. — Он левой рукой вытер глаза. — Это вы простите меня, старого дурака. — Зачем вы так! — Видите ли, я никогда не думал… мне казалось, что Джим так и останется один-одинешенек. — Но почему? — Видите ли… Нежелание Генри говорить плохо о внуке полностью рассеяло ее подозрения. — Он привык держать людей на расстоянии. Вы это имеете в виду? — попыталась ему помочь Холли. Генри горестно кивнул. — Джим всегда был такой неласковый, даже со мной. Я люблю его всем сердцем, но он никогда не показывал своих чувств, никогда не говорил, что любит меня, хотя я-то знаю, как он ко мне относится. Холли открыла рот, чтобы задать новый вопрос, но старик вдруг тряхнул головой, и его лицо исказилось страданием. Она даже решила, что у него начинается приступ. — Но это не его вина, видит Бог, он здесь ни при чем. — Генри начал заикаться от сильного волнения. — Я сам виноват в том, что наши отношения стали такими. Я не имел права тогда его обвинять. — Обвинять? — Я обвинил его в смерти Лены. Страх закрался в сердце Холли и уколол противной болезненной дрожью. Она выглянула в окно. Джима не видно. Он остался во дворе по другую сторону здания. Где он сейчас… что с ним… кто он… — Но что случилось с Леной? Не пойму, о чем вы говорите, — спросила она, боясь, что уже не нуждается в объяснениях. — Не могу себе простить того, как я тогда поступил, что подумал. — Генри замолчал и посмотрел на Холли, но она видела, что мысленно он весь в прошлом. — Джим казался таким странным, в нем ничего не осталось от мальчишки, которого я знал раньше. Таким его сделала Атланта. Холли сразу пришли на ум имена Сэма и Эмили Ньюсомов, чьи жизни Джим спас в хозяйственном магазине Атланты, расстреляв из дробовика грабителя Ринка. Однако Генри явно имел в виду совершенно другой случай, произошедший гораздо раньше. — Так вы ничего не знаете об Атланте? — спросил он Холли, заметив ее недоумение. С улицыдонесся странный шум, заставивший Холли насторожиться. Она не сразу сообразила, что непонятные звуки напоминают пронзительный клекот птиц, защищающих свои гнезда. Холли подумала, что птицы вьются над крышей и их крики отражаются эхом в дымоходе камина. Ничего страшного. Птичьи голоса постепенно отдалились и затихли Она вернулась к прерванному разговору. — Вы говорите, Атланта? Боюсь, что мне ничего не известно. — Ничего удивительного, что он не рассказывал даже вам. Он никогда не станет об этом говорить. — Что произошло в Атланте? — Это случилось в маленьком ресторанчике, который назывался «Дворец Утенка Дикси»… — Боже мой, — прошептала Холли. То самое место, которое она видела во сне. — Наверное, вам приходилось об этом слышать. — Старик поглядел на нее печальными глазами. Холли почувствовала, как ее лицо исказилось гримасой горя. В этот миг она думала не о родителях Джима, не о Генри, который их любил, а о Джиме. — Боже мой… — Она умолкла, не в силах вымолвить ни слова, и слезы застлали ей глаза. Генри погладил ее по руке, и Холли благодарно сжала его большую ладонь. Некоторое время она сидела молча, пытаясь прийти в себя. На другом конце комнаты, где смотрели телевизор, то и дело слышался звон колокольчиков и рев медных труб — там вовсю разворачивалась захватывающая телевикторина. Родители Джима погибли не так, как он рассказывал. Вымышленная автокатастрофа была одним из способов ухода от кошмарной действительности. Она знала правду. Знала, но отказывалась в нее верить. Последнее сновидение оказалось не предостережением, а еще одним воспоминанием Джима, которое он бессознательно спроецировал на ее мозг. Во сне она превратилась в другого человека: она стала Джимом. Точно так же, как две ночи назад побывала в облике Лены Айренхарт. Окажись у нее под рукой зеркало, она бы узнала в нем не себя, а десятилетнего Джима; точно так же в окне мельницы Холли увидела отражение лица Лены. Страшное зрелище залитого кровью ресторана ожило в памяти с новой силой, а по спине пробежала дрожь. Она поглядела в окно. Вид пустого двора наполнил ее страхом. — Они выступали в клубе, — заговорил старик. — А обедать любили в ресторанчике, который запомнился Джиму еще по прошлому приезду в Атланту. — Кто был убийца? — дрогнувшим голосом спросила Холли. — Сумасшедший. Представляете, ни за что ни про что умереть из-за какого-то психа! — Сколько погибло людей? — Много. — Сколько, Генри? — Двадцать четыре. Холли представила ад, в котором оказался маленький Джим. Представила, как он ползет по развороченным трупам. В воздухе стоит тяжелый запах крови и рвоты. Отовсюду слышатся крики ужаса и предсмертные хрипы. Она услышала сухой треск автоматных очередей: «Та-та-та-та-та-та…» — и плач молоденькой официантки. Зрелище было невыносимым. Весь ужас существования, вся жестокость человечества воплотились в одном диком кошмаре. Даже взрослому потребовалась бы целая жизнь, чтобы оправиться от страшного потрясения. Для ребенка исцеление вообще могло оказаться невозможным. Единственным способом не потерять рассудок оставался мир фантазий, несовместимый с отвратительной действительностью. — Джим был единственный, кому удалось спастись, — сказал Генри. — Опоздай полиция на пару секунд — и все. Они успели пристрелить психа в самый последний момент. — Рука старика слегка сжала ладонь Холли. — Джима нашли в углу на теле Джеми, его отца… он был весь в отцовской крови. Холли вспомнила конец сна: убийца неотвратимо приближается к ней, пиная стулья, отодвигая столы. Она забивается в угол и оказывается прижатой к мертвому мужчине. Сумасшедший подходит ближе, еще ближе, целится ей в лицо. Она не хочет видеть свою смерть и отворачивается… Холли вспомнила, как проснулась, захлебываясь несуществующей рвотой. Если бы она успела взглянуть в лицо убитому, она бы узнала отца Джима. Комната отдыха снова огласилась птичьими криками. Двое стариков подошли к камину, им показалось, что одна из птиц залетела в дымоход и теперь бьется там с пронзительным клекотом. — В отцовской крови… — тихо повторила Холли. Понятно, что даже спустя много лет гибель родителей остается незатянувшейся раной на сердце Джима. Мальчик знал не только то, что лежит на теле убитого отца, но и то, что его мать тоже среди мертвых. В один миг он потерял обоих родителей, остался сиротой.* * *
Джим сидел на скамейке во дворе приюта. Поблизости никого не было. Конец августа — обычно время засухи, но день выдался на удивление хмурый. Темное небо нависало над головой, точно перевернутая пепельница. Цветы на клумбах поблекли, утратили живость красок. Дул слабый ветерок, и верхушки деревьев покачивались, словно ежились от холода. Что-то должно случиться. Какое-то несчастье. Джим вспомнил, как Холли говорила, что ничего не произойдет, если он сумеет держать себя в руках. Нужно только держать себя в руках — и они в безопасности. Однако он чувствовал, что беда приближается. Беда. До его слуха доносились пронзительные крики птиц.* * *
Крики стихли. Холли отпустила руку Генри и, достав из сумочки носовой платок, высморкалась и вытерла глаза. К ней вернулась способность говорить, и она сказала: — Он винит себя в том, что случилось с его родителями? — Я знаю. Джим никогда об этом не говорил, но я видел, что он винит себя за то, что не сумел их спасти. — Но почему? Ведь ему было всего десять лет. Что он мог сделать против взрослого мужчины с автоматом? Яркие глаза Генри на мгновение потухли. Асимметрия в лице стала еще заметнее. Он печально сказал: — Я много раз говорил ему то же самое. Сажал к себе на колени, убеждал, что нельзя так себя казнить. Лена тоже с ним разговаривала. Но все без толку. Он просто возненавидел себя. Холли украдкой посмотрела на часы. Одиночество Джима слишком затянулось. Однако нельзя прервать рассказ Генри как раз в тот момент, когда она вплотную приблизилась к разгадке. — Все эти годы я не переставал об этом думать, и похоже, мне кое-что удалось понять, — продолжил Генри, — но когда понял, было слишком поздно: Джим вырос, и мы много лет не говорили об Атланте. Честно сказать, к тому времени мы вообще перестали разговаривать. — И что вам удалось понять? Генри взял в ладонь здоровой левой руки слабую кисть правой и стал молча разглядывать шишковатые костяшки пальцев, обтянутые тонкой морщинистой кожей. Холли поняла: старик колеблется, рассказывать или нет ей о своих догадках. — Я люблю его, Генри. Он поднял голову и взглянул Холли в глаза. — Помните, вы сказали: Джим никогда не станет говорить о том, что случилось в Атланте. Вы правы, не станет. Я знаю, он любит меня, но многое в его жизни остается для меня тайной. Он точно стиснутый кулак, который не хочет разжаться. Если так получится, что я выйду за него замуж… Мне необходимо знать всю правду. На тайнах семейную жизнь не построишь. — Понимаю, конечно, вы правы. — Скажите, Генри, почему Джим обвиняет себя в смерти родителей? Ведь он просто убивает себя. Если есть хоть малейшая надежда ему помочь, вы должны мне рассказать то, что вам известно. Старик вздохнул и наконец решился: — Возможно, после того, как я сейчас скажу, вы решите: Генри Айренхарт совсем выжил из ума, но поверьте, я говорю чистую правду. Не стану разводить канитель, скажу только: у моей жены Лены была очень сильно развита способность к предчувствию. Не то, чтобы она могла видеть будущее. Нет, она не сумела бы угадать, кто выиграет скачки или где ты окажешься через год. Но иногда… например, ее за неделю вперед приглашают на воскресный пикник, а она возьми да и скажи: в воскресенье будет дождь. И точно, как она и говорила, с самого утра соберутся тучки и льет как из ведра до самого вечера. Или возьмите другой случай: забеременеет соседка, а Лена сразу скажет, парень у нее будет или девчонка. И ни разу не ошибалась. Холли чувствовала, как соединяются последние части головоломки. Перехватив смущенный взгляд Генри, она ободряюще погладила его по больной руке. Окинув ее долгим взглядом, старик спросил: — Вам приходилось видеть, как Джим делал удивительные вещи, похожие на колдовство? — Да. — Тогда вам, наверное, ясно, к чему я клоню. — Наверное. Тишину комнаты опять нарушили резкие, пронзительные крики. Сидевшие перед телевизором убрали звук и стали оглядываться по сторонам, пытаясь определить, откуда раздаются странные звуки. Холли повернулась к окну. В небе ни одной птицы. Волосы у нее зашевелились от ужаса. Она знала причину своего страха: появление птиц связано с Джимом. Она вспомнила, как он озирался по сторонам на кладбище и беспокойно следил за полетом черной стаи по пути из Нью-Свенборга в Солванг. — Джеми, наш сын, пошел в свою мать, — начал рассказывать Генри, будто не слыша птичьих криков. — Можно сказать, такие фокусы выходили у него даже лучше, чем у Лены. Когда он женился и Кара забеременела, Лена сказала: «Ребенок будет необыкновенным. Из него выйдет настоящий колдун». — Колдун? — Обычные деревенские разговоры. У нас так зовут людей, которые отличаются от других. Лена и Джеми тоже были не такие, как все, но Джиму предсказывали просто необыкновенное будущее. Парню и четырех не исполнилось, а он уже такое выделывал! Однажды взял расческу, которую я купил в нашей парикмахерской, и ну рассказывать, кого я там видел и с кем беседовал. Представляете? Сам-то он у нас там ни разу не стригся. Джеми и Кара тогда жили в Лос-Анджелесе. Он умолк и глубоко вздохнул. Холли заметила, что каждое слово дается ему с большим трудом. Веко на правом глазу опустилось. Разговор заметно утомил старого Айренхарта. К камину подошел санитар. Вытянув руку с фонарем, он попытался заглянуть в дымоход, предполагая, что в трубу попала птица. Крики не смолкли, но их заглушило жуткое хлопанье крыльев. — Стоило Джиму взглянуть на вещь, как он мог сразу сказать, откуда она и кто ее хозяин. Всего-то он, конечно, не знал. Например, брал вещь и называл имена ваших родителей, а другому говорил, в какой школе тот учился и как зовут его детей. Каждый раз что-нибудь новое. Джим не умел управлять своим даром, но никогда и не ошибался. Санитар и трое добровольных советчиков отошли от камина и, нахмурившись, изучали вентиляционные отверстия. Комната по-прежнему оглашалась душераздирающим птичьим клекотом. — Пойдемте во двор. — Холли поднялась со стула. — Подождите, — подавленно сказал Генри, — мне осталось сказать всего несколько слов. Ради Бога, держись, Джим. Выдержи хотя бы одну-две минуты. Она неохотно села. — Способности Джима были нашей семейной тайной. Мы не хотели, чтобы пошли глупые слухи и к нам зачастили всякие непрошеные гости. Однако Кара мечтала стать эстрадной звездой. Джеми встретил ее, когда работал в «Уорнер бразерс». Он не захотел ей перечить, и они придумали давать представления. Джима назвали «Чудо-ребенком», и парень был у них за главного участника. Все выглядело как трюк: Джеми и Кара нарочно предлагали зрителям попробовать разгадать их фокусы. Тем и в голову не приходило, что все по-настоящему, без подделки. Они зарабатывали на выступлениях хорошие деньги. К тому же им нравилось, что семья всегда в сборе. Джеми и Кара и раньше-то дня не могли прожить друг без друга, а работа еще сильнее их сблизила. Ни одни родители так не любили своих детей, как они любили Джима. Все трое были всегда такие счастливые, неразлучные…* * *
По темному небу пронеслась стая черных птиц. Джим поднял голову и проводил их взглядом. Птицы нырнули в тучи на западе и, казалось, исчезли, но через некоторое время вернулись и стали кружиться над скамейкой. Черные зазубренные линии, мечущиеся в тусклом мертвенном небе, напомнили ему образы, созданные фантазией Эдгара По. Мальчишкой Джим любил стихи По и выучил наизусть наиболее мрачные строки. Ужасное по-своему привлекательно.* * *
Крики внезапно смолкли. Казалось, можно спокойно вздохнуть, но наступившая тишина испугала Холли не меньше жутких звуков. — Джим подрастал, и одновременно росли его способности, — продолжал рассказывать Генри. Он с трудом переменил позу, и впервые за время их беседы Холли заметила, что Айренхарт раздражен своей беспомощностью. — К шести годам он усилием воли двигал по столу монетки, к восьми — подбрасывал и держал их в воздухе, а когда ему стукнуло десять, Джим запросто проделывал этот трюк с грампластинкой или коробкой печенья. Таких чудес я в жизни не видывал. «Вы бы посмотрели, какие фокусы выкидывает ваш внук сейчас», — подумала Холли. — Они никогда не пользовались этим в своих представлениях, — сказал Генри, — предпочитали работать с вещами зрителей. У тех просто глаза на лоб лезли: не могли понять, как Джиму удается угадывать их имена и все остальное. Хотя в конце концов Джеми и Кара начали подумывать о том, чтобы включить в программу кое-какие трюки с подниманием предметов, но не знали, каким образом это сделать, не раскрывая истинной правды. Потом они заехали пообедать во «Дворец Утенка Дикси», и… все было кончено. Нет, не все, кончилась одна жизнь, но началась другая, темная и страшная. Она поняла, почему внезапное затишье испугало ее сильнее жутких голосов птиц. Крики — то же самое, что шипение бикфордова шнура. Пока его слышишь, взрыв еще не поздно остановить. — Вот почему Джим считал, что должен был спасти родителей. Мне кажется, он думал, что мог помешать убийце, например заклинить затвор, поставить автомат на предохранитель… — Он мог это сделать? — Наверное, да. Но ему тогда было всего десять лет. Представьте, маленький испуганный мальчишка. Для того чтобы двигать монетки и подбрасывать в воздух пластинки, ему требовалось сосредоточиться, а как сосредоточишься, если со всех сторон летят пули? Холли вспомнила чудовищные звуки выстрелов: — Та-та-та-та… — Когда Джима привезли из Атланты, он почти не разговаривал. Скажет слово и замолкнет на целый день. Что-то умерло в нем вместе с Джеми и Карой, и нам так и не удалось ему помочь, хотя, видит Бог, мы очень любили мальчика. Его способности тоже умерли. По крайней мере, так казалось. Он совсем забросил свои трюки, и через несколько лет даже не верилось, что он когда-то умел делать такие чудеса.Несмотря на бодрый вид. Генри Айренхарту можно было с первого взгляда дать его восемьдесят лет. Сейчас же он выглядел намного старше, походил на древнюю статую. — С ним было так тяжело после Атланты. Казалось, ярость в нем кипит… Я и любил его, и немного боялся. Потом я заподозрил Джима в… — Я знаю, — сказала Холли. Вялые мышцы старческого лица напряглись. Генри настороженно посмотрел на собеседницу. — Вы говорите о своей жене. О том, как умерла Лена. — Вы много знаете, — произнес Айренхарт еле слышным голосом. — Слишком много, — ответила Холли. — Парадокс, но это из-за того, что всю мою жизнь я знала слишком мало. Генри снова уставился на свои руки. — Ну как мне пришло в голову, что десятилетний ребенок, даже такой больной, мог столкнуть ее с лестницы? Ведь я знал, как Джим любил Лену. Слишком много лет прошло, прежде чем я понял, каким жестоким и глупым я тогда был. Понял, да только поздно. Джим уже не стал слушать моих извинений. Как поступил в колледж, так больше и не возвращался. За тринадцать лет ни разу не приехал меня навестить. «Однажды он приезжал, — подумала Холли, — девятнадцать лет спустя после гибели Лены. Приехал, чтобы поверить в ее смерть». — Если бы он только захотел меня выслушать… — Голос Генри дрогнул. — Он здесь. Джим приехал, чтобы вас увидеть. Страх, отразившийся на лице Айренхарта, казалось, состарил его еще больше. — Джим здесь? — Он приехал, чтобы выслушать вас, — только и могла сказать Холли. — Хотите, я сейчас его позову?
* * *
В небе по-прежнему кружилась страшная стая. Восемь черных птиц с дьявольскими криками проносились над головой Джима. Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой, Над старинными томами я склонялся в полусне, Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался, Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне. Джим шепнул черным птицам в небе: — «Молвил Ворон: «Никогда»».Он услышал тихое ритмичное поскрипывание, как будто рядом вращалось колесо, и различил еле слышные за скрипом шаги. Оглянувшись, Джим увидел Холли, которая шла к скамейке, толкая перед собой коляску Генри. Восемнадцать лет прошло, как он уехал из дому, и за эти годы они виделись с дедом только один раз. Поначалу было несколько телефонных разговоров, но потом Джим прекратил звонить сам и не стал отвечать на звонки Генри. Письма деда он выбрасывал не читая. Все это пронеслось в его мозгу, и он начал припоминать, что послужило причиной их разрыва. Попытался встать, но ноги не послушались его, и он так и остался сидеть.
* * *
Холли подвезла коляску к скамейке и присела рядом с Джимом. — Как ты тут без меня? Он молча кивнул и, избегая смотреть на деда, стал рассматривать птиц, выписывающих круги на грязном пепельном небе.Старик тоже не мог смотреть на Джима. Он с таким видом уставился на цветочную клумбу, что казалось, спешил на улицу только за тем, чтобы увидеть растущие на ней цветы. Холли понимала, что на ее долю выпала нелегкая задача. Она жалела этих несчастных мужчин и хотела сделать все возможное, чтобы соединить разорванную нить, которая когда-то связывала деда и внука. Но прежде всего нужно сжечь семена последней лжи Джима, в которую он сознательно или бессознательно верит. — Послушай, малыш. Никакой автокатастрофы не было. — Она положила руку ему на колено. — Это случилось не так. Джим перестал следить за полетом черных птиц, и в его взгляде вспыхнуло нервное ожидание. Он хотел знать правду и в то же время смертельно боялся ее услышать. — Это случилось в ресторане… Джим отрицательно покачал головой. — …в Атланте… Его зрачки расширились от ужаса. — …ты был с ними… Джим словно окаменел, и страшная тень легла на его лицо. — …в ресторане «Дворец Утенка Дикси». Воспоминания обрушились на него как удар бетонной сваи. Он пошатнулся и скорчился, сжал кулаки. Лицо исказилось гримасой боли. Широкая спина затряслась в беззвучных рыданиях. Холли обняла его за плечи.
— Боже правый… — Генри Айренхарт с ужасом смотрел на внука, начиная понимать, в какую бездну отрицания тот себя загнал. — Боже правый. Старик снова уставился на цветочную клумбу. Потом стал разглядывать свои руки, перевел взгляд на землю. Казалось, он всячески избегает смотреть на Холли, но она все-таки поймала его взгляд. — Мы лечили Джима, — обреченно произнес Генри, точно пытаясь искупить свою вину. — Мы поняли, что потребуется лечение, и показали его психиатру в Санта-Барбаре. Ездили к нему на прием несколько раз. Делали все, что от нас зависело, но врач — его звали Хемфилл — сказал: «У Джима все в порядке»… После шестого раза он так и сказал: «У Джима все в порядке». — Да что они знают, эти врачи! Что мог сделать ваш Хемфилл? Ведь он совсем не знал мальчика, не любил его. Генри вздрогнул, точно она его ударила, хотя Холли и не думала, что он воспримет ее слова как обвинение в свой адрес. — Нет, что вы, — быстро заговорила она, надеясь, что Генри ей поверит, — я вовсе не вас имела в виду. Я хотела сказать, нет ничего удивительного в том, что мне удалось то, чего не смог Хемфилл. Я люблю его, а любовь — единственное средство ему помочь. Она ласково погладила Джима по голове. — Ты не мог их спасти, малыш. Ты был еще тогда слишком мал. Счастье, что тебе вообще удалось остаться в живых. Послушай меня, солнышко, ты должен мне поверить. Стало тихо. Все трое сидели, потрясенные обрушившимся на них горем. Холли заметила, что птиц в небе прибавилось. Наверное, их уже больше десятка. Черные бестии — порождение фантазии Джима. Холли видела, с каким ужасом он смотрит на небо. Она дотронулась до руки Джима. Он перестал всхлипывать, но намертво сжатые кулаки казались вырубленными из мрамора. — Скорее расскажите ему все. Объясните, почему вы… так с ним поступили, — попросила она Генри. Старый Айренхарт нервно откашлялся и, не отрывая глаз от носков своих ботинок, сказал: — Значит так… вам нужно знать… как все случилось. Через несколько месяцев после того как он вернулся из Атланты, к нам в город приехали киношники, решили, значит, снимать у нас кино… — «Черная мельница», — подсказала Холли. — Джим тогда читал, не отрываясь… — Генри умолк и, будто собираясь с силами, устало прикрыл глаза. Затем снова открыл и посмотрел на склоненную голову внука. — Ты глотал одну книгу за другой, а когда начали снимать фильм, прочел роман Уиллота. С него-то все и началось… Это стало настоящим наваждением. Кроме пришельцев, ты ни о чем и думать не мог. А мы, дураки, обрадовались, что нашли способ тебя разговорить. Даже специально свозили в Нью-Свенборг посмотреть на съемки. Помнишь? А некоторое время спустя ты возьми да и скажи: в пруду, значит, на нашей ферме сидят пришельцы. Ну прямо как в кино или в книге. Поначалу нам казалось, что ты придумал себе такую игру. Генри остановился. Наступило долгое молчание. Холли посмотрела вверх: птиц стало вдвое больше. Они парили над землей, описывая широкие бесшумные круги. — Но потом вы начали беспокоиться, — сказала Холли, обращаясь к Генри. Старый Айренхарт провел рукой по изборожденному морщинами лицу, точно хотел убрать с глаз налет времени, мешающий заглянуть в прошлое. — Ты часами пропадал на мельнице. Иногда с утра и до вечера. Несколько раз я просыпался по ночам и видел свет в верхнем окне. Представляешь, два или три часа ночи, а тебя нет дома. Генри говорил очень медленно и подолгу молчал, прежде чем начать следующую фразу. И дело даже не в усталости — слишком мучительно было вспоминать давно забытое прошлое. — Я или Лена шли на мельницу и забирали тебя оттуда. Ты каждый раз рассказывал нам о Друге, который живет на мельнице. Мы испугались за тебя, но не знали, что делать… и получилось, ничего не делали… В ту ночь… когда Лены не стало… началась настоящая буря… Холли вспомнила виденный ею сон: …подгоняемая порывами ветра, она быстро идет по гравиевой дорожке… — Лена не стала меня будить. Пошла за Джимом на мельницу одна… …поднимается по крутым каменным ступенькам… — За окном гроза, гром гремит, а я сплю себе. Бывало устану за день — пушкой не разбудишь… …проходит мимо узкого окна, которое то и дело озаряется вспышками молний. Она смотрит на улицу и замечает в пруду очертания странного предмета… — Наверное, Джим, как обычно, взял свечу, забрался наверх и устроился с книжкой… …сверху доносятся дьявольские крики, визги и шепоты, в сердце закрадывается тревога за Джима, она поднимается по лестнице, входит в распахнутую железную дверь… — Наконец так громыхнуло, что я все-таки проснулся… …и видит испуганного мальчика, который стоит в центре комнаты, прижав к бокам маленькие кулачки. У его ног горит толстая желтая свеча на голубом блюдце, рядом на полу лежит книжка в яркой обложке… — Гляжу, Лены нет, а в окошке мельницы тусклый такой свет виднеется… …мальчик бросается к ней с криком: «Помоги, мне страшно, стены, стены!..» — Потом смотрю и не верю: мельница крутится, а ведь уже в то время она лет пятнадцать как не работала… …она видит в стене янтарный свет, мутные пятна желчи; стена вздувается и она замечает, что в камне скрывается живое существо… — Крылья вертятся, как пропеллеры. Я быстро оделся… …он идет, — говорит мальчик. В его голосе слышится испуг, но одновременно и странное лихорадочное возбуждение. — Его никто не сможет остановить! — Прихватил внизу фонарь — и на улицу. А там дождь как из ведра… …огромные каменные блоки лопаются, точно хрупкая мембрана яйца насекомого, и из зловонной жижи, возникшей на месте известняка, появляется дьявольское олицетворение черной ярости несчастного ребенка, возненавидевшего весь мир за его жестокость и несправедливость, страшная лютая ненависть и стремление к смерти, воплощенные в образе отвратительного чудовища… — Подбегаю к мельнице — крылья и в самом деле вращаются… На этом ее сон заканчивался, но воображение легко нарисовало то, что могло случиться дальше. При виде Врага Лена в ужасе попятилась и, оступившись, упала с лестницы. Перил там нет, и ей не за что было уцепиться, чтобы задержать падение, которое оказалось для нее смертельным. — Захожу внутрь… она лежит возле лестницы на полу… мертвая. Генри замолчал и проглотил комок в горле. Его взгляд был прикован к опущенной голове Джима. На протяжении всего рассказа он ни разу не посмотрел на Холли. После долгой паузы старик снова заговорил, стараясь выделять каждое слово, точно то, что он хотел рассказать, означало для него вопрос жизни и смерти. — Я поднялся наверх и нашел тебя в комнате. Помнишь, как это было? Ты сидел возле свечи и держал книгу. Ты так крепко зажал книгу в руке, что даже несколько часов спустя я не смог ее у тебя отнять. Я пытался узнать, что произошло, но ты словно воды в рот набрал. — Голос Генри дрогнул. — Видит Бог, я тогда ни о чем, кроме Лены, думать не мог. Куда ни пойду — а перед глазами ее лицо, как она лежит на полу мертвая. Ты всегда был странным ребенком, Джим, а в тот момент вообще повел себя странно: вцепился в свою книжку, не хотел разговаривать. Наверное… наверное, я от горя совсем потерял голову. Подумал, что ты мог столкнуть Лену с лестницы… что она пришла, а на тебя… что-то нашло, и ты ее толкнул… И, словно не в силах больше смотреть на внука. Генри обратил свой взгляд на Холли. — Меня всегда удивляло, как сильно переменился Джим после смерти родителей… стал совсем чужой, незнакомый. С виду был тихий, но я чувствовал, что в нем кипит ярость, какой не должно быть в десятилетнем мальчишке. Джим прятал свои чувства, и они прорывались, только когда он спал. Услышав крик, мы шли к нему в комнату… он катался по кровати, бешено колотил подушки, рвал одеяло… вымещал на них злость на того, кто тревожил его во сне. Генри остановился и посмотрел на свою правую руку, лежащую на колене бессильным грузом. Кулак Джима под ладонью Холли по-прежнему оставался каменным. — Ты был хорошим парнем, Джим, и никогда не причинял зла ни мне, ни Лене. Однако в ту ночь я точно спятил. Схватил тебя, стал трясти, требовал, чтобы ты сознался, что столкнул Лену с лестницы. Не должен был я так себя вести… но мой рассудок совсем помутился от несчастья. Сначала Джеми и Кара, потом Лена. Все умерли. У меня никого не осталось, кроме тебя, а ты был такой чужой, холодный… И я, вместо того чтобы обнять, пожалеть, выместил на тебе свое горе… Только много лет спустя понял я, что натворил… да было слишком поздно. Черная стая собралась над скамейкой и кружилась прямо над их головами. — Не надо, — тихо попросила она Джима. — Пожалуйста, не надо. Джим молчал. Ему вернули память о прошлом, но еще неизвестно, чем все это закончится. Если он винил себя в смерти бабушки только из-за тех давних слов Генри, у нее нет повода для беспокойства, если Лена действительно оступилась, испугавшись монстра, дело тоже поправимое — время залечит раны, но что, если Враг вырвался из стены и сам столкнул ее с лестницы… — Шесть лет я относился к тебе как к убийце, — вздохнул старый Айренхарт, — лишь когда ты поступил в колледж и уехал… понял, какую чудовищную ошибку я совершил. Ты тогда остался один-одинешенек. Ни матери, ни отца, ни бабушки. Даже с другими ребятишками тебе не удавалось поиграть из-за мерзавца Неда Закки. Он был сущий дьявол, да к тому же в два раза больше тебя. Ничего удивительного, что ты так полюбил читать, книги стали твоим единственным другом, заменили семью. Когда я наконец понял свою ошибку, то попытался поговорить с тобой по телефону, но ты не отвечал на звонки. Написал несколько писем, но, думаю, ты их даже не читал. Джим сидел точно неподвижная статуя. Генри взглянул на Холли. — Когда со мной случился удар, Джим все-таки приехал. Он сел возле моей кровати. Я хотел сказать ему о своей ошибке, но язык не слушался, и получилось совсем не так, как я хотел… — Потеря речи, — сказала Холли, — последствие инсульта. Генри кивнул. — Я наконец-то решился поведать Джиму то, что томило меня целых тринадцать лет: хотел попросить прощения за то, что считал его убийцей. — В глазах Генри стояли слезы. — Но вышло все наоборот: он подумал, я опять обвиняю его в убийстве, и уехал. Сегодня я увидел Джима впервые за четыре года. Джим молчал, опустив голову, положив на колени каменные кулаки. Что вспомнилось ему о той ночи на мельнице? Ведь кроме него никто не знает всей правды. Не выдержав мучительного ожидания, Холли поднялась со скамейки. Постояла в нерешительности. Снова села. Положила ладонь на кулак Джима. Подняла голову. Птиц стало еще больше. Не меньше тридцати. — Я боюсь, — прошептал Джим и умолк. — После той ночи он ни разу не был на мельнице, никогда не упоминал о Друге или книге Уиллота. Я грешным делом подумал, что дела пошли на поправку… он стал не таким странным. Но позже мне пришло в голову, что Джим лишился единственной отдушины, которая у него была. — Я боюсь вспоминать, — снова прошептал Джим. Холли знала причину его страха: осталось узнать только одну последнюю тайну — была ли смерть Лены Айренхарт случайностью или ее убил Враг. Если последнее окажется правдой, Джим действительно убийца. Не в силах видеть опущенную голову Джима и горькое раскаяние на лице старика, Холли снова посмотрела вверх и заметила, что птицы снижаются. Три десятка черных ножей со свистом резали серое небо, неотвратимо приближаясь к месту, где они сидели. — Не надо, Джим. Генри посмотрел на небо. Джим поднял голову, но не для того, чтобы увидеть опасность. Он знал, что его ждет, и поднял голову, подставляя свои глаза под страшные клювы и острые когти. Холли вскочила на ноги, сразу превратившись в самую заметную мишень. — Вспомни, Джим! Ради Бога, вспомни! В ушах у нее звенели пронзительные крики быстро приближающихся птиц. — Даже если это сделал Враг, — она прижала голову Джима к груди, закрыла его точно щитом, — ты должен с этим справиться. Генри вскрикнул от ужаса. Птицы с шумом пронеслись над Холли, вытягивая длинные шеи, пытаясь из-за ее спины дотянуться до лица Джима. Они не причинили ей вреда, но одному Богу известно, что произойдет в следующую секунду. Черная стая — воплощение Врага, а он ненавидит Холли не меньше, чем Джима-Птицы взмыли в серую высоту и исчезли из виду. Она заметила испуг на лице Генри, но, к счастью, он не пострадал. — Скорее уезжайте отсюда, — крикнула она ему. — Нет. — Рука старика беспомощно потянулась к Джиму, который продолжал сидеть точно каменное изваяние. Одного взгляда на небо оказалось достаточно, чтобы понять: птицы еще вернутся. Они только скрылись за серыми бородатыми тучами, и в следующий раз их будет больше: пятьдесят или шестьдесят черных прожорливых тварей. Она заметила людей, выглядывающих из окон приюта, и услышала шорох отодвигаемых стеклянных дверей. На улицу вышли две сиделки. — Назад! — крикнула им Холли. Она не знала, угрожает ли женщинам опасность. Ярость Джима, направленная против самого себя и, возможно, против Бога, которого он винит в существовании смерти, может выплеснуться на невинных. Должно быть, ее крик испугал сиделок, и они вернулись в здание. Она подняла глаза: черная стая снова зависла над двором. — Джим! — Ее пальцы сжали его виски. Она заглянула в синие глаза и увидела в них холодный огонь ненависти к самому себе. — Тебе осталось сделать всего один шаг. Пожалуйста, вспомни. Он смотрел на нее в упор, но, казалось, не видел. Такой же отсутствующий взгляд был у него в «Садах Тиволи», когда к ним ползло подземное чудовище. Двор огласился дьявольскими воплями летящей к земле стаи. — Джим, нельзя убивать себя из-за смерти Лены! Воздух наполнился ржавым скрежетом крыльев. Холли спрятала голову Джима у себя на груди. Он не противился, и его покорность вселила в нее надежду. Сама она, как могла, пригнулась и изо всех сил зажмурила глаза. Стая обрушилась на нее с яростным клекотом. Она чувствовала холодные прикосновения гладких клювов, сначала осторожные, потом все более настойчивые. Птицы кружились вокруг нее, словно стая обезумевших от голода крыс. Они тянули к Холли острые когти, разевали хищные челюсти, пытаясь протиснуться между ее грудью и лицом Джима. Казалось, еще миг — и ей в лицо брызнут кровавые лохмотья. Шелковистые перья птиц щекотали кожу. Она содрогалась от отвращения, пошатываясь под оглушительными ударами крыльев. В ушах стоял душераздирающий вопль, точно рядом визжала буйно помешанная. Проклятые твари жаждали крови, крови, крови… Одно из чудовищ разорвало рукав ее блузки и оставило на теле болезненную ссадину. — Нет! Птицы одна за другой взмыли вверх и исчезли. Холли не сразу поняла, что они улетели, потому что приняла за шум крыльев громовые удары сердца и хрип собственного дыхания. Когда она осмелилась открыть глаза, то увидела, как стая выписывает черную спираль на фоне свинцового неба, сливается с другой, еще большей стаей, и вся эта дьявольская масса крыльев и тел со страшной скоростью несется к земле. Она взглянула на Генри Айренхарта и заметила, что рука у него в крови. Наклонившись вперед, он пытался дотянуться до Джима, снова и снова повторяя имя внука. Взгляд Джима сказал Холли, что его мысли далеко от нее. Скорее всего он сейчас на мельнице в ту безумную ночь. Перед ним бабушка с искаженным от ужаса лицом. Через мгновение ее не станет, но в памяти, точно на остановившейся пленке, застыл один и тот же стоп-кадр. Черная стая закрыла полнеба. Казалось, они еще далеко, но их было так много, что от страшного скрежета крыльев закладывало уши. Птичьи крики звучали как вопли из ада. — Ты сам вправе выбирать между жизнью и смертью. И, если ты задумал убить себя, как Ларри Каконис, не в моих силах тебе помешать. Но запомни одно. Даже если Враг захочет убить только тебя, я все равно умру. Зачем мне жить, если тебя не станет? Я убью себя, как Ларри Каконис, и провалюсь ко всем чертям, если ад — единственное место, где мы сможем быть вместе. Враг обрушился на Холли с удесятеренной силой. Она в третий раз прижала к груди лицо Джима, но сама осталась стоять с поднятой головой, отыскивая в неистовом водовороте крыльев, клювов и когтей блестящие бусины птичьих глаз. Они казались черными, как безлунная ночь, отраженная в морской бездне, и безжалостными, как сама Вселенная, как ненависть, кипящая в сердце человечества. Холли знала, что заглянула в черные глубины души Джима, до которых ей раньше не удавалось докричаться. Не сводя глаз с мечущихся бусин, она тихонько окликнула его по имени. В ее голосе не прозвучало ни мольбы, ни страха, ни гнева. Холли вложила в короткое слово всю нежность, всю любовь, которую к нему испытывала. Птицы били ее крыльями, разевали длинные клювы, оглушительно кричали. Они угрожающе цеплялись за одежду и волосы, но медлили разорвать Холли в клочья, точно давали последний шанс убежать и спастись. Их холодные немигающие взгляды буравили ее насквозь, но Холли не испугалась. Она звала Джима по имени и повторяла, что любит его, повторяла до тех пор… пока птицы не исчезли. Они не улетели, как раньше. Они точно испарились. Только что воздух сотрясался от их пронзительных воплей, и вдруг наступила мертвая тишина. Как будто ничего и не было. Холли продолжала прижимать к себе Джима еще несколько секунд, потом отпустила. Он по-прежнему смотрел сквозь нее невидящим взглядом, точно находился в глубоком трансе. — Джим, — умоляюще позвал Генри, протягивая к нему руку. После короткого колебания Джим соскользнул со скамейки и опустился на колени перед дедом. Взял руку старика и поцеловал. Потом сказал, не поднимая глаз от земли: — Бабушка увидела, как Враг вылезает из стены. Раньше такого никогда не случалось. — Голос Джима звучал отстраненно, будто часть его существа все еще жила в прошлом. — Она испугалась, попятилась и сорвалась с лестницы… Он помолчал, потом прижал ладонь деда к своей щеке и тихо произнес: — Я не убивал ее. — Я знаю, Джим, — дрожащим голосом ответил старик, — я знаю, что ты этого не делал. Он вопрошающе взглянул на Холли, и она поняла, что у Генри накопилась тысяча вопросов о птицах, врагах и стенах. Но ему придется подождать ответов, как пришлось ждать ей и Джиму.
Глава 3
Всю дорогу до Санта-Барбары Джим сидел, откинувшись на сиденье и закрыв глаза. Казалось, он спит глубоким сном. Холли подумала, что за двадцать пять лет ему ни разу не удалось по-настоящему отдохнуть. Она не стала его будить: Враг ушел, а вместе с ним исчез и Друг. Теперь в теле Джима живет только одна личность — он сам. Сны больше не двери. Холли решила пока не возвращаться на мельницу, хотя там остались их вещи. Она сыта по горло Нью-Свенборгом и всем, что с ним связано. Лучше всего отыскать место, где они раньше не были, и начать новую жизнь, не омраченную тенями прошлого. По обе стороны шоссе расстилалась бурая от солнца земля. Она вела машину и думала, глядя на пепельно-серый небосклон. Постепенно в голове из мелких частиц сложилась четкая картина. …Необычайно одаренному мальчику, который даже не подозревает о скрытых в нем гигантских возможностях, удается выжить в бойне, произошедшей во «Дворце Утенка Дикси», однако испытанные им ужасы не проходят для него бесследно. Желая оправдаться в собственных глазах, он с помощью фантазии Артура Уиллота создает Друга — воплощение своих самых благородных устремлений — и узнает от него, что ему суждена особая миссия. Но одному Другу не под силу исцелить ребенка, чье сердце переполнено гневом и отчаянием. Ему необходима третья личность, чтобы спрятать отрицательные эмоции, черную ярость, которая пугает его самого. Тогда он создает Врага, изменяя сюжет романа Уиллота. Оставшись один на мельнице, мальчик ведет увлекательные беседы с Другом и дает выход ярости в образе ужасного Врага. Это продолжается до тех пор, пока однажды ночью не погибает Лена Айренхарт. Испугавшись вида Врага, она оступается и падает… Потрясенный ее смертью, Джим заставляет себя забыть созданных его фантазией Друга и Врага точно так же, как в книге Джим Джемисон забывает о встрече с пришельцем. Почти двадцать пять лет он живет тихо и незаметно, боясь сильных чувств, подавляя в себе и хорошие, и дурные стороны своей личности. Работа в школе дает ему надежду на возрождение, но самоубийство Ларри Какониса приводит его в смятение. Лишившись цели в жизни, мучимый угрызениями совести, он начинает винить себя в гибели родителей и смерти бабушки. Скрытый в подсознании образ Джима Джемисона рождает в нем тягу к приключениям и тем самым дает выход энергии Друга. Но, освободив Друга, он также освобождает Врага. За годы бездействия скрытая в нем ярость становится еще более черной и страшной. В ней нет ничего человеческого. За двадцать пять лет Враг вырос и превратился в немыслимое чудовище, алчущее крови…* * *
Джим во всем походил бы на других жертв раздвоения личности, если бы не одно маленькое отличие: созданные им существа не были людьми, и, самое главное, ему удавалось оживлять порождение своей фантазии. Если в нашумевшем случае с Салли Филд в облике больной жили шестнадцать личностей, то Джим мог воплощать себя в трех разных обличьях, и одно из них было маской кровожадного убийцы. Несмотря на уличную жару, ей стало зябко. Холли включила в машине печку, но так и не смогла согреться.* * *
Часы за регистрационной стойкой показывали одиннадцать минут второго. Приехав в Санта-Барбару, Холли оставила машину возле небольшой уютной гостиницы. Заполнила анкету и протянула клерку кредитную карточку. Джим по-прежнему спал на переднем сиденье «Форда». Получив ключи от номера, она сумела извлечь его из машины и довести до комнаты. Он шел словно в полусне, а оказавшись возле кровати, повалился на нее без чувств, свернулся калачиком и мгновенно уснул. В автомате напротив бассейна Холли купила две банки содовой, кубики льда и пару плиток шоколада. Вернувшись в комнату, она опустила шторы. Включила настольную лампу и накрыла абажур полотенцем, чтобы свет не падал на лицо спящего Джима. Пододвинула стул к кровати и села у изголовья. Он спал, а она медленно потягивала содовую и откусывала от шоколадки. Самое страшное осталось позади. Черные фантазии сгорели дотла, и Джим с головой окунулся в холодную реальность. Но что дальше? Она не знала. Каким он станет, лишившись иллюзорного мира, в котором прошла большая часть его жизни? Будет ли жизнерадостным оптимистом или, наоборот, превратится в унылого скептика? Останутся ли у него прежние способности? Он черпал их внутри себя только для того, чтобы сдержать безумные фантазии и сохранить рассудок. Возможно, теперь он, как в детстве, сумеет в лучшем случае поднять сковородку или подбросить в воздух монету. Но самое страшное — она не знает, будет ли он ее по-прежнему любить. Пришло время обедать, а Джим спал непробудным сном. Холли спустилась вниз, накупила еще шоколаду. Гулять так гулять. Судя по всему, через несколько лет она станет такой же толстой, как мать. Если, конечно, не будет следить за собой. Десять часов. Джим все еще спал. Одиннадцать. Полночь. Холли собралась его разбудить. Но остановилась, внезапно поняв, что сон — своего рода кокон, в котором рождается новая жизнь. Гусенице нужно время, чтобы превратиться в бабочку. По крайней мере, ей хотелось верить в найденное объяснение. Примерно в первом часу Холли заснула, сидя на стуле. Снов она не видела. Ее разбудил Джим. Она взглянула ему в глаза и не заметила в них холода. Онизагадочно мерцали в неярком свете затемненной лампы. Склонившись над ней, Джим осторожно потряс ее за плечо. — Просыпайся, Холли. Пора ехать. Сна как не бывало. — Куда? — Скрантон, штат Пенсильвания. — Зачем? Джим схватил одну из оставшихся шоколадок, разорвал обертку и, откусив сразу полплитки, сказал: — Завтра в полчетвертого пополудни бесшабашный водитель школьного автобуса попытается протаранить поезд на железнодорожном переезде. Если мы не успеем, погибнет двадцать шесть детей. — И ты знаешь все, не только отдельные детали? — Она поднялась со стула. — Конечно. — Он дожевал шоколад и хитро улыбнулся. — Кому же знать, как не мне. Ты сама говорила, что я — экстрасенс. Губы Холли расплылись в широкой улыбке. — Представляешь, каких дел мы с тобой наделаем, — восторженно говорил Джим. — Что там Супермен! Спрашивается, зачем он столько времени торчал в газете, вместо того чтобы заняться чем-нибудь полезным? — Никогда не могла этого понять, — ответила Холли, и голое у нее сорвался от нахлынувших чувств. Джим поцеловал ее, оставив на губах сладкий вкус шоколада. — Мы еще покажем, на что способны. Конечно, тебе придется подзаняться боевыми искусствами, научиться управляться с пистолетом и еще кое-чему. Ну да это для тебя пара пустяков, я-то знаю. Холли обняла Джима за шею и, вне себя от радости, прижалась к его груди. Наконец-то жизнь обретает смысл.
ЛОГОВО (роман)
О, что в себе ты, человек, таишь, Хоть внешне ангелом глядишь!Уильям Шекспир
«Логово» — одно из самых значительных и глубоких произведений знаменитого автора научно-фантастических триллеров Дина Кунца. В этом романе ужасов с потрясающей достоверностью раскрывается психология и описываются леденящие кровь деяния маньяка-убийцы, возомнившего себя Князем Тьмы — Вассаго, якобы попавшего на землю из ада, и, для того чтобы снова вернуться и преисподнюю, собирающего чудовищную коллекцию мертвецов.
Часть I. НА ВОЛОСКЕ ОТ НЕБЫТИЯ
Жизнь — дар, который надо возвратить, Но с радостью владеть им должно, Увы, путь жизни краток и необратим, И хоть поверить в это невозможно, Вечный мрак сей дар небес венчает, Круг замыкается, торжественно-печальный, Бой завершен, мелодия стихает.Книга Печалей
ОДИН
Глава 1
За темной оградой гор шумел и суетился целый мир, но Линдзи Харрисон ночь казалась безлюдной, такой же нежилой, как опустевшие покои холодного мертвого сердца. Дрожа всем телом, она еще глубже вжалась в сиденье «хонды». По обеим сторонам шоссе плотными рядами бежали вверх по склонам вечнозеленые растения, изредка расступаясь, чтобы освободить место торчавшим в разных местах кленам и березам с сорванными зимними ветрами листьями, протягивавшим к небу свои искореженные черные ветви. Но ни огромный лес, ни мощные скалы, за которые он цеплялся, ничуть не умаляли пустоты этой ужасной мартовской ночи. Когда «хонда» спускалась вниз по петлявшему асфальтовому шоссе, деревья и каменные выступы, проплывавшие мимо, казались бестелесными, словно сотканными из сновидений. Гонимый свирепым ветром, вихрем вертелся в снопах света фар мелкий сухой снег. Но и буря не могла заполнить собой вселенской пустоты. Пустота эта была, однако, в самой Линдзи, а не в мире. Ночь, как всегда, была до краев наполнена хаосом созидания. Пустой оставалась только ее душа. Она взглянула на Хатча. Сгорбившись, он сидел за рулем, немного подавшись вперед, не отрывая глаз от дороги, и казалось, что его застывшее и непроницаемое лицо ничего не выражало. Но за двенадцать лет совместной жизни Линдзи знала, что это не так. Хатча, великолепно управлявшего машиной, не пугали трудности дороги. Его мысли, как и ее, были всецело заняты уик-эндом на Большом Медвежьем озере, с которого они возвращались. В который уже раз пытались они воскресить ту непринужденность и ту легкость общения между собой, которые когда-то были столь естественными для них. И в который уже раз ничего у них не вышло. Цепи прошлого все еще крепко держали их. Смерть пятилетнего сына тяжелым грузом лежала на их плечах. Она душила всякое проявление жизнерадостности, отравляла смех, вселяла мрак в их души. Джимми уже не было с ними четыре с половиной года, почти столько же, сколько он прожил на свете, но его смерть и поныне висела над их головами и давила своей массой, словно огромная, низко плывущая в небе луна. Прищурившись, глядя сквозь почти сплошь залепленное снегом лобовое стекло поверх обледенелых, судорожно дергающихся дворников, Хатч едва приметно вздохнул. Переведя взгляд на Линдзи, улыбнулся ей. Улыбка получилась бледная, не улыбка, а призрак улыбки, без тени оживления, усталая и грустная. Казалось, он хотел что-то сказать, затем передумал, и дорога снова приковала его внимание. Три ряда шоссе — один правый, по которому они спускались, и два левых, бежавших навстречу, вверх, — были едва заметны под крутящейся снежной пеленой. Шоссе, сбегая к концу уклона, ненадолго распрямлялось, затем плавно переходило в широкий поворот с ограниченной видимостью. Прямой участок пути еще не означал, что Сан-Бернардинские горы остались позади. Шоссе еще раз должно было круто спуститься вниз. Пока они проезжали поворот, пейзаж, окружавший их, несколько изменился: шоссе резко пошло вверх, и за перевалом открылось черное зияющее ущелье. От него шоссе отделяло лишь выкрашенное в белый цвет дорожное ограждение, едва различимое в сплошном снежном мареве. Почти на выезде из поворота Линдзи вдруг охватило предчувствие надвигающейся беды. — Хатч… — прошептала она. Видимо, и Хатч почувствовал что-то неладное, так как не успела еще Линдзи открыть рот, как он мягко надавил на педаль тормоза и чуть сбавил скорость. В конце поворота уже ясно просматривался прямой участок пути, а на нем, под углом, перегородив сразу два ряда шоссе на расстоянии примерно в пятьдесят или шестьдесят футов от них, застыл пивной грузовик-цистерна. Линдзи хотела крикнуть «О боже!», но слова застряли у нее в горле. Когда шофер доставлял свой груз в район высокогорных лыжных курортов, он, очевидно, был в пути захвачен снежным бураном, который начался недавно, но на полдня раньше, чем предсказывали синоптики. Колеса огромного грузовика беспомощно скользили на обледенелом асфальте, в то время как шофер безуспешно пытался выровнять машину и продолжить свой путь. Выругавшись про себя, но внешне оставаясь совершенно спокойным, Хатч чуть сильнее нажал на педаль тормоза. Он не посмел резко вдавить ее в пол, опасаясь, что на скользкой дороге «хонду» может круто занести. Когда свет приближающихся фар ударил по кабине, водитель грузовика глянул в их сторону через боковое стекло. В разделявшем их быстро сокращавшемся промежутке, наполненном ночью и снегом, Линдзи увидела только бледный овал и два обуглившихся отверстия, где должны были быть глаза, — лицо призрака, словно за рулем машины сидел злой дух. Или сама Смерть. Хатч попытался вывернуть на крайний левый из двух бежавших в гору рядов шоссе, остававшийся свободным. Линдзи боялась, что, невидимые из-за грузовика, навстречу им могли ехать другие машины. Даже на небольшой скорости, если они лоб в лоб врежутся в одну из них, им несдобровать. Несмотря на все усилия Хатча, «хонда» потеряла управление. Заднюю часть машины занесло влево, и Линдзи увидела, что они проносятся мимо буксующего на месте грузовика. Плавное, скользящее, неконтролируемое движение было подобно цепочке призрачных видений в ночном кошмаре. Судорога свела ей живот, и, хотя ее удерживал ремень безопасности, она, приготовившись к худшему, инстинктивно прижала правую руку к двери, а левой уперлась в крышку бардачка. — Держись! — крикнул Хатч, поворачивая руль в сторону заноса, все еще надеясь удержать машину под контролем. Но скольжение перешло в головокружительное вращение, и «хонда», как карусель Каллиопы[134], повернулась один раз вокруг своей оси… потом другой… пока снова в их поле зрения не попал грузовик. На какое-то мгновение, когда они, все еще вращаясь и скользя, неслись под гору, Линдзи показалось, что они не заденут его. Впереди них, за грузовиком, она не увидела встречных огней машин: шоссе было свободным. И в этот момент передним бампером Хатч задел заднюю часть пивовоза. Ночь взорвалась скрежетом металла о металл. От удара «хонда», словно отнесенная взрывной волной, багажником врезалась в дорожное ограждение. Зубы Линдзи с такой силой щелкнули друг о друга, что острая, как молния, боль пронзила всю нижнюю часть лица и резко отдалась в висках; одновременно дикая боль пронзила неестественно согнувшееся от неожиданного удара запястье руки, которой она упиралась в бардачок. Ремень безопасности наискось, от плеча к бедру, пересекавший ее тело, резко натянувшись, с силой сдавил ей грудную клетку, дыхание перехватило. Машина, ударившись о дорожное ограждение, тотчас отскочила от него, но уже с меньшей скоростью, и потому не врезалась снова в пивовоз, а развернулась на триста шестьдесят градусов. В то время как они, не переставая медленно вращаться, скользнули мимо грузовика, Хатч попытался снова овладеть машиной, но, судорожно дергаясь то влево, то вправо, руль столь яростно этому воспротивился, что Хатч закричал от боли, когда тот буквально ожег ему ладони. Пологий спуск неожиданно оказался почти отвесным и таким гладким, словно отполированный водой желоб, по которому на аттракционах скатываются вниз люди. Если бы могла, Линдзи бы несомненно закричала. И, хотя предохранительный ремень уже давил не так, как раньше, боль, диагональю пронизавшая грудь, не давала ей свободно дышать. В голове пронеслось видение: «хонда», плавно скользя вниз к следующему повороту, не удержавшись на шоссе, пробивает поручни и падает вниз, в пустоту — видение это было настолько реальным и ужасным, что она снова часто и быстро задышала. На одном из полуоборотов «хонда», врезавшись в дорожное ограждение той стороной, где находилось сиденье водителя, и пробив его, по инерции пролетела еще футов тридцать-сорок, не упав, однако, вниз. Под аккомпанемент скрипа-грохота-скрежета-визга металла в воздух взметнулись мириады желтых искр и тотчас смешались с падающим снегом — словно рой летних жуков-светляков случайно принесся сюда, перепутав времена года. Задрожав, машина перестала двигаться и накренилась чуть влево и вперед, зацепившись, очевидно, за какой-то столб. Наступившая тишина была настолько глубокой, что ошеломила Линдзи; она взорвала ее, шумно выдохнув воздух. Никогда в жизни еще не испытывала она столь сильного и радостно наполнившего ее чувства облегчения. И в этот момент машина вновь пришла в движение. Ее стало сильно кренить влево. Насквозь проржавевший столб не смог, очевидно, выдержать тяжести машины, или осыпалась земля, в которую он был вкопан. — Прыгай! — закричал Хатч, судорожно шаря руками подле замка своего ремня безопасности. Но не успела Линдзи отстегнуть свой ремень и схватиться за ручку двери, как «хонда» скользнула в пропасть. Несмотря на реальность происходящего, Линдзи не желала этому верить. Мозг допускал возможность смерти, но сердце упорно противилось самой мысли о ней. В течение пяти лет она так и не примирилась со смертью Джимми и потому напрочь отметала возможность собственной близкой кончины. В скрежете и грохоте ломающегося дорожного ограждения «хонда» боком скользнула по обледенелому склону и, когда насыпь стала круче, перевернулась. Задыхаясь, с сильно бьющимся сердцем, испытывая невыносимую боль от ремня, врезавшегося в тело всякий раз, как только машина переворачивалась с одного бока на другой, Линдзи молила Бога, чтобы на их пути встретилось хоть какое-нибудь деревце или скальный выступ — все, что угодно, любое препятствие, которое хоть на какое-то время сможет задержать их падение, но насыпь была зеркально гладкой. Она не знала, сколько раз перевернулась машина, — может быть, всего два раза — потому что понятия верха, низа, правой и левой сторон полностью перемешались и утратили свой первоначальный смысл. Она с такой силой ударилась головой о крышу, что чуть не потеряла сознание. И так до конца и не поняла, то ли ее саму подбросило вверх, то ли вдруг осела крыша, но на всякий случай, сжавшись в комок, пригнулась на сиденье, опасаясь, что в следующий раз крыша осядет еще глубже и раздавит ей голову. Свет фар кромсал ночную тьму, и в просветах, как из разорванных ран, били фонтаны снега. Затем вдребезги разлетелось лобовое стекло, осыпав ее с головы до ног мельчайшими осколками, и тотчас все погрузилось в непроглядную тьму. Видимо, погасли фары, и из темноты вдруг выплыло лоснящееся от пота лицо Хатча, освещенное снизу тусклым светом приборов. Машина вновь перевернулась на крышу и в этом положении понеслась в пропасть с грохотом скатывающихся по железному желобу сотен тона угля. Со всех сторон обступившая их мгла была словно высечена из монолита, словно они с Хатчем находились не на открытом воздухе, а в полностью закрытом тоннеле увеселительного аттракциона неслись вниз на роликовых санях. Даже обычно отсвечивающий снег вдруг стал совершенно невидимым. Холодные снежинки, врывавшиеся в разбитое лобовое стекло, жалили лицо, но Линдзи не видела их, хотя они и налипали на ее ресницы. Безуспешно силясь унять подступавшую панику, она подумала, что осколки лопнувшего стекла засыпали ей глаза и она ослепла. Ослепла! Этого она боялась больше всего. Она же была художницей. Ее талант черпал вдохновение из того, что видели ее глаза, и под их бдительным надзором ее удивительно чуткие руки создавали произведения искусства. А что может рисовать слепой художник? Что она может создать, если вдруг лишится зрения, самого надежного из всех своих чувств? В то мгновение, когда она полностью осознала эту новую беду и закричала от горя и ужаса, машина, вновь перевернувшись, встала на колеса, но удивительно мягко, без резкого толчка, словно опустилась на громадную подушку. — Хатч! — хрипло позвала Линдзи. Шум их падения в пропасть оглушил ее, и наступившая тишина показалась ей зловеще неестественной, и она не знала, то ли действительно оглохла, то ли это ей только показалось. — Хатч! Она взглянула влево, на то место, где он должен был находиться, но не увидела ни его, ни вообще чего-нибудь. Она действительно ослепла. — Нет, Господи, только не это! Пожалуйста, только не это! Голова кружилась. Машина, словно воздушный змей, поворачиваясь, медленно парила в летнем небе, то плавно опускаясь, то вновь взмывая вверх. — Хатч? Молчание. Головокружение становилось невыносимым. Машина раскачивалась все сильнее. Линдзи боялась потерять сознание. Ведь если Хатч ранен, он наверняка истечет кровью, и она никак не сможет ему помочь. Она вытянула руку и дотронулась до его обмякшего на водительском сиденье тела. Голова его, склоненная на плечо, была повернута в ее сторону. Она провела рукой по его лицу. Он даже не пошевелился. Правая щека и висок были залиты чем-то теплым и липким. Кровь. Из раны на голове. Дрожащими пальцами она дотронулась до его губ и, когда почувствовала его теплое дыхание, зарыдала от облегчения. Он был без сознания, но жив. Тщетно шаря вокруг себя руками, пытаясь найти замок, чтобы отстегнуть ремень безопасности, Линдзи вдруг услышала звуки, которые поначалу не смогла определить. Мягкие пошлёпывания. Причмокивания. Жуткие, лижущие, журчащие. Оцепенев от страха, она пыталась определить источник этих сводящих с ума звуков. Внезапно «хонда» резко накренилась вперед и сквозь разбитое лобовое стекло Линдзи окатило ледяной водой. Она задохнулась от этой неожиданной арктической ванны, пронизавшей ее холодом до мозга костей, и тотчас сообразила, что не было у нее никакого головокружения. Машина действительно была в движении. Плыла по воде. Они упали в реку или озеро. Скорее всего, в реку. В озере они бы стояли на месте. На какое-то мгновение холодный душ парализовал ее, но когда Линдзи открыла глаза, то поняла, что не ослепла. Разбитые фары «хонды» не горели, но зато она разглядела огоньки подсветки приборного щитка. Видимо, потеря зрения была результатом истерии, а не травмы. Многого она не могла разглядеть, да и много ли можно увидеть ночью на дне пропасти? Осколки тускло поблескивающего стекла обозначили границу разбитого окна машины. За ним маслянистая вода напоминала о себе только волнообразным серебристым мерцанием, отражавшимся от ее журчащей поверхности и придававшим беспорядочно толпившимся в ней ожерельям из ледяных алмазов темно-серебристый оттенок. В кромешной мгле берегов не было бы видно, если бы призрачные снежные одежды, прикрывшие голые камни, землю и кусты своей матовой белизной, не обозначили их присутствие. «Хонда» двигалась по реке: вода, доходя почти до середины капота, затем, как от носа корабля, разделялась на два потока и, журча по обе стороны машины, неслась мимо. Течение толкало их вниз, туда, где их, скорее всего, подхватят более бурные потоки и вынесут на стремнину или пороги, а то и на что-нибудь похлеще. Линдзи с первого взгляда поняла, какая им грозит опасность, но облегчение, которое она испытала, когда сообразила, что не ослепла, настолько выбило ее из привычной колеи, что ей было все равно, что видели ее глаза, лишь бы видели. Даже невзирая на грозящую им опасность. Дрожа от холода, она освободилась наконец от своего запутавшегося ремня и снова дотронулась до Хатча. В странном отсвете мерцающих приборов его лицо было мертвенно-бледным: запавшие глаза, восковая кожа, побелевшие губы, из раны на голове медленной струйкой — слава богу, не хлещет — течет кровь. Она легонько встряхнула его, затем сильнее, не переставая все время окликать по имени. Из машины им теперь не так-то легко будет выбраться — если они вообще смогут это сделать, — пока ее несет по течению, особенно сейчас, когда движение убыстрилось. Надо быть готовым немедленно покинуть ее, если они вдруг налетят на подводные камни или их прибьет к берегу. Ибо второго такого случая может больше не представиться. Хатч никак не желал приходить в себя. Машину снова резко накренило вперед. Снова ледяная вода окатила Линдзи с головы до ног, настолько холодная, что она чуть не задохнулась, а сердце, словно пораженное мощным электрическим разрядом, на мгновение даже перестало биться. Перед машины уже почти весь был погружен в воду. «Хонда» тонула. Вода заливалась в салон и доходила уже до икр Линдзи. Они явно шли ко дну. — Хатч! Теперь она кричала и что есть силы трясла его, не обращая внимания на его рану. Вода бурлящим пенным потоком, отражавшим янтарный отсвет приборов гирляндами золотых рождественских блесток, уже поднялась до уровня сиденья. Линдзи вытащила ноги из воды, встала на колени на сиденье и начала брызгать водой в лицо Хатча, отчаянно стараясь привести его в чувство. Но он не просто потерял сознание от удара, а, скорее всего, находился в глубоком обмороке, может быть, даже в состоянии комы, такой же бездонной, как океаническая впадина. Пенясь и кружась водоворотами, вода уже поднялась к нижней кромке рулевого колеса. Ломая ногти, Линдзи в бешенстве рванула на себя предохранительный ремень Хатча, не обращая внимания на пронзившую ее пальцы боль. — Хатч, черт тебя дери! Вода уже поднялась до середины руля, и «хонда» почти прекратила свое движение. Она слишком отяжелела, и река уже была не в состоянии нести ее на себе. Ростом Хатч был чуть выше пяти футов, весил сто шестьдесят фунтов, обычный средний мужчина, но сейчас он казался великаном. Она даже не могла сдвинуть его с места. Дергая, толкая, хватая и таща, Линдзи пыталась высвободить Хатча из ремня, и, когда наконец это ей удалось, вода уже поднялась к приборному щитку и была ей по пояс. Хатчу же, полулежавшему на сиденье, она доходила до подбородка. Температура воды была близка к точке замерзания, и Линдзи чувствовала, как тепло, словно кровь из разорванной артерии, вытекает из ее тела. И чем больше теплоты-крови вытекало из нее, тем глубже проникал в нее холод и сильнее цепенело тело. И тем не менее она обрадовалась быстро прибывающей воде, так как надеялась, что та поможет ей сдвинуть Хатча с места, вытащить его из-за руля и через разбитое переднее стекло втащить на капот. Так она представляла себе все это в теории. Когда же стала тащить его, он показался ей даже тяжелее, чем был раньше, а вода уже поднялась прямо к его губам. — Ну давай, давай же, двигайся, — яростно хрипела Линдзи, — ты же утонешь, черт тебя побери!Глава 2
Убрав наконец свой пивовоз с дороги на обочину, Билл Купер по служебной рации передал сигнал бедствия. На его вызов откликнулся другой водитель грузовика, у которого помимо служебной рации находился в кабине еще и радиотелефон; он пообещал связаться с властями в Большом Медведе. Билл повесил рацию, достал из-под сиденья длинный электрический фонарь на шести батарейках и шагнул в снежную пургу. Ледяной ветер пробирался даже сквозь его подбитую овечьим мехом куртку, но ночная стужа не шла ни в какое сравнение с холодом, обдавшим его в тот момент, когда он увидел, как «хонда» вместе со своими несчастными пассажирами пронеслась, вращаясь вокруг своей оси, мимо него и рухнула с насыпи в пропасть. Он побежал по скользкому асфальту к тому месту шоссе, где было сбито ограждение, надеясь, что «хонда» уперлась в какое-нибудь дерево невдалеке от насыпи. Но именно в этом месте склона, как назло, деревьев не было, только гладкий, ровный снежный покров, по которому, словно шрам от нанесенной раны, вился след, оставленный скатившимся вниз автомобилем и уходивший куда-то далеко в пропасть, куда не достигал даже луч фонаря. Укор совести острой физической болью отозвался в его сердце, так что на какое-то мгновение он даже оцепенел. Он опять был пьян. Не очень сильно. Он и выпил-то всего несколько глотков из фляжки, которую всегда возил с собой. Теперь, правда, уже все равно. Мысли его путались. Ему пришло в голову, что вообще глупо было в такую погоду, которая портилась буквально на глазах, ехать в горы. Пропасть, в которую он всматривался, казалась бездонной, и ее пугающая глубина породила в голове Билла чувство, что он, как в зеркале, видел в ней свое собственное проклятие, на которое будет осужден в конце жизни. Он застыл, пораженный мыслью о тщетности всего сущего, мыслью, которая ошеломляет даже самых лучших из людей, — правда, большинству из них она приходит глубокой ночью, когда они, вдруг проснувшись, с ужасом следят за игрой теней на потолке. На какое-то мгновение завеса снега чуть приподнялась, и он увидел дно пропасти примерно в ста или ста пятидесяти футах от того места, где он стоял, — не так глубоко, как ему показалось вначале. Он двинулся через пролом в ограждении, намереваясь спуститься вниз но предательски крутому склону и помочь оставшимся в живых пассажирам. Затем остановился на узкой ровной площадке прямо у края обрыва, так как от выпитого виски у него кружилась голова, а еще потому, что не увидел на дне пропасти упавшего туда автомобиля. Через снег по дну ущелья, пересекая след, оставленный машиной, бежала какая-то извилистая черная полоса, словно брошенная вниз сатиновая лента. Глядя на нее, Билл непонимающе хлопал глазами, словно глазел на картину абстракциониста, пока до него не дошло, что это была река. И в ее черной как смоль воде и исчезла машина. Несколько недель тому назад после удивительно долгой, с обильными снегопадами зимы погода неожиданно улучшилась, вызвав раннюю оттепель. И, хотя недавно зима вновь напомнила о себе, оттепель, не успев полностью отступить, не позволила ей сковать реку льдом. Температура воды в реке была чуть выше нуля. Те, кто находился внутри машины, если избежали смерти при падении, наверняка погибнут от холода. «Если бы я не был пьян, — думал он, — никогда бы не решился ехать в такую погоду. Дурак я, залитый по уши виски осел, лакал бы себе пиво, так нет, подавай ему виски. Идиот». Из-за него теперь гибнут люди! Билл почувствовал, как к горлу подступила тошнота, и судорожно сглотнул. С нарастающим страхом всматривался он в мрачную пропасть, пока не заметил странное свечение, словно видение из потустороннего мира, плавно, как призрак, удалявшееся вправо от него. Сквозь пелену падающего снега мягкий желтый свет то исчезал, то появлялся вновь. Он сообразил, что это могло быть внутреннее освещение «хонды», которую река уносила прочь. Вобрав голову в плечи, чтобы защититься от резкого ветра, и держась за ограждение, чтобы не упасть с насыпи в пропасть, Билл, спотыкаясь, побежал по верху насыпи в том же направлении, в котором сносило машину, стараясь не упускать ее из виду. Сначала река несла «хонду» довольно быстро, потом все медленнее и медленнее. Наконец машина застыла на месте, то ли зацепилась за подводные камни, то ли уткнулась в береговой выступ. Свечение медленно угасало, видимо, постепенно садился аккумулятор автомобиля.Глава 3
Высвободив Хатча из ремня безопасности, Линдзи тем не менее никак не могла сдвинуть его с места, то ли оттого, что за что-то, чего она не могла видеть, зацепилась его одежда, то ли оттого, что застряла в педалях нога. Нос и рот Хатча уже скрылись под водой, и не было никакой возможности приподнять ему голову. Хатч захлебывался. Она перестала его дергать, надеясь, что нехватка воздуха заставит его наконец прийти в себя и, кашляя, выплевывая воду и отдуваясь, приподняться, а кроме того, у нее просто не осталось больше сил бороться с ним. Жестокий холод лишил ее их. Конечности быстро немели. Дыхание стало таким же холодным, как и воздух, которым она дышала, словно внутри нее уже не осталось и искорки тепла. Движение машины полностью прекратилось. Она встала на дно реки, до верха наполненная водой, и только под самой крышей еще оставалось немного воздуха. От ужаса Линдзи издавала противные повизгивающие звуки, похожие на блеяние. Пыталась силой воли заставить себя замолчать, но ничего не могла с собой поделать. Странный, просвечивающий сквозь толщу воды свет приборов из янтарного превратился в грязно-желтый. Темная сторона ее души требовала бросить все, перестать сопротивляться, покинуть этот мир и уйти в другой, лучший. Линдзи слышала ее негромкий спокойный голос: — Брось противиться, для чего жить, Джимми нет с тобой, и уже давно, а теперь умер или умирает Хатч, расслабься, сдайся, и вскоре вы все встретитесь на небесах… Мягкий, призывный голос гипнотизировал и убаюкивал. Воздуха хватит ненадолго, всего на несколько минут, и, если она тотчас не выберется наружу, она задохнется в машине… — Хатч мертв, вода полностью залила его легкие, еще немного, и он станет кормом для рыб, уймись, сдайся, к чему все это, Хатч мертв… Открытым ртом она жадно ловила воздух, который вдруг приобрел резкий металлический привкус. Дышала она частыми, короткими вдохами-всхлипами, словно легкие ее неожиданно уменьшились в объеме. Если внутри нее и оставалось какое-то тепло, она уже не ощущала его. От холода свело желудок, и даже рвота, поднимавшаяся к горлу, казалась ледяной; всякий раз сглатывая ее, она чувствовала, будто проглатывает омерзительную жижу, замешанную на снеге и грязи. — Хатч мертв, Хатч мертв… — Нет! — со злостью прохрипела Линдзи. — Нет, нет! Неприятие, словно буря, всколыхнуло все ее существо: Хатч не мог умереть. Это невозможно. Только не Хатч, который всегда помнил ее дни рождения и любые другие торжественные даты, кто просто так, без всяких причин, покупал и дарил ей цветы, кто никогда не терял самообладания и не повышал голоса. Только не Хатч, у которого всегда находилось время выслушать жалобы людей и выразить им сочувствие, чей кошелек всегда был открыт для нуждающихся друзей; не Хатч, единственным недостатком которого было то, что любой проходимец мог выдоить из него любую необходимую ему сумму. Он не мог, не должен, не смел умереть. Он по утрам пробегал пять миль, избегал в пище жиров, ел много фруктов и овощей, не пил напитки, содержащие кофеин. Что, разве это ничего не значит, черт побери! Летом он втирал в кожу солнцезащитный крем, не курил, никогда не выпивал более двух кружек пива или двух бокалов вина за целый вечер и был настолько добродушным и покладистым, что ему не грозили никакие стрессы и сердечные припадки. Разве эти самоограничения, это умение владеть собой ничего не значат? Или мир уже настолько свихнулся, что в нем вообще нет никакой справедливости? Все правильно, недаром говорят, что хорошие люди умирают молодыми, и смерть Джимми это подтвердила, и Хатчу еще нет и сорока, в общем, как ни крути, он еще молод. Правильно. Согласна. Но ведь говорят также, что добродетель сама себе награда, а ведь он и есть сама добродетель, черт побери, он этой добродетелью залит по уши, а ведь это должно же хоть что-то значить, или Бог ничего не слышит и не видит, или ему на все наплевать, и этот мир даже еще хуже, чем она о нем думала. Она отказывалась принять его смерть. Хатч не умер! Линдзи набрала в легкие побольше воздуха. И в тот момент, когда исчез последний отблеск света, снова сделав ее слепой, она погрузилась в воду, оттолкнулась от приборного щитка и через разбитое окно выбралась на капот. Теперь она была не только слепой, но в фактически лишенной всех своих чувств. Она ничего не слышала, кроме неистовых ударов собственного сердца, река глушила все другие звуки. Заставить ее обонять запахи и говорить мог только страх смерти. Ледяная вода почти напрочь отняла у нее чувство осязания, оставив только небольшую его частичку, и она казалась самой себе бестелесным духом, парящим в невесомости в той среде, которая, видимо, наполняет чистилище. Предположив, что глубина реки была не выше крыши машины и что ей не надо будет надолго задерживать дыхание, чтобы успеть добраться до поверхности, Линдзи сделала еще одну попытку сдвинуть с сиденья Хатча. Распластавшись на капоте и одной рукой крепко ухватившись за уплотнитель лобового стекла, чтобы не всплыть самой, ничего не видя в кромешной тьме, она ощупью нашла рулевое колесо, а затем и полулежавшего за ним мужа. Вдруг Линдзи обдало жаром, но ненадолго — это в легких просто кончился кислород, и она стала задыхаться. Ухватившись за куртку Хатча, она что было сил дернула его на себя — и, к ее удивлению, он вдруг легко, как поплавок, всплыл наверх, и ничто его не держало. Он было зацепился ногой за руль, но затем двинулся вслед за Линдзи, которая, не отпуская его куртки и постепенно освобождая ему место на капоте, отползала назад. Жгучая, пульсирующая боль раздирала ей грудь. Желание во что бы то ни стало вдохнуть воздух стало непреодолимым, но она не поддалась ему. Когда тело мужа было уже вне машины, она обняла его и оттолкнулась ногами от капота. Хатч явно наглотался воды, и она, видимо, обнимала труп, но эта жуткая мысль не заставила ее отказаться от задуманного. Если ей удастся вытащить его на берег, она сделает ему искусственное дыхание. И, хотя шансов оживить его было мало, по крайней мере оставалась надежда, что она сможет это сделать. А пока теплилась эта надежда, он не был трупом, он жил. Линдзи вынырнула на поверхность, навстречу завыванию ветра, по сравнению с которым ледяная вода показалась ей удивительно теплой. Когда в ее изнемогающие от нехватки кислорода легкие вновь ворвался воздух, у нее чуть не остановилось сердце, и грудь сжалась от невыносимой боли, и вдохнуть во второй раз оказалось гораздо труднее, чем в первый. Обеими руками крепко прижав к себе Хатча и работая только ногами, она то и дело хватала ртом воду. Кляня все на свете, тут же сплевывала ее. Природа казалась ей живым существом, огромным свирепым зверем, и её охватила дикая злоба на реку и снежную бурю, словно обе они вполне сознательно сговорились объединиться и уничтожить ее. Линдзи пыталась сориентироваться, но в темноте, при завывании ветра и без твердой почвы под ногами это было не так-то просто. Когда она наконец увидела тускло отсвечивающий, плотно укрытый снегом берег, то попыталась, придерживая одной рукой Хатча и гребя другой, доплыть до него, но течение было настолько сильным, что, даже будь у нее свободны обе руки, она все равно не смогла бы добраться до берега. Течение тотчас подхватило их обоих и понесло вниз, то окуная их с головой в воду, то вновь выталкивая наверх, навстречу ледяному ветру, а подхваченные ранее этим же течением и плывущие рядом щепки, ветви и куски льда нещадно колотили их по головам. Неумолимая река все дальше уносила несчастных к тому месту, где неожиданный водопад или целый каскад стремительных порогов служили границей горной части ее русла.Глава 4
Он запил с того дня, как от него ушла Мира. Теперь рядом не было никого, кто мог бы остановить его. И ему это также зачтется на Страшном суде, Бог ни за что не простит его. Держась за ограждение, Билл Купер, вглядываясь во тьму, в нерешительности застыл на краю пропасти. Сплошная стена падающего снега полностью скрыла от него огни «хонды». Тем не менее он боялся оторвать взгляд от пропасти, чтобы посмотреть вверх на шоссе, не прибыла ли «скорая помощь». Он боялся, что забудет точное место, где он в последний раз видел огни «хонды», и укажет спасателям неверное направление. Тусклый черно-белый фон внизу не изобиловал приметными ориентирами. — Да что же вы все не едете, куда подевались? — бормотал он. Ветер, заливший лицо, заставлявший слезиться глаза и запорошивший снегом его усы, выл так громко, что напрочь заглушил вой сирен приближающихся карет «скорой помощи», пока они не вынырнули из-за поворота; и тотчас ночь наполнилась светом их фар и всплесками красных огней. Вилл, выпрямившись, призывно замахал им руками, но глаз от пропасти оторвать не посмел. Машины подъехали к обочине шоссе. Так как одна из сирен заглохла быстрое, он сообразил, что прибыло две машины, скорее всего, «скорая помощь» и полицейский патруль. Эти точно учуют виски. А может быть, не учуют, вон какой ветер и холод. Он знал, что должен понести жестокое наказание за то, что натворил, — но коль скоро его не собираются убивать, то имеет ли смысл лишать его работы? Время-то тяжелое. Спад производства. Хорошую работу не так-то легко найти. Вертящиеся сигнальные маяки производили стробоскопический эффект: реальные предметы, периодически выхватываемые из темноты, двигались, как в замедленном кино, а исполосованное световыми бликами небо струило на землю потоки пурпурного снега.Глава 5
Даже быстрее, чем Линдзи могла надеяться, бурная река прибила их к гряде гладких, отполированных водой камней, торчавших прямо посреди русла, словно ряды полустертых от времени зубов, вклинив ее и Хатча в промежуток между двумя из них, достаточно узкий, чтобы прервать их движение. Вокруг них кипела и струилась вода, но защищенная камнями Линдзи уже не боялась подводных течений, тащивших ее вниз. Тело ее обессилело, и обмякшие, вялые мускулы отказывались повиноваться. Она едва удерживала голову Хатча над водой, что в других обстоятельствах было бы совсем нетрудно, тем более что ей уже не приходилось бороться с быстрым течением. Инстинктивно не отпуская его, она разумом понимала, что все это бесполезно: он уже давно был утопленником. И не стоило убеждать себя, что он еще жив. Надежда же оживить его с помощью искусственного дыхания таяла с каждой проходящей минутой. Но Линдзи ни за что не хотела сдаваться. Ни за что. Ее и саму удивляло это ее нежелание оставить всякую надежду, тем более что всего за несколько минут до несчастного случая она думала, что надежда навсегда покинула ее. Ледяной холод воды насквозь пронизывал Линдзи, и вместе с цепенеющей плотью цепенел и ее мозг. Когда она попыталась сосредоточиться, чтобы придумать, каким образом выбраться на берег, то никак не могла привести в порядок разрозненно мелькавшие в голове мысли. Ее нестерпимо клонило ко сну. Она понимала, что сонливость — признак гипотермии и что дремотное состояние может стать началом более глубокого обморока и в конце концов привести к смерти. Она решила во что бы то ни стало перебороть сонливость — и вдруг поняла, что уже поддалась желанию уснуть и что глаза ее уже закрылись сами собой. Страх, как молния, пронзил Линдзи, влив новые силы в ее обмякшее тело. Часто хлопая ресницами с налипшим на них и уже не таявшим снегом, она поверх головы Хатча взглянула на ряды отполированных водой валунов. Берег был всего в пятнадцати футах от них. Если камни располагались недалеко друг от друга, она сможет тащить Хатча к берегу, не боясь, что их снесет течением. К этому времени зрение ее достаточно хорошо адаптировалось к темноте, и в гранитном частоколе она заметила брешь шириной примерно в пять футов, которую пробили в камнях столетия беспрерывной работы текущих вод. Брешь находилась на полпути от нее до края берега. Втягиваясь в воронку, образуемую брешью, черная вода, тускло поблескивая сквозь кружевную шаль льда, убыстряла свой бег и, вне сомнения, с огромной силой вырывалась наружу с противоположной стороны. Линдзи понимала, что была слишком слаба и что ей будет не под силу преодолеть этот мощный поток. Их с Хатчем обязательно втянет в воронку, и они неминуемо погибнут. В тот момент, когда вновь заманчивой стала мысль прекратить эту бесполезную борьбу против сил враждебно настроенной природы, наверху, на краю пропасти, примерно в ста ярдах вверх по течению, она заметила странные огни. Но была настолько сбита с толку, что на какое-то мгновение пульсирующий пурпурный свет показался ей жутким, таинственным и сверхъестественным, словно ее взору предстало чудодейственное сияние, свидетельствовавшее о зримом присутствии божества. Постепенно до нее дошло, что она смотрела на пульсирующие сигнальные огни полицейских машин или карет «скорой помощи», которые стояли высоко наверху, на шоссе. Вскоре чуть ближе к себе Линдзи заметила огоньки ручных фонариков, острыми шпагами-лучиками обшаривавшие местность. Спасатели, видимо, уже спустились вниз по отвесному склону пропасти и были в ста ярдах выше по течению, там, где затонула их машина. Линдзи стала звать их. Но крик ее оказался едва слышным шепотом. Она вновь закричала, на этот раз явно громче прежнего, но из-за воя ветра они, видимо, не расслышали и этот ее крик, так как лучи фонариков продолжали обшаривать реку в том же месте, что и раньше. Вдруг она заметила, что больше не держит в руках голову Хатча и что лицо его находится под водой. Мгновенно, словно щелкнул переключатель, ужас Линдзи превратился в дикую злобу. Она злилась на водителя грузовика, захваченного бурей в горах, на себя за то, что так ослабла, на Хатча, сама не зная за что, на реку и на пронизывающий холод, но, самое главное, она буквально кипела от ненависти к Богу за жестокость, насилие и несправедливость, которые царили в сотворенном Им мироздании. Злость прибавила ей сил. Сжав пальцы, она крепко ухватила Хатча за одежду, рывком выдернула его голову из воды и так громко позвала на помощь, что напрочь перекрыла леденящие душу завывания ветра. Лучи фонариков, все как один, повернулись в ее сторону.Глава 6
Пострадавшие, мужчина и женщина, казались мертвыми. Их лица, вырванные из тьмы лучами фонариков, плыли над темной водой, как белые привидения — полупрозрачные, фантасмагорические, потерянные. Ли Фридман, помощник окружного шерифа из Сан-Бернардино, окончивший специальную школу спасателей, придерживаясь за выступавшие из воды камни, шагнул в воду, чтобы переправить пострадавших на берег. Вокруг пояса он обвязал нейлоновый, толщиной в полдюйма, спасательный трос, способный выдержать груз в четыре тысячи фунтов, другой конец которого был обмотан вокруг ствола приземистой сосны. Подстраховывали его двое полицейских. Фридман снял с себя штормовку, но остался в форме и ботинках. Переплыть эту стремнину было невозможно, и ему нечего было беспокоиться, что одежда может ему помешать. Зато, даже намокнув, одежда поможет дольше продержаться в холодной воде и замедлит утечку тепла из тела. Пробыв в реке не больше минуты, однако, и не пройдя еще и половину пути до пострадавших, Ли почувствовал такой холод, словно ему в кровь ввели хладагент. Ему показалось, что, нырни он в эту ледяную воду голым, ему было бы холодно так же, как и сейчас. Конечно, лучше было бы подождать группу горных спасателей, уже выехавших к месту аварии, людей, специально обученных вытаскивать лыжников из-под снежных завалов или неосторожных любителей катания на коньках, провалившихся под лед. В их экипировку входили надувные непромокаемые костюмы и всякие другие необходимые приспособления. Но ситуация требовала немедленных действий: пока прибудут специалисты, люди в реке могут погибнуть. Он добрался до пятифутовой щели, сквозь которую вода бежала с такой стремительностью, словно ее всасывал в себя гигантский насос. Его тут же сбило с ног, но его товарищи на берегу все время держали трос натянутым и травили его ровно настолько, насколько Ли было необходимо, чтобы двигаться и не быть унесенным течением. Широкими взмахами загребая воду, он начал пересекать бешеный поток, нахлебавшись при этом такой зверски холодной воды, что у него заломило зубы, и наконец ухватился за камень с противоположной стороны бреши. Минуту спустя, задыхаясь и отчаянно, мелко дрожа всем телом, Ли добрался до пострадавших. Мужчина был без чувств, женщина же, наоборот, была в полном сознании. Лица обоих то исчезали, то вновь появлялись в перекрестье направленных на них лучей фонариков; и мужчина и женщина были в ужасном состоянии. Кожа на лице женщины сморщилась и, потеряв свой естественный цвет, стала почтисовершенно белой, сквозь нее, словно источая внутренний свет, просвечивали кости, обнажая череп. Губы ее были такими же белыми, как и зубы; черными оставались только ее мокрые спутанные волосы и глаза, похожие на запавшие глаза трупа с застывшим в них ужасом смерти. Возраст ее в данной ситуации невозможно было определить, и трудно было понять, была ли она уродиной или красавицей, но ясно было одно: женщина держалась из последних сил и скорее всего только за счет силы воли. — Сначала возьмите мужа, — сказала она. Голос ее прерывался. — У него рана на голове, ему нужна срочная помощь, да быстрее, быстрее, шевелитесь же, черт вас побери! Ли не обиделся на ее ругань. Он понимал, что злость ее предназначалась не ему, она помогала ей держаться. — Хватайтесь за меня, мы пойдем все вместе. — Он повысил голос, стараясь перекричать вой ветра и грохот реки: — Ничего делать не надо, не надо пытаться достать дно ногами. На плаву им легче будет нас тащить по воде. Казалось, она поняла, что он сказал. Ли взглянул на противоположный берег. Лицо его попало в свет фонаря, и он прокричал: — Готово! Тяните! Группа на берегу стала подтягивать его на тросе вместе с потерявшим сознание мужчиной и вконец измученной женщиной.Глава 7
Когда Линдзи вытащили из воды, она то теряла сознание, то вновь приходила в себя. В какие-то мгновения жизнь казалась ей видеозаписью, которую можно было прокручивать в любом направлении, взад или вперед, от одной картинки к другой, с серо-белыми промежутками между ними. В то время как она, тяжело дыша, лежала у края воды, над ней склонился молодой врач с запорошенной снегом бородой и направил ей в глаза тонкий лучик света, чтобы проверить, реагируют ли ее зрачки. Он спросил: — Вы меня слышите? — Конечно. Где Хатч? — Вы помните, как вас зовут? — Где мой муж? Ему нужно… искусственное дыхание. — Им уже занимаются. Так помните, как вас зовут? — Линдзи. — Прекрасно. Вам холодно? Вопрос показался ей неуместным и глупым, но вдруг она сообразила, что уже не мерзнет. Наоборот, она почувствовала, что конечности каким-то странным и не совсем приятным образом стали теплеть. Это не был резкий, болезненный укус ожога. Казалось, ее руки и ноги окунули в какую-то едкую жидкость, которая постепенно разъедала кожу, оголяя кончики нервов. Ей и без подсказки стало ясно, что ее нечувствительность к ночному холоду — это признак резкого ухудшения ее физического состояния. — Носилки, быстро… Линдзи почувствовала, как ее подняли и положили на носилки. Затем, как двинулись вдоль берега. Лежа на носилках, она видела только человека, шедшего сзади. Дрожащие огни фонариков не давали возможности хорошо разглядеть его, и в их жутковатом отсвете она могла видеть только контуры лица незнакомца и странный, тревоживший ее блеск его стального взгляда. Бесцветное, как набросок углем, необычайно молчаливое, наполненное движением и тайной, все происходящее вокруг нее и с ней обрело оттенок кошмарного видения. Стоило ей взглянуть назад и вверх на человека без лица, как сердце ее начинало учащенно биться. Непоследовательность и противоречивость полубредового состояния увеличивали ее страхи, и вдруг ей стало казаться, что она умерла, и едва различимые, как тени, люди, тащившие ее носилки, вовсе не люди, а перевозчики мертвых, и что они несут ее к лодке, которая должна перевезти ее через Стикс в мрачную страну мертвых и обреченных. — Быстрее… Привязанную к носилкам, почти в вертикальном положении, невидимые ей люди тянули ее на веревках вверх по усыпанному снегом склону. По обе стороны, по колено увязая в снежных заносах, шли двое сопровождавших ее спасателей, направляя носилки и следя за тем, чтобы она не вывалилась из них. Линдзи поднимали прямо к красным сигнальным огням. Когда она полностью окунулась в их пурпурное сияние, до ее слуха стали долетать возбужденные голоса спасателей и треск и шуршание полицейских переговорных устройств. Когда же она вдохнула в себя выхлопные газы машин, то поняла, что жизнь ее вне опасности. «А была, видимо, на волоске от небытия», — подумала она. Обессилевшая, находясь в полуобморочном состоянии и плохо соображая, Линдзи тем не менее расстроилась от того подсознательного стремления, которое просвечивало сквозь эту ее мысль. Была на волоске от небытия? Единственное, от чего она была на волоске, это от смерти. Неужели же до сих пор смерть Джимми — а ведь уже прошло целых пять лет — так действовала на ее психику, что ее собственная смерть казалась ей освобождением от бремени горя? «Тогда почему же я не сдалась реке? — сама себе удивилась Линдзи. — Почему не прекратила борьбу?» Из-за Хатча, конечно. Она была нужна ему. Ведь самой ей уже хотелось уйти из этого мира в мир иной. Но она не могла решить это за Хатча; в той ситуации, в которой они оказались, ее уход из жизни означал бы для него неминуемую смерть. С шумом и треском носилки рывком были подтянуты к краю пропасти и поставлены на землю рядом с каретой «скорой помощи». Лицо ее тотчас запорошил пурпурный снег. Врал с обветренным лицом и красивыми голубыми глазами вновь склонился над ней. — Все будет в порядке. — Я не хотела умирать, — сказала Линдзи. Но сказала она это не ему. Она спорила сама с собой, доказывая себе, что ее отчаяние от потери сына вовсе не перешло в тайное хроническое эмоциональное стремление соединиться с ним в смерти. Тот образ себя, который рисовался ей в воображении, не включал понятия «самоубийства», и она была неприятно поражена, что в чрезвычайных обстоятельствах именно это побуждение оказалось столь естественной и неотъемлемой частью ее натуры. На волоске от небытия… — Разве я хотела умереть? — спросила она. — Вы не умрете, — сказал врач, вместе с другим спасателем отвязывая веревки от ручек носилок и готовясь погрузить ее в «скорую помощь». — Самое худшее теперь позади.ДВА
Глава 1
С полдюжины полицейских машин и карет «скорой помощи» занимали два ряда горного шоссе. Для двустороннего движения — в горы и вниз — использовался третий ряд. За порядком на нем присматривали полицейские в форме. Когда мимо пронесся автобус с туристами, Линдзи почувствовала на себе взгляды прилипших к окнам пассажиров, но автобус быстро исчез в вихрях снега и в клубах выхлопных газов. «Скорая помощь» была приспособлена для перевозки сразу двух пациентов. Линдзи погрузили на каталку с колесиками и, вкатив ее в фургон, закрепили у левой стенки зажимом с пружинной защелкой, чтобы во время движения машины тележка не ездила взад и вперед. Хатча в такой же каталке поместили справа. Двое медиков вскарабкались вслед за тележкой и закрыли за собой широкую дверцу. Когда они шевелились, их белые нейлоновые штаны и куртки издавали трущиеся свистящие звуки, которые в узком пространстве фургона казались чересчур громкими. Взвизгнув сиреной, «скорая помощь» тронулась в путь. Оба медика закачались в такт движению. Опыт позволял им твердо удерживаться на ногах. Стоя в узком проходе между двумя тележками, они оба все свое внимание обратили к Линдзи. Их имена были нашиты на нагрудных карманах их курток: Дэвид О'Малли и Джерри Эпштейн. Удивительным образом совмещая профессиональную отчужденность с заботливым вниманием, они занялись ею, изредка перебрасываясь короткими, сухими медицинскими фразами, но, когда обращались к ней, тон их незамедлительно становился мягким, участливым и ободряющим. Эта двойственность их поведения скорее раздражала, чем успокаивала Линдзи, но она была слишком слаба и сбита с толку, чтобы выказывать свое недовольство. Она казалась себе поразительно хрупкой. Непрочной. В памяти всплыла ее собственная картина под названием «Этот мир и мир иной», выполненная в сюрреалистической манере; в центре картины был помещен цирковой акробат-канатоходец, мучимый сомнениями и неизвестностью. Ее сознание напоминало ей туго натянутую проволоку, на которой, покачиваясь, теперь стояла она сама. Любая попытка заговорить с врачами, требовавшая для своего выражения более одного или двух слов, могла вывести ее из равновесия и бросить в черную, зияющую пустоту. Несмотря на то что мозг с трудом воспринимал многое из того, о чем они говорили между собой, Линдзи все же поняла, что страдает от гипотермии, возможно, даже от обморожения, и что их беспокоит ее состояние. Замедленный ритм сердца, сбои. Затрудненное и короткое дыхание. Видимо, все же она еще была не так далеко от небытия. Стоит ей только захотеть… Бок о бок в ней жили два совершенно противоположных чувства. Если после похорон Джимми она подсознательно желала умереть, то теперь особой радости от такого исхода не испытывала, хотя, с другой стороны, ничего дурного в этом не усматривала. То, что с ней случилось, должно было случиться, и в ее теперешнем состоянии, когда эмоции были так же подавлены, как и все пять ее основных чувств, ей было все равно, что с ней произойдет. Эффект гипотермии сказался на инстинкте самосохранения столь пагубно, сколь пагубно сказывается на нем алкогольное опьянение. Но вот в какое-то мгновение в просвете между двумя врачами на соседней каталке Линдзи заметила Хатча, и тревога о нем моментально вывела ее из состояния полуобморока. Он был слишком бледным. Не просто белым. А с каким-то сероватым, нездоровым оттенком. Его лицо, повернутое к ней, с закрытыми глазами и чуть заметно приоткрытым ртом, выглядело так, словно по нему прошлось пламя, оставив после себя только обугленное на костях мясо. — Пожалуйста, — попросила Линдзи, — мой муж… Она удивилась собственному голосу, низкому и похожему на воронье карканье. — Сначала вы, — сказал О'Малли. — Нет. Хатч… нуждается… в помощи… в первую… очередь. — Сначала вы, — повторил О'Малли. Его настойчивость несколько успокоила ее. Как бы плохо ни выглядел Хатч, с ним, видимо, все было в порядке, скорее всего, сработало искусственное дыхание, и сейчас для него уже опасность миновала, иначе они бы в первую очередь занялись им. Это же так очевидно, не правда ли? Мысли ее опять начали путаться. Охватившее было ее чувство тревоги улеглось. Она закрыла глаза.Глава 2
Позже… Голоса, доносившиеся сверху, казались Линдзи, находившейся в состоянии гипотермического оцепенения, ритмическим речитативом, почти мелодией, такой же убаюкивающей, как колыбельная. Но уснуть ей не позволяло становившееся все сильнее ощущение острой боли в конечностях и грубые прикосновения врачей, подкладывавших под нее какие-то маленькие, мягкие, как подушечки, предметы. Чем бы они ни были — скорее всего, думала она, это электрические или химические грелки, — они излучали тепло, в тысячу раз более приятное, чем огонь, изнутри сжигавший ее ноги и руки. — Хатчу тоже необходимо тепло, — заплетающимся языком пробормотала Линдзи. — Не волнуйтесь, с ним все в порядке, — сказал Эпштейн. Изо рта его небольшими клубами шел пар. — Но ему холодно. — Так ему будет лучше. Таким он нам и нужен. — Но не слишком холодным, — вступил в разговор О'Малли. — Нейберну не нужна сосулька. Если в материи образуются кристаллики льда, это может повредить мозг. Эпштейн повернулся к небольшому полуоткрытому окошечку, отделявшему кабину водителя от салона, и громко прокричал: — Майк, прибавь немного тепла! Линдзи хотела бы знать, кто такой Нейберн, но больше всего ее поразили слова «повредить мозг». Однако она была слишком истощена и слаба, чтобы попытаться вникнуть в их смысл. Волнами накатывали воспоминания детства, но они были настолько искаженными и странными, что, скорее всего, она незаметно для себя пересекла границу сознания и бредила наяву, и кошмарные видения, которые рисовались ей, были не чем иным, как причудливой игрой воображения. …Она видела себя пятилетней девочкой, играющей на лугу за домом. Общий фон отлого поднимавшегося поля был ей хорошо знаком, но какое-то незримое, ненавистное присутствие отравляло картину, искажая детали и окрашивая траву в жуткий черный цвет. Еще более черными казались лепестки разнообразных полевых цветов, а на их фоне кровавыми пятнами резко выделялись пурпурные тычинки… …Она видела себя, теперь уже семилеткой, на школьной площадке для игр, где она была одна, чего в реальности не бывало никогда. Окружал ее привычный мир качелей, лесенок, перекладин и детских горок, отбрасывавших резкие тени в странном, оранжевом закатном свете. И оттого все предметы детских забав выглядели зловеще. Казалось, они вот-вот сдвинутся с места и, скрипя и лязгая, с загоревшимися на их тушах и сочленениях голубыми огоньками св. Эльма[135] поползут, словно роботы-вампиры из алюминия и стали, на поиски свежей крови, чтобы смазать свои проржавевшие каркасы…Глава 3
Время от времени до Линдзи доносился странный и далекий крик, похожий на печальное блеяние огромного таинственного животного. В конце концов даже в состоянии полубреда до нее дошло, что звук этот не был галлюцинацией и что звучал он вовсе не издалека, а прямо над ее головой. И был не криком зверя, а воем сирены «скорой помощи», сметавшим с дороги и без того редко попадавшиеся им на сплошь засыпанном снегом шоссе автомобили. «Скорая помощь» остановилась намного раньше, чем предполагала Линдзи, но, видимо, оттого, что ее чувство времени, как и все другие чувства, было притуплено. Пока О'Малли отстегивал зажимы на каталке Линдзи, Эпштейн открыл заднюю дверцу машины. Когда ее вынесли наружу, она удивилась, что приехали они не в городскую больницу Сан-Бернардино, куда, как она думала, их должны были доставить, а находятся на стоянке автомобилей перед небольшим торговым центром. В этот поздний час стоянка была пуста, если не считать расположившегося на ней огромного вертолета, на борту которого красовались красный крест в белом круге и слова: «ВОЗДУШНАЯ САНИТАРНАЯ СЛУЖБА» Было все так же холодно, и по-прежнему надсадно выл ветер. Они теперь явно находились у подножия гор, выскочив из полосы снежного бурана, но до Сан-Бернардино было, видимо, еще далеко. Колеса каталки ужасно заскрипели, когда Эпштейн и О'Малли торопливо, почти бегом повезли ее по голому асфальту к двум ожидавшим их у трапа вертолета мужчинам. Двигатели санитарного вертолета работали вхолостую. Винты медленно вращались. Уже само присутствие этого летательного аппарата — прямое свидетельство особой срочности и крайней необходимости — словно яркая солнечная вспышка прорвало густой туман в сознании Линдзи. Она сообразила, что либо она, либо Хатч находились в гораздо более тяжелом состоянии, чем ей казалось ранее, поскольку к такого рода нестандартному и дорогому методу доставки пострадавших обычно прибегают только в исключительных случаях. И повезут их, скорее всего, не в больницу Сан-Бернардино, а в какой-нибудь особый травматологический лечебный центр, оснащенный высококлассным оборудованием и специализирующийся на оказании срочной помощи именно таким, как они с Хатчем, и, осознав это, Линдзи постаралась побыстрее погасить нежданный луч озарения и вновь окунуться в спасительный туман. Когда санитары принимали их на борт, один из них, перекрывая шум двигателей, прокричал: — Но она ведь жива! — Но в очень плохом состоянии, — прокричал в ответ Эпштейн. — Да, точно, хреновей не бывает, — согласился санитар, — но все же она жива. А Нейберну нужен труп. — А вот и труп, — сказал О'Малли. — Муж, — добавил Эпштейн. — Сейчас привезем, — сказал О'Малли. Это была поразительная новость, и Линдзи поняла, что стала свидетельницей какой-то очень важной информации, открывшейся ей в этой короткой словесной перебранке, но оценить всю глубину услышанного она была не в состоянии. Или не желала. Когда ее внесли в просторное кормовое отделение вертолета, переложили на имевшиеся там носилки и привязали к покрытому винилом матрацу, она вновь окунулась в странные, кошмарные видения из своего детства. …Ей девять лет, и она играет со своей собакой Бу. Игривый Лабрадор приносит ей в пасти брошенный ею красный резиновый мячик и кладет у ее ног, но это уже вовсе не мячик, а бьющееся сердце, за которым тянутся оторванные артерии и вены. Но сердце, оказывается, пульсирует не оттого, что живое, а оттого, что сплошь, снаружи и внутри, облеплено шевелящимся клубком могильных червей и жуков…Глава 4
Вертолет уже был в воздухе. Сильные встречные ветры делали его полет более похожим на плавание застигнутой в море штормовой погодой лодки. К горлу Линдзи подступила рвота. Над ней со стетоскопом в руке склонился врач, лицо которого было скрыто в тени. Рядом другой врач в шлемофоне, склонившись над Хатчем, кричал в микрофон, ведя переговоры, однако не с пилотом, а, скорее всего, с коллегой, который находился в той больнице, куда должны были доставить пострадавших. Из-за шума винтов, со свистом рассекавших воздух над их головами, голос его казался тонким, похожим на прерывающийся от волнения фальцет подростка. — …Незначительные повреждения черепа… другие опасные раны отсутствуют… смерть, скорее всего, наступила… от избытка воды в легких… С противоположной стороны кабины, в ногах у носилок, на которых лежал Хатч, дверца вертолета была чуть приоткрыта, и, что поразило Линдзи, то же самое было сделано и с дверью, располагавшейся с ее стороны, отчего по кабине гулял арктический сквозняк. Теперь было понятно, почему надсадный рокот винтов и свист ветра заглушали все другие звуки. Но зачем им был нужен такой холод? Врач, занимавшийся Хатчем, в это время кричал в микрофон: — …Механический способ… оживления… О2 и СО2 результатов не дали… эпинефрин также оказался не эффективен. Реальность слишком ощутимо вторгалась в ее сознание. И ей не хотелось этого. Причудливые видения, несмотря на порождаемый ими ужас, казались ей менее страшными, чем то, что происходило наяву, в кабине санитарного вертолета, видимо, оттого, что на подсознательном уровне она хоть как-то могла воздействовать на ход событий в своих кошмарах, но была совершенно бессильна влиять на них в реальной жизни. …Она на выпускном балу, танцует с Джоем Дельвеккио, парнем, с которым она тогда встречалась. Потолок зала убран длинными тонкими полосками гофрированной бумаги, струящимися на волнах вздымаемого кружащимися в танце парами воздуха. Вся она в голубых, белых и желтых блестках, отбрасываемых вращающейся над их головами хрустальной люстрой с маленькими зеркальными отражателями. Звучит прекрасная музыка тех лет, когда рок-н-ролл еще только начал терять свою прелесть, еще нет музыки диско, и «Нового времени», и «шейка», тех лет, когда Элтон Джон и «Иглз» находятся еще в зените славы, когда еще выходят пластинки с записями «Айсли Брозерс», «Дуби Брозерс», Стива Уандера, а Нейл Седака вновь с триумфом возвращается на сцену: прекрасная музыка, такая жизнерадостная и живая, и все еще живы, и мир полон надежд и возможностей, которых, увы, уже нет и в помине. Они медленно кружатся в такт мелодии Фреда Фендера, отлично исполняемой местным джаз-оркестром, и ее переполняют блаженство и счастье. Но вот она поднимает голову с плеча Джоя и смотрит вверх и вместо его лица видит гниющий оскал трупа, желтые зубы, торчащие из-под скукоженных черных губ, струпья отслаивающегося вонючего мяса, налитые кровью выпученные глаза, из которых сочится отвратительная жижа. Она хочет закричать и вырваться из его объятий, но продолжает танцевать под прелестные, романтические звуки шлягера «Когда падет еще одна слеза», сознавая, что видит Джоя таким, каким он будет через несколько лет, когда погибнет во время взрыва казармы морских пехотинцев в Ливане. Она чувствует, как смертный холод его тела передается ей. И понимает, что надо быстрее вырваться из его рук, пока холод не захлестнул и ее саму. В отчаянии оглянувшись вокруг, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, Линдзи видит, что Джой не единственный танцующий мертвец. Вот плывет в объятиях своего кавалера Салли Онткин, уже почти вся разложившаяся, такая, какой станет через восемь лет, когда умрет от отравления кокаином, а юноша словно не замечает ее гниющей плоти. А вот, кружа свою девушку, проносится мимо Джек Уинслоу, футбольная звезда школы, который менее чем год спустя погибнет по пьянке в автомобильной катастрофе: его вспухшее лицо пурпурно-красного цвета с зеленым отливом, левая сторона черепа раздроблена; именно таким он будет после катастрофы. Скрипучим голосом, словно его голосовые связки превратились в высушенные струны, голосом существа, вышедшего из могилы, который никак не мог принадлежать Джеку Уинслоу, он кричит, обращаясь к Линдзи и Джою: — Вот это ночка, ребята, а? Здорово!.. Линдзи вся дрожала, но не только из-за пронизывающего ветра, со свистом врывавшегося в полуоткрытые двери вертолета. Врач, лицо которого до сих пор оставалось в тени, мерил ей кровяное давление. Ее левая, оголенная по локоть, рука была вынута из-под одеяла. Рукава свитера и кофточки на ней были обрезаны. Выше локтя ее туго стягивала манжета тонометра. Она дрожала так сильно, что врач, очевидно, приняв ее дрожь за мышечные конвульсии, поспешно схватил с лотка резиновый клин и вставил ей в рот, чтобы она не откусила себе язык. Линдзи оттолкнула его руку. — Я умру. Убедившись, что это были не конвульсии, он твердо сказал: — Да что вы! Вы не так плохи, как вам кажется. Все будет в порядке. Откуда ему было знать, что она имела в виду. Линдзи нетерпеливо перебила его: — Мы все умрем. Именно эта мысль была лейтмотивом всех ее странных сновидений. Смерть находилась с ней рядом со дня ее рождения, была постоянным спутником всей ее жизни, но поняла она это только пять лет тому назад, когда умер Джимми, сегодня же, когда смерть отняла у нее и Хатча, она поверила в ее неизбежность. Сердце ее сжалось, как крепко стиснутый кулак, а душу до краев заполнила новая боль, отличная от всех других и неизмеримо более глубокая. Несмотря на ужас, обморочное состояние и полный упадок сил, которыми она, как щитом, прикрывалась от действительности, правда явилась к ней во всей своей неприглядной наготе, и ей ничего другого не оставалось, как принять ее такой, какой она была. Хатч утонул. Хатча больше не было в живых. Искусственное дыхание не помогло. Хатч навсегда ушел из жизни. …Ей двадцать пять лет, она полулежит на подушках в родильной палате больницы св. Иосифа. Нянечка подносит к ней маленький, завернутый в одеяло сверток, ее ребенка, ее сына, Джеймза Юджина Харрисона, которого она носила в себе ровно девять месяцев и которого, уже всем сердцем полюбив, еще никогда не видела. Улыбающаяся нянечка отдает сверток в руки Линдзи, и Линдзи осторожно приподнимает обшитый атласом край голубого хлопчатобумажного одеяльца. И видит там маленький скелетик с пустыми глазницами и согнутыми в просящем жесте младенца костяшками пальцев. Смерть Джимми явилась на свет вместе с ним, как и со всеми нами: менее чем через пять лет Джимми умрет от рака. Маленький костистый ротик ребенка-скелета открыт в долгом, тягучем, молчаливом крике…Глава 5
До ушей Линдзи все еще доносились рокот двигателей и свист рассекающих ночной воздух винтов вертолета, но сама она уже была вне его. Ее быстро везли на каталке к большому зданию со множеством освещенных окон. Ей казалось, что она должна была бы знать, что это за здание, но мысли ее путались, и в действительности ей было совершенно безразлично, куда и зачем ее везут. Впереди, будто сами собой, распахиваются двойные двери, открывая залитое теплым желтым светом пространство с мелькающими в нем силуэтами мужчин и женщин. Ее быстро подкатывают еще ближе к свету, рядом с ней движутся силуэты… длинный коридор… комната, пахнущая спиртом и лекарствами… силуэты обретают лица, лиц становится все больше… приглушенная, торопливая речь… ее хватают чьи-то руки, поднимают… переносят с каталки на кровать… опускают ее голову чуть ниже уровня тела… неясные всхлипы и мягкое пощелкивание какого-то неизвестного ей электронного датчика… Ей же хочется, чтобы они все ушли и оставили ее в покое. Просто взяли бы и ушли. И уходя, погасили за собой свет. И оставили бы ее в полной темноте. Ей хочется тишины, покоя, умиротворения. Резкий, отвратительный запах, отдающий аммиаком. Сильное жжение в носу, глаза чуть не лезут из орбит и тут же наполняются слезами. Мужчина в белом халате держит что-то прямо у нее под носом и внимательно смотрит ей в глаза. Когда она начала кашлять и отплевываться, он убрал отвратительно пахнущий предмет и передал его черноволосой женщине, одетой в белую униформу. Запах тотчас исчез. Линдзи чувствовала движение вокруг себя, видела то появляющиеся, то исчезающие лица. Понимала, что является центром внимания, объектом срочных и поспешных расспросов, но она не желала — да и была не в состоянии — принимать это близко к сердцу. Все вокруг казалось ей в гораздо большей степени сном, чем те бредовые видения, которые проносились в ее воспаленном сознании. Мягкий рокот голосов то прибоем поднимался вверх, то шурша откатывался и угасал в прибрежной гальке: — …Неестественная бледность кожного покрова… явный цианоз губ, ногтей, кончиков пальцев, ушных мочек… — …Слабый пульс, убыстренный ритм… дыхание быстрое и поверхностное… — …Никак не могу замерить чертово давление, будто его вообще нет… — Что, эти ослы ничего ей не ввели против шока? — Они все сделали правильно. — Кислород, смесь СО2. Да побыстрее! — Эпинефрин? — Да, пусть будет под рукой. — Эпинефрин? А если у нее внутренние повреждения? Кровоизлияния ведь не видно. — К черту, придется рискнуть. Чья-то рука легла ей на лицо, словно кто-то хотел, чтобы она задохнулась. Линдзи почувствовала, что ей заталкивают в ноздри какие-то тонкие предметы, и она действительно чуть не задохнулась. Но удивительнее всего было то, что она отнеслась к этому совершенно безразлично. Вдруг, шипя, в ноздри ударил сухой прохладный воздух, с силой ворвавшийся в ее легкие. Молодая блондинка, вся в белом, склонилась прямо к ней, поправляя ингалятор и подкупающе улыбаясь: — Ну, миленькая, поехали. Идет воздух? Женщина была неземной красоты, с удивительно мелодичным голосом, освещенная сзади золотистым светом. Небесное видение. Ангел. Тяжело, с хрипом, дыша, Линдзи сказала: — Мой муж мертв. — Все будет в порядке, миленькая. Расслабьтесь, вдыхайте как можно глубже и ни о чем плохом не думайте. — Нет, он мертв, — повторила Линдзи. — Умер и навсегда покинул меня, навсегда. Только не надо обманывать, ангелы ведь всегда говорят правду. По другую сторону кровати мужчина белым ватным тампоном, смоченным в спирте, протирал ей внутреннюю часть локтевого сгиба. Тампон был холодным как лед. Обращаясь к ангелу, Линдзи снова сказала: — Умер и навсегда покинул меня. Ангел печально кивнул. В его голубых глазах светилась любовь: такими и должны быть глаза ангела. — Умер, миленькая. Но, может быть, на этот раз это еще не конец. Смерть всегда конец. Что значит, смерть еще не конец? В левую руку Линдзи воткнулась игла. — На этот раз, — мягко сказал ангел, — все может обойтись. У нас разработана особая программа, последнее слово в… В комнату влетела еще одна женщина в белом и возбужденно прокричала: — Нейберн уже в больнице! У всех присутствующих одновременно вырвался радостный вздох облегчения. — Его еле разыскали, он, оказывается, обедал в «Марина дель Рее». Наверное, летел сюда сломя голову, смотри, как быстро добрался. — Ну вот, видишь, миленькая? — сказал Линдзи ангел. — Еще не все потеряно. Еще есть надежда. И мы все будем молиться об этом. «Ну и что с того? — горько подумала Линдзи. — Не помню, чтобы молитва когда-нибудь помогла мне. Чудес на свете не бывает. Мертвые всегда остаются мертвыми, а живые только и ждут своего часа, чтобы присоединиться к ним».ТРИ
Глава 1
Следуя перечню процедур разработанной доктором Джоунасом Нейберном методики, основные принципы которой были изложены им в научно-медицинском исследовании, хранящемся в особом отделе Программы по реанимации, специально обученный персонал врачей Оранской окружной больницы уже подготовил операционную к приему тела Хатчфорда Бенджамина Харрисона. Фактически выполнение программы началось с того самого момента, когда с места катастрофы в горах Сан-Бернардино врачи по полицейской рации получили сведения, что пострадавший утонул в воде, температура которой была близка к нулю, что в самой аварии он почти не пострадал, отделавшись лишь небольшими ушибами. Все это вместе взятое делало его прекрасным объектом для применения на нем методики Нейберна. К тому времени как санитарный вертолет приземлился прямо на автостоянке больницы, уже был готов обычный набор инструментов и аппаратуры, необходимых для срочной операции, плюс байпас, специальный отводной насос и другое оборудование, используемое группой реаниматоров. Процедуры реанимации, предусмотренные Программой, проводились не в операционной, предназначенной для оказания неотложной помощи поступающим больным, потому что, во-первых, в ней никак не могло бы уместиться специальное оборудование для реанимации именно Харрисона, а во-вторых, в связи с обычным в это время года наплывом пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. К тому же, несмотря на то что Джоунас Нейберн был по профессии хирургом, специализировавшимся на сердечно-сосудистых заболеваниях, и весь его штат, задействованный Программой, обладал богатейшим хирургическим опытом, процедуры реанимации редко включали хирургическое вмешательство. Резать Харрисона им придется только в том случае, если будет обнаружено значительное внутреннее повреждение, и потому использование обычной операционной было скорее данью удобству, чем необходимостью. Когда Джоунас после тщательной обработки в предоперационной переступил порог комнаты, его группа уже ждала в полном составе. Они были не только его коллегами по работе, но и единственными людьми на свете, с которыми ему было приятно и интересно общаться и которых он горячо любил, ибо так случилось, что злой рок в одночасье лишил его всей семьи — жены, дочери и сына, а еще и потому, что врожденная застенчивость мешала ему обзавестись друзьями вне рамок своей профессии. У шкафчика с инструментами, по левую руку от Джоунаса, в полумраке из-за ослепительного круга света, очерченного галогенными лампами над операционным столом, стоит Хелга Дорнер, великолепно вышколенная операционная медсестра, широколицая, с крепким торсом, напоминающим напичканные стероидами тела советских женщин-атлеток, но с удивительно нежными и мягкими руками рафаэлевской мадонны. Сначала пациенты боятся ее, затем начинают уважать и в конце концов поклоняются ей, как богине. С присущей моменту серьезностью Хелга не улыбнулась Джоунасу, а только сделала ему ободряющий жест поднятым вверх большим пальцем руки. У байпаса стоит Джина Делило, реаниматор и ответственная за техобеспечение операционной, тридцати лет, по непонятным причинам скрывающая свою удивительную компетентность и поразительное чувство ответственности под личиной развязной, циничной и кокетливой девицы с вызывающей прической «конский хвост», словно явилась она сюда прямо с экрана, сбежав из старинного фильма о развеселых пляжных приключениях, популярного десятки лет тому назад. Как и все остальные в операционной, Джина одета в зеленую униформу и плотно сидящую на голове хлопчатобумажную шапочку с тесемками, из-под которой не выбивается ни один ее белокурый волосок, зато из окантованных эластиком матерчатых сапог, надетых поверх ее туфель, торчат ярко-розовые гольфы. По обе стороны операционного стола стоят доктор Кен Накамура и доктор Кари Доуэлл — врачи, приписанные к штату больницы и занимающиеся весьма обширной частной практикой. Кен — редчайший специалист, успешно сочетающий терапию и неврологию и достигший в обеих областях медицины высших научных степеней. Ежедневный опыт общения с хрупкой физиологией человека заставляет одних врачей искать забвения в вине, других, ожесточив свои сердца, уйти в себя, эмоционально отгородившись от своих пациентов; Кен же избрал средством самозащиты здоровый юмор, который иногда, правда, находит несколько экзотические формы выражения, но всегда оказывается психологически уместным. Кари, превосходный специалист-педиатр, ростом на четыре дюйма выше пяти футов и семи дюймов Кена и выглядит тонкой тростиночкой по сравнению с несколько полноватым терапевтом, но, как и он, также обожает хорошую шутку и здоровый смех. Однако бывали моменты, когда глубокая печаль, струившаяся из ее глаз, тревожила Джоунаса и наводила его на мысль, что одиночество так глубоко пустило корни в ее душе, что обыкновенной дружбе никоим образом не будет под силу выкорчевать их оттуда. Джоунас по очереди оглядел каждого из четырех своих коллег, но никто из них не произнес ни слова. В наглухо отгороженной стенами от всего мира комнате царила жутковатая тишина. Внешне все они выглядели безразличными, словно никого из них не волновало, что должно произойти. Но их выдавали глаза. Это были глаза первопроходцев Вселенной, стоящих в шлюзовой камере космического корабля и готовых к первому выходу в открытый космос, — горящие возбуждением, любопытством, жаждой познания и немного испуганные. В штате других больниц также числились реаниматоры высокого класса, способные в упорной борьбе вырвать пациента из тисков смерти, но Оранская окружная больница была одним из трех центров во всей Южной Калифорнии, которые могли похвастать наличием особо субсидируемой специальной программы, нацеленной на достижение максимального успеха в использовании реанимационных процедур. Харрисон был сорок пятым пациентом реанимационного центра больницы за четырнадцать месяцев ее существования, обстоятельства же его смерти представляли собой исключительно интересный случай. Утопление. С быстро последовавшей вслед за этим гипотермией. Утопление означало отсутствие каких-либо серьезных физических повреждений, а фактор холода ощутимо замедлял процессы посмертного разрушения клеток. В большинстве случаев Джоунасу и его группе приходилось иметь дело с жертвами апоплексических ударов, неожиданной остановки сердца, удушения от закупорки трахеи или отравления от чрезмерных доз лекарств. У этих пациентов нарушение функций головного мозга обычно наступало либо непосредственно перед смертью, либо в момент ее, что заведомо сокращало их шансы на возможность полного восстановления здоровья уже до того, как они попадали под наблюдение группы реанимации Джоунаса. У некоторых же из тех, кто скончался в результате сильнейших травм, ранения были настолько многочисленны и серьезны, что вопрос об их восстановлении, даже в случае успешно примененных процедур реанимации, отпадал сам собой. Часть пациентов, вырванных у смерти, после непродолжительного процесса стабилизации становились жертвами вторичных инфекций, которые, быстро распространяясь, оканчивались токсическим шоком. В трех случаях смерть наступила так давно, что разрушение клеток головного мозга либо уже приняло необратимый характер, что коренным образом препятствовало возможности приведения их в сознание, либо оказалось слишком обширным, чтобы, воскреснув из мертвых, они могли вести нормальную жизнь. С внезапной сердечной болью и раскаянием Джоунас вспомнил все предыдущие неудачи, не полностью восстановленные жизни людей. В их обращенных к нему глазах он безошибочно угадывал ясное осознание несчастной своей ущербности… — На этот раз все будет по-другому. Голос Кари Доуэлл прозвучал едва слышно, почти прошептал это, но, как гром, мгновенно вывел Джоунаса из состояния задумчивости. Джоунас согласно кивнул. Тепло относясь к этим людям, ради них, даже больше чем ради себя, он хотел, чтобы им всем выпал огромный, ни с чем не сравнимый успех. — Ну что же, попробуем, — сказал он. И не успел он произнести эти слова, как двойные двери операционной с шумом распахнулись и двое санитаров вкатили на тележке пациента. Быстро и ловко переложили они тело с каталки на слегка наклонный операционный стол, выказывая к покойнику гораздо большую долю заботливости и уважения, чем в сходных обстоятельствах к обыкновенному трупу, и затем удалились. Группа приступила к работе, когда санитары еще только подходили к дверям. Молниеносно, экономя каждое движение, они ножницами срезали с трупа остатки одежды, оставив его лежать голым на спине, закрепили на нем датчики электрокардиографа, электроэнцефалографа и прилепили к телу кожный цифровой термометр. Каждая секунда была на вес золота. Минута — бесценной. Чем дольше человек оставался мертвым, тем меньше шансов было у него воскреснуть. Кари Доуэлл завертела ручками настройки ЭКГ, увеличив контраст. В связи с тем, что вся процедура записывалась на магнитофонную ленту, она вслух сказала то, что все и так видели. — Линия прямая. Сердцебиение отсутствует. — Альфа и бета не просматриваются, — добавил Кен Накамура, подтверждая полное отсутствие электрических импульсов в мозгу пациента. Затянув манжету тонометра на правой руке пациента, Хелга доложила о результате, который они все ожидали услышать: — Давление полностью отсутствует. Джина стояла рядом с Джоунасом, внимательно глядя на термометр. — Температура тела сорок шесть градусов[136]. — Такая низкая! — воскликнула Кари, взглянув на труп расширенными от удивления глазами. — А ведь тело успело нагреться примерно на десять градусов, с тех пор как его вынули из воды. Здесь у нас, конечно, прохладно. Но не настолько же. Термостат был установлен на шестьдесят четыре градуса, чтобы сохранить достаточно удобный температурный режим для успешной работы группы реанимации и одновременно избежать быстрого нагрева тела пациента. Переместив взгляд с трупа на Джоунаса, Кари сказала: — Холод — это, конечно, хорошо, и он нам нужен охлажденный, но не до такой же степени. Что, если его ткани промерзли, а у него обширное повреждение церебральных клеток? Внимательно осмотрев пальцы сначала на ногах покойника, а затем на руках, Джоунас, неожиданно смутившись, проговорил: — Но вроде бы не наблюдается никаких везикул. — Это еще ничего не значит, — отрезала Кари. Джоунас понимал, что она права. Да и любому из них это было ясно. Везикулы, пузырьки в мертвой ткани обмороженных пальцев рук и ног, не могли образоваться до того, как человек умер. Но, черт побери, не мог же он поставить крест на том, к чему даже не успел толком приступить. — И все же ярко выраженные некротические признаки явно отсутствуют… — Естественно, ведь омертвение же повсеместное, — сказала Кари, не желая сдавать свои позиции без боя. Иногда в ее поведении просматривалось нечто, делавшее ее похожей на неуклюжую длинноногую птицу, блестящего летуна, но совершенно беспомощную на земле. Однако чаще, как в данный момент, она использовала высоту своего полета, чтобы, угрожающе распластав над врагом крылья, грозно взглянуть на него, как бы предупреждая: «Лучше послушай, что я говорю, а не то выклюю тебе глаза, голубчик!» Джоунас был на два дюйма выше нее ростом, поэтому Кари не могла, естественно, посмотреть на него сверху вниз, да и вообще среди женщин редко попадались такие, кто бы мог, не задирая головы, просто взглянуть ему в глаза, но все равно ее слова возымели эффект. Ища поддержки, он посмотрел на Кена. Но невролог и не думал идти ему на помощь. — Вполне вероятно, что температура тела могла понизиться до тридцати двух градусов уже после наступления смерти, затем, во время транспортировки, вновь повыситься, ведь проверить это у нас нет никакой возможности. И вы знаете это, Джоунас, не хуже нас. Единственное, в чем мы можем быть абсолютно уверены, — это в том, что он мертвый, и мертвее уже быть не может. — Если у него сейчас сорок шесть градусов… — заявила Кари. — Вода — непременный компонент любой клетки в теле человека. Процентное ее содержание различно в клетках крови и костей, кожи и печени, но, безотносительно к этому, она всегда превышает все другие их компоненты. А когда вода замерзает, она расширяется. Поставьте в морозильник бутылку содовой, чтобы быстро остудить, и попробуйте забыть вовремя ее вынуть. Когда вы наконец вспомните о ней и откроете холодильник, вашему взору предстанут лишь осколки лопнувшей бутылки. То же самое происходит и с замороженными клетками мозга, вообще со всеми клетками тела, вода разрывает их. Никто из группы не желал пытаться вырвать Харрисона у смерти, не будучи уверен, что возвратит ему полноценную жизнь. Никакой уважающий себя врач, независимо от того, каким бы сильным ни было его желание излечить больного, не согласится вступить в единоборство со смертью и, выиграв схватку, вернуть сознание человеку с обширной травмой головного мозга или, что то же самое, вернуть человека к жизни, которая больше будет походить на состояние хронической комы, поддерживаемой только с помощью специальной аппаратуры. Джоунас знал, что самой слабой его стороной как врача была его непримиримая ненависть к смерти. Она никогда не утихала в его душе. В такие моменты, как этот, ненависть превращалась в едва сдерживаемую ярость, способную затмить его рассудок. Смерть пациента он рассматривал как личное оскорбление. И часто, приступая к реанимированию трупа, грешил в сторону оптимизма, что по своим последствиям могло оказаться гораздо трагичнее в случае успеха, чем в случае провала. Члены его группы знали об этой его слабости. И потому все они выжидательно смотрели на него. Если в операционной и до этого царила могильная тишина, теперь она была сродни тишине затерянного вмежзвездном пространстве вакуума, где Бог, если он существует, вершит праведный суд над своими несчастными созданиями. Джоунас буквально кожей чувствовал, как убегает драгоценное время. Пациент находился в операционной не более двух минут. Но и две минуты могут быть решающими. Лежавший на операционном столе Харрисон был мертв, в этом не было никакого сомнения. Кожа его отливала нездоровым серым оттенком, губы и ногти на руках и ногах посинели, рот был полураскрыт в последнем предсмертном выдохе. Все мышцы тела полностью расслаблены. Однако, кроме неглубокого, длиной в два дюйма, пореза на правом виске, ссадины на левой щеке и царапин на ладонях, никаких других ран на его теле не было. Он находился в отличном физическом состоянии для мужчины тридцати восьми лет, только на пять фунтов превышал нормальный для своего возраста и роста вес, отличался прекрасным телосложением и неплохо развитой мускулатурой. Что бы там ни случилось с клетками его головного мозга, он выглядел достойным кандидатом для воскрешения к жизни. Лет десять назад врач в аналогичной ситуации руководствовался бы пятиминутным пределом, в то время воспринимавшимся как максимально возможный промежуток, в течение которого мозг может оставаться без нового притока кислорода, приносимого кровью, и сохранять при этом все свои жизнедеятельные функции. Но в течение последних лет, с тех пор как реанимационная медицина заняла прочные позиции в лечебной практике, временной предел, устанавливаемый пятью минутами, нарушался столь часто, что на него просто перестали обращать внимание. С введением новых лекарств, способных радикально очищать организм от любых вредоносных бактерий, применением новой аппаратуры, способной охлаждать или подогревать кровь, впрыскиванием в сердце огромных доз эпинефрина и благодаря наличию специальных реанимационных механизмов врачи получили возможность далеко перешагивать пятиминутный рубеж и возвращать пациента к жизни из более глубоких регионов смерти. А гипотермия — переохлаждение мозга, блокирующее быстрые и разрушительные химические изменения в клетках, которые происходят с момента смерти, — увеличивала продолжительность времени, в течение которого пациент мог оставаться мертвым, и одновременно его шансы быть успешно возвращенным к жизни. Двадцать минут считались нормой. Не все было потеряно и в тридцать минут. Бывали случаи, когда удавалось реанимировать пациентов после сорока и даже после пятидесяти минут — в 1988 году двухлетняя девочка из штата Юта, вытащенная из ледяной воды, была возвращена к жизни, избежав травмы головного мозга, после пребывания в состоянии смерти в течение примерно шестидесяти шести минут. А в прошлом году аналогичный случай произошел с двадцатилетней жительницей штата Пенсильвания, пробывшей в состоянии клинической смерти в течение семидесяти минут. Все четверо членов группы продолжали выжидательно смотреть на Джоунаса. Смерть, убеждал он себя, это просто патологическое состояние организма. А патологические состояния можно излечивать лекарствами. Быть мертвым — это одно. А быть замерзшим и мертвым — это другое. — Как давно он умер? — спросил Джоунас, адресуя свой вопрос Джине. По долгу своей работы Джина отвечала за радиосвязь с полевыми врачами и обязана была учитывать и отбирать ту информацию из их сообщений, которая может сыграть решающую роль в определении стратегии реанимационных процедур. Она взглянула на свои часы — огромный «Ролекс» на жгуче-, до неприличия, розовом ремешке в тон ее гольфам — и быстро сказала: — Шестьдесят минут тому назад, но это по предположениям спасателей, а сколько он в действительности пролежал мертвым, известно лишь одному Богу. Так что, может быть, и раньше. — А может быть, и позже, — заметил Джоунас. Пока Джоунас размышлял, как поступить в данном случае, Хелга, обойдя стол, остановилась подле Джины, и обе они стали внимательно разглядывать левую руку трупа, отыскивая вену на случай, если Джоунас примет решение реанимировать его. Кровеносные сосуды в обмякшем, мертвом теле почти незаметны, и их очень трудно обнаружить, даже когда руку перетягивают резиновым жгутом, чтобы увеличить давление, потому что там вообще нет никакого давления. — Ладно, попробуем, — сказал Джоунас. И окинул взглядом Кена, Кари, Хелгу и Джину, давая им последнюю возможность оспорить свое решение. Затем, бросив взгляд на свои наручные часы, добавил: — Время — двадцать один час двенадцать минут, понедельник, четвертое марта. Пациент Хатчфорд Бенджамин Харрисон мертв… однако может быть возвращен в прежнее состояние. К их чести, даже если у кого-либо из них и были сомнения на этот счет, когда прозвучали эти слова, все они, не колеблясь, восприняли их как призыв к действию. Они имели полное право — даже обязаны были — советовать Джоунасу, как поступить, когда он не знал, какое принять решение, но, когда оно уже было принято, они готовы были приложить все свои знания, навыки и умения, чтобы «возвращение» состоялось. «Боже, наставь меня на путь истинный и укажи мне, что решение мое верно», — мысленно воззвал к Господу Джоунас. К этому времени Джина уже вставила кровозаборную иглу в вену, обнаруженную Хелгой. Вместе они отрегулировали и включили байпас для откачки крови из тела Харрисона, которая затем будет постепенно подогрета до температуры ста градусов. Набрав нужную температуру, кровь через другую, подающую иглу, вставленную в вену на бедре, будет вновь закачана в тело пациента. С началом процедуры резко возросло количество работы, которую необходимо было делать одновременно. Прежде всего нужно было внимательно следить и контролировать первые признаки, пока отсутствующие, что пациент реагирует на терапию. Необходимо было далее удостовериться, что первая оказанная на месте врачами-спасателями помощь была более или менее эффективной и что они ввели достаточно большую дозу эпинефрина — гормона, стимулирующего работу сердца, — чтобы в данный момент можно было воздержаться от введения дополнительной дозы этого лекарства. В это время Джоунас придвинул к себе тележку с аккуратно разложенными на ней различными лекарственными препаратами, приготовленными Хелгой еще задолго до того, как тело пациента было доставлено в операционную, из которых он мог бы составить смесь, содержащую максимальное количество элементов, способных эффективно пресечь процесс разрушения тканей. — Шестьдесят одна минута, — сказала Джина, уточняя время, в течение которого пациент уже находился в состоянии смерти. — Ничего себе! Долго же он уже общается с ангелами. Вернуть его назад будет не так-то просто, ребятки, как бы нам не опростоволоситься. — Сорок восемь градусов, — торжественно объявила Хелга, отмечая температуру тела покойника, которая под воздействием температуры в операционной медленно поползла вверх. «Смерть — обыкновенное патологическое состояние, — убеждал себя Джоунас. — А коли так, это состояние, в принципе, можно обратить вспять». Длинными пальчиками своей удивительно нежной ручки Хелга, развернув марлевый хирургический тампон, ловко обернула им половые органы пациента, и Джоунас оценил ее жест, поняв, что сделала она это не из чувства ложной благопристойности, а в связи с зарождающимся новым отношением к Харрисону, исключительно из чувства жалости к нему. Благопристойность, равно как и жалость, мертвецу были не нужны. Внимание, выказанное Хелгой, свидетельствовало о ее вере в то, что этот человек, вновь воскрешенный к жизни, займет подобающее ему место среди своих братьев и сестер по разуму и, следовательно, имеет полное право претендовать на любовь и нежное отношение с их стороны, а не просто быть бесчувственным чурбаном, объектом сугубо научного, хотя и захватывающего по своим возможностям, эксперимента.Глава 2
Трава и сорняки, густо разросшиеся в эту необычно дождливую зиму, доходили ему до колен. Прохладный ветер овевал поле. Ночные птицы и летучие мыши, пролетая высоко над его головой, неожиданно камнем падали вниз, привлеченные им, и тотчас взмывали вверх, сначала приняв его за такого же, как и они, ночного хищника, но, подлетев поближе, убеждались в страшной своей ошибке. Он стоял, гордо вскинув голову, вглядываясь в далекие звезды, мелькавшие среди разрывов быстро сгущающихся туч, медленно ползущих в зимнем небе на восток. Он верил, что Вселенная была царством смерти с кое-где затесавшимися в ней островками причудливой жизни, заполненная мертвыми и пустыми планетами, не ветхозаветный гимн созидательному творчеству Бога, а бесспорное доказательство убогости Его воображения и торжества собранных воедино и противостоящих Ему сил тьмы. Из двух реальностей, бок о бок существующих во Вселенной, — жизни и смерти, — жизнь была меньшей по объему и логически менее последовательной. В царстве живых срок существования ограничивался годами, месяцами, неделями, днями, часами. В царстве мертвых этот срок был вечен. Он жил в приграничной полосе между жизнью и смертью. Он ненавидел мир живых, к которому по рождению принадлежал и сам. Его бесили их претензии на всезнайство, их манеры, нравы и принимаемые ими на веру добродетели. Лицемерие во взаимоотношениях между людьми, публично восхищавшимися бескорыстием, но тайно стремившимися к личной выгоде, одновременно забавляло и внушало ему омерзение. Любой добрый поступок он расценивал как тайное стремление к выгоде, которую мздоимец надеется таким образом заполучить. Больше всего его презрение — а иногда и ярость — вызывали те, кто болтал о любви и уверял, что якобы способен чувствовать ее. Любовь — он знал это — была одной из тех возвышенных добродетелей, о которых без умолку трещали родители, учителя и священники. Любви не было. Она была пустышкой, способом закабалять дурачков, липой. Его влекли тьма и странная антижизнь мира мертвых, к которому он принадлежал по праву, но в который пока еще не мог возвратиться. Его место было среди проклятых душ. Он чувствовал себя как рыба в воде среди тех, кто презирал любовь, кто истинно верил, что погоня за наслаждениями — единственное, ради чего стоит жить. Я — это самое главное. И никаких тебе понятий «добро», «зло», «грех». Чем дольше он глядел на звезды, мелькавшие в просветах между облаками, тем ярче они ему казались, пока от их разящих лучиков у него не заболели глаза. Выступившие слезы затуманили его зрение, и он отвел взгляд. Даже ночью мир живых был слишком ярок для таких, как он. Чтобы видеть, ему не нужен был свет. Его зрение было приспособлено к идеальному мраку смерти, к черным катакомбам Ада. Свет был не только избыточен для таких глаз, как у него; он был им неприятен, а иногда и просто омерзителен. Глядя себе под ноги, он зашагал с поля к кромке сплошь покрытого трещинами асфальта. Его шаги гулко отдавались в пустыне, когда-то звеневшей голосами и смехом посетителей. Но если требовалось, он мог двигаться так же неслышно, как крадущаяся к добыче кошка. Выглянувшая из-за туч луна заставила его поморщиться, словно от боли. Со всех сторон чернели развалины его тайного убежища, отбрасывая на асфальт неясно очерченные лунным светом рваные тени, которые любому другому могли бы показаться бледными, но ему представлялись пятнами яркой, светящейся краски. Из внутреннего кармана своей кожаной куртки он достал солнцезащитные очки и надел их. Так было лучше. На какое-то мгновение он замешкался, не зная, что делать с оставшимся ночным временем. У него был выбор: провести последние предутренние часы с живыми или с мертвыми. Но на этот раз ему не пришлось особенно долго ломать себе голову. В его нынешнем состоянии души он явно предпочитал живым мертвых. Он вышел из тени, напоминавшей гигантское, чуть скошенное разбитое колесо, и быстро направился к давно заброшенному строению, где находились его мертвецы. Его коллекция.Глава 3
— Шестьдесят четыре минуты, — сказала Джина, взглянув на свой «Ролекс» на розовом ремешке. — Видно, ребята, придется здорово с ним повозиться. Джоунас и представить себе не мог, что время могло мчаться с такой скоростью, явно быстрее обычного, словно по чьему-то капризу Земля завертелась в несколько раз стремительнее. Но в подобных ситуациях, когда граница между жизнью и смертью измерялась минутами и секундами, это было в порядке вещей. Он бросил взгляд на кровь скорее голубого, чем красного цвета, которая по отводной трубке из прозрачной пластмассы поступала в мерно урчащий байпас. Обычно в теле человека помещается пять литров крови. Прежде чем реанимационная группа покончит с Харрисоном, его кровь несколько раз прогонят по кругу, постепенно подогревая и отфильтровывая ее. Кен Накамура стоял подле светящегося щита, рассматривая на его фоне рентгеновские снимки головы и груди пострадавшего, которые были сделаны на борту летевшего со скоростью восемьдесят миль в час вертолета во время пути от отрогов Сан-Бернардинских гор до больницы в Ньюпорт-Бич. Кари склонилась к лицу пациента, внимательно, через офтальмоскоп, изучая его глаза, стремясь выявить в них признаки опасного черепного давления от чрезмерного количества скопившейся в мозгу жидкости. С помощью Хелги Джоунас наполнил несколько шприцев большими дозами сильнодействующих нейтрализаторов свободных радикалов. Витамины Е и С, будучи весьма эффективными нейтрализаторами, имели еще и то преимущество, что были естественными компонентами, но, помимо них, он намеревался ввести в кровь и лазероид — тирилизад мецилят и фенил-третил-битил-нитрон. Свободные радикалы — это очень подвижные, нестойкие молекулы, распространяющиеся по всему телу и вызывающие разрушительные реакции в большинстве клеток, с которыми они приходят в соприкосновение. Современная теория рассматривает их как основную причину старения человеческого организма, что объясняет, почему органические витамины Е и С способны укрепить иммунную систему и при длительном пользовании в состоянии даже омолодить человека внешне и способствовать развитию у него более высоких энергетических уровней. Свободные радикалы, будучи побочным продуктом обычных метаболических процессов, всегда присутствуют в системе. Но, если тело длительное время было лишено оксидинизированной крови, даже несмотря на защитное воздействие гипотермии, в нем возникает огромное количество свободных радикалов, справиться с которыми тело уже не в состоянии. При восстановлении жизнедеятельности сердца, когда оно вновь начинает перекачивать кровь по системе, потоки крови, захватывая с собой эти разрушительные молекулы, несут их к мозгу, и это обычно приводит к губительным последствиям. Витаминные и химические нейтрализаторы уничтожат свободные радикалы до того, как они успеют нанести мозгу свой смертельный удар. Таковы, во всяком случае, были предположения и надежды ученых. Джоунас вставил все три шприца в специальные приемные отверстия в основной трубке, через которую в тело должна была закачиваться кровь, но не стал сразу вливать в нее их содержимое. — Шестьдесят пять минут, — сказала Джина. И впрямь, уж больно много времени прошло с момента смерти, мелькнуло в голове у Джоунаса. Еще немного, и они вплотную подойдут к рекорду длительности пребывания пациента в состоянии клинической смерти. Несмотря на довольно низкую температуру воздуха в операционной, Джоунас почувствовал, как на черепе под быстро редеющими волосами выступил пот. Вот всегда он так, обязательно перегнет палку, слишком близко принимает все к сердцу. Некоторые из его коллег отрицательно относились к его чрезмерному чувству сострадания к пациентам, полагая, что между лечащим врачом и пациентом должна существовать определенная профессиональная дистанция, и только она способна обеспечить врачу разумную оценку ситуации. Но пациент был не только пациентом. Любой из них был кем-то любим и кому-то нужен. И Джоунас остро переживал, когда сознавал, что не в состоянии помочь пострадавшему, ибо был уверен, что этим он обрекал на горе не только его самого, но приносил боль и страдания огромному числу родственников, близких и друзей. Даже в таких случаях, как данный, когда он практически ничего не знал о Харрисоне, он начинал придумывать жизнь людей, чьи судьбы переплетались с судьбой пациента, и чувствовал себя ответственным перед ними, как если бы действительно знал их лично. — Парень чист, — сказал Кен, оторвавшись от рентгеновских снимков и сонограмм. — Ни переломанных костей, ни внутренних повреждений. — Но эти сонограммы были сделаны после того, как смерть уже наступила, — уточнил Джоунас, — и они не в состоянии показать, как ведут себя функционирующие органы. — Верно. Сделаем пару снимков, когда реанимируем его. Вот тогда и удостоверимся, все ли у него цело, а пока у него порядок. Оторвавшись от своего исследования глаз покойника, Кари Доуэлл сказала: — У него могло быть сотрясение мозга, но по тому, что вижу, судить трудно. — Шестьдесят шесть минут. — Правильнее бы счет вести на секунды. Ну ладно. Все готовы? — спросил Джоунас, хотя вопрос был явно риторический. Прохладный воздух операционной никак не мог проникнуть сквозь плотную материю хирургической шапочки у него на голове, но покрытый потом затылок почему-то вдруг стал холодным как лед. Его трясло словно в ознобе. Кровь, подогретая до ста градусов, по прозрачной пластмассовой трубке начала ритмично, в соответствии с биением искусственного сердца «байпас», поступать в тело через вену на бедре. Джоунас наполовину опорожнил все три шприца, введя в первую порцию крови мощные дозы нейтрализаторов свободных радикалов. Немного подождав, он ввел в кровь вторую половину содержимого шприцев. Его уже ждали три других шприца, согласно инструкции заранее приготовленные Хелгой. Вынув использованные шприцы, он вставил на их место три новых, но вливать их содержимое в линию не стал. Кен подвинул переносной дефибрилляционный аппарат ближе к пациенту. Когда тот будет реанимирован, не исключено, что его сердце станет биться неравномерно и хаотично — дефибрировать, — но его можно будет заставить работать равномерно, пропустив через него мощный электрический разряд. Но к этому прибегали только в критической ситуации, когда уже были исчерпаны все другие способы. Ведь дефибрилляция разрушительно сказывается на пациенте в момент его возвращения к жизни. Взглянув на цифровой термометр, Кари сказала: — Температура тела только пятьдесят шесть градусов. — Шестьдесят семь минут, — проговорила Джина. — Уж больно медленно нагревается, — заметил Джоунас. — Может, попробуем внешний подогрев? Джоунас в нерешительности замялся. — Стоит попробовать, — одобрил Кен. — Пятьдесят семь градусов, — объявила Кари. — Если и дальше пойдем с такой скоростью, — озабоченно сказала Хелга, — то сердце врубится только где-то на восьмидесятой минуте. Еще до того как пациент был доставлен в операционную, под простыню, покрывавшую операционный стол по всей его длине, были подложены электрогрелки. — Ладно, попробуем, — согласился Джоунас. Кари щелкнула выключателем электропитания грелок. — Но потихонечку, — сказал Джоунас. Кари отрегулировала скорость нагрева. Конечно же, тело необходимо было подогреть, но слишком быстрый подогрев мог привести к ненужным последствиям. Реанимация всякий раз напоминала балансирование на туго натянутой проволоке. Джоунас занялся шприцами, вводя в кровь дополнительные дозы витаминов Е и С, тирилизад мецилят и фенил-третил-битил-нитрон. Пациент был бледен и недвижим. Он казался Джоунасу одной из центральных фигур, изображенных в натуральную величину на фреске старинного собора: лежащее навзничь, словно высеченное на белого мрамора, тело Христа в момент перед самым успешным в мире воскрешением. Для того чтобы вести офтальмоскопическое наблюдение, Кари Доуэлл подняла веки покойника, и его широко раскрытые глаза невидяще всматривались в потолок, в то время как Джина, мурлыча себе под нос «Маленькую девочку прибоя», из пипетки капала в них жидкость: искусственные слезы предохраняли глазные хрусталики от пересыхания. Джина была фанаткой группы «Бич Бойз». Ни страха смерти, ни потрясения в момент ее не выражалось в глазах трупа. Напротив, они хранили выражение почти полной удовлетворенности и едва заметного изумления. Словно в момент смерти Харрисон увидел нечто, заставившее его сердце радостно забиться. Опорожнив пипетку, Джина взглянула на свои часы. — Шестьдесят восемь минут. У Джоунаса возникло дикое желание наорать на нее, приказав заткнуться, словно, перестань она поминутно объявлять время, и оно остановится. Кровь продолжала перекачиваться из байпаса в тело и обратно. — Шестьдесят два градуса. Голос Хелги был суровым, будто она выговаривала мертвецу за то, что тот так медленно нагревался. Ровные линии на ЭКГ. — Ну, давай же! — взывал Джоунас. — Давай же, начинай!Глава 4
Он прошел в свой музей не через одну из верхних дверей, а через лагуну, где уже давно не было воды. В неглубокой ее впадине прямо на выщербленном бетонном дне все еще стояли три гондолы, снятые с рельсового пути, по которому, приводимые в движение цепной передачей, они возили своих веселых пассажиров, по десять человек в каждой. Даже сквозь густой мрак ночи, многократно усиленный солнцезащитными очками, он видел, что носовые их части не были выгнуты, подобно лебединым шеям, как у настоящих венецианских гондол, а представляли собой ярко раскрашенные, злобно ухмыляющиеся морды страшилищ, искусно вырезанных из дерева и долженствовавших, по замыслу их создателей, пугать публику, а теперь, повидавших виды, с облупившейся краской и покрытых сетью мелких трещин. Ворота лагуны, когда-то легко расходившиеся в разные стороны при приближении гондолы, застыли навеки. Одна створка была настежь распахнута, другая, закрытая, висела только на двух из четырех насквозь проржавевших петлях. Через распахнутую створку он прошел в переход, где мрак был еще гуще, чем в лагуне. В этой сплошной мгле ему уже не требовались очки, и он снял их. Не нужен был ему и фонарик. Там, где обыкновенный человек чувствовал бы себя совершенным слепцом, он прекрасно видел все вокруг. Бетонный канал шлюза, по которому когда-то двигались гондолы, был глубиной в три и шириной в восемь дюймов. По всей его длине шло более узкое углубление. В нем помещался изрядно проржавевший цепной привод — целая серия компактных, скругленных шестидюймовых крюков, которые за стальные скобы, вделанные в днища гондол, тащили их вперед. Когда этот аттракцион действовал, крюки и скобы находились под водой, и создавалось полное впечатление, что гондолы плыли. Теперь, длинной вереницей уходя во мрак, крюки были похожи на торчащие из спины огромного доисторического ящера позвоночные хрящи. «Мир живых, — подумал он, — всегда напичкан обманом, пряча под внешне спокойной гладью уродливые механизмы, тайно исполняющие свою грязную работу». Он прошел дальше, в глубину строения. Шлюзовой канал едва заметно отлого понижался, но он знал об этом, так как прежде уже не раз бывал здесь. Над ним по обеим сторонам канала бежали бетонные служебные дорожки шириной примерно в четыре дюйма. За дорожками отвесно поднимались стены тоннеля, выкрашенные в черный цвет, чтобы служить мрачным фоном разыгрываемому в них бестолковому спектаклю. Временами дорожка переходила в ниши, а порой и в целые комнаты. Когда аттракцион действовал, в этих нишах помещались живые картины, призванные позабавить или устрашить посетителей, а иногда сделать и то и другое вместе: привидения и домовые, вурдалаки и чудища, сумасшедшие, стоящие с окровавленными топорами над распростертыми телами обезглавленных ими жертв. В одном из помещений, величиной в приличную комнату, находилось искусно сделанное кладбище, по которому, крадучись от могилы к могиле, перебегали ожившие мертвецы; в другом — из огромной, почти в натуральную величину, летающей тарелки толпой вываливались кровожадные инопланетяне с острыми щучьими зубами и огромными головами. Все эти фигуры-роботы двигались, корчили рожи, выпрямлялись во весь рост и страшными голосами, записанными на магнитофонную пленку, стращали посетителей, сопровождая одно и то же драматическое действо или жест неизменными и вечно повторяющимися угрозами и свирепыми гримасами. Увы, не вечными. Роботы испарились, их погрузили на машины и увезли то ли их бывшие хозяева, то ли агенты кредиторов, то ли грабители. Ничто не вечно. Только смерть. Пройдя еще с сотню футов от ворот лагуны, он подошел к краю первой секции шлюзового канала. Пол тоннеля, ранее незаметно понижавшийся, теперь резко, под углом примерно в тридцать пять градусов, обрывался вниз и исчезал в беспросветной черноте. Здесь отцепляемые от крюков гондолы, вздрогнув всем корпусом, скатывались, все убыстряя свой бег, вниз по длинному, в сто пятьдесят футов, склону и гулко шлепались в нижний пруд, поднимая тучи брызг и с ног до головы окатывая водой сидевших впереди пассажиров, к великой радости тех счастливчиков — или хитрецов, — которые догадались сесть позади. Отличаясь от обыкновенных людей и обладая особыми свойствами, даже он в этой кромешной тьме мог видеть только часть уходящего вниз склона. Его кошачье зрение имело свои границы: в радиусе десяти или пятнадцати футов он видел в полной темноте предметы так отчетливо, как будто смотрел на них при дневном свете; затем они становились менее ясными, их очертания сглаживались, уходили в темноту и наконец на расстоянии примерно в сорок-пятьдесят футов полностью сливались с ней. Немного отклонившись назад, чтобы удержать равновесие на крутом спуске, он зашагал вниз, в чрево заброшенного аттракциона. Его не пугало то, что могло ждать его там. Ничто теперь уже не пугало его. Он сам был в сотни раз страшнее и смертельнее любой опасности, которая могла бы грозить ему в этом мире. На полдороге вниз он учуял запах смерти. Его донесли до ноздрей волны холодного воздуха, поднимающиеся снизу. Зловоние будоражило его. Никакие духи, даже самые изысканные, на нежной податливой шейке прекрасной женщины, не могли бы вызвать в нем такого трепетного чувства восторга, как ни с чем не сравнимый, слегка сладковатый аромат гниющей плоти.Глава 5
Отражавшийся от эмалированных поверхностей и деталей из нержавеющей стали свет галогенных ламп в операционной слепил глаза, подобно яркому арктическому солнцу, играющему на острых гранях ледовых торосов. В комнате, казалось, сделалось прохладнее, словно выталкиваемый теплом холод из тела покойника понизил температуру окружающего воздуха. Джоунас Нейберн поежился. Хелга посмотрела на цифровой термометр, приклеенный к телу Харрисона. — Температура семьдесят градусов. — Семьдесят две минуты, — констатировала Джина. — Идем на рекорд, — сказал Кен. — Раздел «История медицины» «Книги рекордов Гиннесса», телеинтервью, монографии, кинофильмы, майки с нашими улыбающимися лицами, новые фасоны шляпок, на лужайках и газонах в виде пластиковых украшений стоим мы в полный рост. — Некоторых собак возвращали к жизни и после девяноста минут, — напомнила ему Кари. — Верно, — согласился Кен. — Но ведь то были собаки. К тому же, если мне не изменяет память, мозги у них всех съехали набекрень, и, вместо того чтобы гоняться за машинами и зарывать в землю кости, они все делали наоборот. Джина и Кари тихо засмеялись, и шутка, казалось, разорвала царившее в комнате напряжение, но Джоунас остался к ней глух. В процессе реанимации он никогда, даже на мгновение, не мог расслабиться, хотя прекрасно понимал, что постоянное напряжение отнимает у врача способность длительно работать с полной отдачей. Умение Кена дать выход накопившейся нервной энергии было тем более восхитительным, что шло не во вред, а на пользу пациенту. Джоунас, однако, не мог в пылу сражения позволить себе такую роскошь. — Семьдесят два градуса, семьдесят три. А ведь это и было настоящим сражением. С очень коварным, умным, могучим и безжалостным врагом — смертью. Джоунас рассматривал смерть не только как патологическое состояние, как некую неизбежность, уготованную всему живому, но и как вполне реальное существо, бродившее по свету, хотя, естественно, не в том обличье, в каком ее обычно изображают в мифах и легендах, — в виде скелета в наброшенном на плечи и голову саване, — но, тем не менее, как некое ощутимо-зримое бытие. Смерть с заглавной буквы. — Семьдесят четыре градуса, — проговорила Хелга. — Семьдесят три минуты, — сказала Джина. Джоунас ввел еще несколько порций нейтрализаторов свободных радикалов в струившуюся под мощным напором байпаса кровь. Он знал, что его вера в Смерть как особую сверхъестественную силу, обладающую собственной волей и сознанием, его убежденность, что иногда она обретает вполне реальные, зримые очертания и что в данный момент она, скрытая от глаз под плащом-невидимкой, присутствует в этой комнате, его коллегам покажутся глупыми предрассудками. Верными признаками его психической неустойчивости или скрытого помешательства. Но Джоунас не сомневался, что находится в здравом уме. В конце концов, его вера в Смерть покоилась на вполне объективных данных личного опыта. Семилетним мальчиком он лицом к лицу столкнулся со своим ненавистным врагом, слышал его голос, смотрел ему прямо в глаза, вдыхал его смрадный запах и чувствовал его ледяное прикосновение. — Семьдесят пять градусов. — Внимание, приготовиться, — сказал Джоунас. Температура тела пациента приближалась к тому рубежу, за которым в любой момент мог начаться процесс воскрешения из мертвых. Кари приготовила полный шприц эпинефрина, а Кен включил дефибрилляционную установку и дал ей накопить электрический заряд необходимой мощности. Джина открыла выводной вентиль емкости, содержащей смесь кислорода и двуокиси углерода, составленную по особому рецепту для нужд реанимации, и проверила исправность лицевой маски в искусственном легком. — Семьдесят шесть градусов, — сказала Хелга, — семьдесят семь. Джина взглянула на часы. — Подходим… к семьдесят четвертой минуте.Внизу длинного спуска он вошел в просторное пещерообразное помещение, напоминающее ангар для самолетов. Когда-то, сообразно полностью лишенному воображения замыслу проектировщика парка аттракционов, здесь был воссоздан Ад, напичканный газовыми горелками, из которых шипя вырывались языки пламени, жадно лизавшие сделанные из бетона скалы. Газ был давно отключен. Стены Ада были сплошь черными от копоти. Но ему они не казались такими. Он медленно шагал по бетонному полу, рассеченному надвое змеившимся по нему углублением для еще одной цепной передачи. Благодаря ей гондолы плыли по озеру, вода которого за счет оригинальной подсветки и хитро расставленных клапанов, периодически испускавших струи воздуха, пучилась и кипела, изображая геенну огненную, в которой должны были заживо сгорать грешники. Пройдя еще немного, он почуял устойчивый запах разложения, который с каждой секундой сладостно крепчал. На специальных возвышениях раньше стояли двенадцать механических демонов, расправлявших свои огромные, перепончатые, как у летучих мышей, крылья, пронзая проходящие внизу гондолы взглядами своих горящих глаз, периодически испускавших безобидные кроваво-красные лазерные лучи. Одиннадцать демонов были демонтированы и увезены то ли в другой парк аттракционов, то ли просто сданы в утиль. По непонятным причинам один был оставлен — молчаливое и неподвижное нагромождение ржавых металлических конструкций, побитой молью материи, ободранных кусков пластмассы и густо покрытых застывшим слоем смазки частей гидравлических механизмов. Он все еще торчал где-то под потолком на своем остроконечном пьедестале, вызывая скорее чувство жалости, чем страха. Проходя под этой печальной фигурой, он подумал: «Я — единственный настоящий демон, когда-либо посетивший это место!» Мысль эта ему очень понравилась. Давным-давно он перестал называть себя данным ему при крещении именем, а предпочитал дьявола, о котором вычитал в книге о сатанизме. Вассаго. Имя одного из трех самых могущественных князей Ада, равных по силе самому Его Величеству Сатане. Вассаго. Он упивался звуком этого имени. Когда он произнес его вслух, оно так легко скатилось с его языка, что, казалось, он никогда не мог раньше отзываться на другое имя. — Вассаго! Гулкое эхо, отразившись от бетонных скал, разнеслось по пещере: — Вассаго!
Глава 7
— Восемьдесят градусов. — Должно бы уже начаться, — заметил Кен. Взглядываясь в экран мониторов, Кари сказала: — Увы, линии абсолютно ровные. Ее длинная, лебединая шея была так нежна, что Джоунас без труда различал биение пульса в каротидной артерии. Он перевел взгляд на шею покойника. Там пульса не было. — Семьдесят пять минут, — объявила Джина. — Если он оклемается, можно регистрировать официальный рекорд, — сказал Кен. — Придется отпраздновать, надеремся до чертиков, обрыгаем себе все ботинки, в общем, будем веселиться от души. — Восемьдесят один градус. Джоунас буквально онемел от расстройства, боясь, что, если произнесет какой-то звук, это будет либо грязное ругательство, либо низкий свирепый рев дикого зверя. Они ведь все сделали правильно, но все равно проиграли. А проигрывать он ненавидел. И ненавидел Смерть. И ненавидел ограниченные возможности медицины, и пределы человеческих знаний, и свою собственную ущербность. — Восемьдесят два градуса. Вдруг мертвец судорожно глотнул воздух. Джоунас дернулся и быстро посмотрел на мониторы. ЭКГ регистрировала спазматические сокращения сердца пациента. — Поехали, — сказала Кари.Глава 8
Фигуры-роботы грешников, числом более ста в лучшие времена Ада, исчезли вместе с одиннадцатью демонами, а с ними канули в небытие стенания и плачи, раздававшиеся из их динамиков-ртов. Покинутая ими пещера не осталась, однако, незаселенной пропащими душами. Но теперь они более, чем роботы, соответствовали своему назначению и были куда более реальны: коллекция Вассаго. В центре помещения во всем своем величии восседал Сатана, огромный и страшный. Исполинская статуя Князя Тьмы покоилась в полу, в специальном углублении круглой формы диаметром от шестнадцати до восемнадцати футов. Статуя была поясная, но расстояние от пупка до кончиков торчащих в разные стороны рогов составляло ровно тридцать футов. Когда аттракцион действовал, гигантская статуя находилась в яме глубиной в тридцать пять футов, полностью скрытая под водой озера, периодически взмывая вверх, словно вырастая из-под земли, в каскадах брызг и потоках низвергающейся с нее воды, с горящими глазами, разинутой и ощеренной чудовищной пастью, с острыми, как клинки, клыками и раздвоенным, как у змеи, длинным и тонким языком. Скрежеща зубами, чудище громовым голосом объявляло: «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» и сопровождало эти слова диким зловещим хохотом. Еще мальчиком, когда он был одним из мира живых, еще до того, как стал обитателем приграничной полосы между жизнью и смертью, Вассаго несколько раз побывал в этом аттракционе и катался на гондолах, и в те дни дьявол, искусно сделанный рукой человека, заставлял его дрожать от страха. Но особенно страшился он сатанинского хохота куклы. Если бы каким-то чудесным образом механизмам, приводившим в действие статую, удалось уберечься от коррозии и снова вдохнуть жизнь в гоготавшее чудовище, Вассаго совершенно не испугался бы, так как был уже достаточно взрослым и по опыту знал, что Сатана никогда не смеется. Он остановился подле возвышавшегося над ним, как башня, Люцифера и оглядел его со смешанным чувством презрения и восхищения. Конечно же, это была аттракционная липа, явно рассчитанная на мокрые от страха штанишки детей и на деланно-испуганные повизгивания девиц, дающие им возможность теснее прижиматься, как бы в поисках защиты, к своим ухмыляющимся ухажерам. С другой стороны, он не мог не признать, что это было вдохновенное творение, так как создатель фигуры Сатаны не пошел традиционным путем, изобразив его эдаким худощавым, с ястребиным носом и тонкими губами Лотарио с прилизанными назад волосиками и остроконечной козлиной бородкой на выступающем вперед, суживающемся книзу подбородке. Вместо этого он сотворил настоящее чудовище, достойное своего титула: это было одновременно и пресмыкающееся, и насекомое, и человек, настолько отвратительный, что вызывал к себе невольное уважение, настолько узнаваемый, что казался почти реальным, и настолько чужеродный, что был действительно страшен. Время, пыль, влага и забвение смягчили кричащие карнавальные цвета и придали статуе степенность и величавость, сродни гигантским каменным изваяниям египетских богов, которые покоятся в занесенных песками пустынь древних храмах. Не зная, как действительно выглядит Люцифер, и предполагая, что Отец Лжи во многие тысячи раз ужаснее и могущественнее, чем его аттракционное изображение, Вассаго тем не менее находил это сотворенное из пластика и пенопласта чудище достаточно впечатляющим и величественным, чтобы сделать его центром своего тайного существования в этом забытом Богом и людьми месте. У его подножия, прямо на сухом бетонном дне бывшего озера, он и расположил свою коллекцию, отчасти ради собственного удовольствия, но одновременно и как дар божеству ужаса и страданий. Обнаженные гниющие трупы семи женщин и трех мужчин были выставлены там в самом выгодном, с точки зрения коллекционера, виде: словно десять скульптур, искусно выполненных для музея смерти неким погрязшим в пороке Микеланджело.Глава 9
Маленький судорожный вздох, короткий всплеск сердечной мышцы и непроизвольное сокращение нервных волокон, заставившее разомкнуться и снова сомкнуться, словно лапки агонизирующего паука, пальцы, были единственными признаками жизни, которые проявились у пациента, прежде чем он снова застыл в неподвижной и молчаливой позе мертвеца. — Восемьдесят три градуса, — сказала Хелга. Кен Накамура вопросительно посмотрел на Джоунаса: — Дефибрилляция? Джоунас отрицательно покачал головой. — Сердце пока не бьется. Подождем еще. Кари протянула ему шприц. — Может, добавим эпинефрина? Взгляд Джоунаса был прикован к мониторам. — Нет, подождем. Не воскрешать же его только ради того, чтобы затем вызвать у него сердечный приступ. — Семьдесят шесть минут, — сказала Джина, и голос ее зазвенел, как туго натянутая тетива, дрожа от возбуждения и какого-то радостного предчувствия, словно она объявляла счет острейшего волейбольного матча. — Восемьдесят четыре градуса. Харрисон снова судорожно глотнул воздух. Сердце его забилось быстро-быстро, заполнив экран электрокардиографа целой серией острых всплесков-пиков. По всему телу прошла судорога. Но затем все линии на экранах снова стали ровными. Схватившись за контакты дефибрилляционной установки, Кен вопросительно взглянул на Джоунаса. — Восемьдесят пять градусов, — объявила Хелга. — Температурный режим в норме, и этот несчастный явно хочет вернуться к жизни. С правого виска Джоунаса быстро, как сороконожка, шмыгнула горошина пота и скатилась вниз по щеке. Самое тяжелое было еще впереди, но сначала, перед тем как будут задействованы специальные средства стимуляции реанимационного процесса, необходимо было дать возможность сделать это самому пациенту. В третий раз активность сердца проявилась в виде более короткого, чем предыдущий, всплеска пиков на экране, однако легкие не подключились. Не просматривались и непроизвольные сокращения мышц. Харрисон был все так же неподвижен и холоден. — Ему самому не справиться, — проговорила Кари Доуэлл. Кен согласился с ней. — Так недолго и совсем потерять его. — Семьдесят семь минут, — сказала Джина. Это, конечно, не четыре дня в могиле, которые провел Лазарь, до того как Иисус воскресил его из мертвых, но все же довольно долго, мелькнуло в голове у Джоунаса. — Эпинефрин, — коротко бросил он. Кари подала Джоунасу шприц, и он быстро опорожнил его в одно из отверстий на трубке, через которую ранее вводил в кровь нейтрализаторы свободных радикалов. Кен поднес к телу пациента контакты положительного и отрицательного зарядов дефибрилляционной установки, чтобы в любой момент, если понадобится, быть готовым воздействовать на сердце электротоком. Но огромная доза эпинефрина, мощного гормона, получаемого из надпочечников овец и крупного рогатого скота, окрещенная некоторыми специалистами-реаниматорами «реанимационным соком», возымела на организм Харрисона тот же эффект, какой произвел бы на него электрошок Кена Накамуры. Затхлый дух могилы разом вырвался из его груди, и он судорожно втянул в себя воздух, словно все еще захлебывался в ледяных водах реки, тело его вздрогнуло, а сердце забилось, как у зайца, со всех ног улепетывающего от лисицы.Глава 10
Вассаго тщательно продумал, каким образом расположить каждый экспонат своей леденящей душу коллекции. Это были не просто десять трупов, бесцеремонно разбросанных по бетонному полу. Смерть он не просто уважал, но и любил ее так же самоотверженно и так же глубоко, как Бетховен музыку, а Рембрандт живопись. Ведь смерть, в конце концов, была подарком, который Сатана преподнес обитателям Эдема, даром вечности, скрытым им под внешне притягательной оболочкой; он был Дарителем Смерти, и царство его было царством вечной смерти. Следовательно, к любой плоти, к которой прикоснулся перст смерти, необходимо относиться с таким же благоговением, с каким истинный католик относится к святому причастию. Ибо если, как они утверждают, просфора — это животворящая плоть Господня, то любое гниение и любая кончина— это свидетельства присутствия неумолимого бога Вассаго. Первым приобретением его коллекции, расположенной им у подножия тридцатифутовой статуи Сатаны, было тело Дженни Парселл, двадцатидвухлетней официантки, работавшей в ночную смену в ресторане-ретро, отделанном под вагон-ресторан пятидесятых годов, в котором музыкальный автомат исполнял Элвиса Пресли и Чака Берри, Ллойда Прайса и «Платтерз», Бадди Хоулли, Конни Фрэнсис и братьев Эверли. Когда Вассаго заглянул туда, чтобы перекусить и выпить кружку пива, он в своем черном наряде и темных очках, которые он даже и не подумал снять в этот довольно поздний час, показался ей парнем что надо. Красивое, почти ангельское лицо и резко контрастирующие с ним плотно сжатые челюсти, и жесткая складка у рта, и прядь густых черных волос, полностью скрывающая лоб, делали его чем-то похожим на молодого Элвиса. «Как тебя зовут?» — спросила Дженни, и он ответил: «Вассаго». И она сказала: «Я же спрашиваю твое имя, а не фамилию», и он проговорил: «А это сразу и имя и фамилия», чем, видимо, здорово заинтриговал девушку, дав волю ее воображению, потому что она спросила: «Это как у Шер, или Мадонны, или Стинга, да?» А он, глядя в упор на нее сквозь черные стекла своих очков, процедил сквозь зубы: «Примерно. А что, у тебя какие-то сомнения на этот счет?» Сомнений у нее не было никаких. Мало того, он ей явно нравился. Она сказала ему, что он «здорово отличается» от других, и только потом поняла, как здорово он отличался от других. Все в Дженни свидетельствовало, с его точки зрения, о том, что она была обыкновенной шлюхой, и потому, убив ее ударом длинного стилета прямо в сердце, он придал ей позу развратницы. Сорвав с мертвой одежды, он усадил ее на пол, широко раздвинув ей бедра и согнув ноги в коленях. Чтобы тело сохраняло вертикальное положение, он привязал ее запястья к голеням. Потом с помощью тонкой крепкой бечевки сильно пригнул ее голову вперед и вниз, чего при жизни она никогда не смогла бы сделать: для этой цели ему пришлось переломить ей позвоночник. Затем он привязал бечевки к бедрам, и она навсегда осталась в этой позе, глядя себе промеж ног, созерцая орудие своего греха. Дженни была первым экспонатом его коллекции. Убитая девять месяцев назад, связанная, как свинья, которую собираются разделать на окорока для копчения, она теперь сильно усохла и уже не представляла интереса для могильных червей и жуков. И не смердела, как раньше. Из-за своеобразной позы, загнивая и усыхая, она постепенно приняла вид бесформенного шара и теперь так мало походила на жившего когда-то человека, что и подумать о ней, как о мертвой, уже было просто невозможно. Казалось, что смерть навсегда покинула ее останки. Перестав быть трупом, она превратилась для Вассаго в некий курьез, безликую неодушевленную вещь. В результате чего, положив начало его коллекции, она сейчас почти совершенно перестала его интересовать. Все, что было связано со смертью и мертвыми, беспредельно восхищало Вассаго. Живые интересовали его только как предметы, носившие в себе предвидение смерти.Глава 11
Сердце пациента из слабой тахикардии то и дело перескакивало на сильную, от ста двадцати ударов в минуту до ста тридцати и выше, что могло быть результатом воздействия эпинефрина и гипотермии. Только в данной ситуации это не являлось следствием ни того ни другого. Теперь всякий раз, когда частота пульса падала, она не снижалась так резко, как раньше, а с каждым новым ее увеличением ЭКГ регистрировал усиливающуюся аритмию, которая могла привести к полной остановке сердца. Теперь, когда решение дать бой смерти было принято и прогремели первые залпы, Джоунас успокоился и перестал потеть. — Ну-ка, врежь ему под дых. Никто не сомневался, кому были адресованы эти слова, и Кен Накамура тотчас приставил к сердцу Харрисона холодные электроды дефибриллятора. Электрический разряд буквально подбросил пациента на столе, и в комнате раздался такой звук, словно тяжелой кувалдой ударили по мягкому кожаному дивану. Джоунас взглянул на экран электрокардиографа как раз в тот момент, когда Кари начала вслух считывать с него информацию: — Все еще двести ударов в минуту, но теперь ритм как будто бы выравнивается… да, явно выравнивается. Электроэнцефалограф, в свою очередь, регистрировал альфа- и бета-волны мозга в пределах нормы для человека, находящегося в бессознательном состоянии. — Дыхание самостоятельное, — сказал Кен. — Вот что, — решил Джоунас, — надо помочь ему продышаться, чтобы мозг получил как можно больше кислорода. Джипа тотчас поднесла к лицу пациента кислородную маску. — Температура тела около девяноста градусов, — сообщила Хелга. Губы Харрисона все еще сохраняли синюшный оттенок, но он уже почти исчез с ногтей. Частично восстановился и его мышечный тонус. Тело уже не было обмякшим, как у мертвеца. По мере того как к обмороженным конечностям Харрисона возвращалась жизнь, они стали нервно подергиваться и судорожно сгибаться и разгибаться. Глаза его под закрытыми веками вращались и перекатывались с места на место — явный признак поверхностного сна. В мозгу его проносились видения. — Сто двадцать ударов в минуту, — сказала Кари, — и пульс явно идет на понижение… ритмичность в пределах нормы. Джина посмотрела на свои часы и пораженно воскликнула: — Восемьдесят минут! — Во дает парень! — восхищенно воскликнул Кен. — На десять минут побил рекорд! Джоунас, чуть помедлив, взглянул на часы, висевшие на стене, и официально, для записи на магнитофон, провозгласил: — Время двадцать один час тридцать минут, понедельник, четвертое марта, — пациент успешно реанимирован. Шепотом высказанные друг другу поздравления и сопровождавшие их улыбки только отдаленно напоминали тот радостный вопль, который вырвался бы у них, находись они не в операционной, а на реальном поле битвы. Но не врожденная застенчивость сдерживала проявление их эмоций, просто они ясно понимали, что положение Харрисона все еще оставалось критическим. Смерть-то они сумели одолеть, но привести пациента в полное сознание еще не успели. Пока он не проснется и не придет в себя, когда станет возможным досконально проверить, как функционирует его мозг, всегда оставалась опасность, что они воскресили его к жизни, полной страданий и несбыточных надежд, трагически ограниченной неизлечимой травмой головного мозга.Глава 12
Упоенный пряным запахом смерти, чувствуя себя в кромешной тьме подземелья как рыба в воде, Вассаго горделиво шагал мимо своей коллекции. Она занимала третью часть пьедестала громадного Люцифера. Из мужских экспонатов одного он приобрел, когда тот вылез из своей машины поздним вечером на безлюдном шоссе, чтобы сменить колесо. Другого, когда тот уснул за рулем припаркованной на стоянке возле пляжа машины. Третьего, когда тот полез на Вассаго с кулаками в баре Дана Пойнта. Правда, от бара там было одно только название — обыкновенная забегаловка, — и парень тот был вдрызг пьян, ему было худо, он был одинок, и море ему было по колено. Ничто не приводило Вассаго в такую ярость, как сексуальные потребности и вызываемое ими возбуждение у других людей. Его самого секс уже не привлекал, и он никогда не насиловал убитых им женщин. Приступы отвращения и злобы к сексуальности других порождались у него не завистью к ним и не чувством, что его импотентность была для него проклятием и тяжким бременем. Нет, он был счастлив, что больше не испытывает сексуальных влечений и страстей. Став жителем приграничной полосы и вняв призыву могилы, он не сожалел об этой своей утрате. Хотя и не совсем понимал, почему даже сама мысль о сексе вызывала у него столь сильную ярость, почему игривый взгляд, или короткая юбка, или туго обтягивающий полную грудь свитер возбуждали в нем острое желание истязать и убивать. Видимо, потому, размышлял он, что секс и жизнь были воедино связаны между собой. Ведь недаром же говорят, что после инстинкта самосохранения самым сильным чувством, движущим поступками человека, является сексуальное влечение. Ибо благодаря сексу жизнь самовозрождается. А так как он ненавидел жизнь во всех ее разнородных проявлениях, ненавидел так сильно, как ничто другое, вполне естественно, что ненависть эта распространялась и на секс. Он предпочитал убивать женщин, потому что общество больше, чем мужчин, поощряло их выставлять свою сексуальность напоказ, что они и делали с помощью косметики, губной помады, соблазнительных духов, короткой или туго обтягивающей тело одежды и кокетливого поведения. К тому же именно в чреве женщины зарождалась новая жизнь, а Вассаго дал клятву всегда и везде уничтожать ее. От женщин исходило то, что он ненавидел и в себе самом: огонь жизни, еще теплившийся в нем и мешавший ему сойти на обетованную землю мертвых. Из шести женских экспонатов его коллекции две были домохозяйками, одна молодым адвокатом, одна секретарем в больнице и две студентками колледжа. Хотя он расположил каждый труп в соответствии с присущими той или иной жертве индивидуальными наклонностями, духом и слабостями, которыми они отличались при жизни, и несмотря на то что обладал истинным талантом в искусстве аранжировки трупов и особенно преуспел в придумывании различных средств, позволявших фиксировать мертвые тела в том или ином положении, больше всего его самого восхищал эффект, которого ему удалось достичь при работе с трупом одной из студенток. Эффект этот, по его мнению, во много раз превосходил результаты так же тщательно продуманных аранжировок всех остальных экспонатов, вместе взятых. Когда он дошел до нее, то остановился. И, гордясь достигнутым, молча, в кромешной тьме, стал ее разглядывать…Маргарет… Впервые он увидел ее во время одной из своих беспокойных ночных вылазок в скупо освещенном баре, располагавшемся неподалеку от университетского городка, в котором она сидела и мирно потягивала свою кока-колу, то ли оттого, что еще была слишком молода, чтобы, как и ее друзья, пить пиво, то ли оттого, что вообще не употребляла алкоголь. Скорее всего, подумал он, верным было последнее. Выглядела она абсолютно здоровой и цветущей и чувствовала себя явно не в своей тарелке в дыму и чаду этой забегаловки. Едва войдя туда и увидев ее, Вассаго, судя по реакции Маргарет на реплики ее друзей и по тому, как она неловко ерзала на своем месте, понял, что под внешней бравадой скрывалась робкая и застенчивая душа, всеми силами стремившаяся ничем не выделяться из той среды, в которой она вращалась, но ясно сознающая, что никогда не сможет принадлежать ей всецело. Разгоряченная крепкими напитками речь, дзиньканье рюмок и бокалов, грохот посуды, громовые раскаты и завывания Мадонны, Майкла Джексона и Майкла Болтона, изрыгаемые колонками стереопроигрывателя, удушливый сигаретный дым, тяжелый, кисловатый запах пива, потные и распаленные молодые лица будущих бизнесменов — ничто не трогало ее. Она сидела тут, вместе с ними, но неприкасаемая, наполненная внутренней энергией, перед которой спасовал бы любой из присутствующих в баре, да, пожалуй, и все эти молодые люди и девушки, вместе взятые, существовала как бы отдельно от них, сама по себе. Энергия эта, казалось, заставляла ее светиться изнутри. Вассаго не в силах был поверить, что в жилах ее текла обыкновенная человеческая кровь. О нет, сердце ее разносило по телу очищенную от всяких ненужных примесей эссенцию самой жизни. Кипучая жизнеспособность девушки неодолимо влекла к себе. До чего же сладостно будет загасить это ярко трепещущее пламя жизни! Вассаго пошел за ней следом, чтобы узнать, где она живет. Два последующих дня он рыскал по студенческому городку, по крупицам собирая данные о ней. Он делал это с таким рвением и тщанием, с каким студент готовится к сдаче своей семестровой работы. Звали ее Маргарет Анна Кампион. Она была студенткой старшего курса, двадцати лет, специализировалась в музыке. Играла на пианино, флейте, кларнете, гитаре и, если бы пожелала, легко могла бы выучиться играть на любом другом инструменте. Одна из самых известных и почитаемых товарищами по учебе студенток музыкального отделения, она была еще и талантливым композитором. От природы застенчивая, Маргарет делала все, чтобы ничем не выделяться из своей среды, и потому музыка была для нее не единственным увлечением в жизни. Она входила в сборную колледжа по легкой атлетике, была второй среди девушек по бегу, всегда боролась до конца; писала заметки о кино и музыке в студенческую газету; активно участвовала в деятельности местной баптистской церкви. Ее кипучая жизненная энергия проявлялась не только в радости, которую она испытывала, играя на различных музыкальных инструментах или сочиняя музыку, не только в том сиянии, которое подметил в ней Вассаго в баре, но и в ее внешности. Она была на удивление хороша собой, с фигурой киноэкранной богини секса и лицом ангела. Чистая нежная кожа. Четкие контуры лица. Полные губы, чувственный рот, прелестная улыбка. Влажные голубые глаза. Одевалась она скромно, стремясь за складками одежды скрыть сладостную полноту груди, тонкую талию, ладную попку и длинные стройные ноги. Но он знал: стоит содрать с нее одежды, и она предстанет перед ним такой, какой он в самом начале мысленно вообразил ее себе: самкой-производительницей, бурлящим биологическим котлом, из которого будет возникать все новая и новая жизнь, непревзойденная по яркости и дарованию. Он не хотел, чтобы она жила. Он хотел остановить ее сердце и затем прижать к себе ее холодеющее тело, чтобы почувствовать, как огонь жизни постепенно угасает в нем. Ему казалось, что одно это убийство откроет перед ним врата смерти и поможет покинуть приграничную полосу, где он сейчас обитает, и уйти в мир мертвых, к которому стремился всем своим существом и к которому по праву принадлежал. Маргарет имела неосторожность пойти одна в одиннадцать часов вечера в прачечную самообслуживания, располагавшуюся прямо на территории их жилого комплекса. Квартиры комплекса сдавались внаем финансово независимым престарелым людям, а так как к тому же находились неподалеку от Калифорнийского университета в Ирвине, то и парам и тройкам студентов, плативших за проживание в складчину. Скорее всего, разношерстный состав квартиросъемщиков, прекрасные отношения между соседями, обилие света на территории комплекса — вместе взятые — создавали у нее иллюзию полной безопасности. Когда Вассаго вошел в прачечную, Маргарет как раз закладывала в барабан стиральной машины последнюю порцию грязного белья. Она взглянула на него с легкой улыбкой удивления, но совершенно без страха, хотя он и был одет во все черное и не снимал темных очков в ночное время. Очевидно, она приняла его за одного из студентов университета, пытавшегося своим эксцентричным видом подчеркнуть свое неприязненное отношение к условностям жизни и тем самым доказать свое интеллектуальное превосходство над остальными людьми. В любом студенческом городке всегда отыщется подобный «бунтарь», так как всегда легче казаться интеллектуалом, чем в действительности быть им. — Ради бога, простите, мисс, — сказал он, — я думал, здесь никого нет. — К чему извинения? Мне нужна только одна машина, — улыбнулась она. — Две другие совершенно свободны. — Нет, я уже выстирал белье, но, когда пришел домой и вынул его из корзины, увидел, что одного носка не хватает — оставил его то ли в машине, то ли в сушилке. Простите, что помешал вам. Она улыбнулась еще шире, так как ей показалось смешным, что этот будущий Джеймс Дин, этот бунтарь-одиночка, затянутый во все черное, оказывается на поверку таким супервежливым и предупредительным джентльменом, не чурающимся стирать свое собственное белье и охотящимся за утерянным носком. К этому времени он уже подошел к ней совсем близко. Два коротких резких удара в лицо — и она потеряла сознание и, как груда белья, повалилась на выложенный виниловой плиткой пол. Позже, в демонтированном Аду заброшенного парка аттракционов, когда Маргарет пришла в себя и обнаружила, что голая, связанная по рукам и ногам лежит на бетонном полу, ослепшая от непроглядной тьмы, окружающей ее со всех сторон, она даже и не пыталась выторговать себе жизнь, как это делали другие. Она не предлагала ему свое тело, не делала вид, что ее возбуждают его жестокость и власть над ней. Не пыталась откупиться от него деньгами, не убеждала его, что понимает и сочувствует ему, пытаясь из Немезиды[137] превратить его в друга. Она не кричала, не плакала, не молила о пощаде и не осыпала его грязными проклятиями. Она совершенно не походила на других, так как нашла утешение в возвышенной тихой молитве, которую самозабвенно, не останавливаясь ни на миг, произносила едва слышным голосом, почти шепотом. Но молилась она не об избавлении от своего палача и не о возвращении в мир, из которого была насильно вырвана, — словно знала, что смерть неминуема. Вместо этого она молилась, чтобы Бог дал ее семье достаточно мужества и сил пережить потерю, чтобы не оставил на произвол судьбы двух ее младших сестер и даже чтобы он не обошел своей милостью и отпустил грехи ее убийце. Вассаго тотчас возненавидел ее. Он знал, что ни любви, ни милосердия на свете не существует, что это все пустые слова. Сам он никого не любил, ни когда был среди живых, ни сейчас в пограничной между жизнью и смертью полосе. Он часто, правда, прикидывался, что кого-то любит — отца, мать, девушку, — но только ради того, чтобы получить от них, что хотел, и они верили ему. Вера в то, что любовь существует в других, когда наверняка знаешь, что в самом тебе она отсутствует, это явный признак душевной слабости. Человеческие взаимоотношения не что иное, как искусная игра, и умение разглядеть обман — единственное, что отличает хороших игроков от плохих. Чтобы доказать ей, что обмануть его невозможно и что ее Бог бессилен, Вассаго вознаградил ее негромкие молитвы долгой и мучительной смертью. Она все же закричала в конце. Но крик ее не удовлетворил его, так как в крике том прозвучало только физическое страдание, но не было в нем ни ужаса, ни ярости, ни отчаяния. Он надеялся, что полюбит ее, когда она будет мертвой, но и тогда его ненависть к ней так и не ушла. Некоторое время он прижимал ее тело к себе, чувствуя, как жизнь покидает его и как оно холодеет. Но холодное прикосновение смерти к ее плоти не вызвало в нем того трепетного возбуждения, на которое он рассчитывал. Она умерла с непокоренной верой в вечную загробную жизнь и тем самым лишила Вассаго радости от сознания, что в затухающих глазах жертвы ему удастся прочесть страх смерти. С омерзением оттолкнул он от себя ее обмякшее тело.
Теперь, через две недели после того как Вассаго покончил с ней, Маргарет Кампион застыла в вечной коленопреклоненной молитве на бетонном полу демонтированного Ада. В вертикальном положении ее тело удерживал стальной штырь, воткнутый им в специально для этой цели просверленное в бетоне отверстие. К нему она и была притянута бечевками. Ее обнаженное тело располагалось спиной к поддельному дьяволу-гиганту. Хотя в жизни Маргарет была баптисткой, в ее мертвые руки Вассаго втиснул распятие, так как оно нравилось ему больше, чем простой крест; распятие было повернуто головой вниз, и терновый венок Христа указывал в землю. Голова Маргарет была отрезана, а затем с маниакальной точностью заново пришита к телу, и, хотя само тело было повернуто спиной к Сатане, лицо девушки смотрело прямо на него, символически отвергая распятие, неуважительно, ногами вверх, зажатое в руках. Поза ее воплощала лицемерие и ханжество, высмеивая ее религиозные убеждения, ее веру в любовь и вечную загробную жизнь. Несмотря на то, что Вассаго получил больше удовольствия от того, что сделал с Маргарет после смерти, чем когда убивал ее, он все же был рад, что познакомился с ней. И, хотя ее смерть из-за ее упрямства, глупости и лживой самоотречённости удовлетворила его в гораздо меньшей степени, чем хотелось бы, ему, во всяком случае, все же удалось погасить то исходившее от нее сияние, которое привлекло его в баре. Оскорблявшая чувства Вассаго жизненная энергия покинула ее тело навсегда. Живыми оставались теперь только мириады копошившихся могильных червей, пожиравших ее тело и постепенно превращавших ее в такую же высушенную скорлупу, как и Дженни, официантка, чьи останки располагались по другую сторону коллекции. Пока он рассматривал Маргарет, внутри его проснулось знакомое желание. Спустя некоторое время желание это переросло в непреодолимое влечение. Резко повернувшись, он зашагал прочь от коллекции обратно через пещеру к наклонному каналу, ведшему наверх к выводному тоннелю. Обычно поиск экспоната, процесс его умерщвления и придания ему эстетически наиболее удовлетворительной позы на целый месяц насыщали Вассаго эмоциями и успокаивали его. Но на этот раз не прошло и двух недель, как ему снова потребовалось найти другую, более подходящую жертву. Поднимаясь по наклонному каналу вверх к загрязненному ароматами жизни воздуху, он с сожалением покидал очищающий душу запах смерти, как вампир, вынужденный охотиться за живыми, но предпочитающий оставаться с мертвыми.
Глава 13
В десять тридцать, спустя почти час после того, как Харрисон был возвращен к жизни, он все еще оставался без сознания. Температура у него была нормальная. Все другие показатели также были положительными. Альфа- и бета-волны были аналогичны тем, какие обычно бывают у крепко спящего человека, но это отнюдь не являлось беспамятством коматозного состояния. Когда Джоунас объявил наконец, что пациенту пока не угрожают никакие осложнения, и приказал отвезти его в отдельную палату на пятом этаже, Кен Накамура и Кари Доуэлл решили отправиться по домам. Оставив с пациентом Хелгу и Джину, Джоунас сначала вышел вместе с неврологом и терапевтом в предоперационную, затем пошел проводить их до входных дверей на служебную автостоянку. По пути разговор у них сначала в основном вертелся вокруг Харрисона и процедур, которые он должен будет пройти утром, но потом незаметно перекинулся на не связанные с ним темы: о планах расширения больницы, об общих знакомых — словно они не были свидетелями и участниками чуда, напрочь отметавшего саму возможность обмена такими банальностями. За стеклянной дверью ночь казалась холодной и неприветливой. Шел дождь. Лужи быстро заполняли все щели и выемки в асфальте и в отраженном свете фонарей на автостоянке выглядели как мириады острых серебристых осколков огромного, вдребезги разбитого зеркала. Кари прильнула к Джоунасу, поцеловала его в щеку и, прижавшись к нему, на какой-то миг задержалась. Казалось, она что-то хотела сказать, но не нашла нужных слов. Отстранившись от него, она подняла воротник пальто и быстро шагнула в дождь. Немного помедлив после ее ухода, Кен Накамура проговорил: — Думаю, вам и без меня ясно, что вы прекрасно смотритесь вместе. Сквозь залитые дождем стеклянные двери Джоунас молча наблюдал, как она быстрым шагом, почти бегом, направлялась к своей машине. Он бы солгал себе, если бы сказал, что никогда не думал о Кари как о женщине. Высокая, с жестким характером, длинноногая, она, тем не менее, была очень женственной. Иногда он поражался утонченной изящности ее рук и нежной лебединой шее, казавшейся слишком тонкой, чтобы удерживать ее голову. Она была гораздо умнее и эмоциональнее, чем это могло показаться с первого взгляда. Иначе как бы смогла она пробиться сквозь столько препятствий и избежать стольких подножек, прежде чем ей удалось продвинуться в медицине, всецело пока еще отданной на откуп мужчинам, у которых — правда, не у всех — шовинизм по отношению к женщине, если и не присущ им как людям, является своеобразным, едва ли не обязательным символом веры. — Вам и предпринимать ничего не надо, Джоунас, просто возьмите и предложите ей руку и сердце, — сказал Кен. — Но я не свободен, — ответил Джоунас. — Нельзя же вечно оплакивать Мэрион. — Но ведь прошло всего два года. — Да, верно. Но надо же когда-нибудь возвращаться в реальную жизнь. — Еще не время. — Когда же? — Не знаю. Снаружи, на стоянке, Кари Доуэлл уже садилась в свою машину. — Не будет же она вас ждать вечно, — сказал Кен. — Спокойной ночи, Кен. — Намек понял. — Ну вот и отлично, — сказал Джоунас. Невесело улыбнувшись, Кен рванул на себя дверь, и порыв ветра тотчас бросил на выложенный серой плиткой пол алмазную россыпь дождинок. Немного согнувшись вперед против ветра, Кен выскользнул в ночь. Джоунас повернулся и, пройдя несколько переходов, оказался у лифтов. Нажал кнопку пятого этажа. Ему незачем было говорить Кену и Кари, что проведет ночь в больнице. Они и так знали, что после более или менее удачной реанимации он всегда там оставался. Для них реанимационная медицина была новым, неизведанным полем деятельности, захватывающей побочной сферой приложения их профессиональных знаний и навыков, способом расширения и углубления их умственного багажа; любой успех приносил глубокое удовлетворение, служил напоминанием правильно сделанного ими выбора профессии, основной целью которой было лечить человека. Но не это считал главным Джоунас. Каждое воскрешение из мертвых было победой в бесконечной битве со Смертью, не просто исцелением, а вызовом, брошенным судьбе, грозящим кулаком, поднесенным к ее лицу. Реанимационная медицина была его любовью, его страстью, открытием самого себя, единственным, что поддерживало в нем желание жить в этом мире, утратившем для него все свои краски и ставшем ему неуютным. Он разослал свои предложения и ходатайства в различные университеты, предлагая взамен читаемого им на медицинских отделениях курса лекций организовать под его руководством при каждом университете научно-исследовательские группы по реанимационной медицине, причем львиную долю финансирования этих групп он брал на себя. Его хорошо знали и уважали как известного хирурга по сердечно-сосудистым заболеваниям и как крупного реаниматолога, и он был уверен, что получит все, чего добивается. Но ему не хватало терпения. Джоунасу уже мало было заниматься только практической стороной реанимационного процесса. Он хотел глубже изучить эффект воздействия кратковременной смерти на клетки человека, понять механизмы, лежащие в основе свободных радикалов и их нейтрализаторов, испытать на практике свои теории и изыскать новые способы изгонять Смерть из тех, в ком она уже успела прочно поселиться. У медсестер на пятом этаже он выяснил, что Харрисона поместили в палату 518. Это была не одноместная палата, но обилие пустых коек в больнице делало возможным превратить ее в отдельную на все время, которое понадобится для полного выздоровления Харрисона. Когда Джоунас вошел туда, Хелга и Джина уже заканчивали устраивать пациента, которого они поместили подальше от двери, у забрызганного дождем окна. Они облачили его в больничную пижаму и подключили к нему датчики электрокардиографа с дистанционной телеметрической функцией, способной воспроизводить ритмы его сердца на мониторе, установленном в комнате у медсестер. На стойке у кровати висела капельница, наполненная прозрачной жидкостью, поступавшей в левую руку пациента, на которой явственно проступили следы от уколов, сделанных в вертолете санитарными врачами; прозрачная жидкость содержала обогащенную антибиотиками глюкозу, чтобы предотвратить обезвоживание организма и обеспечить защиту от многочисленных случайных инфекций, которые могут свести на нет все, что было достигнуто в реанимационной. Хелга причесала волосы Харрисона расческой, которую как раз в момент прихода Джоунаса прятала в ящик тумбочки. Джина осторожно накладывала на его веки специальную мазь, чтобы они не прилипали друг к другу, — опасность, которая грозит коматозным пациентам, долгое время пролежавшим с закрытыми глазами, в результате чего у них постепенно затухает деятельность слезных желез. — Сердце работает как мотор, — сказала Джина, увидев входящего Джоунаса. — Мне кажется, не пройдет и недели, как этот парень снова будет играть в гольф, танцевать и вообще делать все, что ему заблагорассудится. — Она откинула со лба слишком низко нависавшую челку. — Повезло человеку. — Не будем торопиться с выводами, — охладил ее пыл Джоунас, зная повадки Смерти, способной притвориться, что отступила навсегда, а потом нежданно-негаданно нагрянуть и в самый последний момент вырвать из их рук победу. Когда Джина и Хелга ушли, Джоунас полностью выключил свет в палате. Освещенная только чуть флюоресцирующим светом из коридора и зеленоватым свечением кардиомонитора комната наполнилась тенями. Было очень тихо. У ЭКГ отключили звуковой сигнал, и, лишь бесконечной чередой пробегая по экрану, ритмично пульсировали светящиеся линии. Тишину нарушали только отдаленные завывания ветра за окном да редкая, приглушенная барабанная дробь дождя о стекло. Джоунас стоял в ногах постели и смотрел на Харрисона. Что знал он о человеке, которому спас жизнь? Единственное, что тому тридцать восемь лет. Рост — выше пяти футов, вес — сто шестьдесят фунтов, шатен, глаза карие. В отличной физической форме. А что кроется внутри него? Хатчфорд Бенджамин Харрисон. Какой он человек? Честный? Можно ли на него положиться? Верен ли он своей жене? Завистлив ли, жаден ли, отзывчив ли к горю других, умеет ли отличать хорошее от плохого? Доброе ли у него сердце? Умеет ли он любить по-настоящему? В горячке реанимационных процедур, когда дорога каждая секунда и требуется сделать слишком много, а времени на это отпущено слишком мало, Джоунас не позволял себе думать о самой главной этической проблеме, с которой сталкивается любой врач, ибо, задумайся он об этом, и все его усилия окончатся крахом. Сомневаться и гадать он будет позже, много позже… Мораль предписывает любому врачу стремиться сделать все от него зависящее, чтобы спасти жизнь пациенту, но всех ли надо спасать? Ведь если умирает злой человек, разве не будет более правильным — и этически оправданным — оставить его в когтях Смерти? Если Харрисон был плохим человеком, то вина за содеянное им зло по выходе из больницы частично ляжет и на плечи Джоунаса Нейберна. Боль, которую Харрисон причинит другим людям, в какой-то мере запятнает и его, Джоунаса, честь. Но на этот раз особой проблемы вроде бы не было. Харрисон был известен как благонадежный гражданин и порядочный человек, уважаемый всеми владелец антикварного магазина, женатый на художнице — говорят, неплохой, — во всяком случае, Джоунас слышал ее имя. А хорошая художница, будучи более тонкой и восприимчивой по натуре, чем обыкновенный человек, гораздо острее и нагляднее чувствует действительность. Ведь так? И если бы она по ошибке вышла замуж за плохого человека, то наверняка уже давно оставила бы его. Нет, на этот раз можно было совершенно определенно сказать, что они спасли жизнь, достойную быть спасенной. Единственное, чего желал Джоунас, — это чтобы дело всегда оборачивалось таким образом. Он отошел от кровати и подошел к окну. Пятью этажами ниже, со всех сторон освещаемая фонарями на столбах, находилась почти опустевшая к этому времени автостоянка. От проливного дождя лужи на ней пузырились, и казалось, что вода в них кипит, словно под асфальтом стоянки был разложен огромный костер. Долгим взглядом Джоунас задержался на том месте, где еще недавно стояла машина Кари Доуэлл. Он искренне восхищался ею и находил ее весьма привлекательной. Временами она ему даже снилась по ночам. И после этих снов он чувствовал себя удивительно хорошо. Он не стеснялся сам себе признаться, что иногда ему очень хотелось быть с ней, и радовался мысли, что это желание было, скорее всего, взаимным. Но она ему была не нужна. Ему нужна была только его работа, нужна для того, чтобы хоть изредка насладиться своей победой над Смертью и… — Там… что-то… движется… Начало фразы вклинилось и перебило мысли Джоунаса, но голос был таким тихим и слабым, что он не сразу понял, откуда он донесся. Он обернулся и поглядел в сторону открытой в коридор двери, предположив, что голос доносится оттуда, и только на третьем слове сообразил, что это говорил Харрисон. Его голова была повернута к Джоунасу, но взгляд прикован к окну. Моментально очутившись подле кровати, Джоунас взглянул на электрокардиограф и увидел, что сердце Харрисона билось очень быстро, но, слава богу, ритмично. — Там… что-то движется, — повторил Харрисон. Глаза его следили не столько за окном, сколько за какой-то точкой вне его, скрытой мраком дождливой ночи. — Это просто капли дождя. — Нет. — Обыкновенный зимний дождь. — Что-то очень нехорошее, — прошептал Харрисон. В коридоре послышались быстрые шаги, и в палату почти вбежала молоденькая медицинская сестра. Ее звали Рамона Перез, и Джоунас знал, что она всей душой предана делу и прекрасно справляется со своими обязанностями. — Ой, как хорошо, что вы здесь, доктор Нейберн. На телеметрической установке его сердце… — Знаю: забилось очень быстро. Он только что пришел в себя. Рамона подошла к постели больного и включила висевшее над его головой бра. Словно не замечая присутствия Джоунаса и медсестры, Харрисон все еще пристально всматривался во что-то, только ему одному видимое. Голосом еще более тихим, чем в прежние разы, в котором чувствовалась непреодолимая усталость, он снова повторил: — Там что-то движется. Затем веки его сонно заморгали и закрылись. — Мистер Харрисон, вы меня слышите? — спросил Джоунас. Но пациент молчал. Ритм сердца на мониторе ЭКГ быстро упал со ста сорока до ста двадцати, а затем и до ста ударов в минуту. — Мистер Харрисон? Девяносто ударов в минуту. Восемьдесят. — Он опять заснул, — прошептала Рамона. — Вроде бы, да. — Просто заснул, — добавила она. — О коме, думаю, и речи быть не может. — Да, на кому, пожалуй, не похоже, — согласился с ней Джоунас. — А ведь он что-то сказал. Что-нибудь осмысленное? — Похоже, что да. Но что он имел в виду, не совсем понятно, — сказал Джоунас, склонившись над пациентом и внимательно всматриваясь в его веки, под которыми ясно угадывались быстрые движения глаз. Харрисону снова что-то снилось. Снаружи дождь внезапно превратился в ливень. Усилившийся за окном ветер завыл громче. — Я ясно слышала слова, он их довольно четко произнес, — проговорила Рамона. — Да, вполне. А фактически он говорил законченными предложениями. — Значит, у него нет афазии, — сказала она. — Вот здорово! Афазия — невозможность говорить или понимать устную и письменную речь — представляет собой одно из наиболее тяжких последствий болезни или тяжелой травмы. Пораженный афазией пациент может общаться только с помощью жестов, но ограниченные возможности языка жестов вскоре начинают его удручать, и он впадает в глубокую депрессию, откуда иногда так и не возвращается. Харрисону, очевидно, это не грозило. Не грозил ему и паралич, и если в его памяти было не слишком много провалов, то в ближайшем будущем, выписавшись из больницы, он сможет вести нормальный образ жизни. — Не будем спешить с выводами, — заметил Джоунас. — И не будем строить воздушных замков. Ему предстоит еще долгая дорога. Но в историю его болезни необходимо обязательно вписать, что впервые он пришел в сознание в одиннадцать часов тридцать минут вечера, спустя два часа после возвращения к жизни. Харрисон что-то бормотал во сне. Джоунас низко склонился над ним и подставил ухо прямо к его едва заметно шевелившимся губам. Слова, произносимые на выдохе, были едва слышны, словно транслировались по радио с радиостанции, находившейся на другом конце света, и, отраженные от атмосферного слоя, с трудом пробившись сквозь помехи и огромные пространства, казались загадочными и пророческими, несмотря на то что их трудно было разобрать. — Что он говорит? — спросила Рамона. Из-за шума дождя и ветра за окном Джоунас не был уверен, что действительно расслышал слова Харрисона, но ему показалось, что тот беспрестанно повторял одну и ту же фразу: — Там… что-то… движется. Ветер снаружи неожиданно яростно завыл, и дождь с такой силой забарабанил в окно, что, казалось, вот-вот вышибет его.Глава 14
Вассаго обожал дождь. Небо было полностью укрыто тучами, не оставившими ни единой щелочки для луны. Пелена дождя делала сияние уличных фонарей и фар двигавшихся ему навстречу автомобилей менее ярким, приглушала краски неоновых реклам, смягчала ночные контуры и вкупе с солнцезащитными очками позволяла с большими удобствами и меньшим напряжением вести машину. Сначала он поехал в западном направлении от своего логова, затем свернул на север и покатил вдоль побережья в поисках не очень ярко освещенного бара, в котором можно было бы найти пару-тройку подходящих женщин. Многие бары в понедельник вообще не работали, в других посетителей в это время ночи, в половине первого, было что кот наплакал. Наконец в Ньюпорт-Бич рядом с автострадой он наткнулся на небольшой придорожный ресторанчик. Это был обыкновенный кабак, но с претензией на добропорядочность, с раскинутым над тротуаром балдахином, рядами миниатюрных лампочек, протянувшихся вдоль крыши, и небольшим рекламным щитом, на котором крупными буквами значилось: «ТАНЦЫ ПО СРЕДАМ — СУББОТАМ В СОПРОВОЖДЕНИИ ОРКЕСТРА ДЖОННИ УИЛТОНА». Ньюпорт был самым богатым в округе городом, с крупнейшей в мире гаванью для стоянки частных яхт, поэтому любое заведение, претендовавшее на обслуживание богатых клиентов, скорее всего, таким и было на самом деле. С середины недели на автостоянке, видимо, дежурил специальный лакей, присматривавший за машинами, что было не очень хорошо, так как он мог стать потенциальным свидетелем, но в такой дождливый день, да к тому же еще и в понедельник, лакея на стоянке не оказалось. Вассаго припарковал машину невдалеке от ресторана, и, когда выключил мотор, с ним вдруг случилось нечто невероятное: с головы до пят его тело потряс мощный электрический разряд. Глаза закатились, и ему показалось, что его тело бьется в конвульсиях и он не может ни охнуть, ни вздохнуть. Невольно из груди вырвался стон. Припадок длился не более десяти или пятнадцати секунд и окончился тремя словами, которые, казалось, прозвучали прямо у него в голове: «Там… что-то… движется». Это не было возникшей из ниоткуда мыслью, порожденной случайным коротким замыканием в мозгу, так как он явственно слышал голос, произнесший эти слова, — мысль ведь абстрактна, у нее нет ни тембра, ни интонации, но эту мысль кто-то произнес. Но не он сам, а кто-то другой, так как голос был совершенно ему незнаком. Его охватило непреодолимое ощущение, что в машине, кроме него, находится еще кто-то, невидимый ему, чей дух, пробившись сквозь разделяющую миры преграду, воплотился в реального человека, чье присутствие он и ощущает в данный момент. Затем все прекратилось так же внезапно, как и началось. Он не двигался, ожидая повторения. Дождь неистово барабанил по крыше. Мотор, остывая, потрескивал. То, что произошло, больше не повторилось. Он попытался вникнуть в тайный смысл случившегося. Были ли эти слова — «там что-то движется» — каким-то знаком, психическим предвидением? Или угрозой? К чему они относились? Снаружи машины не было ничего особенного, ночь как ночь. Идет дождь. Вокруг благословенная темнота. На мокром от дождя асфальте, в лужах и потоках бурно мчащейся по сточной канаве воды тускло и неровно переливается свет фонарей и вывесок. Изредка по автостраде с шумом и брызгами проносится одинокая машина, и, насколько он мог видеть — а ночью он видел, как кошка, — ни вблизи, ни в отдалении не было ни одного пешехода. Спустя некоторое время он решил, что поймет, что с ним произошло, когда ему будет дано это понять. И нечего ломать себе над этим голову. Если это была угроза, откуда бы ни исходила, она его совершенно не беспокоила. Он был невосприимчив к страху. Пока это было единственным его приобретением с тех пор, как он покинул мир живых, хотя временно и застрял на полдороге к смерти: ничто в мире уже не могло его напугать и тем более ужаснуть. И все же услышанный голос был одним из самых странных ощущений, которые он когда-либо испытывал. А странных ощущений в его жизни было не занимать. Он вылез из своего серебристого «камаро», захлопнул дверцу и пошел к входу в ресторан. Дождь приятно холодил лицо. В порывах неистового ветра листья пальм гремели, как старые кости.Глава 15
Линдзи Харрисон также поместили на пятом этаже больницы, но в дальнем от мужа конце коридора. Когда Джоунас вошел в ее палату и приблизился к постели, то почти ничего не смог увидеть, так как в комнате даже не было мерцающего зеленого свечения электрокардиографа. Фигура женщины только угадывалась на кровати. Он не знал, стоит ли будить пациентку, и очень удивился, когда услышал ее голос: — Кто вы? — А я думал, вы спите, — сказал он. — Не могу заснуть. — Разве вам не дали снотворное? — Оно не помогло. Как и в палате ее мужа, дождь с угрюмой настойчивостью барабанил в окно. До ушей Джоунаса доносился рокот и плеск потоков воды, низвергавшихся по расположенной неподалеку от окна оцинкованной водосточной трубе. — Как вы себя чувствуете? — спросил он. — А как, вы думаете, я могу себя чувствовать? Она попыталась вложить в свои слова убийственный сарказм, но была слишком истощена и подавлена, чтобы успешно справиться с этой задачей. Он опустил боковое ограждение на кровати, примостился на краешке матраца и протянул руку в направлении Линдзи, полагая, что ее глаза более привыкли к темноте, чем его. — Дайте мне вашу руку. — Зачем? — Меня зовут Джоунас Нейберн. Я — врач. Я хочу вам сказать несколько слов о вашем муже, и, мне кажется, будет лучше, если вы позволите мне держать вашу руку в своей. Она ничего не ответила. — Сделайте одолжение, — попросил он. Хотя эта женщина была уверена, что потеряла мужа, Джоунас вовсе несобирался мучить ее неведением, утаивая от нее факт его воскрешения. Но по опыту он знал, что хорошая новость подобного рода может быть такой же ошеломляющей, как и плохая, и потому человека необходимо готовить к ее восприятию весьма осторожно и постепенно. Когда ее доставили в больницу, она то впадала в полубредовое состояние, то выходила из него, что было результатом длительного пребывания в ледяной воде и нервного потрясения, но лекарства и грелки быстро исправили это положение. Уже несколько часов она находилась в нормальном — умственном и физическом — состоянии, достаточно долго, чтобы полностью осознать факт потери мужа и попытаться хоть как-то свыкнуться с ним. В душе еще глубоко скорбя по нему и полностью не осознавая себя вдовой, она к этому времени уже должна была отыскать на краю эмоциональной лавины, сбросившей ее вниз, небольшую складку, узенькую площадочку, остановившись на которой можно было перевести дух. И вот с этой площадочки он и намеревался ее сейчас спихнуть. Конечно, ему бы следовало быть с нею более откровенным и выложить ей все начистоту. Но, к сожалению, он не мог обещать, что вернет ей прежнего полноценного, совершенно не изменившегося мужа, не отмеченного печатью случившегося, способного быстро и без усилий возвратиться к прежнему образу жизни. Потребуется еще много часов, а может быть, и дней тщательнейших обследований Харрисона, прежде чем они смогут более или менее определенно высказаться относительно возможности его полного выздоровления. А далее Харрисона ждут многие недели, а может быть, и месяцы трудо- и физиотерапии, прежде чем вообще можно будет говорить о каких-либо положительных результатах. Джоунас все еще ждал ее руки. Наконец она неуверенно протянула ее. В лучших традициях поведения врача у постели больного, он кратко стал излагать ей основы реанимационной медицины. Когда она сообразила, для чего ее посвящают в столь сложное и непонятное для непрофессионалов дело, пальцы ее крепко сжали его ладонь.Глава 16
В палате 518 Харрисон захлебывался в безбрежном море кошмарных сновидений, бессвязных образов, наплывавших один на другой без какой бы то ни было логической последовательности и связи. Круговерть снега. Огромное чертово колесо, то украшенное праздничными огнями, то без них, сломанное и зловещее, в непроглядной темени дождливой ночи. Купы деревьев, похожих на пугала, с кривыми почерневшими ветвями, с содранными с них зимним ветром листьями. Пивовоз, развернутый под углом и перегородивший засыпанное снегом шоссе. Тоннель с бетонным дном, уходящим вниз, в пугающую черную неизвестность, заставляющую учащенно биться его сердце. Лежащий навзничь на больничной койке и умирающий от рака Джимми, сыночек: похудевший и осунувшийся так, что остались только кожа да кости. Вода, холодная, глубокая, черная как тушь, захватившая все пространство вплоть до горизонта, выбраться из которой невозможно. Обнаженная женщина с неестественно повернутой назад головой, сжимающая в руках распятие… Часто на периферии его снов возникала какая-то странная безликая и загадочная фигура, одетая во все черное, словно сама Смерть, похожая на тень и временами полностью сливавшаяся с нею. Иногда черная фигура отделялась от окружающего ее мира и как бы сама становилась его наблюдателем, и тогда Хатч видел этот мир глазами другого человека — глазами, которые смотрели на него с безжалостной, голодной, расчетливой практичностью кладбищенской крысы. На какое-то время события в кошмаре обрели определенную последовательность, и Хатч увидел, что бежит по вокзальному перрону, пытаясь догнать пассажирский вагон, медленно удаляющийся от него по рельсам. В одном из окон вагона он видит Джимми, худого, со впавшими щеками, тяжело больного, одетого в больничную пижаму, печальными глазами глядящего на Хатча, с поднятой в прощальном жесте маленькой рукой: прощай, прощай, прощай. Хатч отчаянно пытается ухватиться за поручень, чтобы вспрыгнуть на ступеньку вагона, но поезд набирает ход, и Хатч промахивается, и нога его соскальзывает со ступеньки. Бледное маленькое личико Джимми расплывается в пятно, тускнеет; вагон все быстрее и быстрее удаляется от перрона, пока совсем не исчезает в ужасающем ничто, в черной, бездонной пустоте, присутствие которой Хатч только сейчас ощутил. Затем мимо него под перестук колес начинает проезжать другой пассажирский вагон, и он видит в одном из окон Линдзи, потерянно глядящую на платформу. Хатч кричит: «Линдзи!», но она не видит и не слышит его, словно пребывает в каком-то забытьи, и он снова бежит и снова пытается на ходу вскочить в вагон, но и на этот раз вагон увеличивает скорость, как раньше с Джимми. «Линдзи!» Рука его всего в нескольких дюймах от поручня… Вдруг разом исчезают и поручень, и ступенька, и вагон. С жуткой текучестью любых сновидений вагон превращается в роликовые сани в парке аттракционов, под перестук колес подкатывающие к началу катания на горках. Хатч подбегает к концу платформы, но опять не успевает вскочить в тележку Линдзи, и она, скользнув мимо него, быстро взлетает на первый крутой подъем длинного, волнообразного маршрута. В этот момент, вслед за Линдзи, мимо него на бешеной скорости проносится последняя тележка санного поезда. В ней только один пассажир — Черная фигура, вокруг которой теснятся тени, как вороны на кладбище, — сидит на переднем сиденье тележки, низко опустив голову и скрыв лицо под густыми прядями волос, словно под капюшоном монаха. Оглушенный частым перестуком колес, Хатч кричит Линдзи, чтобы она оглянулась назад, а главное, чтобы крепче держалась за поручень. «Ради всего святого, держись крепче!» Вереница соединенных друг с другом тележек, достигнув гребня подъема и задержавшись там на миг, ухает вниз, наполняя все пространство визгом и криками ужаса.Рамона Перез, дежурная ночная медсестра, обслуживающая пятый этаж, куда входила и палата 518, стояла подле постели, глядя на своего подопечного. Она была обеспокоена и не знала, стоит ли позвать сюда доктора Нейберна. По данным монитора пульс Харрисона вел себя нестабильно. В основном частота его была в пределах нормы — от семидесяти до восьмидесяти ударов в минуту. Но временами он подскакивал аж до ста сорока. С другой стороны, и это утешало, никакой сердечной аритмии у пациента не наблюдалось. Усиленное сердцебиение, естественно, сказывалось на кровяном давлении, но ни сердечный приступ, ни кровоизлияние в мозг, связанные с резкими перегрузками, пациенту не грозили, о чем свидетельствовали его систолические показатели, находившиеся в пределах нормы. Он был мокрым от пота, а круги вокруг глаз стали такими темными, что казались подрисованными художником. Несмотря на кипу набросанных на него одеял, он дрожал от холода. Пальцы левой руки, вынутой из-под одеяла для внутривенной подпитки, иногда судорожно сжимались и разжимались, однако не настолько энергично, чтобы сместить иглу, воткнутую в руку чуть пониже локтевого сгиба. Шепотом он беспрестанно повторял имя своей жены. — Линдзи… Линдзи… Линдзи, нет! Скорее всего, Харрисону что-то снилось, а физиологическое воздействие сновидений, как известно, аналогично воздействию реально происходящих событий. В конце концов Рамона пришла к убеждению, что усиленное сердцебиение было результатом снившихся пациенту кошмаров, а не следствием расстройства сердечно-сосудистой системы. Он был вне опасности. Тем не менее она не отходила от его постели, внимательно наблюдая за его состоянием.
Глава 17
Вассаго сидел за столиком у окна, выходившего на гавань. Уже после пятиминутного пребывания здесь он понял, что место для охоты выбрал неудачно. Все в ресторане раздражало его. И он уже жалел, что сделал заказ. По понедельникам в ресторане не исполняли танцевальных мелодий, хотя в одном из углов и примостился за фортепиано пианист. Но в его репертуар не входили ни сентиментальные песенки 30-х и 40-х годов, ни продуманно легкий для восприятия рок-н-ролл, развращающе действовавший на мозги регулярных посетителей ресторана. Вместо этого из-под его пальцев вылетали довольно нудные композиции «Нью эйдж», адресованные тем, кто считал танцевальную музыку слишком крикливой и раздражающей. Вассаго же предпочитал тяжелый рок, быстрый и бурный, словно сдирающий кожу с живого человека. С тех пор как он стал жителем пограничной полосы, музыка вообще перестала его радовать, так как в большинстве своем ее упорядоченные структуры действовали ему на нервы. Он мог выдерживать только атональную музыку, резкую и немелодичную. Положительно он реагировал только на режущие ухо смены тональностей, грохочущие аккорды и взвизгивания электрогитар, бьющие прямо по нервам. Ему нравились диссонансы и рваные ритмы. Его возбуждала музыка, вызывавшая в его воображении сцены насилия. Поскольку вид из окна был очень красив, он так же, как и ресторанная музыка, действовал Вассаго на нервы. Вдоль всего берега бухты, каждая у своего пирса, стояли парусные и моторные яхты. Все они были привязаны, со свернутыми парусами или заглушенными моторами, и лишь чуть покачивались на воде, так как гавань была очень хорошо защищена, да и шторм на море был небольшой. Богатые владельцы яхт редко оставались на ночь на борту, независимо от размеров судна и наличествующих там удобств, поэтому только на некоторых из них можно было заметить свет в иллюминаторах. Струи дождя, превращенные прожекторами на пирсах в ртутное серебро, барабанили по палубам, оседали бисерными капельками на металлических частях яхт, жидким, расплавленным металлом стекали по их мачтам на палубу и по желобам бурными потоками низвергались за борт. Он не выносил красоты, гармонических композиций, подобных видам на почтовых открытках, потому что они казались ему насквозь лживыми и представляли действительность не такой, какой она была на самом деле. Его влекли визуальные диссонансы, рваные контуры, зловещие и искореженные формы. Ресторан с его мягкими, покрытыми плюшем стульями, с неярким янтарным освещением был слишком изнеженным местом для такого кровожадного охотника, как он. Обстановка размягчающе действовала на его инстинкты убийцы. Вассаго медленно обвел глазами посетителей, надеясь отыскать среди них хоть одного, подходящего по качеству для своей коллекции. Если он заметит нечто действительно стоящее, что заставит воспрянуть его страсть к приобретению, то никакая отупляющая атмосфера не сможет сдержать его решимости. У стойки бара сидели несколько мужчин, но они его не интересовали. Трое мужчин в его коллекции были соответственно его вторым, четвертым и пятым приобретениями, взятыми потому, что были доступны, уязвимы, в обстоятельствах, которые позволяли ему без шума справиться с ними и незаметно увезти их тела. Он не испытывал отвращения к убийству мужчин, но убивать предпочитал только женщин. В основном, молодых. Ему нравилось умерщвлять их до того, как они смогут произвести на свет новую жизнь. Самыми молодыми из посетителей были четыре женщины примерно одного возраста, лет двадцати, сидевшие в трех столиках от него, также у окна. Они были слегка навеселе и вели себя весьма легкомысленно, перегнувшись друг к другу над столом, о чем-то оживленно беседовали, скорее всего, сплетничали и при этом громко и вызывающе смеялись. Одна из них была весьма прехорошенькой, и Вассаго тотчас ее возненавидел. У нее были огромные шоколадного цвета глаза и что-то грациозно-звериное в облике, делавшем ее похожей на лань. Он дал ей кличку Бэмби. Ее черные, цвета воронова крыла, волосы были коротко подстрижены и крыльями распадались по сторонам, оставляя открытыми нижние половинки ушей. Ах, что это были за удивительные уши, большие, но очень изящные по форме. Ему казалось, что он может сотворить с ними нечто исключительно оригинальное, и потому он продолжал упорно наблюдать за ней, пытаясь решить про себя, действительно ли она может стать достойным приобретением его коллекции. Бэмби была самой говорливой и самой смешливой из них. Ее громкий смех напоминал ослиное ржание. И, хотя она была невероятно привлекательной, впечатление портили ее нескончаемая болтовня и этот идиотский смех. По всему было видно, что ей нравилось слушать только себя. Она может значительно выиграть, если вдруг станет глухонемой. На него разом нашло вдохновение, и он даже выпрямился на стуле. Если отрезать ей уши и, вставив их в ее мертвый рот, плотно сжать ей губы и затем плотно сшить их вместе, то всем своим видом она будет символизировать порочный изъян в своей красоте. Это было так просто и одновременно обладало такой изобразительной мощью, что… — Один коктейль, — сказала официантка, ставя перед ним на стол высокий стакан с ромом и кока-колой. — Хотите открыть у нас счет? Вассаго поднял на нее недоумевающий взгляд. Перед ним стояла пожилая, довольно полная рыжеволосая женщина. Он прекрасно видел ее сквозь темные стекла очков, но, поглощенный своими мыслями, никак не мог сообразить, чего она от него хочет. Наконец он спросил: — Счет? Нет, простите. Я расплачусь наличными, спасибо, мэм. Когда он вынул свой бумажник, у него возникло ощущение, что он держит в руках ухо Бэмби. Когда же его большой палец скользнул вверх и вниз по гладкой коже бумажника, он уже ощущал не то, что было в его руке, а то, что там должно было быть: изящно и ладно скроенные хрящевидные бороздки, формирующие примулу аврикулу ушной раковины, пластичные изгибы выемок, направляющих звуковые волны к барабанной перепонке… Он вдруг сообразил, что официантка уже второй раз обращается к нему, повторив цену коктейля. А пальцы его все еще хранили ощущение восхитительных мгновений, пережитых им в грезах о смерти и обезображивании. Не глядя, он извлек из бумажника хрустящую бумажку и протянул ей. — Но это сотенная, — сказала она. — Нет ли чего помельче? — Нет, мэм, простите, — сказал он, стремясь поскорее отделаться от нее, — мельче ничего нет. — Но у меня нет сдачи с такой крупной суммы. Мне надо пойти разменять ее в баре. — Да, пожалуйста, как вам будет угодно. Спасибо, мэм. Когда она повернулась, чтобы уйти, он бросил взгляд в сторону четырех молодых женщин и увидел, что они уже встали из-за стола и направились к двери, на ходу надевая на себя пальто. Он начал было также вставать из-за стола, чтобы пойти вслед за ними, как вдруг застыл на месте, услышав голос, произнесший: «Линдзи». Это был явно его голос. Но никто в зале не услышал его. Кроме него самого. И это его сильно удивило. Он как застыл, опершись одной рукой о стол, а другой о спинку стула, так и остался в этом полустоячем положении. И пока он так стоял, не зная, что и подумать, четыре молодые женщины вышли из ресторана. Бэмби сразу же потеряла для него всякий интерес, вытесненная из сознания именем Линдзи, и он снова сел на свое место. У него не было знакомых с таким именем. Никого, кого бы звали Линдзи. Каким же образом он мог произнести это имя вслух? Он взглянул через окно на бухту. На покрытой мелкой рябью воде покачивались, стукаясь друг о друга бортами, поднимаясь и опускаясь, сотни миллионов долларов, истраченных на удовлетворение собственного эго. Сверху — мрачное небо было таким же неприветливым и холодным, как вода внизу. Между ними протянулись мириады серебристо-серых ниточек дождя, словно природа стремилась пришить небо к океану и таким образом уничтожить узкое пространство между ними, где еще теплилась жизнь. Будучи когда-то одним из живых, затем одним из мертвых, а теперь превратившийся в живого мертвеца, он считал себя предельно искушенным существом, настолько приблизившимся к познанию абсолютной истины, насколько это было возможно для человека, рожденного простой смертной женщиной. Он полагал, что в мире не существует более ничего, не познанного им, что могло бы научить его чему-нибудь новому. А теперь вдруг это. Сначала приступ в машине: там что-то движется! А теперь вот Линдзи. Но, что интересно, оба эти события были совершенно различны, так как во второй раз не незнакомый голос прозвучал в его сознании, а он сам вслух произнес это совершенно неизвестное ему имя. Но оба события, он чувствовал, были как-то связаны между собой. И, в то время как он разглядывал пришвартованные к пирсам яхты, бухту и темное небо за окном, все случившееся стало казаться ему странным и загадочным, с чем он давно уже не сталкивался в этом мире. Вассаго взял со стола коктейль. Сделал большой глоток. Когда ставил стакан на стол, произнес вслух: — Линдзи. Стакан чуть не выпал из его руки, так сильно снова удивило его это имя. Он произнес его не для того, чтобы поразмыслить о нем. Оно само вырвалось из его груди, как стон, и на этот раз довольно громко. Это уже становилось интересным. Казалось, ресторанчик был окутан волшебством. Он решил немного здесь задержаться и посмотреть, что произойдет дальше. Когда официантка принесла ему сдачу, он сказал: — Еще один коктейль, мэм. И протянул ей двадцатидолларовую купюру. — Думаю, этого хватит, а сдачу оставьте себе. Обрадовавшись чаевым, она поспешила к стойке бара. Вассаго снова повернулся к окну, но в этот раз уставился не на бухту, а на свое отражение в стекле. Тусклое освещение ресторана сделало его неярким, опустив некоторые детали. В туманном зеркале его темные очки почти слились с лицом. От этого оно стало более походить на череп с огромными зияющими глазницами. Видение понравилось ему. Хриплым шепотом, не привлекшим, однако, внимания присутствующих, но прозвучавшим с ноткой отчаяния, он вдруг произнес: — Линдзи, нет! Как и в предыдущие два раза, это произошло само собой, помимо его воли, совершенно неожиданно для него, но он не испугался. Быстро приноровившись к этим загадочным происшествиям, он попытался найти им рациональное объяснение, так как не в состоянии был долго чему-нибудь удивляться. Ибо, побывав в Аду, как в настоящем, так и потешном, под бывшим парком аттракционов, он принимал как должное возможность вторжения мистики в реальную действительность. Заказал и выпил третий коктейль. Когда прошел еще час и ничего не произошло и когда бармен объявил, что ресторан закрывается, Вассаго встал и вышел. Но жажда убивать и творить так и осталась неудовлетворенной. Не имея ничего общего с выпитым спиртным, она жгла его изнутри, забивала дыхание и сжимала сердце, как готовую лопнуть от напряжения пружину часового механизма, закрученную до предела. Он уже жалел, что не пошел вслед за женщиной с глазами лани, которой дал кличку Бэмби. Он срежет ей уши, когда она наконец умрет или когда еще будет жива? Интересно, сможет ли она по достоинству оценить артистизм его иносказания, когда он будет сшивать вместе ее красивые полные губы? Вряд ли. Никто из его жертв не обладал ни достаточным умом, ни проницательностью, чтобы не то что понять, но хотя бы удивиться уникальной самобытности его таланта. Один на почти совершенно опустевшей автостоянке, он стоял под проливным дождем, чтобы хоть немного остудить полыхавшую в груди жажду творчества. Было почти два часа ночи. Времена на охоту до наступления рассвета уже не оставалось. Придется возвращаться в свое тайное убежище с пустыми руками, без нового приобретения для коллекции. Но для того чтобы лучше подготовиться к новой охоте на следующую ночь, неплохо хотя бы немного вздремнуть в течение наступающего дня, а потому сейчас необходимо во что бы то ни стало погасить эту жажду накопительства и унять свой творческий порыв. Вскоре Вассаго начал зябко поеживаться. Жар в его груди уступил наконец место беспощадному холоду. Он поднял руку, поднес ее к щеке. Лицо было холодным, но пальцы были еще холоднее, как у статуи Давида, которой он всякий раз восхищался, когда — в ту пору еще один из живущих — оказывался в мемориальном парке кладбища «Форест Лоун». Так-то оно лучше. Открывая дверцу машины, он еще раз оглянулся на омытую дождем ночь. И снова, но уже по собственной воле, произнес: — Линдзи? Ответом ему была тишина. Кто бы она ни была, видимо, время их встречи еще не пришло. Ну что же, он будет терпелив. И, хотя был явно заинтригован и раздираем любопытством, решил, что случившееся непременно должно получить какое-то дальнейшее развитие. Терпение было одним из главных достоинств мертвых, и он, пока еще только на половине пути в страну Смерти, постарается выдержать это испытание временем.Глава 18
Во вторник, ранним утром, едва наступил рассвет, сонливость Линдзи как рукой сняло. Все ее тело, каждый мускул и каждая жилочка ныли и болели, и то немногое время, что ей удалось поспать, ни в коей мере не повлияло на ее вконец истощенный организм. Но она упорно отказывалась принимать снотворное. Не желая откладывать дела в долгий ящик, она настояла, чтобы ее немедленно отвезли в палату к Хатчу. Дежурная сестра, предварительно посоветовавшись с Джоунасом Нейберном, который все еще находился в больнице, повезла ее в кресле-каталке по коридору в палату 518. Нейберн, с опухшими от бессонницы красными глазами и весь взлохмаченный, тоже находился там. Простыни на ближайшей к двери кровати развернуты не были, но имели весьма помятый вид, словно доктор несколько раз в течение ночи ложился на них отдохнуть. К этому времени Линдзи уже кое-что выяснила о Нейберне — меньшую часть от него самого, большую от нянечек и медсестер — и знала ходившие о нем легенды. До недавнего времени он был известен как крупный специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, но в течение последних двух лет, после потери жены и двух детей, погибших ужасной смертью, он большую часть времени отдавал реанимационной медицине в ущерб своей хирургической практике. Он был не просто предан своей работе. Он был одержим ею. В обществе, которое только стало приходить в себя после тридцатилетнего периода потворства личным амбициям и «я-первизма», легко было восхищаться таким бескорыстным человеком, каким был доктор Нейберн, и все вокруг действительно боготворили его. Линдзи же просто была от него без ума. Ведь он спас жизнь Хатчу. Несмотря на свой несколько помятый вид и воспаленные от бессонной ночи глаза, Нейберн быстро подошел к занавеси, отделявшей кровать Харрисона от остальной комнаты, и отдернул ее, затем, ухватившись за ручки кресла Линдзи, подкатил ее ближе к мужу. Ночью прошел сильный ливень. Теперь же утреннее солнце, пробившись сквозь щели между ребристыми пластинками жалюзи, покрыло одеяло полосками золотистого света и тени. Из-под этой псевдотигровой шкуры виднелись только одна рука и лицо Хатча. И, хотя кожа на них имела тот же полосатый окрас огромной кошки, было заметно, что он очень бледен. Сидя в кресле и рассматривая лежащего за кроватной решеткой Хатча под необычным ракурсом, Линдзи, заметив у него на лбу окруженную расползшимся во все стороны уродливым синяком рану с наложенным на нее швом, почувствовала, что у нее начинает мутиться в голове. Если бы не показания монитора и едва заметное движение вверх-вниз одеяла на его груди, она бы ни за что не подумала, что он жив. Но он был жив, жив, и она ощутила, как в груди у нее стеснило дыхание и к горлу подкатил ком, — верные признаки подступающих слез, такие же верные, как молния, предвещающая близкую грозу. То, что она может сейчас заплакать, ужасно ее удивило. Ее грудь взволнованно вздымалась. Она не плакала ни тогда, когда их «хонда» сорвалась с обрыва в пропасть, ни во время тяжелейших физических и эмоциональных испытаний, которые ей выпало пережить в эту кошмарную, только что прошедшую ночь. Она не гордилась своим стоицизмом, она просто была такой, какой была. Нет, не совсем так. Такой, какой она стала во время страшного поединка Джимми со своей ужасной болезнью. С того момента, как был поставлен диагноз и обнаружен рак, ему оставалось жить ровно девять месяцев, столько же, сколько она потратила, чтобы зачать и с любовью выносить его в своем чреве. И в конце каждого дня этого медленного угасания ей хотелось забраться с головой под одеяло и, свернувшись калачиком, дать волю слезам и плакать до тех пор, пока они из нее не вытекут до конца и она, пересохнув, не превратится в прах и не исчезнет с лица земли. Сначала она иногда плакала. Но ее слезы очень сильно пугали Джимми, и она поняла, что любое выражение душившего ее горя было не чем иным, как выражением жалости к самой себе. Даже когда она плакала на стороне, он догадывался об этом; он всегда был чересчур восприимчивым и мнительным для своих лет, а болезнь только обострила эти свойства его характера. Тогдашняя теория иммунологии придавала огромное значение положительным эмоциям, смеху и уверенности, как успешному оружию, которое необходимо использовать в борьбе с тяжелыми недугами. И она научилась подавлять в себе ужас при мысли, что может потерять его. Теперь он всегда видел ее только смеющейся, любящей, уверенной в нем, в его мужестве, не сомневающейся в том, что он одолеет свою страшную болезнь. Ко времени смерти Джимми Линдзи так великолепно научилась подавлять в себе желание плакать, что теперь вообще уже не могла этого делать. Лишенная возможности дать выход отчаянию в слезах, она замкнулась в себе, в своих переживаниях. Стала быстро худеть — сначала на десять, пятнадцать, а в конце и на все двадцать фунтов, — пока не превратилась в ходячий скелет. Перестала мыть голову и причесываться, следить за собой и своей одеждой. Убежденная, что она не оправдала ожиданий Джимми, пообещав ему свою помощь в борьбе с болезнью и не оказав ее, она считала, что не имеет права радоваться пище, следить за своей внешностью, получать удовольствие от книг, кинофильмов или музыки — вообще от чего бы то ни было. С течением времени Хатчу пришлось приложить немало усилий и терпения, чтобы доказать ей, что ее желание взять на себя вину жестокой, коварной и слепо разящей судьбы было такой же болезнью, как и болезнь Джимми. И, хотя она так и не сумела возвратить себе умение плакать, ей все же удалось выбраться наружу из того эмоционального провала, в который она забилась. И с тех пор она так и жила на краю пропасти, всегда рискуя сорваться вниз. И вот теперь, после столь длительного срока воздержания, слезы удивили и обеспокоили ее. В глазах у нее защипало, и они вдруг стали горячими. Все вокруг потеряло свои очертания. Не веря случившемуся, дрожащей рукой она коснулась своей щеки и ощутила катящуюся по ней влагу. Нейберн вынул из стопки на тумбочке салфетку и подал ей. Эта маленькая услуга подействовала на нее так сильно, что она уже больше была не в силах сдерживать рыдания. — Линдзи… От всего, что произошло с ним, у него пересохло горло и голос был хриплым и едва слышимым; она скорее увидела движение губ, чем услышала его. Но была абсолютно уверена, что это было сказано не в бреду, что он обращался именно к ней. Салфеткой она быстро стерла слезы и наклонилась вперед в своем кресле-каталке, коснувшись лбом заградительной сетки на кровати. Глаза его были открыты и ясны, и он смотрел прямо на нее. — Линдзи… Он нашел в себе силы выпростать из-под одеяла правую руку и протянуть ей. Она наклонилась еще больше вперед. Взяла его руку в свою. Кожа его была сухой. Поверх ссадины на ладони была приклеена тонкая марлевая повязка. Он был еще слишком слаб, и пожатие его было едва ощутимым, но он был теплый — Господи! — он был теплый и живой. — Ты плачешь, — сказал Хатч. И это было правдой, Линдзи действительно плакала, а вернее, ревела навзрыд и одновременно улыбалась сквозь потоки слез. То, что не смогло в течение этих ужасных пяти лет сделать горе — вызвать у нее слезы, — радость сделала в какую-то долю секунды. Она плакала от радости, и ей казалось, что так и должно быть и что это ее исцеляет. Она чувствовала, как с сердца один за другим слетают железные обручи, сжимавшие его, и всё потому, что Хатч жив. Выл мертвым, и вот, надо же, живой! Но если не чудо может так взволновать сердце, то что же еще способно это сделать? — Я тебя люблю, — прошептал Хатч. Потоки слез превратились в водопады, — о Господи! — в реки слез, и она услышала свой собственный голос, говоривший: «Я люблю тебя», и почувствовала на своем плече руку Нейберна, и этот трогательный добрый жест показался ей чрезмерной милостью, и она заплакала еще пуще. Она плакала и смеялась одновременно и видела, что Хатч тоже улыбается. — Все в порядке, — хрипло выдавил он из себя. — Самое… страшное… позади. Все… плохое… мы уже… пережили…Глава 19
В дневное время, скрываясь от лучей солнца, Вассаго ставил свой «камаро» в подземный гараж, когда-то до отказа забитый электротележками, ручными тачками и грузовыми машинами, которые использовались бригадами по обслуживанию парка аттракционов. Теперь, угнанные кредиторами, все эти средства передвижения исчезли. «Камаро» одиноко стоял в центре огромного сырого помещения без единого окошка. Из гаража по широкой лестнице — лифты уже давно не работали — Вассаго спустился еще ниже, на другой подземный уровень. Этот этаж располагался под всей территорией парка аттракционов и вмещал в себя, кроме специального помещения охраны с десятками видеомониторов, на которых как на ладони просматривался весь парк, любой его закоулок, еще и центр управления всеми механическими аттракционами, сверху донизу нашпигованный сложнейшей ультрасовременной электронной аппаратурой, а также помещения для столярных и электромеханических мастерских, столовую для обслуживающего персонала, раздевалки с запирающимися шкафчиками для сотен костюмированных служащих, работавших посменно, лазарет для оказания срочной медицинской помощи и, помимо этого, различные кабинеты, где располагалась дирекция парка и другие помещения. Не останавливаясь, Вассаго прошел мимо дверей, ведущих на этот уровень, и спустился еще ниже, на самый последний этаж подземного комплекса. Несмотря на обильно прогретые солнцем песчаные грунты Южной Калифорнии, на такой глубине от стен исходил влажный известковый запах. Из-под ног Вассаго не шарахались и не разбегались с писком в разные стороны крысы, и это его удивило тогда, много месяцев тому назад, когда он впервые спустился в свое будущее подземное царство. Ни одной крысы не встретил он за все те несколько недель, что бродил по мрачным переходам и безмолвным комнатам огромного пустого пространства, хотя он бы не возражал против такого соседства. Крысы ему нравились. Пожиратели падали, эти рыскающие по пятам смерти уборщики сбегались на пир при первом запахе гниения. Видимо, они не наводнили подвалы парка потому, что по закрытии все, что можно было отсюда унести, было унесено, место осталось совершенно голым. И кроме покореженного бетона, изодранной в клочья пластмассы и ржавеющих металлических конструкций, покрытых тонким налетом пыли, да валявшихся на полу обрывков бумаги, там не было ничего, что могло бы заинтересовать крыс, опустевшее пространство было таким же стерильным для грызунов, как летающая вокруг Земли космическая станция. В конце концов, крыс наверняка привлечет его коллекция в Аду, и, после того как твари набьют там свои желудки, они останутся жить с ним по соседству. Вот тогда у него и будет подходящая компания, с которой ему станет не скучно коротать светлое время дня, когда он не может выходить по своим делам. В конце четвертого, и последнего, лестничного марша, двумя этажами ниже подземного гаража, Вассаго вошел в дверной проем. Дверей в нем не было, как не было их нигде по всему комплексу: их утащили сборщики утиля и продали за несколько долларов каждую. Прямо за порогом начинался большой, шириной в восемнадцать футов, тоннель. Пол был ровный, и точно по центру его бежала жирная желтая полоса, как на шоссе, которым по замыслу его создателей тоннель и был. Бетонированные стены, изгибаясь, плавно переходили в потолок. Другая часть этого самого нижнего яруса была отдана под склады, где когда-то хранилось несметное количество припасов. Здесь было все необходимое, чтобы поставлять продукцию в разбросанные по всей территории парка закусочные-забегаловки: пластиковые стаканчики и запакованные в целлофан гамбургеры, коробки с жареной кукурузой и хрустящим картофелем, бумажные салфетки и маленькие пакетики из фольги с кетчупом и горчицей. Деловые бланки. Пакеты с минеральными удобрениями и банки со средством против насекомых, используемые бригадой по благоустройству территории парка. Все это — и многое другое, необходимое для обеспечения жизнедеятельности этого маленького города, — давно уже исчезло отсюда. Теперь складские помещения были пусты. Целая сеть небольших тоннелей соединяла их с грузовыми лифтами, подававшими товары наверх, к аттракционам и в рестораны. С их помощью можно было доставлять пищевые продукты и в случае поломки какого-нибудь из аттракционов людей для его починки, не беспокоя при этом посетителей и не разрушая иллюзий, за которые они заплатили деньги. Через каждые сто футов на стене красовалась нарисованная краской цифра, обозначавшая тот или иной маршрут, а на пересечении тоннелей имелись даже специальные вывески, на которых маршруты указывались стрелками:< ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ < РЕСТОРАН «АЛЬПИЙСКИЙ ЗАМОК» КОСМИЧЕСКОЕ КОЛЕСО > ГОРА БИГ ФУТ >У первого перекрестка Вассаго свернул направо, у следующего налево, потом еще раз направо. Несмотря на то что даже его глаза почти ничего не могли разглядеть в кромешной тьме этих переходов, он бы все равно нашел нужное ему направление, так как к настоящему времени знал их так же хорошо, как очертания своего собственного тела. Наконец он подошел к висевшему рядом с лифтом указателю: «МЕХАНИЗМ ДОМА УЖАСОВ». Дверей у лифта не было, как не было в шахте и кабины, и подъемного механизма, вывезенных и проданных на металлолом. Шахта лифта уходила вниз на четыре фута от уровня пола тоннеля и поднималась вверх на пять этажей сплошной темноты до уровня, на котором располагались помещения охраны, центра управления аттракционами, дирекции и другие, затем еще выше до Дома ужасов, где находилась его коллекция, и еще выше — на второй и третий этажи этого аттракциона. Вассаго переступил через порог и скользнул на дно шахты лифта. Примостился на матраце, который специально притащил из верхнего мира, чтобы в своем логове чувствовать себя более уютно. Когда, запрокинув голову, он посмотрел вверх, то в темноте шахты смог разглядеть только ближайшие два-три этажа. Проржавевшие стальные ступеньки служебной лестницы убегали вверх и скрывались в сплошном мраке. Поднявшись по лестнице до нижнего этажа Дома ужасов, можно было попасть в служебное помещение, расположенное прямо за стенами Ада, в котором находился механизм, приводивший в движение гондолы, и велись ремонтные работы в случае его поломки — до того, как он был навсегда вывезен отсюда. Из помещения к безводному теперь озеру царства теней, из которого появлялся Люцифер, замаскированная раньше под скалу, вела дверь. Он находился в самом глубоком месте своего убежища, на два этажа и четыре фута ниже Ада. Здесь, как нигде, он чувствовал себя как дома. Там, в мире живых, он ощущал себя тайным властелином мира, но мира, которому не принадлежал. И, хотя действительно ничего на свете не боялся, его охватывала постоянная, едва заметная тревога, когда покидал мрачные черные и глухие своды своего логова. Вскоре он открыл крышку довольно массивного полиэтиленового холодильника с внутренней облицовкой из пенопласта, в котором хранил свои запасы содовой. Он всегда предпочитал этот шипучий напиток всем другим. Так как доставать лед удавалось не всегда, содовая оказалась теплой, но его это мало беспокоило. В холодильнике было и что перекусить: плитки «Марс», стаканчики с арахисовым маслом, шоколадки «Кларк», пакет жареного картофеля, сухое печенье, пирожные «орео». Когда он стал обитателем пограничной полосы, что-то стряслось с его обменом веществ; он мог есть что угодно и сколько угодно, но вес его тела оставался неизменным. Самое же удивительное было то, что всякой пище он предпочитал, хотя никак не мог себе это объяснить, только ту, которую любил, когда был ребенком. Он откупорил банку тепловатой содовой и сделал большущий глоток. Достал из пакета пирожное «орео». Осторожно, стараясь не повредить, разделил вафельные шоколадные облатки. К облатке, оказавшейся в левой руке, пристал белый кружок сладкой начинки. Значит, когда вырастет, он будет богатым и знаменитым. Если бы начинка пристала к облатке в правой руке, это означало бы, что он может стать знаменитым, но необязательно богатым: к примеру, звездой рок-н-ролла, убийцей президента Соединенных Штатов или кем там еще, возможностей прославиться было хоть отбавляй. Если бы начинка равномерно пристала к обеим облаткам, это означало бы, что надо съесть еще одно пирожное или рискнуть остаться вообще без будущего. Пока Вассаго медленно слизывал языком начинку, с наслаждением ощущая, как она постепенно тает у него во рту, он не отрываясь смотрел вверх, в пустоту шахты лифта, удивляясь, как это ему пришло в голову выбрать для своего убежища именно этот покинутый парк аттракционов, когда в мире существует масса других укромных местечек. Мальчиком, когда парк еще работал, он бывал здесь несколько раз, самый последний — восемь лет тому назад — тогда ему было двенадцать — примерно за год с небольшим до его закрытия. В тот, можно сказать, особый вечер своего детства он совершил тут свое первое убийство, открыв тем самым свой длинный послужной список смерти. И вот он снова здесь. Он слизнул остатки начинки. Съел первую шоколадную вафлю. Затем съел вторую. Достал из пакета еще одно пирожное. Глотнул тепловатой содовой. Ему хотелось быть мертвым. По-настоящему мертвым. Это был единственный способ начать жизнь по Другую Сторону. — Если бы, да кабы, — вслух проговорил он, — во рту б росли грибы. Съел второе пирожное, докончил содовую, растянулся на матраце и заснул. Ему снились сны. Сны были о людях, которых он никогда не знал, о местах, где он никогда не бывал, и о событиях, свидетелем которых он не был. Вода, в которой плавают куски льда, со всех сторон окружает его, марево снега, поднятое в воздух сильным порывом ветра. Женщина в кресле-каталке смеется и плачет одновременно. Больничная койка, вся в полосах золотистого света и тени. Та же женщина в кресле-каталке, смеется и плачет. Та же женщина в кресле-каталке, смеется. Та же женщина в кресле-каталке. Та же женщина…
Часть II. СНОВА ЖИВОЙ
На нивах жизни зреет урожай Порой в иное время года, Когда нам кажется, что истомленная земля Уж более не плодородит И нет нужды, едва забрезжит свет, Спешить в холодные поля. Когда мороз осеннее тепло сменяет, Натруженным рукам не грех и отдохнуть. Но под землей укрытые снегами Грядущих лет не дремлют семена И порождают в душах веру, Что лучшие наступят времена. На нивах жизни зреет урожай.Книга Печалей
ЧЕТЫРЕ
Глава 1
Хатчу казалось, что время повернулось вспять и он в четырнадцатом веке, стоит, словно безбожник, перед судом Инквизиции. В кабинете адвоката было двое священников. Несмотря на свой средний рост, отец Жиминез выглядел весьма внушительно и оттого даже казался выше ростом, с черными смоляными волосами и даже еще более темными глазами, в черном костюме с белым стоячим воротничком. Он стоял спиной к окнам. Едва заметно раскачивающиеся от легкого ветерка пальмы и голубое небо над Ньюпорт-Бич, видневшиеся из-за его спины, не снимали напряжения, установившегося в отделанном красным деревом и заполненном старинными вещами кабинете, и абрис Жиминеза на фоне окон выглядел зловеще. Отец Дюран, лет на двадцать пять моложе отца Жиминеза, был худ, аскетического вида, с бледным лицом. Молодой священник явно испытывал восторг от коллекции ваз, курильниц и чаш Сатсумы периода Мейдзи, помещенных в большой стеклянный шкаф в дальнем углу кабинета, но у Хатча было такое чувство, что Дюран только притворялся, что полностью поглощен японскими фарфоровыми изделиями, а на самом деле исподтишка наблюдал за ним и Линдзи, плечом к плечу сидевшими на софе времен Людовика XVI. Присутствовали в кабинете и монахини, и Хатчу они казались еще более опасными, чем священники. Монашеский орден, представляемый ими, отдавал предпочтение просторным старомодным одеждам, которые в наше время редко кто носит. На головах у них были белые крахмальные апостольники, и обрамленные белой тканью лица выглядели особенно суровыми и зловещими. Сестра Иммакулата, директриса детского приюта св. Фомы, напоминала хищную черную птицу, примостившуюся в кресле справа от софы, и Хатч не удивился бы, если бы она вдруг, издав хриплый, гортанный крик и взмахнув широкими складками своей мантии, взлетела под потолок и, сделав несколько кругов по комнате, спикировала оттуда прямо на него, чтобы выклевать ему глаза. Ее заместительница, чуть моложе своей начальницы, явно нервничая, без устали вышагивала взад и вперед по кабинету, и взгляд ее был подобен лазерному лучу, способному пробить стальной лист. Хатч, напрочь забывший ее имя, называл ее про себя Монахиня без Имени по аналогии с Клинтом Иствудом, сыгравшим Человека без Имени в одном из старинных ковбойских фильмов. Он был явно несправедлив, даже более чем несправедлив к ним оттого, видимо, что ужасно нервничал. Ведь все, кто присутствовал сейчас в кабинете адвоката, собрались здесь, чтобы помочь ему и Линдзи. Отец Жиминез, ректор церкви св. Фомы, бравшей на себя львиную долю финансирования сиротского приюта, возглавляемого сестрой Иммакулатой, был не более зловещ, чем, скажем, священник в фильме «Нам по дороге», и скорее напоминал актера Бинга Кросби, правда, в латиноамериканском исполнении, а отец Дюран был в действительности добрым и скромным человеком. Сестра Иммакулата в такой же степени напоминала хищную птицу, как танцовщицу в стриптизе, а неподдельнаяискренность, сквозившая в улыбке, почти не сходившей с лица Монахини без Имени, более чем компенсировала любые отрицательные чувства, которые можно было бы приписать ее пристальному взгляду. Священники и монахини пытались хоть как-то поддерживать легкий непринужденный разговор; Хатч же и Линдзи нервничали так, что ни о какой светской беседе и речи быть не могло. Слишком многое было поставлено на карту. И это полностью выбивало почву из-под ног Хатча, заставляло его сильно волноваться, что было ему несвойственно, ибо более благодушного, чем он, человека трудно было сыскать на свете. Он хотел, чтобы эта встреча прошла успешно, так как от нее зависели их с Линдзи счастье, их будущее, наконец, их попытка открыть новую страницу в своей жизни. Конечно, это было не совсем так. И он явно преувеличивал, чересчур драматизируя ситуацию. Но ничего не мог с собой поделать. С тех пор как более чем полтора месяца тому назад он был воскрешен из мертвых, они с Линдзи прошли сквозь горнило сильнейших эмоциональных потрясений. Гасившая всех и вся в их жизни волна отчаяния, нахлынувшая на них после смерти Джимми, внезапно откатилась прочь. Они поняли, что живы и что снова вместе только благодаря медицинскому чуду. Не быть в полной мере благодарным за эту отсрочку и не попытаться до предела использовать подаренное им время было бы несправедливо ни по отношению к Богу, ни по отношению к врачам, непосредственно спасшим им жизни. Более того, это было бы просто глупо. Кто мог осудить их за то, что они не желали забыть Джимми и так долго оплакивали его, но в какой-то момент они позволили охватившему их горю выродиться в жалость к самим себе, и это привело их к хронической депрессии, что уже было явным перехлестом. Понадобились смерть Хатча, его воскрешение из мертвых, близость к смерти самой Линдзи, чтобы вывести их из состояния вечной подавленности, и это, по его мнению, свидетельствовало о том, что они оказались более упрямыми, чем он раньше предполагал, и меньше всего стремились к тому, чтобы изменить свой стиль жизни. И поэтому нужна была именно такая встряска, чтобы заставить их выбраться из своей скорлупы и заново начать строить совместную жизнь. А начать строить жизнь сызнова означало для них обоих иметь в доме ребенка. Это желание не было сентиментальной попыткой возродить прошлые чувства, не было оно и невротической потребностью, заменив Джимми другим ребенком, забыть наконец о его кончине. Просто им нравилось возиться с детьми; они обожали детей; и отдавать себя полностью ребенку казалось им верхом блаженства. Но ребенка они могли получить только через усыновление. В этом-то и была вся загвоздка. Беременность Линдзи протекала тяжело, роды были долгими и болезненными. Рождение Джимми едва не стоило ей жизни, и, когда он наконец появился на свет, врачи предупредили ее, что больше она не сможет рожать. Монахиня без Имени перестала ходить взад и вперед по кабинету, отвернула широченный рукав своей мантии и посмотрела на часы. — Может быть, пойти и выяснить, почему она задерживается? — Не надо торопить ребенка, — мягко сказала сестра Иммакулата, пухлой белой ручкой расправляя на коленях складки мантии. — Если вы будете ее торопить, она подумает, что вы сомневаетесь в ее способности самой обслужить себя. Нет ничего такого, с чем она не могла бы сама справиться в туалете. Да и не в этом, видимо, дело. Просто ей требуется какое-то время побыть одной, чтобы хоть немного успокоиться. — Простите за задержку, — проговорил отец Жиминез, обращаясь к Линдзи и Хатчу. — Все в порядке, — сказал Хатч, нервно ерзая на софе. — Ее можно понять. Мы и сами как на иголках. С самого начала выяснилось, что огромное число — целая армия — супружеских пар ждали свою очередь, чтобы усыновить ребенка. Некоторым приходилось дожидаться своего часа в течение двух лет. Проведя пять лет без ребенка, Хатч и Линдзи не желали становиться ни в какую очередь. У них было только две возможности, первая из которых заключалась в усыновлении ребенка другой расы: черного, желтого или латиноамериканца. Большинство пар, желающих усыновить ребенка, были белыми и хотели бы стать приемными родителями именно белого ребенка, который мог бы сойти за их собственного, в то время как бесчисленному множеству сирот из различных национальных меньшинств приходилось довольствоваться только приютами и несбыточными мечтами когда-нибудь обрести свою собственную семью. Цвет кожи ничего не значил для Хатча и Линдзи. Они были бы счастливы заполучить любого ребенка, независимо от его расовой принадлежности. Но в последнее время извращенно интерпретируемые «доброжелателями» социальные права привели к принятию целого ряда новых законов и постановлений, направленных на то, чтобы под любым предлогом наложить запрет на возможность усыновления ребенка другой расы, а разветвленная система государственной бюрократии приняла это к исполнению и проводила в жизнь с неукоснительной умопомрачительной точностью. Предполагалось, что ребенок не может быть полностью счастлив, если будет воспитываться вне своей этнической среды, что было, мягко говоря, элитарной чепухой — а по существу, расизмом наоборот, — придуманной социологами и псевдоучеными, которые даже не удосужились спросить, что думают по этому поводу одинокие, покинутые и никому не нужные дети, чьи права они вознамерились защищать. Второй возможностью было усыновление ребенка-инвалида. Среди сирот детей-инвалидов было гораздо меньше, чем сирот из нацменьшинств, — даже так называемых технических сирот, родители которых живы, но отказались от ребенка, потому что он резко отличался от своих сверстников. Но, с другой стороны, несмотря на то что их было гораздо меньше, спрос на них был значительно ниже, чем на детей из нацменьшинств. К тому же у них было то неоспоримое преимущество, что обычно они редко попадают в сферу интересов инициативных групп, стремящихся навязать политически безупречные, с их точки зрения, способы их социального обеспечения и ухода за ними. Рано или поздно какая-нибудь массовая организация олухов царя небесного сумеет-таки добиться принятия таких законов, по которым зеленоглазых, светловолосых или глухих детей смогут усыновлять только соответственно зеленоглазые, светловолосые или глухие родители. Хатчу и Линдзи повезло в том смысле, что они успели подать заявление об усыновлении ребенка-инвалида до того, как эти непредсказуемые силы хаоса замыслят свое черное дело. Вспоминая порой о тех бюрократических препонах, с которыми им пришлось столкнуться полтора месяца назад, когда они впервые приняли решение усыновить ребенка, Хатч зеленел от злости и у него рождалось дикое желание нагрянуть в эти конторы и передушить там половину чиновников, чтобы те, кто останется в живых, хорошенько подумали, прежде чем морочить людям голову. Прознав о таких его мыслях, добропорядочные монахини и монахи ордена св. Фомы долго будут думать, прежде чем передоверят ему одну из сироток из своего приюта! — У вас все в порядке со здоровьем, никаких побочных эффектов после всего, что вам пришлось пережить, не наблюдается, у вас хороший аппетит, сон? — спросил отец Жиминез, желая, видимо, хоть как-то заполнить затянувшуюся паузу в связи с непредвиденной задержкой той, ради которой они все здесь собрались, не имея при этом в виду выразить сомнение по поводу притязаний Хатча на полное исцеление и отличное здоровье. Линдзи — по характеру более импульсивная и склонная к преувеличениям, чем Хатч, — вся подалась вперед и с ноткой раздражения в голосе заявила: — По статистическим показателям выздоровления реанимированных после смерти людей Хатчу нет равных. Доктор Нейберн от него в восторге и даже выдал ему справку о том, что он полностью здоров. Все это изложено в нашем заявлении, и имеются соответствующие документы. Пытаясь как-то смягчить реакцию Линдзи, чтобы священники и монахини, не дай бог, не истолковали неверно смысл ее слов, Хатч сказал: — Я и правда чувствую себя отлично. Я бы вообще ввел кратковременную смерть как обязательную лечебную процедуру. Очень расслабляет, и совершенно по-иному начинаешь смотреть на вещи. Все вежливо рассмеялись. По правде говоря, Хатч действительно был полностью здоров. Первые четыре дня после воскрешения он был очень слаб, ко всему безучастен, страдал от диких головных болей и провалов памяти. Но спустя некоторое время ему удалось восстановить свои физические и интеллектуальные способности на все сто процентов. И вот уже почти полтора месяца, как он ведет прежний нормальный образ жизни. Случайно оброненная отцом Жиминезом фраза о качестве его сна смутила Хатча, и, видимо, именно это заставило Линдзи столь решительно выступить в его защиту. Своим ответом на вопрос священника он подразумевал, что спит хорошо, хотя на самом деле это было не совсем так, но, поскольку его странные сны и их эмоциональное воздействие на его психику были явлениями скорее любопытными, чем опасными, он полагал, что не совсем погрешил против истины. Они так близко подошли к заветной черте, от которой начнут отечет своей новой жизни, что он ужасно боялся нечаянным необдуманным еловом свести на нет все их усилия. Несмотря на то что католические службы, ответственные за передачу детей в руки их будущих опекунов, очень серьезно подходили к решению этой задачи, они не стремились воздвигать бессмысленные препоны и выискивать различные поводы, чтобы попытаться оттянуть окончательное решение, чем грешили аналогичные светские службы, особенно когда речь шла об опекунах, подобных Хатчу и Линдзи, весьма уважаемых членах общины, и об усыновлении ребенка-инвалида, чье будущее не мыслилось вне рамок специальных учреждений для такого рода детей. Новая жизнь может начаться для них уже на этой неделе, если их ответы не заронят в душах священнослужителей церкви св. Фомы, которые пока были на их стороне, сомнения, могущие заставить их переменить свое первоначальное решение. Хатча самого немного приводило в изумление проснувшееся в нем жгучее желание снова стать чьим-либо отцом. Все эти пять лет он жил как бы вполсилы. Нежданно-негаданно неиспользованные, копившиеся на протяжении этих лет чувства потоком нахлынули на него, захлестнули его с головой, заставив ярче сверкать краски, красивее и мелодичнее звучать музыку, сделав его ощущения более острыми и сильными, наполнив его желанием куда-то идти, что-то делать, побольше увидеть, короче, жить. И снова быть нужным ребенку. — Не знаю, могу ли я задать вам один вопрос, — заговорил отец Дюран, отводя взгляд от коллекции Сатсумы. Изможденно-бледные черты его заострившегося лица оживляли огромные, многократно увеличенные толстыми линзами, совиные глаза, светившиеся умом и доброжелательностью. — Это настолько личное, что мне, поверьте, ужасно неловко. — Спрашивайте, конечно же, — ободряюще сказал Хатч. — Некоторые люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, — неуверенно начал молодой священник, — недолго, примерно с минуту или две… утверждают… ну, в общем… рассказывают о сходных ощущениях… — Будто бы проносятся сквозь черный тоннель, в конце которого видят поразительно яркий свет, — докончил за него Хатч, — и при этом их охватывает чувство огромной умиротворенности и ощущение, что они наконец-то вернулись к себе домой? — Да, да, — вспыхнув от радости, закивал Дюран. — Именно это я и имел в виду. Отец Жиминез и обе монахини выжидательно уставились на Хатча, и ему очень не хотелось их огорчать и говорить не то, что они хотели бы услышать. Он посмотрел сначала на сидевшую подле него на софе Линдзи, затем перевел взгляд на остальных. — Увы, ничего такого я не испытывал. Плечи отца Дюрана разочарованно опустились. — А что же вы испытывали? Хатч недоуменно пожал плечами. — Ничего. Конечно, лучше было бы испытать нечто подобное… все-таки, хоть что-то, но ощущаешь. Но в этом смысле, боюсь, у меня была скучная смерть. Ничего не помню с того момента, как перевернулась машина и я потерял сознание, до тех пор, когда очнулся на больничной койке и увидел дождь за окном… Он так и не успел докончить свою мысль из-за прибытия Сальваторе Гуджилио, в чьем кабинете они находились. Гуджилио — громадный и толстый, как башня, — во всю ширь распахнул дверь и, шагнув внутрь, плавным широким жестом закрыл ее за собой. С решимостью слегка укрощенного урагана пронесся он по комнате, по очереди подлетая и здороваясь с каждым в отдельности. Хатч бы не удивился, если бы при его приближении мебель взмыла в воздух и со стен попадали на пол предметы искусства, так как, казалось, от него исходила энергия, способная привести в движение все, с чем он соприкасался. Ни на минуту не умолкая, Гуджилио по-медвежьи сгреб в охапку Жиминеза, потряс руку Дюрана, церемонно, с видом ярого монархиста, приветствующего членов королевской семьи, поклонился отдельно каждой монахине. Гуджилио так же быстро сходился с людьми, как глиняные черепки склеиваются вместе под воздействием клея, и к моменту их второй встречи он приветствовал и прощался с Линдзи, нежно прижимая ее к своей громадной туше. Он полностью расположил ее к себе, и она не очень обращала внимание на эти его объятия, но, как позже сама признавалась Хатчу, чувствовала себя при этом маленьким ребенком, обнимающим громадного борца сумо. — Я чувствую себя просто пушинкой, — говорила она. Но в этот раз она осталась сидеть на софе и поздоровалась с адвокатом за руку. Хатч встал со своего места и протянул ему для приветствия руку, заведомо зная, что она исчезнет в его огромной ладони, как кусочек пищи, помещенной в жидкость, кишащую голодными амебами, что в действительности и произошло. Как всегда, Гуджилио обхватил руку Хатча обеими своими лапищами и потряс не столько ее, сколько всего его вместе с ней. — Какой чудесный день, — сказал Гуджилио, — можно сказать, особый день. Очень хотелось бы, чтобы все прошло без сучка без задоринки. Несколько часов в неделю он специально отдавал делам церкви и сиротского приюта св. Фомы. Особую радость доставляло ему соединять судьбы приемных родителей с судьбами детей-инвалидов. — Регина уже вышла из туалета, — продолжал Гуджилио. — Но немного задерживается, так как затеяла разговор с моей секретаршей. Видимо, ужасно нервничает и всячески тянет время, чтобы набраться храбрости. Сейчас придет. Хатч взглянул на Линдзи. Она нервно улыбнулась и взяла его руку в свою. — Хочу, чтобы вам было ясно, — сказал Сальваторе Гуджилио, паря над ними, как громадный шар во время парада в честь Дня Благодарения[138] — что мы собрались здесь только для того, чтобы вы познакомились с Региной, а она с вами. Никто не обязан сегодня принимать каких-либо решений. После встречи вы отправитесь домой, там все обсудите между собой и дадите нам знать о своем решении взять именно этого ребенка завтра или, в крайнем случае, послезавтра. В равной степени это относится и к Регине. У нее тоже будет день поразмыслить о своем решении. — Это очень важный шаг, — произнес отец Жиминез. — Чрезвычайно важный, — добавила сестра Иммакулата. Слегка сжав руку Хатча, Линдзи сказала: — Мы понимаем. Монахиня без Имени подошла к двери, открыла ее и выглянула в коридор. Регины поблизости, видимо, еще не было. Подходя к своему рабочему месту за столом, Гуджилио бросил на ходу: — Она вот-вот появится. Уверен. Адвокат грузно опустился на свое место, но так как в нем было шесть футов пять дюймов росту, то и сидя он казался очень высоким. Кабинет был полностью обставлен антикварной мебелью. Рабочий стол, к примеру, был времен Наполеона III и таким великолепным, что Хатч с удовольствием выставил бы его в витрине своего магазина. В обрамлении золоченой бронзы по всему его верху на фоне стилизованной листвы бежал инкрустированный узор в виде завитков, изображающих различные музыкальные инструменты. Все это держалось на слегка расширенных в самом низу круглых ножках, окантованных листьями из золоченой бронзы и соединенных Х-образным ложком с урночками из золоченой бронзы на пересечениях реек. При первой встрече казалось, что размеры Гуджилио и опасные уровни кинетической энергии, исходившей от него, грозят разбить стол и весь антиквариат, переполнявший его кабинет, на мелкие кусочки. Но спустя несколько минут он и его кабинет настолько гармонично соразмерялись друг с другом, что у посетителя невольно возникало суеверное чувство, будто он каким-то образом воссоздал обстановку, в которой жил в другое — более отдаленное от нынешнего — время. Раздавшийся вдалеке приглушенный стук отвлек внимание Хатча от размышлений об адвокате и его письменном столе. Монахиня без Имени быстро отошла от двери, словно не хотела, чтобы Регина подумала, что та высматривала ее. — Идет, — сказала она. Звук повторился. Затем снова и снова. Он был мерным и становился все громче. Шлеп. Шлеп. Ладонь Линдзи крепче сжала руку Хатча. Шлеп! Шлеп! Казалось, в коридоре кто-то стучал свинцовой трубой по твердой древесине пола, отбивая такты неведомой музыкальной фразы. Хатч бросил недоумевающий взгляд на отца Жиминеза, уставившегося в пол и озадаченно качавшего головой. Лицо его при этом выражало чувство, понять которое было невозможно. Чем ближе и громче становился странный звук, тем явственнее на лицах отца Дюрана и Монахини без Имени, уставившихся на полуоткрытую дверь, проступало удивление. Сальваторе Гуджилио с растерянным видом привстал со своего стула. Розовые щеки сестры Иммакулаты стали белее ткани, обрамлявшей ее лицо. Хатчу почудилось, что каждый удар сопровождается более мягким, скребущим звуком. Шлеп! Ссшшуррр… Шлеп! Ссшшррр… По мере того как звуки приближались, впечатление от них возрастало, и вскоре в голове у Хатча возникли сотни чудовищных видений, почерпнутых из фильмов ужасов: из воды неожиданно появляется крабоподобное чудище и хватает свою жертву; из склепа вылезает вурдалак и при свете щербатой луны крадется по кладбищу; инопланетное существо крадется на длинных паучьих с когтями ящера лапах. ШЛЕП! Казалось, в рамах начинают дрожать стекла. Или это ему кажется? Ссшшуррр… По спине его поползли мурашки. ШЛЕП! Он обвел быстрым взглядом встревоженно привставшего адвоката, качающего головой священника, другого, молодого, глядевшего на дверь широко раскрытыми глазами, обеих побледневших монахинь, затем снова уставился на полуоткрытую дверь, гадая, каким же должно быть увечье, от которого с рождения страдает этот ребенок, представляя, что сейчас в дверях покажется длинная, искривленная фигура, удивительно напоминающая Чарльза Лафтона в фильме «Горбун собора Парижской богоматери», улыбающаяся, с хищно торчащими из растопыренных губ острыми зубами-клыками, и тогда сестра Иммакулата обернется к нему и скажет: «Видите ли, мистер Харрисон, Регина попала в наш приют не от обыкновенных родителей, а из лаборатории, где ученые проводят весьма оригинальные и многообещающие генетические опыты…» На пороге возникла тень. Хатч вдруг ощутил, что пальцы Линдзи с такой силой сдавили ему руку, что ему стало больно. У него самого ладони были липкими от пота. Жуткие звуки прекратились. Присутствующие в кабинете выжидательно молчали. Полуотворенная дверь медленно раскрылась. Один шаг, и Регина оказалась внутри. Безжизненную правую ногу она тянула за собой: ссшшууррр. И тотчас следом: ШЛЕП! — ставила ее на пол. Войдя, с вызовом оглядела присутствующих. Хатч с трудом поверил своим глазам, что она одна могла быть источником всего этого зловещего шума. Она была маленькой для десятилетней девочки, меньше ростом и гораздо миниатюрнее, чем обычный ребенок ее лет. Веснушки на ее лице, задорно вздернутый носик и прелестные каштановые с рыжим отливом волосы — все протестовало против взятой ею на себя роли чудища-изводы или какого-нибудь еще более страшного, леденящего душу вурдалака, хотя в ее серьезных серых глазах Хатч прочел то, чего никак не ожидал увидеть в глазах ребенка. Взрослое понимание действительности. Повышенную восприимчивость происходящего. Не будь этих глаз и налета отчаянной решимости, девочка выглядела бы очень хрупкой, удивительно нежной и уязвимой. Она напомнила Хатчу одну прелестную старинную фаянсовую китайскую чашу, выставленную в его магазине на продажу. Если по ней слегка щелкнуть пальцем, она издаст звук, похожий на звон серебряного колокольчика, но стоит, кажется, ударить ее чуть посильнее или, не дай бог, уронить на пол, как она тотчас разлетится на мелкие кусочки. Но внимательно приглядевшись к чаше, уютно расположившейся на своей подставке из акрила, и тщательно рассмотрев великолепно прорисованные по ее бокам дворец и сад, окружающий его, и лиственный орнамент, бегущий по ободку изнутри, внезапно начинаешь сознавать, что прикоснулся к чему-то нетленному, дошедшему к нам из глубины веков. И вдруг возникает ощущение, что, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, она не разобьется при падении и выдержит удары любой силы, а то и сама вдребезги разобьет любую поверхность, о которую ударится, оставшись при этом совершенно невредимой. Чувствуя, что сумела всецело завладеть их вниманием, Регина рывком приблизилась к софе, на которой сидели Хатч и Линдзи, но теперь производя значительно меньше шума, поскольку с деревянного пола переместилась на старинный персидский ковер. На ней была белая кофточка, бутылочного цвета зеленая юбка чуть выше колен, зеленые гольфы и черные туфли. Почти вся видимая часть правой ноги, начиная чуть повыше колена и кончая голенью, была затянута в металлический каркас, напоминающий средневековое орудие пытки. Она так сильно хромала, что при каждом шаге ей приходилось раскачиваться из стороны в сторону, и казалось, она вот-вот упадет. Сестра Иммакулата встала со своего места, бросая на Регину негодующие взгляды. — Что это за представление, моя милая? Пропустив мимо ушей вопрос монахини, девочка сказала: — Простите, сестра, что немного опоздала. Но бывают дни, когда мне все дается тяжелее. Не успела монахиня открыть рот, чтобы что-то ответить, как девочка повернулась к Хатчу и Линдзи, переставшим держаться за руки и поднявшимся с софы ей навстречу. — Привет. Я — Регина. Калека. И протянула для приветствия правую руку. Хатч вдруг заметил, что она у нее сильно деформирована. Вернее, не столько вся рука, которая, правда, была чуть тоньше, чем левая, сколько та ее часть, что начиналась с запястья. Здесь кость как-то странно выгибалась и вместо ладони у девочки торчало два пальца и короткий, почти не сгибающийся обрубок большого пальца. Хатчу было странно ощущать эту ладонь в своей, но ощущение это отнюдь не было удручающим. Ее серые глаза уставились прямо ему в лицо, пытаясь угадать его реакцию. Он сразу понял, что от таких глаз невозможно утаить истинные чувства, и утешился мыслью, что ее увечность не вызвала в его душе неприязненного ощущения. — Очень рад с тобой познакомиться, Регина, — сказал он. — Меня зовут Хатч Харрисон, а это моя жена, Линдзи. Девочка обернулась к Линдзи и также поздоровалась с ней за руку, сказав при этом: — Знаю, что я — сплошное разочарование. Вы, женщины, соскучившиеся по детской ласке, обычно предпочитаете брать младенцев, чтобы тискать их… Монахиня без Имени аж задохнулась от негодования: — Ну, знаешь, Регина! Сестра Иммакулата была близка к обмороку и напоминала вмерзшего в лед пингвина с выпученными глазами и открытым клювом, скованного таким жестоким морозом, которого не смогла вынести даже эта антарктическая птица. Отец Жиминез, отойдя от окна, проговорил: — Господа Харрисон, я прошу извинения за… — Нет никакой нужды извиняться, — быстро сказала Линдзи, как и Хатч, сообразив, что девочка просто устраивает им проверку и что единственный способ пройти испытание — это позволить ей самой перевести их из лагеря мнимых врагов в лагерь своих союзников. Корчась, изгибаясь всем телом и судорожно подергиваясь, Регина добралась и плюхнулась во второе кресло, и Хатчу показалось, что она старалась казаться гораздо более неловкой, чем была на самом деле. Монахиня без Имени слегка коснулась плеча сестры Иммакулаты, и старшая монахиня медленно опустилась в свое кресло, все еще сохраняя вид вмерзшего в лед пингвина. Оба священника взяли по стулу для посетителей, стоявших перед рабочим столом адвоката, а монахиня помоложе придвинула к себе один из угловых стульев. Когда все расселись по своим местам, Хатч увидел, что он единственный, кто все еще стоит на ногах, и тотчас сел на софу рядом с Линдзи. Теперь, когда все наконец были в сборе, Сальваторе Гуджилио решил предложить присутствующим немного освежиться — пепси, имбирный эль, «Перье» — и сделал это без помощи своего секретаря, достав все необходимое из бара, скромно приткнувшегося в одном из отделанных красным деревом углов его весьма благопристойного кабинета. Пока адвокат разносил напитки, делая это быстро, без суеты и, несмотря на свои огромные размеры, без лишнего шума, не задевая при этом мебель, не роняя ни одной вазы, даже не касаясь двух тончайшей работы электрических напольных ламп со стеклянными абажурами в форме цветков, Хатч сообразил, что он уже не подавлял присутствующих своей величиной, неизменно делавшей его центром внимания: он явно проигрывал в последнем крохотной девчушке, раза в четыре уступавшей ему в размерах. — Итак, — обратилась Регина к Хатчу и Линдзи, кивком поблагодарив Гуджилио за стакан пепси и взяв его левой, здоровой рукой, — вы пришли сюда, чтобы узнать обо мне, поэтому я сейчас вам все о себе и расскажу. Во-первых, конечно, я — калека. — Она склонила голову набок и насмешливо оглядела их обоих. — Вы знали о том, что я — калека? — Теперь знаем, — сказала Линдзи. — Я имела в виду, знали ли до того, как пришли сюда? — Нам было известно, что у тебя имеются кое-какие трудности, — пояснил Хатч. — Дурная наследственность, — изрекла Регина. Отец Жиминез тяжело вздохнул. Сестра Иммакулата открыла было рот, чтобы что-то сказать, но, бросив взгляд на Хатча и Линдзи, передумала. — Мои родители был наркоманами, — сказала Регина. — Регина! — протестующе воскликнула Монахиня без Имени. — Ты не можешь знать таких вещей, как можно утверждать то, чего не знаешь! — Но это нетрудно вычислить, — заявила девочка. — Ведь известно, что за последние двадцать лет причиной большинства родовых травм являются нелегально распространяемые наркотики. Вы что, не знаете об этом? Я прочла это в книге. Я много читаю. Обожаю книги. Я, конечно, не хочу этим сказать, что я книжный червь. Смешно, да? Но, если бы я и вправду была червяком, я бы лучше поселилась в книге, чем в яблоке. Хорошо, когда калека-ребенок любит книги, они уж точно не заставят его делать вещи, которые делают обычные люди, хотя в душе знаешь, что и ты способна совершить то же самое, но не всегда есть желание так поступать, поэтому книги — это как будто совсем другая жизнь. Обожаю читать о разных приключениях, когда отправляются на Северный полюс, или на Марс, или в Нью-Йорк, или куда там еще. Мне очень нравятся детективы, особенно Агата Кристи, но больше всего люблю рассказы о зверях, особенно о говорящих зверях, как в «Ветре в ивах». У меня был однажды говорящий зверь. Вообще-то это был не зверь, а рыба — карась — и, конечно, за него говорила я, так как до этого прочла книгу о чревовещании и научилась говорить с закрытым ртом, вот это было здорово! Сяду себе в комнате и делаю вид, что голос его доносится из аквариума. — Не разжимая губ, она вдруг заговорила трескучим голоском, и, казалось, он исходит от Монахини без Имени: — «Привет, меня зовут Бинки-карась, и, если ты попытаешься сделать из меня сандвич, то, когда поднесешь меня ко рту, чтобы съесть, я обкакаю весь твой майонез». — Она вернулась к нормальному голосу и, не обращая внимания на гневный ропот священнослужителей обоих полов, продолжала как ни в чем не бывало: — Вот вам еще одна проблемка с калеками типа меня. Иногда мы можем такое сказануть, за что бы надо ремнем отхлестать по заднице, но у кого поднимется рука ударить несчастного дитятю-инвалида. Весь вид сестры Иммакулаты свидетельствовал о том, что ее рука не дрогнет, но все обошлось невнятной угрозой о недельном запрете на просмотр телевизионных программ. Хатч, при первой встрече посчитавший, что страшнее этой монахини могут быть разве что птеродактили, теперь остался совершенно безучастным к ее нахохленному виду, бессильную свирепость которого просто отметил боковым зрением. Взгляд его был неотрывно прикован к девчушке. Та же продолжала беспечно гнуть свое: — Помимо привычки дурно выражаться, вы должны также знать, что я совершенно не умею нормально ходить и ковыляю как какой-нибудь там Длинный Джон Сильвер — кстати, классная книга — и все, что у вас есть ценного в доме, точно перебью. Не со зла, конечно. Ведь для меня это всегда скачки с препятствиями. Хватит ли у вас терпения выдержать все это? Я не хочу, чтобы меня каждый раз избивали до полусмерти, а потом запирали в чулане только потому, что мне трудно иногда уследить за собой. С ногой дело обстоит не так уж плохо, и если я постоянно буду ее тренировать, то она может и выправиться, но, если по-честному, она здорово ослабла в последнее время, и я ее ни фига не чувствую. Она сжала свою скрюченную руку и с такой силой хлопнула себя по правой ляжке, что напугала Гуджилио, протягивавшего в этот момент стакан с имбирным элем молодому священнику, который, словно в гипнотическом сне, неотрывно глазел на девочку. Та же, словно одного раза было недостаточно, еще раз сильно ударила себя. Хатч невольно вздрогнул, а она продолжала: — Видите? Просто груда безжизненного мяса. Кстати, о мясе, я страшно привередливый едок. Ненавижу есть мертвечину. Это не значит, что я заживо ем животных. Просто я вегетарианка, и от этого вам тоже будет со мной не сладко, если вы, допустим, все же решитесь взять меня к себе, поняв, что я не игрушка, которую можно тискать и одевать в красивые платьица. Мое единственное достоинство состоит в том, что я на диво смышленая, просто гений в юбке. Но некоторые и это считают моим недостатком. Я умна не по летам и часто веду себя не как ребенок… — Но в данном случае ты именно так и ведешь себя, — сказала сестра Иммакулата, и было заметно, что ей самой понравилась собственная находчивость. Но Регина не обратила на это ни малейшего внимания. — …а вам ведь нужна малютка, любимая, глупая пустышка, которой вы сможете открыть мир и с гордостью смотреть, как она, познавая его, будет расцветать, тогда как я уже давным-давно созрела сама собой. Интеллектуально, я имею в виду. У меня до сих пор еще ни разу не было плохих отметок. Еще я до чертиков ненавижу телевизор, значит, не смогу в тесном семейном кругу коротать время у экрана. Да, чуть не забыла, я совершенно не выношу кошек. И еще: у меня всегда имеется свое, особое мнение о разных вещах, отчего некоторые люди просто выходят из себя, считая это наглостью по отношению к взрослым со стороны десятилетней малявки. Она немного помолчала, чуть отпила свою пепси и улыбнулась. — Нут вот, теперь вроде бы все. — Такой она никогда не была, — пробормотал себе под нос отец Жиминез, убеждая в этом то ли Бога, то ли самого себя, но явно не Хатча и Линдзи. Затем залпом, словно водку, выпил свое «Перье». Хатч обернулся к Линдзи. Глаза ее были подернуты пеленой. И так как она ничего не ответила на его немой вопрос, он опять повернулся к девочке. — Думаю, будет правильно, если теперь я расскажу тебе немного о нас. Отставив в сторону стакан с напитком и вставая со своего места, сестра Иммакулата произнесла: — Право, мистер Харрисон, имеет ли смысл утруждать себя… Жестом вежливо попросив монахиню не уходить, Хатч сказал: — Нет, нет. Все в порядке. Просто Регина немного нервничает… — Нисколечко, — возразила Регина. — Да, естественно, нервничаешь. — Нет, совершенно не нервничаю. — Все же есть немного, — примирительно сказал Хатч, — как, впрочем, и мы с Линдзи. Но в этом нет ничего плохого. — Он обезоруживающе улыбнулся Регине. — Ну, так вот… Почти всю свою сознательную жизнь я занимаюсь антикварным делом, так как обожаю прочные, добротные вещи, наделенные каждая своим, сугубо индивидуальным характером; я владелец антикварного магазина, и у меня работают двое служащих. Таким образом я зарабатываю себе на жизнь. Телевизор я тоже не особенно люблю и… — Что это за имя такое, Хатч? — перебила его девочка. И хихикнула, подразумевая, что такое смешное имя может принадлежать скорее говорящему карасю, чем человеку. — Мое полное имя — Хатчфорд. — Все равно смешно. — Это уже не моя вина, а моей матери, — сказал Хатч. — Она всегда надеялась, что мой отец разбогатеет и мы станем сливками общества, а имя Хатчфорд Бенджамин Харрисон звучит как нельзя более аристократично. Единственное, что, по ее мнению, могло бы быть звучнее, — это Хатчфорд Бенджамин Рокфеллер. — Ну и он добился своего? — спросила Регина. — Кто «он» и чего «добился»? — Вашему отцу удалось разбогатеть? Хатч подмигнул Линдзи и сказал: — Вот тебе на! Значит, все дело в финансах? — Если вы богачи, — сказала девочка, — то стоит подумать. Сестра Иммакулата застонала сквозь крепко стиснутые зубы, а Монахиня без Имени откинулась на спинку стула и с выражением покорности судьбе закрыла глаза. Отец Жиминез встал со своего места и, не спрашивая разрешения у Гуджилио, пошел к бару, чтобы налить себе чего-нибудь покрепче «Перье», пепси или имбирного эля. Но так как ни Хатч, ни Линдзи не выразили особой тревоги по поводу вызывающего поведения их подопечной, никто из них не считал себя вправе положить конец этой встрече или, по крайней мере, попытаться урезонить девочку. — Боюсь, что мы не очень богаты, — ответил ей Хатч. — Хотя и не бедны. И особой нужды ни в чем не испытываем. Но на «роллс-ройсах» не разъезжаем и не надеваем смокинги, когда едим черную икру. По лицу девчушки скользнула невольная улыбка, но она быстро погасила ее. — А вы? — взглянув на Линдзи, спросила Регина. Та, смешавшись, несколько раз моргнула, затем, откашлявшись, сказала: — Я — живописец. Художник. — Как Пикассо? — Не совсем в его стиле, но, верно, как и он, художник. — Я однажды видела картину, на которой были нарисованы собаки, играющие в покер. Это вы нарисовали? — Боюсь, что не я, — оказала Линдзи. — Ну и отлично. Глупая картина. А еще я видела быка и тореадора, которые были нарисованы на бархате, и краски были такие яркие-преяркие. Вы рисуете яркими красками по бархату? — Нет, — ответила Линдзи. — Но если тебе это нравится, я могу для твоей комнаты нарисовать на бархате любую картину. Регина недовольно поморщилась. — Господи. Да лучше повесить на стену дохлую кошку. Теперь воспитатели приюта св. Фомы уже ничему не удивлялись. Молодой священник даже улыбнулся, а сестра Иммакулата пробормотала: «Дохлую кошку» — с таким видом, словно соглашалась, что это жуткое украшение и впрямь во много раз предпочтительнее, чем картина на бархате. — Моя манера письма, — сказала Линдзи поспешно, стремясь реабилитировать себя за свое согласие нарисовать столь низкопробную вещицу, — представляет собой слияние неоклассицизма и сюрреализма. Может быть, я говорю несколько выспренно… — Нет, но это тоже не по мне, — решительно заявила Регина с таким видом, будто досконально изучила не только каждый стиль в отдельности, но и прекрасно понимала, каким должно быть их соединение. — Если я перееду к вам жить и у меня будет собственная комната, надеюсь, вы не станете вешать ваши картины на мои стены? Ударение на «ваши» подразумевало, что дохлая кошка и в данном случае будет гораздо предпочтительнее. — Даже и не подумаю, — заверила ее Линдзи. — Хорошо. — А ты бы и вправду хотела переехать к нам? — спросила Линдзи, и Хатч так и не понял, хочется ей этого или такая перспектива ее совершенно не устраивает. Девочка резко дернулась, вставая с кресла, и, не удержавшись на ногах, пошатнулась, грозя рухнуть прямо на кофейный столик. В мгновение ока Хатч также оказался на ногах, готовый удержать ее от падения, хотя прекрасно понимал, что и это движение было частью игры. С видимым усилием восстановив равновесие, она поставила на стол стакан, содержимое которого уже успела выпить, и сказала: — Можно, я пойду пописаю, у меня очень слабый мочевой пузырь. Результат все той же мутации генов. Мне очень трудно сдерживаться. Я почти все время чувствую, что вот-вот меня прорвет в самом неподходящем месте, как сейчас, в кабинете мистера Гуджилио, и с этим вам также придется считаться, если вы все же решите взять меня в свой дом. А у вас он, наверное, полон красивых и дорогих вещей, тем более что вы имеете прямое отношение к актикварному делу и искусству, но вы же не захотите, чтобы я их испортила, сломала или разбила, или, хуже того, обписала какую-нибудь бесценную старинную вещь. Тогда вы точно отправите меня обратно в приют, а я так расстроюсь из-за этого, что заберусь прямо на крышу и бухнусь оттуда головой вниз, но ведь никто из нас не желает столь трагической развязки, правда? Была очень рада с вами познакомиться. Она повернулась и, судорожно подергиваясь при ходьбе, заковыляла по персидскому ковру к выходу, и, как только скрылась за дверью, тотчас послышалось: ссшшурр… шлеп! — возникшее из того же источника, что и чревовещательные речи серебряного карася. Только мелькнули огненным вихрем ее каштановые волосы в проеме дверей. Все молчали, прислушиваясь к медленно удалявшимся шагам девочки. Однажды она довольно громко и, по-видимому, больно стукнулась о стену, но затем храбро возобновила свое размеренное, скребуще-шлепающее движение. — У нее нормальный мочевой пузырь, — заявил отец Жиминез, отпив глоток из стакана, наполненного янтарной жидкостью, явно походившей на виски. — К ее увечью это заболевание не имеет никакого отношения. — Она вовсе не такая, какой была сегодня, — сказал отец Дюран, часто мигая своими совиными глазами, словно они слезились от дыма. — Она прелестный ребенок. Знаю, вам в это трудно сейчас поверить… — И ходит она гораздо лучше, чем вы видели, в тысячу раз лучше, — добавила Монахиня без Имени. — Не знаю, что на нее сегодня нашло. — Я знаю, — сказала сестра Иммакулата, устало проводя рукой по лицу. Глаза у нее были грустными. — Два года тому назад, когда ей было восемь, мы нашли ей приемных родителей. Супружескую пару где-то в возрасте тридцати лет, которым врачи объявили, что у них никогда не будет своих детей. Им удалось убедить меня, что ребенок-калека будет для них даром Божьим. Но спустя две недели после того, как Регина переехала к ним, когда еще не полностью истек испытательный срок, предшествующий полному удочерению, женщина неожиданно забеременела. У них нежданно-негаданно должен был появиться собственный ребенок, и приемное родительство теперь уже потеряло для них всякую привлекательность. — И они привели Регину обратно? — спросила Линдзи. — Вот так взяли и выпихнули ее обратно в приют? Ужасно! — Я не смею осуждать их за это, — сказала сестра Иммакулата. — Очевидно, они посчитали, что не в состоянии будут в одинаковой мере любить своего ребенка и Регину, и мне кажется, что в этом случае они поступили правильно. Регина не заслуживает того, чтобы воспитываться в доме, где каждую минуту ей будут давать понять, что не она первая, что не ей отдана вся любовь, что она здесь посторонняя. Как бы там ни было, она тяжело пережила возвращение. И прошло много времени, прежде чем ей удалось восстановить утраченную уверенность в себе. И теперь, думаю, она просто боится рискнуть еще раз. В кабинете стало тихо. За окнами ярко светило солнце. Лениво покачивались верхушки пальм. В промежутках между деревьями виднелись постройки «Фэшн Айленда», торгового и делового центра Ньюпорт-Бич, на окраине которого находился офис Гуджилио. — Порой в очень тонко чувствующих детях неудача способна убить всякую охоту изменить свое положение. Они больше не приемлют никаких изменений. Всякие попытки что-то изменить отметаются на корню. Боюсь, что с Региной случилось именно это. Она пришла сюда с твердым намерением отвратить вас от себя и свести на нет эту встречу и, скорее всего, добилась своего. — Все это напоминает мне человека, всю жизнь проведшего в тюрьме, — сказал отец Жиминез, — которому неожиданно объявили, что он освобождается досрочно. Он, конечно, весь в радостном ожидании, но вот наступает долгожданная свобода, и он понимает, что не может жить вне тюрьмы. И он совершает какое-нибудь мелкое преступление, лишь бы снова попасть обратно. Тюрьма во всем ограничивает, он ее страшно ненавидит, но она — единственное, к чему он привык и где чувствует себя в полной безопасности. Сальваторе Гуджилио снова заметался по кабинету, собирая у всех пустые стаканы. Он оставался все таким же громадным, как и раньше, но и в отсутствие Регины так и не обрел способность быть центром всеобщего внимания. Он начисто проиграл в этом хрупкой сероглазой девчушке со вздернутым носиком. — Мне очень жаль, — сказала сестра Иммакулата, кладя участливую ладонь на плечо Линдзи. — Не отчаивайтесь. Попробуем еще раз. Я обещаю подобрать вам другого, более подходящего ребенка.Глава 2
Линдзи и Хатч вышли из кабинета Сальваторе Гуджилио в десять минут третьего в тот четверг. Они договорились до ужина ни слова не говорить друг другу о том, чему были свидетелями, не спеша обдумать все, что произошло, и каждому в отдельности разобраться в своих чувствах. Никто из них не хотел принимать скоропалительного решения или, что еще хуже, подталкивать другого к решению по свежим впечатлениям — чтобы потом не сожалеть об этом всю жизнь. Естественно, они даже отдаленно не могли предположить, что все обернется таким образом. И Линдзи не терпелось начать об этом разговор. Она исходила из того, что они уже приняли обоюдное окончательное решение, вернее, решение за них приняласама девочка, и не было никаких причин откладывать разговор. Но так как они договорились подождать и Хатч явно не желал нарушать этот договор, то ей ничего другого не оставалось, как тоже молчать. За рулем их нового, красного цвета «мицубиси» теперь сидела Линдзи. Хатч расположился на пассажирском сиденье, опустив солнцезащитный козырек над лобовым стеклом, и, выставив руку в открытое окно, постукивал ладонью по дверце в такт доносившемуся из радиоприемника старинному рок-н-роллу «Будьте любезны, мистер почтальон» в исполнении группы «Марвелетс». Когда позади остались фиговые пальмы центральной улицы Ньюпорт-Бич, Линдзи свернула влево, на Тихоокеанское береговое шоссе, и помчалась по коридору из увитых плющом стен в южном направлении. День был по-весеннему теплым, а небо — таким иссиня-голубым, что ближе к закату должно было стать совершенно лиловым, как на полотнах Максфильда Перриша. Машин на автостраде было немного, а в лучах солнца океан мерцал и переливался, словно брошенная на землю и укутавшая ее до горизонта осыпанная серебристо-золотыми блестками ткань. В течение почти двух месяцев в сердце Линдзи не угасала тихая радость. Она радовалась жизни, как радуется ей любой ребенок, и чего уже не в состоянии делать взрослый человек, растративший эту свою способность ко времени взросления. Когда-то и она, как и все, тоже ее утратила. Но близость к смерти послужила тем толчком, который вернул ей прежде детскую joie de vivre[139].Двумя этажами ниже Ада, совершенно голый, под одеялом, на засаленном и изрядно помятом матраце, Вассаго проводил дневные часы в глубоком сне. Обычно ему снились окровавленные тела, раздробленные кости, реками текущие кровь и желчь, пирамиды из человеческих черепов. Иногда он видел во сне миллионы умирающих людей, корчащихся в муках на иссохшей земле под черным небом, а он, подобно Князю Тьмы, горделиво шествовал мимо этих скрюченных, агонизирующих тел. Но то, что ему снилось в этот день, было поразительно именно своей заурядностью. Черноволосая, черноглазая женщина в вишневого цвета автомобиле, как бы увиденная глазами мужчины, сидевшего рядом с ней на пассажирском сиденье. Пальмы. Красные цветы буганвилии. Океан в блестках света.
Антикварный магазин Харрисона находился на южной окраине Лагуна-Бич на Тихоокеанском береговом шоссе. Он помещался в выдержанном в стиле арт деко двухэтажном особняке, своеобразно контрастировавшем с выставленными в его просторных витринах старинными, XVIII и XIX веков, вещами. Гленда Докридж, помощница Хатча и заведующая магазином, помогала Лью Бунеру, разнорабочему, вытирать пыль. В большом антикварном магазине вытирать пыль — это то же самое, что красить мост Золотые Ворота: едва доберешься до его конца, как приходится все начинать сначала. Гленда была в отличном расположении духа, так как сумела продать одному и тому же покупателю отделанный золоченой бронзой и покрытый черным лаком шкафчик с выдвижными, также лакированными, ящичками времен Наполеона III и итальянской работы многоугольный столик XIX века с вращающимся верхом, украшенный изящно выполненной мозаичной инкрустацией. Это была отличная сделка — особенно если учесть, что размер ее жалованья зависел от комиссионных. Пока Хатч просматривал дневную почту, более внимательно относясь к одним письмам и, не читая, откладывая в сторону другие, а затем занимался изучением двух дворцовых тумб XVIII века из розового дерева, украшенных инкрустациями в виде нефритовых драконов, которые прибыли от его агента в Гонконге, Линдзи помогала Гленде и Лью вытирать пыль. Даже это обыденное занятие в ее новом состоянии души доставляло ей удовольствие. Оно давало ей возможность по достоинству оценить каждую, даже незначительную деталь той или иной старинной вещи — изящный виток флерона на бронзовой лампе, резьбу на ножке у столика, точно рассчитанные расстояния между отверстиями на ободках фаянсового, ручной работы английского сервиза XVIII века. Размышляя об исторической и культурной ценности каждой вещи, с которой она стирала пыль, Линдзи вдруг поняла, что ее новое отношение к действительности качественно сродни созерцательному, дзэн-буддийскому строю мысли.
В сумерках, почувствовав приближение ночи, Вассаго проснулся и сел на матраце в своем, похожем на могилу, доме. Его переполняли жажда умереть и желание убивать. Последнее, что он запомнил из своего сна, была женщина из вишневого автомобиля. Теперь она уже не сидела в машине, а стояла в каком-то просторном помещении перед китайской ширмой и протирала ее белой тряпкой. Вот она обернулась, словно он позвал ее, и улыбнулась ему. Улыбка была такой лучистой и жизнерадостной, что Вассаго захотелось ударить ее по лицу молотком выбить ей зубы, размозжить голову, сделать так, чтобы она уже никогда не смогла улыбаться. За последние несколько недель она уже несколько раз являлась ему во сне. Первый раз он увидел ее в кресле-каталке, она смеялась и плакала одновременно. В который уже раз он снова стал рыться в своей памяти, пытаясь отыскать в ней это лицо, но, кроме как во снах, он никогда и нигде его не видел. Он не знал, ни кто она, ни почему постоянно ему снится. Снаружи уже опустилась ночь. Он почувствовал ее приход. Огромный черный покров — прелюдия к смерти, — набрасываемый на землю в конце яркого и солнечного дня. Он оделся и покинул свое логово.
К вечеру того же дня, около семи часов, Линдзи и Хатч пришли в «Зов», небольшой, но бойкий ресторанчик в Тастине. В оформлении его доминировали белая и черна краски, но отсутствие других красок компенсировалось большими окнами и массой зеркал. В просторном, вытянутом в длину помещении бесшумно сновали официанты, неизменно предупредительные и расторопные и, так же как и все вокруг, затянутые в черно-белое. Пища, которую они подавали посетителям, была столь отменного качества, что обилие черно-белого вокруг меркло от разнообразия вкусовых ощущений. Умеренный шум в зале не раздражал. Так как им при разговоре не надо было повышать голоса, чтобы слышать друг друга, шум этот скорее походил на невидимые перегородки, и они чувствовали себя так, словно были наедине друг с другом. В течение первых двух блюд — салат из осьминога, фасолевый суп — они говорили о пустяках. Но когда на столе появилось основное блюдо — меч-рыба, Линдзи не вытерпела. — Ну ладно, — сказала она, — у нас был целый день, чтобы все тщательно обдумать. Никто из нас не навязывал другому своего мнения. Итак, что скажешь о Регине? — А ты что скажешь о Регине? — Нет, ты первый. — Но почему я? — А почему не ты? — резонно заметила Линдзи. Хатч набрал в грудь побольше воздуха, выдержал паузу и сказал: — Я от нее без ума. Линдзи едва удержалась от того, чтобы не пуститься в пляс, как это делают герои мультфильмов, когда хотят выразить переполняющую их радость, так как ликованию ее не было пределов, оно так и било через край. Именно о такой его реакции она мечтала, но никак не могла представить себе, какими конкретными словами он это выразит, тем более что встреча прошла… мягко говоря, «обескураживающе». — Господи, я сразу же в нее влюбилась, — сказала Линдзи. — Она прелесть. — Крепенький орешек. — Это все напускное. — Понятно, что она явно перестаралась, но тем не менее она действительно крепкий орешек. Да и как тут не быть орешком. Сама жизнь заставила ее стать такой. — Но это прекрасная крепость. — Несомненно, — согласился Хатч. — Я же не говорю, что ей удалось убедить меня в своей ущербности. Наоборот, я был от нее в диком восторге, она, как только вошла, сразу мне приглянулась. — А какая умница! — Все пыталась изобразить из себя страхолюдину, а добилась прямо противоположного эффекта. — Бедное дитя. Боялась, что ее снова оттолкнут, и решила сама это спровоцировать. — Когда я услышал ее шаги, подумал, что это… — Годзилла[140]! — воскликнула Линдзи. — Да, примерно что-то в этом роде. А как тебе Бинки, говорящий карась? — Обкакаю весь твой майонез! — процитировала Линдзи. Они расхохотались, и люди оглянулись на них, то ли потому что смех их был чересчур громким, то ли потому что услышали именно слова Линдзи, отчего они стали смеяться еще пуще. — С ней обохохочешься, — заметил Хатч. — Она просто дар Божий. — Ну это еще как сказать. — Не сомневаюсь. — Одна маленькая загвоздка. — В чем именно? Он замялся. — А что, если она не захочет пойти к нам? Улыбка застыла на лице Линдзи. — Она захочет. Обязательно захочет. — А вдруг нет? — Не будь пессимистом. — Я только хочу, чтобы мы были ко всему готовы. Линдзи упрямо тряхнула головой. — Нет, все будет хорошо. Не может не быть. Нам уже и так слишком долго не везло. Должна же и нам в конце концов улыбнуться удача. Колесо фортуны вертится в нашу сторону. Мы снова создадим семью. И заживем лучше, чем прежде, намного лучше. Худшее уже позади.
К вечеру того же четверга Вассаго наслаждался удобствами номера в мотеле. В качестве туалета он обычно использовал раскинувшиеся вокруг покинутого парка аттракционов поля. Каждый вечер он умывался водой, которую предварительно заливал в бутылку, и жидким мылом. Брился он опасной бритвой, намыливая щеки аэрозольной пеной из тюбика и глядя в осколок зеркала, который он нашел в заброшенном парке. Если ночью шел дождь, он умывался прямо наверху, подставляя голое тело под его струи. Когда бушевала гроза и в небе полыхали молнии, он забирался на самую высокую точку на совершенно открытом месте, надеясь получить милость из рук Сатаны, который призовет его в землю мертвых, поразив ударом одной из своих молний. Но сезон дождей в Калифорнии уже кончился, а новая полоса дождей начнется где-то ближе к декабрю. Если он заслужит быть призванным в страну мертвых и проклятых до этого времени, то, скорее всего, силы, которые помогут ему распрощаться с этим ненавистным миром, изберут для этого другое, отличное от молнии средство. Один раз в неделю, а иногда и дважды он снимал номер в мотеле, чтобы помыться под душем и привести в порядок свою одежду, чего он не мог сделать в примитивных условиях своего временного жилища, но не потому что заботился о гигиене своего тела. Грязь была ему в тысячу раз милее. Воздух и воды царства теней Гадеса были сплошь пропитаны грязью. Но если ему пока еще предстоит пожить в мире живых и за их счет пополнять свою коллекцию, откроющую ему доступ в царство проклятых, то необходимо соблюдать определенные условности поведения, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Одной из таких условностей была чистота. Вассаго неизменно останавливался в одном и том же мотеле «Голубые небеса», убогой дыре на южной окраине Санта-Аны, где вечно небритый клерк за грязной конторкой принимал только наличные, не спрашивая никаких имен, не задавая лишних вопросов и даже не глядя в лицо посетителям, то ли потому, что боялся, что может прочесть в их лицах то, что не должен был бы увидеть, то ли что они могут прочесть в его лице то, что им не следовало бы знать. Место кишело торговцами наркотиками и проститутками. Вассаго был одним из тех немногих, что шел в номер один, никого не ведя за собой. Он оставался в номере не больше одного или двух часов, ровно столько, сколько требовалось среднестатистическому клиенту, и пользовался тем же правом на анонимность, как и те, кто, сопя и потея, скрипели пружинами кроватей в смежных с ним номерах. Да он и не мог оставаться там дольше хотя бы потому, что неумолчные звуки бесконечных актов совокупления потаскух со своими обожателями вызывали в нем жгучую ярость, наполняли его тревогой и отвращением к этим исступленным ритмам жизни. В такой обстановке невозможно было ни думать, ни отдыхать, хотя извращенность и полное сумасбродство, царившие здесь, были именно тем, чем он упивался раньше, когда был одним из живущих. Никакой другой мотель или общежитие не в состоянии были обеспечить такую безопасность, как этот. Во всех других необходимо было предъявлять какое-нибудь удостоверение личности. Но главное: он мог сойти за одного из живущих только при условии мимолетного с ними общения. Любой клерк или хозяин пансиона, стоит ему чуть глубже заинтересоваться его персоной и привычками или столкнуться с ним более одного раза, обязательно заподозрит в нем что-то неладное, не поддающееся точному определению, но явно внушающее опасение и страх. Поэтому, чтобы напрочь исключить возможность повторной встречи с кем бы то ни было, он избрал местом своего постоянного обитания заброшенный парк аттракционов. Если бы властям вздумалось его искать, они бы искали его где угодно, но только не здесь. И еще, в заброшенном парке он был предоставлен самому себе, здесь всегда царила гробовая тишина и было много укромных и абсолютно темных мест, где он мог отсиживаться в дневное время, так как глаза его не выносили яркого солнечного света. В тот по-весеннему теплый вечер четверга, когда он выходил из конторы мотеля «Голубые небеса» с ключом от своего номера, он заметил знакомый «понтиак», припаркованный в тени здания в конце стоянки, но развернутый передом не в сторону мотеля, а к конторе. Машина стояла на том же месте, что и в прошлое воскресенье, в самое последнее посещение Вассаго «Голубых небес». За рулем его, сгорбившись, сидел мужчина, то ли спал, то ли просто коротал время, ожидая кого-то. Как и в прошлое воскресенье, его черты трудно было разглядеть в мареве тусклого света, отражавшегося в ветровом стекле его автомобиля. Вассаго припарковал свой «камаро» на стоянке перед Г-образным зданием мотеля и прошел в свой номер. С собой у него был только костюм на смену — как и все, что он носил, также черного цвета. Зайдя в номер, он не зажег света. Как всегда. Некоторое время постоял, прислонившись спиной к двери, размышляя о «понтиаке» и о его владельце за рулем. Он мог быть кем угодно, например торговцем наркотиками, продающим свой товар прямо из автомобиля. Число этих темных личностей, вертевшихся вокруг мотеля, во много раз превышало количество тараканов внутри него. Но если он торговец, то почему рядом с ним не видно ни одного из клиентов с бегающими по сторонам глазками и толстыми пачками засаленных денег? Вассаго бросил сменный костюм на кровать, положил свои солнцезащитные очки в карман куртки и прошел в маленькую ванную комнату. В ней пахло слабо разбавленным дезинфицирующим средством, совершенно не убивавшим букет отвратительных, устоявшихся, терпких запахов. Четырехугольник бледного света вверху обозначил оконце на задней стене комнаты. Отодвинув раздвижную стеклянную дверь, со скрежетом скользнувшую по проржавевшим направляющим, Вассаго вошел в душевую. Если бы оконце было закреплено или разделено надвое рамой, у него ничего бы не вышло. Но ржавые петли свидетельствовали о том, что оно открывалось наружу. Толкнув его и ухватившись руками за подоконник над головой, он протиснулся в оконце и неслышно соскользнул на пожарную аллею позади мотеля. Остановился, чтобы надеть свои солнцезащитные очки. Ближайший натриевый фонарь отбрасывал круг желтого, как моча, света, резавшего ему глаза, словно их запорошил сухой песок. Очки, превратив свет в янтарный, сняли резкую боль в глазах, и он стал видеть лучше. Затем он двинулся вперед, прошел до конца здания, повернул направо на боковую улочку, затем, у следующего угла, снова направо, обогнув тем самым мотель. Скользнув за короткую часть Г-образного здания, он пошел по крытой пешеходной дорожке, бежавшей вдоль стоянки, до тех пор пока не оказался позади «понтиака». В этой части мотеля все было спокойно. Никто не входил и не выходил из своих номеров. Мужчина за рулем сидел, выставив руку из открытого окошка. Если бы он посмотрел в боковое зеркальце, он, может быть, и заметил бы крадущегося к нему сзади Вассаго, но его внимание было сосредоточено на комнате номер шесть в другом крыле Г-образного здания. Вассаго с силой рванул на себя дверцу, и шофер, опиравшийся на нее всем телом, ехал вываливаться из машины. Вассаго, используя локоть как таран, нанес ему сильнейший удар в лицо, но, видимо, недостаточно сильный, чтобы тот потерял сознание. Шофер был потрясен ударом, но тем не менее попытался вскочить на ноги и броситься на Вассаго. Но он был толст и медлителен. Удар коленом в пах мгновенно пресек его намерения. Когда он, ловя воздух широко открытым ртом, грохнулся на колени, Вассаго ударил его ногой. Незнакомец упал на бок, и Вассаго снова ударил его ногой, на этот раз в голову. Мужчина, распластавшись на асфальте, затих, потеряв сознание. Услышав испуганный вскрик, Вассаго обернулся и увидел светловолосую, с жеманными кудряшками шлюху в мини-юбке и мужчину средних лет в дешевом костюме и нелепом парике. Они как раз выходили из ближайшего номера. Оба они сначала уставились на лежавшего на асфальте мужчину. Затем как по команде перевели взгляд на Вассаго. Он, в свою очередь, в упор уставился на них и смотрел до тех пор, пока они не вошли обратно в свой номер и не прикрыли за собой дверь. Потерявший сознание мужчина был очень тяжелым и весил явно больше двухсот фунтов, но Вассаго без труда поднял его. Перетащив обмякшее тело на другую сторону «понтиака», он опустил его на переднее сиденье. Затем сам сел за руль, включил зажигание и поехал прочь от «Голубых небес». Проехав несколько переулков, свернул на улицу, по обеим сторонам которой стояли частные дома с приусадебными участками, построенные более тридцати лет тому назад и заметно обветшавшие. Вдоль перекошенных временем тротуаров росли лавры и эритрины, придававшие дряхлеющему кварталу своеобразный шарм. Вассаго остановил «понтиак» у обочины. Выключил мотор и фары. Так как поблизости не было уличных фонарей, он снял свои темные очки и стал обшаривать карманы полулежавшего рядом с ним на переднем сиденье мужчины. Под пиджаком в кобуре у него под мышкой обнаружил заряженный револьвер. Переложил в свой карман. В пиджаке у незнакомца оказалось два бумажника. В первом, толстом, было триста долларов наличными, которые Вассаго изъял в свою пользу. Кроме этого было несколько кредитных карточек, фотографии неизвестных ему людей, квитанция из химчистки, отрывной талон из молочного магазина на бесплатное получение призовой бутылки йогурта взамен купленных там ранее десяти других бутылок, водительские права, из которых он узнал, что мужчину звали Мортон Редлоу, проживающий в Анагейме, и разная другая мелочь. Второй бумажник был совсем тонкий и фактически оказался не бумажником, а кожаным переплетом двух удостоверений. Удостоверение личности было выписано на имя Редлоу и являлось патентом на ведение частного сыска, а другое удостоверение было разрешением на ношение личного оружия. В бардачке Вассаго обнаружил только леденцы и детективный роман. Между сиденьями — жевательную резинку, мятные таблетки от дурного запаха, еще леденцы и помятый атлас Оранского округа. Некоторое время он внимательно листал атлас, затем включил мотор и отъехал от обочины. Направлялся он в Анагейм, по адресу, указанному в водительском удостоверении Редлоу. Спустя некоторое время Редлоу застонал и, приходя в сознание, задвигался на своем месте. Придерживая руль одной рукой, Вассаго другой вытащил револьвер, изъятый им у частного детектива, и рукояткой наискось ударил его по голове. Редлоу снова затих.
Глава 3
Одним из пятерых детей, сидевших вместе с Региной за столом в обеденном зале, был Карл Кавано восьми лет, поведение которого полностью соответствовало его возрасту. У него был паралич нижних конечностей, и он мог передвигаться только с помощью коляски, что уже само по себе тяжко для ребенка, но жизнь его была еще невыносимей из-за его патологической глупости. Как только на столе появились тарелки, Карл сказал: — Обожаю вторую половину пятницы, а знаете почему? — и не дожидаясь ответа, продолжал: — Потому что по четвергам нам на обед дают бобы и гороховый суп и к полудню в пятницу можно обпердеть всю округу. Его соседи по столу аж застонали от отвращения. Регина же даже ухом не повела. Пусть Карл был трижды идиотом, но заметил он верно: на обед по четвергам им действительно всегда давали суп из лущеного гороха, ветчину, зеленые бобы, отварной картофель, приправленный растительным маслом, а на десерт — четырехгранник фруктового желе с белой нашлепкой наверху из какой-то подслащенной дряни, призванной имитировать взбитые сливки. Иногда монахини, ошалевшие от долголетнего пребывания в своих удушающих одеждах или просто от того, что им приспичило, ударялись в загул, и если это попадало на четверг, то зеленые бобы заменялись кукурузой, а если загул был диким, к желе подавали ванильное печенье. В тот четверг меню не содержало никаких сюрпризов, но Регине было совершенно безразлично, чем их сегодня кормят, она наверняка не обратила бы внимания на то, что перед ней поставят на столе: изысканное блюдо из нежнейшей вырезки или коровью лепешку. Положим, коровью лепешку она, может быть, все-таки заметила бы, но тогда ей было бы и вправду все равно, что есть: что коровью лепешку, что зеленые бобы, которые она ненавидела всей душой. Зато ветчину обожала. И явно покривила душой, когда заявила Харрисонам, что была вегетарианкой, придумав это вранье специально для того, чтобы заставить тех сразу, с самого начала, отказаться от нее, а не потом, много позже, когда этот отказ ударит гораздо больнее и невыносимее. И потому сейчас была настолько поглощена своими мыслями, что, пока ела, совершенно не обращала внимания ни на то, что ела, ни на то, что творилось за столом вокруг нее. Надо же, взять и все испоганить. В честь таких дур, как она, скоро, видимо, откроют Музей знаменитых обормотов, и ее статуя положит начало экспозиции, и люди будут приезжать со всех концов света, из Франции, и Японии, и Чили, чтобы хоть одним глазком взглянуть на нее. Станут приходить школьники, целыми классами вместе со своими учителями, чтобы на ее примере научиться, как не следует вести себя и что не следует говорить. Родители будут тыкать в нее пальцами и зловещими голосами предупреждать своих чад: — Как только возомнишь себя умнее других, вспомни о ней и подумай, чем можешь кончить, когда станешь всеобщим посмешищем, достойным только презрения и жалости. Когда встреча уже подходила к концу, до нее дошло, что Харрисоны были не те, за кого она их принимала. Скорее всего, они никогда так жестоко не обойдутся с ней, как Недоброй Памяти Доттерфильды, парочка, поначалу пожелавшая удочерить ее и взявшая ее даже к себе в дом, но тотчас отказавшаяся от нее две недели спустя, когда обнаружилось, что у них должен появиться на свет собственный ребенок — явно сатанинское отродье, которое в один прекрасный, а вернее, страшный день уничтожит и весь мир, и самих Доттерфильдов в придачу, заживо изжарив их огнем, который, как из огнемета, будет вылетать из его маленьких поросячьих глазок. (Ой-ой-ой! Не возжелай худа ближнему своему. Даже думать об этом не смей, ибо мысль так же страшна, как и само деяние. Надо запомнить это для исповеди.) Харрисоны и впрямь оказались другими, и она начала понимать это — дура, слишком поздно! — а полностью убедилась тогда, когда Харрисон довольно удачно схохмил насчет черной икры и смокинга, показав, что обладает истинным чувством юмора. Но к этому времени она настолько вошла в свою роль несносного ребенка, что уже не могла остановиться — ну не дура разве? — и пойти на попятную. Сейчас Харрисоны скорее всего на радостях где-нибудь накачиваются вином и виски и благодарят судьбу, что так легко отделались от нее, или стоят коленопреклоненные в церкви, плача от счастья и вознося благодарственные молитвы Божьей Матери за ее заступничество, за то, что вовремя наставила их на путь истинный и своим вмешательством оградила их от неразумного решения удочерить этого ужасного ребенка, на которого глаза бы мои не глядели! Засранка! (Оп-ля! Вульгаризм. Но все-таки не так страшно, как поминать имя Господа всуе! Стоит ли в таком случае упоминать об этом на исповеди?) Несмотря на то что у нее не было аппетита, к чему топорный юмор Карла Кавано, впрочем, не имел никакого отношения, она съела весь свой обед, так как, не сделай она этого, полицейские во Христе, монахини, ни за что бы не позволили ей выйти из-за стола, оставив в тарелке хоть немного недоеденной пищи. Во фруктовое желе на этот раз входили персики и лаймы[141], что в целом превращало десерт в тяжелейшее испытание. Она никак не могла взять в толк, какому умнику пришло в голову, что лаймы и персики могут мирно сосуществовать друг с другом в одном и том же блюде. Ладно, пускай монахини не от мира сего, но она же не просит, чтобы они выучили, какие сорта вин подавать к жареному мясу, черт их дери! (Прости меня, Господи.) Ананасы с лаймом в желе — это понятно. Груши с лаймом тоже неплохо. Даже бананы с лаймом в желе еще куда ни шло. Но класть в желе персики с лаймом, с ее точки зрения, было равносильно тому, чтобы вынуть из рисового пудинга все изюминки и заменить их арбузными ломтиками, черт бы их всех побрал! (Прости меня, Господи.) Все же она съела весь десерт, уговорив себя, что могло бы быть и хуже: например, монахини подали бы им дохлых мышей в шоколаде, хотя с чего это вдруг монахиням заблагорассудится сделать это, она понятия не имела. Тем не менее уловка представить себе нечто худшее, чем то, что ей предстояло, удалась, как, впрочем, и во всех многочисленных других случаях, когда она пользовалась этим средством самоубеждения. Вскоре ненавистное желе кончилось, и ей было разрешено наконец покинуть свое место за столом. После обеда большинство детей обычно спешили в комнату отдыха, где они играли в «Монополию» и другие игры, или в телевизионную — с открытым ртом внимать любой лапше, которую им обильно вешали на уши с голубого экрана; она же, как всегда, пошла в свою комнату. Большинство вечеров она проводила за книгой. Но не сегодня. Сегодняшний вечер она проведет, жалея себя и тщательно исследуя свой новообретенный статус вселенской дуры (хорошо все-таки, что глупость не грех), чтобы на веки вечные запомнить, как по-ослиному глупо она себя вела, и чтобы больше такого с ней никогда не повторилось. Резво шагая по выложенным кафельной плиткой коридорам, почти так же быстро, как нормальный ребенок со здоровыми ногами, она вспомнила, как прихромала в кабинет адвоката, и покраснела. Войдя в свою комнату, которую занимала вместе со слепой девочкой по имени Винни, она плюхнулась на постель и, улегшись на спину, вспомнила, с какой продуманной неуклюжестью садилась она в кресло перед Харрисонами. Воспоминание заставило покраснеть ее еще гуще, и она прижала обе ладошки к горящему лицу. — Рег, — глухо вымолвила она из-под ладошек, — ты в тысячу раз глупее, чем задница самого тупого в мире осла. — (Еще один пунктик для исповеди, вдобавок ко лжи, обману и поминанию черта: использование бранных словечек.) — Засранка, засранка, засранка! — Видно, исповеди теперь конца не будет.Когда Редлоу пришел в себя, мучительные боли в разных частях тела целиком поглотили его внимание. У него так сильно ломило голову, что если бы его показали в рекламном ролике по телевидению, то пришлось бы немедленно строить новые фабрики по производству аспирина, чтобы удовлетворить бешено подскочивший спрос потребителей. Один его глаз припух и открывался с трудом. Губы были разбиты вдрызг и тоже распухли, они онемели и казались огромными. Болели шея и живот, а резкая пульсирующая боль ниже живота от удара коленом совершенно исключала любые попытки встать, и даже сама мысль о движении вызывала у него приступы тошноты. Постепенно он вспомнил, как все произошло, как этому сучонку удалось захватить его врасплох. Но тут до него дошло, что он лежит вовсе не на стоянке у мотеля, а сидит на стуле, и впервые он почувствовал страх. Редлоу не просто сидел на стуле. Он был к нему привязан. Веревки притягивали его грудь и талию к спинке и прочно прижимали к стулу его бедра. Руки были стянуты назад и привязаны к стулу чуть пониже локтей и еще раз на запястьях. Если боль отключила все его другие чувства, то страх мгновенно привел его в себя. Прищурившись правым, здоровым глазом и пытаясь пошире раскрыть заплывший левый, Редлоу стал всматриваться в темноту. Сначала он предположил, что находится в номере мотеля «Голубые небеса» снаружи которого устроил засаду, надеясь застукать этого юнца. Но потом постепенно понял, что находится у себя дома. Хотя в темноте и трудно было что-либо разглядеть. Света нигде не было. Но, прожив здесь восемнадцать лет, он угадал знакомые контуры ночных теней на темных окнах, различил неясные очертания мебели и, конечно же, почувствовал едва уловимый запах родного жилища, который он мог бы отличить от любого другого запаха, как волк отличает свое логово от жилья своих собратьев. Но меньше всего он чувствовал себя сегодня волком. Скорее кроликом, с дрожью в коленках признающим себя загнанной в угол добычей. В какое-то мгновение Редлоу показалось, что он дома один, и он попытался разорвать стягивающие его веревки. И тогда от других теней отделилась еще одна тень и приблизилась к нему. Редлоу видел только черный контур своего врага. Но даже и он, казалось, был воедино слит с контурами неодушевленных предметов, окружавших их обоих, или то и дело менял свои очертания, словно этот человек по своему желанию мог принимать любой вид. Но он знал, что это не галлюцинация, что юнец тут, так как нутром почуял что-то странное, исходящее от него, ту отчужденность, которую отметил в нем еще тогда, четыре ночи тому назад, в воскресенье, когда впервые увидел его у «Голубых небес». — Вам удобно, мистер Редлоу? За последние три месяца, пока рыскал в поисках следов этого подонка, Редлоу много размышлял о нем, пытаясь понять, чем он дышит, чего добивается, что его занимает. Показывая бесчисленное количество раз его фотографии разным людям и сам часами разглядывая их, он всегда пытался представить себе голос, которым мог бы обладать этот парень с таким красивым и одновременно таким отталкивающим лицом. Голос, однако, оказался совершенно не таким, каким представлял его себе сыщик, и был вовсе не похож ни на холодный, плоский голос робота, ни на рычание разъяренного зверя. В нем скорее чувствовалась какая-то успокаивающая, медоточивая слащавость, ласкающая слух, и даже своеобразная благозвучность. — Мистер Редлоу, сэр, вы меня слышите? Более всего Редлоу был обескуражен вежливой учтивостью обращенного к нему вопроса. — Вынужден принести вам свои глубокие извинения, сэр, что пришлось так грубо обойтись с вами, но, как вы сами понимаете, иного выбора у меня не было. Было очевидно, что юнец не язвил и не измывался над ним. С детства он был приучен с уважением и предупредительностью общаться со взрослыми и от этой привычки не желал или не мог избавиться даже в обстоятельствах, подобных данному. Детектива вдруг охватил безотчетный суеверный ужас первобытного человека, находящегося в присутствии существа, способного принимать человеческий образ, но ничего общего с людьми не имеющего. Едва ворочая распухшими губами, отчего слова звучали не совсем внятно, Редлоу спросил: — Ты кто и какого рожна ко мне прицепился? — Вы прекрасно знаете, кто я. — Ни хрена я не знаю. Я даже лица твоего толком не вижу. Да еще гляди, вон какой фонарище ты мне подсадил. Да что ты крутишься тут в темноте? Ты что, мышь летучая, что ли? Включи свет. По-прежнему в виде неясно чернеющего контура юнец еще ближе придвинулся к стулу. Теперь их разделяли всего несколько футов. — Вас наняли, чтобы вы отыскали меня. — Меня наняли, чтобы найти парня по имени Керкбейби. Леонард Керкбейби. Жена подозревает его в супружеской измене. И она права. Каждый четверг он приводит в «Голубые небеса» свою секретаршу. — Видите ли, сэр, мне трудно в это поверить. «Голубые небеса» — это притон для низкопробных мужчин и дешевых женщин, но не место для деловых людей и их секретарш. — А может быть, он получает удовольствие от того, что обращается с ней, как с дешевкой. Кто знает? В любом случае ты не Керкбейби. Я знаю его голос. Он совершенно не похож на твой. К тому же он не так молод, как ты. И главное, он размазня. И вряд ли смог бы так отделать меня, как это удалось тебе. Некоторое время юнец молчал, словно размышляя. И смотрел на Редлоу. Потом начал взад и вперед ходить по комнате. В абсолютной темноте. Не сбавляя скорости, не налетая на мебель, ни разу не наткнувшись на стену. Как потревоженная дикая кошка, с той лишь разницей, что у этой глаза не горели в темноте. Наконец он сказал: — Значит, вы утверждаете, сэр, что вышла большая ошибка? Редлоу сообразил, что его единственный шанс остаться в живых — это убедить парня в наспех придуманной лжи: что у некоего Керкбейби имеется прилипала-секретарша, а озверевшая от ревности жена желает получить доказательство измены, чтобы подать на развод. Он, правда, не знал, каким манером лучше всего преподнести всю эту ерунду. Обычно Редлоу каким-то шестым чувством безошибочно угадывал именно тот тон, с помощью которого ему удавалось заставить большинство людей, с которыми он общался, принять за чистейшую монету даже самую невероятную лапшу, которую он вешал им на уши. Но сейчас все было по-иному. Этот юнец напрочь отличался от других людей, его реакции и мысли были совершенно непредсказуемы. Редлоу решил сыграть под крутого парня, которому море по колено. — Слушай, подонок, если бы я знал, кто ты, или хотя бы видел твою физиономию, то, когда все это кончится, я бы поймал тебя и так врезал промеж ушей, что ты навсегда запомнил бы нашу встречу. Некоторое время юнец молчал, видимо, обдумывая сказанное. Затем сказал: — Хорошо. Я вам верю. У Редлоу отлегло от сердца, и он расслабился, но тотчас вынужден был вновь напрячь мышцы, так как стоило ему немного провиснуть на веревках, как дали о себе знать все его многочисленные болячки. — Плохо, что вы совершенно не подходите для моей коллекции, — сокрушенно сказал юнец. — Какой коллекции? — Нет в вас эдакой жизненной изюминки. — Что ты мелешь? — озадаченно спросил Редлоу. — Все в вас давным-давно выгорело. Разговор принимал неожиданный оборот, и так как Редлоу не понимал, о чем идет речь, то вновь почувствовал себя неуютно. — Простите, сэр, не желая вас обидеть, все же замечу, что вы слишком стары для избранной вами профессии. «Мне ли не знать», — подумал Редлоу. Вдруг он сообразил, что после первой попытки высвободиться из веревок он полностью покорился судьбе. А ведь всего только несколько лет тому назад он без лишнего шума осторожно напряг бы все свои мышцы и постарался бы растянуть стягивавшие его путы. А сейчас он боялся не то что двинуться — пальцем шевельнуть. — Вы, конечно, крепкий мужчина, но в последнее время здорово сдали, пополнели, вон у вас даже брюшко завелось, и реакция уже не та. Если верить вашему водительскому удостоверению, вам уже пятьдесят четыре года, а время, увы, не стоит на месте. Зачем вы продолжаете заниматься частным сыском? — Это единственное, что мне осталось делать, — сказал Редлоу и тотчас сам удивился своему ответу. Он хотел сказать: это единственное, что я умею делать. — Да, сэр, понятно, — сказал юнец, все еще маяча над ним в темноте. — Вы дважды разведены, детей нет, и в вашем доме давно не было женщины. Очень давно. Простите меня, сэр, но я тут немного порыскал по вашей квартире, пока вы были без сознания, хотя знаю, что не должен был этого делать. Еще раз прошу простить мне эту вольность. Но просто мне было интересно, что вы получаете за свою работу, хотелось выяснить, на что вы живете, к чему стремитесь. Редлоу ничего на это не ответил, так как не понимал, к чему тот клонит. Он боялся брякнуть что-нибудь не то, от чего юнец, взбесившись, может наделать много неприятностей. Этот тип был явно помешанным. Никогда не знаешь, от чего он может взбелениться. В течение нескольких месяцев он сам пытался постичь психологию этого сучонка, теперь же, по непонятным пока, видимо, даже ему самому причинам, тот пытается постичь его. Ну и пусть себе чешет языком, авось, у него полегчает на душе, когда выговорится. — Может быть, основная причина — деньги, мистер Редлоу? — Ты имеешь в виду, хорошо ли я зарабатываю? — Именно это, сэр. — Жить можно. — Машина у вас, положим, так себе, и одеты вы, прямо скажем, средненько. — Мне незачем красоваться, — ответил Редлоу. — Не в обиду вам будет сказано, квартирка у вас тоже бедновата. — Может быть. Но зато она не заложена. И все, что здесь есть, — мое. Юнец придвинулся уже совсем близко к стулу, медленно наклоняясь с каждым новым вопросом все ниже и ниже к Редлоу, словно в абсолютной темноте отчетливо различал его лицо и видел, как оно менялось, подергивалось и бледнело и тем самым давало ему возможность определить состояние детектива. Озвереть можно! Даже в темноте Редлоу ощущал это его медленное приближение к себе: все ближе, ближе, ближе. — Не заложена, — задумчиво повторил юнец. — И ради этого вы и живете, в этом смысл вашей жизни? Чтобы в конце гордо заявить, что вы полностью выплатили всю ссуду за это дерьмо? Редлоу хотел было послать его куда подальше, но вдруг сообразил, что взял с ним неверный тон. — И ради этого стоит жить? Неужели только ради этого? Неужели из-за этого вы не захотите умереть, станете цепляться за любую соломинку, лишь бы остаться в живых? Неужели ради этого вы, жизнелюбы, держитесь за свою жалкую, грошовую жизнь — чтобы накопить кое-какое барахло и посчитать, что вы достигли всех жизненных благ, и только после этого можете спокойно умереть? Простите меня, сэр, я этого не понимаю. Не понимаю, и все. Сердце детектива готово было выскочить из груди. Он совершенно запустил его в последнее время: слишком много гамбургеров, слишком много сигарет, слишком много пива и виски. Что этот змееныш хочет ему доказать? Он что, хочет заставить его согласиться умереть? Или просто пытается нагнать на него страху? — Думаю, у вас бывают такие клиенты, которые не хотели бы, чтобы кому-либо, кроме них, было известно, что они вас наняли. Ведь бывают или я не прав? Они платят только наличными. Я верно говорю или я обратился не по адресу? Редлоу откашлялся и попытался выглядеть испуганным. — Да, бывают, конечно. Иногда. — А желание скопить побольше наличных денег не позволяет вам пойти и положить их на счет в банке и тем самым укрыть от налогов некоторую часть своих доходов, да? Юнец теперь склонился так близко к Редлоу, что тот почувствовал на себе его дыхание. Почему-то мысленно он представлял себе, что оно будет мерзким и дурно пахнущим. Но оно пахло шоколадом и леденцами, словно в кромешной мгле тот незаметно засовывал себе в рот конфету за конфетой. — И скорее всего где-нибудь у себя дома вы их держите в надежном месте. Я верно говорю, сэр? Теплая волна надежды погасила бурные всплески холодной дрожи, с головы до ног окатывавшие Редлоу в последние несколько минут. Если дело упиралось в деньги, все будет в порядке, с этим он сможет справиться. Во всяком случае, все обретало хоть какой-то смысл. Теперь, когда стали проясняться истинные мотивы поведения юнца, в конце тоннеля для Редлоу забрезжил свет и он увидел способ, как выкарабкаться из своей беды живым. — Верно, сынок, — сказал детектив. — Деньги есть. Бери их. Бери их и мотай отсюда. Иди на кухню, там увидишь мусорное ведро с полиэтиленовым вкладышем. Подними вкладыш, на дне увидишь пакет из оберточной бумаги, в нем деньги. Правой щеки детектива коснулось что-то холодное и твердое, и он в ужасе отпрянул. — Плоскогубцы, — сказал юнец, и Редлоу почувствовал, как их стальные челюсти захватили его кожу и стиснули ее. — Ты что, рехнулся? Юнец резко крутанул плоскогубцами. Редлоу взвыл от боли. — Не надо, не надо, убери их, сука, ну не надо же, пожалуйста, не надо! Юнец ослабил зажим. Затем и вовсе убрал плоскогубцы и сказал: — Простите меня, сэр, хотел бы, чтобы вам было ясно, что, если в ведре не окажется никаких денег, это очень расстроит меня. И я пойму, что если вы солгали о деньгах сейчас, то, видимо, и до этого говорили неправду. — Они там, — быстро сказал Редлоу. — Ложь еще никогда никому не помогала. Хорошие люди всегда говорят правду. Ведь именно этому вас учили в школе, не так ли, сэр? — Иди, смотри, они там, — с отчаянием, еще не совсем оправившись от новой боли, проговорил Редлоу. Юнец тенью скользнул из гостиной в столовую. Вот его мягкие шаги уже зашуршали по выложенному плиткой полу кухни. Раздался грохот, треск и шуршание выбрасываемого из ведра мусора. До последней нитки взмокший от пота, Редлоу стал буквально источать из себя влагу, когда услышал быстрые шаги возвращающегося в кромешной тьме дома юнца. Вот он снова появился в гостиной, и его темный силуэт мелькнул в бледно-сером четырехугольнике окна. — Как ты можешь видеть в темноте? — спросил детектив, чувствуя, что находится на грани истерики и что вот-вот она вырвется наружу и он будет не в силах справиться с ней. Он и впрямь начинает стареть. — У тебя что, очки ночного видения или какой-нибудь особый армейский прибор? Где это ты им разжился? Оставив его вопрос без внимания, юнец сказал: — Много мне не надо, только на еду и на смену одежды. А деньги достаются не всегда, только когда делаю очередное приобретение для своей коллекции и беру то, что у него в тот момент оказывается в кошельке. Иногда всего лишь несколько долларов. А эта сумма мне сейчас куда как кстати. Даже очень кстати. С ее помощью я смогу продержаться до того дня, пока не отправлюсь туда, где мой истинный дом. Вы знаете, где мой истинный дом, мистер Редлоу? Детектив не ответил. Юнец исчез из виду, перестав маячить на фоне окон. Детектив, прищурившись, всматривался в темноту, пытаясь угадать в ней намек на какое-нибудь движение. — Так знаете, где мой истинный дом, мистер Редлоу? — повторил юнец. Редлоу услышал скрежет отодвигаемой мебели. Скорее всего, это был журнальный столик, стоявший впритык к дивану. — Мой истинный дом — Ад, — сказалюнец. — Я пробыл там совсем недолго. И хочу вернуться обратно. А как вы жили, мистер Редлоу? Как вы думаете, когда я вернусь к себе в Ад, я встречу там вас? — Что ты ищешь? — спросил Редлоу. — Розетку, — ответил юнец и отодвинул еще что-то из мебели. — А-а, вот она где! — Розетку? — недоуменно переспросил Редлоу. — Зачем? Тишину разорвал жужжащий звук: зззззррррр… — Что это? — задыхаясь от страха, спросил Редлоу. — Проверяю, как работает, сэр. — Что работает? — У вас там на кухне полно кастрюль и разных кухонных приспособлений, сэр. Думаю, вы здорово готовите, да? — Юнец выпрямился и снова темным силуэтом замаячил на фоне пепельно-серых оконных рам. — Собственной стряпней вы занялись до второго развода или интерес к ней у вас возник только недавно? — Что это ты там проверял? — снова спросил Редлоу. Юнец подошел вплотную к стулу. — В доме есть еще деньги, — теряя самообладание, сказал Редлоу. Пот теперь катил с него ручьями. Он был весь мокрый, словно на него вылили несколько ведер воды. — В спальне. — Юнец не отходил от стула, таинственный, едва различимый в темноте, больше похожий на тень, чем на человека. Он казался темнее окружавшего их мрака, черная дыра с голосом человека, черная, зияющая, нечеловеческая пустота. — В ч-ч-чулане. П-п-пол там д-д-дощатый. — Мочевой пузырь детектива, казалось, вот-вот лопнет. Как воздушный шар, он раздулся в одно мгновение. Еще миг, и его прорвет. — Убери с пола ботинки и всякую дребедень, все, что там валяется. Подними крайние д-д-доски. — Сейчас он описается. — Там лежит коробка. В ней тридцать тысяч долларов. Возьми их. Пожалуйста. Возьми и уходи. — Спасибо, сэр, но мне действительно не нужно так много. Того, что у меня есть сейчас, мне хватит надолго. — Господи, помоги мне, — взмолился Редлоу и тут же с отчаянием понял, что впервые за все эти долгие-долгие годы обратился к Богу, о котором и думать-то уже позабыл. — Давайте все же выясним, на кого вы работаете, сэр. — Я же тебе сказал… — Но я обманул вас, когда сказал, что верю вам. Зззззррррр… — Что это? — в страхе вскрикнул Редлоу. — Проверяю, как работает. — Проверяешь, как что работает, черт тебя дери?! — Ну что ж, работает отлично. — Что, что это, что работает отлично? — Электронож для разделки мяса, — ответил юнец.
Глава 4
Хатч и Линдзи не спеша возвращались домой после обеда и потому ехали не по скоростному шоссе, а по дороге, бежавшей на юг из Ньюпорт-Бич вдоль побережья, слушая по приемнику на коротких волнах музыкальную передачу радиостанции «К-Земля» и дуэтом подпевая старинным блюз-шедеврам «Новый Орлеан», «Шепчутся колокола», «Калифорнии снится». Линдзи уже и не помнила, когда они в последний раз пели вместе под аккомпанемент транслировавшихся но радио музыкальных мелодий, хотя прежде делали это довольно часто. Когда Джимми было три года, он знал наизусть все слова «Мелочной женщины». В четыре он уже пел «Пятьдесят способов обмануть любовника», ни разу не сбиваясь с такта и не пропуская ни одного слова. Впервые за пять лет она вспомнила о Джимми и при этом не перестала петь. Жили они в Лагуна-Нигуэль, южнее Лагуна-Бич, на восточном склоне одного из прибрежных холмов, без вида на океан, зато наслаждаясь всеми преимуществами такого близкого соседства: морские ветры умеряли летнюю жару и смягчали пронзительный зимний холод. Район, где они обитали, как и все остальное, что возводилось в южном округе, был настолько тщательно продуман, что временами казалось, будто его проектировщики пришли к землеустройству, имея в запасе солидное военное образование. Но грациозные изгибы мостовых, железные уличные фонари с искусственной, под медь, прозеленью, продуманно-случайный разброс по территории пальм, джакаранд и смоковниц, поддерживаемые в образцовом порядке зеленые насаждения с ухоженными клумбами, радующими глаз радужными красками цветов, — все это успокаивало душу и совершенно не раздражало строгой своей упорядоченностью. Как художник, Линдзи верила, что человеческие руки способны в такой же степени творить великую красоту, что и природа, и что для создания настоящего произведения искусства требуется жесткая внутренняя собранность, ибо искусство в хаосе жизни призвано обнаружить организующий этот хаос, скрытый от взоров космос, порядок. И потому она с уважением относилась к стремлению проектировщиков, тративших на это немало времени, привести в соответствие с единым замыслом общий стиль жилого массива, вплоть до рисунка на стальных решетках у водосточных канавок. В их двухэтажном особнячке, куда они переехали жить сразу же после смерти Джимми, выдержанном в итало-средиземноморском стиле, как, впрочем, и весь жилой массив, было четыре спальные комнаты плюс еще одна небольшая, уютная комнатушка. Наружные стены дома были отштукатурены и окрашены в кремовый цвет, крыша выложена мексиканской черепицей. Как часовые на посту, по обеим сторонам главной дорожки, ведущей к дому, стояли две огромные смоковницы. Подсвеченные разноцветными огоньками на фоне ярко-красных кустов азалии цвели на клумбе петунии. Когда они подъезжали к гаражу, по радио звучали заключительные аккорды блюза «Ты призвал меня». Ожидая своей очереди в ванную, Хатч развел огонь в камине, а Линдзи, пока он принимал ванну, приготовила два виски со льдом. Они уселись на диван перед огнем и вытянули ноги на большой пуф одного цвета с диваном. Дорогая мебель в доме была ультрасовременной, с мягкими, округленными линиями контуров, светлых естественных тонов. Она изящно гармонировала с множеством старинных вещей и развешанными по стенам картинами Линдзи и одновременно служила им ненавязчивым, естественным фоном. Мягкий удобный диван располагал к дружеской беседе и, как неожиданно выяснила для себя Линдзи, к желанию сидеть на нем, тесно прижавшись друг к другу. К ее удивлению, это желание быстро переросло в объятия и нежные поцелуи, за которыми тотчас последовали более требовательные и откровенные ласки. Господи, мы словно влюбленная парочка. И вдруг ее охватила такая томительная страсть, какую она бог весть когда испытывала в последний раз. Медленно, как в кино, где одно изображение, изменяясь, накладывается на другое, исчезала с их тел одежда, пока они не остались совершенно нагими, не заметив, как это произошло. И затем, так же непостижимо, они, освещаемые мерцающими бликами огня, слились в едином, всепоглощающем ритмичном движении. Дивная естественность его постепенного течения, от мечтательно-мерного поначалу ж кипуче-настойчивому в конце, разительно отличалась от тех вымученных актов половой близости — больше походивших на обязательное исполнение супружеского долга, чем на акт любви, которыми они занимались в течение последних пяти лет, и Линдзи все это казалось сновидением, словно в сознании ее прокручивалась лента одного из эротических фильмов Голливуда. Но когда она касалась руками его твердых рук, широких плеч и мускулистой спины, когда ее тело вздымалось навстречу каждому его движению, когда наконец она достигла наивысшей точки блаженства, когда почувствовала, как содрогнулось его тело и из твердого, как сталь, превратилось в текучее, как расплавленный металл, и мягкое и податливое, как шелк, она вдруг всем своим естеством ощутила, что это не сон. Сумеречным сном, от которого она только сейчас, широко открыв глаза, по-настоящему пробудилась, были все эти долгие пять лет, и вот только что она наконец полностью стряхнула его с себя. Сном было то жалкое подобие жизни, которую она влачила все эти годы, тяжким, кошмарным сном, так нежданно-негаданно счастливо окончившимся. Оставив разбросанную по всей гостиной одежду лежать на полу, они поднялись наверх и снова предались любви, на этот раз на необъятной, как океан, китайской кровати, но уже не с тем неистовством и самозабвением, как прежде, а с текучей медлительностью, с обилием нежных слов, ласкающих ухо своей напевностью и смыслом. Неспешный ритм позволял ощутить прелестную мягкость кожи, великолепную пластичность мышц, податливость губ и радостное, близкое биение их сердец. Когда волна наслаждения поднялась до высшей точки и отхлынула, прозвучавшие в наступившей тишине слова «Я люблю тебя» были, казалось, совершенно излишними, но все равно приятно ласкали слух и были с благодарностью приняты. Тот апрельский день, с первых лучей солнца и до того мгновения, когда сон сомкнул их веки, был самым лучшим днем их жизни. И по иронии судьбы последовавшая вслед за ним ночь оказалась для Хатча самой тяжкой, жуткой и странной.К одиннадцати часам Вассаго покончил с Редлоу и надлежащим образом распорядился его телом. В «Голубые небеса» он вернулся на «понтиаке» детектива, принял горячий душ, как планировал ранее, сменил одежду и вышел с намерением никогда больше сюда не возвращаться. Если Редлоу смог вычислить этот мотель, он уже переставал быть полностью безопасным. Проехав несколько кварталов на «камаро», Вассаго бросил машину на какой-то улице в захудалом индустриальном районе среди обветшалых зданий, где она может простоять в течение нескольких недель, прежде чем ее либо угонят, либо полиция свезет ее на участок невостребованных машин. Он проездил на «камаро» ровно месяц, изъяв его у одной из женщин после очередного пополнения своей коллекции. За это время он несколько раз менял номерные знаки, снимая замену со стоявших на улицах машин в предрассветные, самые глухие часы ночи. Добравшись до мотеля пешком, Вассаго пересел в «понтиак» Редлоу и отъехал на нем от «Голубых небес». Автомобиль выглядел не столь привлекательно, как серебристый «камаро», но Вассаго решил, что несколько недель он сможет им пользоваться без особых помех. Подъехав к ночному клубу неопанков в Хантингтон-Бич под названием «Дуй напролом», он припарковал свою машину в самом темном месте стоянки. Пошарив в багажнике, нашел ящик с инструментами, с помощью отвертки и плоскогубцев снял номерные знаки и сменил их на номерные знаки стоявшего рядом изрядно помятого серого «форда». Затем перегнал свою машину на другой конец стоянки, где и остановился. Вязкий туман, наплывавший с моря, таил в себе что-то мертвящее. Пальмы и телеграфные столбы постепенно исчезали, словно растворялись в его кислотной гуще, обступавшей их со всех сторон, а уличные фонари постепенно превращались в блуждающие во мраке призрачные огоньки. В клубе все было так, как он любил. Шумно, грязно и темно, не продохнуть от дыма, отовсюду несет перегаром и потом. Оркестранты что есть мочи колотят по своим инструментам, вкладывая в каждый удар всю ярость, на которую способны, отчего мелодия превращается в надтреснуто-визгливый душераздирающий вопль, бешено вколачивающий свои ритмы в обалдевшие мозги. Каждый исполняемый номер доводился усилителями до такой мощности, что в замусоленных окнах дребезжали стекла, а глаза Вассаго наливались кровью. Шумная орава юнцов и девиц была под стать музыке, многие из них под кайфом, некоторые в стельку пьяные, большинство настроены агрессивно. В одежде преобладал черный цвет, поэтому Вассаго здесь никак не выделялся. И он оказался не единственным в темных очках. Головы некоторых из них, и мужчин и женщин, были обриты наголо, у других волосы торчали короткими хохолками, но ни у кого из них уже не было тех роскошных, ярко раскрашенных шипов и петушиных гребешков, которым отдавали предпочтение ранние панки. На забитой до отказа людьми танцевальной площадке не столько танцевали, сколько толкали, хамили и лапали друг друга, и по всему было заметно, что никто из них не умел толком танцевать, да и не желал этому учиться. У изрезанной, заплеванной и засаленной стойки Вассаго молча ткнул в «Корону», один из шести сортов пива, выстроенных в шеренгу на полке в баре. Заплатил бармену за бутылку и даже не подумал перекинуться с ним словечком. Тут же стал прямо из горла потягивать пиво, внимательно разглядывая публику. Только некоторые из посетителей, стоявшие у бара, сидевшие за столиками или подпиравшие плечами стены, разговаривали друг с другом. Большинство были угрюмы и молчаливы, но не потому, что ревущая музыка не поощряла к беседе, а потому, что они были представителями новой волны отчужденного человека, чурающегося не только общества в целом, но и себе подобных. Они были убеждены, что в жизни нет никаких целей, кроме удовлетворения своих личных потребностей, что не существует ничего, что стоило бы обсуждать, что они — последнее из живущих в разваливающемся мире поколений и что у них нет будущего. Он бывал и в других барах неопанков, но только два из них во всей округе вплоть до Лос-Анджелеса — района, который типы из Торговой палаты до сих пор предпочитают называть Территорией Юга, — были высочайшего класса. Многие из других баров в основном были рассчитаны на публику, мнящую себя панками, так же, как, например, дантисты или бухгалтеры, напялив на себя сшитые по заказу у сапожника сапоги для верховой езды, клетчатую рубашку, линялые джинсы и неохватной ширины шляпы, вразвалочку топают в сельский бар и мнят себя ковбоями. В этом баре никто из себя ничего ее корчит и, случайно столкнувшись с вами в толпе, мерит вас наглым, вызывающим взглядом, стремясь угадать, чего вы ищете, — ссоры или секса, — и быстро оценивает, годитесь ли вы для того или другого. Если бы им дано было выбирать между дракой и сексом, многие из них наверняка выбрали бы первое. Некоторые, однако, предпочли бы избрать нечто, стоящее над сексом и насилием, сами не понимая, чего хотят. Вассаго несомненно сумел бы показать им именно то, что они ищут. Но беда состояла в том, что поначалу он не заприметил никого, кто мог бы достойно пополнить его коллекцию. Он был не какой-нибудь там неотесанный убийца, штабелями укладывающий трупы убитых им людей. Количество его не интересовало, его более прельщало качество. Как истинного ценителя смерти. Чтобы заслужить честь быть снова принятым в Аду, он должен преподнести Сатане дар особой изысканности — художественную коллекцию смерти, которая будет выдающейся не только по характеру общего композиционного замысла, но и в частностях, в манере расположения каждого отдельного экспоната. Три месяца тому назад в баре «Дуй напролом» он уже сделал одно из приобретений для своей коллекции — девушку, которая утверждала, что ее имя Неон. В машине, когда он попытался оглушить ее одним ударом, этого оказалось недостаточно, и она с таким остервенением стала сопротивляться, что счастью его не было предела. Даже позже, на нижнем этаже луна-парка, когда она пришла в себя, несмотря на то что была связана по рукам и ногам, она все равно пыталась сопротивляться. Извиваясь всем телом, девушка старалась лягнуть его ногами и кусалась до тех пор, пока ему не пришлось несколько раз с силой ударить ее о цементный пол головой. Едва он успел разделаться с пивом, как блуждающий взгляд его остановился на девушке, живо напоминавшей ему Неон. Внешне они совершенно не походили друг на друга, но по духу своему были роднее родных сестер: жесткие, до чертиков озлобленные, практичные не по летам, свирепые, как тигрицы. Неон была небольшого роста брюнеткой со смуглой кожей. Эта была блондинкой лет двадцати-двадцати трех, довольно высокая, худощавая и длинноногая. Хороши были ее глаза, необычайно голубые, словно пламя очищенного от примесей газа, но до чрезвычайности холодные. На ней был изрядно потрепанный, черного цвета хлопчатобумажный жакетик, накинутый поверх обтягивающего бюст черного свитера, короткая черная юбка и сапожки. В эпоху, когда манера поведения значила гораздо больше, чем ум, она знала, каким образом преподнести себя, чтобы добиться максимального эффекта. Держалась она неестественно прямо, откинув назад плечи и надменно задрав вверх подбородок. Высокомерие ее было почти физически ощутимым и защищало, как рыцарские доспехи, усыпанные острыми шипами. И хотя во взглядах всех смотревших на нее мужчин легко можно было прочесть, что они хотели бы затащить ее в свою постель, никто из них не осмеливался подойти к ней, так как казалось, что она способна одним только взглядом или словом лишить любого из них его мужского достоинства. Вассаго она привлекала к себе своей бьющей через край и разящей наповал сексуальностью. Мужчины всегда будут тянуться к ней (краем глаза он видел, как стоявшие по обе стороны от него возле стойки мужчины не отрываясь смотрят на нее), и кто-нибудь из них когда-нибудь ее устрашится ее шипов. В ней клокотало такое дикое буйство жизни, что по сравнению с ней Неон была малявкой. Когда ее оборонительные рубежи будут сломлены, она окажется на удивление любвеобильной и плодовитой, всякий раз наполняемой новой жизнью, — племенная, хоть и одичавшая, кобыла, но совершенно от того не утратившая способность производить на свет новую жизнь. С его точки зрения, у нее имелось два больших недостатка. Первым было ее твердое убеждение, что она во всем превосходила всех, с кем сталкивала ее судьба, следовательно, абсолютно неприкасаема для них и находится в полной безопасности, убеждение, когда-то в незапамятные времена позволявшее принцам крови бесстрашно врезаться в густую толпу народа, будучи полностью уверенными, что толпа обязательно расступится перед ними или в ужасе падет на колени. Вторым ее недостатком была чрезмерная злость, накопившаяся в ней в таком количестве, что, казалось, гладкая белая кожа ее, подобно мощному электрическому заряду, искрила ею от одного только прикосновения. Он стал придумывать, как лучше композиционно расположить ее в смерти, чтобы достойным образом оттенить эти недостатки. Вскоре на него нахлынуло вдохновение. Она была в компании шестерых мужчин и четырех женщин, но держалась от них особняком. Пока Вассаго размышлял, каким образом вступить с ней в разговор, она сама, чему он не очень удивился, ибо полагал, что встреча их была предопределена свыше, подошла к нему. Из всех присутствующих в этом баре людей он и она были самыми опасными и действительно никого не боялись. В тот момент, когда оркестр сделал небольшую паузу и уровень шума упал до почти безопасного, блондинка подошла к стойке. Она протиснулась к ней между Вассаго и другим мужчиной, заказала и заплатила за пиво. Взяв из рук бармена бутылку, она повернулась боком к Вассаго и искоса глянула на него поверх бутылочного горлышка, из которого тонкой струйкой вился охлажденный парок. Спросила: — Слепой, что ли? — Нет, кое-что вижу, мисс. Брови ее скептически поползли вверх. — Мисс? Он неопределенно пожал плечами. — А темные очки чего напялил? — спросила она. — Я был в Аду. — Не поняла. — В Аду холодно и темно. — Да? Все равно непонятно, зачем очка нацепил. — Тот, кто там хоть раз побывал, может видеть в кромешной тьме. — Чую, парень, ты мне мозги пудришь, но все равно интересно. Ври дальше. — И поэтому свет раздражает меня. — Это уже что-то новенькое. Он промолчал. Она сделала глоток из бутылки, не спуская с него глаз. Ему нравилось смотреть, как сокращалось ее горло, когда она пила. Немного спустя она возобновила свои вопросы: — Ты всегда так закидываешь удочку или врешь с ходу? Он снова неопределенно пожал плечами. — Ты все время смотрел на меня, — сказала она. — Ну и что? — Точно, ничего. Все эти подонки только и делают, что пялят на меня свои глаза. Он как зачарованный смотрел в ее иссиня-голубые глаза, В мыслях он уже вырезал их из глазниц и вставлял туда обратной стороной, задом наперед, так, чтобы они смотрели внутрь головы. Этим он символизировал ее эгоцентризм, самолюбование, поглощенность своей собственной персоной.
Во сне Хатч разговаривал с красивой, но холодной как лед блондинкой. Ее атласная кожа была белой как снег, а глаза напоминали до блеска отполированные ледышки, отражавшие голубое зимнее небо. Она стояла у стойки бара в пивной, где он никогда не бывал, и смотрела на него поверх горлышка пивной бутылки, которую то и дело подносила к губам, как будто это была не бутылка, а фаллос. Словно дразня, мелкими глотками отхлебывала из нее пиво и облизывала ее языком, но в этом эротическом жесте было больше угрозы, чем призывности. Он не слышал, что она говорила, и различал только некоторые слова, которые произносил сам: «…был в Аду… холодно и темно… свет раздражает меня…». Блондинка смотрела ему прямо в лицо, и это именно он разговаривал с ней, но голоса своего не узнавал. Вдруг он стал внимательно всматриваться в ее холодные, словно айсберги, глаза и не успел сообразить, что происходит, как в руках его оказался нож, из которого с шипением, как жало, выскользнуло лезвие. Словно не почувствовав никакой боли, будто уже была мертва, блондинка даже не пошевелилась, когда он коротким взмахом руки вынул из глазницы ее левый глаз. Повертев его между пальцами, он вставил его обратно в зияющую впадину, но другой стороной, повернув голубую линзу внутрь головы… Хатч с трудом оторвал голову от подушки. Дышал он с натугой, хрипло. Сердце бешено колотилось в груди. Свесив ноги с кровати, застыл, чувствуя, что должен немедленно бежать, спасаться. Но задыхаясь, он не трогался с места, не зная, куда бежать, где искать спасения. Они заснули, не выключив торшер у кровати, только обмотав его полотенцем, чтобы приглушить свет, пока занимались любовью. Комната тем не менее была достаточно хорошо освещена, и он видел, что Линдзи лежит на кровати рядом с ним, натянув на себя одеяло. Она была такой неподвижной, что казалась мертвой. У него вдруг мелькнула дикая мысль, что во сне он убил ее. Ножом с откидным лезвием. Но вот она зашевелилась и что-то пробормотала. По телу его прошла судорога. Он посмотрел на свои ладони. Они тряслись мелкой противной дрожью.
Вассаго так понравилось его поэтическое видение, что у него возникло желание тут же, в клубе, на виду у всех переставить ее глада внутрь зрачками. Но он подавил в себе это желание. — Так чего же ты хочешь? — спросила она, сделав еще один глоток пива. — От чего — от жизни? — не понял он. — От меня. — А как вы думаете? — Перепихнуться пару раз, вот и все, что тебе надо, — сказала она. — Гораздо большего. — Что, завести семью, дом? — саркастически ухмыльнулась она. Он ответил не сразу, оттягивая время, чтобы подумать. Это была рыбка особого сорта, с ней придется повозиться. Он не хотел брякнуть что-нибудь невпопад и дать ей сорваться с крючка. Потребовал себе еще бутылку пива, сделал несколько небольших размеренных глотков. Четверо музыкантов из сменного оркестра подошли к сцене. Пока основной оркестр будет отдыхать, они будут играть вместо него. И тогда придется забыть о всяких разговорах. Но главное, когда начнется бухание и баханье, энергетический уровень клуба резко повысится и перехлестнет установившийся между ним и блондинкой контакт. И тогда она может не согласиться на предложение уйти с ним из клуба. Он решил наконец ответить на ее вопрос, придумав для этого подходящую ложь: — У вас есть кто-нибудь на примете, кого бы вы хотели убить? — У кого их нет? — Их? — Да, большую часть этих подонков, с которыми приходится общаться. — Я имею в виду одного, вполне определенного человека. Наконец до нее дошло, что он ей предлагает. Она отпила еще немного пива и, не отрывая горлышка бутылки от губ, спросила: — Это что — новая выдумка или ты серьезно? — Вам решать, мисс. — Ну ты — фруктик. — Но вам именно это и нравится во мне? — А может, ты легавый. — Вы что, и впрямь так думаете? Она впилась взглядом в его глаза, хотя толком ничего не могла разглядеть за почти черными стеклами его очков. — Нет, на легавого ты мало похож. — Начинать прямо с секса неинтересно, — сказал он. — Ха, а с чего же интересно? — Начинать надо со смерти. Сначала организуем небольшую смертушку, а потом можно и любовью заняться. Вы даже не представляете себе, как это вдохновляет. Она ничего не ответила. На сцене сменные музыканты взяли в руки инструменты. Он быстро сказал: — Тот, кого вы хотите пришить, — это парень? — Д-да. — Живет далеко отсюда? — Минут двадцать на машине. — Поехали. Музыканты начали настраивать инструменты, хотя, если учесть характер исполняемой ими музыки, занятие это было совершенно бессмысленным. Главным было не то, что они играли, а как громко они это делали, и тут уж им нельзя было давать промашки, потому что заполнявшая этот клуб по ночам орава не остановится и перед тем, чтобы намылить музыкантам холку, если те не потрафят ее вкусам. Наконец блондинка сказала: — У меня есть немного наркоты. Нюхнем на пару? — Пыльца ангелов? Да я вообще без нее ни шагу. — Тачка имеется? — Имеется, пошли. Когда они выходили, он придержал перед ней дверь. Она ухмыльнулась. — Ну ты даешь!
Электронные часы на ночном столике показывали 1 час 28 минут ночи. Хотя Хатч поспал всего несколько часов, сонливости как не бывало, и ложиться обратно в постель совсем не хотелось. К тому же у него здорово першило в горле. Словно туда каким-то образом попал сухой песок. И ужасно хотелось пить. Обмотанный полотенцем торшер давал достаточно света, чтобы, ничего не зацепив на ходу, добраться до комода и без шума выдвинуть нужный ящик, не разбудив при этом Линдзи. Дрожа всем телом от холода, он вынул из ящика спортивный свитер и натянул его на голое тело. На нем были только пижамные брюки. Тонкая ткань была явно не в состоянии согреть его и помочь унять дрожь. Отворив дверь спальни, Хатч вышел в коридор. Оглянулся на спящую жену. В мягком льющемся янтарном свете она выглядела красавицей: пышные черные волосы в беспорядке разметались по белой подушке, губы едва заметно приоткрылись, одна рука по-детски подложена под щеку. Вид ее, более чем свитер, согрел ему душу. Неожиданно на него нахлынуло воспоминание о тяжких годах, когда они поддались охватившему их обоих отчаянию, и остатки страха от только что пережитого кошмарного сна растаяли в этом бурном потоке сожаления по поводу столь бессмысленной траты драгоценного времени. Вздохнув, он бесшумно притворил за собой дверь. Комната второго этажа была окутана мраком, но снизу, из фойе, по лестничному колодцу бледный свет поднимался и сюда. По пути с семейного дивана на китайскую кровать они не пожелали тратить время даже на то, чтобы погасить за собой свет. Как какие-нибудь юные влюбленные! Эта мысль его рассмешила. Но неожиданно в его памяти опять всплыл увиденный только что кошмарный сон, и улыбка вмиг слетела с его лица. Блондинка. Нож. Глаз. Словно все это было наяву, а не во сне. Сойдя с последней ступеньки лестницы, он остановился и прислушался. В доме было неестественно тихо. Он даже постучал согнутым пальцем по балясине перил, чтобы услышать хоть какой-нибудь звук. Но и звук удара прозвучал как-то глухо, гораздо глуше, чем он ожидал. И наступившая затем тишина показалась еще более глубокой. — Однако же здорово меня напугал этот сон, — произнес он вслух, и звук собственного голоса придал ему большей уверенности. Его босые ноги, ступая по дубовому полу, производили забавный, легкий шлепающий звук, пока он пересекал нижнюю комнату, и стали еще громче и отчетливее, когда он пошлепал по выложенному кафельной плиткой кухонному полу. С каждой секундой его жажда становилась все нестерпимее. Он извлек из холодильника банку пепси, с треском отодрал крышку и, запрокинув голову и закрыв глаза, стал жадно пить. Это была не кола. Это было пиво. Пораженный, Хатч открыл глаза и посмотрел на банку, однако в руке он держал не банку, а бутылку пира того же сорта, что и во сне: «Корона». Ни он, ни Линдзи никогда не брали «Корону». Если им хотелось пива, что случалось весьма редко, они предпочитали пить «Хейнекен». Страх вибрирующей дрожью пронзил его с головы до пят. Все тело напряглось, как тетива туго натянутого лука. Вдруг Хатч заметил, что выложенный плиткой пол кухни исчез. Босой, он стоял теперь на посыпанной гравием земле. Камешки больно кололи ему ступни. С неистово колотящимся сердцем он окинул долгим взглядом кухню, отчаянно пытаясь уверить себя, что находится дома, что мир не перешел в какое-то странное, новое измерение. Цепляясь взглядом за привычные предметы: выкрашенные в белый цвет березовые шкафчики, стойки с отделанным черным гранитом верхом, посудомоечный комбайн, сверкающий торец встроенной микроволновой печи, — он мысленно приказывал кошмару убираться восвояси. Но гравий так и остался под ногами. И в правой руке Хатч все еще держал бутылку «Короны». Он повернулся к раковине, чтобы сбрызнуть себе лицо водой, но раковины на месте не оказалось, как и доброй половины кухни, а вместо нее он увидел придорожный ресторан и припаркованные перед ним машины, и затем кухня вообще исчезла. Испарилась. Он был на открытом воздухе, вокруг стояла темная апрельская ночь, и густой туман полыхал бликами красного света, отраженного от неонового рекламного щита, располагавшегося где-то за его спиной. И он не стоял на месте, а шел по усыпанной гравием автостоянке мимо рядов припаркованных машин. Он уже не был босым, ноги его были обуты в черные «Рокпорты» на толстой каучуковой подошве. Он услышал, как рядом женский голос сказал: — Меня зовут Лиза. А тебя? Он повернул голову и увидел блондинку. Стараясь не отставать от него, она быстро шагала бок о бок с ним. Вместо ответа он опрокинул в рот бутылку, высосал из нее остатки пива и отшвырнул прочь. — Меня зовут… …Он вздрогнул, когда выплеснувшаяся из упавшей на пол банки холодная пена обожгла его босые ноги. Гравий исчез. По покрытому персикового цвета плиткой полу кухни растекалась, поблескивая, большая лужа пепси-колы.
* * *
Усевшись рядом с Вассаго в «понтиак» Редлоу, Лиза сказала, что надо выбраться на скоростное шоссе и затем ехать в южном направлении. Пока он в тумане рыскал по улицам города в поисках выезда на шоссе, она достала из аптечки в сумочке таблетки наркотика, и они запили их остатками пива из ее бутылки. «Пыльца ангелов» официально по своим фармакологическим свойствам относилась к разряду транквилизаторов для животных, но на людей действовала совершенно противоположным образом, возбуждая их до беспредела, порой доводя до саморазрушительного исступления. Интересно будет понаблюдать, размышлял Вассаго, какое воздействие окажет этот наркотик на Лизу с ее змеиной натурой, при полном отсутствии у нее элементарных понятий о норме поведения и морали, смотревшую на мир с ненавистью и презрением, не ведавшую сострадания, чье чувство собственного превосходства и силы исключало у нее даже саму мысль о том, что и она может стать чьей-либо жертвой, что кто-то окажется сильнее ее; на Лизу, которая уже настолько была переполнена скопившейся в ее душе нерастраченной нервной энергией, что, казалось, эта энергия вот-вот взорвется внутри нее и выплеснется наружу. Он надеялся, что «пыльца ангелов» поможет ему здорово позабавиться, наблюдая, до каких крайностей может дойти ее жестокость; каким освежающим душу кровавым зверствам он станет благодарным свидетелем и верным помощником. — Куда ехать? — спросил Вассаго, когда они помчались по шоссе в южном направлении. Свет фар буравил белую пелену, напрочь скрывшую от них мир и словно предоставившую им самим решать, что бы им хотелось увидеть впереди и какое будущее себе пожелать. — Эль-Торо, — сказала она. — Он там живет? — Да. — Кто он? — Тебе что, обязательно знать его имя? — Нет, мэм. А за что вы хотите его убить? Она внимательно оглядела его с ног до головы. Затем лицо ее постепенно, словно было раной, в которую медленно вонзали невидимый нож, расплылось в улыбке. Мелькнули маленькие хищные острые зубки. Зубы пираньи. — Ты правда это сделаешь? — спросила она. — Вот так войдешь и шлепнешь его, чтобы доказать, что мы с тобой пара? — Ничего я не собираюсь никому доказывать, — сказал он. — Я просто собираюсь доставить себе маленькое удовольствие, я же говорил вам… — Что начинать надо со смерти. Сначала организуем небольшую смертушку, а потом можно и любовью заняться, — докончила она за него. Он не перебивал ее, давая ей возможность выговориться и тем самым проникнуться ж нему большим доверием. Затем спросил: — Он живет в квартире или в собственном доме? — Какое это имеет значение? — В дом легче пробраться незамеченным, да и соседей нет поблизости, и шума меньше. — У него собственный особняк. — Почему вы хотите его убить? — Он хотел меня, а я его нет. Но он решил, что может взять меня силой. — Не думаю, что это ему легко далось. Глаза ее стали еще холоднее. — У той скотины все лицо потом было пластырем оклеено. — Но своего он все же добился? — Он парень здоровый. Она отвернулась и стала смотреть на дорогу. Теперь туман уже не пластался ленивыми клубами по шоссе, а, гонимый западным ветром, быстро несся через него, змеясь и вздымаясь, словно дым от огромного костра, объявшего пламенем все побережье, словно в огне этом горели и рушились целые города и над их руинами, извиваясь и крутясь, клубился дым. Вассаго, изредка бросавшему косые взгляды на ее повернутое в профиль лицо, очень хотелось поехать с ней в Эль-Торо, чтобы посмотреть, как далеко может зайти ее месть. А потом он уговорит ее отправиться с ним в его убежище, и там она по собственному желанию присоединится к его коллекции. Сама того не сознавая, она жаждала смерти. И несомненно будет благодарна ему за сладостную боль, которая станет ее пропуском в мир проклятых. С бледной, почти отсвечивающей на фоне ее черной одежды кожей, до краев наполненная свирепой ненавистью к миру, готовая в любую минуту полыхнуть зловещим огнем, она предстанет во всем своем великолепии, когда пойдет навстречу своей судьбе мимо экспонатов его коллекции и с благодарностью примет смертельный удар, тем самым принеся себя в жертву ради того, чтобы он смог поскорее возвратиться в Ад. Но в глубине души он знал, что фантазиям его не суждено сбыться, что она, хотя и желает умереть, никогда не умрет ради него. Она умрет только ради себя, когда решит, что именно смерть и есть то, чего ей больше всего хочется. Как только она поймет, чего он от нее добивается, то тотчас выпустит когти. С ней будет гораздо труднее справиться, чем с Неон, и она успеет наделать много вреда. Обычно он предпочитал привозить каждое новое приобретение в музей живым, чтобы предать его смерти под злобным взглядом потешного Люцифера. Но с Лизой этот номер у него не пройдет. Ее не так-то легко будет утихомирить, даже нанеся ей неожиданный удар. А упусти он возможность захватить ее врасплох, она окажет ему дикое сопротивление. Его не страшили увечья. Ничто, даже грядущая боль, не в состоянии было его испугать. Более того, каждый ее удар, каждая рана, которую она ему нанесет, могли вызвать в нем только восхитительный трепет истинного наслаждения. Его волновало, однако, что она может оказаться достаточно сильной, чтобы вырваться и сбежать от него, а этого он никак не мог допустить. Не потому что опасался, что она заявит на него в полицию. Секта, к которой она себя причисляла, с нескрываемым подозрением и лютой ненавистью относилась к фараонам. Если ей удастся вырваться из его рук, он потеряет возможность сделать достойное приобретение для своей коллекции. А он был убежден, что именно ее перехлестывающая через край порочная энергия и есть то последнее и самое изысканное подношение, которое и откроет перед ним врата Ада. — Ну как, подействовало? — спросила она, все еще не отрывая взгляда от клубящегося тумана, в который они врезались на сумасшедшей скорости. — Немного, — ответил он. — А на меня ни чуточки. — Она стала рыться в сумочке, вытаскивая на свет новые таблетки и пилюли, отыскивая нужные. — Надо бы найти чего-нибудь, что заставило бы сработать эту пакость. Пока Лиза была занята поисками стимулятора для «пыльцы ангелов», Вассаго, оставив на руле левую руку, правой достал из-под сиденья револьвер, реквизированный им у Мортона Редлоу. Она подняла на него глаза как раз в тот момент, когда он прижал его дуло к ее левому боку. Даже если она и успела понять, что происходит, она не выказала никакого удивления. Он выстрелил подряд два раза, убив ее наповал.Бумажными полотенцами Хатч промокнул разлившуюся по полу лужу пепси. Когда подошел к раковине, чтобы сполоснуть руки, дрожь в теле еще не унялась, хотя и была уже не такой сильной, как прежде. Ужас, на какое-то мгновение отключивший все другие чувства, вскоре уступил место любопытству. В нерешительности, словно боясь, что они исчезнут прямо на его глазах, он дотронулся сначала до края раковины из нержавеющей стали, а затем медленно провел пальцами по крану. В голове не укладывалось, каким образом мог он продолжать галлюцинировать после того, как уже полностью пришел в себя после сна. Единственным рациональным тому объяснением, которое, однако, он ни за что не желал принимать, было то, что он сходит с ума. Хатч включил воду, отрегулировал ее до нужной температуры, плеснул из контейнера на руки жидкое мыло, медленно стал их намыливать, затем выглянул в окошко над раковиной, выходившее на задний двор. Двора не было. Вместо него он увидел стелющееся перед ним шоссе. Кухонное окошко превратилось в лобовое стекло автомобиля. Окутанная туманом и едва различимая в свете передних фар, навстречу ему неслась дорога, словно дом мчался по ней со скоростью шестьдесят миль в час. Рядом с собой, там, где должна была находиться печь с двумя духовками, он почувствовал чье-то присутствие. Оглянувшись, увидел блондинку, роющуюся в своей сумочке. Вдруг у себя в руке ощутил нечто твердое, намного тверже обыкновенной пены, и, взглянув, увидел, что держит в руке револьвер… Кухня испарилась, будто вообще не существовала. Он был в машине, на огромной скорости мчавшейся сквозь туман, и прижимал дуло револьвера к боку блондинки. С ужасом, в тот момент, когда она подняла на него глаза, он почувствовал, что нажимает на курок, потом еще раз. Громом прогремевшие в машине выстрелы отбросили ее тело к дверце. Вассаго даже и предположить не мог, что произойдет дальше. В револьвере, видимо, были патроны с двойным зарядом, так как выстрелы буквально смели блондинку с места и с силой ударили о дверцу с ее стороны. И то ли дверца была неплотно закрыта, то ли одна из пуль, пройдя сквозь тело, повредила замок, но, как бы там ни было, дверь неожиданно распахнулась настежь. С диким звериным воплем в «понтиак» ворвался ветер, а Лиза мгновенно исчезла в ночи. Он резко притормозил и быстро посмотрел в зеркальце заднего обзора. Машина, взвизгнув тормозами, сбавила ход, и он увидел, что тело блондинки катится по дороге вслед за ней. Он решил остановиться и подать машину задним ходом, но даже в это самое глухое время ночи оказался на шоссе не один. Примерно в полумиле позади увидел свет фар, две пары неярких, размазанных туманом пятен, становившихся, однако, с каждой секундой все ярче и ярче. Шоферы этих машин успеют поравняться с телом прежде, чем ему удастся добраться до него и втащить в свой «понтиак». Сняв ногу с тормоза, он нажал на газ и, сильно разогнав машину, резко крутанул руль влево, проскочил два ряда шоссе, затем так же круто вильнул вправо. Дверь с грохотом захлопнулась. И хотя она непрерывно дребезжала и тряслась во время движения, однако больше не открывалась. Видимо, запор был поврежден только частично. Несмотря на то что видимость упала до ста футов, он помчался со скоростью восемьдесят миль в час, пулей пронзая клубящийся туман. Прозевав два выезда с автострады, съехал с нее на третьем и только тогда сбавил скорость. Петляя по улицам, постарался побыстрее убраться отсюда восвояси, но соблюдая при этом все правила дорожного движения, так как понимал, что если его остановит полиция, то сразу же обратит внимание на забрызганные кровью боковое стекло и обивку сиденья.
В зеркальце заднего обзора Хатч увидел кувыркающееся на шоссе тело, постепенно тающее в тумане. Затем на какое-то мгновение в зеркале отразилось его собственное лицо, от переносицы до бровей. Глаза были скрыты темными очками, хотя машина на умопомрачительной скорости неслась в ночи. Нет! Это не у него были очки. В темных очках был водитель автомобиля, и лицо, которое Хатч наблюдал в зеркальце, было его, водителя, лицом. И хотя вроде бы именно сам он вел машину, в душе он знал, что это не так, потому что на какое-то мгновение успел за почти сплошь черными стеклами поймать взгляд странных, лихорадочных, встревоженных глаз, которые никак не могли быть его глазами. Затем… …Он, тяжело дыша и громко икая от омерзения, вновь стоит у раковины на кухне. За окном виднеется задний двор, скрытый за покровом ночи и клубами тумана. — Хатч? Он испуганно оглянулся. На пороге, закутанная в банный халат, стояла Линдзи. — Что с тобой? Вытерев намыленные руки о свитер, он попытался ответить на ее вопрос, но пережитый ужас отнял у него дар речи. Она бросилась к нему. — Хатч? Он прижал ее к себе, почувствовал, как ее руки крепко обхватили его и словно выдавили из него слова: — Я выстрелил в нее, она вылетела из машины и — Господи Иисусе! — как тряпичная кукла, покатилась по дороге.
Глава 5
По просьбе Хатча Линдзи сварила кофе. Привычный чудодейственный его аромат приглушил остроту мрачного ночного кошмара. Но, самое главное, он помог ему полностью прийти в себя и успокоиться. Они выпили кофе тут же, за кухонным столом. Хатч настоял на том, чтобы опустить жалюзи на ближайшем к нему окне. — У меня такое чувство… что там кто-то стоит… и я не хочу, чтобы тот кто-то подсматривал за нами. Однако объяснить, что он имел в виду под «этим кем-то», он не смог. Когда Хатч пересказал ей все, что с ним произошло уже после кошмарного сна о холодной блондинке, ноже и вырезанном глазе, Линдзи так попыталась объяснить его состояние: — Может быть, это покажется тебе странным, но, скорее всего, когда ты встал с постели, ты еще полностью не проснулся. И шел сюда фактически во сне. А по-настоящемуты проснулся, когда на кухню вошла я и назвала тебя по имени. — Но я никогда не был лунатиком, — запротестовал он. Она попыталась превратить все в шутку. — Ну что ж, еще не поздно им стать. — Нет, этот номер не пройдет. — Хорошо, а как ты сам все это объясняешь? — Никак. — Тогда мое объяснение единственное, что у нас есть. Он уставился на зажатую между ладонями фаянсовую чашечку, словно был цыганкой, пытающейся по разводам кофейной гущи определить свою судьбу. — Тебе когда-нибудь снилось, что ты — кто-то другой? — Вероятно, да, — ответила она. Он поднял на нее тяжелый взгляд. — Никаких «вероятно». Так снилось тебе когда-нибудь, что ты смотришь на окружающий мир глазами другого человека? Можешь вспомнить хотя бы один из таких снов? — Гм… нет. Но уверена, что видела такие сны. Просто сейчас не могу вспомнить. В конце концов, что такое сон? Туман. И так же быстро тает. Кто же может долго помнить сны? — Этот я запомню на всю жизнь, — сказал он.Они вернулись в спальню, но оба уже не могли заснуть. Отчасти виной тому был, конечно, кофе. У нее мелькнула мысль, что именно потому он и попросил ее сварить кофе: ему ужасно не хотелось снова погрузиться в кошмарные видения. Ну что ж, это ему вполне удалось. Оба они лежали, уставившись в потолок. Поначалу он очень не хотел гасить свет, что было видно по тому, как он невольно замешкался, прежде чем щелкнуть выключателем лампы у своего изголовья. Он походил на ребенка, достаточно взрослого, чтобы отличить мнимые страхи от реальных, но еще слишком маленького, чтобы легко отмахнуться от первых, и потому, с одной стороны, незыблемо верил, что из-под кровати вот-вот вылезет какое-нибудь страшное чудище, а с другой — стеснялся говорить об этом вслух. Теперь, когда лампа была погашена и комнату едва освещало просачивающееся сквозь неплотно задернутые портьеры сияние уличных фонарей, его страх передался и ей. Нетрудно было, глядя на движущиеся по потолку тени, примыслить им зловещие и таинственно переплетающиеся абрисы летучих мышей… ящериц… пауков… Они вполголоса переговаривались, то надолго замолкая, то вновь обмениваясь ничего не значащими репликами. Оба знали, о чем бы им больше всего хотелось говорить, и оба боялись касаться этой темы. В отличие от нереальных, ползающих по потолку или сидящих под кроватью отвратительных чудищ, страх этот был вполне реальным. Оба думали о возможных нарушениях в коре головного мозга Хатча. С тех пор как в больнице воскрешенный из мертвых Хатч пришел в себя, у него начались кошмарные, необычной яркости и реальности, сновидения. Происходило это не каждой ночью. Иногда целых три или четыре ночи подряд ничто не нарушало его сон. Но с каждой проходящей неделей промежутки эти сокращались, и кошмары снились все чаще и чаще. Обычно это были разные сны, судя по тому, что он рассказывал, но все их объединяло одно и то же: жестокость и насилие, ужасные видения обнаженных гниющих тел, стоящих или сидящих в странных скрюченных позах. И всегда кошмары эти снились ему, как будто смотрел он на все это глазами другого человека, изредка мелькавшего в них темной, таинственной тенью, словно Хатч осязал его душу, но был не в состоянии управлять ею. Зато начинались или кончались кошмары всегда в одном и том же месте: среди нагромождения каких-то необычных зданий и странных переплетений металлоконструкций, назначение которых невозможно было понять, и это всегда было покрыто мраком ночи и воспринималось на фоне ночного неба в виде каких-то бесформенных, не поддающихся рациональному описанию силуэтов и контуров. Видел он также огромные, как пещеры, залы и лабиринты бетонных переходов, которые каким-то непостижимым образом открывались его взору, хотя в них не было ни окон, ни искусственного освещения. Он утверждал, что когда-то бывал в этом месте, но, когда и где оно расположено, не мог припомнить, к тому же он никак не мог толком разглядеть его целиком, так как всегда видел только одну небольшую его часть. Вплоть до сегодняшней ночи они пытались убедить себя, что кошмары эти — явление временное. Хатч, как всегда, был оптимистом. Мало ли кому снятся кошмары! Ничего странного в этом нет. Причина многих кошмаров — стрессы. Стоит удалить причину, и следствие отпадет само собой. Но кошмары не прекращались. Более того, они неожиданно приняли новую и глубоко обеспокоившую их форму: Хатч стал лунатиком. Или, возможно, он уже начал галлюцинировать сходными, что и в сновидениях, образами наяву. Незадолго до рассвета Хатч протянул к Линдзи руку под простыней, нашел ее ладонь и прижал к себе. — Все будет в порядке. В конце концов, это был только сон. И ничего более. — Первое, что мы сделаем утром, позвоним Нейберну, — сказала она, чувствуя, как сердце ее камнем летит в пропасть. — Мы его и себя все время обманывали. Он же сказал тебе, что если появятся какие-либо симптомы… — Ну какой же это симптом, — возразил Хатч, пытаясь все свести к шутке. — Он имел в виду любые физические или психические отклонения, — сказала она, страшась и за мужа, и за себя, боясь, что с ним действительно происходит что-то неладное. — Я же уже сдавал все анализы, а некоторые из них даже по нескольку раз. Врачи признали меня полностью здоровым. Мозг тоже в порядке. — Значит, нет никаких причин для волнения. И потому нет смысла откладывать встречу с Нейберном. — Если бы было какое-нибудь повреждение в коре головного мозга, оно бы сразу проявилось. Мозг ведь не мина замедленного действия. Они немного помолчали. Линдзи уже не различала на потолке шевелящихся чудищ. Ложные страхи тотчас испарились, когда вслух было произнесено название самого страшного из всех недугов, которого они опасались больше всего. Она первой нарушила молчание. — А как быть с Региной? Он ответил не сразу. — Думаю, надо дать ход этому делу, заполним все необходимые бумажки… Если, конечно, она согласна переехать к нам. — А если… у тебя все же что-то неладно с головой? И будет прогрессировать? — Чтобы закончить все дела и перевезти ее к нам, потребуется несколько дней. За это время я успею пройти медосмотр и сдать все анализы. Уверен, что со мной все в порядке. — Уж больно ты спокоен, как я погляжу. — Было бы хуже, если бы я стал нервничать. — А вдруг Нейберн обнаружит что-либо серьезное?.. — Тогда, если потребуется, мы попросим у приюта отсрочку на некоторое время. Ведь если я завтра заявлю им, что у меня возникли проблемы со здоровьем, они сразу же поставят под сомнение нашу пригодность как приемных родителей и застопорят оформление документов. И тогда нам не видать Регины как своих ушей. А как великолепно начался вчерашний день в кабинете у Сальваторе Гуджилио и как чудесно завершился на диване перед камином, а затем в огромной китайской кровати! Будущее казалось им таким ярким и безоблачным, все плохое, думали они, осталось позади. Линдзи была буквально раздавлена столь неожиданным и зловещим оборотом дела. Она повернула голову к Хатчу: — Господи, Хатч, я люблю тебя. В темноте он придвинулся к ней, обнял и прижал к себе. И так, обнявшись, они долго-долго лежали. И после того как наступил рассвет, продолжали лежать и молчать, так как все уже давным-давно было сказано.
Позже, когда оба приняли душ и оделись, они спустились вниз и прямо на кухне выпили еще по чашечке кофе. В это время суток они обычно прослушивали утреннюю сводку новостей по радио. Из нее они и узнали о Лизе Блейн, блондинке, которую неизвестные убили двумя выстрелами в упор и на ходу» выбросили из машины на Сан-Диегском скоростном шоссе прошлой ночью, как раз в то время, когда Хатч, находясь на кухне, ощутил, что палец его нажимает на курок револьвера, и увидел катящееся по шоссе вслед за автомобилем тело.
Глава 6
По причинам, которые и сам не мог толком объяснить, Хатч захотел своими глазами увидеть тот участок шоссе, где был найден труп молодой женщины. — Может, что и прощёлкнет в мозгу. — Было единственное, что он мог предложить в качестве объяснения своего желания. Он сам сел за руль их новенького красного «мицубиси». Сначала по прибрежному шоссе они поехали в северном направлении; затем, выбравшись из лабиринта городских улиц, свернули на восток, а у торгового центра выехали на Сан-Диегское скоростное шоссе, по которому помчались на юг. Он хотел попасть на место преступления с той же стороны, с которой прошлой ночью ехал убийца. По идее, к девяти пятнадцати утра пик интенсивности движения должен уже быть пройден, но все равно шоссе было сплошь забито машинами. Медленно, то и дело останавливаясь, Хатч и Линдзи продвигались в южном направлении в мареве выхлопных газов, от которых их спасал встроенный внутри салона машины кондиционер. Туман, нахлынувший ночью с Тихого океана, к этому времени полностью рассеялся. Весенний ветерок обвевал деревья, и в безоблачном, удивительно синем и бездонном небе носились птицы. В такой день нелепо было думать о смерти. Вот позади уже остался бульвар имени Макартура, затем бульвар Бойскаутов, и с каждым новым оборотом колее Хатч чувствовал, как все более напрягаются мышцы его шеи и деревенеют руки. Его охватило жуткое чувство, что вчера ночью он уже побывал здесь, что уже мчался мимо скрытых туманом аэропорта, гостиницы, административных зданий, что впереди, как и тогда, высились коричневые, подернутые дымкой холмы, хотя точно знал, что никуда из дома не отлучался. — Они ехали в Эль-Торо, — проговорил он, только сейчас почему-то вспомнив эту деталь кошмара. Или она всплыла в его памяти благодаря какому-то неведомому шестому чувству. — Может быть, они ехали к ней или к нему? — Не думаю, — сказал Хатч, хмуря брови. Пока они черепашьим шагом продвигались сквозь медленно рассасывающийся затор, в памяти его стали всплывать не только подробности кошмара, но и те ощущения, которые он испытывал во время него, и прежде всего то острое жгучее чувство ожидания крови. Неожиданно руль выскользнул из его рук. Ладони сделались липкими от пота. Он поочередно вытер их о рубашку. — Уверен, что блондинка была не менее опасна, чем и я… чем и он. — Что ты имеешь в виду? — Сам не знаю. Но именно об этом я тогда думал. Солнечные зайчики плясали на крышах и отражались от стекол двух многокилометровых верениц машин, двигавшихся в противоположных направлениях, как две огромные, сверкающие сталью, хромом и стеклом реки. Температура воздуха снаружи поднялась почти до восьмидесяти градусов, но Хатч зябко поеживался. Когда он прочел на дорожном указателе, что они приближаются к выезду на бульвар имени Калвера, то вдруг резко подался вперед. Сняв правую руку с баранки, сунул ее под сиденье. — Вот здесь он нащупал револьвер… вытащил его… она в это время копалась в своей сумочке… Он бы не удивился, если бы и сейчас под своим сиденьем вдруг обнаружил револьвер, так как помнил, с какой чудовищной органичностью прошлой ночью кошмар переходил в действительность, отделялся от нее и снова перемешивался с ней. Видимо, это же может произойти и сейчас? Когда Хатч почувствовал, что под сиденьем ничего нет, он облегченно, с шумом, выдохнул из себя воздух. — Полиция, — сказала Линдзи. Хатч настолько углубился в себя, пытаясь воскресить в памяти события ночного кошмара, что сначала не понял, о чем предупреждает его Линдзи. И только сейчас он увидел выстроившиеся цепочкой вдоль автострады полицейские машины. Низко склонившись к покрытой пылью земле, полицейские в форме внимательно обшаривали каждый сантиметр обочины шоссе и полоску сухой травы, росшей подле него. Видимо, они прочесывали весь участок в надежде найти какую-нибудь улику, которая могла выпасть из машины убийцы либо до того, как оттуда выбросили блондинку, либо вместе с ней, либо после нее. Он заметил, что у всех полицейских, как и у него с Линдзи, были солнцезащитные очки. От яркого солнца нестерпимо слепило глаза. Убийца тоже был в солнцезащитных очках, когда в зеркальце заднего обзора мелькнуло его лицо. Какого черта он нацепил их в темень, увеличенную к тому же густым туманом? Черные очки ночью, да еще в плохую погоду — это уже не просто дань вычурной жеманности или эксцентричности. От этого веяло жутью. В руке Хатч все еще сжимал несуществующий револьвер. Но так как продвигались они с гораздо меньшей скоростью, чем убийца, то еще не подъехали к тому месту, где он нажал на курок. Машины ползли бампер к бамперу не потому, что в этот день движение было интенсивнее обычного, а потому что все водители слегка притормаживали, чтобы получше разглядеть, чем занимались на шоссе полицейские. Это и привело к тому типу заторов на дороге, который радиокомментаторы удачно окрестили «пробкой ротозеев». — А он летел сломя голову, — вспомнил Хатч. — В сплошном тумане? — Да еще и в черных очках. — Идиот, — сказала Линдзи. — Не уверен. Парень этот не так уж прост. — А мне это кажется полным идиотизмом. — Он совершенно ничего не боится. Хатч попытался снова проникнуть в сознание человека, которым был во время ночного кошмара. Но не смог. Что-то в характере убийцы было совершенно чуждым ему и не поддавалось анализу. — Он как бы весь пронизан холодом… холодом и весь черный изнутри… он думает не так, как ты или я… — Хатч с трудом подбирал слова, чтобы более точно описать убийцу. — Мерзкий. — Он недовольно покачал головой. — Не в том смысле, что от него воняет, нет. Скорее, он… мерзкий, в смысле какой-то словно прокаженный. — Он безнадежно махнул рукой. — Но при этом совершенно бесстрашен. Ничего и никого не боится. И уверен в полной своей безнаказанности, так как никто не в состоянии причинить ему боль. Но это не безрассудство. Потому что… по-своему, он совершенно прав. — Из твоих слов следует, что… что он неуязвим? — Не совсем так. Даже совсем не так. Но что бы ты ни пыталась сделать с ним… ему это будет совершенно безразлично. Линдзи зябко обхватила себя руками. — Выходит, что он… не человек. В течение этого разговора полицейские снаружи не прекращали усиленно заниматься поисками улик на участке примерно с четверть мили к югу от выезда на бульвар Калвера. Когда Хатч проехал мимо них, он почувствовал, как скорость движения колонны заметно увеличилась. Несуществующий револьвер в руке Хатча, казалось, обрел ощутимую весомость. Он чувствовал холод его стальной рукоятки. Когда он навел револьвер-призрак на Линдзи и посмотрел на нее, она вздрогнула. Он видел ее лицо, но одновременно в памяти его всплыло лицо блондинки в тот момент, когда она подняла на него взгляд и у нее даже не хватило времени, чтобы удивиться, увидев прижатое ж своему боку дуло револьвера. — Здесь, на этом самом месте, я быстро… он быстро нажал на курок два раза, — сказал Хатч, дрожа всем телом, так как гораздо легче было вспомнить сам факт насилия, чем то, что чувствовал и ощущал в этот миг убийца. — Две огромные дыры в ней. — Он отчетливо видел все это. — Господи, это было ужасно. — Он снова был там, в кошмаре. — Выстрелы, словно клещи, вырвали из нее два огромных куска мяса. А грохнуло так, будто наступил конец света. — Во рту он почувствовал какую-то горечь, словно выпил стакан кислоты. — Ее отбросило прямо к дверце, уже мертвую, а дверца вдруг распахнулась. Он не думал, что она откроется. Девушка была ему нужна для коллекции, но она выпала из машины, в ночь, навсегда, и покатилась по шоссе, как какой-то обрывок бумаги. Забывшись и заново переживая кошмарный сон, Хатч резко надавил на педаль тормоза, как это ранее сделал убийца. — Хатч, не надо! Слева, справа и еще раз слева, сверкая хромом и посеребренными солнцем стеклами, едва избежав столкновения и что есть мочи сигналя, мимо них пронеслись три машины. Придя в себя, Хатч увеличил скорость и занял место в общем движении, чувствуя на себе удивленные взгляды водителей идущих рядом машин. Но его это мало беспокоило, ведь он взял след, как самая настоящая ищейка. А фактически он шел даже и не по следу. Что-то, чему он не мог найти точного определения, помогало ему следовать по пятам убийцы, какие-то психические флюиды, какое-то волнение, которое тот произвел в эфире, подобно плавнику акулы, прорубающему проход в толще вод, но с той разницей, что эфир не так быстро, как вода, возвращался в свое прежнее состояние. — Он хотел вернуться за ней, понял, что не успеет этого сделать, и помчался дальше, — проговорил Хатч, заметив, что перешел на низкий, с хрипотцой, голос, словно передоверял ей секрет, о котором не мог вспоминать без душевной боли. — Когда я вошла на кухню, ты так тяжело дышал и как-то странно громко икал, — сказала Линдзи. — И с такой силой сжимал гранитный верх посудного столика, что казалось, он вот-вот раскрошится у тебя под руками. Я подумала, что у тебя плохо с сердцем… — На огромной скорости… — продолжал Хатч, сам чуть увеличивая скорость, — семьдесят, восемьдесят миль в час… и даже больше, стремясь подальше отъехать, прежде чем идущие сзади машины обнаружат тело. Сообразив, что он не просто размышляет о том, что сделал убийца, а фактически сообщает ей новые подробности, она сказала: — Ты вспоминаешь больше того, что видел во сне, ведь когда я вошла на кухню, то разбудила тебя, а ты мне сейчас рассказываешь о том, что произошло после этого. — Я не вспоминаю, — хрипло сказал он. — А что же ты делаешь? — Чувствую… — И в данный момент? — Да. — Каким же образом? — Сам не знаю. У него не было другого объяснения. — Сам не знаю как, — прошептал он, мчась по асфальтовой ленте шоссе, пересекавшей в это время огромное совершенно плоское пространство, которое для него вдруг покрылось мраком, невзирая на яркое утреннее солнце, словно убийца оставил после себя на земле свою тень, огромную, во много раз превышающую его по размерам. — Восемьдесят… восемьдесят пять… почти девяносто миль в час… при видимости не более ста футов. Если бы впереди была хоть одна машина, в сплошном тумане убийца со страшной силой мог бы врезаться в нее. Он проскочил на скорости один выезд, хотел убраться подальше… и продолжал мчаться вперед… вперед… Хатч сам чуть было не проскочил выезд на дорогу № 113, ведущую через каньон к Лагуна-Бич. В последний момент он успел резко надавить на тормоза и круто повернул руль вправо. «Мицубиси» заскользил, покидая автостраду, но Хатч быстро сбросил скорость, и машина вновь стала послушной рулю. — Он здесь съехал с шоссе? — спросила Линдзи. — Да. Хатч поехал по дороге направо. — И тоже отправился в Лагуну? — Не… уверен. У перекрестка, обозначенного дорожным знаком «Стоп», Хатч остановил машину. Затем съехал на обочину. Впереди местность была почти совершенно голой, и только на холмах торчали пучки жесткой коричневатой травы. Если ехать через перекресток прямо, то придется пересекать Лагуна-Каньон, где строители еще не успели обустроить пустошь новыми домами с прилегающими к ним участками земли. Обе стороны дороги, бежавшей через каньон к Лагуна-Бич, на многие мили густо поросли кустарником с торчавшими там и сям из него огромными дубами. Но убийца мог не поехать прямо, а свернуть налево или направо. Хатч повертел головой по сторонам, надеясь обнаружить… или, вернее, ощутить те невидимые веяния эфира, которые до этого момента вели его по следу. Спустя некоторое время Линдзи спросила: — Что, след оборвался? Ты не знаешь, куда он отсюда поехал? — В свое логово. — Что? Хатч захлопал глазами, сам не зная, что заставило его избрать именно это слово. — Он вернулся в свое логово… глубоко под землей… — Под землей? — переспросила Линдзи, озадаченно оглядывая коричневые холмы. — …в темноту… — Ты думаешь, он где-то спустился под землю? — … в прохладную, освежающую тишину… Некоторое время Хатч, не отрываясь, смотрел на перекресток. Мимо них проехало несколько машин. След оборвался. Убийцы здесь не было, и Хатч не имел ни малейшего представления, куда он подевался. Он больше ничего не чувствовал, кроме, как ни странно, пряного шоколадного аромата пирожных «орео», причем весьма ощутимого, будто только что сам отправил одно из них в рот.Глава 7
В ресторане «Коттедж» в Лагуна-Бич они наконец позавтракали, заказав мясо по-домашнему, яйца, бекон и гренки с маслом. С тех пор как он умер и был заново возвращен к жизни, Хатча перестали волновать такие пустяки, как процентное содержание холестерина в крови и пассивное вдыхание дыма от курящих рядом людей. Он полагал, что время, когда любой, даже самый ничтожный риск будет рассматриваться им как вселенский подвиг, еще впереди, и, когда оно наступит, вот тогда он тотчас вновь сядет на плодоовощную диету, будет хмуро взирать на курильщиков, обдувающих его своей заразой, и открывать бутылку вина со смешанным чувством наслаждения и мрачного осознания вредоносных последствий потребления алкоголя. А пока он стремился взять от жизни как можно больше и, по возможности, как можно глубже насладиться ею и не желал без нужды заранее волноваться о том, что может ее вновь лишиться, — именно поэтому он твердо решил не дать кошмару о блондинке выбить себя из нормальной колеи. Еда всегда действовала на него успокаивающе. Каждый отправленный в рот желток придавал ему дополнительный заряд бодрости и силы духа. — Ладно, — сказала Линдзи, доедая свой завтрак с меньшим аппетитом и энтузиазмом, чем Хатч, — предположим, что какие-то функции мозга были все же нарушены. Не очень сильно. Прямо скажем, настолько слабо, что никакие анализы не в состоянии были это нарушение обнаружить. И оно, видимо, никак не отразилось ни на характере речи, ни на работоспособности организма и тому подобных вещах. Фактически же, благодаря невероятному стечению обстоятельств, что происходит один раз на миллиард случаев, эта травма каким-то странным образом положительно сказалась на функциях мозга. Скажем, установила в его коре новые типы связей между церебральными нейронами, сделав тебя своего рода медиумом. — Ерунда. — Но почему? — Ну какой же я медиум? — А что же это, по-твоему? — Хорошо, пусть я медиум, но я бы не стал настаивать, что это положительный эффект. Так как к этому времени дня уже мало кто завтракал, посетителей в ресторане было немного. За соседними столиками вообще никто не сидел. Они могли обсуждать свои дела, не опасаясь, что их подслушают, и тем не менее Хатч все время конфузливо оглядывался по сторонам. Когда он был воскрешен из мертвых, репортеры газет и журналов, корреспонденты радио и телевидения буквально заполонили Центральную оранскую окружную больницу, а некоторые из них в течение длительного времени жили прямо на ступеньках их дома. Ведь из ныне здравствующих людей он дольше всего находился в состоянии клинической смерти, что уже само по себе, по их понятию, ставило его в один ряд с другими знаменитостями дня, или, как сказал бы Энди Уорол, сделало его достойным своих пятнадцати минут прижизненной славы, от которых никто не застрахован в одержимой звездной болезнью Америке. Хотя лично Хатч считал, что к славе своей не имеет никакого отношения. И не желал ее. Не он боролся за свою жизнь, и не он вырвал ее из когтей смерти; это за него сделали Линдзи, Нейберн и его команда реаниматоров. Он был обыкновенным человеком, высоко ценившим спокойно-уравновешенное уважение к себе нескольких известных антикваров, имевших с ним дело. Ему было бы достаточно и того уважения, которое питала к нему Линдзи как к хорошему мужу, и для него это было высшим проявлением славы. Он наотрез отказывался давать интервью и делал это настолько последовательно, что в конце концов убедил репортеров оставить его в покое и заняться поисками другой сенсации — появлением на свет двухголовой козы, к примеру, или еще чего-нибудь в этом роде, — способной заполнить газетную полосу или минуту в эфире в промежутке между рекламными роликами о преимуществах дезодорантов. Если теперь вдруг станет известно, что из страны мертвых Хатч вернулся наделенный странной способностью проникать в душу убийцы-психопата, толпы любопытных снова станут осаждать его дом. От этой мысли ему делалось не по себе. Он предпочел бы этому нашествие пчел-убийц или даже стенания последователей Харе Кришны с их протянутыми к вам кружками для пожертвований и подернутыми дымкой трансцендентальности глазами. — Но если это не психическое явление, — стояла на своем Линдзи, — то что же это по-твоему? — Не знаю. — Это не ответ. — Это может пройти, исчезнуть, никогда не повториться. В конце концов, не исключена и чистая случайность. — Ты сам в это не веришь. — Но… мне бы хотелось, чтобы это было именно так. — Нам придется все же заняться этим. — Зачем? — Чтобы попытаться хотя бы понять, что происходит. — Зачем? — Не «зачемкай», как пятилетний ребенок. — А что я еще могу сказать? — Да пойми же ты наконец. Погибла девушка. Может быть, не она одна. И, скорее всего, не она последняя. Он прислонил вилку к тарелке с недоеденной порцией и запил мясо по-домашнему глотком апельсинового сока. — Ладно, хорошо, это действительно похоже на какое-то психическое озарение, именно такое, как показывают в фильмах. Но в моем случае все гораздо хуже. От него меня мороз по коже дерет, и мурашки по телу бегают. Хатч закрыл глаза, чтобы найти подходящее сравнение тому, что пытался объяснить. Найдя его, открыл глаза и снова оглянулся по сторонам, проверяя, не подсел ли кто за это время за соседние столики. С сожалением поглядел в свою тарелку. Яйца вот-вот остынут. Печально вздохнул. — Ты, наверное, слышала, — сказал он, — рассказы о близнецах, которых при рождении разлучили и отдали в две совершенно разные семьи на воспитание, но которые прожили тем не менее поразительно сходные жизни. — Слышала, конечно. Ну и что это доказывает? — Воспитанные совершенно по-разному, в разном окружении, они избирают сходные карьеры, получают одинаковые доходы, женятся на женщинах, очень похожих одна на другую, даже детям своим дают похожие имена. Уму непостижимо! И, даже если не знают, что они близнецы, так как каждому из них внушили, что он единственный ребенок в семье, они все равно чувствуют друг друга за тысячи миль, хотя толком и сами не осознают, что или кого они чувствуют. Между ними существует какая-то связь, которую никто не может объяснить, даже ученые-генетики. Хатч замолчал, взял в руку вилку. Ему хотелось есть, а не говорить. Когда ешь, чувствуешь себя в большей безопасности. Но Линдзи хотела знать, что он имеет в виду, и потребовала, чтобы он довел свою мысль до конца. На тарелке сиротливо стыли яйца — стимуляторы его жизненного тонуса. Он вновь отложил вилку в сторону. — Иногда, — продолжил Хатч, — во сне я смотрю на мир глазами этого подонка, а теперь все чаще я даже начинаю чувствовать его наяву, и это очень похоже на то, что показывают в фильмах ужасов. Но, кроме всего этого, я ощущаю… какую-то сверхъестественную связь, которую никак не могу тебе объяснить или описать, как бы ты ни терзала меня. — Надеюсь, ты не станешь утверждать, что он — твой брат-близнец или что-то в этом роде? — Нет, конечно. К тому же он намного моложе меня, лет на двадцать. И мы с ним явно не одной крови. И тем не менее какая-то таинственная связь между нами существует, как у братьев-близнецов, какая-то глубокая нерушимая связь. — Ну хоть примерно, что это за связь? — Понятия не имею. Я и сам бы хотел знать ответ на твой вопрос. — Он замолчал. Затем решил быть до конца откровенным. — А может быть, и не хотел бы.Позже, когда официантка убрала со стола пустые тарелки и принесла им крепкий черный кофе, Хатч сказал: — Если ты думаешь, что я могу пойти в полицию и предложить им свои услуги, ты ошибаешься. — Но существует же понятие долга… — А что, собственно, я могу им предложить? Что мне известно? Она подула на кофе. — Ты знаешь, например, что он ехал на «понтиаке». — Но я не уверен, принадлежит ли он ему. — А чей же он тогда, по-твоему? — Он мог его угнать. — Но ведь ты еще что-то чувствовал? — Да, конечно. Но я даже не знаю, как он выглядит, как его зовут, где он живет, вообще ничего, что могло бы оказаться полезным для полиции. — Ну а если вдруг ты каким-то образом узнаешь все это? Что, если ты узнаешь что-то, что может помочь полиции напасть на его след? — Тогда я позвоню им и сообщу о том, что знаю, анонимно. — Но, если ты сделаешь то же самое лично, они скорее поверят тебе. Вторжение этого незнакомца-психопата в жизнь Хатча оскорбляло его чувства. Это незаслуженное оскорбление вызывало в нем ответное чувство протеста, а этого он боялся больше, чем необычности всего происходящего с ним, и даже возможной травмы головного мозга, вместе взятых. Он содрогался от ужаса при мысли, что будет доведен до отчаяния и в нем проснется дикий нрав его покойного отца, только и выжидающий удобного случая, чтобы вырваться наружу. — Когда дело идет об убийстве, — сказал Хатч, — они серьезно относятся к любой информации, даже анонимной. Ни за что больше не желаю быть газетной сенсацией номер один.
Из ресторана они направились в «Антикварный магазин Харрисона», где у Линдзи на втором этаже имелась вторая, помимо домашней, студия. Когда она находилась в процессе создания новой картины, смена окружения, считала она, способствовала более свежему восприятию уже достигнутого ею. Пока они ехали в машине и по правую руку в просветах между зданиями то и дело мелькал блестевший в ярких лучах солнца океан, Линдзи возобновила разговор, который они начали за завтраком, так как знала, что единственным серьезным врожденным пороком Хатча была тенденция ко всему относиться чересчур легковесно. Смерть Джимми была единственным тяжким событием в его жизни, которое он не пожелал рационально себе объяснить, чтобы затем свести до минимума и выбросить из головы. Но даже и это горе, вместо того чтобы выстрадать его до конца, он попытался приглушить, а добился совершенно противоположного эффекта — день ото дня оно становилось все более и более невыносимым. Получи он поэтому сейчас даже самую ничтожную отсрочку во времени, он тотчас начнет принижать важность возникающих у него странных озарений. — Ты должен поговорить с Нейберном, — заявила Линдзи. — Надо бы, конечно. — Не «надо бы», а обязательно. — Предположим, у меня действительно что-то случилось с головой, и от этого началась вся эта психическая белиберда, но ты же сама говорила, что травма положительно сказалась на мозге. — А вдруг возникнет тенденция к ухудшению, ведь травма эта непредсказуема. — Не думаю, — сказал он. — В общем, я себя чувствую неплохо. — Но ты же не врач. — Хорошо, пусть будет по-твоему, — сдался Хатч, останавливаясь на красный свет у пешеходного перехода на городской пляж, расположенный прямо в центре жилого массива. — Я ему позвоню. Но не забудь, что сегодня во второй половине дня мы должны быть у Гуджилио. — Все равно ты мог бы успеть до этого переговорить с Нейберном. Отец Хатча был настоящим тираном, невыдержанным, вспыльчивым, острым на язык, обладавшим способностью мгновенно заткнуть рот своим жене и сыну, вылив на них ушат мерзких оскорблений в виде злобных насмешек, ядовитого сарказма или откровенных угроз. Любой пустяк мог вывести его из себя, а иногда он начинал злобствовать просто так, по велению души, так как втайне лелеял в себе недовольство и раздражение и активно искал все новые возможности дать им выход. Это был человек, твердо усвоивший, что ему не дано быть счастливым, и он делал все от него зависящее, чтобы превратить свою жизнь и жизнь своих близких в сплошной ад. Опасаясь, что и в его душе может быть посеяно зерно этой губительной страсти, или, может быть, оттого, что самому пришлось от нее терпеть слишком много лишений, Хатч сознательно стремился быть выдержанным там, где отец давал полную волю своим чувствам, терпеливым и сговорчивым, где отец бывал упрямым и твердолобым, великодушным, где отец был неумолимым, стойко сносить все удары судьбы, тогда как отец стремился дать сдачи даже в тех случаях, когда ему только казалось, что его задевают. И, как следствие этого, Хатч был самым милым и славным человеком из всех, с кем когда-либо общалась Линдзи, и если положительность эту можно было бы как-то измерить — световыми годами, вязанками дров, ведрами воды, деньгами, — то по всем параметрам он все равно был бы милейшим человеком. Иногда, опасаясь риска столкнуться с неприятностями, будившими в его памяти шизофренические злобные выходки отца, он просто-напросто старался увильнуть от них. В светофоре загорелся зеленый свет, но на дороге все еще находились три молодые женщины, одетые в бикини и доверху нагруженные пляжными принадлежностями, направлявшиеся к океану. Улыбаясь и оценивающим взглядом окидывая их фигуры, Хатч ждал, пока они перейдут улицу. — Беру свои мысли обратно, — заявила Линдзи. — Что? Какие мысли? — Только что я думала, что ты очень хороший человек, что достойнее тебя трудно найти другого, а на самом деле ты старый, мерзкий и подлый развратник. — Может быть, и развратник, но все равно очень милый. — Я позвоню Нейберну, как только приедем в магазин, — сказала Линдзи. Они поехали через центральную часть города, расположенную на склоне небольшого пологого холма, мимо старой гостиницы «Лагуна». — Ладно. Но фиг я ему скажу, что стал медиумом. Он, конечно, человек неплохой, но от такой новости точно рехнется. И не успею я очухаться, как увижу свою физиономию на обложке «Нэшнл Инквайрер». Да и какой я медиум? Я сам толком не знаю, кто я — кроме, конечно, того, что я старый, мерзкий и подлый развратник. — Ну и что же ты ему скажешь? — Расскажу немного о снах, чтобы дать понять, насколько они беспокойные и страшные, и пусть назначит любые анализы и тесты, которые надо пройти. Ну как, достаточно? — Для первого раза, думаю, сойдет.
В могильной черноте своего логова, нагишом, свернувшись калачиком на грязном, засаленном, комковатом матраце, Вассаго через переднее стекло красной машины видел солнечный свет, песок, море и трех девушек, одетых в бикини. Ему снился сон, и он знал, что он ему снится, и это было новое, странное ощущение. И принимал он его как должное. Еще он видел черноволосую, черноглазую женщину, которая снилась ему вчера за рулем той же самой машины. Она появлялась и в других его снах, так, например, однажды — в кресле-каталке, когда она плакала и смеялась одновременно. Он посчитал ее гораздо интереснее тех трех одетых в бикини пляжных вертихвосток, потому что жизнь так и била из нее ключом. Она буквально светилась ею. Через посредство сидящего за рулем машины мужчины непонятным образом Вассаго знал, что женщина эта когда-то была близка к смерти, даже желала ее, но что-то удержало ее от последнего шага, и она отбросила даже саму мысль о ранней могиле… …Вода; он чувствовал, как дугой изгибается водяная струя, холодная и удушающая. Едва успевает от нее спастись… …после чего преисполнилась желанием жить и энергией, даже более непреоборимыми, чем раньше. Она обманула Смерть. Отвергла Дьявола. Вассаго возненавидел ее, потому что именно в служении Смерти видел смысл своего собственного существования. Он попытался дотянуться до нее через посредство сидящего за рулем мужчины. Но не смог. Ведь это был только сон. А во сне ничего не зависело от его воли. Но если бы он дотянулся, то заставил бы ее тысячу раз пожалеть, что она не приняла сравнительно безболезненную смерть от утопления, которая была ей уготована.
ПЯТЬ
Глава 1
Когда Регина переехала жить к Харрисонам, то подумала, что попала в Рай, только с тем отличием, что здесь у нее был собственный туалет, а в Раю, как известно, туалет никому не нужен. Ведь у них никто не страдает частыми запорами или чем-нибудь в этом роде, и им не приходится делать свои дела прямо на улице — черт их дери! (Прости меня, Господи!) — иначе какой же дурак решит отправиться в Рай, если ему там придется следить за каждым своим шагом. В Раю земные тяготы и заботы никого не обременяют. У них там, в Раю, даже и тел-то нет; они представляют собой сгустки ментальной энергии, подобно воздушным шарам, наполненным золотистым, ярко светящимся газом, и, паря вместе с ангелами, они возносят хвалу Господу — что, если вдуматься в это поглубже и представить себе все эти светящиеся и поющие шары, выглядит, прямо скажем, несколько странновато — и единственное, что из них выходит в качестве естественного отправления, может быть, немного газа, да и то вряд ли он будет плохо пахнуть, запах его скорее вызовет в памяти запах церковного ладана или аромат духов. Свои первые, проведенные у Харрисонов часы, а случилось это двадцать девятого апреля в понедельник вечером, она запомнила на всю жизнь, так хорошо ей было у них. Они даже и не заикнулись об истинной причине, почему предоставили ей самой решать, что выбрать в качестве своей комнаты: спальню на втором этаже или отдельную комнатку — они ее называли «логовом», — которую легко можно было переделать в спальню, — на первом. — Одно могу сказать в пользу «логова», — сказал мистер Харрисон, — вид из него гораздо красивее, чем из любой спальни второго этажа. Он подвел Регину к большим окнам, выходившим на усеянный розами сад, окруженный плотным кольцом огромных папоротников. Вид действительно был прелестным. А миссис Харрисон добавила: — А вот эти книжные полки ты можешь постепенно заполнить своей библиотекой, ведь ты любишь книги. За всем этим явно сквозило их беспокойство, что ей тяжело будет осиливать ступеньки. Но ступеньки никогда не были ей в тягость. Мало того, она любила лестницы, обожала их, ни к чему так не стремилась, как к ним. В приюте ее поместили на первый этаж, где она прожила до восьми лет, пока не сообразила, что на первом этаже она живет из-за идиотской скрепы на своей ноге и еще потому, что у нее деформирована правая рука. А сообразив это, тотчас потребовала, чтобы ее перевели на третий этаж. Монахини даже слышать об этом не хотели, тогда она закатила истерику, но монахини знали, как себя вести с истеричками, тогда она решила испепелить их презрением, но монахини не испепелились, тогда она объявила бессрочную голодовку, и монахини вынуждены были уступить и разрешили ей на некоторое время в качестве испытательного срока перебраться на третий этаж. Она прожила на нем свыше двух лет и никогда не пользовалась лифтом. И когда она, даже предварительно не осмотрев, выбрала спальню на втором этаже, они даже не сделали попытку ее отговорить и не усомнились вслух, под силу ли ей будет ежедневно подниматься и спускаться со второго этажа. За это она готова была их расцеловать. Дом был великолепен — стены кремового цвета, внутри все отделано полированным деревом, окрашенным в светлые тона, современная мебель вперемежку со старинными вещами, китайскими чашами и вазами, все как надо. Когда они повели ее осматривать дом, Регина и впрямь почувствовала себя нескладной и косолапой, как утверждала во время их первой встречи в кабинете у мистера Гуджилио. Ступая преувеличенно осторожно, она боялась, что вот-вот опрокинет какую-нибудь дорогую вещь и тогда цепная реакция разрушения перекинется на все другие ценные вещи, находящиеся в комнате, затем через порог проникнет в следующую комнату и пойдет гулять по всему дому — одна драгоценная вещь, падая, сталкивает другую, как на чемпионате мира по опрокидыванию фишек домино, во все стороны летят осколки фаянсовых, двухсотлетней давности, ваз, старинная мебель превращается в щепки, годные разве что для растопки печей, и кончается все это тем, что они стоят посреди груд бесполезного хлама и пыли, оставшихся от внутреннего убранства, когда-то стоившего целое состояние. Она настолько уверовала в реальность всего этого, что, переходя из комнаты в комнату, усиленно ломала себе голову над тем, что бы такое симпатичное сказать в свое оправдание после того, как произойдет катастрофа, когда с последнего рушащегося столика низвергнется на пол последняя хрустальная, изысканной работы конфетница, принадлежавшая первому королю Франции. «Вот это да-а!» не очень подходит, да и «Черт возьми!» тоже не совсем к месту, ведь они удочерили прилежную девочку-католичку, а не какую-нибудь там паскудину-язычницу (Прости меня, Господи!), не подойдет и «Ой, меня кто-то толкнул!», потому что это будет неправдой, а лгать нехорошо, ложь — это прямая дорога в Ад, хотя ей и так светит прямая дорожка в преисподнюю за частое поминание имени Господа всуе и ругань. Никогда не станет она шаром, наполненным золотистым, ярко светящимся газом. Внутри дома все стены были увешаны картинами, и на самых лучших из них, в правом нижнем углу, Регина заметила одну и ту же подпись: «Линдзи Спарлинг». И, хотя считала себя последним из обалдуев, все же сообразила, что имя Линдзи не случайное совпадение и что Спарлинг — это девичья фамилия миссис Харрисон. Эти картины были самыми странными и красивыми из всех картин, которые ей доводилось видеть в жизни, некоторые из них такие жизнерадостные и наполненные юмором, что нельзя было не улыбнуться, глядя на них, другие мрачные и грустные. Ей хотелось бы подолгу задержаться возле каждой из них, чтобы более внимательно разглядеть, вобрать в себя их содержание, но она боялась, что Харрисоны заподозрят в ней невежду-подхалима, только изображающую заинтересованность и пытающуюся таким способом испросить прощения за те непристойные шуточки, которые она отпускала в кабинете мистера Гуджилио по поводу картин на бархате. Каким-то образом все обошлось: она не задела ни одной вещи в доме, и они благополучно добрались до ее спальни. Комната оказалась гораздо просторнее любой комнаты в приюте и принадлежала теперь только ей, ж больше никому. Окна были прикрыты белыми колониальными ставнями, как на плантациях юга. Из мебели в ней находились угловой стол и придвинутый к нему стул,книжный шкаф, кресло со скамеечкой для ног, тумбочки с подобранными по цвету настольными лампами и изумительной красоты кровать. — Изготовлена она в 1850 году, — сказала миссис Харрисон, в то время как Регина медленно водила рукой по восхитившему ее ложу. — В Англии, — добавил мистер Харрисон. — Из красного дерева с рисунками ручной работы, покрытыми несколькими слоями лака. Ступенька, боковое ограждение и спинка у изголовья были разрисованы темно-красными и темно-желтыми розами на фоне изумрудно-зеленых листьев, и все это отлично вписывалось в закрашенное темным свободное пространство, не контрастируя с ним. Розы же выглядели настолько живыми, что казались влажными от росы, и если приблизить нос к их лепесткам, то, казалось, будут пахнуть. Миссис Харрисон сказала: — Может быть, это слишком старомодно для такой маленькой девочки и несколько напыщенно… — Да, возможно, ты и права, — согласился мистер Харрисон, — отошлем-ка мы ее обратно в магазин и продадим, а ты выберешь себе кровать по вкусу, что-нибудь более современное. Раньше эта комната была гостевой. — Нет, не надо, — поспешно пролепетала Регина. — Она мне нравится, даже очень. Можно, она останется здесь, хотя она и очень дорогая? — Во-первых, она не дорогая, — сказал мистер Харрисон, — а во-вторых, все, что здесь находится, — твое. — А в-третьих, — добавила миссис Харрисон, — если что-либо тебе здесь не понравится, можешь выкинуть. — Кроме нас, разумеется, — заметил мистер Харрисон, — что поделаешь, мы идем в придачу к дому. Сердце Регины так сильно колотилось в груди, что не давало свободно дышать. Счастье переполняло его. И страх. Все было так чудесно, но ведь так не может продолжаться долго. Счастье всегда быстротечно. Одна из стен спальни была скрыта за раздвижными зеркальными дверями, а за ними находился стенной шкаф. Самый громадный в мире. Стенной шкаф таких размеров нужен, наверное, только кинозвезде или одному из тех — она читала о таких в книгах, — кто переодевается то мужчиной, то женщиной, и ему надо много места, чтобы держать в одном шкафу мужскую и женскую одежду. Но ей такой шкаф ни к чему, сюда можно запихнуть в десять раз больше одежды, чем у нее имеется. С некоторой долей смущения взглянула Регина на два картонных чемодана, которые привезла с собой из приюта св. Фомы. Там было все ее имущество. Впервые в жизни ее осенило, что она бедна. Что было, в общем-то, странным для нее, прекрасно понимавшей, что она круглая сирота, у которой ничего нет за душой. Кроме, конечно, никудышной ноги и корявой правой руки без двух пальцев. Будто прочитав мысли Регины, миссис Харрисон вдруг сказала: — Рванем-ка мы по магазинам. Все вместе они отправились в Центральный универмаг Южного побережья. Они накупили ей всякой всячины: одежды, книг, всего, что она пожелала. Регину беспокоило, что они растратятся и потом целый год придется питаться одними бобами — она их не переносила, — чтобы хоть как-то свести концы с концами, но они отказывались внимать ее прозрачным намекам о нравственной добродетели бережливости. Наконец она вынуждена была все это прекратить, сказав, что у нее заболела нога. Из универмага они поехали обедать в итальянский ресторан. В приюте Регина дважды обедала вне его стен, но то была забегаловка, владелец которой угощал детей гамбургерами и жареной рыбой. А здесь был настоящий ресторан, и так много надо было успеть увидеть, что она не поспевала есть, вести за столом разговор и одновременно восхищаться тем, что видела вокруг. Стулья здесь были настоящие, а не из твердой пластмассы, и вилки и ножи тоже настоящие. Настоящими, а не бумажными или из пенопласта были и тарелки, и напитки им приносили в настоящих стеклянных стаканах, и это означало, что посетители ресторанов не были такими неловкими едоками, как завсегдатаи забегаловок, и им могли доверить легко бьющиеся вещи. Обслуживали их не какие-нибудь сопливые подростки, а самые настоящие официантки, которые не совали им поднос с едой через стойку, а подносили его прямо к столу. И не требовали денег с посетителей за еду, пока те сами не захотят расплатиться! Позже, дома у Харрисонов, после того как Регина распаковала свои вещи, почистила зубы, переоделась в пижаму, сняла с ноги скрепу и юркнула в постель, Харрисоны пришли пожелать ей спокойной ночи. Мистер Харрисон примостился на краешке кровати и сказал, что поначалу все ей будет казаться немного странным, даже иногда сбивать с толку, но постепенно она освоится и все будет в порядке, затем он поцеловал ее в лоб и проговорил: — Спокойной ночи, принцесса. Следующей была миссис Харрисон, и она тоже примостилась на краешке постели. Сначала она говорила о том, что они станут делать вместе. Затем она поцеловала Регину в щеку и сказала: — Спокойной ночи, малышка. И, когда выходила из комнаты, выключила верхний свет. Регину никто никогда не целовал на ночь, и потому она не знала, как вести себя в данной ситуации. Некоторые из монахинь любили обниматься, прижимая к себе то одну, то другую из своих питомиц, но лизаться никто из них не любил. Сколько Регина помнила, мигание лампочек в спальне означало, что в течение пятнадцати минут все обязаны лежать в своих постелях, потому что, когда свет погаснет, каждый ребенок должен будет сам подоткнуть свое одеяло на ночь. А сегодня ей два раза подоткнули одеяло и два раза поцеловали на ночь, а она была настолько поражена всем этим, что даже не поцеловала их в ответ, что должна была бы, как только сейчас сообразила, сделать. — Ну и олух же ты, Рег, — сказала она вслух. Лежа в своей великолепной кровати, со всех сторон окруженная в темноте перевитыми между собой розами, Регина мысленно представляла себе разговор, который вели между собой в эту минуту Харрисоны у себя в спальне: — Она поцеловала тебя на ночь? — Нет, а тебя? — Тоже нет. Может быть, она не ребенок, а бездушная рыба? — А может, она психопатка, дьявольское отродье? — Ага, как, помнишь, тот ребенок в «Знамении». — Знаешь, что меня беспокоит? — Что она зарежет нас ночью, когда уснем. — Надо спрятать от нее все кухонные ножи. — Да и электроприборы не мешало бы убрать подальше. — У тебя пистолет с собой? — Но пистолет вряд ли ее остановит. — Слава богу, что у нас есть распятие. — Будем спать по очереди. — А завтра быстренько отправим ее обратно в приют. — Ну и олух же я, — повторила Регина. — Засранка я, вот кто. — Она тяжело вздохнула. — Прости меня, Господи. — Затем молитвенно сложила руки и тихо зашептала: — Господи, если ты убедишь Харрисонов, чтобы они дали мне еще одну возможность исправиться, я никогда не буду говорить «засранка», я стану другой, вот увидишь. — Этого ей показалось мало, и она решила еще более Его задобрить. — В школе я буду учиться только на «отлично», никогда не буду бросать желе в купель со святой водой и очень серьезно подумаю о будущем поприще монахини. — Но и этого, с точки зрения Бога, видимо, было недостаточно. — И стану есть бобы. — Это скорее всего то, что нужно. Бог, видимо, гордился бобами. Создал же он так много сортов этого растения, и до чего же обильных! Ее отказ есть зеленые бобы, коричневые бобы, морские бобы и еще всякие другие бобы несомненно был зафиксирован на небесах в специальном, заведенном для этих целей журнале оскорблений Бога: «Регина, десяти лет, считает, что Бое дал маху, придумав бобы». Она зевнула. Теперь ее шансы остаться у Харрисонов и наладить хорошие отношения с Богом значительно увеличились, хотя насчет бобов все было как раз наоборот. Тем не менее вскоре она уснула.Глава 2
Пока Линдзи умывалась, чистила зубы и расчесывала в ванной волосы, Хатч, сидя в постели, читал утреннюю газету. Сначала он внимательно прочел газетную рубрику, посвященную последним достижениям науки, потому что только здесь можно было узнать что-нибудь стоящее в наше время. Затем, пробежав глазами развлекательную полосу, углубился в чтение своей любимой странички юмора, которую прочел с начала и до конца, и только тогда снова вернулся к первой полосе, живописующей последние деяния политиканов, как всегда, вопиющие и одновременно, если рассматривать их сквозь призму черного юмора, анекдотичные. На третьей странице взгляд его случайно натолкнулся на статейку о Билле Купере, том самом водителе, грузовик которого перекрыл им дорогу в тот злосчастный снежный мартовский вечер в горах. Спустя несколько дней после воскрешения Хатч узнал, что водителю грузовика было предъявлено обвинение в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и что процент алкоголя в его крови в два раза превышал допустимую норму, что уже само по себе грозило ему крупным денежным штрафом и тюремным заключением. Джорж Гловер, адвокат Харрисона, спросил его, собирается ли он официально подавать в суд на Купера или на фирму, в которой тот служил, на что Хатч, будучи по натуре незлобливым человеком и не сутяжником, ответил отрицательно. Кроме того, ему ужасно не хотелось влезать в трясину судебных разбирательств и заседаний, чреватых многими неожиданностями и скукой. Он остался в живых. До остального ему было мало дела. Против водителя грузовика и без него будет возбуждено уголовное дело за пьянство за рулем, и с точки зрения Хатча этого было вполне достаточно: тот в любом случае понесет наказание, которое заслужил, то есть именно то, которое ему назначит сама система. От Купера он получил два послания, первое из которых было доставлено ему на четвертый день после реанимации. Это было, очевидно, вполне искреннее, хотя и несколько велеречивое и подобострастное ходатайство о прощении и освобождении от греха убийства, адресованное ему прямо в больницу. «У Вас полное право подать на меня в суд, — писал Купер. — Знаю, я это вполне заслужил. И готов отдать Вам все, что у меня есть, хотя, увы, многого дать не смогу, так как весьма стеснен в средствах. Но подадите Вы на меня в суд или нет, это Ваше дело, я же хочу надеяться, что в Вашем великодушном сердце найдется возможность простить меня. Если бы не величайший из врачей мистер Нейберн и его великолепная команда, Вас бы уже не было в живых, а я до конца дней моих носил бы в себе этот грех». И в таком духе мелким, убористым, подчас едва различимым почерком были исписаны четыре больших листа. Хатч ответил коротенькой запиской, в которой уверял Купера, что не держит на него зла и не собирается подавать на него в суд. Он советовал ему, пока не поздно, пройти курс лечения от запоя, если тот и сам уже не сделал этого до того, как получил этот его ответ. Спустя несколько недель после того, как Хатч уже вернулся домой и приступил к работе, и когда вокруг его имени отшумела буря, поднятая в средствах массовой информации, от Купера прибыло второе послание. Хатч глазам своим не поверил, когда увидел, что в нем содержится просьба помочь Куперу восстановиться на прежнем месте водителя пивовоза, откуда он был немедленно уволен в связи с предъявленными ему полицией обвинениями в управлении машиной в нетрезвом виде. «Меня уже дважды выгоняли с работы за это, — писал Купер, — но оба раза я был за рулем собственной машины, а не грузовика, и не в рабочее, а в свободное от работы время. А теперь у меня нет работы, и они собираются отнять у меня водительские права, а это для меня будет катастрофой. Как я вообще смогу найти работу, если у меня не будет водительских прав? Из Вашего ответа я понял, что Вы истинный христианин, и потому обращаюсь к Вашему доброму сердцу: если Вы замолвите за меня словечко, Вы окажете мне огромную помощь. В конце концов, Вы же остались живы, да к тому же, благодаря всему, что случилось, получили огромную известность, что, полагаю, весьма положительно сказалось на бизнесе, которым Вы занимаетесь?» Пораженный этой наглостью и вне себя от гнева, что случалось с ним крайне редко, Хатч не ответил на это послание. И постарался вообще забыть о нем, так как страшился того гнева, который охватывал его всякий раз, когда он невзначай натыкался на это письмо. И вот теперь на третьей странице газеты была помещена коротенькая статейка, в которой сообщалось, что из-за технической ошибки, допущенной полицией в предъявленном Куперу обвинении, адвокату последнего удалось добиться полной отмены решения суда. В заметке содержалось также краткое, в три предложения, описание всего случившегося, в котором Хатч был охарактеризован как «человек, обладающий абсолютным рекордом по длительности пребывания в состоянии клинической смерти, после которой был успешно возвращен к жизни», словно он сам, движимый желанием во что бы то ни стало попасть на страницы «Книги рекордов Гиннесса», инсценировал свое собственное убийство. Другие откровения, содержащиеся там же, заставили Хатча громко выругаться и спустить ноги с постели: из статьи явствовало, что Купер будет теперь подавать в суд на своего работодателя за незаконное увольнение с работы и надеется либо вернуть себе свое прежнее место, либо, если ему будет в этом отказано, получить довольно значительное возмещение материальных убытков. «Мне довелось выдержать столько унижений со стороны моего бывшего работодателя, что все это привело к психическому заболеванию, — сообщил репортерам Купер, цитируя выученное им, видимо, наизусть написанное для него адвокатом заявление для прессы. — Даже мистер Харрисон написал мне, что не держит на меня зла за все случившееся той ночью». Хатч в гневе вскочил с постели. Лицо его было красным, и он весь дрожал. Непостижимо. Эта дрянь пытается вернуть себе свою работу, используя записку, которую из сострадания написал ему Хатч, как подтверждение своей невиновности, что совершенно извращает вложенный в нее Хатчем смысл. Это был чистой воды обман. Немыслимая, гадкая, попирающая все законы совести ложь. — Ну и подонок же! — сквозь зубы злобно прошипел Хатч. Зажав в правой руке скомканную страницу со статейкой, он выскочил из спальни и, прыгая через две ступеньки, сбежал вниз по лестнице. В «логове» он бросил газету на письменный стол, толкнул раздвижную дверь стенного шкафа и рывком выдвинул верхний из трех ящиков бюро для хранения важных бумаг. Он сохранил письма Купера, и, хотя оба были написаны на обычной бумаге без шапки, содержащей официальную информацию об отправителе, он знал, что водитель грузовика не забыл оставить на обоих посланиях обратный адрес и номер своего телефона. Он так нервничал и торопился, что в спешке пропустил нужную папку, на которой стояло: «РАЗНОЕ», выругался про себя, когда не нашел ее, затем стал просматривать папки в обратном порядке и наконец обнаружил то, что искал. Пока он быстро листал ее, из папки на пол прямо к его ногам высыпались остальные письма. Телефон Купера был написан от руки в правом верхнем углу второго из его посланий. Хатч бросил растрепанную папку на бюро и подлетел к телефону на письменном столе. Рука с зажатым в ней письмом так тряслась, что он никак не мог толком разобрать номер телефона и потому положил письмо на пресс-папье в конусе света от бронзовой настольной лампы. Трясущейся рукой Хатч набрал номер Уильяма Купера, намереваясь сказать ему все, что о нем думает. Но линия была занята. Он прижал большим пальцем рычаг разъединителя, дождался гудка и снова набрал нужный номер. Занято. — Сука! С силой швырнул трубку на рычаг, но тотчас вновь схватил ее, так как под рукой не было ничего другого, на чем он мог бы сорвать свою злобу. Попытался дозвониться в третий раз, использовав для этого кнопку повторного набора номера. Линия все еще была занята, так как после первой попытки не прошло еще и минуты. Он с такой силой швырнул трубку, что едва вдребезги не разбил телефон. Сидевший в нем другой Хатч был напуган этой глупой и дикой выходкой. Но не он сейчас управлял поступками реального Хатча, и даже факт осознания нелепости своего поведения не сумел привести его в чувство. — Хатч? Он с удивлением поднял глаза при звуке своего имени и увидел Линдзи, стоявшую в халате у дверей в «логово». Хмуро насупив брови, она спросила: — Что-нибудь не так? — А что может быть так? — с возрастающим негодованием злобно переспросил он, как будто она была заодно с Купером и только притворялась, что ни о чем не знает. — Я тебе скажу, что не так. Куперу удалось выйти сухим из воды! Эта скотина сначала убивает меня, сбивает с дороги под откос и убивает, а потом как ни в чем не бывало умывает свои грязные лапы и имеет наглость использовать мое письмо к нему, чтобы вернуть себе прежнее место работы! — Он схватил смятую газету и потряс ею перед носом жены, словно обвиняя ее в том, что там было написано. — Вернуть себе прежнее место работы — чтобы еще кого-нибудь свалить под откос и убить! Обеспокоенная и не понимая, о чем идет речь, Линдзи двинулась к нему. — Ему удалось выйти сухим из воды? Но каким образом? — Техническая ошибка. Очень забавно, а? Какой-то болван-полицейский не знает, как правильно написать слово, и этот паршивец будет преспокойненько разгуливать себе на свободе. — Успокойся, дорогой… — Успокоиться? Да как же тут успокоиться? — Он снова потряс смятой газетой. — Ты знаешь, что еще тут написано? Это ничтожество пошло в ту грязную газетенку, которая дольше всех проторчала у нас на ступеньках и с которой я вообще отказался иметь дело, и они тиснули там его версию случившегося. В ней эта пьяная свинья рассказывает о… — Он брызгал слюной от негодования; резким движением ладони выровнял скомканный газетный лист, нашел нужное место и начал читать: — О «том, какое эмоциональное потрясение он испытал, и о той роли, которую сыграл в спасении жизни мистера Харрисона». Какую роль он сыграл в моем спасении? Вызвал по радио помощь, когда мы шлепнулись в реку? Чего бы, кстати, никак не должно было произойти, если бы его идиотский грузовик не перегородил нам дорогу! Он собирается не только вернуть себе водительские права, но, скорее всего, и бывшую работу, а кроме того, еще здорово нагреет руки на всем этом деле! Попадись мне эта сволочь, я своими руками удушу его, честное слово, и не поморщусь! — Ты не посмеешь сделать этого, — сказала она, потрясенная его гневом. — Еще как посмею! Ничтожество, мелкий, жадный, вонючий подонок! Врезал бы ему ногой промеж глаз, чтобы вдолбить в его башку хоть понюшку ума, а потом швырнул бы его самого в эту ледяную купель… — Дорогой, пожалуйста, говори потише… — Какого черта я должен говорить потише в собственном… — Ты разбудишь Регину. Но не имя девочки вывело Хатча из состояния слепой ярости, а его собственное отражение в зеркальной двери стенного шкафа, подле которого стояла Линдзи. Фактически он увидел там не себя. На какое-то мгновение в зеркале отразился молодой человек с копной густых черных волос, полностью скрывавших его лоб, в черных солнцезащитных очках, затянутый во все черное. Он знал, что смотрит на убийцу, но убийцей, казалось, был он сам. В тот миг они были неотделимы друг от друга. Все это — и молодой человек в зеркале, и мелькнувшая в связи с ним нелепая мысль — длилось не более одной-двух секунд, и на Хатча из зеркала снова смотрело его собственное отражение. Потрясенный до глубины души даже не столько тем, что увидел в зеркале, сколько самой мыслью об отождествлении себя с убийцей, Хатч, глядя теперь на свое собственное отражение, ужаснулся и поразился еще больше. Вид у него был такой, будто его хватил апоплексический удар. Волосы спутаны. Лицо красное и искаженное гневом, а глаза… сумасшедшие. Теперь на него из зеркала смотрела точная копия отца, что было невыносимо, ужасно, немыслимо. Он и сам не помнил, когда в последний раз был так разозлен. А справедливости ради следует заметить, что таким злым он никогда еще не был. До сегодняшнего дня он думал, что неспособен на столь бурное проявление гнева и на породившую его всеиспепеляющую злость. — Я… я и сам не пойму, как это вышло. Смятый газетный лист шурша выпал из его руки, упал на письменный стол, оттуда на пол с тем же сухим, шелестящим звуком, живо воскресившим в его душе вид… …сухих коричневых листьев, гонимых ветром вдоль потрескавшегося асфальта в забытом людьми, разрушающемся луна-парке… …И в какое-то мгновение он как бы сам переместился туда и увидел выбивавшиеся из трещин в асфальте сорняки, мертвые листья, кружащиеся у его ног, луну, глядящую на него сверху, сквозь переплетения металлических конструкций, поддерживающих свод над рельсами, по которым мчались вагонетки катальных горок. Но вот он снова стоит в своем собственном домашнем кабинете, опираясь ослабевшими руками на письменный стол. — Хатч? Но он только беспомощно хлопал глазами, не в силах издать ни звука. — Что происходит? — спросила Линдзи, быстро подойдя вплотную к нему. Она осторожно дотронулась до его руки, явно опасаясь, что от ее прикосновения он может разлететься на мелкие кусочки или ударить ее кулаком по лицу. Вместо этого Хатч обнял и крепко прижал ее к себе. — Линдзи, прости меня, если можешь. Я не знаю, что со мной произошло, какой дьявол попутал меня. — Ну все, все, успокойся. Все уже позади. — Н-не уверен. Это было как… как наваждение. — Ты просто вышел из себя, вот и все. — Прости меня, — снова сказал он, чувствуя себя совершенно несчастным. Несмотря на то, что ей это показалось всего лишь вспышкой гнева, он знал, что это не совсем так: уж слишком ужасной, странной и сильной была эта вспышка. До белого каления. До сумасшествия. Хатч чувствовал, что перед ним разверзлась пропасть, что он едва удерживается на твердой почве и вот-вот обрушится в тартарары.Вассаго казалось, что от статуи Люцифера даже в сплошной темноте тянется длинная и широкая тень, но глаза его и во мраке смогли разглядеть и восхититься позами трупов в различных степенях тления. Как всегда, его охватил поэтический восторг от органичной целостности сотворенного им коллажа, от зрелища униженных останков и от вони, исходившей от них. Слух его не был столь острым, как его ночное зрение, но он не хотел верить, что ему только чудились мягкие, влажные звуки разложения, и он был захвачен ими и раскачивался в такт им, как знаток и любитель музыки бывает захвачен и раскачивается в такт мелодии Бетховена. Когда неожиданно его буквально захлестнула волна гнева, он и сам не мог бы объяснить, отчего это произошло. Началось все с какой-то вялой злости, вроде бы никому конкретно не адресованной. Он весь отдался ей, радуясь ей и подпитывая, чтобы она не угасала, а, наоборот, разгоралась. Мелькнуло видение газеты. Он не мог толком ее разглядеть, но что-то на одной из ее страниц явно было причиной его гнева. Он прищурил глаза, будто это могло помочь ему прочесть, что там написано. Видение газеты исчезло, но злость осталась. Он лелеял ее, как счастливый человек заставляет себя смеяться просто от того, что смех приводит его в еще лучшее расположение духа. Вдруг ни с того ни с сего он выпалил: — Ну и подонок же! Он не знал, откуда пришел к нему этот возглас, так же как не знал, почему произнес «Линдзи» в ресторане в Ньюпорт-Бич несколько недель тому назад, когда с ним начали происходить все эти странные и необъяснимые вещи. Злость настолько взвинтила его, что он отвернулся от своей коллекции и размашисто зашагал по огромному помещению, затем вверх по склону, по которому когда-то неслись вниз изукрашенные мордами резных чудищ гондолы, и выскочил на поверхность в ночь, где свет луны заставил его снова поспешно надеть солнцезащитные очки. Он не мог устоять на месте. Ему все время необходимо было быть в движении. Он шел по когда-то главной аллее луна-парка, не зная, что или кого ищет, с любопытством ожидая, что произойдет с ним дальше. Постоянно сменяя друг друга, в воображении возникали разрозненные образы: газета, комната, заставленная книжными шкафами, бюро, написанное от руки письмо, номер телефона… Он шел все быстрее и быстрее, неожиданно сворачивая на другие аллеи или на узкие пешеходные дорожки, мимо проплывающих слева и справа от него разрушенных павильонов, пытаясь отыскать какую-нибудь зацепку, которая вывела бы его на источник всех этих странных видений, появляющихся и исчезающих в его сознании. Когда он проходил мимо павильона, в котором помещался аттракцион катания с горок на роликовых санях, то заметил, как струившийся сквозь переплетения металлоконструкций, поддерживавших свод, холодный свет луны, отразившись от стальных путей, превратил их в две тонкие полоски льда. Подняв глаза, чтобы получше рассмотреть массивное — и неожиданно показавшееся ему таинственным — здание, он вдруг, сам того не желая, воскликнул: — Бросил бы его самого в эту ледяную купель! Женский голос сказал: — Дорогой, пожалуйста, говори потише. Понимая, что женский голос возник из него самого, как слуховой придаток к разрозненным образам, Вассаго тем не менее обернулся, пытаясь найти ту, которая это сказала. И увидел ее. В халате. У двери, которая не должна была находиться там, где стояла, сама по себе, без окружающих ее стен. Слева, справа и кверху от нее не было ничего, только ночь. И молчаливый луна-парк. Но в проеме двери, в котором стояла женщина, за ее спиной виднелась передняя: небольшой столик, на котором стояла ваза с цветами, лестница, изгибом уходившая наверх, на второй этаж. Это была та самая женщина, которая до настоящего момента являлась ему в снах, сначала в кресле-каталке, а недавно в красном автомобиле на залитом солнцем шоссе. Когда он шагнул к ней, она сказала: — Ты разбудишь Регину. Он остановился, но не потому, что боялся разбудить Регину — а эта откуда взялась? — и не потому, что не хотел тотчас расправиться с этой женщиной — как раз наоборот, у него буквально руки чесались сделать это, такой наполненной жизнью она казалась — а потому, что слева от призрачной двери заметил большое, во весь рост, зеркало, парившее в ночном воздухе. В зеркале был отражен он сам, но это был не он, а мужчина, которого он ни разу до этого не видел, одного с ним роста и телосложения, но почти вдвое старше него, сухопарый, бодрый на вид, с лицом, искаженным гримасой гнева. Но выражение гнева быстро сменилось выражением внутреннего смятения и вслед за ним — омерзения, и оба они, Вассаго и незнакомый мужчина, отвернулись от зеркала и устремили свои взгляды на стоявшую у двери женщину. — Линдзи, прости меня, — сказал Вассаго. Линдзи. Имя, которое он трижды повторил в том ресторанчике в Ньюпорт-Бич. До настоящего момента он не думал, что оно принадлежит женщине, так часто безымянной являвшейся ему во сне. — Линдзи, — повторил Вассаго. Теперь он говорил от своего имени, а не повторял слова за мужчиной в зеркале, и это разрушило наваждение. Зеркало и отраженная в нем фигура разлетелись на тысячи кусочков и испарились в ночи, и вместе с ним исчезли дверь и стоявшая подле нее черноглазая женщина. И, когда притихший, весь в лунном свете, парк восстал из ночи, Вассаго протянул руку к тому месту, где стояла женщина. — Линдзи. Ему хотелось дотронуться до нее. Такой живой, теплой. — Линдзи. Он бы вспорол ей грудь и зажал бы между ладоней ее трепещущее сердце и держал бы его до тех пор, пока его мерное биение не стало бы постепенно угасать… становиться все медленнее… медленнее… пока наконец не прекратилось бы навсегда. А он бы все держал его, уже безжизненное, холодеющее, в своих ладонях.
* * *
Быстро захлестнувшая Хатча волна гнева так же быстро откатилась назад. Он смял газетные листы в тугой комок и бросил его в корзину для бумаг, стоявшую подле письменного стола, даже не взглянув в последний раз на статейку о водителе пивовоза. Купер, этот жалкий и никчемный человечишка, в конце концов сам из-за своей тупости и жадности накличет на себя беду, которая будет во много раз страшнее того, что намеревался сделать с ним Хатч. Линдзи собрала разбросанные на полу перед бюро письма. Аккуратно сложила их в папку с грифом «Разное». Письмо от Купера лежало на столе рядом с телефоном. Когда Хатч взял его и перечел написанный от руки в верхнем углу над номером телефона домашний адрес, что-то злобное опять шевельнулось в его душе. Но это было только бледное, призрачное отражение истинной злобы, и через секунду оно, как и следует призраку, бесследно исчезло. Он отдал письмо Линдзи, она положила его в папку, а папку отправила на свое место в бюро.Спрятавшись от лунного сияния в тени павильона санных горок и овеваемый ночным ветерком, Вассаго ждал других видений. Его захватило то, что случилось с ним, но не удивило. Побывав в Вечности, он знал, что рядом с этим миром отделенный от него тончайшей перегородкой существует другой мир. И потому сверхъестественное не изумляло его. В то мгновение, когда он подумал, что таинственный эпизод уже подошел к концу, в его сознании мелькнуло еще одно видение. Белый разлинованный лист бумаги. Синие чернила. В верхнем углу фамилия и имя. Уильям Х. Купер. Далее название улицы и номер дома в Тустине. — Бросил бы его самого в эту ледяную купель! — пробормотал Вассаго и каким-то шестым чувством понял, что этот Уильям Х. Купер был предметом непонятного гнева, неожиданно охватившего его, когда он в заброшенном павильоне любовался своей коллекцией, и гнев этот каким-то непостижимым образом был, по-видимому, связующим звеном между ним самим и мужчиной, чье отражение он видел в зеркале. Сам гнев был ему по душе, и он сделал все от него зависящее, чтобы он не угас, прежде всего потому, что хотел понять, чей же это все-таки гнев и почему именно он чувствует его, и еще потому, что гнев — это закваска насилия, а насилие — это то, что ему необходимо для нормального существования. От павильона санных горок он направился прямо в гараж. Там его ждали две машины. «Понтиак» Мортона Редлоу стоял в самом дальнем углу, в самом темном месте. Вассаго не пользовался им с последнего четверга, когда убил Редлоу, а чуть погодя блондинку. Хотя он и предполагал, что туман был достаточно густым, чтобы служить ему надежным укрытием, все же он не был уверен, что свидетели, видевшие, как из него на полном ходу выпала на шоссе женская фигура, не запомнили его «понтиак». Он жаждал вернуться в мир бесконечной тьмы и вечного проклятия, снова стать одним из мира мертвых, но ему не хотелось, чтобы полиция пристрелила его раньше того, как он успеет завершить свою коллекцию. Если его дар будет признан неполным, он полагал, что его не примут обратно в Ад и заставят снова вернуться в мир живых, чтобы сызнова начать собирать другую коллекцию. Вторая машина, «хонда» жемчужно-серого цвета, ранее принадлежала Ренате Десье, которую он оглушил ударом дубинки по голове в субботу вечером на автостоянке торгового центра спустя две ночи после неудачи с блондинкой. Именно она, а не неопанк Лиза стала последним приобретением его коллекции. Он снял с «хонды» номерные знаки, бросил их в багажник и чуть погодя заменил их на номерные знаки старенького «форда», притулившегося в одном из тихих переулков на окраине Санта-Аны. К тому же «хонда» была настолько распространенной маркой машины, что в ней он чувствовал себя в полной безопасности. Он выехал с территории парка и, спустившись в долину из редко населенного восточного нагорья, направил машину в сторону золотистого света, раскинувшегося в полнеба на юг и на север и заполонившего собой почти все пространство между горами и океаном. Город-гигант. Скопище культурных ценностей. Великолепные охотничьи угодья. Сама необъятность Южной Калифорнии — тысячи квадратных миль, десятки миллионов людей, даже если не брать в расчет ее северный, Вентуру, и южный, Сан-Диего, округа, — служила Вассаго надежным союзником в его стремлении приобретать все новые экспонаты для своей коллекции и в то же время оставаться вне подозрений у полиции. Три его жертвы были взяты из трех разных общин, находившихся в разных точках округа Лос-Анджелеса, две другие — из округа Риверсайд, остальные — из Оранского округа, и все это в продолжение многих месяцев. Среди сотен пропавших без вести людей, о которых сообщала полиция в это время, несколько его скромных приобретений никоим образом не могли сказаться на общей криминогенной статистике, чтобы возбудить подозрения у общественности и заставить насторожиться власть имущих. Содействовало ему и то, что эти завершающие столетие и тысячелетие годы были эпохой непостоянства и текучести. Многие люди слишком часто меняли место работы и жительства, друзей, жен и мужей, не задумываясь о преемственности жизни. В итоге меньше людей стало замечать или проявлять беспокойство по поводу исчезновения незнакомых им лиц, и уж совсем немногие обращались с требованием к власть имущим предпринять все необходимые меры по их розыску. В большинстве случаев к тому же пропавшие без вести в одном месте неожиданно всплывали в другом, в измененных обстоятельствах и окружении, которое сами себе выбирали. Молодой служащий мог сменить тоску и однообразие корпоративной жизни и заняться разбоем в Лас-Вегасе или Рино, а молодая мать, обалдевшая от нескончаемого нытья своего ребенка-сосунка и притязаний инфантильного мужа, сбежать в казино и работать там банкометом или официанткой или, наконец, танцовщицей в каком-нибудь захудалом ресторанчике в этом же городе, так круто изменив свой образ жизни, словно обычная жизнь нормального человека была чем-то, чего все стыдятся, как стыдятся жизни воровской. Другие отыскивались, по уши увязнув в пагубной страсти к наркотикам, живя в дешевых, кишащих крысами гостиницах, сдающих номера на недельный срок огромному числу совершенно опустившихся, с остекленелым взглядом опухших глаз людей. А так как это все же была Калифорния, то многие из пропавших без вести обнаруживались в многочисленных религиозных общинах в округе Марэн или в штате Орегон, где они поклонялись какому-нибудь новому богу или новому проявлению старого бога или даже какому-нибудь умнику, объявившему Богом себя самого. Это была новая эра, отбросившая как ненужное старые традиции. Любой образ жизни считался нормальным. Даже такой, какой избрал для себя Вассаго. Если бы он оставлял за собой трупы убитых им людей, сходство жертв и методов убийства несомненно объединило бы их в единое преступление. Полиция поняла бы, что это дело рук одного и того же преступника, наделенного недюжинной силой и коварством, и они организовали бы специальную группу для его поиска и поимки. Но единственными трупами, не утащенными им в Ад, расположенный под парком аттракционов, были трупы блондинки и частного сыщика. А установить между ними хоть какую-нибудь связь было невозможно хотя бы уже потому, что погибли они при совершенно разных обстоятельствах. К тому же труп Мортона Редлоу еще неизвестно когда будет найден. Связать эти трупы в общее преступление могли лишь револьвер детектива, из которого была убита девушка, и его машина, из которой она была выброшена выстрелами. Но машина была надежно припрятана в самом дальнем и укромном из углов гаража давно покинутого луна-парка. Револьвер же находился в полиэтиленовом холодильнике вместе с пирожными «орео» и другой едой на дне шахты лифта, двумя ярусами ниже поверхности луна-парка. И Вассаго и не думал вновь пускать их в дело. Он был не вооружен, когда, проехав почти весь округ с севера на юг, прибыл по адресу, который вычитал из написанного от руки письма во время своего видения наяву. Уильям Х. Купер, кем бы этот подонок ни был, если вообще существовал, жил в привлекательного вида многоквартирном жилом комплексе с разбитым вокруг него прекрасно ухоженным парком. Все вместе это называлось «Палм Корт». Название места и номер дома были затейливо вырезаны на декоративном деревянном щите, подсвеченном спереди и прикрепленном сзади к обещанным пальмам. Вассаго, не останавливаясь, проехал мимо «Палм Корта», свернул направо и припарковал машину за два квартала от него. Он не хотел, чтобы кто-нибудь заметил «хонду» возле дома. Намерения убить Купера у него не было, только переговорить с ним, задать ему пару вопросов, особенно касательно черноволосой, черноглазой суки по имени Линдзи. Но так как в целом ситуация была совершенно ему непонятна, он не пренебрегал никакими мерами предосторожности. К тому же так уж получилось, что большинство людей, с кем ему довелось общаться более или менее длительное время в эти дни, были им убиты.
Закрыв бюро и погасив лампу в «логове», Хатч и Линдзи вошли в комнату Регины и на цыпочках подошли к ее кровати, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. При свете, проникавшем в комнату через дверь из коридора, они убедились, что она крепко спит. Костяшки пальчиков крепко сжатой в кулачок ладошки лежали у подбородка. Губы слегка раскрылись, и дыхание ее было мерным и спокойным. Если ей и снились сны, то, скорее всего, они были приятными. Хатч почувствовал, как сжалось его сердце, когда он смотрел на нее, такой безрассудно маленькой она ему казалась. Он с трудом верил, что и сам когда-то был таким же юным, как сейчас Регина, так как юность — это пора простодушия и невинности. Взращенный ненавистным и деспотичным отцом, уже в самом юном возрасте он разменял невинность на интуитивное понимание извращенной психологии, и только это помогло ему выжить в семье, где гнев и железная дисциплина были единственной наградой за наивные ошибки и недоразумения. Он знал, что Регина не была такой уж неженкой, какой выглядела, что жизнь и ее заставила обрасти толстой кожей и обзавестись стальным сердцем. Но какими жесткими ни казались бы они внешне, оба были уязвимы до чрезвычайности — ребенок и взрослый. А в эти мгновения Хатч был даже в сотни раз ранимее девочки. Если бы ему было дано выбрать между ее недугами — парализованной ногой и скрюченной неполноценной рукой — и той травмой, которая каким-то образом была нанесена его мозгу, он не задумываясь выбрал бы ее физические недостатки. После того, что только недавно приключилось с ним, включая необъяснимое и стремительное перерастание его злости в слепой, всесокрушающий гнев, Хатч чувствовал, что не вполне может владеть собой. А с юных лет, имея перед глазами ужасающий пример отца, что беспредельно увеличивало его страх, больше всего на свете он боялся потерять над собой контроль. — Я тебя не подведу, можешь в этом не сомневаться, — пообещал он спящему ребенку. Подняв глаза на Линдзи, которой был обязан обеими своими жизнями, до и после смерти, он мысленно пообещал ей то же самое: «Я тебя не подведу, можешь в этом не сомневаться». Ах, как бы ему самому хотелось верить, что он действительно сможет сдержать свое слово! Чуть позже, в спальне, когда уже при погашенном свете они лежали каждый на своей половине кровати, Линдзи сказала: — Завтра у доктора Нейберна будут и остальные результаты анализов. Большую часть субботы Хатч провел в клинике, сдавая анализы крови и мочи, позволяя всевидящему оку рентгена осматривать самые сокровенные закоулки своих внутренностей, а всеслышащему уху сонографа прослушивать их пульсы и биения. В какой-то момент к телу его тянулось даже больше электродов, чем к тому существу, которое доктор Франкенштейн заряжал энергией с помощью воздушных змеев, запускаемых в грозовое небо. — Когда мы беседовали с ним сегодня, — проговорил Хатч, — он был очень доволен анализами. Уверен, что и те, которые придут завтра, ничего нового не дадут. То, что со мной происходит, никак не связано ни с внутренней, психической, травмой, ни с внешними, физическими, увечьями, которые я получил во время аварии или когда… был мертвым. Я вполне здоров, со мной все в порядке. — Господи, это было бы здорово. — Да я прекрасно себя чувствую! — Правда? — Конечно, у меня на этот счет нет никаких сомнений. Он и сам удивился, как уверенно прозвучала у него эта ложь. Может быть, оттого, что была святой ложью, высказанной не во вред и не в ущерб ей, а чтобы ее успокоить, чтобы ничем не нарушить ее спокойствие и сон. — Я тебя люблю, — прошептала Линдзи. — И я тебя. Спустя несколько минут — как показали электронные часы на ночном столике — она уже мирно посапывала во сне. Хатч же был не в состоянии уснуть, охваченный волнением и беспокойством по поводу того, что завтра услышит о своем будущем или о том, что у него уже никогда не будет будущего. В его воспаленном воображении доктор Нейберн с серым от бессонницы лицом, хмурясь, сообщал ему тяжкую весть, что в одном из полушарий его мозга обнаружено какое-то странное затемнение, которое может быть расшифровано как угодно: как скопление мертвых клеток, повреждение тканей, как пузырь или как недоброкачественная опухоль. Во всяком случае, что-то смертельно опасное, не подлежащее хирургическому вмешательству. С явно выраженной тенденцией к ухудшению. Уверенность уже почти возвратилась к Хатчу после всего того, что произошло с ним в ночь с четверга на пятницу, когда ему приснился сон об убийстве блондинки и когда он поехал прямо по следу убийцы, свернув со скоростного шоссе на дорогу № 113. Три дня пролетели без всяких происшествий. Только что прошедший день, озаренный душевным подъемом и радостью в связи с прибытием в их дом Регины, был чудесным. А потом на глаза ему попалась эта паршивая статейка о Купере и выбила его из колеи. Он не сказал Линдзи, что видел в зеркале отражение незнакомца. На этот раз он не смог бы сделать вид, что, как лунатик, находится в состоянии полусна. Все, что произошло, произошло не во сне, а наяву, и отражение в зеркале было своеобразной, необъяснимой и все же явной галлюцинацией. Здоровый, неповрежденный мозг не может галлюцинировать. Он не поделился с ней своим ужасом, так как знал, что, когда завтра они получат результаты анализов, у нее и без того будет масса причин для волнения и страха. Будучи не в состоянии уснуть, Хатч снова непроизвольно стал думать о статье в газете, хотя вовсе не желал этого. Он всеми силами гнал от себя мысли о Купере, но снова и снова возвращался к ним, как делал бы это с больным зубом, беспрестанно против своей воли дотрагиваясь до него кончиком языка. Ему казалось, что чья-то злая воля заставляла его думать о водителе грузовика, словнокакой-то чужой гигантский мозг, как магнит, неумолимо направляет его мысли именно на него. Вскоре он с отчаянием убедился, что в его груди снова начинает вскипать злоба. Хуже того, в мгновение ока злоба переросла в дикую ярость, вслед за которой возникло непреодолимое желание терзать и убивать, настолько сильное, что ему пришлось крепко прижать стиснутые в кулаки руки к своему телу и, сцепив зубы, сдержать рвущийся из горла звериный вопль разъяренного дикаря. Из табличек с именами владельцев на выстроившихся вдоль крытой галереи перед входом в жилой комплекс почтовых ящиков Вассаго выяснил, что Уильям Купер занимает квартиру № 28. Пройдя по галерее во внутренний двор, обсаженный пальмами, фикусами и папоротниками и подсвеченный слишком уж многочисленными, с его точки зрения, спрятанными в кустах декоративными лампами, он поднялся по внешней лестнице на крытую галерею, в которую выходили двери квартир второго этажа двухэтажного жилого комплекса. Вокруг не было ни души. «Палм Корт» мирно почивал. Хотя было уже за полночь, окна квартиры Купера были освещены. До Вассаго доносились приглушенные звуки телевизора. Окно справа от двери забрано многостворчатыми ставнями. Но сквозь неплотно прикрытые створки виднеется кухня, тускло освещенная лампочкой в решетчатом плафоне. Второе окно, большее по величине, слева от двери, выходило на галерею из гостиной. Между неплотно задернутыми шторами изнутри просачивалась полоска света. Сквозь эту щель можно было видеть полулежавшего, полусидевшего в большом кресле с откидной спинкой мужчину с задранными на небольшую скамеечку перед телевизором ногами. Его склоненная набок голова была повернута лицом к окну, и казалось, что он спит. Стакан, наполненный янтарного цвета жидкостью, стоял рядом с наполовину опорожненной бутылкой «Джека Даниэля» на журнальном столике, плотно придвинутом к креслу. Из бумажного пакета, свалившегося со столика на покрытый желчно-зеленым ковром пол, просыпались оранжево-золотистые сырники. Вассаго быстро оглянулся по сторонам, внимательно осмотрел двор. Никого. Попытался отодвинуть окно гостиной, но оно не поддалось: то ли проржавело, то ли было закрыто изнутри. Тогда он решил попытаться проникнуть внутрь через окно на кухне, но, проходя мимо двери, просто так, на всякий случай, толкнул ее. Дверь оказалась незапертой. Он вошел внутрь, плотно прикрыл ее за собой и запер на замок. Мужчина в кресле, видимо, сам Купер, даже не пошевелился, когда Вассаго плотно задвинул шторы на окне. Теперь кто бы ни проходил по галерее, никак не смог бы заглянуть в комнату и увидеть, что там происходит. Убедившись, что в кухне, столовой и гостиной, кроме них двоих, больше никого нет, Вассаго мягко, как кошка, ступая по полу, быстро осмотрел ванную и две спальни (одну совершенно пустую, отданную, видимо, под кладовку), составлявшие вместе с остальными помещениями всю квартиру. Полулежавший в кресле мужчина был в квартире один. На туалетном столике в спальне Вассаго обнаружил бумажник и связку ключей. В бумажнике находились пятьдесят восемь долларов и водительское удостоверение на имя Уильяма Х. Купера. На фотокарточке было изображено лицо спавшего в гостиной мужчины, правда, моложе на несколько лет и не обезображенное пьяной гримасой. Вассаго вернулся в гостиную, намереваясь просто разбудить Купера и кое о чем его расспросить. К примеру, кто такая эта Линдзи и где она живет? Когда же Вассаго подошел к креслу, его вдруг, как раскаленным железом, обожгла дикая злоба, настолько неожиданная и ничем не спровоцированная, что она явно не могла исходить от него самого, словно помимо своей воли он оказался проводником эмоций, переживаемых другим человеком. И то, что передалось ему сейчас, было точь-в-точь похоже на тот внезапно вспыхнувший в нем гнев, который он испытал, когда любовался своей коллекцией в чреве луна-парка с час тому назад. Как и тогда, он с радостью принял его и подстегнул личной злобой, не зная, явятся ли ему, как и в прошлый раз, видения. Но на этот раз, когда он стоял, глядя на спящего Купера, гнев настолько стремительно перерос в безумную ярость, что она мгновенно вывела его из равновесия и заставила схватить со стоящего подле кресла столика бутылку «Джека Даниэля».
Неподвижно лежавшего в собственной постели и прижимавшего к телу крепко сжатые — так что ногти больно вонзались в ладони — кулаки Хатча охватило странное чувство, что его чувствами манипулирует кто-то невидимый. Он ощутил, что его охватывает непонятная дикая ярость, наполняя неведомой, без границ и ясных целей, силой, слепо ведомой только ненасытными ненавистью и злобой. В неистовости ее было что-то нечеловеческое, сродни урагану или все сметающему на своем пути смерчу, и он понимал, что может оказаться слишком маленьким сосудом, чтобы вместить в себя вею злобу, которую в него перекачивали, и, не выдержав напряжения, разлететься на мелкие кусочки.
Полупустая бутылка «Джека Даниэля» с такой силой опустилась на склоненную голову спящего мужчины, что грохот удара был подобен выстрелу из дробовика. Виски вперемешку с битым стеклом фонтаном брызнули вверх, в стороны и вниз, окропив телевизор, стены, стоявшую поблизости мебель и пол и забросав их мелкими, острыми бутылочными осколками. Воздух наполнился бархатистым ароматом спиртного, но к нему примешивался становившийся все явственнее другой запах, запах крови, потому что рваная рана на виске Купера обильно кровоточила. Теперь он уже не спал. Он был мгновенно перемещен в совершенно иные глубины бессознательного состояния. В руке у Вассаго осталось только бутылочное горлышко с тремя острыми зубцами, с которых на пол стекали остатки виски, вызвав в его воображении зубы змеи с капающим с них ядом. Сместив пальцы, он заново перехватил горлышко, занес его высоко над головой и, свирепо зашипев, с силой опустил вниз. Стеклянная змея вонзила свои страшные клыки в лицо Уильяма Купера.
Безумный гнев, охвативший Хатча, по накалу был не сравним ни с чем, что ему когда-либо доводилось испытывать, перед этим приступом бешенства бледнели любые, даже самые буйные выходки отца. Это было нечто, чего он никогда не был бы в состоянии породить в себе сам, по той же причине, по которой нельзя изготовлять серную кислоту в котле, сделанном из бумаги: содержимое пакета мгновенно растворит сам сосуд. Ворвавшийся в него под огромным давлением бурный поток гнева был настолько горячим, что ему хотелось кричать от боли, таким добела раскаленным, что кричать он просто не мог. Сознание его тотчас выгорело дотла, и он провалился в спасительную темень, где уже не было ни гнева, ни ужаса.
Вассаго понял, что стонет от буйной, дикой радости. После дюжины или двадцати ударов в лицо от стеклянного оружия в его руке почти ничего не осталось. И он неохотно выпустил из побелевших от напряжения пальцев короткий обрубок бутылочного горлышка. Рыча, как дикий зверь, он всем телом навалился на огромное кожаное кресло и перевернул его вверх ногами, сбросив мертвеца на покрытый зеленым ковром пол. Схватив за ножку стоявший тут же столик, с силой швырнул его прямо в экран телевизора, где в этот момент Хамфри Богарт, сидя в зале военного трибунала и перекатывая в своих морщинистых пальцах пару нуль, что-то гундосил о «малине». Что-то щелкнуло, и экран, взорвавшись изнутри, превратил Богарта в фонтан желтых искр, вид которых вызвал в душе Вассаго новую волну разрушительного остервенения. Он ударил ногой по кофейному столику, сорвал со стены два эстампа, выбил из их рам стекла, сбросил с каминной полки набор дешевых керамических безделушек. Ему хотелось перевернуть вверх дном всю квартиру, вытащить из ящиков всю посуду и разбить ее вдребезги, превратить все, что было в ней из стекла, в яркие мелкие осколки, выбросить из холодильника все его содержимое и размазать по стенам, в щепы разбить мебель, но в этом его желании ему помешал едва слышный, отдаленный вой сирены, быстро, однако, приближающийся, значение которого дошло до него даже сквозь пелену кровавого тумана, окутавшего его мозг. Он рванулся к двери, затем быстро отскочил назад, сообразив, что во дворе могли оказаться люди или кто-нибудь наблюдал за двором из окна своей квартиры. Тогда он выбежал из гостиной, быстро прошмыгнул через небольшой коридор и очутился в спальне, где, отодвинув портьеры, выглянул наружу и увидел прямо под собой крышу бежавшего вдоль всего здания навеса для машин. За навесом виднелась подъездная аллея, окаймленная с другой стороны высокой блочной стеной. Он отодвинул задвижку на двойном окне, поднял вверх нижнюю раму и, протиснувшись через небольшое отверстие, вывалился на крышу навеса, подкатился к его краю и, как кошка, приземлился на ноги на аллее. От толчка у него слетели солнцезащитные очки, он нагнулся, схватил их, снова надел. Метнулся влево, туда, где был задний двор комплекса, подстегиваемый быстро нарастающим воем сирены. Когда подбежал к расположенной с другой стороны восьмифутовой блочной бетонной стене, окружавшей весь комплекс, быстро, как паук, вскарабкался по ноздреватой ее поверхности и спрыгнул вниз на другой подъездной путь, обслуживающий машины, стоящие под навесом в другом жилом комплексе, и так от аллеи к аллее бежал он, чисто инстинктивно выбирая правильное направление в этом запутанном лабиринте, пока не оказался на улице, всего в двух кварталах от того места, где оставил свою жемчужно-серую «хонду». Вскочив в машину, включил зажигание и как мог спокойно, хотя был весь взмокший от пота и так тяжело дышал, что запотели стекла, отъехал. Упиваясь смешанным ароматом виски, крови и пота, он был так сильно возбужден, так глубоко удовлетворен содеянным, что в избытке чувств колотил ладонями по баранке и буквально визжал от приступов неудержимого хохота. Некоторое время он просто колесил по улицам города, не имея никакого представления о том, куда едет. Когда веселость его немного поутихла и сердце перестало возбужденно колотиться, он, сориентировавшись, отправился в юго-восточном направлении, в ту сторону, где находилось его логово. Со смертью Уильяма Купера у Вассаго исчезла единственная зацепка, которая могла бы вывести его на женщину по имени Линдзи. Но это его мало беспокоило. Он не знал, что с ним происходит, почему именно Купер, Линдзи и тот мужчина, отражение которого он видел в зеркале, были ему навязаны сверхъестественными силами. Однако он знал, что вера в мрачного своего бога поможет ему выяснить в конце концов и эту тайну. У него возникла мысль, что Ад не просто отринул его, возвратив в мир живых, а, видимо, для того, чтобы разделаться с теми из людей, кого Царь Тьмы хотел бы видеть мертвыми. Скорее всего, его не столько вырвали из преисподней, сколько отправили обратно в жизнь с миссией уничтожать все живое вокруг себя. Теперь все более или менее становилось ему понятным. И, если дело обстоит именно так, он с превеликой радостью станет орудием своего черного и могущественного божества. Отныне он с нетерпением будет ждать следующего его задания.
Ближе к рассвету, после нескольких часов почти мертвого сна, Хатч проснулся и не сразу сообразил, где находится. Несколько мгновений он пребывал в замешательстве, но вот волны забвения выбросили его на берег памяти: он у себя в спальне, рядом, посапывая во сне, лежит Линдзи, пепельно-серый рассвет посыпает оконные стекла серебристой пылью. Когда он вспомнил совершенно необъяснимый и нечеловеческий припадок гнева, парализовавший его, то замер от страха. Попытался вспомнить, на что было направлено острие этого гнева, каким диким поступком насилия все это завершилось, но память молчала. Вроде бы он сразу же потерял сознание, словно эта неестественная злоба, захлестнувшая его, отключила мозг, как короткое замыкание, сжигая предохранители, отключает электрическую сеть. Потерял сознание или потерял рассудок? Эти два понятия разделяет существенное, роковое отличие. Потеряв сознание, он мог бы вею ночь проваляться в кровати, ослабевший, недвижимый, как камень на дне моря. Но если он потерял рассудок, то, не соображая, что творит, в состоянии психоза мог заварить такую кашу, что потом и вовек не расхлебать. Вдруг ему почудилось, что Линдзи грозит смертельная опасность. Сердце застучало в груди, как молот по наковальне. Хатч рывком сел в постели и посмотрел на нее. В полумраке рассвета он не мог как следует разглядеть жену и видел только неясные очертания ее тела, покрытого простыней. Хатч потянулся было к выключателю у изголовья, но отдернул руку. Он боялся того, что мог увидеть. «Но я никогда не смог бы причинить боль Линдзи, никогда», — в отчаянии подумал он. И тут же вспомнил, что на какое-то мгновение прошлой ночью вышел из себя. Вспыхнувшая в нем ненависть к Куперу, казалось, растворила внутри него потайную дверь, впустив в его душу какое-то страшное чудовище из потустороннего мира. Дрожа всем телом, он все же решился щелкнуть выключателем. При свете лампы увидел, что Линдзи, как и прежде, мирно спала и чему-то даже улыбалась во сне. На душе у него сразу стало легче, он выключил свет и вспомнил о Регине. И снова взревел мотор тревоги. Но ведь это нелепо. Он с таким же успехом мог причинить боль Регине, как и Линдзи. Она же совершенно беззащитный ребенок. Но дрожь не унималась, и мысли тоже. Стараясь не потревожить жену, Хатч выскользнул из постели, снял со спинки кресла свой халат, натянул его на себя и на цыпочках вышел из комнаты. Босой прошел в зал, через застекленный потолок которого пробивался утренний рассвет, позволивший ему, не зажигая дополнительного освещения, направиться в сторону спальни Регины. Сначала он шел быстро, потом заметно сбавил ход, словно ужас прицепил к его ногам стопудовые гири. Хатч мысленно представил себе разрисованную цветами кровать из красного дерева, залитую кровью, смятые и в беспорядке разбросанные простыни с проступившими на них бурыми пятнами. Почему-то вдруг показалось, что из исковерканного лица девочки будут торчать осколки бутылочного стекла. Страшная эта подробность лишний раз убедила его, что в миг беспамятства он действительно совершил нечто неслыханно ужасное. Когда Хатч чуть приоткрыл дверь и заглянул в комнату, то увидел, что девочка, как и Линдзи, мирно спит в своей постели в той же позе, в какой они видели ее, когда вместе с женой заглядывали к ней перед тем, как самим отправиться спать. Никаких следов крови. Никаких осколков битого стекла. Судорожно сглотнув, он тихо прикрыл дверь, возвратился в зал и остановился прямо под застекленным потолком, с которого струился тусклый предутренний свет. Подняв глаза, он уставился на просвечивающее через матовое стекло неопределенного цвета небо, словно там искал объяснение всему случившемуся. Но объяснение не находилось. Тревога и сомнения так и не покинули его. Хорошо еще, что Линдзи и Регина были в порядке и их не коснулись события прошлой ночи. На память ему вдруг пришел старинный фильм о вампирах, в котором умудренный опытом священник предупреждал молодую женщину, что несмертные могут войти к ней в дом, только если она сама пригласит их, и что они хитры, коварны и льстивы и могут заставить даже посвященных в их тайну послать им это смертельное приглашение. Между Хатчем и тем психопатом, убившим молодую блондинку по имени Лиза, несомненно существует какая-то связь. Не сумев подавить в себе злость на Купера, он усилил эту связь. Злость его и была тем ключом, который открывал дверь потустороннему присутствию. Когда он позволял себе злиться, он посылал своему тайному двойнику приглашение, подобно тому, о котором в фильме священник предупреждал молодую женщину. Хатч и сам не мог объяснить себе, откуда это было ему известно, но голову бы дал на отсечение, что дело обстояло именно так. И ничего большего не желал на свете, как выяснить, что же это все-таки такое. Он чувствовал себя совсем потерянным. Маленьким, слабым и испуганным. И несмотря на то, что этой ночью с Линдзи и Региной ничего ужасного не произошло, Хатч никогда так сильно не ощущал, что обеим им грозит смертельная опасность. И день ото дня она все увеличивается. И час от часу становится неизбежнее.
Глава 3
Перед самым рассветом тринадцатого апреля Вассаго помылся на открытом воздухе водой из бутылок и жидким мылом. Когда забрезжили первые лучи нового дня, он уже был надежно укрыт в самом глубоком месте своего логова. Лежа на матраце и глядя вверх в шахту лифта, он наслаждался «орео», запивая их теплой содовой, затем достал из целлофановых пакетов пару «Легких завтраков». Убийство действовало на него умиротворяюще. Огромное внутреннее напряжение мгновенно снималось первым же наносимым им смертельным ударом. Но гораздо важнее было то, что каждое убийство он рассматривал как бунт против всего, что считалось священным: против заповедей, законов, кодексов и раздражающих своей манерностью и вымученностью правил хорошего тона, используемых людьми для поддержания выдумки, что жизнь — это бесценный дар, что она наделена глубоким смыслом. Жизнь — дешевка и бессмыслица. Значимы только сиюминутные ощущения и быстрое удовлетворение всех желаний, что по-настоящему могли понять только сильные и истинно свободные. После каждого убийства Вассаго ощущал себя свободным как ветер и могущественнее любой стальной машины. До одного особого, восхитительного вечера на двенадцатом году его жизни он был одним из порабощенной массы, руководствовавшейся в жизни законами так называемого цивилизованного мира, хотя лично ему они казались бессмысленными. Он притворялся, что любит мать, отца, сестру и огромное количество родственников, хотя питал к ним не больше чувств, чем к случайно встреченным на улице прохожим. В детстве, когда уже достаточно подрос, чтобы задумываться о таких вещах, он считал, что с ним не все в порядке, что в его характере отсутствует какое-то очень важное свойство. Прислушиваясь к себе в те моменты, когда притворно уверял кого-нибудь в своей любви, используя тактику и стратегию лжепривязанности и бесстыдной лести, он поражался, насколько убедительным казался для других, так как сам без труда улавливал в своем голосе нотки неискренности, в жестах и выражении лица — чистейший обман, а в каждой своей любящей улыбке, которой одаривал близкого человека, видел ее двуличие и фальшь. Но в один прекрасный день неожиданно для себя он услышал фальшь и в их голосах и увидел ее в их лицах и понял, что и они никогда никого не любили и не питали тех возвышенных чувств, к которым должен стремиться каждый цивилизованный человек, — самоотверженности, смелости, набожности, скромности и всего остального из этого идиотского катехизиса. И они вели двуличную игру. Позже он пришел к убеждению, что большинство из них, даже среди взрослых, не обладают его проницательностью и не сознают, что другие люди полностью подобны им самим. Каждый человек считал себя единственным в своем роде, полагая, что обделен какой-то существенной чертой в характере и потому вынужден так вести игру, чтобы никто не заметил этого, иначе он будет обнаружен и отвергнут обществом, как недочеловек. Бог попытался создать мир, основанный на любви, но потерпел явную неудачу и в своих заповедях призвал людей делать вид, что они обладают теми достоинствами, которыми он не сумел их наделить. Когда эта ошеломляющая мысль пришла Вассаго в голову, он сделал первый шаг к освобождению. Затем одним летним вечером, когда ему было двенадцать лет, до него наконец дошло: чтобы стать действительно свободным, абсолютно свободным, он должен действовать сообразно своему пониманию жизни, то есть вести жизнь, полностью отличную от той, которую ведет людское стадо, ставя превыше всего и удовлетворяя прежде всего свои собственные потребности. Единственным его желанием должно стать желание властвовать над другими, ибо этой властью его наделила осведомленность об истинном положении вещей в мире. В тот вечер он понял, что умение убивать и не чувствовать при этом никаких угрызений совести есть самая высшая форма власти, а облекать эту власть в плоть и кровь и есть самое высшее из всех наслаждений… В те дни, до того как он умер и снова вернулся в мир живых и присвоил себе имя князя-демона Вассаго, он отзывался и жил под именем Джереми. Лучшим его другом был Тод Леддербекк, сын доктора Сэма Леддербекка, гинеколога, которого Джереми, когда хотел поддразнить Тода, называл «классным коновалом». Утром того дня, в начале июня, миссис Леддербекк повезла Джереми и Тода в «Мир фантазии», роскошный парк аттракционов, который неожиданно и сверх всяких ожиданий настолько преуспел в бизнесе развлечения, что стал теснить в нем даже «Диснейленд». Размещался он на невысоких холмах в нескольких милях к востоку от Сан-Хуан Капистрано, довольно далеко от густонаселенных мест, как в свое время где-то на задворках к северу от Лос-Анджелеса размещалась «Волшебная гора», пока город не раздвинул свои границы и не обступил ее со всех сторон, и так же, как когда-то «Диснейленд», построенный в сельской глубинке неподалеку от никому тогда не известного местечка под названием Анагейм, находился посредине ничейной земли. Сооружался «Мир фантазии» на японские деньги, и это весьма беспокоило некоторых людей, веривших, что вскоре японцы могут вообще захватить всю страну; ходили также зловещие слухи, что мафия отмывала здесь свои денежки, и это еще более усиливало тайну и привлекало сюда толпы народа. Но в конце концов возымело значение то, что атмосфера здесь была самая непринужденная, горки крутые, а пища, как и всегда в такого рода заведениях, самая что ни на есть дешевая. «Мир фантазии» и стал именно тем местом, где Тод хотел провести в компании своего лучшего друга и вне родительской опеки весь день, с утра и до десяти часов вечера, своего двенадцатилетия, а Тод обычно добивался всего, чего хотел, потому что был послушным мальчиком и все его любили: Тод до тонкостей освоил все правила двойной игры. Миссис Леддербекк подвезла ребят к центральному входу и, когда они выскочили из машины, прокричала им вслед: — Я приеду за вами в десять часов! Жду вас, мальчики, ровно в десять на этом месте! Они купили билеты, и, когда вошли в парк, Тод спросил: — С чего начнем? — А ты как думаешь? — Покатаемся на «Скорпионе»? — Идет! — Рванули?! Вмиг сорвались они с места и наперегонки помчались в противоположный конец парка, где на фоне чистого голубого неба возвышались катальные горки «Скорпиона» — согласно телевизионной рекламе «захватывающие дух гонки, равные по остроте жалу скорпиона». Народу было мало, и им не приходилось то и дело уворачиваться от медленно, как стадо, бредущих по дорожкам людей. Их кроссовки громко стучали по асфальту, и каждый шлепок был как крик свободы. Они катались на «Скорпионе», вопя во все горло и визжа от восторга, летели вниз, затем взмывали вверх и снова падали вниз, и, когда все это кончилось, они побежали к месту посадки и прокатились еще раз. Тогда, как и теперь, Джереми обожал высокие скорости. Резкие повороты и неожиданные нырки аттракционов, бросавшие в холодный пот и заставлявшие в страхе сжиматься сердце, были в то время детской забавой, заменявшей ему насилие, которого он, даже сам того не сознавая, жаждал. После двух ездок на «Скорпионе», после всех этих летящих-падающих-резко-поворачивающих-взмывающих наслаждений, Джереми был в отличном настроении. Но Тод чуть было все не испортил, когда они шли к выходу из павильона после второй ездки. Обхватив одной рукой Джереми за плечи, он сказал: — Старик, это будет самый классный день рождения, ты да я вместе, и никто нами не командует. Их дружба, как и вообще само понятие дружбы, были сплошным обманом. Брехней. Враньем. Джереми ненавидел всю эту условно-пустословную галиматью. Тод же был доверху набит ею. Лучшие друзья. Кровные братья. Когда мы вдвоем, нас никому не осилить». Джереми не знал, что больше его донимало: то, что Тод без умолку болтал о дружбе и верности, думая, что и Джереми разделяет этот его телячий восторг, или то, что по глупости своей Тод и сам верил во всю эту чепуху. С недавнего времени у Джереми возникло подозрение, что некоторые люди так хорошо вошли в свою роль, что напрочь забыли, что участвуют в спектакле. Своей трескотней о дружбе, любви и сострадании они стали обманывать даже самих себя. Тод все более и более в его глазах становился похожим на одного из этих безнадежных дурачков. Дружба означает, что имеется человек, который сделает для тебя то, чего в тысячи лет никогда не сделает для других. Дружба — это взаимовыручка, своеобразный военный союз, заключаемый против толпы сограждан, жаждущих не только набить тебе морду, но и ободрать тебя как липку. Подспудно все знали это реальное, основное значение понятия «дружба», но никто никогда не говорил об этом вслух, и меньше всего Тод. Позже, по пути из «Дома призраков» в павильон под названием «Болотное чудище», мальчики остановились у ларька, где продавали шоколадное пирожное с орехами. Они уселись под красным полотняным грибком на пластиковые стулья за пластиковый стол и стали за обе щеки уплетать быстротающие во рту сладкие сытные бруски, и все было прекрасно, пока Тод все не испоганил. — Хорошо, когда рядом нет взрослых, а? — набив рот пирожным, заявил он. — Хочешь, ешь сладости до обеда, вот как мы сейчас. А хочешь, можно есть их и вместо обеда, и после него, и никто ни слова тебе не скажет, что это может испортить аппетит или что от них заболит живот. — Хорошо, — подтвердил Джереми. — Давай есть пирожные, пока вконец не обожремся и не начнем блевать. — Давай. Только с блевотиной надо быть поосторожнее. — В каком смысле? — А в том, — сказал Джереми, — что, когда начнем блевать, надо блевать не на землю, а стараться так, чтобы она попала на кого-нибудь. — Здорово! — закричал Тод, быстро включившийся в игру. — На кого-нибудь, кто этого заслуживает. — Как, например, вот эти две дурочки, — добавил Джереми, тыча пальцем в двух хорошеньких девочек-подростков, проходивших мимо них. Обе были одеты в одинаковые белые шорты и пестрые длинные летние рубашки и так старательно вертели попками, что хотелось облевать их, даже и не съев ничего. — Или вот этих старых пердунов, — в свою очередь предложил Тод, показывая пальцем на пожилую чету, только что остановившуюся у киоска, чтобы купить по пирожному. — Нет, на этих не надо, — возразил Джереми. — У них и так такой вид, будто их уже облевали до нас. Тод аж взвизгнул от восторга, так ему это понравилось, и чуть было не подавился. Иногда Тод все же бывал отличным парнем. — Смешно с этим пирожным, — сказал он, перестав икать. — Что же в нем смешного? — удивился Джереми. — А то, из чего они состоят. Я знаю, что шоколад делают из бобов какао, орехи растут на деревьях, но кто им отдает сбои яйца для крема, понятия не имею. Да, иногда Тод был все же ничего. И, когда они, давясь от смеха, развеселились до чертиков и чувствовали себя на седьмом небе от блаженства, он вдруг легонько щелкнул Джереми по лбу и сказал: — Ты и я, Джер, мы никогда не расстанемся, будем дружить, пока нас не разлучит могила. Правда? Самое смешное, что он искренне верил в это. Потому что сам себя убедил. И искренность его была такой неподдельной, что теперь хотелось блевать не на кого-нибудь, а именно на него. Вместо этого Джереми язвительно спросил: — А теперь, что, поцелуемся? Улыбаясь во весь рот, не чувствуя издевки, Тод сказал: — Поцелуй свою бабушку в жопу. — Целуй лучше ты свою. — У моей бабушки нет жопы. — Да? А что же у нее тогда вместо жопы? — Твоя харя. В таком духе, дразня и подначивая друг друга, они подошли к «Болотному чудищу». Аттракцион оказался неважным, плохо задуманным и скучным, но зато давал обильную пищу для разного рода шуточек и насмешек. И какое-то время Тод снова был в ударе, и с ним было довольно весело. Позже, однако, когда вышли из павильона «Звездных войн», Тод стал называть их обоих «самыми лучшими космическими всадниками во Вселенной», что несколько смущало Джереми, настолько это было по-детски глупо. В какой-то степени к тому же это раздражало его еще и потому, что было то же самое, что и «мы друзья навеки, кровные братья, приятели», только сказанное по-другому. Садятся они опять на «Скорпион», и едва тележка начинает двигаться по рельсам, как Тод говорит: «Это все ерунда, это только воскресная прогулка для двух самых лучших космических всадников во Вселенной». Или направляются они к павильону «Мир гигантов», и Тод, обнимая Джереми одной рукой за плечи, снова говорит: «Самым лучшим космическим всадникам никакой засранный гигант не страшен, верно, брат?» Джереми хотелось сказать ему: «Слушай, ты, подонок, мы с тобой ходим в друзьях только потому, что наши предки работают вместе. Я терпеть не могу, когда меня обнимает всякая шушера, поэтому убрал бы ты подальше свои липкие ручонки и давай веселиться просто так, без всяких штучек. Ладно?» Но ничего подобного он не сказал, конечно, потому что хорошие игроки в жизнь никогда не выдают себя. Если они позволят другим игрокам увидеть, что им наплевать на правила и законы, те перестанут доверять им. И отправят в тюрьму. Упекут туда за милую душу. Давай, давай, не задерживай! И тогда конец всем удовольствиям. К семи часам вечера, после того как они напихали в себя столько еды, что если бы вздумали действительно облевать кого-нибудь, то эффект получился бы более чем впечатляющий, Джереми настолько осточертело прозвище «космические всадники» и до того раздражали беспрестанные ссылки Тода на их «великую дружбу», что он едва мог дождаться десяти часов, когда за ними к главному входу подъедет миссис Леддербекк, чтобы забрать их отсюда и тем самым положить конец всей это тягомотине. В то время как они на «Сороконожке» летели по одному из самых темных участков рельсовой дороги, Тод опять вспомнил про своих любимых «самых лучших всадников во всей Вселенной», и тогда Джереми решил убить его. Как только мысль об убийстве «лучшего друга» мелькнула у него в голове, он понял, что лучшего и не придумать. Если жизнь — книга с миллионами миллионов правил и законов, то, чтобы насладиться ею сполна, надо найти способ обойти эти правила, но так, чтобы комар носа не подточил, и продолжать вести себя как ни в чем не бывало. Любая игра — «Монополия», «Пьяница», «Бейсбол» — сущее занудство, если играть в нее по правилам. Но стоит заступить за линию в бейсболе, пойти не с той карты или переставить номер игральной кости, когда противник на секунду чем-то отвлечен, занудная игра превращается в захватывающее действо. А в игре на жизнь выйти сухим из «мокрого» дела — что может быть прекраснее! Когда «Сороконожка» с визгом и скрипом тормозов остановилась у места высадки, Джереми предложил: — Давай махнем еще раз. — Давай, — охотно согласился Тод. Работая локтями, они постарались первыми выскочить из коридора, чтобы успеть раньше других занять очередь. В течение дня парк постепенно наполнился людьми, и, чтобы дождаться очереди на ездку, требовалось по крайней мере минут двадцать. Когда они выбежали из павильона «Сороконожка», небо было черным на востоке, темно-синим прямо над ними и оранжевым на западе. Сумерки наступали в «Мире фантазии» раньше и длились дольше, чем в западной части округа, потому что между парком и далеким океаном вздымалась гряда высоких солнцелюбивых холмов. Их щербатые гребни черными силуэтами застыли на фоне оранжевых небес, таких ярких, словно не ко времени раскрашенное полотнище в канун Дня Всех Святых. С приходом ночи «Мир фантазии» по-новому, волшебно-обманчиво преобразился; катальные горки и здания обозначились рядами рождественских огоньков. Мерцающие белые огоньки придавали всему праздничный блеск, а лучи двух прожекторов, скрещиваясь и вновь расходясь в разные стороны, то и дело выхватывали из тьмы покрытый вечными снегами возведенный рукой человека пик горы Биг Фут. Вся территория парка была залита морем неоновых огней всевозможных расцветок и оттенков, а на «Острове марсиан» в темнеющее небо то и дело взлетали пучки ярко окрашенных лазерных лучей, словно с земли отбивали налет незримых космических пришельцев. Пропитанный запахами попкорна — воздушной кукурузы — и жареного арахиса, теплый ночной ветер трепал над головами гирлянды разноцветных флажков. Музыка разных времен и народов неслась из павильонов, а с южной стороны парка, где находилась открытая танцплощадка, гремел рок-н-ролл, еще откуда-то наплывали медленные напевы джазового свинга. Люди возбужденно смеялись и переговаривались, а на катальных горках стоял сплошной визг. — На этот раз без страховки, — сказал Джереми, когда они с Тодом бежали в конец очереди на «Сороконожку». — Заметано, — сказал Тод. Рельсы «Сороконожки» в основном были проложены в крытом помещении, как и у «Космической горы» в Диснейленде, но, вместо того чтобы кружить по одному и тому же огромному помещению, они бежали по длинной цепочке следующих один за другим тоннелей, некоторые из них были освещены, другие совершенно темные. Ограничительная перекладина, подстраховывающая ездоков во время движения, была довольно надежным приспособлением, но, если подросток был достаточно гибким и ловким, извернувшись, он мог выкарабкаться из-под нее и встать во весь рост в углубление для ног. Теперь он мог либо прислониться спиной к перекладине и просто ухватиться за нее руками, либо, облокотившись, держаться за нее согнутыми руками, и это называлось ехать без страховки. Затея была глупой и опасной, и Джереми с Тодом прекрасно это понимали. Но они уже и раньше так ездили, и не только на «Сороконожке», но и на других катальных горках в других парках. Возбуждение от езды без страховки превосходило по накалу страстей обычные чувства в тысячу раз, особенно когда проносишься по совершенно темным, как могила, тоннелям, не зная, что ждет тебя впереди. — Космические всадники! — заорал Тод, когда они прошли уже половину очереди. Он настоял, чтобы они с Джереми обменялись рукопожатием и хлопнули друг друга пятерней о пятерню, как это делают идущие на опасное дело взрослые, хотя они явно не доросли еще до этого жеста. — Космические наездники не боятся ездить без страховки на «Сороконожке», верно, брат? — Верно, — сказал Джереми. Они медленно проходили вслед за другими в главный вход павильона. С тележек поезда, только что вкатившихся в чернеющий впереди тоннель, до них донеслись возбужденные крики и визги. Согласно легенде (а такого рода легенды, созданные детьми, кочуют из парка в парк) на «Сороконожке» погиб мальчик, который ехал на ней без страховки, потому что оказался слишком длинным. В освещенных тоннелях потолки были довольно высокие, но говорили, что в одном месте одного из темных тоннелей потолок резко понижался — то ли оттого, что в этой точке тоннель пересекали трубы воздушных кондиционеров, то ли потому, что строители положили там незапланированную в проекте балку, то ли оттого, что архитектор был безмозглым дураком! Как бы там ни было, этот парень, выпрямившись во весь рост, саданулся головой обо что-то в потолке, чего он, естественно, не мог видеть. От головы у него остался только кусок окровавленного мяса. А те, кто ехал позади него, с головы до ног были забрызганы его кровью, мозгами и остатками костей и зубов. Джереми не верил всей этой чепухе. У людей, планировавших и строивших «Мир фантазии», головы явно не были набиты соломой. Они понимали, что подростки все равно изобретут способ выбраться из-под ограничителя, так как ничто не способно устоять перед буйной фантазией мальчишек, и потому потолки были одинаково высокие во всех тоннелях. Легенда утверждала, что низкий выступ сохранился в темном тоннеле до сих пор весь в побуревших от времени кровавых пятнах и высохших кусочках мозга. Реальной же опасностью для тех, кто решался стоя во весь рост ездить без страховки, было выпасть из тележки на одном из резких поворотов или при неожиданном рывке. Джереми знал, что на пути следования «Сороконожки» их ожидает около шести или восьми особо крутых поворотов, на одном из которых Тода Леддербекка можно будет без особых усилий вытолкнуть из тележки. Очередь медленно двигалась вперед. Джереми сгорал от нетерпения и не боялся. Чем ближе продвигались они к началу посадки, тем более росло в нем возбуждение и крепла уверенность в себе. У него не дрожали руки. Не щемило в груди. Только усиливалось желание во что бы то ни стало сделать что задумал. Место посадки было оборудовано в виде подземной пещеры с огромными сталактитами и сталагмитами. Странные существа с блестящими глазами плавали в мрачных глубинах жутких прудов, а у самых их берегов копошились гигантские крабы-альбиносы, протягивая в сторону стоящих на платформе людей свои мощные клешни, недостаточно длинные, однако, чтобы схватить кого-либо из них. Поезд состоял из шести тележек, в каждой из которых умещалось по два человека. Тележки были разрисованы и выкрашены под цвет тела сороконожки; на первой была установлена огромная голова насекомого с движущимися челюстями и черными глазами, разделенными на большое число маленьких глазок-ячеек, и все это выглядело не карикатурой, а действительно напоминало свирепую морду чудовища; последняя тележка оканчивалась загнутым вверх жалом, больше напоминавшим жало скорпиона, чем заднюю часть сороконожки. Одновременно посадка шла на два поезда, исчезавших в тоннеле один за другим с промежутком в несколько секунд, а поскольку вся операция контролировалась компьютером, то опасность, что второй поезд врежется в хвост первого, исключалась. Джереми и Тод оказались среди двенадцати пассажиров, отправлявшихся в путь на первом поезде. Тод хотел занять головную тележку, но их опередили. А ехать в голове поезда без страховки самое интересное, так как все, что происходит в пути следования, прежде всего происходит с теми, кто сидит впереди: они первыми ныряют в темноту, их первых обдает холодным паром из расположенных в стенах тоннеля отверстий, они первыми выскакивают из темноты через двустворчатые вращающиеся двери в вихрь кружащихся огней. Помимо этого, непременной частью удовольствия от езды без страховки в головной тележке является возможность выставить себя напоказ перед восхищенными взглядами пассажиров остальных пяти тележек, когда поезд проносится по освещенным участкам пути. Так как первая тележка была занята, они помчались к последней. Испытывать последними все нырки и неожиданные повороты было почти так же интересно, как и первыми, потому что крики едущих впереди будоражила кровь и будили воображение. Ехать же в безопасности в середине поезда никак не вязалось с понятием езды без страховки. Предохранительные перекладины опускались автоматически, когда все двенадцать пассажиров занимали свои места в поезде. Затем вдоль всего состава проходил контролер, проверяя, надежны ли замки. Джереми с облегчением вздохнул, оттого что им не досталась головная тележка, ибо тогда за их спинами находились бы десять потенциальных свидетелей. В могильной черноте затемненных участков тоннеля, где не видно даже поднятой к лицу собственной руки, никто, естественно, не заметит, как он столкнет Тода с тележки. Но езда без страховки была вопиющим нарушением правил безопасности, и ему не хотелось обращать на себя лишнее внимание. А теперь все свидетели были впереди них, глядя прямо перед собой; да если бы и оглянулись, то все равно ничего бы не могли заметить, так как спинки у сидений были довольно высокие, чтобы во время резких поворотов на них можно было опираться всем телом. Когда контролер кончил проверять замки предохранительных реек, он подал знак оператору, сидевшему за пультом управления на одном из скальных выступов справа от входа в тоннель. — Поехали, — сказал Тод. — Поехали, — как эхо откликнулся Джереми. — Космические всадники! — прокричал Тод. Джереми стиснул зубы. — Космические всадники! — снова прокричал Тод. Да черт с ним. Лишний раз делу не повредит. И Джереми во всю глотку заорал: — Космические всадники! От посадочной платформы поезд отходил без предварительных рывков и остановок, как в обычных аттракционах. Струя сжатого под огромным давлением воздуха выстреливала его, как пулю из ствола, с таким грохотом, что закладывало уши. Их тотчас прижало к спинкам сидений, и, стрелой промчавшись мимо оператора на скале, они исчезли в черной разверстой пасти тоннеля. Их мгновенно окружила сплошная темень. Тогда ему было только двенадцать. Он еще не умирал. Не побывал в Аду. Не возвратился опять в мир живых. И в темноте, как и Тод, тоже ничего не видел. Но вот через вертящиеся двери они ворвались в освещенное пространство и помчались вверх, постепенно замедляя ход, пока не поплелись как черепаха. И тогда со всех сторон на них стали кидаться какие-то огромные белые слизняки, испуская при этом дикие вопли из округлившихся пастей, наполненных острыми, как лезвия машин по переработке мусора, клыками. Крутой подъем шел на высоте примерно шестого или седьмого этажа, и вокруг них без умолку ревели, выли, рычали и визжали еще какие-то механические монстры; все они были белесые и скользкие, какими и должны быть, по представлению незнаек, существа, живущие глубоко-глубоко под землей. На этом подъеме смельчаки и намеревались осуществить свой маневр выползания из-под оградительной рейки. Хотя по пути им должны были встретиться еще два-три других подъема, ни один из них не был столь продолжительным и спокойным, как этот, самый первый, и не способствовал бы так успеху задуманного ими предприятия. Джереми, вытянувшись в струнку и вжимаясь в спинку сиденья, потихоньку начал вытаскивать нижнюю часть тела из-под оградительной планки, но Тод почему-то не двигался с места. — Давай, дурья башка, надо успеть выбраться, пока не доехали до верха! — заорал ему Джереми. Однако Тод обеспокоенно вертел головой. — Если нас застукают, точно выгонят из парка. — Фига с два они нас поймают. Почти в самом конце маршрута поезд пойдет по длинному темному тоннелю, чтобы дать пассажирам время немного прийти в себя и отдышаться. В этипоследние секунды перед прибытием в искусственную пещеру, откуда они начинали свой путь, у смельчаков была единственная возможность перебраться назад через перекладину и втиснуться обратно в сиденье. Джереми знал, что успеет это сделать, и не боялся, что его застукают. Тоду тоже не следовало бы беспокоиться, что он не успеет перебраться через перекладину, потому что к тому времени его уже не будет в живых; ему тогда вообще уже не о чем будет беспокоиться. — Не хочу, чтобы нас выперли из парка за то, что ехали без страховки, — сказал Тод, когда поезд был уже на половине пути долгого-долгого первого подъема. — День прошел так классно, а у нас в запасе еще пара часов до приезда мамани. С окружающих путь искусственных скальных выступов на них, скрежеща зубами, бросались огромные белые крысы-мутанты. — Хрен с тобой, оставайся маменькиным сыночком, — зло крикнул Джереми и продолжил свое занятие. — Я не маменькин сынок, — попытался оправдаться Тод. — А кто же еще! — Во всяком случае, не маменькин сынок. — Вот когда в сентябре пойдем в школу, можешь записаться в Клуб Молодых Домашних Хозяек, научишься кашку варить, вязать платьица куколкам, цветочки разводить. — Ну и подонок же ты, Джер. — Ууууууу, ты разбил мне сердце, — сказал Джереми, выпрастывая обе ноги из-под перекладины и подбирая их под себя на сиденье. — Вы, девочки, точно знаете, как наступить парню на больную мозоль. — Гад ты ползучий, вот ты кто. Поезд тащился вверх по склону с таким скрипом, визгом и лязгом, что звуки эти уже сами по себе заставляли более учащенно биться сердце, а все тело холодеть в предчувствии чего-то стремительно-страшного, что ждет их впереди. Джереми перелез через предохранительное ограждение и встал во весь роет в углубление для ног, лицом по ходу поезда. Через плечо бросил быстрый взгляд на Тода, все еще без движения сидевшего на своем месте за предохранительной рейкой. Лицо его было обиженным и надутым. Но Джереми стало вдруг все равно, присоединится Тод к нему или нет. Про себя он решил, что все равно, рано или поздно, убьет его, и, если не будет возможности сделать это сегодня, в «Мире фантазии», в день его рождения, он сделает это в другой раз и в другом месте. Мысль об убийстве сама по себе доставляла ему огромное удовольствие. Как в той песне, которую поют по телевизору в коммерческой рекламе кетчупа: он такой густой, что требуется время и время, пока он выльется из бутылки — пре-е-е-двку-у-у-ше-е-е-ние! Пара дней или недель ожидания подходящего случая, чтобы укокошить Тода, сделает само убийство еще более притягательным и желанным. Поэтому он не стал больше донимать Тода, только с головы до ног смерил его презрительным взглядом. Пре-е-е-д-в-к-у-у-у-ш-е-е-е-н-и-и-и-и-е! — Я не боюсь, — продолжал оправдываться Тод. — Прекрасно. — Просто не хочу под конец испортить весь вечер. — Естественно. — Гад ты ползучий. На что Джереми спокойно ответил: — Жопа ты, а не космический всадник. Это оскорбление подействовало, как наркотик. Тод настолько уверовал в собственную трескотню о дружбе, что не мог не быть уязвленным скрытым смыслом этой насмешки, подразумевающей, что он не знает, как должен в такой ситуации вести себя настоящий друг. На его широком, открытом лице отразилась не только боль за уязвленное самолюбие, но такое отчаяние, что Джереми по-настоящему стало страшно. Может быть, Тод в душе все же знает, что жизнь — это жестокая игра, в которой каждый игрок стремится во что бы то ни стало оказаться победителем, и знание это смущает и страшит его, и потому он так истово хватается за единственную соломинку-надежду, дружбу, чтобы не утонуть в этом знании. Если в этой игре вести борьбу не одному, а сообща, с одним или несколькими партнерами, когда уже весь мир не против тебя одного, а против твоей, хоть и небольшой, но все же сплоченной команды: Тод Леддербекк и его лучший друг Джереми против всего человечества — в этом было даже что-то романтическое и увлекательное, но в то же время от Тода Джереми буквально выворачивало наизнанку. Прижатый перекладиной к сиденью, обиженно нахохлившийся, Тод принял решение. За решением немедленно последовало действие, и он начал, извиваясь всем телом, быстро выпрастываться из-под ограничительной планки. — Давай, давай, быстрее, — подзадоривал его Джереми, — мы уже почти у самой вершины. Тод ужом вывернулся из-под рейки и скользнул в углубление для ног рядом с Джереми. Зацепившись ногой за рейку, он чуть не вылетел из тележки. Джереми успел подхватить его и поставить рядом с собой. Еще не время ему было вылетать из поезда, и не место. Слишком маленькой была скорость. Самое худшее, что с ним здесь может произойти, это то, что он отделается легкими ушибами. Но теперь они вместе, стоят плечом к плечу, широко расставив ноги и чуть отклонившись назад, прижимаются к перекладине, из-под которой вылезли, крепко держась за нее заведенными назад руками и во весь рот улыбаясь друг другу, а поезд уже подходит почти к самой вершине подъема. Вот он проскочил через вращающиеся двери в следующий, темный, участок маршрута. Этот участок был ровным и такой длины, чтобы поднять на несколько делений внутреннее напряжение пассажиров. Пред-вку-ш-е-е-е-ние! Когда у Джереми уже зарябило в глазах, передняя тележка опрокинулась вниз, и в темноте раздались вопли находившихся в ней людей. За первой вторая, третья, четвертая, пятая… — Космические всадники! — в один голос заорали Джереми и Тод. …и последняя тележка поезда рухнула, с каждой секундой набирая скорость, вниз по крутому склону. Ветер засвистел в ушах «космических всадников», прижимая волосы к их головам. Затем, когда его меньше всего ждали, последовал резкий поворот вправо и тотчас взлет вверх, отчего, казалось, вот-вот оборвутся все внутренности, затем снова резкий бросок вправо, рельсы наклоняются по ходу движения так, что тележки катятся почти на боку, а скорость все растет, растет, и вдруг прямой участок пути, и снова подъем, на который быстро, по инерции, взлетают тележки, и постепенно, приближаясь к вершине, катятся все медленнее, медленнее… Пред-вку-ш-е-е-е-ние! И вдруг снова летят вниз, вниз, вни-и-и-и-з с такой скоростью, что Джереми кажется, у него не выдержит напряжения и лопнет желудок и на его месте в теле появится огромная зияющая дыра. Он знал, что последует дальше, и тем не менее все равно затаил дыхание. Поезд, неожиданно взмыв, перевернулся вверх колесами. Джереми изо всех сил уперся ногами в пол и так крепко стиснул руками предохранительную перекладину, словно хотел, чтобы его пальцы и сталь слились воедино, потому что ему вдруг показалось, что он обязательно выпадет из тележки, упадет прямо на рельсы, которые вывели их на мертвую петлю, и вдребезги размозжит себе череп. Он знал, что центробежная сила удержит его на месте, даже несмотря на то, что ехал без страховки, но то, что он знал, не имело никакого значения: то, что чувствуешь, гораздо важнее того, что знаешь, эмоция всегда берет верх над разумом. Но вот они уже вышли из мертвой петли и через вертящиеся двери влетели на следующий освещенный подъем, используя накопившуюся инерцию, чтобы добраться до верха и снова ринуться вниз, где их ждут новые крутые повороты и неожиданные нырки. Джереми бросил взгляд на Тода. «Космический всадник» был зеленоватого оттенка. — Всё, петли кончились! — заорал Тод, стараясь перекричать дробный стук колес. — Самое худшее уже позади! Джереми разобрал смех. Подумалось: самое худшее для тебя еще впереди, дурень. А для меня самое лучшее. Предвкуше-е-е-е-е-ние! Тод тоже засмеялся, но, конечно, по другому поводу. На вершине второго подъема тележки, грохоча, пролетели через третью пару вертящихся дверей и снова окунулись в могильный мрак, чем вызвали несказанный душевный трепет у Джереми, потому что он знал, что Тод Леддербекк видел свет последний раз в своей жизни. Поезд круто поворачивал то влево, то вправо, взмывал вверх и стремительно падал вниз, ложился набок и штопором вгрызался в непроглядную тьму. Все это время Джереми ощущал рядом с собой присутствие Тода. То касались друг друга их оголенные руки, то они ударялись друг о друга плечами, когда поезд сильно раскачивало. От каждого такого прикосновения сладостная боль наслаждения током пронизывала Джереми с ног до головы, заставляя шевелиться волосы на руках и затылке, осыпала все тело пупырышками гусиной кожи. Он знал, что обладает высшей формой власти над товарищем, властью над его жизнью и смертью, и что в отличие от великих ничтожеств мира сего не побоится воспользоваться ею. Он выжидал, когда поезд понесется по завершающему маршрут участку, где, как он знал, волнообразное его движение представляет собой наибольшую опасность для смельчаков, рискнувших ехать без страховки. К тому времени Тод будет уверен, что худшее уже позади, и его легче всего будет захватить врасплох. О приближении к месту убийства Джереми предупредил один из самых необычных трюков на всем маршруте: на полной скорости поезд поворачивал на все триста шестьдесят градусов, и в течение всего времени этого поворота тележки фактически катились в перевернутом на одну сторону положении. Когда круг этот будет завершен и тележки вновь выпрямятся, они попадут в район шести холмов, не очень высоких, но расположенных настолько близко один от другого, что поезд будет продвигаться по ним, как одурманенный наркотиками червяк, вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз, пока не доберется до последних вертящихся дверей, через которые и въедет в пещеру, откуда ранее отправлялся в путь. Поезд стал валиться набок. Начался трехсотшестидесятиградусный поворот. Теперь поезд полностью лежал на боку. Тод изо всех сил старался удержать равновесие, но его провисшее тело все же навалилось на находившегося снизу Джереми. «Космический всадник» вопил не хуже сирены воздушной тревоги, одновременно подбадривая себя и стремясь выжать из поездки максимум удовольствия, полагая, что худшее уже позади. Предвкуше-е-е-ние! По расчетам Джереми, они уже прошли одну треть круга. …половину круга… две трети. Поезд выровнялся. Перегрузки кончились. С внезапностью, поразившей даже Джереми, поезд птицей взмыл вверх на склон первого из шести холмов. Он снял с перекладины правую, дальнюю от Тода руку. Поезд ринулся вниз. Он сжал правую ладонь в кулак. Поезд, не успев как следует разогнаться вниз, тотчас взлетел вверх по склону второго холма. Размахнувшись, стараясь попасть в то место, где по его предположению должно было находиться лицо, Джереми что есть силы ударил Тода. Поезд снова полетел вниз. Удар попал в цель, в кровь разбив тому нос. Поезд пулей помчался вверх, и вопль ужаса, исторгнутый Тодом, был совершенно неотличим от подобных же воплей других пассажиров. В какой-то миг Тод, видимо, подумает, что ударился головой о выступ в потолке, ставший, согласно легенде, причиной смерти мальчика. И от неожиданности, запаниковав, выпустит из рук перекладину. На это, во всяком случае, рассчитывал Джереми, и потому, как только его кулак опустился на лицо «космического всадника», он сам, выпустив из рук перекладину, всем телом навалился на своего лучшего друга и стал выпихивать его из мчавшегося на полной скорости поезда. Тод попытался схватить его за волосы, но Джереми дернулся, вырвал голову из захвата и с еще большей злобой и энергией продолжил свое дело, получив удар ногой в пах… …поезд пулей взлетел на четвертый холм… Тод, перевалившись через край, исчез в темноте, словно растворился в ее глубинах. Джереми по инерции последовал было за ним, чудом в кромешной тьме успел ухватиться за перекладину и удержаться за нее… …вниз, поезд стремглав рванулся вниз по склону четвертого холма… …Джереми почудилось, что он слышит последний, предсмертный крик Тода, а вслед за ним характерный глухой звук ударившегося о стену и тотчас отскочившего на рельсы позади поезда тела, или все это он просто вообразил себе… …вверх, стремительно набирая скорость и одновременно раскачиваясь из стороны в сторону, так что Джереми казалось, из него сейчас вылетят все съеденные им пирожные, поезд мчался вверх по склону пятого холма… …Тод либо уже мертв там позади, либо в полубессознательном состоянии пытается встать на ноги… …вниз, набирая скорость и дергаясь взад и вперед, так что Джереми едва удерживался руками за перекладину, поезд катил вниз по склону пятого холма и вдруг снова взмыл вверх на шестой и последний из холмов… …а если еще не погиб и пришел в себя, то с ужасом понимает, что сзади на него несется другой поезд… …вниз, вниз по склону шестого холма и затем по прямой, по завершающему весь маршрут участку. Как только Джереми почувствовал, что путь выровнялся, он стал судорожно, изгибаясь всем телом, втискиваться под предохранительную перекладину, просунув под нее сначала левую, а затем и правую ногу. В темноте навстречу ему неслись двери. За ними будет свет, главная пещера и контролеры, которые заметят, что он едет без страховки. Пыхтя и извиваясь, он стремительно ввинчивал свое тело под перекладину, и вот под ней прошли уже его бедра, еще миг, и как ни в чем не бывало он уже снова сидит на своем прежнем месте. Все оказалось гораздо проще, чем он предполагал. Влезать обратно под предохранительную перекладину было во много раз легче, чем вылезать из-под нее. Мягкий удар, и они скользнули в вертящиеся двери и по инерции, постепенно сбавляя ход, стали приближаться к месту посадки и высадки, находившемуся примерно в ста футах от дверей. Толпившиеся на платформе люди во все глаза смотрели на только что появившийся из тоннеля поезд. В какое-то мгновение Джереми показалось, что они станут тыкать в него пальцами и кричать: «Убийца!» Едва поезд приблизился к платформе и остановился, как по всей пещере замигали красные предупредительные огни, указывая дорогу к запасным выходам. По всей пещере загремел записанный на магнитофон, усиленный динамиками, расположенными высоко на скальных выступах, металлический голос: — Вынужденная остановка. Всех пассажиров просим оставаться на своих местах… Когда поезд остановился и предохранительная планка автоматически поднялась, Джереми встал ногами на сиденье, схватился за поручень и рывком поднялся на платформу. …всех пассажиров просим оставаться на своих местах до прибытия контролеров, которые укажут, как пройти к запасным выходам… Одетые в форму билетеры недоуменно переглядывались, не понимая, что послужило причиной чрезвычайной ситуации. …всех пассажиров просим оставаться на своих местах… С платформы Джереми оглянулся на тоннель, из которого несколько секунд тому назад они въехали в пещеру. Откинув в разные стороны вертящиеся двери, оттуда теперь появился следовавший за ними второй поезд. …остальных, соблюдая порядок, просим пройти к ближайшему к ним запасному выходу… Ехал он медленно, как-то странно подергиваясь. Казалось, его колеса вот-вот оторвутся от рельсов. Джереми вздрогнул, когда увидел, что приподнимает над рельсами колеса головной тележки и тормозит движение поезда. Стоявшие на платформе люди тоже, видимо, заметили это, потому что в один голос закричали от ужаса, и вопль этот совершенно не был похож на празднично-испуганно-уверенный крик людей, знающих наверняка, что им не грозит никакая реальная опасность, в этом крике звучал панический ужас и страх омерзения. …всех пассажиров просим оставаться на своих местах… Поезд качнулся и остановился, так и не дотянув до платформы. Из нижней челюсти свирепой пасти в голове насекомого, установленной на передней тележке, свисали какие-то рваные окровавленные клочья. Это было все, что осталось от бывшего «космического всадника», все, чем могло поживиться искусственно созданное рукой человека громадное насекомое. …остальных, соблюдая порядок, просим пройти к ближайшему к ним запасному выходу… — Отвернись, не смотри, сынок, — мягко сказал Джереми служитель в форме, отворачивая его за плечи от ужасного зрелища. — Ради Бога, иди скорее к выходу. Пришедшие в себя после первого потрясения контролеры повели растерявшихся людей к запасным выходам, над которыми нестерпимо ярко мигали красные сигнальные огни. Сообразив, что его буквально распирает от радостного возбуждения и что на лице его блуждает бессмысленная, едва сдерживаемая счастливая улыбка, которая никак не вяжется с горем, которое он должен испытывать по поводу гибели своего лучшего друга, Джереми присоединился к одному из человеческих потоков, быстро двигавшемуся под командой одного из контролеров к запасному выходу. Спеша быстрее уйти отсюда, люди нервничали и толкали друг друга. В ночном воздухе все еще трепетали рождественские огоньки, лучи лазеров пронзали черное небо, вокруг плескалось бескрайнее море неоновых красок, и тысячи посетителей как ни в чем не бывало продолжали веселиться, не ведая, что рядом с ними уже прошла Смерть. Джереми со всех ног пустился прочь от «Сороконожки». Увертываясь на ходу от встречных, он сам не знал, куда бежит. И все бежал и бежал, стараясь как можно дальше убраться от разорванного в клочья тела Тода Леддербекка. Наконец он остановился на берегу искусственного водоема, по глади которого скользило несколько до отказу набитых пассажирами лодок на воздушных подушках, курсировавших между берегом и «Островом марсиан». Он чувствовал себя так, будто сам находился на Марсе или какой-нибудь другой неизвестной планете, где сила притяжения во много раз меньше земной. Его всего так и подмывало вверх, казалось, он вот-вот оторвется от земли и улетит в неизвестность. Он уселся на бетонную скамейку спиной к озеру, словно этим, как якорем, хотел удержаться на земле, и стал глядеть в сторону обсаженной с обеих сторон цветами аллеи, по которой в разных направлениях двигалась бесконечная толпа людей, и, уже сидя на скамейке, весь отдался душившему его и распиравшему изнутри, как пепси в сильно взболтанной бутылке, смеху. Джереми хохотал пузырящимися, как брызги шампанского, нервными, судорожными смешками, так сильно сотрясавшими его тело, что он вынужден был обхватить себя руками, чтобы не упасть со скамейки. Люди бросали на него недоуменные взгляды, а одна пара поинтересовалась, не потерял ли он в толпе своих родителей, так как от смеха по лицу его ручьями текли слезы, и они подумали, что этот двенадцатилетний балбес плачет по своим мамочке и папочке, которых сам, без посторонней помощи — слюнтяй! — не может найти. Это еще пуще развеселило его. Когда веселье прошло, Джереми вытянул обутые в кроссовки ноги прямо перед собой и, глядя на них, стал придумывать, что будет вешать на уши миссис Леддербекк, когда в десять часов та приедет за ним и своим сыном, предполагая, естественно, что тело Тода к тому времени еще не будет опознано и администрация не успеет с ней связаться. Было только восемь часов вечера. — Он хотел ехать без страховки, — нашептывал Джереми своим кроссовкам, — я пытался отговорить его, но он и слушать не хотел, обозвал меня маменькиным сыночком за то, что я не хотел делать этого. Простите меня, ради Бога, миссис Леддербекк, доктор Леддербекк, но вы ведь знаете, каким он иногда бывает упрямым, когда заводится. — Пока неплохо. Но надо бы слезу пустить и дрожь в голосе. — Я отказался ехать без страховки, тогда он решил ехать на «Сороконожке» один. Я стоял и ждал его у выхода, как вдруг увидел, что оттуда начинают выбегать люди и что-то говорят о разорванном в клочья окровавленном теле, и у меня сразу сердце екнуло, я понял, о ком идет речь, и у меня… у меня… все поплыло… перед глазами. И мне стало плохо. — Контролеры вряд ли запомнят, один был там Тод или с кем-нибудь; за день они обслуживают тысячи пассажиров и, скорее всего, не смогут вспомнить ни его самого, ни того, был ли с ним рядом кто-нибудь еще. — Простите меня, миссис Леддербекк, что не сумел отговорить его от этого. Надо было мне самому ехать с ним и попытаться любой ценой помешать ему. Так сглупить, отпустить его одного… Простить себе этого не могу. Зачем позволил ему одному сесть в эту проклятую «Сороконожку»! Лучший друг называется! Неплохо. Надо кое-где кое-что подчистить, главное не перегнуть палку. Побольше слез, прерывающийся голос. Но не истерика, и никаких заламываний рук. Джереми не сомневался, что сумеет выкрутиться. Ведь теперь он стал Мастером игры в жизнь. Почувствовав уверенность в своих силах, он понял, что голоден. Умирает от голода. Весь трясется от голода и, казалось, вот-вот упадет в голодный обморок. Тотчас направился к ближайшему буфету, купил себе булку с горячей сосиской, приправленную луком, маринованными овощами, перцем, горчицей, кетчупом, и мигом, как изголодавшийся волк, проглотил все это. Запил апельсиновым соком. Голодная дрожь не унималась. Купил сандвич из мороженого, где вместо хлеба был овсяный коржик, пропитанный шоколадом. Внешне дрожь унялась, но внутри него все продолжало трястись. Не от страха, это была восхитительная дрожь, такая, какая охватила его однажды в прошлом году, когда он посмотрел на знакомую девочку и неожиданно представил себе, что находится с ней в одной постели, но то, что он испытывал сейчас, было в миллион раз приятнее. Более походило на то ощущение, которое охватило его как-то, когда, пройдя заградительные перила, он остановился на самом краю песчаного утеса в «Лагуна-Бич парке», глядя вниз на набегающие на скалы волны и чувствуя, как почва медленно оползает под ступнями, сначала под большими пальцами, потом под подошвами… предвкушая, ожидая, что вот-вот земля разверзнется и он кувырком полетит вниз на скалы, так и не успев отбежать назад за перила, и все ждал, ждал, ждал… И все же по трепетности, радостному вдохновенному чувству и интенсивности то, что он переживал сейчас, не шло ни в какое сравнение ни с одним из ранних ощущений, ни со всеми ними, вместе взятыми. И с каждой проходящей минутой огонь этого переживания не только не угасал, но, наоборот, разгорался все ярче, словно убийство подбросило в него охапку сухих дров. Полыхавшее в нем черное чувство требовало нового выхода. Чтобы погасить его, он, как голодный волк, стал рыскать по парку. Его немного удивило, что «Мир фантазии» самозабвенно-радостно бурлил, словно на «Сороконожке» ничего страшного не произошло. Он-то думал, что сразу же закроют весь парк, а не один только павильон. Но теперь ему стало ясно, что деньги значили больше, чем смерть одного из посетителей. А если тот, кто своими глазами видел разорванное в клочья тело Тода, успел рассказать об этом другим, то они, вероятнее всего, восприняли это как неудачную попытку воскресить нелепую легенду. Уровень беспечности в парке не понизился ни на одно деление. Джереми даже решился пройти мимо «Сороконожки», хотя и на приличном расстоянии, так как боялся, что не сможет скрыть переполнявшего его возбуждения от содеянного и радости от новообретенного статуса Мастера игры в жизнь. Перед входом в павильон была протянута цепь, преграждавшая дорогу всякому, кто вздумал бы пройти внутрь. Над входом, написанное крупными буквами, висело объявление: «ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ». Тода уже не отремонтировать. «Космического всадника» теперь уже никогда не собрать по частям. Не видно было поблизости и «скорой помощи», которую, кстати, могли бы и вызвать, не было видно и катафалка. И, самое смешное, даже полиции не было видно. Странно и непонятно. Но тут, однако, в памяти его всплыла увиденная по ТВ передача о втором, подземном «Мире фантазии»: о катакомбах служебных подземных переходов, складских помещениях, помещениях для охраны, центрах управления различными аттракционами, все как в Диснейленде. Не мешая веселиться заплатившим деньги посетителям и подальше от нездорового любопытства праздных зевак, они по подземным тоннелям уже давно привели туда полицию и уборщиков трупов из отдела коронера, следователя по особым случаям насильственной или скоропостижной смерти. Дрожь охватила все тело Джереми. Дрожь желания. Желания, требовавшего немедленного удовлетворения. Теперь он Мастер игры в жизнь. Никто не посмеет даже пальцем коснуться его. Пора полиции и уборщикам трупов подкинуть еще немного работки, пускай шевелятся, нечего задницы просиживать. И, готовый ко всему, он продолжал неустанно рыскать по парку, пока наконец не забрел пописать в мужской туалет. Около одной из раковин для мытья рук, глядясь в зеркало и расчесывая густые светлые волосы, блестевшие от «Виталиса», стоял парень лет тридцати. На полке перед зеркалом лежали разложенные им вещи: бумажник, ключи от машины, небольшой аэрозольный пузырек с освежающей жидкостью «Бинака» от дурного запаха во рту, полупустая пачка «Дентина» (у парня, видимо, плохо было дело с запахом изо рта) и зажигалка. Зажигалка сразу привлекла внимание Джереми. Это была не дешевая, сделанная из пластика и выбрасываемая после того, как в ней кончится бутан, зажигалка, а стальная, сработанная в виде миниатюрного ломтика хлеба, вещица с откидывающимся верхом, колесиком и фитилем. Уже по тому, как ее гладкая, отполированная поверхность отражала свет дневных ламп, освещавших туалет, словно странное сияние исходило изнутри ее самой, она не могла не приковать к себе взгляд Джереми. Помешкав немного, он подошел к одному из писсуаров. После того как закончил свое дело и застегнул ширинку на молнию, увидел, что парень все еще вертится перед зеркалом. Джереми всегда мыл руки после туалета, что делают все уважающие себя люди. Это было одно из правил, которому неукоснительно должен следовать хороший игрок. Подошел и стал у соседней с парнем раковины. Намыливая руки жидким мылом, он был не в состоянии оторвать глаз от зажигалки, лежавшей всего в нескольких дюймах от его носа. Если он так будет на нее пялиться, парень сразу сообразит, что он хочет увести ее. Но ее гладкая серебристая поверхность, словно магнит, притягивала его к себе. Медленно намыливая руки и неотрывно глядя на зажигалку, он уже слышал сухой треск полыхавшего вовсю пламени. Положив в задний карман бумажник и оставив на полке все остальное, парень пошел к одному из писсуаров. Только Джереми протянул руку, чтобы взять зажигалку, как в туалет вошли мужчина и его десятилетний сын. Они чуть было все не испортили, но оба сразу же разошлись по кабинкам и заперлись изнутри. Джереми воспринял это как сигнал к действию. Давай, бери, бери же, говорил ему этот знак. Бери и мотай отсюда, да бери же, бери. Джереми бросил быстрый взгляд на парня у писсуара, взял с полки зажигалку и, не вытерев рук, вышел из туалета. За ним никто не погнался. Крепко зажав в правой руке зажигалку, стал разгуливать по парку, высматривая, что бы поджечь, чтобы сразу полыхнуло. Желание действовать было таким нестерпимым, что дрожь, начавшаяся внутри него, выхлестнулась наружу, и теперь в нем дрожало все: и тело, и руки, и ноги — да так сильно, что он едва передвигал ноги, которые от возбуждения превратились вдруг в какие-то резиновые палки. Желание…Съев последний из «Легких завтраков», Вассаго аккуратно свернул пустой пакет в трубочку, завязал ее узлом, чтобы она занимала как можно меньше места, и опустил в полиэтиленовый мешок для мусора, который находился слева от пластикового холодильника. Аккуратность была одним из правил мира живых. Ему нравилось, окунувшись в память, бродить по той незабываемой ночи, унесясь в ней на восемь лет назад, когда ему только стукнуло двенадцать и когда он сделался совершенно другим человеком, но он очень устал и хотел спать. Может быть, ему снова приснится женщина по имени Линдзи. Может быть, мелькнет еще какое-нибудь видение, которое даст ему возможность узнать что-либо, имеющее к ней отношение, потому что совершенно непонятным образом эта женщина стала частью его судьбы; какая-то неведомая сила притягивала его к ней, сила, которую он не понимал, но которую не мог не уважать. В следующий раз он ее повторит той ошибки, которую допустил с Купером. Он не позволит желанию убивать взять верх над собой. Сначала он задаст необходимые вопросы. И только, когда получит на них удовлетворительные ответы, только тогда выпустит наружу прелестную кровь и вместе с нею освободит еще одну душу, которая присоединится к мириадам других, находящихся далеко от этого мерзкого мира.
Глава 4
Во вторник утром Линдзи осталась дома одна, чтобы завершить начатую ранее работу в студии, а Хатч, отведя Регину в школу, поехал на встречу с агентом по продаже недвижимости, который хотел выяснить аукционную цену коллекции старинных веджвудских урн и ваз, находившейся в одном из особняков в Северном Тустине. После ленча он также встретится с доктором Нейберном, чтобы выяснить результаты анализов и тестов, сданных им в субботу. К тому времени, когда он завершит все свои дела, заберет из школы Регину и возвратится домой, она успеет закончить картину, над которой работала в течение последнего месяца. Таков, во всяком случае, был ее план, но все сегодня, как нарочно, было против нее: и судьба, и эльфы, и даже состояние ее собственной души — все сговорились помешать ей завершить работу. Перво-наперво забастовала кофеварка. Линдзи провозилась с ней битый час, прежде чем сообразила, в чем дело, и устранила неисправность. Она любила и умела ремонтировать вещи, и, к счастью, поломка оказалась не такой уж сложной. Начать же день без впрыскивания кофеина, чтобы сердце с ходу заработало, как мотор, было для нее немыслимо. Она знала, что кофе ей вреден, но так же вредны для нее аккумуляторная кислота и цианистый калий, но она же не пьет их, из чего следует, что может все же воздерживаться в тех случаях, когда речь идет о действительно вредных привычках, разрушающих здоровье; да у нее здоровье, что у той скалы! К тому времени, когда она с полным кофейником и термосом в придачу поднялась на второй этаж к себе в студию, свет, струившийся из окон, выходивших на север, был как раз таким, какой ей требовался. Все было у нее под рукой. Краски, кисти, скребки для палитры. Шкафчик с запасом еды. Вертящийся стул и мольберт, стереопроигрыватель и масса любимых пластинок с записями Герта Брукса, Глена Миллера и Ван Галена, музыка которых казалась ей прекрасным шумовым фоном для художника, стиль которого состоял в слиянии неоклассицизма и сюрреализма. Единственно, чего ей недоставало сегодня, это интереса к работе и желания сконцентрироваться на ней. Внимание ее все время отвлекал лоснящийся, глянцевитый черный паук, исследовавший правый верхний угол ближайшего к ней окна. Она не любила пауков, но убивать их ей было противно. Позже надо будет поймать его в кувшин и выбросить за окно. Вот он кверху ножками перебрался по оконному ригелю в левый верхний угол, что-то там ему не понравилось, и он снова вернулся в ранее облюбованный им правый верхний угол, где, мелко задрожав, стал сгибать и разгибать свои длинные ножки, очевидно, от чего-то, что понятно только одним паукам, получая удовольствие и радуясь. Линдзи опять повернулась к своей картине. Почти законченная, она была лучшей из созданных ею. До полного завершения оставалось два-три небольших штриха. Но Линдзи не спешила открывать краски и брать в руки кисти, потому что была столь же мнительна, сколь и талантлива. Она была сильно обеспокоена состоянием Хатча — внешним и внутренним. Со страхом думала о странном человеке, убившем блондинку, и о таинственной связи, которая существует между этим коварным хищником и ее Хатчем. Паук сполз по раме в правый нижний угол на подоконнике. По одному ему понятным паучьим соображениям он отказался и от этого убежища и снова вернулся в верхний правый угол. Как и большинство людей, Линдзи считала, что медиумы хороши только в фильмах ужасов, а в реальной жизни это обыкновенные шарлатаны. И тем не менее именно ясновидением попыталась она объяснить то, что происходит с Хатчем. И даже настаивала на своей теории, когда он объявил, что никакой он не медиум. Теперь, отвернувшись от паука и расстроенно уставившись на стоявшее перед ней незавершенное полотно, она поняла, что по-настоящему стала ярым сторонником теории ясновидения тогда в пятницу, в машине, когда они ехали по следу убийцы вплоть до начала дороги на Лагуна-Каньон. Если Хатч стал медиумом, то и другие люди смогут контактировать с ним на психическом уровне, и тогда связь с убийцей будет не единственной его связью. А если он не медиум, то его связь с этим монстром более глубока и даже менее объяснима, чем обычное ясновидение, на чем Хатч, кстати, особенно настаивал, и тогда они по уши в неизвестности. А неизвестность в миллионы раз страшнее того, что можно определить и объяснить. Кроме того, если связь между ними таинственнее и теснее, чем обычное ясновидение, последствия ее могут быть психически разрушительными для Хатча. Неизвестно, какую непоправимую травму может нанести нормальному рассудку даже недолгое пребывание в сознании беспощадного убийцы. А может быть, тот, на другом конце этой странной связи между ними, заразен и связь эта сродни любой контактной биологической связи? Если так, то, вероятнее всего, вирус сумасшествия может через эфир передаться Хатчу, поразив и его рассудок. Ну уж нет. Глупо. Кого угодно, только не ее мужа. Более надежного, уравновешенного, выдержанного, чем он, человека и, следовательно, более нормального, не было на земле. Паук полностью завладел верхним правым углом окна и начал плести паутину. Линдзи вспомнила, каким разгневанным был вчера Хатч, когда прочел в газете статью о Купере. Какая жесткая свирепость была написана на его лице. Как лихорадочно блестели его глаза. Таким Хатча она никогда не видела. Это был скорее портрет его отца, чем он сам. Зная его опасения, что кое-что он все же захватил от своего родителя, она никогда воочию не видела доказательств правоты его опасений. А может быть, она не видела этого и прошлой ночью. А то, что видела, была злоба, переданная Хатчу убийцей по каким-то уму непостижимым каналам связи, которая установилась между ними… Нет. Хатча не следует бояться. Он — хороший человек, лучший из всех, кого она когда-либо встречала в жизни. Колодец его сердечной доброты был настолько глубоким, что если бы даже в него выплеснуть все сумасшествие убийцы блондинки, то оно бы исчезло, растворившись там без следа. Из брюшка паука потянулась блестящая шелковистая ниточка, когда он принялся наконец обустраивать полюбившийся ему угол окна. Линдзи открыла ящик, где у нее хранились различные инструменты и принадлежности, и вынула оттуда увеличительное стекло, через которое принялась более внимательно рассматривать пузатого ткача. Его длинные тонкие ножки были сплошь покрыты тончайшими волосиками, и увидеть их невооруженным глазом было невозможно. Его ужасный, состоящий из множества самостоятельных маленьких ячеек глаз одновременно смотрел во все стороны, а косматое брюшко постоянно сокращалось, словно в предвкушении первой мухи, которая запутается в расставляемых им сетях. Понимая, что паук, как и она сама, часть природы и потому не может быть ни злым, ни мерзким, Линдзи тем не менее чувствовала к нему отвращение. Ибо он был той частью природы, против которой восставала ее душа, той частью, где убивали, гнались, ловили зазевавшихся, где живые поедали живых. Положив увеличительное стекло на подоконник, она спустилась вниз на кухню, чтобы взять из кладовки кувшин. Линдзи хотела поймать паука и выбросить его наружу до того, как он успеет более основательно устроиться в облюбованном им месте. Дойдя до конца лестницы, она выглянула в окно гостиной и заметила отъезжающий от их дома автомобиль почтальона. Из почтового ящика у обочины вынула почту, состоявшую из нескольких счетов, двух заказанных по почте каталогов и последнего номера «Артс Америкэн». Она с радостью хваталась за любой повод, отвлекавший ее от работы, что для нее было совершенно необычно, ибо работу свою она любила и уходила в нее с головой. Забыв, что вниз она спустилась взять кувшин для поимки паука, Линдзи поднялась с почтой в свою студию, уселась в старое кресло, стоявшее в углу комнаты, придвинула к себе поближе большую чашку горячего кофе и принялась перелистывать журнал. Заметку о себе она увидела сразу же, едва успев пробежать глазами перечень содержания. И удивилась. Журнал и раньше печатал отклики о ее работах, но обычно ее заранее предупреждали о готовящихся статьях. У авторов всегда имелось несколько вопросов, которые они хотели бы выяснить у нее лично, даже если интервью в полном смысле этого слова и не предполагалось. Но, увидев фамилию автора статьи, Линдзи непроизвольно вздрогнула. С. Стивен Хоунелл. Даже не читая, она поняла, что стала объектом разнузданной и злой критики. Хоунелл был известным писателем, иногда выступавшим в печати с различными заметками по искусству. Ему было за шестьдесят, и он никогда не был женат. Флегматик по натуре, он еще в ранней юности решил отказаться от жены и семейного уюта ради карьеры писателя. Чтобы хорошо писать, утверждал он, писатель должен быть монахом-отшельником. Оставшись один на один с самим собой, он сможет непредвзято и не кривя душой разобраться в самом себе гораздо лучше, чем в суматохе и толчее толпы, а познав самого себя, познать душу любого другого человека. Полным отшельником жил он сначала в Северной Калифорнии, затем в Нью-Мексико. С недавнего времени Хоунелл обосновался на восточной окраине Оранского округа на выезде из каньона Сильверадо, представлявшем собой район небольших холмов и лощин, густо поросших кустарником и калифорнийским дубом с редко выглядывавшими из этих зарослей коттеджами сельского типа. В сентябре прошлого года Линдзи и Хатч, находясь в цивилизованной части каньона Сильверадо, зашли поесть в местный ресторан, известный тем, что там в розлив отпускали спиртное и неплохо готовили жареное мясо. Они сели за столик в пивном баре, стены которого были обшиты грубо обтесанными сосновыми досками, а потолок подпирали несколько колонн из известняка. Сидевший у стойки бара пьяный седовласый мужчина громко витийствовал о литературе, искусстве и политике. Настроен он был критически и в выборе выражений — весьма саркастических — не стеснялся. Судя по тому, с какой почтительной невозмутимостью внимали ему бармен и сидящие тут же за стойкой завсегдатаи бара, Линдзи догадалась, что он был одним из постоянных клиентов и местным оригиналом, о котором рассказывают гораздо больше, чем он сам о себе. Приглядевшись повнимательнее, она узнала его. С. Стивен Хоунелл. Она читала кое-что из его вещей, и они ей нравились. Ее восхищала его бескорыстная преданность своему искусству; она бы, например, не смогла пожертвовать любовью, браком и детьми ради своей живописи, хотя постижение глубин творчества ей было так же важно, как важны и необходимы пища и вода, чтобы утолять голод и жажду. Слушая Хоунелла, Линдзи втайне жалела, что они с Хатчем пришли пообедать именно сюда, потому что, читая теперь его работы, она уже никогда не сможет отделаться от того тягостного впечатления, которое произвели на нее его злобные суждения о современных ему писателях и их произведениях. После каждой выпитой рюмки он становился все более ожесточенным, его ирония еще более уничижительной, все больше и явственней обнажались глубоко скрытые от внешнего наблюдателя темные стороны его души, а он все говорил, говорил и не мог остановиться. Алкоголь, срывая толстые покровы легенды о великом молчальнике, открывал посторонним взорам таившегося под ними самого заурядного болтуна; заткнуть ему глотку теперь может только лошадиная доза демерола или 0,357-дюймовый «магнум». Линдзи стала быстро доедать свою порцию, чтобы, не дождавшись десерта, побыстрее убраться подальше от вдрызг захмелевшего Хоунелла. Но и он узнал ее. Время от времени, не прерывая своих речей и хлопая слезящимися глазами, он бросал через плечо взгляды в их сторону. Наконец, пошатываясь, нетвердыми шагами приблизился к их столу. — Простите, вы не Линдзи Спарлинг, художница? Она знала, что Хоунелл иногда пишет в журналы заметки об американском искусстве, но представить себе не могла, что ему могут быть известны ее работы и уж тем более, как она выглядит. — Да, это я, — ответила она, втайне надеясь, что он не станет хвалить ее работы и затем представляться ей. — Мне очень нравятся ваши картины, — сказал он. — Извините, что побеспокоил. Не успела Линдзи поблагодарить его за похвалу и внутренне расслабиться, полагая, что этим все и закончилось, как он тут же назвал себя и ей пришлось тоже сказать, что и ей нравятся его работы, при этом она совершенно не кривила душой, хотя теперь они будут представляться ей в несколько ином свете, чем раньше. Отныне он уже будет казаться ей не столько человеком, пожертвовавшим своим правом на любовь и семейный очаг ради искусства, сколько эгоистом, совершенно неспособным на выражение самых простых человеческих чувств. Живя в одиночестве, Хоунелл действительно обрел дар вдохновенного творчества, но одновременно взрастил и взлелеял сверх меры восторженное отношение к себе, час от часу углублявшееся по мере того, как он все больше задумывался над тем, что отличает и возвышает его над безликой серой массой обыкновенных людей. Линдзи попыталась скрыть проснувшуюся в ней неприязнь под потоком восторженных эпитетов к написанным им романам, но он, очевидно, почувствовал натянутость ее похвал и проглядывающее сквозь них неодобрение, потому что быстро прекратил хвалить ее работы и вернулся на свое прежнее место у стойки. После этого Хоунелл ни разу не обернулся в ее сторону, но ораторствовать перед собутыльниками по бару прекратил и угрюмо сидел за стойкой, уделяя внимание только содержимому своих бесконечных рюмок. Теперь, сидя в кресле в своей студии с раскрытым на коленях номером журнала «Артс Америкэн» и глядя на фамилию Хоунелла, Линдзи почувствовала, как в жилах у нее стынет кровь. Оказавшись невольной слушательницей пьяной болтовни великого молчальника, она услышала и узнала о нем гораздо больше, чем ему бы хотелось. Мало того, достигнув определенных высот на избранном ею поприще, Линдзи была вхожа в те же круги, где вращались люди, хорошо знавшие Хоунелла. В ней он чувствовал угрозу своему существованию. Одним из способовнейтрализовать ее было написать толковую, не обязательно честную, статью, в которой подвергнуть основные ее работы уничтожающей критике; в результате любые нелестные ее замечания в его адрес можно будет истолковать как безосновательные и движимые исключительно оскорбленным чувством собственного достоинства. Она знала, чего можно ждать от него в этой статье в «Артс Америкэн», и потому ничему не удивлялась. Никогда в жизни не доводилось ей читать столь злобный пасквиль о себе, сработанный, однако, таким образом, что у непредубежденного читателя и мысли не возникало о предвзятости критика. Кончив читать статью, Линдзи закрыла журнал и аккуратно положила его на маленький столик у кресла. Она не швырнула его, потому что была уверена, что именно на такую ее реакцию рассчитывал Хоунелл. Но потом Линдзи вдруг взорвалась: «К черту все!», схватила со столика журнал и что есть силы запустила его в стену. Громко ударившись об нее, он отскочил и с сухим шелестом страниц шлепнулся на пол. Ее работы значили для нее очень многое. В них она вкладывала всю себя: свой ум, свои эмоции, свой талант и умение — даже в те из них, которые получались не так, как были задуманы, — каждое произведение требовало полной отдачи сил. Каждое рождалось в муках. Каждое помогало Линдзи открыть в самой себе такие глубинные душевные пласты, о которых она и не подозревала. И каждое в равной степени одаривало ее восторгом и отчаянием. Критик имеет полное право не любить художника, но оценивая его, он, обязан строить свою критику на вдумчивом уважении и понимании того, к чему стремится художник и что пытается сказать. Но то, что она прочла, не было критикой. Это был болезненно-злобный выпад. И до безумия низкопробный. Ее искусство очень многое значило для нее, а он попытался втоптать его в грязь. Не в силах усидеть от переполнявшего ее негодования, она вскочила и стала нервно ходить взад и вперед по комнате. Подспудно понимая, что, позволив гневу взять верх над собой, она проигрывала Хоунеллу, потому что именно на такую болезненную ее реакцию он и рассчитывал, вонзая нож своей критики в самое ее сердце. Но она ничего не могла с собой поделать. Линдзи хотелось, чтобы Хатч был рядом и разделил бы с ней переполнявшее ее чувство ярости. Его присутствие успокоило бы ее в тысячу раз быстрее и эффективнее, чем стакан виски. Бессмысленные метания по комнате в конце концов привели Линдзи к окну, где к этому времени жирный черный паук успел опутать правый верхний угол сложными переплетениями своей паутины. Вспомнив, что забыла захватить из кладовки кувшин, она взяла увеличительное стекло и стала внимательно разглядывать шелковистые филиграни рыбачьих сетей восьминогого ткача, тускло мерцавшие, подобно жемчугам на рисунке пастелью. Искусно сработанная ловушка так и звала, так и манила к себе. Но сотворивший ее живой ткацкий станок был сама ожившая хищность, сильная, лоснящаяся, коварная и ловкая. Шарообразное тело паука сверкало, как капля густой черной крови, а мощные челюсти секли воздух в предвкушении еще не попавшей в сети добычи. Паука и Хоунелла объединяло то общее, что было совершенно чуждо Линдзи, чего она никогда не смогла бы понять, как долго бы ни наблюдала за ними обоими. Оба в полном одиночестве молча ткали свою паутину. Оба помимо ее воли вторглись в ее дом, один со страниц журнала, другой через щель в оконной раме или дверном проеме, внеся в него свое ожесточение. Оба были ядовиты и мерзки. Линдзи опустила увеличительное стекло. С Хоунеллом она ничего не могла поделать, зато легко могла расправиться с пауком. Из верхнего ящичка буфета достала две салфетки и одним быстрым движением смела и ткача, и его сеть, уничтожив и его самого, и его произведение. Брезгливо бросила матерчатый комок в урну. Обычно она старалась по возможности не убивать пауков, а поймав их в ловушку, выдворяла наружу, но сегодня она не чувствовала никаких угрызений совести от того, что так жестоко обошлась с этим насекомым. И, окажись здесь в данный момент Хоунелл, когда боль от его укуса еще не успела стихнуть, у нее был бы слишком велик соблазн расправиться с ним так же быстро и с такой же жестокостью, как она сделала это с пауком. Когда Линдзи вновь вернулась на свое место у мольберта и взглянула на неоконченную картину, то поняла, как ее завершить. Она откупорила краски, разложила кисти. Это не был первый или единственный случай, когда внешним толчком к творческому вдохновению ей послужила несправедливо нанесенная обида или бездумная шутка в ее адрес, и мысленно она спрашивала себя, скольким еще художникам в момент создания лучшего из их творений хотелось влепить по роже тем огульным критиканам, которые всячески пытались принизить и обесчестить их творческие усилия. Когда с того момента, как Линдзи приступила к работе, прошло минут десять или пятнадцать, неожиданная мысль, обеспокоившая и заставившая ее вернуться к тому тревожному состоянию, в котором она находилась до прибытия почты с журналом «Артс Америкэн», вновь выбила ее из рабочей колеи. Хоунелл и паук были не единственными существами, без спросу вторгшимися в ее дом. Безымянный убийца в темных очках тоже без спросу вошел в него, хотя и своеобразным путем, через посредство таинственной связи, которая установилась между ним и Хатчем. А что, если он ощущает Хатча так же, как Хатч ощущает его? Тогда он непременно найдет способ выследить Хатча и вломиться в их дом по-настоящему, и последствия такого вторжения окажутся куда более страшными и разрушительными, чем те досадные неприятности, которые способны причинить паук или Хоунелл.Глава 5
В прошлые разы Джоунас Нейберн обычно принимал Хатча у себя в кабинете в Оранской окружной больнице, но в тот вторник встреча была назначена в медицинском учреждении, располагавшемся неподалеку от Джамборийского шоссе, где у доктора была частная практика. Элегантный вид комнате ожидания придавали не столько стелившийся по полу серый пушистый ковер и приличествующая окружению стандартная мебель, сколько развешанные по ее стенам картины. Хатч был одновременно удивлен и восхищен качеством старинных, писанных маслом картин, темами которых служили различные библейские сцены: «Страсти св. Иуды», «Распятие», «Божья Матерь», «Благовещение», «Воскресение» и многие, многие другие. Самым удивительным было то, что картины эти стоили огромных денег. Несомненно, Нейберн был очень известным хирургом и происходил из весьма состоятельной семьи. Странным, однако, казалось то, что, принадлежа к профессии, представители которой, особенно в последние десятилетия, занимали все более радикальные агностические позиции в обществе, он избрал в качестве украшения для своей приемной именно искусство религиозное, да еще приверженное только одному, католическому вероисповеданию, что не могло не обижать пациентов некатоликов или неверующих. Когда в сопровождении медсестры Хатч вышел из комнаты, он заметил, что коллекция продолжалась и в переходе, куда выходили другие кабинеты. Необычно было видеть прекрасно исполненного маслом «Иисуса в Гефсиманском саду» слева от медицинских весов из нержавеющей стали, сверкающих эмалированным покрытием, и тут же, висевшую на стене рядом с картиной, диаграмму идеального веса в зависимости от роста, возраста и пола человека. После взвешивания, измерения кровяного давления и частоты пульса Хатч сидел в ожидании Нейберна в его небольшом личном кабинете, примостившись на краешке кушетки для медицинского осмотра, сплошь покрытой гигиенической бумагой. На одной из стен висела таблица для проверки зрения, а рядом с ней прелестное «Вознесение», в котором художнику за счет мастерского использования игры света и теней удалось добиться полного эффекта трехмерности пространства, от чего фигуры на картине казались живыми. Нейберн не заставил себя долго ждать — не больше одной-двух минут — и, войдя в кабинет, широко улыбнулся Хатчу и пожал ему руку. — Не буду томить вас неведением, Хатч. Результаты тестов отрицательные. Вы абсолютно здоровы. Это было не то, что он хотел услышать. Втайне Хатч надеялся, что удастся обнаружить хоть какую-нибудь зацепку, которая могла бы пролить свет на природу его кошмарных сновидений и его таинственную связь с человеком, убившим блондинку. С другой стороны, медицинское заключение ничуть его не удивило. Он отлично понимал, что ответить на волновавшие его вопросы не так-то просто. — Следовательно, в кошмарах ваших, — заверил его Нейберн, — нет ничего необычного. Кошмары, как кошмары, только и всего. Хатч не стал рассказывать доктору о привидевшейся ему сцене с убитой из револьвера блондинкой, чей труп был позже обнаружен на шоссе. Как он уже объяснил Линдзи, он не желает вновь стать сенсацией номер один для прессы, по крайней мере, до тех пор, пока не будет иметь достаточно данных для того, чтобы точно вывести полицию на убийцу, и тогда, конечно, у него не останется другого выбора, как снова стать центром внимания средств информации. — Не наблюдается никаких признаков повышенного черепного давления, никаких нарушений электрохимического равновесия, никаких признаков смещения в области шишковидной железы, что обычно приводит к кошмарным сновидениям и даже к галлюцинациям. С присущей ему методичностью Нейберн обстоятельно охарактеризовал результаты каждого анализа и теста в отдельности. Слушая его, Хатч вдруг сообразил, что всегда воспринимал доктора старше его лет: что-то в его облике — какая-то торжественная величавость, степенность — преждевременно старило его. Высокого роста, сухощавый, он, чтобы казаться ниже, постоянно сутулился, отчего и выглядел гораздо старше своих пятидесяти лет. Иногда в нем угадывалась какая-то скрытая печаль, словно он пережил страшную трагедию. Закончив обсуждение анализов, Нейберн поднял на Хатча глаза и улыбнулся. Улыбка у него была добрая, но и она не смогла погасить нимб печали, исходившей от его облика. — Проблема эта не имеет никакого отношения к физическому здоровью, Хатч. — Может быть, вы упустили что-либо из виду, где-то промахнулись? — Теоретически это возможно, но практически маловероятно. Мы… — Не заметили какое-нибудь самое ничтожное повреждение в мозгу. Ведь несколько сотен пораженных клеток вряд ли повлияют на результаты анализа, а последствия могут быть весьма ощутимыми. — Повторяю, все это маловероятно. И потому с уверенностью заявляю вам, что проблема эта носит сугубо эмоциональный характер, что вполне объяснимо, учитывая характер пережитого вами несчастья. Думаю, небольшая терапия вам не помешает. — Психотерапия? — А у вас что, возникли какие-нибудь осложнения в этом плане? — Нет. «Ничего мне эта терапия не даст, — подумал Хатч. — Какая там эмоциональная проблема! Слишком уж все реально». — Есть у меня на примете один знакомый, отличный специалист, он вам понравится. — Нейберн достал из нагрудного кармана своего белого халата авторучку и записал фамилию психотерапевта на пустом бланке для рецептов. — Я расскажу ему о вас и скажу, что вы позвоните. Хорошо? — Да, конечно. Большое спасибо. В действительности надо было все выложить Нейберну начистоту. Но это прозвучало бы настолько дико, что у того вмиг отпали бы всякие сомнения относительно необходимости психотерапии. Как это ни прискорбно, но в данном случае Хатчу никто из врачей — ни хирург, ни психотерапевт — не в состоянии помочь. Его недомогание не излечить никакими общепринятыми в медицине средствами. Здесь скорее нужен колдун, шаман. Или заклинатель злых духов. Ему и впрямь иногда казалось, что, затянутый во все черное, с напяленными в темноте солнцезащитными очками, убийца был самим дьяволом, стремящимся овладеть его душой. Некоторое время они говорили о пустяках, не имеющих отношения к медицине. Когда Хатч уже поднялся, чтобы уйти, он одобрительно кивнул на «Вознесение». — Прелестная вещица. — Спасибо. Не правда ли, поразительный эффект? — Италия? — Точно. — Если не ошибаюсь, начало восемнадцатого столетия? — Опять в яблочко, — удивился Нейберн. — Питаете пристрастие к религиозной живописи? — Ну, пристрастие — это звучит слишком громко. Просто кое-какие сведения почерпнуть удалось. Вообще, как мне кажется, все, что собрано в этих стенах, скорее всего принадлежит итальянской школе одного и того же периода. — Именно так. Еще одна, ну, может быть, две картины, и коллекция будет полной. — Странно видеть все это здесь, — пожал плечами Хатч, подходя к картине, висевшей подле глазной таблицы. — Да, понимаю, что вы имеете в виду, — сказал Нейберн, — но у меня дома не хватает стен для всех этих картин. Там я держу коллекцию современной религиозной живописи. — А что, есть и такое направление? — Не совсем направление. В наше время религиозная тема мало интересует действительно талантливых художников. В основном работают поденщики. Но иногда, случайно… вдруг набредаешь на истинный талант, пытающийся посмотреть на прошлое глазами современного человека. Когда соберу эту коллекцию и распоряжусь ею, как должно, перевезу сюда из дома картины современных художников. Во взгляде Хатча, который он перевел с картины на врача, мелькнул профессиональный интерес. — Собираетесь продавать? — Боже упаси! — махнул рукой Нейберн, возвращая авторучку в нагрудный карман. Рука его с длинными тонкими, как это часто бывает у хирургов, пальцами задержалась у кармана, словно он торжественной клятвой подтверждал истинность того, что говорил. — Я принесу ее в дар. За последние двадцать лет это будет уже шестая коллекция религиозной живописи, которую я собрал, а затем подарил. Прикинув в уме примерную стоимость развешанных по стенам картин, Хатч поразился размаху филантропии доктора. — И кто же счастливый получатель? — Ну, как вам сказать, обычно я приношу свои коллекции в дар какому-нибудь католическому университету, а в двух случаях были и другие церковные учреждения. Хирург, не отрываясь, смотрел на «Вознесение», но, казалось, видел не его, а то, что было за картиной, за стеной, на которой она висела, далеко за горизонтом. Рука его все еще неподвижно оставалась у нагрудного кармана. — Весьма великодушно с вашей стороны, — восхитился Хатч. — Это не акт великодушия. — Глухо, как бы отдаленно звучавший голос Нейберна полностью соответствовал его отсутствующему взгляду. — Это акт искупления. Заявления такого рода требуют дополнительных разъяснений, и Хатч понимал, что, задавая вопросы, обязательно вторгается в святая святых души врача. — Искупления за что? Нейберн все еще не отрывал взгляда от картины: — Я никогда никому об этом не говорю. — Я спросил не из праздного любопытства. Просто мне показалось… — А может быть, мне действительно станет легче, если я все же решусь раскрыть кому-нибудь свою душу. Как вы полагаете? Хатч не ответил, отчасти потому, что вопрос хирурга был — во всяком случае, так ему показалось — обращен не столько к нему лично, сколько к самому себе. — Искупление, — повторил Нейберн. — Во-первых, искупление за то, что был сыном своего отца. А позже… за то, что был отцом своего сына. Хатч не понимал, каким образом и то и другое могло быть грехом, но он промолчал, ожидая пояснений хирурга. Он начинал чувствовать себя так, как в поэме Колриджа чувствовал себя шедший на вечеринку прохожий, когда на его пути неожиданно возник Старый Моряк со своей страшной повестью, которую он стремился поведать хоть кому-нибудь, лишь бы не держать ее в себе из-за боязни, что растеряет и те ничтожные крохи здравого рассудка, которые пока чудом сохранил. Уставившись немигающим взором на картину, Нейберн продолжал: — Когда мне было семь лет, мой отец сошел с ума. В припадке бешенства он застрелил мою мать и брата. Ранил меня и сестру, решил, что нас тоже убил, а затем застрелился сам. — Простите меня, — быстро проговорил Хатч, и в памяти его тотчас возник образ собственного отца с его дикими выходками. — Ради Бога, простите меня, доктор. Но в чем был здесь грех, требовавший искупления от Нейберна, ему все равно было невдомек. — Некоторые психические заболевания имеют генетическую природу. Когда я заметил признаки социопатического поведения у своего малолетнего сына, я должен был бы знать, что последует за этим, и каким-то образом постараться пресечь это в зародыше. Но не пожелал смотреть правде в глаза. Слишком было больно. И вот, два года тому назад, когда ему исполнилось восемнадцать, он сначала зарезал свою сестру… Хатч содрогнулся. — …затем свою мать, — докончил Нейберн. Первым побуждением Хатча было прикоснуться рукой, в знак утешения, к руке хирурга, но он не сделал этого, так как вдруг понял, что унять боль Нейберна и залечить его рану не в состоянии ни медицина, ни утешительные жесты, ни слова. Несмотря на то что хирург рассказывал ему о сугубо личной трагедии, он не искал у Хатча сочувствия или дружеского участия. И казался на удивление замкнутым в самом себе. Он рассказывал о трагедии, потому что пришло время вытащить ее на свет божий из глубин души и заново пересмотреть, и не важно, кто был перед ним — Хатч, или кто-нибудь другой, или вообще никого, — он все равно должен был бы ее поведать. — А когда они умерли, — монотонно гудел голос Нейберна, — Джереми взял этот же нож, нож убийцы, отнес его в гараж, закрепил рукоятку в тисках на верстаке, встал на табуретку и упал на него грудью. Истек кровью и умер. Правая рука хирурга все еще оставалась у нагрудного кармана, но он уже не казался человеком, жестом подтверждающим истинность того, что рассказывает. Теперь он напоминал Хатчу картину, изображающую Иисуса Христа с открытым миру Священным Сердцем и указующей на этот символ самопожертвования и надежды тонкой божественной рукой. Наконец Нейберн оторвал взгляд от «Вознесения» и посмотрел прямо в глаза Хатчу. — Утверждают, что зло есть следствие наших поступков, результат наших желаний. И я верю, что так оно и есть — но не только. Ибо зло — это еще и какая-то неведомая, существующая вне нас энергия, некая самостоятельная сила. Вы ведь тоже в это верите, Хатч? — Да, — непроизвольно вырвалось у Хатча, и он сам подивился собственному ответу. Нейберн взглянул на рецептурный бланк, который все еще держал в левой руке. Отняв наконец правую руку от нагрудного кармана, оторвал верх бланка и протянул его Хатчу. — Его фамилия Фостер. Доктор Габриэль Фостер. Уверен, он сможет вам помочь. — Спасибо, — деревянным голосом отозвался Хатч. Нейберн открыл дверь кабинета и жестом пригласил Хатча пройти в нее первым. В коридоре хирург вдруг позвал его: — Хатч! Хатч остановился и вопросительно обернулся. — Простите меня, — сказал Нейберн. — За что? — За то, что объяснил, почему раздариваю свои коллекции. Хатч кивнул головой. — Но ведь я сам об этом попросил. — Но я бы мог быть менее пространным. — То есть? — Я мог бы просто сказать: думаю, что единственный способ для меня попасть в рай — это оплатить дорогу в один конец. На залитой солнечным светом автостоянке Хатч долгое время неподвижно сидел за рулем машины, наблюдая через лобовое стекло за осой, висевшей в воздухе над красным капотом, ошибочно принимавшей его за огромную розу. Разговор в кабинете Нейберна казался странным сном, и у Хатча было такое ощущение, что он все еще никак не может проснуться окончательно. Он чувствовал, что трагедия наполненной смертями жизни Нейберна имела прямое отношение к нынешним его проблемам, но связующая их нить все время ускользала от него, как ни старался он ее нащупать. Оса рыскала то влево, то вправо, но все время оставалась в пределах площади стекла, словно видела Хатча за рулем и он притягивал ее к себе, как магнит. Время от времени она бросалась к нему и, ударившись о стекло, отскакивала и снова зависала на одном и том же месте. Удар, жужжание, удар, жужжание, удар, удар, жужжание. До чего же упорным было это насекомое. Интересно, думал Хатч, она из той разновидности ос, что оставляют жало в жертве, а сами умирают? Удар, жужжание, удар, жужжание, удар, удар, удар. Если она и впрямь относится к этой разновидности, то представляет ли, чем окупается ее упорство? Удар, жужжание, удар, удар, удар.Проводив последнюю пациентку, обаятельную тридцатилетнюю женщину, состоявшую у него под наблюдением после операции на аорте, Джоунас Нейберн вернулся в свой маленький кабинет в конце коридора и плотно прикрыл за собой дверь. Он сел за свой рабочий стол и стал искать в бумажнике полоску бумаги с написанным на ней телефонным номером, который не решился ввести в память своего «Ролодекса». Найдя ее, пододвинул поближе к себе телефон и набрал семизначный номер. После третьего звонка включился автоответчик — как и вчера, и сегодня утром: — Говорит Мортон Редлоу. В данный момент меня нет дома. После короткого сигнала, пожалуйста, назовите себя и передайте свое сообщение, оставьте номер телефона, по которому я смогу вам позвонить. Скоро вернусь. Джоунас подождал сигнала, затем негромко сказал. — Мистер Редлоу, говорит доктор Нейберн. Я уже несколько раз звонил вам, так как надеялся еще в пятницу получить от вас сообщение. Или, в крайнем случае, после уик-энда. При первой же возможности позвоните мне, пожалуйста. Спасибо. Он медленно положил трубку на рычаг. Подумал: «Может, не стоит беспокоиться?» И чуть позже: «Как же не беспокоиться?»
Глава 6
Регина сидела за партой в классе сестры Мэри Маргарет, преподавательницы французского языка, обалдевшая от запаха мела, с онемевшими от долгого неподвижного сидения на твердом пластиковом стуле ручками и ногами, и повторяла вслед за учительницей: — Здравствуйте, я — американка. Будьте добры, подскажите, как мне добраться до ближайшей церкви, где я могла бы посетить воскресную мессу? Très[142] скучно. Она все так же оставалась ученицей пятого класса начальной школы св. Фомы, поскольку продолжение учебы в данной школе было одним из неукоснительных условий ее удочерения. (Испытательного. Ничего определенного. Все может еще вернуться на круги своя. Харрисонам вдруг взбредет в голову выращивать не ребенка, а длиннохвостого попугая, тогда они вернут ее обратно, а вместо нее заведут себе птицу. Господи, пожалуйста, убеди их, что в священной Твоей мудрости Ты создал птиц, чтобы они все время какали. Убеди их, что они измотаются, то и дело убирая клетку.) Когда она окончит начальную школу, поступит в среднюю школу св. Фомы, так как св. Фома был вездесущ. Помимо приюта и двух школ, под его эгидой находились еще центр по присмотру за детьми в дневное время и общество бережливости. Паства походила на своеобразное средоточие различных учреждений, и отец Жиминез был его организующим началом, крупным администратором, подобно Дональду Трампу, с той лишь разницей, что не распоряжался шлюхами и не заведовал игорными домами. Если не принимать во внимание, правда, небольшой зал для игры в бинго. (Миленький Боженька, когда я говорила о том, что птицы очень много какают, я вовсе не критиковала Тебя. Я знаю, у Тебя были свои основания сделать так, чтобы они какали на всех и вся, и это такая же тайна для нас, как Святая Троица, то, чего нам, обыкновенным смертным, не понять никогда. Я вовсе не хотела Тебя этим обидеть.) В любом случае, ничего плохого не было в том, что она училась в школе св. Фомы, потому что и монахини, и светские учителя были очень требовательными педагогами и буквально вдалбливали знания в головы учеников, а она любила учиться. Но к последнему уроку в этот вторник учеба ей уже осточертела, и, если сестра Мэри Маргарет заставит ее что-нибудь сказать по-французски, она точно перепутает слово «колокол» со словом «клоака», как уже сделала однажды, к неописуемой радости всех остальных учеников и к своему великому стыду. (Господа, Ты помнишь, конечно, что в виде наказания за этот промах, я заставила себя прочитать подряд все молитвы, чтобы доказать Тебе, что все это произошло по чистой случайности.) Когда прозвенел долгожданный звонок, она первой вскочила со своего места и первой стремглав выбежала из класса, хотя большинство детей школы св. Фомы не были приютскими и инвалидами. На бегу к своему шкафчику и от шкафчика к центральному выходу она все время боялась, что мистер Харрисон не приедет, как обещал, на своей машине забрать ее из школы. Она представляла себе, что стоит на тротуаре, пытаясь найти его машину, а вокруг нее стайками проносятся другие дети, и постепенно толпа их редеет, и она остается одна-одинешенька, а машины все нет, а она ждет, а солнце уже садится и всходит луна, и часы на ее руке показывают полночь, а утром, когда другие дети снова придут в школу, она тоже пойдет с ними и никому не скажет, что Харрисонам она больше не нужна. Он был на месте. В красной машине. В цепочке машин других родителей, приехавших за своими детьми. Когда она приблизилась, он наклонился на сиденье в ее сторону и отворил дверь. Едва она уселась рядом с ним, положив на колени ранец, он спросил: — Устала? — Ага, — буркнула Регина, смешавшись, хотя в чем-чем, а в стеснительности раньше ее нельзя было упрекнуть. Но ей никак не давалась эта семейная непринужденность общения. Ей казалось, она никогда не сможет к этому привыкнуть. — Что, монашки доняли? — Ага. — Эти могут. — Могут. — Никакого тебе сочувствия. — Никакого, — подтвердила она, удивляясь самой себе и не представляя, сможет ли она когда-нибудь говорить более распространенными предложениями. Отъезжая от обочины, он с серьезным видом заявил: — Могу поспорить, что, окажись какая-нибудь завалящая монахиня один на один на ринге с любым чемпионом мира по боксу в тяжелом весе — да будь это хоть сам Мохаммед Али, — она бы его уделала в первом же раунде. Регина прыснула. — Правда-правда, — сказал он. — Только супермену по плечу настоящая, закаленная монахиня. Бейсболист? Тьфу! Да любая монахиня полы будет мыть бейсболистом или сможет сварить суп из целой команды черепашек-ниндзя. — Они это делают для нашей же пользы, — степенно возразила Регина, и, хотя это было целое предложение, прозвучало оно довольно пошло. Лучше вообще молчать; никак не могла она привыкнуть к отношениям типа «папочка-деточка». — Кто, монахини? — спросил он. — Естественно, они делают это для вашей же пользы. Не делай они этого, они не были бы монахинями. А могли бы запросто пойти служить боевиками мафии или заделаться международными террористами, а то и конгрессменами Соединенных Штатов. Он не спешил домой, как занятой человек, которого ждет масса дел, а ехал медленно, словно это была увеселительная прогулка. Они еще слишком плохо знали друг друга, чтобы Регина могла сказать, была ли это обычная его манера езды, но все же ей показалось, что он нарочно тянет время и едет намного медленнее, чем обычно: чтобы подольше побыть наедине с ней. Это было здорово. У нее даже чуть запершило в горле и на глаза навернулись слезы. Но, Боже мой! Куча коровьих лепешек и то могла бы лучше поддерживать разговор, чем она, а теперь не хватает только разреветься: ничего себе, хорошенькое начало для дружбы. Наверняка каждый приемный родитель только и мечтает, чтобы удочерить эмоционально неуравновешенную девчонку, да еще к тому же калеку… Как, вы разве не знаете? Теперь это ужасно модно. Н-да, если она и вправду разревется, тотчас откроются предательские шлюзы, и слезы хлынут рекой, и это наверняка сделает ее еще более неотразимой. Вот тогда наконец мистер Харрисон поймет, какую совершил ошибку, и рванет домой на такой скорости, что за милю от дома ему придется буквально встать на педаль тормоза обеими ногами, чтобы успеть остановить машину, пока она вдребезги не разнесла весь гараж. (Бог, миленький, пожалуйста, помоги мне. Заметь, я сказала «коровьи лепешки», а не «говно», и уже поэтому заслуживаю милосердия.) Они болтали о том о сем. Вернее, болтал он, а она мычала в ответ что-то невразумительное, словно была не человеком, а каким-то странным человекообразным существом, которое перевозили из одного зоопарка в другой. Но вскоре, к своему удивлению, Регина обнаружила, что говорит полными предложениями, что происходит это уже на протяжении нескольких миль и что чувствует она себя при этом совершенно непринужденно. Он спросил ее, кем бы она хотела стать, когда вырастет, и она чуть не прожужжала ему все уши, объясняя, что есть люди, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что пишут книги, которые ей нравятся, и что она сама в течение последних двух лет уже написала несколько рассказов. Не очень удачных, честно призналась Регина, но с годами она обязательно научится писать лучше. Для своих десяти лет она очень талантлива, гораздо взрослее, чем кажется, но говорить о выборе профессии ей все равно еще рано, не раньше, чем ей исполнится восемнадцать, может быть, шестнадцать, если повезет. Когда там мистер Кристофер Пайк начал печататься? В семнадцать? В восемнадцать? А может, ему стукнуло и все двадцать, но уж точно не старше, вот и она будет стремиться к тому, чтобы ко времени, когда ей исполнится двадцать, стать вторым Кристофером Пайком. У нее есть специальный блокнот, куда она записывает разные рассказы. Многие из них очень даже ничего, если не обращать внимания на отдельные смехотворные детские сюжеты, типа истории о разумной свинье, прилетевшей из космоса, которым она буквально бредила некоторое время, пока не сообразила, что он безнадежно глупый. Когда они уже ехали по подъездной аллее к дому в Лагуна-Нигуэль, она все еще говорила, и, казалось, мистер Харрисон с удовольствием слушает ее. У Регины мелькнула мысль, что, пожалуй, она сможет все же привыкнуть к странной роли равноправного члена семьи.Вассаго снился пожар. Щелчок открываемой крышки зажигалки. Сухой скребущий звук колесика о кремень. Искра. Легкое летнее платьице девочки полыхнуло как факел. «Дом привидений» весь в огне. Крики ужаса, когда призрачная его темнота мгновенно растворяется в оранжевых бликах пламени. В пещере «Сороконожки» лежит мертвый Тод Леддербекк, а теперь едкая удушливая смерть сеет гибель и ужас в павильоне, наполненном пластиковыми скелетами и резиновыми вурдалаками. Ему и раньше снился этот сон, бесконечное число раз с того памятного дня рождения Тода. И всегда он радовался ему, как одному из самых прекрасных, самых фантасмагорических своих видений. Но на этот раз в пламени то и дело мелькали лица и видения. Опять красная машина. Сосредоточенная красивая девочка с копной рыжевато-каштановых волос и огромными серыми глазами, по-взрослому глядящими с ее детского личика. Маленькая, странно изогнутая детская ладошка, на которой недостает двух пальцев. И имя, которое он уже однажды слышал, эхом отскакивающее от языков пламени и быстро тающего мрака «Дома привидений». Регина… Регина… Регина…
* * *
Визит к доктору Нейберну расстроил Хатча, во-первых, потому, что результаты анализов ничего нового, что могло бы пролить свет на его странные видения, не дали, а во-вторых, оттого, что узнал о несчастной, полной тревог жизни самого хирурга. Но Регина, сама того не подозревая, оказалась отличным средством от меланхолии. Детский энтузиазм переполнял все ее существо; суровая жизнь так и не сумела задушить в ней ребенка. Когда она шла от машины к дому, то делала это гораздо быстрее и раскованнее, чем когда входила в кабинет Сальваторе Гуджилио, а скоба на ноге придавала ее походке своеобразную размеренность и торжественность. В нескольких дюймах от ее головы порхала желто-голубая бабочка, не отставая от девочки ни на секунду, словно чуя, что душа ее была, как и сама бабочка, красивой и жизнерадостной. Вежливо наклонив голову, Регина важно произнесла: — Спасибо, что подвезли меня из школы, мистер Харрисон. — Не стоит благодарности, — так же церемонно ответил он. К концу дня надо будет как-нибудь разделаться с этим официальным «мистером Харрисоном». Он понимал, что формальность обращения частично исходила из ее страха чересчур быстро сблизиться с ними — и потом быть ими отторгнутой, как уже однажды с ней случилось во время первого испытательного срока. Но одновременно это был и страх все потерять, сказав что-либо невпопад или сделав что-либо не так. У двери он сказал: — Кто-нибудь из нас, Линдзи или я, обязательно будет забирать тебя из школы, но если у тебя есть водительские права и ты сама желаешь ездить в школу и обратно, то, пожалуйста, милости просим. Она вскинула на него глаза. Бабочка неотрывно кружила вокруг ее головы, словно живой венец или нимб. — Вы шутите, да? — Боюсь, что да. Она вспыхнула и отвернулась, словно не была уверена, хорошо это или плохо, что над ней подтрунивают. Он почти читал мысли, вихрем проносившиеся в ее голове: Он шутит со мной, потому что я ему нравлюсь или потому что принимает меня за полную дурочку? — во всяком случае, что-то в этом роде. По пути из школы домой Хатч видел, что Регину одолевали сомнения и что изо всех сил она стремилась скрыть это от него, но все настолько очевидно отражалось на ее прелестном выразительном личике, что не заметить этого мог разве что слепой. Всякий раз, когда он чувствовал, что ее уверенность в себе трещит по швам, ему хотелось обнять ее, крепко прижать к себе и сказать что-нибудь ободряющее — чего ни в коем случае нельзя было делать, чтобы не дать ей понять и ужаснуться, сообразив, что ее переживания столь очевидны для него. Ведь она старалась казаться стойкой, упорной, неунывающей и независимой. И этим выдуманным образом самой себя, как щитом, прикрывалась от действительности. — Надеюсь, ты не обижаешься на шутки, — спросил он, вставляя ключ в замочную скважину. — Я тут слыву большим шутником. Конечно, если надо, я запишусь на курсы анонимного лечения шутников и излечусь от этой вредной привычки, но там, знаешь, какие крепкие ребята?! Бьют по попе резиновыми шлангами и заставляют есть лимскую фасоль. Когда пройдет достаточно времени, когда она почувствует, что по-настоящему любима и является полноправным членом семьи, вот тогда ее уверенность в себе действительно станет незыблемой. А пока лучше сделать вид, что принимаешь ее такой, какой она хочет, чтобы ее принимали, и потихонечку, шаг за шагом, помочь ей выйти из позы выдержанного и уверенного в себе человека, которую она сама себе придумала. Когда он открыл дверь и они вошли в дом, Регина разоткровенничалась: — Когда-то я ненавидела лимскую фасоль и вообще любую фасоль и бобы, но я заключила с Богом договор: если он выполнит… мое самое заветное желание, я буду есть любые бобы в течение всей моей жизни без всякого принуждения. В гостиной, повернувшись, чтобы закрыть за собой дверь, Хатч недоверчиво присвистнул: — Ничего себе предложеньице. Бог, наверное, рот разинул от удивления. — Хотелось бы надеяться, — важно заметила она.* * *
В сновидении Вассаго Регина идет, окруженная солнечным сиянием, одна нога ее стянута стальной скобой, а за ней, как за цветком, порхает бабочка. Дом, по краям которого растут пальмы. Дверь. Она поднимает глаза и смотрит прямо на Вассаго, и в глазах ее светится душа, наполненная такой кипучей энергией жизни и такая легко ранимая, что даже во сне его сердце учащенно забилось.Линдзи они нашли наверху, в одной из бывших спален, переделанной под домашнюю студию. Мольберт был повернут от двери, и потому Хатч не мог видеть стоявшей на нем картины. Рубаха Линдзи наполовину вылезла из джинсов, волосы были в полном беспорядке, на левой щеке красовалось размазанное красновато-рыжее пятно краски, а в ее глазах Хатч прочел то особое выражение, которое — он это знал по опыту — свидетельствовало о том, что она находилась в заключительной стадии работы над картиной, получавшейся именно так, как и было задумано. — Привет, лапка, — приветливо поздоровалась Линдзи с Региной. — Ну как школа? Как всегда, когда к ней обращались с лаской, Регина смешалась. — Ничего, школа как школа, всякое бывает. — Но тебе ведь нравится учиться, правда? Ты же круглая отличница. Регина только пожала плечами на похвалу и засмущалась еще больше. Подавив в себе желание дружески подбодрить девочку, Хатч сказал, обращаясь к Линдзи: — Она собирается стать писателем, когда вырастет. — Да? — изумилась Линдзи. — Здорово. Я знала, что тебе нравятся книги, но не думала, что ты их сама хочешь сочинять. — Я по-настоящему поняла это только недавно, — неожиданно для себя выпалила девочка, и вмиг смущения как не бывало и слова рекой потекли из ее уст, когда она, пройдя в глубь комнаты, остановилась у мольберта, чтобы посмотреть, как продвигается работа, — в прошлое Рождество, когда моим подарком под елкой оказались шесть книг. Но не книг для ребенка десяти лет, а настоящих, взрослых, ведь я читаю уже на уровне пятнадцатилетней. Я же, как принято говорить, не по годам развитый ребенок. Ну, как бы там ни было, а книги — действительно хороший подарок, и я подумала, вот будет здорово, если когда-нибудь такая же девочка, как я, вдруг получит мои книги в виде рождественского подарка под елкой и ей станет так же хорошо, как и мне, хотя куда мне до таких писателей, как мистер Даниэль Пинкуотер или мистер Кристофер Пайк. Они же вон где, рядом с Шекспиром и Джуди Блюм. Но у меня и правда есть хорошие рассказы, не только сраные, типа «умная свинья из космоса». Простите, я имею в виду, говенные. То есть, я имею в виду, ерундовые. Не только ерундовые типа «умная свинья из космоса». Есть и хорошие. Линдзи никогда не позволяла ни Хатчу ни кому бы то ни было еще даже одним глазком взглянуть на незавершенное полотно, пока не нанесет на него последний штрих. Хотя по всему было заметно, что работа явно близилась к концу, картина все же еще не была завершена, и Хатч поразился, что она даже бровью не повела, когда Регина, обогнув мольберт, остановилась перед ним и стала разглядывать полотно. Он подумал, что какому-то там ребенку, даже если у него прелестный носик и прехорошенькие веснушки, она не смеет предоставлять привилегии, в которых отказывает ему, и смело шагнул к мольберту, чтобы тоже взглянуть на работу жены. Это была поразительная картина. Фоном служило небо, полное звезд, а прямо из него просвечивало лицо маленького мальчика неземной красоты. Но не просто лицо абстрактного мальчика. Лицо Джимми. Когда он был жив, она несколько раз делала его портреты, но никогда после смерти. Это был идеализированный Джимми, столь безупречно совершенный, что его лицо было скорее подобно лику ангела. Его глаза, наполненные любовью, были подняты кверху, к теплому свету, струившемуся из источника, который находился вне полотна, и выражение его лица казалось более проникновенным и глубоким, чем обычная радость. На переднем плане, в центре картины, плыла черная роза, но не просвечивающая, как лицо, а выполненная с такой реалистической прорисовкой каждой детали, что Хатч почти физически ощутил бархатистую плотность каждого ее лепестка. Зеленая кожица стебля была влажной от холодной росы, а шипы такими острыми, что, казалось, тронь их, и они обязательно поранят ладони. На одном из черных лепестков розы блестела капля крови. Каким-то непостижимым образом Линдзи удалось наделить розу сверхъестественной магнетической силой, обладавшей почти гипнотическим свойством притягивать к себе взгляд. И все же мальчик не смотрел вниз на розу; взгляд его был устремлен к сияющему источнику, видимому только его глазам, подразумевая, что, какой бы сверхъестественно-притягательной силой ни обладала роза, она не в силах превозмочь небесный источник света. Со дня смерти Джимми и вплоть до его, Хатча, воскрешения Линдзи отказывалась находить утешение в Боге, создавшем мир, где присутствует смерть. Ему вспомнилось, как священник советовал Линдзи использовать молитву как средство принятия Бога и одновременно как средство психологического самолечения, на что она холодно, не допускающим возражений тоном, ответила: «Молитва никому не в состоянии помочь. Чудес на свете не бывает, святой отец. Мертвые остаются мертвыми, а живые просто ждут своего часа, чтобы соединиться с ними». Теперь в ней что-то изменилось. Черная роза на картине являлась символом смерти. Но Джимми был ей неподвластен. Он избежал смерти, и она ничего не значила для него. Он поднялся над ней. Найдя это образное решение и сумев воплотить его в жизнь на своем холсте, Линдзи как бы говорила мальчику последнее «прощай», в котором не было ни сожаления, ни раскаяния, ни горечи, а только безмерная любовь и поразительная уверенность, что жизнь не кончается черной, зияющей дырой в земле. — До чего же красиво! — с искренним трепетом восхищения воскликнула Регина. — Немного страшновато, даже понять не могу, почему… страшно… и красиво. Хатч, оторвав взгляд от картины, встретился глазами с Линдзи, попытался что-то сказать, но не смог вымолвить ни слова. Со времени его воскрешения из мертвых вместе с ним вернулась к жизни и Линдзи, и тогда оба они поняли ошибку, которую совершили, отдав пять лет своей жизни на растерзание горю. Но подспудно, на самом глубоком уровне сознания, они отказывались принять тот факт, что жизнь может быть такой же светлой и радостной, какой была до смерти их сына; они так и не расстались с Джимми. И вот теперь, глядя Линдзи в глаза, он понял, что она наконец приняла настоящее таким, какое оно есть, без всяких оговорок и условий. И груз смерти маленького мальчика с такой силой придавил плечи Хатча, как никогда за все эти годы, и ему стало ясно, что, если Линдзи смогла примириться с Богом, он должен сделать то же самое. Он вновь попытался что-то сказать, почувствовал, что не может, еще раз взглянул на картину, понял, что сейчас расплачется, и быстро вышел из студии. Хатч шел не разбирая дороги, не зная, куда идет. Сам того не сознавая, спустился вниз, вошел в «логово», которое они предлагали Регине сделать ее комнатой, открыл застекленную дверь и вышел в ухоженный садик рядом с домом. В лучах теплого предвечернего солнца розы отливали красной, белой, желтой, розовой и даже персиковой красками, некоторыееще только начинали цвести, другие были огромными, как блюдца, но ни одна из них не была черной. Воздух был напоен их восхитительным ароматом. Ощущая в уголках рта солоноватый привкус, он обеими руками потянулся к ближайшему кусту роз, намереваясь коснуться цветов, но его ладони так и не дотронулись до них. Руки Хатча вдруг ощутили тяжесть реального веса, будто в них что-то лежало. В действительности же там ничего не было, но давящая тяжесть не оказалась для него загадкой; он с поразительной яркостью вспомнил, что ощущал, когда держал истощенное страшной болезнью хрупкое тельце сына. В самый последний, предсмертный миг он выдернул из тела Джимми опутавшие его трубки и датчики, поднял его из пропитанной потом больничной кровати, взял на руки и, сев на стул у окна и прижав сына к себе, все шептал и шептал ему что-то на ухо, пока иссохшие бледные губы не раскрылись в последнем выдохе. До самой своей смерти Хатч помнил ощущение веса изнуренного болезнью тельца мальчика, его острые, торчащие из-под кожи кости, на которых уже почти не оставалось плоти, ужасный сухой жар, исходивший от его совершенно прозрачной кожи, хватающую за сердце хрупкость и невесомость. И все это Хатч вновь ощутил сейчас в пустых, протянутых к розам руках. Подняв глаза к полуденному летнему небу, он вслух спросил: «Но почему?», словно там был кто-то, кто мог бы ему ответить. «Ведь он был таким маленьким, — прошептал Хатч. — Черт побери, ведь он был еще совсем ребенком». И пока он говорил, ноша стала намного тяжелее, чем тогда, в больничной палате, — тысячи тонн в пустых протянутых руках, может быть, оттого, что он был не в силах, не хотел, не желал забыть об этом. Но вдруг произошло нечто странное — вес в его руках стал постепенно уменьшаться, и невидимое тело сына медленно всплыло вверх, словно плоть его превратилась наконец в дух. Джимми теперь не нуждался ни в жалости ни в утешении. Хатч опустил руки. Отныне горько-сладкая память о безвозвратно потерянном ребенке останется только чудесным воспоминанием о безмерно любимом сыне. И не будет тяжелым камнем давить на сердце. Вокруг него цвели и благоухали розы. Было тепло. Предвечернее солнце отливало червонным золотом. Бездонное голубое небо было совершенно чистым — и хранило в себе какую-то тайну.
Регина спросила, может ли она у себя в комнате повесить несколько картин Линдзи, и была при этом совершенно искренней. Вместе они отобрали три картины и повесили их там, где она сама захотела, — рядом с большим, чуть меньше полуметра в длину распятием, которое она привезла с собой из приюта. Во время работы Линдзи спросила: — Как насчет обеда в отличной пиццерии, тут неподалеку? — Я за, — с энтузиазмом воскликнула девочка. — Обожаю пиццу. — Они делают ее с хрустящей корочкой, и сыра кладут навалом. — А как насчет пепперони? — Хоть нарезают тонкими ломтиками, но кладут много. — А сосиски? — А как же! Но только не кажется ли тебе, что для вегетарианки такая пицца, прямо скажем, из другой оперы? Регина густо покраснела. — А это… Я в тот день слишком много говнилась. Господи, мама родная. Я имею в виду, изгалялась. То есть, я хочу сказать, вела себя, как последний подонок. — Ладно, проехали, — утешила ее Линдзи. — Все мы иногда ведем себя, как подонки. — Но только не вы и не мистер Харрисон. — Хо-хо, еще как! Встав на стремянку у стены напротив кровати, Линдзи вбила очередной крюк. Регина внизу держала картину. Взяв ее из рук девочки, чтобы повесить, Линдзи спросила: — Слушай, могу я попросить тебя об одном одолжении сегодня за обедом? — Одолжении? Меня? — Знаю, ты еще не совсем освоилась со своим новым положением и не чувствуешь себя здесь как дома и, видимо, еще долго не сможешь привыкнуть… — Да что вы, наоборот, мне здесь очень хорошо, — возразила девочка. Линдзи нацепила шнур на крюк и поправила картину, чтобы та висела ровно. Затем села на стремянку, оказавшись лицом на уровне лица девочки. Взяла обе ее ладошки, нормальную и увечную, в свои руки. — Ты права: здесь очень хорошо. Но обе мы знаем, что не так хорошо, как дома. Я не хочу тебя торопить. Хочу, чтобы у тебя было побольше времени осмотреться и освоиться, но… Даже несмотря на то, что это может показаться тебе слишком преждевременным, не могла бы ты сегодня за обедом перестать называть нас мистером и миссис Харрисонами? Особенно Хатча. Для него это очень важно, особенно сейчас, если ты назовешь его для начала хотя бы просто Хатчем. Девочка опустила глаза и поглядела на свои руки. — Да, конечно, я попробую. Обязательно. — И знаешь, что? Я понимаю, это уж слишком большая просьба, ведь ты его совершенно не знаешь. Но хочешь знать, что было бы для него самым лучшим подарком в мире именно сейчас? Девочка не отрываясь смотрела на руки. — Что? — Если бы ты нашла в своей душе возможность назвать его папой. Не говори сразу нет. Не спеши с ответом, подумай. Но это было бы для него самым чудесным подарком по причинам, о которых сейчас не место и не время говорить. Единственное, что могу тебе сказать, Регина, Хатч очень хороший человек. Он все для тебя сделает, жизнь свою за тебя отдаст, если понадобится, и ничего не попросит взамен. Он очень расстроится, если узнает об этой моей просьбе. Но ведь я только прошу тебя подумать об этом, не более. После длительного молчания девочка наконец отвела взгляд от рук, посмотрела на Линдзи и согласно кивнула. — Хорошо. Я подумаю об этом. — Спасибо, Регина. — Линдзи поднялась со стремянки. — А теперь давай вешать последнюю картину. Она отмерила нужное расстояние, поставила карандашом точку на стене и вбила в нее крюк. Подавая ей картину, Регина сказала: — Просто я еще никого в жизни… не называла папой и мамой. К этому трудно сразу привыкнуть. Линдзи улыбнулась. — Я понимаю, лапочка. Честное слово. Уверена, Хатч тоже понимает, что для этого обязательно требуется какое-то время.
В полыхающем «Доме привидений» под аккомпанемент криков о помощи и воплей ужаса огонь высветил странный предмет. Розу. Черную розу. Она плыла в пустоте, словно движимая чарами волшебника-невидимки. Вассаго не встречал ничего подобного ни в мире живых, ни в мире мертвых, ни в царстве сновидений. Она мерцала перед его взором, и лепестки ее были такими мягкими и нежными, что казались сотворенными из кусков цельного ночного неба, не проткнутого звездами. Удивительно острыми, словно тончайшие стеклянные иголочки, были ее шипы. Зеленый стебель отливал змеиной чешуей. На одном из лепестков блестела капля крови. И вот роза уплыла из его сна, но чуть погодя снова вернулась — а вместе с ней женщина по имени Линдзи и каштанововолосая девочка с мягкими серыми глазами. Вассаго хотелось обладать всеми ими сразу: черной розой, женщиной и девочкой с серыми глазами.
После того как Хатч помылся и переоделся к обеду, в ожидании Линдзи, завершавшей свой туалет, он присел на краешек кровати и начал читать статью С. Стивена Хоунелла в «Артс Америкэн». Он мог с необычайной легкостью отмахнуться от любых оскорблений на свой счет, но совершенно не выносил оскорблений в адрес Линдзи и страшно злился. Его возмущали даже те критические отклики на ее работы, которые она считала конструктивными и заслуживающими внимания. Читая злобный, сплошь фальшивый и, в общем, довольно глупый пасквиль Хоунелла, отвергающий одним росчерком пера все ее творчество и характеризующий его как «попусту потраченное время», Хатч свирепел с каждым прочитанным предложением. Как и прошлой ночью, злость его в мгновение ока превратилась в кипящий вулкан добела раскаленной ярости. Челюсти его сжались с такой силой, что зубам стало больно. От переполнявшего гнева мелкой дрожью дрожали руки и вместе с ними, шелестя страницами, дрожал журнал. Перед глазами все плыло, словно он смотрел на окружающий мир сквозь марево раскаленного воздуха, и ему пришлось несколько раз моргнуть и прищуриться, чтобы разобрать расплывающиеся на журнальной странице слова. И так же, как и прошлой ночью, когда он лежал в постели, Хатч вдруг почувствовал, что гнев его открывает дверь какому-то незримому внешнему влиянию, отвратительному, мерзкому, не ведающему ничего, кроме ненависти и злобы. Или, быть может, это не было влиянием извне, а присутствовало и жило, затаясь, в нем самом, и гнев просто-напросто разбудил его. Кто-то неведомый управлял его рассудком. Хатч чувствовал этого «кого-то» у себя в голове, физически ощущал это нечто, словно оно, как паук, медленно ползет в узком пространстве между его черепом и поверхностью мозга. Он хотел отложить журнал и успокоиться. Но продолжал читать, потому что более уже не владел собой.
Вассаго шагал по «Дому привидений», не опасаясь жадного огня, так как давно продумал для себя путь отхода. Иногда он видел себя двенадцатилетним, иногда двадцатилетним. Но всегда путь его освещался человеческими факелами, некоторые из которых догорали на дымящемся полу бесформенной, быстро тающей массой, другие вспыхивали, как спички, когда он проходил мимо. Во сне он держал в руках журнал, открытый на статье, которая злила его и которую он обязательно должен был дочитать до конца. От жары страницы сворачивались по краям и вот-вот могли вспыхнуть. Со страниц на него глянуло знакомое имя. Линдзи. Линдзи Спарлинг. Теперь наконец ему известна и ее фамилия. Что-то принуждало его отбросить от себя журнал, попытаться восстановить нормальный ритм дыхания, успокоиться. Вместо этого он стал подогревать свою злость, позволил сладостной волне ярости захлестнуть себя и приказал себе получить из этой статьи максимум необходимой информации. Края журнала пожелтели от нестерпимой жары. Хоунелл. Еще одна фамилия. Стивен Хоунелл. На журнал упало несколько горящих головешек. Стивен С. Хоунелл. Нет. «С» вначале. С. Стивен Хоунелл. Бумага потихоньку начала тлеть. Хоунелл. Писатель. Бар. Каньон Сильверадо. Журнал неожиданно вспыхнул, и ему в лицо ударило пламя… Он сбросил с себя сон, как пуля сбрасывает с себя латунный жилет, вылетая из ствола винтовки, и сел на матраце в темном своем логове. Бодрый, готовый к действию. Горя от нетерпения. Теперь он знает достаточно и разыщет наконец эту женщину.
Ярость, как пламя, в одно мгновение охватившая Хатча, в следующую же секунду так же внезапно погасла, челюсти его разжались, расслабились и опустились напружинившиеся плечи, сами собой разогнулись пальцы, и журнал выскользнул из них на пол к его ногам. Не двигаясь, в полном замешательстве и ошеломленный, он продолжал сидеть на краешке кровати. Быстро взглянул в сторону ванной комнаты, подумав с облегчением: хорошо, что Линдзи не вошла в тот момент, когда он был… Что это было? Транс? Сумасшествие? Ноздри его вдруг защекотал запах, которого здесь не должно было быть. Запах дыма. Он взглянул на лежавший у его ног журнал «Артс Америкэн». Нерешительно поднял его с пола. Журнал все еще был открыт на страницах, где помещалась статья Хоунелла о Линдзи. И хотя бумага не горела и даже не тлела, от нее исходил тяжелый запах дыма. Хатч почувствовал запахи горящего дерева, бумаги, смолы, пластмассы… и чего-то еще, более страшного. Края страниц стали желтовато-коричневыми и ломкими, словно некоторое время находились рядом с огнем, от которого в любую минуту могли вспыхнуть.
Глава 7
Когда в дверь постучали, Хоунелл сидел в кресле-качалке у камина. Потягивая виски, он читал один из своих собственных романов, «Мисс Калверт», опубликованный им двадцать пять лет назад, когда ему стукнуло только тридцать. Раз в год он обязательно перечитывал каждую из своих девяти книг, ибо, соперничая сам с собой, постоянно стремился совершенствовать свой стиль, вместо того чтобы спокойно встретить надвигающуюся старость, как делает большинство писателей. Постоянное оттачивание стиля являлось почти неразрешимой задачей, потому что в юности он был на удивление хорош как писатель. Всякий раз перечитывая самого себя, он с изумлением обнаруживал, что созданное им ранее было значительно более впечатляющим, чем ему казалось. «Мисс Калверт» представляла собой художественную трактовку жизни по груженной в себя и занятой только своими делами и заботами матери Хоунелла, которую та вела в обществе таких же, как и она, представительниц крупной буржуазии в маленьком захолустном городишке на периферии штата Иллинойс; это был своеобразный обвинительный акт, направленный против самодовольной и вкрадчиво-льстивой культуры Среднего Запада. Ему удалось проникнуть в самые сокровенные тайники ее души, вывернуть эту суку наизнанку. Да, здорово у него это получилось. Читая «Мисс Калверт», он вспомнил, с каким ужасом и обидой встретила его мать первую публикацию романа, а он уже тогда про себя решил, что, как только выйдет книга, он тотчас засядет за ее продолжение, «Миссис Тауэрс», в котором опишет, как она вышла замуж за его отца, последовавшее за этим вдовство и второе замужество. Он был совершенно убежден, что именно вторая часть дилогии стала причиной ее смерти. Официально смерть наступила от сердечного приступа. Но ведь что-то же должно было спровоцировать инфаркт миокарда, а по времени он удивительно совпадал с выходом в свет «Миссис Тауэрс» и с той шумихой, с которой эта книга была встречена прессой. Когда в дверь неожиданно постучали, Хоунелл вознегодовал. Лицо его кисло скривилось. Он предпочитал общество своих героев любому визитеру, вздумавшему являться к нему без приглашения. Или даже по приглашению, какая разница? Все люди в его книгах были изысканно-благородны в общении, очищены от всякой скверны, в то время как реальные люди были неизменно… ну, в общем, черт их дери, какие-то неотесанные, мрачные, до чрезвычайности сложные. Взглянул на каминные часы. Десять минут десятого. В дверь снова постучали. На этот раз более настойчиво. Скорее всего, сосед, что было уже совсем невыносимо, так как все его соседи были законченными дураками. Хоунелл подумал было, что не станет открывать. Но в этих чертовых сельских каньонах местные жители ведут себя совершенно бесцеремонно, «по-соседски», и вовсе не склонны считать себя докучливыми, какими являются на самом деле, и, если он не отопрет дверь, они станут кружить вокруг дома и заглядывать во все щелки из дурацкого опасения, что с ним случилось что-нибудь неладное. Господи, как он их ненавидел. Терпел же их только потому, что городских презирал еще больше. Он отставил виски, отложил книгу, рывком встал с кресла-качалки и пошел к двери с намерением задать жестокую головомойку тому, кто находился сейчас на крыльце его дома. Имея на вооружении такое блестящее средство, как язык, он в течение одной минуты был способен утихомирить любого буяна, а через две минуты обратить его в постыдное бегство. Удовольствие от возможности унизить и втоптать непрошеного гостя в грязь более чем компенсировало непредвиденное вторжение в его одиночество. Отдернув шторы, закрывавшие застекленную переднюю дверь, он удивился, увидев, что за нею стоял человек, даже отдаленно не напоминавший кого-нибудь из соседей, человек, которого он видел впервые в жизни. На вид юноше было не больше двадцати, лицо его по цвету ничем не отличалось от белесых крыльев бабочек, снежинками круживших в свете фонаря над крыльцом. Одет он был во все черное, а на глазах красовались солнцезащитные очки. Хоунеллу было совершенно безразлично, чего хотел этот странный посетитель. Каньон находился всего в часе езды от наиболее людных районов Оранского округа, но все же достаточно далеко от них, если учесть малопривлекательный характер окружающей местности и весьма неудовлетворительное состояние дорог. О грабежах здесь и слыхом не слыхали, потому что, во-первых, грабители предпочитали густонаселенные зоны, где, поживившись, легко можно было скрыться, растворившись в массе людей, а во-вторых, у большинства из живших здесь в сельских коттеджах людей и взять-то было нечего. Бледный молодой человек заинтриговал его. — Чего тебе надо? — спросил Хоунелл из-за запертой двери. — Мистер Хоунелл? — Положим. — С. Стивен Хоунелл? — Дальше. — Простите меня, сэр, это вы писатель? Студент. Точно. Больше некому. Лет десять тому назад — впрочем, если быть вполне искренним, где-то ближе к двадцати — его буквально осаждали специализировавшиеся на литературе студенты старших курсов, желавшие проходить обучение под его руководством или попросту поклоняться ему, как божеству. Состав их, правда, постоянно менялся, так как они пристально следили за самыми модными веяниями в литературе, не умея толком отличить подлинное искусство от удачных подделок под него. Да большинство из них, черт их дери, и читать-то толком не умеют, даром что зовутся студентами. Заведения, в которых они учились, по своему интеллектуальному уровню только слегка отличались от центров обучения умственно отсталых, и они в такой же степени могли получать там знания, что и лететь на Марс, размахивая руками, как крыльями. — Да, это я и есть. Что из этого следует? — Сэр, я восхищен вашими произведениями. — Что, прослушали некоторые из них в магнитофонной записи? — Нет, сэр. Я прочитал их, все до единого. Его произведения, записанные на аудиопленку и выпущенные в свет без его ведома издателем, были сокращены на две трети. Бледные пародии, а не полноценные произведения. — А-а, видимо, в бульварном формате, в виде комиксов, да? — мрачно изрек Хоунелл, хотя прекрасно знал, что до настоящего времени это святотатство, слава Богу, еще не коснулось его книг. — Сэр, мне ужасно неудобно вот так незваным гостем вламываться в ваш дом. Но если бы вы знали, как долго я не мог решиться прийти к вам. А сегодня вот вдруг решился, и если бы не пошел, то уже никогда не смог бы этого сделать. Меня до глубины души потрясло все, что вы написали, сэр, и, если бы вы смогли уделить мне хоть немного времени и ответить на мои вопросы, я был бы вам чрезвычайно благодарен. Беседа с умным молодым человеком может, в конце концов, оказаться гораздо интереснее, чем перечитывание «Мисс Калверт». Много воды утекло с тех пор, как в гостях у него побывал последний посетитель такого рода, сумевший разыскать его в неприступном уединении, когда Хоунелл еще жил высоко в горах над Санта-Фе. После недолгих колебаний он отпер дверь. — Ладно. Заходите. Посмотрим, как вы разобрались во всех тонкостях того, что прочли. Молодой человек шагнул через порог, а Хоунелл, повернувшись к нему спиной, поспешил к креслу-качалке и виски. — Вы очень добры, сэр, — учтиво проговорил посетитель, плотно закрывая за собой дверь. — Доброта свойственна слабым и глупым, молодой человек. У меня иные соображения. Дойдя до кресла, он обернулся и сказал: — Снимите темные очки. Темные очки ночью — это худшая из голливудских аффектаций, что никак не украшает умного человека. — Простите, сэр, это не аффектация. Просто этот мир намного ярче, чем преисподняя, в чем очень скоро вы сможете и сами убедиться. Хатч почти не притронулся к обеду. Единственное, чего ему хотелось, — это остаться наедине с самим собой и смотреть на непостижимым образом опаленные и свернувшиеся от жары страницы журнала «Артс Америкэн», пока не заставит себя в конце концов понять, что же с ним происходит. Он был человеком трезвого склада ума. И не легко принимал сверхъестественное как способ объяснений непонятного. Поприще антиквара было им избрано не случайно; это была естественная потребность окружать себя вещами, которые своим присутствием создавали атмосферу упорядоченности и устойчивости жизненного уклада. Но детям тоже свойственно стремление к устойчивости, одним из компонентов которой является своевременный и регулярный прием пищи, и поэтому они пошли сначала в пиццерию, а потом махнули в кино, оказавшееся весьма кстати рядышком, дверь в дверь с пиццерией. Показывали комедию. И, хотя картина была не в состоянии заставить Хатча даже на секунду отвлечься от терзавших его странных и необъяснимых сомнений, частый, звонкий смех Регины в какой-то степени обуздывал его не в меру расшатавшиеся нервы. Позже, дома, после того как он уложил девочку в постель, поцеловал ее в лоб, пожелал ей доброй ночи и хороших сновидений и выключил свет, Хатч услышал: — Спокойной ночи… папа. Он уже почти вышел в коридор из ее комнаты, когда слово «папа» настигло его, заставив остановиться в дверях. Он обернулся и посмотрел на Регину. — Спокойной ночи, — проговорил он ровным голосом, решив про себя принять ее дар, видимо, вполне искренний, как должное, из страха, что, обрати он на него особое внимание, он так навсегда и останется для нее «мистером Харрисоном». Но сердце его дрогнуло от счастья. Войдя в спальню, где в это время, готовясь ко сну, раздевалась Линдзи, он радостно объявил ей: — Она назвала меня папой. — Кто назвал? — Ты что, маленькая, не понимаешь, кто? — Сколько же ты заплатил ей за это? — Ты просто ревнуешь, потому что она еще не назвала тебя мамой. — Придет время, назовет. Во всяком случае, она уже перестала бояться. — Тебя? — Рискнуть это сделать. Перед тем как раздеться и лечь в постель, Хатч решил спуститься вниз на кухню, чтобы прослушать записи на телефонном автоответчике. Смешно, если учесть все, что приключилось с ним, и принять во внимание стоящие перед ним неразрешимые проблемы, что такой заурядный факт, как обращенное к нему ребенком слово «папа», мог так сильно поднять его настроение и заставить все делать Почти что бегом. Вниз по лестнице он слетел как на крыльях, перепрыгивая через две ступеньки. Автоответчик стоял на полке слева от холодильника под пробковой доской для срочных записей. Хатч надеялся получить весточку от агента по продаже недвижимости, которому передал ведение дела по веджвудской коллекции. В этот вечер автоответчик принял три сообщения. Первое было от Гленды Докридж, его правой руки в антикварном магазине. Второе от Симпсона Смита, друга семьи и коллеги по антикварным делам, его магазин находился на Мелроуз Плейс в Лос-Анджелесе. Третье от Джанис Даймз, подруги Линдзи. Все три сообщали одно и то же: Хатч, Линдзи… Хатч и Линдзи… Вы читали газету? Вы просматривали газету? Слышали новость о Билле Купере? О том парне, который сбросил вас в пропасть? О Билле Купере… он мертв… он убит… Прошлой ночью кто-то убил его… Хатча словно мороз по коже продрал, по жилам вместо крови потекла студеная вода. Вчера вечером он, рассвирепев от того, что Куперу удалось выйти сухим из воды, пожелал ему смерти. Нет, одну минуточку. Он только хотел набить ему морду, заставить его заплатить за все дорогой ценой, сбросить его самого в ледяную воду, но он вовсе не желал ему смерти. А если бы даже и пожелал? Желать смерти и убить человека — это не одно и то же. Ему не в чем себя винить. Нажав кнопку, чтобы стереть сообщения, Хатч подумал: «Видимо, рано или поздно, полиция все же захочет побеседовать со мной». Потом сам удивился, отчего эта мысль о полиции так обеспокоила его. Скорее всего, убийца уже пойман и сидит в тюрьме, и вряд ли полиция будет подозревать его, Хатча. Да и почему, собственно, подозрение вообще должно пасть на него? Он же ничего не сделал. Ровным счетом ничего. Отчего же его вдруг охватывает ощущение, что чувство вины крадется в его душе, как «Сороконожка» в темном тоннеле? Сороконожка? Совершенно неизвестно откуда пришедший ему на ум образ снова обдал его холодом. Откуда, из какого источника мог он почерпнуть его? Словно это была не его собственная мысль, а как бы… навязанная кем-то извне. Хатч помчался вверх по лестнице. Лежа на спине в кровати, Линдзи расправляла складки одеяла вокруг себя. Газета лежала на его столике, куда она всегда клала ее. Быстро схватив газету, Хатч стал лихорадочно шарить глазами по первой странице. — Хатч? — спросила Линдзи. — Что случилось? — Купер мертв. — Что? — Парень, водитель пивовоза. Уильям Купер. Зверски убит. Отбросив одеяло, она села на краешек кровати. Наконец на третьей странице он нашел нужную статью. Примостился на кровати рядом с Линдзи, и они вместе прочли ее. Газета сообщала, что полиция заинтересовалась молодым человеком в возрасте примерно двадцати лет, с бледной кожей, черноволосым. Один из соседей видел, как он убегал по подъездной аллее за гаражами «Палм Корта». Свидетель также сообщал, что будто бы заметил на нем солнцезащитные очки. Ночью. — Это тот же негодяй, который убил блондинку, — со страхом сказал Хатч. — Помнишь, я говорил тебе, что меня поразили эти солнцезащитные очки, когда заметил их на нем в зеркале заднего обзора. И вот теперь этот подонок каким-то образом проникает в мои мысли. И довершает мою злость, убивая людей, которых я просто хотел бы как-то наказать. — Но ведь это же бессмыслица. Этого не может быть. — И тем не менее все именно так. — Хатчу даже стало нехорошо. Он посмотрел на свои руки, словно и впрямь боялся увидеть на них следы крови водителя грузовика. — Господи, ведь это я навел его на Купера. Он был настолько напуган, настолько психологически подавлен чувством ответственности за случившееся, что ему ни с того ни с сего вдруг нестерпимо захотелось помыть руки и скрести их до тех пор, пока с них не сойдет вся кожа. Хатч попытался встать с кровати, но ноги стали ватными от страха, и он вынужден был снова сесть на прежнее место. Линдзи тоже была сбита с толку этим известием, но в гораздо меньшей степени, чем Хатч. И тогда он рассказал ей о мелькнувшем в зеркальной двери отражении молодого человека, затянутого во все черное и в черных очках, когда прошлым вечером в «логове» исходил злобой и яростью по поводу Купера. Еще он рассказал ей, как лежал в кровати, когда она уснула, размышляя о Купере, и как неожиданно для самого себя буквально зашелся от гнева так, что казалось, сердце не выдержит напряжения и разорвется на куски. Он попытался словами выразить испытанное им странное ощущение, будто кто-то чужой ворвался в его рассудок, подчинив его себе, и как все это неожиданно оборвалось, когда он потерял сознание. И теперь, уже ничего не утаивая от нее, рассказал и про то, как внезапно вспылил, когда читал статью в «Артс Америкэн» этим вечером, и, вытащив как доказательство журнал из ночного столика, показал ей его опаленные огнем страницы. К тому времени, когда Хатч кончил свой рассказ, тревога и страх Линдзи были под стать его страхам, но сильнее их оказались смятение и отчаяние от того, что все это время он от нее таился. — Почему ты скрыл это от меня? — Не хотел тебя беспокоить понапрасну, — оправдывался Хатч, отлично понимая, как неубедительно это звучит. — Мы ведь никогда ничего не скрывали друг от друга. Всегда делились всем — и хорошим и плохим, буквально всем. — Прости меня, Линдзи. Я только… но только в… течение этих последних нескольких месяцев… эти кошмарные видения гниющих тел, чудовищного насилия, пожаров… наконец, весь этот ужас… — С этого момента, — потребовала она, — никаких секретов. — Я ведь из лучших побуждений… — Никаких секретов, — повторила она настойчиво. — Хорошо. Никаких секретов. — Ты совершенно не виновен в том, что случилось с Купером. Даже если между тобой и убийцей действительно существует какая-то связь, из-за чего Купер и стал его жертвой, твоей вины здесь нет. Откуда тебе было знать, что твой гнев на Купера равен его смертному приговору? Ты все равно был бы бессилен предотвратить это. Хатч бросил взгляд на обожженный журнал, который все еще держал в руках, и содрогнулся от ужаса. — Но мне никогда не удастся смыть с себя вину, если я не попытаюсь спасти Хоунелла. Хмурясь, она спросила: — Что ты имеешь в виду? — Если мой гнев каким-то образом вывел его на Купера, то не исключено, что он с таким же успехом может вывести его и па Хоунелла.Ощущение боли наполняло все существо пришедшего в сознание Хоунелла. И разница состояла лишь в том, что не он, а ему причинили боль — и не душевную, а физическую. Болела мошонка от удара ногой. Горло, казалось, вот-вот треснет, как стеклянная трубка от удара ребром ладони. Невыносимо трещала голова. Словно подожженные огнем, горели запястья и лодыжки, и он не сразу понял почему; но потом сообразил, что привязан к четырем стойкам, скорее всего, к ножкам кровати, и веревки режут ему кожу. Он почти ничего не видел, отчасти из-за застилавших глаза слез, но в основном из-за того, что во время нападения от сильного удара вылетели из глаз контактные линзы. Он знал, что на него напали, но никак не мог припомнить, кто именно. Но вскоре над ним, подобно луне в плохо отлаженном телескопе, повисло лицо молодого человека. Лицо это все ниже и ниже склонялось к нему, пока не стало отчетливо различимым — красивое и бледное, с копной густых черных волос. Его не кривила злорадная ухмылка, как у киношных злодеев. Не искажала его и злобная гримаса, оно даже хмурым не было. Оно было совершенно невозмутимым — кроме, может быть, проблеска едва заметной профессиональной заинтересованности, с какой энтомолог может смотреть на доселе неописанного наукой мутанта одного из распространенных видов насекомого. — Прошу простить мое несколько грубое с вами обращение, после того как вы так радушно пригласили меня войти в свой дом. Но я спешу и не располагаю временем, чтобы получить необходимую мне информацию в ходе обычной беседы. — Все, что вам будет угодно, — смиренно сказал Хоунелл, и сам поразился, услышав, как изменился его обычно медоточивый голос, это ни разу не подводившее его орудие обольщения или уничтожения, смотря по обстоятельствам, собеседника. Он вдруг стал каким-то скрипучим и одновременно булькающим — в любом случае, ужасно противным. — Я хотел бы узнать от вас, кто такая Линдзи Спарлинг, — бесстрастным голосом спросил молодой человек, — и как мне ее отыскать.
Хатч удивился, обнаружив в телефонной книге номер телефона Хоунелла. Имя этого писателя уже не было столь же хорошо знакомо среднестатистическому гражданину, как в те недолгие годы его славы, когда вышли в свет «Мисс Калверт» и «Миссис Тауэрс». Хоунеллу теперь незачем было беспокоиться об уединении; чего-чего, а этого у него сейчас было более чем достаточно. Пока Хатч набирал номер, Линдзи нервно шагала по спальне из угла в угол. Свое отношение к этой затее она выразила вполне однозначно: Хоунелл воспримет предупреждение Хатча не иначе, как дешевую угрозу расправиться с ним. Хатч был с ней согласен. Но тем не менее полагал, что его долг предупредить Хоунелла о грозящей ему опасности. От унижения и нервного расстройства Хатча спасло то, что на другом конце провода, в кромешной ночи каньона, никто не отвечал. Двадцать раз он дал отзвенеть телефону. Уже собираясь класть трубку, он вдруг застыл с ней в руке, так как в голове его с треском, напоминающим короткое замыкание в электроцепи, промелькнула целая серия образов: скомканное одеяло на кровати, кровоточащее, стянутое веревкой запястье, пара испуганных, налитых кровью близоруких глаз… а в расширенных зрачках — двойное отражение бледного, приближающегося лица, на котором четко виднелись солнцезащитные очки. Хатч с силой опустил трубку на рычаги и отпрянул от телефона, словно в его руке трубка превратилась в гремучую змею. — Именно сейчас там все и происходит, — прошептал он.
Звонки наконец прекратились. Вассаго все еще не отрывал взгляда от телефона, но тот молчал. Затем он перевел взгляд на распятого и привязанного к четырем медным ножкам кровати мужчину. — Значит, Харрисон — это фамилия по мужу? — Да, — прохрипел старик. — А теперь, сэр, быстро — ее адрес.
Телефон-автомат находился рядом с магазином хозтоваров в торговом центре в двух милях от дома Харрисонов. От дождя и ветра он был защищен плексигласовым козырьком и изогнутым полукругом звуковым щитом. Хатч предпочел бы уединение телефонной будки, но их и днем с огнем теперь не сыщешь. В наше обремененное высокими ценами время они считаются ненужным предметом роскоши. Машину он оставил в стороне от торгового центра, подальше от магазина хозтоваров, чтобы через его огромные стеклянные витрины никто из посетителей не увидел — и не успел запомнить — ее номерных знаков. К телефону пришлось идти под порывами холодного ветра. Индийские лавры центра кишели трипсами[143], и под ногами Хатча кружились свернутые в трубочки мертвые листья. Они издавали сухой, скребущий звук. В желтых, цвета мочи, отсветах фонарей автостоянки они походили на полчища насекомых — какой-то странно преображенный вид саранчи, — торопившихся в свое подземное убежище. Посетителей в магазине было не много, остальные торговые точки центра вообще оказались закрытыми. Он втиснул плечи и голову в полубудку телефона-автомата, надеясь, что никто не станет его подслушивать. Хатч не пожелал звонить в полицию из дому, так как знал, что у них имеется оборудование, автоматически фиксирующее номер телефона звонившего. Если Хоунелла найдут мертвым, Хатч будет первым, на кого падет подозрение. А если его тревога по поводу грозящей Хоунеллу опасности окажется ложной, он не хотел быть занесенным полицией в список психов и истеричек. Тыча в кнопки телефона тыльной стороной согнутого пальца и обмотав трубку салфеткой, чтобы не оставлять нигде отпечатков пальцев, он и сам толком не знал, что собирается сказать. Зато прекрасно знал, что не должен говорить: Привет, я был мертв в течение восьмидесяти минут, потом возвращен к жизни, и теперь у меня установилась непонятная телепатическая связь с убийцей-психопатом; должен предупредить, что этот убийца готовится нанести новый удар. Хатч отлично понимал, что они отнесутся к нему с таким же чувством, с каким отнеслись к чудаку, водрузившему себе на голову остроконечную шляпу из алюминиевой фольги, чтобы защитить свой мозг от опасной радиации, и пристававшему к ним с жалобами на зловредных космических пришельцев, живших с ним по соседству и пытавшихся, как он утверждал, путем воздействия на его разум сбить его с пути истинного. Он решил позвонить в Оранское окружное управление полиции, а не в одно из специализированных городских управлений, потому что преступления, совершенные парнем в солнцезащитных очках, проходили по нескольким юридическим ведомствам. Когда дежурная подняла трубку, Хатч, не давая ей перебить себя, заговорил очень быстро, так как знал, что, если у них будет достаточно времени, они смогут установить, из какого телефона-автомата он звонит. — Человек, который убил блондинку и выбросил ее на ходу из машины на прошлой неделе, тот же, кто вчера вечером убил Уильяма Купера, а сегодня собирается убить Стивена Хоунелла, писателя, если вы не помешаете ему, причем сделать это надо немедленно, сейчас же. Хоунелл живет в каньоне Сильверадо. Точного адреса я не знаю, но вам он должен быть известен, и, если вы не поторопитесь, можете считать, что его уже нет в живых. Хатч повесил трубку, выбрался из телефонной полубудки и, запихнув салфетку в карман брюк, быстро зашагал к своей машине. Особого душевного подъема, как и ожидал, он не испытывал, скорее чувствовал, что совершил какую-то непростительную глупость. К машине идти пришлось против ветра. Сухие листья лавра, изъеденные трипсами, теперь с шуршанием неслись по асфальту ему навстречу и хрустели у него под ногами. Он думал, что поездка ничего не дала, была пустой тратой времени, и усилия спасти Хоунелла пошли коту под хвост. В управлении полиции его звонок скорее всего сочли за неудачную шутку. Приехав домой, Хатч припарковал машину прямо на подъездной аллее, боясь шумом отворяемых дверей гаража разбудить Регину. Когда вылезал из машины, голову пронзила такая острая боль, словно в нее воткнули иглу. С минуту он стоял, напряженно всматриваясь в тени за домом, в кустах, под деревьями. Никого. Когда вошел на кухню, Линдзи наливала ему кофе. Хатч взял чашку, с благодарностью отхлебнул горячий напиток. И похолодел. Так холодно ему не было даже тогда, когда он стоял в полубудке на пронизывающем ветру. — Как думаешь? — озабоченно спросила она. — Твой звонок возымеет эффект? — Точно такой же, как если бы я поссал против ветра, — буркнул Хатч.
Вассаго все еще ездил на жемчужно-серой «хонде», принадлежавшей Ренате Десье, женщине, на которую он напал в темной аллее около автостоянки в субботу вечером и которую позже присовокупил к своей коллекции. Это была отличная машина, особенно хороша на таких извилистых дорогах, как в каньоне, когда он ехал от дома Хоунелла по направлению к более населенным районам Оранского округа. Не успел он миновать один из особенно крутых поворотов, как мимо него пронеслась патрульная машина полицейского управления и быстро покатила туда, откуда ехал он. Ее сирена не была включена, но сигнальные огни окрашивали в красные и синие цвета мчавшиеся ей навстречу глинистые склоны и нависавшие над дорогой скрюченные ветви деревьев. Теперь ему приходилось одновременно следить и за петляющей впереди дорогой, и за удаляющимися в зеркале заднего обзора огнями патрульной машины, пока она не въехала в очередной поворот и не исчезла из виду. Он был уверен, что полицейские спешили к Хоунеллу. Видимо, бесконечные телефонные звонки, прервавшие на время допрос писателя, но оставшиеся безответными, всполошили полицию, но как и почему это случилось, он понятия не имел. Вассаго не прибавил скорости. На выезде из каньона Сильверадо он свернул на юг и, выехав на дорогу, ведущую в каньон Сантьяго, поехал не превышая скорости, как всякий уважающий законы примерный гражданин.
Глава 8
В темноте, лежа в постели, Хатч чувствовал, как вокруг него рушится мироздание. И остается только тленный прах. Ведь стоит лишь протянуть руку, и он обретет счастье с Линдзи и Региной. Или это ему только кажется? И ему никогда не дотянуться до них? Он жаждал прозрения, которое прольет свет на происходящие с ним сверхъестественные события. До тех пор пока он не поймет сущность зла, ворвавшегося в его жизнь, он не сможет с ним бороться. В голове вертелись слова Нейберна: «И я верю, что зло — это самостоятельно существующая в мире сила, некая энергия вне нас, особое присутствие». Хатчу казалось, что ноздри ему щекочет характерный запах дыма от опаленных страниц «Артс Америкэн». Журнал он спрятал внизу, в «логове», заперев его на ключ в письменном столе, а ключ присовокупил к связке других ключей, которые всегда носил с собой. Раньше он никогда ничего не закрывал на ключ в ящике письменного стола. Он и сам не знал, что тогда заставило его сделать это. «Скрываю важную улику от правосудия», — пытался шутить сам с собой Хатч. Но что, собственно, доказывает эта улика? Обожженные страницы журнала никому ничего интересного сказать не могли. Нет. Не совсем так. Существование журнала доказывает ему самому, что он не просто галлюцинирует и воображает себе все, что с ним происходит. То, что он запер на ключ ради собственного спокойствия, было весьма веским доказательством. Доказательством того, что он не психопат, а нормальный человек. Рядом с ним лежала Линдзи и тоже не спала, то ли оттого, что не могла заснуть, то ли оттого, что не хотела. Наконец она не выдержала: — А что, если этот убийца… Хатч затаился и ждал. Ему не надо было просить ее закончить свою мысль, он и так знал, что она скажет. Спустя несколько мгновений Линдзи произнесла именно то, что он и ожидал услышать: — А что, если этот убийца ощущает тебя так же, как и ты его? А что, если он нагрянет сюда, чтобы расправиться с тобой… с нами… с Региной? — Завтра же предпримем меры предосторожности. — Какие, например? — Прежде всего обзаведемся оружием. — А что, если нам угрожает нечто, с чем одним нам не справиться? — У нас нет иного выбора. — Мы могли бы обратиться в полицию, чтобы нам выделили охрану. — У меня такое чувство, что особой охраны для психа, который утверждает, что каким-то сверхъестественным телепатическим образом связан с другим психом, но уже убийцей, они не выделят. Ветер, гонявший сухие лавровые листья по автостоянке вблизи торгового центра, теперь нашел плохо закрепленную решетку для сброса дождевой воды и стал играть ею. Металл мягко скребся о металл. Думая о своем, Хатч неожиданно спросил: — Должен же был я куда-нибудь попасть после смерти, а? — Что ты имеешь в виду? — Ну там в Чистилище, Рай или в Ад — или куда там еще попадает католик после смерти, если истинно то, чему нас учат верить умозрительно. — Но… ты же сам говорил, что не испытывал ничего, что свидетельствовало бы о близкой смерти. — Нет, этого я не говорил. Просто я ничего не помню из того, что произошло со мной… по ту сторону. Но это вовсе не значит, что я там не был. — Что ты пытаешься доказать? — Может быть, этот убийца — вовсе и не человек. — Как это? — Может быть, я по пути оттуда прихватил что-нибудь. — Прихватил что-нибудь? — Ну да, оттуда, где побывал после смерти. — Но что именно? У темноты есть свои преимущества. Незримо присутствующее в нас первобытное начало обретает голос и позволяет говорить о вещах, которые при полном освещении могут показаться по меньшей мере нелепыми. — Какой-нибудь злой дух. Непонятное бытие, — ответил Хатч. Она промолчала. — Мой краткосрочный переход от жизни к смерти и обратно мог приоткрыть какую-нибудь щелку, — продолжал размышлять он, — и выпустить его наружу. — Но что именно? — повторила она свой вопрос, прозвучавший на этот раз скорее как утверждение. Он понял, что оба они думают об одном и том же, но ей ужасно не хочется, чтобы это в действительности было так. — И это нечто теперь гуляет по земле на свободе. Отсюда и странная связь между нами, и вот почему оно убивает людей, на которых я злюсь. После небольшой паузы она продолжила его мысль: — Видимо, то, что ты прихватил оттуда, представляет из себя зло в чистом виде. Значит, ты фактически утверждаешь, что, когда умер, попал вАд, а этот убийца вырвался оттуда на твоих закорках? — Очень может быть. Я ведь не святой, чего бы ты обо мне ни думала. Во всяком случае, смерть Купера — точно моих рук дело. — Это произошло после твоей смерти и воскрешения. Здесь твоей вины нет. — Но ведь именно моя злость сделала его жертвой, моя злость… — Ни хрена подобного, — резко оборвала его Линдзи. — Ты самый лучший из людей, которых я знаю. И если после смерти нам дано выбирать Рай или Ад, ты заслуживаешь лучшего места жительства. Хатч и сам удивился, когда понял, что невольно улыбается, так черны были копошившиеся в его голове мысли. Он протянул к ней руку под простыней и, найдя ладонь жены, благодарно пожал ее. — Я тебя тоже очень люблю. — Тогда придумай какое-нибудь другое объяснение. — Давай лучше немного подчистим объяснение, которое у нас уже имеется. Что, если после смерти действительно существует некое бытие, но организовано оно не так, как об этом толкуют теологи? Тогда то место, откуда я выбрался, необязательно Рай или Ад. Просто совершенно неведомое нам измерение, полностью отличающееся от земного мира, наполненное неизвестными нам опасностями. — Такая трактовка меня и вовсе не устраивает. — Чтобы справиться с этим злом, я должен знать, с кем имею дело. Не могу же я драться, размахивая кулаками наобум. — Но должно же этому быть какое-то логическое объяснение, — возразила Линдзи. — Я и сам без устали твержу то же самое. Но едва пытаюсь его нащупать, как логика летит к чертям собачьим. Мягко скреблась дождевая решетка. Ветер шушукался с кем-то на крыше, забирался в дымоход и нашептывал что-то из камина. Хатч думал о том, слышит ли голос этого ветра Хоунелл, если, конечно, он жив, и откуда вообще примчался сюда этот ветер, может быть, из потустороннего мира?Вассаго остановил машину прямо перед главным входом в антикварный магазин Харрисона на окраине Лагуна-Бич. Магазин располагался в здании, выполненном в стиле арт деко. Огромные витрины были темными, когда в полночь вторник медленно перевалил на среду. Стивен Хоунелл не знал, где точно живут Харрисоны, а в телефонной книге номер их телефона указан не был. Писатель только сообщил ему, чем занимался Харрисон, и приблизительно указал место на Тихоокеанском береговом шоссе, где мог находиться его антикварный магазин. Домашний адрес должен быть записан где-нибудь в бумагах, хранящихся внутри магазина. Но достать его было делом нелегким. Характерные нашлепки на огромных витринах из плексигласа и на двери главного входа свидетельствовали, что помещения магазина оборудованы охранной сигнализацией и находятся под защитой агентства безопасности. Из преисподней он вернулся наделенным способностью видеть в темноте, молниеносной реакцией, полным отсутствием чувства жалости, позволявшим ему совершать любые поступки, любые акты жестокости, и бесстрашием, делавшим его таким же грозным противником, как механический робот. Но он не мог проходить сквозь стены, или превращаться в пар, а затем снова в самого себя, или летать, или вообще делать то, что под силу настоящему демону. До тех пор пока он не заслужит права быть возвращенным в Ад, предъявив на входе полностью завершенную коллекцию своего музея мертвых либо уничтожив тех, кого послан уничтожить, он будет наделен лишь могуществом полудемона, а этого было совершенно недостаточно, чтобы преодолеть охранную сигнализацию. Вассаго поехал прочь от магазина. В центре города, рядом с заправочной станцией, он нашел телефонную будку. Несмотря на поздний час, станция вовсю торговала бензином, а ее наружное освещение было таким ярким, что Вассаго вынужден был все время щуриться, даже невзирая на темные стекла своих солнцезащитных очков. В свете ламп кружились большекрылые бабочки, отбрасывая на тротуар огромные, величиной с хорошую ворону, тени. Пол будки был густо усыпан окурками сигарет. Возле дохлого жука копошились муравьи. На телефоне висело объявление: «АВТОМАТ НЕ РАБОТАЕТ», но Вассаго не было до этого никакого дела, так как он никому не собирался звонить. Его интересовала телефонная книга, прикрепленная к раме довольно массивной цепью. Он внимательно пролистал желтые страницы раздела «Антиквариат». Антикварное дело в Лагуна-Бич, судя по книге, процветало: город был настоящим раем для торговцев предметами старины. Вассаго бегло ознакомился с их рекламными объявлениями. Некоторые в целях саморекламы объявляли себя международными компаниями по сбыту антиквариата, другие рекламировали свои услуги, указывая имя владельца магазина, как, например, «Антикварный магазин Харрисона». Очень немногие использовали и имя и фамилию, а в некоторых объявлениях указывалось полное имя владельца, так как в антикварном деле хорошая репутация бизнесмена служила ему прекрасной визитной карточкой. Роберт О. Лоффман, к примеру, указанный в справочнике на желтых страницах, благодаря перекрестной ссылке, легко отыскивался под тем же именем на белых страницах, что позволило Вассаго узнать его домашний адрес. Когда он шел обратно к «хонде», то заметил, как из темноты вынырнула летучая мышь. Дугой мелькнув в слепящем свете ламп заправочной станции, она на лету схватила жирную бабочку и вместе с ней скрылась в ночном мраке. Ни хищник, ни его жертва не издали ни звука.
Лоффману было семьдесят лет, но в самых лучших своих снах он видел себя восемнадцатилетним, ловким, гибким, сильным и жизнерадостным. Сны его не были сексуальными, грудастые женщины призывно не раздвигали в них навстречу ему свои пышные бедра. Не стремился он в снах и к власти над людьми, не было в них бешеных погонь, не прыгал он с высоких утесов в водоворот дивных приключений. Сны были спокойными, земными: неспешная прогулка босиком вдоль берега в вечерних сумерках, ощущение сыроватого песка под ногами, пенистые гребни набегающих волн, сверкающих отраженным блеском пурпурного заката; или он, разморенный полуденной жарой, просто сидит в траве под сенью финиковой пальмы, лениво наблюдая за колибри, пьющей нектар из ярких лепестков растущих на клумбе цветов. Уже одно сознание, что он снова молод, было настолько удивительным само по себе, что делало сон захватывающим, и хотелось, чтобы он длился как можно дольше. Сегодня ему опять было восемнадцать, и он полулежал на огромных качелях перед крыльцом дома в Санта-Ане, где родился и вырос. Он потихоньку раскачивался на качелях и снимал с яблока, которое собирался съесть, кожуру, и это все, но соя был замечательным, наполненным ароматами и ощущениями в тысячи раз более возбуждающими, чем если бы он представлял себя в гареме, окруженным раздетыми донага красавицами. — Мистер Лоффман, проснитесь. Он решил не обращать внимания на этот голос, так как хотел побыть один на качелях. Глаза его неотрывно следили за витой спиралью снимаемой с яблока шкурки. — Да просыпайся же ты наконец, старый соня. Ему хотелось так очистить яблоко, чтобы лента кожуры снялась целиком. — Да ты что, снотворное принял, что ли? К огромному недовольству и разочарованию Лоффмана, крыльцо, качели, яблоко и нож, которым он снимал с яблока кожуру, растворились во мраке. Он снова был у себя в спальне. Едва пришел в себя, Лоффман понял, что находится в комнате не один. Рядом с кроватью, едва различимый в темноте, стоял кто-то призрачный. Хотя Лоффман ни разу в жизни не становился жертвой преступления и жил в одном из самых безопасных с этой точки зрения районов, с возрастом у него возникло и укоренилось ощущение своей уязвимости и незащищенности. И потому рядом с постелью, около лампы, он всегда теперь клал заряженный пистолет. С колотящимся от страха сердцем он протянул к нему руку и в темноте стал шарить по холодному мрамору французского, XVIII столетия, украшенного золоченой бронзой шкафчика, служившего ему ночным столиком. Пистолета на месте не было. — Простите меня, сэр, — прозвучал из темноты голос незваного гостя, — что напугал вас. Успокойтесь, пожалуйста. Если вы ищете пистолет, я сразу его приметил, как только вошел. Теперь он у меня. Незнакомец не мог увидеть пистолет, не включив свет, а свет обязательно разбудил бы Лоффмана. В этом он был настолько уверен, что продолжал безуспешно шарить подле лампы. В горло ему ткнулось что-то холодное и тупое. Он дернулся от него, но холодный предмет неотрывно и настойчиво следовал за ним, словно его призрак-мучитель мог видеть в темноте. Сообразив, что это был за холодный предмет, Лоффман замер от ужаса. Дуло пистолета. Прямо у его кадыка. Затем дуло медленно поползло вверх, к подбородку. — Стоит мне нажать на курок, сэр, и ваши мозги разлетятся по всей подушке, но мне нет нужды причинять вам боль. Если вы согласитесь помочь мне, я вас и пальцем не трону. Я хочу получить от вас ответ всего лишь на один вопрос. Если бы Роберту Лоффману действительно сейчас было восемнадцать лет, как в лучших из его снов, он не так трясся бы за остаток отпущенного ему времени, как в семьдесят, хотя теперь его оставалось значительно меньше. Он готов был цепляться за жизнь с упорством и настойчивостью древесного клеща. Он ответит на любой вопрос, сделает все, что ему прикажут, даже если это пойдет вразрез с его гордостью и достоинством. Он попытался выразить эти чувства призраку, прижимавшему пистолет к его подбородку, но вместо этого пробормотал что-то невразумительное, изрыгая потоки совершенно бессмысленных звуков. — Да, сэр, — остановил его незваный гость. — Я понимаю и ценю ваше желание помочь мне. А теперь поправьте меня, если я ошибусь, сказав, что антикварное дело по сравнению с другими видами бизнеса поставлено в Лагуна-Бич не на такую уж широкую ногу, и вы все живете тесной, дружной семьей. Хорошо знаете друг друга, ходите друг к другу в гости, дружите семьями. Антикварное дело? Лоффману показалось, что он все еще спит, но что сон его теперь превратился в какой-то абсурдный кошмар. Ну кто в здравом уме станет вламываться среди ночи в его дом, чтобы под дулом пистолета выяснять, как обстоят дела у антикваров? — Конечно, мы все знаем друг друга, некоторые из нас действительно дружат между собой, но увы, есть среди нас и прохвосты, — тараторил Лоффман. Слова неудержимо лились из него бессвязным потоком, который он не в силах был остановить, в глубине души надеясь, что его очевидный страх неопровержимо свидетельствует о его искренности, даже если и впрямь ему все это только снится. — И, хотя у всех у них платежные реестры в порядке, они все равно прохвосты и воры, а дружить с такими — значит заведомо терять свое лицо и чувство собственного достоинства. — А знакомы ли вы, к примеру, с мистером Харрисоном? — О, несомненно, я его очень хорошо знаю, это достойнейший и всеми уважаемый бизнесмен, абсолютно надежный партнер, прекрасный человек. — Бывали в его доме? — В его доме? Конечно, и не один раз, и он бывал здесь у меня. — Тогда вы действительно можете ответить на тот единственный вопрос, о котором я уже говорил в начале нашей беседы, сэр. Могли бы вы дать мне домашний адрес мистера Харрисона и рассказать, как туда побыстрее добраться? Когда Лоффман понял, что располагает сведениями, необходимыми его незваному гостю, у него отлегло от сердца. Только на какие-то доли секунды задержалась в его голове мысль, что этим он, быть может, подвергает жизнь Харрисона огромной опасности. Но поскольку, скорее всего, все это ему только снится, то вряд ли выболтанные им сведения могут принести реальный ущерб кому-либо. По просьбе незнакомца он несколько раз повторил адрес и объяснил, как туда добраться. — Спасибо, сэр. Вы очень помогли мне. Как я уже сказал, особой нужды причинять вам боль нет. Но я все равно вам ее причиню, потому что это доставит мне огромное удовольствие. Значит, все-таки это и впрямь кошмарный сон.
Вассаго медленно проехал мимо дома Харрисона. Затем развернулся и снова проехал мимо него. Дом властно притягивал его к себе, так похожий на другие дома вдоль улицы и одновременно от них отличающийся тем, что походил на утес, одиноко высившийся над плоской и ничем не примечательной равниной. Окна дома были темны, а реле, видимо, автоматически отключило в это время и декоративное парковое освещение на окружающем дом участке, но для Вассаго он светился таким же манящим огнем маяка, как если бы все его окна были ярко освещены. Когда Вассаго во второй раз проезжал мимо дома, он всем своим существом ощутил это его непреодолимое притяжение. Судьба его теперь была неразрывно связана с этим местом и деятельной, словно искрящейся от переполнявшей ее жизненной энергии женщиной, скрытой за стенами дома. Ничто из того, что он увидел, не свидетельствовало о ловушке. Красная машина была припаркована прямо на подъездной аллее, а не стояла в гараже, но и в этом ничего подозрительного Вассаго не усмотрел. Тем не менее он решил снова объехать весь квартал и еще раз тщательно осмотреть дом. Когда заворачивал за угол, маленькая серебристая ночная бабочка влетела в сноп света от его фар, преломив его и сама вспыхнув, как маленький уголек от огромного костра. Он вспомнил летучую мышь, неожиданно вынырнувшую из темноты на свет у заправочной станции, которая, схватив на лету зазевавшуюся ночную бабочку, в тот же миг живьем проглотила ее.
Далеко за полночь Хатч наконец уснул. Он погрузился в это состояние, словно в глубокую шахту, по темным стенам которой яркими полосками, словно минералы, вспыхивали сны. Ни один из них не был приятным, но не было в них и ничего фантасмагорического, что могло бы заставить его в страхе проснуться. Сейчас ему снилось, что он стоит на дне глубокого ущелья, стены которого настолько круты, что взобраться по ним невозможно. Но и в тех местах, где склоны более пологи и по ним можно бы вскарабкаться наверх, они все равно остаются неприступными, так как образованы из странной, рыхлой, белой, постоянно осыпающейся и предательски оседающей глинистой массы, излучающей какое-то мягкое белесоватое сияние. Это был единственный источник света, так как небо вверху оставалось бездонным и черным. Запертый в узком ущелье, Хатч в смятении перебегал от одного крутого утеса к другому, и душу его наполнял страх, причину которого он никак не мог определить. Но вскоре он осознал две вещи, и его прошиб холодный пот. Белая глина не была окаменевшими за тысячелетия останками древних морских животных — это было месиво из человеческих скелетов, раздавленных и разбитых, но тем не менее легко узнаваемых: взгляд то и дело натыкался на избежавшие чудовищного сжатия фаланги пальцев или на напоминавшее нору маленького зверька отверстие, оказавшееся пустой глазницей черепа. Еще он заметил, что небо наверху не было пустым, там что-то кружило, огромное и черное, полностью слитое с ночным мраком, неслышно взмахивая своими огромными кожистыми крыльями. Он не мог точно разглядеть, что это было, но чувствовал на себе его пристальный взгляд и угадывал в этом взгляде вечную неутолимую алчность. Что-то бессвязно бормоча в подушку, Хатч беспокойно заворочался.
Вассаго бросил взгляд на часы на приборном щитке. Но даже и без них он инстинктивно почувствовал, что до рассвета оставалось чуть менее одного часа. Теперь он уже не был уверен, что успеет войти в дом, убить мужа и увезти женщину в свое логово до того, как взойдет солнце. Рисковать же быть пойманным в дневное время он вовсе не желал. Но не потому, что на глазах станет сморщиваться и усыхать, пока не превратится в труху, как это происходит с живыми мертвецами в кинофильмах, нет, дело было совершенно не в этом, просто его сверхчувствительные глаза, даже защищенные темными стеклами, не выдерживали солнечного света. Уже на рассвете он будет подобен слепцу, что существенно скажется на его манере вести машину, зигзагообразное, судорожное движение которой тотчас обратит на себя внимание первого встречного полицейского. В таком ослабленном состоянии у него могут возникнуть непредвиденные осложнения со стражами порядка. Но еще важнее — он может упустить случай захватить эту женщину. Часто являясь ему в сновидениях, она превратилась в предмет его самых вожделенных мечтаний. Раньше Вассаго не раз думал, что уже встречал возможных кандидатов для завершения своей коллекции, обладавших, как он тогда думал, всеми качествами, необходимыми для того, чтобы его без всяких проволочек приняли в изначальный мир вечной тьмы и ненависти, к которому он себя причислял, — и как же здорово он тогда просчитался. Никто из ранее отобранных им кандидатов не являлся ему в снах. Эта женщина воистину станет главным украшением его короны, которое он столь долго, тщательно и столь безуспешно искал. Он не должен спешить ее убивать, ибо тем самым рискует безвозвратно потерять ее задолго до того, как под сенью гигантского Люцифера отнимет у нее жизнь и придаст ее холодеющему трупу то положение, которое наиболее ярко оттенит ее слабости и пороки. В третий раз проезжая мимо дома, Вассаго уже совсем было решился более не медлить и отправиться в свое логово, чтобы вернуться сюда завтра, едва солнце скроется за горизонтом. Но все в нем протестовало против такого решения. Близость ее будоражила и возбуждала его, и он не желал разлучаться с ней даже ненадолго. Всем существом своим, каждой кровинкой ощущал он эту силу ее притяжения. Найти бы место, где можно спрятаться и остаться рядом с нею. Какой-нибудь заброшенный угол в ее доме. Или нишу, в которую она вряд ли заглянет в течение долгого, яркого, проклятого дня. Он припарковал «хонду» в двух кварталах от Харрисонов и пошел назад по тротуару, с обеих сторон, как аллея, скрытому за деревьями. Висевшие высоко на кронштейнах и отбрасывавшие зеленоватый свет уличные фонари располагались таким образом, чтобы прежде всего хорошо освещать проезжую часть, а на тротуар и прилегавшие к нему газоны домов падал только их призрачный отсвет. Вассаго был абсолютно уверен, что в это время ночи соседи спят и вряд ли видят, как он, прячась в тени кустарников, бесшумно крадется к дому, пытаясь отыскать в нем неплотно прикрытые дверь или окно. Удача долго не сопутствовала ему, пока наконец он не подошел к окошечку на задней стене гаража.
Регину разбудил странный скребущий звук, вслед за которым раздалось несколько глухих ударов и негромкий продолжительный скрип. Еще не совсем привыкнув к своему новому жилищу, она всегда просыпалась в замешательстве, не сразу соображая спросонья, где находится, уверенная только, что не в своей комнате в приюте. Она пошарила в темноте около лампы, щелкнула выключателем и от яркой вспышки на секунду зажмурилась, прежде чем, сориентировавшись, поняла, что разбудившие ее звуки были подлыми. Они прекратились, как только она включила свет. От чего показались еще более подлыми. Она выключила свет и стала прислушиваться. В темноте перед ее глазами поплыли радужные круги, так как свет лампы, подобно фотовспышке, совершенно ослепил ее. И хотя звуки больше не повторялись, Регина была уверена, что раздались они со стороны заднего двора. В кровати было тепло и уютно. Спальня, казалось, была пропитана ароматами нарисованных цветов, Окруженная со всех сторон розами, девочка, как никогда, чувствовала себя в безопасности. Ей очень не хотелось вставать, но она чувствовала, что Харрисонов донимали какие-то проблемы, к которым, скорее всего, эти подлые ночные звуки имели прямое отношение. Вчера во время поездки из школы и позже, за обедом, она заметила непонятное напряжение, витавшее над ними, и как тщательно пытались они скрыть от нее это. Полностью отдавая себе отчет, что в обществе такого оболтуса, как она, всякому нормальному человеку будет явно не по себе, Регина тем не менее была уверена, что не она является причиной их нервозного состояния. Перед сном она просила Бога, чтобы Он помог им как можно быстрее справиться с любой бедой, напомнив Ему о своем самоотверженном обете есть любые бобы. Если существовала хоть малейшая вероятность, что подлые ночные звуки имели отношение к угнетенному состоянию Харрисонов, она обязана выяснить, в чем тут дело. Регина подняла голову, посмотрела вверх на распятие и вздохнула. Иисус и Мария ее могли быть сразу везде. Они и так были заняты по горло. За всей Вселенной же не уследишь, Бог помогает тому, кто помогает себе сам. Она выскользнула из-под одеяла, босыми ногами встала на пол и пошлепала к окну, придерживаясь руками за мебель и стену, чтобы удержать равновесие, так как на ноге не было скрепы. Окно выходило на маленький задний дворик за гаражом, откуда и донеслись подозрительные звуки. Яркий лунный свет не позволял разглядеть, что творилось в тени от дома, за деревьями и в кустах. Чем больше Регина вглядывалась, тем меньше видела, словно темнота, как губка, впитывала в себя ее зрение. Теперь она с легкостью могла предположить, что в каждом сгустке непроницаемого мрака кто-то напряженно следит за ней.
* * *
Окно гаража не было заперто изнутри, однако оно с трудом поддалось ему, удерживаемое заржавевшими петлями и старой краской. Хотя Вассаго производил больше шума, чем следовало бы, он думал, что в доме его все равно никто не слышит. Но в тот момент, когда наконец скрипнули петли и дала трещину запекшаяся краска, открыв ему вход внутрь, в одном из окон второго этажа вспыхнул свет. Вассаго тотчас попятился назад, прочь от гаража, но не успел сделать и шага, как свет погас. Он затаился в густых зарослях миртовых кустов, росших прямо у забора. Ее он увидел в черном четырехугольнике окна и успел разглядеть гораздо более отчетливо, чем если бы она оставила лампу зажженной. Это была девочка, которую он несколько раз видел в своих снах, в последний раз вместе с Линдзи Харрисон. Они стояли лицом друг к другу по разные стороны парившей в невесомости черной розы, на одном из бархатистых лепестков которой блестела капля крови. Регина. Сначала Вассаго не поверил собственным глазам, потом его охватило безумное возбуждение. До того как оказаться здесь, он спросил у Стивена Хоунелла, есть ли у Харрисонов дочь, но писатель ответил, что, насколько ему известно, у них был сын, который умер несколько лет тому назад. Отделенная от Вассаго только ночной пустотой и оконным стеклом, девочка, как видение, парила над ним. В жизни она оказалась гораздо более привлекательной, чем в снах. Жизненная энергия настолько зримо переполняла ее, что он совершенно не удивился бы, если бы узнал, что она, как и он, способна видеть в темноте, но, правда, по другим причинам: внутри нее, казалось, горел неугасимый огонь, он-то и освещал ей путь в темноте. Вассаго забился в гущу кустарника, убежденный, что она видит его так же отчетливо, как и он ее. Часть стены прямо под ее окном была скрыта решеткой. От решетки к окну и далее, огибая его с одной стороны, вплоть до карниза тянулись стебли дикого винограда, усыпанные красными цветками. Она была словно заточенная в башню принцесса, с тоской и надеждой ждущая своего принца, который взберется к ней по лозе и спасет ее. Башней, служившей ей местом заточения, была сама жизнь, принцем, которого она ждала, была Смерть, а то, от чего ее должно спасти, было ее бренное существование. «Я здесь», — прошептал Вассаго, но из своего укрытия не вышел. Прошло несколько минут, и она отошла от окна. И исчезла. За стеклом, где она стояла, осталась только зияющая пустота. Он жаждая вновь увидеть ее, хотя бы на самый короткий миг. Регина. Он выждал пять минут, потом еще пять. Но она больше не подходила к окну. Наконец, чувствуя, что рассвет уже не за горами, он снова подкрался к задней стене гаража. Так как ранее рама была уже высвобождена им, окно отворилось бесшумно. Отверстие было узковатым, но он ужом, с едва слышным шуршащим звуком трущейся о дерево одежды протиснулся в него.На протяжении всей ночи, проспав с полчаса или чуть больше, Линдзи просыпалась и вновь засыпала, но сон ее все равно был беспокойным. Всякий раз она просыпалась мокрой от пота, хотя в доме было достаточно прохладно. Рядом с ней тяжело ворочался и что-то бормотал во сне Хатч. Ближе к рассвету она услышала какой-то шум в коридоре и, прислушиваясь, приподняла голову. Спустя несколько мгновений она поняла, что это шумит спускаемая в туалете вода. Регина. Снова поудобнее устроившись на подушке, она почувствовала странное облегчение от постепенно убывающего звука спускаемой в унитаз воды. Было несколько необычно — и даже нелепо — находить утешение в столь сугубо обыденно-бытовом событии. Но слишком много времени утекло с тех пор, как под одной с ними крышей находился ребенок. В этих домашних звуках, производимых ребенком, девочкой, заключались и прелесть, и оправданность бытия; ночь от них становилась менее страшной и враждебной. Несмотря на сонм бед, обрушившихся на них, возможность счастья впервые за многие годы не казалась такой уж недостижимой. Юркнув снова под одеяло, Регина подумала, зачем Бог сделал людям кишечник и мочевой пузырь. Что, разве без этого нельзя обойтись, или Он просто подшутил над людьми? Она вспомнила, как однажды в приюте встала в три часа ночи пописать и по дороге в туалет наткнулась на монахиню и задала святой сестре тот же вопрос. Вопрос этот нисколько не обескуражил монахиню, сестру Сарафину. Регина была еще слишком мала, чтобы словами поставить монахиню в тупик; тут требовались годы и годы упорной работы и ежедневной тренировки. Сестра Сарафина с ходу выдала ей, что Бог, видимо, хотел дать людям возможность, вставая среди ночи, лишний раз вспомнить о Нем и возблагодарить Его за дарованную Им людям жизнь. Регина улыбнулась и кивнула головой в знак согласия, про себя же подумала, что либо сестра Сарафина слишком устала и не в состоянии четко мыслить, либо она слегка из-за угла мешком пришибленная. Бог не мог быть таким простаком и заставлять людей думать о Нем, справляя нужду. В приятной истоме после посещения туалета, она уютно свернулась калачиком под одеялом на своей разрисованной розами кровати из красного дерева и попыталась найти более разумное объяснение волновавшей ее проблеме, чем то, которое много лет тому назад услышала от монахини. Со стороны заднего двора больше не доносилось никаких странных звуков, и не успел мутный рассвет коснуться окон ее комнаты, как она уже снова забылась в крепком, глубоком сне.
В узкие декоративные оконца, расположенные на самом верху двустворчатых ворот, почти не проникал свет от уличных фонарей, чтобы помешать Вассаго, снявшему очки, увидеть, что в гараже, рассчитанном на три машины, стоял только один черный «шеви». Быстрый осмотр помещения убедил его, что здесь не было места, где он мог бы укрыться от Харрисонов и отсидеться до наступления следующей ночи. Затем взгляд его остановился на шнуре, свисавшем с потолка над одной из незанятых стоянок для автомобиля. Он ухватился за петлю и мягко потянул на себя, затем сильнее, потом еще сильнее, но плавно и без рывков, пока люк на потолке не открылся. Совершенно бесшумно, так как был очень хорошо смазан. Когда крышка люка опустилась полностью, Вассаго стал потихоньку разнимать притороченные к ее обратной стороне три секции разъемной деревянной лестницы. Делал он это неспешно, так как был заинтересован не столько в скорости, сколько в том, чтобы производить меньше шума. Медленно вскарабкался по лестнице вверх на чердак гаража. Где-то в перекрытиях несомненно находились вентиляционные отдушины, но в какое-то мгновение чердак показался ему невыносимо душным. Его чувствительные глаза различали в темноте гладко выструганные доски пола, множество картонных коробок, какую-то мебель, заботливо укрытую от пыли кусками материи. Окон не было. Между стропилами виднелись плотно пригнанные друг к другу доски крыши. В двух местах длинного четырехугольного помещения с покатого потолка свисали на шнурах электрические лампочки. Осторожно, стараясь не шуметь, как в замедленном кино, он вытянулся на животе на полу чердака, просунул руки в отверстие люка и, секцию за секцией, плавно втянул на чердак лестницу. Бесшумно, не торопясь, снова прикрепил ее к обратной стороне крышки. Неслышно закрыл люк и зафиксировал глухо щелкнувшей пружиной, полностью отгородившись от нижнего помещения гаража. Потянул к себе несколько кусков материи, прикрывавших различные предметы мебели. Пыли на них почти не было. Сложив их, Вассаго устроил себе между коробками сиденье и, усевшись на него, стал ждать наступления ночи. Регина. Линдзи. Я здесь. Я пришел.
ШЕСТЬ
Глава 1
В среду утром Регину в школу отвезла Линдзи. Когда вернулась обратно, она застала Хатча за столом на кухне чистящим и смазывающим два браунинга, приобретенных им в свое время для защиты дома от грабителей. Пистолеты он купил пять лет тому назад, сразу же после того как им сообщили, что летальный исход болезни Джимми неизбежен. Ни с того ни с сего его вдруг охватило беспокойство по поводу роста преступности в стране, хотя преступность в их части Оранского округа никогда — и в то время также — не была угрожающей. Линдзи знала, что не грабителей он боялся, а болезни, которая вот-вот вырвет из их рук сына; а так как Хатч был не в состоянии справиться со смертельным недугом сына, он тайно жаждал встретить такого врага, которого действительно мог бы отправить к праотцам с помощью пистолета. Браунинги так никогда и не были использованы по назначению, если не считать учебных стрельб. Он настоял, чтобы и Линдзи научилась обращаться с оружием. Но вот уже в течение года, а то и двух, ни он ни она ни разу не стреляли по мишеням. — Думаешь, это необходимо? — спросила она, кивком указывая на пистолеты. Губы его упрямо сжались. — Да. — Может быть, лучше обратиться в полицию? — Мы же уже обсудили с тобой, почему это невозможно. — Все-таки, мне кажется, имеет смысл попробовать. — Плевать им на наши доводы. У них найдутся тысячи отговорок. Она знала, что он прав. Сначала нужно было убедить полицию, что им действительно грозит опасность. — Кроме того, — продолжал Хатч, не отрывая взгляда от пистолета, ствол которого он тщательно прочищал шомполом, — когда я стал чистить пистолеты, чтобы не скучать, включил телевизор. Как раз передавали утреннюю сводку новостей. Небольшой телевизор на выдвижной вращающейся полке в самом конце ряда кухонных шкафчиков сейчас был выключен. Линдзи даже не поинтересовалась, что было в сводке. Чувствовала, что новость не из приятных, а вернее, знала наперед, что он собирается ей сказать. Оторвав наконец взгляд от пистолета, Хатч четко произнес: — Хоунелла обнаружили вчера ночью. Он был привязан за руки и за ноги к четырем углам кровати и до смерти забит каминной кочергой. Потрясенная, Линдзи не могла даже пошевелиться. Потом почувствовала, что у нее подгибаются колени. Придвинула к себе ближайший стул и тяжело опустилась на него. Вчера, по прочтении статьи, она возненавидела Стивена Хоунелла с той же страстью, с какой когда-то ненавидела других людей. Может быть, чуть сильнее. Но сейчас в ней не осталось ни капли ненависти. Только жалость. Он был несчастным, легкоранимым человеком, скрывавшим от людей эту свою ранимость за маской презрительного превосходства. Он был мелочен и злобен, может быть, и того хуже, но сейчас он мертв; а смерть — это уж чересчур сильное наказание за недостатки характера. Она сложила перед собой руки на столе и уронила на них голову. Она не плакала по Хоунеллу, так как не было в нем ничего, что могло бы вызвать у нее слезы, — кроме, пожалуй, таланта. Но если гибель его таланта не вызвала в ней слез, то все же погрузила ее в глубокую печаль. — Рано или поздно, — сказал Хатч, — эта сука станет охотиться и на меня. Линдзи с трудом оторвала сразу потяжелевшую голову от рук. — Почему? — Не знаю. Может быть, мы никогда не узнаем об этом, никогда не сможем себе этого объяснить. Но мы с ним каким-то образом связаны, и он непременно придет за мной. — Пусть с ним разбирается полиция, — ответила она, с болью сознавая, что никогда им не дождаться помощи извне, но упрямо не желая расстаться с этой надеждой. — Полиции он не по зубам, — мрачно заметил Хатч. — Он как ветер. — Он не придет, — как заклинание произнесла Линдзи. — Придет, не завтра, так на следующей неделе, не на следующей неделе, так в следующем месяце. Уверен в этом, как уверен, что каждое утро солнце встает на востоке. Он обязательно придет. И мы будем готовы к встрече с ним. — Будем ли? — с сомнением покачала она головой. — Даже очень будем. — Помнишь, что ты сказал вчера ночью? Он перевел взгляд с пистолета на нее. — Что именно? — Что, может быть, он из потустороннего мира, что, скорее всего, вырвался оттуда… на твоих закорках. — Мне казалось, что ты исключила такую возможность. — Да. И остаюсь при своем мнении. А ты? Ты все еще веришь в нее? Вместо ответа он с новой энергией принялся чистить пистолеты. Линдзи не отставала: — Если ты сам веришь, или почти веришь, или хоть чуточку веришь в такую возможность — тогда какой толк от пистолета? Он промолчал. — Подумай, способна ли пуля остановить злой дух? — продолжала она, чувствуя, что действительность — утро, поездка с Региной в школу — превратилась в сон, что в данный момент она занимается не решением реальной проблемы, а все еще пребывает в состоянии бесконечно длящегося кошмарного сна. — Каким образом с помощью обыкновенного пистолета можно остановить нечто, явившееся сюда из могилы? — Это единственное оружие, которое у меня есть. Как и большинство врачей, по средам Нейберн не занимался административными делами и не практиковал. Но в отличие от других и не посвящал себя гольфу, не ходил под парусами на яхте и не играл в карты в местном клубе. Среды он отдавал занятиям наукой, писал научные статьи или подробные клинические отчеты для Отделения реанимационной медицины при Оранской окружной больнице, анализируя те или иные случаи из своей практики. В первую среду мая он планировал уединиться в своем рабочем кабинете дома на Спайгласс-Хилл, где жил в течение последних двух лет с момента потери семьи, на восемь-десять часов беспрерывной работы, надеясь завершить доклад, с которым восьмого мая собирался выступить на конференции в Сан-Франциско. Отделанные тиковым деревом большие окна кабинета выходили на Корона-дель-Мар и на раскинувшийся внизу пляж Ньюпорт-Вич. На двадцать шесть миль окруженный серой водой с прожилками зеленого и голубого растянул свои мрачные, упирающиеся в небо кручи остров Санта-Каталина, но и он был не в состоянии ни уменьшить громадность Тихого океана, ни принизить почтительно-робкое к нему отношение, словно острова тут не было и в помине. Нейберн даже и не подумал задернуть шторы на окнах, так как никогда не отвлекался на разворачивающуюся за ними панораму. Он купил этот дом в надежде, что его удобства и великолепный вид из окон помогут ему снова поверить в красоту жизни и притупить острое чувство утраты после трагической смерти жены и дочери. Но только работа была в состоянии сделать это, и потому он, даже не взглянув в окно, тотчас садился за нее. В то утро, однако, Нейберн не мог сконцентрироваться на белых буквах на синем фоне экрана своего персонального компьютера. Но и широкие просторы океана не манили взор, мысли его всецело были заняты Джереми, сыном. В тот мрачный весенний день два года тому назад, когда он, придя домой, обнаружил изрезанные и исколотые ножом до неузнаваемости трупы Марион и Стефани — об их оживлении не могло быть и речи, — когда в гараже наткнулся на потерявшего сознание Джереми и увидел, что его быстро истекающее кровью тело висит на ноже, зажатом в тисках, Джоунас и не думал винить в этой трагедии неведомого психопата или застигнутых на месте преступления взломщиков. Он сразу понял, что убийцей был подросток, неуклюже распластавшийся на верстаке, из тела которого на бетонный пол струйкой крови уходила жизнь. Все годы с Джереми творилось что-то неладное — чего-то в нем не хватало, чего-то, что делало его совершенно отличным от других, и с годами это различие возрастало и становилось все более угрожающим, хотя Джоунас упорно пытался убедить самого себя, что отношение мальчика ко всему и его поступки были не чем иным, как проявлением обычного подросткового бунтарства. Но сумасшествие отца Джоунаса, перескочив через поколение, проявилось и быстро подчинило себе гены Джереми. Когда Нейберн вытащил из его тела нож, когда «скорая помощь» на бешеной скорости мчалась в Оранскую окружную больницу, которая была всего в нескольких минутах езды от их дома, мальчик был еще жив. Но когда его переложили на носилки и бегом потащили по коридору больницы, он скончался. Джоунасу только недавно удалось убедить администрацию больницы организовать при стационаре специальную группу реанимации. Вместо того чтобы через байпас подогреть кровь умершего, они пропустили через тело охлажденную кровь, стремясь до предела сбросить его температуру и остановить омертвение клеток головного мозга, чтобы свести к нулю этот процесс во время проведения операции. Кондиционер был установлен на температуру в пятьдесят градусов, а тело пациента со всех сторон обложили мешками с колотым льдом. Джоунас сам вскрыл место ранения, чтобы отыскать — и восстановить — повреждение, могущее свести на нет все усилия реаниматоров. В то время он, по-видимому, знал, что заставило его столь самоотверженно бороться за жизнь Джереми, но позже он никак не мог понять и объяснить себе, что им тогда двигало. «Потому что он мой сын, — сам себя убеждал Нейберн. — И я несу за него ответственность». Но ответственность перед кем, перед убийцей дочери и жены? «Я спас его, чтобы спросить, зачем он это сделал», — в другой раз доказывал он себе. Но в душе всегда знал, что ответа на этот вопрос не существует. Ни философы, ни психологи — ни даже сами убийцы — на протяжении всей истории человечества не смогли привести хоть каких-либо мало-мальских убедительных доводов, объясняющих хотя бы один-единственный акт социопатического насилия. Неоспоримыми и универсальными оставались ссылки на несовершенство, изначальную порочность рода человеческого, несущего в самом себе семя своей же погибели. Церковь называла это наследием Сатаны и датировала его начало грехопадением и изгнанием из Рая. Ученые искали объяснение этому в глубинах генетики, биохимии и в механизмах воздействия нуклеидов. Вероятнее всего, и те и другие говорили об одном и том же пороке, только называли его по-разному. Любой ответ ученых или теологов в одинаковой мере не устраивал Джоунаса, не давал ключ к разгадке и не описывал конкретных способов борьбы с данным пороком. Ибо призывал верить либо во всемогущего Бога, либо во всемогущую науку. Какими бы ни были причины, побудившие тогда Джоунаса сделать то, что он сделал, он вернул Джереми к жизни. Юноша находился в состоянии смерти тридцать одну минуту, что в то время не было абсолютным рекордом длительности, так как уже был известен случай с девочкой из штата Юта, возвращенной к жизни после шестидесяти шести минут пребывания в когтях у Смерти. Но поскольку девочка находилась в состоянии предельной гипотермии, а Джереми был еще теплым, когда умер, то его оживление можно было также считать своеобразным рекордом. Другими словами, оживление после тридцати одной минуты теплой смерти было в такой же степени чудом, как и оживление после восьмидесяти минут холодной смерти. Собственный сын и Хатч Харрисон оказались самыми большими и наиболее впечатляющими достижениями Джоунаса — о первом из них, в чисто человеческом смысле, говорить как о достижении, правда, можно было лишь условно. Десять месяцев пролежал Джереми в состоянии комы, и, хотя дышал он самостоятельно и не нуждался в специальных приспособлениях, поддерживающих в его теле жизнь, питание вводилось ему внутривенно с помощью капельницы. В таком состоянии, в самом его начале, он из больницы был перевезен в дорогостоящую частную лечебницу. В течение всех этих месяцев у Джоунаса были все основания обратиться в суд с ходатайством об отключении внутривенного питания от своего сына. Но тогда Джереми умер бы от голода или от недостатка воды, а такая жестокая смерть, даже для пациента в коматозном состоянии, иногда может быть сопряжена с жестокими страданиями. Джоунас же не желал стать причиной этих страданий. Но подспудно, на таком глубоком уровне подсознания, что он сам понял это только недавно, им руководило сугубо эгоистическое желание вызнать у Джереми — если, конечно, тот когда-либо придет в себя — побудительные мотивы его социопатического поведения, чего еще никому на протяжении всей истории человечества не удавалось сделать. Видимо, ему казалось, что, располагая уникальной информацией о характере сумасшествия своих родных отца и сына, первый из которых тяжело ранил его самого и сделал сиротой, а второй — вдовцом, он сможет интуитивно проникнуть в самую суть проблемы. Как бы там ни было, он исправно оплачивал все счета из лечебницы. И вторую половину каждого воскресенья терпеливо проводил у постели сына, вглядываясь в его бледное, спокойное лицо, в чертах которого находил так много сходства с самим собой. Через десять месяцев Джереми пришел в сознание. Травма головного мозга привела к афазии, лишив его дара речи и навыка читать и понимать написанное. Он не помнил ни своего имени, ни того, как очутился здесь. Свое отражение в зеркале воспринимал как незнакомое и не узнавал отца. Он не понимал, чего от него хотят полицейские, и не чувствовал за собой никакой вины. Очнулся он полным идиотом, с резко заниженными, по сравнению с прежними, интеллектуальными способностями, с ограниченным диапазоном внимания, с предельной возбудимостью и с полной потерей ориентации. Жестами он показал, что от яркого света у него нестерпимо режет в глазах. Офтальмологические исследования выявили странное и с медицинской точки зрения совершенно необъяснимое вырождение радужных оболочек обоих глаз. Сокращательные мембраны оказались частично изъеденными. Зрачковый сфинктер — мышца, ответственная за сокращение радужной оболочки, за счет чего регулируетсяпоступление потока света на зрачок, — был почти полностью атрофирован. К тому же сильно усох и сократился дилятатор зрачка — расширяющая зрачок мышца, оставив радужную оболочку совершенно незащищенной. А поскольку связи между мышцами дилятатора и глазомоторными нервами также оказались нарушенными, глаза его были практически лишены возможности сокращать объем поступающего в них света. Тогда-то ему и пришлось надеть плотно прилегающие к лицу солнцезащитные очки с сильно затемненными стеклами. Но он все равно предпочитал проводить светлое время дня в комнатах с плотно зашторенными окнами или закрытыми ставнями. Непостижимым образом Джереми сделался любимчиком персонала реабилитационной больницы, куда был переведен в первые же дни после того, как пришел в сознание в лечебнице. Они жалели его за то, что случилось с его глазами, а еще за то, что такой красивый юноша мог так низко пасть. Помимо всего прочего, в связи с ярко выраженной умственной деградацией поведение его отличалось небесной кротостью, он был застенчив и робок, как маленький ребенок, от прежней надменности, холодной расчетливости и едва скрытой враждебности не осталось и следа. В течение более чем четырех месяцев он бесцельно бродил по коридорам, иногда помогал, как мог, нянечкам, безуспешно под руководством логопеда пытался восстановить речь, часами сидел, неподвижно уставившись в темные ночные окна, хорошо ел, так что даже значительно прибавил в весе, много времени проводил в слабо освещенном гимнастическом зале, упражняя свое тело. Мышцы его окрепли, а ломкие, как солома, волосы снова обрели прежний блеск. Почти десять месяцев тому назад, когда Джоунас уже начал подумывать, куда бы поместить сына, который больше не нуждался в физической и трудовой терапии для обеспечения жизнедеятельности его организма, юноша бесследно исчез. Он никогда не изъявлял особого желания покидать стены больницы, чтобы погулять на свежем воздухе в окружавшем ее парке, но однажды ночью, никем не замеченный, он выскользнул из нее и больше не вернулся. Джоунас предположил, что полиция быстро отыщет его. Но по их ведомству он проходил только как пропавший без вести, а не как убийца. Если бы у него полностью восстановились все его прежние способности, они бы посчитали его преступником, скрывающимся от правосудия, но его резко пониженный коэффициент умственного развития — а таким он, видимо, останется до конца жизни — служил ему своеобразной гарантией неприкосновенности. Теперь это был другой Джереми, полностью отличный от прежнего, совершившего тяжкие преступления; никакой суд присяжных не возьмет на себя смелость засадить за решетку полуидиота, да еще с ограниченными речевыми навыками и на удивление простодушным складом характера. Поиски пропавших без вести только официально носят название поисков. На самом деле сил полиции не хватает даже на требующие безотлагательных и быстрых действий серьезные преступления. В полиции были убеждены, что юноша скорее всего заблудился, попал в руки каких-нибудь подонков, был использован ими для своих грязных целей и убит. Джоунас, однако, был уверен, что сын его жив. Мало того, он почти не сомневался, что свободу обрел не простодушный и улыбчивый идиот, а коварный, опасный и психически тяжело больной молодой человек. Он всех их одурачил. Джоунас не мог открыто признать, что умственная заторможенность была мастерски разыграна Джереми, потому что в душе понимал, что сам позволил ему себя одурачить. Он с радостью принял нового Джереми, потому что, если быть до конца откровенным, не мог вынести пытки смотреть в глаза тому Джереми, который убил Марион и Стефани. Но самым убедительным доказательством его прямого соучастия в преднамеренном обмане было нежелание подвергнуть того компьютеризированному исследованию, чтобы определить характер перенесенной им мозговой травмы. Тогда он пытался убедить себя, что важен сам факт наличия травмы мозга, а его этиология, характер повреждения, не играет никакой роли — совершенно недопустимая халатность со стороны лечащего врача, но полностью объяснимая слабость со стороны отца, не пожелавшего оказаться лицом к лицу с чудовищем в образе собственного сына. И теперь это чудовище разгуливает на свободе. У него не было на этот счет прямых доказательств, но и сомнений, что дело обстоит именно так, тоже не было. Джереми где-то скрывался. Прежний Джереми. В течение всех десяти месяцев с помощью различных сыскных агентств он пытался найти своего сына, так как нес если не юридическую, то моральную ответственность за любые преступления, совершаемые им. Первые два агентства ничего не смогли разузнать и объяснили свою беспомощность выйти на его след отсутствием следа как такового. Скорее всего, написали они в своем отчете, юноши уже нет в живых. Третье агентство было представлено лично самим Мортоном Редлоу. И хотя не было в нем нахрапистости его более крупных коллег по сыску, в Редлоу чувствовались бульдожья хватка и настойчивость, заставившие Джоунаса поверить, что дело наконец сдвинется с мертвой точки. И вот на прошлой неделе Редлоу прозрачно намекнул, что картина немного прояснилась, но окончательные выводы он сможет сделать только в конце недели. С тех пор детектив как в воду канул. Он так и не позвонил и не ответил ни на одну из записанных на магнитофон автоответчика просьб немедленно дать о себе знать. И Джоунас, отвернувшись от персонального компьютера и доклада, который он готовил для конференции, снял трубку и снова набрал номер телефона детектива. Автоматически включился магнитофон. Но он так и не смог сообщить ни своего имени, ни причину своего звонка, так как пленка была уже до отказа забита аналогичными сообщениями. Автоответчик выключил магнитофон. У Джоунаса в душе шевельнулось недоброе предчувствие. Положив трубку на рычаг, он встал из-за стола и подошел к окну. Чувствовал себя Джоунас отвратительно, и никакой великолепный вид из окна не был в состоянии поднять ему настроение, но отчего же было не попытаться это сделать? Каждый новый день пополнялся новыми омерзительными событиями, гораздо более ужасными, чем предыдущие, и он нуждался в любом средстве, которое бы хоть чуточку гарантировало ему более или менее спокойную ночь и относительно спокойное утро. Солнечные блики утреннего солнца мелкой рябью серебристых волокон отражались от бегущих к берегу волн, словно океан был огромным куском голубовато-серой струящейся материи с вплетенными в нее серебряными нитями. Нейберн уговаривал себя, что Редлоу просто запаздывает с отчетом, что время еще есть и что беспокоиться не о чем. А то, что магнитофон автоответчика до отказа забит посланиями, свидетельствует либо о болезни детектива, либо о его чрезмерной занятости. Но в глубине души Нейберн чувствовал: Редлоу выследил-таки Джереми, но, не вняв предупреждениям, недооценил его. Вдоль берега, распустив белые паруса, в южном направлении медленно двигалась яхта. Большие белые птицы парили в небе за кормой судна, стремительно, как молнии, падали в воду и тотчас взмывали вверх, всякий раз держа в клюве добычу. Легкокрылые и свободные, они были великолепны, но рыбы, которых они выхватывали из воды, этого восторга не разделяли. Увы, никак не разделяли.Линдзи отправилась в свою студию, расположенную между комнатой Регины и их с Хатчем спальней. Переставив высокий табурет от мольберта к рисовальной доске, приготовила блок чистой бумаги и принялась набрасывать эскиз своей следующей картины. Она чувствовала, что необходимо с головой уйти в работу, не только потому, что, творя искусство, как и воспринимая его, давала роздых душе, но еще и потому, что, полностью отдавшись привычным занятиям, могла отогнать прочь тревожные мысли о том темном и иррациональном, что грязным потоком ворвалось в их жизнь. Ничего страшного не может — не должно? — произойти, если она как ни в чем не бывало будет продолжать рисовать, пить свой обычный черный кофе, есть три раза в день, мыть посуду после еды, чистить зубы на ночь, а по утрам принимать душ и втирать в тело дезодорант. Разве посмеет фантом-убийца из потустороннего мира вторгнуться в нормальную, упорядоченную жизнь? Вне всякого сомнения, разные там вурдалаки и привидения, домовые и кикиморы не властны над теми, кто всегда отлично ухожен, надушен, напудрен, одет, сытно накормлен, занят своим делом и знает, чего хочет. Ей очень хотелось верить во все это. Но когда делала первый набросок, не могла унять непроизвольную дрожь в руках. Хоунелл мертв. Купер мертв. То и дело вскидывая к окну глаза, Линдзи интуитивно ожидала вновь увидеть в верхнем его углу паука. Но не было там ни суетливого черного шарика, ни кружев новой паутины. Только чистое стекло. А за ним верхушки деревьев да голубой четырехугольник неба. Вскоре в студию заглянул Хатч. Подойдя к ней сзади, он обнял и поцеловал ее в щеку. Он выглядел озабоченным. В руке держал один из браунингов. Положив его на шкафчик, где у нее хранились рисовальные принадлежности, сказал: — Будешь выходить из комнаты, не забудь захватить его с собой. Этот тип вряд ли нагрянет днем. Уверен, так как чувствую это. Он что-то вроде упыря или чего-нибудь в этом роде, черт бы его побрал. Но в любом случае осторожность не помешает, особенно когда останешься здесь одна. Она с сомнением взглянула на пистолет: — Хорошо, не забуду. — Я отлучусь ненадолго. Сделаю кое-какие покупки и мигом назад. — Какие покупки? Она повернулась на табурете и в упор посмотрела на мужа. — У нас мало боеприпасов. — Но в пистолетах полные обоймы. — Хочу еще прикупить автомат. — Хатч! Даже если он придет, что маловероятно, речь идет не о войне. В дом ворвется всего-навсего один человек: речь может идти об одном, ну, в крайнем случае, двух выстрелах, а не о грандиозном сражении. Он стоял перед ней, непреклонный, с каменным выражением лица. — Отличный автомат — самое лучшее из всех видов оружия для защиты дома. Не надо быть метким стрелком. Хоть одна пуля из веера, но обязательно угодит в преступника. Я точно знаю, что мне нужно. Короткоствольный, с пистолетной рукояткой… Положив ему на грудь ладонь, она жестом остановила его. — Я сейчас в штаны наложу от страха. — Ну и прекрасно. Чем больше будем бояться, тем будем осторожнее и осмотрительнее. — Если ты так уверен, что нам грозит опасность, надо немедленно убрать отсюда Регину. — Мы не можем отослать ее обратно в приют св. Фомы, — быстро сказал Хатч, словно уже заранее обдумал ответ. — На время, пока все не утрясется. — Нет, — он отрицательно покачал головой, — Регина слишком чувствительная, слишком хрупкая натура, ты же знаешь, она тотчас подумает, что мы решили избавиться от нее. А что, если нам не удастся убедить ее в обратном? Ведь она тогда вообще откажется иметь с нами дело. — Уверена, она… — А как мы объясним все это в приюте? Ну, допустим, состряпаем какую-нибудь ложь — честно говоря, я и представить себе не могу, что мы такое сможем придумать, — так они нас быстро выведут на чистую воду. И усомнятся. И прежде всего в том, а стоит ли вообще доверять нам. А расскажи мы им правду, начни мы чесать языком насчет всяких там психических видений и телепатических связей с убийцами-психопатами, они нас примут за сумасшедших и тогда уж наверняка не отдадут ее нам обратно. Он действительно все обдумал заранее. Линдзи понимала, что Хатч прав. Он чмокнул ее в щеку. — Вернусь через час. Самое большее, через два. Когда он ушел, она не мигая уставилась на пистолет. Затем с негодованием отвернулась от него и взяла в руку карандаш. Разложила лист ватмана. Он был чист. И бел. Таким и остался. Нервно кусая губы, она взглянула на окно. Ни паутины, ни паука. Только четырехугольник окна. А за ним — верхушки деревьев и голубое небо. И в этот момент вдруг впервые осознала, каким зловещим может быть обыкновенное голубое небо.
Два зарешеченных воздуховода обеспечивали приток свежего воздуха на чердак. Крыша и частые решетки не позволяли солнечным лучам проникать внутрь, но вместе с едва приметными потоками холодного утреннего воздуха бледный размытый свет туда все же пробивался. Но свет этот почти не беспокоил Вассаго, отчасти потому, что стены его логова из коробок и мебели заслоняли воздуховоды от его глаз. Воздух был напоен запахами сухого дерева и ветшающего картона. Ему не спалось, и потому он попытался расслабиться, представив себе, какой великолепный пожар можно было бы устроить из заброшенного сюда, на чердак, хлама. Богатое воображение с легкостью нарисовало ему языки красного пламени с оранжевыми и желтыми завитушками, резкие хлопки взрывающихся пузырьков живицы внутри объятых огнем стропил, картон, оберточную бумагу и всякую другую горючую дребедень, исчезающую в клубах дыма с треском разрываемой бумаги, похожим на отдаленные аплодисменты миллионов зрителей в громадном темном зрительном зале. И, хотя пожар только привиделся ему, он крепко зажмурил глаза от его зловеще-призрачных отсветов. Но и видение пожара не развлекло Вассаго, может быть, оттого, что горели только вещи, обычные неодушевленные предметы. Какое же это развлечение? Восемнадцать человек сгорели заживо — или были затоптаны насмерть толпой — во время пожара в «Доме привидений» в тот вечер, когда Тод Леддербекк погиб в пещере «Сороконожки». Вот это был пожар. Даже тень подозрения в смерти «космического всадника» и в причине пожара в «Доме привидений» не коснулась его, но его потрясли последствия этих ночных игрищ. Гибель людей в «Мире фантазии» стала новостью номер один и в течение двух недель не сходила с заголовков газет, а в школе обсуждалась еще почти с месяц. После пожара парк временно закрыли и открыли было вновь, но дела пошли из рук вон плохо, его снова закрыли, на этот раз на капитальный ремонт, затем снова открыли, но посетителей становилось все меньше и меньше, и в конце концов через два года, не выдержав дурной славы и целого потока судебных исков, парк отдал Богу душу. Несколько тысяч людей лишились работы. С миссис Леддербекк случился нервный припадок, хотя Джереми предположил, что она мастерски сыграла роль любящей матери, такой же лицемерной, как и все остальное у этих людишек. Но еще более сильными оказались переживания, связанные лично с ним, Джереми. Ближе к утру, под впечатлением случившегося, проведя бессонную ночь после приключений в «Мире фантазии», он вдруг осознал, что там, в парке, потерял над собой контроль. Нет, не тогда, когда убил Тода. Тогда все было сделано четко и верно. Мастер Игры, подтвердивший свое мастерство. Но с того момента, как столкнул Тода с «Сороконожки», он был опьянен властью, носясь по парку в состоянии, близком к такому, как если бы выкурил подряд пачку-другую сигарет. Он был разбит, измаран, изъезжен, измотан, изъеден властью, он буквально смердел ею. Ибо взял на себя роль Смерти и стал Тем, кого боялись и ненавидели все. Пережитое чувство не только пьянило, но, как наркотик, дурманило; ему хотелось снова все повторить на следующий день, и на следующий, и повторять это до бесконечности, до конца дней своих. Ему хотелось снова кого-нибудь заживо поджечь, а также хотелось узнать, что будет он испытывать, вонзая в кого-нибудь нож, стреляя из пистолета, убивая ударом молотка по голове или сдавливая горло руками. В ту ночь он достиг ранней половой зрелости, наполненной видениями смерти, блаженством будущих убийств. Пораженный этим первым проявлением сексуального оргазма и выбросом семени, ближе к рассвету он наконец понял, что Мастер Игры не только должен без страха убивать, но обязан уметь сдерживать в себе мощный позыв снова убивать, порожденный первым удачным убийством. То, что ему на этот раз сошло с рук убийство, просто доказывает его превосходство над другими игроками, но долго так продолжатся не может, если он потеряет над собой контроль, как тот сумасшедший идиот, которого недавно показывали по телевизору, открывший беспорядочную пальбу из полуавтоматической винтовки по толпе в торговом центре. Он точно не был Мастером. Он был дураком. И за свою глупость получит теперь по заслугам. Мастер должен действовать избирательно, а выбрав себе жертву, расправиться с ней по высшему разряду. Лежа сейчас на чердаке гаража на куче тряпья, Вассаго подумал, что Мастер должен быть подобен пауку. Сначала необходимо выбрать место для убийства. Расставить сети. Затаиться, втянув в себя свои длинные ноги, сделаться совершенно маленьким, невзрачным существом… и ждать. Чердак буквально кишел пауками. В тусклом полумраке его удивительно чувствительные глаза безошибочно отыскивали их. Некоторые все время суетливо сновали взад и вперед по своим паутинкам. Другие, затаившись, были неподвижны, как смерть. Эти по духу ему были ближе. Его маленькие братья по крови.
Магазин по продаже оружия напоминал крепость. Надпись рядом с входной дверью гласила, что помещение охраняется многоканальной системой бесшумной сигнализации, а ночью, дополнительно, специально натасканными сторожевыми псами. Окна были забраны приваренными к рамам стальными решетками. Хатч заметил, что толщина двери равнялась примерно трем дюймам, и, хотя с внешней стороны дверь имела вид деревянной, внутри она скорее всего была стальной, а три ее петли с внутренней стороны, казалось, предназначались для использования в батисферах, где им пришлось бы выдерживать под водой давление в тысячи тонн. Хотя большинство товаров, имеющих непосредственное отношение к оружию, находилось на открытых полках, само оружие — винтовки, автоматы и пистолеты — лежало в полностью закрытых стеклянных ларцах или было надежно приторочено к стеллажам цепями. В каждом из четырех углов под потолком вытянутого в длину торгового зала были установлены видеокамеры, защищенные толстым пуленепробиваемым стеклом. Магазин охранялся лучше всякого банка. У Хатча мелькнула мысль, что он живет в такое время, когда оружие более притягательно для грабителей, чем сами деньги, которые они добывают с его помощью. Между четырьмя приятной наружности продавцами-мужчинами царил дух товарищества, который они с легкостью переносили и на покупателей. У всех у них рубахи с прямым подрубочным швом были надеты навыпуск. Может быть, им так нравилось их носить. А может быть, у каждого из них под рубахой, в кобуре, заткнутой за спину, находилось по пистолету. Хатч купил короткоствольный, двенадцатого калибра, с пистолетной рукояткой, для стрельбы короткими очередями, автомат «Моссберг». — Отличное оружие для защиты дома, — заверил его продавец. — Если оно у вас в руках, никаких проблем. Хатч подумал, что должен быть благодарен Богу, что в наши дни государство оберегает его даже от таких мелких неприятностей, как скопление радона в подвале или последствия тотального уничтожения одноглазого, с голубым хвостом, москита. В менее цивилизованную эпоху — скажем, в начале века — ему пришлось бы держать дома целый арсенал: несколько сотен винтовок, тонну взрывчатых веществ и бронежилет, который пришлось бы натягивать на тело всякий раз, когда шел открывать входную дверь. Ирония, решил про себя Хатч, довольно горькая форма юмора, и сейчас она совсем не к месту. Во всяком случае, в его теперешнем положении. Он заполнил необходимые анкеты, расплатился кредитной карточкой и, прихватив «моссберг», комплект принадлежностей для ухода за оружием, коробочки с боеприпасами для браунингов и автомата, вышел из магазина. Позади него с глухим тяжелым гулом закрылась дверь, словно он вышел наружу из склепа. Уложив покупки в багажник «мицубиси», Хатч сел за руль, включил зажигание — и застыл, опустив руку на рычаг коробки передач. Перед ним не было ни автостоянки, ни оружейного магазина. Словно повинуясь злому заклинанию могучего волшебника, померкло солнце. Хатч оказался в длинном, с жуткой подсветкой, тоннеле. Он взглянул в боковое стекло, повернулся и посмотрел в заднее стекло, иллюзия или галлюцинация — черт бы побрал и то и другое — окружала его со всех сторон и казалась такой же реальной, как недавно автостоянка. Когда он снова посмотрел вперед, то увидел, что перед ним длинный пологий склон, по центру которого бежит узкая железнодорожная колея. Вдруг машина тронулась с места, словно была не машиной, а поездом, движущимся вверх по склону. Хатч с силой нажал на педаль тормоза. Безрезультатно. Он закрыл глаза, сосчитал до десяти, чувствуя, как с каждой секундой сердце убыстряет свой бег, попытался расслабиться. Когда вновь открыл глаза, снова увидел тоннель. Заглушил мотор, услышал, как он прекратил работать. Машина же как ни в чем не бывало продолжала катиться вперед. Тишина, наступившая вслед за прекращением шума работающего мотора, длилась недолго. Ее сменил новый звук: Та-па-ти-так, тапати-так, тапати-так. Нечеловеческий крик раздался слева от него, и краем глаза Хатч уловил угрожающее движение. Голова его тотчас дернулась влево. К своему изумлению, он увидел нечто совершенно ему незнакомое: белесого слизняка ростом со здоровенного мужчину. Тот яростно рвался к Хатчу и, разверзнув круглый рот, полный острых, вращающихся, как лезвия мусорорезки, зубов, орал на него. Такой же слизняк бросался на него из ниши в стене тоннеля справа, а впереди виднелись другие, а за ними еще какие-то страшные чудовища что-то невнятно тараторили, ухали, скалили зубы, верещали, когда он на машине проносился мимо них. Несмотря на то что Хатч был совершенно сбит с толку и напуган, он сообразил, что все эти страшные чудища не настоящие, а механические. И когда понял это, узнал наконец и давно знакомый звук. Тапати-так, тапати-так. Он ехал на роликовом санном поезде (хотя находился в собственной машине), который постепенно замедлял ход, приближаясь к вершине склона, после чего должен последовать стремительный бросок вниз. Хатч не пытался внушить себе, что с ним ничего не происходит, не старался заставить себя проснуться и прийти в себя. А принимал все как есть. Чувствовал, что ему и не надо верить в происходящее, чтобы оно и дальше длилось; верил он в него или нет, оно все равно продолжалось бы независимо от его воли, и потому лучше сцепить зубы и ждать, когда все это кончится. Но принимать все как есть не значит перестать бояться. И ему было так страшно, как никогда в жизни. В какой-то момент он подумал, что надо бы открыть дверцу машины и выйти вон. Может быть, это остановит наваждение. Но не сделал этого, так как боялся, что, когда выйдет, окажется не на автостоянке перед оружейным магазином, а в тоннеле, а поезд пойдет вверх без него. Перестав ощущать свой маленький красный «мицубиси», он захлопнет за собой дверь в реальность, навсегда ввергнет себя в наваждение, откуда ему уже никогда не выбраться, никогда не вернуться назад. Машина проехала мимо последнего чудища. Вот она уже на вершине склона. Толкает половинки вертящихся ворот. И попадает в сплошной мрак. Ворота сзади с шумом захлопываются. Машина медленно ползет дальше. Дальше. Дальше. И вдруг, словно в бездонную пропасть, срывается вниз. Хатч в ужасе кричит, и вместе с криком исчезает темнота. Снова вокруг прелестный весенний солнечный день. Автостоянка. Оружейный магазин. Пальцы его с такой силой сжимают рулевое колесо, что ломит суставы.
В течение всего утра Вассаго больше бодрствовал, чем спал. Но, когда задремал, снова оказался на «Сороконожке» в тот достопамятный вечер, в вечер своей славы. В дни и недели, потянувшиеся после гибели людей в «Мире фантазии», он доказал себе, что является истинным Мастером, укротив свое необузданное желание снова убивать. Достаточно было только вспомнить о совершенном убийстве, как само собой спадало скопившееся в нем напряжение. Сотни раз заново переживал он подробности каждой гибели, тем самым гася в себе добела раскаленную потребность действовать. А уверенность, что снова будет убивать и всякий раз выходить сухим из воды, служила ему дополнительным стимулом, сдерживавшим его неуемную страсть. В течение двух лет он никого не убивал. Затем, когда ему исполнилось четырнадцать лет, в летнем лагере он утопил одного мальчика. Тот был младше и слабее его, но боролся за свою жизнь до конца. Когда его, лежащего в воде лицом вниз, обнаружили в пруду, разговоры о его смерти не утихали в лагере в течение целого месяца. Вода оказалась таким же восхитительным убийцей, как и огонь. Когда ему исполнилось шестнадцать и он получил водительские права, то пустил в расход двух случайных встречных, попросивших его подкинуть их на машине, одного в октябре, другого за несколько дней до Дня Благодарения. Второй, ноябрьский, был просто студентом, ехавшим домой на каникулы. А вот первый оказался особой штучкой, хищником, решившим, что напал на наивного дуралея-школьника, за чей счет можно порезвиться. Обоих Джереми зарезал ножом. В семнадцать, открыв для себя сатанизм, Вассаго не мог вдоволь начитаться о нем, пораженный, что его секретное философское кредо было столь четко сформулировано и разделялось многими тайными религиозными культами. Некоторые из них были достаточно беззубыми и исповедовались трусливыми слюнтяями, которые только делали вид, что порочны, чтобы прикрыть свой гедонизм, стремление к вечному наслаждению. Но были и настоящие верующие, ревностно приверженные той истине, что Богу не удалось создать людей по образу и подобию Своему, что большая часть человечества — это быдло, что эгоизм — это великолепное чувство, что наслаждение — единственное, к чему следует стремиться, и что высшее блаженство способна принести только власть над другими людьми. Истинным же проявлением власти, убеждало его одно подпольно изданное сочинение, является расправа с собственными родителями, давшими тебе жизнь, благодаря чему разрываются семейные узы «любви». Книга утверждала, что необходимо как можно решительнее выступать против всяких установлений, законов и так называемых благородных чувств, которыми люди прикрывают свое лицемерие. Только восприняв это всем сердцем, можно заслужить себе место в Аду — откуда его, помимо его желания, вернул к жизни отец. Но скоро он вновь будет там. Еще несколько смертей, особенно две из них, и путь его в обетованную землю вечного мрака будет свободен. Чем выше поднималось солнце, тем теплее становилось на чердаке. Над его затемненным убежищем в разных направлениях носилось несколько толстых мух, а некоторые из них уже беспомощно барахтались, попав в те или иные из липких паучьих сетей, растянутых на стыках строительных балок. Вот тогда пришли в движение пауки. В нагретом узком пространстве полудремотное состояние Вассаго сменилось более глубоким сном с более неистовыми сновидениями. И снились ему огонь и вода, кинжалы и пистолеты.
* * *
Присев на корточки возле угла гаража, Хатч просунул руку между двумя азалиями и откинул крышку регулятора садового освещения. Он установил реле таким образом, чтобы фонари, освещавшие дорожку и кустарник, не погасли в полночь. Теперь они будут светить до тех пор, пока не взойдет солнце. Закрыв железный ящик регулятора, Хатч выпрямился и стал глядеть на тихую, прекрасно ухоженную улицу. Все здесь было аккуратно и гармонично. Крыши домов выложены плиткой коричневатых, желтоватых и персиковых тонов, резко контрастировавших с крикливыми оранжево-красными плитками на крышах многих старых калифорнийских построек. Оштукатуренные стены были в основном кремового цвета или нежно-голубых расцветок, специально оговоренных условиями «Договорных обязательств», выдававшихся на руки владельцам вместе с актом о передаче прав на пользование собственностью. Недавно выкошенные лужайки были изумрудного цвета, клумбы ухожены, деревья аккуратно подстрижены. Просто не верилось, что в степенную, упорядоченную жизнь этой процветающей общины могут вторгнуться неведомые бедствия из потустороннего мира, казалось немыслимым, что по этим улицам станут бродить какие-то таинственные, мистические существа. Тому порукой была здоровая заурядность их района, подобно мощному оборонительному валу защищающая его обитателей от вторжения мистических сил. Уже не в первый раз у Хатча мелькнула мысль, что Линдзи и Регина жили бы здесь в полной безопасности — не будь с ними его. Если безумие сумело проникнуть в эту цитадель спокойствия, именно он открыл ему ворота. А может быть, сумасшедшим был он сам; может быть, причудливые, тревожные его состояния были вовсе не психическими видениями, а обыкновенными галлюцинациями его расстроенного рассудка. Хатч мог бы побиться об заклад, что не был сумасшедшим — хотя и не решался полностью исключить возможность оказаться в проигрыше. В любом случае, был он душевнобольным или нет, именно он мог стать причиной грозящих им бед и насилия, и не лучше ли будет для них на время уехать, отдалиться от него, пока не прекратится все это безумие. Решение отправить их куда-нибудь было мудрым и верным, но внутренний голос нашептывал ему, что этого делать не следует. У него было предчувствие — или уверенность? — что убийца придет не за ним, а за Линдзи и Региной. И, если они — Линдзи с Региной — уедут, этот маньяк последует за ними, а Хатч, оставшись один, станет ждать с ним встречи, которая может никогда и не состояться. Ну что ж, в таком случае им не стоит разлучаться. И всей семьей, всем до единого, либо погибнуть, либо выйти из всего этого победителями. Перед тем как отправиться забирать Регину из школы, он медленно обошел вокруг дома, проверяя надежность своих оборонительных систем. Единственной в них лазейкой оказалось плохо прикрытое окно на задней стене гаража. Шпингалет там был сильно разболтан, и Хатч давно уже собирался починить его, но все руки не доходили. Достав из ящика в гараже инструменты, он рьяно принялся за работу, и через некоторое время шпингалет плотно сидел в своем гнезде. Как он уже говорил Линдзи, у него не было полной уверенности, что убийца из видений придет именно сегодня ночью — может, это случится через неделю, месяц или даже больше, но он обязательно придет. И когда бы это ни произошло — через несколько дней или недель, — лучше быть готовым к его визиту во всеоружии.Глава 2
Вассаго проснулся. Даже не открывая глаз, он почуял, что ночь уже близко. Что давящее солнце медленно скатывается за горизонт, покидая мир. И когда наконец открыл глаза, последние тающие отблески света на чердаке подтвердили его уверенность, что очень скоро землю окутает ночная мгла.Хатч понимал, как совсем нелегко вести нормальную семейную жизнь, в любой момент ожидая наполненного ужасами и кровью наваждения, причем настолько сильного, что на какое-то время оно полностью вытесняло собою действительность. Невыносимо тяжко было сидеть в домашней уютной столовой, улыбаться, с аппетитом уплетать сдобу с пармезаном, шутить, стремясь вызвать улыбку девчушки с серьезными серыми глазами, когда мысли все время вертелись вокруг припрятанного в углу за ширмой заряженного автомата или положенного в кухне, на холодильнике, вне поля зрения ребенка, пистолета. Занимал его мысли и вопрос, каким образом черный человек проникнет в дом, когда придет. Вероятнее всего, это произойдет ночью. На охоту тот всегда выходил по ночам. Нечего было опасаться его визита в то время, когда кто-либо из них отправлялся за Региной в школу. Ну а если он придет вечером, когда никто из них еще не будет спать и везде будет гореть свет, и позвонит или постучит в дверь, надеясь в столь благоприятное для визитов время застать их врасплох, так как они могут подумать, что к ним на огонек заглянул кто-то из соседей? Или он станет ждать, когда в доме погаснут огни и все улягутся спать, чтобы незамеченным проскользнуть через их передовые позиции и неожиданно напасть с тыла? Хатч пожалел, что не установил в доме охранную сигнализацию, подобную той, какая была установлена в его магазине. Когда после смерти Джимми они продали дом и переехали на новое место, надо было сразу позвонить Бринксу. Антиквариат украшал каждую комнату их дома. Но долгие годы после того как смерть выкрала у них самое драгоценное, их сына, им было совершенно безразлично, украдут ли у них что-нибудь — или все — из того, что украшало их дом. На протяжении всего обеда Линдзи вела себя как настоящий, испытанный боевой друг. Она и глазом не моргнув уплела за обе щеки целую гору ригатони, словно у нее был зверский аппетит, чего Хатч, как ни старался, не смог сделать, и заполняла беспрестанной и вполне естественно звучавшей болтовней часто возникавшие у него длинные мрачные паузы, короче, делала все, что могла, чтобы сохранить видимость и дух обычного вечера в кругу семьи. Регина оказалась достаточно наблюдательной, чтобы заметить, что в доме не все ладно. И хотя, как полагала, могла справиться почти с любой ситуацией, тем не менее, не будучи полностью уверенной в себе, истолковала их тревожное состояние как неудовлетворенность ею. Чуть раньше Хатч и Линдзи обсудили между собой, что они могут рассказать девочке о том положении, в котором оказались, чтобы без особой нужды не напугать ее. И пришли к единому мнению: ровным счетом ничего. Она жила у них только два дня. И не знала их настолько хорошо, чтобы они, не боясь до смерти напугать ее, могли обрушить на ее голову столь страшную новость. Стоит им только намекнуть ей о странных сновидениях Хатча, о галлюцинациях наяву, об обожженных страницах журнала, об убийствах — словом, обо всем, что происходит с ними, — она подумает, что ее точно сбагрили на руки двум чокнутым. В любом случае, на этой стадии развития событий ребенку вообще ничего не следует говорить. Они сумеют, если понадобится, защитить ее, ведь именно это они клялись делать, когда брали ее к себе в дом. Хатч с трудом мог теперь поверить, что всего три дня тому назад считал проблему своих частых кошмаров недостаточно серьезной, чтобы откладывать на неопределенное время испытательный срок на усыновление ребенка. Но тогда, правда, еще были живы Хоунелл и Купер и сверхъестественные силы служили только материалом для развлекательного кино или рассказов в «Нэшнл Инкуайрер». В разгар обеда он услышал на кухне какие-то странные звуки. Сначала раздался щелчок, а потом легкое поскрипывание половиц. Линдзи и Регина были увлечены спором по поводу Нэнси Дрю, вымышленной девушки-детектива, «придурка», как утверждала Регина, либо уж чересчур умной, но несколько старомодной, если оценивать ее с современной точки зрения. Обе были так поглощены спором, что ничего другого не слышали, — а может, звуков вообще не было, и они ему только померещились. — Прошу прощения, — сказал Хатч, вставая из-за стола, — я вас покину на минутку. Толкнув двустворчатые, на шарнирах, двери и войдя в кухню, он подозрительно ее оглядел. Единственным движением в пустой комнате была струйка пара, тонкой спиралью поднимавшаяся вверх из-под плохо прикрытой крышки кастрюльки с горячим соусом для спагетти, которая стояла на керамической подставке на стойке рядом с печью. Вдруг что-то мягко зашлепало в комнате отдыха, по форме напоминавшей букву «Г» и выходившей торцом на кухню. С того места, где стоял, Хатч мог видеть только часть комнаты. Неслышными шагами он быстро пересек кухню и прошел под сводчатой аркой, не забыв прихватить с холодильника лежавший на нем браунинг. Комната для семейного отдыха тоже была пуста. Но Хатч был уверен, что в этот раз действительно слышал звуки. Застыв на месте, он с недоумением огляделся. Вдруг его словно мороз по коже пробрал, и он резко обернулся к небольшому переходу, соединявшему комнату отдыха с передней. Никого. Он был один. Но отчего же у него такое ощущение, что кто-то прижал к его шее кусок льда? Он осторожно двинулся по переходу, пока не дошел до стенного шкафа для верхней одежды. Дверь шкафа была закрыта. На противоположной стороне перехода находилась дамская туалетная комната. Дверь в нее тоже была заперта. Его тянуло пройти в переднюю, и внутренний голос нашептывал ему, что это надо сделать обязательно, но он боялся оставить у себя за спиной обе эти закрытые двери. Рванув на себя дверь шкафа, он тотчас увидел, что тот пуст. С выставленным впереди себя пистолетом, направленным на пару мирно висевших на вешалках пальто, он почувствовал себя полным идиотом, разыгрывающим роль киношного детектива. Будем надеяться, мелькнуло у него в голове, что это не заключительная серия фильма. Хотя в некоторых кинофильмах, если того требует сюжет, положительного героя убивают еще до конца кинокартины. Таким же манером Хатч проверил дамскую туалетную комнату и, убедившись, что и она пуста, двинулся дальше в переднюю. Странное ощущение чьего-то присутствия, однако, не покидало его, хотя и не было таким сильным, как вначале. В передней тоже никого не оказалось. Он быстро взглянул на лестницу, но и там ничего подозрительного не заметил. Заглянул в гостиную. Никого. Через сводчатую арку в конце гостиной просматривался краешек обеденного стола. И, хотя до него доносились голоса Линдзи и Регины, все еще обсуждавших Нэнси Дрю, он их не видел. Проверил «логово», также выходившее в переднюю. Проверил и стенной шкаф в «логове». И даже пошарил рукой под письменным столом. В передней толкнул входную дверь. Она была, как и положено, заперта изнутри. Плохо дело. Если он уже сейчас такой взвинченный, то что же будет с ним завтра или, того хуже, через неделю? По утрам Линдзи, видимо, придется отдирать его от потолка, чтобы напоить кофе. Тем не менее, пройдя обратно весь свой прежний маршрут, он задержался в комнате отдыха, чтобы проверить, плотно ли закрыта стеклянная дверь, выходившая во внутренний дворик, соединенный с задним двором. Дверь была заперта на ключ, и в нижнюю направляющую, по которой она двигалась, был вложен стальной брусок, чтобы застопорить ее, если будет взломан замок. Войдя в кухню, Хатч подошел к двери, ведущей в гараж. Она оказалась незапертой, и опять у него возникло странное ощущение, словно по голове у него ползают пауки. Тихонько отворил дверь. В гараже было темно. Ощупью нашел выключатель. Несколько больших трубок дневного света залили гараж морем резкого яркого огня, напрочь лишив его всякой тени и не обнаружив при этом ничего из ряда вон выходящего. Переступив порог, он плотно прикрыл за собой дверь. Осторожно ступая, двинулся вдоль гаража. Справа от него находились двустворчатые, открывающиеся вверх ворота, слева — повернутые к нему багажниками две машины. Средняя стоянка была пуста. Резиновые подошвы его «роккпортов» бесшумно скользили по полу. Он надеялся неожиданно напасть с тыла на того, кто мог бы прятаться по другую сторону любой из двух машин, но там никого не оказалось. Дойдя до конца гаража и зайдя за «шеви», он внезапно бросился на пол и заглянул под машину. С этой точки просматривался почти весь гараж. Ни под «шеви», ни под «мицубиси» никто не прятался. Насколько он мог судить, если исключить почти невероятную возможность надежно укрыться за каким-либо из колес, никто не убегал от него, кружа и прячась за машинами. Встав на ноги, Хатч подошел к двери в задней стене. Она вела во двор и запиралась изнутри на ключ. Дверь была заперта. Пробраться внутрь дома отсюда было невозможно. Вновь подойдя к двери на кухню, он не вошел в нее, а остался в гараже. Обшарил два самых крупных, способных вместить в себя взрослого человека, шкафчика для хранения инструментов. Оба были пустые. Проверил оконный шпингалет, который починил утром. Тот плотно сидел в своем гнезде. И опять почувствовал себя идиотом. Взрослый мужчина, а ведет себя хуже мальчишки, воображая себя киногероем. Интересно, а как быстро он смог бы отреагировать, если бы в одном из шкафчиков действительно кто-нибудь прятался и, когда он открыл бы дверцу, бросился на него? Или если бы он, плюхнувшись на пол, чтобы заглянуть под «шеви», оказался лицом к лицу с мужчиной в черном? Хорошо, что ему не понадобилось получить исчерпывающие ответы ни на первый, ни на второй из этих диких вопросов. Но, задав их себе, Хатч, по крайней мере, перестал ощущать себя идиотом, так как человек в черном мог и впрямь там затаиться. Рано или поздно, но этот ублюдок обязательно придет. Уверенность Хатча в неизбежности схватки с ним была непоколебимой. Называйте это как угодно: предчувствием, интуицией, назовите хоть рождественской индейкой, но он был уверен, что на этот счет может вполне доверять своему внутреннему голосу. Когда Хатч огибал спереди «мицубиси», то обратил внимание на небольшое пятнышко на капоте, похожее на вмятину. Остановился в полной уверенности, что это игра света или тень от шнура, свисавшего с люка на потолке. Шнур висел прямо над капотом. Он резко качнул его, но пятнышко на машине не заплясало вместе с качающимся шнуром, как если бы было его тенью, а осталось неподвижным. Перегнувшись через решетку радиатора, он дотронулся пальцами до гладкой поверхности металла и ощутил, что она чуть примята. Вмятина была неглубокой, но достаточно большой, с ладонь. Он тяжело вздохнул. Машина была совершенно новой, а уже надо было ее везти в ремонтную мастерскую. Стоит только на новенькой машине, купленной лишь час назад, отправиться в торговый центр, как какой-нибудь болван обязательно остановит рядом с твоей свою машину и шлепнет ее своей дверцей. По закону подлости. Странно, что он не заметил этой вмятины ни после поездки в магазин за оружием, ни после того, как привез из школы Регину. Может быть, ее не видно изнутри машины, если смотреть на нее с места водителя; а может быть, для того чтобы ее увидеть, надо смотреть на нее только с определенной точки снаружи? Но, с другой стороны, вмятина достаточно большая, и, с какой бы стороны на нее ни смотреть, не увидеть ее просто невозможно. Пока Хатч стоял, размышляя, как она могла здесь появиться, — скорее всего, кто-то, проходя мимо машины, уронил на капот какой-нибудь тяжелый предмет, — он вдруг заметил след от ботинка. Слегка подернутые тонким слоем бежевой пыли, на красном фоне капота четко виднелись отпечатки подошвы и части каблука обуви, схожей с той, которую носил он сам. Кто-то встал ногой или прошелся по капоту «мицубиси». Скорее всего это произошло, когда машина стояла передшколой ев. Фомы, так как на такое мог решиться только ребенок, выставляясь, например, перед своими товарищами. Выехав намного раньше положенного срока, чтобы не попасть в затор, Хатч подъехал к школе за двадцать минут до окончания занятий. Вместо того чтобы дожидаться в машине, решил немного пройтись, чтобы размяться и сбросить нервное напряжение. В это время какой-нибудь недоросль из старших классов — след был слишком велик для младшеклассника — со своими дружками, рванув с уроков чуть раньше звонка, куражились друг перед другом, прыгая или перелезая через преграды на своем пути, вместо того чтобы обходить их, словно вырвались из тюрьмы на свободу и за ними гнались овчарки… — Хатч? Прерванный в тот самый момент, когда в рассуждении наметился какой-то положительный сдвиг, он резко обернулся в сторону голоса, словно услышал его впервые. В дверях, соединявших кухню с гаражом, стояла Линдзи. Взглянув на пистолет в его руке, посмотрела ему прямо в глаза. — Что-нибудь случилось? — Показалось, что кто-то ходит по дому. — И? — Никого не обнаружил. Ее появление было настолько неожиданным, что у него напрочь вылетели из головы и вмятина, и след от ботинка на капоте. Направившись к ней и подойдя к двери, Хатч ворчливо заметил: — Дверь почему-то оказалась открытой. А ведь я, помнится, запер ее. — Ах да! Регина забыла в машине одну из своих книг, когда вернулась из школы. Как раз перед обедом она сходила за ней. — Надо было проверить, заперла ли она ее за собой. — Но ведь это же внутренняя дверь, — попыталась оправдаться Линдзи, направляясь прямо в столовую. Он остановил ее, положив руку на плечо, и повернул к себе лицом. — Речь идет о нашей безопасности, — раздельно произнес он, и в голосе его прозвучала гораздо большая тревога, чем того требовал столь незначительный недосмотр. — Разве выходы из гаража открыты? — Закрыты, и этот тоже должен быть закрыт. — Но ведь нам то и дело приходится бегать в гараж и обратно. — В гараже у них стоял второй холодильник. — Не станем же мы всякий раз запирать за собой дверь на ключ. Мы всегда держали ее открытой. — А теперь не будем, — жестко проговорил он. Они стояли лицом к лицу, и она испытующе поглядела ему в глаза. Он знал, о чем она думает: что, пытаясь удержаться на тонкой грани между мерами необходимой безопасности и истерией, он часто скатывается в сторону последней. С другой стороны, не ей же приходится переживать эти кошмарные сны и видения наяву. Видимо, та же мысль пришла в голову и Линдзи, так как она согласно кивнула головой. — Хорошо. Прости меня. Ты прав. Он потянулся через дверь назад в гараж, выключил свет. Закрыл за собой дверь, запер ее на ключ, но ощущения, что опасность им больше не грозит, не испытал. Линдзи снова двинулась к столовой. Оглянулась, когда почувствовала, что он идет вслед за ней, и указала на пистолет. — Ты что, собираешься взять его с собой в столовую? Решив, что и так обошелся с ней слишком резко, Хатч, чтобы как-то разрядить обстановку, отрицательно замотал головой и выпучил глаза, состроив гримасу в духе комика Кристофера Ллойда. — Думаю, дай захвачу, а вдруг некоторые из моих ригатони еще живы. Не могу их есть в таком виде. — Но для этих целей у тебя за ширмой лежит автомат, — напомнила она ему. — Ты права, как всегда! — он положил пистолет на холодильник. — А если он не поможет, я всегда могу вынести их на проезжую часть и переехать автомобилем! Она толкнула двери, и Хатч вслед за нею прошел в столовую. Регина посмотрела на него снизу вверх и сказала: — У вас ригатони уже совсем холодные. Все еще сохраняя на лице маску Кристофера Ллойда, Хатч бойко отреагировал: — Тогда бегу, притащу им фуфайки и рукавицы! Регина залилась звонким смехом. Хатчу ужасно нравилось, как она смеется.
После того как была перемыта вся посуда, Регина отправилась в свою комнату готовить уроки. — Завтра контрольная по истории, — объявила она. Линдзи вернулась обратно в свою студию, чтобы сделать хоть какой-нибудь набросок. Когда она уселась за рисовальную доску, то заметила второй браунинг. Он все еще лежал на низком шкафчике, куда его утром положил Хатч. Линдзи сердито нахмурилась. Но не потому, что была принципиально против всякого оружия, а потому, что данное оружие было не просто пистолетом. Оно было символом их беспомощности перед грозящей им невесть откуда опасностью. То, что они ни на секунду не смеют расстаться с оружием, свидетельствовало об их отчаянии и неспособности распоряжаться собственной судьбой. Заметь Линдзи на шкафчике свернувшуюся змею, выражение на ее лице было бы гораздо менее хмурым и недовольным. Она не хотела, чтобы Регина, войдя в студию, заметила пистолет. Выдвинув верхний ящик шкафчика, Линдзи отодвинула в сторону несколько ластиков и карандашей, освобождая место для оружия. Браунинг едва поместился в этой неглубокой выемке. Задвинув ящик на место, она почувствовала себя свободнее. За весь день, с утра и по настоящий момент, она толком так и не смогла приступить к работе. Ни один из множества сделанных ею набросков не удовлетворял ее. До сих пор не было ничего стоящего, что она могла бы перенести на холст. Правильнее было бы сказать, на мазонит. Она, как и многие современные художники, писала свои картины на мазоните, но всякий раз про себя называла каждый новый чистый четырехугольник мазонита холстом, словно была художником из другой эпохи с характерным для того времени типом мышления. Помимо этого, вместо масляных красок Линдзи пользовалась акриловыми. Мазонит в отличие от холста не старел со временем, а акриловые краски лучше, чем масляные, сохраняли свежесть цвета. Но, если ей сейчас же не придет в голову хоть какая-нибудь идея, то не будет никакой разницы, чем она пользуется, акриловыми красками или кошачьей мочой. Какой же она тогда художник! Взяв толстый угольный карандаш, Линдзи склонилась над раскрытым перед ней на рисовальной доске альбомом. Попыталась вызвать в себе вдохновение и заставить его отодрать свою толстую задницу от насиженного места. Не прошло и минуты, как взгляд ее от белого листа бумаги заскользил все выше и выше, пока она опять не уставилась на окно. Но там не было ничего интересного, что могло бы развлечь ее, — ни легонько покачивающихся на ветру верхушек деревьев, ни голубого, как лазурь, клочка неба. Ночь сделала окно совершенно невыразительным. Сплошной черный фон превратил оконное стекло в зеркало, в котором отразилась она сама, глядящая туда поверх рисовальной доски. А так как зеркало это было не настоящим, отражение ее казалось каким-то прозрачно-призрачным, словно она, умерев, возвратилась обратно на то место, где рассталась с жизнью. Обеспокоенная и напуганная этой мыслью, она снова уставилась на разложенный перед ней чистый лист ватмана.
* * *
После того как Линдзи и Регина разошлись по своим комнатам наверху, Хатч обошел весь первый этаж дома, проверяя, прочно ли закрыты все окна и двери. Ранее он уже проверил все замки и запоры. Делать это второй раз было бессмысленно. Но он все равно делал. Когда дошел до раздвижной двери комнаты отдыха, включил свет во внутреннем дворике в дополнение к садовой подсветке. Теперь задний двор был освещен так ярко, что просматривался почти весь, хотя можно было спрятаться в кустах у забора. Некоторое время Хатч постоял у дверей, выжидая, когда какая-нибудь тень сдвинется со своего места в какой-либо из точек участка. Может быть, он ошибался. Может быть, этот парень и вовсе не придет. Тогда через месяц-другой Хатч наверняка сойдет с ума от напряжения. У него даже мелькнула мысль, что хорошо бы было, если бы этот ползучий гад заявился сейчас, чтобы уж разом все кончить. Он прошел в нишу, где обычно завтракали, и проверил окна там. Они были наглухо закрыты.Регина, войдя к себе в комнату, аккуратно разложила на письменном столе все необходимое для выполнения домашнего задания. С одной стороны промокашки она положила книги, с другой — ручки и фломастер «Хай-Литер», посередине — тетрадку. Когда на столе все было готово, ее стали одолевать сомнения относительно Харрисонов. Что-то с ними было явно неладно. Не в том смысле неладно, что они были ворами, или вражескими шпионами, или убийцами, или людоедами, поедавшими детей. Одно время она носилась с идеей романа, в котором девочка — все считают ее «чокнутой» — попадает в дом новых приемных родителей и узнает, что они действительно людоеды, и в подвале их дома обнаруживает целую кучу детских костей, а на кухне тетрадь для записи кулинарных рецептов, содержащую, например, такие записи: «КЕБАБ ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ» или «СУП ИЗ ДЕВОЧКИ» и описания рецептов типа: «Взять одну нежную маленькую девочку, не солить; одну луковицу, нарезать; один фунт моркови, нарезать в форме кубиков…» В романе девочка сообщает обо всем властям, но те ей не верят, так как она слывет за «чокнутую» и выдумщицу разных небылиц. Но то в романе, а здесь реальная жизнь, и Харрисоны вроде бы с удовольствием поедали и пиццу, и макароны, и гамбургеры. Она щелкнула выключателем, и на столе вспыхнула лампа дневного света. И хотя с самими Харрисонами все было в порядке, им явно мешали спокойно жить какие-то проблемы, все время державшие их в нервном напряжении, которое они изо всех сил старались скрыть от нее. Может быть, у них нет денег на оплату счетов по закладным и банк грозится отобрать у них дом, тогда им всем троим придется переехать жить в ее комнату в Приют. Может быть, им стало известно, что у миссис Харрисон объявилась родная сестра, о которой она и слыхом не слыхала, злая сестра-близнец, как у тех людей, которых часто показывают по телевизору, даже не подозревающих о том, что у них есть такая близкая родня. Или, может, они брали под проценты деньги у мафии, а теперь не могут выплатить долги, и те грозятся переломать им ноги. С книжных полок Регина взяла словарь и положила его на стол. Если у них и вправду серьезные проблемы, Регине хотелось, чтобы это было связано с мафией, так как с такого рода трудностями она легко могла бы справиться. Ноги у Харрисонов в конце концов заживут, но зато они получат наглядный урок, что не следует брать деньги в долг у вымогателей. А пока она будет ухаживать за ними, смотреть, чтобы они вовремя принимали лекарства, мерить им температуру, приносить каждому из них по целому блюду мороженого с выпечкой в виде какого-нибудь забавного зверька, воткнутого прямо посредине блюда, и даже выносить за ними судна (бр-р-р, какая мерзость!), если понадобится. Она знала, что значит ходить за больным, правда, большей частью с другой, принимающей этот уход, стороны, так как в различные периоды своей жизни довольно много болела. (Дорогой Боженька, если их проблема — это я, не мог бы Ты сделать так, чтобы вместо этого они задолжали деньги мафии, тогда я бы смогла остаться у них и все мы были бы счастливы? А за это чудо, я согласна, чтобы и мне переломали ноги. Во всяком случае, переговори там с ребятами из мафии и посмотри, что они на это скажут.) Когда на столе все было готово к выполнению домашнего задания, Регина решила переодеться в более удобную для приготовления уроков одежду. Приехав после школы домой, она сменила свою приходскую школьную форму на серые вельветовые брюки и светло-зеленую водолазку. Удобнее всего делать уроки в пижаме и халатике. К тому же сразу в нескольких местах зачесалась больная нога под скобой и хотелось поскорее ее снять. Отодвинув раздвижную зеркальную дверь стенного шкафа, Регина оказалась лицом к лицу с сидящим там на корточках мужчиной, одетым во все черное, в напяленных на глаза черных очках.
Глава 3
Снова комнату за комнатой обходя весь первый этаж дома, Хатч поочередно выключал в них освещение: лампы, торшеры, люстры. С включенным внешним светом и выключенным внутренним ему будет легче обнаружить крадущегося к дому убийцу, самому оставаясь при этом незамеченным. Завершил он свое «патрулирование» в неосвещенном «логове», которое решил сделать боевым постом номер один. Сидя там в темноте за большим столом, он через двустворчатые двери сможет наблюдать почти за всей передней и нижней частью лестницы, ведущей на второй этаж. Если же будет предпринята попытка пробраться в дом через окно «логова» или через стеклянную дверь, выходящую в садик с розами, он узнает об этом сразу же. Если незваный гость проникнет в дом через другую комнату, Хатч накроет его, когда тот попытается подняться на второй этаж по лестнице, освещаемой люстрой, висевшей над верхней площадкой, куда выходил коридор. «Логово», таким образом, оказывалось наиболее удобным со стратегической точки зрения опорным пунктом, так как не мог же он одновременно быть сразу в нескольких местах. Автомат и пистолет он положил на стол прямо перед собой, чтобы в случае надобности до них легко было дотянуться. Он их почти не различал в темноте, но мог быстро схватить любой из них. Сидя на своем вращающемся стуле и неотрывно глядя перед собой в переднюю, он немного потренировался, стремительно выбрасывая вперед руку и хватая попеременно то браунинг, то «моссберг», браунинг, браунинг, «моссберг», браунинг, «моссберг», «моссберг». И ни разу, может быть, оттого, что был напуган, не ошибся: правая рука точно ложилась либо на рукоятку браунинга, либо на ложе «моссберга», в зависимости от того, что он заказывал себе выбрать в то или иное мгновение. Однако удовлетворения от этой своей сноровки Хатч не испытывал, так как понимал, что выдержать такое нервное напряжение в течение двадцати четырех часов в сутки все семь дней в неделю ему не под силу. Нужно было и поспать и поесть. Сегодня он не поехал в магазин и еще может не ездить туда пару деньков, но нельзя же бесконечно перекладывать всю работу на плечи Гленды; когда-то же и ему следует начать работать. А трезво оценивая обстановку, можно с уверенностью предсказать, что даже с перерывами на сон и еду эффективность его как сторожа спустя некоторое время все равно резко пойдет на спад еще до того, как он снова приступит к работе. Непрерывное состояние умственной и физической боевой готовности вконец измотает его. Со временем придется, видимо, нанять одного или двух охранников из частной фирмы, однако, во-первых, Хатч понятия не имел, во сколько им это обойдется. Но самое главное, он не был уверен в надежности таких наемных охранников. С другой стороны, он чувствовал, что ему вообще не придется принимать это решение, так как скорее всего этот подонок не заставит себя долго ждать и вот-вот заявится, может быть, даже сегодня. Где-то на самом глубоком уровне подсознания, который каким-то мистическим образом соединял его с этим человеком, Хатч ощущал его намерения. Аналогом механизма этой связи была детская игра в телефон, во время которой слова, произносимые ребенком в приложенную ко рту пустую консервную банку, по бечеве передаются в другую пустую консервную банку, где воспроизводятся в виде неясных, расплывчатых звуков, теряя при этом из-за ненадежности проводника в смысловой наполненности, но неизменно сохраняя основную интонацию. Передаваемое по психической бечеве сообщение было неразборчивым, но общий смысл его сводился к следующему: Я приду… я приду… я приду… Когда часы пробьют полночь. У Хатча возникла вдруг полная уверенность, что схватка произойдет сегодня в самую глухую пору ночи, незадолго до рассвета. Сейчас его часы показывали 19 часов 46 минут. Из кармана брюк он вытащил кольцо с ключами, ощупью отыскал ключ от стола, который недавно повесил на кольцо, открыл ящик и вытащил из него пожелтевший от огня и пропахший дымом «Артс Америкэн», оставив кольцо с ключами в замке ящика. В темноте зажал журнал между ладонями в надежде, что тот, как талисман, усилит его магическое видение и поможет ему выяснить более точно, когда, где и каким образом убийца собирается проникнуть в дом. Смешанные запахи пожарища — некоторые настолько сильные, что вызывали тошноту, другие едва различимые — ударили ему в нос с опаленных ломких страниц.Вассаго выключил настольную лампу. Подойдя к двери, выключил верхний свет в комнате девочки. Взявшись за ручку двери, замер в нерешительности, не в силах уйти от ребенка. Девочка была так изумительно хороша собой, наполненная такой кипучей, такой властной энергией жизни. Он всем естеством своим ощутил это, когда прижал ее к своей груди, понял, что наконец обладает сокровищем такого масштаба, которое достойно завершит его коллекцию и откроет ему дорогу в вечность. Одной рукой в перчатке сдавив ей горло и погасив ее испуганный вскрик другой, он рванул ее к себе в шкаф и крепко прижал к груди. С такой силой и яростью обнимал он ее, что она не могла пошевелить ни рукой, ни ударить по чему-нибудь ногой, чтобы позвать на помощь. Когда в его руках она потеряла сознание, он и сам уже был почти в полуобморочном состоянии от страстного желания тут же прикончить ее. Прямо в шкафу. На этих мягких кучах из попадавших на них с вешалок платьев и других тряпок, отдающих запахом свежевыстиранной ткани и крахмала. В уютном тепле шерстяных изделий. А девочку… Ах, как страстно желал он свернуть ей шейку и ощутить, как ее убывающая жизнь течет по жилам его мощных рук, растекаясь по его телу, и через него вытекает в землю мертвых. Он так долго боролся с этим могучим порывом, что действительно чуть не задушил ее. Она уже не издавала никаких звуков и была совершенно неподвижна. Когда он наконец отнял руку от лица Регины, первой его мыслью было, что он все-таки задушил ее. Но, когда приставил ухо к ее губам, услышал и ощутил дыхание. А прижатая к ее груди ладонь была вознаграждена хоть и медленным, но равномерным и сильным биением ее сердца. Теперь, глядя на девочку, Вассаго поборол в себе желание немедленно убить ее, обещая себе, что еще до наступления рассвета получит это удовольствие. А сейчас необходимо все его мастерство. И выдержка. Железная выдержка. Приоткрыв дверь, он внимательно оглядел коридор. Никого. В конце коридора на верхней площадке лестницы перед входом в другую комнату висела люстра, заливая все вокруг слишком ярким для его незащищенных очками глаз светом. Но и в очках все равно приходилось щуриться. Он не станет убивать ни ребенка ни его мать, пока обе не будут привезены в его музей мертвых, где он привык умерщвлять новые приобретения своей коллекции. Теперь он понял, что так тянуло его к Линдзи и Регине. Мать и дочь. Блядь и мини-блядь. Чтобы вновь восстановиться в Аду, он должен совершить то же самое, что в свое время обеспечило ему вечное проклятие: одновременно убить мать и ее дочь. А так как у него не было больше на свете другой родной матери и сестры, в качестве замены ему были назначены Линдзи и Регина. Стоя в дверях, он прислушался к дому. Нигде ни звука. Он знал, что художница была не настоящей матерью девочки. Чуть раньше, когда Харрисоны еще сидели в столовой, он проскользнул в дом из гаража и от нечего делать занялся осмотром комнаты Регины. Там среди множества разных безделушек он обнаружил дешевые программки театральных постановок благотворительных пьес, в которых девочка принимала участие, исполняя небольшие роли, с напечатанным на них названием приюта. Но все равно девочка и ее приемная мать неудержимо влекли его к себе, а властелин его собственной души, видимо, ничего не имел против такого подношения. В доме так тихо, что ступать придется предельно осторожно и бесшумно, как это умеют делать только кошки. Ну что ж, за ним дело не станет. Вассаго снова взглянул на девочку на кровати, различая ее в темноте гораздо лучше, чем залитые светом детали коридора. Она все еще была без сознания, с торчащим изо рта кляпом — одним из ее шарфиков — и обвязанным вокруг ее головы другим шарфиком, чтобы удерживать импровизированный кляп на месте. Крепкие бечевки, которые он подобрал на чердаке, сняв их с коробок, туго стягивали ее запястья и голени. Главное, железная выдержка. Оставив позади себя дверь в комнату Регины открытой, он двинулся вперед по коридору, стараясь держаться ближе к стене, надеясь, что в этих местах пол из клееной фанеры, полностью скрытый ковром, будет меньше скрипеть. Он знал, где что находится. Пока Харрисоны обедали, он осторожно обследовал весь второй этаж. Рядом с комнатой девочки была спальня для гостей. Там сейчас никого не было. Путь его лежал прямиком к студии Линдзи. Так как люстра находилась спереди, тень от него падала назад, что было весьма кстати. В противном случае, если бы Линдзи случайно взглянула в сторону коридора, то увидела бы его приближение. Подкравшись к двери студии, Вассаго остановился. Прижавшись спиной к стене и глядя прямо перед собой, он мог видеть в промежутке между балясинами лестничных перил часть передней. Насколько можно было судить, на первом этаже свет не горел нигде. Непонятно, куда девался муж. Дверь спальни супругов была отворена, но внутри никого не было. Из студии же доносились шорохи и неясный звук, и он понял, что женщина там была занята работой. Если бы муж находился в студии вместе с ней, за то время, что Вассаго пробирался по коридору, они наверняка перебросились бы хоть парой фраз. Он очень надеялся, что мужа дома нет — вышел с каким-нибудь поручением. Ему не было нужды убивать его. К тому же не было уверенности, что смог бы с ним справиться, доведись им схватиться один на один. Из кармана куртки Вассаго достал наполненный свинцовой дробью мешочек из мягкой кожи, изъятый им на прошлой неделе у Мортона Редлоу, детектива. Это было отличное оружие. Приятно было ощущать его в руке. В жемчужно-серой «хонде», припаркованной за два квартала от дома, под водительским сиденьем лежал пистолет, и Вассаго пожалел, что не прихватил его с собой. Пистолет ранее принадлежал Роберту Лоффману, антиквару, у которого он отобрал его за несколько часов до наступления рассвета. Но у него и в мыслях не было стрелять в женщину или девочку. Даже если бы он только ранил или покалечил их, они могли бы истечь кровью и умереть до того, как он доставит их в свое убежище, а затем снесет вниз, в музей смерти, к алтарю, вокруг которого он располагал свои подношения. А если бы пришлось убирать с дороги супруга, он не мог бы позволить себе больше одного, в крайнем случае, двух выстрелов. Открой он пальбу, ее тотчас услышат соседи и с ходу поймут, откуда она доносится. И не пройдет и двух минут, как весь этот тихий район будет буквально напичкан полицейскими. Свинчатка была куда надежнее и безопаснее. Он взвесил ее в правой руке, чтобы определить тяжесть. Осторожно прислонился к дверному косяку, чуть наклонил голову вперед. Заглянул в студию. Она сидела на табурете, спиной к двери. Он сразу узнал ее, даже со спины. Сердце его забилось почти с такой же быстротой, как и тогда, когда в руках его затрепыхалась и затем быстро затихла, потеряв сознание, девчушка. Перед Линдзи стояла рисовальная доска, в правой руке она сжимала угольный карандаш. Вся, вся, вся без остатка погруженная в работу. Карандаш со змеиным шипением быстро летал по листу бумаги.
Независимо от ее желания ни в коем случае не отвлекаться от лежащего перед ней листа чистой бумаги, Линдзи то и дело вскидывала глаза к окну. По-настоящему творить она начала лишь только тогда, когда, уступив странному наваждению, принялась наконец рисовать это самое окно. Голая рама без всяких занавесок. За нею густая темень ночи. Ее лицо, словно призрачный лик, отраженное в стекле. Когда в правом верхнем углу она пририсовала паутину, начал выкристаллизовываться замысел, и ее охватило возбуждение творчества. Она назовет картину «Паутина Жизни и Смерти», а для того чтобы тема эта зазвучала более определенно, по всему пространству холста разместит различные сюрреалистические символы. Только не холста, а мазонита. А пока вообще чистого листа бумаги, на котором только собирается сделать первый набросок, но замысел вроде бы неплохой, стоит того, чтобы над ним поработать. Она переместила лист на доске, установив его намного выше прежнего положения. Теперь ей надо было только чуть приподнять глаза от листа, чтобы поверх доски увидеть окно, а не всякий раз высоко задирать, а затем низко склонять голову. Чтобы придать картине интерес и глубину, недостаточно изобразить на ней только ее лицо, окно и паутину, нужны еще какие-нибудь дополнительные детали. Работая над эскизом, она перебрала в уме около двух десятков различных вариантов и деталей и всеми ими осталась недовольна. Затем в стекле, прямо над ее отражением, словно по мановению волшебной палочки, возник искомый образ: лицо, которое Хатчу являлось в его кошмарных сновидениях. Бледное. С копной черных волос. В темных, солнцезащитных очках. На какое-то мгновение ей показалось, что это сверхъестественное видение — действительно галлюцинация. Она едва не задохнулась от неожиданности, как вдруг сообразила, что смотрит на такое же отражение в стекле, как и ее собственное, и что убийца из кошмаров Хатча каким-то образом пробрался незамеченным в их дом и, прислонившись к дверному косяку, в упор разглядывает ее. Линдзи с трудом подавила в себе желание закричать от ужаса. Как только он поймет, что она заметила его, она потеряет то небольшое преимущество, которым сейчас обладала, и он тотчас набросится на нее и разорвет на мелкие кусочки задолго до того, как Хатч успеет сделать первый шаг к лестнице. Поэтому она нарочито громко вздохнула и недовольно покачала головой, словно была удручена тем, что набросала на листе бумаги. Хатча уже могло не быть в живых. Медленно, словно нехотя, она опустила руку с карандашом, но из пальцев его не выпустила, будто намереваясь снова продолжить работу. Если Хатч жив, то как же этот подонок смог незамеченным пробраться на второй этаж? Нет. Нельзя и мысли допустить, что Хатч мертв, иначе она сама погибнет, а затем погибнет и Регина. Господи, Регина! Она протянула руку к верхнему ящику шкафчика рядом с собой, и, когда дотянулась до холодной хромированной ручки, по телу ее пробежала мелкая дрожь, как в ознобе. В отраженной в стекле двери убийца уже не опирался больше о косяк, никого и ничего не опасаясь, совершенно бесшумно, как призрак, он уже скользнул в комнату. Вот он застыл на месте, самонадеянно уставившись на нее, очевидно, смакуя это мгновение. Если бы Линдзи случайно не заметила его отражение в стекле, она ни за что бы не догадалась, что он стоит у нее за спиной. Она открыла ящик, пальцы ее сомкнулись на рукоятке пистолета. За ее спиной он пришел в движение. Она выхватила из ящика тяжелый браунинг и одним движением, обеими руками обхватив рукоятку и развернувшись на табурете, направила дуло прямо в грудь убийце. Она бы не удивилась, если бы не обнаружила его сзади, что только лишний раз подтвердило бы ее первое впечатление, что он — игра ее воспаленного воображения. Но он был там, успев сделать всего лишь один шаг от двери в ее сторону до того, как она направила на него пистолет. — Не двигаться, тварь, — выдавила она хрипло. Но не успела произнести эти слова, как он — то ли заметив в ней нерешительность, то ли ему просто-напросто было наплевать, выстрелит она в него или нет, — тотчас же отпрянул назад к двери и скрылся в коридоре. — Стой, тебе говорят! Но он испарился. Линдзи без колебаний, без каких бы то ни было угрызений совести расстреляла бы его в упор, но он отпрыгнул так быстро, как кошка, молнией взлетающая на дерево, и ее пуля угодила бы только в дверной косяк. Громко призывая на помощь Хатча, она соскочила со своего табурета и бросилась к двери, за которой уже исчезал убийца, — ему оставалось убрать из комнаты только левую, обутую в черный ботинок ногу. Но на бегу внезапно остановилась, сообразив, что он мог никуда и не убежать, а остаться за дверью, выжидая момент, когда она сломя голову вылетит в коридор, и огреть ее сзади чем-нибудь тяжелым по голове, а затем сбросить через перила вниз. Но Регина! Нет, ждать нельзя. Он может схватить Регину. После секундного колебания она, подавив в себе страх, ринулась в коридор, не переставая звать на помощь Хатча. Выскочив в коридор, справа от себя, в дальнем его конце, заметила, что убийца бежит к двери, тоже почему-то открытой, комнаты Регины. Но света в комнате не было, а ведь Регина должна была там сидеть за уроками. У Линдзи не было времени остановиться и как следует прицелиться. И она уже почти нажала на спуск, чтобы начать стрелять не целясь в надежде, что хоть одна из пуль достанет этого подонка. Но в комнате Регины было темно, и неизвестно, где находилась девочка. Линдзи боялась, что не попадет в убийцу, а случайно может пристрелить Регину, посылая в темноту через отворенную дверь пулю за пулей. Поэтому она не стала стрелять, побежала вдогонку за убийцей, но теперь уже выкрикивая имя Регины, а не Хатча. Незнакомец скользнул в комнату девочки, захлопнул за собой дверь с такой силой, что в доме все задрожало. Секундой позже Линдзи, со всего маху ударившись о закрытую дверь, отлетела от нее прочь. Дверь была закрыта изнутри на запор. Вдруг до ее ушей донесся голос Хатча, звавшего ее, — слава богу, он жив, жив! — но она даже не повернулась, чтобы посмотреть, где он. Отойдя от двери, Линдзи изо всех сил пнула ее ногой, затем еще раз. Запор был слабеньким, он должен сломаться, но почему-то не поддавался. Она собиралась снова ударить в дверь ногой, как вдруг из комнаты донесся голос убийцы. Голос этот был громким — но не крикливым — хладнокровным и угрожающим, не было в нем ни паники, ни страха, звучал он спокойно, размеренно и по-деловому сухо: — Отойдите от двери, в противном случае за жизнь ребенка я не ручаюсь.
За несколько мгновений до того как Линдзи стала выкрикивать его имя, Хатч, сидя без света в «логове», обеими ладонями крепко стиснул «Артс Америкэн». Видение пронзило его мозг электрическим током, с шипением пробегающим по дуге, словно в руках у него был не журнал, а оголенный электрокабель под высоким напряжением. Он увидел Линдзи со спины, сидящую у себя в студии на высоком табурете, занятую набрасыванием эскиза. Но это уже была не Линдзи. Она вдруг превратилась в другую женщину, более крупную, тоже видимую со спины, но сидящую не на табурете, а в кресле, в комнате совершенно незнакомого дома. В руках у нее были спицы. Яркая нить медленно вытягивалась из клубка шерсти, намотанного на барабан, установленный на маленьком столике рядом с креслом. Хатч почему-то думал о ней, как о своей «маме», хотя к его собственной матери эта женщина не имела никакого отношения. Он взглянул на свою правую руку с зажатым в ней ножом, огромным, уже обагренным кровью. Вот он стал приближаться к креслу. Уже рядом с ним. Она и не подозревает о его присутствии. Как Хатчу, ему хочется закричать и предупредить ее об опасности, но, как тот, у кого в руке нож и чьими глазами он сейчас оценивает происходящее, ему хочется искромсать ее на куски, вырвать ее сердце и тем самым завершить деяние, которое навеки освободит его душу. Вот он подходит вплотную к спинке кресла. Она до сих пор ни о чем не подозревает. Поднимает руку с ножом, высоко, еще выше. Резко опускает ее. Вопль ужаса. Снова удар. Она пытается привстать с кресла. Он забегает спереди, а в ощущении это выглядит как неожиданная смена кинокадров, когда все вдруг резко приходит в движение, напоминающее полет птицы или летучей мыши. Толкает ее обратно в кресло, снова бьет. Она поднимает руки, пытается закрыться ими от ножа. Он снова бьет. Еще раз. И вдруг, как в фильме, он снова позади нее, стоит в дверях, но она уже больше не его «мама», а снова Линдзи, сидящая за рисовальной доской в своей студии, протягивающая руку к шкафчику и выдвигающая верхний ящик. С нее его взгляд перемещается на окно. В нем его отражение — бледное лицо, черные волосы, солнцезащитные очки. Он понимает, что она заметила его. Она резко поворачивается на табурете, в руке ее пистолет, дуло которого смотрит ему прямо в грудь… — Хатч! Звук его имени, эхом прокатившийся по дому, разрушил видение. Вздрогнув, он вскочил на ноги, и журнал вылетел из рук. — Хатч! Выброшенная вперед рука безошибочно нашла рукоять браунинга, и он молнией вылетел из «логова». Когда бежал через переднюю и вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, неотрывно смотрел туда, откуда доносился голос Линдзи, пытаясь понять, что там происходит, как вдруг она перестала звать его и крикнула: — Регина! Господи, только не девочка, ну пожалуйста, Господи, только не девочка! Опрометью взлетев на верхнюю лестничную площадку, Хатч сначала принял было за выстрел грохот захлопывающейся двери. Но звуки эти были слишком характерными, чтобы их можно было спутать, и, взглянув в конец коридора, он увидел, как Линдзи, ударившись всем телом о дверь комнаты Регины, отлетела в сторону. Хатч рванулся к ней. Она ударила в дверь ногой, еще раз: затем в тот момент, когда он уже подбегал к ней, она вдруг отпрянула от двери. — Дай-ка я, — крикнул он, рванувшись к двери. — Нет! Он пригрозил, что убьет ее, если я не отойду от двери. Хатч оторопело уставился на дверь, в буквальном смысле слова дрожа от негодования и досады. Затем ухватился за шарообразную дверную ручку и попытался ее повернуть. Она оказалась прижатой изнутри. Тогда он приставил дуло пистолета к основанию замка. — Хатч, — жалобно простонала Линдзи, — он убьет ее. Он вспомнил блондинку, убитую двумя выстрелами в упор, на ходу вылетевшую из машины и все катившуюся вслед за нею по шоссе, пока совсем не исчезла из виду в тумане. И несчастную мать, выпустившую из рук свое вязание, чтобы защититься ими от огромного ножа. — Он все равно убьет ее, отвернись, — угрюмо бросил он и нажал на курок. Брызнули на пол деревянные щепки и осколки металлической пластины. Он схватился за бронзовый шар, тот отделился от своего основания и остался у него в руке, и Хатч злобно отбросил его в сторону. Когда нажал на дверь, та, скрипнув, немного поддалась, но дальше не пошла. Дешевый замок разлетелся вдребезги. Но стержень, на который была насажена ручка, все еще торчал в двери изнутри, со стороны другой такой же ручки, и что-то, видимо, удерживало его в этом положении. Он попытался протолкнуть стержень внутрь ладонью, но этого оказалось недостаточно; то, что удерживало стержень с другой стороны — скорее всего стул, — давило на него снизу, не давая возможности сдвинуть его с места. Перехватив браунинг за ствол, Хатч стал молотить по стержню рукояткой. Проклиная всех и вся, дюйм за дюймом вгоняя его внутрь. И когда наконец стержень со звоном упал на пол, в голове у Хатча, сменяя друг друга, вихрем пронеслись видения, начисто вытеснив из нее все, что было связано с коридором. Он видел то, что видел убийца: под острым углом взгляд его был устремлен вверх на стену, стену их дома, видимую со стороны спальни Регины. Открытое окно. Под ним густое переплетение лоз дикого винограда. Прямо в лицо тычется рожок цветка. Под руками решетка, руки зудят от заноз. Одна рука держится за решетку, другая судорожно шарит по стене в поисках выступа, за который можно ухватиться, одна нога беспомощно болтается в воздухе, плечо оттягивает груз. Затем тягучий скрип, что-то с треском ломается. И неожиданное ощущение грозной ненадежности в геометрически правильной паутине, за которую он держится правой рукой… Хатча вывел из состояния оцепенения громкий шум, донесшийся из запертой изнутри комнаты: визг и треск ломаемого дерева, металлический скрежет выдираемых с мясом гвоздей, скрип, звук падения. И вдруг нахлынула новая волна видений. Ощущение падения. Спиной вниз, в ночь. Удар о землю, пронизывающая боль. Трава. Рядом, свернувшись калачиком, неподвижная фигурка. Прыжком к ней, чтобы взглянуть в лицо. Регина. Глаза закрыты. Рот завязан шарфом… — Регина! — вскрикнула Линдзи. Хатч, снова возвращенный к реальности, плечом навалился на дверь спальни. Подпорка, заклинившая ее, отлетела в сторону. Дверь с треском распахнулась. Он вскочил внутрь, ощупью быстро отыскал на стене выключатель. В мгновенно залитой ярким слепящим светом комнате перешагнул через упавший стул и быстро обвел взглядом комнату, держа перед собой наготове пистолет. Комната, о чем он уже знал из видения, была пуста. Из открытого окна увидел сломанную решетку и спутанный клубок виноградных лоз, упавших вниз на газон. Человека в черных очках нигде не было. — Подонок! — Хатч рванулся от окна к двери, на ходу сгреб в охапку Линдзи, вытолкнул ее через дверь в коридор, подтолкнул к лестничной площадке. — Беги через главный вход, я выйду через черный, она у него в руках, попытайся остановить его, иди, да иди же! — Она не сопротивлялась и, сразу сообразив, что от нее требовалось, стремглав помчалась по лестнице вниз, а сзади, не отставая от нее, мчался Хатч. — Как увидишь, стреляй в него, целься по ногам, о Регине старайся не думать, не дай ему удрать! В передней Линдзи добежала до дверей наружу как раз в тот момент, когда Хатч прямо с нижней ступеньки лестницы прыгнул в переход. На бегу через комнату отдыха и кухню неотрывно смотрел в окна. Газон перед домом и внутренний двор были ярко освещены. Но там никого не было. Хатч рывком открыл дверь из кухни в гараж, включил свет. Еще не успели полностью включиться все трубки дневного света, как он уже промчался мимо стоявших на своих местах машин, забежал за них и подлетел к выходной двери в дальнем конце гаража. Вырвав засов, выскочил в узкий боковой дворик и глянул вправо. Ни убийцы. Ни Регины. В той стороне находился фасад их дома, улица, дома, расположенные по другую ее сторону. Там уже должна была быть Линдзи. Сердце колотилось так сильно, что мешало дышать. Ей же всего только десять лет, совсем ребенок. Повернул влево, побежал вдоль стены дома, огибая гараж, в задний двор, где под окном увидел груду обломков решетки и спутанные лозы дикого винограда. Такая маленькая, совсем кроха. Господи, сделай же что-нибудь. Пожалуйста. Стараясь не наступать на торчащие гвозди, чтобы не пораниться раньше времени, обошел груду обломков и лихорадочно стал рыскать вдоль забора, пренебрегая опасностью, шарил по кустам и в зарослях мирта. Задний двор был пуст. Он забрался в самое отдаленное от гаража место, заворачивая за угол, поскользнулся и чуть не упал, но чудом устоял на ногах. Держа браунинг обеими руками, выставил его прямо перед собой, направив в проход между домом и забором. В проходе тоже никого не оказалось. От фасада не доносилось никаких звуков, не говоря уже о выстрелах, значит, и у Линдзи дела шли не лучше, чем у него. Если убийцы в той стороне нет, значит, он перепрыгнул через забор на другой участок, к соседям. От фасада дома Хатч перевел взгляд на забор высотой в семь футов, с восточной, западной и южной сторон окружавший задний двор, отделяя его от смежных с ним соседних дворов. Проектировщики и агенты по продаже недвижимости в Калифорнии называли это сооружение забором, хотя это была самая настоящая крепостная стена, сложенная из оштукатуренных железобетонных блоков, выложенная поверху кирпичной кладкой и выкрашенная под цвет соответствующего дома. У многих соседей были такие заборы, надежная защита личных бассейнов и мест для проведения пикников под открытым небом от праздно-любопытных взоров. Высокие заборы — хорошие соседи, а то и просто хорошие незнакомцы, а еще высокий забор — это возможность незваному гостю, перемахнув через него, бесследно растаять в лабиринте других таких же заборов. Эмоционально Хатч был подобен канатоходцу, балансировавшему на тонкой проволоке, протянутой через пропасть отчаяния, удерживаясь на ней только за счет надежды, что убийца не мог далеко уйти, таща на плече Регину. Но, не зная, в какую сторону тот мог убежать — налево, направо или вперед, — он нерешительно топтался на месте. Наконец двинулся к южной части забора, отгораживавшего задний двор от соседнего такого же двора. И вдруг остановился как вкопанный и, задыхаясь и ловя ртом воздух, резко, словно от боли, наклонился вперед: с такой неожиданностью между ним и человеком в темных очках снова восстановилась таинственная телепатическая связь. И снова Хатч видел мир глазами другого человека, и, несмотря на темные очки, ночь казалась ему похожей на поздние сумерки. Он в машине, за рулем, перегибается вправо, чтобы чуть по-иному пересадить все еще находящуюся без сознания девочку, словно она манекен. Стянутые веревкой в запястьях руки покоятся на коленях, в сидячем положении ее удерживает предохранительный ремень. Распустив ее пышные каштановые волосы таким образом, чтобы их пряди скрыли завязанный у нее на затылке шарф, он толкает ее к дверце, и она боком заваливается на нее, лицо же остается повернутым внутрь. Люди, проезжающие мимо, не смогут заметить, что рот ее завязан шарфом. Создавалось впечатление, что она просто заснула на сиденье. Девочка и впрямь так бледна и неподвижна, что у него мелькает мысль, не умерла ли она. Какой смысл тащить ее в убежище, если она уже мертва? Лучше открыть дверцу и выбросить ее, как щенка, из машины. Ладонью дотрагивается до детской щечки. Кожа у нее удивительно гладкая, но холодная. Прижимает кончики пальцев к ее горлу и ощущает ими, как в артерии мощными толчками пульсирует кровь, равномерно, безостановочно. Она жива, и даже живее, чем когда он видел ее во сне с летающей вокруг головы бабочкой. Не было у него до сих пор ничего более ценного, чем это его новое приобретение, и он был благодарен всем силам Ада, ниспославшим ему такой дар. Он трепетал, представляя себе, как дотягивается руками до ее сильного молодого сердца, как сдавливает его и, по мере того как удары его становятся все реже, неотрывно глядит в ее прекрасные серые глаза, и когда наконец смерть полностью вытесняет из них жизнь… Вопль ужаса, гнева и боли, вырвавшийся из горла Хатча, оборвал телепатическую связь. Он снова был на заднем дворе, держа правую руку у лица и в панике уставившись на нее, словно с пальцев его на землю и вправду капала кровь Регины. Круто развернувшись, он помчался, огибая дом, к главному входу. Тишину вокруг нарушали только громкие удары его собственного сердца. Видимо, некоторых из соседей вообще не было дома. Другие не услышали ничего подозрительного, что могло бы заставить их выскочитьнаружу. Хатч готов был взвыть от царившего в их квартале безмятежного спокойствия. И хотя у него на глазах его собственный мир, разлетевшись на куски, низвергался в тартарары, у него мелькнула мысль, что видимость нормальности была именно видимостью, а не естественным порядком вещей. Одному Богу известно, что творится за стенами некоторых из этих домов, какие ужасы сродни, а может быть, и пострашнее, тому, что выпало на их долю, совершаются там, и не кем-нибудь, а членом семьи по отношению к другим несчастным ее членам. Человечество обладает способностью порождать чудовищ, наделяя их талантом искусно скрываться за убедительнейшей из всех масок в мире: за маской благоразумия и здравомыслия. Когда Хатч добежал до газона перед фасадом дома, Линдзи там не оказалось. Он побежал но дорожке, влетел в открытую дверь и обнаружил ее в «логове» у стола с телефонной трубкой в руке. — Нашел? — спросила она. — Нет. Ты что тут делаешь? — Звоню в полицию. Вырвав из ее рук и бросив на рычаг трубку, он прошипел: — Пока они приедут, выслушают нас и начнут что-то делать, он сбежит и упрячет Регину так глубоко, что нам никогда ее не сыскать, пока кто-нибудь где-нибудь случайно не наткнется на ее труп. — Но нам нужна помощь… Хатч схватил со стола автомат, сунул ей в руки и властно приказал: — Едем вдогонку за этой падалью. Рег у него в машине. Насколько успел заметить, кажется, «хонда». — А номер машины запомнил? — Нет. — А ты, случайно, не заметил… — Я вообще ничего не видел, — нетерпеливо проговорил он, дергая на себя ящик стола и выгребая из него коробку с патронами для автомата, передавая ее Линдзи, сознавая в отчаянии, как уходит драгоценное время. — Я его снова ощущаю, правда не постоянно, а временами, но связь довольно стабильная. — Он вытащил из замка связку ключей, которую оставил в нем, когда вынимал из ящика журнал. — Мы сядем ему на задницу, если не дадим далеко оторваться… — Уже в передней, на бегу, докончил: — Но надо действовать. — Хатч, подожди! Он остановился и, обернувшись, оказался лицом к лицу с последовавшей было за ним Линдзи. Она быстро заговорила: — Ты поезжай за ним один, если считаешь, что так лучше, а я останусь здесь, дождусь полиции и направлю их по… Отрицательно мотнув головой, он отчеканил: — Нет. Ты мне нужна, чтобы вести машину. Эти… эти видения, как нокаут, полный провал памяти, когда вижу их, совершенно отключаюсь от действительности. И запросто могу ухнуть с дороги. Отнеси автомат и патроны в «мицубиси». — И, перепрыгивая через две ступени, он побежал вверх по лестнице, крича на ходу: — Да не забудь прихватить с собой фонарики. — Зачем? — Не знаю. Могут пригодиться. Хатч говорил неправду. Он и сам удивился, когда прокричал ей про фонарики, но понял, что сейчас находится во власти подсознательного, и интуитивно знал: понадобятся обязательно. В своих кошмарах, преследовавших его в течение нескольких последних месяцев, он часто проходил по огромным пещерообразным комнатам и лабиринтам бетонированных коридоров и переходов, в которых как-то различал окружающее, хотя не замечал, чтобы в них были окна или какие-либо другие источники света. Один из тоннелей, резко обрывавшийся вниз в сплошной мрак, особенно нагонял на него ужас, и сердце его всегда начинало биться с такой силой, что чуть не выпрыгивало из груди. Вот поэтому им и нужны будут фонарики — им придется спуститься туда, где он бывал только в своих кошмарах, в самое сердце этих кошмаров. Взлетев по лестнице на второй этаж и уже забегая в комнату Регины, он вдруг сообразил, что и сам не знает, что привело его именно сюда. Остановившись на пороге, посмотрел вниз на разбитую ручку, опрокинутый стул, перевел взгляд на стенной шкаф, в котором кучей валялась сорванная с плечиков одежда, затем на открытое окно, где ночной ветерок затеял игру со шторками. Что-то… что-то очень важное. Именно здесь, именно сейчас, в этой самой комнате, что-то очень и очень необходимое. Но что? Переместив браунинг в левую руку, Хатч вытер мокрую от пота ладонь правой о джинсы. Пока он тут теряет время, эта сука в черных очках уже успел завести мотор и едет с Региной по их кварталу, скорее всего, уже сворачивает на бульвар Краун Вэлли Паркуэй. Дорога каждая секунда. И, хотя у Хатча теперь возникло ощущение, что наверх он побежал скорее с перепугу, а не за чем-то очень важным и необходимым, как ему показалось вначале, он решил еще раз довериться наитию, заставившему его сделать именно это. Подойдя к угловому письменному столу, медленно обвел глазами книги, карандаши и тетради. Книжный шкаф у стола. Рядом с ним на стене — картина Линдзи. Ну же, ну! Что-то же привело его сюда… что-то очень и очень необходимое, как фонарики, как автомат и патроны к нему. Что-то очень важное. Хатч обернулся и, увидев на стене распятие, быстро шагнул к нему. Вскочив на кровать Регины, сорвал его со стены над изголовьем. Спрыгнув на пол, он пулей вылетел из спальни, помчался по коридору и вниз по лестнице, правой рукой крепко сжимая крест. Хатч вдруг сообразил, что держит его не как предмет религиозного поклонения, а как оружие — томагавк или мачете. Когда вбежал в гараж, большие двустворчатые ворота уже ползли вверх. И, разогреваясь, ровно гудел мотор машины, запущенный Линдзи. Хатч бухнулся рядом с Линдзи на пассажирское место, и она, бросив взгляд на распятие, спросила: — А это зачем? — Понадобится. Подавая машину задним ходом из гаража, Линдзи снова не удержалась: — Для чего именно? — Пока не знаю. Когда выехали на улицу, она с любопытством взглянула на Хатча. — Распятие? — Кто его знает, может и сгодится. Когда я соединился с ним, он… он возносил хвалу всем силам Ада, во всяком случае, именно об этом он думал, расточая похвалы силам Зла за то, что ниспослали ему Регину. — Он указал налево. — Сюда. Ужас последних десяти минут сразу на несколько лет состарил Линдзи. И в тот момент, когда, переключив скорость, она сворачивала влево, глубокие морщины отчетливо проступили на ее лице. — Хатч, а что, если мы вляпались в одного из этих сумасшедших из секты сатанистов, о которых иногда пишут в газетах, и когда кого-нибудь из них ловят, то потом находят у себя в холодильнике отрезанные головы или человеческие кости у порога? — Очень даже может быть, — ответил Хатч. Затем у перекрестка быстро сказал: — Здесь налево. Очень даже может быть… только, думаю, все гораздо хуже. — Нам одним не справиться, Хатч. — Ни хера подобного, — вспылил он. — А кто другой это сделает за нас? Никто. А не поспешим, Регине хана. Путь им пересек бульвар Краун Вэлли Паркуэй, широкая улица с шестирядным движением, посреди которой был разбит сквер и посажены деревья. Время еще было не позднее, и улица была запружена автомобилями, но не чрезмерно. — Куда теперь? — спросила Линдзи. Хатч положил браунинг на пол машины. Но с распятием не расстался. Наоборот, крепко зажал его в обеих ладонях. Глянув влево, вправо, снова влево и снова вправо, ожидая хоть какого-нибудь знака, чувства или бог весть чего. То и дело их омывал свет фар пробегающих мимо автомобилей, не принося с собой никаких прозрений. — Хатч! В голосе Линдзи звучало беспокойство. Влево, вправо, снова влево, снова вправо. Ничего. Господи! Хатч заставил себя думать о Регине. Каштановые волосы. Серые глаза. Правая рука клешней, дар Божий. Нет, не Божий. На этот раз Бог не виноват. Нельзя же все валить на Него. Может, она была права, когда говорила: тяжелое наследие родителей-наркоманов. Сзади них остановилась машина, ожидая своей очереди выехать на бульвар. А ее манера ходить, чтобы хромота не так бросалась в глаза. И то, что она никогда не скрывала своей увечной, обезображенной руки, не стыдясь, но одновременно и не выставляя ее напоказ: принимайте меня такой, какая есть. Будущая писательница. Свиньи, наделенные интеллектом, пришельцы из космоса. Сзади раздался нетерпеливый гудок. — Хатч? Регина, такая маленькая в огромном мире, но стойкая, всегда с гордо поднятой головой, ничто не способно сломить ее. Заключила сделку с Богом. Взамен чего-то очень дорогого для нее обещала Ему есть бобы. И Хатч знал, что было ей дороже всего на свете, хотя она никогда не говорила ему об этом: семья, возможность навсегда покинуть стены приюта. Сзади снова раздался нетерпеливый гудок. Линдзи всю трясло. Не выдержав напряжения, она разрыдалась. Возможность никогда не быть одной. Что же еще нужно маленькой девочке? Чтобы ее окружали любящие ее люди. Чтобы она спала в кровати, разрисованной розами. Чтобы любить самой и быть любимой другими, стать взрослой. Маленькая, нежная, искривленная ручка. Кроткая, прелестная улыбка. Спокойной ночи… папа. Водитель задней машины гудел теперь не переставая. — Направо, — коротко бросил Хатч. — Езжай направо. Облегченно всхлипнув, Линдзи свернула вправо и выехала на бульвар. Ехала она гораздо быстрее, чем обычно, ловко перестраиваясь из ряда в ряд, как того требовали правила, бойко катя по совершенно плоской равнине Южного округа навстречу дальним предгорьям и скрытым во мраке ночи горам на востоке. Хатч не сразу уверился, что указанное им по наитию направление выбрано правильно. Но постепенно убедился в этом полностью. Дорога бежала на восток между холмами, усеянными бесконечными рядами мерцающих точек света, словно мириадами поминальных свечек, установленных в гигантской церкви по душам убиенных, и с каждой милей крепло его ощущение, что они с Линдзи и впрямь ехали по следу зверя. И так как они договорились, что между ними теперь не будет никаких секретов и недомолвок, он решил, что она должна полностью сознавать, какая опасность грозит Регине, и потому сказал: — Он хочет держать в руках ее еще не остывшее сердце и ощущать его последние удары, чувствовать, как из него уходит жизнь. — О Господи! — Но пока она жива. Еще не все потеряно. Еще есть надежда. Он верил в то, что говорил, не мог не верить, иначе сошел бы с ума. Но в ушах все еще отчетливо звучало эхо этих же слов, которые он бесконечно твердил себе, пока болезнь не отняла у них Джимми.
Часть III. СРЕДИ МЕРТВЫХ
Не жуткой тайной Смерть приходит. Нам с детства ведома она, тебе и мне. И помыслами нашими она не смеет верховодить, И не должна тревожить нас во сне. Не отворачивай лицо свое от Смерти, Крадущей твой земной последний вздох. И не страшись ее, ведь над тобой Не господин она, хоть и грозит косой. Нет, не властитель твой, слуга Создателю она. И только Он — Творец и Смерти, и тебя — Великой тайною пребудет на века.Книга Печалей
СЕМЬ
Глава 1
Джоунас Нейберн и Кари Доуэлл сидели в креслах перед большими окнами в затемненной гостиной его дома на Спайгласс-Хилл, глядя на мириады огоньков, мерцавших по всему пространству Оранского и Лос-Анджелесского округов. Ночь была относительно ясной, и они могли видеть даже огоньки бухты Лонг Бич Харбор, находившейся от них далеко к северу. Мерцающим грибовидным наростом, подмяв под себя все на своем пути, расползлась по земле цивилизация. Из ведерка со льдом, приткнувшимся между их креслами, выглядывало горлышко бутылки белого вина «Роберт Мондави». Это была уже вторая их бутылка. Но до обеда дело еще не дошло. Он все говорил, говорил и не мог наговориться. Уже в течение месяца, а то и больше, они регулярно, один-два раза в неделю, встречались в различных компаниях. Они еще не были любовниками, и он сомневался, что вообще когда-нибудь ими станут. Она все еще влекла его к себе своей странной, немного неуклюжей грацией, напоминавшей ему нескладного, длинноногого журавля, хотя серьезный и вдумчивый врач в ней стремился напрочь вытеснить женщину. Он был почти уверен, что она и мысли не допускала о какой-либо физической близости между ними. Но, как бы там ни было, ему казалось, что он и сам не способен дать ей это. Он был меченым; слишком много призраков сговорились сообща помешать его счастью. Их дружба давала каждому из них возможность выговориться, будучи уверенным, что тебя терпеливо и сочувственно выслушают, и потому не требовала никаких сентиментальных эксцессов. В тот вечер он говорил о Джереми, и предмет их разговора уже сам по себе не настраивал на лирический лад, даже если таковой и присутствовал в окружавшей их атмосфере. Больше всего его удручали признаки врожденного сумасшествия в Джереми, существование которых он не сумел вовремя распознать — или, вернее, признать их наличие. Еще ребенком Джереми рос необыкновенно молчаливым мальчиком, предпочитая компании друзей уединение. Тогда это объяснялось застенчивостью. С раннего возраста его совершенно не интересовали игрушки, что приписывалось его невероятному интеллекту и врожденной серьезности. И теперь все оставшиеся нетронутыми модели самолетов, игры, мячи и разнообразнейшие наборы «конструкторов» служили тревожным и убедительным свидетельством, что никакие «Тонка», «Маттель» и «Лайонел», вместе взятые, не могли соперничать по богатству красок и переживаний с его врожденной фантазией. — Стоило его обнять, как он тут же весь как-то съеживался, — вспоминал Нейберн. — Когда он целовал тебя в ответ на твои ласки, его поцелуй неизменно повисал в воздухе, так и не добравшись до щеки. — Многие дети не любят выставлять свои чувства напоказ, — настаивала Кари. Нагнувшись к бутылке вина, она достала ее из ведерка и наполнила бокал Нейберна. — Это действительно можно рассматривать как одно из проявлений его застенчивости. Застенчивость и стремление всегда оставаться в тени никогда не считались недостатками характера, а ты не мог расценивать их иначе. — Но там не было никакого стремления оставаться в тени, — возразил он печально. — Это скорее было полное отсутствие чувств, ему было на все наплевать. — Нельзя же все время так себя истязать, Джоунас. — А что, если Марион и Стефани были не первыми? — Они были первыми и единственными. — А если нет? — Подросток может быть убийцей, но у него недостанет ума постоянно выпутываться после совершения очередного убийства. — А что, если он кого-нибудь убил после того, как сбежал из лечебницы? — Не думаю. Похоже, он сам стал чьей-то жертвой. — Уж кто-кто, а он меньше всего похож на жертву. — Весьма вероятно, его и нет в живых. — Он жив и на свободе. И все из-за меня. Джоунас уставился на развернувшуюся перед ним панораму света. У его ног во всем своем мерцающем величии, во всей своей сверкающей красе, во всем своем ослепительном ужасе лежала цивилизация.На подъезде к скоростному федеральному Сан-Диегскому шоссе «Интерстейт 405» Хатч коротко бросил: — На юг. Он свернул на юг. Линдзи быстро включила сигнал поворота и успела вырулить на плавно поднимавшийся к шоссе въезд. Поначалу, когда удавалось хоть на мгновение оторвать взгляд от дороги, она то и дело посматривала на Хатча, ожидая, что он будет сообщать ей, что видит или какие получает сигналы от человека, которого они преследовали. Но спустя некоторое время, несмотря на то что бывали моменты, когда можно было расслабиться, она все равно неотрывно смотрела на дорогу, так как Хатч упорно молчал. Это его молчание она объясняла тем, что видел он либо слишком мало, либо его связь с убийцей была отрывочной и нерегулярной. Не настаивала она и на том, чтобы он постоянно держал ее в курсе событий, так как боялась, что, то и дело отвлекая его, вообще может нарушить эту странную связь — и тогда Регину им больше не видать. Хатч не выпускал из рук распятие. Краем глаза Линдзи видела, как кончики пальцев его левой руки беспрестанно ощупывали контуры отлитой в металле статуэтки, распятой на отделанном под кизиловое дерево кресте. Взгляд его, казалось, был направлен внутрь себя, словно вокруг не было ни ночи, ни машины, в которой находился. Линдзи чувствовала, что жизнь ее обрела такой же оттенок сюрреалистичности, как и ее картины. Сверхъестественное перемешалось в ней с сугубо земным. Композиционное единство составляли несоизмеримые понятия: распятие и пистолеты, таинственные видения и ручные фонарики. В своих картинах она использовала сюрреалистическое, чтобы ярче оттенять основную мысль, дать направление интуиции восприятия. В реальной любое вторжение ирреального только еще больше сбивало с толку и запутывало. Неожиданно Хатч вздрогнул и весь подался вперед, натянув до предела ремень безопасности, словно прямо перед мчащейся во весь опор машиной дорогу перебежало какое-то фантастическое и ужасное существо, хотя Линдзи прекрасно понимала, что он даже не замечает стелющегося перед ним шоссе. Затем он тяжело осел на сиденье. — Он свернул на Ортегское шоссе. На восток. Всего в нескольких милях отсюда. Постарайся не пропустить выезд на Ортегское шоссе, затем езжай в восточном направлении.
Иногда свет фар идущих навстречу машин заставлял его щуриться, несмотря на почти сплошь черные стекла очков, защищавших его глаза. Ведя машину, Вассаго то и дело поглядывал на сидевшую рядом с ним с повернутым к нему лицом девочку, все еще находившуюся без сознания. С уткнутым в грудь подбородком. Хотя голова ее была наклонена вниз и каштановые волосы полностью скрывали часть лица, можно было видеть ее губы, растянутые кляпом, очаровательный, вздернутый носик, одно наполовину прикрытое волосами веко и почти все второе — ах, какие чудные ресницы! — и часть гладкого лба. Его воображение рисовало ему дивные картины ее обезображенного тела, из которого он сотворит достойное подношение. Она в полной мере отвечала его целям. Ее красота, опороченная больной ногой и обезображенной рукой, как нельзя рельефнее оттеняла символическое звучание ложного всемогущества Бога. Воистину, девочка была великолепной находкой для его коллекции. Было, правда, немного обидно, что не удалось захватить и ее мать, но он надеялся вскорости исправить эту оплошность. И даже прикидывал в уме, стоит ли сегодня убивать девочку. Продержав ее живой несколько дней, он может за это время попытаться привезти сюда и Линдзи. А когда они будут вместе, поработать над ними и либо представить их трупы в виде иронической композиции микеланджеловской «Пиеты», плача Богоматери, либо, разорвав их на части, вновь соединить в живописнейшем и непристойнейшем коллаже. Он ждал прилива нового вдохновения, новых образов, прежде чем решить, что делать дальше. Съезжая с Ортегского шоссе и сворачивая на восток, Вассаго вспомнил, как Линдзи, сидевшая у рисовальной доски в своей студии, живо вызвала в его памяти образ матери, сидевшей за своим вязанием в тот день, когда он убил ее. Разделавшись с сестрой и матерью одним и тем же ножом и почти в одно и то же время, он в глубине души был уверен, что сумел проложить себе дорогу в Ад, настолько уверен, что решился на окончательный шаг и сам бросился на нож. В одной частным образом изданной брошюре именно так был описан путь к проклятию. Озаглавленная «Скрытое», брошюра эта была написана в тюрьме осужденным за убийство неким Томасом Ничене, зарезавшим свою мать и брата и предпринявшим затем попытку самоубийства. Его тщательно спланированный исход в преисподнюю был расстроен группой врачей «скорой помощи», безмерно преданных своему делу, которым к тому же в этот день явно сопутствовала удача. Ничене был спасен от смерти, излечен, посажен в тюрьму, затем предстал перед судом, был осужден за убийство и приговорен к смерти. Играющее по правилам общество дало понять, что выбор смерти, даже своей собственной, находится вне компетенции отдельно взятого человека. В ожидании исполнения приговора Томас Ничене записал те видения Ада, которые открылись ему, когда он находился в промежутке между жизнью и смертью, до того как медработники отняли у него возможность жить по ту сторону вечности. Записки его были тайно вывезены из тюрьмы и переданы в руки его сподвижников по вере, чтобы те отпечатали и распространили их. В отличие от классической, огнедышащей преисподней, Ничене рисовал мощные, убедительные картины мрака и стужи, видения огромных, бесконечных пространств, объятых вечным холодом. Заглянув через оставленную Смертью щелку в Ад, Томас увидел там таинственные сооружения, в которых кипела титаническая работа. Демоны колоссальных размеров и силы, одетые в черные, развевающиеся одежды и черные блестящие шлемы, обрамленные ярко пылающей по краям бахромой огня, шагали сквозь мрачные туманности по темным континентам, исполняя какие-то неведомые поручения. Взору его открылись темные воды, разбивающиеся о черные скалы берегов под небом, на котором не видно было ни звезд, на луны, словно мир этот находился глубоко-глубоко под землей. Громадные таинственные корабли без иллюминаторов и окон неслись по сумрачным волнам, и гул их мощных двигателей напоминал вопли и стенания бесчисленных множеств грешников. Прочитав записки Ничене, Джереми понял, что более правдивой картины не встречал он ни в каких других описаниях Ада, и решил последовать примеру своего великого наставника. Марион и Стефани стали его пропуском в этот загадочный и удивительно притягательный подземный мир, который он мечтал сделать своим домом. Отметив на входе свой пропуск мясницким ножом и сойдя в подземное черное царство, он увидел там именно то, что и обещал ему Ничене. Он и представить себе не мог, что его бегство из ненавистного мира живых будет приостановлено не какими-то там безвестными энтузиастами-врачами, а собственным отцом. Но ничего, скоро он снова заслужит право возвратиться на свою прародину. Еще раз взглянув на девочку, Вассаго вспомнил свое ощущение, когда она, напружинившись всем телом, вдруг задрожала в его свирепых объятиях и, неожиданно обмякнув, стала податливой, как воск. Теперь он и сам, как в ознобе, трепетал от восхитительного предвкушения. Сначала он думал, что, убив отца, снова заслужит право на жительство в Гадесе, подземном мире. Но старика своего опасался. Джоунас Нейберн был дарителем жизни и, казалось, весь светился изнутри, и свет этот тревожил Вассаго. Самые ранние воспоминания об отце были неразрывно связаны в его памяти с образами Христа, ангелов, Божьей Матери, чудотворными событиями, сценами из картин, которые коллекционировал Джоунас и которые всегда висели у них дома. А два года тому назад отец воскресил его из мертвых, как в свое время Иисус воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому, в Джоунасе он видел не столько личного врага, сколько мощного противника, олицетворявшего собой те силы, которые противостояли воле Ада. Отец его был неприкасаем, ибо, вне всяких сомнений, находился под надежной защитой другого, ненавистного божества. Все его надежды теперь были связаны с Линдзи и девочкой. Одна уже у него в руках, скоро настанет очередь и другой. Он ехал на восток мимо бесконечных рядов домов, выросших здесь в течение шести лет со дня закрытия «Мира фантазии», и радовался, что отродье жизнелюбивых святош еще даже не смогло приблизиться к границам его владений, отстоявших от последних людских поселений на целые мили совершенно необустроенной земли. Когда позади остались густонаселенные холмы и замелькали более неприветливые, хотя и редко, но все же заселенные участки, Вассаго сбавил скорость и поехал значительно медленнее, чем обычно ездил ночью. Он ждал откровения, которое подскажет ему, должен ли он убить девочку по прибытии в заброшенный парк или подождать, когда обе, и девочка и женщина, будут в его руках. Повернув голову, чтобы еще раз взглянуть на свою пленницу, Вассаго заметил, что она внимательно смотрит на него. В ее расширенных от ужаса глазах поблескивали отражавшиеся в них огоньки приборного щитка. — Бедненькая моя, — залебезил он. — Не надо бояться. Ладно? Не бойся. Мы просто едем на прогулку в парк аттракционов, вот и все. Такой же, как, например, Диснейленд или Волшебная гора. Если сорвется попытка добыть Линдзи, может быть, имеет смысл поймать девочку примерно такой же комплекции и такую же красивую, как Регина, у которой все конечности будут на месте и без изъяна. Тогда он переставит от нее к Регине здоровую руку и ногу, как бы говоря этим, что он, двадцатилетний эмигрант из Ада, смог добиться того, что не под силу было сделать самому Создателю. Это будет прекрасным пополнением его коллекции, истинным произведением искусства. Он вслушивался в ровный рокот мотора. В пение шин по асфальту. В свист ветра, врывавшегося в окна. Ждал прозрения. Какого-нибудь знамения. Подсказки, как поступить дальше. Ждал вдохновения.
Еще до того как они подъехали к выезду с Ортегского шоссе, перед внутренним взором Хатча промелькнул целый рой совершенно необъяснимых и никогда не появлявшихся раньше образов. Каждый из них длился не более нескольких секунд, словно перед его глазами прокрутили немую кинопленку. Темные воды, разбивающиеся о черные скалы берега под небом, на котором не видно ни звезд, ни луны. Громадные, таинственные корабли без иллюминаторов и окон, несущиеся по сумрачным водам, приводимые в движение мощными двигателями, рокот которых напоминает вопли и стенания бесчисленных множеств грешников. Колоссальные демонические фигуры высотой до ста футов, шагающие по неведомым ландшафтам в развевающихся черных одеждах, в блестящих, как стекло, черных шлемах. Огромные, титанические, невидимые глазу машины сотрясают странные и причудливые сооружения, цель и назначение которых совершенно невозможно постичь. Временами Хатч словно наяву, вплоть до мельчайших подробностей, видел эти ландшафты, иногда же мелькали их описания в виде цепочек слов, напечатанных на страницах брошюры. Если то, что он видел, и впрямь существовало, то, несомненно, в каком-то очень далеком отсюда мире, так как все в этом мире полностью отличалось от земного. И он так и не понял, были ли эти картины плодом воображения или существовали в действительности. Временами изображение было четким и ясным, как если бы перед ним разворачивалась какая-нибудь улица в Лагуне, иногда туманным и призрачным, как если бы он смотрел на него через тонкую, прозрачную папиросную бумагу.
Джоунас вернулся в гостиную с коробкой, наполненной предметами, найденными им в комнате у Джереми, и поставил ее подле своего кресла. Извлек из нее маленький, неряшливо изданный томик, озаглавленный «Скрытое», и передал его Кари, которая взяла его и стала рассматривать с таким брезгливым видом, словно он вручил ей предмет, покрытый толстой коркой засохших фекалий. — Ты права, что воротишь от нее свой носик, — с явным одобрением проговорил он, беря в руку свой бокал с вином и подходя к большому окну. — Это — сущий вздор. Болезненный, безумный, но все равно вздор. Автор его был осужден за убийство и уверяет, что видел Ад. В его описаниях ты не найдешь ничего, что даже отдаленно напоминает Данте. Не стану отрицать, что описания эти не лишены определенной дозы романтичности и подкупают своей мощью. Скажу больше, психически неуравновешенному юноше с манией величия, со склонностью к насилию, с неестественно высоким уровнем содержания тестостеронов, мужских половых гормонов, что обычно сопутствует психической неуравновешенности, описанный автором Ад может показаться весьма заманчивым. От него юноша может прийти в религиозный экстаз. Теперь ничто не в состоянии уже вытеснить это описание из его головы. Он жаждет попасть туда и сделает все, чтобы стать его нераздельной частицей, будет страстно стремиться к проклятию. Кари отложила книгу и вытерла кончики пальцев о рукав блузы. — Этот автор, Томас Ничене, ты говорил, что он зарезал свою мать. — Да, мать и брата. Подал пример, так сказать. — Джоунас чувствовал, что уже здорово перебрал вина. Тем не менее сделал еще один большой глоток. Отвернувшись от ночного пейзажа за окном, продолжал: — И знаешь, отчего все, нарисованное им, кажется таким нелепым, я бы сказал, трогательно нелепым? Если бы ты прочла эту проклятую книгу, как потом, пытаясь понять, прочел ее я, прочла, не будучи психически неуравновешенным молодым человеком, предрасположенным к тому, чтобы принять все за чистую монету, ты бы сразу догадалась, что описания Ничене вообще не имеют к Аду никакого отношения. Он черпает свое вдохновение из источника до смешного настолько очевидного, насколько, опять же, до смешного нелепого. Кари, его Ад — это не что иное, как Империя Зла в фильмах о «Звездных войнах», несколько видоизмененная, подработанная, поданная сквозь призму религиозного мифа, но, несомненно, все та же Империя Зла из «Звездных войн». — Он горько рассмеялся. Отпил еще вина. — Его демоны — это увеличенные до гигантских размеров Дарты Вадеры, черт бы его подрал. Почитай его описание Сатаны, а потом посмотри любой фильм, в котором участвует Джабба Хат. Если верить этому сумасшедшему идиоту, старина Джабба Хат — точная копия Сатаны. — Нейберн налил себе и залпом выпил бокал белого вина, потом еще один. — Марион и Стефани погибли. — Несколько затянувшийся глоток вина. Бокал пустеет наполовину. — Погибли, чтобы Джереми мог попасть в Ад и совершить свои великие, черные, говнюшные подвиги в обличье этого долбаного Дарта Вадера. Окончание его тирады обидело или расстроило ее, а может быть, сделало и то и другое вместе. Он не желал этого и чувствовал себя виноватым. Он и сам не знал, чего хотел. Видимо, просто искал возможность излить кому-нибудь свою душу. Он никогда не делал этого раньше и не понимал, что это вдруг на него сегодня нашло, — скорее всего, с того самого дня, как обнаружил дома трупы жены и дочери, ничто так сильно не подействовало на его нервы, как неожиданное и таинственное исчезновение Мортона Редлоу. Вместо того чтобы подлить себе вина, Кари поднялась со своего кресла. — Думаю, надо хоть чего-нибудь поесть. — Я не голоден, — вырвалось у него, но он и сам заметил, что язык у него заплетается. — Согласен, и впрямь надо поесть. — Может, сходим куда-нибудь? — предложила она, отбирая у него бокал и ставя на ближайший стол. В мягком золотистом сиянии от бесчисленных гирлянд городских огней, ниточками-паутинками разбежавшихся в разные стороны далеко внизу, лицо ее было очень красивым. — Или закажем пиццу? — А как ты относишься к бифштексам? У меня и вырезка есть в морозилке. — Слишком долго ждать. — Да нет. Их надо разморозить в микроволновке и забросить в рашпер. У меня на кухне все это имеется. — Ладно, пусть будет по-твоему. Глаза их встретились. Взгляд ее, как всегда, был чист, проницателен и прямолинеен, но сейчас Джоунасу почудилось в нем чуть больше нежности, чем обычно. Он отнес это ее выражение к обычной заботе, какую хороший врач-педиатр обязан проявлять по отношению, например, к своим малолетним пациентам. Могло быть, что эта нежность по отношению к нему всегда присутствовала в ее взгляде, а он только сегодня это заметил. А может быть, она впервые осознала, как сильно он нуждается в ком-нибудь, кто бы мог окружить его заботой. — Спасибо, Кари. — За что? — За то, что ты есть ты, — с чувством произнес он. И, обняв ее за плечи, Нейберн повел Кари по направлению к кухне.
Вперемежку с панорамой гигантских машин, темных вод и колоссальных демонических фигур Хатч получал картины и другого содержания. Поющие ангелы. Коленопреклоненная Божья Матерь. Христос с Апостолами на Тайной Вечере, Христос в Гефсиманском саду, Распятый Христос, Вознесение Христа. Он предположил, что они имеют какое-то отношение к картинам, которые Джоунас мог собирать раньше. Они, правда, отличались и по периодам и по стилям от тех картин, которые Хатч видел в приемной у врача, но тема была все той же. Здесь явно просматривалась какая-то связь, подсознательное намеренно сводило вместе разрозненные сигналы, но смысла этого соединения он пока не мог постичь. Еще видение: Ортегское шоссе. По обе стороны катящей в восточном направлении машины проносятся ночные пейзажи. Приборный щиток. Слепящий свет фар встречных машин, заставляющий его щуриться. И вдруг Регина в желтом свете приборного щитка. Глаза закрыты. Голова опущена на грудь. Что-то торчит у нее изо рта, придерживаемое шарфом. Она открывает глаза. Увидев раскрытые от ужаса глаза Регины, Хатч вырвался из видений, подобно ныряльщику, оттолкнувшемуся от дна, чтобы глотнуть свежего воздуха на поверхности. — Она жива! Он бросил взгляд на Линдзи, недоуменно воззрившуюся на него. — Я что-то не слышала, чтобы ты говорил, что она уже мертва. Только сейчас он понял, как мало верил в возможность увидеть девочку живой. Не успел Хатч приободриться от мысли, что заметил, как блестят ее глаза в желтом свете приборного щитка в машине убийцы, как новые видения с такой силой захлестнули его, словно на голову его обрушился град мощных кулачных ударов: из густого мрака выступили черные тени искривленных человеческих фигур. В странных, причудливых позах. Он видел женщину, усохшую, как перекати-поле, другую — в последней стадии разложения, с высохшим лицом, по которому трудно было определить, принадлежало ли оно мужчине или женщине, с поднятой молитвенно вверх страшной, вздувшейся, черно-зеленой рукой. Коллекция. Его коллекция. Снова мелькнуло лицо Регины, глаза открыты, освещенные огоньками приборов. Как бесконечно много способов обезобразить, изуродовать, посмеяться над творением Бога существует в этом мире! Регина. Бедненькая моя. Не надо бояться. Ладно? Не бойся. Мы просто едем на прогулку в парк аттракционов, вот и все. Такой же, например, как Диснейленд или Волшебная гора. Как великолепно впишется она в мою коллекцию. Трупы, поданные как произведения искусства, поддерживаемые в нужных положениях с помощью проволоки, штырей, деревянных брусков. Глазам его предстали навеки застывшие вопли. Разверзнутые в крике челюсти скелета в вечной мольбе о пощаде. Прелестная коллекция. Регина, крошечка, моя хорошенькая девочка, какое удивительное приобретение являешь ты собой для коллекции. Хатч пришел в себя, обеими руками цепляясь за ремень безопасности, стремясь сорвать его с себя, так как ему казалось, что он, словно проволока, веревка или шнур, стягивает, давит и душит его. Он рвал ременные лямки с такой яростью, словно они были саваном, в котором его хоронили заживо. Чувствовал, что надрывно кричит и с шумом, глубоко вдыхает в себя воздух, словно боится задохнуться, и с таким же шумом разом выдыхает его. Он слышал, что Линдзи что-то говорит ему, понимал, что вселяет в нее ужас, но не переставал биться, метаться и кричать на протяжении всех долгих секунд, пока судорожно искал замок, чтобы освободиться от ремня. И с этого момента Хатч снова вернулся в «мицубиси», связь с сумасшедшим убийцей на время прервалась, но ужас от увиденной коллекции, хоть и не был уже столь острым, как раньше, остался, а сама коллекция так и стояла перед глазами во всех своих страшных подробностях. Он обернулся к Линдзи, вспомнив, с каким мужеством вела она себя тогда в горах, в ледяной воде, в ту ночь, когда спасла его. Этой ночью ей вновь могут понадобиться все ее мужество и вся ее сила воли. — «Мир фантазии», — быстро проговорил он, — помнишь, там когда-то был страшный пожар, сейчас парк бездействует, он направляется туда. Ради всего святого, Линдзи, гони что есть духу, прижми педаль к полу и не отпускай. Эта сука, эта паршивая, сумасшедшая паскудина хочет снести ее вниз к своим мертвецам! И они помчались как ветер. И хотя она ровным счетом ничего не поняла из того, что он говорил, они мчались на восток с такой скоростью, с какой по этому шоссе ехать было небезопасно, и вскоре, оставив позади себя последние пучки близко отстоящих друг от друга огоньков, понеслись еще быстрее, все дальше и дальше от мира цивилизации, все ближе и ближе к миру непознанного.
Пока Кари исследовала содержимое кухонного холодильника, чтобы найти подходящие компоненты для салата, Джоунас отправился в гараж взять из морозилки вырезку для бифштексов. Сквозь вентиляционные отверстия в помещение проникал свежий, прохладный ночной воздух. Джоунас приободрился. Он остановился у двери из кухни в гараж и, чтобы немного прояснить голову, стал медленно и глубоко дышать. Ему сейчас ничего не хотелось, может быть, только еще пару глотков вина, но он не желал, чтобы Кари видела его пьяным. К тому же, хотя на завтра у него не было запланировано никаких операций, никто не застрахован от непредвиденных ситуаций, в которых своевременные и квалифицированные действия реанимационной группы могут оказаться решающими; он чувствовал ответственность перед своими потенциальными пациентами. Когда на душе бывало уж слишком тяжело, у него мелькала мысль вообще отойти от реанимационной медицины, полностью посвятив себя сердечно-сосудистой хирургии. Когда он видел, что спасенный пациент возвращался к полезной деятельности, к семье, к любимой работе, большей награды он и не желал. Но в критический момент, когда пациент, которого он собирался вернуть к жизни, еще только лежал на операционном столе и Джоунас практически ничего не знал о нем, его грызли сомнения, не возвращает ли он миру зло, от которого тот только что так удачно избавился. Это было больше чем обычная проблема нравственного выбора; это было тяжелейшим бременем ответственности, которую он добровольно взваливал на свои плечи. Будучи человеком глубоко религиозным — хотя и у него бывали сомнения, — он во всех случаях полагался на Бога. «Поскольку, — рассуждал Нейберн, — мои разум и умение даны мне Богом, у меня нет возможности предугадывать Его намерения и отказывать какому-либо пациенту в помощи по своему разумению». Фактор Джереми, однако, разрушал эту стройную концепцию. Если он возвратил Джереми к жизни, а Джереми убивал ни в чем не повинных людей… От этой мысли можно было сойти с ума. Прохладный воздух больше не бодрил его. Морозцем теперь продирал он по коже. Ладно, обед так обед. Два бифштекса. Филе миньон. Чуть пожаренные, заправленные острым соусом. Обычный салат, но без приправы, надо, пожалуй, только немного выдавить на него лимон да чуточку присыпать черным перцем. Может быть, все-таки у него и впрямь проснулся аппетит? Он почти никогда не ел говядину; но сегодня можно позволить себе это удовольствие. Как хирург, оперирующий на сердце, он был свидетелем печальных, а порой и роковых последствий мясной диеты. Он подошел к морозильнику, стоявшему в одном из углов гаража. Нажал на защелку и открыл крышку. Внутри увидел Мортона Редлоу, недавно представлявшего своей персоной «Сыскное агентство Редлоу», бледного с сероватым оттенком, словно высеченного из мрамора, под тонким налетом изморози. На лице ломкой коркой застыла запекшаяся кровь, а на том месте, где должен был находиться нос, зияла ужасная пустота. Глаза были открыты. И смотрели в вечность. Джоунас не отшатнулся. Как хирург, он был подготовлен к разного рода ужасам и сюрпризам биологического свойства и не чувствовал омерзения к трупам. Просто, когда увидел Редлоу, что-то в нем навеки угасло. Умерло. И сердце его превратилось в такую же ледышку, как и у мертвого детектива. Веры в Бога больше не существовало. Никакой. В какого Бога? Но не было и чувства отвращения к представшей перед ним страшной картине, и он не отвел от нее взгляда. В негнущихся пальцах правой руки Редлоу он увидел сложенную вдвое записку. Мертвец легко расстался с ней, так как мертвые пальцы, прижатые убийцей к записке, усохли в морозильнике и больше не сжимали ее. Онемевшими пальцами Нейберн развернул письмо и сразу же узнал аккуратный почерк своего сына. Посткоматозной афазии у него не было и в помине. А умственная задержка была не чем иным, как удивительно тонкой и, тщательно продуманной хитростью. Он прочел: «Дорогой папочка: чтобы похоронить его по всем правилам, станут искать его нос. Он у него в заднице. Слишком часто совал он его не туда, куда надо, поэтому я всунул его туда, где ему и место. Если бы он вел себя по-умному, я был бы с ним повежливее. Прошу прощения, сэр, что огорчаю вас своим поведением».
Линдзи вела машину на предельной скорости, выжимая из «мицубиси» все, на что та была способна, не обращая внимания на неровности и шероховатости шоссе, явно не рассчитанного на такую скорость. Чем дальше к востоку они забирались, тем меньше попадалось им встречных машин, что можно было считать везением, особенно когда на одном из слишком крутых поворотов Линдзи выскочила на встречную полосу. Снова надев на себя ремень безопасности, Хатч по установленному в их машине телефону позвонил в справочное бюро, выяснил номер приемной Джоунаса Нейберна, позвонил туда и попал на оператора. Та приняла его телефонограмму, совершенно сбившую ее с толку. И, хотя она искренне обещала «немедленно» передать его сообщение доктору, Хатч сомневался, что они вкладывали в это слово одинаковый смысл. Теперь, когда все вдруг стало на свои места, он понимал, что раньше это произойти никак не могло. Теперь, в свете познанного, вопрос, заданный ему в понедельник во время медосмотра Джоунасом, обрел совершенно новую значимость. Верит ли Хатч, спросил тот, что зло — это результат поступков людей, или же оно представляет собой реальную силу, некое присутствие, существующее в мире отдельно от нас, само по себе? Рассказ о том, как его сын-психопат зарезал свою мать и сестру, а затем сам покончил жизнь самоубийством, теперь четко соединился в сознании Хатча с видением вяжущей на спицах пожилой женщины. С коллекциями Джоунаса. С коллекцией его сына. Сатанинское начало в видениях несомненно шло от богомерзкого сына, в безумстве своем восставшего против отца, для которого религия составляла главную опору в жизни. И наконец, у него и у Джереми Нейберна была одна общая, очевидная связь, неразрывно соединившая их, — чудесное воскрешение из мертвых, сотворенное руками одного и того же человека. — Ну и что же следует из того, что нам известно? — спросила Линдзи, когда он вкратце изложил ей суть переданной оператору информации. — Не знаю. Мысли Хатча были полны тем, что он увидел в самых последних из своих видений,половину из которых не понял. Но и того, что понял в них — сущность коллекции Нейберна-младшего, — было достаточно, чтобы наполнить его страхом за Регину. Не имея возможности, как Хатч, видеть саму коллекцию, Линдзи сосредоточилась на тайне связи между ним и младшим Нейберном, которая вроде бы немного прояснилась, когда удалось установить личность убийцы в черных очках, но, с другой стороны, по-прежнему оставалась совершенно непонятной и необъяснимой. — А видения? Они-то откуда взялись на нашу голову? — спросила она, пытаясь постичь суть сверхъестественного явления примерно таким же путем, каким постигла суть реального события, сводя его к отдельным сущностям и соединяя их на мазоните в целостные композиции. — Не знаю, — честно признался Хатч. — Связь, благодаря которой мы едем за ним по пятам… — Не знаю. Она не вписалась в поворот. Машина вылетела с шоссе на посыпанную гравием обочину. Из-под заскользивших задних колес брызнули мелкие камешки, дробно забарабанили в дно автомобиля. Мелькнул охранительный поручень, слишком близко, машина затряслась от частых, частых, частых ударов металла о металл. Прикусив нижнюю губу так, что, казалось, из нее вот-вот брызнет кровь, Линдзи железным усилием воли выровняла машину. Хотя Хатч полностью сознавал, что происходит вокруг, видел Линдзи, чувствовал, что машина мчится на сумасшедшей скорости по извилистому, иногда слишком узкому и потому вдвойне опасному шоссе, мысли его беспрестанно возвращались к той страшной картине, которая промелькнула перед его возмущенным взором в видении. И чем больше он думал о намерении убийцы пополнить свою мрачную коллекцию за счет Регины, тем сильнее его охватывал страх за нее, подхлестываемый к тому же дикой злобой на убийцу. И впервые раскаленная добела злоба эта, сродни отцовской, была направлена на нечто, полностью заслуживающее ненависти, на предмет, достойный погибели в ее всепожирающем пламени.
Приближаясь к подъездной дороге к заброшенному парку аттракционов, Вассаго, оторвав взгляд от совершенно пустынного теперь шоссе, перевел его на связанную девочку с торчащим изо рта кляпом, сидевшую рядом с ним. Даже в полумраке машины от его взгляда не ускользнуло, что она пыталась растянуть стягивавшие ее путы. Запястья ее уже начали кровоточить. Маленькая Регина надеялась, что ей удается развязать веревки, наброситься на него или как-то сбежать, хотя положение ее было более чем безнадежным. Какая сила жизни! Девочка заставляла его трепетать от возбуждения. Ребенок этот был настолько индивидуален, что нужда в матери вообще может отпасть, если ему удастся придумать ей такую позу для коллекции, которая станет подлинным произведением искусства, равным по мощи воображаемым композициям, требовавшим для своей реализации обязательного наличия двух участников: матери и дочери. По пути сюда он ехал относительно неспешно. Но, когда свернул на длинную подъездную дорогу к парку, увеличил скорость, горя желанием побыстрее возвратиться в музей мертвецов, надеясь почерпнуть вдохновение от его близости и самой атмосферы. Много лет тому назад по обеим сторонам широкой, в четыре ряда движения, подъездной дороги росли великолепные цветы, кустарники и купы пальм. Деревья и кусты были выкопаны, помещены в специальные горшки и увезены агентами или кредиторами. Цветы же погибли и превратились в труху, когда была отключена система водоснабжения. Южная Калифорния — это пустыня, возвращенная к жизни человеческими руками, и, когда руки эти перестают без устали обрабатывать ее, пустыня вновь возвращает себе ранее утраченные территории. Такова судьба всего, что создано гением человека, этого несовершенного творения Бога! Асфальт вздулся и весь пошел трещинами, когда за ним перестали ухаживать, в некоторых местах выщербился настолько, что вообще исчез под заносами песка. Свет фар выхватывал из темноты кустики перекати-поля и другую пустынную поросль, уже побуревшую, хотя со времени сезона дождей, угнанного на запад ночным ветром, дувшим с опаленных солнцем холмов, прошло всего лишь шесть недель. Доехав до мощных, похожих на столбы тюремных ворот, колонн, цепочкой растянувшихся поперек всех четырех рядов движения, Вассаго сбавил скорость. Колонны эти предназначались для заслона против незапланированных посещений запираемого на ночь парка, и между ними были протянуты цепи такой толщины, что срезать их, даже с помощью специального болторезного приспособления, было практически невозможно. Теперь просветы между столбами, когда-то находившиеся под неусыпным надзором обслуживающего персонала, были забиты сухой травой, нанесенной ветрами, и мусорными отбросами, оставленными там хулиганами. Он поехал в объезд столбов по невысокой обочине, подпрыгивая на ухабах затвердевшей под солнцем почвы, когда-то сплошь покрытой буйной тропической растительностью, преграждавшей дорогу автомобилям, затем, когда препятствие осталось позади, снова свернул на асфальт. В конце въездной дороги выключил фары. Теперь в них отпала нужда, так как здесь не было дорожных полицейских, могущих остановить его за то, что ночью едет с выключенными фарами. Глазам его тотчас стало легче; если преследователи сумеют догнать его, им придется следовать за ним вслепую. По диагонали пересек огромную и жутковато пустынную автостоянку, направляясь к служебной аллее, обегавшей парк по его юго-западной окраине и бежавшей вдоль внутреннего забора, отделявшего аллею от территории, где находились собственно аттракционы. Пока «хонда» прыгала по рытвинам и ухабам асфальтового покрытия, Вассаго усиленно напрягал свое безумное воображение, перебирая различные кровавые варианты умерщвления жертвы, которые могли бы оказаться полезными при принятии окончательного художественного решения относительно ребенка. Ни один из проносившихся в голове вариантов пока не устраивал его. Образ должен взволновать его. Возбудить его эстетические чувства. Его истинную художественность Вассаго сразу определит, ибо будет потрясен. Сладострастно смакуя воображаемые пытки, каким подвергнет Регину, он опять ощутил в себе странное присутствие, обычно посещавшее его по ночам, и проникся его исключительной, необыкновенной по мощи, яростью. Неожиданно окунулся в другое психическое видение, завертелся в вихре знакомых предметов, но с одним важным дополнением: перед его взором мелькнула Линдзи за рулем машины… телефонная трубка, зажатая в дрожащей мужской руке… затем перед глазами возник предмет, мигом разрешивший проблему художественного выбора… распятие. Пригвожденный к кресту Христос в знаменитой позе благородного самопожертвования. Он закрыл глаза, и образ Иисуса исчез, затем взглянул на помертвевшую от страха девочку, снова закрыл глаза, и воображение нарисовало ему, каким образом он сможет объединить обоих — девочку и Иисуса — в общей композиции. Он использует Регину в виде пародии на Распятие. Великолепно, лучшего и не придумать. Но она не будет прибита к кизиловому кресту. Сначала он казнит ее в глубине павильона на брюхе свернувшегося на груди у тридцатифутового Люцифера Змия, затем распнет ее, а священное ее сердце вырвет из груди и превратит его таким образом в обобщающий символ всей своей коллекции. Такое чертовски выразительное ее использование напрочь отметает необходимость введения в композицию матери, ибо в этой позе девочка сама по себе предстанет как высшее достижение его эстетического гения.
Из-за помех в радиотелефонной связи Хатч, как ни пытался, не мог дозвониться до отделения оранского окружного шерифа. И вдруг он снова ощутил вторжение чужого сознания в свой мозг. Когда «увидел» череду образов обезображенной Регины, его буквально затрясло от ярости и ужаса. Но вот их сменило изображение распятия; оно было настолько впечатляющим, ярким и чудовищным, что он чуть не лишился чувств, словно от удара обухом по голове. Хатч потребовал, чтобы Линдзи ехала еще быстрее, умолчав о том, что увидел. У него не хватило бы слов, чтобы выразить вею глубину охватившего его ужаса. Ужас усугублялся тем, что Хатч отлично понял иносказательный смысл, который Джереми вкладывал в ту мерзость, что собирался совершить: не ошибся ли бог, сделав свое единственное чадо мужчиной? Может быть, Христа следовало сделать женщиной? Не на долю ли женщин выпадают наибольшие страдания, превращающие их в величайший символ самопожертвования, Божьей милости и непостижимости сущего? Бог даровал женщине свойства особой чувствительности, наделил ее умением постигать самую суть вещей и нежностью, то есть теми чертами, которые более всего необходимы, чтобы заботиться, обучать и воспитывать других, а затем оставил один на один с миром, наполненным ужасами и варварским насилием, в котором дарованные им исключительные свойства сделали женщину легкой добычей жестокосердных и порочных. Справедливость этого сама по себе была ужасной, но еще больший ужас охватывал Хатча при мысли, что столь глубоким пониманием ее сути был наделен такой безумец, как Джереми Нейберн. Ведь если безумному социопату-убийце дано понять эту истину и постичь ер скрытый теологический смысл, тогда мироздание суть не что иное, как самый обыкновенный сумасшедший дом. Ибо будь Вселенная организована хоть мало-мальски рационально, никакой сумасшедший не в силах был бы понять даже малую толику ее. Выскочив на подъездную дорогу к «Миру фантазии», Линдзи, не сбавляя скорости, так резко крутанула руль, что «мицубиси» занесло боком, и в какой-то момент казалось, что машина вот-вот опрокинется. Но этого не случилось. Линдзи, крепко вцепившись руками в руль, сумела выровнять машину и нажала на педаль акселератора. Нет, только не Регина. Никоим образом нельзя позволить Джереми принести в жертву своему кощунственному замыслу невинного ребенка. Хатч готов был умереть, но помешать этому злодеянию. Страх и ярость переплелись в нем. Пластмассовая телефонная трубка в правой руке жалобно поскрипывала и, казалось, вот-вот треснет, как яичная скорлупа, — с такой силой он сдавил ее ладонью. Впереди показались въездные столбы. Линдзи нерешительно притормозила, затем одновременно с Хатчем заметила следы от шин, уже почти занесенные зыбучим песком. Резко рванула машину вправо, и та подпрыгнула, ударившись о бетонный бордюр бывшей цветочной клумбы. Надо было обуздать свой гнев, ни в коем случае не дать ему взять верх над собой, как это случалось с отцом, потому что, не сдержи он себя, и можно считать, что Регины уже нет в живых. Хатч попытался снова дозвониться по номеру «911» экстренного вызова полиции. Цеплялся за любую возможность не дать свихнуться рассудку. Он не смеет опускаться до уровня этой мерзопакостной твари, чьими глазами смотрел на стянутые веревками запястья и в расширенные от ужаса глаза ребенка.
Волна ярости, прокатившаяся по телепатическому каналу связи, взвинтила Вассаго, подогрела его собственную ярость и убедила его, что нет смысла ждать, когда в его руках окажутся обе — и мать и ребенок. Зрелище задуманного распятия возбуждало в нем такое богатство отвращения и ненависти, что все более крепла уверенность: этот его художественный замысел обладал всеми качествами гениального творения. Воплощенный с помощью сероглазой девчушки в истинное произведение искусства, он откроет ему двери в Ад. Перед въездом на служебную аллею он вынужден был остановить «хонду», так как путь ему преграждали запертые на висячий замок ворота. Огромный висячий замок он сломал уже давно. Подвешенный за дужку, тот только создавал видимость неприступности. Вассаго вылез из машины, открыл ворота, въехал внутрь, снова вышел из машины и закрыл их за собой. Усевшись за руль, решил не оставлять «хонду» в подземном гараже и не добираться до музея мертвецов по катакомбам. Времени и так оставалось в обрез. Медлительные, но настойчивые паладины Бога обложили его со всех сторон. А ему так много надо успеть сделать, так много за те несколько коротких минут. Это было несправедливо. Еще бы хоть немного времени. Художника никто не смеет торопить. Чтобы выиграть эти несколько драгоценных минут, придется избрать самый короткий путь, промчавшись на машине по широким пешеходным аллеям мимо пустующих, полуразвалившихся павильонов, остановиться перед входом в «Дом ужасов», протащить на себе девочку по дну безводной лагуны, через пропускные ворота для гондол, по тоннелю с оставленным посередине углублением для цепного привода в бетонном полу и наконец спуститься вниз, в Ад.
Пока Хатч по телефону вел переговоры с отделением шерифа, Линдзи въехала на автостоянку. Высокие фонарные столбы больше не освещали ее. Слева и справа от нее убегали в темноту безлюдные, покрытые асфальтом пространства. В нескольких сотнях ярдов прямо на их пути высился когда-то весь сверкавший огнями, а теперь темный и обветшавший замок, через который посетители попадали в «Мир фантазии». Машины Джереми Нейберна нигде не было видно, а на огромном, обдуваемом со всех сторон ветрами асфальтовом пространстве не скапливалось достаточно пыли, чтобы по сохранившимся отпечаткам шин определить, куда он поехал. Насколько было возможно, она почти вплотную подъехала к замку, но дальше путь ей преградила цепочка билетных будок и узких, чтобы не создавать толчеи, проходов между ними из литого бетона. Все это напоминало массивные оборонительные сооружения, воздвигнутые с целью помешать танкам противника высадиться на тщательно охраняемом плацдарме. Когда Хатч с силой швырнул трубку на рычаг, Линдзи так и не разобрала, чем кончился разговор, во время которого просительные нотки зачастую сменялись угрозами и категорическим тоном. Она так и не поняла, приедут или не приедут полицейские, но то, что волновало ее в данную минуту, было настолько безотлагательным, что она даже и не подумала спросить об этом мужа. Единственное, чего она хотела, так это мчаться вперед, не останавливаясь и ни на секунду не прекращая погони. Припарковав машину, Линдзи даже не выключила мотор и не погасила фары. Хотела, чтобы хоть что-нибудь разгоняло этот мрак обступившей их со всех сторон ночи. Рванула дверцу, чтобы выскочить наружу и продолжать преследование пешком. Но Хатч отрицательно мотнул головой — нет, и поднял с пола у ног браунинг. — Почему? — требовательно спросила она. — Он каким-то образом проехал на машине. Думаю, я эту суку вычислю быстрее, если буду идти прямо по его следу, ехать так, как ехал он, может быть, это поможет восстановить с ним связь. Кроме того, смотри, какая громадина этот парк, на машине будет гораздо быстрее. Она снова уселась за руль, включила зажигание и спросила: — Куда? Он замешкался с ответом всего лишь на секунду, возможно, на какую-то долю секунды, но казалось, что за этот промежуток времени убийца успеет перерезать горло скольким угодно маленьким беззащитным девочкам. — Налево. Езжай налево и гони вдоль забора.
Глава 2
Вассаго остановил машину у кромки лагуны, выключил мотор, выбрался наружу и, обойдя машину спереди, подошел к тому месту, где сидела девочка. Открыл дверцу: — Ну вот и приехали, ангелочек. В парк аттракционов, как и обещал. Здорово, да? Довольна? Он развернул ее на сиденье ногами наружу. Из кармана куртки достал нож с выкидным лезвием, нажав кнопку, выпустил из его рукоятки острое как бритва жало и повертел им у нее перед носом. Даже при слабеньком свете тонкого серпа луны, даже несмотря на то что глаза ее не были столь чувствительны, как у него, она разглядела лезвие ножа. Он заметил ее взгляд и затрепетал, когда на ее лице и в глазах отразился мгновенный ужас. — Сейчас освобожу тебе ноги, чтобы ты сама могла идти, — предупредил он, поигрывая ножом у нее перед глазами, заставляя отраженный тусклый свет серебристой ртутью перекатываться по лезвию. — Если думаешь ударить меня ногой в надежде, что попадешь в голову и отключишь меня, а затем успеешь смыться отсюда, глубоко ошибаешься, милая. Ничего у тебя не выйдет, а мне придется тогда наказать тебя за этот поступок и сделать тебе чик-чик. Ты слышишь меня, радость моя? Я толково объясняю? Она издала невнятный, приглушенный кляпом звук, и по ее тону можно было догадаться, что она подчинится его воле. — Отлично, — одобрил он. — Умница. Из тебя выйдет прекрасный Иисус. Отличный, великолепный маленький Иисусик. Вассаго разрезал веревки, стягивавшие ее лодыжки, помог ей выбраться из машины. Она пошатнулась, видимо, ноги во время езды сильно затекли, но он не намерен был попусту терять время. Грубо схватил ее за одну из связанных за запястья рук и, не развязывая их и не вынимая кляпа из ее рта, потащил, обходя машину, к бордюру лагуны перед «Домом ужасов».С внешней стороны высота бордюра достигала двух футов, а с внутренней, со стороны воды, была вдвое больше. Он помог Регине перебраться через него на сухое бетонированное дно широкой лагуны. Ей было противно его прикосновение, и, хотя он перчаток с рук не снимал, она чувствовала даже сквозь них исходивший от него холод, или ей казалось, что она ощущает этот его холод и влажную кожу, отчего готова была в ужасе закричать. Но знала, что, даже если бы и захотела, все равно не смогла бы это сделать из-за кляпа во рту. Если бы она попыталась закричать, то попросту подавилась бы им, и потом, скорее всего, не смогла бы толком отдышаться, и поэтому она позволила ему помочь ей перебраться через бордюр. Даже когда он рукой в перчатке не касался ее оголенной кожи, хватая ее за руку, и между ним и нею оказывался свитер, прикосновение его было столь омерзительным, что, казалось, ее вот-вот вырвет, и Регина изо всех сил старалась удержать поднимавшуюся к горлу блевотину, понимая, что с кляпом во рту захлебнется ею. За долгие десять многострадальных лет Регина обучилась множеству уловок и маленьких хитростей, с помощью которых переживала трудные моменты жизни. Так, исхитряясь представить себе, в какие ужасные обстоятельства могла бы попасть, она легко выносила те, в которых оказывалась. К примеру, жалея себя, когда приходилось есть желе с персиками, она представляла, как было бы в тысячу раз противнее есть мертвых мышей, обмакнутых в шоколад. Или: как было бы плохо, если бы вдобавок ко всем своим увечьям она была бы еще и слепой. После пережитого ужасного потрясения, когда во время испытательного срока была отвергнута Доттерфильдами, она часами лежала с закрытыми глазами, чтобы доказать себе, какие выпали бы на ее долю страдания, если бы ее зрение было таким же увечным, как и ее правая рука. Но попытка представить себе более ужасные обстоятельства, чем те, в которых находилась сейчас, не сработала, потому что придумать что-либо более ужасное, чем очутиться во власти этого странного, одетого во все черное, в черных очках незнакомца, к тому же постоянно называющего ее «милая» и «радость моя», было невозможно. Не помогли и другие уловки. Пока он, дрожа от нетерпения, тащил ее по дну лагуны, она преувеличенно подволакивала увечную ногу, делая вид, что не может идти быстрее. Ей надо было во что бы то ни стало обязательно выиграть время, чтобы немного подумать, чтобы придумать хоть какую-нибудь новую уловку. Но она была всего лишь ребенком, а с ходу придумать что-либо оригинальное не так-то просто даже для такси шустрой девочки, как она, несмотря на весь ее десятилетний опыт придумывания хитрых уверток, призванных показать, что она способна сама постоять за себя, что она крепкий орешек и никогда не плачет. Но запас се уловок и хитростей кончился, и никогда в жизни ей не было так страшно, как сейчас. Он протащил ее мимо больших лодок, очень похожих на венецианские гондолы, но с носовой частью, как у кораблей викингов. Нетерпеливо-настойчиво влекомая за руку незнакомцем, она прохромала мимо ужасной, ощеренной змеиной морды, рядом с которой почувствовала себя крохотной былинкой. Дно сухого пруда было сплошь усеяно занесенными сюда ветром опавшими листьями и полуистлевшими обрывками бумаги. Неожиданные сильные порывы ночного ветра кружили у их ног шипящие мусорные водовороты этого сухого призрачного моря. — Иди же, счастье мое, — поторапливал он ее своим приторным сатанинским голосом, — ты должна сама пройти свой путь на Голгофу, как это сделал Он. Разве не так? Или я прошу слишком многого? Как полагаешь? Но ведь я же не настаиваю, чтобы ты сама несла на плече свой крест, а? Что скажешь, милая, можешь ты, сука, идти быстрее или нет? Она была до смерти напугана, и никакими увертками этого было не скрыть, никакими увертками не удержать слез. Ее всю трясло, как в ознобе, и она плакала навзрыд, а правая нога теперь болела так сильно, что она не только не могла двигаться быстрее, как он требовал, но вообще едва держалась на ногах. В прошлом, в такие моменты, как этот, она бы обратилась за помощью к Богу, говорила бы и говорила с Ним без умолку, ибо никто так часто и так грубо не общался с Богом, как с малых лет это привыкла делать она. Еще в машине она обратилась к Нему, но Он не услышал ее. И в прошлом их беседы были односторонними, правда, говорила всегда только она, но знала при этом, что Он внимательно слушает ее, слышала рядом с собой Его едва ощутимое медленное, ровное дыхание. Но сейчас Регина была уверена, что Он не слышал ее, иначе, увидев, в каком безнадежном положении она оказалась, не замедлил бы ответить ей. Но Он исчез, и она не знала, как его отыскать, и чувствовала себя такой одинокой, как никогда в жизни. Когда она полностью обессилела от слез и совершенно не могла идти сама, незнакомец подхватил ее на руки. Он был очень сильным. Она не могла воспротивиться этому, но и не обхватила его за шею руками. Сложив их на груди, сжала кулачки и, отрешившись от всего, полностью ушла в себя. — Дай мне самому понести тебя, мой маленький Иисус, — прошептал он, — мой прелестный, маленький ягненочек, окажи мне эту честь. В голосе его, приторно-елейном, не было теплоты и участия. Только ненависть и презрение. Эти интонации не были ей в новинку, она уже слышала их раньше. Как ни старайся приноровиться к другим и со всеми быть в хороших отношениях, всегда найдутся дети, которые возненавидят тебя только за то, что ты чем-то отличаешься от них, и в голосах их постоянно звучат нотки, от которых бросает то в жар, то в холод. Он понес ее через открытые сломанные и провисшие на петлях ворота в темноту, заставившую ее почувствовать себя совсем маленькой девочкой.
Линдзи даже и не подумала выйти из машины, чтобы проверить, можно ли открыть ворота. Когда Хатч указал направление, она просто-напросто прижала педаль акселератора к полу. Машина, взбрыкнув, пулей помчалась вперед. С треском и грохотом, напрочь снеся ворота и разбив передок уже основательно потрепанной в пути машины, лишившись к тому же одной из фар, они ворвались на территорию парка. Направляемая Хатчем, она проехала по окружной служебной аллее почти половину парка. По левую руку от них бежал высокий забор, покрытый коряво торчащими обрывками вьющейся лозы, когда-то полностью скрывавшей в густой листве звенья цепи, а ныне засохшей на корню после того, как была отключена система водоснабжения. По правую — глухие торцовые стены павильонов, в которых размещались катальные горки, сооруженные с расчетом на такие длительные сроки эксплуатации, что демонтировать их было не так-то просто. Попадались строения с затейливыми фасадами, поддерживаемыми наклонными опорами, хорошо видимыми сзади, со служебной аллеи. Свернув с аллеи и проскочив между двумя такими постройками, они помчались по широкой петлявшей дороге, по которой раньше двигались толпы народу. Огромное, самое большое из тех, что ей когда-либо доводилось видеть в жизни, чертово колесо, разбитое ветрами, иссушенное солнцем и потрепанное годами забвения, высилось в ночи, подобно громадному скелету левиафана, начисто обглоданного стервятниками. У одного из крупных сооружений, у береговой кромки засохшего пруда, стояла машина. — «Дом ужасов», — выдохнул Хатч, так как знал это место по своим видениям. Крыша сооружения представляла собой целый ряд остроконечных шатров, словно была куполом цирка-шапито, под которым размещалось сразу несколько арен. Линдзи могла видеть только то, что попадало в свет фар движущейся машины, но и этого было достаточно, чтобы вызвать в ней отвращение к окружавшему их пейзажу. Не будучи по природе суеверкой — хотя, если учесть все происходящее, быстро таковой становилась, — она тем не менее физически ощутила смрадное дыхание смерти, исходящее от этого строения, как ощутила бы холод, исходящий от глыбы льда. Она вплотную подъехала сзади к стоявшей машине. «Хонде». Пассажиры покинули ее в такой спешке, что оставили открытыми обе передние дверцы, и внутри машины горел свет. Схватив браунинг в одну руку и фонарик в другую, Линдзи выскочила из «мицубиси» и, подбежав к «хонде», заглянула внутрь. Регины там не было. Она обнаружила, что наступил момент, когда страх как бы уже застыл на самой верхней точке шкалы. Каждый оголенный нерв напряжен до предела. Мозг не в состоянии больше принимать новую информацию и, достигнув предела восприятия ужаса, оцепенел. Любое повое потрясение, любая новая ужасная мысль больше уже ничего не могут изменить — мозг механически регистрирует поступающую информацию, никак не обрабатывая ее. Линдзи почти ничего не помнила из того, что произошло дома или во время призрачно-нереальной погони по пути сюда; все это выветрилось у нее из головы, остались какие-то несвязанные между собой детали: все ее внимание было сосредоточено только на настоящем. Прямо у нее под ногами в падавшем из открытой дверцы машины на землю свете и затем дополнительно освещенный ее фонариком лежал длинный обрывок бечевки. Она подняла его и увидела, что раньше он был завязан петлей, а затем узел был перерезан. Хатч взял у нее бечевку. — Этой бечевкой он связал ей ноги. А когда приехали, потребовал, чтобы она шла сама. — Где они сейчас? Фонариком он повел в противоположную от них сторону лагуны, поверх трех больших серых, лежавших на боку гондол с чудовищными надстройками в носовой части, на двустворчатые деревянные ворота на уровне фундамента «Дома ужасов». Одна створка ворот провисла на петлях, другая была широко распахнута. Свет фонарика, работавшего на четырех батарейках, едва достигая ворот, упирался в жуткий мрак за ними, не в состоянии его пробить. Линдзи, обогнув машину, быстро перелезла через бетонный бордюр. Несмотря на предупреждающий возглас Хатча: «Линдзи, подожди», она даже и не подумала остановиться (а сам он разве стоял на месте?), подгоняемая мыслью, что Регина находится во власти воскрешенного к жизни, сумасшедшего отпрыска Нейберна. Когда она по дну лагуны бежала к воротам, то совсем не думала об опасности, грозившей ей самой: страх за Регину вытеснил из ее головы все остальное. Сообразив, однако, что спасение девочки во многом зависит от того, останется ли она в живых, Линдзи на бегу стала водить лучом фонарика из стороны в сторону, опасаясь, что на нее могут напасть сзади, из-за одной из лежащих на боку серых громадин. Ветер кружил опавшие листья и обрывки бумаг, гоняя их по сухому дну лагуны, иногда подхватывая в охапку и подбрасывая высоко в воздух. Но это было единственное движение, все остальное оставалось неподвижным и мертвым. Хатч догнал ее уже у входа в «Дом ужасов». Задержался же он потому, что поднятой ею с земли бечевкой привязывал фонарик к обратной стороне распятия. Теперь оба предмета, и распятие и фонарик, находились в одной руке, и, когда ему нужно было направить свет в ту или иную точку, он поворачивал туда голову Христа. А в правой, освободившейся руке он держал браунинг. Автомат же оставил в машине. Если бы он привязал фонарик к «моссбергу», то мог бы захватить с собой и пистолет и автомат. Но, очевидно, Хатч решил, что на сей раз распятие — более грозное и более подходящее оружие, чем автомат. Линдзи было совершенно невдомек, зачем ему понадобилось снимать распятие со стены в спальне Регины. Что-то подсказывало ей, что он и сам толком не смог бы ей это объяснить. Они брели по илистому дну огромной реки неизведанного, и, помимо распятия, она с удовольствием обзавелась бы еще и ожерельем из чеснока, и пузырьком со святой водой, и серебряными пулями, и всякой другой всячиной, которая могла бы принести им удачу. Подспудно, как художник, Линдзи всегда верила, что мир пяти чувств, внешне незыблемый и прочный, не исчерпывает все существование, и это ощущение Вселенной она привносила в свои живописные полотна. Теперь это ощущение стало реальностью повседневной жизни, и она изумлялась самой себе, что не замечала этого раньше. Буравя фонариками непроглядный, обступивший их со всех сторон мрак, они проследовали в «Дом ужасов».
Запас уловок, помогавших Регине выстоять в трудных обстоятельствах, не был, однако, исчерпан до конца. Оставалась еще одна. В глубинах своего сознания она отыскала местечко, забравшись в которое и заперев за собой входную дверь, могла чувствовать себя в полной безопасности, местечко, о котором знала только она и где никому не дано было ее отыскать. Оно было уютным и красивым, это местечко, с окрашенными в персиковые тона стенами и кроватью, разрисованной цветами. Вход в него наглухо запирался изнутри. И не было в нем никаких окон. Укрывшись в этом самом тайном из всех своих убежищ, она оставалась совершенно безучастной к судьбе другого своего «я», к реальной Регине, Регине во плоти и крови, живущей в ненавистном внешнем мире. Ибо подлинная Регина была в полной безопасности в укромном своем пристанище, надежно укрытая от страха и боли, от слез, от сомнений и печалей. Извне до нее не доходили никакие звуки, особенно невосприимчива была она к вкрадчивому до омерзения голосу незнакомца в черном. Глаза ее не упирались в темноту, а видели окрашенные в персиковые тона стены ее гнездышка, залитого ровным, мягким светом, и разрисованную цветами кровать. Вне стен ее приюта ничто не могло коснуться ее, и уж тем более его потные, бледные, быстрые руки, с которых он недавно снял перчатки. Но самое главное: в заповедном ее прибежище воздух был напоен благоуханием роз, чистым и свежим. А не зловонием мертвечины. Не ужасными испарениями гниющих трупов, от которых свербит в горле и подступает тошнота, грозящая заполнить рот и без того заткнутый небрежно скомканным шарфом, насквозь пропитанным слюной. Нет, ничем подобным и не пахнет в ее укромном местечке, благословенном приюте, в ее глубоком и святом, безопасном и уединенном пристанище.
С девочкой что-то произошло. Бурлившая в ней жизненная энергия, так непреодолимо тянувшая его к ней, казалось, иссякла. Когда Вассаго опустил ее на пол, прислонив спиной к цоколю возвышавшегося над ними Люцифера, ему почудилось, что она без сознания. Но это было не так. Во-первых, когда он присел перед ней на корточки и положил ладонь ей на грудь, то почувствовал, как отчаянно, словно кролик, задние лапы которого уже находятся в пасти у лисы, бьется ее сердце. С таким неистово колотящимся сердцем человек не может находиться без сознания. Кроме того, глаза ее были широко открыты, взгляд направлен в пустоту, словно ни на чем не мог сосредоточиться. Естественно, она не могла видеть его в темноте, как он ее, да и не только его, вообще ничего не могла видеть, но не поэтому взгляд ее как бы проходил, не замечая, сквозь него. Когда он кончиком пальца коснулся ее века, она не отдернула головы, даже бровью не повела. На щеках ее быстро высыхали давешние слезы, но новых слез не было. Кататония, состояние полной неподвижности! Маленькая стерва начисто отключилась, полностью подавив в себе все инстинкты, превратив себя в бесчувственный чурбан. Нет, так дело не пойдет! Значимость данного жертвоприношения состояла в его непреодолимой жажде жизни. Искусство здесь парадоксально сводило воедино полнокровную, пульсирующую энергию жизни с противостоящими ей болью и ужасом. Какое же содержание сможет он вложить в своего маленького сероглазого Христа, если девочка будет не в силах до конца прочувствовать и сполна выразить предначертанные ей страдания? Это его так возмутило, привело в такое бешенство, что у него отпала всякая охота продолжать вести с ней игру в кошки-мышки. Держа ладонь на отчаянно, как обреченный кролик, прыгавшем в груди сердце, другой рукой Вассаго достал из кармана куртки нож и выхлестнул из рукоятки лезвие. Спокойно! Надо держать себя в руках. Он мог бы немедленно вспороть ей грудь, вырвать ее сердце и насладиться зрелищем его предсмертной агонии, но он недаром слыл Мастером Игры, которому ведомы значение и значимость самообладания. Он может позволить себе отказаться от сиюминутных, преходящих утех в угоду более длительным и весомым воздаяниям. Он колебался только какое-то мгновение, наикратчайший миг, прежде чем засунул нож обратно в карман куртки. Он должен быть выше этого. Непонятно, что это вдруг на него нашло! Скорее всего, когда он будет готов присовокупить ее к своей коллекции, она выберется из своего полуобморочного состояния. А не выберется, так первый же забитый в ее тело гвоздь заставит ее сделать это, и тогда она предстанет перед ним во всем великолепии истинного произведения искусства, полностью реализовав потенциально заложенные в ней — тут двух мнений и быть не могло! — великолепные возможности. Не мешкая, Вассаго повернулся к тому месту, куда в настоящее время упиралась полудуга его коллекции и где кучей, в наброс, лежали различные инструменты. В его распоряжении находились молотки и отвертки, гаечные ключи и плоскогубцы, пилы и целый комплект различных угольников, электродрель, питавшаяся от батареек, с полным набором сверл, шурупы и гвозди, веревки и провода, кронштейны и крепежные скобы различных видов и конфигураций — словом, предметы, необходимые человеку, привыкшему все делать собственными руками, и приобретенные по случаю в магазинах хозтоваров, когда стало ясно, что аранжировка каждого экспоната коллекции, с целью придать ему наиболее интересную с эстетической точки зрения позу, диктует необходимость использования различных поддерживающих конструкций и опор, а в некоторых случаях и создания специального тематического фона. Ведь материал, с которым ему приходится работать, резко отличается от привычных масляных или акварельных красок, глины, мрамора или гранита, так как земное притяжение способно в одно мгновение расстроить созданный им эффект. Он знал, что времени у него в обрез, что ему буквально на пятки наступают те, кто ничего не смыслит в его искусстве, и что к утру они отнимут у него парк аттракционов. Но тогда это уже не будет иметь никакого значения, главное, необходимо успеть завершить свою коллекцию за счет еще одного, последнего приобретения, способного наконец вернуть ему благорасположение темных сил преисподней, которого он так страстно добивается. Значит, надо спешить. Сначала, прежде чем поставить девочку на ноги и закрепить ее в таком — стоячем — положении, необходимо проверить, войдет ли гвоздь в материал, из которого были сделаны сегменты брюха змеи и груди потешного Люцифера. На ощупь они казались плотной резиной или мягкой пластмассой. В зависимости от толщины, ломкости и упругости материала гвоздь может либо войти в него с такой же легкостью, как в дерево, либо отскочить от него, либо согнуться. Если кожа фальшивого дьявола окажется чересчур упругой, придется вместо молотка поработать дрелью, а вместо гвоздей использовать двухдюймовые шурупы, но эта, несколько модернизированная, подача древнего ритуального действа не должна разрушить целостность и сущность самого композиционного замысла. Из кучи инструментов Вассаго взял молоток. Установил гвоздь. Первый удар вогнал гвоздь на четверть, второй — на половину длины в живот Люцифера. С гвоздями все обстояло благополучно. Он сверху вниз посмотрел на девочку, остававшуюся в том же положении, спиной к цоколю статуи, в каком он ее усадил. Ни на один из его ударов она не отреагировала. Это его несколько разочаровало, однако не все еще было потеряно. Перед тем как установить ее на место, он быстро собрал все, что ему может понадобиться. Пару скреп размером четыре на два, чтобы временно поддерживать экспонат, пока не удастся наглухо его закрепить. Два гвоздя. Плюс еще один, длинный, с более хищным острием, который с успехом заменит костыльный гвоздь. Молоток обязательно. Быстрее! Маленькие гвоздики чуть побольше кнопок; вбив с дюжину их рядком в лоб, можно пунктирно обозначить кромку тернового венца. Нож, с помощью которого можно будет имитировать рану, нанесенную копьем насмешника-центуриона. Что еще? Думай! Быстрее! Уксуса нет, и губки, которую надо в нем смочить, чтобы поднести к губам умирающего, тоже нет, но, как говорится, на нет и суда нет, придется обойтись без этого традиционного напитка, к тому же отсутствие столь малозначительной детали никак не способно нарушить общую цельность композиции. Итак, теперь как будто бы все готово.
Хатч и Линдзи, углубившись в тоннель, по которому когда-то «плыли» гондолы, старались идти как можно быстрее, но необходимость обшаривать лучами фонариков каждую нишу и каждый укромный закуток, возникавшие то слева, то справа от них в стенах тоннеля, значительно тормозили их продвижение вперед. Снующие из стороны в сторону лучи заставляли двигаться и плясать тени от бетонных сталактитов, сталагмитов и других сделанных рукой человека горных образований, но того, кто мог бы прятаться за ними, не обнаруживали. Спереди, из глубин «Дома ужасов», до них донеслись два сильных гулких удара, один за другим, похожие на удары молотка. И снова наступила тишина. — Он где-то там, — прошептала Линдзи, — но не очень близко. Можно идти быстрее. Хатч согласился. Теперь, когда не надо было больше осматривать все встречавшиеся им на пути углубления и ниши для механических чудовищ, они продвигались почти бегом. Вскоре между Хатчем и Джереми Нейберном вновь установилась телепатическая связь. Ему передалось возбужденное состояние сумасшедшего, его отвратительное кровожадное нетерпение. И вместе с ним целый рой бессвязных образов: гвозди, костыльный гвоздь, молоток, две скрепы размером два на четыре, горстка мелких гвоздей, тонкое жало лезвия, выбрасываемого из рукоятки ножа под воздействием пружины… Трясясь, как в ознобе, от негодования, усиленного во сто крат безотчетным страхом, полный решимости не дать ужасным видениям сбить себя с толку и помешать преследованию, Хатч вылетел из горизонтального тоннеля на резко пошедший вниз склон и, спотыкаясь, по инерции пробежал еще несколько шагов, пока не сообразил, что пол под его ногами стал наклонным. В нос ударила первая волна смердящего запаха, поднятого на эту высоту естественной воздушной тягой. Его чуть не вырвало от омерзения, и то же самое, как он понял по резкому вздоху-всхлипу, произошло с Линдзи, но, пересилив себя, он напряг горло и сглотнул слюну. Хатч знал, что их ждет впереди, в конце склона. Хотя полного представления не имел. То, что пригрезилось ему в машине, только частично приоткрывало завесу над так называемой коллекцией. Если он сейчас же стальной хваткой не возьмет себя в руки и не подавит в себе даже крохотный намек на отвращение, то никогда не сможет спуститься в эту дьявольскую дыру, а путь к спасению Регины шел именно через нее. Очевидно, то же самое сумела внушить себе и Линдзи, подавив, как и он, подступавшую к горлу тошноту и последовав за ним вниз по крутому склону.
Внимание Вассаго сразу же было привлечено проблесками света, появившимися вверху в противоположном от него конце громадной пещеры в глубине тоннеля, выходившего па водослив. Скорость, с которой свет становился все ярче, убедила его, что у него не хватит времени присовокупить девочку к коллекции до того, как преследователи настигнут его. Он знал, кто они. Видел их, как, очевидно, и они его, во время сеансов телепатической связи. Линдзи с мужем прочно сели ему на хвост еще в Лагуна-Нигуэль. Только сейчас до него стало доходить, что в это дело скорее всего вмешались более значительные силы, чем могло показаться вначале. Сперва он решил было позволить им спуститься по водосливу в Ад и, оставшись у них за спиной, разделаться с мужчиной, обезоружить женщину, а затем сотворить двойное распятие. Однако что-то в мужчине тревожило его, вызывало непонятные опасения. Но что именно, он никак не мог взять в толк. Зато очевидным было другое: несмотря на всю свою смелость, решительность и наглость, он явно побаивался встретиться лицом к лицу с этим парнем. Еще раньше, когда Вассаго находился в их доме и элемент неожиданности был на его стороне, ему следовало бы из засады прежде всего укокошить муженька, а потом уже брать Регину или Линдзи. Сделай он это тогда, ему представилась бы возможность добыть вместе и женщину, и ребенка. И сейчас он спокойненько занимался бы их разделкой. Далеко вверху жемчужный отсвет раздвоился, превратившись в два лучика, рыскающих по краю водослива. Чуть помешкав, оба почти одновременно тронулись вниз. Так как Вассаго упрятал очки в карман куртки, разящие шпаги света больно кололи ему глаза. Как и раньше, он не отважился сразиться с мужчиной, а предпочел убраться с его дороги вместе с ребенком. Но насколько благоразумным было такое решение на этот раз, он и сам толком не знал. Мастер Игры, думал он, должен полностью контролировать свои действия и сам выбирать время и место, чтобы доказать свое превосходство и силу. Это была непреложная истина. Но в данный момент она почему-то казалась не более чем трусливой уверткой и желанием во что бы то ни стало избежать открытого противостояния. Ерунда. Он никого и ничего не боится. Лучи все еще были на значительном расстоянии от него и рыскали по дну водослива, где-то в самом его начале. Он ясно слышал шаги преследователей, усиленные эхом, звучавшие все громче и отчетливее по мере того, как оба они спускались в глубины пещеры. Схватив на руки неподвижную девочку, легко, словно пуховую подушку, перекинул ее через плечо и бесшумно заскользил по дну Ада к искусственным скальным образованиям, где, он знал, находился аварийный вход в служебное помещение.
— О Господи! — Несмотри, — коротко бросил Хатч, быстро осветив фонариком поочередно все экспонаты жуткой коллекции. — Отвернись, прикрой меня со спины и смотри в оба, чтобы эта скотина не напала на нас сзади. Она была признательна ему за эти команды, которые выполнила неукоснительно, оторвав взгляд от шеренги трупов, находившихся на разной стадии разложения. Но в душе была уверена, что еженощно, даже если удастся дожить до ста лет, эти фигуры и эти лица будут являться ей во сне. Ишь ты, размечталась — дожить до ста! Ей бы сегодня-то выжить. Сама мысль, что приходится вдыхать этот воздух, насквозь пропахший зловониями и нечистотами, сводила ее с ума. Но не дышать совсем она, естественно, не могла. Со всех сторон их окружал непроницаемый мрак. Луч фонарика, казалось, был бессилен его пробить. Словно патока, мрак тотчас заполнял пробуравленный лучом узкий тоннель в его толще. Линдзи слышала, как Хатч шаг за шагом продвигается от трупа к трупу, и знала, зачем он это делает, — быстро осматривает каждую фигуру, надеясь обнаружить затаившегося среди них Джереми Нейберна, живого монстра в гуще мертвецов, только и ждущего своего часа, чтобы напасть на своих преследователей, едва они поравняются с ним. Но где же Регина? Без передышки Линдзи широкой дугой быстро водила фонариком из стороны в сторону — влево-вправо, влево-вправо, — не давая возможности этому убийце-подонку подкрасться к ней незамеченным. Но до чего же этот ублюдок проворен! Убедилась она в этом на собственном опыте. Как он в мгновение ока, проскочив коридор, очутился у дверей Регины, как быстро захлопнул за собой дверь, словно и впрямь у него за спиной росли крылья — крылья летучей мыши. А до чего ловок! Как стремительно сумел спуститься вниз по зарослям дикого винограда, да еще с девочкой через плечо, как после неожиданного падения, совершенно его не обескуражившего, молниеносно растаял с ней в ночи. Но где же Регина? Линдзи услышала удаляющиеся шаги Хатча. Она знала, куда он направился: он не просто исследовал полукруг мертвых тел, расставленных по периметру основания громадного, как башня, Сатаны, а проверял, нет ли Джереми Нейберна с обратной стороны гигантской статуи. Он делал то, что требовала обстановка. Она понимала это умом, но сердцем протестовала, никак не могла согласиться с тем, что осталась наедине со всеми этими мертвыми людьми у себя за спиной. Некоторые из них усохли так сильно, что если бы чудом ожили и двинулись бы на нее, то зашелестели бы при движении, как бумага, другие находились в ужасающих, заставлявших шевелиться волосы на голове стадиях разложения и, приближаясь, непременно издавали бы густые, мокрые, чавкающие звуки… Что же ей в голову лезет разная чепуха? Они все мертвы. Их-то нечего бояться. Мертвые всегда остаются мертвыми. Ой ли, так-таки и всегда? Кому-кому, а ей пора бы знать, что не всегда. Продолжая водить фонариком по сторонам — влево-вправо, влево-вправо, — она с трудом подавляла в себе желание обернуться и направить луч на разлагающиеся трупы. В глубине души Линдзи чувствовала, что должна бы оплакивать их, а не бояться, сострадать им за те надругательства и унижения, которые выпали на их долю, но чувство страха потеснило все другие ощущения. Наконец она услышала приближающиеся с противоположной стороны статуи шаги Хатча, закончившего, слава богу, свой обход. Но в следующее же мгновение ее словно обожгла мысль, что, может быть, это шаги не Хатча, а одного из оживших трупов. Или Джереми! Она резко обернулась назад и, стараясь глядеть не на трупы, а мимо них, направила луч фонарика в то место, откуда доносились звуки шагов, и с облегчением увидела приближающегося к ней мужа. Но где же Регина? Словно в ответ на этот вопрос мертвящую тишину разорвал отчетливый металлический скрип. Во всем мире такой звук могут издавать только двери, висящие на ржавых и давно не смазываемых петлях. Они одновременно повернули свои фонарики в одном и том же направлении. Место, в которое уперлись оба луча и откуда, по их предположению, донесся этот скрип, оказалось скальным выступом на противоположном берегу сухого озера, гораздо большего по размерам, чем лагуна наверху павильона. Ноги Линдзи сами понесли ее туда. Хатч шепотом позвал ее, и тон его означал только одно: посторонись, дай мне пойти первому! Но ее уже ничто не могло остановить, ибо остановиться сейчас значило струсить, пытаться спасти свою собственную шкуру. Ее маленькую Регину затащили сюда, в эту мертвецкую; по счастью, девочка могла не видеть самих трупов, так как ее странный похититель ненавидел свет, но она не могла не почувствовать их присутствие. Линдзи казалась невыносимой сама мысль, что невинного ребенка еще какое-то время продержат в этом ужасном склепе. Она готова была даже ценой собственной жизни вырвать отсюда Регину. Когда Линдзи добралась до скал и пошла между ними, ожесточенно рассекая тьму лучом фонарика на прыгающие в разные стороны тени, то услышала отдаленный вой сирен. Полиция! Значит, они все же всерьез восприняли телефонный звонок Хатча. Но Регина, увы, все равно пока еще в когтях у Смерти. Если девочка еще жива, то вряд ли она сможет продержаться до тех пор, пока полицейские отыщут вход в «Дом ужасов» и спустятся к ним сюда, в логово Люцифера. И потому, ни на секунду не останавливаясь, Линдзи быстро шагала вперед, лавируя между скалами, опасно срезая углы, в одной руке сжимая фонарик, в другой — браунинг. За ней по пятам не отставая шел Хатч. Неожиданно она с ходу ткнулась прямо в металлическую дверь. Сплошь покрытую ржавой пылью, с длинной ручкой-засовом. Слегка приоткрытую. Толкнув ее, шагнула внутрь, даже и не подумав поступить так, как поступают детективы в бесчисленных полицейских фильмах и телевизионных шоу. Как львица, преследующая хищника, осмелившегося украсть ее детеныша, Линдзи одним махом перелетела через порог. Умом она понимала, что поступает глупо, даже очень глупо, что сама может погибнуть, но разве можно объяснить это разъяренной львице, готовой на куски разорвать обидчика, дерзнувшего напасть на ее детеныша? Сейчас ее поступками руководил инстинкт, и он говорил ей, что этот подонок пытается улизнуть от них, что ни в коем случае нельзя ни на миг прекращать погоню, что необходимо во что бы то ни стало исключить любую возможность расправиться с девочкой и, перекрыв все пути к отступлению, загнать его в угол. За дверью в скале, скрытое за стенами Ада, находилось помещение шириной около двадцати футов, когда-то буквально нашпигованное механизмами. Повсюду валялись болты и стальные плиты, на которые эти механизмы крепились. Сложные переплетения лестниц, уходившие вверх на высоту до сорока или пятидесяти футов, теперь были сплошь перевиты паутиной; лестницы вели к различным дверцам, нишам и панелям, где размещалось сложное оборудование — генераторы холодного пара, лазеры, — с помощью которого достигались различные эффекты — световые, звуковые и прочие. Оборудование было демонтировано, упаковано в контейнеры и увезено. Сколько может потребоваться времени, чтобы разрезать девочку, вырвать из ее груди еще теплое сердце и насладиться его предсмертной агонией? Минута? Две? Не больше. Поэтому нельзя давать ему ни минуты покоя, плотно сесть ему на хвост, дышать в его паршивый затылок. Линдзи направила луч фонарика на кишевшее разбегавшимися в разные стороны от света пауками нагромождение стальных труб, коленчатых патрубков и станин. Быстро решила, что убийца не станет прятаться ни в одном из потайных мест наверху. Хатч шел немного сбоку и чуть-чуть сзади нее, не отставая ни на шаг. Оба тяжело дышали, но не потому, что выбились из сил, а потому что страх, стеснив грудь, перехватывал дыхание. Решительно повернув влево, Линдзи зашагала к темному провалу в бетонной стене, находившемуся в самой дальней от них стороне просторного зала. Он притягивал ее потому, что раньше был явно забит досками, но не наглухо, а чтобы помешать без нужды соваться в помещение, размещавшееся за провалом в стене. По обеим сторонам провала еще торчали гвозди, но все доски были оторваны и валялись тут же, в сторонке, брошенные одна на другую. Хотя Хатч шепотом снова предупредил ее не лезть вперед, она шагнула прямо к провалу и, осветив его фонариком, обнаружила за ним не комнату, а шахту лифта. Двери, кабина, кабели и подъемный механизм были демонтированы и увезены, оставив в стене зияющую дыру, подобную той, какая остается в челюсти после удаления зуба. Она посветила фонариком вверх. Шахта поднималась на высоту трехэтажного дома и когда-то доставляла механиков и монтеров, обслуживавших сложное оборудование, на верхние этажи «Дома ужасов». Луч фонарика медленно скользнул сверху вниз по железным ступенькам служебной лестницы. Хатч и Линдзи стояли плечом к плечу, следя за неторопливо спускавшимся по бетонной стене лучом, пока двумя этажами ниже он не уперся в дно шахты, высветив там какие-то отбросы, пластиковый холодильник, несколько пустых банок из-под шипучего мускатного напитка и почти доверху наполненный мусором пластиковый мешок; все это размещалось вокруг замызганного, комковатого и изрядно продавленного матраца. На матраце, забившись в угол шахты, сидел Джереми Нейберн. На коленях, прижимая к груди и прикрываясь ею от выстрелов, он держал Регину. В руке у него был пистолет, и, как только луч осветил его, он выстрелил вверх два раза подряд. Первая пуля не задела ни Хатча, ни Линдзи, но вторая угодила ей в плечо. Ее тотчас отбросило к дверному косяку провала. Ударившись спиной о косяк, она невольно, переломившись в пояснице, резко согнулась от боли, потеряла равновесие и рухнула в шахту вслед за фонариком, выпавшим из ее руки чуть раньше. Летя вниз, она не верила, что все это происходит с ней наяву. Даже когда оказалась на дне шахты, тяжело упав на левый бок, все происходящее казалось ей нереальным, может быть, оттого, что она еще полностью не пришла в себя от шока пулевого ранения, а может быть, оттого, что упала на матрац, на краю которого примостился Нейберн. По счастливой случайности не переломав себе кости, Линдзи тем не менее не могла ни вздохнуть ни охнуть: от сильного удара в легких совершенно не осталось воздуха. Фонарик, тоже не разбившись при падении, лежал рядом, освещая одну из серых стен. Как в замедленном кино, почти не дыша, Линдзи медленно подняла правую руку с пистолетом вверх, чтобы застрелить Джереми. Но браунинга в руке не было. Видимо, падая, она выпустила его. Во время падения Линдзи Нейберн держал ее на прицеле, и сейчас прямо на уровне своего лица она увидела направленное на нее черное дуло пистолета. Ствол его был невероятно длинен: между дульным срезом и спусковым крючком умещалась целая вечность. За дулом пистолета она разглядела лицо Регины, обмякшее, с ничего не видящими глазами, а чуть повыше этого — такого родного — личика, другое, ненавистное лицо, бледное, как сама смерть. Глаза на нем, неприкрытые очками, были жестокими и странными. Она хорошо видела их, хотя отсвет фонарика заставлял его все время щуриться. Встретившись с ним взглядом, она поняла, что находится лицом к лицу с совершенно чужеродным существом, которое только притворяется, да и то не очень удачно, человеком. «Господи, совершенно ирреальный», — успела подумать она, чувствуя, что теряет сознание. Линдзи очень надеялась, что успеет потерять его до того, как он нажмет на курок. А впрочем, какая разница! Пистолет был так близко от нее, что она даже не успеет услышать выстрела, который вдребезги разнесет ее лицо.
Ужас Хатча при виде падающей в шахту лифта Линдзи неожиданно сменился изумлением от того, что сам он стал делать в следующую секунду. Заметив, что Джереми держит ее на прицеле во время падения и что, упав на дно, она оказалась всего в трех футах от дула его пистолета, Хатч отбросил свой браунинг в сторону, на кучу лежащих друг на друге досок, когда-то перегораживавших вход в шахту. Очевидно, решив, что из-за страха ненароком попасть в Регину не станет стрелять в Джереми. Но главным было невесть откуда возникшее твердое убеждение, что пистолет — не то оружие, с помощью которого можно полностью уничтожить Джереми. Совершенно не удивившись этой мысли, он, едва выпустив браунинг из рук, переложил распятие-фонарик из левой руки в освободившуюся правую и прыгнул в шахту лифта, еще толком не представляя себе, что собирается делать. Затем все происходящее приобрело оттенок какого-то таинственно-сверхъестественного действа. Ему чудилось, что он не камнем стремительно падает вниз, в черную дыру лифта, а медленно, словно став невесомым, соскальзывает в нее, паря в воздухе, и что потребовалось почти полминуты с момента прыжка вниз, прежде чем он опустился на дно шахты. Скорее всего, глубоко засевший в нем ужас полностью исказил реальное ощущение времени. Джереми, заметив его приближение, переместил пистолет и разрядил в него все восемь оставшихся в барабане зарядов. Хатч был уверен, что по крайней мере три или четыре из них точно попали в цель, но не почувствовал никакой боли. А ведь в таком ограниченно-узком пространстве убийца вообще не мог, не должен был промахнуться. Видимо, в страшной спешке и панике дрогнула рука, державшая пистолет, а Хатч к тому же был еще и движущейся мишенью. Чуть раньше, пушинкой паря в воздухе, он ощутил, что между ним и Нейберном вновь установилась странная, объединяющая их сознания связь, ж на какое-то мгновение увидел себя глазами молодого убийцы. Это одновременно был он и не он, а кто-то или что-то заключенное в нем, словно тело его стало вместилищем еще какого-то неведомого бытия. Хатчу показалось, что он заметил за спиной у себя сложенные белые крылья. А рядом со своим лицом — грозный лик воина, не испугавший, однако, его, Хатча. Видимо, Нейберн галлюцинировал, и те видения, которые получал Хатч, были не реальностью, а игрой воображения. Видимо, все обстояло именно так. И снова Хатч, все еще медленно паря в воздухе, глядел вниз собственными глазами и видел, что и Джереми Нейберн стал вместилищем другого, неведомого бытия, приобретя внешность, причудливо сочетавшую в себе черты змеи и насекомого. Скорее всего, это была игра света и тени от перекрещивающихся лучей ручных фонариков. Он и сам толком не мог объяснить себе — ни тогда, когда это происходило, ни много позже, когда вспоминал об этом, — смысл тех последних реплик, которыми они обменялись с Джереми Нейберном. — Кто ты? — спросил Нейберн, когда Хатч, упав с высоты в тридцать футов, как кошка, мягко опустился на дно шахты. — Уриэль, — произнес Хатч, хотя и сам впервые слышал это имя. — Я — Вассаго, — произнес Нейберн. — Знаю, — отвечал Хатч, хотя и это имя тоже слышал впервые. — Только тебе дано отправить меня назад. — И когда я сделаю это, — заявил Хатч, сам не понимая, откуда берет слова, — ты сойдешь вниз не князем, а таким же безмозглым рабом, как тот глупый и бессердечный мальчишка, в которого ты вселился. Слова эти ошеломили Нейберна. Впервые чувство страха закралось в его душу. — А мне казалось, что я паук, плетущий сети. Одним мощным, расчетливо стремительным движением, сам не понимая, как это у него выходит, Хатч ухватил в левую руку пояс Регины, выдернул ее из объятий Джереми Нейберна, оттолкнул далеко в сторону, чтобы ненароком не задеть, и распятием изо всех сил ударил безумца по голове. От удара вдребезги разлетелось стекло привязанного к распятию фонарика, а из лопнувшего корпуса посыпались батарейки. Хатч еще раз ударил Нейберна распятием по голове, затем еще раз и после третьего удара отправил его в могилу, которую тот уже дважды заслужил. Обуявший Хатча гнев был праведным гневом. Когда распятие, выполнив роль оружия, выпало из его рук, когда все было кончено и дело сделано, его не охватили стыд и раскаяние за содеянное. И этим он полностью отличался от своего отца. У него было странное ощущение, что властно захватившая его сила, некое незримое присутствие, о котором он раньше даже и не догадывался, постепенно покидает его. Одновременно росла уверенность, что свершилось, нечто предначертанное свыше, восстановилась порушенная гармония. Все вернулось на круги своя. Регина не реагировала на его вопросы. Хотя внешне и казалась невредимой. Хатча, однако, не волновало ее упорное молчание, так как он каким-то непостижимым образом знал, что никто из них серьезно не пострадает, оказавшись втянутым помимо своей воли в… в то, во что они были втянуты. Линдзи, потеряв много крови, лежала без сознания. Бегло осмотрев ее рану, он убедился, что жена вне опасности. Двумя этажами выше раздались голоса. Они звали его по имени. Прибыли представители власти. И, как всегда, поздно. Впрочем, не всегда. Порой… один из них оказывался в нужном месте именно тогда, когда в нем больше всего нуждались.
Глава 3
Апокрифическая притча о трех слепцах, ощупывающих слона, известна многим. Первый слепец ощупывает только хобот слона и с уверенностью заявляет, что слон — это огромная змея, подобная Питону. Второй слепец ощупывает только уши слона и объявляет его птицей, способной подниматься на огромную высоту. Третий ощупывает только хвост слона с кисточкой волос на конце, чтобы удобнее было отгонять мух, и «видит» животное, удивительно напоминающее ему ершик, приспособление для мытья бутылок. И то же справедливо относительно любого события, переживаемого вместе разными людьми. Каждый участник воспринимает это событие по-своему, не так, как другие, и извлекает из него свой урок, совершенно отличный от других.В годы, последовавшие после описанных событий в заброшенном парке аттракционов, Джоунас Нейберн потерял интерес к реанимационной медицине. Эстафету от него приняли другие врачи и добились на этом поприще больших успехов. Он же продал с аукциона все картины из двух своих незавершенных коллекций, а вырученные за них немалые деньги выгодно вложил в ценные бумаги под большие проценты. Несмотря на то что некоторое время Нейберн еще практиковал как хирург по сердечно-сосудистым заболеваниям, удовлетворения от своей работы он не получал. В конце концов он во цвете лет навсегда оставил это поле деятельности и стал думать, чему посвятить оставшиеся годы жизни. Мессу он больше не посещал. Не верил теперь, что зло являет собой некую реальную силу, своеобразное присутствие в мире, существующее вне нас, само по себе. Прочно усвоил широко бытующее мнение, что человечество само и должно стать своим собственным — и единственным — избавителем. Он поменял профессию: переквалифицировался в ветеринарного врача. Теперь незачем было бесконечно ломать себе голову, достоин или недостоин пациент его участия. Все без исключения его нынешние подопечные в равной степени могли рассчитывать на его помощь. Он так и остался вдовствующим холостяком. Трудно сказать, был ли он счастлив, но с равной долей сомнения невозможно было утверждать и обратное, и такое положение дел его вполне устраивало. Еще в течение нескольких дней отсиживалась Регина в своем потайном местечке в глубине себя, и, когда вновь объявилась на свет Божий, что-то в ней переменилось. Но кто из нас не меняется с течением времени? Ибо постоянно только изменение. Живое, меняясь, взрослеет. Она называла теперь Хатча и Линдзи папой и мамой, потому что ей самой нравилось так их называть. И приносила им такую же радость и счастье, какие они приносили ей. Она ни разу не уронила и не разбила ни одну из антикварных вещей, находившихся в их доме. Не смутила их неуместной и чрезмерной сентиментальностью, устроив им истерику с плачем и соплями; она плакала и пускала сопли только тогда, когда обстоятельства требовали и того и другого. Не привела их в трепет, уронив в ресторане целое блюдо жаркого на голову обедавшего за соседним столиком Президента Соединенных Штатов, не устроила пожар в доме, ни разу не пукнула в неподходящем месте, не испугала видом скобы на ноге соседских малолеток. Но, самое главное, она перестала даже думать об этом (и подобных пустяках) и со временем напрочь забыла, сколько энергии и времени тратила в прошлом на такие мелочи. Регина продолжала писать книги. И делала это все лучше и лучше. В четырнадцать лет она стала победителем общенационального конкурса на лучшее письменное сочинение среди подростков и в качестве приза получила прелестные наручные часики и чек на пятьсот долларов. Часть денег ушла на подписку на «Еженедельник для издателей» и на приобретение полного собрания сочинений Уильяма Мейкписа Теккерея. Ее больше не увлекали приключения наделенных интеллектом космических свиней, потому что, к радости своей, она обнаружила, что удивительные персонажи можно найти, не обязательно улетая в космос, а рядом, на соседней улице, среди тех, с кем постоянно общаешься, среди самых обыкновенных калифорнийцев. Она не беседовала больше с Богом. Нелепым и по-детски глупым казалось отвлекать Его без нужды. К тому же ей теперь не требовалось Его постоянное внимание. В какой-то момент жизни ей показалось, что Господь бросил ее на произвол судьбы или Его вообще никогда не существовало. Поразмыслив, однако, она пришла к выводу, что это не так. Ибо ощущала Его присутствие всегда и везде, видела Его веселый взгляд в бутонах и лепестках цветов, Его лучезарную улыбку в нежной пушистой мордочке котенка, чувствовала Его прикосновение в теплом летнем ветерке. У Дейва Тайсона Джентри она как-то вычитала и затем специально выписала в отдельную тетрадку поразившую ее мысль: «Дружба между людьми истинна тогда, когда им хорошо вместе молчится». Ну а кто же, как не Бог, был ее лучшим другом, и что же еще необходимо говорить Богу или слушать, что Он скажет, если оба они прекрасно знают главное — и единственное, — что необходимо знать: Он и она всегда неразлучны, всегда вместе.
События тех дней гораздо меньше, чем она сама ожидала, сказались на Линдзи. Картины ее стали интереснее, но не намного. Во-первых, потому что неудачи никогда не раздражали и не разочаровывали ее. Хатча она по-прежнему любила — не меньше и не больше, чем раньше, то есть очень сильно. Единственное, что заставляло ее болезненно морщиться, это когда кто-либо в ее присутствии говорил: «Самое худшее уже позади». Она знала, что худшее никогда не бывает позади. Худшее приходит в конце. Оно, собственно, и есть конец. И нет ничего худшего на свете. Но она научилась жить, зная, что худшее впереди, и даже находить радость в каждом прожитом дне. Что касается веры в Бога, она не вдавалась в подробности. Воспитывала Регину в духе католической церкви, вместе с ней каждую неделю исправно посещала мессу, строго выполняя обет, данный ею приюту св. Фомы, так как это было одним из условий акта удочерения Регины. Но делала она это не только из чувства долга. Она полагала, что церковь была во благо Регине, а сама Регина была во благо церкви. Любое товарищество, членом которого станет числиться Регина, поймет и почувствует, что изменяется под ее влиянием так же сильно, как и она сама, — и всегда к лучшему. Когда-то она заявила, что молитвы никогда не бывают услышаны, что живущие живут только для того, чтобы умереть, но теперь уже не настаивала на этой максиме, заняв выжидательную позицию: поживем — увидим. Хатч продолжал успешно заниматься антикварным делом. Жизнь его текла день за днем так, как он и мечтал. Как и прежде он был добродушно-веселым малым. Никогда не сердился и не выходил из себя. Но с той разницей, что теперь ему вообще не надо было сдерживать злость: ее у него совсем не осталось. Добросердечие проистекало из глубинных источников его души. Временами, когда жизнь неожиданно выписывала невероятно сложный узор, смысл которого ему был не совсем понятен, и, если это совпадало по времени с желанием пофилософствовать, он обычно забирался в свое «логово» и доставал из запертого на ключ выдвижного ящика два предмета. Одним из них был опаленный огнем номер журнала «Артс Америкэн». Другим — полоска бумаги, которую после проведенной в библиотеке небольшой научно-исследовательской работы он принес однажды домой. Два имени были выписаны на ней, и под каждым — небольшой пояснительный текст. «Вассаго — согласно мифологии, один из девяти наследных принцев Ада». Чуть ниже располагалось другое имя, которое он однажды присвоил себе: «Уриэль — согласно мифологии, один из архангелов, выполняющий личные поручения Бога». Глубоко задумавшись, Хатч внимательно смотрел на журнал и полоску бумаги, размышляя о них, но никогда не приходил к какому-либо твердому умозаключению. Хотя одно было ему ясно: уж коли выпало ему в течение восьмидесяти минут быть мертвым и вернуться Оттуда, ничего не помня о потустороннем мире, то, может быть, эти восемьдесят минут, проведенные Там, значат куда больше, чем просто видение черного тоннеля с проблеском света в конце, ибо именно они наделили его способностью и силой осуществить то, на что он сам никогда бы не решился. И уж коли пришлось кое-что захватить с собой Оттуда и носить Его в себе до тех пор, пока Оно не исполнило возложенную на Него миссию по сю сторону занавеса, совсем недурно, что этим «кое-чем» оказался архангел.
Последние комментарии
2 дней 11 часов назад
2 дней 23 часов назад
3 дней 2 минут назад
3 дней 11 часов назад
4 дней 5 часов назад
4 дней 18 часов назад